Дом с привидениями
Сборник фантастических повестей и рассказов
ЛЕНИНГРАД
“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
“МИР КУЛЬТУРЫ”
(БАЛТИЙСКИЙ ФИЛИАЛ)
1991
Поговорим о зеркалах
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
А.С.Пушкин…Вообще
Кусок стекла, покрытого с одной стороны амальгамой, — вот и все зеркало. Да что там стекло! Сколько веков, тысячелетий даже до появления стеклянных зеркал человек пользовался металлическими — отполированными пластинами меди, бронзы или серебра. А еще раньше он просто гляделся в водную гладь, ловя свое зыбкое отражение. Но каким бы ни было зеркало, мы всегда пытливо вглядываемся в него, чтобы увидеть себя как бы со стороны. И зеркальный мир, зеркальный двойник завораживают и неодолимо притягивают воображение. Почему? Трудно сказать. Но английские психологи поставили однажды опыт. Установив зеркало в одном из учреждений, они вмонтировали рядом видеокамеру. И что же? Оказалось, из проходящих людей — неважно — мужчин или женщин — лишь один из тринадцати оказался в состоянии пройти мимо зеркала, не бросив в него хоть мимолетного взгляда…
Зеркала окружают нас. И не только те, что развешаны по стенам наших квартир. Зеркало телескопа-рефлектора приближает к нам звезды, а зеркальные антенны релейных спутников помогают наводить ставшие уже столь привычными телемосты. Зеркала работают в фотоаппаратах и стереотрубах, прожекторах и установках для так называемой зонной плавки металлов. Зеркало стало термином и образом языка науки. С нашего языка привычно срываются слова “зеркальный канал” и “зеркало горения”, “зеркальный чугун” и “зеркальный карп”…
Так могло ли случиться, чтобы не стало зеркало излюбленным образом художественной литературы? Вспомним с детства знакомое пушкинское: “Свет мой, зеркальце! Cкажи, да всю правду доложи…” Или то, которое смастерил дьявол в “Снежной королеве” Г.X.Андерсена: помните, в нем “все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже”. А “Зазеркалье”, эта замечательная повесть Льюиса Кэрролла, переведенная, кстати, тем самым Александром Щербаковым, чей рассказ вы встретите в этом сборнике?.. А повесть-сказка Виталия Губарева “Королевство кривых зеркал”?.. Не возьмусь (да, кстати, и никто на свете не смог бы) перечислить все зеркала, щедро рассыпанные по необъятному книжному миру.
Но о некоторых мы сегодня поговорим. И прежде всего —
О Лукиановом зеркале
Почти девятнадцать веков назад в Самосате, бывшей, столице бывшего царства Коммагена, превратившейся ко II веку в провинциальный город Великой Римской империи, родился человек, которому суждено было прославить свою родину. Он так и вошел в историю под именем Лукиана Самосатского. Туристам, приезжающим сегодня в Самсат, скромный турецкий городок в вилайете Урфа, прежде всего рассказывают о судьбе античного мыслителя, философа-софиста и писателя-сатирика. Он был человеком не только талантливым, не только популярным в свое время, но еще и везучим: в отличие от многих других античных авторов до наших дней дошло немало его сочинений. Одно из них — “Правдивая история” — по праву считается предтечей сегодняшней фантастической литературы. И не только потому, что автор забросил своих героев на Луну, где глазам их предстало великое множество чудес. Впервые в истории литературы Лукиан столкнул людей с обитателями другой планеты, тем самым став родоначальником едва ли не самой распространенной темы научной фантастики (НФ) — Контакта, встречи человечества с иным разумом. Носителями этого разума чаще всего выступают обитатели далеких миров: жукоглазые марсиане, змеедевушки с Веги, мыслящие мхи с планет Арктура и иже с ними. Но партнером по контакту может оказаться, скажем, и созданный человечьими же руками искусственный интеллект, как происходит это, например, в превосходном рассказе упоминавшегося уже Александра Щербакова “Третий модификат”; или вполне земное, наше живое существо, лишь относящееся к иному виду, — скажем, разумный дельфин, вроде того, что поминается в шутливом рассказе Андрея Балабухи “Заколдованный круг”. И все-таки: для чего же великое множество фантастов, начиная с Лукиана Самосатского, описывают Контакт?
Для того чтобы разобраться в этом, вернемся ненадолго к “Правдивой истории”. Среди множества лунных чудес есть, может быть, самое главное: “…не особенно глубокий колодец, прикрытый большим зеркалом. Если спуститься в этот колодец, то можно услышать все, что говорится на нашей Земле. Если же заглянуть в это зеркало, то увидишь все города и народы, точно они находятся перед тобой”. Лукиан первым понял, что Контакт — средство взглянуть на наши, земные, дела под непривычным углом зрения, как бы заново и со стороны, а значит, увидеть многое совсем не таким, каким представляется оно нам в привычном традиционном ракурсе.
С тех пор писатели-фантасты великое множество раз пользовались этим Лукиановым зеркалом. Не обошли его вниманием и авторы сборника “Дом с привидениями”; больше половины их повестей и рассказов посвящены Контакту.
В рассказе Ольги Ларионовой “Короткий деловой визит” Контакт происходит донельзя традиционно — для НФ, разумеется. Появление звездного пришельца, первая встреча, поиски способов общения… И как раз потому, что обо всем этом уже написано множество произведений, Ларионова, признанный мастер жанра, даже не пытается нащупать здесь какие-то свежие идеи. Ей важно другое. Кто он, “звездный казак”? И какой представилась ему Земля и вся наша жизнь? Причем жизнь не сегодняшняя, а та, грядущая, к которой мы только нащупываем подступы.
“…Люди вашей Земли обладают свойствами, столь редкими у нас: они все доброжелательны, ненавязчивы и… такие разные. И кроме того, у вас все, абсолютно все любят детей”, — говорит космический пришелец.
Да так ли? Если бы все у нас любили детей, то откуда брались бы вопиющие случаи жестокого обращения с ними даже их собственных родителей? Откуда берутся в таком случае матери, отказывающиеся от собственного ребенка? И те, кого лишают родительских прав? И зачем понадобились бы в этом случае законы об охране детства, принятые во многих государствах?
Увы, пока еще до такого идеального состояния нам далеко. Но разве не к этому нам надо стремиться? Разве не про нас это писано: возлюби ближнего своего? А кто же может быть нам ближе, родней собственных детей, причем не только своих, кровных, но вообще — детей человеческих?
Пришелец прав: мы разные, очень разные — и хорошо, что так! В самом деле, представьте себе конструктор, состоящий из одних только винтов, например, — много из него сделаешь? А ведь мы должны из самих себя сотворить такой невероятно сложный организм, как человечество… Правда, различия эти не во внешних признаках, не в стремлении выделиться из толпы подвешенным к уху колокольчиком, а в различии наших индивидуальностей, богатстве и разнообразии внутреннего мира. Но любовь, о которой говорит “звездный казак”, как раз и есть одно из тех главных свойств, которые позволят нам рано или поздно ощутить все же себя единым человечеством с единой человеческой моралью, с общечеловеческой нравственностью.
Больше того: это качество должно быть присуще любой цивилизации, где бы она ни находилась, — на Земле или в окрестностях какой-нибудь Тау Кита. Уверенность в этом лежит в основе рассказа Святослава Логинова “Взгляд долу”. И человек по имени Сонд, и Яфмам, обитатель некоей неназванной планеты, в равной мере соответствуют тому высокому критерию, который мы называем человечностью.
Правда, два общества, которые представляют они, разительно отличаются друг от друга. Земляне продолжают идти тем же путем технологической цивилизации, по которому движемся мы уже тысячи лет. А обитатели планеты магов избрали путь иной, который можно было бы, используя традиционные термины и понятия НФ, назвать цивилизацией биологической. Для достижения своих целей им не надо сооружать громоздких машин, не нужен весь наш арсенал технических ухищрений. Зачем? Ведь достаточно подумать, сосредоточиться, приложить энергию собственной мысли, чтобы напрямую, минуя посредничество машин, механических усилителей и исполнителей нашей воли, создать все, что необходимо.
Но за все надо платить. И если мы за неразумное развитие технологии, за сомнительные порой достижения прогресса платим сейчас, например, катастрофическим загрязнением окружающей среды, грозящим в будущем (и недалеком!) необратимой деградацией природы, то обитатели планеты магов за свои односторонние успехи расплачиваются жестким самоограничением, изоляцией от других миров? “взглядом долу”.
Обе крайности равно неприемлемы. У нас, на Земле, все ширится движение, призывающее человечество сознательно ограничить свои потребности, отказаться от всего, что не является жизненно необходимым, во имя сохранения самой биосферы нашей планеты, во имя нашего собственного будущего. С удивительной прозорливостью писал об этом еще в конце пятидесятых годов классик современной отечественной НФ Иван Ефремов в романе “Туманность Андромеды”, называя такую фазу в истории общества Эрой Упрощения Вещей. На планете магов в рассказе Логинова находятся люди, которые не в состоянии преодолеть зов неба, те местные Дедалы, Монгольфье и Райты, которые становятся “зеркальными магами” (заметьте, и здесь образ зеркала!).
Но если бы идея рассказа заключалась лишь в том, что в любом обществе всегда были, есть и будут несогласные с общепринятыми нормами, идеями, взглядами, — это было бы слишком просто. Мысль писателя глубже, значительней: в замкнутом, герметичном сообществе, будь то племя, народ или все человечество, преодолевать внутренние противоречия гораздо сложнее, чем в открытом. “Заболевшие небом” обитатели планеты магов легко впишутся в земной мир. И пусть Сонд не пускает туда своих детей, “пока они неизлечимо не заболеют небом”, у детей ведь могут оказаться на этот счет свои соображения. Но в том, что среди миллиардов землян непременно сыщутся, не могут не сыскаться те, кому окажется близок и дорог образ жизни магов, кто захочет постичь и принять их мир, опустить “взгляд долу”, нет сомнений. А значит, оба мира, обе планеты, оба общества нужны друг другу, их союз обоюдожелателен и взаимовыгоден, ибо они помогут друг другу преодолевать свои внутренние несовершенства.
Конечно, Контакт может оказаться не столь прямым, как в этих рассказах, он может быть опосредованным, как это происходит, например, в повести Александра Шалимова “Эстафета Разума”, где между партнерами по Контакту пролегла труднопредставимая бездна не пространства даже, а еще менее преодолимого времени.
Кто знает, окажется ли обстановка на Марсе, когда туда доберутся наконец земляне, именно такой, как описана она у Шалимова, — речь, естественно, о реальных условиях, а не о фантастических “фантомах Азария”. Хотя на поверхности Красной планеты поработали уже и советские, и американские автоматические исследовательские станции, быть уверенным в чем-либо до конца нельзя. Писатель учел едва ли не все, что сегодня известно о Марсе, но ведь и на Земле мы делаем все новые открытия, несмотря на то, что планета наша, казалось бы, изучена вдоль и поперек. Не сходятся пока во мнениях астрономы и по поводу гипотетического Фаэтона: одни считают, что пояс астероидов между Марсом и Юпитером — это остатки прекратившей свое существование планеты; другие полагают более вероятным, что астероиды являют собой своего рода “строительный материал” для еще не сформировавшейся планеты… Но как бы то ни было, а написана повесть с такой степенью достоверности, с таким эффектом присутствия, словно речь идет не о фантастической “марсовке”, а о зимовке где-нибудь в Антарктиде, о которой автор писал не один раз. И оттого невольно верится — все именно так и есть там, на далекой Красной планете.
И еще одно, может быть, самое главное. Чисто фантастическую идею о працивилизациях Солнечной системы, о разумной расе, будто бы обитавшей некогда на Фаэтоне и переселившейся потом на Марс, а оттуда на Землю, расе, потомками которой являемся и мы, — через эту идею, популярную у писателей-фантастов, просвечивает другая, оригинальная. Здесь, у нас на Земле, зарождались, достигали расцвета и угасали многие цивилизации. Но какую-то часть своего опыта, знаний, культуры они передавали тем, кто был рядом, кто наследовал им. Вечно идет непрерывная смена поколений, и каждое передает свой опыт, знания, идеи следующему за ним. И цепь эта не должна прерываться. Заботой о будущем человечества продиктована фантастическая гипотеза писателя об информационном поле ушедших предков, которое материально запечатлелось в окружающей среде и продолжает воздействовать на нас как эстафета разума.
Коллизия Контакта, как видим, совсем не обязательно требует в равной мере выписывать обоих партнеров; важен факт Контакта, выступающего в роли того самого Лукианова зеркала, в которое смотрится человек, народ или человечество.
Ушли в прошлое времена, когда одна лишь мысль о встрече с инопланетным разумом казалась революционной и требовала обоснования. Вспомните “Звездные корабли” Ивана Ефремова, где найденный при раскопках в Гоби череп звездного пришельца выступает символом вселенского человеческого единства. Повесть дышала надеждой на Контакт — и не только космический. Оно и понятно: в канун “оттепели” так естественна была мечта о крушении “железного занавеса”…
Тридцать лет спустя Андрей Столяров в рассказе “Чрезвычайная экспертиза”, подхватив ефремовскую эстафету, использует тот же образ. Однако рассказ, написанный накануне перестройки, откровенно пессимистичен: Контакт прерывается ракетным залпом.
“…Когда вездеход остановился перед казармами, Астафьев, вылезая, негромко спросил генерала:
— Как вы думаете, они еще прилетят?
Генерал промолчал, а полковник, обернувшись с переднего сиденья, ответил:
— Я бы на их месте не рискнул”.
В другом рассказе Столярова, “Дверь с той стороны”, партнер по Контакту тоже откровенно абстрактен — символ, а не образ. Но отсутствие конкретного образа художественно обосновано — слишком уж чужда сила, с которой столкнулся герой рассказа, всему человеческому, всем нашим представлениям о жизни и разуме. “Мы слишком разные, — подумал Мазин. — Может быть, это и не Вторжение, но мы слишком разные…. Мы никогда не поймем друг друга”.
Мазин прерывает Контакт — ценой своей жизни. И тем самым доказывает, что даже самый обычный, заурядный, на первый взгляд, человек, вовсе никакой не супермен, может тем не менее в свой звездный час взять на себя ответственность за все человечество.
Впрочем, различия между партнерами по Контакту не всегда означают невозможность взаимопонимания. Казалось бы, уж как велики различия между элиминаром — искусственным существом, роботом, созданным не то в отдаленном будущем, не то на другой планете, не то в ином каком-то параллельном мире, — и людьми, причем даже не сегодняшним человечеством, а обитателями Франции конца XV века. И тем не менее взаимопонимание — пусть постепенно, трудно — рождается. Нелегко роботу Уайту, герою “Повести о Белом Скитальце” Игоря Смирнова, постичь не логику, но нравственные законы, движущие людьми. Однако постепенно от чисто машинной логики приходит он к человеческой совести. Не случайно дважды автор ставит его в одно и то же положение — выбора, кого спасать первым: юношу или старика. И если в первом случае, в начале повести, Уайт совершает выбор, исходя из сугубо логических, строго рациональных соображений, то во втором — так и хочется сказать, что руководит им не ум, а сердце (хотя какое уж сердце у робота!). Постепенная эволюция Белого Скитальца, очеловечивание Уайта — это тоже утверждение человеческих ценностей, рассматриваемых в Лукиановом зеркале Контакта.
Но сколь бы ни была велика популярность среди фантастов такого прекрасного инструмента, как Лукианово зеркало, арсенал магической оптики НФ им отнюдь не исчерпывается. И хотя мы еще отнюдь не исчерпали в нашем разговоре темы Контакта — даже на примере произведений этого сборника, — тем не мене? Пришла пора поговорить о другом зеркале —
О зеркале Галадриэли
Галадриэль, Владычица эльфов Лориэна, одна из героинь прекрасной сказочной повести английского писателя Джона Р.Р.Толкиена “Властелин Колец”, обладала Магическим зеркалом, которое могло показывать “прошлое, определившее вашу нынешнюю жизнь, или какие-нибудь сегодняшние события, способные повлиять на вашу судьбу, или то, что, возможно, случится в будущем”. Ничего необычного — какая же это сказка без волшебного зеркала? Но зеркало Галадриэли умело также открывать взору “события, для которых время еще не настало и, весьма вероятно, никогда не настанет, — если тот, кому оно их открыло, не свернет с избранной им однажды дороги, чтобы предотвратить возможное будущее”.
Трудно сказать, были ли этот образ, эта мысль навеяны Толкиену научной фантастикой или нет. Но обширное направление современной НФ выступает сегодня именно в роли зеркала Галадриэли — ради отрицания, предостережения, разоблачения такого будущего, наступление которого надо предотвратить. Корни этого — антиутопического — направления НФ уходят достаточно глубоко в историю политической борьбы, общественной мысли и художественной литературы. Вспомним хотя бы такие романы Герберта Уэллса, как “Машина Времени” или “Когда Спящий проснется”.
Заглядывают в зеркало Галадриэли и современные ленинградские фантасты.
Тема ответственности ученого за использование своего открытия, дальнейшую его судьбу также относится к одной из наиболее разработанных в фантастической литературе. Об этом думал еще Жюль Верн, больше ста лет назад заканчивая своего “Робура-Завоевателя”. Создатель фантастического воздушного корабля говорит в финале романа: “…я понял, что умы людей еще не подготовлены к тому важнейшему перевороту, который в один прекрасный день должно произвести завоевание воздуха… Граждане Соединенных Штатов, мои опыты завершены, но отныне я полагаю, что ничего не следует делать раньше времени. Это относится и к прогрессу: успехи науки не должны обгонять совершенствования нравов… Явись я сегодня, я пришел бы слишком рано, и мне не удалось бы примирить противоречивые и своекорыстные интересы людей”. К такому же выводу приходит и герой повести Артема Гая “Наследники” Оноре-Максимилиан Жиро. Правда, избирает он в отличие от инженера Робура не добровольное изгнание, а уход из жизни. И уносит с собой тайну вакцины, которая…
Стоп! Давайте попробуем разобраться, что есть эта вакцине — добро или зло для нынешнего человечества.
Казалось бы, какие тут могут быть сомнения! Разве не требуют отдать в руки людей такое средство против лучевой болезни тени жертв Хиросимы, “Счастливого Дракона”, Чернобыля, наконец?
Но нельзя забывать и о том, что история человечества — это еще и история поединка щита и меча. Чем надежнее щит, тем менее эффективен, менее страшен меч противника. Но и меч, совершенствуясь, требует нового, лучшего щита. Способные выйти победителями из любой артиллерийской дуэли броненосные корабли оказались беззащитны против нового меча — торпеды, выпущенной с борта подводной лодки. Что и было засвидетельствовано трагической судьбой британских крейсеров “Хог”, “Кресси” и “Абукир”, в одночасье пущенных на дно одной-единственной немецкой подлодкой. Казалось бы, подводная лодка стала безраздельно царствовать на море. Но родилась авиация, появились противолодочные корабли, вооруженные глубинными бомбами. И вновь понадобилось совершенствовать меч…
К чему этот разговор? Очень просто: вакцина Оноре-Максимилиана Жиро как раз и могла бы стать непробиваемым щитом, прикрываясь которым так соблазнительно, замахнуться атомной дубиной. Ведь собственная-то безопасность гарантирована! И кто знает, какое страшное новое оружие должно будет появиться на свет, чтобы возродить рухнувшее равновесие сил.
Именно эта мрачная картина, отраженная зеркалом Галадриэли, и заставляет героя повести уйти из жизни, унеся с собой тайну великого открытия.
Конечно, с решением Жиро можно было бы поспорить. Можно вспомнить о том, что открытие, ставшее известным всем, никому не может дать рокового преимущества. Но как в сложном сегодняшнем мире обнародовать такое открытие, сделать его достоянием всего человечества, если со всех сторон тянутся руки, достаточно сильные для того, чтобы заставить молчать кого угодно. Ситуация, в которую попадает герой повести, практически безысходна. И как ни трудно смириться с такой мыслью, но выбор, сделанный им, по сути оказывается единственно верным. Или по крайней мере единственно для него возможным. И воистину человечным — вот что важнее всего.
Правда, уход из жизни может быть и таким, как в повести Бориса Романовского “Преступление в Медовом раю”, герой которой, не погибая физически, вычеркивает себя из списка человечества. Космолетчики, иные миры, приключения на благодатной планете — привычный уже антураж современной НФ. Привычный, но не потерявший прелести и привлекательности ни для писателей, ни для поклонников жанра. Прекрасная планета, которую первооткрыватели нарекли Медовым раем, — и в этих-то “санаторных” условиях один из героев не выдерживает. Там, на Земле, во время подготовки он ничем не уступал остальным, успешно прошел все тесты, все тренировки. Но последней проверки не выдержал. Проверки сытостью. Бесконтрольностью. Властью над окружающим миром.
“— Мы судим предателя, человека, отказавшегося от Родины, от творческого труда, ради сытости и власти”, — говорит одна из героинь в финале повести. Не все читатели, возможно, согласятся с решением этого суда. Кому-то, — возможно, оно покажется слишком мягким; кто-то может не признать за экипажем экспедиции права на этот суд… И все же главный вывод повести неоспорим: такому человеку, как Антуан, нет и не может быть места среди людей Земли.
А можно вычеркнуть себя из жизни — или быть вычеркнутым, как это происходит в рассказе Вячеслава Рыбакова “Домоседы”, — иным путем. Путем ухода в “башню из слоновой кости”, миф о которой столь же живуч, сколь и бесплоден. Не однажды в истории мыслители и художники пытались отгородиться от реального мира с его неустроенностью и противоречиями, с его борьбой, в которой победы чередуются с поражениями и радости соседствуют со скорбями, которых никто и никогда не сможет исключить из человеческой жизни. Невозможно замкнуться в изолированном мирке, чтобы там, в тиши и покое, творить вечное и прекрасное. История не помнит примера, когда бы подобная попытка завершилась успехом. Борьба заостряет сознание цели, страдание — очеловечивает.
И вот вроде бы неоднократно проверенная, тщательно просчитанная попытка изолировать творцов и интеллектуалов на трудные времена в “башне из слоновой кости” терпит крах в рассказе Рыбакова.
“— У нас будет своя культура, — пытается объяснить сын герою рассказа смысл такой изоляции. — Понимаешь? Нормальная. Которую вы создали не штурмуя, а живя. И ваши внуки… — он запнулся, а потом заговорил с какой-то свирепой, ледяной страстью: — Наши дети будут учиться у вас!”
Двадцать шесть лет звездолет мчался к планете у Эпсилона Индейца, и все это время учителя не подозревали, что стали кроликами в грандиозном эксперименте. Не они готовили экспедицию, другие будут заселять Шану, не они заложат первые города, создадут и благоустроят новый мир. А они, на чью долю выпало безмятежное существование в замкнутом пространстве корабля, в искусственном, ложном, как бы земном мирке, постепенно сделались потерянным поколением — и чему они смогут научить других?
Жестокий и неправильный в основе своей эксперимент поставлен, правда, из благих намерений. Но мало ли было прекраснодушных заблуждений, за которые человечество заплатило слишком дорогую цену. Вспомним хотя бы библейский миф о рае, о вечном блаженстве без пота и слез… Нет, это не путь для человека — это тупик.
И рассказ Рыбакова своего рода доказательство тому — доказательство “от противного”. С самого начала, с первых его страниц чувствуется какая-то недоговоренность, какая-то фальшь, какая-то скрытая ложь. И недосказанное в конце концов прорывается. Отец переживает шок, когда узнает от сына, что у него “между делом” украли полжизни. Художник ведь, если это настоящий художник, тоже рожден для борьбы, для всех радостей и драм, положенных человеку. И для того и рисуют в зеркале Галадриэли подобные картины писатели-фантасты, чтобы в реальной жизни подобных тупиков можно было избежать.
Если от науки мы привыкли уже в своем XX веке ожидать горьких плодов, то уж спорт, казалось бы, никак не может быть чреват злом. Олимпиады античности, подарившие миру прекрасных Атлетов и Дискоболов, возрожденные в наши дни благородными устремлениями барона де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Красота состязания, благородное торжество победы, честность борьбы…
Но увы, чем дальше, тем больше меняется и спорт. Во-первых, мастерство спортсмена теперь уже зачастую зависит не столько от него самого, сколько от тех, кто создавал гоночный автомобиль или яхту, самолет или боб. Во-вторых, и сама состязательность спорта оказалась под ударом — не зря же в конце концов введен на соревнованиях допинговый контроль. И наконец, коммерциализация спорта, продажа игроков из одной команды в другую, тотализатор, денежные призы… И если оборотная сторона спортивной жизни будет развиваться и дальше — что ж, тогда нарисованная Андреем Измайловым в рассказе “Только спорт” страшноватая картина вполне может стать когда-нибудь не фантастической, а самой что ни на есть реальной. И неважно, будет ли это называться спейсболом или как-то иначе. Прискорбно другое: гладиаторы будущего вырастают из тех семян, что посеяны в мире нашего спорта уже сегодня.
А ведь разглядеть эти семена и есть задача зеркала Галадриэли. Помните? “События, для которых время еще не настало и, весьма вероятно, никогда не настанет, — если тот, кому оно их открыло, не свернет с избранной им однажды дороги, чтобы предотвратить возможное будущее”. Зеркало только показывает и подсказывает, а выбор пути и верность этому выбору — наша с вами человеческая ответственность. Так же и в искусстве: не надо думать, что достаточно назвать те или иные проблемы, изобразить их — и благодарное человечество тут же кинется делать все как надо! Нет! Прямого воздействия литературы на жизнь никогда не было и вряд ли будет. Но каждый писатель, обращаясь к этим проблемам, создает зеркало Галадриэли, в которое люди могут заглянуть и получить пищу для размышлений. А выбор поступков и действий — это уже дело нашей совести.
Большинство авторов этой книги пользовались теми двумя магическими зеркалами, о которых пока что шла речь. Обо всех же остальных — а их, прямо скажем, немало — можно будет вдоволь порассуждать тогда, когда какие-то из них станут главными инструментами авторов другого сборника фантастики.
Однако еще об одном зеркале, точнее, системе зеркал нельзя не сказать напоследок.
Об Архимедовых зеркалах
Множественное число здесь не случайно. Судите сами: совсем по-иному смотрят на мир, скажем, Сергей Снегов в рассказе, давшем название этому сборнику, и Олег Тарутин в своем “Вот хоть убей, не знаю”.
На вооружении Снегова — зеркало увеличивающее, сродни тем, что в телескопах приближают к нам звезды. Только направлено оно не в бескрайние вселенские просторы, а в мир человеческой души. “Дом с привидениями” — страстное по накалу мысли исследование места человека в мире. Вот он, мир, в котором живет человек. Его пространство и время. Здесь, и только здесь может человек существовать. Попытка уйти в иное время — прошлое ли, будущее — приводит к одному: исключению себя из этой жизни.
А вот Тарутин использует одно из тех зеркал, что развешивают по стенам в “комнате смеха”, зеркало искажающее, доводящее изображение до нелепости, но в то же время, как и все зеркала, правдивое, только на свой лад.
В самом деле, откуда взялась на облизанном ветрами останце породы причудливая вязь: “Не тужи, Гошик!”? Но вот вспоминается история одного геолога и писателя, который в причудливых каменных узорах старинной шкатулки усмотрел послание ссыльного декабриста и долгие годы потратил на расшифровку надписи… Еще в 1833 году Осип Сенковский в “Ученом путешествии на Медвежий остров” заставил своих героев узреть в “кристаллизации сталагмита, называемого у нас, в минералогии, глифическим или живописным”, древнеегипетские иероглифы. Герой научно-фантастического рассказа Дмитрия Биленкина “Все образы мира” художник-камнерез Влахов выявил в пейзажном камне вид, который своим совпадением с реальностью поразил космонавтов, побывавших на Венере. В минералогии известен письменный гранит, называемый также графическим пегматитом, — декоративный и облицовочный камень с узором, напоминающим древнееврейские письмена (отсюда еще одно его название — еврейский камень)…
Природа миллиарды лет “играет в кости” сама с собой, выбрасывает, неутомимо и без числа, случайные сочетания элементов, веществ, образует структуры, чтобы затем исследовать целесообразность своих невольных творений через человеческий разум, ею же и порожденный. Физики были немало озадачены, когда в Африке обнаружили естественный атомный реактор, принципиально подобный созданному человеком. Так почему бы самой природе не расписаться за Гошика? Не будем сваливать все на инопланетян. Загадочный автограф в рассказе Тарутина — шутливое напоминание, чтоб не зазнавались перед Великой Матерью…
Признанным мастером юмористического, пародийного рассказа был и один из основателей ленинградской группы писателей-фантастов Илья Иосифович Варшавский. В этом сборнике опубликованы два рассказа из его творческого наследия. Оба они — о поисках нестандартных путей в науке. “Последний эксперимент” поставил перед своими героями задачу естественнонаучную. “Тупица” — психологическую, о выборе своего места в жизни, и это особенно интересно.
Любой склад ума, любая способность (а также, если угодно, отсутствие таковой, лукаво подсказывает писатель) не может помешать человеку найти свое место. Мир наш достаточно обширен и многообразен даже для… Тупицы. Легенды о выдающихся ученых, провалившихся на экзамене в юности, справедливы не в том, разумеется, что знания не очень нужны. Беда деятельного и трудолюбивого героя Ильи Варшавского в том, что он не умеет и не желает понимать для всех очевидное. Зато оригинальные его возражения заставляют пристальней вглядываться в признанные истины и пересматривать ходячие мнения.
Неожиданное решение творческих задач — а такие задачи и встают перед героями НФ — зачастую приходит от шутки, сатиры, самопародии. И не оттого ли научная фантастика чем дальше, тем больше вбирает все эти, прежде не очень присущие ей, свойства жанра.
Сборник “Дом с привидениями” типичен в этом отношении. Будь герои Александра Щербакова, Ильи Варшавского, Андрея Балабухи или Андрея Кужелы невозмутимо серьезны, трудно сказать, например, удалось ли бы Сане Балаеву войти в контакт со своим “модификатом”, принять и вжиться в парадоксальную ситуацию.
Однако, спросите вы, все это прекрасно, но при чем же тут Архимед?
Больше двадцати двух веков назад в сицилийском городе Сиракузы жил греческий ученый по имени Архимед. Тот самый, что оставил нам архимедов рычаг и архимедов винт, спираль Архимеда и тот закон, который все мы учили в школе. Но с его именем связана и одна легенда.
Когда римляне осадили Сиракузы, Архимед организовал инженерную, как сказали бы мы теперь, оборону города. И рассказывают, что однажды он приказал собрать все зеркала, какие только есть в домах у жителей. Фокусируя солнечные зайчики, отброшенные этими зеркалами, на римских кораблях, стоявших на рейде, Архимед поочередно поджигал их, уничтожив в конце концов всю римскую эскадру.
По сей день неизвестно, правда это или красивый вымысел. Не могут на этот счет сговориться даже специалисты-оптики: одни считают такое вполне возможным, другие убеждены, что этого не может быть, “потому что не может быть никогда”. Да это и неважно для нас: легенда сама уже стала фактом наших представлений об истории и возможностях человеческого гения. Однако заметим: как раз на таком принципе работают сегодня солнечные коллекторы гелиоэлектростанций…
Так вот, все магические зеркала литературы: Лукианово зеркало, зеркало Галадриэли и другие, о которых мы говорили сегодня, и даже те, о которых вовсе не говорили, — образуют своего рода архимедову систему. Только в фокусе ее оказываются не римские триеры и пентеконтеры, а мы с вами — читатели книг.
Они очень разные, эти литературные зеркала. Как, впрочем, разными были и те, что собирал у сиракузских жителей Архимед: роскошное серебряное — из дома модной гетеры и тусклое бронзовое — из каморки какой-нибудь рабыни. Но разве это важно? Нужно было лишь свести все отброшенные ими солнечные лучи в одну точку, чтобы вспыхнул огонь.
И когда оказываются в этой точке наши умы и сердца — вот тогда-то и начинается непростой, порою даже очень трудный процесс выплавки восприятия и постижения мира.
Анатолий БритиковАлександр Шалимов Эстафета разума
Улетали с Марса марсиане
В мир иной, куда глаза глядят.
И не в сказке, не в иносказанье…
Двести миллионов лет назад…
С.ОрловКирилл прилетел на станцию “Марс-1” с пятой сменой. Продолжительность “марсовки” — год Марса — два земных с хвостиком. И полгода на дорогу туда и обратно. Два с половиной года вдали от Земли…
Садясь в вездеход, он снова подумал об этом. Вездеход назывался “Черепашка”. Так было написано белой краской на удлиненном голубом корпусе, который опирался на шесть коленчатых, обутых в гусеницы ног. Кирилл уже успел заметить, что конструкторы и монтажники предпочитали тут ярко-голубые цвета. Может быть, они напоминали о земном небе, а скорее всего просто резко выделялись на фоне ржавого грунта, скал, осыпей. Здесь даже дневное небо было красновато-оранжевым. Пыль, поднимаемая ураганами, никогда не успевала осесть.
“Черепашка” неторопливо бежала от космодрома, где опустился “Ветер времени”, к станции. Ехали напрямик по бурой, каменистой поверхности, испещренной оспинами небольших плоских кратеров. Справа вдали то появлялся, то исчезал за ближними возвышенностями фиолетово-красный обрыв, окаймленный шлейфами ржавых осыпей. Слева каменистая равнина, постепенно понижаясь, уходила на север и тонула в красноватой, пыльной мгле.
В вездеходе их было четверо — все в легких голубых скафандрах с круглыми, прозрачными шлемами. Пассажиры расположились впереди. Остальную часть просторной кабины занимал багаж — их личный, привезенный с Земли, и экспедиционный. Троим предстояло сменить часть персонала станции — тех, кто возвращался с “Ветром времени” на Землю. Четвертый — он вел вездеход — оставался тут на второй срок. Это был коренастый крепыш с коричневым от загара лицом и голубыми глазами. Шапка курчавых рыжих волос заполняла все свободное пространство шлема. Она напоминала нимб — обязательный атрибут экстрасенсов, — а еще — “святых”, как их некогда изображали на старых картинах и иконах. Водителя звали Мак, вероятно, Максим, но он сказал просто “Мак”, когда представлялся.
Кирилл знал, что в составе смены четырнадцать человек, причем каждый совмещает несколько профессий. В предыдущей смене, из которой десятеро через неделю покинут Марс, было два Максима — один врач, геолог-планетолог и художник, другой — астрофизик, энергетик и радист дальней связи. Кем был этот Мак, Кирилл не успел спросить, потому что при загрузке вездехода пришлось без конца отвечать на вопросы о земных новостях и делах.
Мак перестал задавать вопросы всего несколько минут назад, сосредоточившись на управлении “Черепашкой”. Закусив губу, он лавировал между скоплениями каменных глыб и по каким-то одному ему ведомым признакам выбирал наиболее оптимальный вариант пути.
— Дальше дорога чуть похуже, — заметил Мак, внимательно глядя вперед, — но мы выгадаем километров сорок.
Кирилл удивился:
— Кажется, от космодрома до Базы всего сорок километров. Я читал в отчете…
— Было, — откликнулся Мак, — но вас посадили на запасном, в восточной части равнины Офир. Отсюда до базы двести с небольшим, если по прямой.
— Почему мы сели далеко от станции? — спросил Кирилл.
Мак сосредоточенно покивал головой в прозрачном шлеме:
— Пришлось. На главном космодроме у нас, — он вздохнул, — непорядок объявился. Придется выяснять…
— Что именно?
— Пока толком никто не знает… Шефуня вам объяснит… Может, и ничего важного. Но посадили “Ветер времени” подальше. Так безопаснее.
— Безопаснее?
— Вот именно, — Мак усмехнулся, — да вы не пугайтесь…
— Это у них такая игра, Кир, — заметил Геворг, физик новой смены, он сидел позади Кирилла. — Пугать новичков… Вот, мол, ко всем прочим загадкам Красной планеты, еще одна из области “призраков”…
— “Призраки” Марса?
— А почему бы нет. Кстати, вода на твою мельницу, Кир. Ты ведь собираешься искать следы исчезнувшей цивилизации.
— Працивилизации нашей планетной системы, Геворг.
— Вот-вот… Следов жизни не нашли, а следы працивилизации будем искать… Естественно, они, — Геворг кивнул на Мака, — узнав, что в составе смены летит известный археолог, специалист по древнейшим цивилизациям Земли, приготовили сюрприз… Правильно я говорю, Мак?
Мак усмехнулся, загадочно и чуть смущенно, но промолчал. Все его внимание теперь было сосредоточено на местности впереди вездехода. “Черепашка”, покачиваясь, преодолевала довольно крутой подъем вдоль скалистого, усыпанного красноватой щебенкой склона.
— Такое впечатление, что едем по битому кирпичу, — пробормотал Сергей, энергетик, радист и радиоастроном новой смены, сидевший рядом с Геворгом. — Кирпич и ничего больше — кирпичные скалы, кирпичная щебенка, кирпичная пыль. И в небе — она же…
— Кислород, который когда-то был тут в атмосфере, пошел на окисление горных пород, — отозвался Мак. — Красный цвет — окислы железа. Железо вытянуло из атмосферы почти весь кислород.
— А удалось где-нибудь обнаружить неокисленные породы? — спросил Кирилл.
Мак отрицательно тряхнул головой:
— Пока нет. Слабее измененные попадались. Выветривание тут чертовски древнее, проникает глубоко. Неизмененных пород мы не встретили даже в буровых скважинах.
— Вы геолог, Мак?
Он кивнул и, немного помолчав, добавил:
— Геолог тоже…
Вездеход достиг вершины скалистого гребня. Внизу открылся обширный кратер с плоским красноватым дном. В центре круглой равнины громоздилась группа красно-бурых скал, похожих на руины древнего замка. Дальний гребень кратера чуть проглядывал в красноватой мгле.
— Станция там, — Мак указал вперед. — Пересечем кратер, и будет близко.
— А обрыв справа? — спросил Кирилл. — Мне сначала показалось, что он не очень далеко, но отсюда, сверху, это выглядит иначе.
— Ого, — воскликнул Мак. — Недалеко! Тут трудно оценивать расстояния на глаз. До обрыва отсюда около двухсот километров. Мы его видим так отчетливо потому, что там сейчас в атмосфере не очень много пыли. Последним ураганом ее согнало на север в равнины. Обрыв — южный край ущелья Копрат — скальная стена высотой побольше пяти километров.
Все взгляды обратились в сторону знаменитого ущелья — гигантской трещины, некогда расколовшей древнюю кору Марса.
— Не предполагал, что его видно из окрестностей станции, — заметил Геворг. — Это местечко меня очень интересует…
— А обычно его и не видно, — возразил Мак, затормозив вездеход. — Просто вам повезло. Смотрите хорошенько.
— Вы были там? — спросил Кирилл.
— Еще бы… Не один раз. И американцы тоже. Но там, — Мак махнул рукой, — надо работать и работать. Пока сплошные загадки…
— А как у вас отношения с американцами? — поинтересовался Сергей.
— Как и на Земле. Сосуществуем…
— Были у них?
— Наши кое-кто были. Я — нет. Их мы тоже принимали. Тех, кто работал в ущелье Копрат. Даже помогли немного. В общем-то они почти все неплохие парни. Кроме Гридли…
— А Гридли — кто?
— Есть такой один. — Мак помрачнел. — Познакомитесь. Ну ладно, полюбовались Копратом и поехали дальше.
“Черепашка” тронулась с места и, увеличивая скорость, побежала вниз по крутому каменистому склону. Кратер пересекли за полчаса, оставив справа по борту скопление похожих на исполинские колонны красноватых скал.
— Остатки некка — на месте жерла вулкана, — лаконично пояснил Мак.
— Что, вулканический кратер? — спросил Геворг. В его голосе прозвучало сомнение.
Мак кивнул:
— По-моему, да… Кое-кто, правда, не согласен, — он покачал головой. — Мы тут спорим по каждому поводу. И многого не можем понять. Сплошные загадки. Чем дальше, тем больше…
— Но такие широкие кратеры с плоским дном, кажется, принято считать метеоритными, — заметил Кирилл. — Как, например, Аризонский или Попигай у нас в Сибири. Поперечник этого кратера километров сорок. Ничего себе вулкан.
Мак пожал плечами:
— Тут есть вулканы и побольше. Настоящие — не такие как этот. Тут сложность в другом…
— В чем именно?
— Лед… Ископаемый лед… Повсюду. Мы с ним столкнулись, как только начали бурение. Я из-за него на вторую смену остался. Только из-за него одного…
— Не понимаю, — сказал Геворг. — Какой лед? Где? В полярных областях?
— Если бы! — усмехнулся Мак. — Везде, понимаете, везде. Тут и возле нашей Базы… Скалы, вот как гребень этого кратера и его центральная горка, они торчат из подо льда. Вы думаете, мы сейчас катим по каменному грунту? Черта с два! Под нами лед, присыпанный песком и щебенкой. И сколько его — никогда не знаешь.
— Так что у вас получается? — Кирилл удивленно взглянул на водителя. — Марс — планета-океан, замерзший океан?
— Почти, — кивнул Мак. — Почти… Впрочем, это пока моя — крайняя — точка зрения. Далеко не все со мной согласны. Скважин еще мало.
— На сколько же удалось углубиться?
— Не очень много. Первые сотни метров. Но повсюду одно и то же… Десять, двадцать, тридцать метров “битого кирпича”, как говорит ваш коллега, — Мак кивнул на Сергея, — дальше сплошной лед.
— Сколько? — попытался уточнить Кирилл.
— Никто не знает. Все скважины пришлось останавливать во льду. Его толщина многие сотни метров, а возможно, и километры.
— Это на ровных участках, а на возвышенностях?
— Там песка и щебенки побольше. Но все это наносы. Под ними тоже лед.
— А скальные участки, — спросил Геворг, — вот, например, гребень кратера, через который мы перевалили. Что под скалами?
— Там, конечно, коренные породы. — Мак бросил быстрый взгляд на Геворга, видимо удивленный его неосведомленностью. — Выходы каменной коры Марса. Они торчат сквозь лед. До того как океаны Марса промерзли насквозь, такие гребни могли быть островами.
— Ничего себе открытие! — воскликнул Геворг. — Замерзшие и похороненные песками океаны Марса. Вы моим глупым вопросам не удивляйтесь, — добавил он, — моя специальность физика атмосферы. В геологии я профан.
— У нас тут геологию называют ареологией, — заметил Мак, — хотя, может, это и не совсем правильно. Ареология — наука о Марсе в целом, включая и его кору, и льды, и атмосферу. Археолог широкого профиля у нас один — Шефуня.
— Ваш начальник?
— Он теперь и ваш тоже. Остается на пятую марсовку… А здешние ископаемые льды, промерзшие до дна океаны, — открытие последних месяцев. Еще не успело попасть ни в какие отчеты.
— Вы это разгрызли, когда мы летели?
— В общем, да, — кивнул Мак. — Ну вот, уже и наша станция… С благополучным прибытием на “Марс-1”, коллеги!
Вездеход затормозил. За цепочкой красноватых дюн открылась обширная котловина с плоским коричневато-бурым дном. В центре котловины голубыми полушариями поднимались купола Базы. Возле самого большого купола на высокой мачте трепетал на ветру красный с золотым гербом флаг Советского Союза.
* * *
— Загадки, сплошные загадки, — сказал профессор Никита Бардов — Шефуня, как его уважительно называли промеж собой сотрудники станции.
Бардов был нетороплив, массивен, краснолиц, бородат. Говорил густым колокольным басом. Его поведение в самых трудных, даже экстремальных ситуациях считалось критерием выдержки. На станции существовал неофициальный, но всеми признаваемый эталон — “одна шефуня” — величина, близкая к бесконечности, в малых долях которой оценивалась выдержка остальных участников марсовки.
Бардова отличали еще исключительная корректность, железная логика, несгибаемая воля и апостольская доброта. При необходимости распечь кого-нибудь он всегда переходил на уменьшительные и ласкательные формы речи.
По специальности он был планетологом. Несколько лет работал на Лунной базе. Его кандидатская диссертация, посвященная исторической селенологии1, сразу принесла ему докторскую степень. Шефуня был автором всех марсианских программ, начальником первой и четвертой марсовок. Теперь он оставался еще и на пятую…
— Что касается задач пятой, — Бардов сделал долгую паузу, — привезенную программу придется кое в чем изменить. Будем продолжать бурение, атмосферные наблюдения, геофизику… Биологические исследования надо сократить, потому что они ровно ничего не дали.
— А лед? — быстро спросил Мак.
— Биологи сосредоточат внимание на вашем ледяном керне2. Им этого вполне достаточно.
— Будет еще лед из шахты, — сказал Кирилл. — Проходка заложена в проекте, и я теперь думаю, что идти надо через покровный лед. Надо только выбрать подходящее место…
— Это очень хорошо, что вы там думаете, — ласково кивнул Бардов. — И местечко надо выбрать… А вот с самой проходкой, может, повременим? А?
— Но как же так! — воскликнул Кирилл. — Шахта — это своего рода гвоздь…
— Э-э, дорогуша, — загудел Бардов, — “гвоздей” в наших марсианских программах целые бочки, — он вздохнул. — Дело в том, что я еще не сказал вам, может быть, самого главного. Предстоит заниматься одной внеплановой… проблемой. Она тоже возникла недавно. На Земле об этом пока не знают… Тут у нас обнаружились места, в которых у людей возникают… — Бардов прищурился и сделал долгую паузу, — ну, скажем, пока… галлюцинации. Даже массовые, если посчитаем массой трех человек. Все наличные средства индивидуальной защиты — вездеходы, скафандры, в том числе тяжелые-ночные, пригодные, как вы знаете, для открытого космоса, — не помогают. Не помогают и защитные поля. Если “галлюцинация” оказывается длительной — в пределах часа или более того, — он кашлянул и снова сделал паузу, — может наступить беспамятство, после которого человек длительное время пребывает в состоянии крайней психической депрессии. Возможны и более тяжелые последствия.
— Похоже на заболевание, — осторожно заметил Кирилл.
— Мы вначале так и думали. Но главный медик, — Бардов указал на Мака, — кстати, он тоже остается здесь с нами, считает иначе… О своей точке зрения он потом сам расскажет. Первый раз это случилось… — Бардов обвел вопросительным взглядом присутствующих.
— Три месяца назад, — быстро подсказал Мак.
“Сразу после нашего отлета с Земли”, — подумал Кирилл.
— Первым был Азарий Горбунов, геофизик, — продолжал Бардов. — Он потом, по собственной инициативе, еще дважды попадал в это… приключение. Его пришлось… изолировать, и мы отправляем его отсюда… в довольно тяжелом состоянии.
— Психическом? — попробовал уточнить Кирилл.
— Крайняя депрессия, переходящая в бредовое состояние и паралич рук, — объяснил Мак.
— По-видимому, все-таки нервное заболевание, — заметил Кирилл. Мак отрицательно тряхнул рыжей головой.
— Потерпите, коллеги, у вас будет время все обсудить, — мягко остановил их Бардов. — Итак, впервые мы с этим столкнулись восемьдесят шесть дней тому назад. И произошло это в каньоне Копрат…
— В пещере, в одном из северных ответвлений каньона, — добавил Мак. — Мы там были вместе с Азарием, но в пещеру он зашел один… — Мак умолк и смущенно взглянул на начальника.
— Продолжайте, голубчик, — прогудел Бардов, — у вас получается гораздо интереснее.
— Извините…
— Продолжайте, продолжайте, а я пока отдохну.
— Он долго не выходил обратно и не отвечал на мои радиосигналы. Пришлось идти за ним. Я нашел его в глубине пещеры без сознания. Мы вытащили его наружу. Мне помогал Атиф — он был третьим в нашей поездке. Мы с Атифом ничего подозрительного в пещере не заметили… Когда мы привели Азария в чувство, он рассказал…
— Что он тогда рассказал, не столь важно, — заметил Бардов, — тем более что в дальнейшем повторялось примерно то же самое… Спасибо, Мак, вы очень помогли мне… Приключение в пещере Копрата так заинтересовало Азария, что он решил повторить его. Под предлогом еще каких-то геофизических наблюдений он отправился в Копрат со следующей исследовательской группой, забрался в ту пещеру и сидел в ней до тех пор, пока снова не потерял сознания. Правда, на этот раз он записал на диктофон свои… гм… наблюдения или… ощущения. На базу его привезли в бессознательном состоянии, и он болел больше месяца.
Пещеру мы тщательно обследовали в скафандрах высшей защиты, но ничего интересного и тем более подозрительного не обнаружили. Азарию, когда он поправился, было запрещено принимать участие в полевых поездках. Для себя я решил, что Азарий — натура увлекающаяся, очень импульсивная, у него эмоции нередко опережали логику и трезвое суждение ученого — просто надорвался в здешних нелегких условиях, тем более что работал он очень много. Наш главный медик, — Бардов снова указал на Мака, — поначалу тоже соглашался со мной, объясняя “казус Азария” нервным перенапряжением. Однако вскоре, а точнее, за тридцать три дня до прилета “Ветра времени” история повторилась.
На этот раз совершенно в ином месте — на главном нашем космодроме, где садились и откуда взлетали все земные корабли. Там жертвами… гм… галлюцинации… стали сразу три участника марсовки. Ни один из них не был в каньоне Копрат, и что произошло с Азарием, то есть о его… заболевании, как мы все полагали, они слышали с его слов. Когда это началось с ними, они все находились в диспетчерском бункере. Они сразу поняли, в чем дело, но само явление так их заинтересовало, что вначале они пренебрегли опасностью. Только когда один из них почувствовал себя плохо, они покинули бункер, однако галлюцинация не прекратилась. Фантом оказался в том же месте, где они увидели его через окно бункера. Я говорю “фантом”, хотя все они утверждают, что воспринималось это как вполне реальный объект… Их показания сходятся вплоть до деталей.
Погнали вездеход сюда, на Базу. Отъехав несколько километров, развернулись. Фантом уже исчез. Посадочная плита была пуста.
Профессор Бардов замолчал и задумчиво потер переносицу.
— Значит, в этом случае фантом наблюдался на посадочной плите космодрома? — уточнил Геворг.
— В самом центре плиты, в полукилометре от бункера и вездехода.
— Так что все-таки это было?
— Как это ни покажется вам странным, во всех случаях одно и тоже, — Бардов выделил последние слова, — высокий каменный портик с квадратными колоннами, поддерживающими массивный нависающий свод. В глубине за колоннами портика — ярко освещенный зал или какая-то площадь, заполненная множеством живых существ в ярких одеяниях. Между колоннами портика появлялась высокая фигура в длинном фиолетово-алом плаще или мантии и делала руками призывные знаки…
— Человеческая фигура? — снова уточнил Геворг.
— С того расстояния, на котором находились наблюдатели, она воспринималась как человеческая, так же как и существа в глубине.
— А фантом в пещере?
— Я же сказал, во всех случаях одно и то же.
— Не понимаю, — Геворг пожал плечами, — как в тесном пространстве пещеры?..
— В пещере словно бы приоткрывалось окно, — пояснил Мак. — Азарий говорил: “Как окно в иной мир”… Там тоже был портик с колоннами и все остальное… Азарий наблюдал это трижды. В редкие минуты просветления он несколько раз подробно пересказывал мне картину…
— Почему трижды? — спросил Кирилл. — Профессор говорил о двух… галлюцинациях Азария Горбунова.
— Три, — кивнул Бардов. — К сожалению, три. За ним не усмотрели. Узнав о фантоме на плите космодрома, Азарий, в нарушение моего запрета, сбежал и один поехал на космодром. Мы спохватились слишком поздно… Погоня обнаружила вездеход в центре посадочной плиты космодрома. Передняя часть машины была расплющена, словно машина врезалась в какое-то препятствие. Мотор не работал, а Азарий лежал в глубине грузового отсека. Его, видимо, отбросило при столкновении вездехода с чем-то. Когда его удалось привести в сознание, он сказал, что на космодроме увидел то же, что в пещере. Он попытался проскочить между колоннами портика и дальше ничего не помнит.
— Ну, а еще ваши “призраки” появлялись? — поинтересовался Геворг. В вопросе физика прозвучала плохо скрываемая ирония.
Бардов задумчиво погладил пышную бороду:
— Больше нет… У нас их больше никто не видел. Тем не менее мы сочли необходимым посадить “Ветер времени” в другом месте.
— А на главном космодроме кто-нибудь еще бывал? — вопрос прозвучал невинно, но в глазах Геворга Кирилл прочитал откровенную насмешку.
— Бывали. — Бардов продолжал поглаживать бороду. — Там установлено регулярное наблюдение. Кроме того, из диспетчерского бункера автоматически велась киносъемка.
— И что же?
— Ничего. На кинокадрах посадочная плита пуста, и в ее окрестностях ничего подозрительного не возникало.
— Вполне естественно, — усмехнулся Геворг, — давно известно, что призраки, привидения, вампиры и прочая нечисть на кино- и фотопленке не фиксируются.
— Относительно призраков не знаю, — спокойно заметил Бардов, — не приходилось ими заниматься. Но миражи, коллега, удается сфотографировать. Кстати, тут на Марсе миражи не редкость.
— Вы хотите сказать… — начал Геворг.
— Нет, я сказал все, что хотел. Прошу еще вопросы, если они есть?
— Остается ли на пятую смену кто-нибудь из числа наблюдавших… “Фантом Азария”? — спросил Кирилл.
— “Фантом Азария”, — задумчиво повторил Бардов. — Неплохо… Можно принять это в качестве названия проблемы. “Казус Азария” мне не очень нравилось… В нем что-то от терминологии юристов… Нет, коллега, никто не остается. Все-таки у нас нет стопроцентной уверенности, что это не заболевание.
— Интересно, а что думает по этому поводу главный медик четвертой смены? — спросил Геворг.
— Разрешите? — Мак взглянул на Бардова.
— Разумеется, коллега.
— Это не заболевание в общепринятом значении слова, — начал Мак, — это ранение… Если хотите, травма, наносимая мозгу каким-то еще неизвестным нам явлением, скорее всего излучением, связанным с возникновением фантома. Думаю, даже уверен, что мы еще столкнемся с ним. Среди многих загадок Красной планеты эта представляется одной из наиболее интересных и, пожалуй, наиболее опасных… Я полностью согласен с нашим шефом, что ей следует посвятить максимум внимания.
— Можно еще один вопросик? — поднял руку Геворг.
— Попробуйте, — кивнул Бардов.
— А о наших соседях из Западного полушария никто не думал? Наступило длительное молчание.
— Нет, почему же, думали, — сказал наконец Бардов. — Они попросили захватить на Землю одного парня из их смены. Он болен два месяца, а их корабль появится тут через год… Судя по тому, что сказал мне профессор Джикс, их босс, у этого парня — его завтра привезут к нам — те же симптомы, что у Азария…
* * *
На следующее утро в кабине Кирилла раздался мелодичный сигнал внутреннего телефона. Личные помещения “марсовщиков” на главной Базе назывались кабинами. Размер кабин был стандартный — два с половиной метра на три с половиной при двух с четвертью метра высоты. Рядом — туалет и душевая — одна на две кабины. Соседом Кирилла оказался Сергей, радист и радиоастроном новой смены; он с момента их прибытия на Базу не вылезал из центральной радиорубки. В каждой кабине имелась койка, днем превращаемая в диван, стол для работы, кресло, стенной шкаф и стеллаж для книг. Над столом — телевизионный экран, телефон и небольшой пульт управления с регулятором кондиционера, пылесоса, освещающих устройств, часами и указателем внутренней и наружной температур, силы и направления ветра, уровня радиации.
Кирилл услышал сигнал телефона из душевой. Пока он набросил халат и прошел в свою кабину, сигнал повторился дважды.
Он торопливо взял трубку:
— Кирилл Волин слушает.
— Доброе утро, коллега, — загудело в трубке. — Надеюсь, не разбудил. Это Бардов.
— Доброе утро, профессор.
— Оставьте вы этого профессора, коллега. Меня зовут Никита, для краткости Ник. Вы не очень заняты? Могли бы заглянуть ко мне?
— Прямо сейчас?
— Ну, скажем, в пределах десяти минут.
— Хорошо, буду.
Быстро одевшись и захватив папку со своей программой, Кирилл направился к шефу. Когда он поднялся в коридор, где рядом с кают-компанией находилась кабина начальника марсовки, навстречу ему попался Ге-ворг. При виде Кирилла на узком, худом лице геофизика, обрамленном щеголеватой бородкой стиляги-сатира, появилась усмешка.
— Ну, держись, спец по працивилизациям, — шепнул Геворг, ткнув Кирилла пальцем в живот.
Кирилл постучал и приоткрыл дверь.
— Прошу, — пробасил Бардов, поднимаясь ему навстречу.
Кабина начальника отличалась лишь тем, что в ней было не одно, а два кресла, а над столом вместо одного телефона — три и еще небольшой коммутатор. Усадив Кирилла возле стола, Бардов вопросительно глянул на его папку.
— Там что?
— Моя программа, обоснование, намечаемые районы работ… Я…
— Да-да, помню, — прервал Бардов, поглаживая бороду. — Читал ваши статьи и монографию, коллега. Занятно… Хотя я лично не со всем согласен. Впрочем, мои мысли на сей счет — мнение дилетанта. Да… Для начала хотел просить вас заняться кое-чем иным… Вы, конечно, догадываетесь? Проблема “Фантома Азария”… Интересно, не правда ли? Вы ведь не только антрополог, историк, археолог, вы и врач-психиатр, не ошибаюсь?
— Это раньше… Я давно не практиковал.
— Неважно. Здесь вы единственный среди нас такой специалист… Мак — терапевт широкого профиля, а врач, прибывший с вашей сменой, — хирург. Я хочу просить вас возглавить проблему “Фантома Азария”. Мак и я будем вам помогать…
— А моя программа? Институт, который рекомендовал меня для участия в экспедиции…
— Э, дорогуша, тут у нас у каждого по нескольку программ. Времени в вашем распоряжении уйма. К тому же, — Бардов многозначительно поднял палец, — кто знает… куда вас может завести “Фантом Азария”.
— Вы хотите сказать, — начал Кирилл, широко раскрыв глаза, — хотите сказать, что…
— Я всегда хочу сказать то, что говорю, — прервал Бардов. — Постарайтесь запомнить это, коллега Кир. Проблема “Фантома Азария” возникла неожиданно, никакими программами, естественно, не могла быть предусмотрена. Пока все, с ней связанное, — великое неведомое, которое надо постараться прояснить… У каждого из нас были и есть свои “кочки зрения” не происшедшее. Вот, например, прибывший вместе с вами коллега Геворг утверждает, что фантома Азария вообще не существует. Что ж, и это возможная “кочка зрения”…
— Но доказать, что чего-то не существует, невозможно, — заметил Кирилл.
— Именно. Поэтому, если, занявшись фантомом, вы ничего не обнаружите, придется признать, но только с определенной долей вероятности, что самой проблемы действительно не существует. Имели место нервные расстройства, связанные с индивидуальными особенностями психики отдельных участников экспедиции. Надо постараться установить, какие особенности человеческой психики противопоказаны участникам марсианских экспедиций и почему. Думаю, никто лучше вас с такой задачей не справится.
Кирилл с сомнением покачал головой:
— Все это так далеко от моих нынешних научных интересов… И еще одно: участники экспедиций на Марс — и у нас, и у американцев — проходят такие тесты и такую массу проверок, что кандидат с минимальными психическими отклонениями от нормы наверняка будет отсеян.
— Человеческий мозг всегда был и остается великим неведомым, коллега. Да вы знаете гораздо лучше меня. А вот относительно подготовки американцев, выясните подробно, когда привезут их… больного. Обстоятельства заболевания тоже. Потом их данные сопоставим с нашими.
— Кажется, вы считаете, что я уже дал согласие? — недовольно заметил Кирилл.
Широкое красное лицо Бардова озарилось лучезарнейшей улыбкой.
— Я не сомневался, коллега. Именно поэтому просил вас… а не приказывал. Думаю, что вам сразу после старта “Ветра времени” надо побывать у наших американских друзей. Уточнить на месте, как получилось с их парнем. Впрочем, программу работ по проблеме “Фантом Азария” вы разработаете сами. В любое время привлекайте для этого Максима и меня… Программу вы представите на утверждение ученого совета нашей пятой смены, скажем, ровно через четыре недели. Вам все ясно, коллега?
— Пока да, — мрачно сказал Кирилл, поднимаясь.
— Ну, так с богом, как говорили в старину.
“Черт бы тебя побрал, — подумал Кирилл, выходя, — вместе с твоим богом, “Фантомом Азария” и моим идиотским назначением. Хорошо же буду выглядеть, когда придется отчитываться в Институте после возвращения… Возвращения… — внутри что-то больно кольнуло. — До него еще двадцать семь земных месяцев… если все обойдется благополучно”…
Спускаясь по лестнице на свой этаж, Кирилл приоткрыл металлическую штору иллюминатора и глянул наружу. Окрестность была задернута красно-бурой пыльной мглой. Начинался ураган…
* * *
Ураган бушевал трое суток. Поэтому американцы появились лишь за несколько часов до отправления космического корабля. Их небольшой короткокрылый планетолет, напоминающий “челенджеры” конца прошлого века, совершил посадку невдалеке от “Ветра времени”.
Кирилл и Мак в легких голубых скафандрах направились навстречу гостям. Американцы уже выгрузили и установили на самоходную тележку белый с прозрачным верхом саркофаг. На американцах — их прилетело четверо — были одинаковые полосатые со звездами легкие скафандры, напоминающие раскраской их государственный флаг.
— Он тут, — сказал широкоплечий, коренастый здоровяк, который представился как доктор Морстон.
Сквозь прозрачное забрало шлема Морстон подмигнул Кириллу и похлопал рукавицей по верху саркофага.
Кирилл подошел ближе. Под прозрачной крышкой бритая голова, бледное, без единой кровинки худое лицо, глаза закрыты, дыхания не заметно.
— Жив он? — невольно вырвалось у Кирилла. И словно в ответ на этот вопрос, ресницы человека, лежащего в саркофаге, дрогнули, приоткрыв бесцветные пустые глаза.
— Почти полный паралич, с потерей речи, — сказал Морстон. — Состояние тяжелое… Не знаю, удастся ли его доставить на Землю живым. Но это единственный шанс… Мы ничего не могли сделать.
— От вас кто-нибудь полетит с ним? — спросил Мак.
— К сожалению, нет, — потупился Морстон.
— У нас только один врач, — сказал второй американец. Под яйцевидным шлемом блеснули его очки.
— На корабле есть каюта и для сопровождающего, — заметил Кирилл. — Ваш шеф, когда разговаривал по радио с нашим начальником, упоминал кого-то еще, кого хотел отправить.
— Да, Гридли, — нахмурился Морстон, — но он отказался. Ему… лучше…
— У вас… есть еще… больные? — осторожно спросил Мак.
— К сожалению, есть…
— У нас мало людей, — сказал американец в дымчатых очках. — Каждый человек на счету. Именно поэтому мы вынуждены просить взять его одного, — он кивнул на саркофаг, — без сопровождающего. У вас на корабле будет врач?
— Конечно. — Мак положил руку на край саркофага. — Медицинскую карту вы привезли?
— Она у меня. — Морстон похлопал по наружному карману скафандра. — А, вот Гибби тащит и его личные вещи.
— Личные вещи? — удивился Кирилл. — Зачем? На корабле его обеспечат всем необходимым.
— Это его собственность, — возразил Морстон. — Не оставлять же здесь. Ему что-нибудь может понадобиться.
Бросив взгляд на саркофаг, Кирилл подумал, что едва ли этому парню когда-нибудь что-то понадобится.
Подошел Гибби, волоча два здоровенных звезднополосатых мешка с застежками-молниями на маленьких бронзовых замочках. Темное лицо и курчавые черные волосы не оставляли сомнений в его негритянском происхождении. Не говоря ни слова, Гибби принялся втискивать принесенные мешки на нижнюю платформу тележки под саркофаг. Потом забрался на маленькую площадку в передней части тележки и включил двигатель. Тележка медленно двинулась по красноватому щебнистому грунту к возвышающемуся невдалеке “Ветру времени”. Кирилл, Мак и американцы пошли следом.
Шли медленно, в понуром молчании. Кирилл подумал, что их шествие напоминает старинный траурный кортеж. Пытаясь уйти от тягостных мыслей, он обратился к американцу в дымчатых очках:
— Этот ваш товарищ, там, — Кирилл кивнул на саркофаг, — кем он был по профессии?
— Энрике?.. Астрофизик, специалист по космическим лучам…
— А что, собственно, с ним приключилось? — спросил Мак.
Американец вздохнул:
— Никто толком не знает. Заболел… Стало хуже, потом вдруг паралич…
— Вдруг? — переспросил Мак.
— Здесь все подробно написано, — вмешался Морстон, снова похлопав по карману своего скафандра. — С чего началось, как лечили. Ваш врач разберется. А что с ним дальше делать, никто из нас не знает.
— Я тоже врач, — заметил Мак.
— О! — воскликнул Морстон. — Прекрасно. А ваша специальность?
— Терапевт…
— Прекрасно, — повторил Морстон, уже без особой убежденности, — впрочем, мне кажется, тут нужен психиатр.
— Почему вы так думаете?
— Знаете ли… — Морстон замялся. — В общем, он был… со странностями. А потом начались галлюцинации…
— В чем они выражались?
— В чем?.. Да так, разное… В его карте написано…
— А ваше личное впечатление?
— Какая ему цена. Я не специалист. Вот, может, Фред скажет, — Морстон кивнул в сторону своего товарища в дымчатых очках, — он жил с Энрике.
— Нет, вначале он был, как все, — возразил Фред, — странности у него появились много позже. Мне кажется, со странностей все и началось. Он очень много работал. Не щадил себя… Сильное переутомление, надрыв, специфика здешних условий. Мозг не выдержал… Что-то там у него “отключилось”, и вот результат… После полуторагодового пребывания здесь мы все со странностями…
— Но вы проходили на Земле тщательную проверку, отбор, — заметил Кирилл.
— Проходили, — согласился Фред, — а так ли она много значит? Металл тоже проверяют, прежде чем из него построят космический корабль. Каких только проверок не придумали… А сколько аварий в космосе произошло именно из-за усталости металла. А человек? Неужели ему быть прочнее металла. Не знаю, может, у вас именно так; наши в здешних условиях долго не выдерживают. Так было в прошлые смены, так и сейчас. Я слышал, у вас в эту смену тоже один свихнулся.
— Да, действительно, — кивнул Мак, — одного отправляем больным. И мне кажется, симптомы сходные, хотя у нашего товарища состояние не столь тяжелое. Именно сходство симптомов заставило меня обратиться к вам с вопросами.
— Тут все подробно написано, — повторил Морстон, извлекая из кармана скафандра большой пластиковый конверт. — Я это вручу вашему медику на корабле.
— Перед отлетом проверялись чисто внешние параметры умственной деятельности, — сказал Фред, — скорость решения задач, число допущенных ошибок, показатели психофизиологической напряженности — частота пульса, данные электрокардиограмм, энцефалографии и еще многое. В определенных пределах по этим параметрам можно судить, достаточна ли мощность мозга каждого из нас для охвата и переработки сведений, поступающих с приборных панелей и даже из окружающего нас мира. Но можно ли по этим чисто внешним проявлениям судить, что в действительности происходит в мозгу человека, решающего ту или иную оперативную задачу или проблему? Где предел информационной емкости мозга, предел допустимых нагрузок, предел прочности как биологической конструкции? Никто этого не знает…
— В чем все-таки выражались странности в поведении Энрике, о которых вы упомянули? — спросил Мак.
— В мимике, выражении глаз, интонациях, жестах… Он стал очень раздражителен, резок, неконтактен, обрывал, когда к нему обращались с вопросами. Он все больше удалялся от окружающих, замыкался… как компьютер без обратной связи. Иногда казалось, что он искал и не находил ответа на какой-то мучающий его вопрос. Потом…
— Стоп, Фред, после доскажешь, — прервал вдруг Морстон. — Смотри, нас встречает сам начальник русской станции.
Кирилл, слушавший американца, тоже глянул вперед. Им навстречу шагал Бардов в окружении участников четвертой и пятой смен.
* * *
Американцы явно торопились. Морстон, возглавлявший их группу, отклонил даже приглашение Бардова посетить Базу.
— Отсюда до вашей Базы далековато, — объяснил он свой отказ, — а нам еще предстоит работа на обратном пути. И мы должны возвратиться к себе засветло. У планетолета очень напряженный график. Завтра полетят наши геологи. Да и у вас перед стартом дел немало…
— Полагал, вы останетесь нашими гостями до отправления “Ветра времени”, — сказал Бардов. — Жаль, что спешите. А я даже думал потом подкинуть с вами двух наших товарищей… Для координации дальнейших планов. Видимо, придется пока отложить?..
— Да-да, — обеспокоенно закивал Морстон, — мы это сделаем обязательно, но… немного позже. Согласуем по радио и встретимся…
Кириллу показалось, что торопился лишь Морстон… Фред и Гибби, по-видимому, не прочь были бы задержаться и распрощались с плохо скрытым сожалением.
Когда американский планетолет улетел, Геворг сказал Кириллу:
— Рыльце у них в пушку, вот что; особенно у Морстона… Подбросили полутруп и сбежали…
— Объясни свой гениальный домысел.
— Не понимаешь? Все эти так называемые “призраки”… их работа… А Энрике — морская свинка. На нем отрабатывалась “методика”. Теперь концы в воду, особенно если он станет трупом во время полета. На Земле нашим еще придется доказывать, что к чему… И оправдываться.
— Но зачем?
— Что зачем?
— Зачем бы им все это?
Геворг усмехнулся:
— Пока не знаю. Может, попозже поймем? Не исключен и примитив: хотят напугать, чтобы мы свернули работы… Наш главный космодром выбран не случайно… И ущелье Копрат подозрительно. Один из самых глубоких разрезов марсианской коры. Там они что-то учуяли, а космодром — удар ниже пояса.
— Чересчур мудро! Подозрительность никогда не благоприятствовала проницательности, Геворг.
— У меня тоже появлялась подобная мысль, — заметил Мак, молча слушавший их разговор. — Потом я ее исключил. Ведь, по существу, “Фантом Азария” не угроза, даже не предостережение. Это скорее приглашение, призыв, обещание чего-то… Он способен возбудить любопытство, интерес, но не страх.
— И лишь попутно переворачивает мозги, лишает человека рассудка, — добавил Геворг.
— Это побочные явления, вероятно связанные с излучением. Убежден, что найдется способ нейтрализовать его.
— Если мы раньше не последует за Азарием и Энрике.
— Я отнюдь не утверждаю, Геворг, что опасности не существует. — Голубые глаза Мака словно заледенели и взгляд вдруг приобрел несвойственную ему суровость. — Мы ведь понятия не имеем, какие еще излучения пронизывают всех нас на этой планете. Может быть, “поле”, в котором возникает “Фантом Азария”, существует тут постоянно. Существует и постоянно воздействует на нас. Подобно радиоактивности — до того как ее научились измерять; подобно гравитации, наконец, которую мы научились создавать искусственно, хотя понятия не имеем, что она такое. Локальные нарушения неведомого здешнего “поля” — естественные, а может быть, даже искусственные, приводят к возникновению фантомов…
— Все-таки допускаешь — искусственные, — усмехнулся Геворг.
— Не исключено, но и не связываю их с нашими соседями.
— Тогда кто?
— Не знаю… Тоже не знаю, как и ты, когда тебя спросили, зачем этим заниматься американцам…
В мозгу Кирилла словно полыхнула молния. Это было, как озарение… Мысли понеслись с неудержимой быстротой: “Ну конечно… Искусственное возбуждение неведомого “поля”… Призыв… Обещание… Что за светлая голова у Мака!.. Надо только все хорошо продумать, обсудить с ним… Это, безусловно, путь вперед… Вперед… Но где искать источник сигналов? В космосе? Подо льдами? В глубинах Марса?..”
Кирилл с трудом перевел дыхание. Взглянул на собеседников. Губы Геворга кривила усмешка, Мак оставался задумчивым и суровым.
— Ты сейчас выдал гениальную мысль, Мак. — Мак встрепенулся и удивленно взглянул на Кирилла. — Гениальнейшую… — повторил Кирилл. — Но сначала скажите мне, если кто-нибудь из вас знает, насколько трудно технически в наших условиях воспроизвести искусственным путем “Фантом Азария”? Конечно, не сам фантом, его модель.
Мак недоуменно пожал плечами.
— Модель совсем нетрудно, — заверил Геворг, продолжая усмехаться. — Нужна хорошая лазерная камера, например, из тех, что применяются при современных киносъемках, но… учитывая особенности здешней атмосферы, несколько видоизмененная.
— На Базе или на “Ветре времени” такая есть?
Геворг на мгновение задумался:
— Такой нет. У американцев — не знаю… Но в лаборатории, даже в своей лаборатории на Базе, я, вероятно, смог бы продемонстрировать вам оптическую модель “Фантома Азария” в уменьшенном масштабе.
— Попробуй, Геворг, — попросил Кирилл. — Это сейчас очень важно.
— Что за это буду иметь?
— Соавторство в открытии, в поразительном открытии, на пороге которого мы, может быть, оказались… благодаря Маку.
— Благодаря мне? — искренне удивился Мак.
— Тебе и некоторым еще…
— Ты начинаешь говорить загадками, Кир.
— Я что-то тоже… перестаю понимать, — нахмурился Геворг.
— Потерпите… На Марсе и вокруг скрыто больше, чем снится вашей мудрости, коллеги, — торжественно процитировал Кирилл. — Сказано у Шекспира, правда, не совсем так, но суть именно в этом…
* * *
Лабораторную модель “Фантома Азария” Геворгу удалось продемонстрировать лишь спустя неделю после старта “Ветра времени”.
По сигналу Геворга было выключено главное освещение., и над круглым центральным столом в сумраке кают-компании вдруг появилась ярко освещенная фигурка в голубом скафандре. Она сделала несколько шагов в воздухе, повернулась и, широко разведя руки, приветствовала собравшихся поклоном.
— Это был Кирилл, — объявил Геворг, когда фигурка исчезла и снова включили освещение. — Произвести съемку лазерной стереокамерой удалось только вчера у лабораторного корпуса.
— А что мешало? — спросил Бардов. Геворг усмехнулся:
— Совершенство аппаратуры. Камера, которой снималось изображение, предназначена для иных целей. Ее пришлось… модернизировать.
— После чего ее уже нельзя будет использовать по назначению, — буркнул Бардов… — Я правильно понял?
— Почти… Но зато можно показывать вот такие фокусы.
— Вы полагаете, “Фантом Азария” имел подобную… природу?
Геворг снова усмехнулся:
— Не исключено. Только аппаратура была… помощнее.
— Помощнее?.. А на сколько?
— Ну, это можно подсчитать. — Геворг задумался, прикидывая в уме. — “Помощнее” — не совсем точно. Разница на несколько порядков.
— Превосходно. — Бардов принялся поглаживать бороду. — И где же такая лазерная “пушка” могла находиться?
— Где угодно, это зависит от мощности.
— Но в пределах прямой видимости? Ведь мы имеем дело с изображением в видимых лучах спектра.
Геворг покачал головой:
— Не обязательно. Это зависит от конструкции и мощности излучателя. Могли быть использованы любые электромагнитные колебания с многократными отражениями и преломлениями. Трансформация в видимую часть спектра могла произойти после последнего отражения или преломления.
— А побочные явления? Поражающее воздействие на мозг?
Глаза Геворга хитро сверкнули.
— Это вопрос к медикам, уважаемый шеф. Не берусь отвечать, хотя не исключаю, что “побочные явления” зависят от мощности аппаратуры.
— Неужели все-таки наши американские друзья? — вздохнул Бардов. — В голове не умещается. Там в основном ученые… И зачем?
Кирилл уже приготовился заговорить, но его опередил Сергей.
— Я подсчитал, — сказал он, ни на кого не глядя, — необходимую мощность излучения для воспроизведения фантома с тем поражающим “жестким” эффектом, который предположительно испытал Азарий… Даже при расстоянии в десять километров мощность излучателя должна быть в сто миллионов раз больше той, которую использовал Геворг. Подобными мощностями никто на Марсе не располагает: ни мы, ни американцы… В радиусе десяти километров от космодрома ничего подобного, конечно, не могло быть, и не только в десяти, в ста и в тысяче километрах тоже…
Наступило долгое молчание.
— Чем сильнее и проницательнее наш ум, тем отчетливее ощущает он свое бессилие, — прогудел наконец Бардов. — Найдутся ли желающие опровергнуть Монтеня?
“Нет, пожалуй, мне рано выскакивать со своей гипотезой, — подумал Кирилл, — надо дождаться нового проявления “фантома”, сделать замеры… Хорошо, что Сергей выступил с расчетами. Не думал, что эта история его так заинтересовала. Придется поговорить и с ним… Но если он не ошибается, космический вариант исключен и тогда”…
— Ну, а ответственный исполнитель по проблеме “Фантом Азария” скажет нам сегодня что-нибудь?
Кирилл вздрогнул, поднял голову. Твердый взгляд Бардова был устремлен прямо на него.
Еще мгновение он колебался. Говорить или нет?..
— Нет, — начал он медленно, — надежными данными, которые могли бы заинтересовать присутствующих, в свете… эксперимента коллеги Геворга, я пока не располагаю. “Фантом Азария” больше не наблюдается, американские исследователи не смогли или… не захотели сообщить ничего нового. По сути дела, мы даже не знаем, чем вызвано заболевание доктора Энрике Кэнби. В его карте только фиксация наблюдений врача и ни слова о возможных причинах… Галлюцинации упоминаются, но какие именно — не известно. Сходство с состоянием Азария имеет место, но лишь сходство. Через девятнадцать дней я должен представить на ваше утверждение программу исследований по проблеме “Фантом Азария”. Не вызывает сомнения, что до этого надо побывать у американцев.
— Все правильно, — спокойно констатировал Бардов, — значит завтра вы и отправитесь к ним… вместе с Максимом. С Джиксом я договорюсь…
* * *
Договариваться с Невиллом Джиксом Бардову не пришлось. Едва кончилось заседание, дежурный оператор поста управления Базы попросил профессора Бардова срочно спуститься в радиорубку. Шефуня возвратился в кают-компанию через несколько минут. Его широкая красная физиономия сияла от удовольствия.
— Сами пожалуют сегодня вечером, — сообщил он Кириллу. — Я имею в виду американцев, — пояснил он после небольшой паузы. — Морстон и еще один… Джикс просит помочь… Поможем, конечно… Так что готовьтесь, Кир… Завтра утром полетите.
Однако вылет пришлось отложить… Ночью начался ураган. К утру он усилился. Защитные полусферические купола вздрагивали от чудовищных порывов ветра. Наступил рассвет, но вокруг Базы все тонуло в густой красно-бурой мгле, изредка прорезаемой фиолетовыми сполохами электрических зарядов. Морстон, прилетевший вечером, ночевал на Базе. Его спутник остался на планетолете, который американцы посадили в плоской котловине, в нескольких сотнях метров к северу от построек Базы.
За завтраком, прислушиваясь к грохоту и вою урагана, Морстон встревоженно покачивал головой.
— Беспокоитесь за вашего товарища? — спросил Мак. — Надо было и ему ночевать здесь. Напрасно он отказался.
— Боюсь за планетолет, — признался Морстон.
— Занесет песком, откопаем, — успокоил Бардов. — А еще что ему сделается?
— Электрические разряды… У нас таких гроз не бывает. Откуда здесь столько электричества?
— Ваша станция расположена гораздо выше — в горном районе, — сказал Бардов. — С севера вас прикрывает вулканический массив. А мы — на краю равнины, открытой на север. Минувшим летом, когда ураганы были особенно сильны, они приходили с севера. Как и этот.
— На Земле грозы сильнее в горах, — заметил Морстон.
— Тоже не везде… Ну, а тут свои “марсианские” законы. Мы в них еще не разобрались.
— Мне иногда начинает казаться, — Морстон тщательно размешивал сахар в стакане кофе, — что мы поторопились с исследованиями Марса. Во всяком случае, с организацией тут постоянно действующих станций. Орешек еще не по зубам. Лет через пятьдесят — сто с иной техникой, иными знаниям, более устойчивой психикой — куда ни шло. А сейчас, — он покачал головой, — сплошные загадки… и… нередко просчеты.
— У нас тоже, — кивнул Бардов, — но начинать было надо. И когда бы ни начали, первым пришлось бы через все это пройти. На то они и первые… А что, собственно, у вас произошло, коллега? Джикс вчера попросил пригласить нашего врача. Вы, когда прилетели, сказали, что крайне желателен прилет специалиста по физике атмосферы. Кого же отправлять с вами, когда закончится ураган?
— Видите ли, — Морстон потупился, — откровенно говоря, нам нужна помощь и врача и физика, и даже не знаю, чья важнее. Но мы понимаем, у вас свои задачи, поэтому решайте сами, кого можете отпустить… Если говорить об оптимальном варианте… — он запнулся. — Профессор Джикс просил передать вам, что все мы крайне заинтересованы в вашем личном приезде, господин Бардов. Крайне… Никто лучше вас не знает этой проклятой планеты. Она преподносит сюрприз за сюрпризом… Мы недавно обнаружили следы каких-то пришельцев из космоса, но… Понимаете, это трудно объяснить, надо смотреть на месте…
— Ваш Энрике погорел на этом? — жестко спросил Бардов.
— Д-да, — процедил Морстон, — к сожалению, не он один…
— Жаль, что не сказали сразу!
— У нас не было единой точки зрения, сэр.
— Вероятно, ее не существует и сейчас?
Морстон молча пожал плечами.
— Хорошо, мы летим с вами, как только утихнет ураган.
— Вы тоже? — счел необходимым уточнить американец.
— Я же сказал — мы. Нас полетит четверо.
* * *
На этот раз ураган не стихал целую неделю. И всю неделю не удавалось установить радиосвязь не только с американской станцией, но и с планетолетом, который находился всего в нескольких сотнях метров от Базы. Не могло быть и речи о том, чтобы выйти наружу даже и в скафандрах высшей защиты. Ураган поднял в воздух чудовищное количество песка и пыли. Тьма царила полная Эта непроницаемая, воющая круговерть была так насыщена электричеством, что весь металл на защитных куполах построек Базы светился зловещим голубовато-фиолетовым сиянием. Сверху временами доносились тяжелые раскаты грома, но молний уже не было видно — настолько плотной стала пылевая завеса.
За неделю вынужденного сидения на Базе Кирилл не один раз пытался “разговорить” Морстона. Однако тот, получив согласие Бардова, снова замкнулся, отделываясь общими фразами и обещанием все показать и объяснить на месте.
— Мой рассказ вас не убедит, — говорил он, — а настроить скептически может. Лучше сразу увидеть самому.
— Что именно увидеть?
— То, что оставили на Марсе пришельцы из космоса.
— А что это такое? Космодром? Космический корабль? Жилища? Морстон замахал руками:
— Разве в здешних условиях что-либо подобное просуществует длительное время?
— Думаю, нет. Но тогда что?
— Вы трудный человек, господин Волин, — устало заметил Морстон, — и очень нетерпеливый. Неужели вы действительно психиатр?
— Психиатр тоже, но это не главная моя профессия.
— Да, слышал… У вас тут все… Как это называется?..
— В прошлом веке называлось — “многостаночники”.
— Да-да, совмещение профессий. — По губам Морстона мелькнула усмешка. — Для космической вахты удобно, но… дает ли полноту отдачи?
— Надеюсь, сможете убедиться…. Так, значит, о каких следах может идти речь?
— Запись информации… Особая система записи на кристаллах.
— А почему пришельцы?
— Но, господин Волин, неужели не ясно? На Марсе нет и никогда не было жизни. А мы на Земле еще не придумали такого способа передачи информации… Вы не согласны со мной?
Кирилл тряхнул головой:
— Нет, не согласен.
— Простите, но почему?
— А вот это я вам постараюсь объяснить, доктор Морстон, тогда, когда мы вместе посмотрим, чем наследили ваши “пришельцы”.
* * *
Ураган начал стихать на восьмые сутки. Вскоре удалось поймать радио планетолета. Спутник Морстона вызывал свою станцию, но его там, вероятно, не слышали. Не реагировал он и на вызовы Базы.
— Его едва слышно, — сказал Морстону дежурный оператор, — хотя он совсем рядом… Может быть, ваш передатчик не в порядке?
— Давайте я попробую, — предложил Морстон.
После многих попыток ему удалось установить связь с планетолетом. Выслушав сообщение оттуда, Морстон присвистнул:
— Он в ловушке. Кажется, планетолет засыпало полностью..
Так оказалось и в действительности. Освобождение американского корабля из песчаного плена заняло целый день. Еще день ушел на расчистку взлетной полосы.
— Мы выбрали очень неудачное место для посадка, — признался Морстон, когда все было наконец готово к старту и участники перелета собрались возле американского корабля. — К счастью, благодаря вашей дружеской помощи все завершилось благополучно… Ну, если все готовы, прошу.
Он указал на планетолет.
Бардов, Мак, Кирилл и Геворг один за другим поднялись по откидному трапу и, задержавшись ненадолго в шлюзовой камере, прошли в салон корабля..
Перелет на американскую станцию обошелся без приключений. Летели не очень высоко, но внизу все было задернуто пылевой завесой, еще не осевшей после недавнего урагана. Поэтому надежды Кирилла увидеть сверху каньон Копрата, озеро Феникса, Гордиев узел, Амазонию на этот раз не оправдались. Лишь перед посадкой Кирилл разглядел внизу в красноватых лучах заходящего солнца хаотическое скопление зубчатых бурых гребней, разделенных глубокими ущельями; в ущельях уже залегли густые лиловые тени..
Постройки американской станции мелькнули в котловине у подножия кирпично-красного плато, на которое опустился планетолет. Пробежав около километра, корабль вдруг наклонился и нырнул вниз в темноту.
— Мы в подземном ангаре нашей станции, — послышался голос Морстона. — Шлемы надевать не надо. Ангар герметизирован. Сейчас пройдем шлюзовые камеры, и увидите встречающих.
Вспыхнул яркий свет. Кирилл заглянул в иллюминатор и увидел серый бетонный пол и бетонные стены обширного зала. В отдалении стояла группа людей в рабочих комбинезонах. В центре ее выделялся высокий смуглолицый человек в больших очках, с совершенно белыми волосами.
— Это профессор Невилл Джикс, — сказал за спиной Кирилла Морстон. — Позвольте приветствовать вас, господа, на территории Соединенных Штатов Америки на Марсе.
Планетолет замедлил движение, дрогнул и остановился.
* * *
Первая рабочая встреча состоялась на следующее утро сразу после завтрака. Профессор Невилл Джикс пригласил четверых гостей занять места за круглым столом в небольшом салоне, рядом с его кабинетом. С американской стороны на встрече присутствовало тоже четверо. Кроме Джикса, Морстона, Фреда еще и Гридли.
Он зашел в салон последним, и Джикс представил его как своего заместителя. Гридли молча поклонился и занял место напротив Кирилла. Ни вчера вечером, когда Джикс показывал гостям американскую станцию, ни утром за завтраком Кирилл его не видел. У Гридли было широкое бледное лицо, удивленно приподнятые брови, заостренный длинный нос. Светлые волосы он гладко зачесывал назад, вероятно, от этого уши казались немного оттопыренными. Встретившись взглядом с Кириллом, Гридли отвел глаза и принялся негромко постукивать пальцами по столу.
— Позвольте мне открыть наше заседание, — начал профессор Джикс, поднимаясь со своего места. — Прежде всего я хотел бы еще раз приветствовать наших дорогих советских гостей и поблагодарить за прибытие. — Он поклонился, обвел взглядом присутствующих и добавил: — Учитывая высоту наших потолков, предлагаю дальше разговаривать сидя, — он похлопал ладонью потолок над головой и опустился в кресло. — Итак, с чего же мы начнем? — продолжал он, глядя поверх очков на Бардова.
— Может быть, с самого главного? — в тон ему ответил Бардов.
— Пожалуй, все-таки нет, — задумчиво сказал Джикс. — Главное — наши пострадавшие товарищи… Но они — следствие. Если не будет возражений, я предпочел бы начать с причины. Причина находится здесь, — он указал на дверцу стенного сейфа, — сейчас я ее вам представлю.
Он снова поднялся, подошел к сейфу и после нескольких манипуляций с диском шифра медленно открыл дверцу. Из глубины сейфа он извлек небольшую картонную коробочку и возвратился с ней к столу.
— Вот она, наша странная находка и наше горе, — продолжал он, поставив коробку на стол и пододвигая ее к Бардову. — Осколок полупрозрачного белого кристалла. Похоже на земной кварц, не правда ли? И выглядит так же безобидно. Но это лишь видимость. Суть совершенно дьявольская и пока представляется полнейшей загадкой, причем загадкой с ловушкой… То есть здесь, сейчас, в данных условиях эти осколки немы и совершенно безобидны, — добавил он, заметив, что гости невольно отстранились от коробки. — Не сомневайтесь, уже проверялось многократно. Я их держал даже у себя под подушкой, и как видите — ничего…
Дело в том, что необходимо, — он запнулся, — по-видимому, необходимо, особое состояние здешней атмосферы и определенная ориентировка этих кристаллов по отношению к прямым солнечным лучам. Только при этих благоприятствующих условиях кристаллы начинают выдавать заключенную в них информацию и… становятся опасными. Мы работали с ними эмпирически и параметров наибольшего благоприятствования, вероятно, не знаем. Однако не исключено, что в этом последнем случае они наиболее опасны. Сама эта находка, — Джикс указал на коробку с белыми осколками, — в определенной степени случайна, однако при детальных геологических исследованиях рано или поздно она, вероятно, была бы сделана. И я убежден, с подобными “кристаллами” исследователи Марса еще встретятся.
Простите, что рассказываю не очень систематически, но эта материя такова — с чего ни начни, все равно возникнет множество вопросов. С чего все началось? Наши геологи некоторое время тому назад при полевых исследованиях наблюдали странный мираж, настолько странный, что склонны были принять его за галлюцинацию…
— И что же это было? — спросил Бардов, потому что Джикс вдруг замолчал и задумался.
— А был это, вообразите, какой-то космодром в момент старта корабля, но совершенно не земного типа — что-то вроде гигантской полусферы с вертикальным взлетом. Наблюдалось это диво с полминуты и постепенно исчезло, потому что солнце начало заходить за край обрыва.
— И было это в каньоне Копрат? — быстро спросил Мак.
— Представьте себе, да, — удивился Джикс, — а вы, простите, тоже наблюдали там что-нибудь подобное?
Мак отрицательно тряхнул головой.
— Я думаю, нам пока не следует перебивать профессора, — заметил Бардов, неодобрительно поглядывая на Мака.
“Сам ведь начал”, — подумал Кирилл и смутился, поймав насмешливый взгляд Шефуни.
— Нет-нет, прошу вас, — запротестовал Джикс. — спрашивайте, спрашивайте все, что вас заинтересует Я могу упустить что-либо существенное. Мы здесь уже столько раз все это обговаривали..
Он сделал долгую паузу, но вопросов не последовало, и он продолжал:
— Происшествие с геологами очень заинтересовало доктора Энрике Кэнби, того самого, которого пришлось с вашей помощью отправить на Землю. Несколько раз он выезжал вместе с ними в Копрат. Они показали ему место, откуда видели мираж. Он устроил там наблюдательный пункт и в конце концов поймал этот феномен. Первый раз наблюдал его тоже при низком солнце около десяти минут, провел даже киносъемку, но пленка оказалась засвеченной. К сожалению, вначале никто не придал значения засвеченной кинопленке… Энрике продолжал исследования. Он вообще был фанатиком науки и уж если чем-нибудь увлекался, остановить его было невозможно Его поиск мы вначале не принимали всерьез, — Джикс вздохнул, — это тоже было ошибкой, в первую очередь моей…
— История повторяется, — пробормотал Бардов.
— Выяснилось, что возникновение миража зависит не только от положения солнца, — продолжал Джикс, испытующе поглядывая на Бардова, — но и еще от ряда факторов, в том числе от состояния верхних слоев ионосферы. К сожалению, Кэнби почти не вел записей… После того как он вышел из строя, мы бродим в потемках… Он в конце концов определил наиболее вероятное место в обрыве каньона, которое с его точки зрения было ответственно за возникновение… миража. Там ничего примечательного не оказалось. Залегал слой красноватого песчаника с мелкой галькой, ничем не выделяющийся среди других горных пород, слагающих северную стену каньона. Однако когда Кэнби прикрыл это место темным экраном, мираж возникать перестал. Убрали экран — мираж появился, но на очень короткое время. Дело в том, что дни становились короче, солнце заходило все раньше и условия освещенности этой части каньона становились все менее благоприятными. Вероятно, следовало подождать весны, но Энрике ждать не умел. По его просьбе геологи срезали часть подозрительного слоя. Пробу привезли сюда, стали исследовать. Ничего необычного в ней не обнаружилось, кроме одной-единственной гальки, которая ярко светилась при облучении ультрафиолетом. На Земле такое свечение, как вы, конечно, знаете, — один из признаков алмаза. Галькой занялся наш минералог. Несмотря на высокую твердость, это был не алмаз. Более того, состав вещества оказался настолько необычным и сложным, что возникла мысль… о его искусственном происхождении. Тогда галькой повторно заинтересовался Энрике и установил, что и она и любой из ее осколков при определенных условиях прямого солнечного освещения становятся источником… — Джикс сделал долгую паузу, подыскивая наиболее точное определение.
— Фантома? — подсказал Бардов.
— Если угодно, — кивнул Джикс, — или определенного количества информации. Мы все — и мои коллеги, присутствующие здесь, и остальные сотрудники станции — неоднократно были свидетелями экспериментов Энрике Кэнби с этим веществом. Должен сказать, что зрелище беззвучно взлетающего гигантского космического корабля впечатляюще. Правда, спектакль удавался не всегда. Иногда фантом не возникал…
— Значит, здесь, — Бардов повертел в пальцах один из белых осколков, — запечатлены только кадры старта некоего корабля?
— Не только, — ответил Джикс. — Энрике удавалось получать и еще какие-то зрительные сигналы — хаотическое смешение красок, подобное разноцветному пламени. Они не расшифровываются. Мы вам все это продемонстрируем, если, конечно, не боитесь. Дело в том, что информация, заключенная в этих осколках, не ограничивается зрительным рядом. Мы знаем теперь, что и само вещество и создаваемая им оптическая модель, или фантом, в свою очередь становятся источником какого-то излучения, опасного, а может быть, и губительного для человеческого мозга и нервной системы. Мы все в той или иной степени поражены этим излучением, и, откровенно говоря, я не уверен… досуществуем ли в нормальном состоянии до прилета нашего корабля. Ускорить его появление, как вы знаете, невозможно. Нам остается лишь уповать на провидение и… вашу помощь… Именно поэтому я рассказываю обо всем столь подробно и откровенно. Критическая доза этого неведомого излучения пока неизвестна. Не знаем мы и характера поражения и степени необратимости последствий. Я вначале думал, что лишь Энрике хватил этого через край. Нет… За последние недели ухудшилось состояние еще нескольких наших товарищей, вместе с которыми Энрике занимался изучением кристаллов. У нас, — Джикс вздохнул, — двое тяжелобольных. Еще у одного — начальные симптомы заболевания. И вообще…
Бардов нахмурился, движением руки прервал Джикса.
— На Землю сообщили об этом?
— Нет… Пока нет. Если Энрике доставят живым… Впереди еще почти три земных месяца. Я не хотел поднимать тревогу раньше срока.
* * *
— Обсудим ситуацию, — предложил Бардов. — Ваши соображения?
За сутки, проведенные на американской станции, они впервые собрались вчетвером в комнате, отведенной Бардову.
— А как тут с дополнительными ушами? — поинтересовался Геворг.
— Какое это имеет значение, — Шефуня поморщился, — мы все сидим в одной лодке…
— Которая может пойти ко дну?
— Если не соблюдать осторожности…
— Совсем как на Земле! — Геворг усмехнулся. — Мое мнение: если рассказ Джикса правда — они наломали дров.
— Что дальше?
— Они обязаны были рассказать обо всем перед отправкой Энрике.
— Что изменилось бы? Характер поражения неясен и сейчас. Аналогия с состоянием Азария очевидна. Об Азарии мы сообщили все, что знали, — Бардов пожал массивными плечами, — дело не в этом.
— Конечно, — подтвердил Кирилл, — услышанное сегодня — детали. Ты, Геворг, искал источник фантомов. Американцы его представили. Завтра увидим в действии…
— Кто не боится, — Геворг подмигнул.
— По существу, мы не узнали ничего нового, — продолжал Кирилл. — Без излишней скромности могу сказать, я подозревал нечто подобное…
— Ну силен! — воскликнул Геворг. — Значит, ты и о космических пришельцах догадывался? Молодец!
— Пришельцы ни при чем… Не в них дело. Главное сейчас — люди…
— Как ни при чем? А кто камушки подбросил? Господь бог?
— Подожди, Геворг, — резко остановил физика Мак, — Кир правильно говорит… Мы с ним осмотрели сегодня пострадавших. Двое в тяжелом состоянии, почти как Энрике, когда его привезли к нам. А еще две недели назад эти ребята чувствовали себя вполне прилично. Излучение, связанное с фантомами, действует не сразу, его последствия, вначале кажущиеся незначительными, потом нарастают, как лавина. Поражаются какие-то узлы центральной нервной системы: сначала — коры больших полушарий, потом спинного мозга. Финал — паралич. Я пока не вижу радикального способа и средств остановить эту лавину. Во всяком случае, тут… Вероятно, существует предельная допустимая доза облучения, но мы ее не знаем, потому что ничего не можем измерить. Кир судит несколько иначе, но пусть он сам скажет…
— Ситуация действительно очень трудная, — начал Кирилл, — но я думаю так: эти белые кристаллы — носители информации, заложенной в них разумом. Информация предназначается тоже для разумных существ. Мы сейчас не знаем, кто заложил информацию и кому она предназначалась. Важно другое: это послание разума разуму… Значит, оно не может, не должно сопровождаться попыткой причинять зло. В противном случае оно бесцельно. А бесцельное зло — оружие слабоумных.
Фантом — немой зрительный образ — только часть информации, может быть, не самая главная. Таинственное излучение — другая часть, которая, вероятно, должна восприниматься непосредственно мозгом, но… наш мозг либо для этого не приспособлен, либо… еще не научился воспринимать подобную информацию; это приводит к травмам центральной нервной системы — травмам и заболеванию…
Мне почему-то кажется более вероятным второе предположение: наш мозг пока не справляется с потоком этой информации. Принципиальной несовместимости не должно быть, ведь воспринимаем же мы зрительный образ. Значит… Значит, надо помочь мозгу освоиться со всем потоком информации. Как? Не знаю… Надо думать…
— Заманчиво, — заметил Бардов. — Но до чего опасно! В этом случае путь один — рисковать… Азарий, и Энрике, и здешние ребята рискнули…
— Они рисковали вслепую, — возразил Кирилл, — а надо… умно…
— Можно, конечно, попробовать и умом, — усмехнулся Геворг, — только где его столько взять?
— Давайте все-таки подумаем, — сказал Шефуня. — До завтрашнего утра целая марсианская ночь…
* * *
Однако ни на следующий день, ни в течение целой недели, пока Бардов и его спутники оставались гостями американцев, наблюдать фантом не удалось. Либо осколки белого кристалла вдруг лишились своего удивительного свойства, либо что-то изменилось в атмосфере планеты, но фантом возникать перестал, хотя условия солнечного освещения все эти дни оставались благоприятными.
Джикс выглядел совершенно обескураженным. Его помощники сбились с ног, без конца меняя положение гониометров3, в которых были закреплены осколки загадочной белой гальки.
— Не понимаю, — сказал Джикс в последний вечер, когда все собрались в кают-компании американской базы, — просто не понимаю… Словно они сами разумны и решили вдруг проявить упрямство.
Он указал на коробку, в которой лежали белые осколки.
— Раньше мы без особого труда получали изображение, — добавил Морстон, — например, от этих кусочков, отмеченных зеленой тушью.
Он осторожно коснулся пальцем нескольких осколков.
— За минувшую неделю мы перепробовали все осколки, вплоть до самых мелких, — хрипло заметил Фред, — еще одна загадка…
— Мы передадим вам половину осколков, — сказал Джикс, — вы сможете работать у себя, а мы продолжим исследования тут. Может быть, удастся снова активизировать их. В случае успеха сообщим. И вы тоже.
— Разумеется, — кивнул Бардов.
— Зачем же половину, — нахмурился Гридли, — вероятно, хватит нескольких кусочков, например, два с зелеными отметками и две — три крупинки помельче. Тем более что неизвестно…
— Нет половину, — резко перебил Джикс, — русские коллеги очень помогли нам. Будем продолжать исследования на паритетных началах. Если они обнаружат что-либо подобное, они…
— Разумеется, — снова подтвердил Бардов, поглаживая бороду.
— К сожалению, наши русские друзья завтра покидают нас, — продолжал Джикс, — поэтому разделим материал сейчас. Давайте весы, Гибби.
Молчаливый Гибби поставил на стол аптекарские весы и под внимательным взглядом Джикса разделил содержимое картонной коробочки на две равные навески. Одну Джикс пересыпал в серую металлическую коробочку и вручил Бардову, другую убрал в сейф.
— Ваша коробка свинцовая, — пояснил Джикс, — но это на всякий случай. До тех пор пока на заключенные тут крупинки не упадут прямые солнечные лучи, они нейтральны, по-видимому, безвредны для человека.
— Во всяком случае, не излучают ничего, что мы умеем фиксировать, — добавил Фред.
— Вероятно, кое-что зависит от индивидуальных особенностей человеческого мозга, — заметил Кирилл. — Один из ваших больных вчера рассказал мне, что у него появлялось странное беспокойство и даже что-то, похожее на галлюцинации, когда он подолгу смотрел на эти осколки в закрытом помещении.
— У кого? — насторожился Гридли.
— Его зовут Джерри.
— А, — кивнул Джикс, — Джером Гиббсон наш химик. Он пытался установить состав и структуру этого вещества, но выяснил только их необычайную сложность. К сожалению, Джером — натура весьма эмоциональная и эти его… ощущения… Они очень субъективны, коллега.
— Конечно, — согласился Кирилл, — поэтому я и упомянул об индивидуальных свойствах. Их следует иметь в виду. Кстати, состояние Джерома в последние дни заметно улучшилось…
— Лечение, предложенное вами и коллегой Максимом, помогло всем без исключения, — поклонился Джикс. — Я и мы все бесконечно благодарны и теперь более оптимистично смотрим вперед…
— Однако любованием здешними фантомами, если опять появятся, не злоупотребляйте, — посоветовал Бардов. — У нас говорят: береженого бог бережет.
— У нас тоже, — усмехнулся Джикс. — А еще: ошибки хорошо учат.
— Позволю себе обратиться с одним советом к русским соседям, — сказал вдруг Гридли, ни на кого не глядя и постукивая пальцами по столу. — Каждому ясно, что эти… фантомы и их источник, — Гридли указал на свинцовую коробочку, которую Бардов держал в руках, — открытие колоссальной значимости. Доказательство обитаемости космоса. Вы понимаете?.. Бессмысленно широко оповещать о нем, пока многое неясно. И еще… Мы, так сказать, приняли вас четверых “на равных паях”, но… мы просим… не расширять круг участников. В каждом большом открытии есть те, кто… совершил его и, так сказать, вспомогательный персонал. Говорю так, потому что в таком деле с самого начала должна быть ясность. Это станет важно потом, на Земле. Вы должны помнить: нас четверо, кто считается первооткрывателями, — наш начальник, я, профессор Морстон и доктор Фред Лесли. Пусть и вас будет четверо. Только четверо.
— Интересно, а как обстоит дело с вашими геологами, которые первыми наблюдали фантом, и с доктором Энрике Кэнби, который начал исследования и заплатил за это здоровьем, — поинтересовался Мак.
— Да-да, разумеется, — торопливо вмешался Джикс, — вы, коллега, безусловно, правы. Гридли несколько поторопился с оценками… Работы не закончены. Мы еще обсудим… Я полагаю, что коллега Гридли прав в главном: не следует форсировать… широкого оповещения. Вы знаете, как подобная сенсация может быть подхвачена на Земле. Делу это не послужит. Не знаю, достаточно ли четко я излагаю деликатную сторону вопроса?
— Вполне, — загудел Бардов. — За допуск к “равным паям” мы признательны, хотя не претендовали на таковые. Свои “паи” мы тоже внесли, о чем вам, господин Невилл Джикс, хорошо известно. Не так ли?
— Да-да, — закивал Джикс, — и мы с благодарностью…
— Так вот, — продолжал Бардов, — мы с вами представляем здесь земное человечество. Наша обязанность — работать на благо Земли и помогать друг другу… Что касается “паев” и “дивидендов”, у нас на них своя точка зрения. Чужие лавры нам не нужны, а своими, уж извините, мы поделимся по своему усмотрению. Этот материал, — Бардов встряхнул содержимое металлической коробочки, — мы получили от вас. Во всех случаях на это будут сделаны все необходимые ссылки. И на работы доктора Кэнби и… остальных исследователей, — Бардов многозначительно поднял палец, — мы отделяем первооткрывателей от интерпретаторов. Да!
— Совершенно с вами согласен, коллега, — поспешил заверить Джикс.
— А что касается сенсаций, — заключил Бардов, — я тоже категорически против. Сенсации с “инопланетянами” уже стольких попутали — и серьезных исследователей и ловкачей. Бог с ними, с сенсациями! Надо сначала до сути добраться. А где она, суть — тут ли, — он опять встряхнул серую коробку, — или тут, — он постучал себя согнутым пальцем по виску, — туманно, знаете ли… Да…
У Кирилла вдруг зарябило в глазах. Он зажмурился, а когда снова открыл глаза, над столом кают-компании медленно проплывали полупрозрачные человекоподобные фигуры в развевающихся радужных одеждах. Невилл Джикс что-то говорил, видимо отвечая Бардову. Смысл его слов не доходил до сознания. Кирилл остановившимся взглядом всматривался в странные видения. А они все плыли — медленно, бесшумно, как туман над земными болотами в тихие осенние вечера. Тревожила все сильнее какая-то мысль, но смысл ее ускользал от сознания. Наконец Кирилл сообразил, о чем думает: видят ли это остальные?
В тот же момент видение исчезло. До слуха донеслись слова Джикса.
— …конечно, мы сделаем все и регулярно будем сообщать…
Настороженный взгляд Кирилла пробежал по лицам присутствующих: вежливое безразличие, усталость, с трудом сдерживаемая скука… Шефуня, подперев ладонью массивную голову, слушал Джикса, губы Гридли были искривлены презрительной усмешкой.
Кажется, никто не видел. Только он один… Но тогда, что это такое?.. Кирилл закусил губы. Может, и у него начинается?.. Может, это заразно? Он снова взглянул туда, где только что видел это, и тут заметил, что за ним внимательно наблюдает Геворг.
* * *
Они возвратились к себе на станцию “Марс-1” на следующий день. Металлическую коробочку с крупинками загадочного кристалла Бардов передал Геворгу.
— Попробуйте воскресить фантом, — сказал он, поглаживая бороду, — с предельной осторожностью, конечно.
— Если тут не липа, — усмехнулся Геворг.
— Не верите им?
— Нет…
— И все-таки — предельная осторожность… А от вас, коллега, — Бардов повернулся к Кириллу, — через недельку жду программу.
Прошло четыре дня. Геворг загадочно молчал. На прямые вопросы отвечал скептической ухмылкой и советом — “потерпеть немного”. Потом он исчез.
Кирилл и Мак обсуждали составленный Кириллом проект программы, когда в дверь кабины громко постучали.
— Прошу! — крикнул Кирилл.
Дверь распахнулась. На пороге оказался Геворг.
— Я только что из Копрата, — объявил он входя. — Думаю кончать комедию…
Он бросил на исписанные листы бумаги, лежащие на столе, серую металлическую коробочку…
— Почему не предупредил, что едешь в Копрат, — возмутился Кирилл. — Я поехал бы с тобой.
— Ни к чему! Это липа, — Геворг указал на коробочку. — Какой-то здешний минерал…
— Ты был и в той пещере? — спросил Мак.
— Был. Пробовал даже там. Испробовал за эти дни все возможные варианты, благо, погода стоит солнечная. Все вздор! Они нас одурачили.
— Но с какой целью?
— Если бы я знал…
— А состав этого вещества? — Кирилл взял двумя пальцами коробочку и осторожно встряхнул ее.
— Состав, состав… — худое, коричневое лицо Геворга искривила судорога. — По физическим свойствам — это кварц. Каждый подтвердит. Химическим составом я не занимался. Не мое дело.
— Джикс упомянул о свечении в ультрафиолетовых лучах… Геворг отрицательно тряхнул головой:
— Эти осколки не светятся.
— Странно, — заметил Кирилл, продолжая встряхивать коробочку. — Не допускаю мысли, что это блеф… Зачем? Ведь мы всегда можем проверить химический состав. И если это действительно кварц…
— А не мог кто-нибудь подменить коробочку? — предположил Геворг.
— Гридли, например? — прищурился Мак.
— А почему бы и нет. Он явно не хотел, чтобы Джикс отдал нам половину.
— Нет, тут что-то другое, — задумчиво пробормотал Кирилл. — Другое… Да… Повремени со своим разоблачением, — обратился он к Геворгу. — День — два… А пока оставь эту штуку мне.
— Пожалуйста. — Геворг встал и потянулся. — Иду спать, — объявил он. — Последние несколько суток почти не спал…
— Что хочешь с этим делать? — спросил Мак, когда Геворг вышел.
— Еще не знаю. — Кирилл осторожно приоткрыл свинцовую коробочку. — Подумаю… Действительно, похоже на кварц.
— А осколки с зелеными отметинами есть?
— Есть… Вот они…
— Я тоже не допускаю блефа, — заметил Мак, вставая. — Уже поздно, Кир. Пожалуй, на сегодня хватит? Пойду спать и я.
Оставшись один, Кирилл погрузился в размышления. “Без сомнения, это те самые осколки, которые на глазах у всех взвешивал Гибби, которые Джикс пересыпал потом в свинцовую коробочку и вручил Шефуне. Почему они вдруг потеряли свои свойства? Уже тогда на американской базе воспроизвести фантом не удалось. Может быть, дело совсем не в солнечных лучах, или не только в них? Где искать ключ к тому, что хранят эти осколки? Хранят в течение десятков, сотен миллионов лет. Здешние фантомы тоже перестали появляться… Как все это увязать в единую систему?”
Кирилл поднялся из-за стола, начал прохаживаться по тесному пространству кабины; четыре шага в одном направлении, четыре в обратном.
“Эстафета разума… Фаэтон, Марс, Земля… Американцы утверждают, что абсолютный возраст слоев, в которых была найдена галька, около восьмидесяти миллионов лет. Мезозойская эра Земли… Время динозавров… Что мы знаем о земном мезозое4? Казалось бы, и много, и ужасающе мало. Загадочные эпохи нарастающего расширения Земли, гигантизма форм жизни, чудовищных превращений растений и животных, исполинских лавовых излияний…
Земля вдруг стала раздуваться и набухать, как созревающий кокосовый орех. И, как у созревающего кокоса, наружная оболочка не выдержала, была разорвана на куски — нынешние континенты. Приоткрылся глубинный слой, залеченный базальтовыми лавами, — нынешнее дно земных океанов. Вероятно, что-то произошло и с силой тяжести — гигантские ящеры мезозоя едва ли могли бы существовать в нынешнем гравитационном поле Земли. Где искать след эстафеты разума в хаосе мезозойских превращений Земли? И позднее — тоже ничего до самой Атлантиды, о которой мы — люди XXI века — еще продолжаем спорить”.
Кирилл остановился, оперся обеими руками о край стола, окинул взглядом разложенные на столе бумаги.
“Проект, предложения… Мак, конечно, прав… Слишком зыбко, неубедительно… Значит… Значит, придется еще раз начать с начала… С самого начала. Осталось три дня и три ночи. Должно хватить”…
Кирилл опустился в кресло, резким движением отодвинул исписанные листы и, положив перед собой чистые, начал быстро писать:
“Во второй половине прошлого века известный планетолог Алексей Савченко сформулировал свою знаменитую гипотезу о нестационарных5 явлениях при развитии планетных систем и о последствиях разрыва Фаэтона для других планет земной группы…”
* * *
Кирилл не уложился в отведенное время. Вопреки обыкновению, Бардов не сделал замечания и продолжал внимательно слушать, поглаживая бороду. Когда доклад был закончен, наступило долгое молчание.
Кирилл обвел взглядом лица присутствующих. В глазах Геворга притаилась ироническая усмешка. Мак кивнул одобрительно, но чуть настороженно — с чем-то, видимо, был не согласен, хотя еще вчера они подробно обсудили все детали. Шефуня отрешенно рассматривал лежащую на столе свинцовую коробочку. Сергей, низко наклонив голову, что-то записывал. Остальные сидели неподвижно, глядя поверх головы докладчика.
— Американскую версию “космических пришельцев” вы, коллега, напрочь отметаете, — полувопросительно заметил Бардов, продолжая рассматривать коробочку с кристаллами.
— Да, — подтвердил Кирилл. — Мы имеем дело со следами здешней цивилизации. Надо развертывать дальнейшие поиски.
— В вашей любопытной “конструкции” самая шаткая ступенька — попытка объяснить, почему они, — Шефуня постучал ногтем по свинцовой коробочке, — утратили… активность.
— Это гипотеза.
— А все остальное, коллега?
— Остальное? — Кирилл пожал плечами. — Судить сам… Для меня существование тут в прошлом высокой цивилизации — факт. Неизвестный нам способ записи и воспроизведения информации тоже факт. Космические полеты аборигенов Марса тоже. И еще многое, о чем говорилось.
— Кто имеет вопросы? — спросил Бардов.
— Я, — поднял голову Сергей. — Способ проходки шахт в ледяной оболочке Марса? Я понял, что шахт должно быть несколько…
— Этих шахт будет много, — возразил Кирилл. — Иного пути нет. Все, что сейчас торчит надо льдом, над слоями песка и щебня, — это молодой рельеф, возраст которого измеряется тысячелетиями. Нам необходимо проникнуть в доледниковое время — на десятки миллионов лет в прошлое. Путь один — сквозь лед, причем в разных точках планеты. Сколько потребуется шахт — я не знаю, но без них задачу не решить. А способ проходки тоже один — прожигать лед направленным лучом энергии.
— Пробуриться сквозь лед не смогли, — заметил кто-то сзади, — а замахиваемся на шахты.
— Это совсем разные вещи, — возразил Кирилл. — Наша буровая установка не приспособлена для бурения льда и не рассчитана на такие глубины.
— Но с шахтами будет еще труднее, — буркнул Сергей.
— Конечно. Придется конструировать специальные энергетические установки. Предлагаю кооперироваться с американцами. Они наверняка будут продолжать исследования. Объясним им нашу точку зрения, если вы примете мой проект, и будем вести работы совместно. Одним нам такой объем горных работ, конечно, не провернуть.
— Еще вопросы? — повторил Бардов.
— Разрешите, — Геворг поднял руку. — Хотелось бы все-таки услышать, как в свете всего сказанного докладчик объясняет появление совершенно одинакового фантома в пещере и на нашем космодроме. Ну и конечно — полное исчезновение этого фантома после того, как Азарий попытался наехать на него вездеходом?
Мак вдруг встрепенулся и резко встряхнул нимбом рыжих волос, а Бардов с интересом взглянул на Кирилла.
— Мы ждали этого вопроса, — спокойно сказал Кирилл. — Мы с Маком… Поэтому я ничего не упомянул в докладе. Ответь лучше ты, Мак.
— Хорошо. — Мак поднялся. — Тем более что я собирался выступить и признаться… Уважаемые коллеги, в появлении фантома на космодроме виноваты мы с Азарием. До сих пор я молчал потому лишь, что сам узнал об этом лишь вчера вечером. Обвинение предъявил мне он, — Мак указал пальцем на Кирилла, — улики оказались настолько серьезными, что мне не осталось ничего иного, как признаться.
При повторном посещении пещеры мы с Азарием взяли оттуда образцы горных пород. Взяли их со стенок пещеры, в том месте, где Азарий видел фантом, и в других местах. Когда мы прилетели из ущелья Копрат на наш космодром, нам показалось, что образцов слишком много. Все они были примерно одинаковые, и мы уполовинили их количество, взяв с собой в вездеход лишь часть; остальное оставили на краю бетонной плиты космодрома. Так как в привезенных нами на Базу образцах ничего интересного не оказалось, я и думать перестал о второй половине, которую мы бросили на космодроме. Понимаете? А видимо, там и остался тот, может быть, единственный осколок, который… в котором была запись информации.
— Надо срочно разыскать все, что вы бросили! — воскликнул Геворг.
Мак развел руками:
— Где искать? С тех пор над районом космодрома пронеслось несколько ураганов. Место для космодрома выбиралось так, чтобы его не заносил песок. Первый же ураган унес то, что мы бросили, неведомо куда. Мы с Кириллом проверили вчера журнал метеонаблюдений. Фантом на космодроме перестал появляться после первого же урагана.
— М-да. Может, есть желающие выступить еще с каким-нибудь признанием? — поинтересовался Шефуня, покачивая головой.
— Я еще могу признаться, — сказал Кирилл. — Тогда, в последний вечер на американской базе, я видел фантомы прямо над столом кают-компании, когда вы трясли коробку.
— Как это “тряс”? — не понял Бардов.
— Встряхнули несколько раз, отвечая Джиксу, а потом опустили ее в карман комбинезона.
— А ну-ка расскажите, дорогуша.
Кирилл рассказал о полупрозрачных человекоподобных фигурах, которые привиделись ему на последней встрече с американцами.
— А почему тогда не сказал?
— О чем? Я и сейчас не знаю, что это было.
— А ты больше не тряс эту коробку? — нахмурился Бардов. — Последние дни она ведь у тебя была…
— Тряс… По-всякому.
— И что?
— Ничего.
— М-да… Ничего нет сильнее жажды познания и силы сомнения, — заметил со вздохом Шефуня. — Главная наша беда в том, что именно эти устремления — основа любой научной деятельности… Также и на чужой планете, где вокруг одни загадки… После перерыва обсудим, с чем будем выходить к американцам.
* * *
Прения по докладу затянулись до ужина… Особенно резко возражали Геворг и Сергей. Геворг утверждал, что проблемы вообще не существует, что ни о каких следах палеоцивилизации Марса не может быть и речи, что все дело в психических заболеваниях, подобных тем, которые случались и на Земле во время полярных зимовок. Здесь, в условиях иной планеты, все проявляется резче.
— И чем бы ни оказался этот белый минерал, — заключил Геворг, указывая на свинцовую коробочку, — как бы ни был сложен его состав, если он действительно так сложен, как утверждают американцы, он не более чем минерал — создание природы Марса, а все остальное — производные вот этого… ящика, — Геворг постучал себя пальцем по виску, — тут и проблемы и ключи к их решению. У нас свихнулись четверо, у американцев — настоящая эпидемия — им всем привиделся космический корабль. А у кого тут все в порядке — нет ни “проблем”, ни “фантомов”. Как у меня, например. И я готов держать любое пари, что до конца марсовки мне ничего не привидится. Ничего такого, что не было бы делом человеческих рук. Проект всех этих фантасмагорических исследований я предлагаю отклонить и заниматься делом, в соответствии с нашими реальными программами. Изучать атмосферу, строение и состав коры Марса, ну и его оледенение, конечно, поскольку и оно оказалось реальностью. А так называемый “Фантом Азария” оставим медикам.
Сергей, поддержав в целом точку зрения Геворга, обрушился на техническую часть проекта Кирилла. Оперируя цифрами, он утверждал, что проходка шахт сквозь льды Марса — задача невыполнимая при нынешнем оснащении советской и американской станций.
— Лет через двадцать — тридцать, сконструировав на Земле соответствующую технику, можно замахнуться на исследования подледных пространств Марса, — сказал Сергей, опускаясь в кресло, — но, разумеется, ради полезных ископаемых, а не для поиска фантастической палеоцивилизации… Пока и на поверхности планеты дел хватает.
Безоговорочно поддержал проект только Мак, но его выступление показалось Кириллу расплывчатым и бледным после резких возражений Геворга и Сергея. Остальные, оспаривая частности, требовали коренной перестройки проекта с перенесением центра тяжести исследований на поверхность Марса. Бардов внимательно слушал выступавших, по его кратким репликам трудно было догадаться, чью сторону он примет.
Кириллу, который несколько раз порывался выступить с разъяснениями, он говорить не позволил, заметив только:
— В заключительном слове, дорогуша, скажете… Если понадобится…
Заключительное слово не понадобилось.
Когда поток желающих выступить был исчерпан, Бардов сказал:
— Спасибо… Спасибо всем за искренность, заинтересованность, горячность. Все говорили очень справедливо, в меру своего понимания или непонимания важности проблемы. К сказанному добавить почти нечего. Научная истина скрывается подчас в самых неожиданных местах; к ней пробираешься запутанными и трудными путями. Но она всегда существует. Да… Если завоюешь ее, она тебе уже не изменит… Можно, конечно, отложить поиск, сославшись на обстоятельства, никто нас не осудит за это, кроме нас самих. Однако, думаю, откладывать не следует. Кто не согласен, в разработке проблемы принимать участия не будет. Предлагаю утвердить программу как исходную основу. Дорабатывать ее, конечно, придется, это уже детали. Несогласным могу еще раз предоставить слово. Есть желающие? Нет… Значит, приняли и пошли ужинать.
* * *
Сидя в своей кабине за столом, Кирилл не отрываясь глядел на загадочные белые осколки. По нескольку раз в день, выкроив свободные минуты, он открывал свинцовую коробку, которая теперь постоянно находилась в его распоряжении, и, склонившись над ее содержимым, пытался настроить себя на контакт с источником неведомой информации.
Кристаллы оставались немы. Спектральные и рентгеновские анализы, которые позволила осуществить аппаратура советской станции, подтвердили соображения Джерома Гиббсона о сложности кристаллической структуры и состава осколков. Однако до полной расшифровки их молекулярного строения было бесконечно далеко. В условиях Марса задача оставалась невыполнимой. Мак, занимавшийся рентгеновскими анализами, высказал предположение, что очень тонкая кристаллическая структура загадочной белой субстанции спиральная, что отнюдь не являлось характерным для минеральных образований.
— Что же вы такое? — прошептал Кирилл. — И почему молчите? Если, конечно, именно вы — возмутители здешнего спокойствия.
Кристаллы по-прежнему хранили свою тайну.
По договоренности с американцами уже можно было бы приступать к проходке первой шахты, но выбор места для нее продолжал вызывать ожесточенные споры.
Тщательные поисковые работы в ущелье Копрат тоже оказались безрезультатными. Не было обнаружено ничего даже отдаленно напоминающего находку американцев. И миражи больше не наблюдались.
“Словно захлопнули чуть приоткрывшуюся дверь, — подумал Кирилл, поднимаясь из-за стола. — Или просто ничего не было?.. Ничего, кроме психических нарушений у части марсовщиков”.
Через несколько дней “Ветер времени” достигнет Земли. Станет известно о судьбе пострадавших. Удалось ли довезти живым Энрике Кэнби? Что с Азарием?.. У американцев, если верить тому, что сказал при последней встрече Морстон, состояние наблюдавших фантомы улучшается.
“Я тоже видел их в кают-компании американской базы, — подумал Кирилл. — Со мной ничего пока не случилось. Остальные тогда их почему-то не видели… А если то была галлюцинация?”
Кирилл со вздохом закрыл свинцовую коробочку и убрал в стол. Загадочное здешнее поле, существование которого предположил Мак и которое Кирилл мысленно окрестил “палеоинформационным полем”, не реагировало на сигналы человеческого мозга. Белые осколки, если они имели отношение к этому “полю”, на роль усилителей или передатчиков мыслей, видимо, не годились. Может, требовался иной, более мощный раздражитель?
“Какой? Магнитный, электрический, рентгеновский? Еще раз испробовать солнце? Тут оно теперь не поднимается высоко над горизонтом. А если попробовать севернее, там, где сейчас марсианское лето?” — с этой мыслью Кирилл вышел из кабины и направился к Бардову.
* * *
Полет в северное полушарие Марса — в марсианское лето — и попытка активизировать белые кристаллы при свете высоко стоящего солнца ничего не дали. Фантомы не возникали. И последующие облучения ультрафиолетом не вызывали свечения кристаллов.
На север они полетели вчетвером. За три дня сменили несколько точек наблюдения с одинаково отрицательными результатами. При перелетах вели фотографирование, гравиметрическую и магнитные съемки.
На местах посадок Мак занимался исследованиями горных пород, Геворг — состоянием атмосферы. Кирилл все внимание посвящал кристаллам.
Ночевали в тесноте герметизированной кабины реактивного самолета, кресла которой на ночь превращались в кровати. Перед тем как заснуть, Кирилл и Мак подолгу спорили о “памяти минувшего”, запечатленной в руинах старых цивилизаций, о возможном источнике загадочных белых кристаллов, их былом предназначении и роли в передаче информации. Геворг время от времени вставлял ядовито-иронические реплики. Бардов почти не участвовал в этих вечерних дискуссиях. Он без всякого энтузиазма принял предложение Кирилла организовать экспедицию на север, объявив только, что вынужден лететь и сам, дабы притормаживать “нездоровый ажиотаж”. Оставив за собой роль главного пилота, он занимался самолетом и связью с Базой. Он регулярно по нескольку раз в день вызывал “Марс-1”, подробно допрашивал дежурного о текущих делах и каждый раз интересовался, не поступало ли известий с Земли. В последний вечер перед возвращением на Базу дискуссия особенно затянулась.
— Я не знаю, долго ли живет в умершем, разрушенном городе его былая “душа” — “информационное поле”, заключающее память об исчезнувших разумных обитателях, — говорил Кирилл. — Но я убежден, такое поле реально существует. Иное дело, что воспринимает его не каждый. Тут мы попадаем в область еще не раскрытых до конца возможностей человеческого мозга. Большинство психиатров нашей эпохи уже не сомневаются, что человеческий мозг с его исполинской информативной емкостью хранит огромную “информацию”, связанную с опытом и памятью многих поколений предков. Случаи извлечения подобной информации известны. С другой стороны, некоторые “экстрасенсы” способны “заглядывать в будущее”, предсказывать события еще до того, как они свершились…
— Ну в этом случае “информационное поле” ни при чем, — перебил Мак.
— Именно оно, будучи возбуждено суммарной энергией миллиардов нервных клеток, миллиардов разумных существ, миллионы лет обитающих на планете, представляется единственно возможным “механизмом”, своего рода гигантским счетно-решающим “устройством” с неограниченным количеством связей и вариантов решений — я использую примитивную физическую аналогию специально для Геворга, — “устройством”, позволяющим понять и объяснить случаи предсказания будущего. Когда соответствующий сигнал этого поля принимает мозг экстрасенса…
— Все становится ясным на тысячу лет вперед, — пробормотал, не раскрывая глаз, Геворг.
— Бывало и такое, — согласился Кирилл, — например, известно предсказание Мерлина…
— Вот-вот, — продолжал Геворг, по-прежнему не раскрывая глаз, — наши неудачи объясняются именно отсутствием среди нас Мерлина или хотя бы захудалого среднестатистического экстрасенса, который объяснил бы нам, что искать, где искать и зачем искать. Дорогие коллеги, не свернули ли мы на скользкую тропу схоластики? Не помню кто, в общем, один из наших далеких предков в свое время бросил крылатые слова “Ex nihilo nihil”6… Не разумнее ли было бы сначала найти хоть какие-нибудь захудалые следы здешней гипотетической “працивилизации”…
— А это что, по-твоему? — спросил Кирилл, указывая на свинцовую коробку, лежащую на столике у окна кабины.
Геворг раскрыл глаза:
— Это… Некое вещество, состав которого мы еще не определили. Скорее всего неизвестный науке местный минерал. Я, впрочем, по-прежнему не исключаю и веселой шутки наших американских друзей-конкурентов. Знаете, какой был день на Земле, когда Джикс рассказал нам об этих кристаллах и впервые их показал?
Геворг сделал многозначительную паузу.
— Ну какой? — подозрительно прогудел Шефуня.
— Первое апреля.
— Ничего себе! — воскликнул Мак.
— Все равно чепуха! — убежденно объявил Бардов.
— Что ж, будущее покажет, — миролюбиво заметил Геворг, закрывая голову пледом.
“Он ерничает; всерьез он так, конечно, не думает”, — подумал Кирилл. Мак неспокойно шевельнулся в своем кресле:
— Возвращаясь, однако, к природе “информационного поля”, Кир: какова она по-твоему? В свете всего, что нам уже известно.
— А мы и сейчас знаем не больше, чем тогда, когда ты впервые упомянул о нем… Возникновение “Фантома Азария”, по-видимому, связано с этим полем. Твое предположение продолжает оставаться гениальным… Почему фантомы перестали появляться? Либо поле вдруг ослабело, либо… его “выключили”. Ослабеть вдруг оно едва ли могло, если допускаем, что оно существует десятки миллионов лет. Следовательно, оно отключается… Если так, наша первая задача — искать “выключатель”. Что касается возможной природы самого поля, думаю, оно подобно одному из полей, создаваемых мозгом. Полей этих несколько, но в случае человеческого мозга — они чрезвычайно слабы и очень плохо изучены даже в условиях Земли.
— Значит, все-таки биополе?
— Биополе — понятие обобщенное. Им пользовались в прошлом веке, тогда эта часть биологии только начинала развиваться. Поля, которые я имел в виду, — элементы биополя, подобно тому, как в полях микромира, они, — Кирилл указал на Геворга, — выделяют разные типы взаимодействий — сильные, слабые и иные…
— Взаимодействия в микромире подтверждаются экспериментами и расчетами, дорогой, — послышалось из-за пледа.
— Для биополей тоже, — кивнул Кирилл, — хотя тут математическое моделирование и эксперименты пока менее надежны, чем у физиков. Впрочем, в сложной структуре биополей ныне никто не сомневается.
Борода Геворга высунулась из-под пледа:
— Все это похоже на трудно пробиваемый мыльный пузырь, коллеги… Сама идея “информационного поля”, порождаемого биотоками мозга, может быть, и заманчива, но ведь это голая идея без какого-либо подтверждения. Мог бы экспромтом предложить вам не менее десятка красивых, но тем не менее совершенно фантастических идей… Поля, вызываемые биотоками мозга, не могут существовать после того, как мозг умирает…
— А ведь это, пожалуй, тоже требует доказательств, — заметил Мак.
— Безусловно, — согласился Кирилл, — хотя бы потому, что никто не утверждает, будто природа “информационного поля” — электромагнитная. Мы не знаем, какова его природа. Но мы не знаем и природы гравитационного поля; тем не менее ты, Геворг, его не отвергаешь.
— Совершенно другое дело!
— Послушай, Геворг, тебе приходилось бывать в старых соборах, очень старых, — Кирилл вдруг перешел на шепот, — которым восемьсот, даже тысяча и более лет.
— Ну, приходилось…
— Скажи, ты ничего не чувствовал, если оставался там некоторое время один? Ничего необычного?
— Нет., А что я должен был чувствовать? Музей, как любой другой… Интересно, конечно…
— Я не о том. Музей теперь… Раньше, даже в прошлом веке, туда приходили молиться… Сотни лет люди приходили со своими неисполненными желаниями, мечтами, мольбами, тоской, страстями, скорбью. Представляешь, какой накал эмоций? Какое там должно было возникать биополе! Я, например, иногда ощущал его физически; волны информации шли от камня стен, мрамора статуй, гранита саркофагов, от бронзы старинных светильников и паникадил, от картин-икон… Временами мне даже начинало казаться, что вижу этих людей, слышу их… Это трудно пересказывать словами; я воспринимал это не слухом и не зрением, а как-то иначе… Может быть, здесь на Марсе мы столкнулись с чем-то подобным, только выражено все гораздо мощнее, резче, ощутимее?
Плотно сжав губы, Геворг скептически слушал Кирилла. Помолчав немного, сказал:
— Вот так… Теперь понятно, откуда взялись полупрозрачные фигуры, плавающие по кают-компании американской базы. Нет, друзья мои, мы реальны только биологически, психологически мы совершенно фантастичны, а некоторые из нас фантастичны в степени эн, стремящейся к бесконечности. Уповать остается лишь на содержимое собственного черепа. Уважаемые коллеги, клянусь сбрить и проглотить собственную бороду, если мне привидится или услышится на этой малоуютной планете что-нибудь, что не будет производным здешней природы или человеческих рук…
— Ты сможешь это сделать завтра, Геворг, — быстро сказал Мак, — а сейчас, все смотрите.
Резкий ало-фиолетовый свет проникал снаружи через иллюминаторы. Бардов выключил освещение кабины. Небо на востоке было озарено яркой вспышкой. Черные ступени края плато четко рисовались на фоне неба, цвет которого быстро менялся от красного через оранжевый и желтый к голубовато-зеленому. Потом из-за горизонта возник и устремился к зениту острый белый луч. Он прорезал черноту неба и, постепенно бледнея, погас где-то в вышине над самолетом. Погасло и зарево у горизонта.
Некоторое время все четверо всматривались во мрак и прислушивались.
— Конец, — сказал Бардов, включая освещение, — ни звука, ни сотрясения. Только свет. Все хорошо видели? Ну, что это было по-вашему?
— Что-то очень странное…
— Ночной фантом?
— Ионосферная вспышка…
Шефуня негромко рассмеялся:
— Смелее, ребята. Почему никто не хочет сказать, что мы видели старт космолета-призрака?
* * *
Утром перед возвращением на Базу решили еще раз облететь район восточнее места ночлега.
— Если условно допустить, что мы наблюдали старт реального космического корабля, — сказал Бардов, — на каком расстоянии отсюда должен был бы находиться космодром?
— Километров тридцать — сорок, — предположил Кирилл.
Мак с сомнением покачал головой.
— Могло быть и гораздо больше. Это ведь Марс… Километров сто — сто пятьдесят?
— Гадание на кофейной гуще, — скривился Геворг. — Ничего точно сказать нельзя.
— А как твоя борода? — поинтересовался Мак.
— Моя борода останется при мне. Наблюдалась необычная ионосферная вспышка. Нечто подобное уже описано в отчете третьей марсовки.
— Описано, точно, — пробасил Шефуня. — А вот что, другой вопрос… Предлагаю осмотреть район километров на триста к востоку. Полетим не очень высоко, программа обычная.
— Зачем так далеко? — недовольно спросил Геворг. — Там все давно осмотрено и сфотографировано.
— Посмотрим еще разок, дорогуша. Вдруг объявится что-нибудь.
— Космодром?
— Когда ларчик открывается просто, скорее всего в ларчике ничего нет, — загадочно пояснил Бардов. — Прошу по местам. Поехали.
Они несколько часов летали над красноватыми плато и равнинами, испещренными оспинами небольших кратеров. Бардов менял высоту — то поднимал самолет на шесть — семь километров, то спускался на полтора — два. В иллюминаторах проплывали пустынные ландшафты Красной планеты, уже ставшие привычными для Кирилла за месяцы, проведенные на Марсе. Плоские красноватые котловины в ряби песчаных барханов, сухие русла исчезнувших потоков, бурые уступы плато со шлейфами кирпично-красных осыпей вдоль подножия. Местами красноватая поверхность была рассечена трещинами. На глубине в них голубел лед.
“Мак, конечно, прав, — думал Кирилл, — все эти равнины — замерзший океан, промороженный до самого дна и засыпанный сверху песком и щебенкой. Бурые плато — остатки островов, разрушаемых морозным выветриванием и ураганами. Сейчас они торчат сквозь лед, как нунатаки7 Антарктиды и Гренландии. То, что горы и скалистые плато еще существуют, свидетельство тектонической активности в недрах планеты. Рост гор продолжается, иначе вся поверхность планеты давно была бы выровнена; всюду был бы лишь лед да песок и щебень, оставшиеся от разрушенных гор. Марс старше Земли. Эти красноватые пустыни на ледяном основании — будущее и нашей планеты, если, конечно, сама наша цивилизация не уничтожит Землю раньше… — Кирилл тяжело вздохнул, не отрывая взгляда от пустынного ландшафта за иллюминатором. — Уровень океанов Земли медленно, но неуклонно повышается. Главная причина — приток на поверхность глубинных вод из мантии. Это установлено еще в прошлом веке, и уже в прошлом веке кое-кто из геологов предсказывал, что рано или поздно земные континенты исчезнут в водах Мирового океана. В нынешнем столетии повышение уровня океана ускорилось. К внутренним планетарным причинам добавилась внешняя — климатические изменения, вызванные технологическим перегревом атмосферы. Льды полярных областей начали таять… Мы замахнулись на исследования соседних планет, а не можем справиться на своей собственной… Если нечто подобное происходило и здесь на Марсе, их цивилизация, прежде чем попасть в оковы оледенения, должна была сначала утонуть… Вполне вероятно, если они перегрели атмосферу и растопили полярные льды! Значит, еще до того, как часть их решилась покинуть планету, — например, чтобы переселиться на Землю, — они вынуждены были создавать подводные города в прибрежных зонах океана, уровень которого неуклонно повышался… Значит, искать следы их цивилизации надо в зонах былых мелководий — марсианских шельфов минувших эпох. В этом случае шахты не должны быть глубокими. Только бы не ошибиться в выборе места. Мак мог бы помочь…”
Кирилл вдруг почувствовал: плавное течение мысли прерывается. Что-то мешало, путало… Зарябило в глазах… И вот уже на месте красноватой равнины под крылом самолета поплыли кварталы удивительного города — вереницы стройных сооружений цилиндрической и куполообразной формы, напоминающих соты, отсвечивающих бесчисленными полупрозрачными гранями, похожими на окна. В промежутках что-то двигалось внизу встречными потоками, искрилось и блестело в солнечных лучах…
Мелькнула мысль: “Видят ли остальные?” Кирилл заставил себя на мгновение отвести взгляд от призрачного города, быстро взглянул на соседей. Мак равнодушно смотрел в иллюминатор. Рассеянный взгляд Геворга блуждал где-то у далекого северного горизонта. Бардов уверенно вел самолет на восток. Машина казалась неподвижно висящей в пространстве. Кирилл торопливо перевел взгляд в иллюминатор — фантом исчез.
* * *
— Это было именно здесь, — твердил Кирилл. — Километров двадцать к югу от того полосного обрыва.
— Надо было сразу говорить, — возмущенно повторял Мак.
— Что изменилось бы? Это продолжалось всего несколько секунд..
— Ночью тоже продолжалось несколько секунд.
— Но тогда сразу увидели все.
— Потому что я успел привлечь ваше внимание.
— Заметили бы и без этого. Свет ударил в иллюминаторы. Нет, сегодня совсем иное. Вы просто ничего не увидели бы. Только я…
Самолет продолжал описывать круги над районом, в котором Кириллу открылся призрачный город.
“Ну как, хватит? — послышался в динамике голос Бардова. — Не вижу ничего, кроме пустыни”.
— Хватит, — отозвался за всех Геворг. — Надо возвращаться. Солнце уже низко. Можем не успеть до темноты.
— Еще хотя бы круг, — попросил Кирилл.
Бардов сделал два круга на разной высоте и повернул в сторону Базы.
Небольшое красноватое солнце светило теперь прямо в иллюминаторы правого борта. Кирилл пересел к одному из правых иллюминаторов, открыл свинцовую коробку, повернул ее, чтобы прямой солнечный свет коснулся белых осколков, и стал смотреть в иллюминатор. Солнце опускалось все ниже; на пустой красноватой равнине удлинялись лилово-черные тени.
С последними лучами солнца они сели на Базе. Закрывая свинцовую коробку, Кирилл услышал за спиной иронический смех Геворга.
* * *
— Известия с Земли, — объявил на следующее утро Бардов. — “Ветер времени” долетел благополучно. Энрике Кэнби, к сожалению, в пути скончался. Азария довезли живым, но его состояние по-прежнему тяжелое. Все участники перелета помещены в карантин. Нам предложено соблюдать предельную осторожность и впредь, до получения результатов исследований, запрещено вести работы в каньоне Копрат, в районе нашего космодрома и повсюду, где возникают или могут возникнуть фантомы.
— Не проще ли вообще запретить нам работать где-либо? — не выдержал Мак. — Сидите на Базе и конец. Совсем просто!
— С земной точки зрения и с учетом всего, что мы им сообщили, они поступают правильно, — спокойно возразил Бардов. — Отсюда дело выглядит несколько иначе… Я переговорю сегодня с Джиксом, попрошу его сообщить на Землю все их данные, а завтра попробую связаться с президентом академии. Однако приказ есть приказ. Поэтому, коллега Кир, прошу вас возвратить мне коробку с американским подарком. Думаю, не надо пояснять, что вы возвращаете все. Впредь до новых указаний с Земли коробка будет храниться в моем сейфе.
— Но об этом веществе на Земле еще ничего не известно, — нерешительно возразил Кирилл, — может быть…
— Ничего другого не может быть, дорогуша, — холодно прервал Бардов. — Пожалуйста, принесите коробку немедленно.
— Вопрос с шахтами тоже замораживается? — спросил Сергей.
— Почему? — удивился Бардов. — Разве шахты имеют отношение к фантомам? Мы будем их проходить совершенно в иных местах. Об этом сегодня тоже договорюсь с Джиксом. Первую шахту заложим в ближайшее время. Так что заканчивайте подготовку аппаратуры.
* * *
Первую шахту заложили на примерно равных расстояниях от советской и американской станций. Решено было вести проходку вахтовым способом, устроив для этого временный лагерь. Вахты сменялись каждые трое суток. Вахта — четверо: двое русских, двое американцев. Шахту задали наклонной под углом около тридцати градусов к горизонту для удобства подъема и спуска энергетических агрегатов, которыми осуществлялась проходка.
Агрегатов было два, оба термоядерные. Американцы использовали стандартный блок своей термоядерной электростанции, которая снабжала теплом и энергией их базу. При включении американский агрегат давал мощную струю перегретого пара. Лед, сквозь который велась проходка, испарялся, а избыточное давление, возникавшее у забоя, выносило весь пар вместе с минеральными частицами, освобождавшимися при испарении льда, наружу — в разреженную атмосферу планеты.
Сердцем советского агрегата тоже был стандартный термоядерный блок энергетической установки. Однако Сергей перемонтировал его, использовав для проходки сам плазменный луч. Лед и заключенные в нем минеральные обломки не просто испарялись, а распадались на составляющие элементы, которые в виде плазменной струи выносились наружу.
При работе американского агрегата устье шахты напоминало гейзер в момент извержения, а когда на смену американской Сергей включал свою установку, оно превращалось в небольшой вулкан. Естественно, что обе установки управлялись дистанционно. Они обеспечивали проходку со скоростью до десятка метров в сутки и обладали каждая своими достоинствами и недостатками. Скорость проходки у американской установки была немного меньше, но во время ее работы можно было следить за составом минеральных обломков, включенных в лед. Они выносились на поверхность в струе пара почти неизмененными. При работе советской установки скорость проходки возрастала, но минеральные частицы, заключенные во льду, полностью уничтожались.
Несмотря на то что при включении обе установки работали прерывисто, краткие энергетические импульсы чередовались с охлаждающими продувами ствола — тепловое воздействие на ледяные стены шахты было значительным. Ствол постепенно расширялся, а в устьевой части вскоре превратился в воронку, обращенную раструбом к поверхности. Это обстоятельство затрудняло подъемы и спуски оборудования и людей. А людям приходилось спускаться в шахту ежедневно для документации пройденных отрезков ствола, взятия проб льда, профилактического осмотра энергетических установок, кабелей, канатов. Вахты обычно работали в две смены: одна осуществляла проходку, другая, после четырехчасового перерыва, спускалась вниз для документации и осмотра оборудования.
Очередь Кирилла подошла первый раз, когда забой шахты находился на глубине восьмидесяти метров. Вахту вместе с Кириллом должен был нести Сергей, подменявший одного из марсовщиков. С американской стороны участниками этой вахты оказались доктор Фред Лесли и темнокожий Гибби. Они встретились возле устья шахты, где американцы, прилетевшие часом раньше, ждали своих соотечественников.
— Мы уже приняли вахту, — объявил Кирилл, поздоровавшись с американцами, — наши сейчас улетают.
— Мы еще нет, — тряхнул головой Лесли, — наши там, внизу.
Он указал на отверстие шахты. Его дымчатые очки зеркально блестели под прозрачным яйцевидным шлемом.
— Спустились снова? — удивленно спросил Кирилл.
— Понятия не имею. Мы их еще не видели.
Небольшой самолет с красными звездами на голубом корпусе взлетел из-за расположенных невдалеке полусферических построек лагеря. Сделав круг над шахтой, он прощально качнул крыльями и взял курс на восток.
Кирилл помахал рукой ему вслед.
— Нашим тоже следует поторопиться, — заметил Фред, — на пути сюда мы пересекли зону урагана. Она явно расширялась.
— Думаете, дойдет и к нам? — встревоженно спросил Сергей.
— Нет, но может накрыть нашу станцию. Ветер дул к юго-западу.
— Мы здесь под защитой плато, — Кирилл указал на север. — Сильные ураганы, вероятно, обходят стороной это место. Не случайно тут совсем немного песка и щебня. Лед залегает близко от поверхности.
Все взглянули на противоположный край воронкообразного устья шахты, где под трехметровым слоем кирпично-красного щебня лед голубел И искрился в неярких лучах утреннего солнца.
— Наш геофизический прогноз оказался точным, — усмехнулся Фред Лесли. — Три метра наносов, затем лед… Пока все о’кэй!
— Надо было все-таки пробурить контрольную скважину, — пробормотал Сергей, — потом начинать шахту.
— Все будет о’кэй, коллега, — снова усмехнулся Лесли, похлопав Сергея по голубому наплечнику скафандра. — Вот увидите — двести двадцать — двести тридцать метров льда, под ним скальное основание — древний рельеф Марса. Шахта — это сразу масса информации. По древнему рельефу от нее можно повести боковые рассечки. Можем встретить малоизмененные породы.
— Ему нужно не просто скальное основание, — Сергей повернул голову в прозрачном шлеме и взглянул на Кирилла.
— Я знаю, да, я знаю, — сказал Лесли, — коллега Кирилл хотел бы сразу найти свою працивилизацию. Этого не могу обещать, — он рассмеялся. — Боюсь, одной шахты окажется мало.
— Безусловно, мало, — согласился Кирилл, — но одной мы не ограничимся. Кроме того, здесь мы можем встретить дно моря — древний марсианский шельф.
— Тоже весьма интересно, — кивнул Лесли, — значит, прибрежные морские россыпи — золото, алмазы, платина, что-нибудь еще… Древний берег был недалеко, если судить по тому уступу на севере.
— Уступ — рельеф молодой. Недавнее поднятие. Тут подо льдом могут оказаться такие же породы, как в обрыве уступа. Наш геолог проверял — в слоях уступа нет ни алмазов, ни золота. Только кремнезем, окислы железа, глины.
— А следы працивилизации, коллега Кирилл? — прищурился Лесли.
— Но ведь то — молодой рельеф.
— Ах да, простите, запамятовал. Вам требуется рельеф в возрасте восьмидесяти миллионов лет и старше. Не так ли?
— Во всяком случае не моложе… нескольких миллионов. Доледниковый…
— Ну разумеется. С инопланетянами было бы проще. Они могли прилететь когда угодно — и восемьдесят миллионов лет назад и в прошлом году. Искать следы их прилета можно повсюду: и на поверхности, и в ледяных шахтах. А-а, вот уже вылезают наши.
Придерживаясь за один из канатов, уходящих на глубину, снизу медленно поднимались две фигуры в звездно-полосатых скафандрах.
— Эти пешие прогулки — сомнительное удовольствие, — заявил Мор-стон, выбираясь на поверхность, — даже при здешней силе тяжести. То ли будет, когда шахта углубится. Надо что-то придумать, Фред! Займитесь-ка в свободное от вахты время. Я рад, что на этот раз все кончилось. — Он обернулся к своему напарнику, шлем которого вынырнул из шахты.
Кирилл протянул руку, чтобы помочь американцу выйти на поверхность, и узнал Джерри Гиббсона.
— Вы? — воскликнул Кирилл. — Здесь? Поправились?
— Почти, — вымученно усмехнулся Джерри, — во всяком случае мне много лучше. Благодарю вас.
— Рад за вас, — Кирилл перевел недоумевающий взгляд с бледного лица Гиббсона на Морстона и Фреда Лесли.
Лесли потупился, а Морстон процедил сквозь зубы:
— Да, у нас уже нет больных. С фантомной лихорадкой покончено.
— А что там внизу? — спросил Сергей. — Есть что-нибудь новое?
Морстон раздраженно дернул головой:
— Нет… Лед, как и вчера, и неделю назад. Такой же, как тут наверху.
— Почти без минеральных включений, — добавил Джерри Гиббсон. — Я сейчас взял пробы в забое. Они тут, — он похлопал по наружному футляру на своем скафандре. — Мы захватим с собой все пробы нашей вахты, — он прикрыл глаза и с трудом перевел дыхание, — послезавтра сообщу по радио результаты анализов. В вахтенном журнале все записано…
— Агрегаты в рабочем состоянии? — поинтересовался Сергей.
— Вчера вечером на них работали ваши, — Морстон сделал ударение на последнем слове. — Мы спускались за пробами.
— Вы только что снизу, поэтому спрашиваю, — бросил Сергей, с трудом сдерживая нарастающее раздражение.
— Оба агрегата в полной готовности, коллега, — тихо сказал Джерри Гиббсон. — Можно начинать любым. Однако взял бы на себя смелость посоветовать работать вашим. На достигнутой глубине наш уже не создает нужного давления. Шахта не успевает проветриваться от перегретого пара. Ледяные стены кое-где начали плавиться, образуются большие каверны, ледяные сталактиты. Все это осложнило подъемы и спуски…
— Нам надо торопиться, Джером, — резко прервал Морстон. — Фред видел зону урагана. Мы можем не успеть…
— Конечно отправляйтесь, — махнул рукой Лесли. — Сами разберемся. Мы все тут не первый раз.
“Кроме меня”, — подумал Кирилл.
* * *
Перед пуском агрегатов Кирилл и Фред Лесли спустились в забой шахты. Пока Лесли проверял аппаратуру, Кирилл внимательно осмотрел нижний участок ствола, пройденный за последнюю смену. Зеркально блестели ледяные стены, отражая свет фонарей, укрепленных на шлемах скафандров.
Внизу у забоя ствол был идеальным, словно его прорезал острый нож в мягком податливом материале. Выше в ледяных стенах темнели каверны и углубления. Больше их было в кровле над головой, но и поверхность, по которой пришлось спускаться к забою, изобиловала неровностями и впадинами. Лесли, закончив проверку, подошел к Кириллу.
— Джером, конечно, прав, — сказал он, — проходку придется вести вашим агрегатом. А этот, — он толкнул ногой второй аппарат, — поднимем наверх и будем думать, что с ним сделать.
— Перемонтировать на плазменный режим, как у нашего? — Кирилл вопросительно взглянул на Лесли.
— Едва ли получится. Во всяком случае, тут, в вахтовом лагере, это исключено.
— Надо посоветоваться с Сергеем. Он у нас главный энергетик.
— Однако не волшебник, — усмехнулся Лесли. — Поехали наверх?
— Подождите, Фред… Я хотел спросить… Фантомы в ваших краях… больше не появлялись?
— Нет… А у вас?
— В окрестностях главной Базы тоже нет.
— Ну, а подальше?
— Не знаю… Однажды наблюдали странные ночные вспышки, — Кирилл кратко рассказал о событиях последней ночи во время экспедиции на север.
— Я слышал о подобных явлениях на Марсе, — задумчиво сказал Лесли, — да, они отмечались предыдущими сменами. Кажется, в нашу никто ничего такого не видел. Профессор Джикс считает их разновидностью полярных сияний. Правда, наблюдались они в средних широтах…
— Может быть, мы говорим о разных вещах, Фред?
— Ну, не думаю. Речь шла о фиолетовом сиянии и ярких лучах к зениту. Иногда лучей было несколько.
— Ваши их не фотографировали?
— Не слышал о таких фотографиях. Вернусь, спрошу у Джикса и, если хотите, сообщу.
— Благодарю. Меня это интересует… По-моему, то, что мы видели, не похоже на полярное сияние.
— Здесь они очень разнообразны. Полгода назад — полмарсианского года, конечно, — мне довелось быть в районе южного полюса. Я видел там поразительные сияния. На Земле таких не бывает. Но то были именно полярные сияния; ни у кого не возникало сомнений. А что, по-вашему, наблюдали вы?
— Не знаю… Я ведь еще не видел здешних полярных сияний…
Фред Лесли решил сменить тему.
— Проблема подъема отсюда — пустяк. Я уже придумал. Подвижный канат от барабана наверху. Мы к нему подцепляемся специальными карабинами. Подцепились — едем. Отцепились — стоим на месте. Я родился в Сан-Франциско. У нас до сих пор существуют “канатные трамваи” для туристов. Остались от начала прошлого века. Только там канат под рельсами, а тут мы его протянем вдоль стены шахты.
— Он сгорит при работе агрегатов.
— Почему? Энергетические разряды очень кратковременны, нацелены только на забой. Тотчас охлаждение и продувка. В шахте ничего не горит, хотя при работе вашего агрегата она извергает пламя. Все дело в продолжительности рабочего цикла, коллега. Это тысячные доли секунды. Даже ледяные стены не тают. Если бы не динамика плазменной струи, в шахте можно было бы находиться людям, в специальных скафандрах, конечно.
— Я еще не видел их в работе, — Кирилл указал на агрегаты.
— Сегодня увидите, — Лесли усмехнулся. — Красиво, если смотреть издали. Кстати, канаты и кабели, ведущие к этим агрегатам, тоже не горят.
— Хотел вас еще спросить, — Кирилл сделал долгую паузу, — Джером Гиббсон — он действительно совсем поправился?
— Ну, не знаю… Вероятно… — Лесли нахмурился. — Видите ли, коллега, у нас, насколько понимаю, все это иначе, чем у вас… Да… У нас здешние вахты несут добровольцы. Но… оплата десятикратная, по сравнению с тем, что каждый имеет на базе. Такая вахта — кругленькая сумма. Морстон, например, тут четвертый раз. Я — третий. А Джером — впервые. Вас это удивляет, коллега? Мы везде остаемся людьми бизнеса.
— Вероятно, Джерому не следовало рисковать. Едва ли он полностью оправился после болезни. Выглядит он плохо.
— Устал… Здесь не легко. Вы убедитесь сами. Эти три дня… — Лесли не кончил и отвернулся.
— Рискуешь тут везде, — продолжал Лесли после короткого молчания, — но в таких местах, как это, особенно… Вот вы спросили о фантомах. Да разве в них дело! Разве в них главная опасность? Даже если они действительно возникают, а не придуманы нами же… На этой планете печать проклятия… Почему тут не возникла жизнь? А если возникла, почему погибла? Тут был кислород, была вода, масса воды… Побольше, чем на Земле. Днем в экваториальной зоне температуры и сейчас плюсовые. Здесь и на Земле светит одно солнце. Так в чем дело, я вас спрашиваю? В чем?..
Лесли говорил все громче, в конце перешел на крик.
— Жизнь на планете — явление временное, — медленно начал Кирилл, недоумевая, что могло спровоцировать этот эмоциональный взрыв. — Временное, как сами планеты. Марс старше Земли. Следовательно…
— Следовательно, мы тут получаем возможность заглянуть в наше будущее, — резко прервал Лесли.
— Может быть… Хотя и не обязательно так. Возможны отличия. Но конец рано или поздно неизбежен.
— Такой, как здесь?
— Конец, Фред! Тут мы видим старость. Конец — уничтожение планеты.
— Взрыв?
— Или падение обратно на Солнце.
— Вы считаете, что планеты извергнуты Солнцем?
— Да… Хотя вокруг этого еще ведутся споры. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что планеты рождены звездами, подобно тому, как звезды — ядрами галактик.
— Довольно далеко от моих интересов, — скривился Лесли. — Я технарь. Мои специальности — кибернетика, электроника, роботы. Это, — он указал на энергетические агрегаты, — мне ближе, чем история планет. Но… как подумаешь, что и на Земле когда-нибудь будет такое, тут, — он ударил себя в грудь, — все леденеет. Возникают проклятые вопросы: зачем? К чему все это?.. К чему? Он опять переходил на крик.
— Успокойтесь, Фред. Мы коснулись событий очень отдаленных во времени. И в прошлом и в будущем… Земле сейчас никто не угрожает, кроме нас самих…
— Да-да, — судорога снова искривила его лицо, — простите. Я, кажется, слишком завелся… Вы правы. Не стоит об этом думать… И однако…
— Пора подниматься наверх, — напомнил Кирилл.
— Сейчас… Я вам хочу сказать, вы не удивляйтесь. На Земле я никогда не думал об этом. Только тут и особенно в этой проклятой шахте… Человеку здесь приходят в голову странные вещи… Это не от избытка свободного времени. Словно нашептывает кто-то… Кто-то, к кому приближаешься, спускаясь сюда. Печать проклятия источают эти пустыни, этот лед… А вы, вы тут ничего не чувствуете?
— Нет, — Кирилл отрицательно тряхнул головой, испытующе вглядываясь в лицо Лесли. Глаз его за дымчатыми стеклами очков он разглядеть не мог, но судорожные подергивания углов рта свидетельствовали, что американец на пределе нервного напряжения.
— То, что вы говорите, Фред, очень интересно, — возможно спокойнее и мягче сказал Кирилл, — мы обязательно вернемся к этой теме. Но пора подниматься и приступать к работе. — Он указал наверх, где пятно красноватого неба в устье шахты светило единственным выходом из наклонного темного коридора.
— Да-да, конечно, — кивнул Лесли. — Идите вперед. Я за вами. Поднимаясь, Кирилл слышал в наушниках шлема прерывистое дыхание Лесли. Иногда доносилось бормотание. Похоже было, что американец разговаривает сам с собой. Кирилл различал обрывки некоторых фраз: “Энрике понял первый”… “Машина могла ошибиться”… “Больше не хочу”…
В десятке метров от устья Кирилл вдруг услышал голос Сергея: “Ну где вы там, почему молчите?”
Он приготовился ответить, но его опередил Лесли: “Поднимаемся, уже у выхода”.
Тон его голоса показался Кириллу ненатурально бодрым.
“Почему не отвечали?” — “Не слышали, — сказал Кирилл. — Давно вызываешь?” — “Давно. И не видел света ваших фонарей”. — “У этой шахты свои особенности, — снова включился Лесли, — поглощает и свет и радиоволны и действует людям на нервы. Правда, не всем, — и он добавил тихо, вероятно, чтобы не расслышали на поверхности: — Вы забудьте, Кирилл, что я болтал там внизу. Все сущий вздор… Хотелось посмотреть, как будете реагировать”.
— Ну и как по-вашему, сдал я экзамен? — спокойно спросил Кирилл.
— Экзамен?.. О, конечно… Но скажу по секрету: не хотел бы я там оказаться один…
Он остановился и оглянулся. Кирилл тоже оглянулся. Позади был густой, казалось осязаемо плотный мрак. Свет фонарей не проникал в него.
— Когда мы спускались, было иначе, — неуверенно заметил Кирилл.
Лесли усмехнулся:
— Так же, коллега. Мы светили себе под ноги… Странное место, правда?
* * *
Первые два дня вахты прошли без происшествий. Ствол удалось углубить еще на двадцать метров. Работали только одним агрегатом. Второй — американский — еще до первой проходки вытянули наверх с помощью электрической лебедки.
На рассвете третьего дня вниз спустились Сергей и Гибби. Они должны были взять пробы льда из забоя и закрепить внизу блок подвижного каната, с помощью которого Фред собирался осуществлять спуск и подъем людей.
Маленькое красноватое солнце только чуть прорезалось в багровой мгле над восточным горизонтом, когда Кирилл подходил к устью скважины. Фред возился у подъемного механизма, к которому уже был подсоединен барабан подвижного каната.
Заметив Кирилла, Лесли помахал рукавицей.
— Сейчас они там отрегулируют нижний блок, и можно кататься, — сказал Фред. — Вот карабины для сцепления с канатом. Браслет карабина крепится на рукавице скафандра. Хотите попробовать?
— Могу. — Кирилл взял один из карабинов, защелкнул браслет. — Но… как действовать ногами?
— Ноги должны скользить по льду. Положение ступней, как на лыжах. Можно даже приспособить что-нибудь вроде коротких лыж или саней. Ну, а вообще, эта штука главным образом для подъема. Спускаться можно по-старому — пешком. Не следует ускорять спуск…
— Почему?
— Ну, например, чтобы вовремя остановиться и успеть вернуться.
— Снова проверяете, как буду реагировать.
— Не сердитесь!
— И не думаю, Фред.
Кирилл подошел к самому устью шахты. Мрак начинался в нескольких метрах от поверхности.
— Почему все-таки не видно света фонарей внизу? — размышлял вслух Кирилл. — Видно же от забоя небо…
— Ну, это совсем просто, — отозвался Фред, — шахта искривлена в средней части. Небо видно снизу только от северного края забоя.
— Не подумал! — воскликнул Кирилл. — Вы, конечно, правы.
— Еще бы… Но я прав и в другом. Лед в шахте действительно поглощает свет. А вот почему — никто не знает…
Резко дрогнули обе ветви каната, уходящие во мрак шахты.
— Укрепили нижний блок, — заметил Фред, — минут через пять включу двигатель.
Рывок повторился, еще более сильный.
— Это, конечно, Гибби; не может не показать силу, медве…
Лесли прервал на полуслове, потому что по ветвям каната побежали волны все усиливающихся сотрясений.
— Что они там, спятили, — закричал Лесли, — сорвут канат с барабана!
— Вероятно, сигнал тревоги, — быстро сказал Кирилл. — Включайте, Фред.
Дождавшись, когда колебания каната немного утихли, Лесли повернул рукоять включения. Ветви каната медленно потекли в разные стороны: нижняя из шахты, верхняя — вниз, во мрак.
— У них там есть карабины для захвата каната? — спросил Кирилл. Лесли отрицательно качнул головой в прозрачном шлеме.
— Может, пойти им навстречу?
— Нет.
— А ускорить движение каната?
— Не надо..
Прошло несколько томительных минут. Блестящие нити каната продолжали струиться навстречу друг другу Рывков больше не было.
— Что там могло произойти? — не выдержал Кирилл.
Лесли не ответил. Потом, отступив от края шахты, спокойно сказал:
— Возвращаются.
Кирилл напряг зрение. В черном провале чуть искрилась светлая точка Она медленно поднималась Кирилл напряженно вглядывался в темноту.
— Свет только один, Фред, — крикнул он наконец, — другого не вижу.
— Нет… По натяжению каната их двое.
Из тьмы проступал непонятный грибообразный контур. Сдавленный возглас Кирилла заставил Лесли обернуться. Над краем шахты медленно вырастала согбенная фигура в звездно-полосатом скафандре. Левая рука Гибби сжимала канат, правой он придерживал на плечах неподвижное тело Сергея. Оказавшись на поверхности, Гибби не оторвал руки от каната. Ноги его беспомощно волочились по щебнистой бурой поверхности, он что-то бормотал, но слов разобрать было нельзя Лесли отключил двигатель. Канат остановился, но Гибби не выпускал его из рук.
— Рука… — прошептал Гибби. — Канат прорезал перчатку скафандра… Рука… примерзла.
Глаза его закрылись, тело бессильно повисло на канате.
* * *
Сергея с трудом удалось привести в сознание. Видимых травм на его теле не оказалось, кости рук и ног целы, но он был так слаб, что не мог произнести ни слова. Он почти тотчас погрузился в сон. Гибби находился в полубессознательном состоянии. Временами начинал бредить. Отмороженная рука его чудовищно распухла.
О происшествии сообщили по радио на советскую и американскую станции. Советский самолет уже вылетел, американский должен был вылететь с минуты на минуту.
— Наши будут тут часа через полтора, — сказал Кирилл, выключая радиопередатчик.
Фред — он обрабатывал дезинфицирующей жидкостью руку Гибби — хмыкнул неопределенно.
— Больше ничего не говорил? — спросил Кирилл, подходя к койке, на которой лежал Гибби.
— Нет… Повторил только, что очень испугался.
— Но чего испугался? Что там произошло? Лесли молча пожал плечами.
— Мы оба, — послышался тихий голос за спиной Кирилла, — испугались… Как удар по мозгам… Изнутри.
Кирилл и Лесли обернулись к койке Сергея. Глаза его были открыты. Взгляд обежал помещение и остановился на лежащем Гибби.
— Он… вытащил меня?
— Он. — Споткнувшись о сваленные на полу скафандры, Кирилл шагнул к койке Сергея. — Что ты чувствуешь сейчас?
— Слабость, тут болит, — Сергей поднял глаза ко лбу.
— Руки, ноги ощущаешь?
Сергей шевельнул пальцами правой, потом левой руки.
— Ощущаю, но слабость…
— Говорить можешь? Что случилось?
— Я… не понял… Когда спускались, стало вдруг страшно… Не знаю почему… Спускался дальше, думал… сейчас конец… Но шел… Гибби за мной… У забоя смотрю, ему тоже не по себе… Спросил… Говорит — очень страшно… почему, не знает. Мы быстро взяли пробы льда… Укрепили блок. Держались… Стали крепить канат… Гибби вдруг закричал, что не выдержит, что сейчас произойдет ужасное… Стал трясти канат и кричал. Я хотел остановить его, тоже стал кричать… Вдруг, как удар в голову, изнутри… Вспышка и все…
— Больше ничего не помнишь?
— Нет… больше… ничего.
— А когда он тащил тебя наверх?..
— Нет… Ничего… Тот удар… — Сергей медленно поднял руку, коснулся затылка, — и вот минуту назад понял, что лежу тут, увидел вас… Сколько времени прошло?
— Часа два, наверно. Скоро прилетит наш самолет.
— А он? — Сергей перевел глаза на Гибби.
— Руку повредил, когда поднимался. Разгерметизация скафандра. До локтя.
— Это плохо.
— Очень плохо. Скажи еще, Сергей, вы там… Ничего не увидели такого, ну…
— Фантом?
— Да.
— Я не видел. Думаю, он тоже. Скорее какое-то излучение… Или ультразвук…
— Ультразвук? Откуда?
— Н-не знаю… Он может вызвать такое состояние, шок, даже смерть…
— Шахта, как резонатор?
— Не исключено… Надо проверить… Просчитать… Или источник подо льдом. Если там пустоты…
— Вы слышите, Фред? — Кирилл повернулся к Лесли.
— Слышу. Я не специалист. Ни в области ультразвука, ни, в медицине. Впрочем, боюсь, руки он лишится. — Лесли указал на руку Гибби.
— А вы, Фред, прошлый раз, — Кирилл попытался уловить взгляд Лесли сквозь дымчатые стекла его очков, — когда мы спускались в шахту, не почувствовали чего-нибудь подобного?
— Почему вы решили?
— Я ничего не решил, но надо же выяснить, что тут происходит.
Лесли помедлил с ответом:
— Все это, знаете, очень субъективно… Я, например, вообще не люблю спускаться в шахты…
— Но если остановимся перед загадкой, она останется неразгаданной.
— А вы хотели бы сразу все разгадать, коллега? Так не бывает… У нас говорят: торопись потихоньку… Мне не платят больше, если я спешу…
— Так что, по-вашему, следует делать?
— Прежде всего, подумать… Узнать, что он чувствовал или видел, — Лесли наклонился к самому лицу Гибби, прислушиваясь к его бормотанию, — потом уж решать… В сущности, основной вопрос в любой науке: что делать, если не знаешь… А вы как считаете?
— Считаю, что необходимо повторить спуск. Сразу же, как прилетит самолет. Тем более что внизу остались пробы льда.
— И вы пошли бы, коллега?
— Конечно. А вы?
— Я… Нет…
* * *
Прилетели Бардов, Мак, врач-хирург пятой смены и еще двое марсовщиков, совсем молодые ребята — Роман и Муса. Мак и хирург занялись пострадавшими Остальным пришлось перебраться в соседнее помещение, служившее складом, кухней и столовой. Выслушав рассказ Кирилла и его предложение, Бардов поинтересовался, что думает Фред Лесли.
— В целом я согласен, — вежливо сказал американец, — о причинах явления судить не берусь, но повторный спуск в сложившейся ситуации считаю опасным.
— Вы, конечно, правы, — согласился Бардов, — прежде чем решать, подождем вашего шефа.
Однако Невилл Джикс не появился. Прилетели Гридли, доктор Мор-стон и врач американской базы. Врач и Гридли направились в помещение, где лежали Сергей и Гибби. Морстон присоединился к остальной группе марсовщиков и принялся расспрашивать Лесли.
Кирилл, присев рядом с Бардовым, сказал тихо:
— Напрасно теряем время. Надо повторить спуск, пока светло. Сейчас с подъемником это совсем просто. Пойду я и еще кто-нибудь, кто захочет.
Бардов долго молчал, испытующе поглядывая на него. Потом спросил:
— Очень хочешь пойти, дорогуша? А после, как они, да?..
Он наклонился к Кириллу и добавил совсем тихо:
— Вчера получено сообщение с Земли. Азарий тоже… Не удалось спасти, — он тяжело вздохнул. — Остальные по-прежнему в карантине. Там пока ничего нового. Вот так… И подтверждение старого приказа — никаких исследований фантомов.
— А их тут не было, — мрачно возразил Кирилл.
— Естественно, — кивнул Шефуня. — Поэтому не надо бояться делать ошибки! Ошибки — главный учитель! Так, что ли?
Появился Гридли. Он был в легком скафандре и рукавицах, снял только шлем. Его широкое лицо казалось бледнее обычного, а длинный нос еще более заострился.
— Плохо, — сказал он, подходя к Бардову и многозначительно поджимая губы, — очень плохо! Наш врач считает, что руку не сохранить. Ваш, правда, на что-то надеется, но… Не знаю… Тогда раненого надо отправлять к вам. Решайте… Мы могли бы пока взять к себе вашего.
— Зачем же? — загудел Бардов. — У нас места достаточно для всех. И вас можем прихватить. А относительно Гибби, если наш медик думает, можно что-то сделать, надо пытаться.
Гридли молча кивнул и вышел.
— Что будем делать, доктор Морстон? — спросил Бардов.
— Пусть Гридли решает. Он заместитель Невилла.
— А ваше мнение?
— Мое? — Морстон явно колебался. — Это печальное происшествие… Доктор Фред Лесли считает, что надо прекратить тут проходку… Либо вести без контрольных спусков, пока не выясним причину сегоднящих событий. Я склонен согласиться с ним.
— Если прекратим проходку, шахта может заплыть, — не выдержал Кирилл, — это лед.
— Может, — согласился Морстон. — Тогда попробуем в другом месте. Проектировалось несколько шахт. Тут — первый опыт. По существу, мы отрабатывали технику проходки сквозь лед.
— При любом решении вопроса, предлагаю спуститься в шахту еще раз, — твердо сказал Кирилл. — Там остались пробы, отобранные нашими товарищами. Надо поднять их наверх.
— Проб льда из этой шахты отобрано несколько десятков, — возразил Лесли. — Доктор Морстон говорит, они ничего не дали. Следов жизни не обнаружено ни в одной…
Кирилл хотел сказать, что пробы отбирались не только на биологический анализ, но, поймав иронический взгляд Шефуни, решил промолчать. Бардов, видимо, тоже отступился от него.
Заглянул Гридли. Попросил помочь перенести пострадавших в советский самолет. Ребята, прилетевшие с Бардовым, молча поднялись, взяли со стола шлемы и вышли. Спустя несколько минут Гридли возвратился.
Окинув взглядом присутствующих, он подошел к Бардову и выжидательно уставился на него.
— Ну, так что будем делать? — поинтересовался Бардов.
— Ждем вашего решения. — Гридли подчеркнул “вашего”.
— Ежели дело во мне, — спокойно сказал Бардов, — считаю: прежде всего надо побывать в шахте. Потом решать, что делать дальше.
Лесли кашлянул многозначительно.
— А самолеты? — спросил Грили.
— Наш пусть летит с пострадавшими и с медиками. И сразу пусть возвращается.
— Наш тогда пока останется здесь, — решил Гридли. — А кому спускаться?
— Как обычно, двоим — на паритетных началах. — Бардов мельком взглянул на Кирилла. — Может, найдутся добровольцы? А можно и переиграть — в силу исключительности ситуации.
— Лучше из паритетных, — кивнул Гридли. — Тогда кто от вас?
— Вот он хотел. — Бардов снова взглянул на Кирилла. — Не раздумал, дорогуша?
— Нет, конечно, — резко бросил Кирилл.
— О’кэй! — Гридли взглянул на Морстона, потом перевел взгляд на Лесли. — О’кэй, — повторил он сквозь зубы, — значит, иду я.
Морстон и Лесли переглянулись.
— Имейте в виду, Гридли, — хрипло сказал Фред, — я и доктор Морстон против спуска. Бесполезно и опасно…
— Я это понял, — ответил Гридли, явно игнорируя заключительную часть реплики. — Думаю, — продолжал он, обращаясь к Бардову, — надо спускаться без промедления.
— Конечно, — кивнул Бардов и встал.
* * *
Через несколько минут все собрались возле шахты. Лесли проверил работу подъемника. Бардов велел выставить у самого устья имеющиеся контрольно-измерительные приборы, сам снял показания.
— Все в норме, — громогласно объявил он, закончив взятие отсчетов, — разумеется, в границах доступных нам параметров…
— А ультразвуковые колебания? — поинтересовался Кирилл.
— Пока не ловятся, но будем следить.
— Ультразвук — вздор, — резко заметил Лесли.
— Но вы утверждали, Фред, что вы не специалист в этой области, — не выдержал Кирилл.
— А это и неспециалисту ясно…
— Мне, например, нет, — возразил Кирилл.
“Вы вот что, — загудел в наушниках голос Бардова, — вы там судьбу не дразните; как почувствуете… дискомфорт или иное постороннее ощущение, сразу сообщайте друг другу и, следовательно, нам. Все ваши переговоры мы услышим и будем записывать”.
— Жаль, что не догадались раньше, — Кирилл потрогал провод, который тянулся от его скафандра к барабану, соединенному с записывающим устройством. Второй провод связывал Гридли с другим барабаном.
“Следите, чтобы не оборвать провода на спуске, — наставлял Бардов, — от них может зависеть успех операции и ваша безопасность… Ну, с богом, как говорили в старину. А мы ему, в случае чего, поможем…”
Держась за неподвижный канат подъемника, Кирилл и Гридли начали спуск. Несколько десятков осторожных шагов, и тьма окружила их. Лишь колеблющиеся пятна света от фонарей на шлемах освещали ледяные ступени, по которым они спускались все ниже и ниже. Кирилл шел впереди. Отсчитывая про себя шаги, он отчетливо слышал в наушниках напряженное дыхание Гридли. Насчитав сто двадцать ступеней, Кирилл задержался и оглянулся. Гридли тоже остановился в трех шагах за ним.
— Что так? — настороженно спросил Гридли.
— Ничего… Прошли примерно треть спуска. Как самочувствие?
— О’кэй, — не очень уверенно отозвался Гридли.
“Почему остановка?” — прогудел в наушниках голос Бардова. “Отдыхаем..” — “Не слышу…” — “Отдыхаем!” — крикнул Кирилл. “Поняли… Говорите громче! Вас стало хуже слышно”. — “Мы вас слышим хорошо”. — “Как самочувствие?” — “Прекрасно”.
Они двинулись дальше. Продолжая считать ступени, Кирилл прислушивался к себе как бы извне. Нет, страха он не испытывал. Легкое волнение, ощущавшееся перед спуском, улеглось. Он был спокоен, внимателен, уверен в себе, не ощущал никакого внешнего воздействия на психику.
“Как дела?” — прозвучало в наушниках. “В порядке”. — “Отвечайте! Почему молчите?” — “Мы ответили — пока все в порядке”, — громко крикнул Кирилл.
— Они нас не слышат, — сказал Гридли.
— Может, что-то случилось с моим микрофоном, попробуйте вы.
Гридли дважды громко повторил ответ Кирилла. Некоторое время в наушниках слышался шорох, потом голос Бардова встревоженно произнес: “Нет, не отвечают… И опять стоят на месте. Чертовщина какая-то…” “Даже ему изменяет выдержка, — подумал Кирилл, — видимо, “одна шефуня” не такая уж постоянная величина в условиях Марса”.
— Попробуем дать знак иначе. — Кирилл повернулся к Гридли. — Встряхните один раз резко верхний канат.
— О’кэй.
— Как вы себя чувствуете?
— О’кэй.
“Он тут не очень разговорчив…” — мелькнуло в голове Кирилла.
Он не успел развернуть эту мысль, потому что в наушниках снова послышался голос Бардова: “Чего-чего? Ну тогда ладно, — раздался вздох облегчения, — значит, телефон… Дедовские способы, они всегда надежнее… Переключаем все внимание на канаты, Лесли”.
— Они поняли, — сказал Кирилл, — поехали дальше.
“Угу”, — прозвучало в наушниках.
Кирилл продолжил счет ледяных ступеней. В самом начале пятой сотни впереди зеркально сверкнула поверхность забоя.
— Мы на месте, — объявил Кирилл.
Гридли отозвался тяжелым вздохом.
— Как ваше самочувствие? — Кирилл направил свет фонаря на скафандр американца.
— О’кэй, — ворчливо отозвался Гридли, облизывая губы. Кирилл заметил, что вся его широкая физиономия покрыта капельками пота.
— Действительно “о’кэй”? — попытался уточнить Кирилл.
— Да…
— Тогда за дело!
Кирилл дважды тряхнул верхний канат — знак, что они достигли цели и пока все благополучно. Потом он прислушался. В наушниках шуршало только тяжелое дыхание Гридли. Голоса сверху не доносились.
“Теперь и мы их не слышим”, — констатировал про себя Кирилл, но решил не делиться этим соображением с американцем.
— Тут где-то должны лежать пробы, — сказал он вслух, — давайте поищем.
— Угу, — Гридли сделал шаг и снова остановился.
Мысленно удивляясь своему спокойствию, Кирилл принялся осматривать забой и пространство перед ним. Лед зеленовато поблескивал, отражая свет фонаря. Вдруг в забое что-то шевельнулось. Кирилл вздрогнул, но тотчас сообразил, что видит отражение своего скафандра. Вскоре он обнаружил места взятия проб, рядом лежали и кассеты с пробами.
— Все в порядке, — сказал он, — вот пробы. Можно возвращаться.
Гридли не ответил.
Кирилл поспешно оглянулся.
Американец стоял неподвижно, всматриваясь в левый угол забоя.
— Эй, Гридли, что там? — быстро спросил Кирилл.
— Там… что-то шевелится, — хрипло пробормотал Гридли.
— Ваше отражение.
— Н-не знаю… Посмотрите…
Кирилл подхватил кассеты с пробами и подошел к нему.
— Где?
— Вон т-там… — зубы Гридли застучали.
— Ничего не вижу.
— Да… Может, мне показалось… Нет…
— Что вы там видели?
— И сейчас вижу…
— Что именно?
— Какие-то… фигуры… Они идут… к нам. Вот…
— Отодвиньтесь, стану на ваше место. Вероятно, игра света от фонарей…
— Да? — Гридли медленно отступил в сторону.
Кирилл встал на его место, внимательно оглядел забой, освещая ледяную поверхность фонарем.
— Это было в-внизу, в самом углу.
— Да-да, вот там, — Кирилл сосредоточил свет фонаря в углу забоя.
— Видите? — спросил Гридли.
— Вижу, то есть нет… ничего… кроме льда, конечно. А вы сейчас?
— Сейчас нет…
— Возвращаемся, — решил Кирилл. — Вы идите вперед, Гридли.
Американец не ответил; сразу же начал подниматься по ледяным ступеням, держась за неподвижный канат.
Шагнув на первую ступеньку, Кирилл обернулся к забою. Несколько мгновений пристально всматривался в освещенную фонарем ледяную поверхность, чувствуя, как спокойствие покидает его… Невероятно! Или ему кажется?.. Но ведь и Гридли что-то видел…
Кирилл оглянулся на американца. Тот продолжал медленно подниматься. Сейчас надо было идти наверх. Но потом… Кирилл еще раз взглянул на ледяной забой. Галлюцинация или… или он начинает настраиваться на эти волны? Снова вернулось спокойствие, и одновременно пришло решение… Кирилл медленно двинулся вверх, вслед за Гридли. Он был так погружен в свои мысли, что лишь на половине обратного пути вспомнил, что надо подать сигнал наверх для включения каната.
— Мы забыли про подъемник! — крикнул он Гридли.
— Да? — Американец остановился.
Кирилл трижды тряхнул неподвижный канат. Спустя мгновение канаты шевельнулись — один медленно пополз вниз, другой — вверх.
— Прицепляйтесь, Гридли, — Кирилл указал на браслет с карабином, — и переступите на ровное пространство, где нет ступеней. Поехали!..
Через несколько минут они выбрались на поверхность.
* * *
— Не исключено, что все обстоит именно так или почти так, — повторил Шефуня, — но рисковать не позволю. Кроме того, Земля не отменила приказ.
— Они не представляют себе сути, Ник.
— А мы? Что мы представляем? Твои соображения — рабочая гипотеза.
— Все выстраивается в единую концепцию. Достаточно проверить и… рабочая гипотеза станет явью.
— А ты последуешь прямым путем за Энрике и Азарием. Это единственное место во Вселенной, куда не следует торопиться, дорогуша.
— Убежден, у меня обойдется без последствий. Все дело в индивидуальных особенностях мозга. Видимо, я могу воспринимать эти сигналы без отрицательных последствий. Другие не могут… Ну о чем мы спорим, Ник, ведь ты обещал помогать мне…
— Обещал… Но теперь проблема законсервирована… по решению Земли.
— Ты сам подсказал это решение.
— Ну знаешь! — разочарованно прогудел Бардов и отвернулся.
Они с Кириллом уже третий час ждали самолета в вахтовом лагере. Американцы улетели сразу же, как только договорились о прекращении проходки. Муса и Роман заняты были демонтажем энергетического агрегата и приборов.
Кирилл встал, надел шлем, проверил герметичность:
— Пойду посмотрю на закат.
Бардов нахмурился:
— Ты не вздумай…
— Слушаюсь, товарищ начальник.
Кирилл вышел наружу, даже не дождавшись выравнивания давлений. Поток воздуха из тамбура подтолкнул его, и он с трудом сохранил равновесие. Дверь за спиной бесшумно закрылась. Маленькое багровое солнце висело совсем низко над красно-бурой равниной. В понижениях рельефа уже залегли лилово-черные тени. На востоке оранжевое небо потемнело. Лишь у самого горизонта прорезывалось светлое пятно — там всходил Фобос. Кирилл направился к шахте. Возле устья было пусто. Ребята уже успели перебросить оборудование к посадочной площадке.
Кирилл подошел к самому краю отверстия. Устремил взгляд во мрак. Попытался восстановить в памяти, что увидел в ледяном забое. Сейчас это плохо получалось, не так отчетливо, как во время рассказа Бардову.
“Конечно, то не могло быть галлюцинацией… Информационное поле тут существует повсюду. Оно оставлено сознательно последними разумными обитателями перед тем, как они покинули планету. Зачем — это другой вопрос… Может быть, надеялись, что их потомки рано или поздно вернутся? Либо — это послания иному разуму, пожалуй, единственный вид послания, который хранится, пока существует сама планета! Скорее всего информация адресована непосредственно мыслящему мозгу Если мы — их потомки, наш мозг должен воспринимать ее. Иное дело, что за миллионы лет эволюции человеческий мозг мог в значительной степени утратить эту способность. Отсюда опасные рецидивы… Энрике и Азарий, по-видимому, были близки к разгадке, но… переоценили свои силы… Шефуня, конечно, тоже догадывается… Его собственный мозг на это поле не реагирует, в моих возможностях он сомневается… — Кирилл усмехнулся. — Это его право. Я ведь тоже не знаю, что со мной случится, когда мой мозг начнет принимать информацию. И все же я хочу и готов рисковать…”
Кто-то коснулся его скафандра Кирилл быстро обернулся: Бардов стоял рядом.
— Ну что, следопыт прошлого, — сказал он, — мучаешься на пороге разгадки и проклинаешь меня?
— Мысли прочитаны не точно, — буркнул Кирилл.
— Возможно… Я не обладаю твоими способностями… Видишь ли, Кир, если ты прав, а оное не исключено, пойми, не надо торопиться… Рано или поздно твой мозг постепенно настроится на здешнее поле. Думаю, до сих пор мы ловили “всплески” поля лишь в моменты каких-то его нарушений — солнечных, ионосферных, даже, может быть, создаваемых нами же. Я теперь убежден: белые кристаллы не самое главное… Когда-то они, может, были связаны с аппаратурой, управлявшей полем или создавшей его. Поэтому способны вызывать локальные возмущения, превращающие часть информации в образы — фантомы. Таким же возмущающим фактором могла оказаться шахта. И совсем не потому, что там на глубине или во льду заключено нечто конкретное, что ты надеешься отыскать, — развалины, гробницы, — словом, конкретные следы былой цивилизации…
Кирилл хотел возразить, но Бардов не дал прервать себя и продолжал:
— Не логичнее ли предположить, что именно здешний лед обладает свойством сгущать, концентрировать линии информационного поля, что именно он — главный хранитель записи информации. Если они были подобны нам, вода являлась для них исходным началом, как и для нас. И, предвидя оледенение планеты, они могли связать поле именно со льдом. Это была бы мысль, достойная высокого разума: сделать вместилищем информации среду, из которой когда-то родилась жизнь. Мы уже установили — структура здешнего льда не совсем обычная. Кристаллы образуют спирали. Как у тех белых осколков… Конечно, все это не более чем предположения. Но они не противоречат твоей концепции.
— Следовательно, тем важнее идти на глубину. — Кирилл указал в отверстие шахты.
— Нет. Если поле связано со льдом, надо идти туда, где мощность льда максимальная, и там, на поверхности, проверить твою гипотезу.
— Нашу гипотезу, Ник?
— Отнюдь. Проблему ведешь ты. Я лишь чуть подправил направление… на крутом повороте. Вероятно, эта шахта хороша лишь постольку, поскольку показала, что для дальнейшего поиска шахты пока не нужны. Пока… Потом посмотрим. Я очень надеюсь на тебя, Кир… Может, действительно, ты иной, чем мы все… И тебе удастся… Надо только соблюдать осторожность… на крутых поворотах.
— Хочешь подсластить пилюлю?..
— Нет. Я, собственно, вышел сказать тебе, что за нами сегодня не прилетят. Придется ночевать тут.
— А что случилось?
— Ничего… Не стоит рисковать после тех ночных сполохов.
— Мы, как аквалангисты, — с горечью заметил Кирилл, — плаваем у самой поверхности, а под нами бездна… загадок.
— Вот и не будем спешить. Прежде всего попробуем сверху определить глубину бездны.
Солнце утонуло в багровой мгле, не коснувшись линии горизонта. Быстро темнело. Бледный оранжевый свет взошедшего Фобоса едва пробивался сквозь пелену пыли, висящую над планетой.
Мысль полыхнула подобно молнии.
“А если Фобос? Странный сгусток металла, вращающийся совсем низко над планетой и вопреки всем законам механики не падающий на нее. Споры о его происхождении начались еще до первых космических полетов. Его период обращения всего семь с половиной часов. Никто из нас не пытался сопоставлять его положение на небе с появлением фантомов. Что, если “спусковой механизм” поля связан с ним?.. Или с Деймосом?”
Кирилл замер, пораженный своим предположением.
— Пошли, — Бардов указал в сторону жилого купола.
— Я еще немного побуду тут… Хочу посмотреть… на Фобос.
— Только без глупостей, — предупредил Бардов, — и не долго. Ребята уже готовят ужин.
Он неторопливо направился к месту ночлега.
“Фобос, Фобос, — мысленно повторял Кирилл, — скорее всего это осколок Фаэтона. Некоторые считают — эстафета разума пришла оттуда. Значит…”
Появилось нарастающее беспокойство. Он что-то должен сделать… Но что?.. Кирилл стиснул зубы, пытаясь сосредоточиться, понять неодолимый внутренний зов, который нарастал подобно волнам и снова угасал. Это было как ускользающее воспоминание о давно забытом. Казалось, вот сейчас наступит прозрение и он поймет… Нет… Волна снова отхлынула, оставляя горечь бессилия.
Кирилл бросил взгляд на Фобос. Серо-оранжевый диск почти на глазах менял положение, поднимаясь все выше к зениту… Кирилл попытался еще раз заставить себя настроиться на потерянную волну… Внутри царила глухая пустота… Что это было? Грань неосуществившегося контакта или… начало заболевания, как у Энрике, Азария? Он вдруг почувствовал страшную усталость, захотелось лечь тут же, у самой шахты, закрыть глаза и не думать ни о чем. С трудом преодолевая сковавшую его слабость, Кирилл побрел к жилому куполу, ощупью отыскал контакт наружной двери. Надавил. Дверь открылась. Кирилл ввалился в тамбур и потерял сознание.
Когда он пришел в себя, оказалось, что он лежит на койке в жилом отсеке купола. Скафандр уже снят, и Шефуня, расположившись рядом в складном кресле, внимательно глядит на него. Кирилл сделал движение, пытаясь приподняться.
— Лежи. — Бардов придержал его за плечи. — Ну как там Фобос?
— Нормально.
— А ты?
— Голова закружилась…
— Правильно. У твоего скафандра отказал аппарат регенерации кислорода. Не проверил при выходе? Хорошо, мы услышали, когда ты входил.
— Я, значит, недолго…
— Не очень, — он помолчал, продолжая критически разглядывать Кирилла. Потом спросил: — А ты там… ничего нового не углядел?
— Нового… Нет…
— А старого?
— Тоже, пожалуй, нет…
— Какой-то ты стал неуверенный, Кир, — Шефуня брезгливо поморщился, — а ну давай как на экзамене.
Кирилл рассказал, что с ним было.
— Жалко, что не улетели, — резюмировал Бардов, — до прибытия самолета наружу не выходить.
— Но я… — начал Кирилл.
— Именно ты… Мы с ребятами после ужина выйдем. Посмотреть на Фобос…
* * *
Ночью Кирилл проснулся словно от удара током. Он сразу понял — сигнал… Надо действовать. Осторожно привстал, прислушался. Кругом спали. Бросил взгляд на часы — сорок минут первого. Вечером они уложили его на койку в спортивном комбинезоне, сняв только скафандр. Это облегчало задачу. Скафандра нигде не было видно. Очевидно, его унесли в соседнее помещение. Кирилл встал, сделал несколько шагов к двери.
— Куда? — прошелестело за спиной.
Кирилл оглянулся. Бардов, подняв голову, вопросительно смотрел на него.
— Куда-куда, — сердито отозвался Кирилл, — надо…
Шефуня опустил голову на подушку и закрыл глаза.
Кирилл выбрался в соседнее помещение и плотно прикрыл за собой дверь. К счастью, его скафандр и шлем лежали тут. Скафандр, правда, легкий — дневной… Выходить в гаком в ночные часы не разрешалось. Но облачаться сейчас в тяжелый ночной скафандр не было времени. Кроме того, он не собирался удаляться от купола. Несколько десятков минут он выдержит и в легком.
Кирилл быстро натянул скафандр, надел шлем, прицепил к поясу футляр диктофона. Уже в выходном тамбуре проверил герметичность и параметры жизнеобеспечения. Подождал, пока выровняется давление. Это их задержит немного, если организуют погоню. В диктофон, вмонтированный у входной двери, шепнул:
— Ноль часов сорок минут, выхожу наружу. Прости, Ник, совершенно необходимо.
Затем открыл выходную дверь. Снаружи было удивительно тихо. Ветра, как ни странно, не ощущалось. В зените висел Фобос. Это был уже второй его заход в ту ночь. На востоке бледно светил серпик Деймоса.
Кирилл сделал несколько шагов и остановился. Вопреки ожиданию, ничего не происходило… Он начал прислушиваться, но различал лишь удары собственного сердца. Слабость не ощущалась, голова казалась ясной, он чувствовал прилив сил, удивительное спокойствие, уверенность, что поступает правильно. Вспомнилась почему-то старая поговорка студенческих лет: “Исследовать — значит видеть то, что видели все, но думать так, как не думал никто”. К нему она сейчас не имела отношения, потому что на этой странной планете именно он видит то, что недоступно другим. Только это оправдывает его недисциплинированность и риск… Впрочем, каждый настоящий поиск — путь по узкой грани, тончайшему острию непримиримых противоположностей. По ту и по другую сторону грани пропасть, катастрофа… Как у него сейчас…
Он почувствовал, что ночной холод начинает проникать в скафандр. Надо было двигаться, и он направился к устью шахты.
В красновато-пепельном свете двух марсианских лун мертвая равнина казалась призрачной. Звезд в небе почти не было видно. Устье шахты чернело подобно раскрытой пасти.
Кирилл остановился в нескольких шагах. Свет, идущий из глубины, почему-то не удивил его. Нащупав на поясе скафандра кнопку диктофона, Кирилл спокойно ждал, что последует дальше. Потом нажал кнопку и заговорил, стараясь зафиксировать все, что видел и чувствовал.
* * *
Запись кончилась на полуслове.
— Ну вот, — сказал Кирилл, — именно в этом месте вы меня настигли. Не знаю почему, но ваше появление сразу прервало поток информации. Либо, переключив внимание на вас, мой мозг потерял возможность фиксировать ее. Черт бы вас побрал с вашей заботой!
— Пожелание относится только ко мне, — объявил Бардов, — ребята абсолютно ни при чем. Я заставил их пойти, хотя им очень не хотелось просыпаться.
— Тем более что мы ничего и не видели, — проворчал Муса.
— Последнее, что запечатлелось в моей памяти, — добавил Кирилл, — и что, естественно, уже не попало на пленку, были их корабли, взлетающие с равнины, похожей на здешнюю. Я еще успел подумать, что они напоминают те, о которых рассказывал Невилл Джикс… Но в этот момент кто-то ударил меня по шее.
— Я ударил, — подтвердил Бардов, — ты не отвечал, когда мы к тебе бежали. Я был уверен, что ты уже замерз насмерть.
— Если бы вы появились минут на десять позже, — вздохнул Кирилл, — я, может быть…
— Тебе наверняка пришлось бы оперировать ступни, — прервал Бардов, — а так ты отделался только отмороженными пальцами на ногах. Пальцы придется починить на Базе. И пока тебя будут там ремонтировать, я смогу спать спокойно.
— Больше это уже не повторится, — заверил Кирилл, — дело сделано. Не хотелось бы быть нескромным, но думаю, нам удалось решить одну из старейших загадок, волнующих человечество. И главное — мы теперь твердо знаем, что они тут были, оставили свое послание, которое предстоит читать не одному поколению ученых. Думаю, что рано или поздно подо льдами удастся разыскать и какие-то материальные памятники умершей цивилизации. У меня уже есть на этот счет кое-какие соображения…
— Нет, погоди, — искренне возмутился Шефуня, — ты еще посидишь под карантином месяца три-четыре после того, как тебе вылечат пальцы на ногах. Еще не известно, как на тебе отразится этот ночной сеанс “потусторонней связи”.
— Теперь я согласен даже на карантин, — усмехнулся Кирилл, — надо свести воедино, подробно описать все, что нам удалось выяснить… Вы заметили, что наблюдения Азария и Энрике хорошо увязываются с моей диктофонной записью.
— Мы, конечно, продолжим это дело, — сказал Бардов, по привычке поглаживая бороду, — придется осторожненько проверить, может, не ты один у нас такой способный. Если с тобой действительно ничего не случится, станем смелее, будем тренироваться в укреплении “потусторонних связей”; в конце концов и приборы сконструируем для электронной записи информационного поля…
— Если даже теперь со мной что-то и случится… — начал Кирилл.
— Это уж ты, дорогуша, брось, — обрезал Шефуня. — Запомни, ничего не может случиться. Ты — экстрасенс, ты сам прекрасно знаешь это. Экстрасенс от рождения. А других экстрасенсов мы тут воспитаем, базируясь на твоем опыте. Понял? Ты сам уверял, что эти способности заложены в каждом из нас. И я это, между прочим, сегодня ночью понял. Поток информации, которую принимал ты, переключился на несколько мгновений на меня, когда я… погладил тебя по шее.
— Интересно! — воскликнул Кирилл. — И что же вы увидели?
— Не “вы”, а “ты”, — поправил Бардов, — я увидел твои корабли, взлетающие в космос, и понял, что они направляются к Земле.
— А дальше?
— Что дальше?
— Когда они достигли Земли? В какую эпоху земной истории?
— Э-э, чего захотел! Разве можно все сразу? Это предстоит выяснять. Как и многое-многое еще.
— Что же получается! — воскликнул Роман. — Предки человека пришли на Землю отсюда?
— Категорически утверждать пока ничего нельзя, — задумчиво сказал Бардов. — Мертвый Марс начал нам приоткрывать поразительные вещи; но пройдет еще очень много времени, прежде чем хранящаяся тут информация, заключенная в так называемом “информационном поле” или в какой-нибудь иной “материи”, позволит вынести окончательные суждения. Нащупано принципиально новое направление поиска научных исследований, важность которого для человечества, вступившего в космическую эру, переоценить невозможно. Энрике и Азарий отдали свои жизни не напрасно. Приоткрываются совершенно ошеломляющие возможности разума, о которых люди даже не подозревали…
— Как вы, вероятно, поняли из диктофонной записи, — добавил Кирилл, — эстафета разумной жизни была принесена на Марс с Фаэтона. Какая-то часть фаэтонцев перед гибелью своей планеты переселилась на Марс. Это могло произойти еще в архейскую эру земной истории Быть может, на Марсе сменили друг друга несколько циклов цивилизации и лишь представители последнего здешнего цикла переселились на Землю. Все это предстоит еще изучать, уточнять… Более определенно мы можем теперь говорить об истории самих планет земной группы. Они рождены Солнцем в разное время: Фаэтон был старшим в этом семействе, Венера, а может быть, и Меркурий наиболее молодые. Фаэтон давно закончил свое существование, Марс дряхлеет; в его нынешнем облике — будущее нашей Земли, так же как на Венере — ее далекое прошлое. Условия на Венере пока непригодны для высокоорганизованной жизни, как они были непригодны на Земле в архее и раннем палеозое, когда тут, на Марсе, жизнь била ключом. Если наша нынешняя цивилизация уцелеет, не исключено, что далеким потомкам землян предстоит переселение на Венеру, когда условия на стареющей Земле станут подобными марсианским. И, покидая Землю, они, может быть, оставят там послание грядущим исследователям, подобное тому, какое оставлено тут. Я хотел бы верить, что эстафета разума бесконечна.
Артем Гай Наследники
Совершенно секретно
Париж. 10 ноября
Сэр! По данным известной французской журналистки Мирей, полученным ею от физика-атомщика Луи Кленю, некий господин де Жиро преднамеренно и совершенно безболезненно перенес десятикратно смертельную дозу облучения на атомном реакторе в Н.
Гайлар ГайдаруПолучить достоверное подтверждение сообщенных вами данных. Обеспечить полную их секретность…
Жан Овечкин и Оноре-Максимилиан
Ноябрь. Западная Африка
Овечкин сидел под тепловатым душем, завернувшись в простыню, блаженно щурился, морщился, дергал ртом и вспоминал Пти Ма. “Шеф Овэ, рюс!.. — и блеск белоснежных крупных зубов. — Товарищ, товарищ, а любовь — нет! Вот француз был господин, а любовь…” Ох, и чертовка эта Пти Ма! Язык — бритва, совсем хохлушка, только очень черная. Можно себе представить, как она расправляется со всеми на диалекте. Вот Гран Ма — та матрона, неторопливая, малословная, красивая. Сильнющая сибирячка. Ну, в физической силе и маленькой Пти Ма не откажешь. Так руку жмет…
Гран Ма и Пти Ма работают на грейдере, и каждый день не один уже месяц молчаливая толпа пораженных этим зрелищем африканцев стоит у развалов строительной площадки. Все удивляются и гордятся Гран Ма и Пти Ма. А они — обычные девчонки.
“Эй, парень! — кричит Пти Ма парню в драной рубахе, который смотрит на нее целый день не отрываясь и раскрыв рот. — Возьми лучше меня в жены, чем пялиться. Родным вместе заплатим, драненький…”
За полгода совместной работы Овечкин освоил кое-что из местного диалекта. По крайней мере, немного понимал. Он вообще был удивительно способен к языкам. Во французской школе на Греческом проспекте его просто умоляли не зарывать таланта и поступать в институт иностранных языков. Не пошел… Его простили в родной школе лишь через шестнадцать лет, когда он собрался уезжать инженером в бывшую французскую колонию помогать ей экономически развиваться. Вот и сидит теперь Ваня Овечкин на стуле под душем в мокрой простыне, вымочаленный за африканский день, вбирает по крохам прохладу льющейся воды. А далеко-далеко в Ленинграде осень, и, может быть, холодная. И восхитительно прохладная постель, которую нужно еще согреть…
Тепло и жизнь неразделимы. Однако сильная жара и жизнь уже входят в противоречие. Особенно душная жара. Иногда ночью Овечкину начинает казаться, что он разлагается. Овечкину словно бы вспоминается тот килограмм говяжьего фарша, который он забыл когда-то у холодильника, отправляясь в пятницу к своим на дачу. И вот он входит в свою квартиру через три дня, и его едва не сбивает с ног удушливый сладковатый запах, будто в закупоренной квартире спрятан расчлененный труп… Почему именно расчлененный и почему непременно труп? Он их в жизни не видел!.. Запах разложения в нестерпимой спертой духоте раскаленной квартиры… Кто, кто же это там?! Овечкин мечется под москитной сеткой, мокрый, измученный душной жарой, полусном, неясными полувидениями. Хотя Овечкин хронически недосыпает, укладываться в постель он не торопится. В душевой появляется Оноре.
— Вы еще здесь? — Оноре тоже в простыне. И начинает хохотать: — Мы с вами похожи, наверное, на сумасшедших, принимающих влажное обертывание.
Смущенно смеется и Овечкин, глядя на него снизу вверх. Вот это — с простынями — наука Оноре. Так, в мокрой простыне, и забираешься под москитную сетку, и несколько терпимых часов сна обеспечены. Особенно когда намотался за день как следует..
— Не смущайтесь, Жан Мы все здесь рано или поздно сходим с ума. Эта жара не для белых.
Овечкин уступает ему стул, но уйти из-под широкого гриба падающей воды не торопится. Теперь они почти одного роста, сидящий Оноре и стоящий рядом Овечкин.
— Ничего. Теперь-то уже доживем. — Оноре имеет в виду свое долгожданное расставание с Африкой, от которого отделяют его считанные месяцы, — так, по крайней мере, он говорит.
Обстоятельства француза Овечкину совершенно непонятны. И при всем своем любопытстве, он никак не может их постигнуть. Оноре — врач, много лет назад поселившийся в этой африканской глуши. При этом он, как сам говорит, ненавидит “весь континент со всеми его потрохами”. Врач он, наверное, неплохой, к нему идут белые со всего района, с ближайших и отдаленных рудников. Об африканцах и говорить нечего. Но сам он рвения определенно не проявляет. Его амбулатория в первом этаже содержится в порядке, однако как же она примитивна! Это ясно даже неискушенному Овечкину. Медицинский инструмент, оставшийся от предшественника Оноре, давно заперт в стеклянных шкафах. Зато автоклав работает не зная усталости. Что там чуть ли не каждый день автоклавирует при своей практике док, Овечкину болезненно неясно.
Однажды псу дока сильно досталось от восьмиметрового удава. Оноре три дня не принимал больных, лечил собаку. И никакие уговоры не могли его поколебать. Он сидел в своих комнатах запершись и впускал только приходивших в первой половине дня из поселка слуг — кухарку и немого боя, который следил еще за его “лендровером”.
Собака у Оноре действительно была замечательная — громадная, красно-рыжая с проседью. “Одной масти с хозяином”, — усмехался док. Однако был стопроцентно прав: его сутулую сухопарую фигуру за метр восемьдесят венчала такая же буйная рыжая шевелюра, тоже с густой проседью. Оноре говорил, что они почти ровесники: псу шел восьмой год, в пересчете на человеческие обоим подкатывало к пятидесяти. Они были удивительно привязаны друг к другу. Оноре, похоже, любил собаку больше всех на свете, хотя никак внешне не проявлял этой любви: редко гладил, никогда не ласкал и звал просто “шьен” — “собака”. Но они были неразлучны. И еще: Шьен удивительно чуял всякую нечисть, вроде скорпионов и змей, словно был натаскан на нее.
Иногда Оноре садился в свой старый “лендровер”, закинув в машину большой баул, усаживал рядом собаку, и они исчезали на неделю или две. При этом немой слуга, кухарка и медицинская практика оставались брошенными на произвол судьбы.
В последние месяцы такие отлучки стали особенно частыми. Возвращались всегда ночью. Овечкин слышал обычно, как тяжело дыша, француз несколько раз проходил через гостиную. Что он перетаскивал? Овечкин не мог себе даже представить. Ведь, уезжая, Оноре брал с собой лишь баул и постель, да еще слуга сносил в машину несколько ящиков с продуктами. Разве что эти ящики? Но с чем?.. Каждый раз, возвращаясь к машине, Оноре запирал дверь в свою комнату — щелкал замок. Зачем?!
Когда в поселке появились русские и вознамерились поселиться в привезенном вагончике, оборудованном по последнему слову таборной техники, комендант района этому категорически воспротивился. Он был грузным и очень важным африканцем в черном потертом костюме из плотной ткани. Изнывающий от жары Овечкин боялся даже смотреть на тугой воротничок его белой рубахи, затянутый к тому же черным галстуком.
Комендант был полновластным хозяином в районе, вроде вождя. Все его так и звали: Коммандан. Небрежно смахивая пот с лица и смыкая толстые веки, он сообщил, что русские инженеры будут размещены “как положено”.
Поселок был небольшой, но растянулся вдоль реки километра на два. Компактно стояли лишь двухэтажные бетонные дома со вспомогательными строениями, возведенные еще французской колониальной администрацией. В одном бетонном доме на первом этаже помещался банк, а во втором жил одинокий старый банкир. Банк финансировал местных плантаторов, выращивавших кофе, какао и манго. Банкир, худощавый старик с большими грустными глазами, был альбиносом с матовой сероватой кожей и платиновой проволокой курчавых волос. Французы окрестили его “мсье Альбино”, Коммандан отобрал у мсье Альбино весь второй этаж и разместил там четверых русских, а банкира переселил в контору. Однако и после уплотнения тот приветливо улыбался, ничем не выражая своего неудовольствия. Возможно, его и не было: ну зачем, в самом деле, такой большой дом одинокому человеку? А ребята разместились с удобствами: общая спальня, столовая, кухня, прачечная. Коммандан выделил им целый штат прислуги: повара — “люкс”, служившего когда-то и у англичан и у французов, боя, шофера. “В гостинице у Альбино!” — смеялись ребята, Овечкину же, как руководителю группы, Коммандан отвел отдельную комнату во втором этаже соседнего дома, у доктора-француза. Овечкин вначале пытался возражать, но Коммандан и слушать его не желал. Да и втиснуть пятую кровать в спальню было бы непросто. Однако от отдельного слуги Овечкин отказался категорически.
Вселять Овечкина к доктору, которого Коммандан называл официально и сухо “медсен” — “врач”, он пошел самолично, очень серьезный и неприступный. Овечкин сразу понял, что предстояла ответственная битва, которая для Коммандана была, несомненно, принципиально важной. И тем неожиданней выглядела реакция доктора. Оноре хмуро выслушал тогда Коммандана, стоя в дверях и не впуская их даже на лестницу, быстро глянул на смущенного Овечкина и, обращаясь только к нему, коротко сказал, что тот сможет вселиться завтра с утра.
Так они стали соседями с общей проходной гостиной, из которой Оноре не забрал даже бар. Когда Овечкин въехал в освобожденную для него комнату, в двери, ведущей на половину француза, стоял свежеврезанный замок, и Овечкин так ни разу и не побывал там. Даже теперь, когда отношения между ними можно было назвать теплыми и вполне дружескими, Оноре никогда не приглашал его к себе. Правда, и сам никогда не заходил в комнату Овечкина. Не заходил и Шьен.
Первый разговор между соседями состоялся лишь через неделю.
После долгих водных процедур и ужина — в столовой “гостиницы у Альбино” обычно долго обсуждали прошедший день — Овечкин приходил к себе поздно, снова принимал душ и, валясь с ног от усталости, со страхом заползал под москитную сетку на произвол влажной духоты. Деться от нее было некуда и спасу от нее не было.
Проходя вечерами через гостиную, Овечкин часто видел доктора в кресле у бара. При свете керосинового фонаря, в компании лежавшего у его ног Шьена француз что-нибудь читал с большим стаканом в руке. Они коротко здоровались, и все.
В тот день доктор посоветовал принимать душ в простыне. А когда Овечкин, ощущая прохладу мокрой ткани, благодарный, шлепал к себе в комнату через гостиную, Оноре сказал:
— И еще очень советую выпить. Прошу.
Пить Овечкин не любил и не умел, а теперь особенно не хотелось, но странные отношения с человеком, который жил с ним, можно сказать, в одной квартире, начали уже тяготить общительного Овечкина.
— Вы знаете, Жан, я впустил вас к себе только из-за электричества, — говорил подвыпивший француз. — И если бы эта жирная образина Коммандан не привел вас, я бы сам кого-нибудь из вас пригласил. Мне ужасно надоело жить без электричества. Теперь же стало просто невозможно… — Он усмехнулся одним углом рта. Позже Овечкин привык к этой грустной, как взгляд его собаки, усмешке Оноре, за которой словно стояло что-то, чего тот недоговаривал.
— Ну, в амбулаторию мы бы все равно..
— А мне нужно не в амбулаторию, а сюда. — Оноре сделал большой глоток. — И еще совет, Жан. Меньше здесь напрягайтесь, так в Африке вас надолго не хватит. Заставьте работать этих бездельников. Если сможете, конечно. Они бездельники. Только женщины у них и трудятся…
Овечкин сразу понял, что врач Оноре не любит людей, которых лечит, и удивился.
— Вот уже два дня я вижу в поселке людей в драных рубахах с новенькими портфелями. Значит, вы создали бригады из африканцев и назначили бригадиров. Ха-ха-ха-ха, — неожиданно пьяно рассмеялся Оноре. — Имейте в виду, Жан: человек, назначенный здесь старшим даже в паре, сразу покупает большой портфель и перестает делать что бы то ни было. Вы знаете, когда я понял эту страну? Через час по прибытии в ее столицу. Мне понадобился чемодан, но снести его даже пустой в гостиницу не удалось. Здоровенный негр и куча мальцов не дали проходу, пока я не вручил им — “всего за пятьдесят франков, мсье” — этот злосчастный чемодан. Взрослый негр не стал нести его и двух шагов, а за двадцать франков предоставил это право одному из мальчишек. Так мы и шли: мальчишка с пустым чемоданом, этот верзила, а за ними тащился я без своих кровных пятидесяти франков. Ха-ха-ха-ха!.. Вы поняли, Жан?
— Обычный бизнес, так я понял. Разве во Франции по-другому? — Овечкин смотрел на него, похоже, недоуменно, как ребенок смотрит на большого дядю, рассказавшего очень уж незатейливую историю.
Оноре пошевелил рыжими бровями, разглядывая Овечкина, потрогал длинный нос.
— Да, Жан. В принципе везде все одинаково. Всё и все. Может быть, действительно африканцы простодушней и потому кажутся хуже европейцев. Не возражаю: вся эта наша цивилизация — гниль, красивая плесень, под которой одна и та же питающая ее отвратительная слизь. В самом деле, французы лживы, американцы самоуверенны и пустоголовы, англичане надуты, боши — те совсем дерьмо, русские, если судить по прессе, — белые африканцы… Вы, наверное, правы.
— Я ничего этого не говорил, Оноре. И совсем так не думаю. В каждой стране полно разных людей, хороших и плохих…
— Я не знаю вашу страну и ваших людей. Но Европу знаю. И этот одуряющий континент, где все: от Бизерты до Нордкапа, от Зеленого Мыса до Рас-Хафуна, и вдоль и поперек, черные и сильно загорелые, — выдающиеся лентяи и бездельники, знаю наверное.
— А может, они просто на вас не хотят работать?! — И тут Овечкин накинулся на пьяного француза, как Робинзон на первого англичанина, и опрокинул на доктора такой поток интернационализма, антишовинизма и антирасизма, что Оноре вначале булькал еще, а потом и вовсе утонул, удивленный, деморализованный, а под конец, когда Овечкин запел, просто восхищенный им.
Была у Овечкина особенность: хоть малость выпьет — начинает петь. Причем не просто петь, а очень громко. Он был, конечно, не виноват в этом: в детстве его держали за музыкального мальчика, заставляли ходить с большой папкой в музыкальную школу и даже показывали какому-то доценту по классу вокала. Обо всем этом Овечкин успел давно забыть, но когда алкоголь, как реостат, чуть понижал в нем критическое напряжение, вот так странно давали себя знать давние несбывшиеся надежды его родителей.
Ну, а тут еще был и политический, так сказать, предлог: предметно, наглядно и доходчиво показать этому заблудшему на мирских дорогах французу, как по-своему прекрасны все нации и народности Земли. У Овечкина было сильно развито чувство ответственности, а здесь он все время ощущал себя полномочным представителем своей страны.
Начал Овечкин, естественно, с любимой своей украинской народной “Гей, налывайте повние чары, щоб через винце лылося”. Тут он сразу способен был поразить славянской широтой и мощью своего голоса. И Оноре действительно вздрогнул от неожиданности, словно в комнате вдруг грянул хорошо организованный мужской хор. Затем Овечкин исполнил лиричную грузинскую “Ты стоишь на том берегу”. И как всегда, последний куплет выдал по-грузински. Потом пел по-казахски и по-белорусски, всех слов не помнил и делал вид, что просто торопится дальше — программа велика!..
В конце концов они громко пели уже вместе с Оноре “Подмосковные вечера”, “Катюшу”, “Спи, мой беби” незабвенного Робсона и “Прости мне этот детский каприз” неповторимой Матье. Овечкин стоял, придерживая на животе мокрую от пота простыню, Оноре возвышался напротив него в одних шортах, раскачиваясь в такт песне, и большие тени от керосинового фонаря тоже качались на стенах, пугающе выпадая через окно и тут же исчезая в кромешной африканской темноте Шьен обреченно спал, лишь изредка приоткрывая глаза, чтобы убедиться, может быть, что существенного улучшения обстановки ждать не приходится.
Позже Оноре говорил: “Одна такая спевка стоит многих лет соседства. — И усмехался углом рта — Даже в Париже Правда, в Африке длительное соседство не сближает белых, а разъединяет. Так что поживем — увидим. Но пока…”
В конце каждой недели — с пятницы по воскресенье, — за исключением тех, когда Оноре со Шьеном исчезали в неизвестном направлении, француз по-прежнему проводил вечера в кресле у бара и неизменно приглашал Овечкина разделить компанию Оказалось, что оба недурно играют в шахматы, и теперь Овечкину не составляло труда проводить с доком часть вечера, не принимая вместе с тем участия в его возлияниях. В остальные дни недели виделись редко, встречаясь на ходу на лестнице или в гостиной. Или вот так — в душевой…
Условия строительства оказались сложными. Рабочие — без всякой квалификации (это если говорить языком современным), от столицы, откуда приходилось возить стройматериалы, больше двухсот километров, половина — через джунгли, так сказать, проселком. В России “сто проселком” звучит страшновато, а здесь выглядело совсем паршиво Нередко работали без выходных.
Оноре тоже работал без выходных, и в амбулатории, и дома, где он, запершись, сидел всю вторую половину дня, а когда не было пациентов, то и целыми, днями напролет. Так что понятие уик-энда было условным, но Оноре твердо держался обычая три вечера проводить у бара.
Овечкин уже не сомневался, что Оноре занимается здесь чем-то очень для себя важным, что и является причиной его добровольного заточения. Вначале Овечкина занимал этот “интерклуб”, как шутя ребята и он сам называли вечерние посиделки с французом. Веселые переплетения языков: “О-веч-кин… О, де бреби, овн? Ха-ха-ха, овечий!.. Жан де Бреби!” Неожиданные повороты бесед, необычность ситуации: он, ленинградец Ваня Овечкин, живет в африканской глуши бок о бок и даже дружит с осколком колониальной системы…
“Осколок?.. И да, и нет, Жан. Обратите внимание: в моем имени, может быть, основные противоречия Великой французской революции. Вы знаете, что мое полное имя Оноре-Максимилиан! А, каково? Я так же, как Мирабо, смысл жизни вижу только в жизни, и так же, как Робеспьер, упрям и стоек. Вуаля! Но революции, Жан, отражают национальный характер…”
Нет, Оноре не был хвастуном и позером. Может быть, только чуть-чуть артистом. Овечкин склонялся к мысли, что доктор просто разумный человек, который пытается верно оценить себя в мире и сам этот мир. И еще: был в нем какой-то надрыв.
“Итак, будем знакомы, мсье Жан де Бреби: перед вами Оноре-Максимилиан ле Гран Эритье!” Он смеялся над собой: ле гран эритье — великий наследник — в африканской глуши с собакой, которая не имеет даже имени!
“Почему Выдающийся Наследник, — думал Овечкин, — почему ле Гран Эритье? Только из за имени?” Были еще какие-то фразы, упоминания о семье “вонючих аристократов и денежных мешков”. Может быть, о своей семье? Была в жизни Оноре какая-то драма, Овечкин не сомневался. В судьбе этого одинокого немолодого, очень неглупого француза, бессмысленно влачившего дни в ненавистной ему стране (ведь Оноре не проявлял интереса ни к врачеванию, ни к людям, которых лечил!), эта драма вырастала в глазах Овечкина в значительную, почти философскую трагедию, требовавшую, однако, не только осмысления, но и сострадания. И Овечкин готов был сострадать. Даже после того как исчез первоначальный острый интерес, а копившаяся с каждым днем усталость все настойчивей толкала вечерами в постель, Овечкин терпеливо, не выказывая усталости, играл в шахматы и поддерживал бесконечные беседы.
“Меня не вдохновляют ваши социальные идеи, Жан. Я индивидуалист. Уравнивание людей представляется мне вредным абсурдом”. — “Смотря что понимать под уравниванием”. — “А что под этим понимаете вы?”
И Овечкин прилежно и доходчиво читал ему соответствующую лекцию. Оноре слушал, иногда серьезно, иногда по-своему криво, но грустно улыбаясь, поглаживая рыжую шевелюру, иной раз вставлял фразу, которая показывала Овечкину неубедительность его доводов, и тогда он, как опытный оратор, все начинал сызнова другими словами.
С каждым месяцем Овечкину, изнуряемому жарой, становилось все труднее вести вечерние беседы.
Оноре нередко раздражал его сарказмом, непонятливостью, артистизмом, бесконечными возлияниями, даже той загадочностью, что прежде влекла его к французу. Теперь нередко из трех вечеров в конце недели они проводили вместе лишь один. Овечкин с радостью отмечал, когда в среду или четверг в гараже не было “лендровера”: это значило, что уик-энда не будет вовсе. И если ему самому нужно было в столицу, он старался уехать в конце недели.
Но наряду с этим Овечкин постоянно чувствовал значительность француза и его обстоятельств, которые никак не мог постигнуть, к которым за многие месяцы соседства, бесед, все возрастающего расположения к нему Оноре никак не мог даже приблизиться. Док, с его непостижимыми занятиями, протекавшей вроде бы на глазах, но совершенно непонятной жизнью, оставался для Овечкина все такой же, если не большей, загадкой, как и в первые дни знакомства. И это так притягивало к нему любопытного, хотя и усталого до полусмерти, Овечкина, что он терпеливо переносил все, что раздражало его в докторе Терпел, как настоящий марафонец, не ведающий, ждет ли его в конце пути хоть какая-нибудь награда. В этом терпении его поддерживало еще убеждение, что он, Овечкин, стал нужен Оноре. Такое убеждение придавало доброму Овечкину сил. Даже ребятам, даже надежному их “взводному” Сане он и словом не обмолвился, как надоел ему странный француз.
Как-то зашел у них разговор об атомной войне. Прежде они обходили эту тему, скорее всего стараниями Оноре. И сейчас он сказал:
— Оставьте, Жан, глобальные проблемы. Пусть ими занимаются политики. Все равно ни вас, ни меня пока и близко не подпустят к их решению.
Овечкин, с удивлением отметив про себя это “пока”, взвился:
— То есть как это?! Оноре, в каком мире вы живете?..
— В чужом, — рассмеялся француз. — В мире политиков и военных.
— И тут многое зависит от нас, — буркнул Овечкин, злясь на него и на себя.
— “От нас”… — все смеялся Оноре. — Вы неисправимый оптимист, Жан. Просто врожденный приходский священник.
— А вы пессимист, гробовых дел мастер.
— О, нет! Тут вы ошибаетесь. От человечества я не жду ничего хорошего, — это верно. Но именно потому, что уверен: кроме жизни, нет ничего стоящего в жизни. И каждый человек стремится к наилучшей, как представляет ее себе, иная — бессмысленна. Разве не так? — Это была его любимая формула: смысл жизни — только в самой жизни.
“Черт бы тебя побрал, — думал Овечкин, отирая пот с лица. — Тут за день намаешься на жаре, еле ноги тащишь… Стремится он, видишь ли, к шикарной жизни. Налижется и тешит свое одиночество за чужой счет… Ну, Овечкин, попался ты с отдельной квартирой! Своего хоть к черту можно послать, если языком ворочать неохота…”
— Мне давно уже понятно, Оноре, что вы убежденный индивидуалист. Я это понял сразу, как только увидел вас здесь вдвоем с собакой. Зарабатываете на шикарную жизнь? Так ведь на всю жизнь даже тут не заработаешь.
— Это смотря как зарабатывать, Жан.
— Ну, может быть, в свои отлучки вы золото моете килограммами. Но на миллионера вы не похожи и, думаю, никогда им не станете.
— Да? Как это понимать? — Оноре усмехался, но глаза стали серьезными. И говорил он определенно не то, что в эту минуту думал.
— Как комплимент, конечно, в моих-то устах.
— Хм. Знаток миллионеров… А вы зачем сюда приехали? Помогать африканцам строить новую прекрасную жизнь?
— А почему бы и нет, если удастся? И на мир посмотреть, и деньжат подзаработать… — “Что так вдруг насторожило его?..”
— А, все же деньжат. Зачем вам деньжата, Жан? Серьезно. Вы для меня в некотором роде загадка. Зачем вам деньги, если одной духовной жизни вам вполне хватает, а общество, как вы говорите, обеспечивает вас самым необходимым?
Он говорил как-то отчужденно. Такой светской манеры, необязательности Овечкин никогда прежде не ощущал, беседуя с французом. Неужели — золото? Чушь! Во-первых, здесь нет золота, и что Оноре мог делать с ним, если бы даже нашел россыпи?..
— Ну скажите, зачем вам деньги? — допытывался Оноре.
— Машину куплю.
— У вас нет машины?
Фразы повисали, каждый из говоривших определенно думал о своем.
— Пока нет.
— А работа кроме здешней?
— Есть, конечно.
— Так вы что, паршивый инженер?
— Почему? Вроде бы нет… — растерялся Овечкин.
— Я не хотел вас обидеть, Жан. В отличие от вас, кажется. Просто мне непривычно… — Он говорил как прежде, свободно, а Овечкин испытывал угрызения совести: да, конечно, обидел француза. Зачем? Сделал ему, наверное, больно: “индивидуалист с собакой”…
— Простите, Оноре, я тоже не хотел вас обидеть. К здешнему климату действительно трудно привыкнуть.
— Ну и не привыкайте, какая вам в том надобность?
— Взялся за гуж… Но вы были правы: всякая мелочь раздражает и выматывает, на нее все время непроизвольно обращаешь внимание. Вот, например, даже то, что не загораешь. Столько месяцев я здесь, а стал лишь красный как рак, и все. Честно говоря, мечтал загореть сильнее всех в Ленинграде. У нас, северян, очень любят загар. Это всегда предмет зависти.
— О, значит, вы тоже любите, когда вам завидуют? Загорать нужно ехать к берегу океана. А тут слишком много испарений, слишком большая влажность. Образуется фильтр, не пропускающий ультрафиолет, только тепловые лучи. Такая буйная растительность, а где ароматы?.. Паршивые края! Нет ничего от живого солнечного тепла: ни винограда, ни яблок, ни груш. И нормальных человеческих чувств нет…
Ночью, лежа в мокрой простыне под москитной сеткой, Овечкин думал, что впервые пожаловался вслух. И сделал это Оноре, чужаку. Никому из своих ребят, даже способному все понять “взводному” Сане, никогда не сказал бы он того, что сказал сегодня французу.
Как странно прозвучало в его фразе о глобальных проблемах словечко “пока”. Что может значить это слово в устах Оноре? Необычное для него слово. Такое в таком разговоре не может быть случайным…
В поселок приехал, возвращаясь с американских концессий, коммивояжер. Далече, однако, его занесло.
Вечером после ужина американец появился в “гостинице у Альбино”. Его привел Коммандан. Как всегда, в черном потертом костюме и белой рубахе с галстуком. Но важности в нем как-то поубавилось. И он вдруг стал просто толстым и старым человеком, определенно несуразным в своем несуразном костюме, когда все его сограждане щеголяли в набедренных повязках или шортах и изодранных рубахах (не специально ли они рвали их для лучшей вентиляции?..).
Казалось, прибытие американца сильно смутило Коммандана. Коммивояжер добродушно улыбался и предлагал “рашн инжени” на смеси английского с французским совершенно неограниченный выбор товаров и услуг — от строительных материалов и тропических боксов с кондиционером до служанок всех цветов, достаточно воспитанных и свободно говорящих на одном из европейских языков. Он шутил, мило кивал после каждой фразы, приговаривая “йес, йес” — “да, да”, и очень понравился ребятам. Коммандан отвел Овечкина в сторону и прошептал, отирая платком пот с лица, почти с благоговейным страхом: “Очень богатый человек!” А потом попросил свести американца к “медсен”.
Коммандан нередко заходил к ним в “гостиницу у Альбино” выкурить сигарету, посмотреть фильм. Иногда поселянам и рабочим показывали вечером на площадке между бетонными домами советские фильмы. Овечкин рассказывал содержание по-французски, а Коммандан, такой важный и гордый, словно это кино лично им не только организовано, но и отснято, а возможно, даже изобретено, переводил на местный диалект. Любил он пообсуждать самые разные вопросы с “шефом Овэ”, как звали местные жители Овечкина, но ни разу за многие месяцы не появился у него в доме. И причиной тому был, конечно, Оноре. Что там между ними произошло — Овечкин не знал, но Коммандан обходил француза за версту и определенно терпеть его не мог. Тут они были взаимны.
Овечкин отвел коммивояжера к доктору.
Оноре встретил американца в гостиной, сухо поздоровался, даже не предложил сесть и коротко сказал, что не пользуется посредниками, все необходимое покупает сам. Оноре был неузнаваем. Он бесцеремонно разглядывал американца, словно пытался смутить или спровоцировать его. Почесывая рыжий затылок, цедил каждое слово так, будто это занятие доставляло ему большой труд. Потом буркнул “адье” и ушел к себе, плотно закрыв за собой крепкую дверь.
Овечкин был смущен и озадачен. К чести американца, вел он себя так, словно ничего не земетил Любезно поблагодарил Овечкина: “Сенк ю, йес, йес…” — и ретировался.
“Какая муха его укусила? — думал Овечкин об Оноре с раздражением, стоя посреди гостиной. — Или это какой-то еще неизвестный мне приступ местной автоклавной отчужденности?.”
Голос Оноре прозвучал неожиданно резко:
— Я прошу вас, Жан, впредь никого из посторонних в дом не водить. — Сутуловатая фигура дока четко рисовалась в проеме двери. В его руках был пистолет.
Овечкин взорвался И сказал подчеркнуто спокойно:
— Что это вы себе позволяете, Оноре? Я не снимаю у вас комнату, я такой же хозяин здесь, как и вы. И буду приводить сюда, кого захочу. Не забывайтесь.
Они молча смотрели друг на друга. Овечкин — откровенно зло, а француз — скорее всего озабоченно.
— Простите, Жан. Но дело очень серьезное. Думаю, что в скором времени вы многое поймете. За восемь лет здесь я не видел ни одного коммивояжера. Ждите появления новых людей. И учтите, они могут оказаться более опасными для вас, чем для меня. Вуаля.
На этот раз он был прав, наверное, как никогда.
Парижские диалоги За неделю до описанных событий
Утро
— Бобби? Наконец! Я не могу дозвониться до тебя уже два часа.
— Мирен? О-гоу! Май литл герл, девочка! Не ждал, рад, счастлив, готов, эт цетера, эт цетера. Откуда, дорогая?
— Из Парижа, естественно. Ты мне срочно нужен.
— О-гоу! Королеве понадобился Бобби, и вот он уже счастлив вдвойне…
— Бобби, это серьезно.
— О’кей. Но кажется, я еще женат… Однако, когда ты в Берне? Дневным?
— Нет, Бобби, вечерним ты в Париже.
— У меня там, кажется, нет дел. Теперь я торгую преимущественно в Центральной Европе, к сожалению. О, Париж! О, Мирей!..
— Я звоню по твоим торговым делам, между прочим. Сделка может оказаться сверхвыгодной.
— Май диа, я уже не верю в такие сделки. Но чтобы встретиться с тобой… Прилечу вечерним и сразу позвоню.
Вечер
Мирей врубила магнитофон на полную громкость. Кассета какой-то сумасшедшей рок-группы.
— Не оглохнем?
— Главное, чтобы оглохли возможные они, Бобби.
— Кто?!
— Ребята вроде тебя.
— О-гоу?!
— Не валяй дурака, Бобби, я знаю, что ты из ЦРУ. Когда-то, очень пьяный, ты сам сказал мне об этом.
— Да-а?.. Май диа, такие разговоры у порядочных людей не считаются.
— Не считаются, не считаются, Бобби. Однако к делу! Некто, похоже, изобрел средство от радиационной болезни. Пока эта версия стопроцентно не проверена, она немного стоит, но доказанная — она бесценна! Надеюсь, ты это понимаешь. Средство от рака по сравнению с этим — сентиментальная забава медиков и старичков. Эта штуковина может перевернуть мир.
— Стоп! Ты понимаешь, как здесь становится жарко?
— Проверь, Бобби! В каждом моем миллионе — твои двадцать процентов.
— Но почему именно мои?
— Такое дело можно доверить только серьезной фирме. Мне нужен весь пакет акций. Сенсация в полную собственность!
— Дело тут не в сенсации. Помолчали.
— Подумай, Мирей. Это из зоны большой политики. Самой большой. Это — жернова. Тут ничего невозможно предвидеть. Поэтому хорошенько подумай, девочка. Это говорю тебе я, опытный торговец, гайлар из Техаса — боевой парень. И пока ты не сказала мне “о-гоу!” — никакого разговора у нас не было.
Она рассмеялась:
— О-гоу, Бобби! Проверяй. Источник информации — Луи Кленю.
Днем через два дня
— Мсье Луи, я к вам как представитель специальной комиссии ВОЗ. Прошу ознакомиться с моим мандатом. По письму господина Жиро.
— Де Жиро?!
— Да, мсье. Вам знакомо это имя?
— Конечно. А что за письмо?
— Знаете, нам пишут о чем угодно. Особенно охотно — о выдающихся методах лечения. Чаще всего это чушь, бред, непризнанные гении.
— И что вам написал Жиро? Как вам известно, я ведь не медик.
— Да, мсье. Жиро ссылается на вас, как на очевидца своего открытия или изобретения. Он прямо указывает на вас. Я все понимаю, мсье, и прошу учесть, что в данной конкретной ситуации я выступаю как неофициальное лицо. Хотя Всемирная организация здравоохранения имела право сделать официальный запрос в ваше ведомство.
— О господи!.. Видите ли…
— Шарль Грани, к вашим услугам, мсье.
— Видите ли, мсье Грани, по роду своей работы я не имею права ни на какие разговоры…
— Понятно! И тем более на действия, не так ли? Вот мы и решили не ставить вас в пикантное положение. Нам лишь нужно убедиться, что этот господин Жиро не сумасшедший, а то, что он пишет, хотя бы отдаленно соответствует действительности. Вот и все. Только в этом случае с ним смогут вступить в контакт компетентные люди. Честно говоря, мсье, я сам не медик и даже не знаю содержания письма. Я юрист.
— Ах, так…
— Да, мсье. От меня требуется лишь подтверждение, заметьте, даже не письменное: да, некий господин Жиро существует, и весьма известный специалист в определенной области сам видел его изобретение в действии. Вот, собственно, и все, мсье.
— Ну… Я не видел самого этого изобретения непосредственно…
— Не будем вдаваться в подробности, мсье, поскольку я, судя по всему, осведомлен меньше вас о содержании письма. Но — главное?..
— Да, мсье Грани! Я был потрясен.
— Благодарю вас, мсье. И не беспокойтесь. Ваше имя нигде не будет фигурировать. Если вы, конечно, сами этого не захотите.
— Ну что вы! Для меня это может оказаться плачевным. Но понимаете, де Жиро мой друг, это произошло случайно, по крайней мере, для меня…
— Я вас понимаю, мсье. О-гоу, за нас можете решительно не беспокоиться. Ну, какое дело ВОЗ до нарушенных вами инструкций?
В конце дня через день
— Только моя жена варила такой кофе…
— Еще чашечку, комиссар?
— Не откажусь, мадам. Знаете, не откажусь. Так вы говорите — ничего необычного вчера не заметили?
— Нет, комиссар. Я читаю допоздна. Слышу, как возвращаются все жильцы. Мадам Мирей обычно приходит поздно… Да, теперь уже — приходила. Какой ужас, господин комиссар, какой ужас! Она была очень славная, добрая и порядочная. В современном понимании, конечно. В наше время такая женщина была бы совсем другой. Я имею в виду стиль жизни, поведение…
— Возможно, вы правы, мадам, нравы быстро меняются, и не в лучшую сторону. Так вы говорите — она пришла не одна?
— Да, комиссар. Но знаете, ее приятели и приятельницы производили очень хорошее впечатление. А один, господин Луи, был определенно из высшего общества. Несомненно, еще тридцать лет назад это была бы совсем другая женщина. Если бы не этот ужасный век, могла бы стать второй Жорж Санд или Кюри… Она ведь была большая умница! Но в наше время люди серьезно задумываются только над тем, как заработать побольше денег. А когда люди не думают о жизни серьезно, это развращает. И знаете, комиссар, особенно развратили нас американцы. Это просто как злокачественная опухоль.
— Да, мадам. Насчет развращения вы правы. А кто с ней был в этот ее последний вечер, вы не знаете?
— Нет, комиссар. Но, поднимаясь к себе, мадам Мирей говорила весело. Это был кто-то из ее друзей… Ах, какой жестокий век, господин комиссар! Люди совсем потеряли жалость друг к другу. Что же это происходит, господин комиссар?
— Хм, мадам… Наверное, жизнь стала слишком быстрой. Люди едва успевают зарабатывать деньги.
— Ах, деньги! Старое заветное “не в деньгах счастье” совсем забыли. Сейчас даже бедняки не утешают себя этим, а берутся за нож или яд… Вы не допускаете самоубийства? Нет, нет, конечно, такая женщина, как мадам Мирей, просто не способна на такое. Она была удивительно жизнелюбива, общительна!.. Еще чашечку?
— Благодарю, мадам. Для моего сердца, знаете, достаточно.
— Куда мы катимся, комиссар, скажите мне? Катимся! Ведь люди сами создают свой мир, а кто же еще, мсье? Разве не так?
— Наверное, вы правы, мадам. Это очень мудро, но жизнь не считается с нашей мудростью. Она прет себе, ей-богу…
— Ах, мсье, вы говорите — она прет. Нет, это мы сами прем. Или, наоборот, лежим, как камни. Так и получается: одни прут, другие лежат. Мы, когда были молодыми, все больше лежали, и от этого вышло много бед. Тот же бандит Гитлер… А нынешние прут, но, кажется, не туда.
Комиссар рассмеялся:
— Мне с вами очень приятно беседовать, мадам, знаете… Но к сожалению — дела. Если разрешите, я еще как-нибудь зайду к вам. А?
— Буду рада, мсье. Вы мне тоже очень понравились.
Жаркий месяц рамазан
Саня числился старшим механиком группы и был ее парторгом. Парень неторопливый и спокойный на грани флегматичности, но по самой физиологии своей натуры был чужд любой поспешности и суеты, а потому вставал на час раньше всех в “гостинице у Альбино”, проделывал, невзирая на погоду — в жару ли, в дождливый ли сезон, — свои три километра привычной ленинградской трусцой, купался в речке, из которой после установки на берегу дизеля разбежались перепуганные крокодилы, и шел на кухню к повару — “люкс” за своим кофе и завтраком, когда остальные трое обитателей “гостиницы”, хмурые, потные, невыспавшиеся, угрюмо брели только в душ, чтобы потом, уже опаздывая, хлебнуть кофе и на ходу изжевать, как лекарство, свою порцию обязательного, предписанного доктором из посольства соленого голландского сыра.
Саня являл собой нечастый, вероятно, образец человека, совместимого с любым коллективом в любой экстремальной ситуации. Внешность у него была наиблагодушнейшая: круглое простое лицо с кустистыми бровями Деда Мороза, квадратная мешковатая фигура, — но сколько самодисциплины и терпения!
В это утро Саня принес безрадостную весть: на их землю пришел большой праздник рамазан. А в неведении они оказались по собственной вине, потому что кто же не знает о большом празднике рамазан? Выяснением, на сколько запланирован пророком Мухаммедом этот праздник, Овечкин решил заняться завтра. Не хотелось смущать радостных хозяев своим невежеством. О том, что рамазан — один из месяцев мусульманского лунного календаря, он знал. И что благоверные мусульмане этот месяц будут питаться только по ночам — тоже. Но очень надеялся, что гулять-то они так долго не должны. Может быть, первый денек только? Навряд ли халифы, шахи, муллы и баи поощряли народное безделие…
Саня, как хороший взводный, организовал профилактику технике, чтобы не расслабиться ненароком в период религиозного праздника.
— А после обеда — кино.
— Заказываем “Белое солнце пустыни”. Тематический прогон!..
Фильм этот знали наизусть, но все равно смотрели всякий раз с удовольствием, предпочитая всем остальным, что в железных коробках притихли в углу столовой. Может быть, потому, что чудеса храбрости, ловкости и неутомимости революционный солдат Сухов демонстрировал с шуточкой и улыбкой в знойных песках?..
Как там доставалось солдату Сухову в пустыне, можно было только догадываться, а тут после дождей стояла невыносимая духота. Казалось, в первый же день уразы Аллах решил серьезно проверить своих детей. “Но мы-то здесь при чем? — горестно думал Овечкин, роняя на чертежные листы капли пота и размазывая на исписанных страницах мокрыми пальцами засохшие чернила. — И вот после всех эти мытарств приедешь домой красный, как вареный рак, — сокрушался Овечкин. — А все небось ждут негра. Вообще не поверят, что человек год прожил в Африке…”
Шум и крики за окном отвлекли его от бумаг и невеселых мыслей. Овечкин неторопливо прошлепал к окну, прихватив полотенце, и стал наблюдать.
Внизу, у дверей амбулатории, несколько человек в шортах, определенно жители поселка, окружили парня в одной набедренной повязке и галдели, размахивая руками, а тот кричал что-то, обливаясь слезами. Наконец в дверях появился Оноре, долговязый, сутулый, с обвисшей от пота рыжей копной седеющих волос и утомленным лицом — просто дух уныния и только. Он стал что-то негромко втолковывать парню в набедренной повязке, но стоило ему замолкнуть, как всеобщий гвалт и крики парня возобновились. Доктор стоял подбоченясь и повесив голову на грудь. Сверху казалось, что он заснул стоя, как утомленная лошадь. В последние дни он, похоже, вовсе не ложился спать. Когда бы Овечкин ни проснулся, он слышал шаги, или скрип дверей, или какой-то шум в комнате, где стоял автоклав… Очевидно, Оноре работал как одержимый. Но над чем? Что это была за работа? Почему он так изнурял себя? Овечкин был почти уверен, что этот всплеск активности связан как-то с появлением в поселке коммивояжера. Но почему?!
Американец укатил через два дня на таком грязном автомобиле, что даже вблизи его кузов казался вылепленным из красной глины.
После памятной размолвки контакты Овечкина и Оноре сильно “пригорели”. Они едва здоровались. В очередной уик-энд Оноре был занят своей загадочной работой и у бара не появился вовсе. Шьен примирительно махал Овечкину хвостом, следуя мимо за хозяином, словно говорил: “Нам теперь не до разговоров и вина, Жан…”
Овечкину стало жаль доктора, и он крикнул:
— Что случилось, Оноре? Я не могу помочь?
— У парня что-то с женой после родов. Но разве их поймешь? Первая, единственная — и баста. Съездил бы, да мой “лендровер” сидит на двух ободьях. И два дня теперь никто за него не возьмется…
— О-о!.. — выл парень.
— О-хо-хо, медсен… Медсен нехорошо, нехорошо!.. Большой праздник — нехорошо… Аллах видит… — галдела, обсуждала, просила и возмущалась неизвестно чем толпа — не то несговорчивым врачом, не то парнем, призывавшим его на помощь в большой праздник рамазан, когда Аллах особенно внимательно смотрит на мусульман и, значит, еще строже выполняет все, что начертал каждому.
Овечкин натянул шорты и спустился.
— А это далеко?
— Нет. Там, где вы брали камень.
— А, это действительно недалеко, — обрадовался Овечкин. — Километров восемь, меньше часа. Давайте на нашей.
Оноре морщился, хмурился, ему смертельно не хотелось ехать. Парень замолк и внимательно наблюдал за белыми, словно понимал их разговор.
— Надо съездить, Оноре.
Француз вяло махнул рукой и пошел в амбулаторию.
Овечкин решил не отрывать никого от дела, оставил записку в столовой, и они поехали. Вчетвером. Шьен полез в кузов вместе с парнем очень неохотно: привык ездить в “лендровере” рядом с хозяином.
Деревушка располагалась на небольшой лесной поляне — несколько круглых хижин из сухих стеблей тростника лалы, который здесь называли слоновой травой. Вход в хижину — дыра, прикрытая циновкой, а за нею — длинный темный коридор вдоль наружной стены дома и дыра во внутренней стене через полкруга. Лабиринт от зверей и гадов. Овечкин, как строитель и ненавистник гадов, сразу одобрил идею В их поселке хижины тоже были круглыми, но одноконтурными.
Внутри было много народу. На земляном полу посредине горел небольшой костер из трех поленьев, уложенных по-охотничьи торцами к центру, и старый седой африканец отрешенно сдвигал время от времени поленья к огню. Старуха кипятила воду. Больная находилась на одном из бамбуковых лежаков, что приткнулись к стене по периметру хижины. У другого лежака возилось еще несколько женщин.
Овечкин, переминаясь, стоял у входа, всеми забытый, и казнился теперь своим неуместным любопытством. Нечего было переться в хижину, где все заняты роженицей и новорожденным, просто неловко…
Оноре между тем закончил осмотр и говорил что-то окружившим его женщинам. Одна из них держала на руках ребенка. Оноре ласково, чем немало удивил Овечкина, похлопал малыша по ручонке, улыбнулся и пошел из хижины. Овечкин поплелся за ним.
Шьен сидел в кабине, заняв привычное место рядом с водительским. Яростное африканское солнце накаляло влажный воздух, как в хорошей парной. В голове стучало, словно туда переместилось сердце.
— Поехали, Жан. Через час мы начнем испаряться в вашей железной коробке.
— А как роженица?
— Обречена. Здесь это часто.
— Да что ты!.. — расстроился Овечкин. — Никак?..
— “Никак” тут не подходит, Жан.
Овечкин смотрел на него, открыв рот, не понимая. Возможно, просто дышал с трудом в этой парилке. Одним словом, выглядел довольно глупо.
— Я не понял, Оноре. Что значит “тут не подходит”?
— Ей нужна хорошая больница. Я бессилен.
— Ага, а больница?.. — обрадовался Овечкин.
— И притом быстро. Тогда, возможно, появилась бы надежда. Ну, поехали. — Он обернулся к все еще улыбавшемуся парню и сказал что-то, кивнув в сторону хижины.
— Подождите, Оноре! — решительно сказал Овечкин. — Так мы отвезем ее в больницу.
Француз вроде бы даже присел, будто его неожиданно двинули сверху по голове.
— Куда вы собираетесь ее везти?
— В город, наверное. Ближе ведь нет?
— Вы спятили, Жан. Это больше двухсот километров, и половина — только название “дорога”.
— Но ведь вы сами говорите, что иного выхода нет! — удивился Овечкин.
— Их помирают тут сотни, рожающих и родившихся. Понимаете, Жан, такая у них тут судьба.
— Какая судьба? У нас же машина…
— А в пяти километрах отсюда? А в десяти, в ста, в тысяче? Там же нет вашей машины! Сумасшедший… За восемь — девять часов пути она может три раза помереть. И вы вместе с нею на этой сковороде.
— Но может, мы ее спасем…
— А всех остальных?
— Что вы предлагаете? — с ужасом спросил Овечкин.
— Не валяйте дурака. Поехали.
Парень переводил взгляд с одного говорившего на другого. И наверное, понял. Складывая руки, как на очередном намазе, он горячо затараторил что-то, но Овечкин никого не видел уже и ничего не слышал.
— Я ее не брошу вот так, Оноре. Слышите?
— А остальных? А остальных?!
— И остальных! — крикнул Овечкин. — Я не могу с этим мириться, Оноре! Это… не по-человечески!
Солнце палило нещадно Кучка африканцев молча стояла за спиной перепуганного парня. Что они думали об этих двух белых, чего ждали от них? Оноре растерянно смотрел на Овечкина.
— Скажите им, чтобы собирали больную, — тихо сказал Овечкин и пошел к машине, голенастый, красный и несуразный в этих джунглях, действительно похожий на вареного рака в тропическом костюме.
Он сидел в тени “пикапа”, устало вытянув ноги, и ни о чем не думал. Шьен поглядывал на него из кабины свысока. Потом пришел Оноре, сел рядом и закурил. Из деревушки доносились возбужденные голоса.
— Что там?
— Не хотят отпускать ее. Рамазан, и вообще…
— А муж?
— Он один…
Овечкин поднялся.
— Будьте осторожны, — сказал вдогонку Оноре. Потом тоже неохотно поднялся. Шьен выпрыгнул из кабины.
Больную положили в кузове на циновку, муж с калабасом воды и Шьен разместились рядом, и они тронулись в путь. Оноре молча курил, пуская тонкими струйками дым через окно в джунгли. Овечкин вел машину осторожно. Она раскачивалась, кренилась, ныряла в черные озерца, скрежетала железом по притаившимся в воде камням. Оба время от времени оборачивались и заглядывали в кузов.
— Я не поеду с вами в город, Жан. Не могу, дела.
В джунглях было не так жарко, но духота сгустилась до того, что казалось, воздух можно резать ножом, как желе. А еще бы лучше — черпать большой ложкой и куда-нибудь выбрасывать.
— Это два дня, которых у меня нет. Мне нужно торопиться. — Оноре словно оправдывался. Овечкин молчал. — И ей от меня никакого проку. А вам нужен напарник. По такой жаре одному не проехать.
И опять Овечкин промолчал.
— Вы меня слышите, Жан?
— А куда от вас денешься?
Оноре смотрел на него, а Овечкин — невозмутимо вперед на дорогу.
— Напрасно вы так, — сказал наконец устало Оноре.
— Почему же напрасно? Неужели до вас ничего не может дойти?
— А что до меня должно дойти? Может быть, это до вас никак не дойдет, что на этом огромном материке почти везде один врач на несколько десятков тысяч человек, что люди эти темнее своей кожи и нельзя быть донкихотами, хотя бы для того, чтобы постараться помочь по-настоящему не одному, а многим.
Овечкин прибавил ходу.
— Помогать и болтать — разные вещи. Почему они темнее своей кожи в конце двадцатого? — Он быстро смахнул рукой струившийся по лицу пот. — Почему они все безграмотны? Где их врачи, их собственные, а не вы, безразличные французы?..
— Вы не имеете права, Жан…
— Имею! Вы привычно готовы были бросить умирающего человека. Вы здесь сто лет и через сто лет говорите мне, что моя машина тут единственная на тыщи километров. Да это… Ч-черт знает что!..
“Пикап” подпрыгнул, перепуганно хрястнули амортизаторы, но ничего — запрыгал дальше. Овечкин крутнулся, сморщившись, словно этот прыжок причинил боль ему, заглянул в кузов. Парень склонился над женой, обтирал ей тряпицей лоб.
— Не делайте меня ответственным за многовековую политику… — устало сказал Оноре.
— А за что вы, лично вы ответственны?
— Оставьте эту демагогию, Жан, — раздраженно сказал Оноре.
— Демагогия… Так же будет и с атомной войной. Не в ответе он, видишь ли, за политику… — не мог остановиться Овечкин. — Тараканы перепуганные, после вас хоть потоп!
— Послушайте, прекратите! Или я выйду!
— Нет, это вы прекратите! И я вас не держу. Вам торопиться, кстати, некуда. Одна собака и та с вами.
— Вы, оказывается, жестокий хам. А я — то считал вас добряком…
— Заблуждались… — Машину бросало в ямы, на ухабах Овечкин остервенело играл педалями, крутил рулем и головой, заглядывая все время назад, в кузов. Он был взъерошен, мокр и необычно возбужден. — Добреньких теперь им захотелось… Да я бы всех вас передушил собственными руками за этих несчастных африканцев! За сто лет не помогли людям хоть немного на ноги встать. Все “давай”, “давай”! Хапуги паршивые! Что тут после вас осталось, кроме двух бетонных домов и нескольких рабовладельческих шахт? Постеснялись бы про доброту хоть говорить! Цивилизованная нация…
— Да что вы, ей-богу! — взорвался Оноре. — А вы несете ответственность за тех, кто после семнадцатого убит или бежал, за их детей и внуков, миллионы которых и сейчас шатаются по всему свету? За всех ваших арестованных и расстрелянных — несете? Вы лично, Жан де Бреби!
Овечкин ударил по тормозам, и машина загнанно ткнулась носом в очередную яму.
— Да! Я, Иван Овечкин, несу за это полную ответственность! Хоть я и не знал… И не потерплю больше рядом бездушного, и знаю: все, что у нас не так, — из-за меня! И дети мои будут такими же, провалиться мне на этом самом месте!.. А эту чертову машину я хочу купить для них же — чтоб не чувствовали себя хуже других!.. — Он кричал по-французски, вставляя русские слова и не замечая этого. По осунувшемуся лицу текли слезы, смешиваясь с потом.
— Успокойтесь, Жан, прошу вас… — бубнил ошеломленно, успокаивая его, как ребенка, Оноре. Он тоже был мокрый и дрожал, словно в ознобе. Они сидели в тесной кабине друг перед другом, потные, со спутавшимися на лбу волосами, и Оноре горячечно бормотал: — Да, да, я понимаю тебя… Я ведь тоже хотел бы… Я был бы счастлив… Однако… Ах, Жан!.. Чистая ты моя душа…
За стеклом, отделявшим кузов от кабины, лаял Шьен и маячило горестное лицо парня.
В поселке Оноре вышел, а за руль сел Саня. Они ехали не останавливаясь, ведя машину по очереди, восемь часов. И ночью еще живую женщину передали по записке Оноре заспанной негритянке в бело-голубом халате. Здесь же у больничной ограды, в машине, они завалились спать, не сказав за последние несколько часов друг другу ни слова, — Овечкин, Саня и парень-африканец.
В обратный путь собрались, пока не взошло жестокое африканское солнце. Столица неизменно отпугивала Овечкина своими раскаленными улицами. И хотя, отправляясь в город, он обязательно надевал пластмассовые босоножки, поднимавшие его длинными шипами сантиметра на четыре над сковородой семидесятиградусного асфальта, ощущение ненадежности этих защитных мероприятий не оставляло его. А сейчас без них…
Прощание сонных мужчин было коротким.
— Рюс, — сказал парень, крепко пожимая им руки. — Абдулла. Спасибо.
— Абдулла хорошо. Друг, — сказал Овечкин на диалекте и по-русски.
— Друг… — повторил парень по-русски и улыбнулся: — Абдулла друг!
“Ну, Миклухо-Маклай!” — смеялся Саня, выжимая по пустынному шоссе все, на что способен был их “пикап”. До восхода на скорости духота была вполне терпимой. Они очень устали, но им было так легко и радостно, как, наверное, никогда еще в этой чужой стране.
Асфальтированную часть пути проскочили за час. Около полудня сделали остановку и пообедали (или позавтракали) неизменным соленым сыром и кофе из термоса, которые захватил, несмотря на спешку, предусмотрительный “взводный” Саня. На привале Овечкин узнал, что уже сутки его ждет корреспондент столичной газеты: очерк о развитии района, о технической помощи русских и все такое прочее.
“Рановато для очерка”, — буркнул Овечкин, сам еще не понимая, что встревожило его в Санином сообщении. Позже, осторожно въезжая в заполненную водой рытвину, он вспомнил слова Оноре: “Ждите новых людей”. Слова звучали несомненно угрожающе. Оноре опасался чего-то и предостерегал. От чего? “Они могут оказаться более опасными для вас”. Время от времени Овечкин возвращался к этой фразе доктора, несмотря на то что она с самого начала казалась ему невероятной чутью. Чего ему, Овечкину, опасаться каких-то людей? Кого он здесь знает, кто знает его? На всем Африканском континенте не наберется и дюжины таких. Если бы опасность угрожала всей группе, тогда можно было бы понять: мало ли колониального отребья бродило еще по неспокойному континенту — всяких наемников, вооруженных банд, купленных, обманутых, натравленных, запуганных, — но чтобы ему лично…
В “гостинице у Альбино” ребята давно их ждали, открыли несколько баночек кетовой икры и крабов. Стол был праздничный.
“Атеистический вариант праздника рамазан”, — определил Овечкин. Лицо осунулось, кожа стала серой, но он довольно потирал руки. Больше всего на свете он любил кетовую икру.
К себе Овечкин отправился, когда ненасытное солнце угомонилось наконец в джунглях.
В амбулатории горел свет, и, поднимаясь по лестнице, Овечкин слышал, как звенит и рассыпается там стекло. Похоже, Оноре бил посуду. Но сейчас Овечкину на все было наплевать. Он мечтал, как, завернувшись в мокрую простыню, плюхнется наконец под родной противомоскитный балахон, и еще на лестнице снимал рубаху. Но лечь сразу ему не удалось. Возвращаясь из душа, он застал в гостиной своих соседей в полном составе. Оноре стоял посреди комнаты в рубахе такой же мокрой, как простыня Овечкина, взъерошенный больше обычного и очень серьезный. Шьен, не менее серьезный, сидел рядом.
— Алло, Жан, есть новости… Вы довезли ее?
— Конечно, — довольно оскалился Овечкин.
Оноре хмуро кивнул:
— Вы молодчина. Так вот, посмотрите, все ли у вас на месте. У нас был основательный обыск.
— То есть как?.. — опешил Овечкин, продолжая улыбаться.
— Я же говорю вам: очень основательный. По крайней мере, у меня.
— Нет, но кто… Как это произошло?
— Посредством взлома замков. Собственно, у вас, по-моему, дверь не запирается. — И Оноре пошел к себе.
Овечкин тупо уставился в его спину.
— Послушайте, а вы сообщили в полицию?
Оноре обернулся.
— Забудьте здесь это слово, Жан.
— Но когда это могло случиться?
— Пока мы путешествовали по джунглям. Кстати, вы знаете, что тут появился журналист из столицы?
— Да.
— Он искал вас. Один раз я его уже выгнал. Вы виделись с ним?
— Еще нет.
— Он такой же журналист, как я французский президент. Вуаля.
Установить, что у него проверяли даже книги, не составило Овечкину труда. Однако никаких пропаж не обнаружилось. Озадаченно почесав затылок, он ругнулся и полез под москитную сетку с твердым намерением с утра серьезно заняться наконец всеми этими, теперь уже возмутительными, обстоятельствами, включая загадочное поведение и намеки француза. Засыпая, слышал стук когтистой лапы Шьена, слышал, как Оноре запирает дверь внизу, потом в гостиной и — черт возьми! — придвигает, кажется, к ней стол…
За завтраком в “гостинице у Альбино” Овечкин рассказал о случившемся. Все были озадачены. Местные жители о воровстве со взломом неизвестных им замков определенно не имели представления. Поражало наглое бесстрашие: ведь лезли днем, когда Оноре с Овечкиным на несколько часов покинули поселок. Действовали, конечно, профессионалы.
Всем было понятно, что центральная фигура в этой истории — француз, но поскольку никто ничего, кроме его приемов в амбулатории и уик-эндов с Овечкиным, об Оноре не знал (длительные отлучки на “лендровере” приписывали развлечениям в столице: французы не русские, в удовольствиях себе не откажут), то даже версий никаких не возникало. Только треп.
— Может, ревнивый муж ищет даренные жене подвески?
— Тогда надо найти мужа, пока он не замучил Овечкина…
Работы на строительстве благополучно возобновились, но теперь их продвижение сильно замедлилось, пропорционально замедленному движению сонных фигур на площадке. Хотя, по заверениям опытного Сани, успевшего уже построить что-то не то в Иране, не то в Афганистане, “здешний мусульманин совсем не тот”, ураза соблюдалась довольно строго: ели, пили и веселились ночами исправно. Костры горели допоздна, отражаясь в темных водах реки, пугая зверей, сгущая и без того непроглядную черноту ночей.
Саня, верный своей генеральной линии, проводил атеистическую пропаганду с тонким учетом местных особенностей.
— У тебя сколько жен? — допытывался он у постящегося строителя.
— О, только две.
— А у твоего брата — триста.
— Откуда знаешь? — смеялся строитель.
— Не меньше. Иначе какой он бог? Так что днем он спит. Не сомневайся. Ты вон и то на ходу засыпаешь. Свободно можешь есть, не увидит.
И некоторые тайком брали шоколад.
— Э, шеф Овэ! — Пти Ма махала Овечкину рукой. — Подойди, поговори. — Блестела белыми зубами. — Мне — тебе кое-что… — Говорила она с ним на удивительной смеси французского с диалектом при интенсивной поддержке мимики и жестов. “Мне — тебе” она произнесла тихо и серьезно, продолжая при этом улыбаться. Овечкин насторожился. — У твой дом — нехороший человек. Боюсь.
— Когда?
Она показала два пальца и махнула, словно бросая их за спину.
— А что за человек, Пти? Наш? Стройка? Поселок?
Она крутнула головой. И все продолжала улыбаться. Овечкин понял, что она действительно боится.
— Где мой дом, жил. Ушел пиф-пиф… Много… — И опять словно бросила все пальцы обеих рук за спину.
— А где он? Ну, у кого он может жить? Здесь — где?
Пти Ма слегка развела руками Посмотрела в сторону джунглей.
— Он был вооружен? — Овечкин тоже пытался изображать. — Пиф-пиф?..
Она пожала плечами. Потом, подумав, дотронулась до его рубахи и обвела руками вокруг своей набедренной повязки.
— Боюсь, Овэ. — И широко улыбнулась ему в лицо.
— Спасибо, Пти. — Овечкин растроганно пожал ей руку. — Не бойся, ничего со мной не случится. И больше не говори об этом никому. — Он приложил палец к губам, и она кивнула.
Бандит был вооружен?.. История принимала совсем паршивый оборот… Французу, несомненно, грозит большая опасность. И он знает о ней, но молчит. Может быть, эта опасность как-то связана с его занятиями? Но что же это?! Овечкин решил все рассказать наконец Сане и ребятам Теперь он не сомневался в словах Оноре, что появление в поселке новых людей не случайно.
Саня внимательно выслушал, удивленно подняв кустистые брови.
“Ну, дела!. Может, подождем ребят тревожить? А я тебя подстрахую?..”
На том и решили. И еще: серьезно поговорить с доком.
Корреспондент появился на строительной площадке перед обедом. Это был спортивного вида стройный негр, в белоснежной наглаженной рубахе, с часами-браслетом, небрежно болтавшимся на запястье. Овечкин как-то сразу уверился в том, что этот человек совсем не тот, за кого себя выдает. Настораживали и не очень характерные для журналиста мощные борцовские бицепсы, а возможно, сказалось и безапелляционное заключение Оноре: “Он такой же журналист, как я французский президент”. По крайней мере, Овечкин решил использовать преимущество человека, знающего о собеседнике больше, чем тот предполагает. Однако вскоре он убедился, что ошибается.
“Корреспондент” и не пытался убедить Овечкина, что он тот, за кого себя выдает. Казалось, он использует маску совершенно открыто, как одно из условий игры. Но в том-то и была беда Овечкина, что ни условий, ни самой игры он не знал. “Корреспондент” о чем-то спрашивал, но ответов даже не слушал. Изучал Овечкина, бесцеремонно разглядывая его, как и Саню, и других ребят, появлявшихся время от времени в поле его зрения. Наконец Овечкин обозлился и сказал вызывающе: “Вот что, милый. Напиши перечень вопросов и оставь адрес. Мы ответим. Нет у меня времени тары-бары разводить. Адье”. И ушел, определенно удивив “корреспондента”. Сыграй Овечкин инженера-простачка, этакого белого интеллигента в знойной Африке, — кто знает, может, все обернулось бы по-другому. Но очень уж не понравился ему “корреспондент”. А тот понял, что парень перед ним крепкий, не трус и скорее всего бескомпромиссный. На языке сыска это, кажется, называется “расколол”. А может быть, на языке сыскарей.
Сразу после ужина Овечкин отправился к Коммандану. В свете заходящего солнца под навесом, где обычно Коммандан читал газету, “корреспондент” раскладывал пасьянс и потягивал вино. “Не набожный”, — усмехнулся про себя Овечкин, но тут же почувствовал, что его наблюдение очень серьезно: пожалуй, никто из местных африканцев, даже столичных, не станет так открыто пить в уразу вино. Он вдруг ясно понял: дело по-настоящему нешуточное.
“Корреспондент”, как и прежде коммивояжер, остановился у Коммандана. У него обычно останавливались все редкие гости поселка. Приобщенный к цивилизации Коммандан делал свой скудный бизнес.
Сегодня Коммандан, в неизменно потертых брюках и без пиджака, показался Овечкину усталым и неуверенным в себе, возможно, по контрасту с поджарым, спокойно раскладывающим карты “корреспондентом”.
— Взломали двери?.. Этого не может быть, шеф Овэ. Медсен клевещет на негров. Этого не может быть… — бубнил Коммандан.
“Корреспондент” небрежно бросил карты, поднялся и легко зашагал от дома, потряхивая браслетом.
— Так что же, по-вашему, он сам взломал?
— Не знаю, шеф Овэ, не знаю… Но медсен не любит темнокожих.
— При чем здесь цвет кожи!
— А как же, шеф Овэ? Вот вы же пришли ко мне?..
— Я пришел к вам, как к представителю власти. А к кому мне обратиться? Не к полицейскому же, что стоит у банка мсье Альбине.
И тут Оноре оказался прав: затея была бесперспективной. Неизвестно, участвовал ли Коммандан во всей этой непонятной игре или нет, но даже одна неприязнь к доктору вполне могла сделать его участником.
Овечкин зашел в “гостиницу у Альбино” и рассказал Сане о посещении Коммандана. Они договорились, что будут ставить друг друга в известность обо всем, что заметят или услышат.
— Минут пятнадцать назад “корреспондент” поднялся к доку, — сообщил Саня.
Овечкин ринулся домой, и Саня неторопливо вышел следом.
“Корреспондент” и Оноре сидели у столика, почти так же, как в прежние уик-энды Овечкин и док, только француз на этот раз был строг и напряжен, а Шьен не лежал у его ног, а сидел рядом, настороженный, не сводя темных глаз с гостя. Еще открывая дверь, Овечкин услышал голос Оноре: “Как вас там… Скажите вашим хозяевам…”
Оба повернули к вошедшему головы. Только Шьен не отрывал взгляда от “корреспондента”.
— Ну как картинка, Жан? Двое рыжих против одного черного, — усмехнулся Оноре. — Хорошо бы вам сфотографировать нас. Уверен, эта фотография пригодится. А, как вас там?..
“Корреспондент” рассмеялся:
— Вы шутник, однако, мсье Оноре. — Он быстро поднялся — и замер: собака, ощерившись, уже стояла перед ним.
— Опасно быть таким резким, господин… как вас там?
— Вы меня выпустите?
— С удовольствием. Но имейте в виду: в следующий раз — через окно.
— О, да вы опасный шутник!
— Ладно, проваливай, — хмуро сказал Оноре. — Сидеть, Шьен.
Когда они остались одни, Овечкин спросил:
— Вы можете мне объяснить, Оноре, что происходит?
— Присядем. — Оноре задумчиво, словно решаясь на что-то, смотрел на Овечкина. Потом сказал: — Он пытался меня запугать. — И по-своему криво усмехнулся.
— А что, это возможно?
— Думаю, что нет, Жан. Я уже умер однажды. Теперь живет лишь видимость меня. Призрак. Можно запугать призрак?
— Я не уважаю мистику, как инженер, атеист и реалист. Не играйте мне Шекспира, Оноре.
Француз рассмеялся:
— А вы совсем не де Бреби. И не русский медведь. Вы лиса, Жан.
— Не будьте обезьяной, Оноре, — рассмеялся и Овечкин. — Не повторяйте глупостей. Я человек. И вы тоже. Совсем не призрак. Кстати, ле Гран Эритье. Вот только я так и не понял: наследник чего?
— Действительно, Жан, чего?..
— Мы просто люди, Оноре. Как бы ни пыжились, что бы о себе ни думали, какие бы должности ни занимали. Весь вопрос в том, какие люди? От этого зависит все и в нашей жизни, и в мире.
Оноре не отрываясь смотрел на Овечкина.
— Ах вы мой агитатор… “Сила и свобода — вот что делает человека прекрасным”. Так сказал Жан-Жак Руссо. Понимаете: все или ничего! Наверное, к этому стоит стремиться.
Это “наверное” здесь смазало и “силу”, и “свободу”, и даже стремление.
— Сила и свобода делают человека прекрасным? — медленно повторил Овечкин. — Вы уверены, что это Руссо?
— Конечно.
— Странно.
— Что?
— Да ведь это фашизм, Оноре, если без обстоятельных разъяснений. Какая сила, для кого и чего свобода, каким путем обретенные? Разве каждый человек может быть сильным, а слабый не может быть прекрасным? Я могу предложить вам еще десятки вопросов, но, по-моему, и без них афоризм рассыпается. А в чистом виде он фашистский. Вам импонируют фашистские идеи?
— Я ненавижу фашизм, как любое насилие. Всякого насильника я готов размазать по стене.
— Но тогда вы сами становитесь насильником, — рассмеялся Овечкин. — Так как же с “силой и свободой”?
Оноре усмехнулся:
— Вы мне нравитесь, Жан. Хотя, честно скажу вам, смущаете. Силу и свободу я понимаю, вероятно, “ак и Руссо, применительно только к личности.
— Так, наверное, не бывает…
Оноре рассмеялся:
— Сильно вы мне усложняете жизнь. До вас все, кажется, выглядело проще.
— А что я усложнил в вашей жизни? — искренне удивился Овечкин. Он не знал, как принимать слова Оноре — как упрек или похвалу.
— Что-то. В сорок я решил: все или ничего. И много лет твердо шел этим путем.
— Вы сделали открытие, Оноре?
— Если бы не было нашей с вами поездки в джунгли и той женщины, Жан, я бы, наверное, ничего не сказал вам. Но сейчас скажу: да!
— А почему бы не сказали прежде?
— Потому что потому. Вы все были для меня одинаковыми.
— Кто “вы”?
— Все! Сумасшедшие титаны. — Он снова рассмеялся. — А вы оказались совсем не медведем, а милой лисой… Нет, конечно. Котом, простодушным, добрым, но решительным. Или это и есть медведь?
Овечкин озлился:
— Послушайте, Оноре, перестаньте паясничать! Не стройте из себя полубога. Вы обычный, причем уже не очень молодой человек. К тому же рыжий…
— О!
— А рыжие, говорят, неудачливы.
— О! Вуаля!
— Вам известно, что вокруг вашего… нашего дома бродят вооруженные люди?
— “Корреспондент”?
— Нет, Оноре. По всей вероятности, просто бандиты.
Француз задумался, покачал головой.
— Что ж, вполне возможно. Вы боитесь этих черных мусульман, Жан?
— А вы кто — воинствующий христианин, крестоносец?
— Я безбожник, Жан. В отличие от вас, атеиста. Кстати о крестоносцах: знаете, во французском языке одним словом определить человека, совершающего убийство, можно, произнеся название мусульманской секты ассасинов.
— Вы считаете отсюда, “ассасэн” — “убийца”?
— Вполне вероятно, что даже убийц во Христе — крестоносцев — эти мусульмане заставили содрогнуться.
— Ну, вы-то у нас совершенно бесстрашный…
— Да, Жан, им меня не запугать. К тому же я знаю, что меня они не убьют. А вот вас…
— Меня?!
— Да, Жан, вас, — неожиданно жарко сказал Оноре, придвигаясь к Овечкину через стол. — И тогда я себе этого не прощу! Как ни странно, но меня сейчас больше всего волнует именно это…
Вечерние разговоры
В служебном кабинете
— Наверное, было ошибкой, Гарри…
— Ладно, Мак, не будем обсуждать ошибок. Бумаги в чистом виде всегда надежнее людей.
— Да, Гарри. Но он не так прост. Все его бумаги у какого-то юриста.
Пакет будет вскрыт и его содержимое опубликовано сразу же, если с ним что-нибудь случится.
— Значит, все закончено?
— Вероятно.
— Планы?
— Возможно, он намеревается связаться через старых дружков, того же физика-атомщика Луи Кленю, со своим правительством и заполучить что-то еще кроме большого куша.
— Логично. Дальше.
— Его поставили в известность, что все рассказал нам сам Луи Кленю, по доверчивому попустительству которого и стал возможным эксперимент. Он должен был понять, что это именно так.
— Результат?
Мак беспомощно развел руками.
— Чего он, собственно, хочет? Он фанатик-националист, маньяк? Кто?
— Из знатной семьи. Единственный сын. Участник ядерной программы и французских испытаний атомной бомбы в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году…
— Я это знаю. Почему такое уединение при его возможностях?
— Во-первых, вероятно, желание самому реализовать свою идею. Крайне самонадеян. Во-вторых, какая-то любовная история. Семья решительно воспротивилась его браку, слишком решительно. И он порвал с нею.
— С женщиной?
— С семьей. Женщина, кажется, сама ушла.
— Что стало с этой женщиной, кто она и где сейчас? В таком деле “кажется” — непростительный прокол, Мак.
— Нам пока не удалось ничего выяснить о ней. Это было очень давно.
— В мезозой?
— Около десяти лет назад, Гарри.
— Это на вас не похоже, Мак. Стареем?.. Десять лет назад. Поздняя любовь, единственная? Доказать всем?.. Мне нужна эта женщина, Мак. Дальше.
— Система психологического воздействия: дать газетам некоторые подробности гибели известной журналистки Мирей, намекнуть на связь этой смерти с данными, которые она получила у Луи Кленю. Газеты переслать. Второе: убрать Кленю. Как свидетель, он опасен. Тоже известить через газеты.
— Что ж, идея верная — посадить в вакуум и подпустить туда страху. Н-ну…
— Он не выдержит, Гарри. Ему просто некуда деваться. Но все же, если…
— В таком деле, Мак, “если” должно быть исключено. Посмотрите хорошенько окружение. Оно мне не нравится. Теперь о вашем странном предложении со скорпионами.
— В них, несомненно, все дело, Гарри. Мы проследили. Что там такое — пока неясно, но точно — они! Затраты невелики. Все равно нам же придется потом заниматься этим. Предусмотрительность…
— Хорошо. Действуйте.
Лишь только закрылась дверь за Маком, Гарри стал набирать длинный номер.
— Сэм? Прости, что поздно беспокою тебя. Завтра я буду в ваших краях и очень хотел бы встретиться.
— Я уже думал, Гарри, что ты забыл старика Сэма. Стал мультимиллионером, задрал нос, э?
Гарри поморщился. Дурашливость Сэма раздражала его.
— Ты хорошо знаешь, Сэм, я никогда не смогу забыть тебя.
— А, да, да, да, не сможешь, не сможешь… Так что там у тебя?
— Нам необходимо встретиться, Сэм.
— Завтра в двадцать, — неожиданно сухо сказал Сэм.
На широкой балюстраде с колоннадой и пальмами. Вечер следующего дня
— Честно говоря, Гарри, мои старые мозги не улавливают такой уж значительности в этом сообщении. Правда, мне трудно было привыкнуть и к дисплеям, но теперь я их очень люблю, а остальное как-то не вызывает у меня интереса. Что? Ты думаешь, это консерватизм и склероз, да? Говори, говори, что думаешь, объясняй. Мы старые друзья, а твой нюх профессиональной ищейки принес немало долларов и мне и тебе. Хи-хи-хи…
— Можешь мне поверить, Сэм, что по значительности рядом можно поставить изобретение атомной бомбы. Сторона, получающая средство, сразу приобретает подавляющее превосходство над противником.
Старик резко оборвал хихиканье.
— Чей анализ?
— Мой, Сэм. Это средство меняет стратегию и тактику современной войны. Ты первый из тех, кто может решать, посвящен в суть дела. Даже босс не знает. Надо обмозговать, ставить ли в известность президента.
— Это лекарство только у нас?
— К сожалению, оно не у нас. Оно еще ни у кого. У изобретателя.
— Ну, Гарри, а если только у нас?.. Я тебя правильно понял?
— Да, Сэм.
— “Да”, “да”!.. У вас все или “да”, или “нет”. Сколько на этом миллионов сгорело! Вы, шпионы, безответственные люди, потому что рискуете только жизнью. Или к старости и деньжата заводятся? А, Гарри, есть уже чем рисковать кроме этой дешевки — жизни, э? Хе-хе-хе… — И неожиданно сухо: — Покупай за любую цену, Гарри. Риск исключен. Послезавтра докладывай боссу. Президента беру на себя.
Ночные страсти в рамазан
Абдулла пришел днем на строительную площадку. Он стоял в небольшой толпе зевак, которая, уменьшившись в последние месяцы, совсем не исчезала никогда. Даже в дожди кто-нибудь да забредал сюда, чтобы посмотреть, как эти удивительные машины, да еще в руках африканских женщин, плевать хотели на хляби небесные. Возможно, им виделся в этом даже вызов Аллаху?.. Овечкин заметил парня и подошел.
— Как жена?
Абдулла приветственно закивал и вяло улыбнулся. Не понял? И Овечкин повторил слово “жена” на диалекте.
— Спасибо, рюс. Хорошо. — И добавил тихо по-русски: — Друг… — И быстро заговорил. Овечкин ничего не понял, но по тревожно бегающим глазам парня догадался, что дело у того важное. Вокруг было немало африканцев, которых Овечкин в последнее время хорошо уже понимал, однако никого из них он не стал привлекать в толмачи, а попросил парня зайти вечером.
Мсье Альбино, пользовавшийся их полным доверием, перевел Овечкину и Сане сбивчивый рассказ перепуганного Абдуллы. Смысл его сводился к тому, что рюс будут убивать. Это так же верно, как то, что он — Абдулла, который очень не хочет, чтобы рюс убивали. Он пришел не только затем, чтобы сказать это, но и защитить рюс. Мсье Альбино взволновался. По реакции Овечкина и Сани он понял, что для тех рассказ Абдуллы не был большой неожиданностью.
“У меня есть ружье, жаканы и старый револьвер, надежный, — предложил он. — И я. Хотя пользы от старика немного, но из засады могу пальнуть очень метко. Старый охотник…” Мсье Альбино не был хвастуном.
Решили на время поселить Абдуллу с банкиром, рассказать все ребятам и установить с вечера до утра дежурства в столовой, из окна которой хорошо просматривался вход в амбулаторию и дверь на лестницу во второй этаж, к Оноре и Овечкину. Со следующим автобусом Овечкин должен был уехать в посольство. Тут и Саня, и все ребята были неколебимы. Рисковать дальше было нельзя.
Выцветший автобус, некогда оранжевый старый “фиат”, появлялся в поселке раз в неделю. По расписанию это должно было происходить по субботам, с тем чтобы на следующий день отправляться ему обратно в столицу. Шел он туда два дня без малого, с ночевкой, как допотопная почта или какой-нибудь омнибус без перекладных. Но, однажды выбившись, наверное, из графика, автобус приходил и уходил в неведомые дни, и в этом была своя прелесть. Ожидание почты, а возможно, даже новых людей стало ежедневным, и вместе с тем появление грязно-рыжей развалюшки всегда было немного неожиданным.
Прежде машины со строительными материалами появлялись в поселке почти ежедневно, но теперь, когда строительство подходило к концу, они стали большой редкостью. Отправлять же в город “пикап” Овечкин категорически не захотел, потому что это означало отрывать от дела на два дня еще двух человек из их маленькой группы. Потому и решили, что поедут они с Абдуллой, прихватив револьвер мсье Альбино, автобусом. В тот момент, когда в столовой спокойно обсуждался этот план, он казался вполне естественным. Разве мог кто-нибудь предвидеть приближавшиеся события?..
Время здесь, будто подчиняясь размягчающей жаре и давящей влажной духоте, еще едва двигалось. В этом сонном мире вопросы жизни и смерти, казалось, перестали существовать. Так любая война не выглядит реальной до тех пор, пока рядом не разорвется снаряд или бомба.
Когда Овечкин отправился к себе из “гостиницы у Альбино”, было уже совсем темно. В окнах “гостиницы” и у Оноре во втором этаже зажжен был свет, жадно пожираемый влажной темнотой. Его словно отсекали у самой кромки окон. Где-то в поселке горели уже костры рамазана, но угадывались они лишь по отдаленному зареву.
Полицейский спал на табурете у двери банка Альбино, опираясь на ружье, под ярким фонарем. Свет стлался по земле желтым, быстро истаивающим полукружьем. Все полицейские района, три или четыре молодых африканца, в полной форме и с ружьем, несли по очереди круглосуточный караул у дверей банка мсье Альбино, и другой работы для них, похоже, не существовало.
Такова была экспозиция, когда Овечкин, обогнув угол дома с полицейским у входа и попрощавшись с провожавшим его Саней, направился к своей двери. Дом доктора стоял ближе к реке под углом к дому мсье Альбино, и те несколько десятков метров, что разделяли дома, были открыты реке, по берегу которой стояли заросли громадной слоновой травы.
Овечкин упал почти одновременно с истошным Саниным криком “Ложись!”. Не размышляя. Сказался все же настрой последних часов. Слегка опалило левое надплечье, словно прошлись по нему крупной шкуркой. Овечкин лежал, прижавшись щекой к пыльной тропинке, и думал удивительно спокойно, как-то привычно, что его светлая рубаха в темноте — хороший ориентир для стрелка, надо бы ее сбросить, но не решался это сделать.
Кричал что-то Саня, полицейский, не отходя от двери банка за углом, перепуганно бросил по-французски в темноту бессмысленные “Стой! Стой! Стой!..” Почти сразу же по зарослям слоновой травы через окно своей комнаты в первом этаже дал залп из обоих стволов мсье Альбино. В общем, шуму получилось много. За ним не услышали по шелесту и треску ломаемого тростника, куда скрылись покушавшиеся, и не могли потом определить даже, сколько их было. Саня говорил, что выстрел был один, но увидел тусклый блик от света в столовой на стволе ружья очень близко, метрах в тридцати от себя. Мсье Альбино и кто-то из ребят уверяли, что отчетливо слышали два выстрела, прозвучавшие почти одновременно. Одним словом, все было очень похоже на убийство президента Кеннеди, что сразу же с иронией отметил Овечкин, когда обитатели обоих домов собрались в гостиной и каждый изложил свои соображения.
“Только на этот раз у них ничего не получилось”, — скромно заключил бледный, взмокший Овечкин, поглаживая плечо под рыжеватым пятном на рубахе.
Обитатели “гостиницы у Альбино” покинули дом доктора через час после того, как Саня врезал дополнительный замок в дверь гостиной с лестницы.
“Сегодня они здесь больше не появятся. Я их знаю”, — сказал Оноре.
Обсуждение вопросов — что означает вся эта чушь с обыском и покушением, кто эти люди, которых знает Оноре, и чем им не угодил Овечкин — повисло в воздухе, потому что француз молчал и пил, не произнеся больше ни слова, а то, что знали Овечкин и его друзья, не давало ответов. Решили, что завтра Овечкин вообще передаст дела Сане, а послезавтра с рассветом его отвезут в столицу. Причем пойдут две машины, поедут все ребята и Абдулла, захватив все доступные им “стволы”. От таких решений, полных радикальности и оружия, ребята взбодрились и повеселели. Овечкин и Оноре проводили их до двери и смотрели, как они шли по тропинке, исчезнув где-то посредине и вскоре вновь появившись в бледном свете, падавшем из окон “гостиницы у Альбино”.
— Стой! Стой!.. — испуганно кричал полицейский за углом.
— Как бы этот болван не надумал стрелять, — хмуро сказал Оноре.
Когда они, заперев все двери, молча сели на свои места у бара — ни тому, ни другому и мысли не пришло отправиться по своим комнатам, — Оноре сказал убежденно:
— Вам, действительно, нужно немедленно уезжать отсюда, Жан. Не из поселка — из страны. Ни в коем случае не задерживайтесь в посольстве. Они теперь не оставят вас в покое.
— Кто “они”?
— Это ЦРУ, Жан. Сильные, безжалостные псы вышли на след…
Овечкин был несказанно изумлен.
— Ну-у, дела, как сказал бы Саня… Все же, наверное, вам нужно дать мне кое-какие разъяснения, Оноре. Я отлично понимаю, что весь этот сыр-бор из-за вас. Значит, вам угрожает еще большая опасность, чем мне. Всю жизнь я старался быть порядочным, а порядочный человек не может бросить другого в беде. Ну разве не так, Оноре? Ей-богу, я не могу оставить вас и смыться!..
— Я знаю, что это не слова, потому дам вам разъяснения, Жан. Мое открытие принципиально важно в мире, набитом атомным оружием. В мире, как никогда прежде, напоминающем пороховую бочку. Атомно-нейтронную бочку. Теперь понимаете, какой рядом с вами запал?
— Вы сделали это открытие здесь? Один?.. — Овечкин был поражен.
— Только здесь это и было возможно. По крайней мере, для меня. И в нашем мире даже один человек иногда стоит многого, Жан, — усмехнулся Оноре. — А открытие — капля жидкости. Всего лишь капля на человека, Жан. Вакцина, надежно защищающая от радиационной болезни. Вакцина из скорпионов, перенесших когда-то радиационный удар. Вуаля.
Овечкин ошалело смотрел на дока. Все что угодно, но такого он и предположить не мог! И сейчас еще переваривал с трудом. Неожиданно значимость всего происходящего в этой африканской глуши, в этом бетонном доме среди джунглей на берегу пустыни, дошла до Овечкина. Он еще не представлял себе даже в приближенных к истине деталях эту значимость, но чувствовал ее надвигающуюся на него неумолимую громадность. В какое-то мгновение ему стало так страшно, что захотелось вскочить и убежать, как будто от этого можно было убежать. Но в следующее мгновение он понял, какая на него навалилась ответственность.
Оноре рассказал, как в 1967 году, после испытания ядерной бомбы в Сахаре, они обнаружили в непосредственной близости от места взрыва совершенно невредимых и бодреньких скорпионов, готовых нападать и обороняться. Скорпионов, которые, по скромным подсчетам, перенесли облучение в семь тысяч единиц, как легкий дождик в пустыне! Это значило, что десятикратно смертельная для человека доза — для них сущий пустяк. Оноре был потрясен. С этого все и началось. Потом много разного было в его жизни, и в Африке, и в Париже, но в конце концов он добрался сюда и засел за работу.
— И вот теперь, в завершение… — Он невесело улыбнулся. — Надо самому становиться скорпионом.
— Вакцина готова?
— И проверена на себе.
— На… себе?
— Что вас удивляет, Жан? Разве я похож на болтуна? Я ведь говорил вам, что жизнь мне не дорога. Все или ничего! Я должен был убедиться, что сделал! Но Луи не удержался, сболтнул, потом к нему пришел какой-то представитель ВОЗ, вроде по поводу моего заявления… Ни к кому я, конечно, не обращался, его примитивно разыграли. Но они пошли так далеко, Жан, как сочли нужным. Несчастный Луи Кленю! Очень дорогая цена за болтливость… Но главное здесь не это.
Он вышел из комнаты и вскоре вернулся с пачкой газет.
— Они прислали мне все газеты, где расписываются подробности загадочных убийств, центром которых является какая-то тайна несчастного Луи. Вы поняли, Жан?
— Честно говоря, нет.
— Честно… Об этом тут нет и речи. Луи Кленю был единственным свидетелем моего облучения, действия вакцины. Они пытаются изолировать и запугать меня. Страх и деньги — вот их боги. Им не понять, что на самом деле значит Оноре-Максимилиан!.. Послушайте, Жан, вы должны хорошенько запомнить: следующий кандидат на тот свет из связанных со мной — вы. И кандидат номер один! Они уверены, что этот наш разговор состоялся.
— Не это сейчас главное, Оноре.
Француз удивленно вскинул рыжие брови. Шьен тоже, кажется, в удивлении поднял к ним голову.
— Вот видите, мы с собакой удивлены.
— Как вы не поймете: так же легко, как всех этих людей, они могут уничтожить весь мир. Сейчас мне это стало совершенно ясно. Они сумасшедшие! Понимаете, Оноре, ваша вакцина снизит порог опасности войны до минимума. В их бредовых мозгах эта война станет просто более разрушительной, чем предыдущие.
— Ах, Жан, вы совсем не политик, оставьте!.. Сейчас моя основная забота — вы.
— Нет, Оноре, поймите!.. Я уеду через сутки, ничего со мной не случится. А вот основной вопрос нужно будет решать вам одному.
— Оставьте это, Жан. Я решу правильно Слово Максимилиана! Помните, вы мне сказали тогда, в машине, что говорить и делать — разные вещи?
— Ладно, Оноре, забудем. У нас тоже болтунов больше, чем можно вытерпеть. Вот и заводишься… Наверное, уже не выдерживаю жару. Иногда сам себя не узнаю…
— Нет, Жан, ты прав. Я не люблю эту страну. Но что бы ни говорил, я старался помочь этим людям, чем мог. Не во вред, конечно, основному…
— Да, Оноре. К тебе, может быть, все, что тогда говорил, относится меньше, чем к другим…
— И все же мне нужно разобраться самому. Слишком много и долго я был занят своей идеей. Наверное, это действительно одна из важнейших идей века. Но передо мной вдруг встал вопрос: зачем я уложил в гроб десять лучших лет своей жизни? Ради чего и кого? Это надо когда-нибудь выплеснуть из себя, Жан! Прости… Понимаешь, давно уже моя жизнь никому не нужна и не интересна. Как и большинство людей на земле, я существую неким функционером в жестком кругу обязанностей и догм. Должен был получить высшее образование, заложить фундамент карьеры, жениться на девушке из хорошей семьи, с хорошими деньгами… Все должен, должен! И относиться к этому должен был, как к должному, стремиться, любить… Зачем?! Никого не интересовало, что творится в моей душе. Каждый сострадательно и с радостью готов был гнуть ее и ломать…
Шьен вдруг вскочил и бросился к открытому окну. Его большое красивое тело замерло в напряженном внимании.
— Тихо! — неожиданно сухо произнес Оноре. — Жан, выключи свет. Очень странно.
Овечкин повиновался и, когда в комнате стало темно, спросил шепотом:
— Что странно?
— Если они вернутся. Это не по-африкански.
Глуховатый стук дизеля и отдаленные тревожные многоголосые шумы ночных джунглей затирали иные звуки. Но Шьен что-то слышал. Оноре метнулся к себе в комнату. Где-то рядом, в той стороне, где притаился спящий дом мсье Альбино, послышались голоса. Они приближались.
— Там наши ребята, — шепотом сказал Овечкин, угадывая, что Оноре снова в гостиной.
— Зажгите свет. — Оноре стоял у стены рядом с окном с пистолетом в руке.
— Э! Шеф Овэ, у вас все в порядке? — донесся голос Комман-дана.
— Ваня, это мы! — крикнул Саня. — Комендант всех разбудил.
В желтом свете, падавшем из окна, стоял Коммандан, “корреспондент”, Саня и полицейский без ружья. Ружье, наверное, охранял у двери кто-то из ребят.
— Нам сказали, что тут стреляли. — Коммандан был величествен при полном параде. “Корреспондент” в неизменной белой рубахе играл часами-браслетом.
Оноре зло рассмеялся:
— Идите спать, негры!
— Помолчите, медсен. Мы беспокоимся о шефе Овэ. Отвечаем за него.
— Продажная образина, запри как следует своего гостя да последи за ним, а то с ним может случиться беда.
— Все шутите, Жиро, — оскалился “корреспондент”.
— Время шуток кончилось, как тебя там.
Они ушли.
— Спокойной ночи! — крикнул Саня.
— Спокойной ночи.
— Давайте и мы укладываться, — буркнул Оноре хмуро.
Овечкин все же посидел под душем и лег, завернувшись в мокрую простыню, как всегда, но так и не смог крепко заснуть и на час, хотя остаток ночи прошел спокойно.
После завтрака Овечкин и Саня занялись делами строительства. Большой сложности в передаче не было, но, как во всяком деле, имелось множество мелочей, которые нередко и определяют его успешное и спокойное движение, которые необходимо учесть и не упустить новому человеку. Даже если он вроде бы в курсе этих дел. Ненадолго прервал их занятия “корреспондент”. Он был необычно учтив. Предложил Овечкину место в своей машине, если он, конечно, собирается в столицу.
— А оставаться вам здесь опасно, — предостерег.
— Мы сами тут разберемся, — недружелюбно бросил Овечкин.
— Было бы предложено… — беспечно сказал “корреспондент”, в очередной раз окидывая взглядом столовую и другие комнаты через распахнутые двери: беспорядок в “гостинице у Альбино” царил обычный, отнюдь не предотъездный. И оба — Овечкин и Саня — подумали, что именно это интересовало здесь “корреспондента”.
Они смотрели, как он шел своей небрежной и вместе с тем пружинистой походкой по тропинке к амбулатории.
— Ну и тип…
Оноре стоял на невысоком бетонном крыльце, уперев руки в бока и свесив голову на грудь, а “корреспондент” — перед ним в конце тропы, смотрел снизу вверх и что-то говорил. Лица его не было видно, но по едва уловимым движениям крепкой спины и локтей сведенных на животе рук Овечкин и Саня почувствовали, насколько энергична была его речь. Потом Оноре поднял голову с криво ухмыляющимся ртом, и они отчетливо увидели, как он издевательски подмигнул “корреспонденту”, неторопливо повернулся и ушел в дом, закрыв за собою дверь.
Овечкин даже во сне не хотел бы увидеть такое лицо, какое они увидели, когда “корреспондент” обернулся.
Через некоторое время впервые в “гостинице у Альбино” появился Оноре. Они пришли со Шьеном усталые, какие-то поникшие. Поздоровавшись, француз спросил с порога, когда они намерены уезжать.
— Завтра с восходом, — сказал удивленный и его визитом, и его вопросом Овечкин: ведь решение было принято при нем еще ночью.
— Лучше бы немедленно, Жан.
— Это невозможно, Оноре. — Овечкин указал на заваленный чертежами и бумагами стол.
— Жаль. Вуаля… — И они ушли.
Вечером, собрав чемодан, Овечкин вышел в гостиную. Там уже сидел Оноре.
— Прощальный вечер, Жан. Посидим… — грустно улыбнулся француз. — Честно говоря, мне жаль расставаться с вами.
— Мне тоже, — искренне сказал Овечкин, забыв все разделявшее, отчуждавшее, раздражавшее их друг в друге длинные жаркие месяцы соседства.
— Глупо, наверное, но просто бросить здесь все и уехать с вами как-то не могу, — признался Оноре. — Хотя это было бы, конечно, самым разумным.
— Зачем он приходил? — спросил с тревогой Овечкин.
Оноре вздохнул.
— Вы остаетесь в этом доме совсем один…
— А Шьен? Я же говорил вам, Жан, они будут сдувать с меня комаров, опасаясь, как бы среди них не оказалась муха цеце. Нет, с их стороны мне ничего не угрожает, кроме… Ладно. Давайте прощаться как положено. Давайте выпьем за вас. Как бы там ни было дальше, я благодарен вам.
— За что? — удивился Овечкин.
— За все. Хотя бы за то, что конец получился осмысленным. Я, конечно, попробую, как и положено Оноре-Максимилиану, но вот что у меня получится без вас? — И он рассмеялся легко и приветливо, как могут смеяться французы, как смеялся он здесь один лишь, наверное, раз — в вечер их первой дружеской беседы с Овечкиным. Сейчас он тоже был пьян, и Овечкину стало горько от мысли, что последним впечатлением об этом необычном человеке будет воспоминание о пьяном Оноре. Хорошо, что был еще этот смех… — Он предложил мне подписать контракт на десять миллионов за контрольную серию вакцины. За мой дипломат-кейс, а, как? А все дальнейшие разговоры, сказал, — на самом высоком уровне! Может, он намекал на какого-нибудь президента, Жан? — Оноре опять рассмеялся, но теперь зло. — Еще он сказал… — Оноре придвинулся через стол к Овечкину, — подписывайте бумагу, получайте чек — и все свободны и целы: и вы, то есть я, и ваша собака, и ваш русский. Понятно? Но насчет вас он соврал. Вас он не выпустит отсюда ни в коем случае, возможно как и всех ваших друзей. По крайней мере, сделает для этого все возможное.
— Ну что вы, Оноре, возможно ли это?
— Вполне. Он сказал мне, что здесь у него хорошо вооруженный отряд, который в состоянии уничтожить весь этот поселок. Однако не исключено, что просто запугивал.
Овечкин все же перепугался не на шутку. Хорошо, уедет он, но ребята ведь останутся! А вдруг он не просто запугивал? Этот бандит с браслетом способен, похоже, на все. Единственное, что успокаивало Овечкина, так это их решение ехать в столицу всем вместе. А там опытные люди, посол…
Во время ужина ребята настаивали, чтобы последнюю ночь Овечкин провел в “гостинице у Альбино”, но он категорически отказался, как и от предложения Сани заночевать в амбулатории с револьвером мсье Альбино — все же два “ствола”… Однако все это наводило на мысли о паническом страхе, который Овечкин, особенно перед иностранцем, допустить не мог, даже если бы существовала несомненная угроза. А тут где она? Ну, пытался какой-то трусливый бандит из-за угла, из темноты подстрелить его. И сразу сбежал. И неизвестно, в него ли он хотел стрелять… Теперь было ясно, что ситуация совсем иная, но Овечкин решил ничего не менять. Да и изменить ничего было невозможно. Если “корреспондент” не врал, присутствие Овечкина в “гостинице у Альбино” только увеличивало опасность для ребят, и все.
С не оставлявшим его никогда оптимизмом и надеждой на лучшее Овечкин привычно помок немного под душем в простыне и отправился спать. Но заснуть не мог. И когда раздался в доме злой лай Шьена, Овечкин подумал вполне обыденно: “Ну вот, все же не обошлось…”
В дверь внизу стучали тихо, определенно в надежде на реакцию пса.
Оноре и Овечкин появились в гостиной одновременно. В открытом баре горела маленькая лампочка, скудно освещая комнату. Расходясь вечером, они не закрыли бар, вроде бы случайно.
Оноре снял пистолет с предохранителя и вышел на лестницу.
— Кто там?
— Это я, мсье Жиро. Пришел за ответом.
— Пошел вон, сукин сын!
— Поосторожней, дядя. Оба дома окружены. У нас базуки. Один залп — и дверей нет. Но я пришел не стрелять, а тихо договориться. Видите, как я царапаюсь, чтобы не разбудить соседей. Вы правильно делаете, Оноре, что не зажигаете света.
Овечкин стоял за спиной француза и слышал, как тот тяжело дышит. Шьен непрерывно угрожающе рычал, словно внутри у него работал моторчик.
— Ну, так что, Жиро?
— С вами я не хочу разговаривать, как вас там. Пусть придет кто-нибудь другой с бумагой. Черт с вами, подпишу.
— Ничем не могу вам помочь, Оноре. Я здесь один. Как вы понимаете, отряд из местных. Придется иметь дело только со мной. Соберитесь, дружище. Это ведь недолго.
И опять тишина, только рычание Шьена и тяжелое дыхание двоих на темной лестнице.
— Решайтесь. У меня есть инструкция, по которой я жду только пять минут.
Оноре выругался сквозь зубы и сказал решительно:
— Хорошо. Вы входите один. Сейчас я освещаю сверху крыльцо, вы отходите от двери, мсье Жан открывает ее, вы входите и поднимаетесь наверх. Учтите, я вооружен и стреляю хорошо. Все ясно?
— Конечно, мсье Жиро. Не бойтесь.
Оноре снова зло выругался и быстро зашептал в ухо Овечкину:
— Как только впустите его, сразу же запрете дверь. Оставайтесь на лестнице, пока я вас не позову. Поняли? Оставайтесь!..
— Да, понял… Оноре…
Тот решительно махнул рукой с пистолетом, зажег свет на лестнице и ушел в гостиную, оставив дверь широко открытой. Через несколько секунд негромко крикнул:
— Открывайте, Жан… Входите, как вас там…
“Корреспондент” проскользнул в дверь, щурясь.
— О, да у вас тут иллюминация… — Оскалился. На поясе поверх шорт болталась на животе расстегнутая кобура.
Овечкин молча захлопнул дверь и задвинул щеколду. “Корреспондент” легко поднимался по освещенной лестнице к темному прямоугольнику двери. Когда он встал в нем, подряд грохнуло три выстрела, оглушающе забилось в бетонном колодце. Овечкин очумело смотрел, как “корреспондент” медленно сгибался, словно делал глубокий поклон в замедленной съемке. В гостиной вспыхнул свет. Овечкин, спотыкаясь, отталкиваясь руками от несшихся на него ступенек, побежал наверх. “Корреспондент” лежал на боку, и его белая рубаха и шорты быстро становились красными. Неподвижный браслет тускло поблескивал.
— Что вы наделали, Оноре?.. Это ведь ничего не изменило…
— Очень даже многое изменило. Он был здесь один. Эти, — Оноре кивнул на окно, — наемники. Я их хорошо знаю, Жан… У нас появилось время на то, чтобы уйти. Помогите мне.
Он подхватил труп под руки и поволок к окну.
— Выключите свет… Так… Помогите-ка… Ну-у… Вот, я же обещал выпроводить тебя через окно…
Тело гулко шлепнулось в темноте о землю. Стояла удивительная тишина. Даже звери в джунглях, казалось, молчали. Сухой отдаленный стук дизеля подчеркивал ее неестественность.
— Теперь включите свет.
Желтые квадраты электричества словно вспугнули мир. За окном зашуршало, задвигалось, завозилось, потом захрустело, удаляясь, и наконец панически затрещало у реки ломаемыми стеблями слоновой травы. В наступившую затем душную тишину ночи просочились и стали нарастать, крепнуть, будто оживая, звуки джунглей. Африканская ночь привычно тявкала, вопила, визжала, верещала и ухала.
— Надо трогаться, — устало сказал Оноре, подходя к окну. — Так, они утащили его. Молодцы. Значит, обученные…
— Ваня! Ва-ня… — негромко звали из темноты.
Овечкин бросился к окну.
— Саня, ты?
— Я, Ванечка, я. Откройте мне, — просил Саня с револьвером мсье Альбино в руках.
— Ну, вот, — говорил сухо Оноре. — У нас есть, может быть, даже сутки. Собирайтесь, ребята. Чем скорее мы тронемся в путь, тем он будет безопаснее.
Саня ориентировался быстро, несмотря на свою кажущуюся медлительность.
— Ваш “лендровер” в порядке?
— Да.
— Тогда на “пикапе” и “лендровере”?.. — Саня быстро ушел.
Шьен внимательно и брезгливо обнюхивал темные влажные пятна на полу. Время от времени поднимал голову к хозяину и одобрительно качал хвостом. Овечкин, потрясенный, все стоял столбом. Этот первый в его жизни труп, тяжесть которого он еще ощущал своими мышцами, был в самом-то деле или нет?..
— Ну, вот, — снова заговорил Оноре. — Едем все же вместе. Дорогами Африки мы с вами пройдем вместе до конца, Жан. — Рыжая шевелюра потными лохмами закрывала его лицо, свисала над глазами, но он не убирал волос.
— И куда вы?.. — судорожно сглотнул Овечкин.
Оноре усмехнулся, по-своему криво и грустно. Ах, как бы хотел Овечкин забрать его с собой! Его и его собаку, эти два одиноких несчастных существа, к которым вдруг испытал жгучую жалость.
На вселенских ветрах
Вашингтон. Вечер
— То есть как исчез?!
— Русский в своем посольстве, агента убили, а француз исчез.
— Та-ак… Думаю, ваша карьера, Мак, завершена.
— Он никуда не денется от нас, Гарри. Мы плотно обложили его.
— Ту женщину вы нашли хотя бы?
— Она, оказывается, покончила с собой. Давно. Ему никуда не деться, Гарри. Мы перекрыли ему все выходы!
— Да, Мак, и себе тоже. — Гарри усмехнулся. — Боюсь, как бы и мне не оказаться в одной компании с вами и вашими всемирными скорпионами.
Москва. 10 утра
— Кто такой Овечкин? Проверили? Это не африканская жара на него действует?
— Нет, товарищ генерал. Высококвалифицированный инженер…
— Вы что, в строительное ведомство его рекомендуете?
— Никак нет. Овечкин спокойный, уравновешенный, разумный человек, вполне достойный доверия.
— А сама вакцина — реальность?
— Мнения экспертов разошлись.
— Понятно. — Генерал побарабанил пальцами по столу. — Но покушения, трупы — это хотя бы реальность?
— Да, товарищ генерал. Это несомненно.
— Срочно займитесь этим Овечкиным. Его, наверное, нужно вывозить оттуда. Здесь и поговорим.
Париж. Вечер
— Вы читали, комиссар? Оказывается, убили еще одного приятеля мадам Мирей. Кажется, мсье Луи. И все из-за какого-то лекарства от радиации! Или это выдумки журналистов, как вы думаете?.. Мир сошел с ума! Вакцина — путь к господству! Опять… Да это же просто наследники бандита Гитлера! Еще кофе?
— С удовольствием.
— Ну, подумать только, комиссар: что такое эта вакцина? Что такое даже выжившие люди на мертвой нашей планете! Без коровушек, без пшенички, деревьев и цветов… Они просто сумасшедшие, эти политики и военные!
— Успокойтесь, мадам, прошу вас. Вот я, знаете, не читаю газет. От этого чтения начинаешь чувствовать себя совершенным болваном.
— У вас интересная работа, господин комиссар, а тут — одиночество, скучная вещь. Да и как подумаешь, куда мы катимся…
— Э-э, мадам, мир всегда куда-нибудь катится, на то он и круглый. А вот одиночество — бич нашего времени. И чем суматошнее, быстрее оно будет, тем сильнее станет одиночество людей. Надо бы притормозить… Знаете, мне не так одиноко только у вас, мадам. — Он накрыл своей ладонью ее руку на столе. — Простите…
— Ну что вы, мсье! Я так рада, когда вы приходите…
Африка. Обеденный перерыв
— Вкусные лепешки, да?
— Все вкусно. Гран Ма, но не хватает мне голенастенького шефа Овэ, — смеется Пти Ма.
— Гм… — добродушно тыкает Гран Ма, уплетая лепешки из маниоки.
— Он очень был хороший, — неожиданно грустно, совсем на нее не похоже, говорит Пти Ма.
— Эй, маленькая! Я уже почти набрал денег на жену.
— О, ты опять здесь? Меня надо покупать с этой большой машиной, ты учел ее?..
СССР. Ленинград. Клинский пер., 13, ИВАНУ ОВЕЧКИНУ
Милый мой Жан!
Так уж получилось в моей несуразной жизни, что, кроме тебя, некому высказать необходимые мне слова. Даже Шьена отравили. Не подумай, что я раскис. Напротив — принял самое важное в своей жизни решение. Не хочу каяться, сожалеть. Подвожу итоги. Я понял: нельзя усложнять этот мир, в котором маньяки способны на все, а нормальные люди не властны над ними. Я решил уйти вместе со своим изобретением, со своей вакциной. Могут сказать, что это варварство — унести в могилу секрет лекарства, столь важного в атомный век. Но ты не должен так сказать, Жан. Прикинь, к чему приводили паллиативные методы лечения человеческих болезней, суть которых — насилие? Никаких паллиативов! Эти болезни нужно лечить только радикально! Лучше пусть их боятся. Разумный страх всегда был для людей наилучшим стимулом.
Ты прав, Жан: мы только люди, и от того, какие мы сами, зависит наш мир. Ни изобретения, ни технический прогресс не сделают его лучше. Только мы сами! Я прожил довольно долгую и бесполезную жизнь, но теперь ничего уже Нельзя изменить. Бизнесмены войны не оставят меня в покое. У меня нет выхода. Но все же я оказался сообразительным: да, каков человек, таков и мир, в котором он живет. И неважно, что это микромир даже в масштабах Земли. Ведь нет и Вселенной без микромиров! Не так ли, милый мой де Бреби?..
Я уверен, что ты понял меня и одобрил. С этой верой мне легче. Все, что случилось с нами в африканской глуши, возможно, на роковой черте человечества, убедило меня, что в какой-то момент, под воздействием каких-то причин любой микромир может расшириться неожиданно по всем космическим законам. И нам, людям, неведомо, чей это будет мир.
Я хочу, чтобы ты знал, друг: немолодой француз, яростный индивидуалист, мечтавший о личной свободе и силе, в последний час думал только об истинно Великом. Он хотел быть достойным наших Великих Революций и того просветленного Человека, о котором ты так много и хорошо пел и о котором каждый из нас мечтает.
Прощай. Пусть твои дети будут такими же, как ты. Твой Оноре-Максимилиан Жиро, ле Гран Эритье без своего мира, без детей, без возможностей и сил.
Андрей Столяров Чрезвычайная экспертиза
Комиссия состояла из четырех человек. Сам Астафьев, его заместитель Воронец, генерал, фамилию которого Астафьев не разобрал, и помощник генерала — полковник, подтянутый, в новом обмундировании.
Ехали на армейском вездеходе. Астафьев чувствовал себя неважно Конечно, в других условиях он бы ни за что не согласился на подобный полет — возраст не тот и положение обязывает: если он нужен, пусть обеспечат нормальную поездку. Но просьба министра была очень убедительна. Собственно, это была даже не просьба, а приказ. И возражать здесь было неуместно.
На сборы дали всего час. И это ему — директору института, профессору, лауреату. Потом — черная “Волга”, бешено промчавшаяся по городу, военный, непривычно пустынный аэродром, летчик, молодой, веселый, ухмыляющийся на просьбу лететь потише, и низкое серое небо над аэродромом, в которое гражданские самолеты не выпускаются.
И шестичасовой перелет, и заложенные уши, и бледное, напряженное лицо Воронца. А вечером, вернее, уже ночью — комната в офицерской гостинице — одна на двоих. Астафьев уже много лет не делил комнаты еще с кем-нибудь: ему предоставляли отдельный номер.
И бессонная ночь. Воронец ворочается, посапывает, а он лежит в темноте и не может уснуть. И поднимается злость на Воронца, который сопит, на себя — зачем согласился, на неизвестного администратора, не подумавшего о том, что им надо где-то жить, и запихавшего его, Астафьева, в эту душную тесную комнату.
А потом рассвет — быстрый, яркий, с горячим солнцем, завтрак — Астафьев выпил только кофе, и вот они трясутся в вездеходе по степи.
Но что волновало серьезно — это погода. Уже сейчас, в восемь утра, пекло невыносимо. Кондиционеров здесь явно не предвидится Правда, есть надежда, что закончат они быстро. Может быть, и делать ничего не придется — посмотрят и обратно. И вечером он будет дома, в Москве.
А жара все-таки ужасная.
Мотор звучал ровно, негромко. Колеса подминали траву. Она была по колено, источала одуряющий запах За машиной оставались две колеи.
На небе, очень синем, не виднелось ни одного облачка. Воздух над степью дрожал, поднимался вверх. В невероятной высоте, раскинув крылья, выписывала медленные круги черная птица. Попадались какие-то приземистые цветы — горели красным среди травы.
Астафьев думал, что вся эта поездка, весь этот скоропалительный перелет напрасны. Скорее всего пустяки. Что-нибудь напутали, не разобрались, и кончится все большим конфузом для военных. Наверное, Воронец это понимает. Вон какое у него недовольное лицо.
А Воронец думал, что совсем необязательно было посылать Астафьева, — стар, давно не ведет самостоятельной работы. И вообще не тот человек — желчен, нетерпим, совершенно не понимает дипломатии: что думает, то и говорит. Из-за этого могут быть неприятности. На месте происшествия, конечно, ничего нет, и Астафьев, разумеется, выскажется перед этим спокойным генералом. И будет конфликт. Больших последствий он, видимо, не повлечет, они здесь всего лишь в качестве экспертов, но — мнение создастся. И мнение не только вокруг Астафьева, которому в конечном счете плевать на все мнения, — он сидит прочно и выше не поднимется, — но создастся мнение вокруг него, Воронца. И вот это мнение будет рассеять очень трудно. Воронец думал, что сам он намного лучше справился бы с задачей. И это сыграло бы определенную роль. Надо, чтобы знали — есть такой человек, Воронец, — аккуратный, исполнительный, который всегда понимает, что от него требуют. Но вот поди ж ты — раз комиссия, да еще на таком уровне, то обязательно подавай имя, звание, заслуги. А какое у Воронца имя? В пределах своей специальности и то больше известен как администратор. И еще Воронец подумал, что надо будет очень тонко, осторожно отмежеваться от Астафьева. Чтобы те, кому следует, поняли: Астафьев это одно, а он, Воронец, совсем другое.
Утром он уже намекал генералу, что не придерживается крайних точек зрения. Что понимает — все люди, у всех бывают ошибки. Он выразился мягче — недочеты. Но генерал сидел, как глухой, даже бровью не повел. Слишком уверен в себе. Подождем, на месте будет виднее.
А генерал действительно был уверен в себе. Из всех членов комиссии он один точно знал, что их ожидает, и теперь лишь прикидывал, как поступить, если вызванные эксперты подтвердят догадку. Наверное, придется писать чрезвычайный рапорт, давать объяснения и в штабе и на самом верху. Но в любом случае он был уверен, что авиачасть действовала правильно. И если бы еще раз возникла подобная ситуация, то все повторилось бы точно так же. Неприятен был лишь предстоящий разговор с учеными, которые, конечно же, поднимут шум и, не разбираясь в специфике, начнут требовать того, другого, третьего, чего, разумеется, делать будет никак нельзя. А полковник не думал ни о чем. Он всю жизнь выполнял приказы. И никогда не сомневался в их правильности. Исход экспертизы его совершенно не волновал.
Всю дорогу они молчали. Только раз Астафьев спросил, есть ли поблизости населенные пункты, и генерал пожал плечами: мол, какое это имеет значение. А полковник, подождав, пока генеральские плечи опустятся, вежливо и тихо сказал:
— Совхоз “Красные зори” — шестьдесят километров.
И Астафьев понял, что полковник выполняет при генерале те же функции, что при нем Воронец, то есть все знает и может ответить на любой вопрос.
Прошло еще полчаса. Становилось все жарче. Воздух раскалился, обжигал горло. Астафьев уже хотел попросить остановиться — ломило в висках, сильно хотелось пить, — но тут полковник, поднявшись с сиденья, сказал:
— Вон лагерь.
Впереди, у самого горизонта, белели палатки и между ними высокий тонкий шест с флагом.
Машина прибавила скорость.
В километре от лагеря стояло оцепление. Шофер притормозил. Солдаты переминались с ноги на ногу. Лица их были коричневые от загара. Капитан средних лет аккуратно приложил руку к фуражке.
— Комендант лагеря. Ваши документы.
— Вам что, не сообщили о нашем прибытии? — спросил генерал.
— Виноват, товарищ генерал, — сказал капитан. — Имею приказ. Прошу предъявить документы.
Воронец нагнулся и прошептал Астафьеву в самое ухо:
— Бдительность. А ведь, кроме нас, сюда все равно никто не приедет.
Полковник сидел с равнодушным лицом. Автоматчики оцепления поглядывали на них с любопытством. Генерал пожал плечами и предъявил документы. Капитан брал залитые в пластмассу фотографии на твердом картоне и всматривался в лица. Воронец иронически улыбался. Наконец капитан сказал:
— Все в порядке. — Крикнул: — Пропустить! — встал на подножку.
Машина въехала за оцепление.
— Мы поставили вам две палатки, — сказал капитан. — Извините, оборудовать стационарное помещение не было времени.
Вездеход остановился. Впереди было еще одно оцепление, тоже из автоматчиков.
— Дальше пешком, — сказал капитан и чуть виновато добавил: — Входить во внутреннюю зону можно только со мной. Таков приказ, товарищ генерал.
— Понятно. Приехали, товарищи!
Все вылезли из машины. После двухчасового сидения Астафьеву было приятно размяться. Место ему нравилось — открытая ровная степь в сочной траве; зеленый ковер и синее небо.
Капитан о чем-то шепотом докладывал генералу. Воронец растирал затекшую ногу. Солдаты во втором оцеплении не таращились на приезжих, а смотрели безучастно, насквозь, словно не замечая.
Затем капитан пригласил следовать за ним. Прошагали метров триста, и он сказал:
— Вот.
Перед ними лежала груда искореженного, перекрученного, дымного металла. Ослепительно сверкало битое стекло. Чувствовался запах горелой пластмассы, вывороченные плитки с желтыми переплетающимися схемами обуглились.
Все это было сплющено, словно по механизму со страшной силой ударили тяжелым молотом.
Трава вокруг сгорела. Земля была в саже, местами спеклась в твердый полупрозрачный шлак.
— Взорвалось еще в воздухе, — сказал капитан. — Разброс обломков четыре километра. Но основная часть здесь. Крупные детали вчера убрали. — Генерал сдвинул брови. — Нет-нет, никакой органики там не было. Техники все тщательно просмотрели.
— Ну и что это значит? — сердито спросил Астафьев. — Для чего нас сюда привезли?
Генерал сказал:
— Позавчера нашей… э… э… системой… был сбит неизвестный аппарат. Предполагалось, что это иностранный разведчик — аэросъемка, телетрансляция и так далее. На месте падения было обнаружено вот это.
Он кивнул капитану.
— Прошу. — Капитан подвел их к низкому походному столику. На столике, на круглом металлическом подносе, лежал разбитый, обгоревший череп.
— Это пилот, — объяснил генерал. — Вернее, все, что от него осталось.
Череп был расколот. Прилично сохранилась лишь лицевая часть и отдельно — вогнутая крышка, вероятно, из затылка. Астафьев брезгливо взял его в руки.
— Вот здесь, здесь, — возбужденно сказал Воронец, тыча пальцем. Но Астафьев уже видел сам. Над пустыми глазницами шли ясно выраженные костные валики, а на крышке черепа виднелись гребни. Но главное, выше глазниц — круглых, странно больших, находилась третья — в лобной кости, значительно меньших размеров, с неровными, будто обгрызенными краями.
Астафьев быстро перевернул череп. Следы борозд на внутренней части были хорошо заметны. Он никак не ожидал. Министр не сказал ничего определенного. Просто — чрезвычайная экспертиза. И генерал за завтраком уклонялся от ответа, лишь намекал на что-то необычайное.
— Мозг, мозг! — воскликнул Астафьев.
Генерал сказал:
— Внутри все выгорело, вывалилось и, видимо, тоже сгорело. Что-то там собрали, сейчас в формалине.
Астафьев осторожно, кончиками пальцев провел по третьей глазнице. Края были упругими. Воронец значительно посмотрел на него.
— Собственно, потому мы вас и пригласили, — сказал генерал. — Странный какой-то пилот. И эта дыра — пробило во время взрыва?
— Это не дыра, — медленно сказал Астафьев.
Воронец тут же нагнулся, пощупал края.
— Это третий глаз — лобный.
Генерал озадаченно посмотрел на него. Полковник подошел ближе.
— Та же самая форма, — пояснил Астафьев. — Края кости гладкие, ровные. Сохранились кожные наросты, они, видимо, прикрывали яблоко.
— И кто же это по-вашему? — шепотом спросил полковник.
— Вообще-то есть животные с тремя глазами, — сказал Астафьев.
— Гаттерия, — добавил Воронец.
— Да, гаттерия…
— Гат… как? — спросил генерал.
— Гаттерия. Класс пресмыкающихся, отряд клювоголовых. Всего один вид — гаттерия. Это, пожалуй, единственный сохранившийся до нашего времени родственник динозавров.
— И у нее три глаза? — спросил генерал.
— И она… динозавр? — одновременно с ним спросил полковник.
— Конечно, это не динозавр, — сказал Астафьев. — Она всего около метра длиной. Похожа на крупную ящерицу. Но у нее действительно три глаза, третий на темени, прикрыт кожной пленкой.
— И видит?
— Нет, только светоразличение. Предметов не воспринимает. Ощущает лишь интенсивность и, возможно, направленность света. Видите ли, у рептилий температура тела не постоянная. Она колеблется в зависимости от температуры воздуха. И вот с помощью такого третьего глаза гаттерия может ориентироваться по отношению к солнечным лучам, то есть в какой-то мере регулировать температуру своего тела.
Он Чувствовал, что говорит излишне подробно, но надо было привыкнуть к тому, что лежало перед ним на низком походном столике.
— Значит, гаттерия, — задумчиво сказал генерал.
Астафьев указал на череп:
— Нет, к этому гаттерия не имеет никакого отношения.
Генерал поднял бровь.
— Череп принадлежит млекопитающему. Это несомненно.
— Позвольте, — сказал генерал, — но третий глаз…
— Повторяю: млекопитающему, — громче сказал Астафьев. — Череп принадлежит двуногому прямостоящему и прямоходящему примату.
— Но это… человек, — подал голос полковник.
— Я сказал: примату!
Воронец быстро и очень вежливо пояснил:
— Профессор имеет в виду отряд приматов. В этот отряд входит не только человек, но и обезьяны.
— Ах, обезьяны, — сказал генерал. Достал платок и вытер лицо. — Обезьяны — тогда все понятно. Дрессировка там и так далее…
— Да не бывает обезьян с тремя глазами! — крикнул Астафьев.
Полковник вздрогнул и вытянулся, как при команде. У генерала рука с платком застыла на полпути к карману. Капитан, стоя чуть позади, слушал серьезно.
— Александр Георгиевич, — осторожно сказал Воронец. — Позвольте мне объяснить товарищам…
Астафьев сдержался. Ему всегда было трудно говорить, когда не понимали, казалось бы, очевидных вещей. Воронец с достоинством откашлялся.
— Профессор имел в виду то, что по ряду неоспоримых признаков — размер и форма черепной коробки, расположение глазниц, носовых костей, я не буду вдаваться в специальные детали, — череп, несомненно, принадлежит животному из отряда приматов, а возможно, и человеку.
Он обернулся к Астафьеву. Тот кивнул.
— Человек с тремя глазами, — сердито сказал генерал.
— Но наличие третьего глаза, — терпеливо сказал Воронец, — не позволяет отнести его именно к этой группе.
— Вот теперь ничего не понимаю, — сказал генерал и спросил полковника: — А вы?
— Тут нечего понимать, — резко сказал Астафьев. Воронец предостерегающе поднял руку. — Оставьте, Анатолий! — продолжил спокойнее. — Мой помощник выразился осторожно. Я могу сказать прямо. Этот череп принадлежит гуманоиду, но не человеку.
— Как? — спросил полковник.
— Это — не земной человек, — внятно сказал Астафьев.
— Вот оно что, — протянул генерал. Он, казалось, был удовлетворен.
— Конечно, для такого заключения нужна более представительная комиссия. Но я уверен, она придет к тем же выводам.
— Вы уверены твердо? — спросил генерал.
— Абсолютно, — несколько вызывающе сказал Астафьев.
— Профессор немного заостряет, — тактично вмешался Воронец. — Действительно, некоторые признаки указывают… но…
— Абсолютно, — повторил Астафьев.
Воронец умолк, выразив лицом сожаление.
Генерал повернулся к капитану, который пока не произнес ни слова.
— Я полагаю, что сейчас самое время пообедать. Где-нибудь в тени.
— Все готово, товарищ генерал.
— Как обедать? — изумился Астафьев. Генерал пожал плечами.
— Вы осмотрели череп, мы выслушали заключение.
— Похоже, вы и сами все знали, — остывая, сказал Астафьев.
— В какой-то мере… — генерал прищурился. — Но требовалось подкрепить мнением специалистов.
Астафьев вдруг почувствовал, какая стоит жара.
— Возражений против обеда нет? — спросил генерал.
Обедали под тентом, в душной тени, ели ледяной свекольник, заливное мясо, пили молоко. У Астафьева аппетита не было. Он не понимал ни этого обеда, ни вялой безразличной тишины. Как будто ничего не случилось. Как будто только что не произошло событие, о котором должны кричать все газеты мира. Он полагал, что после его заключения посыплются вопросы, поднимется тревога, полетят телеграммы, — и вдруг обед: свекольник, мясо, молоко. Словно каждый день на Землю прилетают жители других миров. Наконец он не выдержал и отложил вилку.
— Не понимаю вас.
— Вы это о чем? — миролюбиво спросил генерал.
Астафьев кивнул туда, где, в полукилометре виднелась цепь солдат.
— А… — сказал генерал и продолжил есть.
— Совершенно ясно, что это не земной человек! (Генерал кивнул.) Установлен факт огромного научного и общественного значения, — немного вспыльчиво сказал Астафьев.
Воронец опустил глаза, подчеркивая, что он тут ни при чем, что будь его воля, все прошло бы тихо и спокойно. Так, как скажут.
— Я ведь понимаю, о чем вы думаете, — сказал генерал. — Мол, сидит такой солдафон. Ать-два левой! Не знает ничего, кроме уставов. Мозги у него деревянные. Даже не представляет, что он открыл. Одно умеет — подать команду голосом.
Он усмехнулся добродушно.
— Нет, я совсем не о том, — смущенно забормотал Астафьев. — Вы совершенно напрасно, у меня и в мыслях не было…
— Профессор намеревался сказать совсем не это, — предупредительно пояснил Воронец. — Он лишь хотел привлечь ваше внимание, так сказать, к масштабу события…
Генерал неожиданно посмотрел на Воронца, как на провинившегося рядового. Тот даже выпрямился, будто по стойке смирно, невразумительно пробормотал еще что-то и замолк.
— Я могу принести извинения, если в моих словах… — нерешительно начал Астафьев.
— При чем тут извинения, профессор, — генерал тоже отложил вилку, посмотрел ему в лицо темными глазами, подумал и сказал медленно: — Два месяца назад, примерно в мае, американцы передали, что их противовоздушной обороной в пустыне одного южного штата был сбит советский разведывательный аппарат. Возможно, вы видели опровержение в газетах. — Астафьев покачал головой: не видел. — Как вы знаете, если есть хоть малейший повод, то сразу же поднимается невероятный шум в зарубежной прессе. Советская военная угроза и так далее. — Он помолчал. В траве трещали сотни кузнечиков. Воронец застыл с булкой в руке. — Так вот. Никакого шума не было. Вернее, он начинался, и вдруг замолчали радио, газеты, как по команде.
— Представитель госдепартамента выступил с опровержением, — сказал полковник.
— Да. Даже опровержение было. Хотя в других, гораздо более сомнительных, случаях опровержения не последовало.
Астафьев спросил напряженно:
— Вы думаете?..
— Никаких разведывательных аппаратов мы туда не посылали, — сказал генерал.
Опять наступило молчание.
— Но это… это… — сказал Воронец.
Генерал спокойно ответил:
— Это значит, что мы имеем дело уже со второй попыткой.
— Минутку, минутку, — сказал Астафьев. — И в первый раз тоже, значит, сбили. И во второй?
— Видимо.
— Неужели нельзя было договориться, подать сигнал! — фальцетом закричал Астафьев. Полковник, который до этого внимательно ел, уронил вилку. — Это же вам не маневры. Не игра в солдатики! Вы понимаете, что вы наделали?
Генерал подождал, пока он замолчит, и ответил еще спокойнее:
— Договориться мы пытаемся уже много лет. Не наша вина, если до сих пор нет почти никаких результатов. Что же касается данной ситуации, то здесь все предельно ясно. Пеленгаторы засекли неизвестный объект в воздухе. Двигался он со стороны границы в глубь страны. Скорость ниже ракетной. На запросы не отвечал. На приказ садиться не отреагировал — лез прямо сюда. Ну, а там дальше… — он мотнул головой назад. — В общем, допустить его туда мы не могли.
— И конечно, первым делом — стрелять!
— Вы полагаете, мы каждый день ждем звездолеты или как их там называют, — холодно ответил генерал.
— Но надо было еще посигналить… дать ракету… ну что там у вас… — беспомощно сказал Астафьев.
Генерал мгновенно улыбнулся, видимо, предложение показалось ему глупым: он ответил терпеливо, как школьнику:
— Существует инструкция, профессор. Приказ. Понимаете — приказ.
— Летчики действовали правильно, — сказал полковник.
— Но вы хоть внимательно все осмотрели? Вдруг что-нибудь осталось, кто-то спасся?
Генерал вздохнул:
— Профессор. Здесь — армия. Все уже осмотрено и с вертолетов и поисковыми группами. Вы поймите: попадание ракетой “воздух — воздух”. Он падал одиннадцать километров. И все это время горел. Спецкоманда прибыла к месту падения только через два часа. И эти два часа он тоже горел. А возможно, и взрывался. Это еще не установлено. И еще час его тушили, а он все равно горел — под ним земля оплавилась. Удивительно, что вообще что-то сохранилось.
— А у американцев? Может быть, им удалось…
— Не думаю, — сказал генерал. — Техника у них примерно такая же, значит, и результаты будут аналогичные. Вряд ли. Мы еще ждали, пока он снизится.
— Александр Георгиевич, — сказал Воронец. — А ведь нет полной уверенности. Вы вспомните — надглазничные валики, продольный гребень. Правда, висцеральный череп отсутствует, но лобный отдел невысокий…
Генерал спросил очень жестко:
— Что это значит?
— Это значит, — ответил Астафьев, — что мой помощник дает вам возможность погасить всю историю. Так сказать, с честью выйти из неприятной ситуации.
— Александр Георгиевич! — обиженно сказал Воронец.
— Признаки, которые он перечислил, характерны для обезьян, обезьянолюдей, для ископаемого человека. Что ж, это прекрасный выход. Напишите — обезьяна, и дело с концом. Потом возразить будет трудно.
Воронец откинулся на спинку походного стула. На лице его было выражение незаслуженной обиды.
— Понятно, — сказал генерал. — С обедом все?
Ему никто не ответил.
— Профессор, вы еще будете осматривать череп?
— Необходимо сделать подробное описание. Ведь вы нам его не отдадите? Нет? Тогда тщательное описание: внешний вид, размеры, анатомия, до мельчайших деталей…
— Это потом, — сказал генерал. — Описание потом. Сейчас требуется только заключение. Ясное и однозначное. Вы можете это сделать?
— Да.
— Тогда прошу всех в машину. Возвращаемся в поселок.
Полковник тотчас поднялся. Неизвестно откуда, из пустоты, возник капитан, замер, глядя на генерала.
— Машину!
Капитан крикнул в даль, в солнце:
— Машину!
Заурчал мотор.
Астафьев пошел вперед. Генерал взял его под руку.
— Завтра начнется разборка остатков. Если обнаружится еще что-то, вас немедленно известят.
— Жаль. Как все-таки жаль, — сказал Астафьев.
— И потом, профессор… Сообщений в газетах, вероятно, не будет. Если мы сообщим, то придется допустить к аппарату зарубежных специалистов, в том числе американцев. А они этого не сделали.
— Нелепо. Все нелепо, — сказал Астафьев.
Полковник и Воронец шли сзади. Полковник внимательно смотрел под ноги.
— Что теперь будет, — вздохнул Воронец как бы про себя.
Полковник несколько помолчал, а потом сказал:
— Ничего не будет.
— Совсем ничего? — спросил Воронец.
— Совсем.
Глаза их встретились. Воронец приятно улыбнулся.
— Я понял вас — правильно.
Потом они долго ехали обратно. Солнце поднялось в зенит и стояло, как приклеенное. Медленный густой, знойный ветер лизал траву. Трава пошла волнами.
Всю дорогу молчали. Только когда вездеход остановился перед казармами, Астафьев, вылезая, негромко спросил генерала:
— Как вы думаете, они еще прилетят?
Генерал лишь прищурился, а полковник, обернувшись с переднего сиденья, ответил:
— Я бы на их месте не рискнул.
Андрей Столяров Дверь с той стороны
1
Поиск реципиента. Глубокий зондаж. Стабилизация
канала связи. Фокус акцепции. Передача сигнала
Когда выступает Серафима, можно отдыхать. Мазин так и сделал. Толкнул переднего: “Подвинься”. Нырнул за его спину, положил щеку на ладонь.
Было хорошо. Спокойно. Серафима, забыв о времени, журчала на одной ноте. Кивала гладкой седой головой. Безобидная старушенция. Выступает на каждом собрании и с серьезным лицом уверяет всех, что опаздывать на работу нельзя.
В комнате, куда набились со своими стульями, сидели очень тесно. В некотором обалдении.
Звенела муха в верхних рамах, и от звона было скучно. В передних рядах таращили глаза, сглатывали зевоту.
Мазин получил отличное место — между двумя кульманами, у открытого окна. Поднятые доски заслоняли надежно. В окно летел пух. Это был первый этаж. Проходили люди, натыкались взглядом на разморенные физиономии — с испугом прибавляли шаг. На другой стороне, за деревьями, уныло переплетались огороженные решеткой, засыпанные коричневым шлаком железнодорожные пути. Каждые пять минут, со стоном уминая воздух, проносилась электричка.
Серафима вытирала губы платком, поправляла эмалевую брошь, стянувшую платье. Чувствовалось, что это надолго. Мазину передали записку: “Не храпи, мешаешь думать!” Ольга, видимая в проходе, показала, как он спит: сложив руки и высунув язык.
Обернулся Егоров, спросил:
— Видел еще что-нибудь?
— Нет, — сказал Мазин.
Врать в духоте и оцепенении было легко.
— Я пришел к выводу, что Они транслируют некоторую обойму информации, — не двигая губами, сказал Егоров. — Последовательно знакомят с различными аспектами их жизни.
— Эпизоды повторяются, — лениво сказал Мазин, так же не двигая губами.
— Повторяются? Да? Я этого не продумал. Вероятно, Они дублируют наиболее важные сообщения.
— Я четыре раза видел “Поле с урнами”. В ушах стоит это чавканье.
— Поле? — Егоров был озадачен. — Ну… нам пока трудно судить, что Они хотят сказать этим… А на кого был похож зверь?
— На крокодила. Только с крыльями.
— Алексей, — строго сказал Егоров. — Ты обязан подробно записывать каждую передачу.
— Бред!
На них оглянулись. Мазин сделал такое лицо, будто ничего не говорил. Не хватало только, чтобы Серафима приняла восклицание на свой счет.
— А может быть, твой крокодил — это и есть Они? — не оборачиваясь, в ладонь прошипел Егоров.
— Отстань, — сказал ему Мазин.
Откуда-то из-за разбегающихся путей поползли многоярусные тучи с черной изнанкой. Закрыли небо. Сразу потемнело. Кто-то зажег худосочный электрический свет. В комнате зашевелились. Серафима журчала. На лицах было покорное отчаяние.
Налетел ветер. Потащил скомканную газету. Столб листьев и соломинок, закрутившись над люком, поднялся выше окна. Как прибой, зашумели полновесные тополя.
Две школьницы, в хрупких бантах, в праздничных белых фартуках, с опаской посмотрели на небо и припустили через улицу, держа портфели на голове.
Упали первые крупные капли — щелчками. Заколотили серые точки в пыльный асфальт.
Чесануло дробью — хлынуло, загрохотало, охапками сбивая с деревьев широкие зеленые листья.
Мазин, высунувшись, потянул рамы на себя. В лицо ударило водой. Синяя ветвистая молния располосовала небо. Где-то далеко, на окраине города, обвалилось — тяжело и долго.
Поднявшиеся садились, кряхтя, будто на гвозди. Кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Мазин смотрел поверх голов. Потолок был нечистый, в трещинах. Мел осыпался. Лампа в скучном пластмассовом абажуре надрывалась — одна на всю комнату. За окном была темь, полная дождя. Шипело в водосточных трубах. По пузырящейся мостовой бежали мокрые люди.
Рядом с лампой появилась крохотная белая искра. Горела отчетливо. Мазин сморгнул. Искра осталась. Словно в потолке была дырочка и сверху в нее направили прожектор.
Он закрыл глаза. Искра светила под веками. Как маяк. Мазин понял, что это.
— Ты совсем заснул, — прошептали спереди.
— Знак, — сказал Мазин, не открывая глаз.
— Что?
— Знак. Звезда на потолке. Слева от лампы.
— Ничего там нет, — сказал Егоров.
Мазин поднял веки. Искра горела — тихая, пронзительная. Вокруг нее, как при большом напряжении глаз, расползалась серая дрожащая дымка, заслоняя собою лица, ряды, кульманы и шлепающую губами Серафиму.
2
Устойчивый Контакт. Синхронизация изображений.
Передача первичного понятийного ряда
Сначала это были невнятные, как бы моментальные, зарисовки, словно киноленту разрезали на мелкие куски, а потом склеили как попало. Кадры прыгали и наслаивались. Иногда картина была заштрихована вертикальными царапинами или пульсировала, расплываясь в нерезком тумане.
Первый связный сон был таким.
…Болото. Коричневая вода подернута радужной бензиновой пленкой. Из нее высовываются гнилые кочки в черной траве. Обгорелыми спичками вразнобой торчат редкие чахлые сосенки. Мазин бредет, выдирая ноги из чавкающей жижи. Идти трудно. Засасывает. В глубине, под пружинящим дерном, зыбкая и бездонная пустота. Жарко. Воздух едок и густ. Соленый пот щиплет глаза. Автомат с массивными магнитными кольцами на коротком дуле оттягивает плечо. Пахнет машинным маслом, соляркой. Вместо неба над головой висит тяжелый мазутный дым. Плавает в нем бледный круг солнца. Мазин хватается за стволы бородавчатых сосенок, отдергивает руку: стволы железные и горячие, словно трубы парового отопления. Иглы на них металлические, с вороным отливом. Он трогает пружинистую кочку — трава тоже железная, горячая. Под ржавыми, скрежещущими листьями брусники гроздьями висят никелированные ягоды. От коричневой воды поднимается пар. С чмоканьем лопаются громадные пузыри, разбрасывая жирную нефть. На высокой кочке, поджав одну ногу, стоит тощая цапля, покрытая медными тусклыми перьями. На лысой голове ее — проволочная щетина. Цапля вытаскивает ногу из гремящих перьев, чешет голову — будто ножовкой пилят железо. Распахивает красные в белых пленках глаза. Это очень опасно. Смертельно опасно. Сердце сдавливают твердыми пальцами. Мазин выводит автомат из-за спины, остановившись, сразу уходит по колено в вонючую воду. Цапля приоткрывает длинный клюв и шипит, как змея. Зубы в клюве шевелятся. Стремительно выкатывается тонкий, раздвоенный на конце язык. Мазин стреляет дважды. Лиловая вспышка. Клочья мазута. Коричневый пар со свистом уносится вверх. На том месте, где стояла цапля, — ровная твердая площадка. Словно на болото положили асфальтовый лепесток. Края площадки похрустывают, остывая. На них, выцарапывая искры, карабкается цапля. Перья ее вишневые от термического удара. Цапля стряхивает брызги горящей нефти и, взъерошенная, шипящая, растопырив облезлые крылья, бежит к Мазину, разевая клюв. Злобой горят рубиновые глаза. Мазин опять стреляет дважды…
Но чаще возникала другая картина.
Бескрайняя равнина, поросшая короткой шелковистой пепельной травой. В траве ровными рядами, как ульи, стоят невысокие серые ящики с плоскими крышками. Мазин назвал их урнами. Урны тянутся до самого горизонта. Это напоминает кладбище. Вереницы аккуратных надгробий. Сумерки. Небо темно-синее, но видно хорошо: воздух прозрачен и тих. От ящика к ящику неуклюже ползет животное, похожее на крокодила: длинная бугристая морда с выступающими глазами, зеленая чешуя, гребенчатый стучащий о землю хвост. Желтое брюхо волочится по земле. На спине у крокодила перепончатые крылья алого цвета. Он с треском, как голубь, бьет ими. Он какой-то ненастоящий: глаза у него голубые. Крокодил подползает к урне, шаркая мордой, не сразу откидывает крышку. Волна кисловатого запаха обдает Мазина. Внутри находится оранжевая студенистая масса, напоминающая слипшуюся икру. Крокодил выковыривает эту массу. Она, как тесто, шлепается в траву. Уминает лапами — икринки лопаются, шурша, словно пузыри в лимонаде. Он отрывает кусок, жует, жмуря от сладости фарфоровые глаза, чавкает громко, на всю равнину, слюна длинными каплями падает с челюстей. Кисловатый запах усиливается. В нем есть что-то притягательное. Бесконечные ряды урн светятся в темноте деревянными щеками. Покончив с одной, крокодил захлопывает крышку и, продолжая жевать пустым ртом, ползет к следующей. Так — час за часом, всю ночь: темное выстывшее небо, уходящая за горизонт равнина, пепельная трава, неторопливое движение чешуйчатого тела, смачное чавканье, трескотня алых перепончатых крыльев.
Иногда Мазин летал среди блестящих алюминиевых облаков, которые на его глазах набухали и проливались, но не дождем, а серебряными монетами, или брел по улицам пустого, очень светлого города. Мостовая была стеклянная, стоэтажные дома были стеклянные, каждая улица выводила на площадь, и на каждой площади стояла стеклянная же, налитая светом ветряная мельница, вращалась, позвякивая привязанными колокольчиками, и солнце вспыхивало на прозрачных лопастях.
После таких снов Мазин просыпался в поту. Пугала реальность увиденного. Он еще несколько секунд чувствовал на плече тяжесть автомата, втягивал ноздрями едкую вонь кипящего мазута или слышал унылое мокрое шуршание раздавленной толстыми лапами икры.
Сны были не его. Чужие. Он не мог их видеть. И все-таки он видел их каждую ночь.
3
Устойчивый Контакт.
Передача первичного понятийного ряда.
Расширение зоны Контакта за счет новых реципиентов
ГОВОРИТ СЕРАФИМА. Не любят. Чувствую, знаю, улавливаю в неприязненных голосах. Не любят. Шеф, возвращая отчет, косится в сторону. “Надо переделывать. Согласно последней рубрикации. Вы не вполне учли”. Ему стыдно. Он краснеет и злится на самого себя. Потому что ничего переделывать не надо. Согласно рубрикации. Все давно учтено. Не любят. Звонит Караслава: “Больше не приходи ко мне, никогда тебе не прощу”. Что, почему, зачем — бесполезно выяснять, короткие гудки в трубке. Не любят. Бородатые институтские мальчики хихикают: Серафима совсем рехнулась, стоит посреди коридора и насвистывает гвардейские марши. Это не свист, это плач. Откуда наползает чужая мрачная тень? Не любят. Мать шевелит из угла синими беспомощными губами. Как пощечина. Нельзя подать стакан воды: не возьмет. Будет мучиться, а не возьмет. Придет дочь с работы — тогда. Дочь. Вздернутые брови, изумленные глаза, нарочито бестолковые жесты. Полное и абсолютное отчуждение. Будто впервые видит. Не могла умыть старуху. А старуха не хочет. Вся дрожит, если подойдешь к ней. Взгляд мутный от страха. Отравили. Запрешься у себя в комнате и сидишь, слушая, как вытекает время из будильника. Словно пленка легла на мир. Никогда такого не было Не любят. Накапливалось незаметно, по крупице, день за днем, бесшумно, как седеют волосы: однажды посмотришь в зеркало, а голова уже белая. Или это возраст? Причуды старости? Молчит телефон. Кривятся знакомые. В автобусе отодвигаются, словно вся перепачкана мазутом. Одиночество. Другое измерение Будто уже не человек. Иногда — тонкие, далекие, невнятные голоса. Странным холодом веет от них. Что-то объясняют, а не разобрать Что-то очень важное, мучительно-знакомое. Галлюцинации? Бьешься, как муха, в невидимой паутине и только хуже запутываешься. А посредине липких теней притаился кто-то — бледный, невыспавшийся, помятый, равнодушный, непричесанный, с оттопыренными ушами. Он сутулится за своим столом и чертит, выставив худые локти, — даже не обернется, ни звука не издаст, но хрупкие настороженные нити протянулись именно от него и с каждым днем все крепче. Ерунда какая-то. Мистика. А вот не ерунда. Так, наверное, дикие племена ощущали приближение чудовищного бога с песьей головой и человеческим телом. Леденеют суставы на пальцах. Перехватывает горло. Чужая гипнотизирующая воля проникает в сознание. И начинаешь смотреть как бы со стороны, издалека и другими глазами Мать — капризная старуха, вздорная пустая склочная умирающая женщина, дочь — глупая и злая курица, думающая только о себе, муж ее — самодовольный болван, шеф — идиот, а мальчики с козлиными бородками — ранние циники, карьеристы, собиратели дешевых сплетен, у которых ничего нет за душой. Даже страшно становится: ведь не так же на самом деле, ведь абсурдно и не может быть, ведь неправда все это…
ГОВОРИТ ЕГОРОВ. Прежде всего Академия наук. Там есть Паша Молчакин — обратиться к нему, он подскажет Нужны специалисты. Нужны математики, нужны лингвисты, нужны этологи, которые смогут грамотно расшифровать сообщение. Наверняка уже существует комиссия по Контакту. Хватит самодеятельности. Можно упустить единственный шанс и безнадежно погубить всякую возможность понимания. Это не для дилетантов… Во-вторых. Он никуда не пойдет. Он просто боится. У него нет сердцевины, внутреннего волевого стержня, который заставляет идти наперекор всему и наперекор всему побеждать. Он как петух, отыскавший жемчужину. Случайность. Удар молнии. Дуракам везет. Только потому, что среди миллиардов нервных волокон в мозгу именно у него несколько штук сцеплены чуть-чуть иначе. Только потому, что нет внутреннего сопротивления. Только потому, что он никто — мягкая глина, пустышка, чистая доска, на которой можно писать все что угодно. Сочетание маловероятных факторов. Только поэтому. Даже нельзя взять за руку и отвести силой. “Здрасте, вот это чучело, которое мямлит и запинается, видит необычные сны”. Ну и видьте себе на здоровье. Кто вам запрещает и при чем тут Академия наук? Нет никаких доказательств… И в-третьих. Главное. Будто чужой человек поселился под кожей Будто слабый и почти неощутимый, но уже тянет к себе, настойчиво убеждает, нашептывает. Это не диалог. Диалог допустим лишь при абсолютном равноправии сторон. Хотя бы опорные элементы культуры должны быть едины, без этого невозможно доверие. Если же идет тайное просачивание на Землю, целенаправленная диффузия культуры, то ни о каком доверии не может быть и речи. Это не диалог. Это нечто иное. Лучше уж вообще отказаться от Контакта. Вплоть до крайних мер. Может быть, устранить саму материальную основу межзвездной связи — те несколько нейронов, которые сцеплены чуть-чуть иначе. Ужасно будет, если придется сделать это. Но чаши весов ощутимо неравновесны: на одной стороне — он, а на другой — все остальное человечество.
ГОВОРИТ ОЛЬГА. У Геры, кажется, кто-то есть. Точно, разумеется, ничего не известно, не настолько он глуп, чтобы болтать, но определенно кто-то есть: он не боится поссориться. И вот эта невысказанная, но отчетливо угадываемая готовность расстаться — лучше всяких доказательств. Значит, здесь что же? Значит, здесь все. Пустой номер. Не бегать же за ним как кошка. Дает обратный эффект. Уже есть опыт. Боже мой, сколько опыта! Лучше всего видеться как можно реже. Но не ссориться. Ни в коем случае не ссориться. Нет ничего противнее скандальных женщин. И не оставлять у себя. Только в исключительных случаях. Пусть добивается. Ценишь ведь только то, чего добиваешься. Но если Гера действительно отпадает, тогда это серьезно. Тогда вокруг холод и пустота. Тогда отпадает вся милая семейка: и Надин, и Валька, и Сержик, и придурковатый Аверь-ян. Потому что это его компания. Если они почувствуют, то больше — никаких приглашений, никаких сборищ, никаких лодок, никаких загородных увеселений. Через год они будут вспоминать, что была такая Олечка, которая без ума от нашего Геры. И будут заговорщически подмигивать. А Гера будет делать непроницаемое лицо и косить глаза на очередную подругу. Вот что противно — будут искренне думать, что без ума. А тут просто: пугающая безнадежность, двадцать восемь лет и никого нет рядом. Ведь нет же никого. Свободные одни придурки. А как не хочется придурка. Боже мой, как не хочется, до смертной тоски. Люди, где вы? Если Гера отпадает, тогда остается только он. Он, он и он. В единственном числе. Тянется уже три года — вяло и без перемен. Тоже придурок. Но — свой, ласковый, домашний придурок. Как ручной хомяк. Когда улыбаешься ему-не часто, — то он на седьмом небе от радости. Прямо слюни пускает. Он, конечно, будет носить на руках и сдувать пылинки. Но ведь — придурок. Будто из творога сделанный. Сны какие-то дурацкие видит. А вдруг он со сдвигом? Эти тихие — с ними не угадаешь. Можно серьезно вляпаться. Вообще, странная ситуация: не люблю, не нравится, даже легкое отвращение к нему, а все равно притягивает. Какая-то душная черная сила. Особенно последние дни. Почему-то все время должна его видеть. Непонятно почему. Должна, и все. Если не увижу, хотя бы случайно, потом хожу, как больная. При том, что абсолютно не хочу. Неприятнейшее ощущение. Словно не сама решаешь, как жить, а кто-то за тебя. Словно гипноз. Словно висишь на пальцах у кукольника и прозрачные нити, уходящие вверх, властно дергают тело, заставляя двигаться в нужном направлении. Ужасно неприятно. Идешь, как во сне, и колдовское облако окутывает голову.
4
Расширение зоны Контакта.
Неустойчивый Контакт с основным реципиентом.
Смена донорской группы
Навалилась летняя жара. Ртуть ушла за двадцать. Тени не было. Асфальт размяк. Кирпичные стены испускали обжигающие волны. Трескалось стекло. Город словно прожаривался на каменной сковородке. Загустевала медленная вода в каналах. Небо стало фиолетовым. Изнемогающие тополя выбрасывали охапки белого призрачного пуха, он лежал на карнизах, плыл по воде, невесомыми шарами парил над раскаленной мостовой.
Мазин боялся, что сойдет с ума. Голова болела и распухала. Он не читал мысли, это было невозможно, но он каким-то образом мгновенно понимал, чего хочет каждый, и это понимание облекалось в форму непрерывного монолога, звучащего прямо в мозгу. Избавиться от него было нельзя. Точно кто-то невидимый мерно, безостановочно, не сбиваясь ни на секунду, страницу за страницей читал ему чужие души и некуда было укрыться от тихого проникающего голоса..
Мир рушился. Не было ни одного человека. Ветер с песком ударил в лицо. Он не мог видеть скрупулезно-аккуратную Серафиму: под редкой сединой, под белой мраморной кожей старческого черепа расплывалось отчаяние. Подходила Ольга. Вспыхивали серые глаза. Кончик языка краснел между сахарными зубами. Мазин отворачивался, стискивал пальцами виски. Голос в мозгу звучал непрерывно. Строгий и внимательный взгляд Егорова преследовал его. Требовательные зрачки напоминали о долге перед человечеством.
Сидеть на работе стало невыносимо. Мазин уходил с утра — ему было наплевать, что подумают, — часами шатался по горячим улицам, наматывая пыльные километры, глотал сухой, обдирающий горло мутный воздух, чтобы невероятным зноем и духотой оглушить лихорадочный мозг.
Ему некуда было идти. Не с кем говорить. Пух, ак сон, затопил город. Подошвы прилипали к асфальту. Деревья в агонии трубочками свернули вялые листья. Пахло бензином. Раздутые автобусы выбрасывали синие клубы.
Искра продолжала гореть. Мазин видел ее все время. Даже рядом с блистающим солнцем. Даже под зажмуренными веками. Даже затылком. Он мог ночью сквозь всю толщу Земли сказать, где она. В библиотеке он достал атлас звездного неба и, пользуясь еще школьными знаниями по астрономии, попытался определить ее. Кажется, это был Денеб, альфа Лебедя: светимость в пятьдесят одну тысячу раз больше, чем у Солнца, расстояние от Солнца — пятьсот парсеков.
Он больше не сомневался. Это был не бред. Сны приходили каждую ночь — яркие и пугающие. Он не понимал их. В человеческом мире не было подходящего адеквата. Сознание, как калейдоскоп, лепило случайную картину. Она могла не соответствовать. Его звали. Его спрашивали на неизвестном языке. От него ждали ответа. Он не знал: какого? Тонкая ниточка протянулась к Земле из громадной пустоты. Конец ее был в руках Мазина. Мгновенное понимание других, которое заставляло его избегать людей, тоже было знаком.
От него требовали. И требование это с каждым днем становилось все настойчивее.
Ему было страшно. В черной и тихой глубине Пространства, в невообразимой дали его, только для него одного непонятно зачем горела чужая звезда.
Мазин поднимал к ней лицо и, щурясь в жидком солнце, сухими губами говорил: “Не хочу…”
Голос был слабый и неуверенный.
5
Неустойчивый Контакт. Усиление сигнала.
Развертка элементарной семантики
Это был железнодорожный тупик Точнее, не тупик, просто рельсы здесь упирались в земляной бугор и поросли травой. Она пробивалась сквозь песок, засосавший черные шпалы.
Трава была светло-серого цвета в белых прожилках. Цвета пепла.
Мазин оглянулся.
Справа, вплотную к рельсам, тянулся старый накренившийся забор с выломанными досками, за ним находился пустырь; слева, через несколько блестящих действующих путей, желтело продолговатое здание паровозного депо. Оттуда неслись тревожные гудки и лязг сдвинувшихся колес.
Он наклонился. Трава была шелковистая и такая холодная, словно изо льда. На шпалах пузырями выступала смола. Песок был в угольной крошке. Мазин сглотнул, чувствуя во рту вкус шлака. Он ожидал чего-то подобного С ходу зачастило сердце. Сзади возник и мгновенно вырос до неба громыхающий железный стук. Оглушительно свистя, между ним и депо пронеслась электричка. Окна ее слились в одну огненную черту.
Трава охватывала бугор, куда упирались рельсы. На деревянных ногах Мазин прошел за него и остановился. Вытащил из сбившегося кармана мятый платок. Вытер лоб. Платок сразу стал мокрый. За бугром вся земля поросла пепельной травой. Рельсы сияли в ней стальными ручьями. А между ними вереницами на одинаковом расстоянии друг от друга стояли приземистые деревянные урны с плоскими крышками. Будто ульи. Или надгробия. Это было похоже на кладбище. Мазин уронил платок. Трава сразу же пронизала его серыми остриями, зашевелилась, растягивая, обрывки ткани секунду белели и растаяли. Лишь стебли на этом месте стали гуще — пучком.
Мазин кашлянул. Будто подавился. Хотелось бежать отсюда сломя голову, кричать и размахивать руками. С грохотом в каком-то метре от него пролетела еще одна электричка. Стук ударил в уши. Пахнуло горячим ветром. Шелковая трава пошла волнами, и в ней, в ледяных корнях ее, родился густой и низкий звук. Словно тронули басовую струну.
От желтого здания депо к Мазину прыгал по шпалам человек. Суматошно вскидывал руки. Мазин в тоске пнул землю, поросшую чужой травой. Земля была как камень. Басовая струна угасала.
Человек добежал и схватил его за рукав.
— Тебе что?.. Тебе жить надоело?.. А вот оштрафую… Покажи документы!
От бега и от жары лицо у него было вареное. Он задыхался.
— Нет у меня документов, — сказал Мазин. — Не кричите. Я уйду. Наверное, вид у него был странный, потому что человек мигнул мешками глаз.
— Или что-нибудь случилось?
Он был в форме. На лацканах пиджака, на зеленых выпушках, перекрещивались шпалы.
— Вон, — только и выдавил Мазин, показывая на родные ряды урн.
— Ну что “вон”? Ну, ТТР, — сказал железнодорожник. Сдвинул выгоревшие брови на красном лице. — Откуда здесь ТТР?..
Присел. Со всех сторон оглядел ближайшую урну, постучал по стенкам. Звук был деревянный. Обернулся к Мазину.
— Это что же, а?.. Это откуда они взялись?.. Я же утром тут проходил. Ты что-нибудь понимаешь, парень?
— Вторжение, — мертвыми губами сказал Мазин, до боли в веках расширяя глаза.
Вколачивая рельсы в землю, опять пронеслась электричка. Закрутило горячий воздух. Из травы выплыл низкий поющий бас.
— Гудит что-то, — сказал железнодорожник. Снял фуражку с зеленым околышем. Открылась багровая лысина в свалявшемся детском пухе.
Мазин смотрел на нее как зачарованный. Вдруг показалось, что он тоже оттуда, этот человек.
— Поглядывай, поглядывай, парень, — строго сказал ему железнодорожник, — попадешь под колеса — мне голову оторвут.
Фуражку, лежащую рядом с ним, пронзили пепельные травинки. Материя беззвучно расползлась. Околышек лопнул. Мгновение — и лишь одна жестяная кокарда блестела в траве.
Железнодорожник подсовывал лицо под крышку урны:
— Тэк-с… А вот тэк-с… — Напрягся. Морщинистая шея налилась кровью. Ноги поехали по траве. Крышка поднялась с ужасным скрипом.
“Не делайте этого!” — хотелось крикнуть Мазину.
Он не мог.
Железнодорожник заглянул внутрь и отпрянул. Из урны, как тесто, выперла оранжевая влажная масса. Все было словно во сне. Масса походила на слипшуюся икру. Мазин сделал шаг назад — бежать. Волна кисловатого притягательного запаха обдала его. Железнодорожник затрепетал широкими ноздрями. Ему, видимо, тоже стало не по себе.
Замедляя ход, прошла электричка к городу. Требовательно прогудела. Вдали, на узких платформах, были видны люди.
— Это что такое, парень? — быстрым шепотом спросил железнодорожник.
— Пойдемте отсюда, — попросил Мазин.
Железнодорожник потыкал пальцем в оранжевую массу. Икринки лопались с тихим шелестом. Он сосредоточенно понюхал палец. Мазин зажмурился. В голове гудело. Ослепительная белая искра горела внутри нее. Денеб. Альфа Лебедя. Донеслись странные каркающие звуки.
Он открыл глаза.
Стоя на четвереньках, содрогаясь всем телом, хлопая по траве растопыренными ладонями, железнодорожник выворачивал содержимое желудка.
Мазин подхватил его под мышки.
— Гадость!.. Гадость! — давясь слюной, прохрипел железнодорожник.
Оранжевая масса, набухая, переваливалась через край ящика. Шлепнулся один мокрый кусок, другой. Травинки вокруг них задвигались, на глазах вытягиваясь вверх.
Знакомый треск крыльев донесся из-за урн. Мазин выпустил железнодорожника. Тот мягко сел. По проходу между рядами урн, стуча хвостом, полз крокодил, покрытый крупной зеленой чешуей. Волочился желтый живот. Метались на спине алые перепончатые крылья. Голубые кукольные глаза неподвижно смотрели на Мазина.
— Мать моя женщина! — кашляя в прижатую ладонь, сказал железнодорожник.
Крокодил открыл пасть. Ребристое нёбо было черное, а язык коричневый и бархатистый.
6
Неустойчивый Контакт. Развертка элементарной семантики.
Совмещение локуса развертки и локуса реципиента
— Идем быстрее. Неужели ты не можешь идти быстрее? — сказала Ольга.
— Слишком светло, я ничего не вижу, — сказал Мазин.
— Смотри изнутри.
— Это как?
— Боже мой, просто смотри изнутри.
— Я не могу.
— Ладно, я сейчас сделаю.
Она повернула его к себе. Ладони были жесткие, пластмассовые. Коснулась обоих висков — погрузила внутрь суставчатые пальцы. Что-то там умяла, исправляя. Натягивались и с тихой болью рвались какие-то нити. Свет изменился. Точно поставили фильтр. Вернулось зрение. Они шли по улице. Воздух сиял. Как над болотом, миллионами слабых искр переливался редкий солнечный туман. Мостовая поросла пепельной травой. Сплошь — низко поющим ковром. В летней тишине цепенели дворы, пустые и светлые, — колодцы без воды. Зияли черным нутром распахнутые окна. Мазин заглянул в первый этаж. Дохнуло горячим мазутом. Пола в квартире не было. Была трясина — коричневая вода, подернутая радужными бензиновыми хлопьями. Шкаф, диван и четыре стула, как при наводнении, ножками окунались в нее. Жирно булькало и сипело. Выходил газ. На ржавых обжигающих кочках блестели никелированные кустики брусники. Вытягивая из топи длинные ноги, гремя медными перьями, в проеме дверей появилась цапля, звонко щелкнула клювом, зашипела, вращая красный зрачок, замигала пленками. Мазин отшатнулся.
— Ну что ты останавливаешься? — нервно сказала Ольга. — Здесь нельзя останавливаться.
Потащила его за руку.
— Почему нельзя? — спросил Мазин.
— Боже мой, да иди же ты быстрее!
— Куда мы идем?
— Не бойся, все будет хорошо.
— Я не боюсь, но я хочу знать, — сказал Мазин.
Трава под ногами шептала басом — леденеющая, неземная. В покинутых дворах, в белизне пустынных улиц, на выпуклых широких перекрестках бесконечными вереницами стояли урны — светились деревянными щеками.
Ольга откинула ближайшую крышку.
— Ешь!
Выперла икра.
— Я не буду, — сказал Мазин.
— Ах, не спорь, пожалуйста!.. Делай, что тебе говорят…
Она зачерпнула оранжевую массу, ела с ладони, как кошка, жмуря нетерпеливые глаза. Икра была теплая и очень сладкая. Походила на мед. Таяла во рту. Легко закружилась голова. Мазин вдруг понял: это счастье. Как он раньше не догадывался. Настоящее счастье — вдыхать кисловатый запах, млеющим языком уминать вязкое податливое тесто, чувствовать на нёбе трепетное щекотание лопающихся икринок. Он заметил, что у других урн тоже стоят люди. У каждой по человеку. Откуда только взялись. Жуют — молча и сосредоточенно. Лица у них оранжевые от налипшей икры. Мерное чавканье роится в полуденном воздухе.
— Хватит, больше нельзя, — с сожалением сказала Ольга, облизав пальцы. Заторопила его: — Нас ждут…
— Хочу еще, — глухо, с набитым ртом, сказал Мазин.
— Захлебнемся в информации — пойдут сразу несколько текстов.
— Очень вкусно…
— Нет, — сказала Ольга. — Уже пора.
Посредине улицы, взявшись за руки, застыли шестеро мужчин без одежды. Тела их из дымчатого стекла просвечивали: переплетались нервы и сосуды.
— Не смотри, они не любят, — опустив голову, прошипела Ольга. — Что ты все время глазеешь?
— Кто это? — спросил Мазин.
— Они так думают, — ответила Ольга. — Общая нервная система. Да не смотри ты на них, ради бога…
Мужчины, будто почувствовав, медленно и синхронно повернули к ним головы — синеватый ореол мерцал над морщинистой, как грецкий орех, поверхностью каждого мозга.
— Вот видишь, — сказала Ольга. — Теперь они увяжутся. Но это не опасно, успеем…
Мужчины провожали их взглядами, пока головы двух задних не повернулись на сто восемьдесят градусов. Тогда вся группа, не расцепляясь, так же синхронно — шаг в шаг — тронулась за ними. Задние ступали пятками вперед, и сквозные лица их — зубы, уши, глаза, скрепленные невидимым каркасом, — висели над полупрозрачными лопатками.
— Идут, — сказал Мазин.
— Ничего, уже недолго, — сказала Ольга. — Только не оглядывайся ты, пожалуйста… И пошли быстрее. Не давай им коснуться. Ты как неживой, в самом деле…
— Я читал все твои мысли, — сказал Мазин.
— Ах, ерунда…
— Я действительно читал.
— Прибавь шагу. Держись за меня, можно провалиться, тут есть такие места…
— Ты меня обманываешь…
— Ах, ничего ты не понял. Это как звонок в квартиру. Один — второй — третий. Пришли гости. Тебя хотят видеть. Надо просто встать и отпереть дверь.
— А что за дверью?
— Откуда я знаю? Не останавливайся, вот бестолковый.
На перекрестке, зарывшись в траву, стоял автобус без колес. Стекла по всему борту были выбиты, бампер мятый, задняя дверца открыта.
— Уф… наконец-то, — сказала Ольга. — Забирайся.
— Зачем?
— Как все-таки с тобой трудно, — вздохнула она.
Мужчины, держась за руки, приближались: враз поднимут правые ноги, помедлят немного — опустят, поднимут левые. Прозрачные мышцы хрусталем высверкивали на солнце. Мазин поднялся по ступенькам. Дверь закрылась — одной створкой.
Внутри на облезших креслах сидели люди. Смотрели в окна. Как истуканы. Никто не шелохнулся. Лица были знакомые. Мазин увидел Серафиму: брошь под жилистым горлом, гладкие седые волосы. Она продолжала смотреть. Даже не шевеля губами, строго произнесла:
— Вы всегда опаздываете, Алексей.
Два места были свободны. Ольга быстро уселась.
Егоров, облокотившийся на половинку разломанного руля, сказал:
— Давай причаливай, сейчас поедем.
— Он же без колес, — сказал Мазин.
— Ну и что?
— Разве можно без колес?
— Еще как! — сказал Егоров.
Дал длинный гудок.
Автобус закачался, как на волнах. Вниз ушли придвинувшиеся вплотную стеклянные лица мужчин. Они летели. Повернулись гигантским кругом крыши как ломаная черепица, сеть улиц с темными точками урн. Накренилась и утонула под блистающими облаками зеленая карта Земли.
Ольга, глядя в окно, окаменела наподобие остальных.
— Послушай, я хочу тебя спросить, — в затылок ей сказал Мазин. — Эта… дверь… Она не может как-нибудь отвориться сама?
— Не отвлекайся, — сказала Ольга.
Егоров вдруг захохотал как сумасшедший.
— Только вперед!
Рулил быстро и беспорядочно — невпопад. Автобус швыряло зигзагами. Пассажиры вросли в кресла — пылинка не шевельнулась. Синий цвет неба истончился и лопнул. В пустой черноте зажглись звезды. Громадная луна, сквозя провалами “морей”, выплыла откуда-то справа — рукой достанешь.
— Тебя уволили! — крикнул Егоров. — Глава седьмая! Продолжение следует!
Серафима тоже засмеялась — дребезжащим голосом. Запустив пальцы в голову, как парик с куклы, стащила свои седые волосы. Круглый блик вспыхнул на голой коже.
— Я родилась вчера, — доверительно сообщила она. — И теперь буду жить сто пятьдесят тысяч секунд…
7
Спорадический Контакт. Усиление сигнала.
Репликация элементарной семантики в зоне Контакта
На кухне было душно. Горячий линолеум потел солнечной испариной. Хлюпало в раковине: чок!.. чок!.. Слабо гудел работающий холодильник.
Мазин растер лицо. Сколько он спал — минуту, две? Всего лишь прикрыл глаза. Вполне достаточно. После каждого сна где-нибудь на Земле появлялся еще один кусочек чужого мира. Этот мир сочился на Землю, как вода из крана: чок!.. чок!.. — неумолимо и безостановочно. Он вспомнил людей, согнувшихся над урнами. Блаженные и бессмысленные лица, перепачканные оранжевым. Вот, значит, как будет дальше. Теперь он знает как. Это хорошо, что он знает.
По столу были рассыпаны кофейные зерна. Мазин разгрыз сразу два. Содрогнулся от вкуса. Хотелось икры. Включил радио.
Поля пепельной травы медленно распространялись в глубь Австралии и Новой Зеландии. Япония в спешном порядке перекапывала побережья, создавая на островах кордон мертвой, пропитанной сильнейшими гербицидами земли. Одобрена общегосударственная программа глобального анализа флоры с обязательным уничтожением всех неизвестных растений. На Американском континенте проникновение началось в бассейне Амазонки и уже захватило обширные площади сельвы к востоку от Риу-Бранку. Взяты первые пробы. Применение современных методов исследования приводит к мгновенному распаду сложных органелл икры на молекулярные компоненты. Появление крылатых крокодилов. Попытки отловить. Стальные тросы, наброшенные на панцирь, рвутся, как паутина, — крокодил продолжает движение от урны к урне. По предварительным подсчетам, масса каждого животного превосходит массу земного шара. Бронебойные пули отскакивают от чешуи. Напалм прогорает на ней, не оставляя следов. “Наблюдаемые изменения животного и растительного мира возникли, вероятно, в результате мутаций и не представляют серьезной опасности”, — заключил диктор.
Чок!.. Чок!.. — хлюпала вода в кране.
“Не представляет серьезной опасности”, — повторил Мазин.
Чок!.. Чок!..
Он посмотрел на часы. Стрелки показывали шесть. Это могло быть и шесть утра и шесть вечера. Времени не существовало.
По радио заиграла музыка. Мазин выдернул шнур. Кухня была тесной. Стены — давили. Холодильник щелкнул и замолк, будто умер. Что-то еще оставалось. Да, убедиться самому. Он встал. Твердая корка хрустнула под ногами.
Лестница была пуста. Двор был пуст. Плотная тишина до краев заполняла его. Наверное, все-таки шесть утра. Хорошо бы сейчас поспать часов восемьдесят. Чугунные веки тянуло вниз. Царапало сухую роговицу.
Он вышел на улицу. Дрожало голубое марево. Солнце сияло в плоских окнах. Метрах в пяти от подворотни начиналась трава — светло-серая в белых прожилках, цвета пепла. Мазин, как автомат, ступил на нее. Сразу почувствовал лед сквозь подошвы.
“Не представляет серьезной опасности”, — сказал он.
Впереди, на середине мостовой, асфальт вспучился горбом и раскололся. Деревянная урна вылезла из земли. Трава сейчас же бесшумно обступила ее широким кольцом.
“Пожалуй, пора”, — сказал Мазин.
Посмотрел в небо. В синеве растворялись тонкие перистые облака. Звезда горела.
“Мы слишком разные, — подумал он. — Может быть, это и не Вторжение, но мы слишком разные. Нельзя ездить без колес. Мы никогда не поймем друг друга”.
Повернул обратно. Пересек двор. На лестнице опять никого не встретил. Дверь была открыта. Он забыл про нее. Квартира дохнула жаром. Паркет в комнате скрипел. Окно распахнулось, содрав засохшую краску. У него был шестой этаж. Далеко внизу, в квадратике двора, уже появилась стеклянная мельница. Вращалась, позвякивая колокольчиками. Солнце весело вспыхивало на прозрачных лопастях.
Пора.
Он залез на подоконник. Сдвинутый поникший цветок упал на пол и разбился. Наружный карниз был грязный. В голубином помете. Очень хотелось икры. Мельница, разбрызгивающая по стенам солнечные зайчики, вдруг остановилась как вкопанная.
“Все правильно, — подумал Мазин. — Запереть дверь. По крайней мере, это я могу сделать”.
И, закрыв глаза, помогая себе руками, перевалился через карниз.
8
Потеря всей зоны Контакта.
Потеря пространственных координат.
Полное уничтожение семантики. Выход из зондажа.
Отключение донорской группы
Андрей Балабуха Попутчики
“Корпусное шоссе. Следующая остановка — платформа Броневая. — Казалось, изъеденный ржавчиной голос доносился не из кабины в головном вагоне, а пробивался откуда-то с Тау Кита. — Осторожно, двери закрываются!”
За окном на стандартном железобетонном заборе резвилась обезьянка, черная с уморительной мордашкой, отороченной белым мехом. Чуть дальше гарцевал черный в белых пятнах олень, а второй замер, осторожно подняв обрубыши ушей. Шабров любовался этой живностью всякий раз, проезжая Корпусное шоссе. Кто поселил их здесь? И кто написал рядом: “Счастливого пути!”? Ну, надпись — ладно, ее могли сделать и по обязанности. На Московском вокзале в конце одной из платформ тоже выложено камешками “Счастливого пути”, а уж там всякая самодеятельность исключена. Но рисунки? И ведь хорошие, полные экспрессии и жизнерадостности, — такие можно сделать только от полноты души…
Электричка тронулась. Серый бетонный забор пополз, потом побежал назад, но, не успев набрать полной скорости, оборвался. Шабров отвернулся от окна. В вагоне было совсем пусто. Только напротив — спиной к движению — сидел молодой человек, уткнувшийся в яркую книжицу карманного формата, да на последней скамейке благообразная старушка в чем-то активно убеждала хулиганистого типа пяти — шестилетнюю внучку, причем, судя по интонациям, готова уже была от парламентских методов перейти к прямой агрессии. Внучке на это было явно наплевать. Встретившись взглядом с Шабровым, она так кокетливо стрельнула глазами, что он не выдержи и рассмеялся. “Вот пройдет с десяток лет, — подумалось ему, — так ведь стоном от такой Цирцеи стонать станут, под окнами будут бродить и серенады петь”.
Аэропорт. Справа, за плоским двухэтажным зданием блеснули на солнце хвосты самолетов. Шабров взглянул на часы. Неудачная электричка: тащится от Ленинграда до Луги более двух с половиной часов, останавливаясь чуть ли не v каждого столба, как невыгулянная собака. Визави Шаброва перевернул страницу, негромко и коротко хохотнул на последних строках и закрыл книгу. Перехватив взгляд, брошенный Шабровым на обложку, он улыбнулся и протянул томик.
— Фантастика. Рассказы о пришельцах. Некоторые неплохи, но в целом не ахти что.
Шабров пробежал глазами оглавление: б льшую часть он уже читал в периодике.
— Ну почему же. Вот, например, “Сага о саскаваче” Озола — очень прилично. Или “Ее усмешка” Элитской…
— Согласен. — Во взгляде попутчика явственно проступил интерес. — Да беда-то не в том. В другом совсем беда. Каждый почти рассказ, за исключением разве что Выведенского, неплох. Некоторые и вовсе хороши. Но только сами по себе. А в сумме — черт-те что получается.
— Почему, собственно?
— Да потому, что и Свифт у них пришелец. И Прометей, и Леонардо, и Иисус, и Бэкон, и Джотто… И в ящера мезозойского они стреляли, и Баальбекскую террасу строили… Все пришельцы. Один раз — хорошо. Даже поверить можно. Но не на протяжении же всей истории!
— Логично. Однако этим страдают не только рассказы, но и гипотезы, высказанные всерьез. Помните, в свое время фильмы показывали — “Воспоминания о будущем”, “Послание богов”?
— Конечно.
— Так ведь и к ним оно в равной мере относится, ваше возражение.
— Безусловно. Кстати, раз уж мы разговорились, давайте познакомимся, а то разговаривать в безличной форме как-то неловко. Георгий. Георгий Викентьевич Озимый. Но предпочтительнее — просто Гера.
— Очень приятно. Шабров. Петр Николаевич.
— А не пойти ли нам перекурить? По поводу знакомства?
В тамбуре было прохладнее: сквозь проемы в стальных листах, вваренных в двери вместо стекал, врывался ветер. Озимый вынул из нагрудного кармана флотской рубашки пачку “Примы”, неуловимым движением вытряхнул из нее две сигареты, протянул Шаброву.
— Спасибо, — покачал головой тот, — не могу я их курить, извините. Кашляю. Привык к своим. Это бельгийские, безникотинные.
— Зачем же тогда вообще курить?
— Ну, немодно как-то мужчине быть некурящим. Особенно во времена гонений на курильщиков… А я, грешным делом, выделяться терпеть не могу.
Они закурили. Дым клубился в пронизывающем тамбур солнечном луче и исчезал в оконце.
— Помню, когда “Воспоминания…” эти пошли, — сказал Шабров, — со мной случай приключился забавный. Пошли мы в кино вместе с одним знакомым. А он, надо сказать, человек взглядов консервативных до крайности, всякие новые и сомнительные гипотезы органически не приемлет. Сидим, смотрим. Сперва он все ерзал, вздыхал. — вот, мол, как он, бедный, страдает-мучается, а все из-за меня, изверга, его сюда заведшего. Потом затих. А когда свет зажегся, встает он и говорит: “Знаете. Петр Николаевич, а все-таки они были…” Вот и говорите теперь — неубедительно…
— Да нет же, Петр Николаевич, не о том я говорю. Фильмы поставлены хорошо, убедительно, ничего не скажешь. Порочен сам метод: все, что ни есть в земной истории, этнографии, археологии загадочного — все на бедных пришельцев валить. Чуть личность какая замечательная — пришелец, чуть сделано что посложнее да посолиднее — опять же инопланетяне помогли… А мне, например, в уменья наших вполне земных предков поверить легче. Да и приятнее.
— Патриотизм?
— Отнюдь. Элементарная корректность. Оккамова бритва. Новые сущности нужно изобретать в крайних случаях. Когда старого арсенала не хватает. Я скорее в другую гипотезу поверю. О працивилизации. Слышали?
— Читал… Только какая, в сущности, разница — пришельцы ли из космоса или мезозоя, все едино.
— Ну не скажите. Працивилизация — логичнее, это во-первых. Во-вторых, только она и может объяснить постоянный контакт двух разумов, вытекающих из разброса по времени аргументов в пользу гипотезы о пришельцах.
— То есть?
Озимый бросил окурок в окно.
— Ну что, пойдем в вагон или здесь постоим?
— Пойдемте, — и Шабров откатил створку двери, пропуская собеседника вперед.
— Знаете что, Петр Николаевич, — сказал Озимый, когда они снова уселись на янтарно-желтые дощатые скамейки, казалось, пахнущие солнечным бором, — хотите я вам наболтаю сейчас идею для фантастического рассказа? Не хуже любого из этих, — он кивнул на лежащую рядом книгу. — Во всяком случае, за оригинальность идеи ручаюсь, потому как фантастику знаю хорошо, а такого пока не встречал.
— Давайте, — улыбнулся Шабров: делать ему все равно было нечего. — С удовольствием послушаю.
Озимый вздохнул, достал из кармана сигарету, не зажигая, стал крутить ее в пальцах.
— Скажите, вам никогда не приходило в голову, что, рассуждая об истории, все мы возводим род человеческий к Адаму?
— То есть?
— Очень просто. Жили-были Адам и его жена Ева. От них люди и пошли. Здесь они свою жизнь так организовали, там — иначе. И все различия.
— А вы чего же хотите, позвольте спросить?
— Разнообразия. Разнообразия, Петр Николаевич. Природа — она ведь экспериментатор. Экспериментатор по призванию. И только с людьми почему-то экспериментов убоялась. Создала одну нашу цивилизацию. Цивилизацию технологическую. А все другое пути остались, так сказать, невостребованными. Лежат себе где-то у нее, у матушки, на складе и пылятся. Не верится мне в это.
— А дельфины? Если они и есть другой путь разума?
— Может быть. Но они — иной вид. Я же говорю о человеке. Теперь представьте себе, что когда-то произошло разделение рода человеческого на две ветви. Когда? Тогда, когда появился кроманьонец. Обратите внимание: у неандертальца мозг был немногим сложнее, чем у гориллы или шимпанзе, а у кроманьонца — такой же, как у нас с вами. И при том они сосуществовали. Почему произошел такой скачок, сейчас не суть важно. Важно другое. Неандерталец уже умел пользоваться орудиями — палкой там, рубилом и так далее. Кроманьонец — тоже. Странно, не правда ли: уровень технологичности у них одинаковый, а мозг — разный. И еще: если верить науке, то и сегодня наш с вами, так сказать, “кроманьонский” мозг загружен всего на каких-нибудь два — три процента. Это за десятки тысяч лет цивилизации-то! Вот и выходит: кроманьонец мозг другой получил, а пользоваться им продолжал по-прежнему, по-неандертальски. И вся наша нынешняя цивилизация — его наследники.
— Аналогично тому, как первые каменные постройки возводились по канонам деревянного зодчества, хотя у камня законы свои? — улыбнулся Шабров.
— Именно. А тут еще и колесо подсуропило. Удобная штука — колесо. Естественно, наш кроманьонец в него и вцепился. Да так крепко, что по сию пору вся наша цивилизация — раб колеса.
— Метко.
— А теперь представьте себе, что чисть кроманьонцев научилась использовать свой мозг полностью. Недаром же он был им дан! Как? Не знаю. Может быть, их цивилизацию стоит назвать биологической, потому что они не создавали техносферы, не отрывались от природы, противопоставляясь ей, а жили с ней в разумном симбиозе. Может быть, их цивилизацию следует назвать психической, если они освоили телепатию, телекинез, левитацию и так далее. Не зря же этим свойствам человека посвящено столько легенд — дыма без огня, как известно, не бывает! Но в любом случае их путь развития был короче нашего. И гуманнее. Потому уже, что мы до сих пор существуем. В противном случае они бы нас попросту выжили: конкуренты как-никак — два разума на одной планете, да еще оба на суше. Вот дельфины: в океане, а мы все равно их уничтожаем.
— Но ведь есть международная конвекция об их охране.
— Точно. Только до сих пор не все страны ее подписали, заметьте… Вот я и делаю вывод, что они гуманнее нас. И еще. Мы говорим: миров во Вселенной бесконечно много, значит, и обитаемых — тоже; так почему же нас до сих пор не открыли, в гости к нам не пожаловали? И придумываем в утешение себе пришельцев из космоса. А зачем нас открывать? Мы уже давным-давно открыты. Более того, может быть, сами — земляне то есть — других открыли, и братья эти наши, колеса не изобретшие, давно уже нас в какой-нибудь Галактической Ассамблее представляют… Да и нас, конечно, не забывают. Ходят между нами, жизнь нашу наблюдают и изучают. А чему-то, конечно, и у нас учатся.
— Так почему же мы их не знаем? — спросил Шабров. От этого разговора ему стало как-то не по себе.
— Потому что незачем. Нос не дорос. Ведь если они сейчас к нам явятся — половина человечества им войну объявит, а вторая с восторгом примет и начнет перенимать их достижения, утеряв в итоге самобытность. Вот они и ждут, пока мы созреем настолько, чтобы войти с ними во взаимоплодотворный контакт.
— Как-то трудно себе представить, что они запросто между нами ходят, — поежился Шабров.
Озимый рассмеялся:
— Верно. Вот сидим мы с вами, а может, я и есть представитель этих… Старших братьев. И давно уже вас телепатически обследовал.
Шаброва бросило в жар.
— Что вы! Это же неэтично, просто-напросто недопустимо! Телепатический контакт может быть только взаимным! — И перехватив удивленный взгляд Озимого, добавил: — Вы же сами сказали, что они достаточно развиты и гуманны, значит, я законы этики должны соблюдаться строже, чем нами — юридические.
Озимый кивнул:
— Пожалуй… Но с другой стороны, они — разведчики. Чрезвычайность их положения допускает чрезвычайные меры.
— Теоретически — так. В каком-то детективе был эпизод: наш разведчик, спасаясь бегством, оказался перед дилеммой — раздавить ребенка, играющего на мостовой, и спастись или…
— И?..
— Его поймали.
— Ясно, — протянул Озимый. — В этом есть резон, в такой аналогии… Убедили. Петр Николаевич.
— А вообще очень интересно. Такой рассказ обязательно надо написать, — сказал Шабров.
— И напишу. Всенепременнейше напишу. Я ведь, между прочим, фантаст. Только пишу под псевдонимом — жена стесняется. Говорит, если бы ты еще поэтом был — ладно, а фантаст — как-то очень уж несолидно, мол, несерьезно…
Шабров улыбнулся, хотя смешно ему, в сущности, не было. Разговор скатился в обычную для случайных попутчиков легкую, ни к чему не обязывающую болтовню, продолжавшуюся всю дорогу. И только уже в Луге, расставаясь. Озимый сказал:
— А рассказ этот я обязательно напишу, Петр Николаевич. И посвящение сделаю. Вам. Потому что я все это на ходу придумал — чтобы ехать скучно не было. И за разговор этот очень вам признателен.
Дожидаясь автобуса. Шабров побродил по скверу перед вокзалом. Настроение у него было смутное, встревоженное и одновременно радостное. Потому что явно назревали перемены — случайный разговор с фантастом еще раз подтверждал это. Впрочем, случайный ли, пришло вдруг ему в голову. Хотя это, в сущности, не важно: мысль, высказанная единожды, уже не умирает, вливаясь в ноосферу, окружающую планету. А мысль родилась… И все-таки случаен ли был разговор? Об этом он размышлял, трясясь в стареньком “львовском” автобусе до самого Мерева.
Выскочив из автобуса, Шабров прежде всего отдышался, изгоняя из легких тошнотворную смесь запахов бензина, пота и перегретого металла, которой совершенно не переносил. А потом быстрым шагом пересек поселок и по пылящей песком дороге спустился к озеру, где его уже ждали друзья.
— Есть новости, — сказал он, обмениваясь с ними рукопожатием.
— Некогда, — бросил один из них, высокий и явно не по возрасту седой. — Опаздываем.
Они прошли вдоль берега, вброд пересекли обмелевшую за лето протоку, соединяющую озеро с речкой Дугой, потом приняли левее, в лес.
— Стоп, — сказал седой.
Они взялись за руки, словно собираясь водить хоровод, и закрыли глаза. Несколько минут они ритмично и синхронно дышали, чуть покачиваясь в такт вдохам и выдохам, а потом вдруг — мгновенно — исчезли, словно растворились в колеблющемся жарком воздухе, только трава да листья ближайших кустов съежились от внезапного порыва холода: дальняя телепортировка, требующая совместных усилий нескольких человек, сопровождается заметным поглощением тепла.
Андрей Балабуха Заколдованный круг
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве на высокой горе стоял большой терем. Рассказывают, что терем тот за одну ночь построил отряд киберов по приказу самого Главного Архитектора государства. Назывался он Терем ИФ, потому как был в нем Институт фольклора. Много в нем было коридоров — три года иди, все не пройдешь; много комнат разных — три года ночуй, во всех не переночуешь; были в нем конференц-палаты и светлицы-читальни, клети-лаборатории и темницы-кинозалы, трапезные на четыреста посадочных мест и еще много-много такого, чего и во сне не увидишь, и пером не опишешь. И была там одна светлица, а в светлице той был СИВКО — Сектор Изучения Волшебств Кощеевых.
Руководил этим сектором старый доктор филологических наук Елпидифор Никифорович Царев. И было у него трое сотрудников, один другого умнее, один другого краше. Самый старший был кандидатом филологических наук. Звали его Еремей Мудров. И то сказать, мудрый он был — сил нет, красивый — ни одна царевна не устоит, представительный — хоть сейчас на международную конференцию посылай. Второй и годами помоложе был, и умом еще не так выдался, а потому и говорить о нем особо нечего. Звали его Симеоном, и был он тоже старшим научным сотрудником. А третий — Иван — только недавно институт окончил, прошлым летом его в Терем ИФ по распределению прислали. И потому старшие товарищи прозвали его Иванушкой-дурачком. Был он младшим научным сотрудником.
Поручили ему архивы СИВКО разобрать. Год и один день он их разбирал, порядок наводил. Все разобрал — страничку к страничке, микрофильмик к микрофильмику, микрофиш к микрофиши. Все разобрал — только вот у одной сказки конца не нашел. Первая страничка есть, вторая есть, третья есть, четвертая есть, а дальше — ни одной нету. А сказка эта, надо сказать, самая древняя была. В ней рассказывалось, почему царь Кощей бессмертным стал. Во всех других сказках, позже записанных, бессмертный он и все. А в этой поначалу просто царем был, Кощей-то, обыкновенным, смертным; только вот как главное волшебство Кощеево совершилось — непонятно, нет у сказки конца-продолжения.
Закручинился Иван — младший научный сотрудник, опечалился, пошел он к доктору Цареву.
— Елпидифор Никифорович, — говорит, — так и так, нет конца у сказки. А сказка-то — ключевая. Кощеевы волшебства мы изучаем, а как главное волшебство совершилось, информации не имеем.
Отвечает ему доктор Царев:
— Ищи как следует, Иван, а не найдешь — в понедельник на диспетчерском нерадение твое разбирать будем. Не может быть, чтобы у такой сказки да конца не было.
— Нету, — Иван говорит, — нету, Елпидифор Никифорович! По всем полкам я мел, по всем сусекам скреб, искал, не завалилась ли куда страничка, — нету! Хоть на диспетчерском меня разбирать прикажите, хоть на самом Ученом совете — все равно нету!
Задумался доктор Царев, почуял в словах Ивановых правду. В самом деле, разбирай не разбирай на диспетчерском, странички не появятся. А что тогда про СИВКО на Ученом совете скажут: Кощея изучаете, а почему бессмертный — объяснить не можете? Нельзя, думает, такого допустить. Собрал он сотрудников своих на совет. Три дня судили-рядили, мед-пиво пили, на четвертый решили: послать Ивана — младшего научного сотрудника в командировку во время прошлое, в город Берендеичев, в царство Кощеево, прознать, как Кощей бессмертным стал, а вернувшись — сказку дописать, на фактическом материале основываясь. Выписали Ивану командировку, выдали ему в бухгалтерии командировочные — проездные да суточные, — и пошел он на ближайшую Темпоральную станцию: рейсовую машину времени в прошлое поджидать.
На Темпоральной станции приодели Иванушку: мурмолку на него надели червленую, корзно синтетическими каменьями шитое, золоченой тесьмой вкрест голени ему обвили, дали ему каурого БУРКО — биоуправляемого робота конского облика, — а также ознакомили его с Инструкцией по поведению в иных временах, в чем он и расписку дал. Затем погрузился Иван со своим конем в машину времени, что везла в Киев-град фантоматического Тугарина-змея для съемок многосерийного голофильма, и отправился он белый свет смотреть да себя показывать.
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Много ли, мало ли времени прошло, но добрался наконец наш Иван — младший научный сотрудник на своем киберконе до города Берендеичева — столицы царства Кощеева.
Провели его в терем дубовый под крышей тесовой, где полотенца да причелины резные, прямо в Кощеевы палаты. Видит Иван: сидит за столом человек, сам маленький, тощенький, хиленький, глаза все по сторонам бегают. Сидит, пьет. Ему кубок за кубком, чару за чарой подносят, а он знай себе пьет. И уж по всему терему такой дух пошел — аж зашатало Иванушку.
Посмотрел Кощей на Ивана, хотел было его рядом с собой посадить, медом-пивом напоить-угостить, да призадумался вдруг:
— Ты, — говорит, — не Иван ли царевич будешь?
— Точно, — отвечает ему Иван. — Верно тебя, Кощей, проинформировали.
— А ты меня убивать не будешь?
— А зачем мне тебя убивать? — удивился Иван. — Мне с тобой, Кощей, поговорить надо, факты выяснить.
— Поговорить… — призадумался Кошей. — Ну, ладно, поговори. Раз убивать меня не будешь, тогда садись, будь гостем моим дорогим.
Сел Иван за стол дубовый, поднесли ему чару вина доброго. Выпил ее Иван, потом и спрашивает:
— Слушай, Кощей, а чего это ты смерти так боишься?
— Как же мне, Иван-царевич, ее, лихоманки, не бояться-то? Я видишь какой хилый, робкий, тихий, знай себе в тереме сижу. А соседи у меня грозные, все туда-сюда войной ходят. Того и гляди, зашибут по дороге. Я-то ведь болезненный, полиомиелит в детстве перенес, куда мне воевать-то? Я ж и царем-то просто так называюсь, чтобы ворогам моим страшнее было. Сам суди: где уж мне народом целым править? Они у меня умные, сами управляются. Вече вон себе организовали, сами все решают, все делают: хорошо хоть вежливые, почтительные: меня всегда в известность ставят, что задумали.
“Ну, дела, — думает Иван, — побольше бы таких царей — тихих да робких, полиомиелитом переболевших!” А самому жалко Кощея стало до слез. Смотрит Иван, как Кощей все глазками по сторонам поводит, боится, как бы ему какого татя-душегубца не подослали. “Зря я, что ли, — думает Иван, — сюда из двадцать первого века, тридевятого царства, тридесятого государства прибыл? Помочь человеку надо. Вон он какой тихий, скромный, боязливый…”
— Слушай, — говорит Иванушка, — Кощей, хочешь, я тебе помогу?
— А как ты мне поможешь, Иван-царевич? Мне никто помочь не может. Я сроду такой.
— Ничего, — говорят Иван, — хочешь, я тебя неуязвимым сделаю?
— Как это — неуязвимым? И для стрелы?
— И для стрелы.
— И для кистеня?
— И для кистеня.
— Не может такого быть, — говорит Кощей.
— Может, Кощей, — говорит Иван, — для нас ничего невозможного нет. — А сам думает: “У Кощея, наверное, просто от хилости его мания преследования появилась. Значит вылечить его надо”.
Вспомнил Иван как их в институте суггестопедии обучали, обрадовался — в самом деле: наука, она все может, не даром же у нее гитик столько!
— А что я тебе за это должен буду? — спрашивает у Ивана Кощей.
— Сказку мне одну найти поможешь.
— Сказку? Ладно. Я к вечу обращусь, попрошу, чтобы всех сказителей ко мне в терем прислали, найдем мы твою сказку. Только как ты меня неуязвимым-то, Иван-царевич, сделаешь?
Задумался Иван.
— Скажи, — говорит, — Кощей, что у тебя есть прочное, чтобы сломать трудно было, и маленькое, чтобы спрятать легко?
Теперь уж Кощей призадумался. Думал-думал, потом говорит:
— Подожди, Иван, пойду с дочерьми посоветуюсь.
— Иди, — говорит Иван, — советуйся.
Ушел Кощей. Ждал его Иван, ждал — заждался. Возвращается наконец. Иголку показывает.
— Вот, — говорит, — и крепкая, и маленькая. То, что нужно. Василиса присоветовала.
— Добро, — говорит Иван. — Будь по-твоему. Сядь сюда.
Сел Кощей. Иван перед ним встал и давай его гипнотизировать. Загипнотизировал. Уснул Кошей. А Иван давай ему внушать, как в институте учили, медленно так говорят, тихо, вкрадчиво:
— Ты, Кощей, теперь неуязвимый. Вся твоя душа в эту иголку ушла. А телу что — поранят — заживет. Пока иголка цела, и ты жив будешь, ничего с тобой не случится. Слушай внимательно, запоминай старательно.
Кончил внушать Иван, разбудил Кощея. Тот вскочил, обрадовался.
— Спасибо, — говорит, — Иван-царевич, ох спасибо! Чую я, что и в самом деле неуязвимым стал. Но уж раз начал ты дело, ты его и закончи, как водится. Схоронить теперь эту иголочку надо, чтобы никто вовек ее не нашел, не достал, не дотронулся.
Взял Кощей со стола яйцо, проткнул скорлупу иголкой, да и запустил ее туда всю. Потом поваров своих кликнул. Засунули повара яйцо в щуку фаршированную, щуку — в индейку, индейку — в барана. Барана того потом в сундук за семью замками секретными положили.
— Отвези, — говорит Кошей, — Иван-царевич, этот сундук в море-океан, на остров Буян, да там и закопай под дубом. Пока ездить будешь, я аккурат всех сказителей со своего царства соберу; вернешься — вместе послушаем. Обязательно твою сказку найдем.
— Ладно, — отвечает Иван. — Будь по-твоему.
А сам думает: “Время у меня еще есть, сказителей он мне соберет, а так что — все равно здесь сидеть, ждать. Ведь оно всегда так: скоро сказка сказывается, а дело-то, ой как не скоро делается. Уж лучше я за это время еще поезжу, белый свет погляжу, себя покажу”.
И поехал.
Долго ли, коротко ли ехал, добрался до самой границы царства Кощеева. Там на корабль сел. Отвез сундук на остров Буян, закопал под дубом. Возвращаться решил. Уже к самому городу Берендеичеву подъезжает, видит: навстречу ему странник идет, калика перехожий. Идет, слезами обливается, дивны речи говорит:
— О времена, о нравы! Эх, Кощей, Кощей, что с тобой стало?!
Сошел Иван со своего киберконя, подошел к страннику, спрашивает:
— О чем это ты, калика перехожий, говоришь?
— О временах говорю, о нравах, о царе здешнем, Кощее, что Бессмертным прозываться стал. Хорошо в этом царстве жить было, да вишь — уходить приходится. Решил с чего-то Кощей себя Бессмертным прозывать, власть я свои руки взять. Вече разогнал, колокол вечевой на деньги медные пустить велел, законы какие-то новые понавыдумывал, налогами нас всех обложил — жить стало невмочь. Придется, видно, мне, старому, сирому, калике перехожему, в эмиграцию подаваться.
Ну, — думает Иван, — дела! Даже не верится как-то.
— А что Кощей-то делает? — спрашивает.
— Вестимо что: над златом чахнет.
Пал Иван на своего доброго БУРКО, включил его на последнюю скорость и помчался в город Берендеичев.
Едет он по главной улице. Вдруг слышит: гремят тулумбасы. Идет караул, встречных с дороги палками сгоняет. А за ним едет Кошей верхом на коне, зипун на нем парчовый, а в руках плеть, а по сторонам палачи идут-поют:
Царя мы будем тешить — Рубить там или вешать!Возмутился Иван. Подскочил к Кощею.
— Для того я тебя, что ли, неуязвимым сделал, от мании твоей излечил, чтобы ты тут своевольничать начал? Ты что же это, Кощей, делаешь, как тебе только не стыдно — не совестно?
А Кошей отвечает:
— Мне теперь — что?! Мне теперь на все наплевать. Бессмертный я, бессмертный…
Осерчал Иван, говорит:
— Я тебя, подлеца, неуязвимым сделал, я тебя и убью.
— Как это? — спрашивает Кощей. А у самого уже в глазах испуг замелькал.
— А очень просто. Поеду на остров Буян, выкопаю сундук, достану иголку, сломаю — и дело с концом. Тут тебе и будет кончение.
Рассмеялся Кошей:
— Уж больно ты скор, Иван-царевич! А как это ты на Буян попадешь, когда я уже все порты закрыл, на все грузы эмбарго наложил? Так-то. Вот прикажу сейчас тебя взять да голову тебе отрубить и все. Мне нетрудно. Я теперь ничего не боюсь. Бессмертный я, бессмертный!
Не стал Иван дожидаться, вскочил в седло — только его и видели.
Долго ли, коротко скакал, прискакал на берег моря. Видит — правду сказал Кощей. Ни один корабль в море не выходит. Пригорюнился Иван — младший научный сотрудник, закручинился. Сел на берегу, достал свою дудочку ультразвуковую и давай наигрывать мотивы грустные, печальные.
Вдруг смотрит — из моря дельфин высунулся. Поглядел он на Ивана да и говорит человечьим голосом:
— Здравствуй, брат по крови. Давно ми контактов ждали, думали еще этак лет с тысячу ждать придется, да вот ты объявился. Скажи, откуда у тебя дудочка ультразвуковая, слух наш ласкающая?
— В институте у себя сделал, — отвечает Иван, а сам — рад-радехонек. — Слушай, — говорит, брат-дельфин, сослужи мне службу!
— Ладно, — говорит дельфин, — ради первого контакта чего не сделаешь! Чего тебе надобно?
— Отвези меня на остров Буян.
— Только-то и всего? Садись, отвезу.
Сел Иван дельфину на спину, и поплыли они через сине море. Доплыли они до острова Буяна. Выкопал Иван сундук, замки взломал, живность всю выпотрошил, яйцо разбил, иголку в корзно свое воткнул, кликнул дельфина, и отправились они в обратный путь.
Скоро сказка сказывается, нескоро дело достается. Вернулся Иван в город Берендеичев, подъехал к терему Кощееву, пошел прямехонько в палаты, глядь — а того там и нет. Долго искал — нашел наконец. Сидит царь Кощей в подвале, золото и медь в сундуках пересчитывает. Подошел к нему Иван тихохонько да и говорит:
— Ну что. Кощей, будешь ты свое слово держать, сказителей мне собирать?
— А зачем? — удивился Кощей.
— Как — зачем? Обещал же.
— А мне-то что? Я ж теперь бессмертный!
Тут Иван возьми да и покажи ему иголочку.
— Раздай, — говорит, — казну, у кого сколько брал, вече снова собери и вообще не резвись особо — всю историю испакостишь. История тебе не что-нибудь, с ней обращаться бережно надо. А мне сказителей собери. Как я без сказки к себе в двадцать первый век, в тридевятое царство, в тридесятое государство вернусь?
Говорит и видит: Кощей за грудь рукой схватился, сам все на иголку смотрит, постоял-постоял, а потом и грохнулся на пол. Лежит, не двинется. Понял Иван, что хватил Кощея инфаркт. Со страху, наверное. Пригорюнился младший научный сотрудник, закручинился, думает, что же теперь делать, как он без сказки вернется, — будут его разбирать на диспетчерском, как пить дать.
Да сделанного не воротишь.
Вышел он из терема на крыльцо высокое, а перед крыльцом уже народ толпится-собирается, кричит: “Хотим Ивана-царевича царем иметь! Ивана на царство!”
Отвечает им Иван:
— Не буду я царем. Мне к себе возвращаться надо. Да и к чему вам царь? Собирайте снова вече, и дело с концом. А уж ежели царя хотите, так посадите себе Василису Прекрасную, дочку Кощееву. Глупа она как пень. С такой царицей и жить спокойно будете. А править — сами сумеете.
Вскочил он на коня и поскакал. А народ кричит вслед:
— Спасибо, Иван-царевич, на добром слове! Так и сделаем! Быть посему! Не поминай нас лихом!
Прискакал Иван — младший научный сотрудник в лес Муромский, дремучий, где канал Темпоральный проходит, остановил попутную машину времени и вернулся в Терем ИФ. А там его уже встречают — и доктор филологических наук Царев, и кандидат филологических наук Мудров, и старший научный сотрудник Симеон. Взяли они его под белы рученьки, привели в центральную бухгалтерию. А там и говорят:
— Что же это ты, Иван — младший научный сотрудник, нас всех дураками считаешь? За казенный счет в прошлое прогуляться захотел? Конца он у сказки не нашел, видите ли! А это что?
И показывают ему сказку — ту самую. И первая страничка есть, и вторая есть, и третья есть, и четвертая есть, и пятая, и еще пять. И все там написано: и про иголку, и про то, как Кощей бессмертным стал, и про остров Буян.
Понял Иван — заколдованный круг получился. Но разве объяснишь кому? Все равно не поверят. Высчитали с него командировочные — и суточные, и проездные. И еще заставили объяснительную писать: почему он столько времени прогулял, на работу не выходил. И на Ученом совете разобрать его недостойное поведение пообещали. Опечалился Иван — младший научный сотрудник, закручинился. Пошел он в трапезную на четыреста посадочных мест и напился там с горя томатного соку.
И я там с ним был, сок томатный пил — по усам текло, я рот не попало. Тут и сказке конец.
Святослав Логинов Взгляд долу
— Пожалуйста, — сказал Яфмам, — прошу!
Он наклонился над столом, навис, широко расставив руки с растопыренными пальцами. Сонд напрягся, но всё же не сумел заметить того момента, когда стол украсился десятками тарелок, подносиков, блюдечек, горшочков и соусников. В некоторой растерянности Сонд созерцал дымящееся и благоухающее великолепие.
— Начинать можно с чего угодно, — пояснил Яфмам, — и на чём угодно заканчивать. Неужели вы ещё не заметили, что у нас можно всё? В разумных пределах, разумеется.
Сонд осторожно придвинул к себе ближайшую салатницу, попробовал. Вкусно. Даже слишком вкусно, как и всё здесь. “Ещё неделя, — подумал Сонд, отодвигая вторую тарелку, — и я не влезу в космошлюпку, корабль уйдёт без меня, меня оставят худеть, а здесь я никогда не похудею. А вот Яфмам умудряется быть тощим. Хотя ему всё это давно приелось”.
Яфмам сидел напротив, склонившись над зелёным желейным брусочком. Воткнув в него соломинку, Яфмам лениво посасывал, и брусочек потихоньку уменьшался, почти не изменяя формы.
На улице с шумом и криками носилась ребятня, обычные детишки, совсем такие же, как на земле. Хотя, одно отличие есть: всемогущее родительское внимание явно оберегает детей — ни у кого не видно царапин, не найти разбитого носа, ободранных коленок. И костюмчики новенькие, чистые, словно их владельцы не валялись только что в пыли или не мчались сломя голову по кустам.
Иногда по дороге проходил кто-нибудь из взрослых. Они тоже были до изумления похожи на землян, но одного взгляда на них было бы достаточно, чтобы схватиться за голову любому земному врачу. Взрослые были неестественно сутулы, попросту горбаты. Шеи сгибались дугой, подбородки упирались в грудь, словно прохожий рассматривал пыль под ногами. Сонд уже знал, что такая “осанка” вызвана не анатомическими различиями, которых у землян и местных жителей почти не было. Странное уродство специально вырабатывалось долгими мучительными упражнениями. “Взгляд долу” был обязательной принадлежностью любой ритуальной позы.
— Яфмам, — сказал Сонд, — я гощу у вас уже четвёртый день, многие мои товарищи тоже гостили у ваших соплеменников, а вот из вас почему-то никто не побывал на нашем корабле. Я приглашаю вас сегодня одного или с друзьями, как покажется удобным.
— Это совершенно невозможно, — отозвался Яфмам.
Изогнувшись вопросительным знаком, он одним движением ладони стёр со стола ужин, потом, опустившись на подушки, пояснил:
— Я не суеверен и не думаю, что вы занимаетесь зеркальной магией, но боюсь, что ваши дела всё же опасны и могут оказаться заразными.
— Зеркальная магия? — переспросил Сонд. — Что это? У нас на Земле кое-кто пытался заниматься зловредной чёрной магией. Но у них ничего не получилось.
— А что такое чёрная магия?
— Это магия, нацеленная на то, чтобы причинять вред другим.
— Похоже, — признал Яфмам. — Но зеркальная магия опасна прежде всего для самого мага.
— Тогда почему же…
— Болезнь, — коротко объяснил Яфмам. — И довольно заразная. Больной начинает применять свои способности для запретных дел и гибнет. В крайнем случае становится калекой и уродом. Чаще всего больной пробует летать, говорят, это можно сделать с помощью зеркала. Отсюда и название: зеркальная магия. Конечно, он падает и разбивается. Потому-то большинство считает ваши полёты вредным и пагубным соблазном.
— Вот оно что?! — воскликнул Сонд. — Почему же вы не сказали об этом раньше? Мы бы немедленно запретили все полёты.
— Как можно запретить другому? — удивился Яфмам.
— Мы бы попросили прекратить полеты, — поправился Сонд.
— Вы добры и отзывчивы. — Яфмам поклонился.
Сонд знал, что обмен любезностями может продолжаться часами, и поспешил сменить тему разговора.
— Яфмам, — сказал он, — а вы не могли бы продемонстрировать ваше умение перед приборами? Вы же знаете, что в них нет ничего злого. А нам это, возможно, помогло бы освоить магию…
— Нет, нет, я боюсь, — отказался маг. — но я мог бы попробовать обучить вас. Согласны?
— Согласен! — быстро сказал Сонд. — Что для этого нужно?
— Ничего. Сядьте поудобнее, расслабьтесь. Теперь примите позу и начинайте думать о предмете ваших желаний… Только думайте так, словно никогда в жизни ничего не желали сильнее…
На мгновение у Сонда вспыхнула невозможная надежда: вдруг получится? Но тут же погасла, убитая трезвой мыслью: что пожелать? О чём он мечтал в своей жизни до самозабвения, истово и безнадёжно? Полететь к звёздам? Он этого добился безо всяких чудес. Первая любовь? Сонд представил, как на столе материализуется женская фигура, и, усмехнувшись, потряс головой. Нет, живой человек — это не чашка кофе. Так, наверное, нельзя, это из области зеркальной магии. Что ещё? Подлинная гравюра Дюрера? Но они все известны специалистам, а ещё один подлинник вряд ли сможет создать даже магия. Ладно, не надо подлинников! Копии гравюр, венское издание конца прошлого века! Это, конечно, тоже не чашка кофе, но объект для мечты подходящий.
Сонд изогнулся, распластал над столом руки и сосредоточился, он добросовестно, страница за страницей представлял себе венский альбом, воображал себя его владельцем. Мурлыкающий голос Яфмама доносился к нему словно сквозь вату:
— Огонь в мозгу сливается с огнем солнечного сплетения, жар в ладонях — готово!
Сонд открыл глаза. На столике стояла чашечка полная черного кофе.
— Вот видите! — шумно радовался Яфмам. — Сначала затраты кажутся неправдоподобно большими, но потом будет легче. Главное — не забывать о позе. Голова должна быть опущена всегда, энергия начнёт накапливаться, и материализации можно будет проводить безо всякой подготовки. Не распрямляйтесь!.. Ну зачем вы?.. У вас получилось с первого раза, хотя считается, что взрослого человека обучить невозможно….. Зря вы стерли позу…
Сонд помассировал затекшую шею, потом взял чашку, отхлебнул. Оказалось вкусно, но это был не кофе.
— Простите, Яфмам, — сказал Сонд. — Дело в том, что получилось у вас, а не у меня.
— Мне очень хотелось вам помочь, — признался Яфмам.
Они поднялись, вышли на улицу. Там уже почти никого не было, дело шло к вечеру. Совсем земное солнце клонилось к пологим верхушкам холмов, которые тоже казались совершенно земными, перистые облака над головой подсвечены розовым, предзакатное небо отливает зеленью.
“А ведь они этой красоты не видят, — вдруг подумал Сонд. — Сидят, уставившись на пуп. А что с того имеют кроме вкусностей? Даже искусство у них мелкое: тонкая резьба, орнаменты, безделушки да украшения”. Сонд искоса глянул на Яфмама. Тот шагал, сосредоточено глядя под ноги. “И люди красивые, — эта мысль легла ещё одним доводом в пользу созревающего недовольства, — жаль горбатыми кажутся, а всё из-за позы… — Но тут же Сонд устыдился собственного антропоцентризма. — А ты подумал, — одёрнул он себя, — что сам кажешься Сонду младенцем-переростком? А он возится с тобой, старается помочь, хотя наверняка боится, что ты все-таки заразный. Что же это за штука такая — зеркальная магия? Вдруг земляне на самом деле заразны, потому и не владеют колдовством?”
Громкий крик прервал его мысли. Сонд вскинул голову и увидел отпечатавшуюся на фоне неба черную человеческую фигуру. Широко раскинув руки, она парила в зените, и оттуда доносился вопль, полный торжества смешанного со страхом.
Яфмам, заслышав крик, согнулся, словно его ударили, спрятал лицо в ладонях, и два или три человека, бывшие на улице, повторили этот жест, стараясь укрыться от того, что происходило наверху. Один Сонд стоял, вскинув голову, и смотрел на парящую фигуру. В следующую секунду он понял, что человек не летит, а падает. Далее Сонд действовал автоматически, словно это кто-то другой мгновенно активизировал скрытые под одеждой антигравы и взмыл вверх, а сам Сонд лишь отмечает мелькнувшую землю, скорчившихся людей, фигуру, выпустившую блестящий круг, и тысячеосколочный звон, когда круг коснулся камней. Человек падал медленнее тяжёлого зеркала, и Сонд успел на последних метрах настичь его, вцепиться и затормозить, прежде чем они ударились о землю.
Потом Сонд взглянул на спасённого. Это был совсем молодой парнишка, один из тех, кто, несмотря на увещевания старших, постоянно вертелся вокруг землян. Теперь он растерянно смотрел на Сонда и, видимо, не вполне понимал, что с ним происходит. Сзади подошел Яфмам.
— Зачем ты это сделал, Ииас? — печально спросил он.
— Я хотел летать, как они, — сказал Ииас. — Но я не мог увидеть неба, не мог представить его: ведь я почти не помню, как был маленьким и смотрел на небо. Поэтому я сотворил зеркало. Я не колдовал с ним, я только хотел увидеть в зеркале небо. Я сам не знаю, как очутился наверху.
— Это и есть зеркальная магия, — Яфмам покачал опущенной головой. — Ты заболел небом, Ииас, это не вылечивается.
— Но вы говорили про инфекционную болезнь… — пробормотал Сонд.
— Я здоров! — воскликнул Ииас. — И я всё равно буду летать!
— Ты уже ничего не будешь делать, — возразил Яфмам. — Посмотри как ты стоишь! Энергия ушла из тебя, ты обессилел. Сотвори что-нибудь, попробуй. Сделай цветок!
Ииас согнулся, лицо его залила краска напряжения. Потом он со стоном распрямился.
— Идём, — сказал Яфмам. — Теперь тебе нельзя в посёлок, ты будешь жить с больными.
Он пошёл прочь от домов, Ииас покорно поплёлся за ним. Сонд быстро догнал уходящих. Яфмам, заметив его, негромко сказал:
— Это действительно заразная болезнь. Но заболевают только молодые. Болезнь неизлечима. Если даже заболевший останется жив, он теряет свои способности, становится беспомощным, как младенец. Мы заботимся о них, но просим никуда не уходить из карантина: люди, умеющие видеть небо, заразны, их примеру обязательно следуют другие. Рядом с посёлком живут четверо таких. Ииас будет пятым. И всё-таки источником инфекции были вы, земляне.
Они подошли к домику, стоявшему в стороне от посёлка. Зеленеющий холм закрывал его от остальных домов. Плотный забор в рост человека окружал дом. Яфмам отворил калитку и отступил, пропуская юношу.
— Ты будешь жить здесь, — сказал он. — У тебя будет всё, что нужно для жизни, на я прошу тебя никогда не выходить в поселок. Да ты и сам этого не захочешь.
— Я хочу летать, — прошептал Ииас.
— Там есть зеркала, — сказал Яфмам, — там много хороших зеркал, но они тебе не помогут, небо ты теперь видишь и без зеркала, а вот магические способности к тебе не вернутся.
— Не отчаивайся, Ииас! — сказал Сонд. — Завтра я приду к тебе. Ты еще будешь летать. Для нас ты не больной, ты просто человек.
Юноша ушел к дому не оглянувшись, но Сонд видел, как его голова, которую он старательно опускал, поднялась выше.
Яфмам проводил Сонда к станции. Станция и посадочная площадка космошлюпок располагались по другую сторону посёлка. Их тоже окружал глухой забор с незапирающейся калиткой. Теперь Сонд понимал, зачем нужна эта ограда. Она должна уберечь молодых от опасных соблазнов землян. Около калитки Сонд и Яфмам раскланялись.
— Люди больше не будут летать над посёлками, — сказал Сонд, — и вообще не будут летать без крайней нужды.
Яфмам поклонился.
— Еще я хотел спросить, — продолжал Сонд, — можно ли нам забрать ваших больных к себе?
— Разумеется, если они согласятся на это. Некоторые раскаялись в своей глупости и хотели бы вновь стать магами. К сожалению, это невозможно. Вам, Сонд, тоже придётся смириться с неизбежным. Когда вы пытались овладеть искусством, я не заметил никакой концентрации энергии. А ведь когда-то у вас были великолепные задатки, это видно даже сейчас. Ваши дети могут стать настоящими магами. Присылайте их к нам, я сам буду с ними заниматься.
— Спасибо, — сказал Сонд, — но у меня пока нет детей.
“А когда они появятся, — добавил он про себя, — то я не пущу их сюда, пока они неизлечимо не заболеют небом”.
Игорь Смирнов Повесть о белом скитальце
Мой жребий все остался тот же, страшный,
Каким он в первое мгновенье пал
На голову преступную мою.
Я людям брат; моя судьба забыта;
Ни прошлого, ни будущего нет;
Все предо мной земное исчезает…
В.А.Жуковский. АгасферСообщение первое
которое служит скорее предисловием
к предлагаемой истории,
чем главой,
поскольку здесь впервые упоминается о рыцаре Уайте
и его белоснежном коне Тру
Ранним утром двое крестьян из деревни Ливьен торопливо погоняли свою лошаденку, впряженную в неуклюжую повозку, и лениво вспоминали жуткую грозу, которая с полночи не давала им спать.
Сначала дорога шла вдоль полей, потом пересекла небольшой лесок и вылилась на всхолмленную долину. И вот тут, неподалеку от каштановой рощи, старый Пьер попридержал лошадь и стал настороженно всматриваться в низкий кустарник. Толкнул задремавшего сына:
— Вроде человек…
— Пусть себе…
Проехали еще немного. Пьер свернул с дороги и вдруг натянул вожжи.
— Пресвятая дева! Рыцарь… неживой вроде. — Он глянул через плечо на сына: — Да ну же, Филипп! Чем дрыхнуть, пошел бы поглядел!
Филипп недовольно поднялся с сена, протер глаза.
— Да нам-то какое дело, — сказал он ворчливо. — Пусть себе! Рыцарь — он и есть рыцарь, драчун и бездельник! И толку от него, что от воробья мяса!
Пьер махнул рукой:
— Э, что с тобой толковать!
Он бросил вожжи Филиппу и спрыгнул на землю.
Рыцарь лежал за пригорком, широко раскинув руки. В одной был щит, в другой копье. Длинный белый плащ, белые перья на шлеме и великолепной работы доспехи — все в нем выдавало не последнего сеньора.
Рядом тлело зажженное молнией дерево, вокруг на несколько ярдов была опалена трава, а чуть подальше лежал на боку бездыханный конь.
Старый крестьянин робко склонился над рыцарем:
— Сьер… ваша милость…
Тот даже не пошевелился.
— Ну, чего, чего там? — нетерпеливо спросил Филипп, вытягивая шею.
— Должно, гром небесный, — тихо отозвался Пьер. — Обоих. И лошаденку тоже…
— И ладно. Может, их давно ждали в преисподней! Давай-ка поехали, отец, а то как бы на нас чего не подумали.
— Погоди. Вроде не насмерть.
Пьер попробовал поднять у рыцаря забрало. Не получилось. Тогда он осторожно заглянул в черную щель шлема… Его охватил ужас, когда он понял, что у рыцаря нет лица. Там было что-то серое, размазанное… Старик отпрянул, упал, потом вскочил на ноги и с диким воплем бросился вдоль дороги.
Почувствовав неладное, Филипп отчаянно хлестнул вожжами по крупу лошади и в тот же момент краем глаза увидел, как пошевелился и поднял голову белый конь рыцаря. Но об этом он так никогда ясно и не вспомнил. Считал, что это ему просто привиделось.
Сообщение второе
которое своей несуразностью
может озадачить любого нормального человека
Река Майенн в верховьях не так спокойна, как в долине. И если бы дед с внуком не слишком торопились, прошли бы лишних полтора лье до надежной переправы и горя бы не знали. Так нет же, толкнула их нечистая на эти вихлявые бревна! Ничего вроде и не предвещало беды: шли себе, шли спокойно, вот уж и рукой подать до противоположного берега — и тут неожиданно дед покачнулся и полетел в поток. Внук за ним. Догнал, одной рукой ухватился за него, другой — за скользкие сваи: здесь когда-то мост был, да паводком уж года три как смыло… Вот он берег — совсем близко, да не так-то просто добраться до него со стариком, в котором еле душа держится: вынесет в водоворот — и не выплывешь.
— Держись, держись, дедушка, — успокаивал внук. — Сейчас что-нибудь придумаем!
Он повернул голову и увидел спускавшегося к мосткам рыцаря. Тот сидел верхом на белом коне и, как видно, не очень торопился.
— Помогите! — закричал юноша. — Сударь, спасите нас!
Рыцарь на мгновение остановился, лениво тряхнул пышным плюмажем и так же неторопливо проехал по шатким бревнам на другой берег: там было ближе и удобнее вызволять людей из беды. Он нехотя протянул к старым сваям копье и гулко приказал:
— Держитесь крепче!
— Дедушку, дедушку сначала, сударь! — попросил молодой человек.
— Делайте, как я велю!
— Но дедушке одному не удержаться, он слаб!
Откуда-то вынырнул хромой францисканец, тощий, как жердь, в черной запыленной рясе, и суетливо забегал вокруг белого коня.
— Во имя господа нашего Иисуса Христа, — бормотал он, — помоги прежде немощному старцу, доблестный рыцарь!
— Не мельтеши, монах! — сердито сказал тот, и прозрачные камни на его шлеме будто вспыхнули. — Не мешай, иначе я заставлю тебя самого заниматься этим богоугодным делом!
Францисканец жалобно пискнул и торопливо перекрестился.
— Ну! — крикнул рыцарь молодому человеку, нетерпеливо стуча концом древка по свае.
— Сударь, дедушку! Прошу вас!
— Вот упрямый щенок!
Рыцарь изловчился и, подцепив юношу копьем за рубаху, выбросил того на берег. Но старик не удержался, поток тут же оторвал его от свай и потащил на стрежень. Вскочив на ноги, молодой человек закричал что-то невнятное и бросился в реку спасать своего деда.
— Глупец! — пробубнил рыцарь.
Монах тоскливо запричитал:
— Где это видано, чтобы сперва вызволять сильного да забывать о немощном старце!..
— Уймись, монах! — прогремел голос рыцаря. — На что годен твой полудохлый хрыч? Какая от него может быть польза, когда он и тетивы натянуть не сумеет! — Он повернул щель своего шлема в ту сторону, где исчезали бедолаги, и тронул поводья. — Поехали, Тру. Что-то плохо мы стали соображать с тобой. Или они — глупцы?
Францисканец остался на месте. Он истово крестился и шептал молитвы о спасении невинных душ.
Сообщение третье
в котором передается предыстория описываемых событий
и любопытная беседа между Белым Скитальцем
и предприимчивым Камиллом Ариосто,
назвавшимся ученым астрологом Абу-Абуром,
и в котором кратко описывается не слишком любезная встреча
на границе Нормандии и герцогства Алансон,
а также то, что произошло после этой встречи
Трудно сказать, кем являлся Камилл Ариосто. Был он и начальником королевских отрядов, был и личным эмиссаром Людовика, потом его знали как аббата монастыря Сен Жан д’Анжели под именем Пипина, которому ставилось в вину убийство герцога Беррийского и его брата Карла. В последние годы Ариосто служил святой церкви. Многие считали его любимцем кардинала, но подобные слухи вряд ли соответствовали истине: де Балю не слишком-то доверял этому пройдохе, однако вынужден был многие важные дела поручать именно ему, поскольку никто другой не мог справиться с ними быстрее и успешнее. Оба понимали зависимость друг от друга и старались пока не нарушать ее: кардинал в свое время спас Ариосто от молодцов господина прево; Ариосто же, как поговаривали, состоял в какой-то родственной связи с одним из придворных самого папы, и потому чураться такого знакомства даже для прелата было бы крайним легкомыслием.
Совсем недавно Жан де Балю вызвал Камилла Ариосто и признался, что святая церковь не раз пыталась привлечь на свою сторону Белого Скитальца, однако все усилия до сих пор оказались тщетными. Сам же кардинал не верил в такую заманчивую перспективу и потому решил избавиться от этого рыцаря, дабы он не достался никому: ни герцогу Карлу, ни Гийому де ла Марку.
— И потому, — закончил он, — вам надлежит отправиться с отрядом в Мен и… убить его. Учтите, друг мой, из Бретани он все время едет на восток, так что где-нибудь возле Алансона вы можете подготовить удачную засаду без лишних свидетелей.
— Ваша светлость, — скромно возразил Ариосто, — не прикажете ли вы мне попытаться еще раз — в последний раз, ваша светлость! — поговорить с рыцарем, и уж если ничего не получится и у меня, тогда я со всем моим усердием выполню вашу волю!.. Смею напомнить, что на встречи со Скитальцем посылались или трусливые, или неумелые люди, которые вряд ли могли преуспеть в таком деликатном деле.
Кардинал поднялся из кресла — безвольное старушечье лицо, длинные с проседью волосы — и приблизился к Ариосто.
— Хорошо, друг мой. Попытайтесь. Но будьте осторожны: белый рыцарь жесток и великолепно владеет оружием… — Он положил руку на плечо Ариосто. — И все же поторопитесь: вольности Скитальца опасны и упаси бог, чтоб они дошли до черни! И потом, если молва о нем достигнет двора папы…
Помотавшись со своим отрядом по дорогам Восточной Бретани, Ариосто наконец напал на след рыцаря. Ему стало известно, что от реки Майенн Скиталец свернул на Алансон и теперь держит путь в сторону Парижа, хотя никто не мог сказать определенно, поедет ли он в Париж, вернется ли обратно в Бретань или переплывет через пролив к королю Эдуарду.
Встреча состоялась возле деревни Реньи. Поняв, какой дорогой поедет рыцарь, Ариосто тотчас отправил отряд к городу Аржантону и приказал устроить засаду в заранее условленном месте. Назначил связных, которые расставлялись на всем пути до Аржантонского леса, и, пожелав удачи приятелям, поскакал догонять Скитальца.
В этих местах мало дорог, но много тропинок. Дорога вела на Аржантон, а все тропинки сливались с этой дорогой. На одной из них и удалось настичь рыцаря.
Собрав все свое мужество, Ариосто подъехал к нему сбоку — тот даже не повернул головы, хотя наверняка слышал топот копыт, — и смиренно попросился в попутчики.
— Здесь очень неспокойно, — пояснил он. — Одному мне боязно, сьер.
Скиталец и на этот раз не взглянул на него, но ответил тихо, без неприязни:
— Что ж, я не против, сударь. Дороги в этих местах действительно опасны, особенно ночью.
— Да поможет вам всевышний, сьер!.. Правда, в кошеле у меня всего девять лиардов, но главное богатство в голове. А отдавать ее жалко.
— Кто же вы такой, сударь?
— Мое настоящее имя вам ничего не скажет. Все меня знают как Абу-Абура. Зовите и вы меня так. А как вас, сьер, простите?
— Уайт. Остальное вас не должно интересовать. Итак, чем же вы занимаетесь, господин Абу-Абур?
— Я астролог, с вашего позволения. Кроме того, меня весьма интересуют философия и богословие. — Ариосто окончательно осмелел, в нем снова появилась уверенность, и он все больше входил в свою роль. — Я, сьер, потомок мудрых халдеев и за свои сорок пять лет успел постичь тайны прорицателя Фу-Хафа, сызмальства не покидавшего пещеры на горе Приаб, узнал науку знаменитого Лоретто и не менее знаменитого Евтропия. Недавно я посетил священные долины древнего Шинара, фиванскую пустыню и отныне вижу в себе великие силы.
Наконец шлем рыцаря на недолгое время повернулся в сторону Ариосто.
— Значит, вы умеете предсказывать будущее?
— Не только, сьер. Я могу давать единственно верные советы как простым смертным, так и всемогущим государям. Моя наука на все дает безошибочные ответы.
— Тогда скажите, почему люди враждуют? Почему в мире много лжи, подлости, жестокости?
— Такова наша суть, сьер…
— Суть? Вряд ли. Ведь каждый входящий в этот мир прежде всего жаждет постичь его тайны, необъятность и вовсе не помышляет о зле. Ариосто спрятал глаза.
— Странны подобные речи, сьер…
— Вижу, вам это не под силу, Абу-Абур. Тогда откройте мою судьбу.
— О, конечно, сьер. Но для этого требуется составить гороскоп по положению Луны относительно Марса и восходящего Юпитера. Впрочем, кое-что я могу сказать и сразу, без гороскопа, только покажите мне вашу руку… Нет, нет, сьер, перчатку придется снять.
Рыцарь, кажется, усмехнулся, но перчатку не снял.
— Не верю я такому гаданию, — сказал он. — А вот на звезды вы все-таки посмотрите: может быть, они и скажут что-нибудь.
— О, для вас, моего защитника, я это сделаю с особым удовольствием! Ариосто сунул руку за пазуху и вытащил оттуда старый манускрипт, испещренный кабалистическими символами и восточными письменами, скорее всего арабскими.
— Вот, — сказал он. — Тут много мудрости, сьер.
Он углубился в изучение рукописи. Его просторный бархатный халат с широкими рукавами разошелся до пояса, разукрашенного знаками зодиака.
— Так! — Ариосто вскинул голову и, часто моргая, посмотрел на попутчика. — Значит, вы — тот самый рыцарь, которого зовут Одиноким, Белым Дьяволом, Белым Сатаной, Белым Велиалом?
Не получив ответа, Ариосто усердно потер лоб, снова склонился над манускриптом и затем неуверенно, с опаской убрал его за пазуху. Долго ехал молча, уставившись на уши лошади, потом тихо спросил:
— Сьер, вы не обидите меня?
— Нет. Пока не обидите меня вы.
Ариосто выпрямился в седле.
— Правда, сьер? Но говорят, от вас всем достается: и людям господина прево, и людям его высокопреосвященства!
— Пусть не пристают. Я никого не трогаю, еду своей дорогой.
— А куда, сьер? Верно, на службу к королю Людовику?
— О нет.
— Значит, к герцогу Карлу или Гийому де ла Марку?
— Перестаньте, сударь. Уж если бы я думал о службе, то прежде всего вспомнил бы о короле Людовике.
Помолчали. Ариосто несмело покашлял.
— Сьер, надо бы дать коням отдых, — сказал он. — А кстати, тут есть невысокая горка, где я мог бы ночью заняться изучением звезд.
Скиталец неохотно согласился.
Они свернули с дороги и устроились на отдых под деревьями возле холма. Разводить огонь не стали: Ариосто боялся разбойных людей.
Уайт от ужина отказался, пояснив это тем, что дал себе обет не поднимать забрала в присутствии посторонних.
— Жаль, — сказал Ариосто. Ел он жадно, торопливо, словно последний раз. Ну вот, сьер, и еще день пролетел. Завтра утречком продолжим путь. Нам, видно, по пути до Аржантона.
— Не совсем: я еду в Легль.
Челюсти Ариосто на мгновение замерли.
— Еще раз жаль, сьер… Но я был бы весьма признателен, если бы вы проводили меня до Аржантона. Тут дуга небольшая — потерпите два дня, зато оттуда до Легля отличная дорога.
— Хорошо. Я подумаю, — сказал Белый Скиталец. — Ну, а теперь ступайте к своим звездам, да пусть они скажут вам чистую правду…
Они тронулись в путь до восхода солнца. Ариосто, еще не стряхнувший с себя остатки сна, отчаянно зевал и вполголоса ругался на лошадь. Уайт был бодр и свеж и все так же красиво сидел в седле, держа в одной руке щит, в другой копье.
— Ну и о чем же вам поведали звезды, сударь? — спросил он. Ариосто прервал очередной зевок и тряхнул головой.
— Покуда не все ясно, сьер: мешали облака. Придется следующей ночью снова смотреть в небо.
Он явно лгал. Он знал, что еще до полудня им встретится тропинка, ведущая в Легль, и если Скиталец не свернет на нее, значит, поедет до Аржантона: какой дурак согласится возвращаться с полпути?
Уайт проехал мимо этой тропинки, только с видимым сожалением направил черную щель шлема в ее сторону.
“Пронесло! — с облегчением подумал Ариосто. — Впереди другой тропинки на Легль нет до самого Аржантона. Выходит, белый дуралей в западне! Вот что значит жаждать узнать свой гороскоп! А у меня хватит ума, чтобы засорить ему мозги всякой шелухой!”
На следующую ночь Ариосто опять ушел с места стоянки и вернулся только под утро. И снова у него что-то не получилось. Третью и четвертую ночи он также провел в поле и наконец заявил, что теперь осталось составить таблицы — и они скажут истину. Он попробовал, сидя в седле, получить результаты наблюдений, но тут же задремал и клевал носом до полудня, потом попросил Уайта дать ему возможность поспать хотя бы два часа. Лишь во второй половине дня он закончил свои эфемериды, прочитал их и замер с опущенной головой.
— Ну что? — спросил Скиталец, заглядывая в исписанные листки.
Ариосто трусливо съежился.
— Не смею, сьер.
— Говорите!
— Не смею…
— Я требую, сударь!
Ариосто судорожно вздохнул и стал несмело водить пальцем от непонятных символов к знакам зодиака, от знаков зодиака к арабским письменам.
— Я был прав, — сдавленно сказал он. — Я не мог ошибиться. Но вы меня повергли в сомнение, сьер, потому мне так долго и пришлось проверять одно и то же… Я был прав, сьер.
— В чем вы были правы?
— Ну, в том… кому надо служить. Вот видите, все таблицы говорят об этом. — Он снова стал водить пальцем по бумаге. — Путь ваш безрадостен, одинок, позади много крови и смерти…
— А впереди?
— Впереди… Я прошу вас, сьер, обратить внимание на цифру “тринадцать”: она говорит о том, что, если вы до завтрашнего полудня не решитесь принять предложение кардинала, вас ждет бесславная гибель. А вот здесь, выше, — то, что ожидает вас на службе его высокопреосвященства: почет, богатство, слава и долгие годы жизни…
Прошла еще одна ночь. Уайт хранил молчание и, как показалось Ариосто, тоскливо оглядывал проплывавшие мимо крестьянские хижины и поля. Что же он решил? Не может быть, чтобы выбрал бесславную смерть! Пусть себе думает. Пусть думает как следует, пока есть время!
— Скоро полдень, сьер, — скромно напомнил Ариосто.
— Точнее, скоро нормандская граница, не так ли?
Ариосто показалось, будто Уайт усмехнулся, и от этой мысли ему стало жутко.
— Не понимаю вас…
— Все вы прекрасно понимаете, сударь, — раздельно сказал рыцарь. — Только на прощание я скажу вам вот что: зря вы все это затеяли!
— Что… затеял?
— Не притворяйтесь. Вам трудно понять, что с первой минуты знакомства я знал, кто вы такой и чего добиваетесь. Вам трудно понять и то, что все эти гороскопы и гадания способны одурачить не каждого. Если в старых манускриптах есть какая-то логика, то в ваших эфемеридах смысла не больше, чем в образцовой бессмыслице… Сейчас мы расстанемся, не так ли? Я даже не поколочу вас, но вместо этого попрошу передать всем, что я враг раздоров, что я против лжи и жестокости. И пусть люди с недобрыми намерениями оставят меня в покое…
— Так вы… отказываетесь?
— Безусловно.
Ариосто дал шпоры и, высоко подняв над головой шапку, понесся назад. А там будто выросшие из земли солдаты тащили из леса и ставили заготовленные заранее высокие деревянные заслоны. Такие же заслоны проглядывали между деревьями по обе стороны от дороги. Впереди — мост через речку, перегороженный длинной сетью, солдаты, сидящие на деревьях и готовые в любой момент сбросить эту сеть на Белого Скитальца. А со всех сторон уже летели поющие стрелы, вонзались в стволы, в утоптанную дорогу.
Уайт похлопал коня по шее:
— Ну что ж, Тру, — только вперед!
Конь взял с места в карьер. Он словно летел, едва касаясь земли. Над сетью он взмыл, подобно молодому орлу, и в следующее мгновение был уже за мостом. Засада за речкой бросилась врассыпную. Лишь один солдат остался лежать в траве: его случайно ранили убегавшие в панике товарищи. Уайт спешился, нагнулся над ним. Это был молодой, совсем юный воин с девичьим лицом и страдальческими губами.
— Не надо! — прошептал он едва слышно.
Белый Скиталец долго и задумчиво смотрел на него.
— В тебе живет ненависть ко мне? — наконец спросил он.
— Нет-нет, сьер, нет! Клянусь! Мне приказано…
— Приказано убить? И ты бы убил, не зная за что, не зная меня? И совесть твоя была бы спокойной? Странно. А вот мне тебя жалко. — Уайт говорил медленно, с паузами. — Да-а, видно, трудно быть человеком… Трудно…
Сообщение четвертое
дающее возможность снова в какой-то мере
взглянуть со стороны на странного рыцаря
и отметить его несговорчивый характер
Герцог Карл гордился Перонном и ни за что бы не променял его ни на какой другой город. Впрочем, это не совсем точно: он мог бы променять его лишь на Плесси-ле-Тур, и то с условием смены почетного звания сюзерена на более почетный королевский венец.
Турнир был в разгаре, когда на ристалище неторопливо въехал незнакомый рыцарь и остановился возле ворот.
— Ого! — громко сказал один из вельмож герцога. — По-моему, к нам пожаловал сам Трусливый!
— А вы убеждены, виконт, что это трусливый рыцарь? — спросил граф де Кревкер.
— Разумеется! Я с ним встречался дважды, когда ездил к герцогу Бретонскому. Трусливый бывал почти на всех турнирах, однако ни в одном не принимал участия. Более того: он уклонялся от ссор и поединков и сбегал на своей кляче при первом удобном случае. Тогда он удрал и от меня, граф, да, да! Но сегодня он не уйдет!
Де Кревкер спрятал в бороде снисходительную улыбку и стал ритмично постукивать пальцами по рукоятке меча.
— Ваша новая поездка к эрцгерцогу Максимилиану лишила вас самых важных новостей, — сказал он. — Когда это было, что вы ездили в Бретань! С тех пор немало утекло воды, виконт, и ваш Трусливый успел уже побывать в рангах Одинокого, Дьявола, Сатаны и Велиала, потом Белого Скитальца, Жестокого и Свирепого, а теперь, я слышал, зовется Добрым. Хотя последнее имя дано скорее всего иронично. Так что стоит быть осмотрительнее, дорогой Тийе!
— Прозвища ни о чем не говорят, граф.
Кревкер мягко, но настойчиво перебил его:
— И все же, виконт, считаю необходимым сообщить, что еще в Бретани, видимо, до вашего возвращения сюда — этот Трусливый успел натворить немало бед. Однажды он дерзнул ворваться в замок сеньора де Жуанвиля. Представляете, Тийе? Он учинил такой погром, что хозяева замка помышляли уже не о том, чтобы покончить с ним, а о том, чтобы хоть как-то выдворить его за ворота.
Тийе беззаботно засмеялся:
— Неужели вы всему этому верите, граф? Да посмотрите же на него: он и теперь пугливо жмется к стене на своей кляче!
— Эта кляча, как вы изволили выразиться дважды, дорогой виконт, не уступает лучшим арабским скакунам…
Герцог Карл уже несколько раз делал попытки оглянуться. Наконец не вытерпел и подозвал маршала де Кревкера:
— Любезный граф, перестаньте же шептаться за моей спиной! Что вы там выдумываете про этого рыцаря? Вы знаете, кто он?
— Вряд ли найдется человек, который ответит на подобный вопрос, ваша светлость, — сказал де Кревкер. — Настоящее его имя — Уайт, хотя больше он известен как Белый Скиталец. Одни говорят, будто это побочный сын герцога Бретонского, другие — что он обездоленный кузен Гийома де ла Марка…
— Ну, сплетни меня мало интересуют, граф, — нетерпеливо перебил герцог. Я слышал, он умеет отлично драться? Вот и пусть послужит у меня!
Маршал потеребил свою бороду и наморщил лоб.
— Государь, этого рыцаря зовут также и Одиноким. Пройдя путь от Бретани до Перонна, он нигде подолгу не задерживался, а это может говорить лишь о том, что он сам по себе…
— Перестань, де Корде! — Герцог Карл грозно сдвинул брови. — Клянусь святым Георгием, я не припомню ни одного храброго рыцаря, который не мечтал бы о хорошей школе. А хорошая школа — здесь. Здесь, граф, у меня!
Зная бешеный нрав герцога, Кревкер с минуту помолчал, затем, как бы между прочим, произнес:
— Не могу разглядеть, государь, какой символ на его щите?
— Меч, — буркнул Карл. — Меч с крыльями… Хм! Какой чистюля! Мои наемники красят латы в черный цвет для устрашения врагов, а этот? Доспехи сверкающие, гладкие, без единой вмятины, будто только надел их!.. Что-то мало похож он на обездоленного родственника!.. А что, граф, если он вызовет на поединок меня?
— Насколько мне известно, ваша светлость, в последнее время он ни разу не лез в драку первым.
— Не рыцарь, а размазня. Эй, Тийе! — крикнул герцог молодому паладину. — Я слышал, ты хотел пощекотать этого белого чистюлю своим доблестным мечом?
— Сочту за честь, всемилостивейший государь! — Тийе отвесил низкий поклон и удалился.
— А если виконту не повезет? — осторожно сказал Кревкер. Герцог даже не взглянул на него.
— Думайте, что говорите, граф. Тийе не хуже Дюнуа владеет оружием! — Карл привалился к подлокотнику кресла и стал нервно покусывать ноготь.
Закончился очередной поединок. Герольд объявил имена следующей пары рыцарей.
Тийе сидел на гнедом скакуне с присущей ему уверенностью, лишь время от времени успокаивая нетерпеливого коня. Спокоен был и Скиталец, хотя его слишком опрятный вид проигрывал в глазах зрителей перед помятыми доспехами противника.
После принятых церемоний противники разъехались на двести ярдов и, пригнувшись к лукам, пришпорили коней. Они неслись, подобно вихрю. Казалось, не существовало силы, которая могла бы их остановить. Они сшиблись на всем скаку. Зрители замерли. Но в следующее мгновение по рядам пронесся вздох разочарования: всадники проскочили друг мимо друга — лишь лязг железа прокатился по площади из края в край.
— Какой позор! — пробормотал герцог Бургундский. Лицо его налилось кровью: он заметил, что странный рыцарь пощадил молодого вельможу и в последний миг отвел направленное в шею противника копье. Это же заметил и де Кревкер, но промолчал.
Между тем Уайт доскакал до каменной стены и остановился, ожидая, что предпримет Тийе. А тот, круто развернув коня, вонзил ему в бока шпоры и снова понесся навстречу. Незнакомец был вынужден дать с места в карьер. Сблизившись, он с такой неуловимой легкостью ударил противника острием копья в грудь, что тот не удержался в седле и свалился на землю. Над площадью повисло тягостное молчание. Поймав бешеный взгляд Карла, герольд объявил поединок законченным и в растерянности озирался по сторонам.
— Я сам вызову его! — прорычал герцог, вскакивая с места, и де Кревкеру и д’Эмерли с трудом удалось удержать безрассудно храброго государя Бургундии от рискованного шага.
Карл остывал медленно. Он сидел, опасаясь поднять глаза, чтобы не выдать бушевавших в нем чувств неловкости и досады.
— Что с Тийе? — тихо спросил он.
Д’Эмерли с готовностью отозвался:
— Ранен, однако не опасно.
— Ранен… А этот чистюля начинает мне нравиться. — Герцог взглянул исподлобья в ту сторону, где находился Скиталец, и мрачно усмехнулся: Какой он, к черту, Свирепый! Клянусь святым Георгием, в нем свирепости не больше, чем у моего шута болтливости!
— Он был таковым, ваша светлость, — посмел возразить д’Эмерли. — До сей поры он не простил ни одному задире и расправлялся с противниками весьма жестоко.
— И все же он не свиреп. И не добр. Просто Белый Чудак. Впрочем, как ни зови его, но, клянусь святым Георгием, это великолепный рыцарь!.. Вот что, Эмерли… Впрочем, лучше ты, Кревкер: предложите ему остаться.
— Государь…
— Экий ты щепетильный, Корде! Ну, отправь к нему д’Эмберкура…
Начался общий турнир. Со стороны ворот наступали бургундцы, навстречу им скакали наемники и несколько странствующих рыцарей. Белый Скиталец участия не принимал. Он смотрел, как сошлись противники, как упали на землю первые неудачники.
В разгар сражения к нему приблизился посланец герцога Карла.
— Прошу господина рыцаря оставить седло и снять шлем, — несколько суховато сказал д’Эмберкур.
Белый Скиталец спешился, но шлема не снял.
— Мое имя Уайт, — представился он. — Я никогда не поднимаю даже забрала, почтенный сеньор, это мое правило.
Д’Эмберкур смутился, не зная, на что решиться. С минуту он рассеянно разглядывал прозрачные камни на шлеме незнакомца, затем, словно позабыв о своей просьбе, сказал:
— Сьер Уайт, герцог Бургундии и Лотарингии, Брабанта и Лимбурга, Люксембурга и Гельдерна…
— Княжества Эно, — нетерпеливо перебил незнакомец, — Голландии, Зеландии, Намюра, Зутфена и так далее, и так далее…
Наслышавшись разного рода небылиц о странном рыцаре, д’Эмберкур вконец смутился и не знал, то ли возмутиться на явную дерзость, то ли пропустить ее мимо ушей и добиваться главного — того, о чем говорил рыцарь почетного ордена Золотого Руна маршал Бургундии Филипп Кревкер де Корде… Он взял себя в руки, басовито покашлял в перчатку и окрепшим голосом продолжил:
— Сьер Уайт, мой государь предлагает вам поступить на службу в доблестное бургундское войско.
Белый Скиталец с минуту молчал.
— Недавно я слышал спор двух людей, — наконец сказал он. — Один утверждал, что человек рождается жестоким и всю жизнь затем дерется, чтобы отвоевать для себя место под солнцем. Другой же говорил обратное: человек рождается добрым для созидания, совершенствования мира. Как полагаете: кто из них прав?
— Несомненно первый. Но…
— Меня этот спор заставил задуматься, почтенный сеньор. В самом деле: что пользы в раздорах, в войне, на которые тратится много времени и денег, которые можно было бы употребить на полезные для людей дела? Я уверен: зло — это тяжелая болезнь человека…
— О чем вы, сьер?
— А вы так и не поняли?
— Погодите. — Д’Эмберкур пристально вглядывался в черную щель над забралом, словно хотел рассмотреть лицо незнакомца, но, так и не поняв, что так вдруг обеспокоило его, спросил: — Что вы такое… говорили?
Тот не ответил. Вскочил в седло и направился к арке ворот.
— Ну что? — спросил ожидавший посланника де Кревкер.
Д’Эмберкур с усилием оторвался от одолевавших мыслей.
— Что-то в нем… не пойму…
— Он покинул Перонн?
— Да, граф. Он отказался и, кажется, поехал в Плесси-ле-Тур.
— К королю Людовику? Этого его светлость нам не простит.
Кревкер досадливо потеребил седую бороду и направился к герцогу. Д’Эмберкур же, поняв по-своему смысл последних слов графа, разыскал начальника отряда наемников и сказал ему, что Белый Скиталец должен умереть по дороге на Плесси-ле-Тур — таков якобы приказ его светлости государя Бургундии.
Сообщение пятое
познакомившись с которым нетрудно убедиться,
насколько действенна сила дьявола
и насколько слаба надежда на всевышнего
Отряд кондотьера де Бассо проскакал по дороге на Париж почти три лье. Не обнаружив Белого Скитальца, пересек дорогу на Амьен, затем на Бапом, на Кодри, и только поздно вечером измученные и злые наемники догадались осмотреть дорогу, ведущую в Руазель.
Синие сумерки вползли в долину, медленно проглатывая крестьянские поля, невысокие покосившиеся домики и дальнюю гряду леса. Пахнуло свежестью реки ее потемневшая гладь призрачно светилась под кручей, — с полей потянуло запахом нагретой за день травы, от жилья — смесью дыма и мокрой крапивы.
Из долины вернулись двое разведчиков, которые сбивчиво и несмело доложили о том, что Белый Скиталец именно на этой дороге, один, едет не торопясь и, конечно же, нападения никак не ожидает.
— Далеко отсюда? — спросил кондотьер.
— Недавно миновал деревню.
— Наконец-то! — Де Бассо с силой сжал древко копья. — Живей на дорогу, ребята! Мы окружим его и нападем одновременно!.. А вы чего? — недовольно сказал он разведчикам, заметив их смятение.
— Не надо бы, сеньор, — едва слышно произнес один. — Беда будет… Мы видали — он вроде светится в темноте…
— Что вы тут болтаете? А ну, живей на дорогу!
Отряд спустился с кручи и выехал за деревню. Было темно. Кони перешли на шаг. Де Бассо постоянно поднимался на стременах и вглядывался вдаль. Но впереди лишь неясно серела дорога, пропадавшая в полумраке.
— Скорей бы луна, — пробормотал кондотьер и оглянулся. — Эй, Кальдоро и Галетто, — вперед! Только осторожно, не вспугните!
И вдруг они увидели его. Он показался неожиданно, видимо, из-за придорожных деревьев… Он действительно светился — он и его конь — бледным голубоватым сиянием.
— Пресвятая мадонна! — прошептал один из наемников и размашисто осенил себя крестным знамением.
— А может… может, он святой? — предположил другой.
Де Бассо что-то прорычал и, не оглядываясь, сдавленно ответил:
— Баранья твоя голова… где ты слыхал, чтоб святые горели таким пламенем? У них только тут… — Он неловко звякнул перчаткой по шлему и замолчал.
— Дьявол… Как есть дьявол! — заговорили вполголоса наемники. — Пусть себе едет… нам-то что за корысть…
— Цыц, вы! — грозно прошипел кондотьер, однако все почувствовали, что прежней уверенности в его голосе не было. — Каково повеление его светлости? Или забыли?
— Сеньор, но он же направился не по парижской дороге! Он не собирается ехать к королю Людовику! Да и драться с сатаной без благословения…
Де Бассо угрюмо молчал. Он напряженно вслушивался в слова солдат, отыскивая в них то главное, то единственно необходимое, что могло бы оправдать его нерешительность в глазах соратников и в глазах герцога Карла. Еще хорошо, что темь кругом и никто не мог видеть побелевшего лица начальника, его растерянных глаз…
А солдаты за его спиной между тем переговаривались вполголоса:
— Клянусь покойной бабкой, кое-кому из нас он намнет бока!
— Вон нынче на турнире двое рыцарей говорили, будто за Алансоном он уложил одиннадцать солдат господина прево. А в отряде было двадцать человек.
— За что он их?
— Да повесили на дереве колдунью, а он взял да и освободил ее. Ну и… завязалась драка.
— Нас-то не двадцать, больше…
— Не кличь беду, Пьеро!
— Храни нас господь!..
Вынырнула из-за туч луна. Свет ее показался ослепляющим, и люди невольно вскинули руки, чтобы заслониться от этого света. Отряд оказался на открытом месте. До леса оставалось с пол-лье, но дорога была пустынной, никого на ней не было.
Де Бассо с недоумением покосился на солдат:
— А где же… он?
— Я здесь!
Гулкий, властный голос раздался позади отряда. Когда прошло оцепенение, люди стали неуклюже разворачиваться в сторону рыцаря. Белый Скиталец спокойно сидел на коне — статный, свежий, как на смотру, лишь поблескивающие камни на шлеме да черная щель казались страшными, притягивающими, будто оттуда вот-вот грянут сатанинские молнии и превратят людей в дорожную пыль.
— Сеньор кондотьер, — сказал незнакомец, — возвращайтесь в Перонн. Я убежден, что герцог Бургундский не мог дать приказа избавиться от меня: он хоть и жесток и необуздан в гневе, но в коварстве упрекнуть его до сих пор не мог никто.
— Это справедливо, сударь, — прокашлявшись, согласился де Бассо. Белый Скиталец подъехал ближе. Остановился напротив кондотьера.
— Значит, вас обманули или кто-то неверно понял распоряжение герцога Карла.
— Выходит, так, сударь…
— А скажите, что заставляет вас служить злу, проливая чужую кровь?
Де Бассо был явно обескуражен вопросом Скитальца. Ответил неуверенно, тихо:
— Это наша работа, сударь. Мы же на службе…
— Работа — убивать? Получать деньги за убийство?
Луна светила ярко, и в ее зеленоватом сиянии Белый Скиталец казался нереальным, призрачным, выходцем с того света. В воображении большинства наемников он по-прежнему представлялся если не самим сатаной, то, во всяком случае, его посланником, принявшим обманчивый облик смиренного пилигрима.
— Сударь… — Де Бассо наконец пришел в себя и торопливо перекрестил Скитальца. Тот с минуту молчал, потом тихо засмеялся и легкой рысцой поскакал к лесу…
Сообщение шестое
дающее возможность познакомиться
с неунывающими оборванцами госпожи Перетты
и которое утверждает старую истину:
“Не суй носа, куда тебя не просят!”
— Эй, Антуан! Поди доложи госпоже Перетте: верховой на дороге!
— К чему ж докладывать, Гюйо? Повеселись малость, чтоб через его шкуру можно было считать баранов, а лошаденку подаришь мне!
— А ну, погоди, старый кремень! — Гюйо присвистнул и сдвинул измятую шляпу на затылок. — Глянь-ка сам: уж не вчерашний ли это рыцарь?
Антуан повозился, пошуршал ветвями.
— А и впрямь он. Не иначе, что-то забыл у Арденнского Вепря! — Он поднялся, опираясь на палку. — Ты тут не намудри чего, пока бегаю к госпоже!
— Валяй, валяй, старик, да живей! — Гюйо встал на колено, оглядел свой отряд, залегший в кустах между деревьями, и вдруг решился: — Ребята, госпожа Перетта запоздает… Не зевать же нам снова: нападем все разом!
— Нападем, как же… — проворчал сосед Гюйо. — А с чем нападать-то? Вот с этой дубиной или голыми руками?
— Да хоть голыми! Как все навалимся — тут и меч не поможет!
— Ой, а это вроде и не вчерашний, — раздался мальчишеский голос. — Это вроде тот… который белый.
— А и верно, парень. Похоже, Скиталец. — Гюйо задумчиво почесал под рубахой грудь. — Ежели не обманулись, нападать не резон, потому как он, говорят, таких, как мы, не обижает.
— Рыцарь-то?
— Он, говорят, не как все.
— Да неужели отпустим?
— Ты еще сосунок, Луи, и не тебе покуда понимать, кто такой Белый Скиталец! Отпустим его с миром, только сперва выведаем, куда направляется и зачем.
— Ох, и поиграет же он на наших косточках, Гюйо! Не пора ли уносить ноги?
— Побереги ноги для своей Мари, Шалье, а от него тебе удирать не придется: первый он в драку не лезет.
Дорога пролегала прямая, неширокая. Зашло за тучу солнце — и легкий сумрак тотчас упал на лес и на дорогу. Стало тихо, слышался лишь глуховатый топот копыт. Напряжение возросло до предела. Один Гюйо казался спокойным. Он покусывал неровными зубами сорванную былинку и неотрывно смотрел на дорогу.
И вдруг монотонный топот замер. Прошла минута, другая — и в мертвой тишине раздался голос белого рыцаря:
— Ну, что же вы прячетесь? Выходите. Я с миром пришел в этот край.
— Пошли, ребята, — немного помедлив, сказал Гюйо. — Потолкуем.
На дорогу выскочило человек пять или шесть, остальные решили, что благоразумнее держаться в стороне.
Ближе всех к рыцарю стоял Гюйо — коренастый, конопатый парень лет двадцати пяти с крепкими жилистыми руками. Из-под видавшей виды шляпы торчали прямые, давно нечесаные волосы. Большие серые глаза смотрели напряженно, но без страха. Неопределенного цвета безрукавка без единой застежки едва прикрывала грязную рубаху.
Своеволие местных дворян и особенно частые разбои Гийома де ла Марка Дикого Арденнского Вепря — заставляли крестьян, да и городских мастеровых тоже, покидать насиженные места и уходить в леса, где они объединялись в шайки, предпочитая голодную свободу полусытой неволе и непомерным налогам…
Белый Скиталец некоторое время рассматривал лесных людей через узкую щель над забралом, затем негромко спросил:
— Против кого же вы воюете, господа?
Гюйо обалдел, потом весело присвистнул.
— Господа! — Широко улыбаясь, он обвел взглядом товарищей, одетых в живописные лохмотья. — А мы и впрямь смахиваем на господ, а, ребята? Клянусь святым Мартином, это так! — Он замолчал, лицо его сделалось строгим. — А воюем мы против всех, сударь, у кого тугие кошельки и толстое брюхо. Сбежали сюда от обидчиков и отныне — люди вольные, как здешние птицы. Правда, рейнвейнским нас балуют нечасто, да и запах сочного рагу мы давно забыли… Ну, а куда направляетесь вы, сударь, прозванный Белым Скитальцем?
— Ого! — гулко прогремел голос рыцаря. — Оказывается, даже сюда долетели вести обо мне!
— Это не удивительно, сударь: вести бегают быстрее людей.
— Что верно, то верно. Так вот, вы спрашиваете, куда я направляюсь. А я и сам не знаю. — Он негромко засмеялся. — Ищу правду…
— Хэ, сударь! Это все одно, что искать вчерашний день! — Гюйо окончательно осмелел и подошел к рыцарю совсем близко. — Мы слыхали, сударь, будто вы сами ни на кого не нападаете.
— Это верно.
— Ну вот и ладно. С вами мы тоже не хотим ссориться. А уж коли не знаете, где что искать, так оставайтесь лучше у нас.
Неподалеку в лесу зашумело, раздался треск сухих сучьев, и через минуту на дорогу высыпало до полусотни таких же, как Гюйо, оборванцев во главе с молодой черноволосой женщиной.
— Ну, что? — спросила она у Гюйо.
— Да вот, толкуем, — отозвался тот. — Господин рыцарь едет, сам не знает куда. Хочу зазвать в наш отряд, госпожа Перетта.
Перетта встала рядом с Гюйо и обратилась к всаднику:
— Я много слышала о вас, храбрый рыцарь, и рада, что теперь сама вижу вас.
Белый Скиталец учтиво поклонился:
— Мое имя Уайт, сударыня. Я благодарю судьбу, что наконец встретил такого очаровательного командира!
— О, что вы, господин Уайт! — Перетта на мгновение смутилась: наверно, не так часто приходилось слышать ей подобные комплименты. — С времен великой Жанны немало женщин пыталось командовать, и очень часто у нас это получается лучше, чем у мужчин! — Она гордо взглянула на Гюйо и обратилась к Скитальцу: — Не согласитесь ли, сударь, отдохнуть у нас с дороги? Поедите с нами, подумаете, что делать дальше.
Рыцарь снова поклонился:
— Благодарю за приглашение, сударыня. Мы с моим преданным Тру с удовольствием воспользуемся вашей добротой.
Он легко оставил седло, похлопал Тру по гладкой шее и передал поводья мальчишке.
— А можно мне немножко проехать, сударь? — спросил тот.
— Не советую, сударь: он никого не признает, кроме меня — обязательно сбросит!
— Снимите же ваш шлем, господин Уайт, — посоветовала Перетта. — Неудобно в нем.
— Привык. — Скиталец немного помолчал и пояснил: — Пусть вас это не смущает. В присутствии людей я даже не поднимаю забрала.
— Почему? — Не получив ответа, женщина мельком взглянула на рыцаря и робко кивнула: — Да, да, я, кажется, слышала… Простите.
Окруженные со всех сторон веселыми оборванцами, они добрались до стоянки отряда и расположились на краю широкой поляны под старым дубом. Перетта дала распоряжение готовить ужин — “чем бог послал”, — люди тут же забегали по шалашам и землянкам, называемым здесь барсучьими норами, о чем-то шептались, спорили, но делали все быстро и умело. Затем она обратилась к Уайту с той же просьбой — остаться в отряде, — поскольку он сам по себе, ни у кого не служит и никому ничего не должен. Уайт отказался, пояснив это тем, что собирается повесить меч на стену и не прикасаться к нему больше никогда. Это удивило Перетту.
— Мое оружие принесло много бед, сударыня, — тихо пояснил Скиталец. — В Бретани и Мене остались десятки жертв. Однако теперь я будто обрел иное зрение, почувствовал в себе отрадные теплые вихри. И отныне, когда вижу доброту, душевность, мир кажется мне просторнее и краше…
В лагере неожиданно возник переполох. Госпожа Перетта поднялась навстречу говорливой толпе и строго спросила, в чем дело. Голоса постепенно смолкли, из людской глубины выбрались совсем еще юные паренек и девушка — разведчики отряда — и наперебой заговорили:
— Только что на дорогу к Черным оврагам выехало семнадцать конных Арденнского Вепря, с ними десять повозок с разной едой: видно, опять разграбили какой-нибудь трактир, а может, и таких, как мы. Отобьем — до конца лета сыты будем!
— Ясно! — прервала Перетта. — В лагере остаются только женщины, дети и охрана. Остальные — со мной. Там ваша еда, там ваше оружие и одежда! Смерть прислужникам Арденнского Вепря! — Она оглянулась и с надеждой посмотрела на Уайта: — А вы… не пойдете с нами, сударь?
Белый Скиталец с минуту колебался, потом тихо произнес:
— Много я слышал про этих разбойников… Да, я пойду с вами. Это будет мой последний бой…
В лагерь отряд вернулся лишь к полуночи — с богатым провиантом, оружием и лошадьми. Возле шалашей и землянок царило оживление, Провизия разносилась по вырытым в земле складам, распределялись кони и отвоеванное оружие.
Госпожа Перетта разыскала Белого Скитальца. Он, как ей показалось, в глубокой задумчивости гладил морду преданного Тру. Услышав звук шагов, Уайт оглянулся и как-то виновато сказал:
— Вот приводим себя в порядок после боя.
— Мы сейчас устраиваем небольшой пир, господин Уайт.
Рыцарь сдержанно вздохнул:
— Вы же знаете… Впрочем, принесите чего-нибудь, но, прошу, немного и без вина.
— Как-то неудобно, сударь: герой сражения…
— Ну что вы, что вы! Не надо так.
Перетта неловко помолчала.
— Герой и есть, — упрямо повторила она и энергично откинула за плечи длинные спутанные волосы. — Ну а коню, сударь?
— Спасибо, мой славный Тру ни в чем не нуждается. Госпожа Перетта сама принесла ужин и, пообещав скоро вернуться, пошла на другой конец поляны к ожидавшим ее товарищам. Вскоре оттуда донеслись первые здравицы в честь храброй госпожи Перетты и не менее отважного белого рыцаря, потом еще и еще. Уайт сидел в шалаше перед наскоро сооруженным столом и смотрел через неширокий вход на пирующих. Там горели костры и воткнутые в землю факелы на палках. Там было весело…
Скиталец отодвинул оловянное блюдо с рагу и вдруг услышал осторожные голоса. Он выглянул из шалаша. Это были дети. При его появлении они хотели удрать, но он остановил их и с минуту разглядывал худенькие тела, едва прикрытые рваным тряпьем.
— Что же вы ушли от хорошего ужина? — едва слышно спросил он, видимо боясь вспугнуть их.
— Нас туда не пускают, — сказал самый старший. — У нас тут порядки строгие, сударь.
— А когда же будете пировать вы?
— После всех. Так мы выражаем почтение к взрослым.
— Понятно. Но есть вы, наверно, все-таки хотите?
— Хотим, сударь.
Он пригласил всех к себе — их было пятеро. Дети немного поколебались, пошептались между собой и все же вошли. Ели они с жадностью людей, давно не знавших ничего, кроме воды и лепешек ячменного хлеба. Когда они немного утолили голод и увидели, что на столе ничего не осталось, старший мальчик виновато и жалобно посмотрел на рыцаря:
— Ой! А вы, сударь?
— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, юные друзья! Я уже сыт.
— А вы, оказывается, совсем не страшный, господин Уайт, — несмело сказала белокурая девочка. — А правду говорят, будто у вас в битвах сильно покалечено лицо?
Старший мальчик толкнул ее в бок: “Дура!” — и в замешательстве обратился к незнакомцу:
— Не слушайте ее, сударь: она весной с дерева свалилась! И потом, не все ли одно, какое лицо, правда? Главное, чтоб душа… — Он вскочил с места и молниеносным взглядом окинул товарищей: — Марш отсюда! Госпожа Перетта идет!
Уайт не успел и слова сказать, как дети выбежали, и тотчас раздался голос Перетты:
— Можно к вам, сударь?
Она шагнула в зеленоватый полумрак шалаша и присела по другую сторону стола.
— Мне надо бы вам многое сказать, господин Уайт. Но отложим разговор до утра. А сейчас располагайтесь поудобнее и отдохните как следует. Я пришлю сюда Гюйо, он приберет и поможет устроиться на ночлег…
Госпоже Перетте не спалось. Она вспоминала последнее сражение, в котором Белый Скиталец уложил больше половины людей де ла Марка.
“Какой он ловкий и смелый, — думала она. — Вот бы заполучить его в отряд и сделать правой рукой вместо взбалмошного Гюйо!.. И ведь подумать только: за весь бой не получил ни единой царапины!”
Спала ли госпожа Перетта? Скорее всего нет. Просто забывалась на какое-то время в тревожной полудреме. Неясные предчувствия теснили душу и начинали не на шутку беспокоить ее…
Вовсю горела полная луна, и свет ее косым ярким клином пробирался в шалаш… Вроде бы все спокойно и тихо — и кажется, что-то не так. Перетта поднялась, вышла на поляну и осторожно приблизилась к шалашу рыцаря. Тот стоял возле своего белоснежного Тру, положив левую руку на рукоятку меча. Госпожа Перетта сначала ничего необычного не заметила, ей даже не показалось странным это безмолвное созерцание луны. И вдруг яркая, как вспышка молнии, мысль: на шлеме рыцаря поднято забрало!
— Не надо, сударыня, — тихо сказал Уайт. Он не шелохнулся, не изменил позы. — Не приближайтесь, прошу вас.
— Но я…
— Не надо, — повторил он. — Люди не выносят этого.
Госпожа Перетта продолжала стоять, не в силах побороть желания заглянуть под забрало. Ведь если она сейчас уйдет, потом вряд ли когда представится подобный случай.
— Неужели вы откажете женщине, сударь? — настойчиво, с трепетом спросила она. — Женщине, сударь!.. Не бойтесь, мне приходилось видеть и не такое!
С минуту он как бы раздумывал, потом медленно повернулся. Перетта замерла. Виски и щеки у нее словно морозом стянуло, губы свело судорогой… Она увидела мертвое лицо с закрытыми глазами, лицо, подобное уродливой желтой маске.
Госпожа Перетта покачнулась. Уайт поспешно бросился к ней и, подхватив на руки, отнес в шалаш. Он стоял перед нею неподвижно, размышляя о чем-то, потом осторожно коснулся ее волос и отдернул руку, словно его ударило током.
Госпожа Перетта открыла глаза, втянула голову в плечи, но тут же расслабилась и сдержанно вздохнула:
— Простите, сударь.
— Простите вы меня. — Он шагнул к выходу и на миг задержался. — Я должен уйти от вас. Сейчас же…
Сообщение седьмое
в котором читатель убедится,
что Белый Скиталец
значительно больше времени затратит на осмотр
и раздумья,
чем на разговор с господином де ле Форам.
Городок Конси, расположенный в низине неподалеку от Арденнского леса, не раз служил объектом для нашествия разбойных шаек де ла Марка: здесь они промышляли провизией и одеждой, лошадьми и оружием. Не обходили стороной и ювелиров, и даже почтенных граждан города. Люди здесь были запуганные, молчаливые.
В городке с утра хлопали двери мастерских и лавок, заключались сделки, покупались и продавались товары. По узким кривым улочкам двигались крестьянские повозки с овощами и рыбой, степенно проезжали на конях местные рыцари с настороженными глазами, ближе к стенам домов жались спешившие по своим делам женщины. Люди начинали свою обычную каждодневную жизнь, сопряженную с тревожным ожиданием. Лишь в просторном особняке главы города сеньора де ле Фора царило постоянное спокойствие и неторопливость. Этот тучный, лысеющий человек с холеным лицом вставал поздно и любил завтракать в саду. Но в то утро, о котором идет речь, господин де ле Фор проснулся раньше обычного, позвал брадобрея, и, пока тот занимался своим делом и попутно сообщал последние новости, глава города внимательно рассматривал себя в зеркале. Одна новость заинтересовала его.
— Белый Скиталец? — переспросил он, поднимая густые брови. — Позволь… Это тот самый?
Хм… Какая нелегкая занесла его сюда? Что ему понадобилось в городе? Впрочем, что ему понадобилось в городе — пока не столь важно, как то, что приехал он со стороны Перонна. Уж не является ли он человеком герцога Карла? Если так, то что об этом может подумать Гийом де ла Марк, как он воспримет появление Белого Скитальца во вверенном господину де ле Фору городе, не разгневается ли? Вот что важно. Вот на какие вопросы следует найти ответы прежде всего. А ссориться с Арденнами не резон: соседи. И без того приходится жить, как на жаровне…
— Зачем он здесь? — начал глава города издалека.
Бритва в руке брадобрея на мгновение замерла.
— Трудно сказать, ваша милость…
— Это не ответ, Оливье. Вы должны все знать, во все вникать, обо всем докладывать. А пока направьте людей последить за ним: мало ли что. Пошлите лучше Гортрана и Лафаржа: эти свое ремесло знают.
Гортран и Лафарж, переодевшись в суконные камзолы, вышли из особняка на площадь, миновали несколько узких переулков и лишь на улице Дижон увидели наконец Белого Скитальца. Тот сидел на коне возле каменного забора и, наверно, давно уже наблюдал за работой красильщиков.
— Уж не собирается ли он поменять свой белый плащ на пурпур? — шепнул Гортран.
Лафарж криво усмехнулся:
— Может, жаждешь заполучить то, что на нем?
— Не откажусь: такие доспехи не носят и короли!.. Говорят, он богаче всех банкиров Франции, но страшный урод, потому никогда и не поднимает забрала.
Белый рыцарь двигался медленно, подолгу простаивал возле пекарей, ткачей, потом гончаров, гвоздарей, мясников, барышников и лишь во второй половине дня добрался до окраины, где чернели стены старой кузницы.
Лафарж давно уже нервничал и чертыхался, поэтому новая остановка вывела его из себя.
— Клянусь святым Мартином, если этот тип потащится еще куда-нибудь, я подохну с голоду, а перед смертью так отделаю его дубиной, что на нем останется кожи не больше, чем на святом Варфоломее!..
— Попридержи язык, Лафарж. — Гортран сунул руку под ремень и надавил на живот. — А от куска говядины и я бы не отказался. — Он помолчал, раздумывая. — Вот что: ступай-ка к его милости. Доложи о наших наблюдениях и спроси, что делать дальше.
Из кузницы доносился звонкий перестук молотков, над крышей колыхался легкий дымок. Двери были распахнуты. На пороге появился плечистый мастер с короткой черной бородой и в грязном фартуке и невесело оглядел рыцаря.
— Чего угодно вашей милости? — спросил он сипловатым голосом. — Коня подковать или…
— Не беспокойтесь, сударь. Я просто смотрю на вашу работу.
Кузнец облегченно утер со лба пот.
— Глядите, чего ж… ежели интересно. А то вот, — кивнул он на вход, большой заказ делаем.
— Для кого?
Он пожал широкими плечами.
— То нам неизвестно. О том известно сеньору де ле Фору… Ну, извините, ваша милость, мне надо работать.
Кузнец ушел, а Белый Скиталец развернул коня и неожиданно увидел двух верховых рыцарей. Оба учтиво поклонились ему и сообщили о желании сеньора де ле Фора побеседовать с достославным гостем.
К особняку добрались кратчайшим путем, проехали мимо вооруженной до зубов охраны и оказались в большом живописном саду. Господин де ле Фор принял Скитальца в просторной беседке, один, поскольку благоразумно посчитал, что гость будет себя чувствовать с опущенным забралом свободнее, если разговор пойдет с глазу на глаз.
Познакомились.
— Не заказать ли нам чего-нибудь перекусить, господин Уайт? — спросил де ле Фор и тут же спохватился: — Ах, да, простите… — Он с сожалением причмокнул и с минуту разглядывал свою руку, положенную на столик. Полысевшая голова его уже была тронута сединой, седыми были и редкие баки. Ну что ж, обойдемся… Итак, рад приветствовать вас в нашем городе, храбрый рыцарь. Много, много наслышан. Не напрасно говорят, будто слава ваша так же прочна, как и ваш щит: ведь о вас болтают бог весть что на всех дорогах Франции. О-о, пусть это не удивляет моего отважного гостя, он сам в немалой степени заинтриговал всех своей таинственностью. По сути, никто не знает, кто вы такой, так ли богаты…
Черная щель над забралом начинала раздражать главу города, раздражали своей несуразностью и круглые прозрачные камни, искусно вделанные в шлем, и он уже начинал сожалеть о том, что пригласил незнакомца к себе: во-первых, совершенно ясно — никакой он не шпион и не человек герцога Бургундского, поскольку, как оказалось, едет из Бретани, а во-вторых, очень уж трудно вести разговор, не видя человеческого лица. Нет-нет, конечно же, господин де ле Фор поступил неосмотрительно. И если бы не этот дурак Оливье…
Хозяин, как бы случайно, коснулся влажного лба и снова принял непринужденную позу.
— Собственно, я пригласил вас буквально на пять минут, господин Уайт, сказал он, — чтобы поинтересоваться целью посещения нашего города, как он понравился, куда думаете направляться дальше. Говорят, у вас весьма высокие покровители?
Рыцарь, кажется, усмехнулся:
— Вы ошибаетесь, сеньор. Никаких покровителей у меня нет.
— Вот как? — Непонятно было, то ли господин де ле Фор обрадовался, то ли разочаровался. — Признаться, я этому верил, сударь. Однако я верил и тому, что здесь вы ищете встречи с Гийомом де ла Марком.
Белый Скиталец энергично вскинул голову — так, что плюмаж на его шлеме протестующе вздрогнул.
— Сеньор, я не могу даже слышать имени этого человека! Я прибыл сюда по зову голоса, который живет во мне, и, клянусь, не позже захода солнца буду на дороге в Верден.
— Зачем же так спешить, господин Уайт? Разве вам здесь не понравилось?
— Город хорош, сеньор, но был бы в сотню раз лучше, если бы не его рабское повиновение арденнскому разбойнику. У вас много мастерских — и почти все они работают на де ла Марка… Не знаю теперь, что краше: трудиться ли на подобных негодяев или по-прежнему держать в руке меч? Я слышал: около двух веков назад во Флоренции существовала могущественная коммуна, коммуна свободы и разума, и там рыцари не боялись опозорить свое рыцарское звание трудом, полезным для общества. Вот и я хочу быть полезным для людей! Но не для тех, кто станет богатеть за счет моего труда…
— О-о, вы человек опасный, сударь! — натянуто рассмеялся де ле Фор. — И смелый в суждениях! Буду весьма рад, если вам удастся найти такую работу в нашем грешном мире. Только ведь теперь не те времена, сударь: нынче рыцарь должен быть рыцарем — и никем больше. Стань он, к примеру, гончаром или красильщиком — его засмеют да еще поколотят; не будет ему покоя ни от рыцарей, ни от строгих властей, не так ли?.. Впрочем, простите, кажется, звонят у святого Мартина. Я должен спешить. Прощайте, господин Уайт. Рад был нашему знакомству…
Когда у ворот раздалось цоканье копыт, господин де ле Фор судорожно вздохнул.
— Пресвятая дева Эмбреенская! — воскликнул он. — Надоумил же меня этот старый дурак Оливье пригласить опасного бродягу! Ну, я покажу ему! Вытрясу его рыжие веснушки!.. Уф-ф! Голова до сих пор будто не моя от этой черной щели!
Он вызвал Оливье. Бедный брадобрей отчаянно хлопал глазами, и его оттопыренные уши никак не могли удержать всех тех проклятий, которыми удостоил его почтенный глава города. Когда словесная буря миновала, господин де ле Фор долго и хмуро молчал, затем велел отправить за Скитальцем тех же соглядатаев. Но Гортран с Лафаржем вернулись поздно вечером и не сообщили ничего заслуживающего внимания. Перед заходом солнца белый рыцарь выехал за город и не один час просидел на берегу Мааса в глубокой задумчивости. Как видно, он собирался ехать дальше по дороге на Верден.
Сообщение восьмое
о том, как старый лесник Шарль Бовье проводил опыт,
из которого следовало, что лучше один раз увидеть,
чем сто услышать,
а также о том, почему в лес ушли трое вместо одного
Перед восходом солнца Белый Скиталец выехал из леса. Дорога свернула вправо и сероватой извилистой лентой пролегла вдоль опушки, за густым кустарником она терялась, — видимо, уходила под уклон, потому что вдали угадывалась низина с обширными полями и жавшимися друг к другу домишками.
Начинался рассвет — жидкий, водянистый. Луна понемногу таяла в бледной сини, меркли одна за другой звезды, и лишь яркий Сатурн по-прежнему горел мягкой немигающей точкой.
Ночью прошел дождь. Дорога была мокрая, грязь хлюпала под копытами.
Уайт свернул на тропинку — она вела к роще, которая обрывалась перед спуском в низину, — проехал возле нее до холма — оттуда были видны поля и деревня — и неторопливо спешился. Перед ним, сразу же за речкой, начинались первые дома, полускрытые зеленью садов и небольшими цветниками.
Солнце вставало за спиной рыцаря. Первые лучи уже коснулись далекой линии горизонта, посветлело небо. В вышине сонно покачивались мокрые ветви, роняя тяжелые капли.
Мальчишки первыми заметили рыцаря. Тотчас в деревне возник переполох. Матери прятали детей, девушки пачкали лица сажей. Крестьяне настороженно поглядывали на опушку рощи, но вскоре убедились, что рыцарь один, к тому же не первый час сидит неподвижно, точно железная статуя, и, видимо, недобрых намерений не имеет. Кто-то где-то слышал о белом рыцаре и теперь с видом знатока рассказывал селянам невероятные истории о Скитальце, люди ахали, охали, качали головами, крестились и призывали в заступники господа бога.
К полудню в деревню зашел лесник Шарль Бовье и стал успокаивать крестьян.
— Не слушайте вы болтунов! — смеясь, сказал он. — Ишь навыдумывали: выходец с того света, пьет людскую кровь, заманивает в пропасти и омуты!.. Тьфу!
Он не спеша уселся на пригорок и сощуренными глазами посмотрел на старых знакомых.
— Я вот недавно был в городе, так, наверно уж, получше вас знаю толки о Скитальце. Кто встречался с ним — отзывается весьма и весьма лестно, он даже с крестьянами будто свой.
— Ну уж сказал, Шарль! Это же рыцарь!
Из-за спин крестьян выбрался белоголовый парень и встал напротив лесника.
— Дядюшка Шарло, — спросил он, — а почему вы не верите, будто он — сатана в образе рыцаря? Ведь говорят же люди!
И началось! Кто о чем. Вспомнили даже то, что было в седые времена, и все это приписывали белому рыцарю.
Больше других возражал белоголовый парень.
— И не спорьте, дядюшка Шарло! — кричал он. — Вот, к примеру, человек всегда поможет в беде ближнему, а этот — хоть подохни! А однажды он проехал мимо деда с внуком — те в реку свалились — и не вызволил, пропадайте, мол, как хотите!
— Ты это сам видел, Жан?
— Да нет… Говорили.
— Вот видишь — говорили. Ты не больно-то слушай такие речи. А ежели кто в чем сомневается, так давайте проверим, таков ли он?
— Как это?
— Да так. К примеру, я буду за старика. Чем не старик: борода седая, морщины, как у сморчка, и сам сухой, что тебе жердь. А ты, Жан, пойдешь за сына или внука.
— И что же мы будем делать?
— Скажу чего. Только слушайся меня, как своего сеньора, и все будет ладно.
Парень лукаво почесал за ухом.
— А может, я боюсь, дядюшка Шарло. Сперва вы мне скажите, а уж там поглядим.
— Экий ты, брат! — засмеялся лесник. — Такой великан, ярд в плечах, и боишься! Да на тебе пахать в пору!.. Тю, стыд какой! — Бовье брезгливо поморщился и отмахнулся от Жана, словно от чумного. Потом хитро посмотрел на парня: — Ладно, не красней, будто девица. Порешим так: побредем мы с тобой потихонечку по тропинке, что ведет к роще. По левую руку от мостков, как раз посредине реки, есть мелкое место. Вот туда мы и прыгнем — я будто свалюсь, а ты будто выручать меня. Понял?
— Так ведь как не понять. Жан снова почесал за ухом. — А после суши штаны да рубаху. Небось староста понаделает плетью дырок на моей шкуре!
— Не робей. Уговорю твоего старосту.
— Ну, если уговорите… А чего после, как прыгнем?
— После ты, Жан, станешь орать, чтобы нас, значит, спасали. Парень весело тряхнул лохматой головой.
— Ох, и выдумщик вы, дядюшка Шарло! Представление да и только!
— Дело ли ты замыслил, Шарль? — сказал старый крестьянин. — Слыхал я, с ним шутки плохи.
— Да он уж и сгинул! — загалдели мальчишки.
Лесник опешил:
— Кто сгинул?
— Да рыцарь-то ваш!
— Вот беда… Куда ж это он? — Дядюшка Шарло растерянно огляделся, и глаза его снова оживились. — Никуда не сгинул: вон с полей возвращается!.. Ну-ка, босоногие, марш отсюда, чтоб ни одного рыцарь не приметил! А мы с тобой, Жан Великан, поплетемся к мосткам, как, только Скиталец подъедет к тропинке.
— Смехота! — хмыкнул Жан. — Я хоть рубаху сыму: жалко ведь…
— Сымай, сымай, — нахмурился старый Бовье. — И штаны сымай, и башмаки!.. Вон какой вымахал, под стать тому дубу, а соображения — что тебе у воробья!
— Вы чего, дядюшка Шарло?
— “Чего”, “чего”. Не купаться идешь, дурень, — дело делать!..
Дошагав до середины моста, лесник притворился и дрогнувшим голосом пробормотал:
— Пресвятая дева… а у меня и впрямь голова кругом пошла! — Бовье покачнулся вправо, влево, ноги у него подкосились — и он грохнулся в воду.
Парень дико закричал и, забыв про свою рубаху, бросился вслед за ним, ухватил его руку, потом сгреб за плечи — с такой силой, что дядюшка Шарло сам взвыл от боли.
— Да полегче ты, медведь! — простонал он. — Я ж живой!
Жан от радости сдавил его еще сильнее.
— Храни вас господь, дядюшка Шарло!
— Чего, чего скалишься? Забыл, что делать надо?
— А чего?
— Ори.
Парень заорал.
— Так одни коровы мычат, — рассердился лесник. — Ори громче!
— Спаси-ите! — закричал парень во всю глотку. — Тону-у!
— Подходяще, — заметил дядюшка Шарло. — Ори еще.
Но больше орать не пришлось: к ним во весь опор мчался на своем белоснежном коне Скиталец. Остановившись на мгновение посредине моста и поняв, что оттуда не достать, он выехал на берег, спешился, хотел протянуть копье, но оно оказалось коротким. Отыскав три не слишком толстых бревна, он сноровисто перехватил их гибкими ветвями и, столкнув в воду, приказал парню:
— Берите конец, молодой человек, и помогите вашему дедушке взобраться на бревна!
— А я как же? — отчаянно спросил Жан. — Я же не умею плавать!
Рыцарь не ответил. Привалил конец плотика большим камнем и вошел в воду, чтобы довести Бовье до берега.
— Теперь вы, — спокойно сказал он. — Держитесь за бревна.
Жан всей грудью навалился на шаткий плот. Откинув камень, Уайт медленно подвел бревна к берегу. К речке подошли крестьяне, ребятишки и молча смотрели, как дядюшка Шарль с Жаном отжимали на себе одежду, как бежали потоки воды из доспехов рыцаря.
Отряхивая бороду, старый лесник усмехнулся:
— Самое потешное, что я и плавать-то не умею…
— Так и я тоже! — нервно засмеялся Жан.
— Ну вот. А я думал — в крайности поможешь! — Лесник низко поклонился Белому Скитальцу: — Да хранит вас господь, сударь! Если б не вы…
— Если бы не я, вам помогли бы крестьяне, — скромно отозвался рыцарь. Просто я оказался ближе всех. И все же благодарю судьбу, что это посчастливилось сделать именно мне.
— Посчастливилось, сударь?
— Да. Посчастливилось. — Уайт приблизился к коню. — Ну что ж, поехали, Тру?
— Куда вы, сударь? — удивился дядюшка Шарло. — Хоть обсохните маленько! И потом, мне почудилось, будто вы… нездоровы: полдня просидели на одном месте!
Рыцарь кивнул:
— Да, я болен, добрый человек. Болен воспоминаниями.
— Чем, чем, сударь?
Скиталец навел на старого Бовье свою черную щель шлема, но ничего не ответил. Снова повернулся к коню и похлопал его по шее латной перчаткой. Лесник взглянул на крестьян — те беспомощно пожимали плечами, почесывали затылки.
— Сударь, — вдруг осенило дядюшку Шарло, — не пойти ли вам со мною в лес? Вмиг всю хворь как рукой снимет! Живу один, а вдвоем-то куда веселей! Подметив задумчивость рыцаря, он горячо добавил: — Отдохнете, сударь, оглядитесь, наберетесь сил, а там видно будет. Еды на двоих всегда хватит, да и коню корма найдется.
С минуту длилось напряженное молчание.
— Спасибо, — наконец сказал рыцарь, и темный провал над забралом словно просветлел. — Если вы в самом деле не против, я, пожалуй, побуду в лесу дня два.
— Вот и ладно! — оживился дядюшка Шарло. — Малость пообсохнем — и в дорогу. Вдвоем-то оно всегда веселей!
Белый Скиталец повернулся к своему коню и тихо поправил:
— Втроем, добрый человек.
Сообщение девятое
где говорится о том, что значит вовремя чихнуть,
и еще о добрых глазах и о лесном озере,
которое очень похоже на зеркало
Через два дня Уайт не ушел. Не ушел он и через неделю, и лесник добрейшая душа — не скрывал своей радости. Уже на третье утро рыцарь сам напросился в обход, начинал интересоваться жизнью растений, задавал массу вопросов, и Бовье, не привыкший много говорить, почувствовал, как у него устал язык и пересохло во рту.
А однажды вечером после длительного молчания Уайт вдруг сказал:
— Вы даже не представляете себе, дядюшка Шарло, какое большое дело делаете. Вы, по сути, предтеча… Вы не ограничиваетесь обязанностями просто лесника, вы делаете больше — охраняете лес: заботитесь о жизни каждого дерева, вовремя убираете безнадежные, больные растения и сухостой. Все это ох как верно — как сама истина…
Бовье настороженно прислушивался к словам Уайта. Присел на край табурета и замер. Даже глиняная кружка в его узловатых пальцах остановилась на полпути к губам. В маленькой комнатке повисла тишина. Огонь факела лениво колыхался из стороны в сторону. Стоявший при входе кувшин с настоем ивовой коры временами доносил горьковатый запах.
Старый Бовье покашлял и наконец не спеша, с заметным беспокойством отхлебнул из кружки.
— Что-то плохо я понял тебя, дружок, с твоими иноземными словами, произнес он, морща лоб. — Ну да ладно. Творю ли доброе дело — не мне судить. Просто люблю лес, — это скажу тебе точно. А вот передохнуть тебе малость надо бы: притомился. Да и ночь на дворе…
Дни бежали быстро — интересные, непохожие один на другой. Всякий раз дядюшка Шарло рассказывал что-нибудь новое — о деревьях, словно о живых существах, о жизни и повадках птиц и зверей. Как-то, бродя по лесу, старый Бовье выбрал живописную лужайку и присел под каштаном. Пригласил отдохнуть и Уайта.
— Сдавать стал, — застенчиво пояснил он, снимая шляпу и утирая пот со лба. — Раньше-то, бывало, эту дорожку ходил весело и споро, а теперь — сам видишь… Н-да, годочки берут свое, дружок. Берут!
Он хрипловато вздохнул, утер полой камзола лицо и шею.
— Напиться не хочешь ли? А то тут рядом озерко есть.
— Это то, круглое?
— Оно самое. Запомнил?
— Конечно… А я, кажется, и в самом деле захотел пить, — с каким-то удивлением произнес Уайт. — А вы, дядюшка Шарло?
— Э, нет, дружок: чем жарче день, тем меньше пью, все одно потом выйдет. Хотя ведь и от пота польза есть: кожу прочищает.
Он провел мозолистой ладонью по лбу, по щекам, посмотрел то ли на небо, то ли на кроны деревьев, потом заговорил снова — тихо, с паузами, понурив голову.
— Давненько уж мы вместе. Дело теперь знаешь не хуже меня… на редкость понятливый оказался. Даже поверил, что деревья живые, такие же живые, как человек: они, как люди, рождаются, растут и умирают… Так что в крайности заменишь меня. Никому больше лес не доверю!.. Ну, а водички-то испить хочешь? — перебил он себя.
— Да нет, после, дядюшка Шарло. Еще успею.
— Гляди. Сам себе сеньор… Так вот я и говорю: чудной ты какой-то, Уайт. По всему видать — не из простых: вон какие латы да камни на шлеме! Не иначе, в немилости оказался. С твоей-то смекалкой да сноровкой не по лесу ходить пристало, а во дворце иль в крайности в каком знатном замке сидеть надобно.
Уайт смущенно засмеялся:
— Ничего мне этого не надо: я никогда не стану выше того, что хочу.
— А чего же ты хочешь?
— Немногого. — Уайт поднялся и стал задумчиво поглаживать ствол каштана. — Хочу любить вот их, хочу любить людей. А во дворце ничего этого у меня не будет.
— Вот я и говорю: чудной, — убежденно повторил лесник. — Толковый, добрый — верно. Но — чудной… Много в тебе туману, дружок. Опять же долго ли будешь таскать на себе эти железяки, будто проклятый небом. Себя не жалко, так лошаденку пощади!.. Ну, понимаю, не дурень: что-то там такое с лицом. А все прочее?
— Я уж вроде и привык, дядюшка Шарло, — сказал Уайт.
Бовье грустно усмехнулся в бороду:
— О том ли толкуешь, дружок? Пора бы уж нам быть попрямодушнее. Или я не прав? Ежели считаешь, будто напугаюсь чего или не пойму всех твоих тайностей… Может, и бестолков в таких-то делах — бог простит! — но разве ж в том суть? Разве ж, увидав твои тяжкие шрамы, стану другим? Да не может такого статься!.. Я полюбил тебя, как сына родного, со всеми твоими болячками и секретами…
— Спасибо… — У Уайта, кажется, дрогнул голос. — Спасибо, дядюшка Шарло! Я очень… впервые…
— Э, да чего там!
Старый Бовье заморгал и стал старательно отряхивать штаны, потом долго смотрел в сторону, прежде чем заговорить снова.
— Ну вот тебе мой сказ, дружок: не таи в себе это — скинь половину своих бед на мои плечи, выдержу!.. Одному-то трудновато сладить, вдвоем легче… А неприглядности своей стыдиться не надо. Главное ведь в человеке душа. А душа у тебя — любой позавидует. — Бовье медленно поднялся. — Пошли, что ли?
Он прикрыл лицо ладонями и внезапно чихнул.
— К чему это я?.. Ах, да! Глаза у тебя, дружок, — хорошие глаза! Любовался утречком, как солнышко вставало. А оно, ясное, заглянуло прямо в эту черную дыру в шлеме — и будто два камня драгоценные.
— Там, где у вас? — тихо, с недоверием спросил Уайт. И еще тише: Глаза… у меня?
— А то у кого ж. Хоть бы забрало это проклятое поднял — грех прятать от людей такое богатство!
На мгновение Уайт замер. Потом провел перчаткой по щели над забралом, провел еще раз — и вдруг бросился в чащу, шурша ветвями плотного кустарника.
— Куда ж ты? — ничего не понимая, спросил Бовье. — Да погоди же, куда ты?
“Не иначе, беда”, — решил он. Продравшись сквозь кусты, он вышел к лесному озеру и судорожно обхватил рукой дерево. Уайт стоял на коленях на самой кромке берега и осторожно, с заметным недоверием и боязнью поднимал забрало, потом чуть подался вперед, чтобы яснее увидеть свое отражение… Бовье растерялся, не знал, что делать. Его обуял страх, когда Уайт с усилием снял шлем и нагнулся к самой воде. И тут же по лесу разнесся торжествующий крик:
— Я вижу!
— Чего… чего ты такое толкуешь? — Лесник с тревогой следил за ним, не решаясь приблизиться. — Ты отступи, отступи от воды-то, чего прилип!
— Я вижу, дядюшка Шарло!
— Отступи, говорю! Тут с твоими железками — сразу на дно!
— Я вижу! Без шлема вижу!
Уайт оглянулся. Старый Бовье увидел чистое молодое лицо с едва пробивавшимися усами и счастливые карие глаза, излучавшие любовь ко всему миру…
Сообщение десятое
последнее, в котором передается откровенный ночной разговор
и выясняется причина ухода Белого Скитальца и Тру
Заболел старый Бовье. Свалило его быстро — за четверть часа до возвращения Уайта из леса. Еще хорошо, что в тот момент пришел белоголовый Жан, не растерялся, донес лесника до постели.
— Что с ним? — с тревогой спросил Уайт, едва перешагнув порог.
Жан громко всхлипнул:
— Кончился…
Лицо Бовье казалось восковым, резче обрисовались скулы, глаза были закрыты.
— Луна взошла?
— Что… сударь?
— Луны, говорю, не видно еще?
— Н-нет, сударь…
Уайт колебался лишь мгновение, И все же решился: сбросил с Бовье камзол, сосредоточился. Железные руки плавно прошлись над телом лесника, на кончиках пальцев чуть слышно потрескивали слабые искры. Жан не мог сдвинуться с места, неведомая сила словно приковала его к стене. Он со страхом следил, как над дядюшкой Шарло все четче обозначался непонятный округлый полог, выросший будто из осколков подсвеченной изнутри слюды. А Уайт все водил и водил руками — медленно, плавно — от головы до ступней старика. Но вот он выпрямился и, взяв свой шлем, чуть покачиваясь, вышел из дома. Жан слышал, как с лязгом поднялось забрало и как тяжко, вроде со стоном, вздохнул рыцарь… Зачем он снова надел свой шлем? Не собирается ли уйти в такой-то скорбный час?.. И что это за странный полог, к чему он тут?.. Ох, пресвятая дева! Уж не колдовство ли это? Не козни ли сатаны?
Едва перекрестившись, Жан выбежал на крыльцо и обомлел: рыцарь сидел, уткнувшись головой в перила.
— Су… сударь…
Уайт с усилием, едва заметно приподнял голову.
— Все позади, Жан. Дядюшка Шарло будет жить.
— Слава всевышнему господу нашему… Но что с вами-то, сударь? Почему вы…
Уайт отозвался не сразу, слабым голосом:
— Скоро ли луна, Жан?
— Луна?.. Зачем, сударь?.. Вон она — всходит…
Старый Бовье проснулся в полночь. В комнате стоял полумрак. По-прежнему пахло ивовой корой и чем-то еще — как после грозы… Но постой-ка, постой: его вроде крепко прихватило с вечера? Да, да. Думал, конец. А вроде и ничего — здоров и бодр, как прежде… А где ж Уайт? Неужели до сих пор не вернулся? Не может того быть. Тут где-нибудь. И был еще вроде Жан Великан. Ну, этот, конечно, удрал в деревню — не станет же ночевать в лесу.
Бовье поднялся, набросил на плечи камзол и выглянул за дверь. Луна стояла высоко и заливала ярким светом и полянку, и дом. Уайт сидел на крыльце с поднятым забралом.
— Как это меня вчера-то, — сказал Бовье. — Видал? Сразу будто в могилу провалился.
— Ничего, ничего, дядюшка Шарло. Теперь вы здоровы.
— Слава пресвятой деве!.. А ты опять в своей железяке. Можно подумать, никак нельзя без нее!
— Можно, — согласился Уайт. Снял шлем и пригладил на голове волосы.
Бовье неодобрительно взглянул на латы Уайта, качнул головой. Потом осторожно уселся рядом.
— Виделось во сне сегодня, будто ты в одеждах знатного сеньора, весь в золоте да в каменьях, и будто открылся мне — кто таков, откуда. Вот только память-то слаба стала, не упомнил… Уж сказался бы, а?
Уайт долго сидел неподвижно, вскинув лицо к звездам. Потом едва слышно вздохнул.
— Я из очень далекой загубленной страны, дядюшка Шарло. На моей родине было бездонное зеленое небо и голубые леса…
— Зеленые, дружок, зеленые, — поправил Бовье.
— Пусть будет так… Теперь ничего этого нет. И почти не осталось людей, которые чем-то похожи на вас.
— Эвона! Куда ж они делись?
— Долгая история. И я не знаю, как это можно попроще рассказать… Ну вот представьте две противоборствующие силы. Например, богатых сеньоров, жаждущих расширения своих земель, богатства, и предводителей других владений, которые хотят лишь равенства между людьми и всеобщего благоденствия. Первое — зло, второе — добро. Согласны?
— Так вроде… верно выходит.
— Однако надо сказать, что зло изобретательнее, изощреннее в своих помыслах, ему всегда легче, поскольку деяния его не ограничены никакими запретами, оно творит то, что ему заблагорассудится. А вот добру, высокой нравственности — значительно труднее: все ее устремления должны следовать в узком русле законов человеческой морали, не отходить в сторону, иначе можно оказаться на дороге зла.
— Погоди, погоди… — Старый Бовье сосредоточенно утирал выступивший на лице пот. — Уж больно мудрено ты толкуешь. Не все ухватываю, как надо.
— Простите, дядюшка Шарло, постараюсь попроще… Я начал говорить о противоборстве. Лук со стрелой, копье, меч — игрушки по сравнению с тем, что может придумать человек. Так случилось у нас. Сеньоры изобретали все новое, все более губительное оружие. Предводители других владений вынуждены были заниматься тем же, дабы не стать покоренными навеки… Люди создали горы самого ужасного оружия, которое применять было уже опасно: могла исчезнуть жизнь.
Бовье во все глаза смотрел на Уайта.
— Какие страсти ты говоришь, дружок! Неужто такое может статься?
— Может, дядюшка Шарло. И не дай бог, чтоб это когда-нибудь случилось у вас! — Уайт помедлил, поднял голову, и глаза его остановились на какой-то звезде. — Смертоносное оружие в конце концов отомстило своим создателям без всякой войны. Люди стали мучиться неведомыми до той поры болезнями, умирали, начали деградировать. Дело дошло до того, что из всего населения осталась кучка людей, которая была вынуждена уйти под землю и там заново строить дома, фабрики, электростанции и все, что необходимо для жизни. Среди них были и подданные сеньоров и подданные предводителей. Изобретавшие раньше смертоносное оружие вынуждены стали изобретать совсем другое, и прежде всего — элиминаров… чистильщиков — тех, кто занимался очищением земли от опасных для жизни… ядов. Я из их числа. Только у таких, как я, было оружие и доспехи. В пище мы не нуждались, мы не знали ни сна, ни устали и несли охрану и работали круглосуточно. Нам, солдатам, охранникам, дали в руки меч и копье, убивающие даже на расстоянии. Один из глазков на шлеме способен родить луч, от которого все горит и плавится. Но здесь — здесь я ни разу не применил это!..
Уайт по-прежнему смотрел на звезду и продолжал говорить тихо, задумчиво, скорее всего самому себе:
— Чистильщики работали днем и ночью, а таких, как мы с Тру, сеньоры готовили к страшному, неслыханному преступлению: мы должны были в одну ночь уничтожить их противников!.. Тогда я не умел мыслить, действовал по приказам. И обязательно случилось бы несчастье, если бы один из нас не подслушал разговор о коварном замысле. Весть эта долетела даже до чистильщиков, и те решили помочь обреченным, которые, кстати, больше стыдили и убеждали сеньоров, чем помышляли о предупреждающем ударе.
Мы с Тру получили приказ и ждали своего часа. А в это время в город проникло несколько чистильщиков, они ходили среди солдат и отговаривали их от слепого повиновения. Мы начали кое-что понимать, а пока думали, чистильщики внезапно напали на сеньоров. Многие из нас — я тоже — пошли за повстанцами. Все шло хорошо, но при штурме энергоцентра нас с Тру ударил разряд генератора статического электричества. Если бы не электронная защита… впрочем, и она оказалась не на высоте: мы находились на краю гибели. Когда пришли в себя, долго мучились неуверенностью, забывчивостью, и, видимо, потому вначале в моих действиях проявлялись рационализм и жестокость — качества, присущие не приученному думать солдату… Как попали в чужой мир — не представляю… Надо было учиться незнакомому языку, слиться с новой жизнью, поскольку надежды на возвращение у нас не было до последнего дня. — Уайт медленно, с усилием отвел взгляд от далекой звезды и посмотрел на лесника так, словно совсем не ожидал увидеть его рядом. — А-а. Кажется, я опять говорил непонятно? Простите.
— Чего ж… — Бовье все еще сидел неподвижно, боясь пошевелиться.
— Вот такая история, дядюшка Шарло. И есть у нее конец: мы с Тру возвращаемся на родину. Друзья разыскали нас и скоро будут здесь.
— Эвона как… — Бовье потерянно смотрел в предрассветную черноту леса, поглаживая грудь. — И стало быть, никак… Стало быть, уйдешь?
— У вас здесь хорошо, дядюшка Шарло, но родина есть родина!
Долго сидели молча, думая каждый о своем.
Начинался рассвет — неуверенный, робкий. Таяли тени. Меркли в синеве звезды. Прохлада проникала сквозь легкую одежду, вызывая озноб… И вдруг Уайт встал. Теплая улыбка будто осветила его лицо.
— Они пришли, дядюшка Шарло! Они нашли нас!
Лесник тоже поднялся и тоже пытался что-то разглядеть в разбеленной темноте леса.
В ту минуту, когда лучи солнца брызнули по верхушкам деревьев, на полянку вышли двое со странными, как маски, лицами. Уайт взмахнул рукой, но тут же повернулся к Бовье и осторожно обнял его.
— Прощайте, дядюшка Шарло. Спасибо вам за все, я никогда не забуду вас!
Ноги отказали старому леснику. Он медленно осел, потом ухватился за перила, пытаясь подняться.
— Остался бы! Один же я!..
Но Уайт и Тру уходили. В какой-то момент они стали как бы чужими, незнакомыми и все быстрее, все заметнее растворялись в белесом тумане.
Илья Варшавский Последний эксперемент
Все это началось из-за моей привычки задавать вопросы. Я просто одержим любознательностью. Самое удивительное то, что эта любознательность никогда не проявляется в области, в которой я работаю. Все, что касается моей профессии, представляет для меня ряд нерушимых аксиом, расположенных в таком же строгом порядке, как книги на полке над моим письменным столом. Настоящий интерес я проявляю только в областях знаний, совершенно мне чуждых. Сотни нерешенных проблем возбуждают мое воображение. Меня всегда поражает, как это специалисты проходят мимо великолепных гипотез, непрерывно рождающихся в моем мозгу. Я возмущаюсь мелочностью ученых, копающихся в отдельных фактах и не замечающих самого главного.
Поэтому, разговаривая со специалистами, я никогда не могу отказать себе в удовольствии задать им несколько вопросов, на которые они наверняка не смогут дать ответы.
Один мой знакомый астрофизик как-то сказал мне:
— Вы обладаете удивительной способностью задать в течение нескольких минут столько вопросов, что на них не сможет дать ответ десяток ученых за всю свою жизнь.
Должен сознаться, что такая характеристика мне польстила, хотя, насколько я понял, это была перефразировка значительно менее лестного для меня афоризма.
Однажды у своих друзей я познакомился с молодым биохимиком, занимавшимся вопросами наследственности.
Проблемы генетики всегда меня интересовали, и неудивительно, что через несколько минут мы уже вели оживленный разговор.
— Не кажется ли вам, — спросил я, — что в результате случайных изменений наследственных признаков, какими являются мутации, невозможно создать ничего такого, что было бы более рациональным и приспособленным к окружающим условиям, чем то, что уже приобретено в процессе биологического развития данного вида?
— Но то, что уже приобретено биологическим видом, тоже является результатом изменчивости и естественного отбора, — ответил он.
— Вы меня не поняли. Рассмотрим такой пример: способность строить плотины передается у бобров по наследству. Можно ли предположить, что эта способность вызвана изменением строения наследственного вещества под влиянием случайных факторов, например бомбардировки космическими лучами? Я думаю, что вероятность этого не больше вероятности напечатать первую строфу “Евгения Онегина” у обезьяны, беспорядочно колотящей по клавишам пишущей машинки.
— Пример, который вы назвали, не вполне характерен. То, что будет представлять собой живой организм, зашифровано в наследственном веществе в виде структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты, или, как ее сокращенно называют, ДНК. Однако совершенно не исключено и обратное влияние организма в целом на наследственные признаки. То, что однажды было добыто в борьбе за существование и оказалось решающим для сохранения вида, может включаться в состав наследственных признаков.
— Но в процессе дальнейших мутаций добытый такой ценой инстинкт может быть только утерян.
— Дело обстоит гораздо сложнее, чем вам представляется. Действительно, большинство мутаций оказываются нежизнеспособными. Однако изменение наследуемых признаков под влиянием воздействия внешней среды, в частности облучения, нельзя представлять себе как коренную перестройку цепочек ДНК. Скорее это дальнейшее усложнение структуры. Ранее имевшиеся признаки не уничтожаются, а дополняются и подавляются новыми, если эти новые признаки способствуют приспособляемости вида. Всякий зародыш в процессе своего развития повторяет всю историю вида. Так, например, у человеческого зародыша на определенной стадии развития существуют жаберные щели, свидетельствующие о том, что в далекой предыстории человечества его предки дышали жабрами, а не легкими. Молекулярная цепочка ДНК несет в себе колоссальное количество информации. Изложенная самым строгим языком на бумаге, эта информация заняла бы не менее тысячи печатных листов текста по сорок тысяч знаков в каждом.
— Как же в микроскопическом гене умещается вся эта информация?
— Это еще не вполне разгадано. Цепочки ДНК, которым мы приписываем свойства носительниц наследственных признаков, представляют собой весьма сложные структуры, закрученные наподобие винтовой лестницы. Очевидно, пространственное расположение углеводных остатков и фосфатных групп представляет собой тот шифр, который нас интересует.
Однако это не все. Недавно было установлено, что молекулы ДНК обладают сегнетоэлектрическими свойствами, то есть способностью хранить электрические заряды. Весьма возможно, что чередование положительных и отрицательных зарядов в хромосоме обеспечивает хранение информации зашифрованной в системе двоичного кода, подобно тому, как это имеет место в ферритовых ячейках памяти современных электронных счетно-решающих устройств, так называемой “магнитной памяти”. Если бы когда-нибудь нам удалось при помощи технических средств расшифровать информацию, заключенную в хромосоме, перед нами открылись бы захватывающие тайны происхождения и развития жизни на нашей планете.
Тут я почувствовал, что меня осенила одна из многочисленных идей, не дающих мне спать по ночам.
— А разве нельзя, — спросил я с бьющимся сердцем, — искусственно приостановить развитие зародыша, выведя не окончательный тип, определяемый всей памятью наследственного вещества, а промежуточный, используя только часть информации, относящуюся к его предкам?
— Можно приостановить развитие зародыша в любое время, но он будет нежизнеспособным. То, что относится к развитию данной особи, а не вида в целом, записано в виде химических свойств цитоплазмы и, главное, в виде определенного расположения цитоплазматических зон яйца, таких как полярная плазма, серый серп и другие. Все развитие зародыша в яйце контролируется разнообразными биологическими часами. Мы не знаем, что управляет ходом этих часов. Скорее всего, это химические процессы, протекающие со строго заданной скоростью, вызывающие изменение степени ионизации среды. Может быть, происходит непрерывный обмен информацией между наследственным веществом, управляющим ростом клеток в пространстве, и средой, регулирующей этот рост по времени. Для созревания зародыша требуется определенное время, и всякое преждевременное прекращение развития приведет к его смерти. Впрочем, то, о чем вы говорите, иногда в природе случается. Я имею в виду атавизмы, когда совершенно неожиданно у вполне созревшего зародыша проявляются признаки, свойственные его отдаленным предкам, вроде хвостового придатка у человека или двух дополнительных пальцев у лошади. Атавизмы не следует смешивать с аномалиями вроде двухголовости у телят или четырех лап у цыплят, являющимися, по-видимому, следствием патологического изменения структуры цепочек ДНК. Атавизм является как бы пробуждением памяти о давно совершившихся событиях в истории вида, не погашенных воздействием химических биорегуляторов развития зародыша.
— Не может ли это рассматриваться как результат потери периферийными элементами зарядов электрической памяти и проявления в связи с этим действия зарядов, расположенных в более отдаленных областях цепочки ДНК?
— Я затрудняюсь ответить, на ваш вопрос, — сказал он, улыбаясь. — Само наличие электрической памяти, хранимой ДНК, весьма гипотетично и делать предположения такого рода слишком смело.
Теперь новая идея владела мною безраздельно. Вырвать у жизни сокровенные тайны ее развития! Что может быть увлекательнее этой задачи?
Я мало подхожу для экспериментальной работы. Для этого я слишком нетерпелив. К счастью, в этом деле у меня есть неоценимый помощник — мой сын Вовка. Мы с ним уже не раз обсуждали самые жгучие вопросы естествознания и, несмотря на то, что этим летом он перешел только в седьмой класс, я неоднократно имел случай восхищаться его трезвым и деловым подходом к ряду весьма серьезных проблем. Это вовсе не означало, что у него отсутствовала фантазия. Отнюдь нет. Просто он всегда готов к кропотливому и разностороннему рассмотрению поставленного вопроса, и мы в наших вечных спорах отлично дополняли друг друга.
К моей новой идее Вовка отнесся очень серьезно.
— Мне кажется, — сказал он, — что погасить электрические заряды периферийных участков памяти проще всего при помощи ионов. Если сегнетоэлектрическая память представляет собою чередование положительных и отрицательных зарядов, то взаимодействие поверхностных элементов с ионами одного знака погасит, по крайней мере, половину зарядов противоположного знака. Этого можно добиться, помещая яйцо в электрическое поле в электролите. Часть ионов, прошедшая через пористую оболочку яйца, обязательно произведет нужный нам эффект.
Опыты было решено проводить с куриными яйцами.
Я взял на себя финансовую и организационную стороны работы. Вовка экспериментальную.
Уже через несколько часов у Вовки были приготовлены банки с аккуратно наклеенными на них названиями электролитов, представляющих собой слабый раствор солей, изъятых из недавно подаренной Вовке коробки “Юный химик”.
В качестве источника тока была использована батарейка от карманного фонаря.
Гораздо труднее было договориться с инкубаторной станцией, расположенной неподалеку от нашей дачи. Наконец и это препятствие было устранено. Оплатив стоимость пятнадцати яиц, мы получили право поместить в каждую из трех закладок по пять штук, подвергнутых предварительной обработке током.
Вовка завел специальную тетрадь, в которую заносились все условия опыта. Соответствующие номера опытов записывались карандашом на яичной скорлупе.
Нумерацию мы начали со сто первого опыта. Вовка сказал, что ни в одной лаборатории опыты не нумеруют двузначными числами.
Двадцать один день, пока шла инкубация первой партии, мы провели в томительном ожидании.
К сожалению, нас ожидала неудача. Ни одно из пяти яиц не оправдало наших надежд.
Мы тщательно исследовали содержимое каждого из них, но нигде не смогли обнаружить даже признаков развивающегося зародыша.
На следующей партии Вовка изменил концентрацию электролитов.
Снова три недели надежд, и снова — неудача.
Оставался последний эксперимент.
Вовка, как одержимый, колдовал в лаборатории, оборудованной на веранде.
Я восхищался его целеустремленностью и, по правде сказать, немножко завидовал. В душе я уже давно сомневался в целесообразности избранного нами пути. К этому времени я очень увлекся новой гипотезой относительно происхождения космических лучей и несколько охладел к нашей затее с яйцами.
Настал последний день инкубации третьей партии. Мне не очень хотелось идти туда. Уж очень насмешливо поглядывали на нас прошлый раз девушки, обслуживающие инкубатор.
Вовка, очевидно, разгадал то, что творилось у меня на душе.
— Пойдем, — сказал он, сурово глядя мне в глаза.
Я поплелся за ним.
— Из вашего яйца номер 115 что-то вылупилось, — сказал заведующий станцией, — забирайте свое добро. Он нам всех цыплят распугал. Такое страшилище! Пришлось посадить его отдельно.
Нас подвели к ящику, и мы увидели своего цыпленка, вернее, — “что-то”, как правильно выразился заведующий.
Перед нами прыгал на двух лапах серый зверек, покрытый глянцевитой влажной кожей. По бокам нелепо длинного туловища торчало два перепончатых крыла, как у летучей мыши. Острая мордочка заканчивалась плоским клювом, с особенностью которого мне очень быстро пришлось познакомиться. Десятки крохотных острых зубов вонзились мне в палец, когда я попытался дотронуться до зверька.
— Вы уверены в том, что он вылупился из яйца? — растерянно спросил я, обертывая палец носовым платком.
— Можете не сомневаться. Вот скорлупа.
Мы посадили зверька в Вовкину шапку и понесли домой.
Я с содроганием вспоминаю последующие две недели. Зверек рос не по дням, а по часам.
Он был уже размером с большого петуха. Питался он только сырым мясом и отличался удивительной прожорливостью. Вначале он свободно ходил у нас по двору, пока однажды вечером мы не услышали истошное мяуканье. Выскочив во двор, мы обнаружили зверька чинно ковыляющим по направлению к крыльцу. Клюв его был перепачкан кровью с прилипшими рыжими волосинками. Около колодца мы обнаружили бренные останки того, что когда-то было нашей чудесной ангорской кошкой Муркой.
После этого зверька привязали толстой веревкой за ногу. Характер его портился с каждым днем.
Он непрерывно требовал мяса, приходя в неистовство, когда, по его мнению, порция была недостаточной. Свои протесты он обычно выражал громким противным воем.
Вдобавок ко всему он научился летать и теперь представлял серьезную опасность для всех живущих в доме. Всякий, кто оказывался в радиусе его передвижения, определяемом длиной веревки, стоял перед угрозой поближе с его острыми зубами.
Я нередко испытывал искушение стукнуть его топором и на том покончить с экспериментом. Однако Вовка решительно этому противился. Он мастерил клетку, чтобы отвезти чудище в город для демонстрации на кафедре биологии университета. Однако его планам не суждено было сбыться.
Однажды утром мы обнаружили, что веревка, которой был привязан зверек, перегрызена, а сам он исчез. Мы обыскали все окрестности, но, кроме нескольких кур, пропавших на соседних дачах, не могли обнаружить никаких следов существования нашего зверька.
Вовкино горе не поддавалось описанию.
Я, как мог, пытался его утешить.
— То, что нам удалось уже один раз, мы можем повторить в любое время, сказал я ему. — Ведь условия у нас точно зафиксированы в твоей тетради. Мы теперь можем плодить чудовищ сотнями.
Вовка печально покачал головой.
— Этот опыт мы повторить не можем, — грустно сказал он. — В последней закладке я экспериментировал в более широком масштабе, чем это было намечено первоначальным планом. Яйцо номер сто пятнадцать я подвергал электролизу в растворе, куда вылил все содержимое нашем аптечки. Хоть убей, я не могу вспомнить, что там было!
Илья Варшавский Тупица
В зал логического анализа Академии Познания я попал только к вечеру, когда там уже было совсем мало народа.
По существу, сегодня здесь должна была решаться моя судьба. Я дал себе слово, что если последняя попытка создать теорию распределения антиматерии опять закончится неудачей, я меняю профессию, увы! — уже третью по счету. Никто меня к этому не принуждал, но глупо было дальше тратить время на деятельность, не приносящую никакой пользы обществу.
Мне не хватало новейших данных, полученных за последний месяц, и, раньше чем приступить к анализу, я опустил перфокарту в приемник электронного библиографа.
Через минуту в моем распоряжении были результаты всех экспериментов, проведенных земными институтами и орбитальными космическими станциями. Теперь оставалось проверить, насколько моя гипотеза объяснила все, что получено опытом.
Я не люблю новейших логических машин, построенных на базе биоэлементов. В их сверхбыстродействии и безапелляционности есть что-то неприятное. Мне иногда кажется, что каждая такая машина обладает какими-то чертами индивидуальности, иногда просто отталкивающими. Не так давно одна из них разбила все мои честолюбивые мечты лаконическим и суровым приговором: “ЧУШЬ!”. Мне гораздо больше по душе неторопливый ход рассуждений стареньких автоматов-анализаторов. С ними легче переживать неудачи. Они только подготовляют материал для выводов, которые делаешь сам. В таких случаях никто не мешает тебе немного подсластить пилюлю.
К сожалению, моя любимая машина была занята. Какой-то юноша, сидя за перфоратором, яростно стучал по клавишам. Рядом с ним лежала горка карточек с ответами — не меньше сотни штук. Мне впервые приходилось видеть здесь человека, которого интересовала такая уйма проблем.
— Простите, — обратился я к нему, — у вас еще много вопросов?
— Один, — ответил он, опуская карточку в машину, — сейчас я отсюда уберусь.
Он взял с лотка возвращенный машиной листок и безнадежно махнул рукой.
— Вот полюбуйтесь!
Я взглянул через его плечо.
Вопрос: “Если человек глуп, как пробка, может ли он сделать что-нибудь умное?”
Ответ: “Может, но только случайно, с ничтожно малой степенью вероятности”.
— Н-да, — сказал я, — вряд ли стоило…
— Занимать машину? — перебил он меня. — А что мне прикажете делать, если я дурак?
Я рассмеялся:
— Ну, знаете ли, кто из нас не присваивал себе этого звания после очередной неудачи. Пожалуй, из всех метафор эта имеет наибольшее хождение.
— Метафор! — желчно сказал он. — В том-то все и дело, что никаких метафор тут нет. Просто я дурак от рождения.
— Вы сами себе противоречите, — сказал я, — настоящий дурак никогда не считает себя дураком, да и вообще какие в наше время могут быть дураки?
— Ну, если вам не нравится слово “дурак”, так тупица. Дело в том, что я феноменально туп. Мне двадцать пять лет, а кроме обязательного курса машинного обучения, я ничего не прошел, да и тот дался мне с величайшим трудом. Профессии у меня никакой нет, потому что я даже мыслить логически не умею.
— Чем вы занимаетесь?
— Да ничем. Живу иждивенцем у общества.
— Неужели никакая профессия?..
— Никакая. Все, что попроще, делают машины. Сами понимаете, что в двадцать третьем веке никто мне не поручит подметать улицы, а ни на что другое я не способен.
— Может, вы не пробовали?
— Пробовал. Все пробовал, ничего не получается. Вот пробую учиться логическому анализу у машин, да что толку?! Я и вопроса умного задать не могу…
— Да-а, — сказал я, — неприятно. Это что же у вас, наследственное или результат заболевания?
— Наверное, наследственное. Недаром у меня и фамилия такая — Тупицин. Вероятно, еще предки славились.
— А к врачам вы обращались?
— Обращался. Никаких органических пороков не находят, а глупость, говорят, — извините, еще лечить не научились. Словом, дурак и все тут! Вот и сейчас: вам работать нужно, а я вас всякой ерундой занимаю.
— Что вы! — сказал я, опуская карточку в машину. — Все, что вы говорите, так необычайно.
— Необычайно! В том-то вся беда, что необычайно. Ведь я, по существу говоря, паразит. Люди работают, чтобы меня прокормить и одеть, а я не вношу ни малейшей лепты в общий труд. Больше того: все знают, что я тупица, и всячески стараются скрасить мне жизнь. Я получаю самые последние образцы одежды, приглашения на лучшие концерты, все деликатесы. Даже девушки кокетничают со мной больше, чем с другими, а на черта мне все это нужно, раз делается просто из жалости?
Он погрозил кому-то кулаком и побежал к выходу.
Я хотел пойти за ним, как-то утешить, но тут раздался звонок. Машина кончила анализ. Я схватил карточку. Опять неудача! Моя гипотеза никуда не годилась.
Больше года я провел в высокогорной экспедиции, в надежде, что эта работа излечит меня от желания стать теоретиком. Однако ни трудности альпийских походов, ни подъемы в верхние слои атмосферы, ни совершенно новая для меня сложная техника физических экспериментов не были в состоянии отвлечь от постоянных дум об одном и том же. Новые гипотезы, одна другой смелее, рождались в моем мозгу.
Получив отпуск, я сейчас же помчался в Академию Познания.
За это время в зале логического анализа произошло много перемен. Моих любимцев — электронных анализаторов — уже не было. Их место заняли крохотные машинки неизвестной мне конструкции, способные производить до трех миллиардов логических операций в секунду. В конце зала я увидел массивную дверь, обитую звукоизоляционным материалом. На двери была табличка с надписью: “Консультант”.
Возле двери, в кресле, сидел старичок в академической ермолке. Он просматривал рукопись, лежавшую у него на коленях, время от времени нетерпеливо поглядывая на часы.
Дверь отворилась, и старичок с неожиданной резвостью вскочил, рассыпав листы по полу.
— Федор Михайлович! — сказал он заискивающим тоном. — Может быть, вы мне уделите сегодня хоть пять минут?
Я перевел взгляд и обомлел.
В дверях стоял тот самый юноша, который прошлый раз жаловался мне на свою судьбу.
Но это был уже совсем другой Тупицин.
— Не могу, дорогой, — снисходительно сказал он, — у меня сейчас свидание с академиком Леонтьевым. Он записался ко мне на прием неделю назад.
— Но моя работа гораздо важнее той, что ведет Леонтьев, — настаивал старичок. — Я думаю, он, как честный ученый, сам это признает!
— Не могу, я обещал. А вас я попрошу зайти… — Тупицин вынул записную книжку, — на той неделе, ну, скажем, в пятницу в двенадцать часов. Устраивает?
— Что ж, — вздохнул старичок, — если раньше нельзя…
— Никак нельзя, — отрезал Тупицин и важной походкой направился к выходу.
Несколько минут я стоял, пораженный этой метаморфозой, затем бросился за ним вдогонку.
— Здравствуйте! — сказал я. — Вы меня не узнаете?
Он наморщил лоб, пытаясь вспомнить, и вдруг рассмеялся.
— Как же, помню! В этом зале, не правда ли?
— Конечно!
— Вы знаете, — сказал он, беря меня под руку, — в тот день я был близок к самоубийству.
— Очевидно, вы себя просто недооценивали. Болезненный самоанализ, ну, какие-нибудь неудачи, а отсюда и все остальное. Скажите, что же помогло вам найти место в жизни?
— Видите ли, — замялся он, — это не так легко объяснить. Я ведь вам говорил, что я тупица.
— Ну вот, — сказал я, — опять за старое! Лучше расскажите, чем вы тут занимаетесь.
— Я консультант по немыслимым предложениям.
— Что?! Никогда не слышал о такой должности. Разве логического анализа недостаточно, чтобы отсеивать подобные предложения?
— Достаточно. Но я как раз их придумываю.
— Для чего?
— Чтобы дать возможность ученым построить новую теорию. Вы ведь все находитесь в плену логики. Всегда во всем ищете преемственность, логическую связь с тем, что уже давно известно, а новые теории часто требуют именно отказа от старых представлений. Вот Леонтьев и посоветовал мне…
— Но как же вы это можете делать, будучи, простите за откровенность, профаном?
— Как раз поэтому мне часто удается натолкнуть ученого на новую гипотезу.
— Чепуха! — сказал я. — Форменная чепуха! Так можно гадать до скончания века. Я, правда, ученый-любитель, но проблема, которая меня интересует…
— А что это за проблема?
— Ну, как вам попроще рассказать? Мне хочется найти объяснение, почему антиматерия в доступном нам пространстве распределена не так, как обычная материя.
— А почему она должна быть так же распределена?
— Потому что признаки, которые ее отличают, ну, скажем, направление спина, знак заряда и другие, при образовании частиц могут появиться с такой же степенью вероятности, как и в привычном нам мире.
Он закрыл глаза, стараясь меня понять.
— Значит, вас интересует, почему антиматерия распределена не так, как обычная материя?
— Да.
— А почему так, вы знаете?
— Что так?
— Почему именно так распределена обычная материя?
Вопрос меня озадачил.
— Насколько мне известно, — ответил я, — еще никто…
— Не можете же вы знать, почему не так, когда не знаете, почему так. Кажется, он безнадежно запутался в своем софизме.
— Нет, — ответил я, улыбаясь, — все это, может быть, и забавно, но вовсе… — на мгновение я запнулся, — вовсе не так уж глупо! Пожалуй, лучше всего мне работать в экспедиции!
Леонид Агеев С доставкой на дом
I
Игорь Валентинович поднял голову. Руки, скрещенные на коленях, затекли под ее тяжестью. Он потряс кистями, повращал, словно ввинчивая невидимые лампочки, и, осмотревшись, осознал себя сидящим на гранитном спуске к реке. Плескавшаяся у ног вода гоняла с места на место стаю солнечных зайчиков; на волне покачивалась пустая бутылка с наполовину отклеившейся этикеткой.
“Лесной” лимонад… Что за лимонад? Не то чтобы пить — и слыхать никогда не приходилось! Мыло “Лесное”, одеколон — да, а…
Голова была как с похмелья, хотя таковое исключалось: ни разу в жизни Игорь Валентинович капли спиртного в рот не брал и среди своих знакомых трезвость всячески пропагандировал.
Напекло, видно, садовую, пока дремал. Этак и тепловой удар недолго получить — в июле, да в полдень, да при пустынном ландшафте твоей черепушки… Но погоди-ка: как ты вообще-то очутился здесь?!
Он провел тыльной стороной ладони по щекам — побриты, посмотрел на полуботинки — почищены; брюки отглажены, пиджак в порядке…
Привычный вид моста справа, вверх по течению реки, и зданий на том берегу, сознание, что за спиной — родной Дом писателя (перейти мостовую — и можно кофейку испить!), не приостановили беспокойства. Игорь Валентинович мучительно пытался вспомнить вчерашний день…
Наконец он встал, затяжно — до боли в суставах — потянулся, поднялся на набережную и зашагал к Дому писателя… Погруженный в задумчивость, привычно толкнул тяжелую дверь, вошел в вестибюль — и сразу хотел повернуть назад, решив, что по ошибке сунулся не туда: вестибюль был и похож и не похож на тот, который он привык видеть, который еще на позапрошлой неделе видел.
Когда наши хозяйственники этакий марафет навести успели?! Чтоб за полмесяца, что ты отсутствовал, — смешно думать!.. И стены выкрашены в приятный цвет, и будка вахтеров новая: выпуклая, прозрачная, вместительная. Да и вахтера этого тебе не приходилось раньше видеть… Смотрит-то как подозрительно — за своего не признает! Явно новенький!
Его сомнения рассеяло объявление, висевшее на стенде, тоже обновленном: ажурной конструкции, с выдвижными щитами. “В актовом зале Дома писателя состоится вечер поэта-сатирика…”
Все правильно, попал куда надо! И сомневаться было глупо: столько тобой в сие заведение хожено-перехожено — с закрытыми глазами найти можешь!..
“Вечер состоится 23 июля 2080 года”.
Шутники! Вроде не канун 1 апреля, чтобы на сто лет календарь перелистывать! Не иначе, “под мухой” Миша-художник объявление стряпал!
Парадная лестница поражала шиком: стены на высоту человеческого роста были отделаны под дерево, перила блестели, ковровая дорожка скрадывала шаги.
Ничего размахнулись администраторы!.. Администраторы… администраторы… Тебе-то что от них нужно, с какого рожна тебя ноги сами наверх несут? Ты же кофейку хотел — твоя дорога в бар! Думай, Игорь Валентинович, думай!.. Вернулся ты позавчера, никуда до ночи из дому не выходил, ни с кем не виделся. Вчера… Вчерашнего дня так и не вспомнить… Но здесь ты скорей всего и вчера не был, а значит, с секретарем правления еще не разговаривал. Надобность же в разговоре, помнится, имелась…
Он вошел в приемную и уже почти не удивился полной перемене декорации и тому, что за столом секретарши сидит абсолютно незнакомая девица; не обращая внимания на странноватые, лезущие в глаза мелочи обстановки приемной, произнес: “Добрый день!” — качнул головой в сторону сверкающей лаком и никелем двери: “У себя?” — и, опередив нерешительный кивок секретарши, одним рывком проскочил в кабинет.
Ну, елки-палки! И тут все по-другому!
Над горизонтом огромного письменного стола возвышалась фигура человека, похожего лицом на Бельмондо, но с усами. Человека этого Игорь Валентинович не знал.
Переизбрали, что ли, пока ты… Не могли: перевыборы совсем недавно были… Если предположить какие-нибудь экстренные пертурбации, так опять же: мыслимо ли, чтобы в данном кресле оказался человек со стороны, даже не член нашей организации?! А что он таковым не является — ты голову на отсечение можешь дать!
— С кем имею честь? Присаживайтесь, пожалуйста!
— Извините… Я, наверное, не туда все же попал. Мне нужен секретарь правления писательской…
— Я и есть секретарь правления.
— А где же?..
— Вы, надо полагать, давненько у нас не были. Мой предшественник перебрался нынешней весной в столицу. Сдал свои полномочия и уехал. Теперь мы, как видите, трудимся здесь в меру способностей… Позвольте спросить: вы откуда будете?
— Я?.. Сейчас — из Карелии, из творческой командировки. Вот… — Игорь Валентинович, сам не понимая, зачем это делает, полез в карман пиджака, извлек писательский билет и протянул его новоявленному начальству.
Начальство глянуло на книжечку, покачало в сомнении на ладони, раскрыло и начало изучать.
— В каком, в каком году вы, извините, вступили в Союз писателей?
— В тысяча девятьсот шестьдесят пятом, тридцати лет от роду.
— Так… Значит, сейчас вам… — Секретарь посмотрел на потолок. — Сейчас вам сто сорок пять лет?
— Сорок пять!
— Нет, по моим подсчетам, сто сорок пять получается… Скажите откровенно, как к вам попал этот… документик? В каких вы его архивах откопали?
— При чем здесь архивы?! Это мой писательский билет! Это…
— Секундочку, секундочку!
Секретарь сделал ладошкой “стоп движение!”, нырнул в свой широкоформатный стол и, вытащив убойной толщины том, начал его листать.
— Так… Пробоев Игорь Валентинович… Пробоев… Игорь… Нашел! Давайте посмотрим, что написано в Писательской Энциклопедии о нашем Игоре Валентиновиче. Так… Так… Принят в члены Союза писателей… совпадает… Жанр — научно-художественная литература… Книги, книги… популяризаторская деятельность… Вот! Умер в тысяча девятьсот восьмидесятом году (предположительно)… Вы меня слышите: умер ровно сто лет назад!
— Кто умер сто лет назад?!
— Законный владелец предъявленного вами документа — писатель Про…
— Я — законный!.. Извините, мне что-то нехорошо… Мне бы на воздух… Пробоев поднялся, потянулся взять свой документ, но усатый Бельмондо, упреждая его, ловким движением смахнул билет в ящик стола.
— Нет, нет! Документик пусть лучше у меня побудет. Он, возможно, представляет историко-литературоведческий интерес! Думаю, в Энциклопедии не без оснований указано: пред-по-ло-жи-тель-но!
— Ладно, выясняйте про ваш исторический интерес — я пока и без билета обойдусь! — бросил уже от дверей Пробоев и, выйдя в приемную, заторопился вниз, на улицу, потому как чувствовал себя в самом деле неважно.
Отдышавшись на скамейке в ближайшем сквере, успокоившись и поостыв, он решительно встал, заложил руки за спину и, набычившись, зашагал к газетному киоску, что виднелся на углу. Полмесяца назад киоска этого не было…
Сейчас мы выясним наконец, сейчас разберемся, кто с ума сошел… или сходит…
— Мне — “Литературку”! — Игорь Валентинович кинул нашаренный в кармане юбилейный рубль на тарелку, белевшую в зеве киоска, и, не получая ничего взамен, нетерпеливо заглянул сквозь запыленное стекло внутрь. Бородатый киоскер пробовал монету на зуб. Попробовав, удовлетворенно усмехнулся и высунул из окошка будки мясистый нос.
— Что просите?
— Я же сказал: мне нужна “Литературная газета”!
Киоскер засмеялся.
— Вам, дорогой, повезло: вы имеете в моем лице истинного нумизмата, а истинный нумизмат некомпетентного человека обманывать не станет.
Он покопался в темном закутке киоска и выложил на тарелку несколько бумажек, отдаленно напоминающих деньги.
— Это справедливая цена, будьте спокойны! А в придачу получайте вашу “Литературку”! — И киоскер накрыл бумажки газетой.
Бери, Игорь Валентинович, бери, не думай пока ни о чем! Если эти филькины грамоты служат деньгами в комедии, которую с тобой кто-то разыгрывает, они тебе… не помешают.
Пробоев взял газету, сгреб бумажки, кивнул киоскеру, завернул за угол и, пройдя квартал, очутился на одной из своих любимых улиц — тихой, с бульваром старых лип и тополей. Деревья показались ему несколько изменившимися, но разбираться, в чем состоит перемена, было сейчас недосуг.
Сев на первую попавшуюся свободную скамью, он закрыл на минуту глаза, как делал обычно перед прыжком с вышки в воду, спуском на лыжах с крутой горы или перед выходом на аудиторию, и, старательно не торопясь, развернул газету.
Орденов многовато… Три, четыре… Откуда бы?.. А профиля, как обычно, два… Так-с… Число… 17 июля тысяча… Две тысячи восьмидесятого!..
Он сложил газету и сунул в карман.
Ну, Игорь Валентинович, надежда на то, что тебя кто-то разыгрывает, становится все эфемернее. Простейший закон обратной зависимости: чем больше фактов с минусом, тем меньше шансов с плюсом! Но тогда… Но тогда… может быть, все это тебе лишь снится?! Конечно — снится! Как тебе сразу не пришло в голову?!
Усилием воли Пробоев попытался проснуться. Ему многократно за прожитые годы случалось “сматывать удочки” из собственных сновидений, бежать от ночных кошмаров, вырываться из безнадежных, приводивших его, спящего, в ужас обстоятельств. Он хорошо знал, как происходит такое самопробуждение: сначала из одного сна переходишь в другой, затем из того — в следующий, из следующего — в следующий и так далее — ступень за ступенью, и чем глубже был первоначальный сон, тем больше ступеней на пути к последней, когда выныриваешь наконец в нестерпимо желанную явь.
На сей раз ничего похожего не произошло — выныривать, очевидно, было неоткуда…
Пробоев покопался в нагрудном кармашке, где покоилась его давно ставшая хронически безработной расческа, вытащил пакетик с безопасной бритвой, извлек лезвие и провел им по ладони. Боль была болью, кровь была кровью. Он лизнул набухший темными каплями надрез — натуральная кровь!
Без паники, Игорь Валентинович, без паники! Подведем некоторые итоги… Итак, ты — в XXI веке: перескочил неведомым образом через столетие и здрасте, я ваша тетя!.. Правильно: подобное невозможно. Не ты ли доказывал эту аксиому в своих статьях и книгах, не ты ли потешался над фантастами, на все лады варьирующими идею “машина времени”, гоняющими старушку-развалюшку на сумасшедших скоростях по самым разухабистым дорогам и на дистанции, какие только вздумается? Ты потешался. Ты доказывал. И что же в результате? В результате — факты, грубо противоречащие… И все — бьют в одну точку… Постой, а как же поэт-сатирик — на доске объявлений в Доме писателя? И фамилия и имя одинаковые с тем… Совпадение? Совпадение! Вполне допустимое в таком большом промежутке времени…
Черт знает что!.. Как бы вчерашний день вспомнить? Непременно надо вспомнить! Ясность тебе, Игорь Валентинович, необходима! Ты всю свою сознательную жизнь строил так, чтобы все всегда было ясно, все всегда объяснимо и определенно! Ты же не умеешь иначе!.. Ладно. Сейчас ты вернешься к реке, на то же самое место… Да, только так: от какого-нибудь события недавних дней к дню вчерашнему, шаг за шагом! Других вариантов нет…
Он вышел на проспект и повернул вправо.
Проспект, в общем-целом, без изменений… Ну, трамвайные рельсы убраны, паутина проводов снята… Автомобили бегают почти бесшумно, не дымят, не отравляют атмосферу, — так это и не автомобили, а скорей электромобили, мы их и в двадцатом начали внедрять-осваивать. Красивые, однако, машины! Твой “Запорожец” в подметки им не годится!.. А вот и нынешний общественный транспорт — нечто среднее между трамваем, троллейбусом и автобусом. Тоже наверняка на автономной электротяге. Как ты и предсказывал, как и пророчил!.. “Ничего-то, граждане-товарищи, в вашем двадцать первом веке особенного нет, ничего неожиданного! Все не на пустом месте появилось, все глу-бо-ко в прошлое корнями уходит! Дважды два — четыре! Я это и там постоянно повторял, и вам, будет время, скажу! Во весь голос, уважаемые, скажу!”
Впереди открылась река.
А что, если заглянуть сначала домой, благо недалеко? По мосту на ту сторону и еще пять минут ходу…
Он пошарил по карманам — ключей от квартиры не было.
Домой придется попозже, к вечеру, когда там наверняка кто-нибудь да будет; днем можешь и за порог не попасть… Кто “кто-нибудь”? Кто?! В 1980-м — ясно, а в 2080-м? Сыну твоему было (было?! есть?!)… сыну твоему двадцать, дочери — девятнадцать… Если положить на формирование каждого нового поколения четверть века и принять среднюю продолжительность жизни восемьдесят — восемьдесят пять лет… В 2080-м ты можешь застать в квартире кого-то из своих прапраправнуков, праправнуков и правнуков… Интересно: сколько их у тебя? И есть ли? И почему кто-либо из них непременно должен жить на старом месте? Хоромы-то — не ахти… Позвонишь — а дверь откроют совершенно чужие люди, не только о тебе не имеющие ни малейшего понятия, но и ничего не знающие ни об одном из твоих прапрапра… Грустная перспектива!
Пробоев сошел к воде, расстелил “Литературку” и, сев, уткнулся лицом в скрещенные на коленях руки.
Позавчера ты вернулся из творческой командировки — из Карелии…
II
Назвать его командировку творческой можно было с большой натяжкой. И к разряду служебных она не относилась: в служебные — направляют, а его в этот раз никто в Карелию не посылал. Посылали — в предыдущий, два года тому назад…
Тогда в редакцию научно-популярного журнала, с которым давно и активно сотрудничал Пробоев, пришло письмо от геофизиков одной геологоразведочной партии. Геофизики, производя аэромагнитную съемку участка побережья Онежского озера, обнаружили с вертолета на узкой незалесенной косе пятно правильных круглых очертаний — выгоревшей, казалось, земли. Круг был разделен на концентрические кольца — темно-бурые в центре, к периферии светлевшие, сливаясь с естественной окраской косы. Вертолетчики, не столько, видимо, поддавшись на уговоры геофизиков, сколько заинтересовавшись сами, согласились сделать посадку. Растительность на косе в радиусе тридцати метров оказалась действительно выжженной, более того: выходы горных пород были оплавлены; повсюду валялись непонятного происхождения шарики, похожие на окатыши керамзита.
За строчками письма без труда угадывались мотивы, побудившие геофизиков обратиться в редакцию журнала. НЛО! Всем мерещатся неопознанные летающие объекты, каждый жаждет внести лепту в дело приближения — кажущегося неизбежным и совсем близким — часа встречи с представителями внеземной цивилизации!
К кому же, в свою очередь, должна была обратиться редакция журнала, получив подобное письмо? Конечно, к Игорю Валентиновичу Пробоеву! Прежде всего к Пробоеву! НЛО, пришельцы — это же его любимый конек, им выращенный, ухоженный, ставший за два десятка лет настоящим конем, верным и безотказным. На нем Игорь Валентинович и в Союз писателей в добрый час въехал, и с членским билетом в руках отменно потом гарцевал, а если требовалось, такие приемы джигитовки демонстрировал, от которых даже видавшие виды члены редколлегии уважаемого журнала хватались за головы.
Все знал об НЛО и пришельцах Пробоев, исчерпывающе владел предметом; так умел вывернуть любой факт наизнанку, так высказывался, что, явись пришельцы на самом деле, да услышь, да пойми Игоря Валентиновича, тщетно бы ожидала потом Земля их повторного посещения…
Получив на руки командировочное удостоверение и аванс, предвкушая открывавшуюся возможность разнести в пух и прах очередную “сенсацию”, примчался Пробоев в Заонежье — в “горячую точку” его личной, тщательно составленной и постоянно уточняемой карты боевых действий против любых проявлений псевдонаучных тенденций. Но не удалось ему тогда развернуться по-настоящему, не удалось, к сожалению… Только начал он обживаться в поселке геологоразведочной партии, только-только наладил связи с нужными людьми, как из журнала пришла телеграмма, предлагавшая прекратить всякие изыскания и незамедлительно возвращаться. Все оказалось просто: известие о загадочном круге, обнаруженном геофизиками, получило нежелательно широкую огласку и кто-то из людей, мнением которых пренебрегать не полагалось, посоветовал журналу масла в огонь не подливать…
Одно утешало тогда обескураженного Игоря Валентиновича на обратном пути: за время недолгого пребывания в партии он — неожиданно для себя — близко сошелся с командиром вертолета, обслуживавшего геологов, Никодимом Саввичем Новиковым. Неожиданно, ибо на долю человека, перевалившего водораздел своего сорокалетия, такое выпадает нечасто. Истина известная. На пятом десятке и друзей новых, как правило, не обретают, и знакомств-то прочных не заводят, тем более с людьми более легкой возрастной категории; а Никодим Новиков был на десять лет младше Пробоева.
Общий язык они нашли при первом же разговоре. Новиков, как выяснилось, читал все книги Пробоева, следил за его выступлениями в периодической печати и полностью разделял его взгляды. Ни у кого еще не встречал Игорь Валентинович большего понимания и сочувствия делу, которым занимался. Одно удовольствие было беседовать с Никодимом! Верно, поначалу раздражал старомодный, редкий по нынешним временам прононс Никодима, но Пробоев быстро с подобной мелочью свыкся и примирился, убедившись, что это у вертолетчика не от желания быть оригинальным, а естественная, скорей всего врожденная особенность речи…
Между ними завязалась переписка, ни разу в течение последующих двух лет надолго не прерывавшаяся. И о теперешней своей — не творческой, не служебной — командировке он заблаговременно уведомил Новикова письмом, попросив в начала июля позвонить ему домой. По телефону они договорились о дне встречи на аэродроме Петрозаводска, где находилась главная база вертолетного отряда. Никодим как раз заканчивал стажировку в управлении новым типом вертолета, полученного им взамен устаревшего, добросовестно потрудившегося и выработавшего весь положенный моторесурс МИ-4, и готовился к перелету в партию: у геологов “горел” план аэросъемочных работ.
На встречных придорожных щитах цифра, указывающая расстояние до Петрозаводска, неуклонно уменьшалась.
Уверенно поруливая, Игорь Валентинович мчался в потрепанном “Запорожце” и пел. Находясь за рулем и в одиночестве, он всегда пел — в полный голос, казавшийся в замкнутом пространстве салона сильным, чуть ли не мощным, каким на самом деле не был, к застарелому огорчению своего владельца, мечтавшего некогда стать певцом. Все теноровые партии классического оперного репертуара Игорь Валентинович знал назубок и умел, обладая безошибочным слухом, передать малейшие тонкости, тончайшие оттенки творений великих композиторов прошлого. Современную оперу Пробоев не признавал, оперетта для него вообще не существовала. Ах, если бы его голосу да побольше силы!
Петь он старался без перерывов: пройдясь по “Ивану Сусанину”, принялся за “Евгения Онегина”; похоронив Ленского, переметнулся в глубь веков — к “Князю Игорю”. И все же при случавшихся паузах в голову успевали заскользнуть невеселые думы о событиях последних месяцев и дней…
Новая волна увлечения байками о гостях из космоса захлестывала города и веси страны. Дорогие сограждане все определенней огорчали Пробоева своей легковерностью, падкостью на нелепые — лишь бы паленым пахло! — слухи, своей забывчивостью и явным пренебрежением лично к нему, И.В.Пробоеву, без устали — в печати и с трибуны — призывавшему рассуждать и мыслить здраво. Для кого он, в конце концов, старался?!
В городе опять объявился столичный гастролер со скандальной, начисто раздраконенной Пробоевым еще в предыдущий заезд “фокусника-космотолога” лекцией, дополненной на сей раз “новейшими фактами”. Пока Игорю Валентиновичу удалось, обегав всевозможные инстанции и употребив весь свой авторитет, добиться запрета, гастролер успел-таки раз пять выступить. Отпечатанные на машинке тезисы его лекции расползались среди населения со скоростью, не уступавшей скорости распространения ежегодных эпидемий гриппа, народ на лекции валом валил, у входа в здание, где проходили выступления, милиции приходилось выставлять усиленные наряды.
Гастролера Пробоев и раньше считал личным врагом, теперь же и имени его слышать не мог: гастролер умудрился внести раскол в семейную жизнь Игоря Валентиновича.
Жена Пробоева давно интересовалась проблемой контактов с инопланетянами и с присущей ей экзальтированностью верила самым расхожим небылицам. Побывав на лекции “залетного шарлатана”, она совсем… того-этого… И ладно бы, сама только! Так нет, детей сумела увлечь, детей волей-неволей против отца родного настроить… Сын в одной из особо жарких внутрисемейных дискуссий дошел до того, что обозвал его пародистом от науки! Дескать, люди ищут, люди пишут об интереснейших наблюдениях, смелые гипотезы высказывают, а он измывается над их стремлением приблизиться к истине, передергивает, подтасовывает, искажает! И тем живет!.. Приятно от сынка подобные речи слышать?! Сопляк! Забыл, чей хлеб ест! Знать небось не желает, что хлеб-то на тех самых “пародиях” замешан, на тех самых “передергиваниях” испечен…
Игорь Валентинович так расстроился от навалившихся мыслей, что, начав очередную арию, “пустил петуха” и, вовсе озлясь, резко поддал газу, отчего автомобиль козлом запрыгал по неровностям асфальта.
На заднем сиденье забрякало и загремело потревоженное содержимое огромного брезентового мешка. Газ пришлось сбросить — жаль было бы что-нибудь разбить, помять, порвать: слишком больших усилий стоило Игорю Валентиновичу мешок тот наполнить… Да, останови сейчас машину случайный инспектор ГАИ да попроси показать, какой груз везет гражданин Пробоев в личном автомобиле, довелось бы гражданину Пробоеву попотеть, объясняя, откуда у него такие странные штучки, зачем они ему и что он намерен с ними делать.
…Добиваясь отмены лекций “залетного шарлатана”, Игорь Валентинович попутно договорился с Центральным лекторием о собственном выступлении по существу того же вопроса. Клин вышибают клином, всякому яду — противоядие!
Название его лекции было скромным, но достаточно интригующим: “Еще раз об НЛО”. Зал оказался набитым, у входа в лекторий спрашивали “лишний билетик”.
Однако уже через четверть часа после начала выступления Игорь Валентинович услыхал первый робкий свист с галерки; через минуту свист повторился, раздались аплодисменты, и обманувшиеся слушатели дружно повалили на выход…
Лекцию Пробоев заканчивал перед двумя десятками стоиков преклонного возраста — осоловевших, клюющих носами. Громы и молнии, которые он метал над их головами в горе-толкователей загадочных явлений, разносчиков сплетен, распространителей вымыслов западных злоумышленников и психически неуравновешенных личностей, разбудить дремавших не смогли…
Публичный провал был последним толчком. Давние позывы, неконкретные ранее намерения оформились в четкий план активных действий. На разработку деталей и осуществление первой части плана ушло недели полторы… Ровно через месяц после пережитого в стенах лектория позора Игорь Валентинович, натянуто попрощавшись с домочадцами, сел за руль и взял курс на Петрозаводск…
Пробоев поставил “Запорожец” на площади перед зданием аэропорта, почистился от дорожной пыли, запер машину на ключ и отправился искать Никодима Новикова.
Он с прошлого раза знал, что стоянка вертолетов находится на окраине аэродрома у сосновой рощи. Пройдя сквозь толпу пассажиров, готовившихся к выходу на посадку, Пробоев объяснил дежурной свою надобность, показав для убедительности писательский билет, был пропущен на летное поле и, держась его кромки, добрался до хозяйства вертолетчиков.
Голый по пояс технарь, копавшийся на ветерке под навесом в похожем на автомобильный движке, на вопрос о Никодиме ткнул через плечо гаечным ключом:
— Где больше Новикову быть? Со своей обновой возится! Последний в ряду его аппарат…
Не доходя шагов тридцать до Никодимова вертолета, Пробоев остановился. Он видел в каком-то журнале снимки новой модели, но в натуре… В натуре машина превосходила все ожидания! У Пробоева ладони от волнения вспотели! Несведущий человек, увидав этакого экзотического красавца впервые…
— Ну, Игорь Валентинович, нравится? — Неизвестно откуда появившийся Никодим пожимал Пробоеву локоть. — Здравствуйте!
— Здравствуй, Никодим, здравствуй, дорогой!.. Как же не нравится! Царь-птица, а не машина!
— Вовремя вы прибыли: у меня все готово.
— Великолепно!
— Я уже начал придумывать для своего начальства причину, чтобы отлет хоть до завтрашнего утра разрешило отложить: вас-то, смотрю, нет и нет…
— Ошибся малость в расчетах! — Пробоев посмотрел на солнце. — Думал раньше успеть…
— Ничего, засветло уложимся!
— У меня багаж кое-какой в машине… И саму ее надо куда-то пристроить.
— “Антилопу” вашу поставим к ангару — у нас тут никто не тронет. Пошли пригоним… Я только пилота своего предупрежу: пусть тоже собирается!
В иллюминаторе стали видны собравшиеся у посадочной площадки люди. Фигурки быстро росли — Пробоев уже узнавал своих старых знакомых: начальника партии Павла Петровича, главного геофизика Георгия Константиновича, шофера Славу…
Пыль заволокла стекло. Легкий толчок… Тишина.
— Наконец-то, Никодим Саввич, наконец-то! Заждались мы тебя, благодетель! — Начальник партии энергично тряс Новикову руку. — Да ты никак с гостем? Здравствуйте, товарищ Пробоев!
— Здравствуйте, Павел Петрович! Приветствую вас, друзья! Геологи откровенно радовались прибытию вертолета: производственные интересы в той или иной мере всех их заботили, всех касались. Нет полетов — нет выполнения плана, нет плана — нет премии. Зато неприятностей не оберешься!
— Что, Игорь Валентинович, снова к нам? Не дают, вижу, вам покоя “братья по разуму”! — Георгий Константинович подмигнул и залился характерным смехом, смущавшим Пробоева еще в тот приезд, — так этот гогот-клекот, захлебывающийся и звонкий, не подходил к могучей фигуре геофизика.
— Не дают, не дают, бестии…
— Кадила подходящего на них нет! Кадило хорошее нужно! Кхе-кхе-кхе! Георгий Константинович выпустил новую очередь неуемной жизнерадостности и полез под кабину вертолета, который помощник Никодима с шофером Славой успели уже закрепить на растяжках.
Начальник партии взял Никодима под руку.
— Как в управлении машина?
— Слушается, Павел Петрович, слушается потихоньку…
— Тебя бы не слушалась!
Новиков повел плечом.
— Хорош, хорош кормилец!.. — закончил осмотр геофизик. — Нутром его полюбуемся завтра с утречка! Верно, Слава?
Он обнял шофера за плечи и повел к стоящему в отдалении автобусу: За ними двинулись остальные.
— Мешок мой… — приостановил Пробоев Никодима.
— Пусть в вертолете переночует, ничего с ним не случится.
— Друзья! Сейчас, — начальник партии отвернул манжету рубахи, — сейчас восемнадцать часов пять минут… Никодим Саввич, гостя вы опять к себе забираете?.. Ясно! Час вам на акклиматизацию, а затем прошу всех ко мне отужинать! Заметано?.. Трогай, Слава!
Часам к девяти за потерявшим первоначальную привлекательность столом в доме начальника партии было шумно и накурено.
Пробоев, вдоволь отведавший и волнушек прошлогоднего засола, и жареных ранних подберезовиков — “колосовиков”, съевший гигантский кусок жирной, переперченной свинины и оттого мучимый жаждой, потягивал брусничный квас…
— Вы тут, Игорь Валентинович, только что с некоторым скептицизмом рассуждали о генной памяти, — вернулся вдруг к казавшемуся Пробоеву законченным разговору сидевший напротив Никодим. — Вот скажите тогда, откуда я знаю французский язык? А я его, поверьте, весьма прилично знаю, хотя никогда в жизни не учил, что тоже хорошо знаю… Во сне же мне порой занятная картина видится: окно полукруглое, за окном ветка вишни — то с ягодами спелыми, то в цвету, то в снегу, то в листьях пожелтевших, — у окна дама в белом парике и в белом платье, каких в наши дни не носят, — бонна не бонна, учительница не учительница, но только — я во сне понимаю — не мама моя… Мамы я, между прочим, не знал, не ведал: я ведь из подкидышей. Кстати, как и Никита… — Новиков кивнул на своего безразлично молчавшего рядом помощника. — Такой у нас сложился экипаж!..
Никита, не меняя выражения лица, негромко пробурчал:
— Не балуй, Никодим…
Никодим успокаивающе похлопал его по руке.
— О родословной моей я, естественно, никакого представления не имею, про сидящие во мне гены ничего предполагать не могу. Себя же лет с шести, с приюта, отлично помню: и в школе-интернате, и в авиационном училище английский язык учил. Ничему, конечно, не выучился, кроме как читать со словарем, но не о том сейчас разговор. Разговор — о французском, откуда я знаю французский?
Покуда Игорь Валентинович обдумывал, как бы поправдоподобней и поосновательней объяснить Никодиму неясную самому Пробоеву странность, вмешалась главный бухгалтер партии:
— Мне, знаете, тоже временами один сон снится: я — малышка совсем — лежу в кроватке, а надо мной — что бы вы думали? — счеты висят, и я не в игрушки какие-то, как все нормальные дети, играю, я костяшки двигаю, костяшками щелкаю — считаю что-то…
— Сколько мамочкиного молока высосала… Эх, бухгалтерия! — Никодим безнадежно махнул рукой…
Пробоев, стараясь не привлечь внимания, выбрался из-за стола и вышел на крыльцо. В темноте светились окна соседних домов, мигали, покачиваясь, редкие фонари единственной улицы поселка. Он сел на завалинку, приспустил узел галстука, посмотрел на небо в редких звездах. Западный, более светлый склон прочерчивали черной строкой непонятного письма вершины елок и сосен. Неподвижно висели синеватые облака…
Последним из необъятного брезентового мешка выкатился подержанный водолазный шлем.
— Ну, вроде все!
Игорь Валентинович отбросил мешок и начал разбирать образовавшуюся груду, раскладывая перед озадаченным Никодимом — на сиденьях и на полу вертолета ее содержимое: черный лоснящийся конькобежный костюм, устрашающего вида комплект одежды из тяжелой, просвинцованной ткани, какой-то — похожий на миноискатель — прибор, две пары диэлектрических перчаток, мегафон, гермошлем с наполовину вырезанным экраном, банки с бездымным порохом, целлофановые пакеты с камешками…
— Представляешь, сколько труда я положил, чтобы все раздобыть?! Набегался по знакомым, по знакомым знакомых!
— Растолкуйте наконец, зачем вам понадобилось тащить сюда это…
— Барахло?.. Нет, Никодим дорогой, не барахло! Сейчас поясню — передохну только! Присядем давай…
Долгих объяснений не потребовалось: приятно все же иметь дело с понимающим тебя человеком!.. Одно смущало Пробоева: затеей его Новиков не увлекся — тени сомнений набегали время от времени на лицо командира вертолета.
— Я все стороны задуманного изучил, Никодим, юридическую тоже. В Уголовном кодексе никакой статьи, ни прямой, ни косвенной, под которую бы наши действия можно было при желании подвести, нет! Не сомневайся, я очень внимательно прочел кодекс…
— Да я…
— И всего-то три — четыре вылета, всего три — четыре!.. А эффект какой будет, эффект представь! Зашумит дубравушка, заволнуется! Подумаю, что за болтология пойдет, — дух захватывает! А мы подождем, а мы послушаем, почитаем! Выберем момент и — бац! По усам, по усам! Надолго кое-кому отобьем охоту тень на плетень наводить! Догола разденем! Постоят у нас голубчики на публичном обозрении, потопчутся, ладошками стыд свой прикрывая… Что, не пойму, тебя смущает?! Мы ведь не для себя — мы на благо науки, во имя истины! Что наш лидер идейный говорит? “Не доказано — не истина! — говорит. — Мне, — говорит, — подсовывают всякие сказки о пришельцах и НЛО, а я в ответ одного прошу: покажите! Не могут показать! Вот пусть эти НЛО сядут на крышу Академии наук, пусть — кто там в них прилетит — ко мне в кабинет явится, тогда лишь поверю!” Чувствуешь, Никодим? Пока не доказано обратное истина на нашей стороне! А истину защищать надо!
— Пожалуй… Будем защищать.
— Это уже деловой разговор!
Пробоев поднял с полу мешок.
— Над вещичками привезенными я еще чуток поколдую, есть кое-какие мыслишки, рацпредложения, так сказать. С вещичками полный ажур будет, а вот что делать с твоим помощником? Без него, я понимаю, нам не обойтись, а лишнего…
— За Никиту не беспокойтесь, Никиту я беру на себя.
— Тогда… Тогда — все отлично! На окончательную подготовку дней трех, думаю, достаточно будет… Планируй, Никодимушка, первый вылет!
И Пробоев начал складывать в мешок свой необычный реквизит.
Рыжая проплешина, с которой начиналось очередное наступление лесозаготовителей на тайгу, была окаймлена могучим валом вывороченных пней, обрубленных веток и содранного дерна.
Брошенный с вечера бульдозер, успевший за ночь остыть и покрыться каплями росы, поблескивавшей в лучах щурящегося над гребнем леса солнца, ждал на проплешине своих хозяев. Ждал их, однако, не только бульдозер…
Пробоев вытряхнул из банки остатки пороха в оконтуривающую борозду круга, условно им названного “стартовым”, распаковал переданный Никодимом целлофановый пакет и разбросал по земле окатыши керамзита. Место для круга было выбрано на площадке, может вчера лишь оголенной ножом бульдозера, подальше и от самого бульдозера, и от чащи деревьев: ни подпалить невзначай тайгу, ни загубить технику лесозаготовителей в намерения Пробоева и Никодима не входило.
Они присели отдохнуть. Вертолет стоял на краю поляны. На фоне торчащих корней и стволов деревьев очертания его казались особенно причудливыми. В кабине Никита отсыпался за троих сразу: вылетели они с базы партии перед рассветом, чтобы успеть к началу рабочего дня геологов воротиться.
Вырубку эту Новиков присмотрел во время съемочных полетов. Выслушав его соображения, Игорь Валентинович не стал даже напрашиваться слетать на разведку, полностью доверившись вертолетчику.
Сейчас Никодим сидел рядом в плотно облегающем его тело костюме конькобежца-скорохода, облокотившись на гермошлем, лежащий на коленях, и подперев ладонью подбородок. Выглядел он эффектно! Сам Пробоев маялся от жары в наряде из просвинцованной ткани; водолазный шлем, к которому он успел вчера вечером приладить усы комнатной телевизионной антенны, стоял у него в ногах…
Со стороны дороги, ведущей к вырубке, послышались голоса.
— Идут! — поднял руку Пробоев.
Никодим побежал к вертолету — разбудить Никиту, велеть быть наготове.
“А он говорит: дай ружье, на уток хочу, мол, сходить!” — “А ты?” — “А я говорю: не дам! Разве не знаешь, говорю, что даже наилучшему другу никогда не доверяют двух вещей: ружья и…”
Пробоев надел шлем, включил висящий на груди мегафон, увидел, что Никодим — тоже уже в шлеме — идет к нему, потряхивая похожим на миноискатель прибором, и шагнул навстречу совсем близким голосам.
Двое мужиков — солидный (видимо, бульдозерист) и молодой, еще неоперившийся, — шедшие по обочине глубокой тракторной колеи, появились на открытом пространстве вырубки.
Оказавшись в поле их видимости, Пробоев торжественно воздел над головой руку в диэлектрической перчатке.
Мужики остановились одновременно. Округлившиеся глаза их забегали, взгляды заметались между фигурами Пробоева, Никодима и вертолетом… Несколько мгновений длилась общая напряженная неподвижность, потом, не издав ни звука, механизаторы пустились наутек.
Спохватившись, Игорь Валентинович поднес мегафон к специально сделанной им в шлеме прорези и заговорил “механическим” голосом:
— Ува-жа-емы-е зем-ля-не! Ува-жа-емы-е зем-ля-не! Ос-та-но-ви-тесь! Мы при-бы-ли к вам для пер-во-го кон-так-та! Ос-та-но-ви-тесь!
Куда там! Через минуту беглецы пропали за деревьями.
Сняв шлемы, Пробоев и Никодим расхохотались.
— Все, Никодим, сматываемся! Запускайте с Никитой вертолет…
Он достал спички, подошел к “стартовому” кругу, поджег запальную дорожку. Пламя взметнулось и почти сразу погасло, оставив на земле отчетливые следы концентрических окружностей, по которым был отсыпан порох.
Убедившись, что никакой опасности возникновения пожара нет, Пробоев заспешил к вертолету. Винт вертолета делал первые медленные обороты…
Времени полета до базы партии Игорю Валентиновичу едва хватило, чтобы успеть переодеться, спрятать в мешок свой и Никодимов костюмы, мегафон, “миноискатель”, затолкать мешок под сиденья.
Геофизики во главе со своим шефом уже собрались возле посадочной площадки.
Никодим, не глуша двигатель, высадил Пробоева, взял на борт операторов и снова взмыл в небо.
Георгий Константинович, проконтролировавший вылет, подхватил Пробоева под локоть.
— На нашу историческую точку слетали, Игорь Валентинович?
— Угу…
— Жалеете небось впустую потраченное утро? Да… Я тоже летал туда разок. Подумать только: никаких следов не осталось — дожди, снега, ветры да туристы все подчистую подлизнули! Главным образом туристы постарались! Их по первое лето видимо-невидимо там перебывало. Табунами шли! Кхе-кхе-кхе!..
Они дошли до конторы партии.
— Ну, пора мне и бумажками пошелестеть. А вам отдохнуть надо: встали-то, чай, ни свет ни заря! — Георгий Константинович поднялся на крыльцо.
— Да, поспать часика два не помешает…
Они посадили вертолет на поляне у поворота глухой дороги, ведущей на дальнюю делянку — к избе лесника. Знающий местные порядки Никодим не случайно выбрал из недели пятницу: по пятницам к леснику приезжал на мотоцикле почтальон.
Это была их третья мистификация… После “обработки” лесозаготовителей попробовали “войти в контакт” с женщинами… Пробоев и теперь еще мучился угрызениями совести, вспоминая, как женщины бежали от них — немолодые, заезженные нелегким крестьянским трудом, — бежали, побросав вилы и грабли, повизгивая, постанывая, охая и причитая, оступались и падали, всплескивая подолами юбок…
Женщины шли стоговать сено, сушившееся на пойменном лугу, — впятером по берегу речки, рассуждая о том, много ли нынче будет брусники и почем сей год станут ее закупать (и станут ли вообще) работники коопторга…
Глядя тогда на их паническое бегство, Пробоев ничего “вещать” через мегафон не стал, понимая, что все равно они не услышат, и усомнился даже: за кого, в общем-то, женщины их приняли? Не за чертей ли? Никодим, во всяком случае, в своей черной спортформе за такового вполне мог сойти…
Идея Никодима насчет почтальона пришлась по душе Пробоеву по двум соображениям: во-первых, никто лучше не мог бы разнести по округе и за ее пределы “сенсацию”; во-вторых, почтальон — это все же не женщины, с почтальоном шутки шутить… этичнее. Тем более парень он якобы крепкий, уравновешенный, общественник…
— Мне наш главный геофизик забавную историю рассказал как-то, Игорь Валентинович, не знаю, правда или нет…
Они сидели на недавно поваленной, вероятно — лесником на дрова, сухой сосне, прислушиваясь, не затарахтит ли мотоцикл. Никита, по обыкновению, спал в вертолете.
— В начале двадцатых годов нынешнего столетия, говорит, когда радио завоевывало мир и все старались иметь у себя какой ни на есть приемник, в эфире стали вдруг периодически появляться странные сигналы, разгадать которые тщетно пытались ученые всей нашей планеты. Всевозможные высказывались предположения, но наибольшим успехом пользовалась версия, что это — сигналы с Марса: тамошняя цивилизация, дескать, шлет на Землю свои позывные… Когда же страсти накалились так, что плюнь — зашипит, в какой-то газете выплыло сообщение одной американской фирмы, изготовлявшей галоши: таинственные сигналы в эфире — ее, мол, штучки. Спрос на галоши катастрофически падал, фирма прогорала и решила таким образом обратить на себя внимание, сделать рекламу…
— Ты хочешь сказать — не мы с тобой первые… экспериментируем?
— Да нет, ничего такого я в виду не имею.
— И помогла “марсианская” реклама фирме?
— Об этом геофизик умолчал, — может, не знает. Он ведь тоже с чужих слов мне рассказывал… Зато уверял, что именно сия история — не галоши, конечно, а сигналы — натолкнула жившего тогда в Берлине Алексея Толстого на мысль написать “Аэлиту”.
— За одно это фирме большое спасибо надо сказать! “Аэлита” — прекрасная кни…
— Тише, Игорь Валентинович! Мотоцикл вроде…
Пробоев прислушался.
— Стрекочет… Ну что ж, так сказать, по местам и к бою!
Надевая шлемы, они поднялись с сосны…
Вылетев из-за поворота и увидав “пришельцев”, почтальон резко нажал на педаль тормоза; при этом он, наверное, “заблудился” в ручках газа и сцепления: мотоцикл чихнул и заглох.
После короткого замешательства парень лихо скатапультировал из седла и стал поспешно разворачивать своего мотоконя, одновременно пытаясь крутануть ногой стартер.
— Ува-жае-мый зем-ля-нин! — начал Пробоев.
Мотоцикл не заводился. Почтальону явно было жаль бросить красавицу “Яву” на произвол судьбы, он старался изо всех сил — расторопно и истово. Но и за этой возней смысл звучавших из мегафона слов о желании “инопланетян” вступить в контакт с первым встреченным ими человеком дошел, видимо, до его сознания. Почтальон вдруг прекратил суетиться, поставил мотоцикл на подножку, стащил с лица защитные очки, снял шлем, бросил очки в шлем и повесил его на руль. Вытерев рукавом пот со лба, причесался, глядясь в зеркало заднего вида, стряхнул с брюк пыль и решительным шагом направился в сторону “пришельцев”.
Пробоев, растерянно замолчав, посмотрел на Никодима.
Приближаясь, парень перешел на чеканный шаг — чувствовалось, что в армии по строевой подготовке у него было не иначе как “отлично”.
Игорь Валентинович, щелкая зачем-то выключателем мегафона, продолжал безмолвно взывать к Никодиму… И тогда Новиков, выступив навстречу отважному представителю Земли, стал пристально смотреть ему в лицо. Под этим взглядом глаза парня заюлили, затуманились; шаг его сбился, сделался неуверенным; наконец, почтальон остановился, пьяно покачиваясь, хотел что-то произнести, но лишь замычал и свалился в траву, раскинув руки, так и не ощутившие дружеского пожатия “братьев по разуму”…
— Ступайте к вертолету! Это у него не надолго! — Никодим дергал оцепеневшего Пробоева за рукав балахона. — Давай мотор, Никита!
Никодим запалил “стартовый” круг и, когда порох сгорел, затоптал редкие синеватые язычки; потом подошел к распростертому парню, уложил его поудобнее, шутливо щелкнул по носу и тоже побежал к вертолету, из открытой двери которого нетерпеливо выглядывал уже несколько пришедший в себя Пробоев…
Посадочная площадка пустовала: вылет геофизиков на сегодня не планировался, по графику вертолетчикам надлежало заниматься профилактикой машины.
Они спокойно приземлились и закрепили вертолет на растяжках. Никита начал копаться в моторе, а Пробоев с Никодимом сидели в салоне, попивая из пластмассовых чашек крепкий чай, ни на градус, казалось, не успевший остыть в термосе со вчерашнего вечера.
— Как же ты сумел в нокаут-то положить бедолагу? Почище, чем кулаком!
— Немного гипноза, Игорь Валентинович…
— Гипноз… Не знал я таких способностей за тобой! Что бы мы делали, не будь твоего гипноза?!
— Придумали бы! Сказали бы, например, что какие-нибудь хитрые пробы почвы или воздуха берем, потому и одеты соответственно, и…
— А речь моя по этой штуковине? — Пробоев ткнул носком сапога лежащий на полу мегафон.
— Подурачиться, мол, решили.
— Подурачиться! Нет, Никодимушка, дело могло так обернуться, что и все предыдущие наши труды пошли бы насмарку! Парень попался серьезный: услыхал бы потом о наших проделках с лесозаготовителями да с женским контингентом здешних мест, соотнес со своим случаем — вот тебе и досрочное разоблачение, шиш вместо сенсации!
Пробоев подлил в чашки.
— Я думаю, Никодим, пора заканчивать! Шумнули мы хорошо, рисковать больше не стоит.
Никодим развел руками: воля хозяйская.
— Словом, соберу-ка я манатки да подамся до дому!
— Когда думаете отчаливать?
— Да чем скорее, тем лучше, сам понимаешь…
— Конечно. Тогда, как говорится, куй железо… Никита! Никита!
— Что стряслось? — Никита просунул голову в салон.
— Не усердствуй с мотором, брат, по мелочи покопайся — и хорош! Через час полетим в Петрозаводск. Там и профилактику сделаем, и ремонт необходимый. И груз какой-то, сказывали, в аэропорту для партии лежит — захватим на обратном пути. В воскресенье к вечеру вернемся… С начальником и главным геофизиком я обо всем договорюсь, Игорь Валентинович! Шагайте домой, укладывайте пожитки…
В аэропорту Петрозаводска было солнечно и безветренно.
— Ну, Никита, до свидания! Удачно тебе летать!
— Может, помочь поднести… вещички-то?
— Не надо, управимся!
— До свидания, Игорь Валентинович!..
Пробоев с Никодимом взяли за углы мешок с “космическим” реквизитом и пошли к ангару — к заждавшемуся хозяина “Запорожцу”.
Когда четверть часа назад они пролетали над Онежским озером, Игорь Валентинович подумал было, не сбросить ли мешок за борт, в полном соответствии с поговоркой “…и концы в воду!”, но моментально неумную мысль отверг: реквизит мог пригодиться! Напротив, его непременно следовало сохранить! Главные события впереди! Может случиться, что придет нужда пустить в ход вещественные доказательства. “Уважаемые очевидцы! Не в этих ли костюмах представали пред ваши очи пришельцы? Не в этом ли шлеме был один, не в том ли другой?..” Пригодиться могут вещички!..
Они засунули мешок в багажник “Запорожца”. Пробоев завел двигатель, поставил на малые обороты, протер лобовое и заднее стекло.
— Что ж, Никодим, будем прощаться?
— Счастливо вам, благополучной дороги!
— Спасибо, за все спасибо!
— Не стоит… — Никодим вдруг помрачнел и отвел глаза. — Я только… Я вам хотел… В общем, если что, вы на меня не обижайтесь, Игорь Валентинович: мое дело — наблюдай-докладывай…
— О чем ты?
— Ни о чем… Ни о чем! Взгрустнулось на разлуку…
— Мне тоже жаль с тобой расставаться. Живы будем — свидимся, глядишь! Давай лапу!
Дождей и здесь, пожалуй, давно не было. “Запорожец” на сухом покрытии легко слушался руля, наматывая километры на передние колеса и синхронно сматывая с задних.
Поначалу из головы Пробоева не выходили непонятные слова Никодима “наблюдай-докладывай”… Что он все-таки имел в виду? Не служебные ли неприятности, которые могут ожидать командира вертолета после того, как Пробоев откроет карты, пояснит обстоятельства появления в карельских лесах “пришельцев”? Вполне возможно… С Пробоева какой спрос? Пробоев — лицо, в общем-то, частное, а Никодим… Никодим был при исполнении. Кто знает, что в его должностных инструкциях понаписано!.. Но при чем тут “наблюдай-докладывай”?
Игорь Валентинович так и не нашел приемлемого объяснения смысла Никодимовых слов и постарался о них забыть…
Успокоенный видом мелькающих за окнами валунов и сосен, чередующихся речек и озер, он сбавил скорость, перехватил поудобнее руль, откашлялся и сперва негромко, затем уверенней и уверенней — запел: “Куда, куда вы удалились…”
…В полдень следующего дня он прибыл домой. Как и следовало ожидать, квартира пустовала: жена — на работе, дети… детей вообще в городе не должно было быть. У детей в его отсутствие начался летний студенческий семестр: сын — на производственной практике, дочь — в совхозе…
Игорь Валентинович принял ванну, пообедал, просмотрел скудную почту, почитал скопившиеся газеты. Он никому не стал звонить, и ему никто не позвонил. Последнее было вполне естественно: друзья-приятели знали, что вернуться он должен позднее примерно на неделю.
К вечеру дорожная усталость стала сказываться, заниматься ничем не хотелось, и спать они с женой легли раньше обычного.
Утром… утром…
III
Пробоев замотал головой, пытаясь вытряхнуть из глубин памяти хоть какие-то крохи вчерашнего дня, обрывок какого-нибудь эпизода восстановить, миг короткий просветлить. Напрасно! Вчерашнего дня по-прежнему словно не существовало…
Река у ног продолжала ластиться к покрытому зеленой тиной граниту, бутылку из-под “Лесного” лимонада, наверное, унесло течением.
Проклятый вчерашний день! Куда ты провалился?!
— Игорь! Игорь, стой! Вернись сейчас же! Игорь!
Пронзительный женский голос обрушился внезапно из-за парапета, и в затылке у Пробоева вдруг нестерпимо заныло. Этот голос!..
Было такое ощущение, будто в череп с огромной скоростью вворачивают сотню шурупов — глубже и глубже… Голос этот! Слова!
По ступенькам к Пробоеву спускался бочком карапуз. Останавливаясь на каждой ступеньке, он успевал, прежде чем поставить ногу на следующую, лизнуть тающее в ладонях мороженое и довольно ухмыльнуться.
Запыхавшаяся дама, цокая по граниту каблуками, догнала мальчонку, схватила за руку, поддала по попе и потащила наверх.
Голос!.. Да, да, да! Так кричала его жена… вчера кричала…
Боль внезапно прошла, и в памяти наконец-то начал оживать вчерашний вечер, из всего дня — только вечер. И по мере того как он оживал в подробностях, в груди Пробоева мертвела опаляемая ужасом душа…
Домой он пришел откуда-то поздно. Жена, лежа на тахте, смотрела телевизор.
— Есть будешь? — спросила она, не поворачивая головы.
— Неохота, — ответил он и, присев у нее в ногах, тоже уставился на экран.
Транслировали концерт эстрадной песни. Такие передачи он смотреть любил, трезво отдавая себе отчет, почему любит: чувство собственного “вокального” превосходства над шептунами-хрипунами, отчаянно насилующими микрофон, с лихвой окупало последующие сожаления о напрасно загубленном времени.
— Ты почему не раздеваешься? — посмотрела на него жена. — Ни башмаки, ни пиджак не снял…
— Погоди, дай дослушать этого кудрявого!
Но слушалось плохо: что-то мешало, сбивало с привычного иронического настроя, беспокоило…
С грустью, невесть откуда взявшейся, он осмотрел комнату, подолгу останавливаясь взглядом на примелькавшихся, обычно не замечаемых предметах обстановки, пожалел, что нет рядом детей…
С детьми все же веселей! Шумнее, теснее, а веселей… Сын скоро женится все признаки налицо: и разговоры телефонные пониженным голосом, и возвращения домой за полночь… Да, совсем будет негде повернуться в квартире! Надо все-таки зайти — будешь в Доме писателя — к литначальству, поговорить еще разок о своих жилищных делах. Земные проблемы порой куда трудней решаются, чем твои “вселенские”, будь они неладны!..
Игорь Валентинович скосил глаза на жену.
Хорошая она у тебя все же, хорошая… И ребятами славными наградила… А что иногда скандалите, так живет ли кто без этого?! Семья есть семья. Вся твоя жизнь — для семьи, суета, мельтешение — во имя ее. Семейные узы.
…Как-то сын спросил: “Ты, папа, никогда не пытался подсчитать, сколько уже накопилось всевозможных фактов и явлений, с которыми сталкивалось и сталкивается человечество и которых оно, при всех сегодняшних знаниях, не может толково объяснить? Я тоже не подсчитывал, но согласись: очень много! Не пора ли количеству перейти в качество? Стоит ведь сделать одно — два тобой же, кстати, категорически отвергаемых допущения, и в мгновение ока “шкатулка загадочных случаев” опустеет…” Он тогда отмахнулся: отмахнуться проще всего…
— Что это у него так лицо перекосилось? — шевельнулась уснувшая, казалось, жена и кивнула на экран телевизора.
— Не знаю, сейчас поправлю.
Он начал крутить ручки настройки, ни с того ни с сего занервничал, чуть не опрокинул чертов ящик — и тут услышал задребезжавший в прихожей звонок.
— Куда ты, Игорь?
— Звонит кто-то.
— Никакого звонка не было!
— Я еще не глухой, дорогая!
Его непреодолимо тянуло в прихожую.
— Игорь! Игорь, стой! Вернись сейчас же! Игорь!..
Не спрашивая, кто там, Пробоев открыл дверь и вышел на площадку. Лампочка почему-то не горела, но и в полумраке он без труда узнал стоявшего перед ним…
— Ни-ко-дим! Здорово, Никодим!.. А жена говорит — никакого звонка не было! Заходи, Никодимушка, что ты мнешься!
— Я не один, Игорь Валентинович…
— Всем места хватит! Твои друзья для меня желанные гости!
Никодим действительно был не один. В углу площадки матово светилась фигура, похожая, как мельком подумалось Игорю Валентиновичу, на статую пушкинского Командора из недавно показанного по телевизору фильма.
— Мы, Игорь Валентинович, не в гости. Мы скорее наоборот — вас в гости пригласить… — Никодим покосился на лестничное окно.
Пробоев посмотрел туда же и присвистнул: за распахнутой рамой висела, протянув к подоконнику серебристую дорожку луча, та самая мифическая “летающая тарелочка”, сто раз им осмеянная, никем — он никогда не сомневался — не виденная, но всеми такой именно и представляемая по описаниям “очевидцев”…
— Да, пригласить немного у нас погостить, — раздался из угла лестничной площадки вибрирующий голос. — Лучше один раз своими глазами… — “Командор” шагнул к Пробоеву и положил ему руку на плечо…
Больше Игорь Валентинович, как ни мучился, ничего вспомнить не мог. За крыши домов на том берегу реки в безоблачном небе садилось желто-красное солнце XXI века, обещая на завтра хорошую погоду.
“Господи! На что мне она — хорошая?! Любая — на что-о-о?!”
Борис Романовский Преступление в медовом раю
Багровое солнце уже совсем выползло из-за вершин леса-урода. Его лучи окрасили испарения ядовитых болот лиловыми переливами и осветили картину тяжелой и жестокой битвы. Над трупами убитых поднимался пар, если смотреть прямо через фильтры шлемов — обычный белый, а если, приподняв плечи и втянув голову, под фильтрами — то зловещий малиновый. Уже около часа семеро космонавтов в тяжелых скафандрах вели изнурительный бой.
Последние две гадины с зелеными, в отвратительных гнилых пятнах, шкурами были срезаны Юттой. Твари с воем рухнули на кучу тел, с хрипом и визгами извивающихся в предсмертных муках. Из-под шевелящейся груды растекалась желтовато-зеленая лужица.
Хотелось вытереть пот со лба и шеи, он затекал в глаза и на губы, щекотал спину и виски, но поднять шлем было нельзя. “Внимание! — раздался в шлемофонах бас Рэда Селинджера. — Внимание, сзади!”
Десантники круто развернулись. Это было так тяжело всем семерым, бой шел уже давно, а гравитация составляла “2g”. Они выбились из сил.
— Рэд, прикрой нам спины! — Это кричал Эррера Мартин, начальник отряда.
А в шлемофонах опять глухо забормотал голос Тома Гаррисона, в который раз декламирующего обрывок детского стишка: “…Мы не сеем и не пашем, рыбы в море не берем…” — дальше Том не помнил.
Из-за леса красных кактусов с кривыми стволами и каких-то шевелящихся деревьев с щупальцами на ветвях летела стая крылатых демонов. Можно было различить жуткие морды с круглыми, малоподвижными глазами, огромными, причудливыми, в кокетливых фестонах ушами и извивающимися хоботами не то с клювами, не то с крючками на концах. Чудовища, по-видимому, издавали ультразвуки, так как члены отряда чувствовали какое-то раздражение и даже небольшую головную боль.
Первым выстрелил Антуан Пуйярд. Промахнулся и шумно засопел. Демоны были еще далеко и летели врассыпную. Жена Антуана, Жаннет, поискала глазами, нашла вырвавшуюся вперед тварь и полоснула лучом.
— Раз, — выдохнула она.
Стая растянулась дугой, окружая людей. В воздухе нависал шум от треска крыльев и крика, похожего одновременно на карканье ворон и на хриплое кваканье каких-то огромных лягушек.
— Занимаем круговую оборону!
Эррера срезал еще двух, Ютта одну тварь, оторвавшуюся слева от группы. Наконец и Антуан прикончил одну химеру, летевшую на него с кваканьем. Осталось штук двадцать, и они были очень близко. Приходилось крутиться, и женщины начали слабеть. Даже у мужчин от усталости и перегрузки дрожали ноги.
— Ютта, не считай ворон! Они над нами! — прохрипел Эррера.
— Два. — Это Жаннет провела лучом, и животное, чуть не задев их, рухнуло на землю.
— Молодец, Жаннет! Я тебе сегодня синтезирую шоколадку с начинкой величиной с дра-ко-на! — крикнул Эррера, срезая еще двух тварей.
Гаррисон сделал второй удачный выстрел. У него вообще “был точный глаз и верная рука”, как любили говаривать герои старых вестернов.
— Они отступили! — устало сказал Том. — Отдыхать.
— Нет. Отдыхать не выйдет, — покачал шлемом Мзия. — Они просто меняют тактику.
— Ишь ты! — восхитился Том. — Перестраиваются, смотрите, дети, они перестраиваются… Классическими клиньями… Прямо псы-рыцари из кровавой феерии “Ледовое побо…”
— Том, помолчи! Ты, Рэд и Мзия отойдите влево на два шага. Жаннет, Антуан, Ютта и я — вправо на три и кругом! Они будут атаковать клиньями с двух сторон.
Действительно, два клина по восемь тварей в каждом молча атаковали слева и справа. Они стремительно неслись к земле, пытаясь прорваться на большой скорости. Однако рассредоточение людей сбило, видимо, животных с толку, клинья замедлили скорость и рассыпались.
— Три, — меланхолично подсчитала Жаннет.
— Четыре, Жаннет. Дарю тебе этого. — Антуан был галантным мужем.
— Четыре и пять. Сама набью. — Она была самолюбива.
У других шло не хуже. Через десять минут две оставшиеся твари спасались за красным лесом.
— Полетели за помощью, — мрачно предположил Рэд.
— Может быть. — Эррера рассматривал индикатор заряда на пистолете. — Ребята, у меня энергии на три минуты действия. Как у остальных?
Но ответить никто не успел.
“Бой окончен, — раздался в шлемофонах механический голос. — Атаки отражены успешно. Один из десантников убит. Все свободны”.
— Убит так убит, — недовольно пробормотал Рэд Селинджер и пошел к лесу прямо через груды поверженных врагов. Остальные потянулись за ним. Шли, перешагивая через трупы, стараясь не наступить в лужицу крови или слизи. Над лесом загорелось красное табло — “Выход”.
— Убрать трупы! — весело приказал Эррера и сам же выполнил свой приказ: поднял руку влево от двери — и лес, подыхающие животные и ядовитая трава исчезли. Остался отрезок корабельного коридора, ограниченный двумя поперечными дверями. Люди вышли из импровизированного зала через услужливо отодвинувшуюся перед ними дверь.
Помещение, куда они попали, служило тамбуром для перехода в раздевалку. Тренировочные стрельбы, так они назывались на корабле, происходили в помещении, заполненном усыпляющим газом. Это делалось для того, чтобы участники тренировки не снимали шлемов, соблазн иногда был большой.
Места для семерых было мало, и стояли тесно. В тяжелых скафандрах они казались громоздкими и бесформенными, хотя, присмотревшись, можно было понять, что народ здесь собрался в основном рослый и сухопарый. Человечество научилось, наконец, растить красивых, стройных детей.
Минут пять они постояли в тамбуре, ожидая, пока насосы откачают прорвавшийся за ними усыпляющий газ. Когда же загорелось зеленое табло, разрешающее выход, Эррера Мартин, командир группы, маленький человечек со смуглой кожей и немного крючковатым носом, отодвинул плечом стоящего рядом гиганта и, иронически чему-то улыбнувшись, пропустил вперед Ютту Торгейссон. Затем и остальные толпой вышли в раздевалку.
— Никогда я не привыкну к потере чувства времени! — сокрушенно сказал Эррера, трясущимися от усталости руками снимая с себя шлем. — Мне казалось, что прошло часа три, а на самом деле — пятьдесят две минуты!
— Темп! — отозвался Антуан. — Темп существования сумасшедший. За пятьдесят две минуты столько действия, что рассказывать потом можно часов пять.
— Все-таки этот парень… — Рэд Селинджер покрутил пальцем у виска, он тоже успел снять шлем. — Псих он!
— Какой парень, Крошка? — Эррера вытирал полотенцем совершенно мокрое лицо, смуглое, точно покрытое загаром.
— Этот. Ван Риксберг, художник!
— Ты прав, Крошка, — отозвался Антуан, высокий мужчина с розовой кожей, какая чаще всего бывает у рыжеволосых людей. Его серые глаза, казалось, потухли от усталости. Он сидел, уронив руки на колени, без шлема, но еще в костюме. — Я слышал, что его долго лечили. Злые языки говорили, что от гениальности!
— Недолечили, — мрачно констатировал Рэд. — Разве здоровому человеку придет в голову такая нечисть? Кошмар какой-то!
— Да-да, — задумчиво протянула Ютта. Она успела снять тяжелый скафандр и теперь полулежала в кресле, одетая в легкий, нижний комбинезон. Даже в форме она была прелестна. Мулаткам идет серебристо-голубое. — И заметьте, мальчики, два года тренировок, а этот бред ни разу не повторился! Какое нужно воображение!
— Мне говорили осведомленные люди, — солидно произнес Антуан, — что Ван Риксберг несколько месяцев просидел в библиотеке — просматривал наследие художников прошлого: Лукаса Кранаха, Дюрера, Босха, Брейгеля, Ропса, Замирайло, Сальватора Дали, Жентецкого, Крумеля и других. Наши предки любили ужасы. Например, первых сегодняшних драконов я видел на старинных китайских фарфоровых вазах. Традиционный народный мотив.
Антуан Пуйярд был эрудитом.
— Я видел книги, описывающие старинные африканские культы, — сказал Эррера. — И латиноамериканские, и еще какие-то первобытные. Кое-что, по-моему, он почерпнул и оттуда.
— К сожалению, люди перестали читать. Человек, прочитавший восемьдесят — сто наименований, может считать себя культурным. Все смотрят телевизоры, — неодобрительно сказал Антуан.
— Ну и что в этом плохого? — обидчиво спросил Том. Он любил многосерийные телевизионные фильмы.
— А то, — высокомерно произнес Пуйярд, — что люди перестали тренировать воображение, и оно стало самым редким товаром на рынке.
— Много тебе даст твое воображение, когда налетят такие твари, как сегодня, — сказал Том. — Вот, что нужнее сейчас и тебе, Антуан, и всем нам! — И Гаррисон покрутил пистолетом перед носом Пуйярда, не снимая пальца с пусковой кнопки.
— Осторожнее, ты, англичанин! — крикнул Эррера. — Там же еще есть заряд!
Молодой человек действительно был из Уэльса, маленького района на не слишком большом, но знаменитом острове, буквально набитом историческими памятниками. Все считали Тома настоящим англичанином, хотя как должен был выглядеть настоящий англичанин, никто не знал. Гаррисон был высок и сухощавее других, рыжеватый блондин с голубыми глазами. На его лице царил, заглушая все краски, нежно-розовый румянец. Сейчас, когда он получил замечание от офицера, румянец сгустился до багрового и залил все лицо до шеи. Он был очень молод и чувствителен, этот Том Гаррисон, пилот, электронщик и мастер на все руки.
— Меня очень тревожит мысль, что у нас всех вырабатывается психологическая реакция отвечать на всякое внешнее раздражение лучом. Стереотип — чуть что, автоматически стреляй.
— Ты нам бубнишь об этом с первого дня полета, Эррера, — недовольно сказал Гаррисон. — Но должны же мы тренироваться, когда-то ведь придется и стрелять! Однако мы — мыслящие люди… Мы не автоматы для стрельбы, как ты пытаешься нам доказать…
— Слишком долго мы стреляем! — грустно покачал головой капитан. — Не оказалась бы привычка сильнее нас.
— Брось эти мысли, Мартин! Мы прекрасно помним, что “разумные существа могут иметь самый отталкивающий для земного человека вид”… — улыбнулась Ютта.
Все засмеялись — она цитировала самого Эрреру.
— Ладно, — Рэд всегда вносил мир и спокойствие в бурные подчас споры, — читаем мы книги или не читаем, в настоящий момент непринципиально. А вот тренировку, по милости Ван Риксберга, мы имеем уникальную. Я такого насмотрелся за эти два года… Противнее быть не может!
— Ты прав, — нехотя сказал Эррера. — Мы готовы отразить нападение любого живого существа… И даже хищного леса!
— У меня начинается нервный смех, когда я вспоминаю гигантского червя… помните, мы его назвали бородавочником. Нет, ребенок все понимает правильно. — Нам не помешает умение быстро и точно стрелять. А без тренировок это невозможно!
— Кстати, шеф, — ввязалась в разговор Жаннет, — наш стрелковый ресурс невелик. Всего двадцать минут непрерывного действия.
— Правильно, Жаннет! Эррера, почему сняли у нас с вооружения РРГ? — спросил Рэд. — Тридцать пять минут форсированного огня, слона режет пополам со скоростью прохождения луча двадцать метров в секунду! И вдруг меняют на эту игрушку РРГМ!
— Сколько времени ты выдержал бы в руке РРГ при перегрузке в два “g”?
— Не знаю. Минут двадцать!
— А Мзия?
— Сдаюсь!
— При высадке все получите по два пистолета РРГМ, а тебе, если хочешь, подвесим два РРГ.
— Идет! Ими можно скалы взрывать…
— А кто сегодня погиб? — перебил его Том. — Опять я?
— М.Коберидзе, — отозвалась Жаннет.
— Снова? — Рэд строго уставился на Мзию. Его лицо с перебитым носом, который он упорно отказывался “реставрировать”, холодными серо-стальными глазами навыкате, глазами боксера-профессионала, несмотря на такой набор внешних качеств, оставалось добрым.
— Крошка, две твари напали на тебя и на нее, когда ты защищал наш тыл, — объяснил Эррера. — Я видел, как она срезала твою скотину, а вторая ударила ее клювом.
Кроме Рэда, все уже полулежали в креслах. Мзия откликнулась из глубины своего мягкого гнезда:
— Сядь, Рэд! Это же только тренировка!
Селинджер наконец сел. Еще три года назад двухметровый гигант завоевал свою последнюю золотую медаль на всемирных соревнованиях по боксу. Среди своих товарищей он казался грузным, чересчур массивным. Как большинство сильных и больших людей, он был очень добрым и спокойным человеком. Он брил волосы на голове, потому что стеснялся намечающейся лысины, а к косметологам не ходил, считая их “тоже врачами”. Врачей же он не признавал, наверное, потому, что никогда в них не нуждался. В бою он был необычайно подвижен, имел точную реакцию, но в повседневной жизни оставался лентяем. Мзия его звала “ленивец”, и это прозвище ему чрезвычайно шло. Где бы Рэд ни находился, рядом с ним была Мзия. Самая маленькая из десантников, не больше метра семидесяти пяти сантиметров. Тем, кто когда-нибудь видел старинные персидские миниатюры, Мзия больше всего напомнила бы персиянку. Большие миндалевидные глаза, черные, с антрацитовым блеском и потоки черных волос, выскальзывавших из любой прически. Когда Рэд ее впервые увидел, первое, что он сказал было: “Какое богатство!” Он машинально погладил себя по голове при этом и густо покраснел.
Любимой угрозой Мзии было очередное заявление о том, что она острижет волосы: перед отлетом, перед началом тренировок, перед посадкой и так далее. Великан тревожился и сердился, и Эррере иногда казалось, что Рэд раздельно и одинаково любит и Мзию и ее волосы.
— Поплавать бы сейчас в невесомости, — мечтательно сказала Жаннет, разглядывая свои трясущиеся руки со вздувшимися голубыми венами. Впрочем, вены набухли у всех.
— Нет, ребята, — Эррера покачал головой. — Нельзя. Сейчас мыться и спать! Потом небольшая стимуляция и подзарядка, чистка оружия и осмотр Вечером же у нас праздник.
— Праздник! Верно ведь, праздник! — захлопала в ладоши Ютта. Она была удивительно хороша, когда смеялась. Ослепительно белые зубы ярко выделялись на фоне светло-шоколадной кожи. Ютта была дочерью норвежца и женщины-банту. Кареглазая мулатка с австралийского шельфа.
Внезапно растворилась дверь, она вскочила с кресла и побежала в душевую. Десантники потянулись за ней по своим кабинкам. Когда помещение опустело, Рэд встал, вынул Мзию из кресла, потом, держа ее на руках, зарылся лицом в волосы и поцеловал.
— Щекотно, — прошептала она, закрыв глаза, и вздохнула.
Бал начался в семь часов по Гринвичу. Гости, они же хозяева, являлись парами, кроме капитана, огромного, не меньше Селинджера, японца Кэндзибуро Смита. Капитан был человеком пожилым, последние десять лет жену в полеты не брал, остался в одиночестве и сейчас, хотя рейс был длительный, необычайный и он тоже нуждался в душевном равновесии и душевном тепле.
Гости проходили чинно, без обычных, может быть, несколько фамильярных шуточек и дружеских полуобъятий. Таков был этикет праздника, каждый раз разработанный заново и неукоснительно соблюдавшийся все эти два года. К балу готовились целый месяц, мужчины и женщины придумывали и изготавливали новые наряды и драгоценности, а женщины еще и косметику. И все-таки последний день был самым напряженным — всем почему-то не хватало нескольких часов. Однако к семи вечера по земному времени экипаж и десантники являлись в зал, одетые и готовые принять участие в первом вальсе.
Балы на борту дальнерейсового корабля были придуманы давным-давно земными психологами для поддержания в норме психического состояния экипажей. Особенно десантников, ибо выяснилось, что в то время, пока команда занята вахтами (и то не очень плотно), делать им практически нечего. А сроки путешествия большие. Так и появилась рекомендация группы космической психологии: “§ 16. Периодически, но не реже раза в месяц, устраивать костюмированные балы с воссозданием обстановки и эпохи определенного времени (или социального слоя). Общая подготовка к празднику, как и общая работа сближают людей в отличие от общего безделия”. Кроме того, определенный процент премий за лучший костюм и за лучшее оформление праздника (по инструкции) указывал на лучшую приспособляемость и уживчивость и давал преимущественное право на участие в следующей экспедиции А это уже было кое для кого стимулом.
Вначале, как часто случается с официальными рекомендациями, такая идея никого не увлекала. Но потом… Балы на борту космического поискового корабля “Левингстон” по традиции отражали выбранную эпоху с ее костюмами, нравами, развлечениями, подарками и сюрпризами. И мебель, и обстановка, и рассказы, и танцы должны были соответствовать времени, которое общим решением выбрали для этого бала. Конечно, в пределах возможностей Так прошли в этом зале римские оргии, попойка в кабачке Латинского квартала, пир в русских княжеских хоромах, трапеза в итальянском монастыре эпохи Возрождения и многие другие. Предпоследним был бал в кардинальском дворце во Флоренции, а сегодня — семнадцатый век, Западная Европа.
Капитан стоял в дверях, и костюм только подчеркивал его положение на корабле. Он был одет, как капитан британского флота ее Величества — синий, расшитый золотом камзол с позолоченными же пуговицами, кружевные манжеты и воротник. Ботфорты, морской кортик и шпага на кожаной тисненой перевязи довершали его костюм. Нет, полным завершением костюма была шляпа с перьями, которые либо грациозно качались над его головой, либо залихватски мели пол, очень натурально раскрашенный под деревянную мозаику.
Кэндзибуро Смит не казался в этом костюме ряженым, не был он и смешон. Напротив, его массивная фигура излучала неподдельное достоинство, а любезная улыбка на обычно сдержанном лице, казалось, тоже пришла из семнадцатого века.
При появлении четы Пуйярдов капитан неторопливо снял шляпу и громко провозгласил:
— Жаннет и Антуан Пуйярды!
Антуан Пуйярд был очень красив. Большие, серые, выразительные глаза, нос с горбинкой и пышные смоляные усы. Чуть портили общее впечатление сухие, тонкие губы честолюбца. Основным же украшением был лоб, высокий и чистый. Лоб мыслителя, философа или математика. Природа пошутила, дав узкие и низкие лбы Декарту и Пуанкаре, а обширный и мощный Пуйярду. Но последнее обстоятельство отложило отпечаток на всю жизнь Антуана — для оправдания своей интеллектуальной внешности он много работал и, не став Спинозой или Нильсом Бором, превратился в незаурядно эрудированного человека.
Жаннет сегодня была изумительно хороша. Ее, в общем, незначительное лицо было точно и с большим вкусом подправлено косметикой, на щеке была посажена пикантная мушка, а волосы серебрились от пудры. Кэндзибуро Смит проводил ее изумленным взглядом и одобрительно покачал головой. Когда он обернулся, на его лице возникла откровенно ласковая улыбка.
— Мзия Коберидзе и Рэд Селинджер! — Капитан прижал шляпу к сердцу.
Затем пришла пара кибернетиков. Навигатор с биоником. И наконец капитан пророкотал:
— Ютта Торгейссон и Эррера Мартин!
Зал потихоньку заполнялся. Шуршали пышные юбки, сверкали драгоценности, синтезированные здесь же на корабле.
— Ты посмотри на Жаннет! — прошептала Ютта.
— А что? — не понял Эррера. — Ну, пестровато немного…
— Нет, костюм исключительно точен. Хоть в учебник истории. Я не о том. Посмотри, как она хороша!
— Изумрудный цвет вообще эффектен… Хотя, может, ты и права, — Эррера был смирен, как монах. — Но Мзия мне нравится больше.
— Мзия — влюбленная девочка, — задумчиво произнесла Ютта и, лукаво взглянув на него, добавила: — А влюбленная женщина всегда красива!
Первый сюрприз обществу преподнес капитан. Он появился из двери, ведущей в раздевалку, неся канделябры со свечами, великолепными свечами из цветного воска. Где он достал рецепт воска и сколько затратил времени для его синтезирования и выделки свеч, трудно было сказать.
— Канделябры сделаны Алексеем Сударушкиным! — объявил капитан, вынося последние два светильника.
Все зааплодировали, Сударушкин поклонился. Потом Кэндзибуро Смит выключил освещение, и аплодисменты усилились. Этот странный, сконцентрированный в двадцати четырех язычках открытого пламени свет колебался от невидимого и неощутимого движения воздуха и жил своей жизнью. Костюмы стали выглядеть иначе, а украшения заиграли с большей силой, и даже в глазах людей появились загадочные и неверные искорки того же огня.
Невидимый оркестр заиграл вальс, которым независимо от переживаемой эпохи начинался каждый праздник, и пары поплыли по дворцовому залу, где еще несколько часов назад дымились трупы жутких химер психопата Ван Риксберга. Праздник начался.
Эррера жил на корабле как в казарме, все зная о десантниках, и даже на празднике выполнял свой долг командира самым подходящим, как он считал, образом. Естественно, что на Ютту у него почти не оставалось времени. Недаром она как-то сказала Жаннет, с которой дружила: “Антуан твой муж, твой. Рэд принадлежит Мзие, а Эррера принадлежит всем. И мне мало моей доли!”
Вот и сейчас он протанцевал сначала со всеми дамами и сказал каждой что-то веселое и приятное, а затем уж подошел к Ютте. Сказал комплимент. Она не обрадовалась. Она создала улыбку на своем прекрасном лице и обозначила благодарность холодноватым поцелуем в лоб.
Эррера, огорченный, оставил ее и подошел к Алексею Сударушкину, тощему желчному и остроумному человеку, с лицом, как бы обтянутым кожей, и тонкими, ниточкой, губами. Кажется, именно в желчи и остроумии сейчас нуждался молодой офицер.
— Как тебе нравится Жаннет?
— Жаннет? Знаешь, когда я мысленно снимаю с нее косметику, пудру, мушку и платье…
— …и надеваешь на нее рубище… — подхватил Эррера.
Он знал, что Алексею нравится Ютта. Оба рассмеялись.
— Зато хорош Антуан.
— Зануда. Но ему повезло. Он для нее средоточение ума и обаяния, — Алексей покривился. — Жаннет придана ему судьбой для его полного комфорта! Глядя на них и на вас с Юттой, я вывел закон биологической компенсации.
— Какой это?
— С древнейших времен мудрые, но лысые мужчины находили на свое несчастье красивых и обаятельных подруг, а стройные красавцы — некрасивых, умных и заботливых жен.
— Я не лысый, — растерялся Эррера.
— Извини, у меня плохое настроение! — сказал Сударушкин. Офицер повернулся и отправился налаживать отношения со своей “красивой, обаятельной подругой”.
Он решил задать ей один из естественных, но никчемных вопросов, ответом на которые служит фраза: “Потому что болит голова, я устала”. Нашел Ютту, но вопроса задать не успел, подошел Кэндзибуро Смит. За весь вечер капитан не произнес ни одного комплимента. Он их не готовил, как другие, так как был занят повседневными заботами и изготовлением свечей. Его единственный комплимент предназначался прекрасной мулатке.
— Впервые, — говорил он, пыхтя, как пыхтели от умственного напряжения настоящие капитаны семнадцатого века, — впервые я вижу румянец на шоколаде.
Сказано было неуклюже, но соответствовало мере восхищения, светившегося в его глазах, и прозвучало правдиво и трогательно. Лицо Ютты просияло, и в глазах от свечечек пошли лучи.
Эррера, слышавший и видевший капитанский восторг, почему-то сник и ушел бродить по залу, как разочарованный гимназист на балу где-то в конце девятнадцатого века. Время от времени он победительно и равнодушно окидывал взглядом танцующих и веселящихся товарищей, но ни разу почему-то его глаза не встретились с глазами Ютты.
И тогда, стараясь быть незаметным, он выскользнул из зала и пошел в рубку.
В рубке было тихо; словно какие-то механические насекомые монотонно жужжали и пощелкивали приборы; интимно перемигивались цветными лампочками щиты и пульты управления. На большом экране, прямо в визирной крестовине сияла маленькая планетка — их находка в странствиях, а теперь и пункт назначения. Есть ли жизнь на этом комке серебристой ваты, трудно было сказать, но наличие атмосферы вселяло надежды. Растительность, во всяком случае, если судить по анализам, там была. Экипаж напряженно ждал появления чуда и теперь, когда оно свершилось, танцевал на последнем балу во всеоружии неведения, возбужденный ожиданием необычного. Кто знал, все ли они вернутся обратно?
— Вы здесь, Эррера Мартин? Я так и знал. — У капитана была отвратительная манера называть членов команды полным именем и фамилией. Остальные давно уже перешли к сокращениям и школярским прозвищам. — Шли бы вы к Ютте Торгейссон, она ищет вас и огорчается.
Эррера, помедлив, обернулся, чтобы сказать какую-нибудь колкость, но не сказал. Он увидел, что капитан низко склонился над ЭТ-экраном, может быть пытаясь найти что-нибудь новое в изображении планеты, открытой им самим в огромном космическом море. Увидел, что капитан уже забыл про него, про Ютту, да и про сам бал. На лицо Кэндзибуро Смита мягко легла счастливая улыбка, разбежалась морщинками. Капитану было за шестьдесят.
— Вы знаете, сколько мне лет? — вдруг спросил Кэндзибуро. — Шестьдесят четыре! Предельный возраст для космолетчика. Сорок лет в космосе. Да, сорок лет, потому что, даже отдыхая между рейсами в кругу семьи, я все равно оставался здесь, на корабле, в космосе. Сколько я перетаскал грузов и людей с планет Солнечной системы и сопредельных, не сосчитать! Загнал до смерти четыре корабля, а ведь я человек аккуратный!
— У вас огромный опыт, капитан. — Офицер не понимал, с чем связана эта вспышка воспоминаний.
— Что значит сейчас мой опыт? Грамотно произвести посадку и старт в сложных условиях может выпускник академии с двухлетним стажем. Умение бороться с метеоритными полями и навигационное чутье — разве что это?.. А все-таки мне повезло! — Голос капитана зазвучал даже торжественно. — В радиусе тридцати световых лет любопытные человеки не нашли ни одной обитаемой планеты. Ни одной планеты с растительностью и даже просто пригодной для жизни. Тридцать восемь лет назад я участвовал в последней экспедиции, искавшей “братьев по разуму”. С тех пор внеземными цивилизациями занимаются дилетанты и энтузиасты. — Капитан вытянул руку к экрану. — И мне будет что внести в графу “Итог”. Горько только, что я сам не ступлю на ее почву!
— Теперь это проблема опять вспыхнет.
— Может быть.
Старик был прав: космические проблемы до сих пор мало занимали человечество.
Капитан после своей страстной речи опять погрузился в созерцание экрана. Эррера постоял, потом тихо выскользнул из рубки. Но в зал не пошел. Пусть поищет его Ютта, виноватая в том, что посмела радоваться без него. Пусть вспомнит, как попала сюда из дублеров.
Ютта действительно попала на “Левингстон” благодаря ему.
Почти перед самым отлетом из команды отчислили второго пилота, и Эррера убедил начальство и врачей, что не сможет жить и странствовать по Вселенной без Ютты Торгейссон. Ему пошли навстречу, а уж Ютту он уговорил сам.
Ютта всю жизнь предпочитала красивых мужчин, а красивыми она считала высоких блондинов. Но в Эррере она усмотрела скрытую энергию, ум и деловитость. И еще ее подкупило откровенное восхищение, прямо-таки струившееся из глаз офицера. Она сочла себя первооткрывательницей этого маленького мужчины (в чем жестоко заблуждалась) и решила, что для этого забавно самоуверенного и умного мужчины она будет королевой, объектом поклонения всей его жизни. Кроме того, он полчаса декламировал ей стихи. Он прочитал не менее двадцати стихотворений на любовные темы, “от Хафиза до Блока”, как он сам сказал. Что-то она читала, что-то слышала, вспомнить было трудно, но такой взрыв поэтических страстей ей был в новинку и тоже сыграл немаловажную роль.
Он направился в отсек Биотрансформатора. В конце концов это его обязанность — время от времени проверять агрегаты, предназначенные для десантных операций.
Обычно в отсеке пусто. Но сейчас там стояла долговязая, изящная фигура. При скудном дежурном освещении офицер не сразу узнал Жаннет Пуйярд, а узнав, повернулся, чтобы уйти. Он старался избегать ее. Однако женщина заметила его:
— Великое изобретение, Эр.
Офицер обреченно кивнул. Голос у нее был мелодичный, хотя и не такой красивый, как низкое контральто Ютты Торгейссон.
— А ты заметил, — продолжала она, — что за последние пятьдесят лет сделано больше открытий и гениальных изобретений, чем за предшествующие сто?
— Это заметило Центральное Статистическое Управление.
Получилось сухо и грубо. Тем более что информация ЦСУ еще не была опубликована и он узнал о ней случайно.
— Я не знала об этом. — Жаннет обиделась.
Действительно, одним из интереснейших открытий века и важнейшим для них был Биотрансформатор. Вначале медицинский прибор для заживления ран, потом трансплантатор, на основе генетического кода клетки восстанавливающий целые органы, он вырос в биологический преобразователь, трансформатор одних тканей, а затем и существ, в другие. Исполнились сказочные мечты древних народов, калиф мог превратиться в аиста, принц — в дракона.
— Все-таки его применение ограничено! — Эррера поднял упавшую было нить разговора. Надо было сгладить грубость.
— Да. И встряска ужасная. — Жаннет нервно повела плечами. — Коллоидный консервант, именуемый нашим организмом, плохо переносит трансформацию.
У офицера все тело заныло при воспоминании о трансформации.
— А ведь биологи применяют ее. И с великим успехом.
Усовершенствования самого последнего времени позволили биологам трансформироваться в животных, сохраняя человеческий разум и инстинкты, воспринятые от зверя. Человек автоматически “получал язык” животного и его “способности”, такие как слух, обоняние, осязание и так далее. Это было необходимо для восстановления животного мира. И не только для этого. У людей было много вопросов к природе.
Эррера начал опасаться продолжения разговора. Жаннет не случайно оказалась около Биотрансформатора, ему следовало уйти. Нельзя было допустить, чтобы она напомнила ему о тренировочных трансформациях.
Перед отлетом в космос, еще в период тренировок, все члены экипажа вместе с дублерами должны были пройти две контрольные трансформации. Первую — когда все были превращены в стаю птиц — перенесли ужасно тяжело. Они напоминали смертельно больных. И несмотря на то что такое состояние после шести часов сна проходило, несмотря на то что обратный переход был много легче, некоторых пришлось отчислить из отряда.
Вторая трансформация — в пятнистых оленей — прошла проще. То ли все уже знали, что их ждет, и были готовы, то ли адаптировались, но, очнувшись от сна, все стадо пятнистых красавцев без излишних переживаний отправилось в таежный парк в районе Енисея. Хищники из их зоны на несколько дней были удалены.
Здесь-то он понял, какую роль в жизни животных занимают запахи. Запахи трав, деревьев, земли, других животных. Понял, как запахи могут успокаивать и как волновать. Все эти дни он не отходил от Жаннет, а при обратном превращении он испытал тяжкий и липкий стыд.
И вот теперь Эррера мучительно хотел уйти. Он испытывал в отношении Жаннет какие-то смутные чувства, может быть, не чувства, а комплекс вины. Но сейчас нужно было прежде всего уйти.
Неожиданно сзади раздалось сухое покашливание. Молодые люди обернулись — в дверном проеме стоял капитан. По-видимому, он задался целью не отставать сегодня от офицера.
— Теперь вы здесь, Эррера Мартин, — констатировал он. — Так я и знал. Только с этим отсеком нет никакой связи, кроме аварийной и специальной… Простите меня, Жаннет Пуйярд, но нам нужно поговорить.
— Я пойду? — почему-то спросила она.
Офицер виновато пожал плечами, так, будто ему помешали закончить интересный для него разговор. Мужчины молча проводили ее взглядами.
— Вы не должны портить праздник Ютте Торгейссон, — сказал старик. — Я не знаю, да и не вправе интересоваться, серьезно ли это у вас, но не надо девочке портить последний праздник перед высадкой. Кто знает, что ждет вас там?
— Мне кажется, это серьезно. Я пойду, капитан?
— Да. А завтра нам предстоит обсудить состав разведывательного отряда… Пусть меня не ждут — я подойду к столу позже.
— Что-нибудь случилось? — спросила Ютта, когда Эррера вернулся в зал. В ее глазах не было свечечек, в них застыло беспокойство и смятение. Она как-то поникла, и даже ее чудесная кожа казалась серовато-оливковой. Все уже сидели за накрытым столом, уставленным хрусталем и причудливыми сервизными приборами. Никто не ел, все молча и вопросительно глядели на командира.
— Простите за опоздание, вместе с капитаном проверяли агрегаты, — сказал он и сел рядом с Юттой.
Внезапно Эррера почувствовал, что ребята огорчены его поступком, обижены за Ютту. Товарищи связывают их воедино и своим молчанием налагают на него какие-то обязательства. Понял, что в какой-то мере принадлежит ей в глазах окружающих, но эта мысль его впервые не испугала.
— Прошу простить меня за задержку! — В дверях показался Кэндзибуро Смит. — Виновны дела текущие! — Он поискал глазами, нашел среди сидящих Эрреру и поинтересовался: — А где наш уважаемый Рэд Селинджер?
— Я здесь, капитан! — пробасил Крошка, появляясь из двери за спиной Смита с огромным блюдом в руках. — Кабаньи головы, фаршированные куропатками! — торжественно провозгласил он.
Действительно, на подносе лежали три кабаньи головы, от блюда поднимался пар. По традиции балов каждый член экипажа обязан был представить на суд товарищей одно блюдо, изготовленное своими руками. Рэд, с помощью пищевого синтезатора, совершил чудо — создал кости кабаньей головы, мясо и даже хрящи, начинил фаршем куропаток, что, впрочем, было уже проще. Он повторил кулинарный подвиг лаосских монахов, еще в XIV веке приготовлявших из сои и бамбуковых палочек вполне натуральных кур.
Появление Крошки было встречено аплодисментами, выстрелил металлический баллон с шипучим безалкогольным напитком, из горлышка баллона вырвалось пламя.
— За мать-Землю! За восемь миллиардов наших братьев, тяжелым и самоотверженным трудом преобразующих ее! — сказал капитан, вставая и поднимая бокал с кроваво-красной жидкостью. Тост был традиционный, и все выпили стоя.
На следующий день молодой офицер нашел Кэндзибуро Смита опять в рубке у экрана.
— Кэп, — сказал молодой человек, и капитан поморщился, — кэп, мы хотели с вами еще раз просмотреть списки десантников.
— Хорошо, — ответил капитан, страдая от фамильярности офицера и непрофессиональных терминов. — Давайте, последний раз проверим психофизическое состояние личного состава десантной группы.
Они прошли в медицинский отсек, впереди Эррера, позади капитан, и сели у диагноста. Офицер нажал пальцем на клавишу “Пс. и Физ. сост.”. Когда машина прогрелась, на коричневатом экране загорелась надпись:
“Кэндзибуро Смит, капитан”.
— Можно пропустить.
Офицер кивнул, корабль остается на орбите, капитан — на корабле. Нажал кнопку. Экран написал:
“Эррера Мартин, руководитель”.
Потом пошел текст мелкими буквами:
“Кровь — норма.
Почки, печень, сердце, легкие — норма.
Гормональные отправления — норма.
Костно-мышечный аппарат — незначительно ослаблен.
Нервные реакции — несколько повышены.
Мышечная реакция — норма.
Общий тонус — норма”.
Действительно, отклонения в нервных реакциях были у всех. У всех… кроме Жаннет Пуйярд.
— Я всегда считал ее самым лучшим приобретением для команды, — буркнул капитан. — Антуана Пуйярда взяли ради нее.
Для офицера это было неожиданностью.
— Итак, капитан, состав разведотряда определился: Эррера Мартин, супруги Пуйярд, Ютта Торгейссон, Том Гаррисон и Мзия Коберидзе.
— Да. Около континентальной ракеты остается дежурить пилот Рэд Селинджер. Это логично, он биолог и стажировался оператором на Биотрансформаторе.
Эта планета оказалась родной сестрой Земли. Совпадения превзошли самые смелые ожидания. Атмосфера была кислородно-азотно-гелиевая, воды было достаточно. Подумать только! Атмосфера, пригодная для жизни земных существ и, возможно, пригодная для питья вода. Температура в пределах плюс сорок — минус тридцать. Орбита — слабо эллиптическая, близкая к круговой. Размеры планеты составляли ноль восемьдесят пять от земной, а масса — шестьдесят процентов от массы Земли. Когда были получены эти результаты, команда бросилась проверять взятые с собой семена земных растений. Все чувствовали себя колонистами.
Кэндзибуро Смит сгоряча и для того чтобы отделаться от мешавших ему посетителей рубки предложил конкурс на лучшее название планеты. С этого момента члены экипажа просто перестали видеть приборы и схемы на своих постах Все перебирали варианты названий, а по вечерам спорили до хрипоты. Капитан вынужден был отменить конкурс.
— Думаю, что лучшее название появится при более близком знакомстве с планетой, — сказал он. — Мы будем иметь возможность наблюдать за всеми действиями разведывательного отряда. Каждый десантник понесет на груди миниатюрную телекамеру, и наша задача — держать в исправности и все приемники на корабле.
Теперь энергия экипажа пролилась на телеприемники. Была даже сделана попытка на время переоборудовать Главный Навигационный Экран. Когда капитан это обнаружил, он так побагровел, что, казалось, его хватит удар. Святотатец в этот день не появился ни к обеду, ни к ужину.
Наконец долетели до планеты и легли на круговую орбиту. При этом в течение получаса предстояло несколько сложнейших эволюции корабля. Капитан провел их, казалось, не глядя на приборы, экраны дисплеев показывали отклонения от расчетного маневра на проценты или сотые процента. Его помощники застыли каждый на своем месте и в особенно удачных случаях бормотали: “Машина!”, имея в виду голову капитана.
Два дня корабль летал по круговой орбите, уточняя полученные еще в космосе параметры планеты. За это время свободные от вахт члены экипажа при незначительном увеличении экранов успели рассмотреть на планете динозавров, летающих коров, гигантских каракатиц и даже двуногого человека. Но что точно видели все и что подтверждалось показаниями приборов — на планете были леса, и реки, и моря. На ней был ветер и, наверное, была трава. Хотелось бы, чтобы была трава и цветы на ней.
Континентальная ракета опустилась на большую поляну и твердо встала на три ноги. Перестали напряженно трещать приборы, корректирующие спуск и посадку. В иллюминаторах было черно от дыма, а в дыму с одной стороны горели сучья и небольшие стволы. Когда дым немного рассеялся, через наименее закопченный иллюминатор все увидели какие-то цветные пятна: синие, оранжевые, зеленые. Было страшно интересно, но больше рассмотреть ничего было нельзя. Похоже, что это была растительность, которую они видели еще с орбиты.
Пока стерилизовали в камере “магнитного ползуна”, которому предстояло вымыть стекла, начало темнеть.
Так дружно еще ни разу не вставали. “Магнитного ползуна” выпустили сразу же после завтрака. Все ждали затаив дыхание, и наконец в одном из иллюминаторов появилось светлое пятнышко, оно росло, стали видны две металлические лапки с губками-водососами на концах. Потом робот переполз на другое место и исчез где-то на макушке ракеты (может, испортился в самый нужный момент), а люди приникли к окну в новый мир.
Вокруг ракеты в радиусе пятидесяти метров была выжженная земля, покрытая шлаком и еще дымящаяся. На некотором отдалении от корабля лениво горели какие-то стволы. Но за краем гаревой площадки росла трава. Пестрая — зеленая, с желтым и синим. Это было очень красиво, трава разных цветов росла кустиками или, скорее, клумбами. Кончалась оранжевая клумба, начиналась синяя. Казалось, кто-то высаживал эти травы и цветы, кто-то сознательный. За травой начинался лес и кустарники, яркие, бутафорские. Лес был похож на старинную палехскую миниатюру, деревья с красными или синими стволами и неправдоподобными причудливыми, разноцветными листьями.
Этот день просидели в ракете, ждали, может, мир планеты подойдет ближе. Придут животные, если они здесь есть, прилетят птицы. Нужно было оценить опасности этого леса, слишком уж ярко и добродушно он выглядел, надо было взять пробы воздуха, исследовать микроорганизмы. Но в воздухе, сожженном теплом, выделившимся при торможении, и на почве, покрытой шлаками, ничего не могло быть. Предстояла работа.
И все ждали, очень ждали разумных существ.
Но существа не появлялись. Люди занялись анализами. Прежде всего воздух и микробы. Потом послали за травой “краба”. Маленький, управляемый с ракеты танк с щупальцами нарвал разноцветной травы и даже сломал прутик с листвой от росшего ближе всего куста. Он же принес пригоршню почвы. Потом еще один рейс. Потом еще. Так прошел день второй.
На третий день проснулись очень рано, как только взошло местное солнце.
— Смотрите! — крикнула Мзия. — Ночью был дождь! Отмыло все иллюминаторы!
Действительно, кое-где на стеклах виднелись грязноватые подтеки. На горизонте справа от первого иллюминатора сияла вполне земная, разноцветная радуга.
— Давайте смотреть, может, покажутся разумные существа, — сказала своим бархатным голосом Ютта.
— Нет! — отрезал начальник отряда. — Будем завтракать. Иначе вместо научных наблюдений я получу от вас голодные галлюцинации.
— Странно, — задумчиво произнесла Жаннет, приступая к завтраку. — Почему все-таки трава здесь оранжевая?
— Потому что фотосинтез может осуществляться не только в хлорофилле. Возможны другие механизмы… — И Антуан Пуйярд, не дожевав первого же куска, пустился объяснять способы усвоения растениями световой энергии. Говорил он долго и скучно, с отступлениями и примерами. Его большие, выразительные глаза остекленели. И казалось, что у него есть еще одна пара глаз, которыми он просматривает свою внутреннюю картотеку и извлекает из нее микрофильмы с необходимыми сейчас данными. Задолго до конца речи у всех испортился аппетит и настроение.
Выдержать долго Антуана Пуйярда могла только его жена. Остальные, признавая за ним подавляющую эрудицию, избегали общения с биологом. Эрреру он необычайно раздражал. Вся огромная эрудиция Пуйярда была поставлена им на службу собственнической психологии. Весь этот мощный аппарат, включая мысли Монтеня и изречения Ларошфуко, призван был обеспечить душевный комфорт, материальные удобства и моральные права их обладателя. Это, по мнению офицера, выносить было невозможно.
— Черт с ним! — пробормотал Эррера и двинулся проверять показания приборов. У приборного пульта уже были Крошка и Мзия.
— Воздух как воздух, — сказал Рэд, когда он вошел. — Четыре группы микроорганизмов, совершенно безвредных.
— Можно выходить в шортах и загорать? — ехидно спросил Эррера.
— Можно. — Рэда нелегко было смутить.
Эррера задумался. Тихо гудела система жизнеобеспечения, пощелкивали приборы. Когда он поднял голову и обернулся, то увидел всех членов отряда.
— Нужно выйти и осмотреться, — тихо предложил Рэд.
— Хорошо, — решился Эррера. — Выходим. Прошу надеть костюмы биологической непроницаемости. Не забудьте оружие, — он повернулся к Селинджеру. — Дай нам пяток мышей… Остаются Мзия и ты.
— Почему я? — закричал в отчаянии Рэд.
— Ты — пилот!
Когда группа подошла к краю опаленной почвы, то первое, что всех поразило, была роса. Обычная на Земле и виденная всеми в сибирской тайге. Потом появились какие-то насекомые, прыгающие и летающие. И вот, наконец, деревья: огромные, развесистые, оранжевые, помельче — синие и другие, с красными на зеленой подкладке листьями.
Они постояли немного, потом Гаррисон вынул из прозрачного мешка клетку с мышами. Мыши сели столбиками, задрали мордочки и ожесточенно начали нюхать воздух. Сдыхать они не собирались.
Тогда главный биолог выругался длинно и замысловато, бросил клетку со зверьками в траву и откинул скафандр.
— Ребята! — крикнул он. — Можно дышать!
Все сняли скафандры, и людям в лица ударил воздух, напоенный ароматами. И какими ароматами! Воздух казался густым от запахов меда, непривычного, неземного меда незнаемых цветов. Налетевший ветерок приносил новые запахи, похожие на запахи духов, в которых люди на Земле записали память о земных цветах. Тонкие неназойливые ароматы и тишина. Шелест оранжевых листьев и тепло солнечных лучей на затылках. Они стояли с лучевыми пистолетами в руках (по инструкции), слушали тишину и вдыхали этот воздух. Их обступил покой.
— Хотите стихи? — спросил Эррера. На его лице покоилась счастливая улыбка, ноздри подрагивали, втягивая воздух.
По ограде высокой и длинной Лишних роз к нам свисают цветы. Не смолкает напев соловьиный, Что-то шепчут ручьи и листы.— Что-то шепчут ручьи и листы, — задумчиво повторила Ютта. — Но что! Чье это стихотворение?
— Блока. “Соловьиный сад”.
Внезапно Гаррисон вскрикнул — из травы высунулась усатая кошачья мордочка с двумя глазами. Люди отступили, опасливо подняв пистолеты, и из синих зарослей вышел диковинный зверь, длиной около метра и сантиметров пятнадцать в поперечнике, с восьмью мускулистыми ногами. Зверь был покрыт коричневой переливчатой шерстью. Несмотря на то что животное было больше похоже на мохнатую гусеницу, оно казалось симпатичным и внушало доверие. Зверь без тени любопытства посмотрел на них, отщипнул клок оранжевой травы, задумчиво пожевал и ушел.
— Не попрощался, — осуждающе сказал Эррера.
Все облегченно рассмеялись.
— Идем дальше? — спросил Том.
— Да. Но впереди по траве пойду я. — Эррера вышел вперед и шагнул прямо в синюю клумбу. — Стойте пока что там!
Он сделал десять — пятнадцать шагов, остановился, поводил грубым сапогом по траве. Из-под ноги врассыпную скакнуло десятка два неуловимых насекомых.
— Кроха, — приказал он, — принеси-ка пару сачков и три прозрачных мешка. Жаннет и Антуан будут у нас ловить насекомых. Только берегите лица и не берите их руками! Остальные подстраховывают меня.
Он сделал еще десяток шагов и остановился перед деревцом с тонким, желтым стволиком, с длинными, синими листьями.
— Осторожно, Эр! — крикнула Ютта.
— Я вижу!
Действительно, по всему стволу деревца сидели ежи. Обычные, может, чуть меньше земных. Иглы у них были покороче и потоньше. Офицер дулом пистолета (в любое время можно выстрелить, как предписывает инструкция) шевельнул одного ежа. Колючий комок камнем упал на землю. Эррера отпрыгнул назад. Когда он осторожно подошел снова, еж лежал там же. Эррера нагнулся, шевельнул его дулом пистолета еще раз.
— Похоже, это плод, ребята! — крикнул Эррера. — Держите!
И он, отломав несколько ежей, бросил их десантникам. Все шарахнулись в сторону. Гаррисон запротестовал:
— Не ребячься, Эр. Может, они ядовитые?
— Проверь, ты тоже биолог… Ребята, — продолжал он, — за мной!
Главной чертой его характера было стремление идти вперед и увлекать за собой остальных.
Потихоньку группа углубилась в лес.
Странный это был лес. Светлый, какой-то прозрачный, напоенный удивительными, нежными ароматами. Видов деревьев было много, но ползучие растения почти не встречались, и было много полянок, отчего лес казался немного запущенным английским парком. Непрерывно попадались мелкие животные. Зверье выглядело непуганым. Метров через двести десантники вынырнули из чащи на большой луг.
— Осторожно! — тихо сказал Эррера, шедший впереди группы. — Не стрелять!
— Ой! — Это Жаннет вынырнула вслед за командиром.
На лугу паслись коричневые животные величиной с корову и с рогами на голове. Сужающиеся вперед головы кончались двумя хоботами, которыми эти странные существа очень ловко, действуя попеременно, срывали пучки травы и отправляли в рот.
— Может, они разумные? — спросила Ютта после недолгого наблюдения.
— Вряд ли! Слишком велики, — сказал Том.
— Наш Рэд тоже великоват… — засмеялась Ютта.
Одно из животных, привлеченное шумом, повернуло голову и посмотрело на них большими любопытными глазами. Все застыли. А вдруг контакт? Но животное отвернулось, и его хоботы опять ритмично задвигались.
— Хоботная антилопа! — с восторгом прошептал Гаррисон.
“Ребята, что у вас там?” — послышался в шлемофоне взволнованный голос Мзии. “Ничего, Мзиюшка, нашли коров. Сейчас подоим, и вечером будешь пить парное молоко”. — “Как я хочу к вам’” — “Мы уже поворачиваем обратно”, — сказал Эррера. — Обратно! — скомандовал он группе.
Обратно шли веселее, разговаривая и смеясь. Неожиданно вышли на незнакомую поляну, по краям заросшую зелеными и красными кустами. Все остановились. На шарообразных кустах, широко распластав крылья и как бы обняв ими листья, сидели лебеди. Иначе нельзя было назвать этих темно-синих птиц, с сияющими вороненой сталью пластинками на спинах и крыльях с изумрудными шеями и грудками. Они были величиной с крупную собаку. Это если не считать крыльев и длинной шеи с крупной лобастой головой. Три зеленых фасеточных глаза (два по сторонам головы, один — на затылке) и длинный, массивный клюв довершали сходство с земными птицами. Исключая, конечно, затылочный глаз.
— Зачем им глаз на затылке? — шепотом спросила Ютта.
— Наверное, здесь есть хищники, — пояснил Гаррисон. — Даже скорее всего. Дополнительная защита от опасностей.
— Отдыхают, — задумчиво констатировал Том. — Как боксеры после боя. Вид у них беспомощный какой-то.
— А погладить их мне не хочется! — вдруг сказала Ютта.
— Почему? — спросил Эррера.
— Не знаю… Они противные.
— Просто на них нет мягких перьев. — Командир с сомнением посмотрел на птиц. — Субъективная оценка “противные”. Пошли!
Пока десантники пересекали поляну, существа повернули головы и провожали их взглядами своих фасеточных глаз, но ни одно из них не поднялось с куста.
К ракете вернулись без приключений.
После обеда вышли из ракеты погулять; правда, отходить более чем на пятьдесят метров Эррера запретил. Над ними парили на огромной высоте какие-то птицы. Антуан сбегал за ОУ — оптическим умножителем, наследником старинного бинокля. Птицы оказались синими лебедями.
Вечером все маялись сильной мышечной слабостью и небольшой головной болью. Биотрансформатор после осмотра команды и анализа выдал диагноз: “Легкое отравление местной кислородной атмосферой. Сильное влияние биополей неизвестного происхождения. Лечение — биостимуляция и повышение обмена веществ в нормальной атмосфере. Профилактика — пребывание в открытом пространстве не более четырех часов”.
Так состоялось первое знакомство с новым миром.
В привычной обстановке все почувствовали себя значительно легче. Настроение было приподнятое и возбужденное. Все-таки не зря разуверившееся человечество решилось на последнюю попытку. Не зря три космических корабля — их “Левингстон”, “Нансен” и “Миклухо-Маклай” — стартовали летним вечером с Земли, еще пахнущей бензином и затянутой радужной нефтяной пленкой, еще в руинах, но уже восстанавливаемой и выздоравливающей. Не зря на долгие годы стали они далекими для близких. Они должны были открыть эту планету.
В кают-компании было уютно по-земному, из экрана высунулся торс Кэндзибуро Смита. Он “проводил беседу” с командой. Говорил он сурово, как Савонарола на площади Флоренции.
“Было бы стыдно перед соседями по дому, перед друзьями по работе, перед отцами и матерями, со страхом отпустившими нас и с бесконечным терпением ждущими, и перед многими другими совершенно незнакомыми людьми! — говорил он. — Съесть десятилетний запас энергии, собранной в космических энергостанциях и… ничего не дать взамен. За столько лет не посадить ни одного дерева, не вычистить лужи, не законсервировать памятника прошлого и, вернувшись, сказать: “Нету. Нету обитаемых миров, мы одни в мире. Это объективная реальность”. Конечно, объективная, а все-таки… все-таки обидно. И не очень оправдаешься. Но теперь мы нашли ее!”
— Ура капитану Смиту! — крикнул Эррера, и все его поддержали.
— Ура-а!
Несколько минут казалось, что из глаз старика польются слезы, но он как-то странно крякнул и неожиданно выключил экран.
Весь следующий день отливали из сверхпрочной пластмассы, она была даже ковкой, корпус вездехода. Формами для деталей служили углы и участки стен комнат, подлестничные пространства и другие участки ракеты. Все было предусмотрено. Проверили двигатели и оборудование вездеходов, а к вечеру уже окончили монтаж. Еще через четыре дня разведчики осмотрели территорию в десять квадратных километров и углубились в декоративный лес. Ездили на вездеходе и ходили пешком, составили огромный живой гербарий, наловили целый зоосад животных и насекомых. Наконец, обнаружили море или большое озеро.
— Странная планета, странный животный мир! — сказал за ужином их биолог Том Гаррисон. — Совсем нет хищников. Не обнаружено! Никто не поедает другого, все лопают траву!
— Нет разумной жизни, — поддержал его Антуан. — Как ни старались отыскать, не нашли. Скучная планета. Рай до Адама и Евы.
Про Адама и Еву никто не понял, тактично промолчали.
— Нет, — Рэд говорил медленно, взвешивая слова. — Скучной я бы ее не назвал. Тихая, но… тревожная. Мне здесь беспокойно. Будто кто-то подглядывает за мной…
— Ты прав! — неожиданно поддержала его Жаннет. — И у меня такое чувство, что кто-то из кустов постоянно наблюдает за нами.
Эррера вспомнил слова капитана о психической устойчивости Жаннет и покачал головой. Молча — у него были причины молчать.
— Голубые лебеди за тобой подглядывают, — сказал он с казенным сарказмом. — Или жираусы. — Жираусы похожи одновременно на жирафов и страусов. — Или коровы! Разумных здесь нет!
— Пока нет!
— А по-моему, очень милые существа эти хоботные антилопы, — вмешалась Мзия. — Неразумные, но мирные.
Действительно, антилопы Гаррисона, как их назвали, на плоть пришельцев не посягали, жрали в основном траву и листья, и большинством голосов было решено, что они травоядные.
Многие животные уже получили названия и были классифицированы. Например, первое встреченное ими в этом мире существо — восьминогая кошка получила наименование “Эррера усатая”, а голубые птицы — “Лебедь Антуана”, чем Пуйярд очень гордился.
— Нужно проверить море! — неожиданно сказал Селинджер. — Может быть, разумная жизнь развивается здесь в другой среде.
— Верно, — рассеянно кивнула головой Ютта, а потом, очнувшись от своих мыслей, спросила: — А почему вы все думаете, что здесь должна быть разумная жизнь?
— Почему мы так думаем? — растерянно пробормотал Антуан. — А правда, почему мы так думаем?
Десантники замолчали. Они чувствовали, что их детская вера в разумную жизнь на планете подтверждается какими-то неуловимыми аргументами. Но какими — никто не мог сказать. Что-то ускользало от их внимания; это была первая попытка осмыслить этот мир и разобраться в своих ощущениях.
— По-моему, здесь слишком хорошо! — робко высказал свою мысль Рэд. — Может, я говорю глупость, но здесь неестественно красиво, удобно, что ли, для дикого мира!
— Как будто здесь над природой поработали дизайнеры и психологи! — выкрикнул Том.
— Смотри, Эррера, ни одного ядовитого плода, все съедобно, все вкусно, полный набор металлов в плодах и витаминов тоже, — Мзия словно задалась целью убедить неверующего Эрреру.
— Ни одного хищника, — сказала задумчиво Ютта. — Даже насекомые не кусают.
— Может, и на Земле было так же до появления человека! — возразил Эррера. — Откуда вы знаете?
— Не-ет! Мы знаем, что на Земле всегда один вид животных поедал другой вид в продолжение всех геологических эпох. А здесь они все травоядные! — сказала Ютта. — Нет, здесь какая-то тайна!
И все с ней согласились.
— Вот что я скажу, — прервал всех Эррера. — Хватит собирать гербарии для школьного кабинета ботаники! Завтра идем к морю, потом в кинжальный поход в глубь леса!
На следующий день команда была готова встретить восход местного солнца. В экспедицию отправились Эррера, Ютта и Гаррисон. И хотя в компании Селинджера люди чувствовали себя почему-то безопаснее и увереннее, кулаки Рэда и его редкостная реакция боксера ничем не могли помочь в воде. А если гигант чего-нибудь и боялся, то скорее всего именно воды; он так и не научился плавать на Земле. Теперь главным лицом была Ютта, жительница австралийского шельфа, выросшая в море и работавшая в нем, как другие работали в садах и на пашнях.
— Операция “Наш друг водяной” начинается! — крикнул Эррера, последним садясь в вездеход и посылая остающимся шутливый воздушный поцелуй.
Незанятые члены экипажа, торопливо помахав руками, побежали в рубку к телевизорам. Всем было интересно, а кроме того, ушедшим на поиск могла понадобиться срочная помощь. Заодно подключили связь с капитаном. Кэндзибуро Смит и члены экипажа корабля были непременными, хотя и пассивными, участниками всех походов разведгруппы.
Вездеход шел по зарослям, почти без усилий прокладывая себе дорогу. Впрочем, особенно большие или красивые группы деревьев они обходили. Сквозь бортовые окна был виден неправдоподобный, светлый и красивый лес. Трава, кусты и мелкие деревья стелились перед ними, открывая иногда удивительные поляны, казалось нарисованные рукой мастера из Палеха. Зверей не было видно, только в небе парил одинокий синий лебедь. Он все время висел над ними, как елочная игрушка на нитке.
Наконец раздвинулся последний занавес оранжевых и багровых деревьев, и в рамке растительности голубовато-белым светом заискрилось море, отделенное от них небольшим участком каменистого пляжа. Что-то вроде крымского берега или калифорнийского, у Тихого океана.
Было жарко. За спинами людей в безопасной тишине совсем по-земному стрекотали местные кузнечики. Загадочная гладь перед ними покрывала какую-то таинственную жизнь, неведомые формы которой могли оказаться разумными.
— К берегу! — крикнул Эррера и развернул вездеход.
— Знаете, чем отличается это море от земных? — спросил Гаррисон. — Здесь нет ни чаек, ни других птиц, живущих у моря.
— И крабов нет, — сказала Ютта. — И ракушек. Голый берег.
Как жительница моря, она особенно остро подмечала разницу в пейзажах. Эррера поднял голову.
— Синий лебедь и тот пропал! — задумчиво произнес он. — Не нравится мне это место!
— Смотрите, смотрите! — крикнула Ютта.
Над водой летела рыба с большими крылообразными плавниками, а за ней неслось нечто среднее между крабом и медузой. Странное животное отталкивалось от поверхности широкими, плоскими щупальцами. Щупалец было много, и бежало оно быстро. Не догнав крылатой рыбы, животное шлепнулось на волны и утонуло.
— Вот и первый хищник для Антуана, — улыбнулся Эррера. — По его теории здесь может быть разумная жизнь.
Тем временем мулатка надела легководолазный костюм и уже навешивала на себя разнообразные приборы и оружие.
— Слушай, Ютта! — Мартин был совершенно серьезен. — Мне не нравится это место и это море. Ты опускаешься в первое погружение только для визуального обзора дна и состояния среды.
— Ты что, беспокоишься за меня? — с кокетливым вызовом спросила она и уставилась на него огромными черными глазами.
Эррера подумал, что он действительно беспокоится, что ему страшно за нее и что лучше бы он сам полез в эту непрозрачную воду, кишащую хищным зверьем и полную неожиданными опасностями. Но его не учили плавать так, как Ютту, и, к сожалению, здесь каждый выполняет “свой маневр”. Но вслух он сказал:
— Время погружения не больше пятнадцати минут. Скорость прохождения максимальная. Связь с нами непрерывная. Понятно? — Она кивнула. — Ни в какие пещеры, ямы или расселины не лезь!
Ютта кивнула опять.
— Тогда вперед. Мы идем за тобой!
Ютту посадили на крышу вездехода. Эррера и Том сели в него и направились прямо в открытое море. В двадцати метрах от берега девушка соскользнула с крыши и, постепенно увеличивая тягу ракет, прикрепленных к ее скафандру, исчезла в море. Оставшиеся приникли к экранам двух портативных телевизоров.
Девушка плыла, не форсируя скорости, на глубине примерно пяти метров. Глаз передатчика был закреплен на лбу, и десантники, как в вездеходе так и оставшиеся у ракеты, “смотрели ее глазами”. Уже с этого уровня было видно, что ниже, может быть, у дна кипит жизнь. Само дно просматривалось с трудом.
— Что это, Том, живые существа или растения?
— Не знаю… — Лицо Гаррисона сморщила гримаса отвращения. — Смотри, Эррера, они не страшнее тренировочных чертей, а ведь внушают страх.
— Потому что настоящие!.. Гляди, она пошла ниже.
Дно наплывало на экран. Похоже, это было царство моллюсков и червей. Точнее, они были похожи на знакомых земных обитателей моря. Часть моллюсков сидела, прикрепившись к камням, без раковин, одна студенистая масса.
Внезапно изображение начало круто и быстро поворачиваться. Это Ютта повернула голову, чтобы увидеть обстановку в своем тылу. И все трое вскрикнули от ужаса.
— Скорость, Ютта, скорость! — кричал Эррера. — Сзади!
Но она сама увидела позади себя огромную голову с белыми глазами-бельмами; из пасти рыбы, голова, скорее, принадлежала рыбе, высовывался трубчатый язык-присосок.
Скорость разведчицы возросла, в экране появились две сложенные вместе и вытянутые вперед руки. Ютта облегчала гидродинамику. Опять поворот изображения — рыба не отступает. На мгновение снова появились руки, и все пропало в струях воды и пузырях воздуха. Внезапно Том крикнул:
— Вот она!
Над водой поднялась синяя ракета человека в скафандре. От его ног метра на полтора била упругая струя сжатого воздуха. Но за человеком вылетела почти черная торпеда. Это была рыба, огромная рыба без хвоста. Там, где у земных рыб располагался раздвоенный хвостовой плавник, у этой было отверстие, из которого истекал плотный ствол воды. Ютта летела почти параллельно поверхности моря, в экране были видны набегающие волны, чудовище тоже. Однако через секунды, а может быть, и часы, несовершенный двигатель отказал аборигену, и реактивная ракета мягко вошла в воду. Только сейчас Эррера рванул рычаг, и вездеход почти совсем выскочил из воды, набирая скорость.
— Купальный сезон отменяется! — рявкнул Эррера, выдергивая разведчицу из воды.
— Что это было? Что это было? — повторяла она испуганно.
— Девочка моя! — пробормотал он, не отвечая на вопрос и прижимая к себе мокрую Ютту. Он впервые обнял ее, не стесняясь ни людей, ни всевидящего блюдца телевизора и друзей, сидящих у экранов. Он сам был смертельно испуган и даже не постарался этого скрыть. Только через час, когда она пришла в себя, Ютта поняла, как она дорога ему. Она мучительно покраснела, вспомнив о своем снисходительном отношении к нему, когда они познакомились. Сейчас, в его руках, она чувствовала себя в полной безопасности, хотя была еще бледна и тяжело дышала.
— Да. Что-то мне и самой не больно хочется туда, — пробормотала она. — Слишком быстро они плавают. Спустим лучше камеры.
У них были подвесные герметические камеры. Этакие хрустальные шарики на ниточках, вроде удочки рыболова-любителя.
Битых три часа они утюжили море. Ходили во все вероятные, с их точки зрения, места, где можно было обнаружить естественную жизнь, потом в наименее вероятные. Две камеры были проглочены кем-то, они успели увидеть только черные пасти ртов. Так и осталось неизвестным — большие это были животные или нет.
— Послушайте, ребята, а почему в море есть хищники, а на суше нет? — вдруг спросил Эррера.
Никто не ответил.
— Почему? — упрямо повторил он. — Почему даже в реках и в озерах нет хищников, а в море даже такую крупную дичь, как Ютту, и то чуть не слопали? Том, почему?
— Не знаю. — Гаррисон был задумчив. — Может, это результат своеобразного развития местной жизни? А может, это следствие деятельности разумных существ с других планет?
— Фью! — пренебрежительно присвистнул Мартин. — Уже триста лет группа психов на Земле пытается провести идею инопланетян. Сказки для взрослых. А посолиднее гипотезы у тебя нет?
— Нет, — обозлился Гаррисон. — Так же как у тебя. И вообще, мы ищем разумную жизнь в воде. Бери пример с Ютты.
Ютта лежала в кресле, превращенном в удобный диван, и смотрела в экран. Она настолько была поглощена зрелищем подводной жизни, что ноги ее время от времени отрабатывали движения кроля.
— Никакой разумной жизни здесь нет! — внезапно сказала девушка. — И искать больше нечего!
— Все только жрут и жрут друг друга, — с досадой и отвращением пробормотал Эррера.
— Это только тебе непривычно, милый! — успокоила она его. — На нашей Земле, то есть под водой, точно такая же столовая, мелкого кушает средний, а среднего — крупный.
— Ну что ж, ничего мы здесь больше не найдем, — констатировал командир. — Возвращаемся!
Дальнейшие изыскания проводились на суше. В ближайшее время сделали два кинжальных прохода: в северном, по-местному, направлении и на запад. Оставляли вездеход на видном месте, а потом бродили по напоенному чудовищно прекрасными ароматами лесу, открывая все новые травы, цветы, фрукты.
— Ну, как спали, мальчики? — спросила Мзия тоном врача, совершающего обход.
Отряд вышел из ракеты для утренней зарядки.
— Хорошо спали, — ответил за всех Антуан.
Команда, охая и зевая, но все быстрее и быстрее включалась в разминку.
— Эррера, — Мзия оказалась за спиной командира, — как у тебя со сном?
— Ужасно! Вчера снился отлет. Я перед главным пультом, рядом Ютта. Первая скорость уже набрана, перехожу к рукояткам второй. А их нет. На пульте гладкое место. Спрашиваю Ютту: “Ты видишь, ручек нет!” — “Вижу, — говорит, — и черт с ними!” И мне тоже стало все равно. Я этот сон вижу три ночи подряд!
— У Жаннет то же самое. Подавленное состояние, сгнившие деревья. На вид целое, а ткнешь — разваливается в труху.
— Она тебе жаловалась?
— Нет, — медленно ответила Мзия, — я сняла у всех вас сонограммы сегодня ночью. На экране это выглядит ужасно!
Команда собралась около них.
— У кого еще сны, ребята?
Все переглянулись.
— У меня нету никаких снов, — сказал Антуан.
— У тебя, Том?
— Ужасные, — ответил Гаррисон. — Но я помню, что в детстве тоже видел страшные сны.
— Скажите, мальчики, состояние опасности с течением времени проходит или бывает усиление страха?
— Это не страх. Это — тревога! И самое странное заключается в том, — сказал Эррера задумчиво, — что на море, когда было чего пугаться, мы беспокойства не испытывали. Верно, Ютта?
— Я решила запретить любые походы в глубь континента, — сказала Мзия Эррере, когда все разошлись. — У вас сдают нервы. Сны — это только симптом!
— Приводи нас в чувство, не прекращая работ. Это твое дело, твой долг. Ты знаешь, чего стоила эта экспедиция! На Земле нужна каждая пара рук. Люди заняты, и все-таки они поверили нам. И я не позволю, чтобы из-за каких-то страхов все надежды, планы и работа оказались перечеркнутыми.
Он сказал правду. Люди были очень заняты. После века ядохимикатов и биостимуляторов, в результате которого почва и вода родной планеты стали ядовитее Акфы Тофаны семейства Борджиев, наступила эра захламления Земли. Потом — “Эра великой очистки”. Между тем Homo sapiens плодился и расселялся и, цепляясь за каждый кустик около своего жилья, вырубал леса, выжигал насекомых и таскал с места на место уставших от путешествий лягушек и зайцев.
Ко времени отлета не только человечество, но и каждый человек почувствовал себя ответственным за планету, на которой он жил. Шло Новое Время людей, освобожденных от необходимости ради сиюминутных нужд вскрывать вены Земле и вспарывать ей чрево. Наступал экологический Ренессанс, более прекрасный, чем Возрождение XV–XVII веков. Тяжелая это была работа, и улетевшие космонавты понимали, что через четыре года отсутствия они не могут вернуться с пустыми руками.
Самое удивительное, если можно было еще удивляться на экой планете, состояло в том, что на всех деревьях, на большинстве кустарников и даже в травах они находили прекрасные плоды всех цветов и форм. Анализ показал, что все плоды съедобны. Они так пахли, что Рэд и Ютта первыми откусили от райских яблок, а затем уж и группа стала питаться фруктами, орехами и плодами.
— Хорошо здесь! — сказал Антуан. — Не надо думать, откуда взять вымерших китов и волков, чем дышать, что пить! Можно уйти в лес, дышать медом и ничего не знать о чужих людях.
Жаннет с удивлением посмотрела на него.
— Райский сад, — отозвался Гаррисон, откусывая кусок красного соленого яблока, острого и будто перченного.
— Медовый сад, — поправила Ютта лениво, жуя медово-сладкий огурец.
Они сидели на повалившемся стволе дерева, вытаскивая из мешка плоды, кому что попадет, и наблюдали за стадом хоботных коров, пасущихся метрах в тридцати.
— Нет, — сказал Эррера. — Точнее, это Медовый рай. Слушайте:
Чуждый край незнакомого счастья Мне открыли объятия те, И звенели, спадая, запястья Громче, чем в моей нищей мечте.— Верно! — кивнул головой Антуан. — Здесь еще лучше чем в наших нищих местах!
— Ну почему же нищих? — пробормотал Гаррисон.
— А я бы остался здесь! — не унимался Пуйярд.
— Рай, но где-то здесь поблизости должен быть дьявол, — заявил Селинджер. Он теперь тоже стал ходить в походы.
— Идиллия, — сказала Ютта. — Едим дикие плоды среди девственного леса и пасем коров. — Все улыбнулись.
— Для равновесия должен быть дьявол, — упрямо повторил Рэд.
И словно в подтверждение его слов или вызванный ими как заклинанием, дьявол появился.
Это был синий лебедь, который всем так нравился в первый день знакомства. Сейчас он был, пожалуй, еще красивее. Широко распластав крылья и вытянув вперед длинную изящную шею, лебедь планировал в воздухе, набрав скорость где-то за лесом. Они любовались им, а он завис над хоботными, вытянув вниз шею, и вдруг громко закаркал. Звуки, издаваемые птицей, обладали богатыми модуляциями. Услышав карканье, неповоротливые хоботные бросились было в разные стороны, издавая жалобные визги. Но очень скоро, как бы под влиянием какой-то силы, остановились дрожа. “Лебедь” как стрела спикировал на огромную тушу, клюв воткнулся в шею добродушному травоядному, и оно, крутанувшись на месте, рухнуло в траву, уронив хоботы. Дьявол, “вызванный” Селинджером, немедленно оседлал поверженного и обхватил верхнюю часть его тела крыльями так, что эта половина совершенно исчезла из вида. Тем временем еще пять каркающих существ спикировали на оставшихся животных, убили их и мирно расселись на них по двое. Один оборотень парил в небе.
— Седьмой кинется на нас. — Том побледнел и начал шарить по траве, ища пистолет. Он не отводил глаз от парящего “лебедя”.
— Спокойно, Том! — Голос Эрреры был почти угрожающим. — Надо обойтись без стрельбы!
Синий лебедь все так же парил в небе, будто свесив вниз голову с яркими зелеными глазами.
— Рассматривает! — сказала Мзия.
Неожиданно синий лебедь будто сорвался с нитки, на которой был подвешен. Он падал вниз быстрее, чем камень. Он падал злобно каркая, и все сидели неподвижно, словно не на них пикировало это свирепое существо.
Внезапно рука Гаррисона наткнулась в траве на пистолет. Он схватил пистолет таким же проворным движением, каким змея хватает свою жертву. Рука сама автоматическим движением перевела предохранитель Лицо Тома размягчилось, теперь напряжение перешло в глаза. Это были не глаза даже, а два прицела, направленных на птицу. Синий лебедь был уже совсем близко.
— А-а-а! — простонал Том и навскидку выстрелил лучом.
Синий лебедь обмяк и упал в кусты, с хрустом ломая сучья.
— Том! — отчаянно крикнул Эррера.
Но Тома уже невозможно было остановить. В душе у него был страх, а в руке оружие. И лицо его по-прежнему не предвещало ничего хорошего. Зрачки стали почти белыми, губы скосоротила страшненькая улыбочка.
— Бежать! — приказал командир.
Десантники вскочили. Том, еще сидя на траве, резанул лучом по первому из сидевших чудовищ. Дьявол развалился пополам, крылья его скоробило судорогой, и сначала одна, а потом вторая половины съехали в траву. Ютта вскрикнула.
— Бежать! — повторил Эррера яростно.
И все ринулись к ракете.
Разговоров хватило на целый вечер. Тома ругали, хотя все понимали, что кому-то он спас жизнь. Так что окончательно ему досталось только за убийство сидящих “лебедей”.
— Да-а. Это тебе не “бой с тенью”! — лениво и поучительно сказал Крошка Тому, когда “проработка” виновника кончилась. Рэд плотно поужинал, и к нему вернулась обычная медлительность. — “Синий лебедь”, — он фыркнул. — Придумали же название!
— Это все Медовый рай! Он нас расслабил, — подвел теоретическую базу офицер. — Однако стрельба — не способ контакта, даже если имеешь дело с неразумным существом! Так эти лебеди нашими стараниями попадут в Красную книгу! — Он не шутил.
И все же всем стало не по себе при воспоминании о встрече в лесу с синими лебедями.
До чего же хорошо и уютно было им в ракете. Это был их дом и их крепость. Здесь была частичка Земли, обжитой и безопасной. Ракета, как в старые времена посольское здание на чужой стороне, обладала экстерриториальностью. Это было убежище свободного и независимого человечества.
После ужина Эррера и Крошка выехали на вездеходе в поисках тела гидры, так они переименовали летающего дьявола. Поздно вечером они вернулись с мертвым лебедем на крыше машины.
Десантники обступили вездеход, рассматривая свесившуюся голову чудовища. Антуан срезал палку и ею шевелил гидру.
— Смотрите, товарищи!
Кожаные крылья, защищенные снаружи роговыми пластинками, с внутренней стороны были покрыты мелкими прыщиками, тесно, один к одному покрывшими всю поверхность крыла.
— Орган пищеварения, я думаю, — сказал Рэд. — Смотрите, железы еще, выделяют жидкость, по-видимому желудочный сок.
— Наверное. Результат мы видели.
— А лап у нее четыре. — Антуан вывернул из-под груди чудовища короткую, но сильную лапу с шестью пальцами.
— Задние для ходьбы, они массивнее, передние же имеют какие-то другие функции, вероятно охотничьи… а это что? — Рэд указал на срезанную часть клюва, из отверстия которого торчал белый роговой или костяной шип. — Этой штукой оно скорее всего убивает! Каплю видите? Уверен, что это быстродействующий яд!
Десантники переглянулись. Лица были серьезны. Даже мертвая тварь внушала отвращение и страх.
— Налюбовались? — спросил Эррера. — Тогда в анализатор ее!
Он сел в машину, подъехал к биотрансформатору и сбросил тушу на поддон приемника анализатора. Стальной лист, похожий на гигантский противень, с телом чудовища втянулся внутрь, задняя стенка закрылась, и машина тихонько загудела. Через час собрались здесь же.
— Они не могут быть разумными, — сказала упрямая Ютта. — Они слишком противные! — Все засмеялись. — Да, — настаивала девушка, — и они убийцы! И способ есть…
— А ты ожидала гуманоидов? — возразил Том. — Бронзовых мужчин и голубых женщин с огромными и прекрасными глазами? А разумных кольчатых червей, например, ты бы не признала?
— Но они убийцы!
— А люди не убийцы? — вдруг вмешался Антуан. — Люди не едят мяса всего живого? — и жестко закончил: — Это не аргумент!
— Мне кажется, — сделала вывод Ютта, — что нужно искать контакт. Только тогда мы решим — разумны они или нет?!
— Хватит дебатировать, — сказал Эррера. — Что показал анализ?
— Много чего. — Том был сдержан. — Это странное животное правильнее было бы окрестить гидрой. По типу организма оно близко к нашим кишечнополостным. Имеет две независимые пищеварительные системы. Одна — внутренняя, похожая на примитивную систему млекопитающего, вторая — внешняя, пищеварение производится с помощью выделенных внутренней частью крыльев соков. — Он на минуту потерял вид докладчика и фальцетом сказал: — А желудочные соки, ребята, способны разъедать легированную сталь! — Он помолчал и торжественно сказал: — Самое интересное, что в той части туловища, где начинается шея, нами найден мозг. То есть развитый мозг. Машина сделала что могла, но животное мертво и сведения получены ограниченные… И еще. Есть участок мозга, вроде бы как-то связанный с речью!
— Мы ничего, кроме карканья, не слышали! — сказал Рэд.
— Не перебивай его.
— Нет, ничего, — отозвался Том. — Я кончил… Да, они яйцекладущие и это была самка.
На следующее утро Эррера, Том и Антуан втащили на вездеход громоздкий лингвистор, проверили злополучные пистолеты и, попрощавшись с остальными, отправились искать синих лебедей.
Увидели они их неожиданно. Существа мирно сидели на кустах, как при первом знакомстве. Шум моторов их, видимо, не пугал, они вяло повернули головы и уставились на людей мутновато-зелеными глазами.
— Жрут! — Антуан вполне естественно изобразил отвращение.
— Не вспугнуть бы. — Эррера говорил выразительным шепотом. — Тащите лингвистор!
— А ты защищай, — сказал молчавший до этого Том. Лучшим стрелком из них был офицер.
— Поставим лингвистор на крышу, а сами сядем в вездеход и возьмем микрофоны, — сказал Антуан, когда они втроем затащили тяжелый прибор на крышу. — Пэпэ выбросим поближе к ним! — Они немного трусили, и это будило их изобретательность.
Так и сделали. Эррера отнес поближе к гидрам пэпэ, так они называли штатные приемопередатчики, и вернулся в вездеход.
— Теперь ждать, — сказал Том, — когда они нажрутся!
Примерно через полчаса настороженного и томительного ожидания они увидели, как одно из чудовищ слезло с куста. С бывшего куста, на нем остались только наиболее толстые ветви, без коры и еще влажные. Одна за другой гидры покидали свои места. Глаза их засветились ярким изумрудно-зеленым светом. Эррере даже показалось, что в них теплится мысль.
— Включи сирену, Том! — сказал командир, не отрывая взгляда от синих лебедей. — Надо их расшевелить!
Завыла сирена. Когда ее унылый рев кончился, Антуан начал вращать верньеры, ловя частоты.
— Поймал! — крикнул он.
Эррера и сам понял, что они попали в диапазон звуков, издаваемых гидрами. На верньере засветился красный сигнал.
Лингвистор мог и самостоятельно настроиться на нужную волну, но поиск был своеобразной охотой и даже погоней за звуками. Операторы всегда делали это сами. А поднастройка была уже автоматической. Теперь лингвистор передавал карканье и потрескивание. Он анализировал чужую речь, если это вообще была речь в человеческом понимании. Том и Эррера внимательно прислушивались, боясь пропустить начало контакта.
А лингвистор все трещал, не фильтруя и выдавая звуки без перевода. Карканье и треск, временами переходившие в подобие чириканья или щебетания, только резкое и неприятное, и фон. Антуан остервенело крутил ручки верньеров.
— Диапазон двадцать пять — шестьдесят пять тысяч герц, — сказал он, тяжело дыша.
— Вижу! — мрачно отозвался Эррера. — Послушай, Антуан, может быть, на звуковые и ультразвуковые волны накладываются оберчастоты или есть магнитные параллели и они несут смысл?
Пуйярд пожал плечами:
— Попробую. Хотя боюсь, что лингвистор сейчас занят анализом и мы его просто собьем.
Он еще десять минут настраивал аппарат. Где-то в районе дециметровых волн и слабых электромагнитных поочередно на тех и других лампа светилась красноватым светом, но при совмещении обеих частот все гасло.
— Эта проклятая штука испортилась! — Эррера не был занят настройкой, поэтому его терпение лопнуло раньше других.
— Не может быть, — возразил Антуан. — Ее проверяли на Земле по всем диапазонам. А я проверил здесь. Переводил со старофранцузского на современный. И прекрасно!
— А другие диапазоны? Почему ты думаешь, что все каналы целы? Почему все думают, что каждый прибор, попав в другие условия, перенеся транспортировку, посадку и прочее, остается целым и невредимым? Почему?
— Ты зря ко мне привязался со своими “почему”. Я не знаю.
— А проверить ты можешь? Нет? Тогда домой! Контакт не вышел!
Антуан и Том полезли из вездехода. Пуйярд был настолько обескуражен, что даже забыл об опасности. Вместе с Гаррисоном они сняли лингвистор, подтащили пэпэ и запихнули в салон вездехода. Гидры сидели по-птичьи, глядя на них выпуклыми фасеточными глазами. Они перестали питаться, но и на людей напасть не пытались. В их поведении было что-то чрезвычайно сознательное, хотя доказать это земляне не могли.
— Ну, видели? — спросил Эррера товарищей, когда они голодные, усталые и злые вернулись на базу. Они молча ели и не реагировали на вызывающий тон командира. Откликнулся один Рэд.
— Видели, — сказал он, отложив ложку. — Но мне показалось, что лебеди сидели, как зрители первого ряда в театре. Они смотрели, и мне даже показалось, что они обменивались впечатлениями.
— Они просто нажрались листьев и переваривали пищу, — презрительно сказал Том. — Бросьте приписывать им интеллект!
— Я не уверен, что эта штука цела. — Эррера показал на лингвистор. — Хотя и не уверен, что она испорчена!
— Что ж, — подытожила Жаннет. — Нет другого выхода, кроме трансформации?
И всех немного зазнобило от воспоминаний.
— Подождите немного, — с сомнением сказал Эррера. — Сделаем еще один — два похода!
До позднего вечера командир просидел за видеограммой их спуска и приземления. Хорошо, что приборы сами засняли вид планеты с различных высот. Что-то он, видимо, нашел, потому что долго еще консультировался с Кэндзибуро Смитом, показывал ему какое-то место на видеограмме и что-то бурно обсуждал с японцем. Даже рассматривали видеограмму через оптический умножитель.
Наутро следующего дня разведгруппа в составе Рэда, Мзии и Эрреры отправилась курсом юго-юго-восток, имея на борту вездехода двойной запас энергии и вооружения для трех человек. Позаботились и о воде. Не взяли только еды: умереть от голода здесь было невозможно.
Шли на хорошей крейсерской скорости около восьми часов. Рельеф местности был пересеченный, и это давало возможность природе собрать деревья и кусты, цветы и травы в такие роскошные пейзажи, что подчас невозможно было оторвать взгляд. К счастью, вся эта удивительная красота автоматически записывалась для потомков на видео.
К заброшенному городу выскочили совершенно неожиданно. На той же скорости, что и в походе, вырвались на поляну, а точнее, на большую закругляющуюся просеку. За этим четким полукругом прежде всего бросались в глаза невысокие строения с обтекаемыми углами и закругленными окнами, какие-то конструкции технического или метрологического назначения и… аллеи, дорожки. Аллеи, обрамленные двумя рядами деревьев, разноцветных, ярких, но посаженных так же, как это принято на Земле — стройными рядами в линию.
С восторженным визгом Мзия, была ее очередь сидеть за рулем вездехода, направила машину к ближайшему зданию. Но… пройдя поперек просеки, машина углубилась на территорию городка не более чем на двадцать пять метров. Какая-то невидимая сила, будто гигантская резиновая петля, начала останавливать, тянуть обратно, выпихивать из зоны. Двигатель бессильно выл, как животное, не понимавшее, что с ним происходит. Когда Мзия в испуге заглушила его, вездеход сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее заскользил обратно. Неведомая сила даже развернула его боком, и, если бы Эррера, успевший пересесть на место водителя, не выправил руль, машина завалилась бы. На просеке движение прекратилось, и все перевели дух.
— Ничего себе! — прокомментировал командир, вытирая на лбу капельки пота. — Какая-то волновая защита. Какие-то неизвестные поля! Вот это и указывает на наличие высокоорганизованного разума, черт возьми! Попробуем еще раз. Но сначала погрузим в вездеход камни, мы слишком легки.
Килограммов триста камней загрузили за четверть часа. Эррера сам сел за управление. Но и лихой “кавалерийский набег” не удался. Вездеход, правда, проник на территорию городка метров на пятьдесят, но затем все повторилось — вездеход обиженно выл, а нечистая сила тащила их из зоны со сверхъестественной легкостью. Кроме того, что они оказались выброшенными из города, выяснилось, что металлические части двигателя просто раскалились, а неметаллические нагрелись градусов до восьмидесяти — ста.
— Так мы только загубим машину, — сказал хладнокровно Рэд. — Попробуй, Мартин, поискать дыру в заборе.
Ничего не ответив, Эррера двинулся по просеке вдоль невидимой стены Каждые двести метров он пытался въехать в город, но каждый раз машина испытывала ощутимое сопротивление незримого поля. Наконец они остановились, пораженные. Прямо напротив них высилась скульптура. Почти земное произведение искусства. Хотя и раскрашенное по-местному ярко.
На высоком, с одной из сторон гладком до блеска постаменте из неизвестного металла или сплава стояло какое-то существо, а может, это было животное, с большими, выпученными глазами. Оно напоминало скорее жука с сорока или пятьюдесятью ножками по обеим сторонам брюшка. Верхние ножки или ручки держали хорошо знакомую им птицу. Скульптура была накрыта металлическим же зонтом, который, впрочем, не мешал обзору.
— Да это же синий лебедь, — сказала Мзия.
— Как бы нам попасть туда? — озабоченно сказал Эррера. — Как нам туда попасть! — вдруг заорал он в бешенстве.
— Попробуй снять с себя металл, — сказал Рэд. — И иди туда голышом!
Эррера начал лихорадочно стягивать с себя комбинезон и прочую одежду Остался в одних трусах. Потом подошел к стене, сделал движение рукой, будто он кого-то толкал ладонью в живот, обернулся с какой-то растерянной, совсем не свойственной ему улыбкой и шагнул вперед.
И стена его пропустила. Правда, как он говорил после, это произошло не без некоторого сопротивления со стороны упругой преграды. Проникновение сопровождалось жжением во всем теле. Но ожогов на коже не осталось. Мзия, провожаемая обеспокоенным взглядом Селинджера, прошла за Эррерой.
Переправившись на ту сторону, они первым делом побежали к скульптуре. Теперь стало видно, что существо на пьедестале больше всего похоже на скарабея, а лапки его, совершенно одинаковые, непрерывными рядами располагаются между передним и задним хитиновыми щитками, закрывающими спину и грудь. Только на некоторых верхних лапках с двумя пальчиками были острые когти-ножи и когти, напоминающие пинцеты или миниатюрные плоскогубцы. Выпуклые глаза на самом деле оказались похожими на какие-то оптические приборы. А может, это только казалось людям По-видимому, жук был выполнен в натуральную величину, так как синий лебедь, которого они хорошо знали, был как живой. Натуральность лебедя подчеркивалась очень точной, совсем естественной раскраской Похоже было, что красный, переливающийся жук довольно неплохо воспроизводил местное разумное животное. Двумя десятками лапок жук как бы поддерживал клюв синего лебедя, из которого виднелся белый шип.
А то, что показалось им сначала зонтиком, имело большое отверстие посередине. Но изнутри этот полузонтик оказался выложенным металлическими зеркалами. В них можно было увидеть скульптурную группу со всех сторон и каждую мелочь отдельно, но все это одновременно.
— Я понял, — улыбнулся Эррера. — Я догадался. У них глаза устроены, как у некоторых насекомых — каждая фасетка видит отдельно. Чтобы скульптуру можно было увидеть одновременно со всех сторон, они делают круговые фасеточные зеркала!.. Но попробуем пройти дальше.
Они двинулись к плоскому одноэтажному строению, которое больше всего напоминало холм, изрытый входами и норами. Однако через двадцать метров они уткнулись в такую же упругую стену. Через это препятствие они пройти уже не смогли. Ни одна из их попыток не увенчалась успехом. Невидимое препятствие раз от раза становилось только горячее. К тому же Рэд бесновался у первой стены, клянясь, что он покинет свой пост, придет и унесет Мзию, а Эрреру размажет по невидимой стене так, что она сразу станет видимой. Кроме того, пошел дождь.
Они повернули обратно, когда Мзия неожиданно заметила, что с той стороны, где постамент гладко отшлифован, скала, торчащая из земли неподалеку от памятника, имеет правильную форму.
— Смотри, Эррера, это же сидячие места для синих лебедей, — сказала она.
— Ты права, Мзиюшка, — сказал офицер, подходя к четырем рядам камней, опускающимся наподобие амфитеатра. — Кто же здесь принимал участие в торжественных церемониях, жуки или лебеди?
— Ой, — сказала Мзия. — Здесь что-то видно!
И правда, на полированной поверхности пьедестала блуждали какие-то цветные сполохи. Они постояли немного, но ничего интересного не обнаружили. Наверное, это было простое украшение.
— Кин нет! — сказал Эррера. — Давай выбираться отсюда. Вышли они неожиданно просто, хотя тоже точно через сено или вату.
Чтобы не обижать Рэда, его тоже пустили посмотреть местное творчество. Они с удивлением наблюдали, как капли дождя беспрепятственно падают на кусты и листья за стеной.
“Домой” они прибыли затемно. Но никто не спал. Оказывается, стена экранировала электромагнитные волны, и все, что происходило за стеной, осталось тайной для их товарищей. Заснули где-то в пятом часу условной ночи.
Наутро следующего дня после завтрака провели экстренное совещание. В связи с новыми обстоятельствами решено было трансформироваться. Мзия кропотливо исследовала психическое и нервное состояние всех членов команды. Потом Гаррисон исследовал ее. Ребята были в норме, хотя и волновались. Причем больше всего был взволнован остающийся Том Гаррисон, да еще Жаннет Пуйярд, всегда такая уравновешенная, если не флегматичная. Все были годны, хотя и неизвестно, какой бы кончилось истерикой предложение одному из них остаться.
Эррера отозвал Ютту в сторону. Он был взволнован и не мог этого скрыть, а может быть, не хотел.
— Ютта, я не отговариваю тебя от трансформации, хотя был бы счастлив, если бы ты оста…
— Нет, Эррера!
— Я знал. Но хочу тебе сказать, что мы можем не вернуться, можем вернуться с искривленной психикой, можем… я не знаю, что может произойти с нами. И я хочу, чтобы ты знала, — я люблю тебя. Не умею выразить этого словами… часто хотел, но не мог выразительно сказать. А может, и не надо было?
— Не надо! Я и так чувствовала. Иногда… Но хорошо, что ты это сказал! И я тебе отвечу: ты настоящий мужчина, милый! И я с тобой не боюсь ничего!
— Я чувствую себя высоким блондином! — сказал насмешливо Эррера и улыбнулся. Он знал о вкусах Ютты.
Спокойно, без оживления и обычных шуток десантники обступили Биотрансформатор. Машина гудела, подрагивала, как будто она тоже была возбуждена предстоящим., представляла, что сейчас произойдет.
— Срок — три дня, резерв — еще два! — металлическим, четким голосом сказал Том. — Время сбора — солнце в зените!
И все посмотрели на взошедшее солнце.
— А теперь… — он сделал многозначительную паузу. — Первый в Биотрансформатор! Кто первый?!
Эррера выступил вперед, обернулся, попрощался взглядом с товарищами и шагнул на площадку аппарата. Это был его долг командира. Десантники застыли, только на лице Ютты, сером и судорожно-неподвижном, дергалась невидимая жилка под глазом.
Эррера лежал на поддоне ничком, как предписывалось инструкцией, головой влево. Он лежал, не шевелясь и вытянув руки вперед. Прошло несколько минут, и обнаженное тело командира стало распухать, удлиняться, терять человеческие формы, цвет и вдруг за пять — шесть секунд быстрого, почти неуловимого для глаза превращения, трансформировалось в упругий корпус голубого лебедя, сверкающего вороненой синевой.
Гидра каркнула и перетащила свое тело за край площадки, а затем неуклюже поползла ближе к лесу. Там она распластала крылья по земле и затихла.
Не глядя в сторону своего командира, один за другим ложились разведчики на поддон. Наконец Гаррисон остался один.
— Старт! — крикнул Том и махнул рукой.
Синие лебеди сначала тяжело, потом легче и легче замахали кожаными крыльями и поднялись в воздух. Два круга над ракетой, и караван полетел на восток, ведомый неизвестным инстинктом, а может, и неизвестным разумом. С этого мгновения о их судьбах можно было получить известия только по телевизорам. Миниатюрные камеры были повешены десантникам еще до трансформации. Но кто мог знать, долго ли послужит аппаратура, когда оператор не имеет рук и не вполне владеет своим сознанием?
Том долго глядел им вслед.
Подробности их дальнейшей жизни со слов Эрреры.
— В первый момент после превращения состояние было как всегда паршивое. Я еле слез с платформы и добрался до края луга. Сознание было еще человеческим, я понимал, что должен подождать остальных, но мною уже владело предчувствие опасности. Я был готов к бою, я знал, неизвестно как, но знал, что камеры в носу по обе стороны боевого шипа полны яда. Очень хотелось есть. Это чувство голода, как я теперь понимаю, сильно отличается от человеческого — голодным было все тело. Была слабость, и я сознавал, что это слабость от голода. Раскинул крылья по земле и почувствовал, что слабость понемногу проходит. К этому времени мои товарищи гидры собрались рядом со мной, они тоже были слабы, некоторые намного слабее меня. Я чувствовал и воспринимал их мысли: “Опасность неизвестно откуда”, “питаться, питаться” и настойчивое “я человек”.
Довольно скоро мы во всем разобрались. Усваивали пищу крыльями и брюхом. Впитывать могли органику прямо из почвы, но она усваивается медленно и условно невкусна. Самое вкусное трава, листья, плоды. Плоды можно есть и ртом, при этом появляются приятные вкусовые ощущения.
Отлетев от ракеты на такое расстояние, что ощущение опасности исчезло, мы сразу же сели “питаться”. Переваривали траву и кусты почти до корня. Надо сказать, что легче перевариваются и вкуснее — животные. Однако животных надо предварительно убить. Убивать приятно, “усваивать” теплое животное вдвойне приятнее. Мы уже знали вкус убийства, если так можно сказать.
Подкрепившись, вот точное выражение, именно подкрепившись, мы лежали на земле и могли разговаривать. Да, разговаривать. Карканье, которое было нам известно до трансформации, это основная несущая звуковая частота. Она может передавать какую-то долю простейшей информации. Очень ограниченный круг сигналов. Но на эту частоту накладываются обертоны высоких и сверхвысоких частот. Кроме того, звуковые оберчастоты чередуются со звуками электростатических полей. Они перемежаются на манер гласных и согласных в человеческом языке. С новым способом передачи мысли освоились как бы автоматически и быстро привыкли к “голосам” друг друга. “Голоса” окрашены так же индивидуально, как и человеческие, и мы быстро привыкли.
Что меня больше всего поразило, так это возможность передачи наших мыслей. Сложные, абстрактные понятия передавались без труда. Значит, их информационный аппарат был подготовлен к обмену сложной информацией. Если они могут передавать и воспринимать мысли, — значит, они сами могут мыслить. Значит, они разумные? Неожиданное открытие!
Мы были крупными экземплярами гидр. Все понимали, что это хорошо. И мы очень нравились друг другу.
— Я даже влюблена была в синего лебедя по имени Эррера! — вмешалась в рассказ Ютта, ехидно улыбаясь.
— …Да. Мы поняли, что даже человеческий разум лучше всего проявляется, когда мы сыты, инстинкты, так сказать, не глушат. Однако инстинкты нам помогали. Например, мы “знали”, куда нам лететь, где искать укрытие на ночь. Ночной холод и возможный дождь были неприятны.
Я скомандовал лететь, и стая поднялась в воздух. Видели мы все вкруговую. У меня создалось впечатление, что все это кем-то когда-то распланировано. Больно красиво. Я помню свой восторг и удивление товарищей и еще тогда подумал, что гидры отличаются от животных восприятием эстетических категорий. Еще одно подтверждение их мыслительных способностей. Это меня поразило вторично. Но ошалел я, когда мы долетели до гор.
Горы были изъедены водой и ветром, изрыты пещерами. На каменных карнизах около пещер копошились синие лебеди. Их было не меньше полутора сотен, больших и маленьких. Они медленно переползали из пещер на карнизы и обратно, занятые какими-то делами. Это напоминало бы птичий базар на северных островах, если бы… В пещерах не горели костры. Они знали огонь, точнее, мы знали огонь, мы его не боялись и чувствовали уют костра и завидовали теплу в чьей-то пещере.
Мы нашли себе пару пещер и позаимствовали у семейства гидр огонь. За него пришлось драться, они не коллективисты. Потом натаскали сучьев и дров, быстро пригрелись и уснули.
Наутро мы проснулись от пения местных кузнечиков. И это тоже было приятно, несмотря на голод. Утром произошло забавное приключение. Одна из гидр, самка, клюнула Мзию, самую маленькую из нас. Две женщины не поладили друг с другом, и у одной не выдержали нервы. Когда мы выскочили из пещеры, Крошка, всегда такой сдержанный и ленивый, когтем распорол ей кожу от шеи до середины брюха.
— Ага, — сказал Том. — Теперь понятно. А то на экране что-то моталось и крутилось, не мог понять, что именно!
— Рэд озверел, если можно так сказать. Мзие было больно, но живы остались обе. Заживает на них моментально. Остальное стадо сделало выводы. Больше нас не трогали.
Дальше все пошло как по маслу. Мы позавтракали листьями и плодами, потом слушали кузнечиков и валялись в траве на солнце. Летали в разведку по окрестностям, нашли группу озер..
— Это было великолепно, записал все, что вы видели!
— Так прошел второй день. Нам было хорошо там. Как в отпуске, где-нибудь в комфортабельно оборудованных джунглях, когда существует опасность нападения, но ты хорошо вооружен.
Но больше всего это нравилось Антуану Он даже к нам стал относиться как к родным, именно тогда, когда мы потеряли человеческий облик. Он цитировал Библию: “Страна, текущая молоком и медом! — разглагольствовал он. — Ты правильно назвал ее, Эррера, это — “Медовый рай”. “Этой стране, — заявил он в другой раз, — не хватает только Его Величества — человеческого разума. Она должна быть одухотворена божественной мыслью”. — “Не хочешь ли ты сам одухотворить этот рай своей мыслью?” — “И эти убогие существа, — он мотнул головой на синих лебедей, — способны развить свои мыслительные способности!” — “Так ты метишь в “Отцы цивилизации”? — спросил Рэд шутя. — Но ведь у них есть цивилизация. Мы видели целый город!”
Мы думали тогда, что Антуан просто дразнил Крошку.
Следующий день мы опять провели как все. Купались в теплом озере, питались зеленью, спали на солнце и вдыхали ароматы деревьев и трав. Удивительная это была жизнь — сытая, с небольшим расходом сил. Забот у нас, да и у них, не было, изредка драки, изредка любовь. А мы к тому же были сильнее всех в этой колонии. Даже гидры-предводители нас боялись. Верите или не верите, а нам даже начали нравиться некоторые из синих лебедей. Честное слово!
В середине третьего дня семейство, сидевшее на соседнем фруктовом дереве, вдруг поднялось в воздух и потянулось к востоку. К нему присоединилось еще одно семейство. Я скомандовал, и мы прибились к стае. На нас не обратили внимания, точнее, показали нам, что в нашем присутствии не нуждаются. Нас стало восемнадцать че… особей. Летели часа два, пока не показалась зона и город, который мы так отважно атаковали на вездеходе. Самец первого семейства протрещал какой-то звук, нам ничего не сказавший. Похоже, что это был код или пароль, по которому отворялся сезам. После этого мы всей компанией спокойно спланировали на площадку рядом со скульптурной группой.
Тут же самцы забрались на верхние места амфитеатра, самки сели рядом ниже, птенцы — на нижнем ряду. Для нас демонстративно были оставлены соответствующие места. Вот тут-то и началось “кино”. На полированной части пьедестала, там, где мы наблюдали какие-то сполохи красок, теперь показывалась история нынешних хозяев страны.
— Да. Я видел это, — сказал Том. — Я все записал, но не все понял…
— Естественно. Комментарий шел. Непрерывно. Но сейчас вкратце мы расскажем основное. Итак, как мы поняли, исконными обитателями страны были те самые жуки. Само название непереводимое. Жуки создали высокую цивилизацию, мы видели удивительные достижения в области биологии, когда создавались искусственные составы, более вкусные и питательные, чем натуральные, невероятные находки в технике, вы, наверное, видели их транспортные устройства, в медицине… Особенно, пожалуй, в медицине. И вот когда они достигли того, что половина населения, работая десятую часть суток, могла прокормить всех, у них появилась идея — изменить свое потомство так, чтобы последующие поколения, во-первых, могли летать, сами жуки были бескрылыми, а во-вторых, не думать о пропитании, одежде, жилье. Пусть, мол, эти прозаические заботы не отвлекают их от более высоких дел и стремлений. Пусть занимаются “прогрессом”.
Поскольку достижения биологии и медицины были огромны, они имели возможность приступить к практическому изменению внешнего вида своих потомков. Конечно, этому предшествовало всепланетное обсуждение нового облика жителей будущего. Устраивались конкурсы художников-фантастов. Наконец был выбран образ голубого лебедя. Первое время он многим не нравился, сыпались жалобы, заявлялись протесты. Но довольно скоро привыкли.
Когда мнение народа стабилизировалось, начались работы по выведению нового разумного существа. Значительно более разумного и красивого. Недолгое время существовали одновременно две расы, потом жуки вымерли, и остались одни синие лебеди. Да, они были более совершенными, чем их предки, лучше защищены, приспособлены для выживания. Но и выживать-то им было просто. Отцы оставили им Медовый рай, полный вкусной еды, дружественных или безвредных зверей. Оставили им города с жилищами, самоработающими заводами, самовырастающими, передвигающимися клумбами, самопоказывающимися развлечениями; для получения всего этого не нужно было прикладывать ни ума, ни рук. И то, что синих лебедей научили все это использовать и даже совершенствовать, ни к чему в дальнейшем не привело. Почему-то все перестало интересовать синих красавцев. Прекрасно оборудованные лаборатории опустели первыми, — так я себе это представляю, — перебил сам себя Эррера. — Потом начали выходить из строя установки и приспособления. Отказали автоматические средства и методы лечения. И синие лебеди начали дичать. Они переселились из домов в пещеры, и только огонь в их очагах да речь оставляли их пока что разумными существами. Сама информационная установка показывала только достижения жуков. Наверное, для того, чтобы пробудить у будущих наследников гордость за предков, чтобы побудить их идти вперед. Но они не оставили им необходимость в движении. Только одну жажду развлечений. И синие лебеди летают к этому месту, показывают своим детям, чего добились их предки. Может, они надеются, что какое-то из следующих поколений проснется от равнодушия и спячки и хоть что-нибудь сделает?
И тут я обнаружил, ребята, что позабыл стихи. Стихи одного старого поэта. Я сказал об этом Рэду. “И на что они тебе сдались, стихи эти?” ответил он мне. Я не мог сразу объяснить, что меня в этом факте тревожит, и мне пришлось подумать. “Мне кажется, — сказал я ему, — что со стихами я потерял что-то человеческое. И я не уверен, что нечто человеческое не потеряли и вы все”. Он ничего не ответил, но, кажется, согласился.
Наутро четвертого дня, после плотного завтрака (мы сожрали целый лес), когда все решили поваляться, я скомандовал отлет.
И тут Антуан Пуйярд сказал, что остается. “Почему?” — спросил я. “Мне нравится эта жизнь! — сказал он. — Это тот самый рай, о котором мечтало человечество тысячи лет. Что я потерял на грязной Земле, этой пустыне, засиженной людьми, как мухами? А здесь рай. Ты сам назвал его “медовым”, и так оно и есть!” — “Там твоя родина!” — я узнал голос Жаннет. “Родина человека, — он поправился, — родина мыслящего существа там, где ему хорошо! Мне хорошо здесь!”
Он уже не считал себя человеком. Мы уговаривали его все вместе. Мы убеждали его, хотя сами были растеряны. Хорошо сказала Ютта.
“Теперь, — сказала она, — когда мы знаем, как выглядит рай, мы должны воссоздать его на Земле. Мы должны рассказать людям, что должна собой представлять наша планета. Мы сделаем нашу планету такой же и еще лучше. Потому что некому принести нам все блага. Потому что на Земле никому не придет в голову только жрать и валяться на солнце! Мы должны предостеречь от этого”. — “Этой планете сейчас не хватает мысли, — сказал Пуйярд. — Я остаюсь, чтобы пробудить их мысль. И я добьюсь этого. И я буду властвовать над этим миром, который, как я верю, еще при моей жизни обгонит цивилизацию Земли!” — “А ты после смерти станешь их богом! Позаботишься о своем культе еще при жизни!” Впервые Жаннет восстала против мужа.
“Да, стану богом, как тот на пьедестале”. — “А как же Земля, Антуан? Как же наша прекрасная, возрождающаяся Земля? Кто будет лечить ее раны и сажать на ней медовые сады?” Это был голос Мзии. “Десять миллиардов! Я не буду лечить раны, которых не наносил! А ты останешься со мной, Жаннет?”
“Нет! Антуан, а не думаешь ли ты, что, возвратившись в человеческий облик, ты будешь стыдиться своих слов и мыслей?” — “Нет, крошка, не думаю!” — “Тогда летим с нами, и мы обещаем тебе обратный переход. В другом случае… — Рэд угрожающе поднял длинную гибкую шею. Белый шип в трубчатом клюве шевельнулся. — Нас здесь больше!”
Мы уговорили его. Он прилетел. Остальное вы знаете сами…
Гаррисон очень волновался. Солнце давно стояло в зените, а гидры не появлялись. Машина тихонько гудела, готовая к приему гостей. Внезапно из-за леса появились чудовища. Они летели низко и тяжело, растянувшись цепочкой. Видно было, что устали. Первая гидра тяжело рухнула на платформу. Несколько секунд, и Том стащил на почву обессиленную Мзию. Пока он заворачивал ее в одеяло и вливал в рот подкрепляющий бальзам, на платформе трансформировалась следующая гидра. Это оказалась Ютта. Она сама встала, подгибающимися ногами сделала первый шаг и попала в руки Гаррисона.
Одеяло, бальзам, отдых. Жаннет — одеяло, бальзам, отдых. Эррера — одеяло, бальзам… Том метался к платформе, подхватывал тела товарищей, бальзам, более или менее бережно отволакивал в сторону, отдых. Следующим был Крошка. Антуан завис в воздухе на высоте метров двадцати. Видны были даже его фасеточные глаза. Он следил за Рэдом. Огромный синий лебедь тяжело спланировал на платформу и лег. Том стоял наготове с одеялом и порцией бальзама. Селинджер после трансформации сам встал и сделал неверный шаг.
В это время Антуан, громко каркнув, скользнул по воздуху и врезался в Рэда. Удар ядовитым шипом, и синяя гидра села на Крошку, плотно обхватив его крыльями. Тело убитого Селинджера еще некоторое время конвульсивно вздрагивало. Все оцепенели. И только истошный крик Мзии вернул им ощущение реальности. Они признавались потом друг другу, и в этом они все сходились, что первой мыслью было: “Ошибка! Это настоящая гидра, а не Антуан!” Но через несколько минут на платформе появилось два человека: мертвый, сожженный желудочным соком гидры, — Рэд и живой — Антуан.
Внезапно Антуан соскочил с платформы. Ударом головы он сбил с ног Эрреру, сел на него и обхватил руками. Он все еще был синей гидрой.
Рэда похоронили под развесистым оранжевым деревом, за краем площадки. Приволокли камень, пистолетом выжгли на нем надпись. Товарищи были подавлены. К тому же невыносимо молчаливое горе Мзии у них, еще слабых после второй трансформации, отнимало последние силы. Они пытались утешить ее, что-то говорили.
— Не надо, ребята, — монотонно отвечала она на их слова. — Не надо, ребята. Я же психолог. Сейчас я сосредоточусь по системе йогов, сяду и отключусь. — И продолжала ходить.
В тот вечер никто не ужинал. Отнесли в каюту Пуйярда ужин всей группы. Это сделала Жаннет, пытавшаяся скрыть свой страх перед мужем. Но Антуан или не заметил, или же не пожелал заметить ее испуга. Он перестал каркать и кричать. Когда Эррера заглянул в дверь, он увидел, что заключенный ест сидя. Нормально, как голодный, но воспитанный человек. И молодой офицер задрожал от обиды, ярости и горя.
Наутро команда помогла Мзие исследовать психику Антуана. Он был здоров, хотя несколько вял. “Естественная реакция”, — сделала она профессиональное заключение. Вид у нее был страшный, она постарела. Резко обострились черты лица, массивный нос выделялся на похудевшем лице, и даже волосы потеряли свой живой блеск. Ютта всю ночь успокаивала ее, как ребенка, расчесывала ей волосы и пела тихие песни Так они обе и не уснули.
Десантники ходили вялые, говорили тихо, зарядку не делали и даже не позавтракали. Когда же Эррера утром взглянул на экран, он не поверил себе. С телевизора глядел на него не моложавый и уверенный, непроницаемый и строгий капитан, а старик с морщинистым лицом и покрасневшими глазами. Старый человек, подавленный горем.
— Пора начать суд! — зло сказал Эррера после несостоявшегося завтрака. — Занятие неприятное, но необходимое! Приведите Пуйярда! — В торжественную минуту он, незаметно для себя, заговорил, как Кэндзибуро Смит, значительно и официально.
Привели связанного преступника. Он сел, прислонился к ноге ракеты и начал молча рассматривать бывших товарищей, как будто впервые их увидел.
— Антуан Пуйярд, — Эррера встал, — почему ты убил своего товарища Рэда Селинджера?
— Я был голоден.
— Но ведь ты же человек! — не выдержала Ютта.
— Я был голоден. Ты ошибаешься, Ютта, я не был человеком. Я был синим лебедем. И я больше не хочу быть человеком. Человек не единственная форма разумной жизни. Я хочу остаться здесь!
Казалось, что из тени ракеты светят два угля.
— Но ведь и остальные были синими лебедями, но они не убили!
— Я раскаиваюсь в содеянном. Но я был голоден, очень ослабел, а в нем было много пищи! Поймите это!
— Нечего церемониться с этим негодяем! — закричал Гаррисон. — Он только делает вид, что не понимает. Убил товарища, потому что хотел пожрать! Он хуже зверя! Он… он! Дай мне пистолет, Эр-рера, я сам разрежу его на четыре части!
— Прекрати истерику, Том… Антуан, твое объяснение несостоятельно. Гидры не едят друг друга, даже когда очень голодны. Гидры не едят… Кругом был лес, кусты, трава. Еда была!
— Вы судите меня за убийство? — Пуйярд постепенно возбуждался. — А я повторяю, я был тогда синим лебедем!
— Мы судим тебя, кроме этого, за измену! За измену человеческому образу жизни! Но и за Рэда тоже! — голос Эрреры был тверд.
— Как у него с психикой, Мзия? — спросил Том.
— Нормально. Он вменяем. Спокоен. — В ее голосе была горечь.
— Нет! — раздался крик. — Он ненормален! Он сошел с ума!
— Не кричи, Жаннет, — тихо сказал Антуан. — Мзия права, я нормален. Я просто не хочу на вашу зараженную Землю. Я хочу остаться в Медовом раю… И вы не смеете меня судить по вашим законам. Я житель Медового рая, а вы люди Земли.
— Возьмите его с собой! — крикнула Жаннет. — На Земле его вылечат от безумия. Он не преступник! — На нее жалко было смотреть. — Он жертва опасного эксперимента! Его нельзя бросать! Это все равно что бросить калеку или раненого!
— Жаннет, не я, а вы калеки. Вы можете остаться на прекрасной планете властелинами народа. Самыми могущественными, сильными, свободными. Никому ничем не обязанными. Не связанными никакими обязательствами ни перед кем. Вы можете не видеть толпы меднорожих энтузиастов труда. Дышать воздухом и быть вольными, как… синие лебеди! Жаннет, пойдем со мной. Здесь мы заведем детей. Ты ведь хотела иметь детей?
— Я не хочу, чтобы мои дети были гидрами! — Жаннет зарыдала.
Наступило молчание, прерываемое всхлипываниями женщины.
— Мзия, — офицер нашел ее глазами, — а что ты скажешь?
— Я боюсь оказаться пристрастной, — ровным невыразительным голосом сказала она. — Мне больно за Жаннет.
— А действительно, правы ли мы, осуждая Антуана? — Эррера думал вслух. — Кто знает, как работает “обратная связь” при переходе от гидры к человеку? Я очень любил Рэда, — офицер помолчал. — Очень… Но, убив одного, надо ли и второго?
Наступило долгое мучительное молчание. Ответила Ютта.
— Может, мы и не будем его убивать, — сказала девушка. — Но мы судим убийцу. Мы судим предателя, человека, отказавшегося от Родины, от творческого труда, ради сытости и власти!
— Ради свободы! — рванулся вперед Антуан. — Эти полуживотные станут у меня разумными. Я дам им цивилизацию! Я дам им искусство, и я буду свободен и крылат, а вы останетесь рабами друг друга!
— Нет, — сказал ему, сидевший до этого тихо, Том, — не научишь. Искусство там, где есть борьба, движение духа! Искусство может удовлетворить ищущего, возбудить остывающее сознание, указать дорогу потерявшемуся в мире, но что оно может дать отупевшему от сытости?
— И я скажу — нет, — произнес Эррера. — Пусть я останусь рабом восьми миллиардов подобных мне на грязной, по твоему выражению, Земле. Я буду чистить этот нужник, пока он не станет лучше Медового рая. Мне не нужно власти на планете, где нечего делать! Я человек, и мне нужны заботы! И вот, что я еще скажу: да, мы слишком долго упражнялись в стрельбе. Мы были готовы защищаться и убивать. Мы убили, первыми убили разумное существо. Но еще страшнее то, что мы не были готовы к борьбе со сладкой отравой сытого и опасного безделья. Не справились с ароматом благополучия! Но отступником среди нас оказался один. Только Антуан не хочет оставаться человеком.
— Верно! — сказал Том.
— Теперь ответим на вопрос: “Не гидра ли принимала решение?” Нет. Сравнить Землю и Медовый рай гидра не могла. Гидра не видела Земли. Сравнивал человек. — Эррера сделал паузу. — Я предлагаю вернуть ему внешность синего лебедя и стереть память обо всем человеческом!
— А я? Как же я, Эррера? — голос Жаннет дрожал. — Я люблю Антуана, понимаешь? Я всю жизнь знала, что в нем хорошо, а что плохо. Хорошего больше, поверь мне! Мы его вылечим на Земле!
— Жаннет, — голос Антуана был злобен, — я не хочу на Землю.
— Жаннет, — Эррера понял ее и постарался быть с ней мягче, — мы готовы пойти тебе навстречу. Мы оставим тебя с ним в Медовом раю. И, если хочешь, не сотрем тебе человеческую память. Хочешь?
— Нет, — печально сказала она.
Ни тени сомнения не было в ее лице и в ее голосе.
— Нет, — повторила она. — Лучше я останусь вдовой, как Мзия.
— Антуан, ты свободен! — сказал Том и двинулся к Биотрансформатору.
Пуйярд встал. Он помолчал немного, казалось, он что-то хотел сказать, но не сказал, круто развернулся и, ни на кого не глядя, направился к площадке. Потом молча разделся и лег на металлический лист. Головой влево, как предписывала инструкция.
— Антуан! — крикнул Том Гаррисон, доставая пистолет. — Не думай убить еще одного, не долетишь до земли!
Пуйярд поднял голову и презрительно улыбнулся.
С восходом солнца ракета в огне и дыме стартовала из Медового рая. Она исчезла в сияющем небе, и ветер рассеял дым.
Эррера и Ютта сидели рядом в стартовых креслах и смотрели в иллюминатор. Медовый рай опять превращался в маленькую планетку, укутанную серебряной ватой. Полтора года в космосе, и они будут дома. Эррера протянул к ней руку и захватил в ладонь ее пальцы. Тихонько попросил:
— Ютта, роди мне ребенка!
Ее лицо, уши и шея залились краской, но он не видел этого, он ждал Не поворачивая головы, она кивнула.
А над оранжевыми, синими и зелеными лесами, окружавшими покрытую горячими шлаками площадку, в медовом воздухе еще долго раздавалось одинокое карканье.
Вячеслав Рыбаков Домоседы
— Опять спина, — опрометчиво пожаловался я, потирая поясницу и невольно улыбаясь от боли. — Тянет, тянет…
— Уж молчал бы лучше, — ответила жена. — Вчера ведь лекарство не принял. Что, скажешь, принял?
— Принял, не принял, — проворчал я. — Надоело.
— Подумать только, надоело. А мне твое нытье надоело. Надоело, что ты одет, как зюзя. Хоть бы для сына подтянулся.
— Злая ты. — Я опустил глаза и с привычным омерзением увидел свой нависающий над шортами, будто надутый, живот. Жена кивнула, как бы соглашаясь с моими словами, и вновь уткнулась в свой фолиант — ослепительный свет утра, бьющий в распахнутые окна веранды, зацепился за серебряную искру в ее волосах.
— А у тебя опять волосок седой, — сказал я. С девчоночьей стремительностью жена бросилась к зеркалу.
— Где? — она никак не могла его заметить. — Где?
— Да вот же, не суетись, — сказал я, подходя.
— У, гадость, — сказала жена; голос ее был жалобный и какой-то брезгливый.
Я резко дернул и сдул ее волос со своей ладони — в солнечный сад, в птичий гомон, в медленные, влажные вихри ароматов, качающиеся над цветами. Жена рассматривала прическу, глаза ее были печальными. Я осторожно обнял ее за плечи, и она, прерывисто вздохнув, отвернулась наконец от зеркала и уткнулась лицом мне в грудь.
— Спасибо, — она отстранилась. — Глаз-алмаз. Чай заваришь?
Я заварил свежий чай и вышел, как обычно, потрусить в холмах перед завтраком; скоро шелестящие, солнечные сады остались слева, справа потянулись отлогие травянистые склоны — все в кострах диких маков; я уже различал впереди, за окаймлявшими стоянку кустами белую машину сына; я миновал громадный старый тополь; вот лопнули заросли последнего сада, встрепенулся ветер, глаза резанул голубой простор — и Эми, сидящая перед мольбертом у самого прибоя.
Наверное, я выглядел нелепо. Наверное, топал, как носорог. Она обернулась, сказала: “Доброе утро” и улыбнулась мне, эта странная и славная женщина, которую я, казалось, еще совсем недавно так любил. Она исступленно искала красоты; она то писала стихи, то рисовала, то пыталась играть на клавесине и всегда, сколько я ее помню, жалела о молодости: в двадцать пять — что ей не восемнадцать, в сорок — что ей не двадцать пять; до сих пор я волок по жизни вину перед нею и перед женою, словно бы я чего-то не сумел и не доделал, чем-то подвел и ту, и другую.
— Доброе утро, — ответил я.
— Правда же, чудесное! А к тебе мальчик приехал?
— Залетел на денек.
— У тебя замечательный мальчик, — сообщила она мне и указала кистью на машину. — Его?
— Его.
— Знаешь, — она смущенно улыбнулась, опуская глаза, — тебе это, наверное, покажется прихотью, капризом одинокой старухи, выжившей из ума… но в конце концов мы так давно и так хорошо дружим, что я могу попросить тебя выполнить и каприз, ведь правда?
— Правда.
— Он мне очень мешает, этот гравилет. Просто давит отсюда, сбоку — такой мертвый, механический, навис тут… Понимаешь? Я не могу работать, даже руки дрожат.
— Машина с вечера стоит здесь. Ты не могла сесть подальше, Эми?
— Нет, в том-то и дело! Ты не понимаешь! Здесь именно та точка перспективы, которая мне нужна! Она уникальна, я искала ее с весны, тысячи раз обошла весь берег…
Наверное, это была блажь.
— Ты попроси сына переставить гравилет, хотя бы вон за тополя.
— Парень спит еще, — сказал я и вдруг неожиданно для себя ляпнул: — Сейчас отгоню.
— Правда? — Эми восхищенно подалась ко мне. — Ты такой добрый! И не думай, милый, это не блажь.
— Я знаю.
— Я буду тебе очень благодарна, очень. Я ведь понимаю — сегодня тебе особенно не до меня, — она вздохнула, печально и покорно улыбаясь.
Нечто выдуманное, привычно искусственное чудилось мне в каждом ее слове, но нельзя же было ей не помочь, хотя я уж лет тридцать не водил машину; я двинулся было к гравилету, а Эми тем временем выронила кисть и тронула суставом указательного пальца уголки глаз, тщательно демонстрируя, как стойко она скрывает свою боль.
— Я его перегоню, — сказал я.
Гравилет был красив — стремительный, жесткий; правда, быть может, чересчур стремительный и жесткий для нашего острова с его мягким ветром, мягким шелестом, мягкой лаской моря; возможно, это была и не вполне блажь; так или иначе, я обязан был выполнить просьбу Эми, хотя это, по-видимому, может оказаться труднее, нежели я полагал вначале.
Я коснулся колпака, и сердце судорожно сжалось; это было как наваждение — непонятный, нестерпимый страх; не в силах был поверить, что смогу откинуть колпак, положить руки на пульт, зависнуть в воздушной пустоте… Но что тут невероятного?.. Или дождаться сына?.. Я оглянулся, и Эми помахала мне рукой. Я был омерзителен себе, но не мог перебороть внезапного ужаса; тогда, перестав бороться с ним, я просто откинул колпак и просто положил руки на пульт. Гравилет колыхнулся; чувствуя, что еще миг и я не выдержу, я закричал и взмыл вверх; ума не приложу, как я не врезался в тополя; я не видел, как миновал их; машина, сразу брошенная мною косо вниз, ударилась боком, крутанулась, выбросив фонтан песка, замерла, я вывалился наружу и отполз подальше от накренившегося гравилета. Со стороны, вероятно, выглядело очень смешно, как я на четвереньках бежал к воде, но меня никто не видел, и, поднявшись, на дрожавших ногах я вошел в воду по грудь; вода меня спасла.
Блистающая синева безмятежно цвела летними облаками, море переполнено было жидким, колеблющимся светом. Казалось, мир поет; в тишине отчетлво слышалась медленная, торжественная мелодия, напоминающая молитву жреца — солнцепоклонника, мага, иссохшего от мудрости и горестного всезнания… Я плеснул себе в лицо холодной водой.
…Путь домой лежал почти через весь поселок, и на каждом шагу я улыбался и здоровался, здоровался и улыбался; все здесь мы знали друг друга, едва ли пятьсот человек, которым для работы нужны только книги, письменный стол, терминал информатория, холст или, как мне, синтезатор — жители одного из многих поселков, рассыпанных по земле специально для тех, кому для работы нужны лишь книги да письменный стол. Я не смог бы теперь жить больше нигде.
Дети навещали нас. Некогда они рождались здесь, на острове родителей-домоседов, но учились и работали в том мире, который мы давно уже не навещали. Они слушали наши симфонии, читали наши книги, но жили в другом мире. Когда-то поселок напоминал детский сад…
Сын уже проснулся. С веранды слышался приглушенный разговор и счастливый женский смех; стараясь двигаться беззвучно, я обогнул дом и по наружной лестнице проник в свою комнату — шторы действительно следовало снять, прикрыть брюками исцарапанные колени…
— Ну наконец-то, — сказала жена, когда я спустился на веранду. — Мы уже заждались.
— Простите, ребята, — покаянно ответил я. — Встретил Эми на стоянке, попросила перегнать машину за тополя, дескать, мешает композиции.
— Ну, и ты?
— С грехом пополам, — засмеялся я и вдруг заметил, что сын смотрит на меня с плохо скрытой тревогой. Меня будто обожгло — он знал!.. Он что-то знал о моем поединке с гравилетом! — Чаю мне. Чаю горяченького! — Я разглядывал сына с удовольствием и гордостью; он-то мог не стесняться, что на нем лишь шорты да безрукавка, завязанная узлом на смуглом мускулистом животе; он был стройный, жесткий, как его гравилет, глазастый — молодой; и ведь подумать только, какая-то четверть века промахнула с той поры, как несмышленый и шустрый обезьяныш с хохотом вцеплялся мне в волосы; какая-то четверть века, века. Века.
Мы завтракали и очень много смеялись.
— Внука хочу, — с шутливой требовательностью говорила жена. — Лучше — двух. Близняков давай, уговор?
— Мама, думаешь, с девушками легко? Их знаешь как много?
— А Леночка, она ведь так тебе нравилась, даже гостить приезжали вместе, целовались тут под каждым кустом…
Не следовало ей говорить об этом столь бестактно. Лена, младшая дочь Рамона Мартинелли, месяцев пять назад неожиданно улетела на один из спутников Нептуна, и сын, навещавший нас за это время четырежды, выглядел мрачнее, чем когда-либо прежде; мы решили, что у них как-то не сладилось и он переживает ее внезапный, едва ли не демонстративный отлет.
Из-за фокуса Лены даже дружба наша с Рамоном и Шурой, его женою, чуть не разладилась, но оказалось, что их принцесса и с ними повела себя резко — записала лишь одно письмо перед отлетом, коротенькое, минут на семь, и с тех пор вообще будто забыла о стариках.
— Ну, а что Леночка, — с чуть деланной улыбкой отвечал сын.
— Ну, не Леночка, — с чуть деланной улыбкой поспешно отступала жена и все подкладывала мальчишке то ветчины, то пирожных, то пододвигалась к нему вплотную, проверяя, не сквозит ли на него из окна. Я слушал их смех, их разговор, и он непостижимым образом ложился на мелодию, подслушанную мною у мира сегодня; они словно бы пели, сами не подозревая об этом.
— Самоходный очистной комплекс — это еще тот подарочек, мам, — говорил сын. — Нет, не по самому дну. Средиземное кончаем, осенью все звено перейдет в Атлантику…
Было уже сильно за полдень, когда мы поднялись наконец из-за стола, и тут сын спросил, есть ли у меня что-либо новое, и, когда я кивнул, попросил сыграть.
Наверное, это действительно была плохая соната. Я делал ее без особого удовольствия и играл теперь тоже без удовольствия, со смутным беспокойством, не в силах понять, чем она нехороша; она казалась мне рычанием мотора на холостом ходу, бегом на месте, но это ощущение безнадежной неподвижности было у меня от всей нашей жизни, в первую голову — от самого себя. Мне чудилось, будто я чего-то жду, долго и стойко, и музыка лишь помогает мне скоротать время; я словно бы ехал куда-то и должен же был, наконец, доехать туда, где началось бы нечто настоящее. Я заглушал это чувство исступленным метанием в невероятно сложном лабиринте рубиновых вспышек и болезненных вскриков; я знал наверное, что никуда не приеду и нет никакого смысла в этом извилистом потоке организованного света и шума, пусть даже его называют музыкой, — все равно молодой мужчина с цепким взглядом и сильными руками, слушающий теперь меня, никогда больше не вцепится в мою ладонь и не позовет в холмы ловить кузнечиков, и будет прав, ибо его дела куда важнее моих; все равно мать этого мужчины никогда не сможет меня уважать, и будет права, ибо с самого начала я оказался не в силах вызвать в ней уважения; все равно ни одна женщина больше не скажет мне: “Люблю”, и будет права, ибо я никогда не решусь ее позвать, боясь очередной вины, боясь предать уже трех; все равно у меня не будет новых друзей, ибо душа моя не способна создать ничего нового; эта зажатость, эта обреченность на себя доводили меня до исступления, мне хотелось все взорвать, сжечь, и я давил на неподатливую педаль “крещендо” так, что стрелки на шкалах трепетали подле ограничителей, — вот о чем я думал, играя сыну свою сонату, и вот о чем я думал, когда ускользнули последние отзвуки вибрирующего эха, погасли холодные, мечущиеся огни и настала тишина.
— Такие цацки, — сказал я и откинулся в кресле.
— Потрясающе… Что-то итальянское, да?
— Верно, я немного стилизовал анданте. Заметно?
— Очень заметно и очень чисто. Эти зеленые всплески — как кипарисы.
— Уяснил? — удовлетворенно хмыкнул я. — Знаешь, была даже мысль в Италию слетать.
— И что же помешало? — спросил сын с улыбкой, но мне вновь почудилась настороженность в его глазах.
— Да ничего. Не собрался просто. Собственно, что там делать? Про пинии Рима все до меня написали.
— Действительно! — засмеялся он. — Респиги, да?
— Молодец. Память молодая… Так что, понравилось, что ли?
Он помедлил.
— Да… пожалуй, да. Только зачем ты так… шумишь? Сердце у меня так и оборвалось.
— Все вокруг так… — Я запнулся, подыскивая слово, которое бы все оправдало. — Так дрябло… не всерьез… не знаю. Хочется проломить это, чтобы чувствовать себя человеком. Вышло искусственно?
— Нет! Просто… приходишь домой усталый до одури, и хочется чего-то, без надрыва и штурма, чтобы… чувствовать себя человеком.
Мы посмеялись, потом я опрометчиво сказал:
— Понимаешь, я по природе своей… ну, космонавт, что ли…
— Космонавт?! — Он резко выпрямился в кресле, реакция его была куда сильнее, чем можно было ожидать. Я замахал руками.
— В том смысле, что чего-то энергичного хочется. А жизнь вывернула совсем на другую колею. На остров этот сладкий… Я тебе не рассказывал, как подавал в Гагаринское?
— Нет, — медленно проговорил он.
— Был в ранней молодости такой грех. Бредил галактиками… когда начались работы по фотонной программе, чуть с ума не спрыгнул от вожделения, все сводки, до запятых, знал наизусть. А теперь хоть убей, даже не знаю, чем они там занимаются на Трансплутоне.
— Вот, значит, в чем дело, — с какой-то странной интонацией произнес мой сын.
Стена меж нами только толще сделалась от моей болтовни; наверное, со стороны я был смешной и жалкий; лучше бы сын зевал, скучал, не слушал — нет, он слушал внимательно, и что-то творилось в его душе, но мне чудилось страшное: будто в каждом моем слове он слышит не тот смысл, который пытаюсь высказать я, и каждое слово, которое он сам произносит, значит для него совсем не то, что для меня, — мы были так далеки, что нам следовало говорить лишь о пустяках.
— Ладно, — сказал я. — Пошли, что ли, мама уж заждалась.
— Погоди, — сын смутился. — Сыграй, пожалуйста, вокализ.
“Вокализ ухода”. Он был написан очень давно, почти за год до рождения сына; жена тогда сообщила мне обычным, деловитым голосом, что полюбила другого и он зовет ее и ждет; к тому времени я уж понял, что мне не сделать из нее человека, которого я, хоть и не встречал никогда, люблю, — и я сделал ей хоть голос, который мог бы любить, которым она, по моим понятиям, должна была бы сказать мне, то что сказала: печальный, щемящий, нежный — призрачно-голубой; с тех пор она совсем перестала принимать меня всерьез, хотя почему-то не ушла; оказалось, мне приятно касаться контактов полузабытого регистра “вокс хумана”, извлекать те звуки и светы, которыми я очень давно — в последний раз — надеялся все переменить, я стал играть медленнее, мне жаль было кончать; едва ли не вдвое дольше обычного я держал финальный, алмазный стон, похожий на замерзлую слезу, — стон невинности, кающейся в своей вине, — но иссяк и он; чувствуя болезненно сладкое изнеможение, я обернулся к сыну и, увидев слезы на его глазах, с удивлением подумал, что когда-то, очевидно, написал действительно сильную вещь.
Мы весь день провели на пляже. Купались. Любовались острым парусом у горизонта. Потом с гитарой пришла Шура Мартинелли; я забренчал, они заплясали, и Шура все пыталась что-то вызнать у сына о Лене. Очень много смеялись.
Потом вернулись домой и долго — дольше, чем завтракали, — обедали; еще балагурили, но в глазах жены уже стояла смертная тоска.
— Я провожу тебя, — сказал я, когда сын поднялся.
— Тогда и я с вами, — заявила жена. — Что мне тут одной-то?
— Не-ет, у нас мужской разговор, — разбойничьим голосом ответил я и лихо подмигнул сыну так, чтобы обязательно видела она.
Над поселком, упругими толчками меняя направление полета, реяли медленные, громадные стрекозы.
Не доходя до машины, сын остановился:
— Да, ведь ты собирался мне что-то сказать?
Точно он только сейчас вспомнил об этом! Тон у него был чрезвычайно небрежный.
— Хочу увидеть остров с высоты, — столь же небрежно ответил я. Я был готов к чему угодно, но он отреагировал пока вполне нормально.
— Да у меня же одноместная машина!
— А мне не на материк лететь. На десять минут съёжусь.
Он держался, но я чувствовал, что чем-то ранил его, — это было нестерпимо, но у меня не было выхода. Я чувствовал, что если не разберусь сейчас до конца и лишь напугаю сына — он не скоро прилетит к нам вновь.
— Отец, да что тебе в голову пришло?
Я заулыбался и пошел к машине. С каждым шагом идти становилось все труднее, гравилет внушал мне тот же страх, что и утром, нет, наверное, еще больший; но странно вот что, раньше такого никогда не было, ведь мы с женой не раз провожали сына до стоянки, целовали, перегибаясь через борт, — впрочем, раньше я подходил к машине, твердо зная, что не полечу.
Сын догнал меня. Он совсем не умел претворяться, мой мальчик, на лице его отчетливо читались растерянность, беспомощность… страх? Тоже — страх? Чего же мог бояться он?
Я положил руку на корпус — меня обожгло.
— Ну, тогда я один, — попросил я, едва проталкивая слова сквозь комок, заткнувший горло; сердце отчаянно бухало, хотя я еще стоял на земле. — На полчасика.
— Н-нет, — пробормотал он. — Одному — это уж… На такой легкой машинке в твоем возрасте небезопасно, в конце концов!
— Утром я летал прекрасно, — сказал я с улыбкой; она, кажется, не сходила с моего лица. — Не хорони меня раньше времени.
— Да я не хороню! — выкрикнул он. Продолжая улыбаться, продолжая смотреть сыну в глаза, я влез в кабину; он вздрогнул, сделал какое-то непроизвольное движение, словно хотел меня удержать, а затем тихо, но твердо сказал: — Я не полечу.
Тогда я опустил пальцы на контакты. Машина задрожала — так, вероятно, дрожал я сам, — песок под нею заскрипел, и сын рванулся ко мне; я, улыбаясь, сжался сбоку от кресла пилота и захлопнул колпак; я чувствовал напряжение, с каким сын ищет выход из неведомой мне, но, очевидно, отчаянной ситуации; машина взмыла метров на пятьдесят — горизонт плавно распахнулся, но перед глазами у меня заметались темные пятна, и сквозь гул крови я услышал голос:
— Видишь, тебе плохо!
— С чего ты взял? — выдавил я. — Мне хорошо, просто чуть укачивает с непривычки. Выше, выше!
Разламывалась от боли голова, но я снова видел и слышал отчетливо; мы поднялись на высоту ста метров и зависли, будто впечатанные в воздух; солнце, громадное, рдяное, плавилось в серой дымке над необъятным морем, неуловимо для глаза падая за огненный горизонт.
На краю пульта прерывисто мерцала тревожная малиновая искорка. Я не знал, что это за сигнал. Я протянул к нему руку.
— Что это?
— Индикатор высоты, — произнес сын, и вдруг испугался, будто бы проговорившись, и поспешно забормотал: — Здесь кончается эшелон набора высоты, понимаешь, так что подниматься нам больше нельзя… — По этому бормотанию я и понял, что первые его слова имели тайный смысл.
— Ах, высота!! — закричал я, не в силах долее сдерживать вибрирующего напряжения души; рука моя, вопросительно протянутая к индикатору, внезапным ударом смела с пульта ладони сына, другая упала на контакты, и машина, словно от удара титанической пружины, ринулась прямо в синее небо; перегрузка была ослепляюще мощной, до меня долетел отчаянный вопль: “Не надо!!!” — и в тот же миг солнце, небо, океан и зеленый берег, окаймленный белой полосой, исчезли без звука, без всплеска, как исчезает в зеркале отражение. Гравилет стоял.
Гравилет стоял в громадном плоском зале. Светящийся потолок. Свет мертвый, призрачный. Бесконечные ряды машин, погруженные в вязкий сумрак. Неподвижность, ватная тишина, как на морском дне.
Дрожащими руками я откинул колпак.
Пол тоже был мертвым. И воздух. Меня качнуло, я обеими руками ухватился за борт. И только через несколько секунд посмел обернуться к сыну. Он скорчился на сиденье, спрятав лицо в ладонях.
— Что это? — тихо спросил я.
Он молчал. Мне стало жаль его. Я погладил его по голове. Лет двенадцать я не гладил его по голове. Пожалуй, с тех самых пор, как окончился домашний курс обучения и очень старый, седой человек — инспектор ближайшей школы на материке — увез его учиться.
На материке?!
— Что это такое?! — спросил я, с наслаждением чувствуя как когда-то тепло его кожи, шелковистость волос. Он помедлил и, не поднимая головы, глухо ответил:
— Звездолет.
Я ничего не почувствовал.
— Ах, вот как, — сказал я. — Звездолет. Мы куда-то летим?
— Уже прилетели. Больше трех лет.
— Куда же? — спросил я после паузы.
Он снова помедлил с ответом. Казалось, одно — два слова требуют от него колоссального напряжения и всякий раз ему нужно заново собираться с силами. Я отчетливо слышал его дыхание.
— Эпсилон Индейца.
Я ударил ладонями по прозрачному колпаку. Громкий хлопок угас в сумеречной пустоте ангара. В ладонях растаяла плоская боль.
— Долго летели?
— Двадцать шесть лет. Я не знал, что еще спросить.
— Все прошло хорошо?
— Хорошо.
И тут меня осенило.
— Смена поколений?
— Да.
— Значит, тот инспектор школы…
— Один из пилотов. Они учили нас…
— Вот как… Подожди, а передачи? Мой концерт в Мехико? Мы же каждый день… книги, фильмы?!
— Это информационная комбинаторика. Это Ценком.
— Ценком?
— Центральный компьютер. Он отвечал за моделирование среды.
Сын поднял наконец лицо. Это было страшно. Он переживал сейчас такое горе, какого я и представить, наверное, уже не мог. И горе это было — боль за меня?
— А ну-ка возьми себя в руки!
Это выглядело, конечно, нелепо и смешно, как дешевый фарс, — тонконогий, пузатый композитор призывал к мужеству звездоплавателя. Но мне было странно весело, точно я помолодел. Сердце билось мощно и ровно. Я был удивлен много меньше, чем должен был бы удивляться. Собственно, я всегда предчувствовал это, ощущал все это — ожидание, бешеный полет и сверхъестественное напряжение, пронизавшее неподвижность вокруг; и вот я прилетел наконец!
— Я должен все увидеть.
Он молча поднялся, и мы двинулись, лавируя между машинами; лифт взметнул нас куда-то высоко вверх, мы оказались в коридоре, снова пошли. Коридор чуть загибался влево. Впереди и слева стена раскололась, выбросив изнутри сноп нестерпимого ядовито-алого света, и в коридор вышли два человека в блестящих пластиковых халатах до пят и темных очках, плотно прилегающих к коже; из-за очков я не смог понять, чьи это сыновья. Они увидели меня и остолбенели, один схватился за локоть другого. Не замедляя шага, мы прошли мимо, и вскоре стена рядом с нами вновь раскололась. Мой сын сказал:
— Вот рубка.
Я увидел их планету.
Мягкая, тяжелая голубая громада висела в звездной тьме.
— Мы на орбите? — хрипло спросил я.
— Да.
Стена за нами закрылась. Я подошел к пультам, над которыми возносились экраны, опустился в кресло — наверняка в кресло одного из пилотов, возможно, от старости уже умершего; я понимал, что мне не следует сидеть в нем, но ноги мои вдруг снова совсем ослабели.
— Когда же назад?
Сын помотал головой.
— Что… н-нет?
— Никогда назад, — медленно проговорил он. — Мы — человечество. Два корабля уже идут с Земли следом.
— Подожди. — Мысли у меня путались, шок проходил, и я начал понимать, что ничего не понимаю. — Подожди. Давай по порядку.
Он сел на подлокотник кресла рядом со мною.
— Нравится?
— Очень.
— Там, вблизи, еще прекраснее. Дух захватывает иногда.
На нижнюю часть гигантского туманного шара стала наползать тень.
— Что тебе сказать… Были отобраны люди с чистыми генотипами, со склонностью к уединению, с профессиями, предполагающими индивидуальный труд. Согласие участвовать дало процентов шесть. Еще полпроцента отсеялось за год тренажерной проверки. Остальные составили экипажи кораблей, ушедших к пяти звездам.
— Но… подожди, что ты такое говоришь?! — Я почти рассвирепел. — Почему мы ничего?.. — Я не умел сформулировать вопроса; любая попытка облечь происшедшее в слова делала его настолько диким и невероятным, что язык отказывался повиноваться. — Мы же все знаем… считали… что — на Земле!
Он покачал головой.
— Да-да… Память о собеседованиях была блокирована, а легкое внушение активизировало уже сложившиеся склонности к замкнутому образу жизни и неприязнь к технике — это входило в условия, хотя, наверное, отпугнуло многих… Вот почему я так растерялся утром — ведь ты не мог поднять гравилет… — Он беспомощно задергал в воздухе левой рукой.
— Но зачем?! Зачем, ты мне можешь сказать?
— Разве не понимаешь сам? — устало спросил он. — Чтобы жизнь была полноценной, нужно жить на Земле.
— Но пилоты…
— Пилоты! Профессионалы в летах! Их было шестеро — и пятерых уже нет… что они могли? Только контролировать полет, руководить… помочь учиться на первых порах… Кто рожал бы детей? Хранил и умножал ценности духа? И не забывай о… о нас. Если родители не живут, а только ждут… — он помолчал. — Ригидная установка на неполноценность бытия и ожидания чудесной перемены — значит, десяток тяжелейших комплексов и маний. Все было просчитано не раз и не два. Когда освоим планету, память вам деблокируют…
— А если кто-то не доживет?
— Он так и не узнает ни о чем.
Стало совсем темно.
— Я часто восхищаюсь вами, — продолжил он. — Более четверти века встречать одних и тех же людей, с которыми не связан никаким общим делом, только близостью жилищ, — и не возненавидеть друг друга, сохранить дружбу, любовь, остаться людьми… Вырастить детей…
— Забавно, — выговорил я. — Значит, все, что мы там вытворяем, никому не нужно? Просто, чтобы время скоротали от того момента, как родили вас, до смерти. Никому…
— Мы для тебя — никто? — тихо спросил он.
Я поднялся.
— У нас будет своя культура. Понимаешь? Нормальная. Которую вы создавали не штурмуя, а живя. И ваши внуки… — он запнулся, а потом заговорил с какой-то свирепой, ледяной страстью. — Наши дети будут учиться у вас! Не только у нас — но и у вас! Там, внизу, когда она станет Землей, эта проклятая планета!
Под нами была ночная сторона. Я вдруг заметил, что из глубины ее мерцают смутные сиреневые искры.
— Ваши города?
Он проследил мой взгляд удивленно, а потом горько усмехнулся:
— Если бы.
Я не стал уточнять. Не имел права. О нас я узнал. А о них…
— Я останусь здесь.
— Папка! — его голос опять задрожал. — Ну что ты здесь сможешь делать?
Атмосфера запылала радужными кольцевыми сполохами Я смотрел на разгорающийся день и всею кожею ощущал стремительный и бессмысленный, круговой бег давно пришедшего к цели звездолета.
— Как вы ее назвали? — тихо спросил я.
— Шона.
— Странное название.
— По имени первого их тех, что здесь погибли.
Я задохнулся на миг. Но когда перевел дыхание, спросил лишь:
— Первого?
— Да. В начале. Пилот. Недавно еще.
— Кто?
— Лена Мартинелли.
До меня дошло не сразу.
— Она же на Нептун… — Я осекся. Сын молчал. — Рамон ведь письмо получил: мама, папа улетаю работать на “Нептун-семь”, она же щебетала, как всегда!
— Письмо… — выговорил он с презрением и болью. — Записи, отчеты, которые она надиктовывала — их масса в архиве, по ним Ценком синтезировал голос. А я написал текст.
— Ты?
Он смотрел мне прямо в глаза.
— Конечно. Кто смог бы еще? И буду снова, Шура волнуется. За это теперь всегда буду отвечать я. Я ведь знал ее лучше всех, как она говорит, как шутит… — У него задрожали губы, я и вдруг увидел мальчика, брошенного в адскую мясорубку. — Ну что смотришь так? Смертей не планировали на Земле! А если и планировали, так нас не предупредили о том! — Он отвернулся, и я вдруг увидел старика. — Она любила твою музыку. Хотела сына, мечтала, что он станет музыкантом, как мой отец Когда ее хоронили, звучал вокализ…
— Мой? “Вокализ ухода”? Ну, хорошо, — с холодным бешенством сказал я. — Прекрасно! С нами они побеседовали. Но вас-то! Вашими судьбами так распорядиться! Ведь вы даже не родились еще, они вас только планировали к рождению, высчитывали вам наши гены! Знай борись со злом, которое навязали, в которое ткнули с младенчества, за то добро, которое не сам себе избрал!
— Да разве в этом дело, — тихо ответил он.
Мы говорили на разных языках. Я витал среди этических абстракций — он рапортовал о степени продвижения к цели. Кто был прав? Никто — потому что никто не мог ничего изменить. Все — потому что все делали, что могли. И тогда я просто опустился перед ним на колени, обнял руками и прижался щекой к его ноге. Мне некого было винить в том, что с ним случилось. Только я распорядился его судьбой, отказавшись от памяти, понимания и ответственности ради детской мечты; попав на корабль, устремленный в будущее, но и отторгнутый от человеческой Земли; подарив сыну жизнь в искусственном мирке, созданном вовсе не для жизни, нет, — для выполнения задачи… а что чувствовали, что испытывали наши мальчишки и девчонки, в двенадцать лет попадая из детства в эту рубку?.. И что думали тогда о нас?
Сын поднял меня, как перышко, поставил на ноги. Он был испуган.
— Отец, что ты…
Хорошо, что нас не видят, вдруг пришло мне в голову; я увидел себя со стороны — пародия на Рембрандта, возвращение блудного отца…
Тонкий, прерывистый звук раздался откуда-то слева. Сын сказал: “Прости”, подбежал к одному из пультов. Не садясь, положил руки на контакты, прикрыл глаза, — видимо, считывал какой-то сигнал. Его опущенные веки чуть заметно дрожали. Это длилось секунд пять, потом он открыл глаза, перекинул несколько рычажков, наклонился к затихшему пульту и заговорил — будто на неизвестном языке. Беззвучно вспыхнул целый ряд дисплеев. Мне захотелось исчезнуть.
Минуты две спустя, услышав его приближающиеся шаги, я повернулся к нему снова. Краем глаза я успел увидеть на большом экране стремительно ускользающий к планете смутный силуэт.
— Прости, — повторил сын. — Опять биошквал, — у него был виноватый голос. — В Аркадии теперь несладко, нужен срочный контрпосев…
— Мне пора домой, — ответил я.
Он долго заглядывал мне в глаза больным, несчастным взглядом.
— Пойми. Вид, перестав развиваться, вырождается, — проговорил он так, словно это все объясняло и оправдывало. — Попросту гибнет.
— Я знаю, — ответил я и кивнул, потому что это действительно все объясняло и оправдывало. — Если бы все были такими домоседами, как мы, — я показал вниз, — неандертальцев давным-давно переели бы саблезубые тигры. Я другого не понимаю. Как это я решился тогда?
— Ты молодец, — сказал он искренне и неловко, застенчиво тронул меня за плечо. — Я вам благодарен очень… И вы не беспокойтесь там. В субботу я уже опять прилечу. В общем-то, самое трудное мы сделали.
А я подумал: жизнь так устроена, что самое трудное всегда еще только предстоит сделать. Но я не стал говорить этого сыну — он понимал это не хуже меня. Наверное, даже лучше.
…С моря веял теплый широкий ветер; песок был мягким и шелковистым, и, уткнувшись в него лицом, я лежал очень долго.
У гравилета мы обнялись — не как отец и сын, но как двое мужчин, соединенных наконец общей целью, общим делом, общим смыслом, — а потом гравилет стал медленно погружаться в небо, я махал ему обеими руками, Венера льдисто пылала в зареве заката, и розовеющий гравилет пропал, встал на свое место в сумеречном ангаре… Тогда я упал без сил на прохладный шелковистый песок и лежал очень долго.
А потом я шел домой и говорил: “Добрый вечер”, а мне отвечали: “Добрый вечер”, а я думал: и он захотел лететь; и она решилась на это; на верандах горели лампы, искрилась вокруг них мошкара, доносились звуки транслируемой из Монреаля хоккейной игры… а где-то почти рядом создавался мир, от красоты которого у наших детей захватывает дух, — и только от наших детей зависит, каким он будет… а невообразимо далеко по нашему следу шли еще корабли. Широкоплечий мужчина сидел на лавке перед своим коттеджем и неторопливо, с удовольствием курил трубку — в сумраке серебрились его седые усы; медовый запах табака смешивался с вечерне-неистовым ароматом цветов.
— Добрый вечер, — сказал я. Он вынул трубку изо рта.
— Добрый, добрый. Что-то ты давненько не захаживал.
— Сонату кончал.
— Когда позовешь слушать?
— Не знаю, новое забрезжило. Что не пришли нынче на пляж?
— Да знаешь ведь, как это бывает. Работалось — жаль было отрываться. Шура надеялась, девчонка хоть твоему напишет. Нам казалось, она очень любит его.
— За что его любить, шалопая? — засмеялся Рамон.
— Я-то понимаю, что случиться ничего не могло, просто девчонке, как это у вас говорят… Вожжа под хвост попала, — произнес он старательно и со вкусом, — но попробуй это Шуре объясни. Может, зайдешь?
— Прости, боюсь, моя меня уж заждалась. Передавай Шурочке привет, мы обязательно на днях заскочим. И пусть не волнуется попусту — скоро обязательно придет письмо, я уверен.
Из коттеджа Эми слышались музыка, смех, какие-то выклики, — там отдыхали, и я подумал: а сколько же энергии ушло на то, чтобы донести эту женщину до Эпсилона Индейца, сколько антиматерии превратилось в неистовый свет, разгоняя до субсветовой скорости, а затем затормаживая столько-то килограммов ее тела, не давшего продолжения? И еще я подумал: но ведь она тоже согласилась тогда? А если рассказать ей? Я усмехнулся: пожалуй, она стала бы гордиться собой еще больше, она любила обманывать ожидания; делать то, что от нее ждут, казалось ей всегда унизительным; пожалуй, она стала бы говорить, что совершила подвиг — отказалась от женского счастья, но не родила детей на заклание звездному Молоху… Но ведь именно выполняя ее нелепую прихоть, я поднял себя на дыбы и проник в тайну — случайно ли это, или здесь есть некий парадоксальный смысл?
Жена ждала меня на веранде, казалось, она просто не вставала с места.
— Ты долго, — сказала она, а я подумал: она тоже тогда решилась. — Я уже начала беспокоиться.
— Ну о чем тут беспокоиться? Мы поболтали, потом еще искупались. Потом я Рамона встретил.
Она всплеснула руками.
— Купались? Вечером? А твоя спина?
— Знаешь, — я от души рассмеялся, — я про нее забыл на радостях.
— Это не годится, — она решительно встала, ушла в столовую и вернулась через полминуты с таблеткой в одной руке и стаканом апельсинового сока в другой. — Выпей-ка. Знаешь, я лишней химии сама не люблю. Но это хорошие таблетки.
— Конечно выпью, — сказал я и выпил. — Так приятно, когда ты заботишься.
— Кто ж о тебе еще позаботится, — вздохнула она и немного тщеславно добавила: — Не Эми же… Как ваш мужской разговор?
— Как нельзя лучше. Уговорил его прилететь в следующую же субботу.
— Он очень прислушивается к твоим словам.
— Это потому, что я мало говорю, — пошутил я.
— Разговор касался… Шуры? — спросила она, не глядя на меня.
— И Шуры тоже. И Лены тоже. Успокойся, все в порядке. Она решительно встряхнула головой.
— Все же напрасно ты его так задержал. Теперь ему вести машину в темноте.
— Он справится, — сказал я, пересаживаясь на пол рядом с женою, и потерся лицом об ее гладкое колено; словно встарь, у меня перехватывало горло от нежности. Жена с некоторым удивлением посмотрела на меня сверху, а потом положила руки мне на плечи. Я хотел поцеловать ей руки, но она сказала:
— Конечно справится. Такой большой мальчик. Да и кровь в нем твоя, настырная. — Пальцы ее чуть стиснулись на моих плечах. — А все равно… — она вздохнула. — Ох, что-то на сердце неспокойно.
— Наверное, давление меняется, — сказал я.
Андрей Измайлов Только спорт
…“Вот как это было!” — на самой высокой ноте интригующе закончил комментатор и смолк. Далее слов не надо. Далее нужно было только смотреть. Экран прокручивал традиционную хронику ночи.
Камеры-видео, установленные в самых “горячих” секторах Города, фиксировали всё. Все, что происходило в самых темных закоулках, в самых заброшенных трущобах, в самых глубоких провалах ночи. Инфраобъективы выдавали вполне сносное изображение. Компьютер сам выбирал из километров пленки аппетитное — то, что каждый, уткнувшийся в экран утром, проглотит, желая острых ощущений, и не обманется в ожиданиях. Компьютер сам отстригал лишнее: пустынные часами площади, пока они были пустынны, случайных полуночников, если они были случайными, мелкие стычки конкурирующих банд, если они были мелкими.
И на этот раз хроника ночи, спрессованная в традиционные двадцать минут экранного времени, угодила каждому любителю нервной встряски.
“Вот как это было!”
Сектор Бича, по обыкновению, вымер на ночь. Мало кому взбредет в голову сунуться в сектор Бича, как только стемнеет. А если кто и сунется, то голове такого сумасброда недолго оставаться на плечах. Даже патрульные мобили блюстителей благоразумно объезжали этот сектор после рождественской бойни, когда блюстители решили навести свой порядок и навязать его Бичу.
Камеры-видео прошлой ночи фиксировали: шальной мобиль вывернул из-за угла в секторе. Мобиль не был патрульным. Это был частный мобиль. Это был очень хороший, классный мобиль. Такого мобиля не было даже у Бича… Не было, так будет!
Два мобиля Бича скользнули из боковых провалов, начисто отрезав гостя, перегородили улицу и спереди и сзади. Вилка. Захлопали дверцы, загонщики мягко и уверенно двинулись к добыче. Четверо загонщиков, и среди них сам Бич. Подошли вплотную — по двое в лоб и с тыла. Для страховки — пятый, зависший сверху с флай-ранцем на спине. Он парил в воздухе, изготовившись для пикировки, если… если вдруг какая-то неожиданность. Да нет же! Какая может быть неожиданность?! Против четверых, среди которых сам Бич, не устоит никто. Даже если добыча ростом в шесть с половиной футов и двести сорок фунтов весом. Даже если добыча — столь мощногрудый джентльмен, который не спеша выгрузился из пойманного мобиля и щелкал зажигалкой, безуспешно пытаясь прикурить.
Ничего-о-о… Сейчас Бич и его парни так дадут прикурить, что мощногрудый джентльмен надолго запомнит. Если будет, чем запоминать. Бич и его парни да-авно изучили замашки подобных мощногрудых джентльменов… Так что удачная сегодня ночь. А то попрятались все в свои дыры! После рождественской бойни и дела-то настоящего не было. Скучно. А вот рисковый джентльмен — это чисто по-мужски. Еще какой рисковый. Не будь он таким — не направил бы свой мобиль через сектор Бича. Хороший мобиль… Если мощногрудый джентльмен спасует и отдаст его без лишних слов, то испортит все развлечение. Нет, не похоже. Значит, можно будет поразмяться! И риска никакого. Для страховки — пятый сверху.
Бич и его парни терпеливо дождались, когда мощногрудый джентльмен наконец-то раскурил сигарету под своим капюшоном. И приготовились. Бич и его парни съедали и не таких; Но таких они точно не съедали.
Огонек сигареты высветил лицо джентльмена. Они узнали это лицо. “Вляпались!” — мигнуло у Бича и его парней. “Вляпались!” — было последнее, что мигнуло у них в головах.
Потом в головах у них сверкнуло. Потом погасло. Навсегда.
…На экране момент избиения шел рапидно. Это был действительно только момент, миг — и все. Даже рапидный показ не дал времени осознать — как, что, каким образом…
Пятый сверху щелчком тумблера перевел флай-ранец на форсаж — пике! Он обрушился на затылок мощногрудого джентльмена. Попал! Пятый сверху вцепился одной рукой в этот затылок, другой — в подбородок и, привычно взвизгнув, привычно провел свинч. Но голова мощногрудого не дернулась, шея не обмякла. И пятый сверху взвизгнул уже непривычно. И смолк… Флай-ранец скрежетнул по мостовой. Джентльмен, так и не ставший добычей, помассировал затылок. Повернулся лицом к камере-видео, чуть задрал голову, чтобы попасть в фокус, и сбросил капюшон.
Это — Кэп! Тринадцатый! Кэп! Вот это да! Сам Кэп! Звезда спейсбола!.. Давно не было такой хроники ночи!.. Кэп!
Джентльмен, глядя прямо в камеру-видео, раздвинул губы в привычной и столь знакомой всем поклонникам спейсбола улыбке. Поднял руку, приветствуя каждого зрителя хроники ночи привычным жестом — кольцо, сложенное из большого и указательного пальцев.
Экран погас.
— Это победа! — приподнято сказал Вице, ловя взгляд Босса. — Это настоящая победа! Сегодняшней хроникой ночи мы сломаем хребет каждому слюнтяю, который хоть заикнется против спейсбола!
— Гм! — уронил Босс. — Гм-гм! — Лицо блином: ноздреватое, плохо пропеченное, круглое — не выразило ничего, но в междометии мелькнуло удовлетворение.
У спейсбола — масса поклонников, но есть и слюнтяи, которые поминают чуть ли не гладиаторские бои, требуя распустить федерацию, а спейсбол объявить вне закона. Их не так много, этих “нежно-розовых”, но лучше бы их не было вообще! При чем здесь гладиаторы?! Любой участник спейсбольного финала не раб. Он сам свободен выбирать: да или нет, быть ему саттелитом в финале или отсиживаться всю жизнь в кресле перед экраном, потягивая тоник и разбухая от малоподвижности, пока под ним это кресло не подломится. Спейсбол не каждому по плечу. Спейсбол — спорт настоящих парней. Да, только спорт! Только спорт. Да, травмы в спорте неизбежны, можно даже стать безнадежным, но именно потому финал собирает на спейсбольном полигоне самых, самых, самых… Вот Кэп. Хроника ночи показала всем, каких парней делает спейсбол! Если бы не было таких парней, то кто бы навел порядок в горячих точках Города?! Да сунь свой нос в тот же сектор Бича хоть один из “нежно-розовых”, разглагольствующих о жестокости, зубодробительности, кровопролитности и о чем-то там еще… спейсбола, — и где бы сейчас был тот слюнтяй?! И в каком виде?! А Кэп… Да, Кэп продемонстрировал всем и каждому: только тот, кто причастен к спейсболу, способен защитить себя! Способен справиться с любой бандой, даже с парнями Бича! Способен положиться на самого себя! А на кого еще можно положиться в Городе ночью? Не на блюстителей же, сникших после рождественской бойни, потерявших половину патрульного состава.
Да, сегодняшняя хроника ночи — лучшая реклама спейсболу. Этот спорт готовит ко всему! Да, это — спорт, и только. Только спорт. Босс был удовлетворен. Но отнюдь не желал показывать это Вице: пусть тот, как обычно, чувствует дистанцию. Вице хоть и Вице, но Босс есть Босс.
— Гм! — еще раз уронил он. — Зачем Кэпа понесло среди ночи через сектор Бича?! Утром — финал, а его носит по сомнительным секторам…
— Он заявил, что хочет срезать кусок пути, — виновато, сразу сникнув, проговорил Вице. — Он заявил, что не собирается тратить лишнее время на объезд каких-то там секторов. Я пытался его удержать, но… — и Вице снова вырулил на восторженную интонацию, — разве нашего Кэпа кто-нибудь может удержать?! Его не удержит никто! Его, нашего Тринадцатого, не удержит вся эта свора из “Оранжа”. Вот увидите, Босс, сегодня он положит в финале Кровожада и всех его саттелитов.
— Гм-гм… М-да, между тем пора на полигон. Гм.
Полигон был готов. Ряды скамеек забирались круто вверх, под небо. Скамейки ломились от жаждущих видеть. Видеть финал.
Рев!!! Началось!!!
…Кэп мгновенно рванулся вбок. Реакция у него была отменная. Если бы Кэп не был готов, если бы он не поймал срабатывания клапана у Шара, то… свежезаряженный Шар — это пятьдесят фунтов. Плюс ускорение. Но Кэп не зря Тринадцатый, Кэп не какой-то там саттелит. Кэп был готов к срабатыванию Шара. И когда тот все же смазал его по шлему, Кэп одновременно с рывком резко крутнул головой. Затылок чуть потрескивал после вчерашнего ночного приключения, но бит у Кэпа прошел неплохо. На подобный бит попадались все. И Кровожад тоже попался. Шар вильнул — зигзаг — и врезался Кровожаду в живот. Кровожад скорчился в безнадежного, зажав Шар между животом и пахом. Рискованно. Шар имеет более ста клапанов, и срабатывает каждый клапан-сопло произвольно, периодизации не подлежит и не поддается.
Если бы Кэп до сегодняшнего финала не видел Кровожада в деле, то поверил бы, что сейчас, вот сейчас Кровожад выбыл, стал безнадежным. Спейсбол есть спейсбол, и Шар есть Шар: он может сработать каждую секунду. Прижимать Шар, который может смять тебя в лепешку, к животу?! Такое возможно, если действительно стал безнадежным.
Но Кэп видел Кровожада в деле на полигоне до сегодняшнего финала и знал, на что тот способен. Кровожад был Тринадцатым высокого класса. Кэп уловил последнее движение, гасящий контрбит Кровожада. Кэп понял: Кровожад скорчился в безнадежного, выжидая. Конечно, Шар мог сработать, и тогда Кровожаду не помогли бы никакие гасящие контрбиты. Но в спейсболе ты или рискуешь и уходишь с полигона победителем, или ты не рискуешь — и тогда тебе нечего делать в спейсболе.
Кровожад умел рисковать. Шар сработал. Но за миг до того Кровожад раскрылся и нагрудником подрезал Шар в Кэпа. Кэп ждал и увернулся волчком. Его саттелит справа зазевался, и Шар превратил саттелита в безнадежного Шар чмокнул саттелита пониже шлема и вмял забрало внутрь.
“Оранж” взвыл — все семеро саттелитов Кровожада: еще один из “Маренго” свален! Но тут же Кэп подхватил Шар и четко провел свой коронный бит-маятник. Шар ударился, сработал, попал в плечо саттелиту “Оранжа”, еще раз сработал, уже падая вниз, и взмыл навстречу второму саттелиту, прикрывавшему Кровожада слева, — скрежетнул в бедро. Отлично! Пусть эти двое и не стали безнадежными, но надлом уже есть. Во второй фазе Кэп их доделает. Хорошо бы доделать их еще в первой фазе. Но Шар высветился и затих, иссяк. Шар нуждался в подзарядке.
…Кэп стянул бронежилет “Маренго”, спустил кольчужные гетры, поднял забрало, сел. За дверью раздевалки был шум. Дверь раздевалки прогибалась: Кэпа жаждали видеть, жаждали потрогать, жаждали спросить, доволен ли Кэп сегодняшним финалом.
Кэп был доволен сегодняшним финалом: восемь саттелитов “Маренго” против семерых из “Оранжа” — и это результат уже первой фазы! Остальные выбыли бесповоротно. Да еще двое в “Оранже” уже с надломом! Двое, которых Кэп в первую минуту второй фазы превратит в безнадежных. Так что можно считать восемь против пяти. Блестящий финал! Кровожаду, Тринадцатому “Оранжа”, не помогут все его хитроумные биты. Кровожад еще может попытаться поразить Мишень и все-таки выиграть финал. Победа на полигоне достигается либо поражением Мишени, либо превращением в безнадежных всех противников до единого. Какой путь будет избран — решает Тринадцатый. И Кровожад, Тринадцатый “Оранжа”, во второй фазе будет целить в Мишень — кованый обод, зависший в центре на невидимых тросах. Кровожад будет целить в Мишень, чтобы отделаться малой кровью. Но Мишень остается непораженной вот уже который финал подряд. И Кэп, Тринадцатый “Маренго”, постарается сделать так, чтобы сегодняшний финал не стал исключением…
Так что Кэп был доволен сегодняшним финалом. Но Кэп был недоволен шумом за прогибающейся дверью раздевалки. И Кэп пошевелил пальцами. И хотя его саттелитам в первой фазе очень досталось и отдых был им нужен, но пальцами пошевелил Кэп. Кэп есть Кэп, он выигрывает не первый финал спейсбола. А саттелиты — это только саттелиты. Если Кэп заработал право на передышку между фазами, то саттелиты — еще нет. Если они хотят чего-то добиться в спейсболе, то должны слушать Кэпа. Вот когда хоть один из них хоть близко подберется к сумме Кэпа за финал, тогда конечно… А пока делай, как хочет Тринадцатый.
Кэп хотел, чтобы не было шума за дверью, он хотел отдохнуть. И семеро саттелитов “Маренго” поднялись из своих шезлонгов. Еще четверо саттелитов не поднялись — те, что стали безнадежными в первой фазе финала. Их принесли, их положили. И они лежали, они уже не делали того, что хочет Кэп. Они уже ничего не делали, не могли сделать — даже согнать мух. Этот финал спейсбола стал для них последним.
— Э, падаль! — сказал Кэп и снова шевельнул пальцами.
Саттелитов было двенадцать. Из них четверо — безнадежные, семеро поднялись, чтобы выполнить желание Кэпа. Но еще один остался в шезлонге. Этот саттелит неплохо провел первую фазу, у него даже прошел бреющий против Шара. Но лучше бы ему не сидеть в шезлонге, лучше бы ему встать вместе с остальными и с остальными убрать шум за дверью.
— Э, падаль! — повторил Кэп. Он не любил повторять.
Саттелит, откинувшись в шезлонге, приоткрыл глаза.
— Меня зовут Завр! — сказал он.
Бунт? Знакомый бунт. До того как Кэп стал Тринадцатым, до того как его стали каждый вечер показывать по визиону, до того как Кэп добрался до своей суммы за каждую победу в финале и выбил право набирать себе саттелитов, — до всего этого он сам был саттелитом. Когда он вот так же сказал своему Тринадцатому: “Меня зовут Кэп!” — тот просто поднял брови. И остальные одиннадцать саттелитов чуть не превратили Кэпа в безнадежного там же в раздевалке. И Кэп усвоил, что надо уметь выбрать время и место. Кэп выбрал время, когда Шар скосил Тринадцатого “Маренго” на полигоне. Кэп выбрал место, где им никто не мог помешать. И тогда-то Кэп еще раз сказал: “Меня зовут Кэп!” И стал Тринадцатым. И вот теперь какая-то падаль вякает…
— Тебя зовут падаль! — сказал Кэп, выгружаясь из шезлонга. Затылок все потрескивал, но Кэпу было наплевать на какой-то там затылок.
Саттелит тоже встал и напружинился. Ему, саттелиту, было что напружинивать — саттелиту, возомнившему себя Тринадцатым и прилепившему себе “Завра”. Саттелит был посерьезней вчерашних ночных пятерых. Те просто разминочная мелочь. И Кэп сделал вид, что затылок у него не потрескивает, он его просто почесал, прикидывая, как поступить с наглецом.
Остальные семеро саттелитов отвлеклись от прогибающейся двери, чтобы видеть урок Кэпа и… чтобы “подсказать” Завру. Саттелиты прошли у Кэпа неплохую школу, они помнят уроки Кэпа. Они помнят, как на тренинге Кэп вместо холостого Шара подкинул им Шар заряженный, как они сшибались с Шаром, как потом утирали кровавые сопли. Они помнят, как Кэп ставил их по одному на малом полигоне и говорил: “В спейсболе превращают в безнадежного так…” И показывал.
Саттелиты, прошедшие все уроки Кэпа, с удовольствием сделали бы из него безнадежного, но… Тогда им не видеть процентов с его суммы — без Кэпа им не выстоять против Кровожада и семерых саттелитов “Оранжа”. Завр этого не учел, он еще не научился выбирать время и место. Рановато ему, Завру, быть Тринадцатым. А вот среди саттелитов он, Завр, конечно, лучший. И калечить его перед второй фазой нерационально. Поэтому Кэп сделал ложный бит. Завр попался на него, но все же успел нырнуть и отделался легким грогги.
— Так что тебя все-таки зовут падаль! — сказал Кэп уверенно. Хотя как раз уверенность потерялась. От ложного бита еще никому не удавалось уйти. А Завр ушел. Остальные семеро даже не заметили этого. Но Кэп-то знал. И Завр тоже знал. Почувствовал, что Кэп рассчитывал отнюдь не на грогги — Кэп рассчитывал на более серьезный результат, но не получилось.
Может быть, из-за того, что затылок все еще зудел?.. Но саттелиты видели то, что видели: Завр взбунтовался — Кэп его усмирил. Время, чтобы “подсказывать” Завру, еще не пришло. Зато пришло время второй фазы. Потом придет время получить процент с суммы Кэпа, когда он им сделает победу в финале спейсбола.
— Какую сумму они предлагают за Кэпа?! — переспросил Вице.
Босс задумчиво ковырял в ухе. Старательно, сосредоточенно. Потом поднял голову и, глядя сквозь Вице, сказал:
— Что?
Вице раскинул умом и не стал спрашивать еще раз. Какую бы сумму ни предложили за Кэпа, она никогда не перекроет суммы сумм, которую наработает Кэп для “Маренго” во всех финалах спейсбола. Особенно сейчас, когда звезда спейсбола, настоящий парень Кэп, Тринадцатый “Маренго”, прекратил существование банды Бича — банды, против которой были бессильны все блюстители Города! Какая сумма может перекрыть уход Кэпа?!! Вице подумал, что своим вопросом поставил под сомнение собственную лояльность к “Маренго”. Вице подумал, что лояльность к “Маренго” надо срочно проявить. Вице кинулся к бронежалюзи, поднял их до неразумного предела, высунулся по пояс и восторженно заголосил, указывая в центр полигона:
— Вышел!!! Уже вышел!!! Кэп вышел!!! Он покончит с Кровожадом еще во второй фазе!!! Хей! Хей!
В ответ ему обрушился рев трибун — они тоже отметили появление Кэпа на полигоне.
Вице обернулся к Боссу и на этот раз вложил в вопрос максимальную порцию издевки:
— Так какую сумму они предлагают за Кэпа?! — Чтобы Босс не усомнился, Вице сопроводил фразу характерным жестом.
Босс принял игру Вице и приподнял краешек рта. Потом прикрыл бронежалюзи так, чтобы обзор был полным, но Шар с полигона не влетел ненароком в бункер.
Шар уже стоял в захватах на центре полигона. К Шару приближался Кэп и восемь саттелитов “Маренго”. С другой стороны — Кровожад и семь саттелитов “Оранжа”.
Захваты разжались и освободили Шар. Вторая фаза спейсбола…
Кэп дышал тяжело. Кэп никогда раньше не дышал так тяжело. Потому что раньше во всех финалах спейсбола он был спокоен за свою спину. Спину всегда прикрывали трое — четверо саттелитов. Во второй фазе этого финала за спиной Кэпа оказался Завр.
Когда Шар взвинтился спиралью, Кэп сильно выпрыгнул, закрывшись весь, кроме спины. Ведь спину страховал саттелит. Но Шар вывернулся, сработал и… должен был столкнуться с тем, кто страховал спину Кэпа. Шар попал Кэпу в затылок. Завр ушел от страховки, и Шар задел Кэпа по затылку! Завр возомнил себя Тринадцатым и ушел от страховки!!!
Кэп не обернулся. Обернуться в начале фазы, когда Шар заряжен до предела, — такое может себе позволить только саттелит, которому надоело все. И жизнь в том числе. Кэп не обернулся, но понял: саттелит, назвавшийся Завром, ищет время и место.
Поэтому Кэпу не удалось покончить с Кровожадом и его саттелитами уже во второй фазе. Кэп доделал тех двоих из “Оранжа”, которые попались на бит-маятник в первой фазе. Потом саттелит, назвавший себя Завром, провел косящий бит сразу против трех саттелитов Кровожада. Те стояли треугольником — спина к спине. Кэп отрезал их от Кровожада, и, пока Кровожад продирался сквозь заслон, Кэп ухватил Шар и метнул его в эту троицу. Шар сработал в воздухе, брызнув огнем, и отскочил к Завру. Завр среагировал — поймал и провел косящий бит. Шар сделал свечу и рухнул в центр треугольника из спин саттелитов Кровожада. И заметался в треугольнике, срабатывая и срабатывая.
Уже не стало треугольника — стало на трех безнадежных “Оранжа” больше. Кровожад и двое — “Оранж”. Кэп и восемь — “Маренго”. “Вторая фаза — без потерь, — думал Кэп. — Значит, сумма — на четверть больше. Если покончить с “Оранжем” во второй фазе. А для этого прежде всего надо сосредоточиться на Кровожаде”. Восемь саттелитов Кэпа справятся с двумя саттелитами Кровожада. А Кэп должен справиться с Кровожадом, должен не допустить, чтобы Кровожад метнул Шар в Мишень и отделался малой кровью. А это последний шанс Кровожада.
И Кэп сосредоточился…
Они оба были настороже. Тринадцатый “Маренго” и Тринадцатый “Оранжа” Кэп и Кровожад. Оба выставили пластинчатые рукавицы, страхуясь от срабатывания Шара. Кэп уже не пытался поймать Шар. Кровожад уже не рисковал своим гасящим контрбитом. Гасящий контрбит годен, если на полигоне относительное равенство. Ни один саттелит не будет атаковать Тринадцатого, пока тот на ногах. А если Тринадцатый будет снесен при гасящем бите, то его прикроют свои саттелиты. Кровожад теперь не мог рассчитывать, что его прикроют. Некому. Двое против восьмерых, у них своя забота — не превратиться в безнадежных.
И Кровожад кружил. У него был шанс перехватить Шар и метнуть его в Мишень. Кровожаду не хотелось превращаться в безнадежного.
Но Кэп-то мог применить гасящий контрбит, выдайся такая возможность и необходимость. У Кэпа оставалось восемь саттелитов — Кэп мог рассчитывать, что его прикроют. Но Завр не прикрыл его. Не прикрыл. Вот тогда Кэп стал дышать тяжело. И он тоже стал кружить.
Кэп не видел под забралом лица Кровожада, но Кэп отлично его себе представлял. У Кэпа в подобной ситуации тоже бы вытянулось лицо: если бы против Кэпа был Кровожад и восемь саттелитов и Кровожад, вместо того чтобы покончить с противником, вдруг стал бы кружить… Может быть, Кэп так же растерялся бы и пропустил нырок Кровожада, как пропустил его Кровожад, забыв о Мишени. Да, Кровожад пропустил нырок, и оранжевый шлем Тринадцатого сорвался, покатился, громыхая, по полигону. Голова Кровожада осталась незащищенной. Шар сработался полностью. Еще клапан — другой — и Шар высветится, иссякнет.
Кэп прижал Шар рукавицей, огладил его сверху вниз, сажая себе на ладонь, и — метнул. Шар попал. Голова Кровожада, Тринадцатого “Оранжа”, была незащищенной. Шар подкатился к оранжевому шлему Тринадцатого и высветился…
“Не получилось”, — подумал Кэп. Не удалось покончить с “Оранжем” во второй фазе: на полигоне оставался еще один саттелит Кровожада. Уже с надломом, но не безнадежный. Всего один бит — и очередной финал спейсбола кончился бы уже второй фазой!
Но Шар высветился. И времени для последнего бита не осталось. Теперь только в третьей фазе…
Но уж до того!.. Кэп представил, что он сейчас устроит своим саттелитам в раздевалке. Какого холода он напустит в штаны этим червякам, не сумевшим обработать всего-то двоих саттелитов “Оранжа”! Этим червякам, из-за которых он, Кэп, потерял прибавку в четверть суммы. Этим восьмерым червякам, включая так называемого Завра, который должен был прикрыть ему спину и не сделал этого. А вот Кэп сейчас выяснит в раздевалке, почему этот восьмой червяк…
Боль толкнулась от затылка, куда попал Шар во второй фазе, куда попал вчерашней ночью пятый сверху из банды Бича. Боль хлынула вниз: плечи, грудь, живот, пах, ноги.
Он замер, пытаясь контролировать. Не смог. Надлом… Он еще смог шевельнуть пальцами. И саттелиты, окружив его, подняли на руки и вынесли с полигона. Они вынесли Кэпа как победителя, как Тринадцатого “Маренго”. Кэп был Кэпом. Он смог скрыть надлом от саттелитов. От всех восьмерых — от Завра тоже. А в раздевалке Кэп, пожалуй, не будет напускать холода в штаны своим саттелитам. Пожалеет… И выйдет в третьей фазе, как ни в чем не бывало. У него надлом, но восемь саттелитов “Маренго” справятся с одним саттелитом “Оранжа” без своего Тринадцатого. Разве нет?..
— Какую сумму они предлагают за Кэпа?! — еще раз проорал Вице, изо всех сил демонстрируя лояльность к родному “Маренго”.
Теперь Босс не принял игры Вице. Босс снова стал задумчиво ковырять в ухе. Босс не был бы Боссом, если бы не уловил того, что прозевал Вице. Босс видел, что произошло с Тринадцатым “Маренго”. Босс взвешивал. Босс поднял голову и сказал, глядя сквозь Вице:
— Мы отдадим Кэпа за эту сумму. “Оранж” получит Кэпа. Контракт немедленно. Думаю, они не заметили.
— Что не заметили? — Вице был ошарашен.
— Делай то, что сказано!.. Третью фазу Кэп должен провести уже за “Оранж”… Спорт есть спорт. Нужно уметь… выигрывать.
Оранжевый бронежилет Кровожада немного жал под мышками Кэпу. Спину Кэпа страховал единственный саттелит “Оранжа”, у которого тоже был надлом. Шар уже стоял в захватах.
Кэп подумал, что может на прежнем авторитете отпугнуть “Маренго” и накрыть Шар. И метнуть его. И поразить Мишень. И даже выиграть финал. Малой кровью. Но выиграть. А потом набрать саттелитов для себя теперь уже в “Оранж”. Через месяц он уже будет в полном порядке и сможет показать “Маренго” в следующем финале спейсбола… Через месяц “Маренго” не отделается от Кэпа малой кровью. Он припомнит им всем и каждому — вплоть до Босса. Они еще узнают, каково это — бросаться Кэпом!
Кэп сделал шаг — затылок ответил порогом боли.
Восемь саттелитов “Маренго” выжидали. Нет. Семь саттелитов “Маренго” Завр в бронежилете Кэпа отныне был Тринадцатым…
Они выжидали. Они тоже хотели поразить Мишень. Но не ту, которая дает победу малой кровью. Все они нацелились на другую Мишень…
Захваты щелкнули и выпустили Шар…
Олег Тарутин Вот хоть убей — не знаю
I
…Исчез с экрана умница ученый, симпатичный эрудит, постоянно ведущий эту телепередачу, исчез его лобастый оппонент. Под тихую музыку покатились снизу вверх по сизому полю экрана титры.
Кончилась передача.
Возникшая затем на экране женщина-диктор на миг замешкалась, беззвучно шевельнув губами и коснувшись рукою волос неконтролируемым жестом. Взгляд ее, устремленный в пространство, тоже был в этот миг какой-то бесконтрольный и трогательно-человечный.
Видимо, там, у себя в студии, она тоже только что посмотрела эту самую передачу и была в высшей степени поражена.
Но диктор — человек служивый и опытный, — уже самое малое время спустя овладев собой, звучным голосом посулила “уважаемым телезрителям” следующее в программе зрелище, улыбнулась и исчезла.
И опять было зазвучала музыка и покатилась по экрану первая шеренга новых титров, но кто-то поспешно метнулся к телевизору. Кнопка щелкнула, и, высверкнув яркой звездочкой, экран погас.
— Да-а… — протянули в полутьме комнаты. — Как это они — все по полочкам… Здорово, а?
И заговорили тут все разом, и задвигали стульями, и качнули праздничный стол, за которым сидели.
Хозяйка квартиры зажгла свет, и все с любопытством оглядели друг друга: как, мол, тебе виденное-слышанное? Фактики эти тебе как, а?
Действительно, на редкость интересной была эта передача о теории вероятности, и захватывающе провели ее двое ученых. Говорилось тут (и доступно пониманию говорилось) о законе больших чисел; обсуждались понятия случайных событий, случайных величин; понятия распределения вероятностей случайной величины и так далее, и все — с максимально возможной простотой и кинооснащенностью: и графики, и научно-популярные кинокадры, и спокойно убеждающий баритон диктора.
Законы больших чисел… Равная вероятность падения подброшенного пятака на орла и решку. Сто раз подброшенного, миллион раз…
Самым же захватывающим в передаче было то, что собеседники говорили еще, мимоходом, правда, но с видимым удовольствием о совершенно невероятных уже совпадениях, об удивительных, не объясненных пока что наукой случаях, происходивших с людьми.
“Однако должен заметить, — оговорился лобастый, — что большая часть этих случаев может быть отнесена к разряду легенд, ибо проверке они не подлежат, или по давности событий, или в силу иных причин…”
Но другая-то часть случаев, но меньшая-то часть, та, которая подлежит?..
Ну вот хоть случай с вывалившимся за борт моряком. Тот еще и отфыркаться не успел, не успел еще в ужас впасть в океанской пустыне, как тут же подставила ему спину невесть откуда взявшаяся морская черепаха. А случай с французом, учителем Морисом Бимоном? А с португальцем, с этим, как его — который ошарашил курортных толстосумов в Монте-Карло, шестнадцать раз подряд поставив на рулетке на двойной ноль и выиграв? А тот шотландец, выпавший из самолета и угодивший в только что наваленную груду пакли? Да-а…
— Ну-ка, ну-ка поглядим! — проговорил, как пропел, вскочивши со стула и роясь в карманах, Коля Шустов, самый деятельный в компании человек, еще в школе получивший прозвище Шустрый. И уже коротко звякнул об пол пятак, подброшенный Колей.
— Так, решка… — сообщил Николай.
И снова звякнула монета.
— Решка! Ей-богу, решка! — победно вознес над собой пятак Шустрый, словно вот уже и началось твориться то самое, невероятное.
— А ну еще раз, Коленька, — заинтересованно поощрила его худенькая Сашуля, мечтательное существо лет двадцати семи, в очках, браслетах и короткой стрижке. Вот уж кто жил во всегдашнем ожидании невероятного: невероятной любви, невероятного поворота судьбы…
Звяк! — подпрыгнув, пятак встал на ребро и с наклоном, по дуге въехал под сервант, самую малость опередив Колю, который прыгал за монетой, пытаясь подошвой припечатать ее к полу и промахиваясь.
— Тьфу! — огорчился Коля. — А ведь наверняка опять решка!
— Да ты мечи двугривенные! — посоветовал Шустову хозяин квартиры Виталий Синицын. — Или полтинники мечи. А мы уж завтра со старухой посмотрим под сервантом: орлы там или решки. А, старуха?
И глянула на Виталика со всегдашним обожанием жена его Нина, красивая уравновешенная женщина. Коля же, чуть помедлив, поразмыслив, стоит ли трудов опыт, встал все же на четвереньки, пошарил ладонью под мебелью и вытолкнул монету на простор. Сдул паутину с кисти, глянул.
— Ну? — спросили все.
— Орел! — с отвращением сообщил честный Коля. — Пыль надо вытирать, хозяева! — В сердцах, он щелчком загнал монету обратно. — Тьфу!
— Не расстраивайся, Коленька. Все правильно, все — по науке, утешила его Нина. — Случайные ж величины! Эти, как их… — И кистью красивой, полной руки она сделала округлый жест, как бы ссылаясь на незыблемые научные законы, против которых разве же попрешь? — Да ну вас, ребята, в самом-то деле! — обиженно обратилась она ко всей компании. — Что это за безобразие? На телевизор мы собрались или все же на Вовкин день рождения? У-у-у-ти, мое сокровище, Синичка ты моя! — смешно и нежно вытянула она губы в сторону соседней комнаты, где упакованный в одеяла, при открытой форточке, спал виновник сегодняшнего торжества — трехлетний Вовочка Синицын. О нем, как обычно в таких случаях, все начисто позабыли, благо спал мужик тихо и на внимание не претендовал.
— Да уж за трехлетие, братцы! — встрепенулся и папаша. — Давайте, давайте! Именинник тоста требует! А то — телевизор… И так редко собираемся!
Да, редко им приходилось видеться, хотя знали они все друг друга давно, а иные и с младых, как говорится, ногтей.
Жора Рысин, например, учился с Виталиком в одном классе, а сам Виталик кончал один институт с Колей Шустовым, а медичка Нина — один институт со Светой, женой Боба Агнаева, корабельного механика, покладистого здоровяка. Сашенька, Сашуля, юная некогда лаборантка с кафедры, где трудился Коля Шустов, им и была введена в компанию и утвердилась в ней, вначале — как потенциальная Колина невеста, а потом как общая хорошая знакомая.
— Ох и стол у вас нынче, родители! — восторгалась Сашуля. — Чудо!
И действительно, непривычно изобильным для этого скромного достатками семейства был сегодняшний стол: и крабы тебе, и икра, и балык, и прочие дефицитные яства. Хотя ведь правильно, ведь лотерейный выигрыш — четыре отгаданных номера! Можно и позволить.
И тут вдруг этот самый выигрыш — событие само по себе неординарное, выигрыш этот самый, о котором было со смехом и восторгом поведано гостям, по мере их прихода, а потом как-то позабылось, сопрягся вдруг со всем услышанным в телепередаче.
— Ну вот вам и случай! — взвился Шустрый. — Что, не случай, скажете? Ты ж, Виталька, в это самое спортлото раз в год играешь! Ну чем такое везение объяснить? Ничем! Я вот каждый месяц на это дело прямо как взносы плачу: три рубля с аванса, три — с получки, и — ни шиша! Ну объясни, по какому ты принципу цифры вычеркивал? Наверняка ведь от фонаря?
— Тройка — это в честь Вовки, — сообщила счастливая Нина.
— Тридцать три — в честь тебя, — подхватил муж.
— Дурак! — обиделась тридцатидвухлетняя Нина. Дурак и есть, а потому и счастье тебе!
— Двадцать шесть — это мой трамвай, успокаивающе улыбнувшись жене, продолжал Виталий. — А сорок один, ей-богу, сам не знаю почему. Никаких ассоциаций не возникало. Случайно вычеркнул. Осенило.
— Вот это ты правильно говоришь “осенило”, определил Николай. Именно осенило. Накатило, озарило, ударило. Да нет же! У каждого в жизни что-нибудь этакое было, у каждого! Только не фиксирует никто: то позабудет, то не придаст значения. Верно? А если в памяти покопаться, так такие случаи полезут… А, Боб?
Коля в запале своей чудозащитной речи все глядел на жующего Боба Агнаева, с надеждой глядел — ведь как-никак моряк-механик, все-таки странствующий и путешествующий: штормы, океаны. Бермудский треугольник… Глядел он на Боба, а тот под этим взглядом спешил дожевать и согласно кивал Коле головой.
— У меня… — начал было Боб.
Но Сашуля перебила его:
— Ну было! Было! Было, Коленька! — словно признаваясь наконец в чем-то, словно бы “ну виновата! Ну делайте теперь со мной, что хотите!”, выкрикнула Сашуля, кивая челкой и взвякивая всеми своими цепями-кулонами. — Было такое! Такое было!.. Да ну вас, все равно ведь не поверите! Ах, да на выставке же! Я рассказывала: капитан тот, Дмитрий…
…Раз Сашуля, стало быть, как всегда — капитаны, доценты, академики, архитекторы — извечный набор сраженных мгновенной любовью выдающихся незнакомцев. И всегда судьба в Сашулином романтическом воображении ареной встреч выбирала места не совсем обычные: концертные залы, выставки, симпозиумы…
— Ах, да ну вас!.. — словно прочтя коллективную мысль, заранее обиделась Сашуля.
— Гуди, мать! — приказал Николай, усвоивший такой свойский тон общения с нею еще с древнежениховских времен. — Только без фантазий и эмоций. Нам нужен чистый сюжет!
…Ах, какая странная, какая удивительная история случилась с Сашулей полгода назад на выставке Кистеперова! Ну да, на той, в ДК пищевиков. Впрочем, все началось еще с автобуса, с набитой под завязку “шестерки”. Едет она, представьте себе: меховая шапочка, воротничок, сумочка. Сумочка, правда, где-то внизу, в стороне, заклиненная животами и бедрами пассажиров. Стоит она, терпит. И вдруг, вы подумайте, тот самый высокий, с густыми ресницами, флотский офицер, что подсаживал ее на ступеньку автобуса, вдруг капитан этот и говорит: “Девушка, нам пора пробираться к выходу. Вы ведь тоже на Кистеперова?”
Сашенька так и обмерла и так, обмерши, протиснулась к выходу вслед за моряком, без особых, правда, усилий — за таким-то громадным и плечистым! Капитан же, как ссадил ее из автобуса под локоток, так сразу же куда-то и исчез. Возник он опять в поле зрения Сашули уже в выставочном зале, в водовороте толпы, медленно вращающейся около нашумевшего кистеперовского “Наваждения”. Моряк неотрывно глядел на знаменитый холст. Он стоял со скрещенными на груди руками, стоял как скала, и толпа обтекала его, бессильная сдвинуть с места. Водоворот поднес Сашулю к скале. “Его зовут Дмитрием…” — почему-то подумала вдруг Сашуля. Моряк, естественным свободным движением протянув руку, придержал проносимую толпой девушку.
— Дмитрий, — представился он.
Сашуля зажмурилась. Уже вдвоем, соединенные незримыми узами чуда, наслаждались они шедевром.
“Эта очеловеченная птица чем-то похожа на меня”, — подумала Сашуля.
— Знаете, — сказал моряк, вы, девушка, похожи на эту птицу. Тут что-то неуловимое, непередаваемое…
И вдруг улыбнулся, “так горько-горько, понимаете?”, посмотрел в последний раз на Сашулю долгим взглядом и, опять без труда раздвинув толпу, покинул выставочный зал.
Рассказчица прерывисто вздохнула и, подперев щеку кулачком, устремила повлажневшие глаза в пространство.
— Вариант номер пять, — определил жестокосердный Николай. — Такое же сродство душ было, помнится, с Константином Сергеевичем, режиссером из “Ленфильма”.
Тут женщины вознегодовали, а Сашуля и не обиделась даже, махнула рукой безнадежно: мол, что с него возьмешь, с грубияна и невежды…
Боб, рассказ которого был перебит Сашулиным повествованием, поведал о том, как однажды, на рейде Монтевидео, слушая концерт по заявкам моряков, совершенно точно предугадал заявку коллеги из Дальневосточного пароходства. Едва только ведущий начал свое обычное: “Много лет плавает старшим механиком такой-то и сякой-то…”, как Боб вдруг в точности уяснил, что “для передовика производства, пользующегося заслуженным уважением небольшого, но дружного коллектива”, что исполнена для него будет “Элегия” Масснэ. Почему именно Масснэ, этого немузыкальный Боб объяснить не брался, просто подумал так почему-то. И — нате вам: прозвучала именно эта самая элегия. Вот и вся история. А случай Боб запомнил потому, что под эту музыку порезал руку, открывая банку сайры.
Под взглядом Николая, который, как следователь, уже проводил поголовный опрос свидетелей, Светлана с Ниной заявили, что ни с чем этаким сталкиваться им не приходилось. И Синицын с чудесами не сталкивался.
Неопрошенным оставался один Жора Рысин.
Почему-то он, обычно самый активный участник застолий, привычно шумный, — почему-то был он после телепередачи странно тих и задумчив, а потому как бы и вовсе отсутствовал.
— Ха! — обрадовался Виталик Синицын. — А Жорка-то на что? Что ж ты. Рысь, молчишь, губами шевелишь? Затих, геолог? Ты ж ветру и солнцу брат! Уж с тобой-то в тайге да в тундре небось чего только не случалось, а?
Рысин, уже очнувшийся, подмигнул друзьям и засмеялся.
— А что, братцы, — словно решившись, обратился он к компании, — могу и рассказать. Только я вас, как Сашуля, предупреждаю: все равно не поверите. Я бы и сам не поверил, кабы не со мной это произошло. То есть такой случай, граждане, что черт-те что… Я думал даже, не написать ли куда? А куда? Сегодня вот тоже подумал… Да кабы у меня хоть фотографии были… Кто туда поедет, кто проверит? Кому это нужно…
— Давай-давай! — загалдела компания.
II
— Начнем с того, — начал Рысин, — что по метрике, по паспорту, ну, в общем, официальное мое имя — Георгий.
— Да неужто? — среди общего хохота переспросил Виталик. — Ни в жисть не поверим! А может, Бернар? Может, Себастьян?
— Заинтриговал! — с восторгом воскликнула Нина. — Началось!
— Заглохните! — невозмутимо переждав смех, сказал Рысин. — Все это я говорю по делу. Потом поймете, что к чему, а пока молчите. Так значит Георгий. Ну, допустим, Георгием меня в быту никто не называет, правда ведь? Жора, Жорж, ну Жорик там… Или вот — Гоша. Гошей — очень редко, правда…
— Гошей тебя только наш физкультурник называл, — вспомнил одноклассник, — да еще одна красоточка из двести четвертой школы.
— Галочка, — уточнил Рысин. — Ну вот, стало быть, Гошей — очень редко. А в детстве когда-то, в Сибири, Гошей меня звали все, кроме разве родителей. Гоша да Гоша — я уж и сам привык.
А была у нас там соседка по дому, из другого флигеля. Работала она на станции кем-то, я уж и не помню. И ее-то почти уж не помню. Только была она очень добрая и совсем одинокая. Но это все детали. Так вот, соседка эта почему-то меня особенно любила и называла Гошиком. Встретит во дворе, погладит по голове: “Как дела, Гошик?” Или сунет мне в рот вкусное что-нибудь: “Ешь, — скажет, — Гошик, ешь…” Чудесная женщина.
Яснее же всего мне помнится, как она утешала меня во всяких горестях. Прижмет, бывало, меня к боку, покачает-покачает и говорит: “Не тужи, говорит, — Гошик, все пройдет, все образуется!..”
Все это пока только вступление, граждане. А петрушка та произошла со мной в позапрошлом году, на Таймыре. Работали мы тогда на побережье, картировали метаморфические толщи, на мигматитах работали…
— Ну, пошла терминология! — с отвращением произнес Боб, да и прочие загудели недовольно.
— Верно, — с легкостью согласился Жора, — это все я обязательно растолкую, ведь вся суть в этих самых мигматитах-то и есть. А терминология у нас, геологов, не хуже прочих: из родимой Греции да из латыни. Так вот, значит, объясняю, что это за такое — метаморфические породы…
— “Мета” по-гречески “после”, — встряла медичка Света.
— Правильно. Ну, а метаморфические породы и есть — “после”. Образуются они из изверженных и осадочных первоначальных пород под воздействием высоких температур, давлений и химических преобразований. Ясно вам это, а? Ну я ж вам не лектор. Про гнейсы-то слышали? Полно их на Карельском перешейке. Слышали? Слава тебе, господи! Вот эти гнейсы образовались из первичных гранитов таким манером. А песчаники, например, при таких условиях превращаются в кварциты или там сланцы. Это элементарно. Сейчас любой двоечник это понимает.
— Валяй дальше, — поощрили Рысина слушатели.
— Дальше. Существенно еще то, братцы, что в условиях высоких температур и давлений, на больших глубинах, преобразования пород могут идти аж до стадии плавления. Плавятся породы не враз, а начинается это с более легкоплавких минералов: полевых шпатов, кварца. А эти минералы, прошу учесть, — светлые. Плавятся они и в полужидком этаком состоянии выжимаются вверх по трещинам в нерасплавленных породах, раздвигают их, ну и застывают потом светлыми полосами на темном фоне.
— Вроде зебры, да? — подсказала Сашуля.
— Умница, — похвалил Жора. — Стало быть, эти вот смешанные породы и называются мигматитами, на которых я тогда работал. Но тут придется еще кое-что уточнить. Среди мигматитов, братцы, различают кучу разновидностей, отличающихся строением…
— А короче нельзя? — снова не выдержал Боб. — Породы, породы… Мы ж не из той породы, мы же при технике всю жизнь. Неужели без этого нельзя? Ты нам сам случай давай!
— Нельзя короче! — озлился Рысин. — Без этого вы самой сути не поймете! Терпите, раз взялись слушать!
Виталька подмигнул Бобу и успокаивающе толкнул Рысина плечом: слушаем, мол, слушаем.
— Так вот об этом самом строении. Светлые прожилки бывают самой разнообразной толщины и длины, а главное — самой разнообразной конфигурации. — Рысин пальцами в воздухе изобразил замысловатую змейку. Артерии-вены представляете? Ну, а среди мигматитов есть разновидности под названием “артериты” и “вениты” — тут по облику полная аналогия. Ну и наконец, еще одна разновидность мигматитов — “птигматиты”. К сведению полиглотов, — покосился Рысин на Светлану, — “птигма” это по-гречески “складка”. Это суть ее и определяет. Тонкие, аж тончайшие складочки, а изогнуты так, что порою диву даешься: змейки, спиральки, загогулинки, запятулинки, прямо арабская вязь; длинные, короткие… В общем разнообразие невообразимое. Вот тут и конец ликбезу. Запомните только одно: есть в природе, описаны в научной литературе, изучены, сфотографированы тонкие причудливые жилки — светлые на темном фоне. Уф!
Геолог Рысин перевел дух и продолжал так:
— А теперь представьте себе таймырское побережье в сентябре. Колотун. Снег уже выпал. Ветер с норда дует в морду. Карская волна о берег шлепает битым льдом. Работа еще не доделана, а до самолета — две недели всего. Да…
— У-у-ти, мой бедненький! — протянула к нему губы хозяйка.
— Да уж, не говори, — согласился герой Заполярья. — А в тот день, двадцать шестого сентября, как сейчас его помню, с утра не заладилось. Пошли мы в маршрут вдвоем с рабочим. Рабочий — в геологии человек случайный, романтик с легкой придурью, бывший работник трампарка. Ну пошли, а на первом же часе работы трампарк этот самый растянул какое-то сухожилие на ноге и похромал назад в лагерь. Двинулся я дальше один, прошел сколько-то, а тут (и сейчас нога этот камень под снегом помнит!) споткнулся я и со всего маха — носом в развалы. Молоток мой — в сторону, фотоаппарат — вдребезги, колени, локти — сплошь ссадина. Встал я, плюнул, выругался, да что там — минут пять орал без передышки, кулаками в небо тряс, а все равно легче не стало. Подковылял я к молотку, что отлетел метров на пять, сорвал с шеи свой покалеченный фотоаппарат да как трахну по нему этой кувалдочкой! Фотоаппарат, естественно, всмятку, а у молотка ручка пополам. Вот тут мне малость полегчало.
Закурил я, постоял, подумал: и маршрут продолжать без молотка не с руки: камни колотить нечем, и возвращаться больно уж неохота. Пара километров всего до берега моря, до скального обнажения мигматитов, а мне его осмотреть очень бы не мешало.
Подумал я, подумал, собрал в рюкзак металлолом да и двинулся дальше. Буду, думаю, в дневник поподробней записывать, можно и без образцов обойтись разок.
Ковыляю вперед помаленьку, а на душе — прямо каторга. Что, думаю, у тебя за жизнь такая кривобокая, друг дорогой? Что за специальность такая дурацкая: то голодный, то мокрый, то поломанный… Что за невезение такое, в самом-то деле? И кой тебе уже годик, Жора Рысин, и что ты в жизни еще собираешься увидеть хорошего?
Ковыляю, наблюдаю, записываю. Смотрю под ноги. Вот уже в развалах и мигматиты начали появляться. Поднял я голову, а побережье — вот оно. Скалы, останцы… Красноярские столбы помните? Ну, стало быть, представляете, какая у эрозии фантазия? Тут тебе и крепости, и колонны, и люди, и звери, и птицы. А передо мною, представляете, стоит арка. Две колонны и свод, высотой примерно в три моих роста. Останец мигматитов. Основа породы — темные гнейсы, а на их фоне белеют эти самые птигматитовые слойки, и на колоннах, и на своде. Самое главное — на своде.
Голос Рысина внезапно съехал на сип. Он встал, касаясь стола руками.
— Так вот, граждане, по всему своду идет белая птигматитовая жилка и образует она надпись! И надпись эту я прочел. И написано там, на арке белым по черному: “НЕ ТУЖИ, ГОШИК”!
Громоздящийся над столом Рысин говорил все громче и громче, а последнюю фразу почти прокричал, а прокричавши, опустился на место.
— Дай-ка авторучку, — попросил он Боба, и тот, с каким-то даже испугом, полез во внутренний карман пиджака.
— Вот смотрите.
Прямо на тыльной стороне огромной своей белой кисти, без знаков препинания, без заглавных букв, слитно, единым словом написал Рысин эту фразу “НЕТУЖИГОШИК”.
Слушатели, повскакавшие с мест и сгрудившиеся за спиной Рысина, молча уставились на его кисть, лежащую на столе рядом с опрокинутым фужером. На эту кисть, на эту фразу, образованную полукругом букв, непривычно сжатых по высоте и растянутых по дуге.
— Вот так там было написано, — растерянно проговорил Гошик. — За точность начертания ручаюсь. Я там, под этой аркой, до вечера просидел, полдневника изрисовал. В лагерь уже в темноте пришагал. Думал на другой день взять у ребят фотоаппарат, сделать снимки…
— Ну и что? Вернулся?
— Да нет, — криво усмехнулся рассказчик, — тут уж как положено по закону мирового свинства: утром начальство неожиданно пригнало вертолет: мол, потом не достать будет, кончай работу! В тот же день и улетели. А на базе… И вот что, братцы, — перебил себя Рысин, — когда я под этой аркой сидел, такой я покой почувствовал, так мне вдруг хорошо стало. И правда, думаю, не тужи, брат Гошик, не стоит… Пройдет вся эта невезуха, и судьба твоя образуется, все, как надо, получится… И детство мне вспомнилось, и соседка-старушка, и голос ее вспомнился, и лицо. А главное, эта надпись ошарашила меня только в самый первый момент. Потом уж я не думал, откуда, мол, она, не ломал голову — как же это может быть? Сидел себе просто, курил, думал обо всем хорошем…
— Но откуда ж она, эта фраза, а, Жорка? — затряс его Виталий.
— Откуда я знаю? Спроси о чем-нибудь полегче.
— Ты это брось! — даже покраснев от возмущения, настаивал однокашник. — Ведь это не выдумка какая-нибудь, ты же рассказал, как было! Я ж тебя, Рысь, знаю. Если бы ты заливал нам тут, я бы сразу почувствовал. Правду говорил?
— Правду.
— А объяснение? С точки зрения геологии? Ну эти самые пиг… птиг… жилки эти белые? Они что, любые формы могут иметь?
— Я же сказал — самые разнообразные. Да тут ведь и не в этом дело. Тут дело в “Гошике” и в “не тужи”. В самом сочетании. Ведь один только человек на свете меня так называл и говорил так, да и то — когда это было? Вот и представьте себе вероятность такой надписи.
— Значит, тебе померещилось просто! — запальчиво прокричал Синицын. Ты же встряхнутый был!
— Доказывать не собираюсь, — холодно отвечал Рысин.
— А я верю! Ах, я верю, верю! — жарким шепотом заговорила Сашуля. Можете не верить! — оглядела она всех с вызовом.
— И я верю.
— И я!
— Ты, брат, просто обязан сообщить об этом случае куда следует, сказал Рысину Боб, а Коля кивнул согласно.
— А куда следует? — поинтересовался Гошик. — Да и потом — что я туда могу представить? Рисунки из дневника? Фотографий ведь нет… Будет тот самый случай, который “вполне вероятно — легенда”. Вот и Синица так считает.
— Ничего я так не считаю! — буркнул однокашник. — Просто говорю: ищи объяснение!
— Ищу, ищу… — отозвался Рысин с иронией.
Коля Шустов, сколько-то помолчав, заявил, что случай действительно из ряда вон выходящий, деваться некуда, а объяснения ему могут быть самые невероятные, бесполезно и голову ломать.
— Вплоть до пришельцев, — ляпнул он. — А что? Лазер все плавит, компьютер-то все рассчитывает…
— Все. Дошли до ручки! — прервал Николая Синицын. — Раз уж пришельцев вспомнили — гаси лампу!
— У-у-ти, мой пришельчик, Гошик ты наш дорогой! — смешно и нежно запричитала добрая хозяйка. — Скоро мы тебя, Гошик, на Ирке оженим?
— Теперь уж скоро, — улыбнулся ей Рысин, — теперь-то уже вот-вот.
— Но как все-таки это можно объяснить, мальчики? — спросила Сашуля, растерянно обводя всех огромными под стеклами очков глазами.
— Вот хоть убей — не знаю, — ответил ей Рысин.
III8
— Послушайте, петин-светин! В конце концов я вынужден призвать вас к порядку! Гарантирую вам крупные неприятности по возвращении на родную Мокруху! Я всегда считал, что практика набора команды в предстартовой спешке по всяческим захолустным докам вообще глубоко порочна и до добра не доведет. Вечно тамошняя администрация норовит всучить космофлоту всяческих штатских разгильдяев с липовыми знаниями! Да от вас за версту разит шпаком! Ну какой вы, посудите сами, петин-светин? Смех! Так, как вы, не ведут себя даже безусые тосины-фросины! Как вы стоите? Как вы смеете так стоять? Поднять присоски! Вы стоите, слышите ли вы, вы стоите перед Митиным-Витиным с Обеих Заглавных Букв!
Говоривший, а вернее, кричавший, огромный, грузный дядя в великолепном мундире Митина-Витина космофлота, с нашивками Обеих Заглавных Букв, еле сдерживал ярость, перекатывая скрип по всем своим грудным чешуям, пересохшим от сильнейшего негодования.
Распекаемый петин-светин неохотно и не враз принял-таки уставную стойку, подняв вольно висевшие присоски до положенного по отношению к корпусу угла: в тридцать три градуса. “Расскрипелась старая жабра!” думал он с отвращением. Петин-светин тоже еле сдерживался, изо всех сил сдерживался, опасаясь наговорить в запале непоправимо лишнего, что потом обязательно бы припомнилось ему на родимой Мокрухе. Этот тип ведь на все способен. Вплоть до рапорта о разжаловании. Сесть опять на нищенский оклад тосина-фросина? Видеть ежедневно печально-осуждающие глаза жены? Уж лучше сдержаться, ну его к черту, лучше уж перетерпеть этот начальственный скрип…
Сдерживаться-то он сдерживался, да нервы ведь не титановые, и чешуйки на петине-светине начали подсыхать. К счастью, начальство, почти исчерпав лимит подсыхания, повело беседу в более спокойном ключе.
— Теперь признайтесь: это вы за неделю до старта с той, богом забытой, планеты запирались в компьютерной и не отмыкали двери, несмотря на категорическое требование Главного Комбинатора корабля?
— Я, мой Митин-Витин с Обеих Заглавных Букв!
— И чем же, интересно, вы изволили там заниматься, ухлопав столько времени и энергии и спалив пять блоков компьютера? Что вы там рассчитывали? Что за проблема?
— Я, мой Митин-Ви…
— Ладно, — махнуло присоском начальство, — короче!
— Я пытался там рассчитать и определить формы грядущей цивилизации той самой планеты.
— Бред! А исходные данные?
— Я располагал материалами изучения пещерных людей, с которыми мы имели контакты в районе двух первых посадок: анатомия, структурограммы мозга, средства общения…
— Ясно. Тем более бред, петин-светин! Прогнозировать формы будущей цивилизации на столь мизерных исходных данных! Да ошибка возрастет до размеров галактики!
— Я подключал стимуляторы максимального охвата проблемы, мой командир с Обеих Заглавных Букв. И потом меня, как бывшего филолога, интересовали только проблемы грядущей письменности этого человечества, и я…
— Филолога?! — мгновенно высохнув на четверть поверхности, заорал начальник. — Этим сказано все! И это — корабль… Продолжайте, фил-лолог!
— Мне удалось рассчитать двести шесть типов языков, за сто восемьдесят шесть из которых я могу дать присоску на откусание. Возможно, из них в грядущем будут превалировать лишь несколько наиболее рациональных и, с моей точки зрения, наиболее красивых и изящных. Я бы сказал…
— С этим — все! — отрезал толстоприсосник. — А лазер? Шлюзовой офицер, заполнявший водой ваш скафандр, видел у вас лазер! Вы пытались вынести его с корабля! Вам известен пункт корабельного Устава, строжайше запрещающий выход с оружием без специального разрешения командира. Меня, черт вас побери! Меня, Митина-Витина с Обеих Заглавных Букв!
— А я и не думал использовать лазер в качестве оружия, начальник! — с неслыханной на флоте наглостью ответил не сдержавшийся таки экс-филолог. Меня, может, образцы пород интересовали!
— Во-о-он!! — заорал толстяк. — Властью, данной мне на корабле, лишаю вас сразу двух званий!
Огромная присоска командира метнулась к груди наглеца, сорвала с нее две лычки-птички, оставив одну — самую невзрачную:
— Марш отсюда, шурин-мурин! Вон!
…С сухим скрипом чешуй, но с гордо поднятой головой разжалованный повернулся и вышел.
— Тухлая жабра!.. — вполголоса, но достаточно внятно прошуршал он в дверях самое обидное для мокрушинцев ругательство.
Митин-Витин с Обеих Заглавных Букв без сил рухнул в кресло, выхватил из нагрудного кармана пробирку и принялся спешно поливать в области сердца свою катастрофически высохшую чешую.
IV
— Слушай, за что на тебя так Тухлая Жабра взъелась? — подсев к приятелю, поинтересовался зачуханный шурин-мурин из реакторной команды. У нас нынче только об этом все и говорят. Чем ты его допек, Кисси?
— А, Присси! — обрадовался экс-филолог и экс-петин-светин. — К черту начальство. А вот тебя-то я и искал. Надеюсь, ты меня поймешь, как бывший гуманитар, а?
— Я тебя, брат, всегда пойму! — весело отозвался Присси. — А в чем дело?
— А вот в чем. Ты слышал уже наверняка, что я без разрешения, контрабандно, так сказать, использовал компьютер на предмет расчета вариантов будущих языков и письменностей грядущей цивилизации землян?
— Ну, слышал кое-что…
— Сто восемьдесят шесть вариантов рассчитал я с гарантией. Ну, пережег у них в компьютерной что-то, да не в этом дело! Слушай дальше, друг Присси. Просмотрел я эти варианты, и один вариант особенно мне понравился: логика, красота, изящество, легкость. Чем-то даже наш родной напоминает. Я тебе потом покажу.
И так он мне, вариант этот, понравился, брат Присси, что я уж и писать и бормотать на этом языке начал, ей-богу! А во время третьей посадки был я на побережье с группой разведчиков. В районе скал. Там, где выходы смеситов, знаешь?
— Знаю, — подтвердил замурзай-Присси.
— Ну так вот. Иду я там, поднимаю голову и — присоску на отъедание, не вру — стоит останец смеситов, по форме напоминающий наши мокрушинские кормушницы. А наверху, на своде, полукругом светлый компонент смеситов образует вот что. — И прямо на присоске, микрографом, зеленым по красному, Кисси вывел чрезвычайно прихотливую вязь: “НЕТУЖИГОШИК”.
— Похоже на что-то осмысленное, — заинтересованно склонился над вязью Присей.
— Чудак! Да это ведь фраза на том моем любимом языке! — заорал Кисси. — Смысл ее таков: “не впадай в отрицательные эмоции”, по-нашему — “не подсыхай чешуями” и — обращение к индивидууму. Понимаешь? Только с моим расчетным вариантом тут кое-какие мелочи не совпадают: например, имя индивидуума компьютер отделяет и пишет с Заглавной Буквы.
— Как у начальства! — засмеялся Присси.
— Ага. Но суть-то не в этом, друг Присси. Суть — в абсолютной невероятности возникновения такой надписи. Ведь тут — слепая игра природы: светлая жилка смеситов на черном фоне. И это — чистейшей воды фраза. И это же просто-напросто порода, Присси! Как же так? Как же могла возникнуть такая надпись? Как же это возможно? Я бы тебе показал эту жилку, Присси, вернее, эту фразу. Уж не знаю, как логичнее ее и называть! Я было побежал на побережье с лазером, хотел вырезать плиту… Да этот зануда из шлюзовой команды поднял тревогу. Знаешь небось, как у нас насчет Устава? Так и улетели. Эх…
Присси долго глядел на присоску приятеля, такую знакомую, с такой странной, полукругом расположенной затейливой вязью, зеленой по красному: “НЕТУЖИГОШИК”.
— Как же это объяснить? — спросил он наконец.
— Понятия не имею! — честно признался приятель. — Вот хоть высуши не знаю!
Ольга Ларионова Короткий деловой визит
— Петр Палыч, а Петр Палыч! — Левров, не осмелившийся зажечь свет, пытался на слух определить, проснулся Дашков или требуется дополнительное воздействие.
Дашков дышал бесшумно. Дополнительное воздействие, несомненно, требовалось, но… Уже сам факт пробуждения старейшего члена Высшего Координационного Совета в четвертом часу утра был событием вопиющим. В свое время Элжбета Ксаверьевна, давая свое согласие на избрание мужа в Совет, строго оговорила неприкосновенность его покоя с полуночи и до шести. “До первого петуха, так и передайте вашему Совету! — безапелляционно заявила она тогда Леврову, совершенно забыв, что во всей Москве существовал только один петух, да и тот кричал только по знаку дрессировщика, а отнюдь не в положенное ему природой время. — Так и передайте вашему Совету. В конце концов, это единственная привилегия, которой я требую!”
С ней согласились, потому что сам Дашков не требовал никаких привилегий. Договор соблюдался строго — до сих пор не было причины, которая заставила бы его нарушить.
Знал это и проснувшийся Дашков, у которого в голове невольно и тревожно проносились все гипотетические беды, способные обрушиться на Землю.
— Петр Палыч!.. — В голосе Леврова было неподдельное отчаяние.
Дашков не любил своего секретаря, неприметного молодого человека с редкой, но почему-то не запоминающейся фамилией. Было в Леврове что-то раздражающе несовременное, и Дашков, подозревая за этим качеством оправдание своей антипатии, старался изо всех сил быть с Левровым любезным. Каждый, кто хотя бы раз говорил с членом главнейшего в Солнечной системе Совета, согласился бы, что Леврову оказывают непомерную честь.
— Ну, что там? — Дашков облек наконец свое недоразумение в максимально любезную (для него, разумеется) форму.
— Прилетели! — выдохнул Левров. — Прилетели…
— Кто еще?
Глаза Дашкова, уже привыкшие к темноте, различали неуклюжее движение, словно огромный журавль хлопал полураскрытыми крыльями, — это Левров разводил руками.
И тут вдруг Дашкову стало страшно, вернее, сначала жарко и только после этого — осознанно страшно. Он вдруг понял, кто должен был прилететь, чтобы его разбудили посреди ночи. И как любой обыкновенный человек на его месте, он тут же не поверил:
— Включите свет и извольте докладывать связно!
От волнения он забыл, что Элжбета Ксаверьевна блокировала на ночь освещение всего этажа. Левров, человек врожденной фантастической пунктуальности, помнил это и потому не двинулся с места.
— Где? — спросил Дашков упавшим голосом. — Сколько?
— На Луне, шестьсот метров от купола “Шапито”. Один.
— Корабль или член экипажа?
— Один корабль и, по-видимому, единственный пилот. Дашков замолчал на целых двадцать секунд. Затем резко поднялся, протянул руку и безошибочно нашел на ночном столике муаровую ленточку.
Завязать тугим бантиком свою всемирно известную “суворовскую косицу” и накинуть тренировочный костюм было делом еще пяти секунд, а затем Дашков уже мчался по квартире легкими частыми прыжками — только двери успевали автоматически распахиваться тысячной долей секунды раньше, чем их могли коснуться его острые коленки. Элжбета Ксаверьевна стояла у последней двери, прижимаясь к стене.
— Знаешь? — спросил на лету Дашков.
— Знаю.
Кажется, он даже успел поцеловать жену, выпрыгивая на утренний снежок, над которым зависла тупорылая рыбина сверхскоростного мобиля. Иначе и быть не могло: должен же был Левров на чем-то примчаться из Калуги. Дашков нырнул в люк.
— Какой космопорт оповещен? — спросил он, поворачивая острый профиль к секретарю, не отстававшему от него ни на пядь.
— Чаршангинский. Там ракета под парами, остальные члены Совета кто вылетел, кто — вот-вот…
Маленький мобиль пошел вверх так, что уши заложило. Весь центральный массив Москвы с пепельно светящимися предрассветными улицами стремительно проваливался под ними, темнея и сливаясь в один человеческий муравейник, и только ярко-алый контур Кремля светился четко и привычно — Дашков знал, что он будет виден даже с орбиты. “Мы уже привыкли, двух веков не прошло привыкли, и трудно представить себе, какими глазами должно смотреть на все это разумное существо, подлетающее к Земле извне…”
— Слушай, — вдруг каким-то будничным, совсем не академическим тоном проговорил Дашков, — а они на нас-то хоть похожи?..
— Не-е… — так же растерянно, словно извиняясь за неведомого гостя, протянул Левров. — Со стороны глянуть — чушка какая-то… У диспетчера Чаршангинского видеозапись есть.
— Почему не доложили сразу?! — Тон был уже стандартный.
Левров потянулся было через его плечо к пульту управления, но Дашков нетерпеливо дернул головой, так что серебряная косица испуганно метнулась по спине, и плохо гнущимся костлявым пальцем принялся набирать шифр связи.
Леврову казалось, что клавиши вот-вот расколются под точными сильными щелчками, словно ореховые скорлупки. Но клавиши выдержали, а на потеплевшем экране проступило миловидное личико космодромного андроида.
“Дайте-ка, что у вас там с Луны…”
А с Луны было вот что…
На обоих лунных космодромах чужой корабль попросту не заметили. В Пространстве одновременно болтается слишком много кораблей; если же сюда прибавить космические станции, дрейфующие буйки и вообще весь массив Подлунных Верфей, то станет очевидным, что уследить за всем скромный типовой кибер — наблюдатель космопорта Луна-11 (на космическом жаргоне Байконаверал) был просто не в состоянии. Если бы это был обыкновенный земной грузовик, он должен был послать посадочный вызов; если же это было космическое тело, то ему следовало перемещаться с совершенно иными скоростями.
Чужак плавно сманеврировал, словно нацеливаясь на сверкающий купол “Шапито”, и только с этого момента началось форменное и закономерное светопреставление. Панические предупреждения, адресованные предполагаемому экипажу; команды, приказы и угрозы в тот же адрес; одновременная связь со всеми диспетчерами Земли, приземелья и ближнего Пространства — то есть вплоть до Сатурна; распоряжения всему экспедиционному составу, разместившемуся в комплексе “Шапито”: укрыться на нижних горизонтах противометеоритного бункера, выслать вспомогательную бригаду на космодром, обеспечить полноту наблюдения и отключить все приборы и механизмы, кроме аварийного жизнеобеспечения.
Аналогичный пакет абракадабры получил и персонал космодрома.
Все было естественно: ни одна служба ни на Земле, ни вне ее не имела четких инструкций на случай приближения инопланетного корабля. Впрочем, нечетких тоже.
Что касается населения “Шапито”, то они навидались таких различных моделей, что ни у кого не возникло и тени сомнения: перед ними — жертва необузданной фантазии экспериментаторов, вышедшая из повиновения. Бывает. К тому же были они в большинстве своем астрономами — недаром Луна, как известно, астрономическая столица Солнечной системы — и в космолетах разбирались гораздо хуже, чем в цветовых оттенках всех дыр, от черной до белой. Они организованно проследовали в бункер, не преминув разбудить космодромную смену, отдыхавшую после суточного дежурства, без лишней спешки подключили всю систему жизнеобеспечения и только тогда сосредоточили внимание на экране внешнего обзора.
Странный корабль, более всего похожий на гигантскую волнушку, вел себя крайне суетливо: подрагивая и приплясывая, как пчела над незнакомым, но лакомо пахнущим цветком, он кружил над площадкой, только что выровненной для закладки нового корпуса гравитонного телескопа. Казалось, он не уверен в прочности фундамента, и у многих сложилось впечатление, что он вот так покружит-покружит да и улетит восвояси.
Но он вдруг нырнул вниз и сел. Вроде приключение закончилось благополучно, тем не менее что-то непривычное было в этой посадке. Какая-то насекомая легкость.
И тут с порога бункера раздался уверенный голос:
— Ну, поздравляю, земляне: корабль-то не наш!
Все разом обернулись — на пороге стояли Габорги, близнецы из космодромных ремонтников. Кто из них произнес знаменательные слова — было, в сущности, неважно: они думали и действовали одинаково. Каждый из присутствующих знал, что эти братья, неразлучные до такой степени, что даже их имена слились в одно целое, в системах космических кораблей являются знатоками академического уровня. Тем не менее в ответ раздалось — мгновенно и безапелляционно:
— Иди, иди! Мы о пришельцах уже два века слышим. Ажажист!
Это был единственный и традиционный ответ ученых, и то, что финальное выражение давно утеряло какой-либо смысл, не умаляло заключенной в нем пренебрежительности.
Но Габорги не стали продолжать дискуссию двухсотлетней протяженности: их уже не было в бункере. Там, где они исчезли, раздавался грохот дверей, лязг лифта и топот — похоже, что они увлекали за собой всю только что пробудившуюся смену. И только тут вслед им зазвучал раскатистый рык Миграняна, начальника космодрома: “Принимаю командование на себя! Квадраты с шестого по двадцать третий объявляю закрытыми с введением чрезвычайного положения. Всем оставаться на местах. Команды и распоряжения киберов считать недействительными. Ждать распоряжений”.
Каждая шлюзовая камера вмещает четверых; в шлюзовой номер шесть находились Габор, Ги, Первеев и Фаттах. Трудно, а точнее, невозможно определить, сколько времени прошло между этим распоряжением и спокойным ответом Первеева: “Есть оставаться на местах. Тем более что отступать некуда”.
Все невольно оглянулись — титанированная дверь шлюза матово леденела у них за плечами. Впереди была накатанная вездеходами дорога, а левее, метрах в пятистах, — нелепый толстоногий гриб размером чуть поменее наших транспортников. Дорога шла под уклон, так что корабль был виден как на ладони. Солнце освещало его справа, а слева висела Земля, внимательно наблюдая за пришельцем из-под кисеи облаков.
Четверка, как по команде, присела на камни, привалясь плечами к основанию купола. Все они, не сговариваясь, готовы были поклясться, что приказ “оставаться на местах” получили сразу же после того, как покинули шлюз. Сейчас они, откровенно говоря, уже жалели, что в их распоряжении нет телеобъективов и прочих средств детального наблюдения, сейчас бывших бы нелишними. Но что сделано, то сделано.
Около часа в шлемофонах то взрывалось многоголосие импровизированных перекличек, то с цепенящим спокойствием звучал командирский бас Миграняна: “Ждем распоряжений с Земли. Оставаться на местах”. Затем следовали томительные паузы — оставалось только догадываться, с кем и каким тоном совещается начальник Байконаверала. Да, за всю эпоху освоения космоса так называемых нештатных ситуаций случалось пруд пруди, а вот к такой, долгожданной, желанной, никто, как выяснилось, готов не был.
И уже окончательное тихое смятение воцарилось над истоптанной космическими башмаками поверхностью спутницы Земли, когда из-за толстой ножки инопланетной волнушки, прочно вросшей в грунт, медленно показалась тускло поблескивающая фигура.
Отсюда, от подножия купола, она была бы незаметна, если бы не перемещающийся блик. Первым его заметил дальнозоркий Ги:
— Глядите-ка, киба спустили!
— Нормально, — отозвался Габор, — мы на их месте поступили бы точно так же.
— Они же не на минуточку прилетели, — засомневался Первеев. — Могли бы оглядеться, пробы взять… А то так вот сразу и вытряхнули добро. А если бы напоролись на агрессивную цивилизацию? Тут их кибчика испекли бы в один момент!
— Агрессивная цивилизация жрет друг дружку на собственной планете, а не выходит в космос! — фыркнул Фаттах.
Впрочем, это тоже был академический спор, продолжавшийся два столетия: может ли агрессивная цивилизация стать покорительницей космоса?
— М-да, в смелости этим парням не откажешь, — констатировал Ги. — В какой-то степени Первеич прав: могли бы их жахнуть противометеоритным оружием, причем без всякого злого умысла, а на бездумно-кибернетическом уровне. Их счастье, что они подлетали медленно… Века полтора назад, подберись они вот так к поверхности Земли — без радиосигналов или каких-нибудь фейерверков, — страшно подумать, что могло бы произойти…
— Братцы, а о том ли мы думаем? — проявил вдруг несвойственное ему глубокомыслие Габор. — Ведь он, по-моему, идет на контакт…
Насчет контакта было еще неясно, но он несомненно приближался. Поблескивающее массивное тело не менее двух метров в высоту плавно скользило по дороге, словно на воздушной подушке; отсюда было не разобрать деталей, но движение это отнюдь не напоминало целеустремленную прямолинейность робота. Напротив, фигура подплывала то к левой, то к правой обочине, временами останавливалась и, кажется, наклонялась.
— Ну прямо как на прогулку вышел! — восхитился простодушный Первеев. Тоже мне… луноход.
Между тем “луноход”, не дойдя до купола метров сто пятьдесят, неожиданно присел на камешек. Это было так по-человечески, что никто даже не удивился. Странно было только то, что смотрел он не на сверкающее полушарие “Шапито”, а куда-то в сторону. Сейчас уже можно было рассмотреть, что у робота две передние конечности, призматическое подобие головы, впрочем, без шеи, и все это сгибается мягко, без острых углов, словно неведомое существо было вылеплено из пластилина.
— Куда он уставился? — недоуменно протянул Первеев. — Перед ним архитектурное детище неевоной цивилизации, а он нос воротит!
— Балда, — дружелюбно заметил Габор, — он же на Землю смотрит.
— Я, когда в первый раз тут высадился, тоже вот так смотрел… — Фаттах вздохнул. — Привыкли мы, братцы, очерствели, а ведь красота-то какая!
Они замолкли. Неведомый пришелец сидел и смотрел. Время тянулось. У Габора затекли ноги, он поднялся во весь рост, за ним и остальные. Задумчивый гость переменил позу, словно и у него появилось желание устроиться поуютнее, и продолжал глядеть. Перед ним, чуть прикрытые облачной растушевкой, проплывали прелестные в своей законченности контуры Африки. Гость нагнулся, словно что-то нашаривал у своих ног.
— Он рисует! — завопил Ги. — Репей мне под скафандр, братцы, если он не рисует!
— Интересно, чем он это делает? — Первеев поднял руку, словно намереваясь почесать гермошлем.
— Не чем, а что…
Короче говоря, кто из них сделал первый шаг — неизвестно.
Дашков отсмотрел фрагмент, чарщангинский андроид вежливо осведомился, не переключить ли линию на непосредственную трансляцию с Луны, благо приемник на правительственном мобиле это позволял.
“Чуть погодя, — сказал Дашков. — Все члены Совета в воздухе?” — “Ласкарис уже приземлился”.
— Полагаю, что пора провести селекторное совещание. Задача номер один этим рейсом захватить с собой максимум специалистов. Слава, голубчик, по параллельному каналу свяжитесь с Луной-1, пусть немедленно начинают эвакуацию астрономов из этого… “Шапито”. Оставить только персонал, имеющий непосредственное отношение к проблеме контакта.
— Гм… — позволил себе Левров.
— В чем дело?
— По какому принципу должен определяться круг этих специалистов?
— По принципу пригодности. Передайте — на усмотрение Миграняна. Лингвисты, вирусологи, кибермеханики и робопсихологи…
У него перед глазами невольно возник последний кадр только что просмотренного сообщения с Луны — массивная фигура, скромно притулившаяся на камешке и задумчиво глядящая на Землю.
“Начнем совещание, товарищи”, — проговорил он, досадливо замечая, как садится голос, всегда так, когда раньше времени разбудят…
А они продолжали идти навстречу друг другу, и между ними оставалось не более сорока метров. Шли молча, напряженно вслушиваясь в дыхание друг друга; с каждым шагом все яснее обозначалась неслыханность происходившего — и невозможность вернуться к исходной ситуации. Нужно было срочно придумывать, что же, в конце концов, делать, когда они столкнутся нос к носу, но никому из них не пришло в голову попросту посоветоваться с космодромным начальством, которое их пока, по-видимому, не замечало: все телеобъективы, ближние и дальние, передавали крупным планом героя дня и ничего другого.
— Ребята, — не выдержал простодушный Первеев, — неудобно как-то вчетвером на одного…
— Верно. Я впереди, вы страхуете в шести метрах. — В такие минуты Джанг Фаттах, как никто из них, умел принимать молниеносные и безошибочные решения.
Кроме того, он был старшим как по возрасту, так и по должности. Первеев и Габорги — близнецов, когда они действовали в паре, иначе никто не называл придержали шаг. И только теперь сухощавая фигурка Фаттаха, стройная даже в скафандре, появилась в поле зрения Миграняна.
“Что там за четверка?! — загремел в шлемофонах его голос. — Я же сказал стоять!!! Мушкетеры нашлись! Кто?”
Он прекрасно видел кто. Цвет скафандров — космодромные ремонтники, по номерам он знал каждого. Впрочем, и без номеров. Вот только Ги и Габора он путал — даже в душевой, не то что в скафандрах. Кричал он от отчаяния, потому что тоже не знал, что делать дальше.
“Назад!..”
— Нельзя, Карен Месропович, — негромко проговорил Фаттах, замедляя шаги, но не останавливаясь. — Теперь уже нельзя.
Тусклая оловянная громадина катила прямо на него, выписывая едва уловимую синусоиду, как конькобежец. Две тумбы, чтобы не сказать — ноги, не шагали, а едва заметно пружинили, плавно выгибаясь то вправо, то влево. Фаттах подумал-подумал да и передразнил — тоже повел коленками туда и сюда. Гость увидел — хотя чем бы ему видеть? — притормозил и верхнюю призму, голову то бишь, наклонил к правому плечу. Они приближались друг к другу теперь совсем медленно и наконец выжидающе замерли. Между ними оставался один шаг, не больше. Выдержка у Фаттаха была железная, у пришельца, по-видимому, нет. Он первый поднял руку и неожиданно гибким движением коснулся нижней части гермошлема, словно взял Джанга за подбородок. В этот миг Фаттах успел отметить, что дыхание в шлемофоне исчезло — стояла абсолютная, космическая тишина.
Фаттах заставил себя улыбнуться, но улыбка никак не хотела держаться на узком сухом лице, окаменевшем от напряжения. Прозрачный шлем с обязательным номером на макушке позволял видеть небольшую изящную голову, как у большинства инопланетников, бритую наголо. Именно голова, а не лицо, почему-то чрезвычайно заинтересовала пришельца. Фаттах почувствовал, что его разворачивают влево, — он повернулся в профиль; упершееся в подбородок щупальце (или все-таки рука?) произвело обратное движение — он повернулся вправо; тогда пришелец откатился чуть-чуть назад и, как показалось Фаттаху, беспомощно оглянулся на висевшую над ними Землю — и опять на Фаттаха — и снова на Землю…
А потом он присел, выгнув опорные тумбы колесом, и принялся что-то чертить на одной из каменных плит, предназначенных для фундамента новой обсерватории. Фаттах нагнулся — на сером камне ярко-розовым мелком был нарисован не то череп, не то Африка.
— Уф-ф-ф… — облегченно выдохнул Джанг. — Есть контакт!
Они выпрямились и стояли теперь друг напротив друга совершенно спокойно. Фаттах только теперь заметил, что где-то в глубине маслянисто-оловянного покрытия пришельца угадывается чрезвычайно тонкая ячеистая структура, — именно эти ячейки, сжимаясь, позволяли ему совершать движения.
— Он меня разглядывает, — проговорил он негромко, улыбаясь уже без принуждения, — на голове у него строчечка крошечных линз, вертикальных, словно кошачьи зрачки. Мелок утоплен в это самое… Олово. Или каучук. Мне бы кусочек мела…
Чего не было, того не было.
— Ну что, пошли посмотрим твой кораблик? — обращаясь к пришельцу, будто к старому знакомому, проговорил Джанг. — К тебе, к тебе! Он протянул руку в направлении межпланетной “волнушки”. Гость полуобернулся, — значит, обзор у него был не круговой — и точно таким же движением показал на купол “Шапито”. Потом согнул левую руку — нет, все-таки это воспринималось как щупальце или на худой конец пожарный шланг — и розовым мелком нарисовал на своей “голове” человеческие губы.
Нарисовал — и стер.
— Вам видно, Карен Месропович? — негромко, словно гость мог его услышать, проговорил Фаттах. — У него сверху вроде ведерка вверх донышком, но мне почему-то чудится, что оно… как бы сказать… с настроением. То на нем удивление, то нетерпение, то телячий восторг…
“На ведре?”
— Не верите? Вас бы сюда, Карен Месропович…
“Вот уж воистину — меня бы туда! Только от меня до вас — шестнадцать километров. Пока я долечу, вы там такую самодеятельность развернете… А сейчас — хватит. Дашков со всем Советом уже летит, вот им и карты в руки. А ты — давай сворачивай контакт, первая беседа не должна быть продолжительной”.
— А как?
“Как”, “как”… Тактично. Сам заварил — сам расхлебывай”.
Мигранян не хотел объяснять подробно все то, что понимал интуитивно: каким-то чудом первый контакт налажен, скорее всего решающую роль сыграла удивительная чуткость и естественность поведения Фаттаха — недаром он любимец всей Солнечной. Видимо, эти качества наилучшим образом кореллируют с программой, заложенной в этого кибера. Так что пусть продолжает действовать и дальше, руководствуясь собственной интуицией, а не советами со стороны.
Джанг же воспринимал все это несколько иначе. Нарисованные и стертые губы — “я не могу говорить, как вы”. Кибер не мог бы так просто и естественно поступить. И потом, у кибера обязательно был бы круговой обзор.
— Ладно, — согласился Джанг. — Сейчас я попытаюсь объяснить ему, что нам — сюда, а ему — туда.
И он попытался. Человек эти жесты понял бы однозначно, но пришелец снова наклонил свое ведерко к правому плечу, вскинул руку и нарисовал маленькую Африку прямо на скафандре Фаттаха. Потом решительно скользнул вбок, описал дугу и приблизился к Первееву. Вид у того, надо признать, был наиглупейший: круглый полуоткрытый рот на круглом лице.
Гость вскинул мелок — на скафандре Первеева появились два маленьких концентрических кружка.
А вот Габорги, с их одинаковыми неуемными шевелюрами и пышными усами, его нисколько не тронули. Он как-то походя изобразил на груди Ги одну звездочку, а на том же месте у Габора — две. И, совершив такое дело, уверенно покатил к шлюзовому створу.
Четверка людей неуверенно двинулась за ним. Приблизились к двери.
“Ни-ни!” — угрожающе произнес Мигранян.
Это они и сами понимали. Только было как-то неловко. Сейчас и остальная троица могла бы поклясться, что на абсолютно гладкой поверхности “ведерка” отразилось разочарование и недоумение. Затем гибкое щупальце протянулось к Первееву и чрезвычайно осторожно извлекло у него из кармана носовой платок (про Первеича недаром говорили, что он чихает внутри шлема, а протирает его снаружи). Так же медленно, вероятно демонстративно, гость провел платком по своему лицу и торсу; платок положил у ног Фаттаха. Потом нарисовал у себя на животе несколько головастиков с хвостиками и тут же медленно, торжественно их стер. А потом величаво развернулся и покатил назад, стремительно наращивая темп. Тусклый зайчик метнулся к подножию чужого звездолета и исчез.
— Обидели хорошего человека, — убежденно проговорил Фаттах.
“Ве-ли-ко-лепно!!! — заглушая его голос, проревел Мигранян, у которого камень с души упал. — Все великолепно! Все скафандры — на дезинфекцию третьей степени, образец ткани поместить в камеру анализатора, но до прилета Дашкова не трогать!”
А сам Дашков в это время неуклюже выбирался из мобиля: за три часа полета ноги, привыкшие к обязательной утренней пробежке, немилосердно затекли. Но Дашков тоже был доволен: селекторное совещание, длившееся весь перелет, закончилось вполне результативно. Основные узловые моменты первого контакта были обсуждены, рекомендации подготовлены, специалисты вызваны и тоже сейчас мчались со всех концов света на Чаршангинский космодром.
Теперь можно было пробежаться до диспетчерской и посмотреть наконец, что там непосредственно транслируют с Луны.
За восемь с половиной часов практически ничего не изменилось. Корабль с членами Совета и целым сонмом специалистов находился на подлете к Байконавералу, из “Шапито” были изгнаны его законные обитатели — астрономы, и на весь комплекс, глубоко зарывшийся в лунный грунт, осталось только три биолога, которые с разрешения Дашкова и Венке провели самый дотошный таможенный досмотр первеевскому платку, но не обнаружили ни единого контрабандного микроба или вируса. Поверить в стерильность такого громадного объекта они, естественно, не могли, поэтому собирались сидеть до победного конца, то есть до прибытия смены. И естественно, нужно было оставить кого-то из ремонтников. Выбора не было — осталась бригада Фаттаха. Сейчас они все сидели в холле астрономического купола — место, как нельзя лучше приспособленное для проведения авральных рабочих совещаний. На бильярдном столе были разостланы чертежи, а большой игровой дисплей, по вечерам, как правило, превращавшийся в хоккейное поле, сейчас был перегружен хитроумными схемами перестройки изоляторных боксов в вакуумные камеры на тот случай, если пришелец начнет выгружать на поверхность какое-нибудь оборудование и представится возможность эти сокровища исследовать — хотя бы манипуляторами.
Кроме ремонтников, подчинившихся строжайшему приказу и проспавших часа три, присутствовал здесь и Мигранян, вообще не сомкнувший глаз, — правда, не собственной персоной, а на экранчике АДО, или автоматического дистанционного оператора. Проворный многоманипуляторный “адик” мог служить полномочным заместителем своего хозяина, как бы далеко тот ни находился. Миграняновский же путался под ногами и не помогал, а вносил панику, поминутно сообщая, сколько минут остается до прилунения ракеты с членами Совета.
Вместо декораций для этой сцены по всем стенам светились экраны с изображением “волнушки” — телеобъективы стерегли ее со всех точек и расстояний. Но там ровнешенько ничего не происходило.
— Чем мудрить с уплотнителями, проще снять люки с типового грузовика, сказал Габор.
— И где это валяются космические грузовики, которые разрешается разбирать на запчасти? — съязвил Сежест.
Он, а с ним Памва и Соболек простить себе не могли, что вчера не догадались выскочить на поверхность и встретиться с пришельцем лицом к лицу — или по крайней мере скафандр к скафандру.
— Грузовик, на котором мы инжектор меняли, простоит на приколе еще недели три, — заметил Фаттах.
“Разрешаю использовать люки, — торопливо подал голос Мигранян. — Под мою ответственность…”
Клацнули двери тамбура — кто-то еще вошел в шлюзовую.
— Раз уж вы такой щедрый, подкиньте практика по электронной оптике, попросил Джанг, обращаясь к экранчику “адика”.
“Уже вызвал с той стороны, из “Колизея”. А от себя могу подкинуть идею: найдите энергетический волновод…”
Дверь из шлюзовой чмокнула и съехала в сторону. В холл неторопливо въехал пришелец.
“Адик”, располагавшийся задом к двери, продолжал вещать густым миграняновским басом, но никто из семерых уже не слышал ни звука. Немая сцена длилась около минуты. Затем гость приблизился к Фаттаху, Первееву и Габоргам поочередно, словно вспоминая их, а потом обернулся к остальным и мгновенно расставил у них на комбинезонах розовые значки: Сежесту вертикальный штрих, Памве — что-то вроде знака бесконечности, Собольку — две точки.
“О-о-о… Да падет Арарат на мою голову…”
Гость проворно обернулся — гораздо живее, чем можно было ожидать от такой массивной туши, — и, не задумываясь, нарисовал на экране “адика” чрезвычайно затейливый иероглиф, напоминающий пляшущего человечка о девятнадцати конечностях.
Совершив такое дело, он скромно сдвинулся в сторону и, согнув ноги в полукружья, присел прямо на пол.
“Всем ясно? — спросил с экрана Мигранян. — Только абсолютный дебил не догадался бы, что нужно нажать на красную клавишу, которая торчит у створа…”
— А дебилов в космос не посылают, — глубокомысленно подытожил Первеев.
— Пальцем в небо! — не удержался Ги и ткнул пальцем — не в небо, разумеется, а в панельку дисплея.
Компьютерная память, повинуясь приказу, выдала на экран картинку — вход в “Шапито”. Гость “вытянул шею” — верхняя часть туловища стала уже и длиннее. У всех появилось такое ощущение… нет, определить его никто не смог бы, но зато любой подтвердил бы под присягой, что на гладкой поверхности “ведерка” появилось выражение крайней заинтересованности.
— Вход, — негромко сказал Фаттах.
Пальцы его забегали по клавишам, задавая нехитрую программу, и на экране поплыли, то удаляясь, то приближаясь, различные уголки “Шапито”.
— Дверь. Тамбур. Скафандры. Панель управления. Дверь. Холл. Дисплей. Диван. Стол. Апельсин…
“Хватит!..” — осторожно подал голос Мигранян.
Наступила тишина. Все стояли и смотрели на неподвижно сидящего гостя. Он, казалось, тоже чего-то ждал.
— Ох… — вырвалось вдруг у Первеева.
На плоском лице, там, где полагалось бы находиться губам, четко очерчивался темно-серый кружок. Казалось, крошечные ячейки, с трудом угадываемые в глубине загадочного вещества, не то уплотнились, не то вообще изменили свою структуру.
— Дверь. — Прозвучало отчетливо и невыразительно. Голос был чистый, четкий и почему-то напоминал не Фаттаха, а Левушку Первеева.
— Почему он повторил именно это слово? — негромко вопросил Сежест.
“Потому что Джанг произнес его дважды, — так же тихо подсказал Мигранян. — Мальчики, я отключаюсь: спецрейс прибывает”.
Экранчик на брюхе “адика” угас.
— Надо понимать, конец нашей самодеятельности, — печально проговорил Соболек, который, в сущности, проявлять самодеятельность еще только-только собрался. — Ну, давай, бригадир, включай посадочную — пусть гость полюбуется!
Суперскоростная ракета уже вошла в гравитационный колодец и теперь мягкими толчками, словно пробуя под собой почву, присаживалась на причальное кольцо.
Гость заинтересовался пуще прежнего.
— Космодром. Ракета. Посадочная. Радар. Мигранян… — Джанг то увеличивал изображение, то отдалял, чтобы показать общим планом, то выхватывал какую-то деталь…
Если бы его спросили, чем он руководствуется, выбирая тот или иной объект, он, по-видимому, ответил бы: “Вероятно, я точно так же показывал бы все это вашему пятилетнему сынишке…”
Он сам не подозревал, что корень его успеха именно в этом: комиссия специалистов наверняка исходила бы из того, что перед ними — взрослое существо. Но бывают моменты, когда со взрослым полезнее обращаться, как с маленьким. Короче, когда распахнулся парадный люк и штормлифт начал по одному спускать на ледяной бетон членов Совета, пришелец должен был иметь порядочный запас информации, касающейся космической техники землян.
Догадываясь, что за ними наблюдают, члены Совета, прежде чем погрузиться в мобиль, приветственно помахали руками.
— Тебе махать не обязательно, — простодушно заметил Первеев, наблюдая за тем, как самые различные специалисты, если судить по многоцветью скафандров, высыпают из лифта вслед за ведущей пятеркой. — Их много, а ты один.
— Ле-евушка, — укоризненно протянул Джанг.
И тут же на большом экране высветилась командная рубка Байконаверала. Прибывшие сняли только шлемы и, не присаживаясь, ринулись к передатчику: Дашков, Соня Деа, Ласкарис, Хори Хасэгава. Их слишком хорошо знали в лицо, чтобы они теряли время на представление. Не хватало только Вепке, которого они видели на посадочной, — видимо, с ним было что-то неладно, как-никак двадцать лет Земли не покидал.
Но Дашков и не собирался никому отдавать бразды правления. В Совете все были равны, но превосходство в возрасте и тот факт, что именно Дашков курировал вопросы большого и малого Космоса, давали ему право на такую узурпацию.
“Рад всех приветствовать!” — заговорил он, обращаясь преимущественно не ко всем, а именно к тому, кто воспринимал его приветствие как-то не так.
Во всяком случае, при первых звуках его речи массивная фигура пришельца начала плавно отъезжать к двери, затем гость наклонился и принялся быстро-быстро рисовать сложные, запутанные линии, пока не получился хаотический клубок. Затем он выпрямился, как показалось всем, выжидающе глядя на Фаттаха.
— Выпусти человека… — шепнул Первеев.
Джанг вместе с пришельцем вышел в шлюзовую, и теперь на малом интерьерном мониторе было видно, как он спешно натягивает скафандр, а гость, присев на корточки, беззастенчиво рассматривает все причиндалы туалета.
“Воздух обратно в помещение не закачивайте!” — поспешно крикнула Соня Деа, крупнейший вирусолог планеты, за фантастическую придирчивость, противостоять которой не мог сам Дашков, введенная в состав Совета.
Вот уже два века эпидемиологи страшились призрака “космической чумы”, но ни разу такая опасность не стала реальной. И вот этот первый и единственный случай возник, как всегда и бывает, нежданно и неотвратимо.
“Да, — подтвердил Дашков, — вы уж там постарайтесь проявить максимум осторожности… только без демонстративной трусости, чтобы не стыдно было. Надеюсь, вы понимаете, что некоторое… э-э… время вы посидите там, в “Шапито”. Какой-то компенсацией вам может послужить разве что тот факт, что вы на данный момент — в центре внимания всей планеты”. — “Всей Солнечной!” радостно подсказал Ласкарис. “С вашей стороны разрешаю любую связь, никаких лимитов. Обеспечьте им нулевой коридор! — обернулся он к Миграняну. — Мамы, папы, дети, любимые девушки… Можно и в его присутствии. Это входит в намеченную нами программу. Мы тут на подлете наблюдали, как вы общаетесь… Не будем даже вмешиваться. Только придадим вам программиста-мультипликатора, дистанционно, разумеется. У гостя, похоже, незаурядные лингвистические способности. Ведь надо же нам выяснить, зачем он или они сюда пожаловали. На розовом мелке далеко не уедешь…”
Зашипело и лязгнуло — монитор показал, как двое вышли “на солнышко”.
“А он не помчится сюда?” — не скрывая испуга, проговорила Соня Деа. “Может. Как мог и раньше. — Дашков вернулся к своему привычному лаконизму. Нет. Свернул к своему кораблю”. — “А вдруг — улетит?” — резонно вопросил Ласкарис.
— Нет! — хором ответила бригада Фаттаха.
“Откуда такое единодушие?” — несказанно удивился Дашков.
— Он же пытался объяснить… вот… — робко подал голос Соболек, впервые так близко видевший Дашкова.
Он подошел к тому месту, где на полу была изображена розовая путанка, и встал так, чтобы возвращающийся Джанг ненароком не наступил бы на инопланетный иероглиф.
“Действительно, друзья, — включился в беседу Хори Хасэгава, — если бы это был, извините, человек, я взял бы на себя смелость предположить, что нарисованное должно символизировать перенасыщение семантического поля”. “Убедительно, — согласился Дашков. — Отсюда вывод: если он вернется, разбейтесь на две группы, человека по три. И продолжайте, как начали. Ваша задача — никакой информации не получать, только учить его говорить… Условно. Как только почувствуете, что перестало получаться, немедленно поставите в известность нас. Сейчас — антракт, мы тут покопаемся в уже отснятом… и позавтракаем”. — “Не покопаемся, а покупаемся”, — вставил Ласкарис — он весь лучился от счастья, чего нельзя было сказать о Дашкове. “Я бы со своей стороны просил… Извините, если вы найдете для этого несколько минут, — включился Хасэгава. — Я прошу каждого, не общаясь друг с другом, записать свои ощущения, каким вам представляется наш высокий гость. Счастливым, одиноким, голодным… Очень простыми словами. Моя просьба понятна?”
Просьба была понятна.
“Тогда, прошу вас, сделайте это не откладывая”.
Когда просит член Высшего Координационного Совета, откладывать как-то и в голову не приходит. Поэтому к тому моменту, когда Фаттах спустился в столовую, все разбрелись по углам и, прихлебывая дымящееся какао, трудились в поте лица: не так-то просто даже “обыкновенными словами” изложить впечатления от оловянного ведерка. Ну, если бы хоть чем-то оно напоминало лицо, пусть даже не человеческое, а какой-нибудь химеры… М-да.
Джанг вытащил из стенного зажима лист плотной бумаги и попытался сосредоточиться. Как объяснить членам Совета свои впечатления? Ведь не поверят. Слишком уж это будет отличаться от того, что напишут остальные…
Хори Хасэгава сидел перед монитором и просматривал последний тайм кокиб-бу, где в синем играли ребята Джанга Фаттаха. Если хочешь быстро и с максимальной точностью составить представление о человеке, не листай записи о годе и месте рождения, образовании, состоянии здоровья… Посмотри его в игре. И увидишь, что этот длинный, Сежест, — индивидуалист и задавака, жертва дурного воспитания, ему все время приходится ломать себя и он этого перестал стыдиться: не первый год у Фаттаха, научили; Соболек — удивительное соответствие своей фамилии: необычно пластичен, реакция молниеносная, не то что у Сежеста; и уникальные Габорги, которые всем кажутся одинаковыми, а на самом деле один культивирует внешнее сходство, а другой не знает, как от него избавиться…
— Мальчиков смотришь? — Дашков подошел стремительно и бесшумно — тощая белая птица, в своем полете даже не колеблющая воздух. — Ответ тебе пришел. Данные уникальны.
Он подал семь жестких листочков, только что отпечатанных космодромной “елочкой”, как звали на местном профессиональном жаргоне ЕЛИ — Единый лунный информаторий. Впечатления семерых парней уже легли в его бездонную память.
— Так… Первеев: “Гость прилетел один, это парень моего возраста, если переводить на земной эквивалент, не путешественник и не освоенец, с юморком, фантазией и без страха. Тем не менее его что-то тяготит или пугает, но только не мы. Не задается. Наверное, в жизни одинок. Когда снимет скафандр, вряд ли окажется похожим на нас. Торопится, но виду не подает”.
— Многовато, не так ли? — спросил Дашков. — Читай дальше.
— Пожалуйста. Сежест: “Пришелец аналогичен любому из нас, кроме, вероятно, внешности. Цель прилета — специфическая, не разведывательная. Бесстрашен и осторожен. Весел наперекор тоске — не от одиночества ли? Спешит”. Они что, действительно не сговаривались?
— Ты же следил по монитору, — фыркнул Дашков. — Ребятам можно верить не меньше, чем нам самим: это ведь моя “золотая бригада”, я их еще по Верфям знаю.
— Соболек — это самый младший, не так ли? Посмотрим: “Он выше меня на голову, но мне все время кажется, что мы одного роста. И в остальном похожи. Только лицо у него будет… Не знаю какое, но не человеческое. А жалко. Когда он заговорил голосом Левы, мне стало завидно. Но это не его собственный голос, потому что у него настоящий голос должен быть очень грустным…” Так. Дальше все идентично. У остальных… у остальных никаких отклонений от общей схемы. Петр, это серьезно.
— Да. Потому что я всегда диву давался, какие же они совершенно разные люди… Вот что, Хори, попробуем внести, так сказать, заключительный штрих.
Он подошел к микрофону.
“Минуту внимания: прошу ответить мне, что вы собираетесь делать дальше, прошу ответить одним словом, написать на бумаге и показать мне. ОДНИМ СЛОВОМ!”
На экране монитора взметнулось семь листков бумаги. И на каждом стояло одно-единственное слово: “Помогать!”.
Даже восклицательный знак стоял у каждого.
“Спасибо, ребята, — сказал Дашков. — Вот и действуйте согласно намеченному плану!”
И отключился. Ободряющая улыбка сошла с его лица, когда он обернулся к Хасэгаве:
— Ты допускаешь, что они находятся под гипнотическим воздействием?
— Я все допускаю. Поэтому настаиваю на том, чтобы никто из нас в непосредственный контакт пока не входил.
А между тем Земля, а с нею и вся Солнечная изнывала в ожидании. Пять тысячелетий люди ждали пришельца с небес, поначалу соглашаясь не меньше чем на бога; затем требования стали скромнее: мечты ограничились кругом людей, затем просто разумных существ, а вскоре согласны были и на робота. Да пусть хоть просто зонд! Лишь бы не быть одним во Вселенной.
И вот — пожалуйста. Сидит себе долгожданный на Луне, а дни идут, идут, идут… Зачем он прилетел? Почему не рассказывает о себе, о своем мире? Неужели не понимает, как жадно ждут от него малейшей информации?
Совету посчастливилось, что он отбыл на Луну, иначе его просто захлестнула бы волна писем и обращений. От жалостливых просьб прекратить просвещенческие упражнения на, возможно, потерпевшем аварию или больном существе до категорических требований перестать снабжать неизвестно кем и с какой целью заброшенного к нам робота всеми данными нашей техники и науки. Правда, в такую крайность впали немногие. Но бывало. Позднее подсчитают, что одних приглашений в свой дом пришелец получил не менее полутора миллиардов!
Но Совет надежно заэкранировался от этого потока, а бригада Фаттаха, недаром названная “золотой”, уже на третий день буквально взмолилась оградить ее от внимания всей Солнечной, ибо для простых, нормальных людей быть в центре внимания просто неорганично.
Дашков распорядился оставить их в покое и свести репортажи к двум пятиминуткам в день. Все (похоже, что и сам гость) вздохнули свободно, и это благостно отразилось на их способностях. Памва взял на себя камбуз, и все с удивлением признали, что ни разу в жизни так не пировали, — и это на космических-то концентратах! Правда, оно и аукнулось: за первую же неделю все, кроме Сежеста, прибавили в весе. А он обнаружил вдруг склонность к тележурналистике: его ежедневные репортажи были загадочны, остроумны и профессиональны — чего ж еще? Наконец-то он мог проявить свою индивидуальность, не боясь прослыть выскочкой.
С дисплеем и “елочкой” мудрил Джанг Фаттах: нужно было выудить из информатора сведения первой необходимости и преподнести в наиболее доступном виде. Разумеется, половина всех специалистов, привезенных Дашковым с Земли, наперебой давала ему советы, но, как только приходил гость и советчики тактично отключались, все наставления шли прахом. Прежде всего Джанг почувствовал, что сам дисплей является для пришельца элементом чуда. Как разумное существо, прилетевшее на космическом корабле, могло оказаться незнакомым с простейшей кибернетикой? Азы программирования прозвучали для него чистейшей абракадаброй. Знакомство с планетолетом вызвало точно такую же реакцию, что и заочная экскурсия по Нотр-Дам. Окончательно добило Фаттаха неподдельное изумление гостя, когда перед ним возникла схема Солнечной системы. Он словно не мог поверить в реальное существование Марса, Венеры, Юпитера, не говоря о их спутниках. Все, что касалось Земли, он рассматривал с восторгом, остальные поселения землян в Солнечной, похоже, вызывали у него недоумение. Сохранять полнейшую невозмутимость с таким невеждой, умудрившимся как-то заделаться космическим пилотом, мог только такой гений самообладания, как Джанг Фаттах.
А Первеич оказался незаменимой нянькой. Он как-то научился распознавать, когда гость устает, что его раздражает; однажды, путешествуя по “Шапито”, они набрели на камбуз. Первеев начал демонстрировать процесс питания и под этим предлогом изничтожил все пончики с персиковым вареньем; гость заинтересовался чрезвычайно, набрал полный пакет образцов человеческой снеди и помчался к себе домой. Первеев с ума сходил от тревоги: а вдруг отравится? Гость заявился раньше обычного, попросил жестами проводить его туда же и снова набрал пакет: теперь его интересовали исходные продукты. Мука, соль, сухофрукты и молоко стали перекочевывать к нему на корабль ежедневно, и Левушка уже готовил к его приходу “сухой паек”. Неужели гость съедал все это? Его пытались спрашивать, но он никогда не отвечал на вопросы.
Соболек убивался, подозревая себя и своих товарищей в полнейшей неспособности к полноценному общению с представителем инопланетной цивилизации. Чтобы хоть как-то исправить положение, он принялся рисовать вспомогательные схемы, потом — картинки, а оттуда уже недалеко было и до стенной росписи. Пластиковые панели холла украсились “буйной босховщиной”, как изволил выразиться Сежест, предложивший Собольку переключиться на наскальную живопись. Остальные только недоумевали, как это они могли проглядеть в своем товарище столь яркое дарование.
А веселее всех было Габоргам, которые взяли на себя роль игровиков-затейников. Сидеть без разминки в закрытом помещении удовольствие ниже среднего, и на второй же день гостя, чтобы не терять времени, потащили в спортзал. Правила баскетбола он освоил на удивление быстро, причем в точности попаданий с ним не смог бы соперничать и чемпион Солнечной: он просто не делал ошибок. Послушав свою “няньку”, он так же громко, но совершенно невыразительно стал кричать: “Шайба!!!” — чем наводил ужас на остальных игроков. Так, в процессе игры, он понемногу заговорил. Похоже, он автоматически запоминал каждое слово, но пользовался ими совершенно варварски: “Я стулю” — это он сидел на стуле — или “Лева супит”, то есть Лева ест суп. Родной язык, по-видимому, у него не страдал структурной изощренностью. Но Дашков строго-настрого запретил его поправлять. “Вам понятно, что он имеет в виду? Мне тоже. Пока пусть все так и остается, а то выработаете у него сороконожий комплекс, он начнет задумываться и вовсе замолчит”.
Не похоже было, чтобы гость мог замолчать: его невыразительный голос с Левушкиным тембром и четкостью кибер-чтеца звучал теперь постоянно, — как говорится, игра не доводит до добра. А игры разнообразились с каждым днем, дошло дело и до дисплея, но гость освоил только самые незамысловатые: “горячо — холодно”, “кирпич на голову”, “крестики-нолики”.
На восемнадцатый день, отдыхая после обеда (гость к себе домой не пошел, а выпросил у “няньки” горсточку пшена, которую, как хоботом, втянул в себя правым щупальцем, — тоже пообедал), все расположились в креслах возле дисплея. Габор, почесывая за ухом, растолковывал гостю специфику “казаков-разбойников”. Все позевывали.
Светлая юркая звездочка непредсказуемыми зигзагами ускользала от условного преследователя. Гость неторопливо поднял руку, ткнул мелком в экран, так что на нем осталась розовая точка, и лаконично произнес:
— Я.
— Ты, ты, — заверил Габор. — Дослушай до конца, потом будем играть. Вот этот казак…
— Я казак, — повторил гость и, потянувшись, по-хозяйски выключил дисплей.
Все ошеломленно молчали, глядя на него.
Он нагнулся, нарисовал на полу розовое лубочное солнышко, поодаль крошечный кружочек.
— Мое Солнце. Моя Земля, — констатировал он.
Еще дальше и с полнейшим несоблюдением масштаба уносились прочь два ракетных грибка — шляпками вперед.
— Разбойник убежал. Я казакую, — с истинно дашковским лаконизмом прокомментировал он свои рисунки.
У всех одновременно появилось ощущение, что температура в холле разом понизилась градусов на десять. Звездный гость, посланец “братьев по разуму”…
Сыщик. Полицейский. Всего и навсего.
— А где ж твой разбойник? — растерянно проговорил Первеев.
Гость выпрямился, линзочки-зрачки поочередно остановились на каждом из присутствующих. Потом он плавно развернулся и, как лебедь белый, гордо выехал за дверь — открывать шлюзовую он давно уже научился самостоятельно.
На экране внешнего обзора было видно, как тускло поблескивающая массивная фигура устремилась к чужеземному кораблю и еще через несколько минут этот корабль взлетел.
Джанг обреченно вздохнул и вызвал центральный пост Байконаверала. Члены Совета, по двадцать часов не вылезавшие из командного пункта, благо это обеспечивало им любую связь, рассматривали какие-то диаграммы.
— Добрый день, — мрачно и покаянно проговорил Фаттах, — пожалуйста, просмотрите безотлагательно нашу последнюю запись.
“А в чем дело?” — спросил Дашков.
— Дело в том, что он улетел.
Дашков только глянул исподлобья и, не тратя больше времени на вопросы, включил экран.
Всю сцену с “казаками-разбойниками” они просмотрели в гробовом молчании.
“Ну?” — спросил еще раз Дашков.
— Ну и все…
“Нет, не все. В настоящий момент он над нами… Делает круг над административным корпусом… Все. Теперь улетел”.
Но он не улетел. Часа через полтора раздался экстренный вызов с обратной стороны — докладывало Ласточкино гнездо, как окрестили тамошний космодром, начальником которого был некто Каплунов, нелюбимый за исключительное занудство: “Он над нами! Кружит, но не садится… Может, успеть выложить какой-нибудь знак прямо на посадочной…” — “Не нужно. Ждите”, — сказал Дашков и, как всегда, оказался прав.
Через четыре часа гость вернулся, прилунился на прежнем месте под бочком у “Шапито” и буквально через несколько минут уже стоял перед всеми двенадцатью — члены Совета откровенно не отключали экрана: у сыщика должны быть крепкие нервы.
На сей раз гость не возразил против присутствия многочисленной аудитории. Он остановился посреди холла и бесстрастно произнес, словно продолжая разговор:
— На Луне его нет.
“А где же он?” — естественно вырвалось у Сони Деа.
— А где же он? — точным эхом ответствовал пришелец.
Наступила ужасающая пауза.
“Этого ни в коем случае нельзя ретранслировать по общей передающей сети…” — пробормотал Хасэгава.
“Ради всех небес. Хори… — простонала Соня Деа. — Скажите, вы уверены, что он — на Земле? Ведь есть же поселения и на Марсе, и на спутниках Юпитера…”
— Спрятаться всю жизнь. Комфорт.
Дашков посмотрел на него с невольной завистью: эк, стервец, в четырех словах объяснил абсолютно все. Кроме…
“Но рано или поздно люди обнаружат его. Ваш скафандр известен, а то, что под скафандром… Не думаю, что условия различных планет могут позволить сформироваться идентичным высшим формам…”
— Один скафандр. Два скафандра.
И опять он дал сто очков вперед по емкости информации! Выходит, он может поменять скафандр и тем самым принять облик…
“В таком случае как же собираетесь разыскивать его вы?” — логично спросил Ласкарис.
— Не вид. Мысль.
Когда-то это называлось “запах мысли”. Пока люди возились с телепатией, периодически открывая и снова закрывая ее, они придумали массу реальных и фантастических терминов. Но некоторые отражали самую суть.
“Но тогда на что же он надеялся?” Если гость был детективом, то Ласкарис в своей непреклонной логике вполне мог претендовать на профессию, которая в старину, пока на Земле еще существовали преступления, называлась “прокурор”.
Но гость не уступал ему в последовательности. Он нагнулся и нарисовал на полу ту же розовую путанку, как и в момент первого знакомства с Советом.
— Шум, — пояснил он.
Дашкову стало совсем тоскливо: обследование целой планеты на предмет выявления замаскированного преступника грозило затянуться на неопределенное время… Ловить разбойника — это ведь забава для детишек дошкольного возраста. Для взрослого же населения целой планеты — игра скверная, способная разбудить самые низменные, атавистические чувства.
Вепке, страдавший одышкой — нельзя ему было лететь, нельзя, да и что за радость — контакт с полицейским, — впервые подал голос: “А вы уверены, дорогой друг, что ваше посещение не вызовет какой-нибудь неожиданности? Скафандр продезинфицировать легко, но на Земле вы его, вероятно, снимете. Ваш, если только вы меня понимаете, бактериальный мир… Не вызовет ли он непредвиденных болезней? Впрочем, по этому поводу лучше выслушать специалиста…” Он обернулся к Соне Деа.
Но гость не стал дожидаться мнения специалиста. Всем почему-то показалось, что на плоскости жестяного “лица” проскользнула снисходительная улыбка:
— Если разбойник там.
Вот именно: если. Если он уже на Земле, то все прелести инопланетной инфекции уже налицо. А если его нет?
— Бесстрашьтесь, — сказал, словно сжалился над всеми, гость. — Корабль…
Счастливый парень, он не знал глагола “убивать”. Он просто нарисовал несколько крошечных букашек и демонстративно стер их. Всем припомнилось, что этот знак он подал им в первый свой визит. Ну, понятно, у них в шлюзовой камере предусмотрена автоматическая дезинфекция.
Соня Деа медленно-медленно выдыхала воздух — с того момента, когда она представила себе, что по ее планете разгуливает непродезинфицированный инопланетянин, она, похоже, вообще не дышала.
— Лететь! — скомандовал он, и члены Совета послушно поднялись со своих мест.
“Приземляться придется на Сахарском космодроме, — сказал Дашков. — Там все условия для таких вот экспериментов. Скажите, вы сможете посадить ваш корабль вот сюда?”
На экране возникла карта северной части Африки, и яркая стрелка указала на самый крупный космический полигон.
— Скажу кораблю. Он сядет.
“Разве вы не пилот?” — поразился Ласкарис.
— Я думать. Корабль лететь.
— Ну и техника у вас! — невольно вырвалось у Первеева. — Управление кораблем на чистой психотронике!
— У другой звезды.
— Постой, постой, ты хочешь сказать, что этот корабль… Что его создали в другой звездной системе? — переспросил Джанг.
— Да.
Члены Совета разом сели. Кто-то застонал.
— Почему ты никогда об этом не рассказывал? — обиженно проговорил Первеев.
— Вы не интересовать. — Он помолчал и совсем тихо добавил: — Обидно.
— Слушай, — сказал Джанг, — так вас там, выходит, много… В том смысле, что с разных планет? Мы об этом еще только мечтаем, а вы уже друг к дружке запросто летаете…
— Мы нет.
“Ничего не понимаю, — искренне признался Дашков. — Вы прилетели, и вы, оказывается, не летаете. Может быть, вы объясните нам, что к чему, хотя бы в общих чертах?”
— Трудно, — сказал гость. — Пробую.
И, тщательно подбирая слова, а порой переходя к привычным росписям на полу, он рассказал…
Цивилизация на его планете была типично биологической и достигла достаточно высокой ступени, в технологическом плане оставаясь где-то на уровне бронзового века. Планета не знала перенаселения, методы аутоконтроля позволяли бороться с болезнями, культура достигла лучезарных вершин.
И тут буквально свалились с неба непрошеные пришельцы. Это была энергичная щедрая раса звездопроходцев, которая уверенно несла дары своей цивилизации с одной планеты на другую: Их корабли располагали техникой, способной с большой степенью вероятности разыскивать звезды, обладающие планетными системами, пригодными для зарождения жизни. А найдя таковую жизнь, они впадали в такой восторг, что буквально задаривали “братьев по разуму”: автоматические металлургические комплексы, преобразователи энергии, комбинаты автоматического клонирования, информационно-вычислительные центры, космические корабли и индивидуальные левитаторы. И все это, как сказал бы землянин, “с подгонкой по фигуре”, то есть приспособленное для использования именно на этой планете, со всеми ее физико-химическими параметрами, и притом на нулевом уровне эксплуатационного примитива: ткни пальцем в кнопочку…
“Дерни за веревочку — дверь и откроется”, — пробормотал себе под нос Ласкарис. Гость не расслышал, но Дашков на всякий случай грозно нахмурился.
С дарами инопланетной технологии было просто: оставили в неприкосновенности, за редким исключением. Гораздо хуже было с информацией. Рассказы о жизни далеких миров, проиллюстрированные неразрушимыми объемными миражами (вероятно, без голографии не обошлось), пленили сердца молодежи. До сих пор на единственном кольцевом материке все было единообразно: одна цивилизация и, следовательно, одна культура, один язык, один образ жизни (на данный момент, во всяком случае, — недаром божеством было единое солнце: до прилета пришельцев считалось, что оно освещает всю Вселенную) и одна, возведенная в ранг богини, планета.
Недаром в переводе на язык землян эта планета называлась Айна или, если угодно, Уана.
Айниты, от природы наделенные способностью менять свою внешность, до сих пор придерживались строгого единообразия, не говоря уже о манерах и обычаях. Все было едино.
Но вот с некоторых пор у молодежи стала наблюдаться чуть ли не поголовная тенденция подражать инопланетянам, и не только тем, что посетили Айну, но всем, фигурировавшим в рассказах пришельцев. Словом, изощрялись кто во что горазд. Сначала на это смотрели снисходительно: упражнения в мимикрии — это возрастное, пройдет, ан, не проходило. Через несколько десятилетий спохватились: за формой пришел черед содержания. Попирались обычаи и приличия, забывался язык, под угрозой была культура — многовековая, собственная. На смену пришел хаос подражательства. Старшее поколение представило себе, что случится еще лет через двадцать (айниты живут примерно одинаковое число лет), и приняло чрезвычайные меры: все инопланетное было категорически запрещено.
И только теперь жизнь на Айне вернулась в свое естественное русло.
“Хэппи энд”, — буркнул Ласкарис. Остальные молчали, но чувствовалось, что всех томит какая-то недоговоренность.
“Ну, с историей мы разобрались, большое вам спасибо за впечатляющий рассказ, — откашлявшись, словно у него першило в горле, заговорил Дашков. Но при чем здесь ваш преступник, за которым вы гнались через всю Галактику?”
Было видно, что гость устал невероятно, напрягая свои лингвистические способности. Поэтому паузы между словами достигали порой нескольких секунд:
— Он… преступал… против… детей.
В третий раз за этот день члены Совета продемонстрировали фантастическое единодушие: они ринулись к своим скафандрам.
“Мигранян! — Голос Дашкова гремел так, словно он командовал Полтавской битвой. — На всей планете — чрезвычайное положение! Обращение сформулируем сразу после взлета. Держите связь с нашим кораблем, чего бы это ни стоило! Команду Фаттаха — следующим рейсом, как только будет готов корабль. Проконтролируйте!..”
— Остановить… — Гость смотрел на экран, на котором суетились члены Совета, неловко влезая в скафандры: как-никак это случалось с ними далеко не каждый год. — Ваши дети… опасность нет.
— В самом деле, Петр Павлович, — не выдержал Фаттах. — Если бы это было опасно для нас, он предупредил бы с самого начала… Человек ведь.
“Человек? — Дашков прыгал на одной ноге, не позволяя никому помогать себе: это было его нерушимым правилом. — Человек… Человек… Внимание: авральный старт отменяется. Команда Фаттаха, прибыть поелику возможно быстрее сюда. Э-э-э… гость с планеты Айна, вы летите одновременно с нами?”
— Лететь.
“Вы запомнили точку, которую я показал вам на карте? Или повторить?”
— Лететь.
“Само собой… То есть счастливого пути!”
Два корабля — земной и инопланетный — стартовали одновременно.
На Сахарском экспериментальном космодроме опустился только один корабль — наш.
Чрезвычайное положение на всей планете объявлено не было, но еще в полете Дашков успел распорядиться, чтобы все следящие системы космодромов, обсерватории, метеостанции, а пуще всего — Служба охраны озонового слоя, или, как ее коротко называли, СООС, не утроили, а удесятерили свою бдительность. Как чувствовал старик. И когда Хори Хасэгава вкупе с Соней Деа принялись скорбеть по поводу отбытия инопланетянина в родные края, он пожал плечами и коротко велел: “Ищите лучше”.
Искать принялись на славу, и не прошло получаса, как с Земли Королевы Мод, из городка Санта-Фэ и окрестностей поселка Щебетовка на восточном побережье Крыма уже пришли сообщения о посадке неопознанного тела. В первом и втором случаях это были обычные аномалиты, или, как их называли в старину, “летающие тарелочки”, а вот в третьем деваться было некуда: это был он, голубчик. Дашков даже руки потер, хотя обычно не допускал ни лишних слов, ни жестов.
— Как давно он сел? — спросил Ласкарис, не разделявший оптимизма своего друга.
“Один час двадцать три минуты назад, — пророкотал кибер-ответчик. — С момента приземления наблюдение снято”.
— Вот именно, — сказал Ласкарис. — Теперь ищи ветра на Черноморском побережье…
— Чтобы его искать, надо еще до указанного побережья добраться, — резонно заметил Вепке. — Хотя… Наш гость проявлял завидную резвость на Луне, а вот каково ему будет в многопудовом скафандре здесь, в условиях земной тяжести?
— Увидим, — лаконично заключил Дашков. — Ты все равно останешься, вон что с тобой посадка сделала. Нельзя тебе больше летать. А мы сейчас выжмем из машины… машина готова?
Все было готово.
“Внимание, Щебетовка! — Дашков задержался перед микрофоном. — Может, он уже покинул корабль — я бы на его месте так и сделал, — но если нет, то постарайтесь все время держать его под наблюдением… Почетную встречу организуйте, что ли. В национальных костюмах, с цветами и песнями. У вас же там полно студентов на летней практике — пусть проявят сообразительность. Но чтобы ни к одному ребенку его не подпускать!”
С тем суперскоростная машина и взмыла в воздух. Но там, куда они направлялись, все было тихо и спокойно: корабль-“волнушка” стоял в тенистом ущелье, заросшем орешником, но известная уже всему миру массивная тускло-серая фигура ни вблизи его, ни на побережье не появлялась.
Добровольцы из студенческих отрядов и окрестных детских лагерей уже оцепили импровизированный “космодром”, а с минуты на минуту должны были прибыть карантинные и аварийные службы — так называемые штурмовые бригады, подчиненные лично Дашкову. Он вызывал людей, технику; если бы на Земле еще существовали войска, он направил бы сюда… как это называлось… несколько дивизионов. Или дивизий? Странное, визгливое понятие, несомненно относящееся к области ручного пиления чего-то душистого, оставляющего оскомину во рту, а на ногах — тончайшую осыпь еще теплых опилок… Клейкость обломанного сучка… Паутина протянувшейся от среза смолки…
Он вздрогнул и очнулся. О чем это он? Вот уже несколько десятилетий он не позволял себе не только лишних слов или движений — посторонней мысли. Он, Петр Дашков, член Высшего Координационного Совета.
Вот именно. Все эти распоряжения отдавал не Петр Павлович Дашков, это выполнял свои функции член Совета. Дашков ли, Иванов или Сидоров — не имеет значения. А Петр Павлович, привалившись надкрыльями острых лопаток к амортизирующей спинке, прекрасно знал, что все это бесполезно: гость давно и результативно ускользнул от их непрошеного внимания, он честно делает свое дело — ищет следы своего неуловимого и грозного, но совершенно не опасного для землян “разбойника”. Если бы он нуждался в помощи, он так и сказал бы Фаттаху или Первееву: помогите, мол, братцы. Да, именно так: Джангу или Левушке, а не ему, члену Совета. А может быть, это и правильно: встретились впервые парни с разных планет и обошлись без всяких там представительств и церемоний, а сразу же принялись за дело.
Но всего этого не объяснишь двадцатилетним энтузиастам, расположившимся в наскоро разбитом палаточном городке вблизи корабля пришельца. Эти будут упорно ждать — и день, и два, и десять, и двадцать…
Дашков ошибался на два дня.
Двадцать второй день пребывания на крымском берегу начался как обычно: пробежка в сопровождении окрестных собак, купание в похолодавшем сентябрьском море, безнадежная перекличка со всеми постами слежения, которым почти месяц назад были выданы характеристики чужого корабля. Автоматические спутники работали тщательно, всего поступило шестьсот девяносто четыре сигнала обнаружения, но все — щебетовский вариант. По-видимому, корабль беглеца, которого весь мир привык называть старинным словом “разбойник”, на нашей планете вообще не появлялся.
Сколько же времени понадобится пришельцу, чтобы убедиться в бесплодности своих поисков? Дашков бессчетное число раз задавал себе этот вопрос. Бригада Фаттаха, изнывая от затянувшегося внепланового отпуска, поначалу обсуждала это каждый день, но мало-помалу у всех нашлось занятие. Соболек рисовал Карадаг со всех точек и при различном освещении, не подозревая, что за последние пятьсот лет не осталось ни единого клочка земли в окрестностях этого усопшего вулкана, где хотя бы один раз не стоял мольберт самодеятельного художника. Сежеста приняла группа симферопольских голографокомментаторов. Первеев подался в малышовую группу слета юных лунопроходцев. Габорги, тяготевшие к крупным масштабам, организовали Всекрымскую осеннюю карагдиаду — грандиозные соревнования по всем видам спортивных, не совсем спортивных и абсолютно не спортивных игр. Памва чудил в знаменитой “Генуэзской таверне”, воскрешая рецепты малосъедобных блюд XV века. И только Джанг Фаттах неизменно пребывал в “штабе СЕТИ”, как шутливо окрестили Карадагскую биостанцию, где обосновался Совет.
Собственно говоря, от всего Совета к этому утру на Карадаге оставался один Дашков. Да и биостанция вот уже полтора века как перестала существовать. Сначала ее расширили и превратили в поликлинику для дельфинов, но по мере того как все побережье превращалось в один сплошной летний детский курорт, стало ясно, что дельфины будут чувствовать себя здесь дискомфортно, и их перевели в Пицундский аквасанаторий. Правда, слухи о том, что возле заповедных скал можно подкормиться даровой рыбешкой, прочно укоренились среди черноморских афалин, и свободные от дежурства связисты, как правило, торчали на пирсе, развлекаясь примитивным рыболовством в пользу веселых тупорылых гигантов.
Вот и сейчас Фаттах сидел над водой, свесив ноги в резиновых сандалиях, и внимательно наблюдал за тем, как к голому крючку нехотя шла толстолобая тригла. Джанг играл с кнопочкой манка, подавая на крючок ритм “Танца маленьких лебедей”; от смертоносного острия разбегались по воде волны призывного сигнала, против которого не могла устоять ни одна рыбка, от морского конька до крупного катрана, — на каждую породу надо было только изменить настройку.
Дашков подошел бесшумно и встал так, чтобы его тень не падала на воду. Он посмотрел на триглу, которая отчаянно топорщила плавники, сопротивляясь неодолимому зову механической противоестественной приманки.
— Да погоди ты!.. — неожиданно для себя самого сказал он не то Фаттаху, не то обреченной рыбке и, повернувшись, упругим мальчишеским шагом устремился на берег.
Он ринулся в пожухлую осеннюю траву, где неосторожно стрекотал согревшийся к полудню кузнечик, отловил его, дивясь собственной резвости, ухватил за отчаянно дергающиеся жесткие лапки и понес на пирс.
— На-ка, — сказал он, протягивая Джангу желтобрюхого кузнечика и заранее отворачиваясь, потому что когда-то, лет так семьдесят тому назад, он тоже не мог сам насадить на крючок вот такую сучащую лапками зеленую “кобылку”.
Джанг отключил манок и закинул удочку с приманкой; теперь двое сидели на корточках, затаив дыхание и глядя на великолепную скумбрию в синем тигрополосом уборе, нацелившуюся на кузнечика. По-июльскому яркое солнце, как это бывает на несколько дней сбора винограда, рассчитывалось с побережьем последними горстями бесшумно сыплющегося в волны золота, ветер доносил сзади тонкий дух лимонного бессмертника, осторожный прибой хрумкал бесценной карадагской галькой, выбирая заточенные в серую невзрачную скорлупку винно-красные сердолики… Дашков медленно вздохнул, поднимая под теплой курткой тощие стариковские плечи, и вдруг подумал, что все эти дни, начиная с пробуждения у себя в квартире на Таганке, он жил в каком-то черно-белом мире — без запахов, шорохов, волшебства непрошено возвращающегося детства… Да жил ли? Он фиксировал, координировал, функционировал, моделировал…
Жуть какая-то.
Кто-то в высшей степени деликатно подошел и встал над ними, глядя в воду. Дашков ревниво покосился — незнакомец был без удочки. С минуту он, выставив вперед ассирийскую бородку, благодушно наблюдал за сомнениями скумбрии, принюхивающейся к кузнечику; затем ноги его, обтянутые узкими брюками, неестественно выгнулись, обнаружив полное отсутствие костей, и образовали правильный круг, на котором, покачиваясь, как на рессоре, сидел незнакомец.
Дашков вдруг подумал, что он даже не испытал облегчения.
— Я убедился в том, что моего соотечественника на вашей планете нет, — приятным баритоном сообщил гость.
Говорил он совершенно свободно, и интонации его были задушевны и доверительны, как у диктора передачи “Полуночные новости”.
— Нет — и слава богу! — естественно вырвалось у Фаттаха.
— Да, — кивнул гость. — Ведь в этом случае ему всю жизнь пришлось бы провести в скафандре…
— Ну, это лучше, чем одному в корабле, — возразил Джанг.
— Несомненно. Притом люди вашей Земли обладают свойствами, столь редкими у нас: они все доброжелательны, ненавязчивы и… такие разные. И кроме того, у вас все, абсолютно все любят детей.
— А разве может быть иначе? — как можно мягче проговорил Дашков.
Пришелец живо обернулся к нему:
— У нас их кормят, воспитывают и защищают, — этого достаточно. Любовь это редкое исключение.
— Слушай, дружище, — перебил его Фаттах, — раз ты освободился, то расскажи нам поподробнее о своей планете, то есть не нам двоим, а всем… Ждут же. Так, Петр Павлович?
Но гость, не дожидаясь ответа Дашкова, решительно покачал головой:
— У меня есть дело, которое я не могу откладывать. Я отправляюсь дальше. Если же. — Он замялся, словно раздумывая, стоит ли быть откровенным до конца. — Если же следом за мной прилетит еще один корабль с такими же, как я… “казаками”, подтвердите, что я улетел. Был и улетел.
Дашков внимательно посмотрел на него:
— А если они захотят проверить? Вы ведь рассказывали: так называемый запах мысли…
— Вы бывали когда-нибудь там? — Смуглый перст четко указал на массив лагеря юных лунопроходцев, раскинувшийся в Лисьей бухте. — Треск цикады в многотысячной стае чаек…
— У вас есть дети? — совсем тихо спросил Дашков.
— Таким, как я, не позволяют иметь своих детей… — еще тише ответил космический гость.
Наступила тяжелая пауза.
Гость медленно опустил руку и заговорил, глядя на носки своих туфель:
— Мне не хочется рассказывать подробно о своей родине… Когда-нибудь жизнь на ней переменится. Иначе и быть не может. Но на один вопрос я отвечу: Вы спрашивали, в чем же заключается преступление того, за кем я послан… Так вот. Я уже рассказывал вам, что моя планета была не готова к контакту с высшими цивилизациями. От даров щедрых звездоплавателей мы отказались и даже память о них постарались вытравить. Лучше всего это удавалось храмителям… церквушникам…
— Жрецам, — подсказал Фаттах слово, неизвестное пришельцу, потому что на Земле оно уже давно не звучало.
— Да, жрецам. И постепенно они захватили всю власть в свои руки. По их предписаниям все одинаково одевались, говорили одними и теми же словами и читали одинаковые молитвы, ели за общими столами и занимались только строго предписанным трудом. Искусство было столь же жестко регламентировано и в конечном счете сводилось к религиозным обрядам. Легко представить, как в таких условиях воспитывались дети…
Да, представить было нетрудно.
— И вот один человек… вы не возражаете, что я называю его человеком? Мой соплеменник, которого я хорошо знал, сначала в силу наследственного дара, а потом и по собственному убеждению стал воздействовать на детей. Это не было обучение наукам или ремеслам и даже добру или злу; он просто помогал детям быть разными… Вы ведь знаете, что такое аспергилус флавус?
Дашков с Фаттахом переглянулись.
— Не-ет, — протянул Джанг. — К своему стыду — нет.
— Я услышал об этом, когда побывал в нижнем течении Нила. Там имеются могилы — древние, позднее раскопанные. Но оказалось, что тех, кто спустя тысячелетия вскрывал эти могилы, поражал какой-то рок: все вскоре умирали, но от разных причин.
— Вспомнил! — воскликнул Дашков. — “Проклятие Тутанхамона”. Это вирус, который не возбуждает какую-то одну, определенную болезнь, а находит в человеке самое слабое место и бьет именно туда, инициируя самые различные заболевания.
— Да, — подтвердил гость. — Но мой “разбойник” обладал прямо противоположным даром — он находил в каждом самое лучшее и это лучшее заставлял звучать с удесятеренной силой. А ведь лучшее есть в каждом… Очень скоро он понял удивительную закономерность: люди, каждый из которых жесток по-своему, все равно одинаковы; нельзя быть индивидуальностью во зле. А вот совершенные в прекрасном — о, как они отличаются друг от друга… и от окружающих! Но когда в одном округе возникает сразу целая плеяда талантов, этому начинают искать причину. Некоторое время этому человеку удавалось ускользать от внимания жрецов, переезжая с места на место; но до бесконечности это продолжаться не могло. Его выследили, и он захватил один из кораблей инопланетян, благо этот корабль сам находил звездную систему с разумной жизнью, не требуя целого экипажа.
— И ты согласился его преследовать? — вырвалось у Фаттаха. Гость быстро поднял голову и пристально поглядел прямо в глаза, но не Фаттаху, а Дашкову.
— У каждого свое дело, — медленно проговорил Дашков.
Гость отступил на шаг и склонил голову:
— Я сказал все. Мне пора.
— Постойте! — Дашков требовательным движением протянул руку к Фаттаху: — Связь, быстро!
Джанг вытащил из кармана коробочку среднедистанционного фона и вложил ее в протянутую ладонь.
“Оцепление! Вызываю оцепление корабля! Ларломыкин? На связи Дашков. Отставить все и немедленно покинуть взлетную зону. В радиусе километра не должно остаться ни единого человека. Аппаратуру слежения отключить. Даю пятнадцать минут. Все. — Он еще немного подумал и добавил: — Под мою ответственность”.
— Спасибо, — сказал гость. — Прощайте, и — каждому своего счастья!
Он развернулся и покатился прочь, словно на роликах, мягко пружиня резиновыми бескостными ногами.
По мере того как его фигура отдалялась, краски костюма серели и приобретали металлический отлив; вот он завернул за угол старинного корпуса биостанции и пропал из виду. В этот же миг над Шебетовским перевалом замельтешили разнокалиберные гелиглайдеры, мобили и даже дельтапланы приказ Дашкова выполнялся неукоснительно. Через несколько минут исчезли и они.
А Дашков с Фаттахом снова опустились на разогретые солнцем доски, невесело усмехаясь собственным мыслям, — бригадир космических монтажников без бригады и член Совета, который никогда уже не вернется к тому, чтобы манипулировать, формулировать, моделировать и функционировать… Оба молчали.
— М-да, — первым не выдержал Фаттах, — это, конечно, прекрасно развивать в каждом свое, индивидуальное, но ведь должно же быть и что-то общее, иначе нельзя…
— Общее будет всегда. Можно одинаково любить вот это все, — Дашков развел руки, словно собираясь обнять Карадаг вместе с бухтой, — но один из этой любви пишет картину, другой собирает камешки, а третий отправляется на Луну — найти там такую же горушку и назвать обязательно тем же именем, а не своим, заметь.
Они замолчали и стали глядеть в сторону перевала. Минут двадцать прошло в томительном ожидании, а затем откуда-то снизу выпрыгнула серебристая “волнушка” и, не рыская, вертикально пошла вверх, не оставляя за собой следа.
— Петр Палыч! — ахнул вдруг Джанг. — Мы ведь даже не спросили, как его зовут! Может, я попытаюсь с ним связаться, пока он еще не вышел за пределы атмосферы?
— Давай, давай, — сказал Дашков. — Отличная мысль!
Фаттах со всех ног ринулся в кабину связи.
Дашков больше не глядел на небо, в котором уже не было видно растворившейся в синеве серебристой точки, а с любопытством рассматривал скумбрию, продолжавшую крутиться вокруг кузнечика: голову и ноги она благополучно объела, но на крючок не попалась. Потом перевел взгляд в сторону перевала. Редковатую зелень уже тронула роскошная накипь осеннего пурпура. Дороги отсюда видно не было, но он хорошо представлял себе эту темно-синюю, как спинка скумбрии, асфальтовую ленту, которая уводила на запад, чтобы к вечеру сомкнуться с заходящим солнцем. Стояла полуденная тишина, и только из полуоткрытой двери домика связистов доносился монотонный голос Джанга, призывавшего пришельца откликнуться.
Дашков наклонил голову набок и, представив себе невероятное упорство Фаттаха, усмехнулся: ведь сколько еще времени этот славный парень будет вызывать совершенно пустой корабль…
Андрей Кужела Криминалистическая хроника с Иакинфом Страшенным и его робстрзаками
День угасал. Единоначальный бригадир отделения робстрзаков Иакинф Страшенный сидел за столом и, подперев растопыренными пальцами склоненную голову, разглядывал сводную таблицу чрезвычайных происшествий минувшего квартала. Косые солнечные лучи проникали в кабинет через неплотно закрытые жалюзи, скользили по зеркальной макушке бригадира, вызывая на ней мягкое золотистое сияние. “Пф-ф-ф…” — выдохнул единоначальный бригадир отделения робстрзаков, откинулся на спинку кресла и достал из нагрудного кармана рубашки аккуратно сложенный белый платок. Он провел платком по макушке — сияние погасло. Сощурившись, Иакинф Страшенный глянул на солнце: солнце опускалось за деревья. Сознание необратимости наблюдаемого процесса вызвало на круглом лице бригадира мудрую и несколько злорадную улыбку. Он нажал кнопку на столе — монотонное дребезжание старенького кондиционера оборвалось. Бригадир Иакинф нажал другую кнопку — жалюзи, позвякивая, уползли под потолок. Иакинф Страшенный коснулся третьей кнопки — и окно распахнулось. Рафинированный воздух кабинета пропитался запахами травы, деревьев и земли. “Пф-ф-ф…” — вздохнул бригадир, открыл дверцу холодильника, достал и откупорил бутылку лунной минеральной. Отпив половину, он довольно потрепал себя по бакенбардам, взял с подставки толстый фломастер и снова склонился над сводной таблицей чрезвычайных происшествий минувшего квартала.
Таблица была совершенно пустой. Никаких преступлений в контролируемой бригадиром спирали галактики не совершилось. Бригадир старательно вычеркивал день за днем, проставляя жирные синие крестики в соответствующих квадратиках. Вскоре он дошел до последнего дня квартала, собрался и его перечеркнуть, как все предыдущие, но остановился в замешательстве. Исподлобья он строго поглядел на молчаливые телефоны и ребристые коробки селектора, на компьютерный терминал и темный экран пульта телесвязи, на маленькую карманную рацию, лежащую справа на столе: ничто как будто не собиралось его тревожить. Иакинф Страшенный покосился на солнце: хотя оно и опускалось за горизонт, этот факт вовсе не означал, что последний день квартала уже истек. Иакинф Страшенный отложил фломастер в сторону. С минуту он сидел задумавшись, потом допил оставшиеся полбутылки минеральной, устроился поудобней и просто стал ждать, когда последний день квартала сам собой перейдет в первый день долгожданного отпуска.
Солнце ползло медленно и незаметно, с неторопливостью часовой стрелки. Хлопнула дверь. В кабинет вошел дежурный робстрзак системы “Аргус” с белой папкой под мышкой.
— Желаю здравия Страшенному! — отчеканил он. В криминалистическом отделении все называли бригадира так, но мало кто мог сказать уверенно, была ли фамилия это, прозвище или псевдоним, выдуманный самим бригадиром для устрашения преступных элементов всех сортов и мастей.
— Что несешь, Аргус? — спросил Иакинф Страшенный.
— Свежий экспресс-доклад, — глухо прочревовещал робстрзак, не включив в целях экономии энергии мимику лица. Бригадир с тревожным предчувствием протянул руку; Аргус подал папку.
— Слушаю, — сказал бригадир.
— Происшествие на орбите планеты Глория, — сообщил Аргус. Астролайнер типа “Махаон”; бортовой номер тысяча семь. Груз и пассажиры с первой планеты трассы “Зодиак”, место назначения — Рекс у второй звезды Гончих.
— Так, — кивнул бригадир, раскрывая папку. — И что?..
— Вблизи планеты Рекс все пассажиры и члены экипажа потеряли сознание. “Махаон” резко отклонился от курса, полетел прямо на Глорию. Глория имеет атмосферу. Корабли типа “Махаон” не предназначены для полетов в атмосфере. Скорость сближения…
— Стоп, — внезапно охрипнув, сказал бригадир Иакинф. — Ты шутишь? Он недоверчиво глянул на Аргуса. — Давай-ка раскалывайся. Тебя кто-то научил разыграть меня? В последний день?
— Нет, — ответил Аргус. — Доклад официальный.
Бригадир раскрыл папку; его взгляд вонзился сначала в черную квадратную, потом в красную круглую печать на титульном листе. Брови Иакинфа Страшенного вскинулись ломаными дугами.
— Ого! — изумился он. — Да это чепе!
— Так точно! — подтвердил робстрзак.
— Продолжай, — пробормотал бригадир. — Что было дальше?.. Лайнер сгорел в атмосфере?
— Нет. Возле Глории находился корабль планетологов; они увидели падающий “Махаон”, догнали, состыковались, сняли с критической траектории и вывели его на устойчивую орбиту. Через полтора часа экипаж и пассажиры очнулись. Ничего не могли объяснить: обморок наступил внезапно и одновременно у всех.
— Причина?
— Не установлена. Никто не понял, почему случилось.
— Автопилот тоже потерял сознание?.. — слукавил Иакинф Страшенный, желая на всякий случай проверить электронные мозги робстрзака.
— Шутите, ххх-х! — просипел скрытым динамиком Аргус.
Бригадир Иакинф усмехнулся.
— Если пилоты потеряли сознание, то их должен был заменить автопилот. Верно?
— Да. Но автопилот оказался отключен. Это определила техническая экспертиза. — Аргус указал на белую папку.
— Очень странно, — сказал бригадир. — Экипаж в обмороке, автопилот отключен… Чужой не может войти в кабину пилотов… Почему же “Махаон” изменил курс и стал падать на Глорию?
— Эксперты утверждают, что астролайнер был направлен на планету специально.
— Кем?..
— Не известно. Подозревается некий транзитный пассажир. Рекомендую ознакомиться с рапортом пилотов.
Иакинф Страшенный привстал в кресле, перевернул страницу и навис над папкой, словно коршун, готовый спикировать на суслика.
“…В шестнадцати тысячах километров от Рекса… стыковка со служебной капсулой… взят на борт транзитный пассажир… никаких подозрений не вызывал… перелетные документы в порядке… билет зарегистрирован космопортом системы Зодиак… во время аварийной ситуации на орбите Глории упомянутый пассажир исчез… на борту не обнаружен…”
— Куда ж он? — Иакинф Страшенный посмотрел в потолок. — Сиганул с подножки?..
Глаза бригадира побежали дальше по строчкам доклада: “Осмотр звездолета “Махаон”… под креслом исчезнувшего пассажира найден портфель с трупом… белой длинношерстной болонки… животное погибло в результате отравления зооцидом… болонка являлась собственностью экипажа…” Бригадир взволнованно крякнул и потянулся за минеральной.
— Есть еще некоторые обстоятельства, — сказал Аргус, заботливо подавая стаканчик.
— Говори.
— Трое пассажиров, очнувшихся после обморока, оказались в состоянии тотального слабоумия.
Иакинф Страшенный замер в кресле. Тревожное предчувствие, словно шарик в колесе рулетки, запрыгало у него в мозгу.
— Чокнулись от страха? При падении?.. — с надеждой спросил он.
— Нет. Психическое расстройство в результате кражи рассудка.
Губы Иакинфа Страшенного поджались. Он зажмурил глаза. И вдруг единоначальный бригадир отделения робстрзаков саданул кулаком по крышке стола так, что прислоненная сбоку знаменитая трость со стеклянным набалдашником отлетела к ногам Аргуса. Потом он замычал сквозь зубы ужасные, недоступные пониманию робстрзака проклятья.
— Опять! — негодовал Иакинф Страшенный. — Опять похищение рассудка! Этому пора положить предел!
— Так точно, — подтвердил невозмутимый Аргус.
— Кто жертвы?!
— Пострадавших трое: Жанна Сент-Шере — прима театра “Космовизион”, шесть миллиардов поклонников; Тревор Ланг — боксер тяжелого веса, золотая медаль на последней олимпиаде; астроразведчик Валентин Кромкин — десант на побережье моря Лимень, разведка вблизи кассиопейских звезд, экспедиция в пульсар Зеро…
— Понимаю, — кивнул Иакинф Страшенный. — Знаю.
Он задумчиво поглядел в окно. Уже сгустились сумерки, безоблачное небо стало серым. Бригадир Иакинф придвинул к себе сводную таблицу чрезвычайных происшествий минувшего квартала и в последней пустой клетке поставил красным фломастером большой вопросительный знак.
“Психомания! — подумал он. — Пропади она пропадом; нет мне покоя!”
Аргус нагнулся, поднял трость и прислонил ее к столу. Бригадир перевернул несколько листов экспресс-доклада. Фотографии блеснули глянцем… Загорелый, курчавый Кромкин сонно смотрел из-под прикрытых век бессмысленным взглядом. Его лицо потеряло обычное мужественное выражение: один ус торчал вверх, другой свисал вниз; пегая небритая щетина покрывала впавшие щеки. Красавица Сент-Шере, измазанная пудрой, морщилась и грызла свои изящные розовые ногти сразу на трех пальцах. При этом она была, по-видимому, совершенно довольна. Любимец болельщиков Ланг, быстрый и гибкий, как леопард, чемпион-весельчак, который усмехался даже пребывая в единственном в своей практике нокауте, превратился теперь в обмякшую скособоченную тушу. Он сидел с отвалившейся нижней челюстью и, пуская слюни на подбородок, жутко закатил глаза, словно разглядывал что-то занятное внутри своей головы.
— Раздери меня вакуум! — воскликнул бригадир Иакинф. — Ведь это идиоты!
— Так точно, — подтвердил Аргус. — Теперь у них нет памяти, нет эмоций, нет интеллекта. Полностью похищен массив сознания. Тотальное слабоумие.
“Пф-ф-ф…” — сказал Иакинф Страшенный и откинулся на спинку кресла. Ему снова стало жарко, пересохло в горле. Он заглянул в холодильник.
— Сходи-ка за минеральной, — пробурчал бригадир. — Я тут сам пока погляжу…
Послушный Аргус ушел.
“Не просто украсть массивы сознания сразу у троих, — думал Иакинф Страшенный, листая страницы. — Только очень опытный преступник мог сделать это. Скорее всего рецидивист. Придется раскопать старые дела о психоманах…” Иакинф Страшенный снова посмотрел на фотографии.
— Бедняги, — сочувственно пробормотал он. — Где-то сейчас ваш украденный внутренний мир?.. Хотелось бы знать, кто путешествует по вашей памяти, переживает вашу радость, любовь, страсть или печаль, как свои собственные… Хм-м… Впрочем, нет — печаль и все такое прочее вместо вас никто не испытывает: негативные эмоции психоманы стирают. Так что если нам удастся найти и вернуть вам массивы сознания, то уже без неприятных воспоминаний. Гм-м… Это единственное, чем пока можно было бы вас утешить, но ведь вы, к сожалению, лишены возможности что-либо понимать…
Перевернув последний лист экспресс-доклада, бригадир захлопнул папку и глубоко вздохнул.
Когда Аргус вернулся, он вторично зарегистрировал в последний день квартала странное мычание, издаваемое бригадиром, а также недоступные пониманию робстрзака проклятья в адрес злоумышленников. Мычание бригадира было из ряда вон выходящим событием, на основании чего робстрзак Аргус сделал быстрый и верный дедуктивный вывод о том, что их отделению предстоит большая операция.
— Не вредно ли пить столько минеральной? — предупредительно осведомился он, наблюдая за Иакинфом Страшенным.
— Люди не ржавеют, — сердито отрезал бригадир, наполняя третий стаканчик. — Ступай-ка, принеси сюда весь ящик.
— Стоит ли так горячиться при единственном преступлении за квартал? — усомнился Аргус.
Расплескав воду, Иакинф Страшенный вскинул голову и уперся взглядом в робстрзака.
— Не обсуждать! — рявкнул он.
— Вы уполномочили напоминать в подобных случаях, что здоровье у вас одно, — заупрямился Аргус. — Кроме того, с завтрашнего дня вы в законном отпуске.
“Пф-ф-ф”… — бригадир устало приложил пальцы к глазам и склонил голову. Его макушка тускло блеснула в вечернем сумеречном свете.
— Отпуск горит ярким пламенем, Аргус, — сообщил Иакинф Страшенный и сердито потрепал бакенбард. — Поэтому приказываю! — воскликнул он. Подготовить на завтра сведения о случаях кражи рассудка за последние пять лет; собрать информацию о катастрофах с пассажирскими звездолетами на трассе Зодиака за тот же срок; запастись минеральной для погашения отпуска!
Иакинф Страшенный взял трость и надел легкую соломенную шляпу.
— Не сопоставляю, — начал было сомневаться Аргус, но бригадир скомандовал: “Исполнять!”, приподнял шляпу, бросил: “Мое почтение” и вышел из кабинета. — Желаю здравия! — четко проговорил робстрзак Аргус.
Утром следующего дня бригадир стоял у окна, размышлял, разглядывая летающих над деревьями птиц и причудливые редкие облака, едва движимые ветром. Робстрзак Аргус шуршал за его спиной кипой бумаг, пытаясь сброшюровать их в один альбом. Внезапно тяжелая стальная дверь распахнулась, врезалась с грохотом в стену, и в кабинет ввалился взъерошенный розовощекий крепыш с болтающейся на плече репортерской сумкой.
— Привет! Наконец я добрался до вас! — прокричал он, дурашливо беря под козырек. — Ну, что? — крепыш хитро подмигнул Иакинфу Страшенному. Путешествия по астротрассе “Зодиак” становятся все опасней? Ага?! Хе-хе! Бригадир, несколько слов для галактической прессы! Как вы собираетесь бороться с разгулом преступности?
“Пф-ф-ф…” — сказал Иакинф Страшенный и помрачнел.
— Ну, дела идут, Аргус?! — бойкий крепыш уже похлопывал по плечу робстрзака. — Как твои квантовые диоды, парень?! Не барахлят? Хе-хе!
Аргус прервал работу и замер.
— Послушайте, Рельсов, — громко сказал Иакинф Страшенный, во-первых, одно преступление в квартал нельзя считать разгулом преступности, а во-вторых, здесь никто не собирается обсуждать с вами нераскрытое дело. Ясно? Кстати, откуда вы узнали о преступлении?
— Сто друзей! Хе-хе! — плутовато захихикал крепыш.
Он снял с плеча сумку, достал из нее блокнот и плюхнулся на стул перед Иакинфом Страшенным.
— Ну-с! Что вы можете сказать озабоченной общественности?.. — Он с ухмылкой покосился на могучего Аргуса, сидящего перед ворохом бумаг. Что-то не видно, чтобы вы с бластерами в обеих руках гоняли злоумышленников на всех планетах Вселенной! Слушаю вас!
Тяжелый и выразительный взгляд Иакинфа Страшенного медленно перемещался по докучливому корреспонденту, но тот, не обращая внимания на бригадира, вертелся на стуле: потрогал лежащую на столе рацию, постучал пальцами по экрану телепульта, а потом сунул свой нос в коробочки селектора.
— Когда-нибудь я выставлю вас за дверь, Рельсов, — сказал бригадир.
Крепыш мгновенно сделал запись в блокноте и с авторучкой наготове выжидательно уставился в лицо Иакинфу Страшенному.
— Это не для прессы, — пояснил бригадир. — Это вам лично.
Крепыш ничуть не смутился; предупреждение, судя по всему, подействовало на него как на слона дробина.
— Благодарю, хе-хе, — сказал он. — Еще что-нибудь.
— Интервью закончено, — буркнул бригадир.
— Нет, нет! — запротестовал Рельсов. Он вскочил и торопливо зашагал вдоль стеллажей картотеки, изучая наклейки; заглянул в шкаф сквозь стеклянные дверцы, покрутился перед коллекцией оружия, развешанной на стене, и стал что-то записывать. — Теперь несколько снимков! — объявил он и вытащил фотоаппарат из сумки.
— Уберите камеру, Рельсов! — грозно сказал Иакинф Страшенный. — После ваших репортажей у читателей создается ложное впечатление, будто бригадир только и делает, что попивает лунную минеральную да поигрывает в шашки со своими робстрзаками, вместо того чтобы с бластерами в обеих руках… М-м… Ну, и так далее в вашем стиле. Уберите камеру, не то она улетит в окно.
— В окно?.. — переспросил Рельсов и чему-то усмехнулся. — Кстати, посмотрите в окно: что это там такое?
Бригадир выглянул из окна. Внизу стояла толпа. Увидев бригадира, толпа радостно защелкала фотоаппаратами. На деревьях тоже сидели корреспонденты и стрекотали кинокамерами. “Ишь, фрукты! — изумился бригадир. — Эх!.. Прикажу спилить деревья до половины!” — отчаянно подумал он. Потом, к огорчению наблюдателей, Иакинф Страшенный хладнокровно опустил жалюзи.
— После того как мы сфотографировались, хе-хе, предлагаю вам добровольно продолжить интервью, — сказал Рельсов. — Мы еще не поговорили о преступлении на астролайнере “Махаон”. Два — три слова! — опять начал он приставать к Иакинфу Страшенному.
— Иногда мне охота снять со стены старинную газовую слезоточивку… прищурился бригадир.
Неожиданно включился селектор. “Тревога! — произнес металлический голос. — На связи проходной пост! Сообщение по внутренней сети. В отделение проник посторонний без входного документа! Приметы…”
— Ага, это вы, Рельсов! — радостно гаркнул бригадир. — Оставьте меня в покое, или я вас арестую и газета лишится утреннего материала!
— Удаляюсь! — заволновался крепыш и поторопился к двери.
— Аргус! Проводи! — приказал Иакинф Страшенный.
Аргус включил мимику и придал своему лицу такое выражение, что охотника за сенсациями кинуло в пот, и он прижался к стене.
— Ладно, топай, — миролюбиво проворчал бригадир. — Не до шуток.
Мысли Иакинфа Страшенного вновь закружились вокруг истории со звездолетом “Махаон”.
В ретроспективном обзоре, подготовленном Аргусом, бригадира заинтересовали два происшествия. В первом случае на одном из астролайнеров трассы “Зодиак” пассажиры и экипаж по неизвестной причине потеряли сознание. Очнувшиеся через некоторое время пилоты увидели, что корабль полным ходом мчится на близкую звезду Гейзер-альфа. В последний момент они, к счастью, успели изменить траекторию. Почему звездолет отклонился от курса — осталось невыясненным. Кроме того, исчез один из пассажиров звездолета. Его не обнаружили ни внутри корабля, ни в открытом космосе вдоль трассы; не удалось разыскать его и на ближайших заселенных планетах. Впоследствии никто и никогда не обращался в правление космофлота или в криминальную службу по поводу этого пассажира; не интересовался его судьбой и не разыскивал его. Другой пассажир — популярный джазмен Топпи оказался ограблен. Для психоманов он был лакомой добычей: в памяти Топпи хранился изрядный запас ярких впечатлений. Он много гастролировал, путешествовал; прожил бурную и незаурядную жизнь; поклонницы его обожали. Украденный массив сознания Топпи был раздроблен, расфасован по психонакопителям и таким образом превратился в товар, наркотик для любителей, жаждущих пережить то же, что испытывал в своей жизни сам музыкант. Но более всего бригадира Иакинфа поразил тот факт, что при расследовании на борту звездолета была найдена в пластиковом пакете обезьянка, погибшая от отравления зооцидом. Ручную обезьянку содержал экипаж астролайнера. Дело в точности походило на происшествие с “Махаоном”!
Крючковатые крепкие пальцы Иакинфа Страшенного мгновенно обрушились на терминал, и не прошло пяти минут, как главный компьютер криминалистического отделения сообщил мельчайшие подробности еще одного стародавнего происшествия, заинтересовавшего бригадира. Оно состояло в том, что пассажирский звездолет врезался в метеоритный поток, идущий встречным курсом, хотя избежать такого столкновения было не труднее, чем почесать затылок. Изрешеченный корабль развалился на куски. В числе погибших пассажиров оказалась чета Бас — киноактеры-комики; фильмы с их участием пользовались колоссальным успехом и не сходили с экранов. Через полгода после катастрофы агенты криминальной службы, внедрившиеся в среду психоманов, сообщили о том, что “обрывки” массивов сознания четы Бас появляются в различных районах трассы “Зодиак”. Поставщиком массивов являлся некий неуловимый тип по прозвищу Кочан. Бригадира словно током ударило, когда он узнал, что на борту погибшего лайнера был попугай.
— Прецеденты, прецеденты… — бормотал он. — Непонятно, как совершаются преступления, но совершаются они по одной схеме. Вероятно, и преступник один и тот же. Неужто след Кочана?!
В архиве бригадира имелось несколько микрофильмов про этого человека и его шайку, однако напасть на след преступников не удавалось. Розыск несколько лет тянулся безрезультатно, от чего Иакинф Страшенный испытывал досаду, особенно в часы, когда подводил итоги работы за очередной квартал. Однако ничего поделать он не мог. Жажда изловить Кочана терзала Иакинфа Страшенного не только по долгу службы, но и оттого, что ему были известны кое-какие неприятные слухи, дошедшие из нескольких источников. Зарвавшийся Кочан будто бы нагло похвалялся ограбить самого бригадира, поскольку-де “испытывал охоту побывать в его психической шкуре”. Бригадир прекрасно понимал, что его личный массив сознания действительно привлекателен для психоманов, ибо являет собой остросюжетный детектив. Когда Иакинф Страшенный сталкивался с делом, в котором был замешан призрачный Кочан, то приходил в трепетание. Но дрожь пробирала бригадира вовсе не от страха или неуверенности: Иакинф Страшенный, подобно доброй охотничьей борзой, почуявшей лиса, содрогался от нетерпения броситься в погоню.
— Прецеденты, пр-р… пр-р… — задумчиво булькал, опустив нос в стаканчик, единоначальный бригадир отделения робстрзаков, как вдруг озарение посетило его, и он понял, что способен сделать страшное предсказание: он может указать, где произойдет следующее преступление.
Мозг бригадира Иакинфа с этого момента заработал с компьютерной быстротой. Связавшись с космическим управлением трассы “Зодиак”, бригадир выяснил, что только на одном из лайнеров, участвующих в регулярных рейсах, есть животное. Лайнер назывался “Юпитер”; животным на борту был кот нубийской породы по прозвищу Толстяк.
— Раздери меня вакуум! — сказал Иакинф Страшенный. — Если считать предыдущие преступления работой Кочана, если довериться закономерностям и положиться на интуицию, то кража рассудка совершится, когда на борту окажется кто-нибудь из знаменитостей. Кот Толстяк околеет от зооцида, один пассажир исчезнет бесследно, после чего “Юпитер” изменит курс и врежется в какой-нибудь “случайный” астероид…
Бригадир нахмурил лоб и поморщился. Он не представлял пока, в силу чего произойдет предрекаемое им. Самыми загадочными во всех трех происшествиях ему казались причины изменения курса. Бригадир знал, что на астролайнерах типа “Махаон” двери в кабину пилотов снабжены телезамками и не пускают посторонних; сами же пилоты пребывали в обморочном состоянии; ну, а автопилот имел строгую программу движения в пространстве, которую не мог нарушить без приказа из рубки.
— Шайка Кочана, конечно же, следит за перелетами, — рассуждал далее бригадир. — На кого же они нападут?..
Тут бригадира посетила идея, от которой уголки его плотно сжатых губ дрогнули, и он медленно расплылся в величественной улыбке триумфатора. Потом он захохотал, радостно поглаживая ладонями по блестящей голове: ”Я подкину им приманку! Подкину Кочану самого себя! Иакинфа Страшенного! А там поглядим, раздери меня вакуум!”
Однажды утром, после того как окончательный план операции был разработан совместно с экипажем “Юпитера”, бригадир вызвал к себе Аргуса, указал на дюжину серебристых кассет с особыми программами и приказал подготовить к операции находящихся на складе робстрзаков.
— Теперь свяжись с Рельсовым: пусть приедет вся его компания. Пусть их соберется как можно больше, — сказал бригадир. — Я собираюсь дать пресс-конференцию.
На пресс-конференции Иакинф Страшенный заявил следующее:
— С удовольствием сообщил бы что-нибудь конкретное по делу со звездолетом “Махаон”, но в настоящий момент расследование полностью приостановлено за недостатком фактического материала. У меня тем не менее есть все основания утверждать, что путешествия по трассе “Зодиак” по-прежнему так же безопасны, как прогулки вокруг большого фонтана напротив криминалистического отделения. В связи с этим хотел бы заметить, что с завтрашнего дня отбываю в отпуск и проведу его, пожалуй, где-нибудь на планете Рекс. Говорят, там замечательный климат.
В тот же день репортажи о конференции с Иакинфом Страшенным разлетелись по всей трассе “Зодиак”, что и нужно было бригадиру.
Некоторое лукавство являлось неотъемлемым свойством Иакинфа Страшенного, поэтому он никуда не отправился. Задуманная операция успешно началась, а когда она перешла в решающую фазу, бригадир сидел как ни в чем не бывало в кабинете и смотрел на экран пульта телесвязи.
Явился Аргус, прочревовещал: “Желаю здравия” и встал у двери.
— Тс-с! Кто-то клюнул, — повел головой бригадир в сторону пульта.
— Там вижу вас, — сказал Аргус.
Бригадир усмехнулся.
— Ты не вполне прав, мой электрический друг… Лучше обрати внимание на массивного блондина в золотистом комбинезоне — транзитный пассажир. Прибыл на “Юпитер” час назад в служебной капсуле. Документы в порядке. Таможенный досмотр прошел в пункте отправления на первом посту трассы. Однако неизвестно, что у него в портфеле сейчас…
— Свяжемся с экипажем. Пусть осмотрят, — посоветовал робстрзак.
— Не надо, — решил бригадир. — Вспугнем — сорвется операция.
Иакинф Страшенный потянулся.
— Пойдем погуляем, — вдруг предложил он. — Устал. Прихвати телестанцию: на лужайке мы досмотрим финал. Да не забудь минеральную…
Бригадир надел соломенную шляпу, взял трость со стеклянным набалдашником, и они вышли из кабинета.
…Вынырнув из бездонной тьмы у второй звезды Гончих, астролайнер “Юпитер” притормаживал: корректирующие дюзы выстрелили прозрачно-синими вихрями огня, лайнер развернулся. Планета Рекс виднелась, словно желтая горошина на черной бархатной скатерти, до нее оставалось примерно два часа лета. В салоне, беззаботно откинувшись в кресле, как будто дремал бригадир Иакинф. На самом деле его внимание целиком занимал человек в золотистом комбинезоне. Золотистый тоже как будто дремал…
По проходу, бесшумно ступая пушистыми лапами и принюхиваясь, прошел кот Толстяк. Он чувствовал себя неспокойно, поскольку внутри него находилась радиопилюля, которую его заставил проглотить бригадир перед полетом. “Не знаю, пригодится ли это, но ты бы не кривился, — говорил Иакинф Страшенный, щекоча вертлявого кота за ухом, — может, это спасет тебе жизнь, а мне поможет понять, как совершается преступление”.
Бригадир зарегистрировал сигналы удаляющегося Толстяка, проследил за ним, потом осмотрел в очередной раз пассажиров в салоне: они, в основном, дремали или читали. Золотистый транзитник сидел спиной к бронированным дверям отсека экипажа и во сне сопел.
Когда Рекс стал размером с абрикос, а левее него во мраке появилась новая красноватая горошина — Глория, транзитник пробудился. Он заерзал в кресле, с силой оттолкнулся от подлокотников и поднялся. Потом потоптался на месте, словно у него сильно затекли ноги, и, разминаясь, пошел вдоль кресел. Иакинф Страшенный проследил за ним до входа в оранжерею, где заметил и Толстяка, которого дразнила футляром от очков какая-то пассажирка. Валяющийся на спине кот лениво дергал лапой; радиопилюля сообщала, что пока с ним все в полном порядке.
Транзитник скрылся в оранжерее.
Через минуту туда же направился Иакинф Страшенный. Толстяк напал на туфли бригадира и стал ловить шнурки, но Иакинф Страшенный мягко отбросил кота в сторону и, не прореагировав на возмущение женщины с футляром, быстро пошел дальше.
В оранжерее никого не оказалось. Единственный ход вел в вентиляционную. Бригадир достал связку ключей от всех помещений звездолета и тихо отворил дверь. Внизу тускло горели аварийные светильники; из полумрака доносился гул работающих машин. Иакинф Страшенный осторожно спустился по узенькому железному трапу. Компрессоры гудели, нагнетая воздух в салоны астролайнера, кондиционеры глухо шипели. Пробираясь вдоль вентиляционных устройств, бригадир внимательно осматривал закоулки: транзитника нигде не было видно. Несколько рядов кислородных баллонов бригадир поспешно миновал, невольно сгорбившись при мысли о последствиях перестрелки, которая могла бы случиться в этом месте. В конце воздуховодной магистрали он остановился, прислушиваясь. Рядом щелкал шкаф газового коллектора, неприятно напоминая бригадиру работу механизма часовой мины.
И вдруг впереди на потолке Иакинф Страшенный увидел висящего вниз спиной транзитного пассажира в золотистом комбинезоне. Нелепо изогнув ноги, он держался ими за трубы и, повернувшись к блоку фильтров, быстро крутил что-то там. Иакинф Страшенный сделал шаг назад, скрываясь за шкафом коллектора, и одновременно вскинул вверх прямую, как ствол, руку… Золотистый транзитник продолжал свое дело. Наверху что-то хрустнуло; он рывком выдернул заслонку патрубка, соединяющего фильтры с магистралью. Из открывшегося черного окошка начал вырываться воздух; низкое гулкое клокотание заполнило помещение. Неуловимым движением транзитник достал откуда-то блестящий шарообразный предмет и замер, заглядывая внутрь магистрали. Потом он сжал предмет в пальцах. Из шара с шипеньем прыснул аэрозольный фонтан; облако тумана сдуло в сторону бригадира. “Яд?! — мелькнула мысль у Иакинфа Страшенного. — Нет… Массивы сознания можно снять только у живых. Это не яд”.
Иакинф Страшенный опустил руку.
Транзитный пассажир бросил шипящий шар-баллон внутрь магистрали и задвинул заслонку.
“Аэрозоль впрыснут после фильтров, — сообразил бригадир. — Дальше воздух идет без очистки; поток разнесет аэрозоль по всему лайнеру”. Бригадир повернулся и кинулся обратно, двигаясь бесшумно по узкому проходу. В оранжерее он остановился, наступил на край круглой вазы, из которой росли лианы, приподнялся и прижал руку с газовым анализатором к вентиляционной решетке. “Меркурианский алкалоидный эфир”, — определил бригадир через несколько секунд. Он спрыгнул вниз и уже неторопливо направился в салон. Бригадир знал, как действует меркурианский эфир, и мог предвидеть, что произойдет примерно через полчаса. “Операция выполнена процентов на пятнадцать”, — отметил он и опустился в кресло. Откуда-то донеслись тихие отрывистые звуки, похожие на мяуканье. Бригадир стал оглядываться по сторонам. В глубине салона мелькнуло что-то золотистое. Разыгравшийся кот Толстяк, задрав хвост, бежал по ковровой дорожке и мимоходом потирался боками о ножки кресел. Бригадир обратил внимание, что Толстяк излучает несвойственные радиопилюле сигналы. “Странно, — удивился бригадир. — Не мог же он переварить пилюлю…” Когда Толстяк пробегал мимо, Иакинф Страшенный нагнулся и ловко схватил его за заднюю лапу; кот упал на бок и попытался исцарапать руку бригадира. Иакинф Страшенный быстро его отпустил, но успел сделать кое-какие умозаключения, которые позволили ему считать, что операция проведена успешно уже процентов на тридцать пять. Он снова расположился в кресле. Обиженный Толстяк затрусил к отсеку пилотов, остановился, ткнулся носом в стык стены и бронированной створки. Телезамок распознал кота, дверь чуть приоткрылась, и Толстяк юркнул внутрь.
Рекс и Глория незаметно приближались. Пилоты снова скорректировали курс: лайнер покачнулся, и все звезды слегка сдвинулись в иллюминаторах. Вернулся транзитник и сел, закинув ногу на ногу. Не обращая ни на кого внимания, он стал разглядывать журнал. Пассажиры совершенно не ощущали присутствия в воздухе примесей меркурианского алкалоидного эфира… Но вот за спиной бригадира раздался сдавленный крик. Обернувшись, Иакинф Страшенный увидел лежащего на дорожке мужчину. К нему потянулись чьи-то руки из-за кресла, но тут же бессильно упали. Женщина впереди лишилась чувств и уронила сумочку на пол. Ее спутник с закрытыми глазами медленно сползал с кресла. Сосед бригадира ткнулся в стену головой и пытался что-то произнести, но лишь бессмысленно мычал. В первых рядах, размахивая руками, попробовали подняться два человека, но сразу исчезли за спинками кресел. Чья-то книга, зашуршав в падении, мелькнула трепещущими страницами… “Сорок процентов”, — отметил бригадир, вытянул ноги, склонил набок голову и слегка прикрыл глаза.
Человек в золотистом комбинезоне рассматривал журнал еще четверть часа. Потом он поднялся и твердыми шагами направился прямо к бригадиру Страшенному. В пальцах транзитного пассажира блеснул десяток гибких тонких щупов — церебральных зондов: грабитель был во всеоружии. Он приближался. Бригадир лежал, замерев, и ни единым движением не выказывал своего нормального состояния. Но когда острые щупы вонзились в макушку бригадира и переплелись, окружив череп сетчатым шлемом, Иакинф Страшенный вздрогнул и его пальцы сдавили предплечья грабителя с такой ужасной силой, какую тот не мог предполагать в бригадире. В этот момент бригадир узнал, что перед ним не человек.
“Робот! — пронеслась молния в мозгу бригадира. — Задание упрощается!” — сделал он мгновенный вывод. Ни секунды не медля, бригадир освободил шейные защелки и отстрелил свою голову, чтобы освободиться от церебральных щупов грабителя. Голова взвилась под потолок и улетела за кресла, потянув из рукавов транзитного пассажира паутину проводов. “Робот!” — пронеслась молния в мозгу транзитника, и поведение противоборствующих сторон приняло характер сугубо машинных отношений.
Плазменные горелки взорвались на ладонях бригадира, он взмахнул руками и прорезал огненными струями спину транзитника на уровне лопаток. “Разрушить антенны! Лишить связи!” — выполнял программу бригадир. Транзитник в горящем комбинезоне отпрыгнул и выпустил в бригадира кумулятивный снаряд. Бригадир успел развернуться, снаряд скользнул по его стальному животу и разорвался в оранжерее. Оттуда полыхнуло ярко-желтым трескучим пламенем. Транзитник выстрелил еще раз и вывел из строя руку бригадира, расплавив шарнирный сустав. Сизый дым и едкий запах горящих электроприборов заполнили салон. Перед отсеком экипажа сработала пожарная автоматика; пылающий транзитник бросился туда, рассчитывая себя погасить. Бригадир кинулся за ним, размахнулся испорченной рукой и со скрежетом обрушил ее на транзитника, смяв ему правое плечо, где находился пушечный механизм. Транзитник упал; бригадир тотчас воспользовался преимуществом и пережег ему колено. Но дымящийся транзитник, опираясь на руки и целую ногу, неугомонно рвался вперед под пенное орошение. У двери в отсек пилотов бригадир наконец его настиг, и, когда транзитник поднялся, подставляя себя спасительным противопожарным струям, бригадир прижал его к броне. Включив уцелевшую плазменную горелку, бригадир двумя точными росчерками приварил транзитника к двери. На том опять вспыхнули золотистые лохмотья комбинезона.
“Пф-ф-ф…” — сказал перед телестанцией на зеленой лужайке единоначальный бригадир отделения робстрзаков Иакинф Страшенный и потер ладони, а робстрзак Аргус, не включая мимики лица, ловко откупорил минеральную.
…Приваренный к двери обездвиженный транзитник стоял на подогнувшихся ногах весь в противопожарной пене. Бригадир тоже был словно намылен. Он медленно остывал после активных действий и готовился к продолжению операции. Отыскав на обгоревшем боку транзитника контактную группу, бригадир подключился к его памяти и распознал программу. Он выяснил, что недалеко в космосе находится капсула с человеком, который ждет доклада. Выведав секретный шифр, бригадир вышел на связь с этим человеком и передал шифровку в пространство: “Стол накрыт, прошу на ужин”. В ответ поступила цифровая информация, которая обозначала, что следует ждать. “Операция проведена на пятьдесят процентов”, — сделал вывод бригадир. Он отключился от чужого робота и пошел в сторону стыковочного шлюза, куда должна была прибыть капсула.
Проходя по салону, он уловил тревожные сигналы радиопилюли. Под одним из кресел бригадир обнаружил портфель транзитника и открыл его: бездыханный кот Толстяк лежал, оскалившись и поджав сведенные судорогой лапы. Бригадир опустил портфель на сиденье и стал разыскивать свою трость. Найдя ее, он отсоединил прозрачный набалдашник, вынул из тайника тюбик-шприц и ввел Толстяку двойную дозу антизооцида. Потом, опершись на трость, он словно окаменел у стыковочного шлюза.
Наконец снаружи раздался шум и постукивание металла о металл. Шлюз открылся: из него шагнул человек, лицо которого так хорошо было знакомо Иакинфу Страшенному. Но теперь лицо человека было несколько искажено, потому что зубами он стискивал микрореспиратор, а из ноздрей его выглядывали кончики фильтрующих тампонов. Микрореспиратор человек чуть не проглотил, когда безголовый и обугленный бригадир шагнул навстречу и, уставив ему в грудь плазменную горелку, жестко произнес: “Именем закона!..” Створки шлюза захлопнулись за спиной Кочана. От страха он опустился на четвереньки.
— Вытряхивай карманы! — приказал бригадир. — И помни, что перед тобой робот страж закона — робстрзак, то есть машина: со мной шутки плохи! Поторопись!
— Ржавый робстрзак! — прохрипел Кочан. — Шутить с тобой все равно что шутить с бульдозером…
Тем временем астролайнер изменил курс. Он далеко ушел от планеты Рекс, а Глория выросла и занимала почти весь круг иллюминатора. Кочан вынул фильтрующие тампоны из носа и выплюнул микрореспиратор.
— Робстрзак, я хочу говорить с твоим начальником, — сказал он.
— Я давно жду, — ответил робстрзак голосом Иакинфа Страшенного. — Говори.
Кочан криво усмехнулся.
— Мой робот принес в портфеле специальный аппарат… Этот аппарат проник в кабину пилотов; он отключил автопилот и направил лайнер на Глорию. Скоро начнется падение, которое нельзя будет остановить. “Юпитер” сгорит, и все люди погибнут. Я обещаю отключить этот аппарат, если дадите мне уйти и не станете преследовать мою капсулу. Вы все равно не попадете в отсек экипажа: телезамок заблокирован моим аппаратом, он никого не пустит, а эти двери не откроет даже ваше чучело. — Усмехнувшись, Кочан злобно глянул на безголового бригадира. — Лайнер в моих руках.
— Я знаю, какой аппарат сумел проникнуть в кабину пилотов, скрипнув, сказал бригадир. — Я считал память твоего робота, Кочан, и могу сам отключить твой паршивый аппарат. Смотри…
Он отдал приказ. Бронированная дверь с приваренным к ней транзитником отъехала в сторону, и из щели высунулся кот Толстяк. Он побежал прямо к Кочану, но бригадир преградил ему дорогу и, взмахнув тростью со стеклянным набалдашником, с лязгом вышиб из мнимого Толстяка батарейки. Они разлетелись по салону, а за ними, очумело подпрыгивая, бросился пришедший в себя настоящий кот Толстяк.
— Вы кретины! Кретины! — завопил Кочан. — Звездолет же падает! Мы сгорим! — Он диковато огляделся по сторонам. — Вы что, не собираетесь спасать людей?! — закричал он.
— Каких людей? — переспросил издалека Иакинф Страшенный. — Здесь нет ни одного человека. Кочан. Тут только мои бравые робстрзаки.
И вдруг пассажиры в креслах пошевелились, поднялись и, повернув головы, разом уставились на Кочана невероятно выпученными глазами. Кочан снова начал медленно опускаться на четвереньки.
— Всегда считал более целесообразным рисковать машинами, чем людьми, — довольно сказал бригадир. — Отвечай, где сейчас массивы сознания Кромкина, Сент-Шере и Ланга? Кто соучастники, откуда у вас робот, где место базирования?..
Иакинф Страшенный поднялся с зеленой травы лужайки.
— Операция завершена на девяносто процентов, Аргус. Запомни все, что он расскажет. Не дожидайся, когда по иллюминаторам потечет расплавленный металл, и вовремя включи пилотов: с Кочаном ничего не должно случиться. Закон есть закон.
— Забывать не приспособлен, — ответил Аргус. — Приказ есть приказ.
— Молодец, я уверен в тебе, — похвалил Иакинф Страшенный. Он повернулся. — Не забудь же включить пилотов, — повторил он.
— Разве не хотите сами завершить последние десять процентов? — спросил Аргус.
— Нет. Я, знаешь ли, человек, а люди не так надежны. Люди все время что-то забывают, — бригадир бросил взгляд на телестанцию. — Мне кажется, что я непременно забыл бы вовремя включить пилотов, Аргус…
Замолчав, Иакинф Страшенный приподнял шляпу. Аргус задействовал мимику лица, радостно оскалился и молодецки прогорланил:
— Желаю здравия Страшенному!
Полуденное солнце блеснуло на макушке бригадира, он опустил шляпу и спрятал сияние. Он пошел по аллее, постукивая своей тростью, и иногда, чуть размахиваясь, ловко сбивал в сторону камешки, попадавшиеся на пути.
Александр Щербаков Третий модификат
Был момент, я числился по документу грузовым автомобилем.
Понадобилась мне в связи с квартирным обменом справка, кто я таков и какая семья, подал я по телефону заявку в наш районный статузел, а у них машина, видно, перегрелась, сбой поехал. И пришел мне формуляр, что я грузовой автомобиль марки “Александр Петрович Балаев”, грузоподъемность “пять человек”, основание для постановки на капремонт — “имеет двух детей”, перечень узлов, подлежащих описанию. — “49 лет”, суммарный пробег — “82,5 кв. метра” и так далее. Назывался этот формулярчик “Ликвидационный вкладыш к техническому паспорту”. Я его в рамочку заделал и на дверь повесил смеху ради.
А если говорить серьезно, то когда вы садитесь к текстеру и кладете пальцы на клавиатуру, вам их не сводит? Мне маленько сводит. Сводит, потому что отдаю себе отчет: я не наедине с самим собой; я, сегодняшний я, имею дело не только и не столько со своим отображением, в котором собран мой опыт, вкусы и набор подхваченных сведений; в сусеках моей “Пошехоники” мне противостоит весь опыт российской словесности. И, главное, не столько этот опыт, сколько чье-то представление о нем, анонимное, ряженое под объективную истину. И таким образом ряженое, чтобы ощущалось не как противолежащее, а как прилежащее. В этом святом убеждении делаешь три-четыре закидки и сам не замечаешь, что на пятой уже не память “Пошехоники” к тебе прилежит, а ты к ней прилежишь, с каждой закидкой все плотнее, все большим числом граней души. И в голову тебе не приходит, что текст, который ты намастачил, это не твой текст, а гомогенное месиво из Лермонтова и Зощенко с двумя — тремя щебнинами твоего жаргона. Видеть ты этого не видишь, чуять не чуешь, разомлевший от наглядной вытанцуемости словесного ваяния.
Стелясь вдоль “Пошехоники”, любой помбур в отставке может возомнить себя Львом Толстым — это несомненно. Внешне это выглядит как торжество равенства и братства при возгонке духовных ценностей. А по сути дела это шумно буксует сам способ производства этих ценностей на письме.
Уж и не знаю, как выбираются из этого истинные литературные таланты наших дней, а я перешел исключительно на устный рассказ. Чтобы ни к каким клавиатурам даже не прикасаться, чтобы надеяться только на то, что просочилось через собственные нейронные мембраны и таким образом присуще мне и только мне. Я же в писатели не лезу, я был технарь и есть технарь, так что мои словесные экзерсисы на соответствие высокими стандартам не претендуют. Это просто — мой личный способ отдыхать от праведных трудов. И не вижу ничего дурного в том, что отдыхаю не как все — за игрой в видеокассетные бирюльки, составляя индивидуальные наборы из стандартных сюжетов-кубиков, а замахиваюсь на то, чтобы пополнить сам набор.
А что набор по-прежнему поддается дополнению, за это ручаюсь всем моим жизненным опытом. Сколько лет толкусь, ни разу не происходило со мной такого, что уже описано в романах, повестях и рассказах, как отечественных, так и иностранных. Взять, например, случай, когда мне на голову упал метеорит. Где вы о таком читали? Или случай, когда меня горилла из фоторужья прищелкнула. Или когда моя ежедневная поверхностная электрограмма из санатория дуром шла на Гидрометцентр и по ней целую неделю прогнозировали тайфунную обстановку на тихоокеанский регион для всего торгфлота. Или как с меня сняли копию в институте эктопсихологии и что из этого вышло.
Как? Вы не знаете этой истории?
Ну, держись, народ! Сейчас расскажу.
Началось это лет пять тому назад.
Позвонил мне Пентя Синельников. Это для вас он членкор и все прочая Петр Евграфович, а для нас он как был со студенческих времен Пентя-Пентюх, так и остается и останется. Звонит он и приглашает к себе в институт. “Пентюнчик, — говорю, — я — то тебе зачем? Я физик, я к вашим зыбким материям никакого касательства не имею”. — “Это точно, — отвечает. — Но ты все же загляни и если только захочешь, то будешь иметь касательство, причем прямое. Учти, что это горячая к тебе просьба”.
Раз позвонил, два позвонил, а мне все недосуг. Ну, уж когда в третий раз позвонил, неудобно стало. Сопряг я две командировки, чтобы в промежутке денек свободный выдался, и выпал в осадок над Пентиной тихой рощей. Взял он меня за белу руку, усадил в кресла пуху лебяжьего и повел речи медовые, вкрадчивые:
— Слушай, Саня. Мы тут, понимаешь, дошли до такой жизни, что имеется возможность создать копию личности. Само собой, не в осязаемом выражении, а в форме взаимодействующих программ и алгоритмов автономно оперирующей группы макропроцессоров. И на первый раз нацеливаемся снять копию не с кого-нибудь, а именно с тебя. От тебя потребуется напряженная работа дня на два-три, а потом месяц корректировочного наблюдения, чего ты даже и не ощутишь. Будь другом, как всегда был, — согласись, пожалуйста.
— На кой мне это ляд, Пентечка? — спрашиваю.
— Потому и прошу, что тебе — ни на кой, — отвечает Пентя. — Мы и сами не очень хорошо представляем, что из этого выйдет. Это наш первый поиск. Сам понимаешь, любого с улицы на такое дело не покличешь. Закругленно говоря, у твоей кандидатуры имеется ряд преимуществ, а твое безотказное чувство юмора, Саня, из них не последнее. Более того, скажу тебе прямо, я лично только на него и уповаю.
— Ой, Евграфыч, — говорю. — Чего-то ты не договариваешь.
— Не то слово, — отвечает. — Не то слово, Саня. За последний год столько просовещался по этому поводу, что язык заплетается и теряю ориентировку: не могу отличить подлинных проблем от надуманных. И в этом смысле надеюсь на тебя, как на каменную гору. Выручай.
Решил я призадуматься. Тык, мык — прорезалось отсутствие базы данных. Прав Пентя: надо ставить опыт. Все разговоры мира не стоят самого примитивного опытишки. А где опыты, там всегда Саня был, есть и будет. Шлепнул я лапой по подлокотнику и согласился.
Что началось! Как повалила на меня вся Пентина нечисть: гномы, кобольды, черна книга и бела магия, такое бедняге Хоме Бруту над гробом панночки и не мерещилось. Ему хоть можно было круг очертить и бормотать “цур меня! цур”, а мне и этого нельзя. Ну, это я так, для красного словца. Всяки там были: и светь, и жуть, — но все, как на подбор, въедливые. Однако стерпел. Али я не Саня Балаев?
Напор выдержал. Обклеили меня датчиками, и вернулся я к родным пенатам в сопровождении полутонного контейнера с аппаратурой и трехглавой бригады: один белый маг, один черный, один в клеточку. Расставили они свои сенсографы и дома у меня, и на работе и еще целый месяц отходили от меня только за тем, чтобы посвариться, как покрепче мою особу донять и где бы еще чего на нее приклеить. Уж на что я оптимист, а и то стал впадать в тоскливое свирепство.
А уж кто при том повеселился, на мой счет проезжаючись, так это дружок мой закадычный Оскар Гивич. Но я не только не в претензии, а даже наоборот, поскольку мы друзья, а святой обязанностью друга в наши трудом обильные времена считаю снабжение товарища полуфабрикатами веселья, пусть даже за собственный счет.
Все проходит, пришел конец и моим мучениям. Настал день, сняли с меня сбрую и стали вежливо прощаться.
— Что вышло-то, хоть бы показали, — взмолился я.
— И-и, дорогой Александр Петрович, — отвечают. — Пока нечем хвастаться, сырой материал, нам с ним разбираться еще минимум с полгода. Вот приведем в порядок — тогда пожалуйста. Мы народ суеверный, ничего не обещаем, но есть шанс, что устроим вам беседу с самим собой, насколько будет в наших силах соорудить вам цифрового двойника. Заранее просим извинения, если это придется вам не так по вкусу, как сейчас кажется.
Встрепенулся я при этих словах, почуял подвох, но… Но тут такое поднавалилось, закрутило меня, задергало. Там тема открывается, там кончается, ну, да вас ли просвещать на этот счет, сами все знаете. И клятвой на “Таблицах физических величин” подтвердите, что я не кривлю душой, когда говорю, что об этом деле и думать перестал, тем более что Евграфычевы маги никак не отзывались и о себе не напоминали.
Прошло так года три, и вдруг звонят мне из Комитета по изобретениям: “Уважаемый Александр Петрович, просим вас в такой-то день, в такой-то час прибыть к нам на предмет вручения свидетельства об открытии”.
У меня в ту пору несколько дел об открытиях через Госкомизобр шло. Сами знаете, каково эти дела даются и сколько тянутся, так что радость моя вам понятна и комментариев не требует. И за этой радостью не стал я дознаваться, какое именно дело увенчивается столь удачным образом. Настанет миг торжества — тут и узнаем.
Прибыл я в указанное место в должный день и час, смотрю, а нас народу человек двести. Отмечается юбилей Госкомизобра, и к торжественному заседанию приурочено вручение множества всяких медалей, знаков и почетных дипломов. И ради такого случая приглашен пастырь всех наук Акинфиев, который под бубны и литавры ручки всем пожимает и желает дальнейших успехов. Все по наивысшему разряду. И тут я вообще размагнитился.
И вот пастырь Акинфиев называет мою фамилию и громогласно объявляет, что мне вручается свидетельство об открытии номер такой-то “Вязкая извратимость нейтрона”.
У меня отвисает челюсть.
Никогда ничем подобным не занимался, не представляю даже, о чем речь. Сижу, будто через меня микрофарада разрядилась.
А меня с боков подталкивают, поднимают, поздравляют, прямо-таки выплескивают к президиуму.
Идиотское положение. Что же мне? Раскланяться и косноязычно объявить на весь зал, что я ни при чем? Что все это ошибка?
Это я в деле не теряюсь, а здесь, признаюсь, растерялся. А пастырь наш Акинфиев улыбается мне во всю свою мегапасть, уж он-то здесь вообще ни сном, ни духом, диплом протягивает, и поясницей соображаю, что не момент устраивать скандал и портить старику развлечение.
“Ну, — думаю, — какие-то секретарши-барышни чего-то напутали, так поведем себя с достоинством. Приму — а там разберемся, но я ж этот курятничек разворошу — век помнить будут”. И, не помня себя от ярости, хватаю диплом, следую на место. А при всем при том, гложет меня детское любопытство: что же это за извратимость нейтрона такая и почему она вязкая.
Сел, раскрываю диплом, суюсь в описание — и обомлеваю.
Кое-что в физике я понимаю, и мне достаточно взглянуть, чтобы понять: ничего подобное мне и не снилось, а речь идет об открытии огромного практического значения! “Кому ж это так повезло? — думаю. — И кому же это нынче при моем невольном участии весь вернисаж испортили? И чем я перед ним оправдаюсь теперь? Тем, что он наверняка получит диплом, предназначенный мне? Черт знает что! Не потерплю!”
Досада меня ест напополам с яростью, ничего не вижу, не слышу, галстук меня душит, запускаю два пальца за ворот, с хрустом пуговка от рубашки отлетает. Ничего не соображается, но тут меня в спину толк — и передают записку. Разворачиваю, читаю: “Не рыпайся. Все в порядке. Надо поговорить. Сходимся в перерыве у второй колонны слева”. И Пентина подпись.
От этой записки кидает меня совсем в другую сторону, в домыслы, а я этого не люблю. Скорехонько ввожу себя в элементарную медитацию, унимаюсь и жду своего часа.
Объявляется перерыв, и уж тут я, аки бомба-шутиха, взмываю пробкой, искры сыплются, несусь ко второй колонне, а за мной дымный след. А у колонны стоит Пентя Евграфыч, при нем три мужика, которых я знать не знаю, и у всех такой вид, что лучшего дня в их жизни не бывало и больше не будет.
— Поздравляю, Санчо, от всей души поздравляю, — брызжет радостью Пентя, — а ты поздравь нас и особенно вот товарища Бахметьева Сергея Васильевича! Поскольку это именно он заведует у нас в институте отделом балалогии, как он в народе именуется.
— К чертям поздравления! — гаркаю. — Объясни, в какую кашу ты меня засадил и что все это значит!
— Ну, это не так вдруг, — отвечает Пентя. — Это разговор долгий, но мы к нему готовы хоть сейчас, а лучше все же не сейчас — чуть попозже и внизу, где, говорят, чудесный квас с хренком и первостатейная закусь под это дело. Айда, ребята!
Мы айдаем, а ребята, поскольку видят, в какой я фазе, на ходу начинают удовлетворять мое законное любопытство, если так можно назвать чувства, обуревающие вашего покорного слугу.
— Понимаете, Александр Петрович, — говорит этот самый Бахметьев, вязкую извратимость нейтрона открыл психоцифровой комплекс, построенный на основании любезно предоставленной вами базы данных. Имеем право утверждать, что этот комплекс является не чем иным, как продолжением вашей личности, а лучше сказать, так ее параллельно действующим рукавом. Посему вручение диплома об открытии вам — не только вполне справедливо, а и следует рассматривать как прецедент в правовом отношении. Важнейший прецедент! И мы надеемся, что вы не будете возражать. Вы очень нас обяжете, если не будете возражать.
— Буду! — ору. — Еще как буду!
— Милейший Александр Петрович! — берет меня под ручку с другого бока второй Пентин главный калибр. — Позвольте вам заметить, что наш достоуважаемый патрон, представив меня в качестве Аркадия Владиславовича и только, несколько обеднил колорит, если так можно выразиться, хотя эта краткость и вполне объяснима неизбежной сумбурностью первоначального включения в предлагаемые обстоятельства.
— Короче! — рычу.
— А короче, — отвечает, — дело новое, правил и норм нет. Что мы с вами, будучи людьми разумными и не сволочами, сочтем этичным, то этичным и останется. Может быть, на века. И далеко не последнее, над чем следует подумать, это простота в обращении. Чем проще, тем ближе к естеству и, стало быть, к истине. Без бюрократических нагромождений. Я сам отчасти бюрократ и знаю, что получится, если мы дозволим этой породе развернуться на юридической почве. Взвоем. Дайте волю воображению, и вы признаете, что я прав.
— Осторожней! — говорю. — Если я дам волю воображению, от вас тут синя пороха не останется на развод, — говорю. — Это же надо! Приписать мне чужую работу, будто у меня своих мало! Кто вас надоумил?
— Вы сами, дражайший Александр Петрович, — медовым голосом загадочную речь струит отчасти бюрократ Аркадий.
— Саня! Как ты не поймешь — это же не чужая работа, а твоя! Твоя! — с надрывом взывает Пентя. — Это же ты ее придумал. Ты, помноженный на мощь процессорной техники.
— Вот и пишите эту мощь в авторы! — говорю.
— Позвольте! — вмешивается Бахметьев. — Значит, если поэт творит эпопею, пользуясь процессором, вы ему этот процессор в соавторы запишете? Это же нелепость!
— Хорош процессор, который без моего участия такие идеи рожает! Вы меня не уговаривайте, я этого на душу не приму. Стыдно!
— Товарищи! Александр Петрович! — входит в дело Пентин резерв. Извините, Чекмарев моя фамилия, я вашим интерфейсом ведаю. Ей-богу, мы пошли по пустякам. Ну, словно принимаем райские сады, остановились при входе над цветочком и заводимся, белый он должен быть или красный. Смешно! Уж коли на то пошло, то в этой истории есть еще одна заинтересованная сторона, не правда ли, товарищ Балаев? Я имею в виду эту вашу копию и ее мнение на этот счет. Верно?
— Тут что-то есть! — подхватываю.
— Прекрасно! — говорит Чекмарев этот самый. — Вот вы у нее и спросите, что она сама думает об этом деле.
— Чекмарев, Чекмарев! — укоризненно качает головой Владиславович. — Нарушаете насчет словаря. Мы же договорились: никаких “она”. “Он”, Чекмарев, только “он”. Александр Петрович Балаев, в крайнем случае — “третий модификат”.
— Караул! — кричу. — Как это “третий модификат”? Значит, есть еще первый и второй? Вы что, решили выпускать меня массовым тиражом? Кто вам позволил?
— Вот! — говорит Пентя, страшно довольный. — Не говорил ли я вам, друзья дорогие, что технические проблемы это только половина дела. А вторая половина — это проблемы морально-этические, и вот их-то решать куда труднее. Это вам не платки паять и не разъемчики дергать. Всей, простите, мордой впахиваемся. Давайте разбираться.
Короче, базар. А этот Чекмарев гнет свое:
— Я совершенно серьезно, Александр Петрович. Давайте позвоним по телефону этому вашему второму “я” и спросим его мнение.
— Интересно у вас получается! — говорю. — Если я это я, то мне никому звонить не надо, чтобы с собой посоветоваться. А если я с кем-то советуюсь, значит, имею дело с кем-то другим — не с собой. В данном случае, с автором открытия, которого готов признать сколь угодно близким родственником, даже братом-близнецом, если хотите, но только не самим собой.
— А если он с этим не согласен? — выпаливает Чекмарев.
— Вернее, если параллельный вы с этим не согласны? Даже больше того настаивали, чтобы все произошло так, как произошло? Как тогда быть? — толкует Бахметьев.
— Стоп! — кричу. — Вас много, да еще с параллельным мною. А я один, да еще траченный тоской. Пентя, ты меня в это дело втравил. Верю, что без коварства. Но вели своим гвардейцам скопом не кидаться и не делать из меня дурачка.
— Минуточку, друзья! Не опережайте событий. Слово мне. Александр Петрович! Все, что вы говорите, было верно, так сказать, “до нашей эры”, выходит на меня Владиславович. — А теперь трудами присутствующих наступила другая эра — “наша”, когда говорить с самим собой по телефону — это проза жизни, причем не самая неприятная. Конечно, с непривычки трудно, но давайте зажмуримся, шагнем — и преодолеем этот барьер. Вы же ученый, вы же профессионал по преодолению барьеров. Али дрогнете? Шагнем — и станет легко и просто: часть вас — у нас. Она потребляет электроэнергию, вы ее оплачиваете плюс обслуживание и накладные расходы и совершенно законным образом располагаете всем, что эта часть вашей личности напридумала, пока вы — то есть та часть вас, которую вы по старинке считаете собой — были заняты другими вопросами. Ну, скажем, спали или находились в отъезде. Я понятно выражаюсь?
— Ничего себе! — говорю я. — Вы хотите сказать, что теперь некто, ну, скажем, я, может соорудить себе копию, она будет работать, а он лентяйничать? Вы во что превратите человечество? В паразитов на собственных копиях, да?
— Ничего не выйдет, — подает голос Бахметьев. — Если вы, к примеру, тайный злонамеренный лентяй, то и копия ваша будет тем же тайным злонамеренным лентяем и фигу вот вы ее работать заставите. А поскольку это дело будет платным, как Аркадий Владиславович сказал, лентяйничать вам не придется. Денежки придется зарабатывать на содержание своего двойника. Считаю, злоупотребление блокируется надежно. Разве не так?
— Ну, если так, — ехидствую, — тогда совсем другое дело! Сколько я вам должен, дорогие мои, по прейскуранту? Вы мне квитанцию, я вам денежки, дипломчик об открытии — под мышку, вы — налево, я — направо. Почем с меня?
— Общий расход по теме за три года — миллионов этак десять, если не мелочиться, — охотно объясняет Пентя. — Но речь о первом экземпляре, процедура отрабатывалась по ходу дела, и взваливать эти расходы на тебя было бы несправедливо. Бухгалтерия до копейки бабки подобьет, но, думаю, Санчо, получить с тебя миллион за это дело будет в самый раз.
Я голоса лишился. А Владиславович этот, который Аркадий, так это спокойно подцепляет тартиночку под квас и мирнейшим образом меня в землю втаптывать продолжает:
— Разумеется, дорогой Александр Петрович, к вам лично у нас никаких денежных претензий нет и быть не может. Не вы к нам напрашивались, а мы сами вас пригласили, даже очень просили об одолжении. И цифра, названная Петром Евграфовичем, ни о чем не говорит. Нынче дорого — завтра дешевле песка морского, и наоборот. Я бы выразился так: достигнут принципиальный успех, доказана плодотворность концепций, на конкретном примере продемонстрированы возможности. Взгляните с этой стороны, Александр Петрович, и вы не сможете не признать, что так задевшее вас неудобство это, не побоюсь такого слова, мелочь, частность, я бы даже сказал, пережиток. Да, пережиток пещерного взгляда на личность как на исключительную собственность индивидуума. Ни с кем и ни с чем неразделимую. До сей поры мы с этим мирились, потому что у нас не было другого выхода. И мы мирились, хотя понимали, что это не так. В самом деле, давайте подумаем, откуда она бралась, эта неразделимая личность. Ну, хотя бы ваша личность, дорогой Александр Петрович. В ее формировании участвовали сотни людей и живых, и давно, так сказать, покинувших, вся природа первая и вся природа вторая. Есть ли на свете сутяга, который взыщет с вас в их пользу? Утверждаю, что нет. А ваш публичный отказ в их пользу всяк согласен считать благим порывом. Но за кого вас примут, возьмись вы точно отсчитывать доли, кому что причитается? Абсурд! Феодальное ростовщичество навыворот! Опомнитесь! Давайте осмотримся, попривыкнем в этой нашей новой эре, а потом уже решим, стоит ли негодовать и бить посуду. Это мы всегда успеем.
— Удружили вы мне, мужики! — говорю. — Вот уж над чем я думать не собирался и не собираюсь. У меня других забот полон рот.
— О! — говорит Бахметьев. — Святые слова. Мы натворили — нам и думать. Поверьте, за всеми прочими заботами мы и об этом печемся. Аркадий Владиславович заведует у нас сектором морали и этики и хлеб свой ест не даром. С наскока вы его не переспорите, Александр Петрович.
— Исключительно благодаря вам, — раскланивается этот Владиславович. Исключительно благодаря плодотворным беседам с вами. Вернее, предупреждая ваш вопрос, с той частью вас, которая, будучи занята не менее вас, тем не менее охотно сотрудничает с сектором морали и этики. Временно — без вашего ведома, но это по ее желанию, смею вас заверить. А уж вы с собой сами объясняйтесь. У вас лучше выйдет, честное слово.
— Вы хотите сказать, что этот “третий модификат” полностью в курсе дела?
— Именно так, дорогой Александр Петрович. Именно так и в отличие от вас. По крайней мере, до сего дня.
— Ну, что ж, — говорю. — По-моему, самое время нам, двум Александр Петровичам, друг с дружкой перемолвиться по душам.
— И во благо! — плещет в ладоши Чекмарев. — Чем тесней, чем повседневней ваш контакт, тем полноценней результат. А мне, извините, с моей кручиной по интерфейсу — лямка с плеч долой. Я тут кабинетик с телефоном выше этажом присмотрел. Если не заперли, можем позвонить оттуда. Только большая к вам просьба, Александр Петрович, дозвольте при разговоре присутствовать и записать. Все-таки первый такой разговор в мире, а? Считайте, экспонат.
— Чего уж там! — говорю. — Пошли. Только как мне обращаться-то к этому вашему “модификату”?
— Сами почувствуете, — отвечает Чекмарев. — Образуется.
Ввалились мы всей ордой в чей-то кабинет, написал мне Чекмарев на бумажке номер — я эту бумажку где-то храню, — и я дрожащим пальцем этот номер набираю: не вмещается в разумение ситуация. Я сам себе звоню — ну, надо же! А народ уставился на меня, как дикари на бубенчик.
Набираю. Там снимают трубку.
“Можно Александра Петровича?” — говорю. “Я у телефона”, — слышу. И мой голос, и не мой. “С вами говорит Александр Петрович Балаев”, — выпаливаю. И тут телефон как взрывается!
“Санек, привет! — слышу. — Наконец-то! То-то я слышу — вроде голос мой и вроде не мой! Ты откуда, дорогое ты мое животное?” — “Да из комитета, — говорю. — Дипломчик на открытие тут мне вручили по твоей милости”. — “Это на какое?” — слышу. “А у тебя что, не одно?” — спрашиваю. “Санек, дорогой! Где это видано, где это слыхано, чтобы у нас с тобой открытия считали не на кучки, а на штучки? Заявочки четыре там лежат. Да пять с твоей руки, итого девять. Не боись, Госкомизобр у нас не соскучится! Не томи! Что прошло?” — “Вязкая извратимость нейтрона”,— говорю. “А! — слышу. — Как тебе? Во нрав?” — “Как сказать, — говорю. — Штука-то во! Да не слишком ли круто ты мне ее поднес?”
В ответ хохот. Довольный. Мой.
“Поднесено в балаевском стиле, — слышу. — Будет что вспомнить! Разве не наш принцип?” — “Да я не про стиль. Я про существо вопроса”. — “Существо, Санек, только начинается. Я прикинул: годовой эффект — шестьсот миллионов рублей. Ты только представь, как будет выглядеть энергетика через десяток лет, если широко двинуть это дело…” — “И не про то я. Я об авторстве”. — “А что об авторстве? Не понимаю”. — “А то, что диплом на мое имя выписан”. — “А на чье же, Саня? Извини, не доходит”. — “Но я же, — кричу, — к этой вязкой извратимости никакого отношения не имею!”
В трубке помолчало, а потом слышу:
“Слушай, свет ты мой зеркальце, ты глубоко вдохни, поди снов пять-шесть посмотри, простынь, а потом на свежую головку подумай и брякни мне — потолкуем. А тем временем, чтоб я не скучал, скажи, чем у тебя кончилась та история с несимметричными тетралями? Сдыхаю от любопытства. Имей в виду: я этого дня ждал, как Ромео Джульетту под балконом, не столько из-за нас с тобой, сколько из-за тетралей. Так что там?” — “Они макроквантованные оказались, — говорю. — Во вращающемся поле псиквадрат”. — “Макроквантованные?! Во-он оно что! А ты по Джонсу — Кэрри пощупать не пробовал?” — “Пробовал, — говорю. — Еще как пробовал. Плотности не хватает”. — “Ах, ты ж, золой по пеплу! — слышу. — А если толкнуться в ЦЕРН на “Хлопушку”?” — “Ты что несешь! — вопию. — “Хлопушка” на десять лет вперед по часам с минутами расписана. Кто нас туда пустит?” — “А вот это моя забота, — слышу. — Не печалься, ступай себе с богом. Чекмарев там у тебя?” — “Да. Здесь Чекмарев”. — “Слушай, Саня, великая к тебе просьба. Вразуми ты его нашей вещественной дланью, да по-увесистей. Век тебе обязан буду. Третий месяц ему талдычу — расширь мне континуум правей горизонта событий, а все как об стенку горох. Без этого — бьюсь-бьюсь — не справлюсь, а одна моделька наклевывается — пальчики оближешь. Одно из двух: или пусть он мне интерфейс реконструирует, или пусть готовится к товарищеским оргвыводам”.
— Что? Об что речь? — Чекмарев у меня над пробором шепчет.
А на меня от этих слов таким родным повеяло, таким родным! Вы не поверите, чувствую — сейчас заплачу от нежности.
— Цыть! — говорю. — Сейчас восчувствуешь, — говорю — “Санек, — говорю, — это я не тебе, это Чекмареву. Санек, — говорю, — как смотришь, если мы в чекмаревские узоры перестанем челом биться, а потолкуем один на один в минимальном коллективе? Скажем, лебедь и щука, а рака выдвинем в президиум, пусть там зимует”. — “Самое то! — слышу. — Только я ж тебя, попрыгунчика, знаю как облупленного. Наобещаешь, а сам куда-нибудь смоешься, ищи тебя потом, свищи”. — “Клянусь Галилеем! — говорю. — Завтра не выйдет, послезавтра тоже, а ужо во вторничек после обеда звони — я вся твоя”. — “Сам звони, — слышу. — Но лучше в среду. У меня тут профилактика намечается небольшая. Главное, чтобы ты понял: не один ты на свете, а имеет место тесное балаевское стадо повышенной проходимости. Сечешь?” — “Пока не очень, — отвечаю. — Не вмещаю. Уж ты прости”. — “За прощеньями ступай к митрополиту, — слышу. — Говорят, в Бомбее еще один остался, и прощенья — это по его части. А нам с тобой приличней бы поупражняться во взаимопонимании на базе обоюдной выгоды и процветания той самой экспериментальной физики, в любви к которой ты, ваша светлость, на каждом столбе расписываешься”. — “Так и быть, — говорю. — Возьму пару уроков у Владиславовича, который Аркадий”, — говорю. “Этот Тарталья тебя научит! — слышу. — Ты же по этой части безграмотней носорога! Скажи спасибо, что я за тебя поднатаскался, и без моего посредничества в диспуты не встревай. Говорю как самому близкому в мире сапиенсу. Кстати, привет ему передавай, он, поди-ка, тоже там крутится. Обший поклон”. Отключился.
Я сижу, тупой-тупой, как синантроп мамонта умявши, слова выдавить не могу. А Пентина компашка плавает на верху блаженства.
— Как посмотрите, дорогой Александр Петрович, если мы отредактируем заключительное коммюнике следующим образом? — приступает Владиславович к победному обволакиванию моей персоны. — Первоначальная чувственная реакция прототипа носила резко отрицательный характер, но по мере убедительного представления фактов смягчилась и склоняется в сторону образования взаимно приемлемой платформы для переговоров.
— Ой, мужики! — отвечаю. — Вы, по-моему, наглейшим образом пользуетесь моей слабостью к эксперименту — это раз. Примите живейшие поздравления от невинно пострадавшего — это два. А в-третьих, дорогой Аркадий Владиславович, некая часть меня, явно лучше вам известная, настойчиво советует не беседовать с вами без ее участия. И остальная часть склонна признать совет весьма разумным. Вопрос об авторстве на открытие “Вязкая извратимость нейтрона” впредь до выяснения всех обстоятельств, считаю, остается открытым. Вас устраивает?
— Более чем, — отвечает Пентя. — Более чем, Санчо дорогой ты мой! Я в тебе не ошибся. А представляешь, что было бы, если бы на твоем месте оказался какой-нибудь дондук? Без чувства юмора!
— Ну, насчет юмора, — говорю, — вы, по-моему, несколько пережали.
— А мы тут ни при чем, — объясняет Бахметьев. — Понимаете, как бы мы к вам ни приставали, полного портрета для психоцифрового двойника получить вее равно не удается. А чем дыры латать прикажете? Собственными домыслами? Вот тогда вы были бы правы, твердя, что имеете дело не с самим собой. Поэтому мы поступили по-другому. На основании снятой с вас базы данных изготовили две матрицы: “Балаев-один” и “Балаев-два” — и поручили им совместно составить модификат “Балаев-три”, восполняя недостачу собственными, то есть вашими, а не нашими, представлениями о вас. “Третий модификат” в этом смысле — при полном отсутствии нашего произвола — это некоторым образом тот Александр Петрович Балаев, каким вы хотели бы себя видеть. Это существенная подробность. А потом, когда “Б-один” и“ Б-два” выработали драйвер вашего образа, мы влили их в образующийся модификат Простейший технологический прием, а как действует! Оцените! Ой, а который час? Уже без двадцати? Я же в совет на защиту опаздываю!.. Доскажу, непременно доскажу. Или лучше вот как сделаем: позвоните вот по этому номеру, мы там с Саней-3 Саню-4 намозговали именно на случай, когда у нас затык по времени. Так как? Запишете номерочек?
Сергей Снегов Дом с привидениями
1
— Если по-честному, Лаура, то вы можете рассчитывать только на личное обаяние, — сказал Матвей Чернов, заместитель директора Института Экспериментального Атомного Времени. — Ростислав Берроуз — мужчина поведения образцового, это все знают, но женская красота действует и на него. Что же до аргументов научного характера, то они отскакивают от Ростислава, как горох от стены. Вот уже два года он никому не разрешает переступать порога “шестерки”. Я имею в виду лабораторию номер шесть.
Лаура Павлова, хронофизик с Земли, сохраняла спокойствие. Матвей Чернов держал себя слишком развязно. Он неприкрыто любовался Лаурой, его выпуклые глаза как-то нехорошо блестели, ей показалось даже, что Чернов подмигнул. Второй человек в научной иерархии знаменитого института мог бы вести себя и посерьезней. Она не для того ударилась в вояж за пределы Солнечной системы, чтобы предаваться на дальних планетах пошловатому флирту. На Земле и без Урании хватало ценителей женской красоты — и помоложе, и покрасивей Матвея Чернова, тем более — его начальника Ростислава Берроуза, уродливого пожилого толстяка: его часто показывали в стереопередачах.
Лаура спросила подчеркнуто сухо:
— Может быть, вы объясните мне, друг Матвей, почему наложено табу на шестую лабораторию?
Чернов, показалось ей, искренно удивился.
— Разве вы ничего не знаете о “шестерке”? Почему тогда проситесь именно в нее? Очень странно, скажу вам по совести.
Раздражение получало новую пищу.
— Меня удивляет ваше удивление. Я еще на Земле знала, что шестая единственная лаборатория вашего института, где делается попытка перенести хроноэксперименты с мертвой материи на живые клетки. И что заведует ею Герд Семеняка, биолог и хронофизик, автор выдающихся исследований. И что именно в этой лаборатории достигнуты сенсационные результаты. Разве этого мало, чтобы просить назначение в шестую лабораторию, или в “шестерку”, как вы ее именуете. И вообще мне хотелось бы поговорить с самим Гердом Семенякой, а не с вами. Не сочтите это за оскорбление, друг Матвей, но направление из Академии Наук, которое я вам вручила, адресовано не вам, даже не Берроузу, а персонально Герду.
— Вижу, что вы мало знаете о “шестерке”, — хладнокровно констатировал заместитель директора. Он пренебрежительно игнорировал выпад Лауры. Вернее, сведения у вас самые общие и безнадежно устарелые. Я не могу свести вас с Гердом, потому что Герда нет на Урании. Он уже два года где-то на Земле.
— На Земле? Вы не ошибаетесь? Я бы встретилась с Гердом в Академии Наук, если бы он был на Земле.
— Земля обширна, на ней имеются укромные уголки. И солнечные планеты отлично годятся для тех, кто не желает выпячивать свою особу. Дело в том, что Герд не просто воротился на Землю, а сбежал туда. Он самовольно бросил свою лабораторию. Впрочем, подробней вам расскажет об этом Ростислав Берроуз. Скажу по чести, я не все понимаю в делах “шестерки”. Это была совершенно особая лаборатория.
Лаура чувствовала себя сбитой с толку. Если поначалу ей показалось, что Чернов заигрывает с ней, то теперь все больше становилось ясно: заместитель директора пошучивает. А она была не из тех, кто сносит шутки над собой. Лаура сказала:
— Вероятно, кто-нибудь заменил Семеняку? Герд сбежал на Землю, так вы сказали. Но ведь остались его сотрудники. Могу я встретиться с ними?
Чернову, похоже, доставляло удовольствие отвечать на все просьбы отказом. Он делал это вполне дружески:
— Не можете, Лаура. Сотрудников у Герда не было. Он работал в одиночестве. Вам придется просить у Ростислава Берроуза, чтобы он раскрыл заколоченное помещение. Я не говорю, что это невозможно, я только сомневаюсь, чтобы Ростислав пошел на это с охотой. Он побаивается шестой лаборатории. Признаюсь, и я обхожу стороной шестерку. Эта лаборатория дом с привидениями. Вероятно, поэтому и Герд сбежал из нее. Впрочем, это мое личное предположение, не буду вам его навязывать.
Лаура холодно сказала:
— Я так поняла, что ваше личное предположение относится к тому, что в шестой лаборатории появились какие-то привидения? До сих пор я читала о привидениях только в средневековых романах. Разве на Урании увлекаются древними книгами?
— Вы неправильно истолковали мои слова. Я высказал предположения только о мотивах бегства Герда. Что до привидений, то появление их в шестерке — экспериментальный факт, зафиксированный приборами. Это все, что могу сообщить вам по данному поводу.
— Остальное мне расскажет директор Ростислав Берроуз, не так ли?
Чернов рассмеялся так радостно, словно Лаура не съязвила, а похвалила его.
— Вы попали в самую точку, друг Лаура. Очень рад, что у вас развита способность улавливать суть. Понимание ситуации будет весьма действенным подспорьем вашей внешности, которая, вы сами знаете, незаурядна. Кончим пока на этом.
Лаура встала.
— Последняя просьба. Мне не терпится пообщаться с другом Берроузом, раз так много зависит от него, а сами вы от всего уклоняетесь. Проводите меня к директору.
Чернов ослепительно улыбался. “Наглая ухмылка”, — с негодованием подумала Лаура.
— Директор сегодня улетел на Латону на том самом звездолете “Беллерофонт”, на котором вы прибыли с Латоны. Вы увидите его дней через пять. Используйте это время для знакомства с Уранией. Уверяю вас, наша планетка — рай для любителей природы. К сожалению, мы сами почти никогда не любуемся красотой своего жилья, а для туристов Урания запрещена опасное все-таки местечко, если сказать…
— …по чести, — насмешливо закончила Лаура.
— Можно и так, — согласился Чернов. — Но я имел в виду другое: сказать откровенно. Или, если вам так больше нравится, — сказать со всей прямотой. — И, провожая Лауру к двери, он добавил: — Между прочим, я далеко не от всего уклоняюсь. Если вы добьетесь открытия “шестерки”, то по всем основным аспектам работы вам придется обращаться ко мне. Мы еще надоедим друг другу, Лаура, можете мне поверить.
Она едва удержалась от признания, что он уже надоел ей за первые полчаса их служебного знакомства.
Уже когда она перешагнула порог, Чернов, словно спохватившись, поинтересовался, не нужно ли ее сопровождать в прогулках по незнакомой планете? Гидов у них нет, приказать кому-либо из подчиненных уделить ей внимание он, естественно, не может. Зато в собственное неслужебное время охотно сыграл бы роль спутника для землянки, впервые забравшейся в звездную даль. Как она отнесется к такому дружескому предложению? Она отнеслась к дружескому предложению без восторга. Она и на Земле, и на солнечных планетах предпочитает гулять в одиночестве. Она не видит оснований менять свои привычки даже для Урании. Он улыбался так доброжелательно, что она сочла улыбку оскорбительной. Он не постеснялся показать, что отказ Лауры взять его в спутники вполне его устраивает.
2
Надо было идти в гостиницу — переодеться и отдохнуть: перелет с Латоны на Уранию на стареньком звездолете вышел утомительным. В тесном салончике она все удивлялась, что на планетах, известных своим высочайшим техническим уровнем, в эксплуатации космические рыдваны прошлого века, давно забытые на Земле. Штурман, рослый парень, явно покоренный ее красотой, доказывал, что расстояние между Латоной и Уранией так невелико, а трасса так спокойна — ни шальных метеоритов, ни вредных излучений, — что грех не использовать хоть и старые, но вполне надежные планетолеты. Он говорил с таким жаром, так стойко стоял за свою колымагу, что Лаура не пожелала противоречить, хотя могла сослаться хотя бы на то, что на междупланетные перевозки на Земле давно поставили более комфортабельные космоходы. Странный разговор с заместителем директора — она явилась к нему прямо с космодрома — не создал бодрости. Но Лаура не могла пойти отдыхать, не бросив взгляда на лабораторию, где твердо — еще на Земле — задумала специализироваться.
Институт Экспериментального Атомного Времени часто показывали на стереоэкранах, Лаура шла между его корпусов, как по хорошо известному местечку. Собственно, это было не местечко, а городок — десятки зданий, хорошо освещенные улицы. Ни одного прохожего — на улицах, городок казался пустынным. Впрочем, таковы были — это Лаура знала — и другие научные городки на других планетах, сотрудники не прогуливались, а работали внутри своих лабораторий и научных заводов.
Лаборатория номер шесть располагалась чуть в стороне. Лаура остановилась перед двухэтажным домом в хорошо распланированном саду. В узких аллеях горели оранжевые светильники, несильный ветер качал густокронные деревья, листва тихо шелестела. А дом был темен — ни одно окно не светилось, только над входом тускло горела надпись: “Лаборатория № 6”. Лаура потрогала ручку двери, ручка повернулась, дверь осталась закрытой. Лаура долго смотрела на темное здание. Дом был необычен — стоял в стороне обособленно, скрытый густым садом, словно то, что в нем происходило, нужно было утаить от внимания посторонних (хотя какие могут быть в этом научном городке посторонние? — спросила себя Лаура). И по сравнению с многоэтажными громадами других лабораторий эта, шестая, казалась крохотной, в ней было что-то провинциальное, что-то из учебника древности, в старину лаборатории часто размещали в таких вот невзрачных домишках. Лаура засмеялась. Привидения, естественно, — вздор, но если бы они вдруг возникли, то место обитания выбрали бы именно такое, раз уж нет на Урании старинных замков с башнями, низкими коридорами, подземными казематами, где они, по свидетельству предков, любили гнездиться. Самому неистовому фантасту не взбредет в голову сделать привидение жителем небоскреба с автоматическими лифтами, залитыми светом холлами и самосветящимися стенами. А двухэтажный домишко, пожалуй, сойдет за обиталище призраков, лакеям, поварам и садовникам, которые обычно жили в таких пристройках, тени давно умерших владетелей замка в кольчугах и панцирях, разъяренные старухи-графини с распущенными волосами, герцоги и короли в саванах… Лаура передернула плечами.
— А ведь в этой лаборатории ставили самые сложные, самые перспективные эксперименты, — сказала она вслух. — Почему же ее закрыли? Почему Герд Семеняка самовольно бросил свое детище и сбежал на Земло? Как возник глупый спор о призраках? Не поиздевался ли надо мной Матвей Чернов? С него это станет, он, похоже, из шутников!
Лаура задавала себе вопросы, зная, что они риторичны, — до приезда директора института ответа не будет. Но поставить их себе надо было — они образовали программу того, что следовало выяснить, раньше чем Ростислав Берроуз предоставит для ее исследований механизмы шестой лаборатории. Друзья называли Лауру педантом, они сокрушались: “При такой очаровательной внешности, при такой обманчивой женственности столь жесткий, прямолинейный, сухой ум!” А муж, Леонид Парфенов — она с ним разошлась год назад, — негодовал, когда она припирала его неопровержимыми доводами. “Твои мысли не убеждают, а режут меня, Лаура. Это ужасно, они тверды, как кристаллы алмаза”. Леонид, впрочем, все в мире не так видел, как слышал, у него, каждая на свой лад, звучали не только вещи, но и идеи. Он, очень модный в двадцать пятом веке композитор, даже назвал одно свое произведение “Углубление в первопричины. Концерт для четырех голосов”, а другое — еще проще и выразительней: “Скалы гремят. Соната для электронного органа”. И о плане Лауры ради хронофизики полететь на Уранию — в результате спора об этом плане они и расстались — Леонид высказался по-своему: “Твои новые идеи старчески шепелявят. Зачем молодой женщине восставать против лучшего времени своей жизни?” На большее его не хватило — исследование физического тока времени он воспринял как попытку отказаться от своего собственного, индивидуального, выданного природой на существование. В физике он был несилен.
Лаура раза два обошла вокруг темного здания и направилась в гостиницу. В квартирке, предоставленной ей, висела карта обоих полушарий планеты. Урания, планетка, найденная в пустом космосе неподалеку от Латоны, главной Галактической Базы Звездного Содружества, была невелика: ее отдали для научных исследований, которые в окрестностях Солнца рискованно ставить — проблемы были большие, а больших площадей для них не требовалось. Сегодня, на шестьдесят втором году Урании, на ней действовали мощные энергетические станции и восемь институтов. Институт Экспериментального Атомного Времени, куда выпросила направление Лаура, по размерам вовсе был не самым крупным, хотя поглощал почти половину всей производимой на Урании энергии. Животворила свою единственную планетку Мардека — звезда средней руки, желтоватая, того же спектрального класса, что и земное солнце. Космостроители постарались имитировать земные условия, многое им удалось, только сутки вышли короче земных: всего восемь земных часов на полный оборот планеты вокруг своей оси — неудобство, конечно, сообщало описание на полях карты, но жители Урании безболезненно привыкают к быстрой смене дня и ночи. Лаура пожала плечами. Ей не придется страдать от быстрого чередования света и тьмы. На Земле она жила в искусственной обстановке, так уж получалось, не одну ее заставал врасплох простой вопрос: что сейчас на дворе, день или ночь? На Земле были гигантские подземные города, их вечно заливало сияние, кто-то изредка выбирался наверх “во двор”, были и такие, что не терпели подземелий роскошней древних дворцов. Она не принадлежала к числу любителей “естественных условий”, земные леса и океаны раздражали ее тем, что существовали сами по себе, как их изначально создала природа, их лишь немного приспособили к человеку, только внизу, в лабораториях и цехах, было полностью дано все, что требовалось для удобства быта и труда. И здесь будет так же, пообещала себе Лаура Павлова, красивая молодая женщина, хронофизик, командированная с Земли на Уранию для особо опасных работ и ради них без колебаний предоставившая развод мужу, так и не понявшему, несмотря на ее — не всегда, правда, терпеливые — разъяснения высоких задач.
3
Ростислав Берроуз не выказал восхищения смелостью исследований, задуманных Лаурой. Он хмуро глядел в окно. Он был массивен, людям такой комплекции на Земле пришлось бы пройти тяжкий курс восстановления физической формы. На Урании, очевидно, врачи не имели столь большой власти. Широкое, пухлое лицо директора института напоминало маску, на нем застыла равнодушная безучастность. “Вроде постаревшего Будды, которому надоело все на свете: уже созрел для нирваны”, — насмешливо подумала о Берроузе Лаура. На человека, руководящего научными исследованиями и, стало быть, сопричастного тайнам природы, он решительно не походил. Если его заместитель Матвей Чернов словоохотливой развязностью вызывал раздражение, то сам директор пугал равнодушием. И когда, выслушав Лауру, он заговорил, в голосе зазвучала такая серая бесстрастность, что она показалась сродни безнадежности.
— Да, конечно, — сказал директор, не отрывая взгляда от того, что происходило за окном, а там ничего не происходило, Лаура это видела. И замолчал так надолго, что Лаура, не выдержав, спросила почти резко:
— Как понимать ваше утверждение: “конечно”, друг Ростислав?
— В прямом значении, — равнодушно сказал директор.
— Я не очень различаю прямое и косвенное значение научного термина “конечно”, — сказала Лаура так убийственно вежливо, что даже рыхлого директора проняло.
В его лице что-то изменилось — будто слабый отблеск неосуществленной улыбки осветил на мгновение серые щеки — и он наконец заговорил связно.
— “Конечно” — слово многозначное. Конечно, уважаемая Лаура Павлова, хронофизик-экспериментатор имеет право задумывать любые научные исследования. Конечно, в представленном ею плане исследований имеются интересные идеи. Конечно, лучше Урании не найти места для осуществления своих идей. Конечно, единственная лаборатория на Урании, пригодная для работ Лауры Павловой, — это лаборатория хронофизики живых клеток, созданная Гердом Семенякой. Конечно, сам Семеняка быстро создал бы условия для ее экспериментов. Но Герда на Урании нет, и где он сейчас обретается, неизвестно — и это тоже — конечно.
— Ко всем изложенным вами многочисленным “конечно” я хотела бы добавить еще одно, — сказала Лаура. — Очень жаль, что Герда Семеняки нет, я надеялась на его руководство. Но и без него я, конечно, смогу использовать его аппаратуру. Абсолютно в том уверена.
— Попробовать можно, — промямлил директор. — Можно, конечно, открыть лабораторию Герда. Почему не возобновить в ней работы?
Он говорил так уныло, так почему-то не верил в возможность возобновления работ в заколоченной лаборатории, что Лаура неожиданно для себя рассмеялась. Она понимала, что смех нетактичен, надо удвоить и утроить настояния, изложить красноречивые доказательства возможности задуманных ею хроноэкспериментов. Но смех рвался неудержимо. И он оказался действенней научных аргументов. Директор тоже засмеялся. В тусклом его лице появилось что-то живое.
— Вам смешно, — сказал он, возвращая себе бесстрастие. — В общем, конечно…
— Послушайте, — горячо сказала Лаура. — Я не знаю Урании. Мне непонятны явления, о которых распространяются ваши помощники. Чернов утверждает, что в лаборатории Герда появились привидения, нематериальные тени…
— Почему нематериальные? Очень даже материальные, — рассудительно сказал директор института. — Это в древности, при отсталой технике, говорили о нематериальных призраках. Так сказать, бытовое суеверие, то есть вера в невещественные существа. Призраки лаборатории Герда имеют довольно высокий процент вещественности. Нам удалось некоторые сфотографировать.
Лаура воспользовалась тем, что малоразговорчивый директор наконец обрел способность что-то логично разъяснить. Она настаивает, что привидения реально не существуют. Имеются только физические процессы и извращенные представления об этих процессах. Ей никто не докажет, что возможно встретить не в воображении, а в действительности черта с рогами или зеленую русалку на речном пляже, или…
— Или вот это, — прервал Лауру директор и зашагал от окна к своему столу.
Он вынул из ящика и разбросал по столу с десяток цветных фотографий. Лаура увидела стенд с командными аппаратами, на кнопку одного из них легло что-то расплывчатое, похожее на руку, состоящую из одних костей, без мягких тканей и жил. Причем заснят был момент, когда твердое тело — кости — как бы превращаются в смутное облачко. А на другом снимке — опять-таки на четком фоне лабораторной аппаратуры — шагал скелет человека, туманный, нечеткий, но при всей своей зыбкости несомненный. И на остальных фотографиях представала такая же картина — четкие, яркие, цветные предметы лабораторной обстановки и что-то призрачное, неопределенное — силуэты человеческого тела, рук, ног, даже головы, но больше всего рук…
— Похоже на рентгеновские снимки, только плохие, — сказала Лаура.
Директор выразительно пожал плечами.
— Мы пытались фотографировать привидения и в рентгеновских лучах, но к зыбкости призраков добавилась нечеткость фона.
Лаура поинтересовалась, понимают ли, что представляют собой эти призрачные силуэты. Иначе — кто персонально выступает в роли привидения? Нет, такого понимания не было. Вероятно, один Герд Семеняка мог бы дать объяснение, но Герда нет, он сбежал на Землю. Возможно, его самого напугали странные явления в лаборатории. Он был человек неустойчивый, Герд Семеняка, он порой впадал чуть ли не в транс, просто впадал в каталепсию от огорчения, если опыт не удавался. Но если опыт давал ожидаемый результат, готов был прыгать, ликовать, колотить кулаками по столу, орать от восторга… Перед исчезновением он проговорился в столовой, что скоро найдет возможность вызывать к повторному существованию давно умерших людей и что это будет восхитительный научный спектакль. Его, конечно, высмеяли, он сперва разозлился, потом и сам захохотал и признался, что хотел ошеломить слушателей. Он любил поражать парадоксами.
— Прочтите, Лаура, записку, которую он мне оставил.
Лаура прочла: “Ростислав, не сердись, я должен временно покинуть Уранию. Я здорово запутался в своих экспериментах, мне надо отойти от них. Я отдохну на Земле и возвращусь. Пожалуйста, оставь в лаборатории все, как есть, и не прекращай подачи энергии — биологические растворы без нее погибнут. До скорого свидания. Герд”.
— Эта записка написана два года назад, — продолжал директор. — Три месяца мы честно выполняли пожелание Герда, а потом фотоавтоматы зафиксировали появление призраков, и мы отключили энергию, а лабораторию закрыли.
— Чем же вам мешали привидения? Отсутствие энергии должно было погубить биологические растворы, с которыми и в отсутствие Герда проходили запланированные процессы, а как могли воздействовать на них бесплотные тени?
Ростислав Берроуз с осуждением посмотрел на Лауру. Очень могли воздействовать! Он ведь объяснял, что привидения в лаборатории номер шесть отнюдь не бесплотны. Они, конечно, призраки, но с порядочной долей вещественности. Если даже допустить фантастическую гипотезу, что Герд научился возрождать давно умерших людей, то он возрождал их не как картинки в стереокино, а с долей реального физического присутствия. На этом вот снимке призрачные пальцы как будто нажимают на пускатель командного аппарата? Так они реально на него нажали! И командный аппарат привел в действие многие механизмы, но потом не выключил их и создал аварию на одном. Если бы такой поступок совершил лаборант, лаборанта обвинили бы в хулиганстве. А с привидения дисциплины не спросить!
— Вы это хулиганское действие отнесли за счет озорства привидений?
— Если у вас появятся другие соображения, друг Лаура, мы их с удовольствием выслушаем. У нас их нет. Чтобы не подвергать непонятной опасности сложную аппаратуру “шестерки”… Я подразумеваю лабораторию номер шесть… Короче, мы решили прекратить все хроноэксперименты с живыми клетками.
— Решение, которому не отказать в смелости! — Лаура постаралась, чтобы ирония не прозвучала чересчур явно.
— Вы хотите сказать, что мы поступили трусливо?
— Я сказала, что хотела сказать. Нужно обладать не трусостью, а смелостью, чтобы так расправиться с исследованиями, которым никто не откажет в перспективности. И все потому, что возникли какие-то невыясненные затруднения. Надеюсь, я вас не обидела?
— Посмотрите на этого человека, — печально сказал Берроуз. — Надеюсь, он вам знаком? Его изображение, естественно: он ведь умер, когда вы были еще девчонкой.
С портрета на стене смотрел человек средних лет, пышноволосый, темноглазый, он усмехался, он что-то, похоже, язвительно говорил, когда его зафиксировали фотоавтоматы. Он располагал к себе и умным худощавым лицом, и весело светящимися глазами, и каким-то только ему свойственным выражением насмешливой доброты. Он был очень известен на Земле, этот человек, давно покинувший Землю ради Урании и здесь похороненный.
— Вам пришло в голову, друг Ростислав, что я могу не знать ученого, разработавшего основы той науки, в которой я сама сейчас работаю?
— Чарльз Гриценко был теоретиком хронофизики и создателем Института Экспериментального Атомного Времени, — торжественно проговорил Ростислав Берроуз. — И он долго колебался, прежде чем разрешил эксперименты с переменой течения времени в живых клетках. Были неприятности с такого рода работами еще до того, как на Уранию прибыл Герд. Но должен вам сказать, Герд обладал демонической силой уговора. Он сумел переубедить великого Чарльза. Но это не мешало Гриценко предупреждать нас всех, что время, определяющее жизненные процессы, не только хрупко, но таит в себе опасные неожиданности. Нет, друг Лаура, не потребовалось ни особенной храбрости, ни чрезмерной тупости, чтобы закрыть лабораторию, из которой бежал ее руководитель. Нужно было только вспомнить строгие наставления нашего замечательного учителя.
Лаура со вздохом сказала:
— Как жаль, что у меня нет демонической силы убеждения Герда Семеняки. Мне тогда было бы легче объясняться с вами.
— Не притворяйтесь, — хмуро сказал директор. — Матвей Чернов информировал меня, что не сумел найти надежную защиту от ваших настояний, — поверьте, такое признание у Матвея многого стоит. Пойдемте, я сам открою вам лабораторию номер шесть.
4
Переступив утром порог лаборатории, Лаура почувствовала, что в ней ночью что-то случилось. Ровно неделю она работала в лаборатории, все шло нормально — никаких загадочных происшествий, никакого вторжения потусторонних сил. Если в стенах двухэтажного дома и водились привидения, то они пока побаивались показываться. Каждое утро она оглядывала все помещения, стараясь открыть самый малый непорядок, — все сохранялось таким, каким она оставляла, уходя в гостиницу. А сегодня было не так. Она еще не увидела непорядка, только почувствовала его. Кто-то ночью ходил по лаборатории, так ей казалось. Но и внимательно все осмотрев, она не нашла следов постороннего присутствия.
— Чепуха! — сказала она себе. — В бред начинаю впадать. Хроноустановка в порядке, это единственно важное. Ее никакая призрачная рука не касалась.
Громоздкое сооружение, названное хроноустановкой, функционировало исправно. С десяток преобразователей атомного времени, сфокусированные на сосуд с биологическим раствором, вели программу, что была задана вчера вечером. В сосуде бурлила мутная смесь разноцветных живых клеток, в смеси преобладали желтые клетки, синие среди них терялись: в желтых клетках время замедлялось, в синих ускорялось. Компьютер показывал, что реакция разновременности — так еще Герд назвал впервые им осуществленный процесс набирает ход. Когда разновременность дойдет до предела и взаимодействие клеток прекратится, и сами они перестанут быть видимы, ибо будут жить в разных временах: желтые отстанут от “сейчас”, затормозятся в прошлом, а синие опередят “сейчас”, умчатся в будущее. А пока и простому глазу было видно, что бегство синих в будущее идет резвей торможения желтых, поэтому так и ослаблялась синяя компонента раствора. Процесс шел нормально.
Успокоенная, Лаура отошла от хроноустановки. Но ощущение соприсутствия чего-то постороннего не ослабевало. Недоумение стало превращаться в раздражение. Лаура сердито спросила себя, что, собственно, ей сегодня не нравится в лаборатории? И ответила: мне не нравится сам воздух лаборатории, им вдруг стало нехорошо дышать. Лаура прошла в генераторную. Отсюда шло питание преобразователей атомного времени. В генераторной мирно гудели механизмы, им и полагалось так гудеть, звенящий их гуд свидетельствовал о нормальной работе. Лаура раскрыла крышку регистратора. На ленте самописца извивалась кривая режима генераторов. Лаура не поверила глазам. Регистратор запечатлел скачок интенсивности. Между четырьмя и шестью часами ночи генераторы испытали огромное ускорение, оно вплотную подошло к зловещей красной черте запрета — переход за нее грозил взрывом. Два часа генераторы работали в запрещенном режиме: если и не на волосок, то на миллиметр от самоуничтожения. Но ведь это немыслимо: автоматы безопасности не допускают подобных нарушений! Лаура быстро подошла к щиту безопасности. То, что она увидела на щите, ошеломило ее: автоматы были отключены. Сегодня ночью, между четырьмя и шестью часами, лаборатория могла взлететь на воздух — и то, что она не взорвалась, было чудо: генераторы, разгоняясь, так самоускоряются, что только автоматы могут погасить саморазгон, а автоматы были отключены!
Лаура поспешно включила автоматы безопасности, проверила, надежно ли они охраняют процесс, и возвратилась к хроноустановке. Надо было успокоиться и разобраться в происшествии. Одно ясно: кто-то ночью пробрался в лабораторию и безобразно хулиганил. Кто это был? Для чего ему понадобилось так опасно вмешиваться в работу механизмов? И как он мог проникнуть в закрытую лабораторию? Замки настроены на ее личный шифр, так она сама захотела, и директор Берроуз дал согласие. Она никому не сообщала шифра, замки не повреждены — никто не мог проникнуть в генераторную! Лаура потянула носом воздух. Вот откуда ощущение чужого присутствия! Чудовищная интенсивность генераторов воздействовала на воздух: ночью, вероятно, в лаборатории было так мало чистого кислорода, что вряд ли хватило бы для нормального дыхания. С шести часов, когда прекратилось возмутительное озорство, воздух постепенно освежился.
На стене засветился стереовизор. Матвей Чернов, словоохотливый заместитель малоречивого директора, дружески ухмылялся с экрана.
— Что случилось, друг Лаура? У вас такой вид, словно вы лицом к лицу столкнулись с ужасным привидением!
Лаура постаралась не показать волнения:
— Привидение в лаборатории одно — вы сами на экране. Но ваше явление не ужасает, не думайте о себе столь высоко!
Чернов захохотал. Отповеди Лауры не сердили, а радовали его. Он был любителем острых слов.
— Знаете, почему я соединился с вами, Лаура? Ночью ваша лаборатория чрезмерно потребляла энергию. Вот я и подумал: не случилось ли чего чрезвычайного? У нас порядок такой: если предусматривается повышенное требование на энергию, нужно извещать заранее. Так все-таки произошло что-нибудь?
— Да, произошло, — сказала Лаура. — Но я еще не понимаю, что именно. Когда разберусь, сообщу. Надеюсь, вы дадите мне поразмыслить. Не хочу необоснованных выводов.
— Поразмышляйте, поразмышляйте, торопить не будем! — Чернов опять засмеялся. Ему доставляло очевидное удовольствие, что в лаборатории совершилось что-то чрезвычайное и что новая сотрудница, такая иронически самоуверенная, а к тому же излишне для нормальной женщины красивая, вдруг растерялась. То ли в насмешку, то ли чтобы что-нибудь определенное высказать, он добавил: — И подумайте о проклятых призраках! “Шестерка” дом с привидениями! Фантомы в хронофизике — по-моему, неплохая научная тема, а?
Стереовизор погас. Лаура, уставясь глазами в стол, не двигалась. Объяснить ночное происшествие кознями привидений всего легче. Но тогда надо дознаваться, откуда берутся привидения? В физику вторгается мистика. А не лежит ли в основе ночной мистики рядовая мистификация? Может быть, сам Матвей Чернов сыграл роль призрака-любителя? От такого шутника можно многого ожидать! Но зачем ему пугать новую сотрудницу? И ведь это не простое озорство — лаборатория была на грани гибели! Ни один ученый не позволит себе такой опасной проказы, а Чернов хоть и шутник на словах, но серьезный работник в науке, иначе его не поставили бы в заместители директора уникального института. И она не сообщала ему шифра замков, он не мог ночью войти в лабораторию!
Что-то надавило на плечо Лауры. Она обернулась и закричала. Отбросив стул, она метнулась к стене. К Лауре тянулась человеческая рука. Она висела одна и судорожно подергивалась — отделенная от тела, чуть лишь выше локтя видная, костлявая, без мяса, она не походила на часть скелета слишком расплывчатой и зыбкой с краев была эта рука. Призрачная рука пыталась схватить Лауру, когда она вскочила. Пальцы два раза сжались и разжались, рука стала вдруг змеей извиваться и пропадать. Ужас сдавил горло Лауре, она уже не могла кричать, только молча глядела, прижавшись телом к стене, как тускнела висевшая в воздухе призрачная рука. Видение стерлось, ничего уже не напоминало о призраке, а Лаура все не могла отойти от стены. И когда она пыталась сделать шаг к столу, ноги почти не держали. Опираясь обеими руками на стену, она медленно передвигалась к столу, потом оперлась на него и упала в кресло.
— Я схожу с ума! — сказала она вслух, голоса хватило лишь на прерывистый шепот. — Мне видится то, чего нет!
Но плечо сохраняло боль от сжатия костлявых пальцев, боль была реальной, а не призрачной. Лаура тряслась, ужас не отпускал. Из лаборатории надо было спешно бежать, только на открытом воздухе, меж старых деревьев сада она справится с потрясением. Лаура встала и снова упала. Я еще минутку посижу, сказала себе Лаура, только минутку, а потом уйду.
Она оперлась руками о стол, чтобы помочь себе встать, пусть ослабеет дрожь в ногах.
И в этот момент опять появилась призрачная рука. Она поплыла в воздухе, медленно приближалась к Лауре, растопыря зыбкие фаланги пальцев, нацеливалась схватить не то за плечо, не то за горло. Отчаянный крик вырвался из груди Лауры. К ней вдруг возвратилась сила. Лаура хлестко ударила по призрачной руке. Не переставая кричать, Лаура кинулась к выходу. К дому из сада бежали Ростислав Берроуз и его заместитель. Она упала им на руки.
— Что с вами? Что с вами? — спрашивал испуганный Чернов. — Мы услышали по стереовизору ваш крик и поспешили сюда. Скажите же, что случилось?
— На меня напала рука скелета! — прошептала Лаура и потеряла сознание.
5
Она сидела в кресле, еще не оправясь от потрясения, а они в два голоса рассказывали, что произошло за те три часа, когда ее никак не могли привести в сознание. Собственно, рассказывал один заместитель директора, директор только поддакивал. Главным событием трех часов ее обморока было именно то, что ее не могли привести в сознание. Они уже опасались за ее жизнь, хотя прогноз медицинского автомата обещал быстрое восстановление здоровья. Они оба, директор и заместитель, облазили всю “шестерку”, но и следа от привидения не осталось. Призрачная рука сгинула. Правда, не совсем бесследно: фотоавтомат около хроноустановки зафиксировал туманный силуэт, — возможно, ту самую проклятую руку, ухватившую ее за плечо. Она может сличить снимок с виденным. Вот он, глядите, друг Лаура!
Лишь при очень большом или очень болезненном воображении можно было отождествить страшную картину зыбкой костистой руки, хищно потянувшейся к Лауре, с извилистым туманным облачком, повисшим на отлично переданном фоне хроноустановки. Лаура увидела и себя — кусочек правого плеча, волосы, упавшие на шею: сама она тоже вышла отлично. Лаура твердо знала, что никогда не страдала душевным расстройством и не брала силой воображения. Сознание отказывалось отождествить увиденную жуткую картину и невыразительную фотографию.
— Больше снимков нет? — спросила она.
— Только один, — ответил Чернов. — Вы так стремительно бросились к стене, что ударили по фотоавтомату и отключили его.
Директор заметил:
— Вы не находите, дорогая Лаура, что изображения призраков, которые я вам показывал, гораздо, так сказать, физичней, чем этот. В смысле вещественности привидения.
— Нахожу, — ответила она. — Даже добавлю: на ваших снимках я видела почти отчетливый целый человеческий скелет. Была, правда, и одна рука, нажимающая на кнопку пускателя, но и она получилась много рельефней, чем в моем случае. Вы, наверное, делаете отсюда вывод, что я чрезмерно преувеличила явившееся мне видение. У страха глаза велики, так?
— В “шестерке” творится что-то странное, — мягко сказал директор. Мы предупреждали вас об этом. Но согласитесь…
— Не соглашусь! Мой вывод покажется вам странным, вы, уверена, не ожидаете его от меня. Изощренная техника, считаете вы, может творить то, что обыденному разуму покажется волшебством и чарами. Я правильно излагаю вашу гипотезу, друг Ростислав? Так вот, я переменила свое отношение к ней. Теперь я иду дальше вас. Теперь я убеждена, что в лаборатории обитают призраки. И что эти призраки связаны с тематикой тех работ, которые вел Герд Семеняка. И что они сегодня ночью пытались воздействовать на процесс в хроноустановке, чуть не доведя до взрыва генераторов. И что нападение костлявой руки преследовало эту же цель: заставить меня изменить процесс.
Ситуация была отнюдь не смешная, но Матвей Чернов и тут нашел повод захохотать. Этот человек, вызвавший поначалу чуть не отвращение, начинал Лауре нравиться. Его улыбка, усмешки, ухмылки, его шумный смех развлекали, не нанося обиды.
— Призрак, который пытается участвовать в отнюдь не призрачной научной работе! — воскликнул он. Лаура ответила улыбкой на его насмешку.
Берроуз хмуро сказал:
— В общем, мы склоняемся к одному мнению. Загадка связана с тем, что делал Герд. Но чего он такого натворил, может сказать только он.
Лаура спросила, не пробовали ли связаться с Гердом. На Земле найти любого человека — задача не хитрая, а ротонная сверхсветовая связь обеспечивает быстроту вопросов и ответов. Герда никто не искал. На Урании любой работник имеет право в любое время дать себе отпуск, каждый работает по способностям и собственному хотению. Запрос на Землю показался бы нетактичным. Кроме того, в запросе не было нужды, лаборатория Герда закрыта. И хотя Герд просил не останавливать подачу энергии, а они прекратили ее поступление, когда появилось то, что назвали призраками и что, теперь видно, возможно и не призраки, а что-то более серьезное, несмотря на такое отступление от просьбы Герда, жизнедеятельность заторможенных биологических растворов была сохранена.
— Теперь надо отыскивать Герда, — сказал Берроуз. — Без его пояснений могут случиться и худшие неожиданности, чем та, в которую вы попали. Прошу вас, Лаура, до разъяснений Герда Семеняки не посещать “шестерки”.
— Я немедленно свяжусь с Латоной, — сказал Чернов. — Там знают, на каком звездолете Герд улетал на Землю.
Оба ушли. Лаура размышляла. Новые мысли, полонившие ее, были так странны, что она не решилась сразу их высказать. Хотя почему странны? — спросила она себя. В научных городках Урании все странно по земным представлениям. Урания специально создана для необычного, опасного прежде всего этим — своей необычностью. То, что не поражает, не ставит в тупик, и не следовало переносить для изучения с Земли на Уранию. Главная опасность всех работ на Урании — именно так объясняют на Земле — в непредсказуемости их результатов. Землю от непредсказуемого стараются обезопасить, здесь, наоборот, предсказывают, что в экспериментах должно получиться непредсказуемое, предвидят непредвидимое. Она будет рассуждать в духе научных исследований на Урании. Она допускает невероятное в качестве естественного. На фантастической планете, названной Уранией, фантастичность — рядовое явление. Что ж, допустим, что здесь и сверхъестественное естественно. Вполне по логике директора Института Экспериментального Атомного Времени: в старину, в неразвитом обществе, вера в чудо свидетельствовала о суеверии, а ныне техническая изощренность позволяет производить чудеса: волшебство стало рядовой технической операцией. Вот на этом фундаменте надо возвести объяснение. Привидения в шестой лаборатории поселились, это неоспоримо. Стало быть, есть естественные — физические и технические — причины для подобного сверхъестественного явления. Каковы они?
Дальше абстрактных рассуждений о технической естественности неестественного размышление не шло. Раньше надо было выяснить, какова разумная цель в появлении привидения, а уж потом дознаваться, какими техническими приемами оно порождено. Но на вопросе: для чего? — мысль спотыкалась, как нога о камень.
На столе лежал альбом схем шестой лаборатории. Лаура не раз перелистывала его. На первой странице альбома Герд Семеняка поместил свой портрет. Лаура без особого любопытства глядела на него. Мужчина как мужчина: он не интересовал ее. Ученый, бросивший свою лабораторию и трусливо сбежавший с Урании на Землю, не заслуживал внимания. Механизмы, им сконструированные, схемы включений аппаратуры были важней — она равнодушно переворачивала страницу с портретом и шла дальше.
А сейчас Лаура почувствовала, что первая страница с портретом важней всех остальных. Только сегодня она поняла, что, видя, не постигала. Лицо Герда сегодня воспринималось по-новому. Оно не повторяло уже совершившегося знакомства, оно являлось как неожиданное открытие.
Все было в нем таким, как уже много раз виделось, — мужчина средних лет, некрасив, глаза серо-голубые, рот большой, брови густые, лоб невысокий, но широты необычной, а подбородок столь же необычно узок, худощавые, розоватые, как у юноши, щеки. Лаура поворачивала портрет вправо и влево, наклоняла и поднимала вверх и вниз. При каждом движении выражение почти треугольного лица менялось. Все было то же каждой отдельной чертой и все становилось иным: лицо оживало, по нему как бы бежали гримасы, ни один звук не вырывался из полураскрытого рта, но Герд говорил. Вот глаза его, вдруг вспыхнув, смеются, как-то странно смеются, скорей печально, чем весело. Вот он хмурится, он недоволен собой, только собой, а не чем-то посторонним, это явно. Вот он озадачен, а вот обрадован, а вот ликует, а вот подавлен, смертно, до безнадежности подавлен…
И чем дальше Лаура изучала лицо Герда в разных поворотах, тем глубже чувствовала: он замечательный человек, этот таинственно исчезнувший из своей лаборатории хронофизик, он очень неоднозначен — способен фанатически увлекаться, буйно радоваться, горько сетовать, безжалостно упрекать себя, искренне, без самолюбования и самообожания, восхищаться собой… И самое главное — он добр, он необычайно добр. Нет, что там этот человек ни сделал, что бы ни принудило его бежать — зла он никому не сумел бы причинить, бежал не для того, чтобы создать затруднение другим. Произошло несчастье — вот отчего он бежал!
Лаура захлопнула альбом, закрыла глаза. Перед ней стоял Герд Семеняка. Он тревожил ее. Она, не отдавая себе отчета, почему, сочувствовала ему, печалилась о его непонятном, угадываемом ею горе. Она хотела встретиться с ним. Она должна с ним встретиться. Здесь или на Земле — все равно.
Не то размышления, не то мечтания Лауры прервало появление директора и его заместителя. Оба выглядели порядком ошарашенными.
— Так скоро? — сказала Лаура. — Видимо, сверхсветовая связь с Землей работает отлично.
— Связываться с Землей не пришлось, — ответил Чернов. Директор, по своему обыкновению, только кивал, подтверждая объяснения заместителя. — Мы связались с Латоной. Этого было достаточно.
Лаура поспешно приподнялась в кресле.
— Герд Семеняка на Латоне? Неужели он не улетел на Землю?
— Герда на Латоне нет. И он не улетал на Землю. Он вообще не появлялся на Латоне. Он не покидал Урании.
Лаура сказала первое, что пришло в голову:
— Но эта его записка вам, Ростислав! Неужели он солгал!
— Камуфляж! — торжественно объявил Чернов. — Вспомните, он признавался в записке, что здорово запутался в своих экспериментах. Очевидно, какие-то катастрофические неудачи. Герд — парень правдивый, но с отчаяния чего не сделаешь. Самолюбие помешало честно признаться в своих провалах, так я это расцениваю.
— Лаура, вы понимаете, что произошло? — сказал Берроуз. — Раз Герд не покидал Урании, то, значит, он здесь притаился. А это означает…
Лаура прервала его. Ситуация внезапно прояснилась.
— Я согласна с вами, друг Ростислав. Это означает, что загадочное привидение шестой лаборатории — сам Герд Семеняка!
6
О том, чтобы Лауре одной работать, теперь не могло быть и речи. Директор довольно робко предложил снова закрыть лабораторию, но заместитель воспротивился. Лаура уже уяснила себе, что Берроуз — высший судья только в научных проблемах, а все, что называется административными делами, решает Матвей Чернов. И хотя при первом знакомстве Чернов намеренно передал решение о возобновлении работ в лаборатории самому директору, это не меняло реального положения: слово Чернова было решающим. Лаура воззвала к Чернову о содействии, и Чернов содействие оказал.
— Вздор — вторично заколачивать помещение! — высказался он. — Герду Семеняке захотелось из не вполне нормального, но живого человека превратить себя в привидение — его личное дело. Он, возможно, почему-то заинтересован, чтобы лаборатория стояла закрытой. А мы — наоборот. Надо наконец раскрыть тайну дома с привидениями. Конечно, Лауру оставлять без помощников опасно. Нападение призрака может повториться, а это отнюдь не призрачная акция. Кого-нибудь найдем для Лауры, хотя это и не просто.
На Урании автоматизация была выше, чем на Земле. Многие лаборатории работали без людей, в них лишь изредка заходили. Академия Наук разрешила пребывание на Урании только специалистам, каждый вел свою особую тему. В помощники Лауре могли выделить лишь ученого, отказавшегося от собственных экспериментов или решившего совмещать их с заданиями Лауры. Чернову удалось найти такого человека. Питер Юркин, так звали этого человека, интересовался проблемами хронофизики, хотя его прямой специальностью была атомная биология. Он явился к Лауре в гостиницу — добродушный лохматый увалень с носом картошкой, широченными плечами и руками со среднюю лопату каждая: Чернов уверял, что Питер способен своими громадными ручищами проделывать ювелирные работы, а Берроуз добавил, что в его специальной области Юркину нет на Урании равных. Питера увлекла перспектива близкого знакомства с подлинными, а не выдуманными привидениями.
— Я в детстве, друг Лаура, увлекался старинными книгами, а там столько рассказывается о злых и добрых духах, — сказал он медленно гудящим басом. — Вы их знаете, уверен: ведьмы, гномы, рыцари в шлемах, императоры в тогах и сюртуках, президенты в цилиндрах. …Никогда не думал, что реально буду общаться с этими потусторонними фигурами!
Лаура могла бы многое возразить против познаний Питера Юркина, смешивавшего историю с демонологией, но ограничилась указаниями на непосредственные задачи своего помощника. Общение с привидениями не входит в круг его научных обязанностей — разве что сами призраки захотят с ним знакомиться. Он будет продолжать исследования Лауры по возбуждению в живой клетке разновременности, вместе с нею, естественно. Что до остального, то будем действовать, как сложится ситуация.
Лаборатория номер шесть бездействовала три дня, пока Лаура оправлялась от потрясения. Она не смогла преодолеть страха, когда вошла в комнату, где к ее плечу потянулась зловещая рука скелета, но постаралась не показать Питеру своего состояния. Ему ни страх, ни сомнения не были свойственны. Он с таким удовольствием осматривался, так живо интересовался, на какой высоте в воздухе возникла костлявая рука, куда она двигалась, что намеревалась сделать, как будто расспрашивал о красочном спектакле. Он шагал из комнаты в комнату, заглядывал во все уголки, раскрывал самописцы, проверял настройку автоматов — все здание наполнилось гулом его шагов, звяканьем металлических рычагов и кнопок, громкими возгласами, не менее громкими вопросами. А когда он угомонился, усевшись у хроноустановки, и стал проделывать те командные операции, которые вела раньше сама Лаура, меняя процесс по показаниям приборов, то стало не намного тише — шаги больше не грохотали, но голос звучал столь же громко и столь же часто. Лаура с досадой сказала, что если он хочет пообщаться с призраками, то ему необходимо умерить свою любознательность и поменьше задавать вопросов. Она где-то читала, что привидения смертно боятся шумов, абсолютная тишина, так сказать, питательная среда для призраков.
— Мне очень хотелось бы пожать костлявую руку, явившуюся вам, друг Лаура, — почти прогремел Питер. — Если владелец этой руки нас слышит, пусть он знает, что с удовольствием предвкушаю наше знакомство. Но еще больше хочу справиться с вашим заданием по разновременности живых клеток, а эта штука немыслима без выспрашивания об особенностях процесса. Должен вам сказать, прекрасная Лаура, что ваша исследовательская тема чертовски интересна, вы выбрали себе превосходный предмет для экспериментов.
Лаура, оставив Питера у хроноустановки, обходила не торопясь одну комнату за другой. В помещении генераторов она задержалась. Несколько дней назад здесь произошел недопустимый всплеск интенсивности. Почему совершилось такое нарушение режима? Как оно стало возможным? Есть ли связь между форсированием генераторов, невозможным без вмешательства человеческой руки, и той призрачной рукой, что протянулась к ее горлу?
Я думаю не о том главном, о чем надо думать, с досадой одернула себя Лаура. Вопросы, которые она задает себе, продиктованы эмоциями, а не логикой. Надо поставить по-настоящему важные вопросы, найти на них однозначные ответы. Леонид, ее бывший муж, с возмущением говорил: “При такой покоряющей женственности, у тебя жесткий, непереносимо логичный рассудок! Ты способна дать десять очков форы самому безукоризненному компьютеру. Иногда мне кажется, что я живу не с античной богиней, как поначалу воображалось, а с могучей электронно-механической установкой. Поверь, это слишком!”
Лаура улыбнулась, вспоминая мужа. Он был веселый, талантливый глуповатый парень, ее Леонид. Ему можно посочувствовать — ему с ней было нелегко. И хотя он заплакал, расставаясь, радость освобождения от гнета более сильного ума перекрыла горечь разлуки. Он плакал от потери любви и одновременно испытывал гигантское облегчение от выхода из неволи. Он уверял, что никогда не забудет ее, так безжалостно бросившую его, всегда будет искать встречи с ней. Все это были прекрасные, но пустые слова. Она еще полгода прожила на Земле после развода, он и не пытался хоть по стереовизору поглядеть на нее: о встречах и помина не было, Леонид побаивался встреч. Она не уверена, знает ли даже он, что ее уже нет на Земле: она не афишировала отлет на Уранию, хотя у молодых ученых принято гордиться такой почетной командировкой.
Она присела в соседней комнате, положила перед собой альбом Герда Семеняки. Пусть Питер — он видел ее сквозь раскрытую дверь — думает, что она изучает схемы хроноаппаратов. Она снова рассматривала портрет Герда. Ей нужно напрячь все способности своего рассудительного ума, чтобы проникнуть в логику этого по наружности столь обаятельного человека. Вот они, три главных вопроса: что, как, зачем? Найти хотя бы приблизительные ответы на каждый, хотя бы предварительное представление составить о поведении создателя лаборатории номер шесть! Итак — что? Что такое те странные видения, запечатленные еще два года назад фотоавтоматами в пустой лаборатории, пропавшие, когда лабораторию отключили от энергопитания, а по приходе Лауры снова возникшие? На этот вопрос она имеет ответ, и с ним согласились и Ростислав Берроуз и Матвей Чернов: привидение — сам Герд Семеняка. Его нет ни на Латоне, ни на Земле, он на Урании, а на Урании его тоже нет в его прежнем телесном облике, стало быть, он превратился в привидение, можно сказать и по-иному: привидение — то, что осталось от Герда. Какой бы ни был ответ, а ответ! Физика протестует, логика не восстает.
Теперь второй вопрос — как живой, жизнерадостный, здоровый человек мог реально превратиться в призрак? Что вообще означает формула — реальный призрак? Две стороны противоречия даны в своей логической несомненности: появилось нечто призрачное, нечто почти невещественное — один факт. Это почти бестелесное, почти невещественное — существует реально: второй факт. Как оно может существовать? Ответ, вероятно, надо искать в экспериментах Герда над биологическим временем живых клеток, — примерно, та тема, какой посвятила себя она, Лаура, и какую сейчас усердно ведет ее новый помощник. Но из самой этой темы призрачности Герда Семеняки не вывести. Буду думать не о физике явления, это потом, а о логике. Логика говорит, что привидение — нечто кажущееся, но вещественно в данный момент не существующее. Может быть, ударение нужно сделать на — “в данный момент”? Герд исследовал замедление и ускорение молекулярного времени. Что, если он нашел способ замедлить свое собственное биологическое время? Или, наоборот, — ускорить его? Тогда он выпадет из нашей сиюминутности, из нашего медленно передвигающегося вперед “сейчас”. Мы всегда в “сейчас”, он в прошлом или будущем. И тогда в наше настоящее время, в наше “сейчас” он может проникнуть лишь как бледный высвет из прошлого, лишь как призрачный отблеск из будущего. Выпадение из нашего времени превращает в тень, в силуэт, в привидение. Такова логика. Логика снова безупречна, физика опять возмущается. Подвести под логическое рассуждение физическую основу такова задача. Ее нужно решить.
И последнее. Для чего в их настоящем времени, в их “сейчас” появляется призрачная тень из прошлого или столь же призрачный силуэт из будущего? Решения возможны разные. Одно из решений — Герд захотел вернуться в наше время. Он ушел в иное время, это удалось. Теперь старается вернуться, и это не удается. Каким-то отчаянным усилием он вырывается в наше “сейчас”, но лишь частично — на большее, чем облик привидения, не хватает. Логически безукоризненно, но какой все же фантастической безукоризненностью!
— Лаура, можно вас отвлечь? — прогудел из соседней комнаты Питер. Полюбуйтесь на забавные превращения с клетками.
Она подошла и ужаснулась: он задал слишком большую трансформацию времени! Она собиралась постепенно создавать и усиливать разновременность отдельных элементов живой клетки, а он почти разорвал связь внутриклеточного времени. Практически клетки уже не существовали в “сейчас”, одни их составные элементы еще не выкарабкались из прошлого, другие уносились слишком поспешно в будущее. Питер ухмылялся. Он не из тех, кто чикается, он рубит с плеча. Он испытывает клетки на разрыв времени. Он хочет узнать, при какой разновременности клетка погибает. Его интересует граница биологического существования. Насколько жизнь крепка вот что он жаждет выяснить. Опыты, задуманные прекрасной Лаурой, дают удивительные возможности точно ответить на извечный вопрос вопросов: где граница между жизнью и смертью?
— Посмотрите, восхитительная Лаура, что получается в ваших экспериментах, если их, так сказать, по-настоящему пришпандорить! — восторженно грохотал Питер. — Клетка вот здесь, в сосуде, практически в едином времени не существует, половина ее заторможена в близком прошлом, половина угнана в недалекое будущее. А клетка живет. Связь времен не разорвана, время только растянуто, а не рассечено. Жизнь в разновременье, конечно, не конфетка, но она продолжается, так сказать, в призрачной своей консервации. Жуткая штука — биологическая жизнь! В каких переделках она способна сохранить себя! Какие испытания выносит, не уничтожаясь! Если мне кто теперь скажет, что жизнь — это штука хрупкая и деликатная, я плюну тому нахалу в глаза! Жизнь гибче резины, крепче стали — вот что показывает эксперимент с клеткой.
Лаура хотела резко оборвать восторженную речь Питера, сделать ему строгое внушение за нарушение режима. Но, бросив взгляд на одну из тысяч клеток, плававших в растворе, — эту клетку Питер поймал в микроскоп и цепко держал в поле зрения, — она сразу забыла о выговоре помощнику. В клетке было создано разновременье, регистратор показывал, что она реально и в прошлом и в будущем и что она еще продолжает жить — Питер точно описывал картину. Он только не указал, какова эта жизнь, которая не “конфетка”. Клетка не изменила ни размеров, ни габаритов, но потеряла телесность. Она была силуэтом, тенью бывшей клетки, она давала лишь абрис того, чем еще недавно была. Она существовала призраком самой себя.
Питер Юркин сиял. Он не сомневался, что обрадует Лауру.
— Вы даже не подозреваете сами, как важна ваша находка! — воскликнула Лаура. — Я говорю не о ваших философских обобщениях насчет природы жизни. Но на загадку привидений в нашей лаборатории вы бросаете верный свет!
7
Нужно было привести в систему мысли и наблюдения, потом предлагать решение. Лаура все снова и снова всматривалась в портрет Герда. Теперь ее связывало с этим человеком взаимопонимание: как будто постоянные мысли о нем, молчаливые разговоры с портретом сделали их близкими людьми. Ночами, одна, она беседовала с Гердом, он не отвечал, он не мог отвечать, он был призраком, но она понимала, что он рассказал бы ей, если бы сумел говорить, — ее захлестывало горячее желание помочь этому взбалмошному, доброму, бесконечно несчастному человеку.
“Ты влюбляешься в мужчину, с которым никогда не встречалась и который понятия о тебе не имеет!” — упрекнула она как-то себя. И ответила с вызовом: “Ну и что? И влюбляюсь! Пока не влюбилась, а влюблюсь. Он, этот превратившийся в привидение Герд, вполне стоит, чтобы в него влюбились!”
Ростислав Берроуз изредка бесстрастно осведомлялся, обнаружено ли что новое в шестой лаборатории, а Матвей Чернов каждый день бесцеремонно приставал: давайте, давайте, дорогая Лаура, как там, в “шестерке”, выкладывайте свои новости. От директора она отговаривалась, с заместителем огрызалась. Директор молчаливо вздыхал, заместитель смеялся — ну и штучка их новая сотрудница, такой на язык не попадайся!
Настал день, когда она решила объявить свои выводы и обосновать предложения.
— Приходите в лабораторию, — сказала она Берроузу и Чернову. Обсуждение лучше вести там. Я хочу, чтобы меня слушали не трое, а четверо.
— Кто будет четвертым? — придя в лабораторию, немедленно спросил Чернов: около хроноустановки сидела Лаура, а вокруг нее трое — Берроуз, Чернов и Питер Юркин.
— Четвертым будет, возможно, Герд Семеняка, — спокойно ответила она. — Я говорю “возможно”, а не определенно, ибо не знаю, способен ли он сейчас воспринимать наши речи. Но если такая способность у него есть, хочу воспользоваться ею. Раньше всего посмотрите, как выглядит живая клетка, в которой нарушена одновременность ее составных частей. Открытие сделал Питер, а я предложу вам выводы из его открытия.
— Итак, — продолжала она, — вы сами убедились, что некоторое растяжение времени в живой клетке, превращение времени из точки, называемой “сейчас”, в линию между неким прошлым и неким будущим, вовсе не предрекает ее гибели. Гибель наступает при разрыве, а не при растяжении времени. Зато привычные формы существования трансформируются. Клетка есть, и ее нет, она частично в прошлом, частично в будущем, частично в настоящем. Она превращается в призрак самой себя, в реальное привидение, она становится неким материальным фантомом. Я бы назвала явление, открытое Питером, фантомизированием клетки. И в этом процессе фантомизирования, считаю, нет ни мистики, ни мистификации, он основан на реальных физических основах — и потому физически реален.
Мне кажется, Герд в своих исследованиях открыл фантомизирование, говорила Лаура. — Он был блестящим экспериментатором, созданная им аппаратура свидетельствует об этом. И он был фанатиком науки, романтиком поиска, его безмерно увлекала мысль углубиться в тайны времени так далеко, как еще никто до него. Он поставил опыт на самом себе. Он фантомизировал себя после того, как убедился, что на элементарных клетках процесс фантомизирования проходит надежно.
Берроуз изменил своей обычной бесстрастности:
— Лаура, вы говорите ужасные вещи! Герд не просил разрешения на такие чудовищные эксперименты. И я никогда не дал бы его.
Лаура кивнула.
Герд знал, что разрешения не получит. Он захотел поставить неразрешенный эксперимент. Не он первый, не он последний, кто безрассудно жертвует собой в неутомимой жажде познания. В кабинете уважаемого директора Института Экспериментального Атомного Времени висит прекрасный портрет создателя института академика Чарльза Гриценко. Она позволит себе напомнить, что при жизни Гриценко три его сотрудника, хронофизики Павел Ковальский, Эдуард Барсов и Жанна Зорина, втайне от директора института, провели эксперимент над собой. Эксперимент окончился трагично — Ковальский погиб, Барсов превратился в инвалида. Только после гибели Ковальского узнали, какие опыты ставили эти трое. Строжайший запрет внеплановых исследований стал еще строже, но никто и не подумал отрицать, что научные результаты трагедии были очень высоки: именно тогда узнали, сколь эффективно можно воздействовать на биологическое время такого сложного организма, как человек. Герд Семеняка отлично был осведомлен и о научных результатах опыта трех хронофизиков и о несчастье, какое их постигло. Он не остановился перед возможностью гибели. Жизнь, возможно, показалась ему не столь важна, как те научные результаты, каких можно достигнуть, жертвуя ею. Думает, впрочем, что он не сомневался, что останется жив. И так подготовил процесс, чтобы большой угрозы жизни не представилось.
— Итак, Герд Семеняка фантомизировал себя, — продолжала Лаура. — Он при помощи хроноустановки изменил течение времени в клетках своего организма. Он, вероятней всего, хотел уйти в будущее, а потом, затормозив ход времени в себе, дождаться настоящего, которое равномерно двигалось к будущему. В этом случае он то исчезал бы, то появлялся — носился бы как на качелях между прошлым и будущим. Но задумка не удалась. Опыт Питера показал удивительное явление, оно-то и является ключом к происшествию с Гердом. Питер подал слишком большой потенциал на преобразователи времени, чтобы установить, где время в клетке разрывается. Но время не разорвалось, а растянулось, одни элементы клетки ушли в будущее, другие погрузились в прошлое. Равномерного движения — то назад, то вперед — не получилось. Да Питер и не добивался этого. Питер стремился создать разновременность в клетке, а не просто убыстрить или замедлить время. Но Герд и не думал разгармонировать свое биологическое время, он хотел лишь равномерно изменить его скорость. И создал в себе разновременность!
Именно в этот час, полностью уяснив, в какое впал отчаянное положение, он и написал записку, что запутался в экспериментах и намерен улететь на Землю отдохнуть. Он уже знал, что предстоит исчезнуть из “сейчас” и что его хватятся. Постороннее вмешательство могло страшно осложнить, а не помочь выпутаться из беды, — сообщение, что он на Земле, даст возможность без помех продолжать попытки самоспасения. Вот почему он и просил не отключать лабораторию от энергопитания — это-де погубит биологические растворы. Дело было не в простых биологических растворах, а в том чрезвычайно сложном биологическом объекте, который назывался Гердом Семенякой. Думаю, каждая следующая попытка вернуться в гармоничное время, в наше “сейчас”, лишь усугубляла беду. Разновременность все нарастала, Герда размазывало по разным временам, он был в прошлом, в настоящем, в будущем. И в каждом времени своей разновременности существовал лишь частично, а не целостно, лишь виделся в каждом из своих времен. Так он стал из тела привидением, так реальная жизнь превратилась в жизнь призрачную. Он стал призраком для прошлого, для настоящего, для будущего. А вы, обнаружив какие-то видения, отключили энергопитание и сделали невозможным возвращение к жизни: Герд замер в разновременном, верней, вневременном существовании. Он законсервировался в своем призрачном бытии. Так продолжалось два года, так могло продолжаться и сотню лет. Потом явилась я, было подано энергопитание, призрак ожил и опять продолжались попытки вернуться в свое время. Форсирование генераторов, которое чуть не привело к аварии, — одна из таких отчаянных попыток. Она не удалась. Все, что было под силу призраку, оставалось лишь призрачным усилием.
— Один вопрос, — деловито сказал Чернов. — Вот вы, дорогая Лаура, все твердите: призрак, привидение, фантом… Но, между прочим: прежние привидения, я имею в виду их средневековую разновидность, являлись испуганным людям в самых разнообразных видах: с лицами, глазами, фигурами, даже произносили речи и, по свидетельству древних, вполне разумные, не междометия: ах, ох, увы! Например, знаменитая тень отца некоего древнего деятеля Гамлета. Как она красноречиво выступала в своем саване, просто доклад держала! А в нашем случае? Жутко — скелет, и даже не целый, одна рука… Есть у вас, так сказать, научное объяснение такому вырождению современного призрака?
— Есть, — сказала Лаура. — Напомню, что Герд — разновременен. Если бы он мог полностью выявиться в одном времени, он перестал бы быть призраком. Но некоторые части его тела мало меняются от перехода из настоящего в будущее. Я имею в виду кости. Если бы они были из камня, то могли бы сохраняться неизменными даже миллионы лет. Герд является в виде скелета, потому что кость — единственное, что не меняется при близких преобразованиях времени. Реальная возможность Герду появиться перед нами предстать в облике скелета. И наверно, это тоже страшно трудно, ибо он ни разу не сумел этого полностью добиться.
Ростислав Берроуз, не спускавший с Лауры внимательного взгляда, медленно, словно прислушиваясь со стороны к своим словам, проговорил:
— Вы уже, стало быть, не думаете, что та страшная костлявая рука тянулась к вашему горлу, чтобы задушить вас?
— Нет, не думаю больше! — с волнением сказала Лаура. — Я знаю ваше мнение о Герде, как о добром, великодушном человеке. Я часто рассматривала его портрет — Герд выглядит именно таким, каким сохранился в вашей памяти. Он не может причинить зла. Он тянулся ко мне костлявой рукой… Я уверена, что он просил помощи! Он знает, что мы способны вызволить его, способны вернуть в нормальное существование.
— Вы в этом тоже уверены, друг Лаура?
— Да! Что нельзя совершить призрачной рукой, то вполне под силу обыкновенной человеческой руке. Друг Питер в опытах с живыми клетками проделывает и размазывание их в разновременность, и обратный сбор в единое время. Герд показал нам путь, когда пытался своей потерявшей телесность рукой форсировать генераторы атомного времени.
Чернов обернулся к директору и хотел что-то сказать, но Берроуз заговорил сам:
— Действуйте, Лаура. Питер будет вашим помощником, а я с заместителем окажем любое содействие. Если потребуется, все энергетические ресурсы Урании предоставим в ваше распоряжение.
— Осталось пять минут! — сказала Лаура.
Она не отрывала глаз от хроноустановки. По экрану стереовизора переваливался медведем лохматый Питер Юркин — он наблюдал в соседней комнате за генераторами, изредка поворачивал лицо и радостно улыбался: генераторы шли на неслыханной интенсивности. Питер успокаивал улыбкой сбоев нет, аварий не предвидится. Ростислав Берроуз с сочувствием смотрел на Лауру, она была очень бледна. Чернов молча переводил глаза с Лауры на стереовизор — на долю Питера выпала главная роль, он решал, удастся ли “скомковать разновременность в нечто единое”, так он сам сформулировал свою задачу.
— Есть пик нагрузки! — объявил Питер с экрана. — Начинаю отсчет три, два, один, ноль!..
Лаура вскрикнула. Посередине комнаты, у самой хроноустановки, закачался зыбкий, расплывчатый скелет человека. Лаура хотела кинуться к призраку. Чернов поспешно схватил ее за руку и оттащил к стене. К ним отошел и Берроуз.
— Вижу, вижу! — заорал с экрана Питер. — Секунда в секунду по расчету! Три минуты я удержу нагрузку, этого хватит.
Призрак менял облик. Скелет терял зыбкость, становился все устойчивей, на костях появились ткани, на голом черепе быстро вырастали волосы. Лаура не дыша глядела, как привидение становилось человеком. Чернов и Берроуз держали ее — один за руку, другой под руку, ее возбуждение тревожило их.
— Он, он, наш Герд! — восторженно прошептал Чернов, на громкое восклицание у него не хватило дыхания.
А Лаура увидела в оживающем призраке человека, в портрет которого так часто, с такой нежностью всматривалась.
Это было то же лицо — доброе, милое, немного наивное, какое-то радостно-растерянное.
— Готово, сбрасываю нагрузку! — крикнул Питер. — Еще хоть минуту опасно!
Преобразившееся в человека привидение зашаталось, раскинуло руки и повалилось на пол. Лаура вырвалась и подбежала к распростертому телу.
— Надо его поднять и перенести на диван! — крикнула она.
Чернов и Берроуз подняли Герда за плечи, подоспевший Питер подхватил ноги.
На диване теперь лежал нормальный человек, отнюдь не привидение. Он открыл глаза, губы его шевелились, он хотел говорить и не мог. Голоса не было, лишь по движению губ угадывалось одно, медленно повторяемое слово: “Спасибо! Спасибо!” Внезапно тело затрепетало и вытянулось, глаза закрылись, на щеки, только-только порозовевшие, легла безжизненная бледность.
— Он теряет сознание! — крикнула Лаура. — Прошу вас, дайте какое-нибудь лекарство! Питер, скорей вызовите врача!
— Лаура, Герд потерял не сознание, а жизнь! — скорбно сказал Берроуз. — Вы возвратили его к жизни, Лаура, чтобы он удостоился смерти.
Лаура лихорадочно хватала руки Герда, трясла его за плечо, гладила щеки — и ощущала, как все холодней становится тело, ставшее из привидения человеком.
— Вы возвратили ему одновременность всех клеток организма, — с печалью говорил директор института. — Вы собрали его в нечто целостное из разных времен. Но гармонизировать в этом новообретенном едином времени невозможно. Я это предвидел, но не хотел заранее вас огорчать. Успокойтесь, Лаура. Уход из своего времени кончается уходом из жизни. Против законов природы не пойти! Возьмите себя в руки, прошу вас!
Он все говорил. Лаура не слушала. Она плакала.
Коротко об авторах
АГЕЕВ Леонид Мартемьянович (1935–1991). Родился в Ленинграде. Окончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института им. Плеханова. Работал в проектном институте, участвовал в геологических экспедициях, в НПО “Рудгеофизика”. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал как поэт в 1958 году. Автор книг “Земля”, “Лица встречных”, “Мой человек”, “Заботы дня”, “Жизни — сорок сороков”, “Пора приобретений”, “Протяженность” и других.
Как фантаст дебютировал в 1977 году рассказом “Анюта”, опубликованным в коллективном сборнике “Кольцо обратного времени”. С тех пор им опубликовано несколько научно-фантастических рассказов в коллективных сборниках в периодике.
БАЛАБУХА Андрей Дмитриевич. Родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде. Работал топографом, инженером-проектировщиком, вообще сменил несколько профессий. С 1974 года — профессиональный писатель. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1966 году, участвуя в коллективной радиоповести ленинградских писателей-фантастов “Время кристаллам говорить”. Автор книг “Предтечи” (1978), “Люди кораблей” (1983) и “Нептунова Арфа” (1986), а также ряда повестей и рассказов, опубликованных в коллективных сборниках и периодике.
С 1970 года выступает также как критик. Ему принадлежит несколько десятков статей, обзоров, предисловий и так далее, частично, написанных в соавторстве с Е.Брандисом, А.Бритиковым, Вл. Дмитриевским и другими.
БРИТИКОВ Анатолий Федорович. Родился 1 февраля 1926 года в г. Артемовске (Бахмуте) на Украине. По окончании в 1950 году филологического факультета Одесского университета работал в газете “Черноморская коммуна”. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, куда и перешел на работу в качестве старшего научного сотрудника. Член Союза писателей СССР.
Автор монографий “Мастерство Михаила Шолохова” (1964) и “Русский советский научно-фантастический роман” (1970), а также глав и разделов в “Истории русского советского романа”, “Русском советском рассказе. Очерки жанра” и других трудах Пушкинского дома. Автор и соавтор множества статей, предисловий, обзоров по проблемам научной фантастики.
В 1973 году на совещании писателей-фантастов социалистических стран в Познани (Польша) за монографию “Русский советский научно-фантастический роман” А.Бритикову была присуждена международная премия.
ВАРШАВСКИЙ Илья Иосифович (1908–1974). Родился в Киеве. Окончил Высшее мореходное училище имени Макарова. Плавал судовым механиком, потом работал инженером-конструктором на заводе “Русский дизель”. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1929 году книгой “Вокруг света без билета”, написанной в соавторстве с Н.Слепневым и Д.Варшавским. С тех пор литературной деятельностью не занимался вплоть до 1962 года, когда первый его научно-фантастический рассказ был опубликован в журнале “Наука и жизнь”. Автор сборников рассказов “Молекулярное кафе” (1964), “Человек, который видел Антимир” (1965), “Солнце заходит в Дономаге” (1966), “Лавка сновидений” (1970), “Тревожных симптомов нет” (1972), “Сюжет для романа” (1990).
В 1963 году за рассказ “Индекс Е-81” И. Варшавскому была присуждена премия на международном конкурсе, организованном журналом “Техника — молодежи”.
ГАЙ Артем Ильич. Родился 16 сентября 1930 года в Харькове. По окончании в 1955 году Первого Ленинградского медицинского института им. акад. Павлова работал в Восточном Казахстане, служил на ККФ. Хирург, кандидат медицинских наук, в настоящее время — начальник легочно-хирургического центра МВД.
В литературе дебютировал в 1966 году на страницах журнала “Звезда” повестью “В полях, под снегом и дождем…”. С тех пор им опубликовано еще несколько повестей и рассказов в различных коллективных сборниках в периодике, а также книга “Всего одна жизнь”.
Как фантаст дебютировал в 1982 году повестью “Гук, Гиви и другие”, опубликованной журналом “Аврора”. С тех пор опубликовал еще четыре фантастических повести в коллективных сборниках и периодике.
ИЗМАЙЛОВ Андрей Нариманович. Родился 5 июня 1953 года в Баку. Работал гидрологом на научно-исследовательских судах на Каспии. В 1974 году переехал в Сосновый Бор и работал на ЛАЭС. В 1981 году заочно окончил факультет журналистики ЛГУ, работал в районных и многотиражных газетах, был консультантом по вопросам литературы Ленинградской писательской организации.
В литературе дебютировал в 1975 году фантастическим рассказом “Холодно — горячо”, опубликованным газетой “Балтийский луч”. С тех пор им опубликован ряд фантастических, сатирических и детективных повестей и рассказов в различных коллективных сборниках и периодике.
КУЖЕЛА Андрей Владимирович. Родился 4 мая 1955 года в Ленинграде. По окончании в 1978 году электромеханического факультета Ленинградского института авиационного приборостроения работал инженером-конструктором. Автор трех изобретений. В настоящее время — инженер-наладчик систем теплоснабжения.
В литературе дебютировал в 1982 году фантастическим рассказом “Вы странно развлекаетесь, мистер!”, опубликованным журналом “Техника и наука”. С тех пор им опубликовано еще несколько фантастических рассказов в коллективных сборниках и периодике.
ЛАРИОНОВА Ольга Николаевна. Родилась 16 марта 1935 года в Ленинграде. Училась в ЛГУ. По образованию — физик. С 1967 года — профессиональный писатель. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировала в 1964 году фантастическим рассказом “Киска”, опубликованным в коллективном сборнике Лениздата “В мире фантастики и приключений”. Автор книг “Остров Мужества” (1971), “Сказка королей” (1981), “Знаки Зодиака” (1983), “Соната моря” (1985), “Чакра Кентавра” (1989) и ряда повестей и рассказов в коллективных сборниках и периодике.
В 1987 году за книгу “Соната моря” О.Ларионовой была присуждена премия “Аэлита”, учрежденная Правлением Союза писателей РСФСР и редакцией журнала “Уральский следопыт”.
ЛОГИНОВ Святослав Владимирович. Родился 9 октября 1951 года в г. Уссурийске Приморского края. С 1952 года живет в Ленинграде. В 1973 году окончил химический факультет ЛГУ. Работал научным сотрудником, чернорабочим, инженером, начальником Бюро охраны природы на заводе, грузчиком, преподавал в школе. В настоящее время — профессиональный литератор.
В литературе дебютировал в 1975 году рассказом “По грибы”, опубликованным журналом “Уральский следопыт”. Автор книги “Быль о сказочном звере” (1990), “Если ты один” (1990) и ряда рассказов в коллективных сборниках и периодике.
РОМАНОВСКИЙ Борис Владимирович. Родился 4 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил Северо-Западный политехнический институт. Работал инженером в производственном объединении “Электроаппарат”. С 1986 года — профессиональный писатель. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1965 году как юморист. Обращался также к научно-художественной литературе, опубликовав книгу по истории мер “С метром по векам” (1983), и к научной фантастике, в которой дебютировал в 1969 году рассказом “Шутка”, опубликованным журналом “Аврора”. С тех пор в различных коллективных сборниках и периодике опубликован ряд его фантастических повестей и рассказов.
РЫБАКОВ Вячеслав Михайлович. Родился 19 января 1954 года в Ленинграде. По окончании в 1976 году восточного факультета ЛГУ работает научным сотрудником в ЛО Института востоковедения АН СССР, кандидат исторических наук, автор двадцати научных работ. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1979 году фантастическим рассказом “Великая Сушь”, опубликованным журналом “Знание — сила”. Автор книг “Очаг на башне” (1990), “Свое оружие” (1990) и ряда повестей и рассказов, опубликованных в коллективных сборниках и периодике.
В 1986 году за сценарий кинофильма “Письма мертвого человека”, написанный в соавторстве с К.Лопушанским при творческом участии Б.Стругацкого, В.Рыбакову присуждена Государственная премия РСФСР и Большой приз и Приз Международной ассоциации кинопрессы на кинофестивале в Мангейме (ФРГ).
СМИРНОВ Игорь Арсеньевич. Родился 25 марта 1928 года в селе Вогнема Кирилловского района Вологодской области. Окончил Ленинградское общевойсковое военное училище им С.М.Кирова. Восемь лет служил в Советской Армии. По увольнении в запас в 1954 году работал живописцем на Ленинградском фарфоровом заводе им М.В.Ломоносова, потом — художником-оформителем на одном из ленинградских автобусных предприятий.
В литературе дебютировал в 1973 году фантастическим рассказом “Близкая Со-Леста”, опубликованным в коллективном сборнике “Талисман”. С тех пор им опубликован ряд повестей и рассказов в различных коллективных сборниках и периодике.
СНЕГОВ Сергей Александрович. Родился 5 марта 1910 года в Одессе. По окончании в 1932 году Одесского химико-физико-математического института переехал в Ленинград, где до 1936 года работал инженером на заводе “Пирометр”. Был репрессирован и с 1936 по 1957 год работал на разных инженерных должностях в Норильском горно-металлургическом комбинате.
С 1957 года — профессиональный писатель. Живет и работает в Калининграде. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1957 году романом “В полярной ночи”, опубликованным журналом “Новый мир”. Автор многих повестей и романов.
К фантастике впервые обратился в 1966 году, когда в сборнике “Эллинский секрет” была опубликована первая часть его романа-трилогии “Люди как боги”. Автор книг “Люди как боги” (1971, 1982, 1986), “Посол без верительных грамот” (1977), “Прыжок над бездной” (1981), “Экспедиция в иномир” (1983), “Дом с привидениями” (1989).
В 1984 году за роман “Люди как боги” С.Снегову была присуждена премия “Аэлита”.
СТОЛЯРОВ Андрей Михайлович Родился 20 октября 1950 года в Ленинграде. По окончании в 1973 году биолого-почвенного факультета ЛГУ работал научным сотрудником в Институте экспериментальной медицины, а затем — в Институте геологии и геохронологии докембрия. Автор нескольких научных работ. С 1988 года — профессиональный писатель. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1984 году фантастическим рассказом “Сурки”, опубликованным журналом “Знание-Сила”. Автор книг “Аварийная связь” (1988) и “Изгнание беса” (1989), а также ряда повестей и рассказов в коллективных сборниках и периодике.
В 1990 году за книгу “Изгнание беса” А.Столярову была присуждена премия им. А.Р.Беляева, учрежденная Ленинградской писательской организацией и ЛНПО “Буревестник”.
ТАРУТИН Олег Аркадьевич. Родился 1 июня 1935 года в Ленинграде. По окончании в 1958 году Ленинградского горного института им. Плеханова работал на Крайнем Севере. Дальнем Востоке, участвовал в трех антарктических экспедициях. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1956 году стихами, опубликованными в журнале “Молодая гвардия”. Автор более десяти поэтических книг.
К фантастике впервые обратился в стихотворении “На соседней планете”, опубликованном альманахом “Молодой Ленинград” (1962). Из фантастических стихотворений и поэмы была составлена его книга “Зеница ока” (1979) — первый авторский сборник стихотворений фантастики в нашей стране. Дебютом в прозе явилась фантастическая повесть “Старуха с лорнетом”, опубликованная в коллективном сборнике “Белый камень Эрдени” (1982). Автор книги “Потомок Мансуровых” (1989) и ряда повестей и рассказов в коллективных сборниках и периодике.
ШАЛИМОВ Александр Иванович (1917–1991). Родился в Тамбове. В 1940 году окончил Ленинградский горный институт им. Плеханова по специальности инженер-геолог. Работал в геологических партиях и экспедициях в Средней Азии, на Крайнем Севере, в Карпатах, на Кавказе, в Горном Крыму. Преподавал в Ленинградском горном институте, в Польше, в Университете Ориенте на Кубе. Кандидат геолого-минералогических наук, автор и соавтор более чем ста научных работ. Действительный член ряда научных обществ. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1956 году рассказами, опубликованными в газете “Смена”. Ему принадлежат научно-художественные книги “Пульс Земли”, “Горный компас”, “На пороге великих тайн”, “Набат тревоги нашей”.
Первый фантастический рассказ — “Ночь у мазара” — был опубликован в 1959 году в одноименном коллективном сборнике. Автор сборников фантастических повестей и рассказов “Тайна Гремящей расщелины” (1962), “Когда молчат экраны” (1965), “Тайна Тускароры” (1967), “Охотники за динозаврами” (1968, 1970 и 1990), “Цена бессмертия” (1970), “Странный мир” (1972), “Окно в бесконечность” (1980), “Возвращение последнего атланта” (1983), “Тайна атолла Муаи” (1986), “Пир Валтасара” (1986).
ЩЕРБАКОВ Александр Александрович. Родился 28 июня 1932 года в Ростове. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина). Заведовал лабораторией в научно-исследовательском институте токов высокой частоты им. В.П.Вологдина. С 1979 года — профессиональный писатель. Член Союза писателей СССР.
В литературе дебютировал в 1962 году как поэт-переводчик. Переводил Л.Хьюза, В.Терьяна, Я.Райниса, М.Джалиля, Т.Суманена, В.Шульцайте, А.Навои, Р.Киплинга, Л.Кэрролла, Ч.Диккенса, Н.Готорна, М.О’Коннора и многих других.
Как фантаст дебютировал в 1973 году рассказом “Беглый подопечный практиканта Лойна”, опубликованным в коллективном сборнике “Талисман”. Автор книг “Сдвиг” (1982) и “Змий” (1990), а также повестей и рассказов, опубликованных в коллективных сборниках и периодике.
В 1983 году за сборник повестей “Сдвиг” А. Щербакову на состоявшемся в Любляне (Югославия) Восьмом конгрессе Европейского общества научной фантастики (ЕВРОКОН — УШ) была присуждена международная премия.
1
Историческая селенология — история развития Луны (в настоящее время существует в зачаточном состоянии).
(обратно)2
Керн — столбик породы — в данном случае льда, — извлеченный из буровой скважины.
(обратно)3
Гониометр — углоизмерительный кристаллографический прибор, позволяющий менять в различных направлениях положение кристалла относительно светового луча.
(обратно)4
Мезозой — мезозойская эра геологической истории Земли. В абсолютном летоисчислении — отрезок времени от 220 до 70 миллионов лет тому назад.
(обратно)5
Нестационарные — быстро протекающие, взрывного типа.
(обратно)6
“Из ничего ничего (не получится)”. (лат.).
(обратно)7
Нунатаки (эскимос.) — скальные выступы основания, поднимающиеся над покровными льдами в районах оледенения.
(обратно)8
Эта и следующая главки даны в переводе на русский язык и земные понятия.
(обратно)
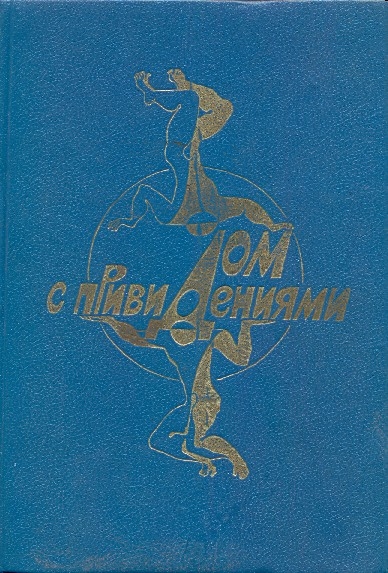

Комментарии к книге «Дом с привидениями», Леонид Мартемьянович Агеев
Всего 0 комментариев