Панасенко Леонид ТАНЦЫ ПО-НЕСТИНАРСКИ
«Умерла мать похороны 17 приезжай Захарий».
Пять страшных слов оглушили Лахтина.
Как реалист, привыкший понимать мир реально, он знал, что это когда-то случится. Но вот так — внезапно (ведь не болела ничем, не маялась), в разгар весны, которая преображает даже их несчастную Гончаровку, не дождавшись ни его приезда, ни его Победы… Как подло поступает жизнь, черт возьми! И как теперь ни оправдывайся, получается, что он кругом виноват. Не ездил, не помнил, даже с праздниками иногда забывал поздравить. Думалось: все исправимо, все впереди… Оказалось — все позади. Оказалось, что он бездушная, тупая, самодовольная скотина! И хоть лоб сейчас разбей, хоть закричи, зарыдай — ничего уже не изменить. Есть факт. Страшный факт, который выбил из-под ног почву. Все кренится, падает, рушится…
Окружающие предметы в самом деле заколебались, как-то расплылись. Лахтин вдруг понял, что это слезы. Катятся беззвучно из глаз, и нет сил ни ступить, ни позвать жену.
Тамара, обеспокоенная его непонятным молчанием, тоже вышла в прихожую. Она тотчас поняла — что-то случилось. Ваяла из омертвевших рук Сергея телеграмму, одним взглядом прочла текст.
— Господи! — Тамара растерянно перечитала телеграмму и первым делом спросила о том, о чем Лахтин строго-настрого запретил себе думать: — А как же твоя завтрашняя защита?
Он поднял взгляд — тяжелый, горестно-гневный, поморщился, будто жена сказала несусветную глупость. Губы у Лахтина задрожали — вот-вот заплачет.
— Иди в кабинет, прошу тебя, — горячо зашептала Тамара. — Пощади нашу Оленьку. Ты же знаешь ее нервы… Через два дня экзамен, а там аттестат. Ее нельзя сейчас травмировать… Приляг, Сережа, поплачь… Тебе надо все решить, обдумать…
Он лег. Послушно выпил валерьянку, которую принесла жена. Однако никакого облегчения не почувствовал. Сердце по-прежнему жгла боль, десятки провинностей вырастали до размеров горных вершин, грозились раздавить. Но больше всего его приводила в ужас необходимость выбора. Впрочем, о каком выборе может идти речь?! И все же… Да, он презирает меркантильность Тамары, однако завтрашняя защита его докторской диссертации, увы, тоже факт. И факт трудный. Можно, конечно, отменить или перенести даже коронацию, но это только легко сказать. На деле же… Большие дела всегда стоили, дорого. В смысле времени, усилий да, пожалуй, и денег. Приглашены нужные люди, заказан банкет на шестьдесят персон, все наперед оплачено. Как быть?! «Утром надо встречать в аэропорту академика Троицкого, затем оппонентов… И в то же время утром надо лететь домой. Конечно, Тамара все уладит лучшим образом: и встретит и извинится. Мол, такое горе. Все поймут… Однако год считай что потерян. Пока вновь заведешь, пока настроишь машину защиты… А мама — там… Одна! Нет, не может быть. Там дед Захар. Да и соседки посидят. Поплачут для вида, порадуются тайно, что не их, как они говорят, „господь призвал“…
— Понесли! — твердо сказал Захар мужикам. — Ночью только сволочей закапывают. Нельзя больше его ждать…
Они подняли гроб на плечи.
„До чего легонькая, — подумал Захар, поглядывая сбоку на спокойное лицо Жени. — Иссушила тебя жизнь, а когда — неясно. А ведь такой славной была. И в молодости, и даже когда Сережку женила… Правда, после этого уже лет двадцать прошло. Эх, Женька, Женька. Глупая твоя голова. Наши это годы были, наши, а ты этого так и не поняла. Теперь поздно переиначивать, а все же не стоил твой оболтус того, чтобы жизнь себе из-за него ломать. Вон даже на похороны не приехал, сынок называется…“
Захару показалось, что голова покойной качнулась, будто Женя хотела возразить, но не смогла. Он испуганно прервал мысленный разговор, поднял край гроба повыше.
Что он суется не в свое дело! Может, самолет опоздал или из-за дождя и вовсе полет отменили. А может, Сергей болен. Да так, что в дорогу не выберешься — всякое бывает. Дорога сюда неблизкая: почти тысяча километров до города да от города все шестьдесят. И хотя бы по шоссе, а то все проселками. Тоже можно застрять…
Захар на ходу поправил цветок, который все скатывался с подушки и закрывал от него лицо Евгении. Обугленное смертью, родное и уже незнакомое.
Захар то ли вздохнул, то ли застонал. Многое он на свете понимает, а вот почему их судьба развела? Кто тому виной? Наверное, все-таки он. Поехал на те чертовы годичные курсы, а Женька назло ему-замуж вышла. За Тимофея Лахтина, агронома из соседнего села. Он тоже психанул: за три дня уговорил, уломал соседскую Настю, тихую, хозяйскую девушку, косой своей еще тогда Настя славилась. Расплел он ей косу, да деток не пошло, а через два года грянула война. В один день они с Тимофеем на фронт уходили. Стоял он с Настеной возле сельсовета, а сам Женю высматривал. И высмотрел. Аж в груди у него заболело от ее взгляда. Не подошла», постеснялась. Слушала своего агронома, кивала, прощаясь с ним, будто чувствовала, что не вернется Тимофей с войны. А ему тем единственным взглядом сказала, что любит по-прежнему, приказала, чтобы выжил и вернулся. Он выжил и вернулся. Правда, после ранения, «комиссованный подчистую — при освобождении Киева ему прострелили легкое. Он первым из фронтовиков вернулся в Гончаровку — с двумя орденами и пустым вещмешком. Через месяц, как ни упирался, бабы избрали его председателем колхоза, и начал он как мог восстанавливать порушенное хозяйство, а там подоспело время сеять, и он сутками месил знаменитую гончаровскую глину, пропадал то в поле, то в районе… Как-то ему сказали, что Женя Лахтина заболела. Поздно вечером, возвращаясь с работы, он постучал в ее хату. Никто не отозвался. Он вошел в темные сени, нащупал клямку двери и, распахнув ее, встревоженно бросил, в темноту: „Ты дома, Женя? Отзовись“. Из угла, где — он помнил — еще до войны стояла кровать, послышался то ли шепот, то ли стон. Он пошел на звук, выставив, как слепой, вперед руки, опрокинул по дороге табурет и с одной горячечной мыслью: „Помирает!“ — стал искать Женю, но она нашла его первая — горячая, влажная, слабая. — „Ты вся горишь, — испуганно пробормотал он. Простудилась?“ Женя тихо и счастливо засмеялась. Привстав с подушки, она обвила его шею руками, с каким-то отчаянием и неженской силой повлекла к себе, повторяя, как безумная, одно только слово: „Родненький…“ Потом, задыхаясь и лихорадочно целуя его, попросила-открыть окно. И еще попросила: „Говори. Все, что хочешь, говори. На всю жизнь хочу тебя наслушаться…“ У него, помнится, кружилась голова, все казалось нереальным: холодная ночь за окном, полная луна, застрявшая в кустах сирени…
Захар качнул головой, отгоняя воспоминания.
Они вышли уже на взгорок, и надо было смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться в этой проклятой глине. Впереди за редкими кладбищенскими крестами замаячила фигура Хитрого Мыколы, который то ли стерег свою яму, то ли хотел прийти на поминки.
„Не скажешь, — мысленно упрекнул Захар Евгению, глядя на ее спокойное лицо. — Тогда не сказала, в сорок четвертом, а теперь и подавно…“
Странно тогда все получилось, непонятно.
Уже отсеялись, сады отцвели. А тут по селу новость: оказывается, по пути в часть Тимофей к Евгении заезжал. Всего на одну ночь. Поговорили, позавидовали ей солдатки, да и затихло.
А к осени вдруг расцвела Евгения, будто цветок. Округлилась, а живот сквозь все пышные сарафаны пробился и закрасовался, заважничал — ну настоящий тебе староста-арбуз на баштане. Не удержался Захар при встрече, спросил: „Кого ждешь, Женя, хлопчика или девочку?“ Сам же взгляд ее ловил, тайну хотел выведать. Засмеялась Женя: „Ой, Захар… Все равно одной грудью кормить… Я и вам с Настеной того же желаю“. Заступил он ей тогда дорогу, спросил, не скрывая муки своей: „Скажи правду, Женя… Я людей выспрашивал — никто не видел весной Тимофея… Скажи, чье дитя будет?“ „Я Тимофея видела, — твердо ответила Женя. — Понял?! В этом деле третий лишний, Захарушка“. И ушла, не рассеяв его сомнений, но закрыв ему накрепко рот — и тоном своим, и насмешкой, а больше всего упоминанием о Насте…
Тимофей так и не вернулся с войны. Женя говорила потом, что дослужился он до капитана, был много раз награжден за храбрость и сложил голову уже под Берлином. Сережа их рос застенчивым и молчаливым, много читал и до того был научен матерью чтить память отца, что, когда Захар через год после смерти Насти попробовал посвататься к Жене, весь в слезах убежал из хаты, пригрозив, что скорее утопится, чем будет жить у „дядьки Захара“.
…Гроб поставили на две табуретки. К Захару подошел председатель сельсовета Кузьма Сорока, кашлянул в кулак:
— Может, ты, Захар Степанович, слово скажешь? Тебе сподручнее — ты и председателем после войны был, да и соседи все-таки…
— Что говорить, — вздохнул Захар и посмотрел на вечернюю Гончаровку: не видать ли где машины, может, успеет Сергей попрощаться с матерью. Нет, не видеть…
Поразмыслив, Лахтин, покачиваясь, двинулся вдоль берега. К лагерю! Хватит ему на сегодня приключений.
Он шел эдак полчаса и вдруг провалился по грудь. Ил под ногами продолжал расползаться, и Лахтин инстинктивно рванулся к берегу. В следующий миг он понял свою ошибку — торфяная топь образовалась именно у берега, надо повернуть назад, к песчаной косе, по которой они бродили; Он заработал ногами, но даже зыбкого дна уже не было.
— Помогите! — крикнул он срывающимся голосом, чувствуя, как бурно испаряется его пьяная дурь, а на ее место ледяной струйкой вливается страх. Лес на берегу стоял совершенно незнакомый: гоняясь за рыбой, они, видно, порядочно прошли.
„Меня не услышат! — ужаснулся Лахтин, подрабатывая ногами, будто он бежал на месте. — Рядом никого. Голос потеряется в камышах… Господи! Только не это! Погибнуть здесь, в этой черной жиже?! Только не это!“
Он опять рванулся — теперь в противоположную сторону. Подгребал руками, извивался всем телом, однако продвинулся всего лишь на каких-нибудь полметра.
„Надо отдохнуть, — лихорадочно подумал Лахтин. — Если экономить силы, можно долго продержаться… Главное — не паниковать и беречь силы. Меня почти не засасывает. Хороший пловец из этой хляби легко бы выбрался. А тут трепыхаешься, как муха в варенье…“
Он на время затих.
И тут из сумрачной жижи глянуло на него знакомое лицо. Черное, однако не негроидного типа, с какими-то пронзительно-нахальными глазами. Поразили Лахтина и очки знакомого незнакомца — в белой, как бы раскаленной оправе резко контрастирующие с его гуталиновым лицом.
— Ты кто? — шепнул Лахтин, с трудом соображая, что у него начались галлюцинации.
— Я — это ты, — отчетливо и громко сказала черная рожа. — С перепугу себя не узнал? Не дрейфь, родственник, выберешься! Я твою судьбу наперед знаю.
— Бред! Чепуха! — мысленно взвизгнул Лахтин, цепенея от нового страха: он где-то читал, что к человеку на грани небытия приходят всяческие видения.
— Да Йегрес я, то есть Сергей в зеркальном прочтении. Мы с тобой двойники. И очень близкие соседи — живем в параллельных мирах, — заявило привидение.
— Антипод? — Лахтин снова отчаянно заработал руками и ногами, надеясь, что призрак исчезнет.
— Чего ты барахтаешься, дурачок? — Йегрес отступил. — Это ты антипод, а я нормальный человек, который многое знает и еще больше может. Я за тобой второй год наблюдаю. И удивляюсь. Бестолковый ты у меня родственник. Везде барахтаешься: в болоте, в жизни. Противно смотреть.
— Ну и проваливай отсюда, — обиделся Лахтин.
— Нет уж! — хохотнул Йегрес. — Пора все-таки тобой заняться. Для начала я тебя из болота вытащу, так уж и быть. А потом и по жизни поведу ровнехонько, красиво… Слушай, кабан, а ну дотянись вон до того камышового куста. Быстренько! Так… Теперь осторожно освобождай ноги, ложись, ложись, морда, не бойся воды, ложись… Вот так! Ладненько. Подтягивайся, да потихоньку… Потихоньку, тебе говорят, оборвешь все к чертям. Молодец! Захватывай левой стебли… Побольше! Ну, вот… А ты уже пузыри пускал.
Задыхаясь от напряжения, от страха сделать неверное движение, Лахтин попробовал стать и — о чудо! — ноги наконец нашли под илом желанную опору.
Рядом, ухмыляясь, стоял его двойник — Йегрес.
Пробуя дно и обходя подальше гибельное место, Лахтин пошел к берегу. По шишкам, по сучьям, даже по ржавым консервным банкам — он на все согласен, лишь бы не подступала ко рту черная булькающая жижа.
На лес уже пали сумерки. Лахтин вышел из воды и остановился, чтобы перевести дыхание. Его покачивало. Наверное, не так от выпитого, как от пережитого, потому что сердце все еще колотилось и земля плыла под ногами.
Чтобы не упасть, он ухватился за ветку.
— Слушай меня, — сказал черный человек. — Ты не обольщайся: писателя из тебя не получится. Хочешь жить как человек — иди к Миронову. В работу, особенно черную, не зарывайся. Поактивничай, побарахтайся на поверхности коллектива — у тебя это здорово получается. Запомни: будущий шеф твой чужого не любит, а увлечься может, и тогда будет тянуть все дело. Используй его. Голова у тебя хоть и пустая, но светлая. У тебя были стоящие идеи, но ты чувствовал, что разработка их тебе не по зубам слишком много работы. В КБ они пригодятся. Ты получишь статус „генератора идей“, а „негры“ все сделают за тебя. И не тяни с переходом. Твой захудалый научно-популярный журнал — пустой номер.
— Как ты со мной обращаешься? — Лахтин даже позеленел от злости. Какой-то бред ходячий, алкогольный фантом, а туда же — жить меня учит. Да пошел ты, образина, знаешь куда…
— Иду, иду, — засмеялся Йегрес. — Но ты, родственничек, берись за ум. И почаще заглядывай в зеркало. До скорого! — Он махнул рукой и поплыл, будто сгусток черного дыма, меж деревьев, в глубь острова.
К лагерю Лахтин шел напролом, чуть не бежал.
Первым, кого он встретил из своих, была Лена с охапкой сухих веток.
— Что с вами, Сергей Тимофеевич? — воскликнула она. — На вас лица нет.
„А у кого оно есть, девочка? — подумал с горькой иронией Лахтин. Маски, всюду маски… Если бы ты, девочка, увидела мое настоящее лицо, ты бы закричала от страха… Однако хватит. Занавес уже подняли… Маску мне, маску“.
— Послезавтра у Ольги выпускной вечер, — сказала за ужином Тамара. Представляешь?
— С трудом, — хмыкнул Лахтин и посмотрел на дочь. — Мы слишком молоды, чтобы в ближайшие два-три года стать бабушкой и дедушкой.
— Не надо было жениться на первом курсе, — заявила Ольга. — Сами виноваты. Если ваша ветреность передалась мне с генами — пеняйте на себя.
Лахтин невольно улыбнулся.
После его возвращения из Гончаровки жизнь в их семье надолго или нет, но изменилась. Уже многие годы каждый из них жил как бы сам по себе, а тут вдруг будто проснулись, устыдились своей отчужденности и стали стараться замечать друг друга. Конечно, у Тамары с Ольгой и раньше было больше общего. А вот его, как и многих, повлекла некая центробежная сила и при внешней незыблемости семьи увела совсем на другую орбиту… Вторую неделю Лахтин не мог встретиться с Лялей и с удивлением заметил: последнее время его стали слушать и жена и дочка.
— Ты, наверное, понимаешь, что в связи со смертью бабушки мы не будем громко отмечать твой аттестат, — сказала Тамара.
— А я, получается, бессердечная дурочка и требую банкета? Так, по-твоему?
— Извини, доченька, — Тамара продолжала поражать Лахтина своей необычайной кротостью. — Ты ничего не требуешь, но мы с отцом хотим, чтобы ты не дулась и не считала себя обиженной.
— Ну что ты, мама, — Ольга, по-видимому, тоже удивилась дипломатическому демаршу матери. — Мы с ребятами договорились посидеть у Славки Яковлева…
Лахтин про себя отметил, как часто они стали опаздывать в отношениях с дочерью: попросишь, а она, оказывается, уже сделала это; посоветуешь хмыкнет насмешливо, поздно, мол, или пожмет плечами: „Это и ежу понятно…“
— Так мне звонить Виктору Федосеевичу? — спросил Лахтин одновременно у жены и дочери, возвращаясь к первоначальному разговору. Виктором Федосеевичем звали декана физтеха, с которым Лахтин подружился, еще когда работал над кандидатской. О поступлении Ольги толковали уже не менее года, и Лахтин свыкся с мыслью, что этот вопрос придется решать ему.
— Знаешь что, отец, — сказала вдруг Тамара, — оставь ты эти мысли. У тебя и так, как я понимаю, забот хватает.
— К чему ты ведешь? — удивился Лахтин.
— Поступление Ольги я беру на себя, — заявила Тамара. И столько в ее голосе было уверенности, даже убежденности.
„Я, пожалуй, недооцениваю Тамару, — подумал он, глядя на жену, которая в это время разливала чай. — Бог мой, знал бы Гарик-идеалист, что из продавщицы, из гадкого-утенка, вырос лебедь от торговли — директор крупнейшего универмага. Можно сколько угодно изгаляться по поводу вещизма, но когда моралисту понадобится „настоящая вещь“, он все равно придет или к моей жене — с просьбой, записочкой, по звонку, или вынужден будет искать спекулянта…“
Лахтин в кои-то веки вспомнил, как года два назад он с женой выбрался в театр. На сцене было нечто заграничное, то ли притча, то ли сказка, кажется, „Продавец дождя“. Они ожидали в фойе звонка, пили коктейль, и тут он, раскланявшись с какой-то полузнакомой парой, услышал их перешептывание за соседним столиком: „Какой еще Лахтин?“ — „Да муж Тамары Михайловны! Той самой… Из универмага!“ Его покоробило тогда: он, ученый, чьи статьи уже были переведены на четыре иностранных языка, вдруг оказался в качестве бесплатного приложения к торговой гранд-даме.
„И все же, все же, — подумал Лахтин, допивая терпкий чай, — даже этот чай относится к пресловутому дефициту, и не мне, прирожденному потребителю, сокрушаться о падении нравов“. Как бы вклиниваясь в его раздумья, Тамара сказала:
— Кажется мне, что вы пообносились, ребятушки. Я вам кое-что принесла.
Она вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с двумя одинаковыми целлофановыми пакетами.
— Ой, мамочка, любимая! — завопила Ольга, бросаясь на свой пакет, будто котенок на клубок ниток или мячик. — Вельветки! Итальянские!
— Покорен… — веско сказал Лахтин, целуя жену в щеку. — Ты начинаешь нас баловать. Заметь: это приятно.
Если дома были тишь да гладь, то на заводе все обстояло гораздо сложнее. Вторую неделю Лахтина поздравляли с защитой. В руководящих кругах завода и в КБ, где он работал, на него смотрели странно. Некоторые, пожав руку, отводили глаза и говорили о его матери, о горе, которое надо пережить, вроде бы подбадривали, как водится в таких случаях. Однако были и такие, которые о смерти матери не знали, но глаза все равно отводили. Это настораживало. Доцент Никонов уже три года работал и жил в Новосибирске, а то произошло еще раньше, так давно, что Лахтин теперь даже затруднялся определить: было ли оно в самом деле или не было? Впрочем, ничего серьезного тогда не произошло — это уж точно. Он, помнится, давал группе Никонова нагоняй. Сам Петр Петрович отсутствовал — то ли болел, то ли уехал в командировку. Сергей уже сказал все, что полагается в таких случаях, выслушал соответствующие заверения и сел на стул за стол Никонова — передохнуть. На столе валялся разрисованный чертиками обрывок кальки. Он хотел смахнуть его в корзину с мусором, но споткнулся взглядом о бессмысленную фразу, даже не фразу, а четыре слова, наспех нацарапанные Никоновым, он узнал его почерк: „Может, кристалл надо бить?“ Бить? Кристалл? Что за ерунда? В их конструкциях уже лет десять кристаллы не применялись. Это анахронизм. Да и как бить? Что имел в виду Петр: механическое воздействие или магнитное поле?.. И вдруг Лахтин все понял и похолодел. Перед ним лежала готовая докторская диссертация. Да что докторская! Если идею сверхдальней связи удастся реализовать, будет все премия, избрание в академию, международные симпозиумы, интервью… Все! Стараясь оставаться бесстрастным, он скомкал обрывок кальки и незаметно сунул его в карман.
К концу недели он едва держался на ногах от усталости, так как ночи напролет просиживал над расчетами и прикидками будущей схемы. Он бы засмеялся теперь любому в лицо и с чистой совестью отверг бы любые обвинения — идея его, и только его! Он ее выстрадал, он ее осознал, увидел в пространстве и времени. Те четыре ничего не значащих слова? Нелепая случайность. Без него, без его разума они ничего не значат. Набор слов. Их мог сказать кто угодно, даже пьяный дворник.
Короче, к приезду Никонова, который так, наверное, ничего и не понял, в КБ только и было разговоров об открытии Лахтина. По распоряжению главного конструктора на него уже работали две лаборатории…
Так все получилось на практике. Лахтин только через полгода узнал, что Никонов переехал в Новосибирский академгородок, а узнав — не удивился и не обрадовался. Мало ли кто куда переезжает… Тревога, даже страх поселились в душе только за несколько месяцев до защиты. Как сейчас помнит: у него было какое-то большое совещание, в кабинет набилось человек пятьдесят, а когда все ушли, Лахтин вдруг обнаружил на своем столе старый, четырехгодичной давности номер „Физического журнала“ со статьей… Никонова о распространении волн в разных средах. В ней был намек! Вряд ли даже специальная экспертиза обнаружила бы сходство идеи Никонова и его работы, но Лахтин испугался. Откуда этот журнал на его столе? Кто-то случайно забыл или… подложили? В таком случае кто-то знает правду. А раз так, то ее могут узнать и остальные. Пойдут слухи или, того хуже, анонимка в ВАК… Он несколько дней не находил себе места. Затем навалились дела, заняли мысли, да и Йегрес помог: появился как-то на экране осциллографа, зеленый и едкий, обругал, назвал трусом и паникером и буквально потребовал выбросить дурь из головы. И вот все повторяется. Правда, защита прошла блестяще, ни слухов, ни анонимок после того случая не последовало, но почему, почему они отводят глаза? Сочувствуют его горю… или?
Дочь включила телевизор, позвала мать. Уже сообщали спортивные новости — приближалось время приключенческого сериала, в котором играл Высоцкий и который Ольга с Тамарой смотрели уже третий раз.
Лахтин вышел на лоджию, закурил. В полутемном дворе еще играли мальчишки. После дневной жары выбрались на лавочки возле подъезда престарелые соседки, которых Лахтин полупрезрительно называл „товарищеский суд“. Окна зажглись еще не все. По двору гулял голос спортивного комментатора, и Лахтин с улыбкой подумал, что вовсе не обязательно делать великие открытия или писать „Войну и мир“, чтобы прославиться и стать кумирам — достаточно несколько вечеров побыть Жегловым с его перехлестами и экранным надрывом… Впрочем, чему завидовать — слава ученых всегда было камерной.
За деревьями, на крыше подстанции он увидел огонек сигареты. „Вон куда пацаны забрались“, — подумал Лахтин, но в следующий миг то ли заметил, что мрак на крыше в этом месте гуще, то ли почувствовал присутствие двойника.
— Это ты, Злодей? — тихонько позвал он. — Лети сюда, поболтаем.
Черный человек отделился от крыши — Лахтин понял это по движению огонька сигареты — и стал наискосок подниматься вверх, к его девятому этажу.
— Привет, Чудовище, — сказал человек-призрак, зависая в пустоте возле лоджии, и Лахтину стало не по себе.
— Почему ты дал мне это прозвище? — спросил он. — В отместку?
— Ничего подобного, — возразил Йегрес и, чтобы не шокировать Лахтина, присел на перила лоджии. — Я в своем мире злодей, ты — в своем. Это если по большому счету, если обнажаться… А так мы вполне нормальные люди. Не воры и не бандиты, не дураки и не прожигатели жизни… Напротив, мы одни из движителей жизни, потому что прогресс держится на деловых людях. Мы тратим себя — свой ум, талант, время, но и требуем у судьбы вознаграждения. Мы иногда говорим ей: „Отдай то, что нам положено“.
— Мне кажется, ты преувеличиваешь мою роль, — возразил Лахтин. — Я больше слушаю. Это ты постоянно меня поучаешь, советуешь, даже требуешь, чтобы я сделал так или иначе…
— Самообман, — засмеялся Йегрес. Он затянулся, и в его жутковатых, белых зрачках на миг зажегся огонь. — Ты малость труслив, родственничек, и поэтому лицемерен. Нельзя быть одновременно сытым, то есть всем довольным, и честным. Тебе такая правда, конечно, претит, она чересчур голая, так даже говорят „голая правда“… Поэтому ты безумно рад, что у тебя есть анти-„я“, двойник, которого легко объявить черным человеком, воплощением зла и всего низменного, что живет в тебе. Ладно, Чудовище, я не обижаюсь. Таковы правила игры…
„А может, это в самом деле игра? — подумал Лахтин. — Параллельный мир, Злодей, наши разговоры с ним — все игра? Суперсовременная, в которой соединились бешеный прогресс и пошленький, дряхленький мистицизм. Игра в отпущение грехов. Очень удобная для жизни, выгодная. Может, я и впрямь Чудовище и занимаюсь откровенной спихотехникой и самообманом? То есть придумал себе козла отпущения, так называемого Черного человека, который якобы живет во мне. И я избавлен от ответственности за свои решения. А может, это я _черный_? — испугался он. — Нет, нет! Я не хуже других. Никаких подлостей я сознательно никогда не совершал. А что требую от жизни свое, должное мне, то в чем же тут грех? Все чего-то хотят, добиваются, куда-то стремятся… Такова природа человека…“
— С какой стати ты меня постоянно изобличаешь? — криво улыбнулся Лахтин.
— А с какой стати ты должен лгать самому себе? — парировал Йегрес. — Не забывай: я — это ты, а ты соответственно я. Уж мы сор из избы не вынесем. Выкладывай, зачем позвал.
— Я боюсь, что люди знают о… Никонове, о том клочке бумаги…
— Чепуха. Никто ни о чем не догадывается — я проверял. Даже сам Никонов не догадывается. Считает, что опоздал со своей идеей.
— Но они все… так смотрят, — пробормотал обескураженный Лахтин.
— На удачливых люди всегда смотрят о подозрением, — сказал Йегрес. Если ты не излечишься от страха, переходи лучше инженером в ЖЭК.
Лахтин посмотрел в колодец двора, образованный четырьмя домами. Туда уже натекло вечерней прохлады, и голоса стали глуше, умиротворенней. Сонными нахохлившимися птицами стояли внизу деревья. Утром — он знал включат полив, и весь двор наполнится шепотом живой воды и свежестью. Утром на черном вымытом асфальте будет стоять его белая „Волга“, и шофер Виктор, как всегда, включит негромкую музыку… Нет, переходить в ЖЭК определенно не хотелось.
— В селе ты советовал заняться делом, — напомнил Лахтин. — То есть развивать наступление, не успокаиваться… Дома я перетряхнул все блокноты, записи. Все, что было, ушло в диссертацию. Я пустой, Злодей. У меня нет никаких идей. Никаких! Даже завалящих…
Йегрес пожал плечами.
— Опять ты хочешь, чтобы я сказал то, о чем ты сам прекрасно знаешь. Наука — дело коллективное. У тебя нет идей, но есть возможность их реализовать. А у других идей больше, чем долгов перед получкой… Тебе пора забыть о славе Эдисона и заняться административной работой, а также сбором дивидендов. Идеи… Они растут у тебя под ногами, будто трава, надо только наклониться. Для начала помоги Вишневскому.
— Этому хмырю?! — удивился Лахтин. — Ни за что! Какая с него польза? Только и умеет, что ворчать и говорить людям гадости. Я вообще подумывал, как от него избавиться.
— Ты еще не таким хмырем был бы на его месте, — заявил двойник. Парень талантлив, а защититься не может. Сам знаешь. Девять лет мурыжится с кандидатской. Впрочем, какой там парень! Он на два года моложе тебя и до сих пор на побегушках. А ведь у Вишневского есть интересные работы. Ты знаешь это и боишься его: из него вырастет достойный соперник. И не только тебе или Фельдману, но и Главному.
— Значит, ты советуешь самому подставить шею? Пусть садится?
Йегрес презрительно фыркнул, пустил через ноздри фиолетово-сизый дым, почти невидимый в темноте.
— Опять ты боишься. Учти: люди это замечают. Они пока молчат, но вскоре пойдут упорные слухи, что Лахтин затирает молодых. Кто-то обязательно скажет: „Он боится“, — а там уж настанет черед смельчака, который рискнет заявить, что король-то голый.
— Странные у тебя методы, Злодей. Ты лечишь меня от страха страхом сам постоянно пугаешь.
— Клин клином вышибают, — Йегрес улыбнулся, обнажив крепкие черные зубы. — А Вишневского ты приголубь. Причем поскорее. Его осчастливишь и сам внакладе не останешься: у парня светлая голова.
Сумерки сгустились, и двойник Лахтина заторопился. Он вскочил с перил и вновь повис в пугающей пустоте.
— Ты обмозгуй мое предложение, — сказал он, — а я полетаю возле окон, посмотрю, как другие живут. Любопытные иногда картины можно увидать… Черный человек хихикнул и уплыл в сторону высотных зданий нового микрорайона.
Утром, приехав в КБ, Лахтин вспомнил: вот уже месяца полтора он не делал „обхода пациентов“. Это выражение он взял у Исая, который не реже чем раз в месяц наносил визиты нужным людям — „чтоб нас не забывали“, смеялся Исай, отмечая в блокноте, с кем надо встретиться лично, а кому достаточно позвонить по телефону.
Лахтин, взяв его систему, несколько усовершенствовал ее. Кроме „нужных и влиятельных“, он ввел в число „пациентов“ тех, кто мог впоследствии стать нужным или влиятельным. Он постарался изучить интересы и пристрастия этих людей, не говоря уже о слабостях. Жизнь есть жизнь. Один запомнит дружескую рюмку коньяка, другому приятно побыть с начальством на короткой ноге — и тут уж хочешь не хочешь, а играй демократа, третий помешан, скажем, на лошадях или автомобилях. И так без конца. В особых случаях Лахтин оказывал „знаки внимания“. Тому „выбьет“ путевку через завком, тому подарит блок „Винстона“ или японскую шариковую ручку… Кажется, мелочь, а человеку приятно…
Светлана, его двадцатидвухлетняя незамужняя секретарша, завидев Лахтина, поспешно закрыла ящик стола, в котором держала разные зеркальца, помады, пудры, и вскочила будто школьница при виде директора. На ее красивом, но уже немного испорченном косметикой личике появилась улыбка, в которой угадывалась тайная влюбленность в шефа и стремление выглядеть независимой и взрослой.
„Какая прелесть, — подумал Лахтин, оглядывая девушку. — Только позови, только разреши себя любить… Но нет! Сначала ей надо подыскать хорошую работу. В КБ или даже лучше — на производстве. Главное, чтобы подальше от меня. Затем выдать замуж… Впрочем, если она не глупа, это не обязательно… А уж затем…“
Он взял руку Светланы, как бы здороваясь, задержал в своей.
— Чего у тебя руки холодные? — спросил Лахтин и улыбнулся.
— Не знаю, — прошептала девушка.
— А почему у меня горячие — знаешь?
Светлана зарделась, потупила глаза.
— Догадываюсь, — еще тише сказала она.
Лахтин засмеялся и прошел к себе в кабинет. Впервые после смерти матери чувство вины не давило на душу, да и вчерашние страхи растаяли при свете дня: никто и ни в чем его не уличит, нет на нем настоящей вины, а мелкие грехи — у кого их нет?
„Обход пациентов“ Лахтин начал со своих двух коллег, таких же, как и он, заместителей главного конструктора, затем обошел всех главных специалистов, поздоровался с начальниками лабораторий, а трем руководителям групп, которые пользовались особым его доверием, рассказал по свежему анекдоту. Без четверти двенадцать он вышел к финишу — приемной самого Миронова, был обласкан секретаршей и через минуту-другую уже сидел в кабинете перед столом Главного.
— Вы знаете, Георгий Викторович, — не без грусти заявил Лахтин. — Я преступник. Да, именно я, это моя вина. — И тут же, чтобы его раскаяние не превратилось в фарс, перешел от „я“ к „мы“ и уже серьезно и обстоятельно доложил: — Мы проглядели Вишневского. Он давно перерос свою должность и уж, конечно, мог бы защититься лет пять назад…
— Вы не преувеличиваете? — поинтересовался Главный. — Что-то я не припомню за ним особых талантов.
— Поэтому и проглядели, — сказал Лахтин. — Я просмотрел его работы за последние три года и убедился, что это талант. Конечно, хаотичный, не всегда требовательный к себе, но талант. С ним надо работать, Георгий Викторович. Для начала, если вы не возражаете, я возьму его в свою лабораторию. Вот увидите: через три-четыре года из Вишневского получится как минимум отличный завлаб. Как минимум!
— Вы оптимист, Сергей Тимофеевич. — Главный пожал плечами. — Не возражаю. Тем более, что вам пора обзаводиться учениками.
Миронов помолчал, подвинул к себе красную папку, в которой — Лахтин это знал точно — подавались на подпись наиболее важные „исходящие“.
— Не хочу вас обнадеживать, — сказал Главный. — Конкурентов много, и работы их очень серьезные, но сам факт выдвижения…
Сердце Лахтина замерло. „Вот оно! Сбылось! — обожгла его радостная догадка. — Премия! Нет сомнений — речь идет о большой премии“.
— Лично я верю в ваш генератор. В наш генератор, — поправил себя Миронов. — Он заслуживает самой высокой оценки. Однако давайте не будем загадывать… Кстати, по поводу монтажа антенны я консультировался с вертолетчиками…
Дальше пошел обычный разговор, который Лахтин вел почти машинально. В сознании одно за другим вспыхивали не очень связные, но такие соблазнительные видения: текст постановления на газетной полосе, салон самолета, какие-то витрины, знакомый берег Пицунды, горка икры в хрустальной вазочке, зрачок телевизионной камеры… Отвлекаясь мысленно, Лахтин все-таки обсудил с главным конструктором все детали предстоящего эксперимента и даже подбросил идею, как ускорить монтаж антенны.
Выйдя от Миронова, он позвонил Ляле.
— Я дома, — сказала она. — Нет, не уйду. Я в отпуске. Завтра еду в Мацесту… Хорошо, приезжай.
Лахтин попросил Светлану позвонить попозже его жене и передать, что он срочно выехал на три дня на испытания, и снова зашел в приемную Главного.
— Если меня будет спрашивать Георгий Викторович, — сказал он секретарше Миронова, — передайте, пожалуйста: я в Москве, у академика Троицкого. У старика появились соображения по поводу моего генератора, конфиденциально добавил он, поцеловал Людмиле Павловне ручку и через несколько минут уже ехал в такси на Русановку.
В лифте, припоминая слова арии из „Пиковой дамы“, Лахтин вполголоса затянул:
Так бросьте же борьбу! Ловите миг удачи. Пусть неудачник плачет, Кляня свою судьбу…Он напевал прицепившийся мотив и в доме. Ляля улыбалась одними глазами, хотя терпеть не могла фальши, а Лахтин перевирал все подряд: слова, мелодию, даже интонацию, напирая всей мощью голоса на бедного „неудачника“…
— Посмотри пока перевод, — сказала она. — Я тем временем накрою стол. Ляля ушла на кухню. Еще с детдома, с тех давних пор дежурств по пищеблоку, осталась у нее неистребимая привычка кормить всех подряд — его, друзей и гостей, своих учеников, полусонную девицу, которую третий год безуспешно натаскивала по английскому языку для поступления в вуз. Лахтин знал: пока он не поест, не будет ни разговора, ни тем более нежностей. Это было нечто вроде обязательного ритуала, причем приятного» потому что Ляля всегда старалась угодить ему, — вот и сейчас из кухни плыли дразнящие ароматы, и Лахтин их с удовольствием угадывал: картошка, для которой на сковородке поспевают хрустящие шкварки, свинина в кляре, свежий дух молодой редиски, душистый кофе, а ко всему этому его любимый коньяк «Коктебель» золотистый, мягкий на вкус, разгоняющий в жилах кровь.
Он: посмотрел перевод статьи из американского специального журнала, который сделала ему Ляля, и в который раз подивился ее аккуратности и добросовестности: семнадцать страниц машинописи, четыре экземпляра — вдруг еще кому понадобится…
— Спасибо, Мышка! — крикнул Лахтин. — Ты; у меня все-таки разбогатеешь. Завтра же соберу все твои переводы, оформлю договор…
Он осекся. Ляля стояла в двери и улыбалась.
— Я слышу это третий год, — сказала она и вздохнула так, будто привыкла уже, что ее обманывают все, кому не лень. — Не забывай также, что завтра ты еще в… Москве. В лучшем случае ты оттуда можешь вернуться вечером. Проводишь меня на, вокзал — и… вернешься из Москвы.
— Нет! Нет и нет! — Лахтин закрыл ее губы поцелуем, затем заговорил с упреком: — Все, что угодно, только не уезжай. Зачем тебе эта Мацеста? Я специально придумал поездку, чтобы побыть с тобой, а ты… Та эгоистка. Мышка.
— Но я третий год не отдыхаю — как ты этого не поймешь? — удивилась Ляля. — Да и подлечиться надо.
— А село? — капризно заявил Лахтин. — Ты по полтора месяца торчишь каждое лето в селе, а мне здесь хоть стреляйся от скуки.
— Там моя жизнь, — тихо сказала Ляля. — Там мама и Димка… Мальчик и так растет без матери. Кстати, я решила в этом году забрать Димку. Он уже в четвертый перешел — парень самостоятельный, проживет как-нибудь…
— Да, да, конечно, — неизвестно с чем согласился Лахтин. — Тебе виднее, как поступить. Просто мне тяжело сейчас: смерть матери, эта проклятая защита, Ольгины экзамены… А к тебе вошел — и будто все хлопоты за порогом остались.
— Пошли к столу, — вздохнула Ляля.
Он угадал все, точнее, почти все. На столе не было только коньяка вместо него стояли две бутылки «Монастырской избы».
«Это даже лучше, — подумал Лахтин. — По такой жаре боржоми надо пить». Он с удовлетворением отметил: вода холодная, из морозилки. Но все равно заведенный ранее порядок был нарушен, а тут еще разговоры Ляли о сыне, о ее завтрашнем отъезде — все это вызывало легкую досаду и недоумение: ну почему в мире нет ничего постоянного, неизменного, почему и здесь от него чего-то хотят, тревожат душу, которая в данный момент просит и требует одного — покоя?
Поздно ночью, устав сам и утомив Лялю ласками, Лахтин подарил ей дежурный поцелуй и вышел на лоджию перекурить. За Днепром — темным и почти невидимым — светились огни центра. Все сегодня было почти как всегда. И все же он чувствовал: что-то не так. То ли Мышка стала другой, более отчужденной, то-ли ему самому начала надоедать эта многолетняя связь.
«А чего, это тоже не исключено, — беспечно подумал Лахтин. — Ничто не вечно под луной… Может, в самом деле Ляльке пора заняться воспитанием сына, а мне, скажем, немного согреть своим вниманием девочку с холодными руками?..» Он вспомнил, как они познакомились.
Утром того дня ему позвонил Исай.
— Привет, старик, — сказал он. — Ты не забыл, чем славен этот день?
Сергей машинально глянул на календарь.
«У Исая день рождения, — вспомнил он, — совершенно вылетело из головы».
— Будь моя воля, — засмеялся он, — я бы этот день сделал общесоюзным выходным. Короче, я уступаю тебе Ее! Вчера весь вечер прощался, вдохновенно солгал Лахтин, тотчас придумав, что он подарит приятелю.
— Ты что — Тамару решил мне подарить?! — загоготал Исай. — А я возьму. Я такой!.. Кстати, не забудь — я вас жду вдвоем. В семь вечера. Или сразу после работы подъезжайте — посмотришь кое-какие диковинки.
— Тамара на сессии, — не без удовольствия сообщил Лахтин. — Так что я сегодня холостякую. Берегись, Исай, я переполовиню твой гарем.
— Так с чем же ты прощался?
— Это называется — от сердца оторвал. Она черненькая и необычайно соблазнительная. Ты как-то даже обещался украсть ее у меня.
Исай застонал:
— Замолчи, убийца. Я, кажется, начинаю догадываться, кто она. Но если ты обманешь…
Сергей не обманул.
Он пришел чуть позже, расцеловал именинника и вручил Исаю черный томик Томаса Вулфа. Просвещенная часть гостей застонала — кто от зависти, кто от восхищения. У Исая, как всегда, собралась куча народу. Многих Лахтин знал, но были и новые люди. Он перезнакомился со всеми и тут же забыл их имена, выделив из «толпы» двух женщин, которые были как будто сами по себе. Одну — расплывшуюся и томную — он встречал у Исая не раз. Особа эта работала по соседству, в книжном магазине. Лахтину она с самого начала показалась исключительно глупой. Таких женщин он избегал, как бы сильно его ни тянуло к ним. Сегодня «тянуло» как никогда, но Лахтин решительно поставил в уме крест на хозяйке книжной подсобки. Другую, маленькую женщину он тоже видел у Исая на прошлогоднем дне рождения. Но тогда он был с женой, а значит, был совсем другим человеком, и — о господи! — не увидел ни ее милой сдержанности, ни чистых, не знающих помады губ, ни высокой груди, которая порядком захмелевшего Лахтина воодушевила.
Теперь у Лахтина появилась цель.
Исай понял приятеля, улыбнулся ему.
«Токуешь? — спросил он взглядом и так же безмолвно одобрил: — Давай, старик, у тебя получается».
Лахтину понравился этот способ общения. «Изреченное слово есть ложь», вспомнил он чью-то мысль и тут же решил, что попробует объясниться с маленькой женщиной без слов. К чему, в самом деле, слова? Ведь его сейчас не интересует ни родство душ, ни ее духовный мир… Пусть моралисты как угодно бранятся, но в нем вспыхнуло что-то плотское… Животный инстинкт… Пока жив человек, он будет иногда ощущать слепой и властный зов, заставляющий, например, сохатого идти напролом сквозь чащу, не замечая нацеленных в него винтовок…
Начались танцы.
Лахтин молча пригласил свою Цель. Ему повезло — музыка шла медленно, кто-то из гостей выключил верхний свет и зажег бра.
Цель была в руках. Ее волосы пахли то ли сеном, то ли ромашкой, и Лахтин удивился этому не городскому запаху. Он сразу же объявил свое отношение к маленькой женщине. Кроме того, он намеренно чуть сильнее, чем принято, привлек ее к себе. И никаких слов! Не надо лгать! Сегодня он принципиально не хочет никому лгать. Тем более своей маленькой партнерше.
Она почувствовала его необычайную настойчивость, подняла взгляд. Лахтин этого только и ждал.
«Здравствуй, радость моя! — сказал он ей глазами. — Здравствуй, милое создание. Ты знаешь, древние боги специально придумали танцы, чтобы посылать любящих в объятия друг другу. Смотри, смотря неотрывно! Ты видишь, сколько в моих глазах обожания? Они уже устали ласкать тебя, мой зверек с шелковистой кожей».
«Чего ты хочешь?» — спросили ее карде глаза, а губы чуть дрогнули в улыбке.
«Тебя! — воскликнул Лахтин без слов. — Сейчас! Моя душа рядом с тобой еще с начала вечеринки. Не прогоняй ее, пожалуйста… Ты слышишь ее прикосновения? Они смущают тебя? О, я уже не властен над своим посланником…»
— Ты чего Лялю гипнотизируешь? — толкнул его Гордеев и засмеялся. Смотри, Удав! Не обижай нашего Кролика?
Маленькая женщина тоже засмеялась, покачала головой. Было непонятно, что она отрицает: шутливые опасения Володи Гордеева или страстные призывы Лахтина, которые он, увлекшись игрой, пытался выразить без слов.
И все же какая-то искра проскочила между ними. Неимоверно долгий, будто затяжной прыжок с парашютом, танец кончился. Сергей на минуту оторвался от Ляли, залпом выпил два бокала вина и вновь вернулся к ней. Они начали танцевать, даже не заметив, что музыки толком еще нет — магнитофон включали, переключали, меняли кассеты. Ляля тоже теперь неотрывно смотрела на Лахтина. Они топтались, едва передвигая ноги, возле открытого балкона, откуда в комнату заглядывала майская ночь и пахло цветущей вишней.
«Какая ты красивая, — безмолвно рассказывал Ляле Лахтин. — Ты молчишь и становишься поэтому еще красивее. Я устал от слов. Губы, глаза, руки… Они надежней и искренней, что бы там ни лепетали ханжи. Уведи меня отсюда, милая. Но только не нарушай правил нашей игры. Не разрушай молчания. Ведь может статься, что слова твои окажутся самыми обыкновенными, и тогда померкнет это сияние, любимая, которое исходит от тебя. Все померкнет. Ты станешь такой же занудной бабой, как моя Тамара… Понимаешь»?
Маленькая женщина кивнула: «Понимаю». Затем она куда-то ушла. Лахтин обеспокоенно бросился в спальню, где Исай показывал слайды зимнего восхождения на Казбек, заглянул на кухню. И вдруг увидел Лялю рядом с собой — в коридоре, возле вешалки, уже с сумочкой в руках.
«Она уходит, — ужаснулся Лахтин. — Что делать?»
Пока он искал в прихожей свой кейс, Ляля вышла. Он выскочил на площадку и увидел закрывающуюся дверь лифта. Не раздумывая и секунды, он ринулся вниз, перепрыгивая через три, а то и через четыре ступеньки. Лахтин чувствовал, что успеет, и успел. Маленькая женщина садилась у подъезда в невесть откуда взявшееся здесь в это позднее время такси. Он толкнул ее плечом и буквально упал рядом на сиденье. Сердце бешено стучало, и Лахтин с беспечной улыбкой подумал: хорош же будет он как соблазнитель, если сейчас его прихватит приступ тахикардии. Он даже глаза прикрыл, чтобы совладать с собой и погасить возбуждение, вызванное обильной выпивкой. Ляля что-то сказала водителю — по-видимому, адрес. Он на ощупь нашел ее маленькую руку, накрыл своей, стал благодарно и нежно прикасаться к ее детским мягким пальчикам, гладить их.
Ехали минут десять. Затем машина остановилась. Лахтин механически открыл дверцу и вышел на улицу, не выпуская руки маленькой женщины. Его не интересовало, где они находятся, куда идут, зачем. Пока нет слов — все правда, все легко и осуществимо.
Заурчал лифт, вознося их на какой-то этаж.
«Вот видишь, — говорил он Ляле глазами, пока они ехали. — Так просто и славно. Ты научилась моему языку, правда? Ты почувствовала себя маленьким зверьком с шелковистой кожей? Свободным и потому счастливым. Иди же ко мне, кареглазый зверек! И будь, пожалуйста, смелым. Свободные — это и есть смелые…»
По тому, как маленькая женщина открывала дверь, Лахтин понял: в квартире никого нет. Там мрак и доверчивость. Да, да, доверчивость ночное существо…
Они поспешно вошли в квартиру. Дверь хлопнула, защелкнувшись сама собой. Лахтин тут же привлек к себе Лялю, боясь, что она зажжет свет и все, все испортит. Он нашел ее губы — податливые, чуть сонные. Кейс выпал из рук. Сергея качнуло. Он потянул «молнию» ее платья. Ляля как-то странно шевельнула телом, и одежда ее, будто кожа линялой змеи, с тихим шорохом упала на пол…
Несколько месяцев спустя Лахтин как-то заехал в «Букинист» и встретил там Исая. Поговорили о книгах — кто что достал. Затем Исай сказал с улыбкой:
— Мало того что приходишь в мой дом, ешь, пьешь, так еще и воруешь женщин из моего гарема?
— Она была твоей? — вздрогнул Лахтин.
— Да нет, старик, не пугайся, — засмеялся Исай. — Вижу, у вас что-то клеится?
— Ты же знаешь, — отшутился он. — Не я придумал: большие женщины для работы, маленькие — для любви.
Исай работал хирургом на «Скорой помощи» и идеально вписывался в лахтинскую модель межличностных отношений.
Правило «чем меньше общего, тем лучше дышится» Лахтин выработал еще на первом курсе, сразу же после свадьбы. С одной стороны, чтобы рассеять собственные опасения (а они хоть и смутные, но были), с другой, чтобы ответить на снабженный добрым десятком извинений, но все-таки бесцеремонный вопрос Гарика-идеалиста: «Старик, а это ничего, что вы такие… разные? Ты — физик, Тома — продавщица…» Он объяснил тогда Гарику, что и жена и друзья должны заниматься на работе чем угодно, но только не тем, чем ты. Только тогда это будут в самом деле личные отношения. Из них в этом случае исключается возможность расчета и мелкой зависти, соперничества и подсиживания, осознанного и неосознанного воровства идей. «Итак, — заключил Лахтин, — давайте не будем смешивать. Друзья — для дома и для души, товарищи — для ума и работы». — «А кто же, например, я для тебя?» — растерялся Гарик-идеалист. «Лишний человек, засмеялся Лахтин. — Классическое определение». Шутка оказалась пророческой. Их дружба вскоре приказала долго жить, причем так тихо и естественно, что Лахтин даже не заметил, когда это произошло.
С Исаем его свели приступ тахикардии и любовь к книгам. Приступ был нелепый, как-то вечером он засмеялся, и сердце вдруг задергалось, задрожало, будто заячий хвост, стало трудно дышать. Тамара, недолго думая, вызвала «неотложку». Приехал сравнительно молодой врач, сделал укол, посоветовал, как можно сбить учащенный ритм без помощи лекарств. Пока говорил, откровенно жадным взором шарил по стеллажам в кабинете Лахтина: выделил сразу «Дневник» Жюля Ренара и двухтомник Джерома, поинтересовался, где и почем он брал Булгакова. Лахтин почувствовал родственную душу. «На черный рынок в воскресенье сходишь, цены услышишь, вот тебе и приступ», пошутил он. Исай оказался знатоком в этом вопросе. Он тут же сказал, что это пока цветочки: книжный бум, мол, впереди, — и будто в воду смотрел. Сошлись они и на фантастике. Лахтин показал библиотечку отечественной и зарубежной фантастики, которая насчитывала около пятисот томов, похвастался тремя своими рассказами, опубликованными в журнале. Исай согласился: труд писателя заманчив, но уж очень зыбкий, даже настоящий большой талант не гарантирует ни денег, ни тем более признания. «Как хобби это прекрасно, — засмеялся он, выслушав признание Лахтина о его публикациях в журнале. — Но для профессии — жидковато».
Ему и только ему сказал Лахтин на какой-то гулянке об Йегресе.
— По-видимому, это результат моего увлечения фантастикой, — предположил он, заканчивая свой рассказ о приключениях на острове. — Я пару лет назад даже повестушку хотел написать о «черном человеке». Но потом раздумал. Скажут еще, что у Есенина содрал. Это первое объяснение.
— А второе? — спросил, улыбаясь, Исай.
— Ты знаешь, существует гипотеза, что параллельные миры в самом деле возможны. Я как физик…
— Старик, — перебил его Исай, — гипотез тьма, а истина всегда конкретна. Есть еще одно объяснение: элементарный схизис, то есть шизис. Раздвоение личности.
— Ты что?! — возмутился Лахтин. — Я вполне нормальный. Да и откуда, почему?
— Вот уж этого не знаю. Может, и фантастика повлияла… Плюс большая доза алкоголя… Да ты не переживай, старик. — Исай обнял Лахтина. — Мы все немного чокнутые. Абсолютно нормальных людей сейчас нет — наукой доказано.
— Это опасно? — Лахтин уже успел испугаться.
— Не думаю. — Исай пожалел, что напугал приятеля. — Если хочешь, устрою тебе консультацию. У меня в шестнадцатой знакомый психиатр работает. Во-о-от такой мужик! Правда, тоже чокнутый — фразы сочиняет. Те, что «Литературка» печатает. То есть его не печатает, я вообще… — Исай запутался в словах, махнул рукой и предложил: — Пойдем лучше выпьем за твоего двойника.
— Это идея! — обрадовался Лахтин. — Подумать только! — захохотал он. Чокнутый психиатр. За это, право, стоит выпить.
Финал разговора, как ни странно, успокоил Лахтина. Так уж вышло, заключил он, что переход из журнала в заводское КБ совпал с появлением в его жизни двух новых и очень важных для него лиц — эфемерного наставника и маленькой женщины.
Как-то Лахтин записал в блокноте: «Почти одновременно жизнь подарила мне свой Дух и свою Плоть. Это ли не счастье?!»
И вот сейчас, по прошествии лет, потягивая на чужой лоджии сигарету и глядя на ночной город, Лахтин вдруг с грустью понял, что он не напрасно тогда поставил в конце, может быть, чересчур пышной, но в общем искренней фразы знак вопроса. Это не есть счастье. Плоть наскучила, а Дух в образе Злодея удручает.
«Все-таки жизнь — это бег. Даже когда не хочется бежать, — подумал он, нервно закуривая новую сигарету. — Вопрос только в том, куда и зачем бежать. Тысячелетний вопрос… Если моя борьба с Йегресом (или его со мной) — болезнь, то все не так уж безнадежно. Ведь я, получается, сознаю свою порчу. Но если это игра… — Лахтин мысленно споткнулся. Он на миг испугался такого предположения, но тут же высмеял себя. — Ну и что, если игра?! В любом случае это попытка разобраться в жизни, в своей душе и судьбе. И не только в своей. Таких, как я, рефлексирующих, сейчас полмира. И что плохого в том, черт побери, что мы пытаемся понять себя и мир, что мы мучаемся своими сомнениями и противоречиями? Гораздо страшнее те, кто не прав, но уверен в своей правоте. Вот уж кто есть самые настоящие чудовища».
Однажды Лахтин ездил в Болгарию, где видел хождение по огню. Водил на зрелище его знакомый журналист и писатель Святослав. Он же познакомил со знаменитой нестинаркой Невеной, которая во время их необязательного разговора вдруг куда-то исчезла и вернулась, лишь когда заиграли волынки. Это уже была другая Невена. Где-то остались ее европейская одежда, обыденность манер. Полузакрыв глаза и раскинув руки, в расшитой рубахе до колен, она стремительно прошла через живой коридор и так же легко и естественно, как шла, ступила в огненный круг.
О как кроваво и грозно пылали угли громадного кострища. Как неистовствовала музыка. Как летела Невена — все по кругу, по кругу, быстро-быстро и… безмятежно. Казалось, сейчас вспыхнет ее белая рубаха, вспыхнут волосы… У него сжалось сердце. То ли от мистического ужаса, лохматого и первобытного, обитающего на задворках души, то ли от восхищения и желания самому ворваться в огненный круг. Да, да, какой-то голос нашептывал тогда: иди, взлети над пламенем, это возможно, не трусь! Эх, Невена, Невена!
Лахтин судорожно вздохнул.
«Вся жизнь — это танец по-нестинарски, — подумал он. — Бег по огню. Чем не образ современной жизни — ее насыщенности и темпа? Когда не то что остановиться — с круга сойти нельзя. И опять тысячелетний вопрос; зачем, во имя чего? Каждый в эту пляску вкладывает свой смысл. Один сгорает, создав космический корабль, другой — рухнув на угли. С кем же я — Сергей Лахтин? С кем веду свой единственный танец? И во имя чего?»
Он закурил третью сигарету.
На душе было до того скверно, что дай Лахтину пистолет — и он бы застрелился. Прямо тут, на лоджии у Ляльки. Так ему казалось по крайней мере до тех пор, пока сырой ветер с Днепра не загнал его в комнату.
Захар выпустил корову, и она ушла, подымая красную пыль, к выгону. Когда-то, еще до войны, он тоже пас Череду, и Настя гоняла, и Женька, и так же немилосердно к середине лета сохла трава — коровы поэтому держались поближе к старым вербам.
«Странно все-таки мир устроен, — подумал Захар. — Выгон на месте, и вербы там торчат, и трава растет. Ставки тоже не изменились — может, только больше берега заросли. А вот Насти моей давно уже нет. И Женя ушла. Да и мои следы теперь сразу стынут… Говорят: человек — хозяин природы. То есть всего мира. — Захар даже головой покачал. — Сильно оно сомнительно… Все остается, все живет, а человек уходит, не успев даже понять, для чего жил. Какой же он хозяин?.. У других, правда, дети, внуки, род получается, смысл. Не получилось у нас с Настей ребенка. Теперь уже не поправишь…»
Мимо хаты, ковыляя по колдобинам, проехал автобус.
«Пора, однако, за работу браться». Захар вздохнул и понес под навес реечки, отшлифованные с вечера наждачной бумагой. Он и раньше делал ульи, но один или два, не больше, так как считал работу эту деликатной и тонкой. Пчела хоть и не умеет говорить, но существо, вне всяких сомнений, разумное. Этот заказ был особым. Правление колхоза решило расширить пасеку и заказало Захару шестнадцать двухкорпусных ульев. Про сроки не договаривались. Однако председатель повернул дело так, что теперь Захар сам себя подгонял. И хитрости вроде молодой председатель не применил. Просто уважение высказал и свою начальственную гордость как бы-чуть принизил. «Про то, сколько времени вам на работу понадобится, — сказал при всех членах правления, — мы с вами, Захар Степанович, договариваться не станем. Вы в селе первейший хозяин. Поэтому сами понимаете: чем раньше мы нашу пасеку на ноги поставим, тем раньше и мед гончаровский потечет…» Вот так повернул дело председатель. Хошь не хошь, а должен теперь Захар стараться и поспешать.
— Стараешься?!
Хитрый Мыкола будто из-под земли объявился. Захар кивнул, здороваясь, потому что помнил добро. Всякое. И платное и бесплатное. Червонец — не деньги, а в день похорон Жени здорово ему Мыкола прислужился.
Захар сгреб с верстака пахучие стружки, кивнул гостю: присаживайся, мол, больше негде.
Мыкола садиться не стал. Он достал из кармана грязно-серых штанов бутылку «Яблочного» и поставил ее на верстак. Захар улыбнулся, покачал головой. Недаром все-таки Мыколе прозвище дали: мудрует что-то, а зачем? Ведь все село знает, что он, Захар, среди бела дня без повода пить не станет. Тем более эти поганые «чернила».
— Ты, Захар, натуральный человек, но, я вижу, без понятия, — обиделся Хитрый Мыкола. С одной стороны, он как бы делал Захару комплимент, потому что слово «натуральный» у него было выше всех похвал, с другой, заявляя о «понятии», рисковал. Захар был такой простой, что мог и со двора погнать.
— Ты меня должен в хату позвать, закусь какую-нибудь натуральную предложить, — гнул свое Мыкола. — Я ж к тебе не просто так, за здорово живешь… А бутылку прихватил, чтоб конфуза не получилось. Вдруг, думаю, у тебя ничего согревающего нет.
Захар, не понимая, к чему гнет Хитрый Мыкола, отложил рубанок.
— Помянуть надо душу, — бесхитростно сказал тот. — Душа светлая была. Да и вроде не чужая тебе.
«Сегодня же сорок дней, — вспомнил Захар, и взгляд его обратился к околице, где за редкими деревьями и хатами на взгорке было видно кладбище. — Обычай, может, и пустой, но не мне его отменять. А Женю я каждый день поминаю. Не горькой водкой, а горькой думкой…»
Он кивнул, показывая, что все понял и согласен с Мыколой:
— Пойдем в хату, сосед.
Хитрый Мыкола жил аж возле первой бригады, рядом с кирпичным заводом, но Захар почти всех в селе называл соседями, а кого не называл, значит, не уважал или недолюбливал.
Захар поставил на стол еще теплую картошку, которую варил утром, помыл редиску и зеленый лук, затем большими кусками нарезал сало. Хотел еще открыть рыбные консервы, но Мыкола сказал, что в поминальном деле еда не главное, и он отложил банку в сторону. Достал из шкафчика бутылку, разлил в стаканы. Молча выпили. Захар захрустел пучком лука, аж тот слезу у него вышиб, хотя Мыколе показалось, что лук тут вовсе ни при чем. Покурили.
— Сережка небось переживал, что не успел с матерью попрощаться? — начал было Хитрый Мыкола, но Захар вместо длинного разговора обронил только: «Не его вина» — и налил по новой.
Теперь закусывали обстоятельно. Мыкола, позавидовав вслух столярному умению хозяина, выразил потом сомнение:
— Ульи ты, конечно, сделаешь натуральные. Но вот где пчеле кормиться ума не приложу.
— Это председателя забота, — ответил Захар. — Он у нас на агронома учился, пусть теперь сеет медоносы… Сад вон еще колхозный подрастает.
— И то так, — сказал Мыкола. — А помнишь, после войны ни одного тебе деревца в Гончаровке не осталось. Все на топливо, пошло. Зимы лютые, а на глине сама по себе и акация не вырастет.
— Скудные у нас места, — согласился Захар. Разговор мало-помалу наладился — неспешный, обо всем, кроме той, кого поминали: Мыкола сообразил, что не понравятся хозяину хаты слова про Евгению — какие бы они ни были.
Когда ближе к вечеру показалось дно второй бутылки, Хитрый Мыкола вспомнил о своем «Яблочном» и предложил его открыть. Захар отказался. Он как будто и не пил вовсе — только еще задумчивее стал да курил теперь чаще.
— Так я дома употреблю. За твое здоровьице.
Мыкола спрятал вино в карман и, чтоб Захар не передумал, стал прощаться. Его малость развезло. У калитки, которую Захар открыл, Мыкола долго соображал, чем бы отблагодарить хозяина за угощение. Затем приобнял Захара, сказал:
— Люди, может, и смеются, но я, пока глина сухая, опять себе место заготовил. Как-никак, Захар, мне пятьдесят восемь, всякое может случиться… Тебе тоже порядком годков настучало. А смерть — она, дура, слепая. Поэтому нам друг за дружку надо держаться… Я беду, конечно, не кличу, но случиться может всякое.
— Ты ясней, Мыкола, — попросил Захар. — Я не дипломат. И ты тоже. Говори, что думаешь.
— Я к тому разговор веду, что ты натуральнейший человек. — Мыколу качнуло, и он придержался за калитку. — Уважаю я тебя, Захар. А потому говорю: ежели вдруг тебя бог раньше призовет, то я тебе яму свою уступлю обещаю! И без всяких там денег. Понял?!
— Понял, сосед, понял, — улыбнулся Захар и легонько подтолкнул гостя. Только я помирать пока не собираюсь и тебе не советую. Иди домой, Мыкола, а то твоя Катря заругается — на цельный день, скажет, пропал.
— Я т-тоже не собираюсь!
Хитрый Мыкола решительно отпустил калитку, махнул рукой, то ли прощаясь, то ли удерживая равновесие, и пошел-поплыл по вечерней улице немного зигзагами, но не очень, будто обронил что-то и теперь искал в дорожной пыли.
Захар вернулся в хату, включил свет, а чтоб не заскучать после живого человека, включил еще и радио. На душе было муторно. По-глупому он утром горевал. Все уходит — таков закон. Выгон, например, только кажется прежним. Все в нем поменялось: и трава, и вода в ставках, и вербы — одни усохли, другие выросли. Уходит — и должно уходить. Иначе новому места не будет. Плохо другое. Плохо, что человек в других людей прорастает, в их жизнь и память, срастается с ними корнями. Выдернет его злой случай или болезнь из жизни, выкорчует — десяткам людей больно. Изменить бы все это, переделать. Но как? Вдруг по-другому еще хуже будет?..
Он достал из шифоньера бумаги Лахтиных, которые предлагал Сергею и которые тот непонятно почему не взял: какая ни есть, а все-таки память о матери. Среди бумаг он видел фото Жени — единственное, где она такая, какой была в молодости — худенькая, голова чуть запрокинута, будто ее косы, уложенные венком, перевешивают, улыбка робкая, а глаза ясные, смелые… Захар перекладывал пожелтевшие страховые полисы, старые квитанции об уплате налогов, облигации, открытки и письма Сергея — он узнал их по почерку…
«Как им Женя гордилась. Всякий раз заговорит — и все о нем. Об успехах его рассказывала, письмами хвалилась… — Захар стал вспоминать то немногое, о чем успел перемолвиться, с Сергеем в ночь после похорон да наутро, когда подошла машина, и молодой Лахтин, бросив завтрак, стал неловко прощаться. Прощался и отводил глаза, будто украл что-нибудь или собрался украсть. Да… Все как будто в порядке: Сергей у себя на заводе большой начальник, почти что профессор. Но… По всему видать, какая-то беда его гложет. Он, конечно, сам не признавался, а я не спрашивал — при таком горе о себе не говорят, но напрасно Женя так радовалась. Неладно с Сергеем. Душа у него болит. Или сам ее измучил, или люди… Надо бы написать соседу. Заодно и облигации отошлю».
Захар нашел тетрадку, шариковую ручку, которую весной купил в райцентре.
«Здравствуй, Сергей Тимофеевич, — начал он письмо. — Сообщаю тебе, что на хату твоей матери уже нашлось два покупателя. Один дает 2500 рублей, а Савка Кошовый дает 2700 и даст больше, потому что сына с невесткой хочет отделить. Я попусту торговаться не умею и не люблю. А цену назначил твердую — 3000 рублей. Хата того стоит. Сам помогал, если ты помнишь, ее строить. Как только продам, сколько надо возьму на памятник, как ты перед отъездом наказывал, а остальные вышлю по почте. Памятник закажу самый лучший, а так как их у нас делает тот самый Савка Кошовый, то ему часть денег и вернется. Вкладываю в это письмо семнадцать облигаций, какие были у матери, а выигрышные они или нет, ты уж сам узнай…»
Захар отложил ручку, подумал и начал писать уже совсем о другом:
«…Может, и не мое это дело, сынок, но показался ты мне в мае совсем больным. Как то яблоко: сверху румяное, красивое, а внутри червяк сидит… Ты все-таки побереги себя, Сергей Тимофеевич. Может, возьми отпуск, да и приезжай к нам как на дачу? А если понравится, то хоть на целый год. Про воздух там или пляж агитировать не буду — они у вас, наверное, лучше. А вот душой только на родине и отдохнешь. Короче, приезжай в любое время».
Захар отложил готовое письмо в сторону, стал просматривать остальные бумаги: может, еще где облигации завалялись.
Его внимание привлек знакомый конверт, которых насмотрелся, когда вернулся с фронта. «Похоронка на Тимофея, — догадался Захар. — Тоже надо сыну переслать». В конверте было письмо, по-видимому, от командира. Захар прочитал первые строки«…экипаж Вашего мужа в бою около села Скирманова подбил три фашистских танка. Однако в результате прямого попадания машина Тимофея Степановича загорелась. Он был тяжело ранен и через полчаса умер на моих глазах от потерн крови. Когда был еще в сознании, просил, чтобы Вы, Евгения Яковлевна, не убивались и были счастливы, что, конечно, невозможно в такое тяжелое для Родины время. Случилось это страшное для Вас и нас, друзей Тимофея Степановича, событие на Истринском направлении, под Москвой».
Не веря своим глазам, Захар достал из конверта само извещение. Как так «под Москвой»?! Не может быть! Тимофей ведь под Берлином погиб… Да и знали бы в селе о похоронке. Может, Женя ее в райцентре получила?.. Ветхая бумажка наконец развернулась…
«Уважаемая… Ваш муж лейтенант Лахтин Тимофей Степанович… погиб смертью храбрых в боях… 21 ноября 1941 года…»
Захар еще раз прочитал похоронку. Бумажка вдруг выпала из рук, комната качнулась перед глазами. «21 ноября! В первый год войны! Выходит дело Сергей сын! Сергей Захарович, его… Зачем же ты так, Женя?! За что казнишь всю жизнь?»
Так говорила обида. Но жила в нем уже и мудрость, которая стала утешать да урезонивать: «А чего же ты хотел: чтобы Женя стала отнимать мужа у другой солдатки? Чтобы, гордая, краденую любовь стала узаконивать? Перед людьми и совестью своей стыд принимать? Не такая она… Сам знаешь. А после, когда Настя умерла?.. Поздно было. Парень-то вырос. Зачем у него легенду отнимать да давний обман раскрывать?»
Захар закурил, открыл окно. Над кустом сирени висела полная луна. Как тогда, той ночью… Теперь ему ясно, почему она просила: «Говори. Все, что хочешь, говори. На всю жизнь хочу тебя наслушаться…» И ласкала — на всю жизнь. К утру он забылся на полчаса, задремал. А проснулся от странного ощущения: плечо мокрое и горячее. Женя плакала, уткнувшись ему в плечо. В молочном утреннем свете, худенькая и белая, будто ветка вишни, она показалась ему облачком. Зоревое-перьевое, дрожит рядом, дунешь улетит… Он подумал тогда, что Женя сплетен испугалась — как бы в селе не узнали, Тимофею после войны не доложили. Стал, глупый, утешать. А теперь открылось: нечего ей было бояться. Судьбу она свою оплакивала, которую сама же и выбрала.
Захар докурил «Приму» до того, что окурок прижег пальцы. Он распечатал конверт, который уже успел заклеить, достал письмо к Сергею. И тут вся решительность и радость вдруг куда-то девались. Что написать и как написать? Нужно ли вообще об этом писать?
Захар долго думал, потом сделал в конце письма короткую приписку:
«Сынок! Несколько минут назад в бумагах твоей покойной матери я нашел такое, что перевернуло мне всю жизнь. Дело прошлое, но очень важное и касается оно нас с тобой. В письме о таком не напишешь… Поэтому приезжай теперь непременно!»
Несмотря на поздний час, Захар отнес письмо на почту, бросил в ящик. Помолодевший и счастливый, он возвращался домой и прикидывал: через сколько дней сын получит его весточку? Догадается ли он, что произошло? Наверное, догадается. Должен догадаться.
Лахтин открыл глаза и вздрогнул от неожиданности: на другой стороне кровати возле спящей Ляли нахально развалился… его двойник.
— А девочка хороша, — гнусным шепотом заключил Йегрес и плотоядно ухмыльнулся. — Жаль, черт возьми, что я не материальный. Роль святого духа, как ты понимаешь, меня мало устраивает.
Он протянул свою черную лапу, театрально положил ее Ляле на грудь.
— Ты чего сюда заявился?! — прошипел Лахтин. — Убирайся!
— И не подумаю, — засмеялся Йегрес, — собственник проклятый… Конечно, если ты будешь выступать, то я могу и уйти. Слетаю, например, к Светлане. Она еще тоже не вставала…
— Пошли на кухню, — взмолился Лахтин. — Разбудишь Ляльку — что я ей скажу?
Он осторожно выбрался из постели, прикрыл за собой дверь спальни. Двойник объявился на кухне прямо из стены. Однако полностью выходить не стал: высунул возле холодильника торс, оперся плечом о шкафчик.
«Если Лялька проснется и увидит этот живой горельеф, точно с ума сойдет, — подумал Лахтин. — Надо поскорее его отправить… Впрочем, кроме меня, его, кажется, никто не видит…»
— Небось в мечтах уже премию получаешь? — полюбопытствовал Злодей и покачал головой. — Шанс, конечно, есть. Но ты себя, Сергей, на худшее настрой. В случае чего — не так обидно будет.
Он впервые назвал Лахтина по имени. Тот удивился: «С каких это пор? Обычно двойник говорит пренебрежительно и грубовато. Насмешничает, подкалывает, язвит…»
— Ты, кстати, тут особо не сибаритствуй и Ляльку не обижай, назидательно сказал Йегрес. — Прогонит.
— Кого? Меня? Мышка меня прогонит? — Лахтин пожал плечами. — Я вижу, Злодей, ты переутомился. Заговариваться стал.
— Мое дело предупредить… Еще тебе два совета впрок. Вишневского в серьезное дело не пускай — увлечется, потом не оторвешь. Бери пока его идеи и внедряй их… осваивай. А его заканчивать диссертацию посади — он тебе за это в ножки поклонится. Это первое. Второе: не тяни с переводом Светланы. Ты же знаешь, в отделе главного механика освободилось хорошее место. Девушка толковая, перешла на третий курс — уговори Павла Александровича, чтобы взял. Чем раньше уберешь ее из приемной, тем скорее твоей станет.
— Все-то ты рассчитал. Стратег…
— Это ты рассчитал. И сам себе советы даешь, — ухмыльнулся двойник.
— Опять темнишь? — Лахтин включил конфорку, поставил на плиту чайник.
— Так я весь из темени, — сказал Йегрес и прислушался. — Все, конец аудиенции. Проснулась твоя милашка. Помни, что я сказал, и будь здоров.
Он нырнул в водопроводный стояк, и трубы на всех этажах загремели, будто по ним пронесся град камней.
«Полдома, негодяй, разбудил», — подумал Лахтин, возвращаясь в спальню. Он завалился на кровать, будто большой кот, и стал целовать Лялю. И маленькая женщина в самом деле проснулась.
— Ты тупик моих желаний, — прошептал он довольно пошловатую фразу, которую услышал в КБ от Генина, обхаживавшего в коридорах всех встречных сотрудниц.
Ляля высвободилась:
— Чайник дребезжит, слышишь?
Потом она готовила завтрак, а Лахтин ошивался на кухне и, сам того не замечая, мешал: снова фальшиво и громко напевал о «неудачнике», целовал Лялю, когда она отцеживала картошку, курил.
«Бог мой, — с раздражением подумала Ляля. — Ведь он всерьез полагает, что весь мир создан специально для него, Сереженьки Лахтина, для его пользования. А уж я и подавно… — Она попробовала успокоить себя. Сережа, конечно, эгоист, но и ты не лучше. Тебе мало владеть им по случаю. Тебе подавай его целиком и навсегда — обычная женская логика. А он обычная мужская логика — этого не хочет. Да, больше не хочет, чем не может, потому что с Тамарой его уже долгие годы ничто не связывает. И ни с кем не связывает. Разве что со своим отражением в зеркале…»
И тут Ляля вдруг нечто поняла и даже испугалась своего открытия: она повторяет привычные соображения, а на самом деле не хочет им владеть — ни теперь, ни тем более всегда. Мысль была отчетливая и определенная, но Ляля поспешно прогнала ее прочь. Съездит в Мацесту, отдохнет. А там и сентябрь. Пойдет на работу, привезет к себе Димку… А Сергей… Не хочется сейчас копаться в их отношениях. Само собой все решится.
Они вернулись в комнату.
— Мышка, я принимаю волевое решение. — Лахтин допил кофе, встал. Подскажи, где твой билет на поезд?
— На телевизоре, — машинально ответила она.
— Ага, вот он, купейненький. Раз ты меня любишь, а это факт, значит, остаешься. А соблазн купейненький…
Он разорвал билет, выбросил обрывки.
— Ты согласна, Мышка? — спросил он, протягивая к ней руки. Великолепный принцип: все, что мешает нам быть счастливыми, — в мусорное ведро!
— Гениально! — подтвердила Ляля, и губы ее задрожали. — По крайней мере, эффектно, как в кино. Ты не подумал, что я могла бы сдать билет?
— Мышка, я не узнаю тебя! — вскричал Лахтин, привлекая ее к себе. Тратить наше драгоценное время на прозу жизни! На какие-то рубли?! Опомнись!
— Опомнилась, — чужим голосом сказала Ляля и решительно высвободилась из его объятий. — Может, и путевку заодно порвешь? Она, кстати, ровесница наших отношений — я ее четыре года дожидалась!
Пораженный ее тоном, Лахтин даже отступил на шаг, чтобы получше разглядеть маленькую женщину.
— Не может быть, — сказал он. — Ты сердишься? Из-за этой чепухи? Да я тебе десяток путевок достану. Выбирай любой курорт, вплоть до международного.
— Это не проза жизни, — зло ответила Ляля. — Это моя жизнь. Ты приходишь ко мне отдохнуть, на полный пансион. Я уже не говорю о том, что трачу на тебя душу. Но знаешь ли ты, мой романтичный и ультрасовременный любовник, что один твой визит съедает половину моей зарплаты?! Что я потом с философским видом жую в школьном буфете пирожки и запиваю их почти бесплатным молоком? Что я молода и мне хочется носить красивые платья и хоть изредка надевать свои дешевые украшения…
— Я… я не знал, — забормотал Лахтин, лихорадочно шаря по карманам. Никогда не думал о быте, не придавал значения… Я заплачу, Ляля, я за все заплачу… Ты извини, пожалуйста. Я куплю новый билет…
— Да разве в деньгах дело? — звенящим голосом ответила она, не замечая, что по щекам побежали слезы. — Ты чудовище, Сергей! Бесчувственное чудовище, которое живет только для себя! Такие, как ты, не просто потребители. Вы активные потребители. Вы потихоньку приспосабливаете мир, переиначиваете его, чтобы вам в нем было удобно. Это особенно страшно. Ведь раньше вы приспосабливались сами, а сейчас все наоборот.
— Лихо, — криво улыбнулся Лахтин. — Ты прям-таки государственный обвинитель, Мышка.
— Перестань меня так называть! — Ляля топнула ногой. — Я не знаю, Сережа, почему ты такой. — Она всхлипнула, на ощупь, как слепая, нашарила стул. — Ты ко мне таким уже пришел… Я не знаю, например, почему гниют яблоки, но всегда отличу гнилое от нормального… Почему вы появились, откуда — не знаю. Но рядом с вами страшно. Как-то, когда ты ушел, вылакав бутылку коньяка и переспав со мной, я нафантазировала: может, вы пришельцы? Ведь вы появились так недавно — лет десять-пятнадцать назад. Вы не стали пробиваться к высшей власти. Там все на виду, сразу скажут «а король-то голый». Вы присвоили себе мелочь — распределение. Стали за прилавки, взяли ключи от подсобок, списки абитуриентов и ордера жилищных кооперативов… Вы поселились в обществе, будто вирус в организме…
— И все это я, Лахтин? — Он почти не воспринимал ее обвинения, потому что его ошеломило и напугало одно слово, которое она бросила ему в лицо еще в начале этой нелепой сцены: чудовище. Что это — совпадение, случайность? Или Ляля что-то узнала о двойнике, о его постыдной игре или душевной болезни?
— Между прочим, — сказал он, вяло подыскивая контраргументы, — мы все потребители. И нечего этого стыдиться.
Ляля удивленно взглянула на Лахтина.
— Хитрый мой доктор наук. — Она засмеялась. — Тебе просто нечем крыть. Душа для тебя давно пустой звук, абстрактная величина. А вот желание все иметь и всем попользоваться ты будешь защищать до последнего дыхания. Я тоже живу в мире вещей и потребностей. Это нормально, по-людски. Но ваши вещи и потребности — чужие. Чуждые. По существу. За них нужно продавать душу, милый. И предавать.
— Мне же больно, Ляля, — хрипло сказал Лахтин. — Опомнись. Что же ты бьешь без разбора, что ты хлещешь?! Неужто и впрямь я такое чудовище?
Она подошла к журнальному столику, возле которого сидел Лахтин, взяла из его пачки сигарету.
— Я четыре года терпела, — сказала Ляля. — Потерпи и ты, залетный мой. Скажи лучше: что тебе сегодня приснилось?
— Ну и переходики у тебя! С ума можно сойти, — Лахтин пожал плечами. Из детства что-то, не помню…
— Значит, было царство?
— Какое еще царство?! — вскочил Лахтин. Он наконец, достал портмоне, приоткрыл его, закрыл, снова открыл.
«Не знает, как поступить, — брезгливо подумала Ляля. — Боится, что швырну его сребреники ему в лицо. Если все доставать, то и отдавать все надо. Отсчитывать неудобно. А все отдавать не хочется».
— Ты не жмись, — грубо сказала она. — Я за четыре года много заработала. Так и быть — облегчу тебе душу. Ты же половину грехов сразу спишешь. Откупился, мол… А про царство упоминала, так это опять-таки о душе. Было же у тебя хоть что-нибудь там раньше.
— Не твое дело! — окрысился Лахтин. Он отсчитал несколько купюр и демонстративно швырнул их на диван. — Было и есть.
— Было, конечно, — согласилась Ляля. — Маленькое, захудалое. Но ты и его отдал. За коня! За то, чтобы быть на коне. Все царство души — за паршивую клячу удачи… Говоришь — есть? Ой ли.
— Плевал я на твое царство! — фальцетом выкрикнул он и, натыкаясь на вещи, пошел в коридор. Хлопнула дверь.
Маленькая женщина опустила руки и посмотрела на пол так, будто несла-несла гору посуды и вдруг все разом уронила.
Заплакать или рассмеяться?
Она все-таки заплакала. Разбитого не жаль. А вот украденного жаль всегда.
Сушь, которая две недели подряд стояла над Гончаровкой, в этот вечер как-то притомилась. Дождя ничто не предвещало, но давление стремительно падало, и люди, устав раньше обычного, раньше и ко сну собрались.
К полуночи чистые звезды подернулись дымкой, но в селе все еще стояла настороженная, болезненная тишина. Не шелохнется пыльная листва, не прогремит ведро о сруб колодца, не коснется ласково слуха девичий смех.
Часом позже с юго-запада, где уже несколько раз сверкали сухие зарницы, на Гончаровку стремительно надвинулся широкий грозовой фронт. Звезды погасли, будто их задул промчавшийся над селом ветер. Обрадованно прошумела листва. В ответ небо грозно заворчало и воткнуло в каменный лоб ближайшего холма молнию. Хлынул дождь.
Захар лег рано, но уснуть долго не мог. Ломило в висках, перед глазами мельтешили белые мухи. Он ворочался, представляя, как его письмо едет где-то в почтовом вагоне, пытался мысленно заглянуть в квартиру Сергея, но почему-то, кроме зеркал и ковров, ничего не мог представить. В богатых домах, говорят, всегда много ковров. Наверное, есть еще книги. Ведь Сережа — его Сережа! — как-никак ученый. Почти что профессор. Вспоминал Захар также жену сына, а особенно внучку, но и из этого ничего не получилось. Видел-то он их всего раз, лет шесть назад, да и то мельком. Не пойдешь же сдуру в хату, когда там гости… Если бы он знал, что не чужие они ему. Если бы знал!
Грома Захар, как ни странно, не слышал, а вот лопотание дождя уловил сразу.
«Слава богу, — подумал он, улыбаясь про себя. — Напоит наконец землицу. Пыль прибьет, окна промоет».
С этой мыслью Захар заснул.
И приснился ему сон…
Будто по всей Гончаровке вишня цветет. Много ее — как до войны. Садок возле садка. И везде праздничное белое сияние, музыка и люди. Нарядные, веселые. Друг другу улыбаются, друг с другом заговаривают.
«Свадьба, что ли?» — удивился Захар.
Пошел и он себе. Да так легко, что и не поймет: идет он или летит.
Тут музыка громче заиграла. Быстро. Горячо.
Люди перед Захаром расступились. И деревья в сторону тоже отошли.
Глядит Захар, а перед ним посреди сада его сын, Сергей. Молодой, красивый. И сорочка на нем белая, вышитая. Лица, правда, толком не разглядеть: солнце землю пригрело, парует она и вся как бы в мареве. Пляшет сын. Голову запрокинул, руки в сторону развел, будто всех обнять хочет, улыбается. И все по кругу, по кругу. Быстро, легко, красиво.
«Молодец, сынок!» — хотел крикнуть Захар, да так и занемел.
Вдруг увидел он, что никакой это не пар, а дым горький. И не комья молодой земли под босыми ногами сына, а головешки. Да не остывшие, а бело-сизо-алые. Смотреть на них — и то больно!
«Беги, Сережа! Ко мне, сынок!» — кричит Захар и с ужасом понимает, что не слышно его голоса. Нет его!
И люди не слышат, ни о чем не догадываются. Ходят рядом, переговариваются, на Сергея уважительно поглядывают. Танцует мол, красиво.
Рванулся Захар к сыну, а ноги — ни с места.
Тут Сергей лицом к нему повернулся.
Оказывается, на лице его вовсе не улыбка, а мука лютая. Плачет он, а слезы жар сразу сушит. Зовет отца — губы только в гримасу боли складываются.
«Где ты, дождь?! — обратился к небу Захар. И опять без слов: — Спаси сына моего! Погаси угли!»
Нет дождя.
А Сергей уже последние силы теряет. Шаги его по огню все неувереннее становятся, все медленнее. Вот-вот упадет.
Напрягся Захар так, что жилы на шее вздулись, прорвал-таки немоту.
«Подожди, сынок, я сейчас…» — крикнул он и проснулся.
Ничего не понимая, Захар несколько минут всматривался во тьму. Перед глазами все еще стояло обезображенное болью лицо сына, грозно светились раскаленные угли.
«Что за наваждение? — испуганно подумал старик, вспоминая подробности сна. — Не к добру такие танцы».
Захар встал с кровати, поспешно закурил. Он так разволновался, что в груди опять закололо, будто сердце при каждом ударе натыкалось там на осколок стекла.
«Письмо — ерунда, — подумал Захар. — Непонятное оно, одни намеки. Да и идти будет дня три-четыре. Дурень я, дурень. Такая радость — сын отыскался, а я письма шлю. Ехать надо! Самому. Лететь! Самым скорым самолетом. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Утречком».
Он включил свет и стал собираться в дорогу, прикидывая, какие гостинцы можно взять в Киев и какие слова он скажет своему Сереже.
Придерживаясь за перила лестницы, Лахтин вышел на улицу.
Некоторое время бездумно стоял возле дома Ляли, не зная куда идти и что делать. Непостижимо! Его Мышка — и этот… брезгливый, уничижительный тон. Продуманные фразы и суждения, будто она зачитывала обвинительное заключение. Но главное — их суть! Все преувеличенно, тенденциозно подобрано, заострено. Чтобы больнее ранить! Царство, душа, деньги… Получается, что он чуть ли не губитель человечества. Какая муха укусила Ляльку? Откуда у женщины такая рассудочность и рационализм? Возможно, он в чем-то и был не прав. Невнимательный там, эгоистичный. Но ведь такова современная жизнь. Так-живут если не все, то многие. Никто никому не нужен, Ляля. И я тебе, значит, не нужен… Боже, как давит в груди! Я стал истериком… Ничего страшного не произошло. Ну озлилась Лялька, наговорила гадостей. С кем не бывает. Не прогнала ведь, не оттолкнула. Значит, все образуется.
Лахтин спустился мимо «Детского мира» на Крещатик, выпил в автомате газированной воды. Немилосердное солнце плавило асфальт, загоняло прохожих в тень.
«Надо вызвать машину, — подумал Лахтин. — А Мышку придется подержать на расстоянии. Или вообще… С глаз долой — из сердца вон».
Он нашел в кошельке двухкопеечную монету, зашел в телефонную будку.
— Света, я на Крещатике, — сказал Лахтин секретарше. — Найди, пожалуйста, Виктора. Пусть подъедет к «Детскому миру».
Он повесил трубку, и тут сердце его подозрительно замерло, будто поднималось, поднималось по лестнице, а затем споткнулось и с ходу перепрыгнуло полпролета.
Лахтин вернулся к автоматам и на всякий случай проглотил таблетку новокаинамида, запив ее теплой водой. Затем прошел к троллейбусной остановке, присел в тени.
— Ну где же ты, Злодей?! — привычно позвал он.
Йегрес появился не сразу, а как бы просочился, будто дым, из кроны дерева. В нем что-то клубилось и посверкивало, пока из тьмы не сформировался человеческий облик.
— Привет, Чудовище, — сказал двойник и присел рядом с Лахтиным. Достукался? Я тебя утром предупреждал.
— Не надо, — поморщился тот. — Мне и без тебя тошно.
Он подумал, как бы удивились люди, если бы увидели рядом с ним его негатив, да еще бестелесный.
— Сейчас тебе вдвойне тошно будет, — заявил Йегрес. — Я ухожу от тебя, родственничек. Навсегда.
— Как?! — мысленно вскричал Лахтин. — И ты уходишь? Вы что сговорились с Лялькой? Впрочем, чепуха. Ты не можешь уйти. Ведь наши миры сопредельные, зеркальные.
— Еще как могу, — Йегрес вздохнул. — Наши миры, оказывается, расходятся. Кроме того, мне запретили с тобой встречаться. Наши умники считают, что мы плохо влияем друг на друга. И даже больше того…
— Я — на тебя? — удивился Лахтин.
— Получается, что так, Чудовище. — Йегрес пожал плечами, черные губы сложились в улыбку. — Ты и впрямь оперился. Стал быстрее соображать, появилась решительность. Можно уже за ручку не вести… Умники говорят, что наши отношения мешают сосуществованию двух миров. Мы расталкиваем их, как два одноименных заряда.
— Не слушай их, Злодей! — то ли про себя, то ли вслух взмолился Лахтин. — Нам хорошо вдвоем. Мы ругаемся, но мы и дополняем друг друга. Кроме того, ты не прав. Мне трудно… решать все самому. Я привык… с тобой. Ты всегда был рядом. Как же теперь — без тебя? Жить так сложно.
— Жить просто, — насмешливо прищурился Йегрес. — И не скули, пожалуйста. Кое в чем ты уже превзошел учителя. Далеко пойдешь, если… не остановят. — И двойник хихикнул. — Главное — не жди милостей, как завещал ваш Мичурин. Дерзай, родственничек! Учти: если ты не приспособишь этот мир для своих нужд, он тотчас приспособит тебя. Причем использует и выбросит. А Ляльку ты не слушай. Каждый сражается за то, что он имеет. А у нее, кроме души, ничего нет.
Йегрес поднялся, брезгливо сплюнул. Черный сгусток слюны полетел в сторону пассажиров, столпившихся на остановке. Лахтин замер — от страха у него даже засосало под ложечкой. «Я пропал! Скандала не избежать. Йегреса люди не видят, получается, что плюнул я… Сейчас вызовут милицию… Протокол, фамилия…»
— Очнись, Чудовище! — повелительно сказал двойник. — Все я тебе дал, а вот от страха не вылечил. Ну, да ладно. Проживешь…
«Не поняли! Не увидели!» — обмирая от радости, подумал Лахтин.
— Я пошел, — напомнил Йегрес. — Будь позубастее, родственничек. И не поминай лихом.
Он неторопливо пошел-поплыл наискосок через Крещатик.
Лахтин, хоть и понимал, что ничего не случится, весь сжался, когда синий «Жигуленок» — первый из вереницы автомобилей, мчавшихся по улице, врезался в расплывчатую фигуру двойника, прошил ее, а за ним замелькали другие машины, зловонно дыша бензином и перегретым металлом.
Йегрес шел сквозь железный поток, не замечая его, и сердце Сергея Тимофеевича вдруг наполнилось гордостью за двойника и одновременно за себя: плевали они и на людей, и на весь этот мир. Раз их с Йегресом не видят, не замечают — тем лучше. Значит, они вольны жить, как хотят.
— Прощай, Злодей! — прошептал Лахтин. — Не бойся, нас уже никто не остановит.
Он почувствовал в себе такую силу, такую дерзкую уверенность, что даже прикрыл глаза, чтобы прохожие не увидели в них торжества. Его буквально распирали эти два чувства, тянули ввысь. И сладко, как в детстве, и замирает сердце от страха и восхищения. Еще немного, и он тоже взлетит, заскользит невесомо над Крещатиком — сквозь ревущий поток машин, усталые дома, полумертвые от жары деревья…
Он вдруг услышал настойчивые голоса, которые бесцеремонно ворвались в его грезы, но открывать глаза не стал.
— Расстегните ему рубашку, — сказала какая-то женщина.
Лахтин без труда определил по голосу, что ей за пятьдесят и что у нее небольшая зарплата.
— Товарищи, может, у кого есть нитроглицерин? — вмешался мужской голос.
«Кому-то поплохело, — машинально отметил Лахтин и представил, как собираются рядом зеваки, как суетятся люди, не зная, чем помочь тому, кто упал на асфальт. — Мое дело сторона, я не врач. И вообще… Могу я хоть раз отключиться от суеты и никого не видеть, ни о чем не думать, ни о ком не переживать».
Голоса-реплики прибывали:
— «Скорую помощь» вызвали?
— Да, вон тот гражданин звонил…
— Позвоните еще… — Голос был старческий, дребезжащий: — Юноша, потрудитесь, пожалуйста, набрать ноль три. Пока они соберутся, человек помереть может.
— Есть вода, — обрадовался женский голос. — Воду несут…
«Сердце, наверное, хватануло, — подумал Лахтин о несчастном. Интересно кого — молодого или старого? Может, все-таки открыть глаза, полюбопытствовать?»
Как бы в унисон его мыслям в говор толпы ворвался возбужденный напористый голос профессиональной сплетницы, боящейся пропустить зрелище и пробивающейся, по-видимому, сейчас вперед:
— Кому, людоньки, плохо? Дайте поглядеть, говорю. Кому плохо?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

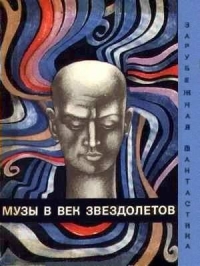

Комментарии к книге «Танцы по-нестинарски», Леонид Николаевич Панасенко
Всего 0 комментариев