Легенды грустный плен
Александр Бушков Легенды грустный плен
«Древние мифы изъяснять должно не затем, чтобы мастерить из них новые, но дабы корень простых и натуральных свойств в них открывать».
М. В. ЛомоносовПересечения пути
Человек бежал быстро и размеренно, захватывая полной грудью порции воздуха и выдыхал каждый раз одновременно с рывком правой ноги вперед — наработанный за годы ритм бега опытного охотника. Пятна крови и следы говорили о том, что олень невозвратно теряет силы, выложился вконец и скоро рухнет там, впереди, где зелень и буйноцветье саванны сливаются с Великим Синим Ясным Небом. У этих людей существовало множество слов для обозначения оттенков и состояния неба в разное время суток, разную погоду, даже в разные времена года. Но Великим оно было всегда, оно изначально нависало над миром, над живым и неживым, оно светилось ночью мириадами Высоких Костров, оно гневалось молниями и насылало чудовищ.
Слева, совсем неподалеку, меланхолично перетирают зубами траву пять мамонтов. Косматые громады спокойны — они, верно, заключили, что путь охотника пролегает мимо. Да и не опасны им одинокие охотники.
Человек бежал по саванне неподалеку от побережья океана, который лишь через десять тысяч лет приобретет право именоваться Северным Ледовитым. Пока для этого просто-напросто нет оснований — льда нет и в помине, климат мягок и приятен, носороги чувствуют себя прекрасно.
Человек тоже. Разумеется, с учетом неизбежных опасностей, подстерегающих на земле и являющихся с неба.
Резные шарики и подвески костяного ожерелья барабанят по выпуклой груди. Рука сжимает легкое, удобное копье, мир прост и незатейлив, цель ясна. Медь, что пойдет на шумерские и вавилонские мечи, еще покоится глубоко в недрах земли. На всей планете нет ни одного металлического предмета собственного производства.
Впереди — небольшая рощица, островок посреди саванны, взгляд не в состоянии пронизать ее насквозь, и охотник резко забирает влево, заранее отводя назад копье для возможного удара — бывает, раненый зверь в приступе яростного отчаяния выбирает такие вот уголки для последнего боя. Всякое случается, примеров хватало.
Все его чувства обострены, он привык к охотничьим неожиданностям и потому даже не вздрагивает, увидев перед собой вместо разъяренного оленя — людей. Предположим, не совсем таких же. Но людей, несомненно.
Двоих.
Он стоят, изготовив копье, левая рука готова выдернуть из ножен костяной кинжал. Глаза охотника, мастера по чтению звериных следов, различающего не один десяток оттенков в красках неба, вбирают детали и частности, как сухой песок — воду.
Их двое, они ниже и тоньше и, судя по особенности лиц, принадлежат к чужому, неизвестному племени. То, что на них надето, цветное, яркое, блестящее, непонятно из чего сделано; и вовсе уж странным кажется рядом с ними что-то прозрачное, сверкающее, чудных форм, блестит что-то серебристо-витое, что-то вытянуто в обе стороны от стрекозиного тела — то ли гигантская птица из застывшего льда, то ли замороженный и оттого ставший видимым вихрь. Почему-то это навевает мысли о полете.
Но не оно, сверкающее, самое важное. Главное, охотник не видит опасности. Эти двое не выглядят серьезными противниками — он может справиться с ними голыми руками. У них и возле нет ничего похожего на оружие — один держит в руке что-то короткое, маленькое, блестящее, но оно короче кинжала, совсем неопасное и несерьезное. Даже на метательное оружие не похоже — чужой держит его, просунув указательный палец в середину, так не держат метательный камень. И лица спокойные, не злые.
Собственно, долго раздумывать не над чем. Все ясно. Опасности нет.
Саванна не принадлежит никому в отдельности, и всякий, откуда бы он ни явился и куда бы ни шел, вправе иметь свою тропу. У охотника и его соплеменников нет привычки набрасываться на не выказывающего враждебности чужого только потому, что он чужой. Убивать людей следует, лишь защищаясь.
Поэтому охотник выпускает копье, повиснувшее на запястье, на ремешке. Показывает тем двум раскрытые ладони, дает понять, что на беззлобность он отвечает тем же, не видя причин для схватки. Откуда бы они ни явились и какими бы странными ни были их предметы — видно, что они все поняли. На этом их пути должны разминуться. Достаточно того, что обе стороны уважают чужую тропу и показали это. Так что каждый идет своей дорогой.
Свежий след зовет, зовет долг, и охотник, отодвинувшись, бочком-бочком, вновь переходит на размеренный бег. Ощутив мимолетный прилив любопытства, он все же оборачивается — как раз вовремя, чтобы увидеть бесшумно взмывающую ледяную птицу в синеве. Он не собирается об этом думать — мир необозрим и в нем всегда можно увидеть то, чего никогда не видел прежде, вереницы странных предметов и явлений не имеют конца, и, если уделять им время и мысли, того и другого не останется на выполнение долга перед племенем. А его долг — добывать мясо для сородичей. Так что по возвращении все уместится в несколько коротких фраз. А может, эта встреча и не заслуживает упоминания. Лучше уделить внимание небу — его цвет изменился.
Бугорок впереди растет и принимает форму уткнувшегося мордой в землю оленя — ветвисторогого, жирного, достойной добычи. Настиг, наконец!
Умирающий зверь способен на все, предосторожности нелишни. Охотник издали метнул костяной кинжал, но туша не шевельнулась — олень мертв, и охотник подошел уже безбоязненно, выдернул кинжал из загривка, испустил короткий победный клич и сноровисто, неторопливо стал разделывать тушу. Передохнуть он себе не позволил.
Жаль, что не унести все одному, половина мяса достанется зверью, да что тут поделать, если после нападения на стадо охотники разделились, каждый погнал свою жертву. Добыча все равно будет неплоха, если каждый из трех его спутников принесет столько же. В любом случае свою славу он не уронил, а это очень важно.
Стоя на коленях, перетягивая сыромятным ремнем туго свернутую в трубку шкуру, он почуял опасность. Жизнь научила его остро чуять опасность заранее. Но на сей раз это был не зверь. К зверю опасность отношения не имела. Что-то другое. Потому что свист, клекот, рев приближаются, наплывают словно бы сверху. И Великое Ясное Синее Небо уже запятнано черным грузным облаком!
Он так и остался на коленях, слабость разлилась по телу, к кончики пальцев бессильно скользнули по древку копья. Теплилась надежда, что все обойдется, но рассудок безжалостно свидетельствовал: приближается самое страшное чудовище на свете, страшнее тигров, носорогов и вовсе уж редко встречавшихся ящеров, — Небесный Змей, Владыка Высот.
Бессмысленно бежать, бессильно оружие. Спасения нет.
Грохот, рев и вой были сильнее шипения тысячи змей. Темное бесформенное тело быстро приближалось, заслонив солнце, густая тень упала на травы, на оцепеневшего в смертельном ужасе человека, черный хобот бешено вертелся, пританцовывал на возвышенностях, окруженный желтоватым сиянием и огненными шарами, хлестал по земле, поднимая тучи пыли и вороха вырванного с корнем кустарника. Зверь искал пищи. Рык чудовища подминал, уничтожил крохотную живую песчинку.
Подхваченная щупальцем небольшая антилопа взлетела и, кружась, скрылась в облаке. В лицо охотнику летели пыль и трава, огненные вспышки слепили, странное потрескивание подняло волосы дыбом, ветер вот-вот должен был сшибить с ног и швырнуть в пасть чудовища. Не было мыслей, не было чувств, не было побуждений — только страх и липкое, холодное сознание смерти. Мир исчезал вместе с ним, растворялся, гас.
И он не сразу понял, а сообразив, долго не мог поверить, втолковать самому себе, что вокруг него уже не кружит перемешанная с травой пыль, что рев и вой слабеют, затухая, а солнце вновь жарко касается лица.
Смерч стремительно удалялся к горизонту, потускнел блеск шаровых молний, стих грохот, похожий на шипение тысячи змей.
Там и сям вокруг чернели пятна и полосы взрыхленной земли; в воздухе стоял свежий грозовой запах.
Охотник выпрямился во весь рост, его пошатывало, бросало то в жар, то в холод, прошибла испарина, зубы клацали. С сумасшедшей радостью он вновь вбирал запахи и краски мира. Дрожь не унималась, и тогда он неверными пальцами рванул с пояса кинжал, вскользь черкнул себя по боку и зашипел сквозь зубы от горячей боли.
Это помогло, отвлекло тело. Длинная царапина саднила, кровь поползла по коже. Боль помогала вернуть спокойствие телу и душе.
Все как рассказывали старики: чудовище, что таится неизвестно в каком логове и время от времени проносится над землей в ореоле огня и грохота, пожирает и убивает животных и людей. Его мысли и намерения предугадать невозможно — как любой зверь, оно способно пройти и мимо застывшей в ужасе добычи. Значит, чудовище было уже почти сытым и оттого удовольствовалось антилопой.
Охотник снял крышечку с сосуда из оленьего рога и тщательно замазал царапину на ребрах пряно пахнущей травяной пастой. Кровь почти сразу же перестала сочиться. Знахари племени умели приготовлять много снадобий самого разного предназначения. Потом он тщательно отер пальцы и смазал лицо пастой из другого сосуда, придававшей силы, прогонявшей тревогу. И взвалил на плечи мастерски спутанные ремнями куски свежего мяса, пристроил на лоб лямку, облегчавшую переноску груза.
Подобрал копье и тронулся в неблизкий путь, шагая быстро и размеренно. Пережитый ужас понемногу вымывался из памяти, таял. Жизнь была слишком сурова, слишком много опасностей существовало вокруг, так что для долгих переживаний не оставалось, места.
Рассказать о встрече с Небесным Змеем, разумеется, предстоит со всеми подробностями — так полагалось по давним обычаям сохранения и приумножения знаний и опыта, предназначенных для борьбы за жизнь. Что касается тех двух странных и их ледяной птицы — о, них он уже забыл насовсем. Такие мелочи не имели никакого значения по сравнению с летучим чудовищем. Небесным Змеем.
Хорошо бы его убить, подумал охотник. Любое живое существо, любого зверя; как бы страшен и велик он ни был, можно убить, нужно только изучить его повадки и уязвимые места. Не может быть, чтобы и у Небесного Змея не нашлось уязвимых мест. Может быть, кому-то и повезет. Хорошо бы, повезло ему. И дальше он думал только об этом.
Наследство полубога
Он, ожидая смерти, жил, И умер в ожиданье жизни… Т. КорбьерСвершилось. Неожиданно рано. Александр, когда-то сын царя Филиппа, а теперь, согласно уверениям его самого (верить в которые признано государственной необходимостью) — сын Аполлона и, следовательно, полубог, неистовый младенец, позабывший в походах Македонию, человек, впервые в земной истории попытавшийся создать мировую империю, созидатель и разрушитель, — тридцати лет от роду ушел из этого мира навсегда. Без сомнения, для приближенных и окружающих это было громом с ясного неба, но ошеломление в таких случаях не столь уж продолжительно — оно очень быстро улетучивается, едва подступает сном вопросов и проблем, с которыми нужно расправиться незамедлительно, — иначе они расправятся с тобой.
И по воде пошли круги от неожиданного камня…
Элогий первый[1]
Луна над Вавилоном, желтая и грузная, тащится среди звезд, брюхатая, с заметным усилием, она ничуть не похожа на серебристую македонскую луну. Впрочем, Птолемей Лаг, друг и ближайший соратник Ушедшего, начал уже забывать, как выглядит Луна над ночными македонскими горами. Как и все остальные. Слишком много пройдено, слишком огромны пространства, с которыми познакомились выходцы из маленькой горной страны. Слишком велика созданная империя. Поэтому никто из оставшихся не собирается выполнять волю Александра и расширять империю далее. Задача более реалистична — управиться с тем, что уже завоевано. А вернее, если совсем откровенно: как все это разделить. Разделить — это слово еще не произнесено, но оно неминуемо должно прозвучать, выводя из тупика. Все этого ждут, и никто не решается произнести его первым. Никто из тех, кто сейчас не спит, охваченный мучительными раздумьями. Они не знают, что первым произнести это слово решился Птолемей Лаг. Вот только что решился, наконец, верно, в такие минуты седеют. Вполне вероятно. Только не он.
Он просто решился первым разрубить узел. И чтобы избавиться от тягостной неопределенности. И потому, что слишком хорошо знает мысли и побуждения всех остальных.
Старый македонский обычай, согласно которому наследника престола утверждает войсковое собрание, сподвижникам Ушедшего кажется теперь устаревшим патриархальным установлением полузабытой родины. За время походов они познакомились с другими методами наследования. Ни ребенок Александра, что должен появиться на свет месяца через четыре, ни его мать Роксана не станут людьми, которым можно добровольно отдать богатое наследство. Какое отношение, если поразмыслить, имеют эта женщина и нерожденный ребенок к тяжким трудам по созданию империи?
Поле принадлежит тому, кто старательно возделывал его. Поэтому Птолемей предложит завтра утром… нет, слово «разделить» так и не будет произнесено. Всего лишь расчленить империю на сатрапии и передать сатрапии в управление военачальникам.
Конечно же, он прекрасно понимает, что пройдет совсем немного времени, и управители объявят себя владыками. Что вслед за этим их войска ринутся друг на друга и неминуемо завяжется долгая кровеобильная неразбериха, в которой в первую очередь погибнут никому уже не нужные и опасные родные и наследники Александра. Что из того?
Приличия будут соблюдены, тайные помыслы удовлетворены, и главное — сохранена видимость благопристойности. Остальное — дело судьбы, на которую и ложится вся вина за будущую кровь…
Что касается его самого, он должен получить Египет, страну богатую и, что важнее, в силу географического положения более неприступную, чем, например, Фракия или Великая Фригия. Страну великих пирамид.
Кроме холодного расчета, теплится в глубине души чисто детское желание владеть этими неподвластными времени громадами, символизирующими величие государства. Итак, Египет.
И никаких попыток безгранично расширять будущее царство. Птолемей не без основания уверен: сейчас, наверное, он — единственный, кто понимает, что империя — штука недолговечная. Остальные еще не очнулись от внушавшегося долгие годы Александром наваждения — мечты о власти над миром. Что ж, тем лучше. Пока будут кипеть бессмысленные страсти и схватки за власть над распадающейся империей, он будет создавать Египет, каким хочет его видеть. Когда другие спохватятся, будет поздно. Отказ от власти над мирам вовсе не означает, что Египет замкнется в своих границах, как черепаха в панцире.
Итак, путь начертан, и с этой минуты по нему пройдет Птолемей Лаг, основатель династии Лагидов, Птолемей I Сотер — «спаситель», получивший впоследствии от египтян этот титул за избавления их от Александрова наместника. Начнет путь предок Клеопатры, будущий покровитель наук и искусств, которому суждено превратить свою столицу в культурный центр эллинского мира, автор наиболее объективных воспоминаний об Александре. Это — в будущем. Самый осторожный, изворотливый и трезво мыслящий из приближенных Александра? Это в прошлом. А сейчас, в настоящем, в коротком отрезке неопределенности…
Сейчас это умный человек, которому горько. Он наметил и до мелочей продумал все, что скажет завтра, так что теперь можно подумать и о своем, но лучше не думать… Хорошо бы забыть навсегда о том, как друг юношеских лет, чем больше было пройдено и отвоевано, становился все более величественным, непогрешимым и жестоким, по пьяному капризу или из холодного расчета (именуемого льстецами — о, разумеется! — государственным умом) уничтожал былых товарищей и казнил десятками македонских ветеранов, вся вина которых заключалась лишь в том, что они устали шагать или протестовали против тиранических замашек. О том, как все более чужим Александр становился родине и в конце концов отрекся от отца, провозгласив своим отцом Аполлона. Неужели за власть над миром обязательно надо платить такую цену? Тем более, что власть над миром так и не обретена? Неужели он не понимал, что его жизнь давно превратилась в тупое, бессмысленное движение вперед — и только?
Может быть, он давно перестал понимать, ради чего шагает, но остановиться уже не мог? Его беды и поражения — беды и поражения его сподвижников. Неужели вся жизнь Птолемея — лишь ради того, чтобы прийти к власти над Египтом? И только? Для того живет человек?
Вопросов столько, что готова лопнуть голова, но инстинкт самосохранения останавливает поток опасных мыслей. Вино, булькая, наполняет тяжелую золотую чашу. К чему раздумье над загадочным путем чужой жизни, если ты не собираешься его повторять?
Пора посылать людей к верным войскам.
Элогий второй
Возвращение домой всегда приятно, особенно если ты долго трудился вдали от родины для ее блага и знаешь, что оправдал надежды. Завтра они с чистой совестью и со знанием исполненного долга могут тронуться в путь, к городу Ромула на семи холмах. Нужно еще выбрать дорогу — поговорка о том, что все дорога ведут в Рим, появится значительно позже.
Вот и все, Марк Сервилий, Юний Регул и Гней Себурй Марон. Предстоит сбросить опостылевшие личины купцов, которые вынуждены терпеть досадные тяготы бродячей военной жизни, где каждую минуту можно нарваться на грубые насмешки, а то и оскорбление действием. Достойно ответить нельзя, не выходя из роли. Только несколько человек там, на семи холмах, знают, куда исчезли из Рима несколько лет назад трое квиритов — полноправных римских граждан, патрициев, прошедших не только военную подготовку — они досконально изучили и эллинскую литературу (своей, латинской, пока почта нет).
Даже родным преподнесли полуправду. Потому что ставки слишком велики. Народное собрание Рима собирается все реже и реже. Оно — пережиток прошлого: чрезвычайно громоздко, магистратов избирают всего на год, так что те не успевают приобрести должный опыт в государственных делах и влияние. Сенат, оплот аристократии, формально числящийся совещательным учреждением при магистратах, фактически держит в руках все. Планы на будущее в том числе. А суть этих планов, какими бы утопическими они ни казались, — сделать мир римским. Учиться искусству создания мировой империи есть у кого, поэтому Македонец находился под прицелом зорких глаз последние несколько лет. Вплоть до своей глупой смерти.
— Будет давка, конечно?
— Непременно, — согласно кивает Марк Сервилий. — Слишком много загребущих рук вокруг пустого трона. Вряд ли интересно наблюдать, как они рвут друг другу глотки. Мы узнали достаточно.
Официально среди них нет старшего, все равны, но Марк все равно держит себя, как старший. Гней Себурий Марон не возражает, он в глубине души согласен, что в любом деле необходимы четкие (пусть в иных случаях неписаные) разделения по субординации. Разделение, помимо всего прочего, снимает с младших изрядную долю моральной ответственности. А каждый умный человек должен стремиться к меньшей ответственности, полагает Гней. В общем-то согласен с разделением по старшинству и Юний Регул, самый младший по возрасту, кстати. Хотя причины другие — он просто так привык. Мир таков, каков он есть. Вот только эта пухлая Луна над Вавилоном… Что же, все так просто — перенять опыт Ушедшего и браво, бездумно шагать вперед?
Он, не удержавшись, повторяет это вслух.
— Конечно, — вроде бы и не удивившись, кивает Марк. — Впервые человек попытался завоевать мир. Проходить мимо такого опыта грешно. Мы используем, понятно, не все из его опыта, но сам опыт показывает — мир можно завоевать.
— Он не завоевал мир, — тихо говорит Юний.
— Он был слишком молод. И он был один, если вдуматься. Один на самой вершине. Здесь и кроется ошибка, от которой мы избавлены заранее. Римская аристократия — это сила, способная избежать ошибок и упущений одиночки.
— У одного могут быть одни ошибки. У многих — другие.
— Долгое пребывание вдали от своей семьи порождает известное вольнословие. Когда мы вернемся, у тебя это пройдет… Конечно, Юний, ошибки возможны. Но величие цели и общий труд во имя достижения этой цели помогут исправить любые ошибки.
Марк не знает сомнений и тревог. Что же, так действует обретенный за годы опыт?
— Странно, — говорит меж тем Марк. — Похоже, ты стремишься опровергнуть старую истину, что самые юные — наиболее дерзкие и никогда не колеблются… Боишься?
— Боюсь.
— Чего?
— Завоевывать мир. Италия, затем, должно быть, Сиракузы, Карфаген, Греция. Наследство Македонца. Какие новые ошибки могут подстерегать на этом пути?
Марк Сервилий пристально смотрит на него. И успокаивается вскоре — понимает, что охватившие младшего соратника сомнения мимолетны, они, строго говоря, нормальны в разведывательной работе и не достигли и не достигнут той страстности и силы, когда человек яростно стремится заразить своими сомнениями других. Сомнения порой необходимы, как приправа к кушаньям, — Марк великодушно это допускает. Он прочел немало умных свитков и далек от солдафонской ограниченности. Он уверен в своем знании многосложной человеческой природы и ожидает, что сомнение в глазах Юния вскоре погаснет.
Так оно и происходит. Юний не знает в точности, чего боится, и потому не прочь расстаться со смутным призраком будущих опасностей.
Впереди Рим, его Рим, его аристократическая община, по отношению к которой он обязан соблюдать то, что выражается словом pietas — верность, благочестие. Да и жизнь Александра, огненным метеором пронесшегося над царствами и судьбами, не может не впечатлять. Так что лучше уж без сомнений.
— Ну, а ты-то избавлен от нелепых страхов? — Марк только сейчас вспоминал, что за время их с Юнием разговора Гней Себурий Марон не проронил ни слова.
Все в порядке, но Марк не зря числит себя в знатоках человеческой природы: светлые глаза Гнея вызывают у него непонятную тревогу. Что в этих глазах? Преданность идеалам и, понятно, готовность не пожалеть жизни ради этих идеалов — как же одно без другого? Но что-то остается неразгаданным, что-то ускользает…
А меж тем все очень просто. Гней Себурий Марон с удовольствием отправил бы к праотцам и Юния, посмевшего терзаться сомнениями, и Марка с его верой в высшее предназначение аристократии. Гней Себурий Марон — плоть от плоти и кровь от крови римской аристократии, но, по его глубокому убеждению, и аристократия — не белее чем толпа, а Гней ненавидит толпу, из кого бы она ни состояла.
С точки зрения Гнея Себурия, то, что они проникли в тайну изготовления «белого железа» — стальных мечей, которыми индийцы легко перерубали македонские, — не самое главное. Главное он открыл для себя, наблюдая Македонца: историю лепят сильные личности, чей меч не знает разницы между шеями патриция и плебея. Еще вернутся времена полноправных римских властителей, вроде царя Тарквиния Гордого. Только во главе с личностью можно надеяться покорить мир. Только страх, уравнивающий всех, только пирамида с абсолютным тираном на вершине и множеством тиранов помельче, с гармонично убывающими возможностями — основа мирового господства. Хвала богам, в Риме есть кому выслушать его и понять…
А ведь будущее закрыто для него. Он так никогда и не узнает, что родился слишком рано, — лишь через двести с лишним лет Рим окажется под властью единолично правящих рексов, которые растопчут, в конце концов, видимость республики и по примеру Македонца провозгласят себя богами.
И что бы они ни думали сейчас каждый в отдельности, они готовы выступить перед Римом как один человек. Внимательна выслушав их, Рим свернет на известную ныне во всех подробностях дорогу.
Пора собираться. Путь от Вавилона до портового города Тира, где верный человек устроит их на корабль, не близок. Но время их не подстегивает. Они даже не представляют, сколько у них времени.
Восемьсот с лишним лет пройдет, прежде чем рухнет величие города Ромула на семи холмах…
Элогий третий
Перипатетики — означает «прогуливающиеся». Занятия со своими учениками и последователями Великий Аристотель Стагирит предпочитает вести, степенно прогуливаясь под сенью деревьев Ликейской Рощи или на морском берегу. Новичок не мог об этом не слышать, но с непривычки ему трудно следовать устоявшемуся ритму прогулки: он то отстает, то опережает Стагирита. Он не может не замечать усмешек и оттого становится все более неуклюжим. Но Аристотель словно бы не видит его багровеющего лица, не слышит смешков. Поступь Великого Учителя плавна, речь ровна, столь же степенны и перипатетики: гармоничная картина высокоученого общества, подпорченная этим провинциалом, затесавшимися на свое несчастье. Перипатетики ждут, они все знают наперед и вслушиваются в журчание баритона Учителя с гурманским наслаждением.
— И наконец, — говорит Аристотель, — помимо чисто практических доказательств, нельзя забывать того, что Атлантида еще и просто-напросто выдумана Платоном для проповеди своих глубоко ошибочных философских и политических взглядов. При всем моем уважении к Платону я отрицательно отношусь к его трудам на ниве лженауки.
Лженаука вредна и опасна как раз тем, что растлевает неокрепшие умы.
Вот и ты поддался обаянию сказок о погибшем континенте, не дав себе труда задуматься над тем, для чего это понадобилось Платону. Посмотри вокруг, вернись на землю — разве мало насущных проблем, которыми обязан заниматься ученый? Я бы был рад стать твоим наставником на пути к подлинной науке, мой Ликей…
— …открыт для любого, пожелавшего рассеять заблуждения Платона. Я знаю.
Перебивать Учителя не полагается, и шепоток возмущения проносится над морским берегом, но не похоже, что провинциал смущен. Странное дело, у него вид человека, получившего подтверждение каким-то своим мыслям, к ходу беседы не относящимся. Аристотеля это беспокоит.
Неужели Атлантида — лишь предлог? Тогда зачем явился к нему этот человек, где пересекаются их интересы?
— Обычно критики старались щадить Платона, — говорит провинциал. — Они деликатно замечали, что Платон некритически воспользовался чужими вымыслами — Солона либо египетских жрецов. Ты первый, кто обвинил в умышленной лжи самого Платона.
— Я дорожу и Платоном, и правдой, но долг ученого заставляет меня отдавать предпочтение правде.
— О да, ты служишь лишь правде. Родом ты македонец и никогда не изъявлял желания получить афинское гражданство. Но ты лучше самих афинян знаешь, что рассказы о героических деяниях их предков вымышлены Платоном. Что Платон, прикрываясь легендой об Атлантиде, распространял ложные политические теории о былых свершениях афинян. И мне крайне любопытно звать, на чем зиждется твоя уверенность в обладании истиной.
Окружающие выражают свое возмущение откровенным ропотом, но Аристотель спокоен, он даже улыбается, и голоса стихают. Наглец сам лезет в ловушку — и Учитель приглашает учеников этим полюбоваться.
— На чем? — переспрашивает Аристотель. — На том, дорогой мой, что идеалистические взгляды Платона побеждены самой жизнью, то есть присоединением афинской республики к империи великого Александра, не имеющей ничего общего с государством-утопией Платона. Может быть, ты хочешь меня заверить, что божественный Александр для тебя менее авторитетен, чем идеалист и лжеученый Платон? Что измышления Платона о республике можно противопоставить деяниям Александра?
Удар неотразим. Только самоубийца может ответить утвердительно.
Так что оплеванному оппоненту представляется право потихоньку убраться, не обременяя более своим присутствием ученых мужей, светочей истинной науки. И чем скорее, тем лучше для него.
А он стоит на прежнем месте. Он словно постарел внезапно, смотрит жестко, и Аристотелю помимо воли начинают видеться другие лица, другие имена, вычеркнутые им из жизни и из истории Афин.
— Все правильно. Твоя логика непобедима, с тобой невозможно спорить, Учитель, — говорит провинциал. — Впрочем, меня об этом предупреждал Крантор. Знаешь, он еще жив, хотя наше захолустье дает ему, право, мало возможностей для научных занятий по сравнению с великолепными Афинами. Но он упорен.
— Я знаю, — говорит Аристотель. — Пожалуй, кроме упорства, у него сейчас и не осталось ничего?
Сзади шелестит вежливо приглушенный смех.
— Пожалуй, — соглашается провинциал. — Ты прав, он потерял многое из того, чем обладал, но он и не обзавелся ничем из того, чем не желал обзаводиться. У него остался он сам, точно такой, каким он хочет себя видеть. Я рад был познакомиться с тобой. Учитель, и с вами, почтенные перипатетики, опора истинной науки. Мне непонятно, правда, почему вы вслед за Учителем усердно повторяете, что у мухи восемь ног? Ног у мухи шесть, в этом легко убедиться, возле вас вьется столько мух… Но не смею более обременять ученых мужей своим присутствием.
Дерзкая улыбка озаряет его лицо, и видно, что он все же молод, очень молод. Потом он уходит прочь от морского берега, все смотрят ему в спину и явственно слышат шелест медных крыльев страшных птиц стимфалид. Доподлинно видится, как они летят вслед удаляющемуся путнику, чтобы обрушить на него ливень острых перьев — уверяют, что там где водятся стимфалиды, племена, не владеющие искусством обработки металлов, подбирают перья и используют их, как наконечники для стрел.
Берег моря покоен и тих. Перипатетики на разные голоса выражают возмущение, но Аристотель не вслушивается. Он выше житейской суеты, и ему совершенно нет необходимости прикидывать, кто именно из присутствующих незамедлительно отправится к блюстителям общественной гармонии и расскажет о дерзком провинциале, из речей которого можно сделать далеко идущие выводы. Какая разница, кто? Так произойдет.
Великий Аристотель спокоен — его не может оскорбить выходка юнца, попавшего, к сожалению, под разлагающее влияние одного из тех, от кого бесповоротно очистили науку. Главное — создать систему, а система игнорирует и нахальные выпады недоучек, и само существование разбросанных где-то по окраинам Ойкумены лжеученых.
Система создана, и Аристотель имеет все основания гордиться собой.
Он — про себя — великодушно прощает тех, кто считает его всего лишь ловцом удачи, использовавшим счастливый случай: то, что его воспитанник стал полубогом и властителем полумира. «Аристотель утверждает себя в науке, безжалостно топча соперников, используя власть почитающего его полубога», — право же, такое обвинение способны придумать только крайне недалекие людишки.
В действительности все сложнее. Аристотель ценит и любит Александра и уверен, что огромная, все расширяющаяся держава требует, кроме организованной военной силы, еще и опоры в виде столь же организованной науки, укрепляющей тылы. Созданием этой опоры Аристотель и занят. По природе он добр, но, как зодчий невидимого эллина, обязан с примерной твердостью устранять все, вредящее ходу строительства. Как это было с республиканскими заблуждениями Платона, не вяжущимися с империей и величием полубога. Как это было со многими другими, вроде на миг всплывшего сегодня из тяжелых, липких вод забвения Крантора. Платон был учителем Аристотеля, но интересы империи выше. Глупо и сравнивать. Возможно, он, Аристотель, был излишне резок, недвусмысленно обвиняя Платона во лжи и лженаучных теориях, чрезмерно жесток со многими другими. Наверняка. Но железная идея всемирной империи, титанические деяния полубога не считаются с интересами людей-пылинок и не позволяют вникать в переживания каждого отдельно взятого философа. Атлантида Платона, послужившая средством для распространения ненужных теорий, никогда не встанет из волн. Да и не было ее никогда. Не до нее. Александр молод, ему многое предстоит сделать, а следовательно, и Аристотеля ждут нешуточные труды. Как он там, Александр? — приливает к сердцу теплое чувство, и Великий Аристотель Стагирит, как никогда, преисполнен решимости крепить устои империи, послушную ее интересам науку, несмотря на любых врагов.
Он не знает, что еще долго, очень долго будет служить непререкаемым авторитетом для ученого мира, и решившихся его ниспровергнуть будут жечь на кострах, и полторы тысячи лет пройдет, прежде чем решатся сосчитать ноги у мухи, не говоря уже о более серьезной переоценке трудов Великого Учителя. Но самого его ждет участь беглеца — скоро, очень скоро…
Он смотрит в море, равнодушно отмечает корабль на горизонте, но он и представления не имеет, что за весть плывет в Афины под этим прямоугольным парусом.
Элогий четвертый
— Старая, из какой такой глины Прометей вас, баб, вылепил? За день наломаешься в мастерской — что я, для собственного удовольствия кувшины делаю? — и что же я дома нахожу? Всю неделю на столе бобы, надоело, в глотку не лезут, шерсти куча лежит нечесаной, а ты вместо шерсти опять язык чешешь с соседками? Ну о чем можно болтать весь вечер?
— Александр умер.
— Кожевник, что ли? Хромой?
— Скажешь тоже. Наш царь, сын Филиппа. В Вувилоне каком-то, что ли. Где такой?
— Я почем знаю? Александр, говоришь? Сомневаюсь я…
— В чем, гончарная твоя душа?
— Как тебе объяснить, старая. Нет, помню я Александра — храбрый был мальчишка. Как он с Буцефалом справился, как он соседей громил…
Сколько лет, как они ушли неизвестно куда, сколько лет одни слухи.
Мол, завоевал несметное множество царств, мол, дрался с драконами, мол, строит города. Кто их видел, эти царства, города, драконов?
Македония — вот она, не изменилась ни чуточки, те же бобы, те же горшки, те же звезды. Забор еще при моем отце покосился, так и стоит.
Я тебе вот что скажу, старая: все врут. Был Александр — и ушел. Кто его знает, где он сгинул. А все, что о нем потом наплели — ложь. И Вувилона нет никакого. Выдумки одни. Слушай больше.
Домой, где римская дорога
Он сидел за столом, сколоченным из толстенных плах, исхудавший, заросший густой щетиной. Жареная курица дергалась в его нетерпеливых ладонях, как живая, он вонзал зубы в мясо и резко дергал головой назад, отрывая куски, глотал, не прожевав толком, торопливо отхлебывал эль, давился, кашлял. Справа стояло набитое наспех обглоданными костями блюдо, слева стояли кувшины. Парочка зажиточных иоменов, оборванный монах, важничавший писец, белобрысый клирик и несколько крепко пахнущих селедкой рыбаков держались ближе к двери. На всякий случай. Возвращавшихся не всегда можно было понять, иногда они сатанели мгновенно и без видимых причин. За окном было густо-синее кентское небо, скучные холмы и старая римская дорога, пережившая не одну династию.
Он отшвырнул пригоршню куриных костей и схватил кувшин. Запрокинул голову. Эль потек на грязную старую кольчугу, на колени. Брызнули мокрые черепки.
— Вот такие-то дела, — со вздохом сказал в пространство трактирщик. Бесхитростное на первый взгляд замечание на деле имело массу оттенков и сейчас вполне сошло бы за попытку начать разговор.
— Песок, — сказал рыцарь, ни на кого не глядя. — И снова песок. И сто раз песок, болваны…
Он поднял обеими руками меч и с силой воткнул его в пол, целясь в некстати прошмыгнувшую кошку. Промахнулся и грустно покривил губы.
— А там нет кошек, — сказал он вдруг. — И ничего там нет, кроме песка. Песок становится пыльными бурями, а из бурь налетают сарацины.
Господи, ну почему? Почему все так непохоже на саги и эпосы? Когда мы высадились в Алеппо, каждый был Роландом или уж Тэллефером по крайней мере. Мы грезили снами о смуглых красавицах, набитых драгоценностями подземельях и блистательных поединках на глазах у короля. И ничего подобного! — Он сгреб пустой, кувшин и шваркнул им в монаха. — Ристалища обернулись нудными каждодневными рубками, божественные красавицы — скучными шлюхами, а гроб господень — просто щербатая и пыльная каменная плита. И султан Саладин никак не желал сдаваться, прах его побери…
— Но пряности? — осторожно заметил трактирщик, стоя так, чтобы при необходимости одним рывком нырнуть в открытую дверь. «Совсем мальчишка», — подумал он, жалеючи.
— Пряности… — глаза рыцаря были трезвыми и стеклянными. — Подумаешь, достижение — привезли сотню мешков с приправой для супа да семена овощей. Где зачарованные принцессы, я тебя спрашиваю? Где волшебные самоцветы? Колдуны? Драконы? Заколдованные замки? Будь они все прокляты — и Ричард Львиное Сердце, и Болдуин, и остальные! Они отравили нам души. Они обманули нас. Обещали небывалые приключения, прекрасные чужие страны, похожие на миражи, а привели в преисподнюю — чахлые пальмы, верблюжий навоз и грязные лачуги, над которыми глупо вздымается крепость Крак. И даже миражи — это миражи столь же гнусных домишек и кустов…
Окно выходило на юг. На юге лежала та земля, откуда он приплыл вчера. Он скривил губы, отвернулся и звонко сплюнул на пол. Беззвучно подкравшийся трактирщик ловко поставил рядом с его обтянутым дырявой кольчугой локтем полный кувшин…
— Я и смотреть не хочу в ту сторону, — громко объявил рыцарь. — Той стороны света для меня не существует. Есть только север, запад и восток — и никакого юга! Там смешались с песком глупые иллюзии несчастных юнцов! У меня даже Изольды нет! И Дюрандаля нет! — он допил эль и отер губы кольчужным рукавом, оцарапав их до крови.
— Что же, все вернулись? — тихо поинтересовался трактирщик.
Рыцарь мутно посмотрел на него, захохотал и махнул рукой.
— Какое там, старина… Эти болваны по-прежнему барахтаются в песках. Через неделю штурм Иерусалима, будут реветь трубы, будут трещать копья, и кучка упрямых идиотов усердно станет притворяться, что за их спинами — Ронсеваль. Ну и пусть. Сколько угодно. Только без меня. В этом мире нет ничего среднего. Либо подвиг, либо грязь.
Третьего не дано. И они там третий год играют в кошки-мышки с сарацинскими разъездами, жрут самогон из фиников и притворяются, что обрели желаемое. И ни у кого не хватает смелости признать принародно, что ошиблись, гонор не позволяет им вернуться, упрямство заставляет ломать комедию дальше, дальше… Ну и черт с ними. Плевал я на их проклятый песок и на них самих. Держи.
Он швырнул на стоя горсть диковинных монет. Рисунок на них был странный, чужой, невиданный, но трактирщик попробовал одну на зуб и успокоился — настоящее полновесное серебро. Рыцарь сгреб в охапку меч, шлем, щит, узел с чем-то тяжелым и направился к двери, роняя то одно, то другое, подбирая с чертыханиями. Все молча смотрели ему вслед.
Трактирщик, кланяясь, подвел худого рыжего коня, помог приторочить к седлу доспехи и узел с добычей. Над ними было густо-синее кентское небо, вдали белела старая римская дорога, зеленели сглаженные временем холмы.
Рыцарь не сразу взобрался на коня. Он стоял пошатываясь, положив руку на седло, смотрел на юг, и в глазах у него была смертная тоска.
До Кристобаля
Так оно порой и получается — минутное утреннее раздражение, прилив недовольства из-за сущего пустяка влекут за собой новые неприятности, одно цепляется за другое, и в конце концов тебя злит все, что происходит вокруг. Под ложечкой покалывало, ехавший слева отец Жоффруа сидел в седле, как собака на заборе, а ехавший не менее гнусно капитан Бонвалет, прихваченный как знаток всего связанного с мореплаванием, два раза пробовал завязать разговор, и пришлось громко послать подальше этого широкомордого пропойцу, родившегося наверняка в канаве.
Временами хлестали порывы прохладного ветра, и без плаща было зябко.
Поговаривали, что скоро начнется новый поход во Фландрию, означавший новые расходы при весьма проблематичных шансах на трофеи… Словом, де Гонвиль чувствовал себя премерзко. Сидеть бы у огня, прихлебывая подогретое вино, да ничего не поделаешь — королевская служба. Этот участок побережья был в его ведении, и каждое происшествие требовало личного присутствия. Обстановка. Приказ. Напряженные отношения с Англией, в связи с чем предписывается повышенная бдительность и неустанное наблюдение за возможными происками. Приказы не обсуждаются, а то, что отношения с Англией вечно напряженные, тех, кто отдает приказы, не заботит. Хорошо еще, что де Гонвиль обладал правом своей властью наказывать подчиненных. И если снова дело не стоит выеденного яйца, быть арбалетчикам поротыми. В интересах повышенной бдительности: чтобы не путали таковую с мелочной подозрительностью. Если снова что-нибудь вроде давешней лодки с отечественными пьянчужками, которых только недоумок Пуэн-Мари мог принять за английских лазутчиков, долго настраиваться не было нужды, он и так почти кипел, косясь на отца Жоффруа, — того он выпорол бы с особым удовольствием, самолично, не передоверяя это наслаждение слугам. Хорошо, что святая инквизиция не способна проникать в мысли на тысяча триста семнадцатом году от рождества Христова.
Всадники проехали меж холмов, и перед ними открылся песчаный берег, за которым до горизонта катились низкие серые волны Английского канала. Капитан Бонвалет присвистнул, и де Гонвиль уже с явным интересом натянул поводья. Кажется, мысли о розгах приходилось пока что отложить.
Очень длинная лодка непривычного вида наполовину вытащена на берег, и несколько трупов разметались там, где их настиг ливень стрел, в разных позах, но одинаково нелепых — неожиданно застигнутый смертью человек всегда выгладит нелепо. Вокруг бродили арбалетчики, перебирали что-то в лодке, переругивались, доносился бессмысленный хохот. Потом все стихло — Пуэн-Мари увидел всадников и побежал навстречу своему начальнику.
Де Гонвиль спрыгнул с коня и пошел к берету, расшвыривая высокими сапогами песок. Следом косолапо поспешал морской побродяжка и пылил подолом рясы отец Жоффруа. Де Гонвиль начал подозревать, что проявившему крайне назойливое желание сопровождать его инквизитору рассказали о случившемся даже с большими подробностями, нежели ему самому. Кто, интересно, из его подчиненных ходит в родственниках? Но бессмысленно гадать, проникнуть в секреты черного воронья невозможно. Среди казненных несколько лет назад тамплиеров был родственник самого де Гонвиля, и кто знает, не отложилось ли это в цепкой памяти воронья — порядка ради, про запас.
Они встретились на полпути к лодке и трупам. Пуэн-Мари подошел, и по его хитреньким глазкам видно было — чует, что на сей раз обойдется без разноса. Гнусавя, он рассказывал, как к ним прибежал рыбак и сообщил о высадившихся на берег чужаках. Они с арбалетчиками залегли за дюнами и наблюдали, как явно измученные длинной дорогой чужаки, числом девять человек мужского пола, бурно выражали радость, а потом начали творить какое-то действо, смысл коего сразу стал ясен столь опытному человеку и старому солдату, как Амиас Пуэн-Мари: он быстро сообразил, что приплывшие объявляют открытую ими землю неотъемлемым и безраздельным владением своего неизвестного, но несомненно нечестивого монарха. Этого, разумеется, никак не могла вынести благонамеренная душа верного слуга его величества короля и господа бога Амиаса Пуэна-Мари, вследствие чего вышеозначенный отдал приказ своим людям пустить в ход арбалеты, что и было незамедлительно исполнено и повлекло за собой молниеносное и поголовное истребление противника, о чем Пуэн-Мари имеет счастье доложить, и да послужит это к вящей славе его величества Филиппа V. И господа бога, поторопился он добавить, глянув на отца Жоффруа.
— Значит, объявляли владением?
— Именно так, мессир. Их жесты свидетельствовали…
— Насколько я знаю, из всех существующих на свете жестов тебе понятен лишь подсунутый под нос кулак, — хмуро сказал де Гонвиль, не сердясь, впрочем. — Пойдем посмотрим.
Он присел на корточки над ближайшим трупом, пробитым тремя стрелами, отметил странный медно-красный цвет лица и тела, яркие перья в волосах, пестротканную накидку в чудных узорах — вся их одежда заключалась лишь в таких накидках да набедренных повязках. Не вставая с корточек, де Гонвиль вырвал у арбалетчика шнурок со странными украшениями, костяными и матерчатыми, явно снятый с шеи убитого.
Повертел, бросил рядом с трупом и отер перчатки о голенище.
Мощного сложения, хотя и изрядно исхудавшие, оценил он, таким прямая дорога на рудники, да и в его отряде они бы смотрелись. Он встал и заглянул в лодку. Ничего интересного там не оказалось: весла, обломок мачты, какие-то сосуды, пестрое тряпье. Разве что кинжал — стеклянный на вид и очень острый.
Он вопросительно глянул на морехода, и тот верно расценил это как приглашение говорить:
— Да все тут ясно, мессир. Мне, во всяком случае, ясно. Мачта сломалась давно, и их унесло в море от какого-то берега, болтались бог весть сколько, пока сюда не принесло. Всего и делов. Хотя, если они рискнули выйти в море на этой скорлупке, я таких уважаю…
— Так, — сказал де Гонвиль. — Только откуда их могло принести? В Африке живут черные, а в Китае — желтые. Никто никогда не видел краснокожих.
— Море приносит много загадок, мессир, — сказал капитан Бонвалет.
— Когда мы ходили на Азоры, выловили неизвестное дерево. И ветки со странными ягодами. Другие привозили странную резьбу по дереву. Говорят, кому-то попадались утопленники, вроде бы даже и краснокожие. Говорят, встречались и лодки с людьми. Море… — он смотрел на серые волны, но явно видел что-то другое. — Море, мессир…
— Многое можно выловить в чарке, — заметил отец Жоффруа.
— Ветки с ягодами я видел сам.
Де Гонвилю стало еще холоднее, когда он наткнулся на взгляд монаха — холодный взгляд, вызывавший мысли о пламени. Захотелось быть где-нибудь подальше отсюда, потому что густой дым с отвратительным запахом паленого щекотал ноздри — как тогда, в Париже, на острове Ситэ, где сжигали тамплиеров. К чему еще и это?
— Я поясню свои мысли, чтобы они легче дошли до сознания этого печально склонного к преувеличениям, как все моряки, человека, — тихо, совсем тихонечко говорил отец Жоффруа. — Я напомню этому человеку, что мы живем на земле, окруженной бескрайним океаном, и лишь эта земля существует, сотворенная и осененная господом. Будь за пределами нашего мира иные земли и населяющие их народы, мы знали бы об этом из Святой Библии, хранящей божественную мудрость и ответы на любые вопросы. В противном случае нам пришлось бы признать, что существуют иные земли, сотворенные явно дьяволом, и народы, происшедшие на свет иным путем, нежели от потомков Адама. Это ты хочешь сказать, капитан Бонвалет?
— Те, кто ходил на Азоры… — забубнил свое просоленный болван, и де Гонвиль, охваченный ужасом, и — вот странное дело! — ощутив вдруг, что Бонвалет близок ему в чем-то, что он не мог определить словами, заорал:
— Заткнись, пьянчуга, у тебя горячка!
Арбалетчики придвинулись было, но де Гонвиль яростно махнул рукой, и они шарахнулись на почтительное расстояние.
— Тебе незнакомы козни, на которые пускается враг рода человеческого? — ласково спросил капитана отец Жоффруа. — Для чего же тогда кладут свои труды духовные наставники? Может быть, ты нуждаешься в более подробных и долгих наставлениях? Мы всегда готовы помочь заблудшим овцам…
Жирный дым щекотал ноздри, и де Гонвиль, презирая себя, слушал собственный севший, униженный голос:
— Отец мой, этот человек туп, и требовалось известное время, чтобы он понял. Но он понял, я уверен.
Потому что речь шла не об этом капитане.
— Я… это… — Капитан шумно высморкался в песок. — Чего ж тут непонятного, духовные наставники, конечно… Святая Библия… Она все вопросы… Свечу я ставлю после каждого плавания, святой отец.
— Я рад, — сказал отец Жоффруа. — В таком случае ты понял: как только огонь уничтожит остатки дьявольского наваждения, ты забудешь и о них, и об этом огне. Потому что бывает еще и другой огонь. Ты много времени провел на воде и оттого, сдается мне, забыл, что огонь служит самым разным целям, в том числе и очищению души от скверны.
Капитан Бонвалет кивал, не поднимая глаз. Лица на нем не было.
— Иди, — сказал отец Жоффруа, и капитан пошел прочь, загребая песок косолапыми ступнями. Арбалетчики равнодушно пялились ему вслед.
— Мессир де Гонвиль, вы лучше знаете своих солдат и умеете с ними разговаривать. Любой, кто заикнется… Сумейте внушить это им. Действуйте. Не должно остаться ни малейшего следа. Вам всем приснился сон, из тех, о которых не рассказывают и на исповеди…
Он сжал сильными худыми пальцами локоть де Гонвиля, одобряюще покивал и вдруг произнес непонятное: «Неужели Атлантида?» — так, словно спрашивал кого-то, кого не было на скучном сером берегу. Потом в его умных и грустных глазах мелькнул страх, и ровным счетом ничего не понявший де Гонвиль подумал: ведь и за отцом Жоффруа следит кто-то в рясе или мирской одежде, и за ним, в свою очередь, наблюдает кто-то, и за тем, и дальше, дальше… И где конец этой цепочки, есть ли кто-то, свободный от надзирающего взгляда?
Отец Жоффруа отвернулся и пошел вдоль берега, перебирая четки. Его ряса оставила на песке змеистый след. Люди де Гонвиля метались, как черти возле жаровен с грешниками, и вскоре взвилось пламя. Солдаты пялились на него с тупым раздражением, перебирал четки отец Жоффруа, капитан Бонвалет сидел на песке, свесив голову меж колен, отвернувшись от моря и пламени. Де Гонвиль попытался представить себе необозримый океан, кончающийся где-то иными протяженными землями, за которыми опять же лежат необозримые океаны. От этого простора и грандиозности закружилась голова, его даже шатнуло.
…Как звучит прибой, омывающий Азорские острова?
Елена Грушко Моление колесу
К Острову подошли на двух лодках еще до рассвета и долго стояли в белом тумане, пока наконец он не истаял под солнцем и не открылся берег.
Почти сразу от воды начинался пологий ласковый пригорок. Тихо там было, трава еще сверкала росою. Малиновые стрелы иван-чая стремились к небу. Где-то далеко и высоко вразнобой позванивали медвяные голоса.
— Кра-со-та… — невольно проронил Сигма, но Гамма так шикнул, что тот съежился. Из соседней лодки недобро поглядел Бета, Альфа же только качнул головой и упрятал подбородок в ворот свитера. Знобило — от недосыпа, от сырости речной, от предрассветного холодка, от ощущения какого-то… предчувствия, что ли… которое все четверо тщательно таили друг от друга, но от себя-то его укрыть было невозможно, как ни старайся!
Проплыв еще немного вдоль берега, нашли развесистые тальники и под ветвями, полоскавшими в воде листву, укрыли лодки, надежно их зачалив. Потом выбрались по кривым стволам на сушу, стряхнули с плеч древесный мусор и еще какое-то время стояли, настороженно вглядываясь в зеленую бархатную завесу леса.
Больше они не обменялись ни словом, не решались курить. Это было нелепо вообще-то, потому что все равно придется себя обнаружить, и все-таки никто не решался первым сделать шаг вперед, первым обронить слово.
Начинать пришлось все же Альфе.
— Интервал пять шагов, максимум внимания! — шепотом скомандовал он и двинулся вперед. Остальные, строго по порядку, направились за ним, след в след.
Тишина, тишина…
И вдруг резкий ветер колыхнул траву. Это была воздушная волна, а вслед за ней из глубины леса внезапно взвился в поднебесье хор поющих, играющих звуками голосов!
Они то приближались, то удалялись, то пригибали к земле травы, то заставляли их вздыматься и трепетать в унисон песнопениям нечеловеческим, а может быть, даже и неземным. Но в их радужных переливах неожиданно проступили, ошеломляя, очертания слова:
— Вера!.. Вера!..
Люди рухнули наземь, будто под обстрелом, уткнувшись в тяжко пахнущую траву, не смея поднять голов, пока не отгуляло над ними это рассветное многоголосье, совсем не похожее на обычные птичьи распевки. И даже мгновенный дождь, упавший с неба и стремительно исчезнувший, не заставил их шевельнуться.
И только когда вновь улеглась на берегу тишина, Альфа решился разомкнуть спекшиеся губы и выдавить:
— Вот оно… Началось!
* * *
— Вера!.. Вера!..
Она с насмешливой укоризной покосилась на зеленых зайцев, которые, расшалившись, вплетали ее имя в мелодию, и кивком указала ввысь: вот, мол, кому молитва предназначена, не забывайтесь, малыши!
Солнце уже выкатилось в небо, раздвинуло розовый занавес облаков и во всей красе явилось обожающим взорам.
Опираясь на плечи лиственниц и кедров, Вера самозабвенно пела вместе со всеми лесными обитателями утреннюю молитву.
Счастливо звенели рядом птичьи голоса: чудилось, каждая пичужка исторгает сердце из горла! — а деревья подтягивали низко, протяжно, даже сурово. Снизу, с земли, вторила трава Кликун — та, что кличет человеческим голосом по зорям дважды: «У! У!», и еще ревела и стонала, думая, что тоже поет, трава Ревяка.
Хор возносился выше, выше — чудилось, голоса сейчас разобьют голубой хрустальный купол! — но им не хватило сил, и, отразившись от него, звуки опрокинулись на лес, скользнули по ветвям, зазвенели по розовой глади Обимура, на которой еще различим был след Юркиной лодки.
Вера успела увидеть, как сын оставил весло, обернулся, помахал стоящим на вершинах деревьев — и скрылся в солнечном мареве.
Птицы все разом прощально затрепетали крыльями, зверье замахало лапами и хвостами, а зеленые зайцы подняли такую развеселую возню, что младшенький, Пашка, не удержался и мягко покатился вниз, к подножию кедра.
До Веры донесся его перепуганный вскрик: нет, он не расшибся бы, деревья и травы не допустят такого, но он смертельно испугался своего святотатства… Однако Вера тотчас простила его. Пашка совсем недавно среди зеленых зайцев, да и молитва окончена — день подступает, ждут дела.
Птицы спархивали с вершин, звери спускались степенно, только шалые бурундуки наперегонки с зелеными зайцами съезжали по скользким длинным иголкам, а кедры все качали и качали Веру, ревниво не желая отдать ее всполошенным нянькам-березам. Ну а те, заполучив ее все-таки, затеяли переплетать косы, омывать росой, пока Вера нетерпеливо не спрыгнула наземь и не убежала от назойливой их суетливости.
Она спешила к дубу Двуглаву. Еще сквозь сон слышала она нынче его стоны: столетние корни мозжат! — но Юрка не велел ей никуда идти, сам поднялся до свету и сходил успокоил старика, посулив, что Вера явится тотчас после утренней молитвы, а ночью тревожить ее не след… Как всегда, при одном воспоминании о сыне сердце Веры наполнилось счастьем и болью: сын вырос, уже не уследить было взором за полетом его мечтаний! И порою, гладя на него искоса, Вера видела в его ясном сердце две огненные стрелы: свою, пущенную из глуби речной, из тишины лесной, из вышины горной, — и стрелу того, другого человека, без которого не было бы Юрки, — нацеленную из мелководья улиц, из рева бегающих и летающих машин, из подземелий городских домов. Ох, как томилось там когда-то ее сердце, как просило красоты и тишины, как надрывался ум, не в силах постичь непостижимое — и в то же время понятное всем другим людям! В конце концов она ушла и унесла в себе сына, однако же зная при этом, что он вечно будет распят на перекрестье двух стрел: материнской и отцовской…
Деревья беспрерывно кланялись ей. Вера еле успевала отвечать. Но можно ль было хотя бы не кивнуть, не глянуть приветливо! Обидятся смертельно, зачахнут! Вот вчера — забылась, не коснулась верхушки травы Петров Крест, желтоцветной, многомудрой, и сегодня та, оскорбившись, уже перешла куда-то в иное место, а меньше чем за полверсты и не ищи ее, не надейся.
Ладно, вот приедет вечером Юрка, Вера сразу зашлет его послом к траве, чтобы замирил их.
Путь ее лежал сквозь благоуханный дым весеннего цветения, сквозь осеннее полыхание гроздьев лимонника, по утренней росе и ночным травам, цветущим огнем: Черной Папороти, Царь-Царю, Льву, Голубю — и ей надо было призадуматься, чтобы вспомнить: а что нынче, какой день и час по людскому счету?.. Здесь дремало Время. Она видела, как в Юркином лице, после возвращения из города, с вечера до утра вершилось медленное обратное движение часов и дней, словно облака плыли против ветра. Но ветер был — неизбежность. Утром мальчик Юрка неизбежно уходил — и до вечера, пока он пребывал в Городе, прожитые часы и дни возвращались к нему, к юноше Юрию, наверстывая упущенное, ибо в Городе-то Время не дремало и летело по ветру.
Ох, знала, знала Вера, что ускачет на свои дальние дороги ее длинноногий, ускачет когда-нибудь! И чашу жизни своей горько-сладостной будет пить взахлеб, и выпьет её до дна, — но и на закате останется томим тою же, тою жаждою, которая томит его ныне, в рассветных юности лучах.
Но вот впереди призывно замахала всеми своими листками трава Былие, что образом своим напоминает человека и растет под дубьем, а Двуглав при виде Веры издал болезненный скрип.
Зеленые зайцы Юркины, всю дорогу путавшиеся в ногах, смирно сели поодаль на задние лапки, сложив передние на пушистых животиках. Почтительно затаили дыхание: вот так дуб! Вот так старец!
Вера низко поклонилась. Дуб кряхтя ответил.
— Ну что, старый? — спросила Вера. — Неможется тебе? Дай погляжу.
Дуб тяжело напрягся и, стеная, осторожно вынул из земли один из своих узловатых корней, протянул Вере. В лицо ей сыро, стыло дохнуло из недр.
Двуглав длинно, скрипуче вздыхал, сотрясаясь всем туловом от жалости к себе, а Вера, прижимаясь к нему лицом, тихо мурлыкала, что всему, мол, свой черед, и надо терпеть старость, как претерпел когда-то, во времена достопамятные, юность, а потом и зрелость. Во всем разлито блаженство: в рождении и росте, цветении и увядании…
Зеленые зайцы покачивались зачарованно в такт ее словам.
Двуглав плаксиво намекнул было, что, чем так маяться, лучше бы уж поскорей… того… под топор, но Вера укоризненно спела ему, что слишком он скрипуч, и от роду таким был, а ведь известное дело: в скрипучем дереве мучится человечья душа, в срубивший такое дерево заставляет ее искать себе нового пристанища, а сам может поплатиться жизнью, не то — быть изувеченным. Зачем же свои беды на другого навлекать? Уж терпи, Двуглав, а боль — она как пришла, так и уйдет, ее Вера с собой унесет…
Мало-помалу полегчало старцу. Вот и листья разгладились, и желуди соком налились. Дуб благодарно повил Веру ветвями, и они немного постояли так, обнявшись, а зеленые зайцы, пострелята, кувыркались у их ног.
Вдруг дождь — Юркин дружок, пересмешник, бродяга — засверкал в вышине и обрушился на поляну рядом с Верой!
— А, это ты, — кивнула ему Вера. — Где тебя носило, скажи на милость? Поляны вовсе истомились, берег мелеет, гнилушки до того иссохли, что бунтуют ночами!
Дождь припал к ней, шептал, захлебывался:
— Люди! Люди на Острове! Ищут… Берегись!
Вера так и обмерла. Ох, снова… Снова!
Надо скорее к ним. Успеть проводить до Юркиного возвращения. Он горяч!.. А может, они с миром на этот раз?
Однако, глянув в переменчивое лицо дождя, сразу поняла: нет, они не с миром. Ну, тем более надо спешить.
— Пойду. А ты пока здесь оставайся, — велела дождю. Не доверяла она ему, болтуну! Еще людям про Юрку нашепчет, хоть и дружок ему. Однако, вспомнив, что им речений дождя все равно не понять, успокоилась немного.
— Пошла я. — И, успокоительно махнув остолбеневшим от страха перед явлением людей зеленым зайцам, невольно усмехнулась: ох и коротка же память!..
Безмолвие ответило ей. Все чудеса разом притихли, с тревогой глядя на Веру. Одинокий Волк предостерегающе взвыл ей вослед.
На обитателях Острова лежал зарок: ни кончиком крыла, ни краешком когтя, ни перышком, ни листиком людей не трогать! И Вере сейчас приходилось рассчитывать только на себя.
* * *
Сигма шел и думал, сколько ж придется это им бродить по Острову? На ходу он не раз касался груди — за пазухой лежал «револьвер», придавал бодрости. Оружие ему выдали вчера вечером, когда окончательно решено было, что с группой «похоронщиков» пойдет представитель районной общественности.
Судя по тому, что Сигма (ну и имечке ему присвоили! С другой стороны, скажи спасибо, что не Пси или Мю какое-нибудь. Что же, все правильно: эта троица главные, а он, Сигма, вроде как шестерка при них) — так вот, судя по тому, что Сигма, лицо в районе не последнее, слыхом не слыхивал про такую фирму, как «Токсхран», его и впрямь допустили к делу большой важности и секретности. Что ж, в наше время без контроля общественности никуда! А обстановка сложная: ведь десяток человек исчезло за месяц на Острове — это тебе не кот начихал. И все разведгруппы «похоронщиков».
Разумеется, Сигма не знал точно, чего именно надо хоронить: какие-нибудь там радиоактивные отходы, контейнеры с зараженной одеждой из Чернобыля или ядовитые химические отбросы, однако не сомневался, что — гадость. Ну и правильно! Надо же их куда-то девать, а Остров все равно богом забытый, никто тут почти и не живет, эти двое не в счет, переедут в Город, большое дело! Так что здесь самое место прятать эти поганые альфа-частицы или на что оно там, это ядерное… распадается? Альфа-частицы, бета, гамма… Во, в точности как этих мужиков звать! Ну, видать, не зря. А мужики серьезные. Глаза будто пеплом повернуты. Форма… вроде джинса, а подстежка как бы из фольги. И «револьверы»… Одно слово — «револьверы», а при них и счетчик Гейгера, и не курок, а целый компьютер, и вообще вид — что твои бластеры.
Темный лес нависал над людьми, в лицо бил ураган цветения, жарких, влажных запахов… голова слегка кружилась. Сигме приходилось то и дело одергивать себя, чтобы не налететь на Гамму или не отстать. От этого дурмана всякая чушь лезла в голову. Например, вдруг вспомнилось сто лет как позабытое: в десятом классе учился он, когда его в апреле пригласили на «открытие навигации» — речную прогулку в замечательной компании, с девчонкой, с которой он давно мечтал познакомиться, с выпивкой, гитарой, новыми магнитофонными записями… Мечта! И выходной как раз был, да вот беда: в школе именно в этот день затеяли воскресник по озеленению нового бульвара и поставили условие множеству недовольных: или пожалте с лопатой, или — комсомольский билет на стол. Страшно теперь и вспоминать, до чего в те годы доходило… Черт бы с ним, конечно, с билетом, — а как насчет грядущих выпускных экзаменов? И характеристики в вуз? И вообще — это же всю жизнь зачеркнуть одним махом!..
Разумеется, он пришел на воскресник и весь день молча копал ямы. И такая ненависть накопилась в сердце — нет, почему-то даже не к бранчливой классной, не к дуре секретарю школьного комитета ВЛКСМ, не к зануде функционеру из райкома — а к этим вот тоненьким прутикам с клейкими, пахучими листочками! Вечером Сигма (тогда его звали просто Вовка) вышел из дому, буркнув: «Я недолго, погуляю». Тело еще ломило — какие бы там прогулки! — но ненависть просила выхода.
На бульваре было темно и пустынно. Вовка прошел его насквозь, ощущая себя сказочным Вырвидубом, когда играючи выдергивал из земли нежно-кудрявые прутики и хрупал их через колено.
То-то писку было в школе наутро!.. Но никто и никогда ничего не узнал. Вовка старательно негодовал вместе со всеми.
…Сигма внезапно заметил, что стоит на месте — и все его боевые товарищи тоже стоят, настороженно вслушиваясь в старческое дребезжанье дубовых сучьев. Уж не поразили ли их тоже какие-то непрощенные воспоминания?
Вдруг деревья впереди расступились, и на тропу вышла женщина.
Она приближалась неспешно, слегка касаясь рукою стволов, и вокруг начинали звучать негромкие голоса, как будто она колоколов касалась.
Наваждение, конечно!
Наконец женщина остановилась неподалеку, опустив руки и чуть склонив к плечу голову. Вокруг нее словно бы реяло марево, и призрачным казалось ее лицо в зеленоватом — сквозь кружево ветвей солнечном свете. И даже какой-то зверек, похожий на зайца, на миг выскочивший было на тропу, но сразу прянувший в кусты, тоже показался зеленым!
«Похоронщики» настороженно молчали.
Настал черед Сигмы действовать.
— А, Королева! — кашлянув, проговорил он. — Здравствуй, значит.
Она молча обвела взглядом всех по очереди, и Сигма, встретившись с ее спокойными, очень светлыми глазами, вновь, как удар ветра, ощутил сумятицу цветочных вздохов, трепет трав, суету листвы на деревьях…
— Чего молчишь? — торопливо подал он голос, чтобы развеять эту муть. — Хоть бы поздоровалась. Небось, знаешь, кто я?
У нее и ресницы не дрогнули.
— Может, она немая? — спросил шепотом Гамма.
— А леший ее знает, может, и немая, — пожал плечами Бета. — Будем надеяться, что хоть сын умеет говорить.
— Умеет! — кивнул Сигма. — Он в тресте «Горзеленхоз» работает. По осени ему повестку зашлем — хватит в глуши отсиживаться!.. Эй, Королева! Ты куда это?
В ответ на слова Сигмы глаза женщины вспыхнули, потом она резко повернулась и пошла прочь. Она уходила, а в лесу ощутимо темнело, как будто в такт ее шагам постепенно гасли какие-то зеленые свечи, и вот меж деревьев, среди дня, уже металась, грозила тьма.
— Королева! Стой! — грозно возопил Альфа, но она только раздраженно отмахнулась — и, словно повинуясь этому жесту, из травы вдруг прянула мошкара! Шевелящаяся серая завеса скрыла высокую фигуру — и обрушилась на людей.
* * *
Юрка знал, что мать не рассердится, если он не вернется ночевать. Ну, встревожится, конечно, но ведь такое уже бывало! Он провожал солнце одинокой молитвой и грезил ночь напролет в терпких тополиных кронах, совсем близко к высотам поднебесным и птичьим перелетным путям, то наблюдая весеннее презрение или осеннюю забывчивость деревьев, то внимая песнопеньям дождя, то обращая взор в задумчивое небо, по которому одна за другой шествовали святые, непорочные звезды. Но как-то раз его отвлек жаркий шепот внизу, и, опустив глаза, Юрка увидел под своим тополем безумно слившуюся пару. Он смотрел и смотрел, шалея от незнаемого, и душа его надрывалась, чувствуя себя обделенной.
Наконец, спасаясь от земного, Юрка воздел снова глаза — и ох как сыпануло небо звездами в его узкие, горячие юношеские ладони!
«Только не в землю, только пусть не зарывают! — смятенно подумал в тот миг звездолов. — Под ветром, под солнцем, под звездами — если когда-нибудь я все же умру!»
Чьи-то взоры лились на него с высот, лаская, ободряя, но не наделяя при этом прозрением лукавым, что через многое множество лет возмечтает он умереть не где-нибудь, а на ложе любви!..
Молодость бродила, бурлила в его сердце, но он пока еще не знал названья, меры и цены этому бушеванью страстей.
Юрка снова и снова проводил ночи на деревьях, с которых весь день осторожно состригал сухие и больные ветви, но больше соединенных пар не видел, и душа его постепенно успокаивалась, притихала. Тьма дышала ему в лицо, дыхание ее было иным, чем у лесной тьмы…
Вот и нынче он хотел остаться в городе, да, бросив нечаянный взгляд с высот на Обимур, заметил странные знамения в его неспокойной темной воде.
Всмотрелся, вслушался.
Разливал невнятные жалобы ветер, и Юрка почувствовал, что тревога опутывает его своими сетями.
* * *
Насилу отбились от летучей нечисти! Бета, правда, раз ударил из своего «револьвера»… Сигма ждал чудовищного грохота, но нет — только полыхнуло узкое, белое пламя… необычайно жарко стало на миг… листья на ближайших деревьях съежились, а завесу мошкары этот луч пронзил, словно игла: она раздвинулась было, да тут же сомкнулась вновь. Пришлось лезть в воду, скидывая на ходу одежду. Мошкара еще пометалась грозно, а потом вся разом улетела в лес. Тучи ее долго еще завихрялись меж стволов, падали оземь, взвивались к вершинам, и, чудилось, лес клокочет возмущенно.
Страшно было шагнуть на берег, но не меньше пугал и этот угрожающе-глубокий покой обимурских вод, неотступно окружавших остров. День еще вовсю пламенел, и на небе — ни облачка, однако Обимур гляделся белым, серебристым, предгрозовым.
— Что это ее разобрало? — стуча зубами, одевался Сигма.
— С чего она вдруг рассвирепела так?
— Ты о ком? — спросил Альфа.
— Да об этой, Королевой.
— Как ее зовут, кстати?
— Вера ее зовут. Вера Ивановна Королева. Я перед отъездом справки навел, — произнес Сигма да так и замер на одной ноге.
Вера?!.. Но ведь именно это слово или имя слышали они нынче утром, когда грянул вдруг тот неземной хор! Неужто никто не обратил на это внимания? И он зачастил:
— Как же вы не заметили, что это она все! Она рассердилась, когда я обмолвился, что ее сыну пришлют повестку в армию! Рассердилась — и наслала на нас эту жуткую мошкару!
Гамма хмыкнул, Бета, качая головой, отвел глаза, Альфа же, наоборот, тяжело поглядел на Сигму.
Конечно, Альфа скорее откусил бы себе язык, чем признался… но, как ни странно, ему тоже почудилось, будто мошкара набросилась на них по злой воле той женщины. Дико, глупо, да, но… Черт знает, что лезет в голову на этом Острове!
Вот, скажем, когда они сидели в воде, клацая зубами, а сверху их атаковали тучи мошкары, он вдруг вспомнил ни с того ни с сего, что бесконечно давно, во дни туманной юности, как пишут в художественной литературе, взбрело ему однажды развеять скуку и прокатиться на автомобиле. Тогда, понятное дело, не нажил он еще «Тойоты». Как говорится, и в проекте не значилось. Зелененький тогда был такой парнишечка по имени Андрей, из себя — шиш шишом!
Ну и вот. Вышел на улицу, глянул вправо-влево: у соседнего дома стоит автоцистерна. Шофера Андрей пару раз до этого видел: такая харя!.. Просто грех не поглядеть, что с нею сделается, когда ее обладатель выйдет из дому, плотно пообедав, а лайба — на кудыкиных горах.
Андрей прошелся туда-сюда. Жарко! Улица будто вымерла. Обстановка — лучше не придумаешь. Открыть дверцу — полминуты, завести мотор — еще столько же: Андрей начинал свою трудовую биографию слесарем и для всякой надобности имел при себе универсальную отмычку. Сам ее сделал и законно ею гордился.
Завел машину с пол-оборота — и вперед, вперед!
Вырвавшись за пределы города, ошалелый от восторга, Андрей внезапно сообразил, что увидеть выражение хари ему при всем желании невозможно: для этого надо как минимум с харей рядом быть, а не гнать же машину обратно — тогда еще неизвестно, у кого выражение будет, у хари или у самого Андрея.
Ну, гулять так гулять.
И он гульнул.
За спиной, в цистерне, что-то тяжело взбулькивало, в кабине остро воняло краской, но автомобиль ревел, летел, все свистело за окном…
Андрей забылся слегка и не приметил, как проселочной дороги съехал на широкую, набитую тропу, ведущую через поле, но вдруг на с того ни с сего поле перешло в берег, тропа оборвалась… и машина, пролетев вместе с Андреем по воздуху, тяжело ухнула в речку именем Лебяжья.
Он вывалился на лету, гулко стукнулся в отмель и, будто во сне, увидел, как от резкого толчка крышка цистерны отвалилась — и оттуда, словно язык неведомого чудовища, вырвался столб вонючей краски, блестящей, как смола. А затем цистерна поехала с прицепа и опрокинулась, залив мертвящей чернотой прозрачную воду, голубое небо, играющее в ней, и белый песок.
* * *
Тьфу! Что это на ум нашло?!
Альфа встрепенулся:
— По коням!
Воинство у него, конечно… В своих-то он более-менее уверен — всю страну, считай, ископали (правда, без экстремальных ситуаций), а этот, пришей-пристебай… «Револьвер» держит за пазухой!.. Хорошо, хоть пока не нашли, против кого оружие применять. Против мошки, что ли?
Да ладно, дело не ждет. Во-первых, обойти Остров по периметру. Может, какой след и отыщется. Во-вторых, найти жилье этой женщины. И попробовать договориться если не с ней, то с сыном. Главное, дознаться, появлялись ли те, пропавшие, на Острове или нет? Может, они вовсе и не доплыли сюда. Обимур — он ого-го!.. Альфа вон чего только не навидался в жизни, а при виде его похолодел: какой-то зверь дикий, на добычу вышедший… А не плюнуть ли вообще на этот Остров? Нет, жалко: место глухое, по берегам каменные осыпи… Самое место!
* * *
Юрка и лодку вытаскивать не стал; куда она денется! Даже если и вздумает Обимур пошалить с ней, то утром все равно принесет.
Свистнул тропу — и она послушно побежала впереди.
Тревога не покидала его. Лес тоже был встревожен — Юрка чувствовал. Да что же это? Не случилось ли чего с матерью?
Вспомнилось: знойным летом она разбрасывала по земле солому, которая всю зиму стояла в скирдах на огороде, — и тотчас благодатная прохлада нисходила на истомленный сушью лес… Колдунья!
Юрка не сомневался: таких, как его мать, больше нет на свете. Не шутя искал он зимою ее очертания в вихрях метелей, танцующих по Острову! А когда она вдруг говорила, указывая в небо: «Посмотри — и мы когда-нибудь растаем, как эти два облачка, что весело скользят в вышине. Но они прольются на землю дождем и снова встретятся в лепестках одного и того же цветка. Встретимся и мы!» — Юрка верил, что именно так и будет. Он чувствовал, что зачарованное царство ее души неподвластно никому, даже ему. Так, приоткрывалось что-то порою… Например, он случайно узнал, что соленое озерко, молча лежавшее меж камней в полуверсте от дома, — это озеро ее слез. Оно впитало ее молодость и красоту (впрочем, нет, красота оставалась вековечной!) — и Юрка иногда, когда мысли о будущем слишком уж томили его, приходил к тому озерку тайком и смотрел, смотрел в его воды до тех пор, пока из глубины не поднимались лики его матери — лики прошлых лет: у той, не было еще седины, у этой — морщин у глаз, у той не поникли еще плечи, а у этой совсем иная улыбка — беспечальная…
Ну а сам он ничего не мог утаить от матери! Вот ведь ей ни разу не приходилось видеть, как появляются зеленые зайцы, но она сразу знала их имена. Юрка и тот путался поначалу, она же — никогда. И хотя привязывалась к ним, ласковым и веселым, так же крепко, как сын, но радовалась, что это — не навсегда, что рано или поздно наступает им время уйти — и вернуться к своим. Юрка жалел, что вернувшиеся потом все забывают, как будто и зря они с матерью старались, а она уверяла: «Не зря! Ведь у них остаются сны…»
И были, конечно, ведомы матери все туманные размышления и предчувствия сыновнего, пока еще не проснувшегося, сердца… Когда на склоне Кленовой сопки в прошлом году вдруг появилось дерево незнакомой породы — именно появилось в одночасье: с двухъярусной кроной зеленого и густо-синего цветов, с полупрозрачным янтарным стволом, в котором мерцали разноцветные огоньки, — Юрке сообщил об этом дождик, и мальчишка не собирался никому открывать тайну. Но мать бог знает как проведала об этом и до того испугалась, что на время лишилась речи. Наконец она немного пришла в себя и, завернув в свой любимый шелковый черный с розами платок самое драгоценное их достояние: пухлый том, в котором поместилось все собрание Пушкина, старославянской вязью написанную Библию и подаренную Юрке еще в детстве книгу сказок, быстро побежала в лес.
Обуреваемый любопытством, Юрка крался следом. Понятно, мать знала о слежке, но со временем Юрка догадался: она и хотела, чтобы сын видел происходящее, оставаясь при этом невидимым сам, — для пущей безопасности.
Мать разложила у подножия дерева свои приношения и стала, покорно опустив голову.
Ожидание длилось так долго, что Юрка в кустах притомился, и вдруг его бросило в жар: подножие янтарного ствола медленно, бесшумно таяло… И только сейчас он заметил, что на траве уже нет ни книг, ни даже платка, на котором они лежали! А ствол чудо-дерева все уменьшался, уменьшался, и скоро обе кроны сами собой повисли в воздухе, и птицы, которые уже прижились было на их ветвях, в испуге вспорхнули, загомонили, и тотчас все разом умолкло…
И вот нижняя крона, зеленая, растворилась в воздухе, а верхняя, синяя, взмыла вверх, покружилась над лесом, словно прощаясь, — и слилась с небесами.
И снова привычная разноголосица воцарилась в лесу, а Вера, с облегчением отвесив поклон тому месту, где только что стояло неведомое дерево, поясной поклон, легко и весело пошла прочь. И сколько ни допытывался потом Юрка, что же это было, она отмалчивалась, оставляя сына одного в дремучем лесу бесчисленных догадок.
Ох, скорее бы увидать ее и убедиться, что ничего плохого не случилось! Дом уже рядом…
И в этот миг жаром овеяло его, словно где-то невдалеке занялся огонь.
* * *
Черта с два они нашли бы чего-нибудь, если б не случай!
Когда, смертельно усталые, разочарованные неудачами, они набрели вдруг на озерцо, лежащее среди каменной осыпи, полное теней и туманов, словно живой, дышащий овал, то кинулись к нему поскорее напиться. Вода же оказалась горько-соленой! Особенно томился жаждой Гамма, и его возмущение причудами здешней природы было особенно сильным. Он громко матерился, прыгая по скользкой осыпи, как вдруг нога его подвернулась — и он неуклюже повалился, цепляясь за камень. Тот послушно покатился, и в земле открылось углубление, а проще сказать — яма, в которой… в которой…
Там лежали четыре «револьвера», обломки теодолита, термос, рюкзак и транзистор — и это было, видимо, все, что осталось от людей, побывавших на этом Острове…
Но где же сами люди?! Обо всем, теперь понятно, знает эта Вера Королева… И ясно, что с ней ухо надо держать востро, а оружие наготове. Они снова бросились в путь, но страх холодил сердца, поэтому какие-то полверсты растянулись на несколько километров. Но вот наконец-то впереди открылась поляна, узкая речка, огород-сад по берегу и — бревенчатая избушка, светившаяся сквозь ветви осин и черных берез.
Постояли. Вершины деревьев задыхались от солнца и грохота ветра, а здесь, у корней, у папоротников, у грибниц, было сыро и тихо.
Да, тихо. И никого.
— Оружие приготовить, — негромко скомандовал Альфа, и Сигма сунул руку за пазуху, словно его обуяла чесотка.
И вдруг из-за кустов выскочило что-то, метнулось через тропу…
Ударила молния — Бета опустил руку с оружием.
Гамма выругался севшим голосом.
Зверек, которого влет, с быстротой и меткостью робота, сбил Бета, очень напоминал зайца — только не серого, не белого даже, а зеленого цвета!
Зеленого — как трава, как листья, как, чудилось, самый воздух здесь, как все это дикое, непостижимое лесное празднество…
И вдруг Бета содрогнулся, словно и его прострелило — но только мыслью. Диковинной, будто бы вовсе и не его, чужой какой-то мыслью: все здесь мгновенно — и вечно. Эта красота странна — и безусловна. Она бессмысленна — и необходима. И она-то пребудет всегда, она-то возродится, даже если человек всю землю обратит в место захоронения. Возродится — и тогда уж не оставит на лице планеты и морщинки памяти о роде людском! Занялся дух, что-то томило, какая-то тоска ядовитая… Но он не ушел дать волю памяти, потому что на веранде избушки, меж точеных столбиков, показалась статная женская фигура.
Она!
Всплеснув руками, женщина бросилась вдоль речки и с разбегу рухнула на колени, схватила опаленный зеленый комочек; прижала к груди со слезами:
— Пашка! Глупый! Зачем ты к ним?! Бедный ты…
«Пашка? Почему Пашка?» — разом подумали все четверо.
— Ну ладно, Королева. Хватит причитать. — Тон Сигмы суров. — Встань-ка да ответь нам на пару вопросиков. Думаешь, живешь в лесу, молишься колесу, так и спросу с тебя нет?
Она не шелохнулась. Тогда Гамма раздраженно тряхнул ее за плечо. И вскрикнул невольно: от неловкого движения рука повисла плетью!
А женщина бережно уложила зеленого зайца на траву и встала с колен, по-прежнему не поднимая глаз. То ли слез своих застыдилась, то ли омерзительно было на людей, смотреть? И судя по тому, как напрягся ее рот, истинным было именно омерзение.
— Послушайте, Королева! — процедил Альфа. — Сюда, на Остров, в этом месяце было послано несколько человек. Вы их видели?
Она качнула головой.
— Остров не так велик. — В голосе Альфы зазвучал металл. — Вспомните хорошенько!
Опять медленно качнулась ее голова.
— Хватит врать! — вскричал очнувшийся от боли Гамма. — Где они? Мы нашли их вещи! Живы наши люди или… Говори!
— Да это же просто исчадие какое-то! — возопил Сигма. — Как ее только земля носит?!
— Лучше спросите, как она вас носит, — глухо произнесла женщина. — Вы-то разве люди? И разве людьми были те, кто приходил?
— А! — хором вскричали Бета, Гамма и Сигма; Альфа же резюмировал: — Вот и проговорилась! Значит, ты их все-таки видела? И если это твоих рук дело…
— Поедете с нами! — объявил Сигма. — Я как представитель районной…
И вот тут-то она вскинула глаза, и Сигма ощутил такую ломоту во лбу, словно с разбегу ударился о стену! Вера округло воздела руки, сверкнувшие на солнце, не то заслоняясь, не то защищая все лесное племя, но к ней уже метнулся разъяренный Бета — и на миг тоже застыл, когда встретился с нею взглядом. Но не могла же она смотреть в глаза всем четверым сразу! И, то и дело вскрикивая от боли, стараясь не глядеть на нее, они набросились, скрутили руки…
Все замерло в лесу. Чудилось, воздух остекленел…
И в эту тишину вдруг ударил незнакомый голос:
— Стойте!
Слово это забилось в головах, будто колокол, а сердца внезапно сделались стылыми… И тут хлестнуло ветром, да таким, что люди не выдержали его удара! Повалились наземь.
Столбами и колоннами вознеслись над ними деревья, трава захлестнула, опутала.
И почудилось, чьи-то думы и страсти истекают из земли, опьяняют, зачаровывают… Чистые души лесные…
* * *
День таял, словно огромный золотистый сугроб. Вот и настало время вечерней молитвой провожать солнце, отходящее ко сну.
— Осторожнее, малышня! — приговаривал Юрка, рассаживая поближе к себе зеленых зайцев. Старожилы — теперь, после гибели Пашки, их осталось девять — присматривали за новичками, показывали, как складывать лапки, куда смотреть. — Правильно, Борька!
— По-моему, этот — Андрюшка, — возразила мать.
Синичка села ей на плечо, мягко прижавшись к щеке.
— Точно, Андрюшка! — присмотревшись, согласился сын.
В этот миг Вера воздела руки.
— Всесветлое солнце! Дети Вселенной, дети звезд, ветров, дождей желают тебе доброго сна! — зазвучал ее голос, заглушенный переливами вечернего гимна.
Снежные шары облаков оборачивались белыми всадниками, которым предстояло проводить владыку небес на покой.
А золотое колесо солнца все катилось, катилось по небу под эту восторженную, отрадную молитву.
Евгений Дрозд Бесполезное — бесплатно
I.
Единственное на планете Самор крупное поселение землян Самор-1 расположено в самом сердце субконтинента Гирджили. На юг от поселка идет полоса леса шириной в полтысячи километров, за лесом, до самого океана, привольно распростерлись степи. В узкой полосе между лесом и степью цепочкой тянутся стойбища аборигенов — иракелов, тефайи, нихадов, рвезаура, алгури и прочих. Диковатые эти места видели всякое — мор и глад, засухи и пожары, кровопролитные войны и приход с Неба Больших Людей.
Большие Люди принесли с собой знание Внешнего Мира, а также стальные ножи и капканы; они построили поселок с космопортом и несколько факторий, они заставили племена покончить со старыми распрями. Поколебались многие устои, лишились реальной власти шаманы, стали простыми старостами некогда грозные вожди; в остальном жизнь племен не переменилась, во всяком случае, внешне. И хотя тень грядущих, еще больших перемен нависла над стойбищами, заставляя аборигенов с оглядкой говорить о будущем, жизнь наконец пошла мирная, спокойная и сытая. И казалось, это надолго. Но внезапно на племена обрушилась напасть, какой не знали до сих пор в Гирджили и которая была страшней любой чумы своей жуткой необъяснимостью.
Как вспыхивают одна за другой расположенные цепочкой пороховые кучки, так и племена одно за другом снимались со своих мест, оставляли стойбища и хижины, бросали оружие и утварь и погружались в лилово-коричневую пучину леса. Глаза людей были безумны, как красные гляделки водяной крысы выухх. Испуг застыл на лицах стариков, женщин и детей, а также на лицах крепких мужчин, в недавнем прошлом неутомимых охотников и отважных воинов. Они ничего не помнили и не понимали.
Они шли, поддерживая силы грибами, орехами, дикими плодами и съедобными кореньями, и, казалось, решили вновь слиться с лишенной сознания жизнью леса, для которого нет ни прошлого, ни будущего, а есть одно только вечное настоящее. Но возвращение было невозможно — они уже принадлежали времени и стали чужды лесу.
Неприметными звериными тропами бесшумно скользили они между замшелыми вековыми стволами, стараясь не потревожить лишней ветки, не запутаться в сети багровых лиан. Длинные вереницы этих призраков без прошлого, ведомых инстинктом выживания, как спицы в колесе, стягивались к одному центру — к поселку Самор-1, и каждая из этих печальных процессий не ведала ничего о существовании других таких же.
II.
…будто вернулось былое. Снова крепок телом старый вождь Свурогль и светел его разум. И бывший смертельный враг, а сейчас лучший друг, шаман Гуавакль, тоже как будто помолодел. Рядом сидят они на циновке перед гостевой хижиной и взирают на суету приготовлений. Все здоровы в стойбище иракелов, и удачной была охота, и теперь самое время для радостного пира.
Вот уже устелена площадь тотема широкими душистыми листьями флауна, и женщины раскладывают на гостевых циновках яства. Угощение на славу: тут и запеченное в листьях к'дера мясо туфлона, и грудинка чиплаха, и жареная щурель. Высятся узкие глиняные кувшины с пенистым, веселящим душу глиэлем. Есть и легкая закуска — грибы, сладкие коренья, несколько видов орехов, а среди них знаменитый кэдук; лепешки-корзинки с густым забродившим соком тростника-медоноса.
Совсем как во дни былые пирует племя, и за циновками царят мир и согласие, и каждый знает свое место. Самые славные охотники и почтенные старцы сидят по обе стороны от вождя и шамана, на дальнем конце по левую руку от вождя — молодые мужчины, не обзаведшиеся еще своими женами и хижинами, на дальнем конце по правую руку от шамана — женщины, подростки, дети. Все хорошо и все как надо, только почему-то нельзя глядеть прямо и чуть вправо — там как будто слепое пятно в глазу. Ну, нельзя, так и не будем. Все хорошо, и нет никакого страха. Впрочем, какой страх? Кто говорит о страхе?! Ничего не боится огненный вождь!..
Шумят над головой темные кроны гигантских к'деров, взошли уже над горизонтом Светлые Сестры, и высветили свой извечный узор звезды, — прямо к ним поднимается дым костров, вокруг которых пляшут девушки племени, и переливаются в смешанном свете огней и двух лун их стройные тела, и блестит гладкая их кожа. Девушек сменяют женщины, исполняющие танцы Сбора и Маринования Орехов, Сушки Листьев и Выкапывания Кореньев. А затем уже возвеселенные глиэлем и разогретые пищей мужчины начинают грозные пляски Большой Охоты и Удачной Ловли, переходящие в монотонные танцы Обработки Земли и Сохранения Огня…
Все хорошо, только вот слепое пятно как будто больше стало, но ничего, главное — не смотреть, и не будет никакого страха…
Потные и тяжело дышащие танцоры снова подсаживаются к циновкам и подкрепляют силы. Наступает время рассказов и преданий, и вот уже охотник Устразий, свирепого вида мужчина, заводит речь о всех славных битвах, в которых участвовали иракелы в стародавние времена. После него охотник Залимуг рассказывает сагу о летающем тотеме, туфлоне с шестью серебряными рогами и о том, как сыны Грома превратили племя гигантов, врагов иракелов, в деревья к'деры. Его сменяет Улачум с печальной историей неразделенной любви Светлых Сестер к Небесному Огню, за ней следует притча о великом шамане Телмаке и о пяти вопросах, заданных ему зверем Тернабу. И, наконец, шаман Гуавакль, аккомпанируя себе на восьмиструнном оррикеле, поет гимн о возникновении Золотого Кокона из дыхания Начальной Беспредельности и исполняет хвалебный цикл в честь Звездного Джиффы, Повелителя Танца, и рассказывает про Путь Верхних Всадников…
Затаив дыхание, внимает племя его словам о великих и грозных деяниях былого. Все хорошо, только странное чувство у вождя Свурогля, будто идет он по тропинке в никуда, а все, что за его спиной, — и земля, и леса, и горы, все-все, — разваливается, рассыпается и рушится вниз, в бездонную пропасть; ничего, ничего не остается сзади, только ужас, тьма и пустота, и слепое пятно перед глазами разрослось так, что уже нельзя делать вид, что его нет, и надо набраться сил взглянуть на него прямо, хотя и нельзя смотреть ни в коем случае.
А-а… Вот он сидит, темный, громадный, нависает надо мной… и как жужжит и сверкает его гигантский глаз, направленный прямо на меня! Небесный Огонь! Духи Охоты, помогите и спасите!.. Нет, нет… Не хочу…
С задушенным криком просыпается старый вождь Свурогль и приподымается на нарах. Кругом тьма, только в окна камеры проникает слабый свет, позволяющий с трудом разглядеть другие нары и лежащие на них, дергающиеся во сне, храпящие, стонущие и всхлипывающие тела. Мощным сивушным духом пропитана спертая атмосфера. Старый Свурогль, шлепая босыми ногами по полу, подходит к окошку, хватает руками решетку, прижимается к ней лицом. Одинокая слеза сползает по щеке неустрашимого вождя, голова раскалывается от адской боли. Изо всех сил вспоминает вождь, что же такое хорошее видел он только что во сне, хорошее, сменившееся чем-то страшным и непоправимым. Но тщетно — голова его пуста, только мелькают перед внутренним взором разноцветные яркие пятна — и все… Долго стоит вождь, прижавшись к холодной решетке и глядя на темные тучи, среди которых в небольшом просвете сияет одна-единственная яркая звезда. Потом просвет затягивается, звезда исчезает, и все небо становится однотонно серым.
III.
Из окна своего кабинета на двенадцатом этаже административного корпуса резидент Организации Объединенных Миров Кристофер Малигэн мрачно смотрел на взлетно-посадочное поле и служебные комплексы космопорта. На поле, если не считать пары орбитальных ракетботов, стоял только один корабль — приземистый каботажник местных линий. Сегодня там должен был стоять еще и большой трансгалактический лайнер…
Малигэн вздохнул. Лайнера не было. И не будет.
Малигэн вздохнул еще глубже, уселся за стол и нажатием кнопки вызова начал рабочее утро. В кабинет вкатилась робосекретарша и доверительным грудным контральто начала передавать накопившиеся за сутки новости.
— …по всему Самору задержано 18 туземцев, это больше, чем вчера, но меньше, чем позавчера…
Малигэн третий раз за утро глубоко вздохнул.
— …из лесов вернулся этнограф Эцера Хоса…
Малигэн оживился:
— Это тот, что года полтора назад отправился туземные обряды записывать? Отметь, что мне надо его увидеть. Дальше…
— На каботажнике с Баллады прилетел запрошенный специалист по этнопсихологии, он дожидается в приемной…
— Так что ж ты мне голову морочишь? Немедленно зови!..
Деловое выражение на лицевом экране робосекретарши сменилось выражением легкой обиды, зажужжали колесики, и секретарша выкатилась из кабинета. Створки дверей закрылись за ней с пневматическим чмоканьем, но тут же и отворились, пропуская высокого светловолосого мужчину лет тридцати.
Его неспешные движения и прямой взгляд выдавали спокойную уверенность в себе, безукоризненный костюм намекал на безупречную репутацию специалиста и профессионала, а торчащая из нагрудного кармана дорогая пенковая трубка доверительно вещала о том, что ее хозяину ничто человеческое не чуждо и что он не чурается некоторого аристократизма и вместе с тем либерального фрондирования. Лучики мелких морщинок в уголках глаз выражали неподдельную радость. Он белозубо улыбался.
Малигэн (высокий рыжеволосый мужчина лет тридцати) вышел навстречу гостю, энергичным жестом протягивая руку и демонстрируя в пружинистой улыбке ослепительно белые зубы. Упругие улыбки и твердые рукопожатия обозначали начало обряда представления двух специалистов, одному из которых для решения небольшой проблемки понадобилась помощь другого.
— Камил Манзарек, — с затаенной радостью представился этнопсихолог, — очень рад.
— Кристофер Малигэн, — ответил резидент ООМ, — очень, очень рад.
Дальнейшее было разыграно по нотам, как на выпускном экзамене колледжа менеджеров высшей квалификации. (Эх, годы учебы, кипение юности, порыв и пламень! Где вы, где?..) Робосекретарша, запустив на лицевой экран самое милое личико из своей коллекции, вкатилась в кабинет, неся на серебряном подносе кофейник и две прозрачные чашечки золотистого фарфора.
По ритуалу кофейной церемонии смакование ароматнейшего «мокко-альрами» происходило в благоговейном молчании, способствующем психологической притирке. Стороны обменивались предупредительными улыбками и благожелательными взглядами.
Все же внимательный наблюдатель отметил бы, что глаза Камила Манзарека нет-нет да и затуманивались мимолетной тенью неявного вопроса: «Если ты такой ас, то какого черта торчишь в этой дыре?», и тогда в глазах Кристофера Малигэна зажигалась незаметнейшая, упрямая искорка: «А сам-то?..»
Последние деликатные глотки, две секунды на прислушивание к внутренним ощущениям, полуприкрытые глаза раскрываются, в них умиротворенное просветление, две невесомых чашечки одновременно опускаются на поднос, и секретарша укатывает из кабинета.
— Итак, господин Малигэн, у нас какая-то проблема? Я слушаю.
Уголок губы Малигэна дернулся. Он вернулся на землю. Ритуал закончился, можно снова стать самим собой и забыть о колледже. Он откинулся на спинку кресла.
— Да. Проблема. Началось это больше года назад, когда в поселок из лесов ни с того ни с сего повалили туземцы.
— Как я понял, причин этого вы не знаете?
— Нет. Затем вас и вызвали. Но я по порядку все расскажу, так будет лучше…
— Да, конечно.
— Незадолго до этого нам понизили категорию. Посидели мудрецы в ООМ и решили: планета наша для Терры неинтересна, минеральные ресурсы здесь ограничены, промышленность развивать бессмысленно, для науки тоже ничего любопытного. Постановили — внеземное поселение Самор-1 (ЕТ5.4087) 12, класса Е перевести в класс Н. Что означает: здесь остается только пост наблюдения ООМ да аварийные службы космопорта… Ну, народ разбегаться стал. У кого сроки контрактов истекли — все улетели. Новых работников нет — кому охота в дыру класса Н вербоваться? Туземцы же к нам из своих лесов не больно рвались, разве что сопляки одни… Я в ООМ рапорты посылаю — один, другой… а они мне — держись, мол, но людей не шлют, насильно же никого не заставишь. Что делать — понятия не имею, хоть вешайся. И тут, как манна небесная, ни с того ни с сего туземцы из лесов поперли. Да не так, чтобы один-два, а целыми стойбищами и племенами. Что у них там в лесах приключилось — до сих пор не пойму. Надо бы экспедицию организовать, разобраться, да людей нет. А от них я ничего добиться не смог — мычат что-то нечленораздельное, руками машут, бормочут… Может, вы разберетесь?
— М-м, может быть. Но продолжайте.
— Ну вот. Тогда я и решил — какое мне дело, что там у них стряслось, главное — что сейчас предпринять. В конце концов, мне нужны были работники, кадры, ну, вот, думаю, тебе кадры, вот тебе работники. Организовали мы раздачу пищи, краткосрочные курсы овладения специальностями. Самых понятливых — в космопорт, остальных — кого куда. А они из лесов все валят. Тут уже демографическим взрывом попахивать стало — чем кормить, куда селить? Ну, думаю, то пусто, то густо. Пришлось слать каботажник на Орнитак-2, оттуда вывезли домостроительный комбинат, развернули здесь и начали жилища штамповать. Вы у нас бывали раньше?
— Да. Еще при вашем предшественнике.
— Значит, можете сравнить. Целый город построили.
— Да… Только однообразно как-то.
— Верно, неказисто. Но что делать? Спешка, не до красоты было. Да и чего стоило обучить туземцев этим работам! Ну и пошло — дома, швейные мастерские, текстильная фабрика, бани, прачечные, столовые… В общем, худо-бедно, но с этим справились. А сейчас у нас другая проблема — свободное время.
— А что такое?
— Ну как что? Чем их в свободное время занять? Вы ведь знаете — сутки у нас 37,5 земных часа длятся, а рабочий день по закону — восемь. Я в ООМ писал на эту тему, просил разрешения продлить его до 12 часов — уперлись и ни в какую: мол, положено не более восьми часов в сутки работать и баста, закон есть закон! Вот и получается, отработают они свои восемь часов, расползутся по своим крупноблочным норам — и что?
— И что?..
— Пьют, вот что! Больше-то делать нечего. Мы им в каждую квартиру стереовизор поставили, лучшие программы со всей Галактики крутим, а они смотрят на них, как бараны, и ни бельмеса не рубят. В стереовизион их не затащишь, читать-писать они не умеют и учиться не хотят, музыку нашу не воспринимают, про спорт понятия не имеют. Хотели мы тут состязания в беге устроить, футбол организовать… Объяснили правила, устроили матч, зрителей согнали… Глаза бы мои не глядели! Двадцать два аборигена передвигаются по полю с этим мячом, как будто каторгу отбывают, а десять тысяч зрителей смотрят на них, как овцы, и молчат. Представляете — десять тысяч «болельщиков» — сидят, не шелохнутся и молчат!..
Да… Хотели мы самодеятельность наладить — ну, там фольклор, пляски, песни. Уж казалось бы, чем еще им заниматься? Так что же? И этого не хотят! Как сговорились: ни один не соглашается. Ни петь, ни плясать. Мы уж и уговаривали, и чего только не сулили — молчат себе, смотрят тупо да улыбаются этакой дурацкой улыбочкой, и ничего от них не добьешься. Короче, ничем их в свободное время заниматься не заставишь. Ну и пошло пьянство. Мы сухой закон ввели — они «веселую воду» гнать стали. Драки начались, мордобои, поножовщина. Пришлось полицию завести, тюрьму с вытрезвительным отделением построить. А кто в полиции служит? Те же туземцы. Работу свою выполняют аккуратно, ничего не скажешь, пьяных задерживают, самогонщиков арестовывают. А как свое отработают — идут и надираются и, глядишь, этого полицейского вторая смена самого уже за шиворот берет. Смех, да и только! Да, так вот и живем… И прямо скажу — страшно мне становится. Целый город туземцев этих — все молчат, словом не с кем перемолвиться, а наших здесь осталось — по пальцам пересчитать можно, и тоже говорить с ними не о чем, все друг другу глаза намозолили. Сидишь себе в своих апартаментах один, смотришь этот стереовизор — где-то люди живут, веселятся, и много их… А тут с тоски волком воешь. Впору самому пить начать!.. Вот такие у нас проблемы. Надеюсь, вы поможете разобраться.
— Что ж, постараюсь. Сегодня я просто поброжу по городу, изучу общую обстановку, а завтра поговорим конкретнее.
— У меня к вам еще одна просьба есть. Это дело уже не такое официальное, но…
Малигэн не договорил. За дверью послышался шум, и в кабинет, сопровождаемый негодующей робосекретаршей, ворвался человек со странным двухцветным лицом. Лоб белый, места, где еще недавно росли борода и усы тоже, а между этими белыми полями шла полоса лилового загара. Выглядело это какой-то дурацкой карнавальной маской.
— Господин резидент… — говорил вошедший.
— Господин резидент занят, — верещала робосекретарша, — он примет вас позже!
— Отцепись, дуреха! Господин резидент…
— Ступайте, Эреса, — сказал Малигэн, подымаясь из-за своего стола.
На лицевом экране роботессы негодование сменилось смертельной обидой, и она укатила.
— Господин Манзарек, — сказал Малигэн, — знакомьтесь, это — Эцера Хоса, этнограф. Он полтора года бродил по лесам и, я думаю, может быть нам полезен. Господин Хоса, это Камил Манзарек, этнопсихолог.
— Весьма рад, — буркнул Хоса, даже и не пытаясь имитировать это состояние.
Он плюхнулся в кресло. Манзарек, начавший было приподниматься, вернулся в исходную позицию. На его лице оставалась доброжелательная улыбка, но глаза слегка сузились. Он внимательно разглядывал Хосу.
— Господин резидент, — в третий раз начал Хоса, — по моим подсчетам сегодня на Терру должен уходить трансгалактический лайнер. Я очень спешил, чтобы успеть вовремя, но лайнера на поле нет. Я опоздал?
— Нет. Просто поселку Самор снизили категорию. Лайнеры к нам теперь не заходят. Экономически невыгодно.
— А как же мне до Терры добраться? Мне срочно нужно!
— Через два дня уходит каботажник в систему Шеризана. Оттуда и улетите. Там на одной только Балладе два города класса В, лайнеры ежемесячно заходят.
Небольшой паузой, во время которой Эцера Хоса, нахмурившись, осваивался с новым положением дел, воспользовался Манзарек.
— А что, господин Хоса, — сказал он, — наверно, много вы там, в лесах, интересного увидали за полтора года?
Хоса бросил на него настороженный взгляд.
— Что вы имеете в виду?
— Ну, как там вообще?
— Вообще — ничего…
— Туземцы препятствий в работе не чинили?
— Наоборот, даже пиры в мою честь устраивали. И деньги за съемки брать отказывались. Когда я предлагал, они отвечали, что, мол, сказки и легенды, конечно, прекрасные вещи, но они совершенно бесполезны и что они не могут брать за них деньги. Мы даем их тебе бесплатно, говорили они…
— Да, это на них похоже. Простодушные и доверчивые дети Натуры… Вы на одном месте подолгу задерживались?
— Нет, снимал, что мне надо, и дальше шел. А в чем дело?
Коричневые глаза настороженно блестели за лиловой маской.
— О, ничего серьезного. Нам просто интересно — не заметили ли вы чего-нибудь необычного в поведении туземцев? Какой-нибудь странности? Не вели они при вас никаких разговоров о переселении?..
— Нет, — отрезал Хоса, подымаясь. — Ничего странного я не заметил. Все было нормально. Так значит, через два дня, — повернулся он к Малигэну. — А во сколько?
— Старт в одиннадцать утра по приведенному времени.
— Всего хорошего.
Непроницаемая лиловая маска еще раз мелькнула в дверях и сгинула.
Малигэн и Манзарек переглянулись.
— Не нравится мне этот этнограф, — сказал Манзарек.
— Да, темнит что-то парень, — согласился Малигэн. Оба на минуту призадумались, потом Манзарек спросил:
— Так какая у вас просьба была?
— Что?.. А… Просьба. Тут такое дело. Понимаешь, я хочу, чтобы нам категорию возвратили. А то тут такая тоска пошла! Надо доказать этим мудрецам в ООМ, что наша планета представляет огромный интерес для Терры и заслуживает поселения класса Е. Толково составленный рапорт может многое решить. Вопрос в том, какую наживку им кинуть? Я давно над этим голову ломал. Ну хорошо, минеральных ресурсов здесь нет, тяжелую промышленность не развернешь. Для науки ничего интересного — ладно, согласен. Я поначалу решил бить на то, что, дескать, для туризма планета наша может представить большой интерес…
— Но для этого сначала надо изменить статус планеты и открыть ее для туристов. А это, пожалуй, еще сложней…
— Да я и сам сообразил! И вот все ломал голову, пока туземцы в город не повалили. Тут-то меня и осенило — вот она, наживка. Массовое перевоспитание туземцев, приобщение их к цивилизации, добровольный переход на высшую ступень развития. Уникальный социальный эксперимент, огромнейшее поле деятельности для социологов, психологов, педагогов. Одних только диссертаций сотни испечь можно… Ну как?
— Да-а… — протянул Манзарек. — Ловко придумано.
И добавил, незаметно для себя следуя примеру Малигэна и переходя на ты:
— Умеешь ты, старик, из неприятностей пользу извлечь. Ну, а от меня что требуется?
— А от тебя требуется, чтобы ты такой рапорт составил. Я, понимаешь ли, лицо заинтересованное…
Манзарек секунду пристально смотрел в лицо Малигэна и вдруг расхохотался.
— Ну ты хитрец! Признайся, старик, это главное, зачем ты меня вызвал, все остальное — только прикрытие? Не бойся, никому не скажу…
Малигэн тоже засмеялся, не без некоторого, однако, смущения.
— Ну, ладно, — великодушно заявил Манзарек, — будет тебе рапорт. Только, мне кажется, тут лучше видеофильм сделать. Этакий рекламный ролик, минут на 15–20, не больше. Показать, как они живут, твои туземцы, как работают, как осваивают цивилизованные профессии… Чтобы все, конечно, конфеткой выглядело.
— Верно, — оживился резидент. — А под конец немного сказать о трудностях и туманно намекнуть, что есть еще множество нерешенных проблем. Для социологов это будет отличной приманкой. Если все сделать как следует, то повышение категории у нас в кармане. Ну пусть класс Е не вернут, но хотя бы до класса F или О поднимут… Так берешься?
— Берусь. Только камера нужна.
— А у тебя нет?
— Моя сломалась. Я думал тут у вас разжиться.
— Черт! С этим трудно. Я ж тебе говорю — все разбежались, ничего не найдешь. Может, в Управлении у кого-нибудь сыщется…
— А ты у этого этнографа попроси. У него-то уж точно должна быть.
— Верно! Сейчас и позвоню.
— Ладно, я пойду по городу попытаюсь, а ты камеру добывай. Вечером увидимся.
IV.
Эцера Хоса, выйдя из башни административного корпуса, был так занят своими мыслями, что свернул не в тот переулок и немного заблудился. Переулок долго тянулся среди глухих бетонных стен и заборов и вывел его в новую часть города. По сторонам высились серые шести-, девяти- и двенадцатиэтажные коробки, меж них по серому асфалиту раскатывали ярко-желтые маршрутные эмнибусы и сновали многочисленные туземцы, одетые в какие-то глухие не то кители, не то сюртуки практичного, немаркого цвета.
«Да, — думал Хоса, с брезгливым любопытством разглядывая туземцев и город. — Те, в лесах, поярче одеваются, в этакое убожество их силой не запакуешь. А, с другой стороны, все-таки цивилизация, не ходить же по городу в набедренных повязках… Чего их в город понесло?.. Неужели?.. Но нет, не может быть, ведь блок селекции… И дома эти… Ничего же не было, когда я в леса уходил. За полтора года наворочали!..»
Сначала он шел не спеша, ощущая свое полнейшее превосходство над аборигенами, над которыми он возвышался, как башня. Самые рослые едва доставали ему до пояса. Потом в душу стало закрадываться какое-то беспокойство. Чего-то не было в этих бетонных каньонах. Безотчетная тревога заставила ускорить шаги. Туземцы обтекали его с обеих сторон, никто не глядел на него, никто, казалось, его вообще не замечал. Но когда он нервно обернулся назад, то увидел несколько десятков поспешно отворачивающихся от его спины голов и уводимых в сторону взглядов. Он вдруг понял, что его угнетало. Тишина. Все шли по своим делам, порознь и группами, и все молчали. Ни слова, ни возгласа, ни смеха. Шелест мягких шагов и шуршание проезжающих эмнибусов.
Хоса был человек тертый и видел виды. Самор был не первой его планетой и, как истинный профессионал, Хоса всегда работал в одиночку и не пользовался никакими иными транспортными средствами, кроме собственных ног. И здесь, и на других планетах, странствуя по диким местам, среди первобытных племен, он всегда чувствовал себя как дома. Главным его оружием была абсолютная уверенность в себе. Бластер он, конечно, тоже носил с собой, но в ход еще ни разу не пускал.
И вот внезапно, сейчас и здесь, в городе, построенном людьми, он всей шкурой ощутил, что этот мир ему чужой. Местное светило, меньшее по размеру, чем Солнце, но зато более яркое и белое, поднялось уже довольно высоко, но все еще было утро, и на зеленоватом небе застыли перламутровые прожилки перистых облаков, и густые, черные тени ложились на асфалитовые плиты от маленьких молчащих фигурок с потупленными взорами. Кроме него самого, вокруг не видно было ни одного землянина.
Эцера Хоса шел быстрым шагом, почти бежал. Замедлил ход, лишь выйдя на площадь, бывшую когда-то центром поселка. Теперь уже историческим центром. Здесь, слава богу, ничего не изменилось. И трехэтажное здание «гранд»-отеля, бывшее еще два года назад самым высоким в поселке (не считая, конечно, башен космопорта и управления), и стилизованный под «Дикий Запад» салун «Джо Барликорн», и лавки туземных сувениров, и стереовизион «Галакси» — все было на месте. Тут веяло милым сердцу патриархальным духом, и следа которого не чувствовалось среди бетонных коробок. И туземцев здесь не было. Впрочем, здесь вообще никого не было. Только ветер гонял по обширному пространству, залитому стерильным белым Светом, многочисленные пыльные смерчики.
Эцера остановился, обвел взглядом площадь, глубоко вздохнул. Он стоял, понурив голову, засунув руки в карманы куртки. Он размышлял.
«…Неужели я? — думал он, не видя ничего вокруг себя. — Скверно… если так… не может быть — Блок селекции… К черту, через два дня меня здесь не будет… Забуриться в номер и носа не высовывать… пересидеть… выпить бы…»
Он не видел, как из-за ближайшего угла вынырнула сутулящаяся фигурка в сером сюртуке с поднятым воротником. Туземец, не поднимая головы и зябко, по-старчески ежась, пересекал площадь. Как и Хоса, он был погружен в какие-то свои думы, и траектория его движения с неумолимостью случая упиралась прямо в живот задумавшегося этнографа.
Столкновение на долю мига породнило аборигена и землянина, сделав соучастниками общего на двоих переживания. Оба в испуге отпрянули, их глаза встретились. Хоса с изумлением смотрел, как в агатовых глазах туземца выражение естественного в таких случаях легкого испуга сменяется выражением смертельного ужаса. Глаза аборигена были огромные, с вертикальными зрачками, без белков, покрытые рубиновой сеткой кровеносных сосудов. Лицо серое, старое, морщинистое, ужасающееся. Оно показалось Хосе знакомым, но вспомнить, где он его видел, не удавалось. Да и не удивительно — он этих туземцев за полтора года столько перевидал!.. Он проводил взглядом убегающего прочь старика, пожал плечами и направился к отелю.
Поднимаясь на второй этаж по широкой псевдомраморной лестнице, устланной циновкой-дорожкой туземной работы, он случайно обернулся и увидел, что туземец-портье смотрит на него странным взглядом. Впрочем, он тотчас же отвел глаза. И это лицо показалось Хосе знакомым, но полной уверенности не было.
V.
Малигэн и Манзарек столкнулись под вечер на площади перед отелем.
Рассеянно спросил Малигэн Манзарека: «Ну как?» — рассеянно спросил Манзарек Малигэна.
Оба выглядели озабоченными.
Секунду они фокусировали друг на друге взгляды, отделываясь от каких-то своих мыслей и убеждаясь в достоверности встречи. И снова синхронно: спросил Малигэн Манзарека: «Ты о чем?» — спросил Манзарек Малигэна.
Первым все же ответил Манзарек:
— Я о камере. Достал?
— Нет, — сказал Крис Малигэн. — У наших нет, а этнограф отказал, хотя я ему гарантировал бережное обращение. Вот можешь ты это объяснить? Кажется, ничего страшного я у него не просил, а видел бы ты, как он взвился! Будто я его на инцест подбиваю или в компрачикосы вербую… А у тебя как дела?
— Ничего. Походил по городу, изучил обстановку. Даже в городской столовке пообедал. Слушай, это везде так кормят?
— Так ведь повсюду туземцы поварами! Свои блюда они почему-то не готовят, а наши как следует не могут. Одно время хоть продукты натуральные были, рыбой, например, спасались. Дали туземцам снасти, обучили, как ими пользоваться… Ну, а тут химкомбинат пустили — рыба в реке и подохла. Теперь весь город на синтетике сидит. Единственное место, где прилично поесть можно, это в баре, в башне администрации. Все наши туда ходят. Ты, кстати, где остановился?
— Здесь, в отеле.
— Брось! Перебирайся в башню! Там полно освободившихся квартир. Ближе будет и удобнее. Вот прямо сейчас бери шмотки — и потопали!
— Ладно, уговорил. Только как же все-таки с камерой? Хоса этот, видно, тоже здесь, в отеле, живет?
— Ну да.
— В каком номере?
— Когда я ему звонил, жил в восемнадцатом, на втором этаже. Если никуда не перебрался, значит, там.
— Попробую-ка я теперь с ним поговорить. Ты подожди, я быстро.
Ждать Малигэну пришлось и вправду недолго. Минут через пять-десять Камил Манзарек выскочил из аляповато-роскошного портала отеля. На плече у него висела обширная дорожная сумка, а в руках была видеокамера.
— Ну ты молодец! — восхитился Кристофер Малигэн. — Уговорил-таки! Сильно он сопротивлялся?
— В общем, нет, — как-то невнятно ответил Манзарек. Он ерзал плечом, поправляя ремень сумки, и на Малигэна не смотрел.
— Идем, — сказал он.
Они прошли по пустынной плошали в тесную улицу, ведущую кратчайшим путем к космопорту. Манзарек делился впечатлениями.
— …честно говоря, — рассказывал он, — не понравилась мне атмосфера в вашем поселке. Ходил я по всем этим вашим прачечным и химкомбинатам — такая тоска… Все серые, все молчат, никто глаз не поднимает… Как представлю, что придется еще и завтра ходить и снимать их…
— А на кой черт нам снимать прачечные? Этим никого не удивишь. Нам желательно отобразить приобщение к самым передовым достижениям цивилизации. Будешь в космопорте ролик делать.
— А там много туземцев работает?
— Много! Да все сервисные службы на них только и держатся. И в порту, и на каботажнике. Так что все в порядке…
Они шли узкой темной улицей, по сторонам тянулись глухие бетонные стены ангаров и пакгаузов, садящееся солнце освещало только верхушки зданий, и на темном небе появились уже самые яркие звезды.
Они не сразу заметили впереди себя группу туземцев, а когда заметили, сначала не сообразили, что «представители автохтонного населения» пьяны вдребезги.
Маленькие фигурки загородили людям дорогу и вели себя вызывающе. Глаза их раскаленными угольками мерцали в полумраке, они сжимали кулаки, и Манзарек впервые убедился, что аборигены отнюдь не превратились в бессловесных тварей.
— Факала тумарху! — слышалось в вечернем воздухе. — Пурлый пелеста роска! Фулин телмаха заргдин!!!
Манзареку не нужен был церебропереводчик, чтобы понять, что слышит он вовсе не благодарственный гимн Звездному Джиффе.
— Пьяны вдрызг… — уныло констатировал Малигэн, извлекая из нагрудного кармана плоскую коробочку и нажимая кнопку вызова. — Вот тебе, друг Манзарек, наглядный пример трудностей, с которыми мы сталкиваемся в нашей работе…
Туземцы заводились все больше, пока один из них не глянул вверх и не выкрикнул что-то предостерегающее. Сверху бесшумно спускался черный параллелепипед полицейского антигравитационного модуля… Все бросились врассыпную, но было уже поздно. Из севшего АГ-модуля выскочила группа полицейских, вооруженных дубинками и одетых в обтягивающие мундирчики со множеством блестящих металлических пуговиц, значков, блях и жетонов. Посыпались удары дубинок, послышались вопли. Вскоре все было кончено. Пьяных туземцев забрали в задний отсек АГМ, полицейские заняли места в своем, герметические дверцы захлопнулись, и черный кирпич взмыл ввысь, к звездам. Только не к звездам летел он, а, описав дугу, скрылся за темной массой ангара, направляясь в сторону местной кутузки. Никаких окошек на бортах АГМ не было, и от этого он производил такое же впечатление глухой безнадеги, как и бетонные стены окружающих пакгаузов…
— Идем, что ли… — сказал Малигэн.
VI.
Эцера Хоса проснулся с чувством беспокойства. Голова была тяжелой, во рту ощущался мерзкий вкус. Он не мог сообразить, что его встревожило, пока не глянул на часы. Было уже одиннадцать часов приведенного времени. Именно в одиннадцать сегодня должен стартовать каботажник в систему Шеризана. А Хоса велел портье разбудить его в половине десятого.
Хоса пулей вылетел из постели.
«Мерзавец! — думал он, торопливо одеваясь. — Убить мало скотину! Неужели опоздал?! Нет, не может быть — резидент этот, Малигэн, знает, что я должен лететь… Он бы за мной послал. Нечего горячку пороть — просто что-то случилось, вылет задержали, только и всего…»
Он подскочил к видеофону и набрал номер резидента ООМ. На экране возникло озабоченное лицо Кристофера Малигэна. За его спиной, в глубине кабинета, маячил этнопсихолог Манзарек.
— Доброе утро, господин резидент, — сказал Эцера Хоса с формальными интонациями. — Прошу прощения, что отвлекаю, но болван портье не разбудил меня вовремя. Что там с каботажником? Не улетел еще?
Малигэн глядел хмуро, казалось, что-то соображая.
— С каботажником-то, господин Хоса, все в порядке, но, боюсь, улететь вы сможете не скоро.
У Хосы екнуло сердце.
— Что-то случилось?
— Забастовал туземный персонал.
— Как забастовал? — прошептал Хоса.
— Так. Сидят себе, смотрят тупо на свои приборы и инструменты, на нас и не хотят ничего делать. Ни уговоры, ни угрозы не помогают. Все основные сервисные службы в порту и на борту каботажника парализованы. А без них леталка наша ни с места.
— Что же делать? Мне надо лететь!
— Не знаю пока. Если этих не уговорим, придется обучать новых, а на это уйдет три-четыре месяца.
— А других кораблей вы не ждете?
— Не раньше, чем через полгода. Так что придется вам тут еще пожить. А теперь, прошу прощения, нам надо разбираться…
Экран погас.
VII.
Малигэн не успел обменяться и парой фраз с Камилом Манзареком, как снова раздался сигнал вызова. Кристофер нажал клавишу ответа, и на экране опять возникла физиономия Эцеры Хоса.
Хоса был в ярости, все его лицо заливала краска, и потому оно выглядело почти нормальным, то есть одноцветным. Когда он заговорил, стало видно, что сдержанный тон стоит ему усилий:
— Господин резидент, — заявил он. — Я должен вас информировать, что меня обокрали.
— Что у вас пропало? — тревожно спросил Малигэн.
— У меня украли видеокамеру.
— Камеру? Но ведь… — Малигэн растерянно оглянулся на Манзарека.
Камил подошел ближе и просунулся к видеофону.
— Позволь мне, Крис, — сказал он. И повернувшись к экрану, сказал:
— Ваша камера у меня, она в полной исправности. Вы можете получить ее в любой момент.
— Это неслыханное самоуправство! Я подам на вас официальную жалобу! Это прямое нарушение законов!
Манзарек был невозмутим.
— Полегче, дружище, — ответил он, — на вашем месте я не стал бы всуе поминать законы. Камера ваша лежала на столе, в ваших вещах я не рылся, а попросить ее у вас не мог по той причине, что вы были в полной отключке. Надеюсь, вам известно, что у нас здесь сухой закон? А экспедиционные синтезаторы служат для синтеза пищи, а не спиртного. Вы, может, еще и туземцев спаивали там, в лесах?
Несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Первым отвел глаза Хоса.
— Это непорядочно, — пробормотал он.
— Может быть. Я приношу извинения. Но, повторяю, другого выхода не было. Записей ваших мы не трогали, у нас своя кассета. Камеру можете забрать.
На лице Хосы отразилось какое-то колебание. Наконец, он проговорил, запинаясь:
— Скажите… Вы снимали ею рабочих… в космопорте?
— Да…
— Идиоты! — завизжал вдруг Хоса с такой необыкновенной яростью, что его собеседники вздрогнули. — Кретины! Да вы знаете, что наделали?!
— И что же мы такого наделали?
Несколько секунд Хоса задыхался от гнева, казалось, его вот-вот удар хватит, но внезапно в нем как будто что-то перегорело. Он взял себя в руки. Лицо его снова стало лилово-белым, и он лишь сказал угрюмо:
— Ладно. Извините за беспокойство.
Но тут уже инициативу перехватил Камил Манзарек. Он подобрался, как пантера перед прыжком, впился в экран глазами, и в его голосе появилась угрожающая вкрадчивость.
— Вот что, Хоса, имейте в виду, что за нарушение сухого закона мы вас можем надолго упрятать за решетку, так что выкладывайте все начистоту. Что такого страшного мы сделали, снимая вашей камерой? Я, кстати, обратил внимание, что она тяжелее обычной. Так в чем дело?!
Хоса глядел исподлобья, угрюмо сверкая глазами.
— Там излучатель, — нехотя пробормотал он.
— Какой излучатель?
— Гипноизлучатель…
— Зачем?
— Чтобы от конкурентов избавиться.
— Ничего не понимаю, от каких конкурентов? Говорите яснее!
— Да что вы, маленький?! Не знаете, что ли, как сейчас трудно в науке приходится? Попробуй найди интересный материал, а если и найдешь, то это еще ничего не значит; пока будешь обрабатывать, чтобы что-то приличное вышло, глядишь, какой-нибудь ловкач у тебя все уводит из-под носа, тяп-ляп — и опубликует в сыром виде… Вот я и снабдил камеру гипноизлучателем. Если туземец мне что-нибудь расскажет, споет или станцует, и я это своей камерой запишу, то он сразу же все это забывает.
— Но это же преступление!
— Да на время только забывает! На год-полтора, не больше. А потом туземцы все вспомнят. Ничего с ними не случится, какое-то время и без сказок прожить можно.
— Но вы же их не только сказок лишили, вы у них все, все отобрали!
— Ничего подобного! Что вы на меня так смотрите?! Что я — изверг, что ли? Я тоже вовсе не хотел, чтобы они круглыми идиотами стали. Там у меня блок селекции. Я проверял его еще на Земле.
— Что проверяли? Какой блок?
— Блок семантической селекции. Забываются только те вещи, которые представляют интерес для моей работы — мифы, сказки, предания, легенды, песни, танцы. Только это. На Земле все проверено. На африканских неграх и индейцах из Амазонки. Этих… бороро.
— И что?
— Все в лучшем виде. Пляски и легенды негры забыли, но аэролимузинами управлять не разучились. Индейцы тоже — мифов и ритуалов теперь не помнят, но пользоваться подводными ружьями, рефрижераторами и стереовизорами могут по-прежнему. Так что все в порядке!
— Тогда чем вы объясните, что рабочие в космопорте забыли все, чему мы их научили? Ведь это же работа!
— Не знаю, — угрюмо буркнул Хоса, — может, что-нибудь разладилось…
— И вы называете себя ученым? Неужели вы не видите никакой разницы между здешними аборигенами и африканскими неграми или американскими индейцами, демонстрирующими свой фольклор туристам? Индеец за деньги расскажет туристам свои мифы, споет и спляшет, да сам-то он во все эти легенды давно уже не верит! А верит он в прогноз погоды по спутниковому вещанию — вовсе не в духов предков и демонов ночи. Для него наследие праотцов — лишь возможность подработать, необременительный бизнес, не более того. Но здешний-то туземец не таков. Для него все эти, как вы сказали, сказки — сама жизнь. Для него это — сама реальность. Все, что он делает, отражается в его ритуалах, песнях, плясках. Отнимите у него это — и вы отнимете все: профессиональные навыки, стереотипы бытового и социального поведения — Вы у них душу отобрали, неужели вы не понимаете?!
Манзарек начал спокойно, а под конец почти кричал. Он замолчал, пытаясь успокоиться, потом повернулся к Малигэну:
— Что им еще оставалось делать, как не в город подаваться? С рабочими в порту тоже ясно. Вы их обучили простым операциям, но смысла всей работы в целом они, конечно, не понимали. Для них это был только ритуал. Странный, чужой, но ритуал. Как и футбол, который вы пытались организовать. Ну, а ритуалы блок селекции пропускает…
Малигэн пристально смотрел на него. Негромко, медленно сказал:
— Я понял.
Он придвинулся к экрану, уголок его рта дернулся.
— Вот что, господин Хоса, — жестко сказал он. — Что с вами делать, мы еще решим, но неприятности я вам гарантирую. Камера остается у нас как вещественное доказательство. Вы же считайте себя под домашним арестом. За пределы номера не выходить. О питании мы позаботимся. Все.
Малигэн с силой ударил по клавише отбоя.
VIII.
Эцера Хоса ударил кулаком по столу перед потухшим экраном и облегчил душу руганью. Потом вскочил и заметался по комнате.
«Что делать?! Вот влип… Но это же временно — вспомнят они потом, все вспомнят!.. Идиот… Напился, сволочь, два дня потерпеть не мог, сам себе яму вырыл. Взять АГМ и улететь подальше, переждать… Вздор, некуда лететь…»
Негромкий стук в дверь оборвал хаотический поток мыслей, заставил замереть на месте.
Хоса вдруг осознал, что из-за дверей давно уже доносится какой-то шум, просто, занятый своим, он не обращал на него внимания. Вроде слышались ему невнятные, шепчущие голоса, легкий шорох и звук множества мелких шагов…
Деликатный стук повторился.
Подавляя возникший страх, этнограф подкрался к двери и потянул ручку на себя…
Весь коридор перед номером был заполнен туземцами. Они, ничего не говоря, осторожно, но решительно и неудержимо двинулись к нему в комнату. По лестнице поднимались все новые и новые…
Обливаясь холодным потом, Хоса метнулся ко второму выходу из номера. Но там дверь уже оказалась открытой, и через нее в помещение вваливалась серая масса маленьких людей.
Эцера Хоса с трудом сдерживал вопль животного ужаса.
«Балкон! — мелькнула отчаянная мысль. — Второй этаж, ерунда, спрыгну! Главное — добраться до порта, там укроюсь…»
Он выбежал на балкон.
Вся площадь перед отелем была заполнена аборигенами. Все новые и новые группы подходили по всем пяти выходящим на площадь улицам и вливались в общую массу, которая, видимо, скопилась здесь уже давно. Тысячи и тысячи маленьких человечков в серых, немарких одежках. Они неподвижно стояли под балконом Эцеры Хоса и молча смотрели на него.
Виталий Забирко Право приказа
Если кто-нибудь думает, что работа на станции «Проект Сандалуз-II» сплошная героика и подвиг, то он глубоко заблуждается. Конечно, когда прилетаешь на Землю в отпуск, приятно замечать восхищенные взгляды девушек, прикованные к шеврону твоего комбинезона, но в душе понимаешь, что, познакомься они с работой станции поближе, их мнение о твоем героизме круто бы изменилось. Несомненно, ореол героизма над нашими головками витает благодаря Сандалузской катастрофе, чуть было не превратившейся в трагедию для всей Земли, если бы не самопожертвование пилота грузо-пассажирского лайнера то ли «Земля — Пояс астероидов», то ли «Земля — спутники Юпитера», возвращавшегося на Землю. Комиссия потом в течение пяти лет разбиралась в причинах катастрофы, по крупицам собирая сведения об экспериментах, проводившихся в Научном центре Сандалуза (все материалы погибли — на месте городка зиял двухсоткилометровый в диаметре и трехкилометровый в глубину кратер с остекленевшими стенками). В лабораториях Сандалуза проводились работы по получению сверхплотного вещества или, как теперь говорят, супермассы. Это сейчас мы умные и знаем, что существуют активная и пассивная формы супермассы. А они были первыми. Хотя, наверное, они и предполагали возможность поглощения супермассой обыкновенного вещества, потому что держали зону эксперимента в силовом поле, но уж знать о существовании у активной супермассы диафрагмы — никак не могли. И все же можно предположить, что у них была какая-то теория нейтрализации супермассы, потому что, когда диафрагма, преодолев сопротивление силового поля, стала сосать в супермассу окружающее вещество, они потребовали срочного удара по Сандалузу гравитационного поля максимальной мощности. Не знаю, что подействовало на пилота того самого грузо-пассажирского лайнера, ожидавшего в этом секторе над Землей разрешения на посадку, но пилот не раздумывал. Он бросил свой корабль прямо в центр смерча, на полную мощность включив гравитационные двигатели и уже по пути катапультировав вначале пассажирский отсек, а затем пилотскую кабину. Пилоту повезло — его кабину выбросило из зоны. А пассажирский отсек втянуло в смерч… Вначале поползли слухи, что он катапультировал только себя, но, по счастью, проходивший мимо метеорологический спутник заснял момент атаки кораблем Сандалуза, и подозрения умерли в зародыше.
Когда Комиссия досконально разобралась в происшедшем, было вынесено категорическое постановление о запрещении каких-либо исследований вещества на Земле, и нашу лабораторию «Проект Сандалуз-II» оборудовали над поясом астероидов выше плоскости эклиптики. Пассажирских трасс здесь нет, но на всякий случай зону эксперимента окружили сигнальными бакен-маяками и весь район нанесли на навигационные карты как запретный.
Работаем мы, как говорится, на переднем крае науки, но героикой, отражающейся в глазах земных девушек, тут и не пахнет. Мы обстреливаем Глаз (так мы между собой окрестили супермассу) обломками астероидов, снимая при этом лавину информации, дающей представление о процессах, которые происходят в белых карликах и даже в черных дырах и квазарах.
Есть, правда, одна неприятная обязанность: посменное дежурство в рубке слежения за бакен-маяками, чтобы ни одно инородное тело не проникло в зону эксперимента и не помешало чистоте его проведения. Коллектив станции у нас небольшой, всего двадцать два человека, поэтому каждому приходится раз в неделю восемь часов нести вахту. Представьте, насколько это скучно, если за два года существования станции в зону только один раз влетел метеорит величиной с кулак, да и тот был аннигилировав бакен-маяком без всякого участия вахтенного.
Еще куда ни шло, когда идет обстрел Глаза — восьмидесятиметрового «зрачка» активной супермассы (есть предположение, что в пассивной форме ее объем будет измеряться в сантиметрах, максимум — в десятках сантиметров), окруженного пятикилометровой сферой радужной в лучах далекого Солнца диафрагмы — поля до сих пор не выясненной природы. При попадании вещества в «зрачок» диафрагма резко сокращается, исчезает в «зрачке», Глаз как бы мигает и в течение двух с половиной минут, как мы говорим, «переваривает» вещество. А затем диафрагма опять, но уже со скоростью на порядок меньшей, возвращается на место. Так вот, если ты в это время дежуришь в рубке, еще жить можно. Но когда кончается запас «рабочего вещества» и наши штатные пилоты Гидас и Банкони уходят вылавливать очередной астероид, то тут со скуки дохнешь. Сидишь перед пустыми экранами и с тоской думаешь о том, как сейчас ребята в кают-компании обсуждают результаты последнего обстрела, и чуть не воешь. Можно, конечно подключиться к кают-компании и тайком послушать обсуждение, но попробуй это сделать, когда здесь же, в рубке, у тебя за спиной, сидит начальник станции и что-то увлеченно обсчитывает на вариаторе, изредка, словно специально для того, чтобы позлить тебя, прицокивая языком!..
До возвращения Гидаса и Банкони оставалось где-то с полчаса, и я уже действительно готов был завыть от тоски, чтобы обратить внимание Шеланова на мое бедственное положение, как вдруг бакен-маяк сектора 6С подал предупредительный сигнал. Я оглянулся на Шеланова.
— На тридцать две минуты раньше контрольного времени, — констатировал он, взглянув на часы.
Автоматически включился селектор, и голос бакен-маяка монотонно доложил:
— В секторе 6С обнаружен объект массой 12,4 мегатонны…
— Ого! — присвистнул я.
На стереоэкране сектора 6С появился обломок скалы, чем-то похожий на кремниевые скребки доисторического человека. У основания скалы, в серебристой паутине крепежной арматуры захвата, висели два десантных астробота, в просторечии работников астероидного Пояса называемых «мухоловами».
Я навел на экран координатную сетку. Ничего себе скребочек — с километр длиной!
— …Объект направляется в зону эксперимента, — продолжал докладывать бакен-маяк. — Скорость движения — 196,3 км/с, ускорение — минус 0,2 км/с2. На запрос объект…
— Наши, — сказал я и подал бакен-маяку сигнал, разрешающий объекту вход в зону. Маяк умолк.
— Свяжись с ними, — подсказал Шеланов. «Можно подумать, что я не знаю своих обязанностей», — поморщился я, но промолчал: начальство есть начальство.
— Бот ЗХ-46, бот ЗХ-47, вас вызывает База! Отвечайте!
— Базу слышим, — отозвался голос Гидаса.
— И видим, — добавил Банкони. В голосе его послышался смешок. У ребят было хорошее настроение.
— Бот ЗХ-46, бот ЗХ-47, — снова сказал я и, взглянув на координатную сетку, отбарабанил им их координаты.
— Спасибо, Иржик, — хмыкнул Банкони. — Без тебя, милый, мы никак бы не разобрались в своем местонахождении.
Я незаметно оглянулся на Шеланова. Начальник станции не любил фамильярности во время работы.
— Опять лихачите, — недовольно проговорил он. — Почему ведете астероид, зацепив только с одной стороны?
Я снова посмотрел на экран. Действительно, оба «мухолова» вцепились захватами в астероид с видимой стороны, и от этого скала перемещалась как-то боком.
— У астероида смещен центр тяжести, — быстро ответил Банкони. Так быстро, что даже я не поверил.
— Да? — недоверчиво переспросил Шеланов и защелкал клавишами на вариаторе.
Вариатор развернул на экране пространственное изображение полигона и высветил на нем траекторию полета астероида. Получалось, что они должны были остановиться как раз на границе зоны обстрела.
— Увеличьте торможение, — сказал Шеланов.
— Зачем? — снова быстро отозвался Банкони. — Мы отбуксируем астероид как раз к катапульте.
— Ты что, собираешься стрелять целым астероидом? — съязвил Шеланов. — Нам его массы хватит на сотню выстрелов. Отбуксируйте астероид в межзонье маяков 6С, 5С, 5В. Там и будем его разрезать.
На этот раз Банкони промолчал.
— Как меня поняли? — спросил Шеланов.
Снова какая-то непонятная заминка с ответом.
Шеланов недовольно скривил губы.
— Что у вас опять случилось? Докладывайте.
И тут отозвался, наконец, Гидас. Голос у него был сиплый, севший, словно простывший:
— Докладывает бот ЗХ-46. Пилот Альваро Гидас. При попытке захвата объекта частично выведен из строя блок регулировки гравитации. В настоящий момент мощность гравиполя составляет 0,1 максимальной.
Я быстро прикинул в уме мощность гравиполя к их торможению. Да, у него там сейчас действительно хорошее настроение…
— Ясно, — сухо проговорил Шеланов. — Предыдущее распоряжение отменяю. Продолжайте движение по предлагаемому вами маршруту. Пилот Альваро Гидас! По возвращении на Базу вы получите взыскание с занесением в пилотскую карточку.
— Ты что, Руслан?! — взорвался Банкони от возмущения. — Ты же там не был, ничего не видел! Этот чертов булыжник вращался сразу по трем осям с сумасшедшей скоростью!
— Отставить! — резко оборвал Шеланов. — Выполняйте распоряжение.
Я представил, как Банкони сейчас чертыхается про себя. А может быть, отключив связь, и во весь голос. Что-что, а это он умеет. Во всяком случае, тишина в эфире была подозрительной. Впрочем, догадки догадками, а работа работой…
— Бот ЗХ-46, бот ЗХ-47, — снова вызвал я. — Траектория вашего полета проходит слишком близко от бакен-маяка сектора 6С. Смотрите, не зацепите.
— Да вы что там, с ума сошли?! — вдруг взорвался он. — Дайте маяку разрешение на наш вход в зону, а то он нас расстреливать собирается!
Я оторопело посмотрел на коммутатор связи с сектором 6С. Горел зеленый разрешающий сигнал. И тут же услышал, как на другой частоте бакен-маяк монотонно докладывает:
— …объект не отвечает. Ввиду отсутствия разрешения Базы на вход объекта в зону эксперимента объект предлагается к аннигиляции. До аннигиляции осталось две минуты тридцать секунд…
— Сектор 2А, — спокойно подсказал Шеланов.
Действительно, на коммутаторе связи с сектором 2А горел красный предупредительный сигнал.
— В секторе 2А, — очевидно, в который уже раз продолжал докладывать бакен-маяк, — обнаружен объект массой 62 тысячи тонн. Скорость движения 12,8 м/с. На запрос объект не отвечает…
— Включи экран, — снова подсказал мне Шеланов. — Посмотрим, что это за непрошенный гость.
Кажется, я покраснел. Даже уши начали гореть. Шляпа! Но когда зажегся экран сектора 2А, я остолбенел. Наверное, Шеланов тоже. Хотя не знаю. На затылке у меня глаз нет.
Медленно перемещаясь по экрану, в зону входил пассажирский лайнер.
— До аннигиляции осталась одна минута тридцать секунд…
— Что там у вас? — спросил Банкони.
— Молчать! — неожиданно гаркнул над моим ухом Шеланов. — Тишина в эфире! Прекратить все разговоры!
И тут же напустился на меня:
— Да дай же ты разрешение на вход, а то маяк сейчас расстреляет его!
Я поспешно дал маяку разрешение на вход лайнера в зону.
— «Градиент», отвечайте! — перегнувшись через мое плечо к самому динамику селектора, но уже на тон ниже, позвал Шеланов. — «Градиент», отвечайте! Почему молчите? Вы находитесь в опасной зоне! «Градиент», отвечайте!
«Какой градиент?» — недоуменно подумал я. Пассажирский лайнер, светясь почти всеми иллюминаторами, входил в зону. И только тут я увидел написанное на его борту название.
— Молчит, подлец! — выругался Шеланов.
— Может, он мертвый? — предположил Банкони.
— Какой к черту мертвый! Иллюминирует, как рождественская елка! «Градиент», отвечайте! — снова, срывая голос, заорал Шеланов.
Краем уха я услышал, как Банкони о чем-то переговаривается с Гидасом, и повернулся к экрану сектора 6С. Бот 3Х-47, отстреливая крепежную арматуру захватов, отшвартовывался от астероида.
— Я бот 3Х-47, — доложил Банкони. — Иду на перехват лайнера «Градиент».
Астероид качнуло, и он стал медленно вращаться. Я похолодел. Каково там Гидасу одному, при его мощности гравиполя? Хотя нет. Практически ничего не изменится — ускорение торможения останется прежним, только вдвое увеличится мощность работы двигателя. Лишь бы захваты выдержали. Но, конечно, вести несбалансированный астероид одному при четыре «g» Гидасу будет несладко…
— Какой еще перехват?! — заорал Шеланов. — Через десять минут лайнер будет в диафрагме!
— Помолчи, — спокойно сказал Банкони. — Это мое дело.
Я прикинул расстояние и тоже понял — не успеть. Даже долететь он бы не смог — не хватило бы времени на торможение. Да и как он думал перехватить лайнер? Захваты-то отстрелил… Но у Банкони была на этот счет своя точка зрения. Как у того пилота, который бросил свой лайнер на Сандалуз. «Мухолов» Банкони стремительно сорвался с места и на максимальной тяге пошел по кривой на перехват лайнера. Наверное, у пилотов это в крови: мгновенная оценка экстремальных ситуаций и принятие решений.
— Что делает, паршивец, — прошипел Шеланов. — Двигатель загубит…
«Мухолов» стремительно мчался наперерез лайнеру и не думал тормозить. Шеланов высветил на вариаторе траекторию его движения, и она заплясала по экрану, пересекаясь с траекторией движения лайнера. Очевидно, Банкони отключил компьютер бота, который ни за что не допустил бы столкновения.
— Что делает, что делает, — скрипел зубами Шеланов. — Лайнер же сожжет его метеоритной защитой…
Но Банкони все верно рассчитал. Компьютер лайнера прикинул, что ему энергетически выгоднее затормозить, чем уничтожить летящий на таран бот, и включил тормозные двигатели.
Они разминулись у самой диафрагмы. Уколом иглы «мухолов» по касательной пронзил ее радужную оболочку и, потеряв ускорение, выскочил с другой стороны. Лайнер же, практически сбросив скорость до нуля, медленно вползал в диафрагму.
— Бот 3Х-47, — сухим, сорванным голосом запросил Шеланов, — что у вас?
— Все нормально, — бодро отозвался Банкони. — Двигатель сгорел. Торможу аварийным химическим. До полной остановки горючего не хватит.
— Потерпишь, — зло процедил Шеланов. — Включи блок-пеленг, потом как-нибудь выловим…
И тут зажегся центральный экран, и на нем появилось молодое, почти мальчишеское лицо в пилотке капитана.
— Я — «Градиент»… — начал капитан, но тут же осекся от громового крика Шеланова.
— Назад! — заорал Шеланов. — «Градиент» — назад!!! Двигатели на полную мощность и — назад!
Мгновенье мальчишка-капитан оторопело смотрел на Шеланова, затем бросился к пульту управления. На соседнем экране было видно, как двигатели лайнера, уже почти погрузившегося под радужную оболочку диафрагмы, слабо засветились, лайнер почти остановился… Но каких-то долей секунды ему все-таки не хватило. Лайнер вполз в диафрагму, и свечение двигателей погасло. Капитан «Градиента» еще некоторое время возился у пульта, затем растерянно обернулся к нам.
— Не включаются… — по-мальчишески обиженно протянул он. Шеланов обессилено упал в кресло. Слов у него не было. «Ведь это все, — с ужасом подумал я. — Из диафрагмы лайнер ничем не вытянешь…»
— Каким образом вы очутились в запретной зоне? — неожиданно произнес за спиной спокойный голос.
Посреди рубки стоял капитан патрульно-спасательной службы Нордвик. Три дня назад он высадился на станции с крейсера ПСС, который через неделю, после дежурного патрулирования в своем секторе над плоскостью эклиптики, должен был забрать его. Не знаю, с какой целью он остался на станции, — то ли с инспекционной, то ли просто отдохнуть и поболтать по старой дружбе с Шелановым (он и раньше бывал у нас), — но сейчас он стоял здесь.
— Я… — замялся молоденький капитан «Градиента», но тотчас взял себя в руки. — На лайнере «Градиент» проводится профилактический осмотр всех систем управления. Поскольку профилактический осмотр внеплановый и всесторонний, лайнер, чтобы не мешать другим судам, сведен с трассы и выведен в «мертвую зону» над плоскостью эклиптики.
— По чьему приказу проводится профилактический осмотр?
Капитан «Градиента» снова замялся и смущенно отвел глаза в сторону.
— По моему…
— Вы что, при проведении осмотра отключили и астронавигационную систему?
— Да.
— Какого черта! — простонал Шеланов. Он приподнялся в кресле, с ненавистью глядя на экран. — Посмотрел бы хоть на навигационную карту, где наш район объявлен запретным!
Мальчишка-капитан испуганно заморгал.
Нордвик подошел сзади к Шеланову и успокаивающе положил ему руку на плечо.
— Это ваш первый самостоятельный рейс?
— Да, — поспешно кивнул капитан «Градиента». Как будто это могло служить ему оправданием!..
Шеланов снова застонал.
«Любознательный мальчишка», — с тоской подумал я. Конечно, его можно было понять. Целый год стажировки — и вот, наконец, он капитан. Единственный повелитель огромного космического лайнера. Если можно считать повелителем человека, посаженного в кресло пилота неизвестно зачем, поскольку программу полета полностью выполняет многократно дублированный компьютер. Естественно, что в своем первом самостоятельном рейсе ему захотелось хоть что-то сделать самому. Хотя бы провести профилактику…
— Сколько на борту пассажиров? — продолжал Нордвик. Я заметил, как он сильнее сжал плечо Шеланова.
— Восемьсот двадцать три. Туристический рейс «Земля — Марс — Кольца Сатурна — Пояс астероидов — Земля».
Молоденький капитан «Градиента» вдруг заискивающе улыбнулся и совсем по-мальчишески заглянул в глаза Нордвику:
— Меня теперь отстранят от работы, да?
Я чуть было не завыл от бессильной ярости. От жизни тебя освободят, болван ты этакий! Даже в лице Нордвика что-то дрогнуло.
— Никаких действий не предпринимать, — жестко сказал он. — Пассажирам, если будут интересоваться, скажите, что проводите профилактику. Ждите связи.
Нордвик наклонился над пультом, что-то выискивая на нем. Мальчишка с экрана смотрел на нас обреченным взглядом. Если бы он знал…
— Как его отключить? — резко повернулся ко мне Нордвик. Я протянул руку и щелкнул клавишей. Центральный экран погас. Нордвик выпрямился и посмотрел на Шеланова.
— Что будем делать?
— А что мы можем… — с болью протянул Шеланов. — Я уже перебрал в уме все варианты. Он обречен.
— Послушай! — повысил голос Нордвик. — Там восемьсот двадцать три… двадцать четыре человека!
Шеланов съежился, как от удара. Мне тоже стало не по себе. С холодной отрезвляющей ясностью я увидел происходящее как бы со стороны.
— А почему бы не попробовать вытащить лайнер ботом? — снова спокойно, овладев собой, спросил Нордвик.
Шеланов поднял голову и непонимающе посмотрел на него.
— Почему нельзя вытащить лайнер ботом? — повторил Нордвик.
— Потому что поле диафрагмы глушит гравиимпульс двигателей, — ответил я.
— Но, насколько я знаю, вы специально для полетов в диафрагме установили на ботах аварийные химические двигатели?
Я было воспрянул духом, но тут же сник. Эти двигатели были предназначены для барражирования ботов в диафрагме и не рассчитаны на дополнительную нагрузку.
— Они очень маломощны, — тускло сказал Шеланов. — Да и горючего там на пять минут работы.
— Ну, хорошо, — кивнул Нордвик. — Но в конце концов, можно же пассивировать вашу активную супермассу, как… как… — Он вдруг запнулся, у него перехватило горло, но, пересилив себя, все же сипло, изменившимся, сдавленным голосом закончил: — Как в Сандалузе?
Шеланов почему-то отвернулся от него.
— Ты же знаешь, — проговорил он в сторону, — что для этого нужен мощный гравитационный удар, хотя бы такой, как при работе двигателей на полной мощности. Но лайнер их включить не может, а если мы ударим… Сам понимаешь, что от него останется…
Я лихорадочно перебирал в уме все варианты гравитационного удара по Глазу, но подходящего не находил. Лайнер был обречен.
— Черт бы побрал ваши бакен-маяки! — с запоздалой злостью скрипнул зубами Нордвик. — Почему они так поздно засекли лайнер? Ведь зона обнаружения у них более ста тысяч километров!
Шеланов только вздохнул. Объяснений не требовалось. Их знал и сам Нордвик. Программа бакен-маяков не была рассчитана на мальчишек, дрейфующих в пространстве на лайнерах с отключенными компьютерами. Будь это астероид, маяки давно бы подали сигнал, а так они засекли лайнер, но предупредительный сигнал подали только тогда, когда лайнер пересек тысячекилометровую зону и, очевидно, не подчинился приказу остановиться. Хорошо еще, что мальчишка в своем необузданном рвении не добрался до метеоритной защиты корабля. Иначе нетрудно себе представить, что было бы с Банкони, да и с самим лайнером…
— Руслан, — неожиданно обратился к Шеланову Нордвик, — а что происходит, когда вы обстреливаете Глаз?
— Как — что происходит? — непонимающе переспросил Шеланов. Очевидно, у него был шок — уж очень туго он соображал.
— На какое время свертывается диафрагма?
— На две с половиной минуты… Да нет, Нордвик, из этого тоже ничего не получится. Даже при форсированном режиме для пуска двигателей нужно не менее пяти минут. Он не успеет.
— Это уж мое дело, — резко оборвал его Нордвик и повернулся ко мне. — Сколько времени осталось лайнеру до падения в «зрачок»?
Я защелкал клавишами вариатора, вводя задачу. На экране зажглось время: «42.24… 23… 22…»
— Сорок две минуты.
— Немедленно возвратите на станцию второй бот! — оборвал меня Нордвик.
— Бот ЗХ-46, — вызвал я Гидаса и включил обзорный экран у катапульты, — немедленно возвращайтесь на станцию!
Гидас уже отбуксировал астероид к катапульте, застопорил его метрах в пятистах от нее и теперь аккуратно отстегивал захваты.
— Да отстрели ты их к чертовой матери! — взорвался Нордвик. — Время дорого!
— Ясно, — буркнул Гидас.
Бот на экране отстрелил оставшиеся захваты и на предельной скорости, почти как бот Банкони, рванул с места. Я ужаснулся. При таком старте у него было около десяти «g»!
— Где у вас причальная площадка ботов? — резко спросил Нордвик.
— Где и все…
Нордвик кивнул и вышел из рубки. Шеланов проводил его непонимающим взглядом, затем, словно очнувшись, вскочил с кресла и выбежал вслед за ним.
— Что ты надумал? — услышал я его крик из коридора. И тут, надо сказать, я нарушил устав вахты — ни при каких обстоятельствах не покидать рубку. Я включил кают-компанию, крикнул:
— Владик, срочно подмени меня в рубке! — и, не дожидаясь ответа, выскочил следом за Нордвиком и Шелановым.
Нагнал я их только возле закрытого шлюза причального тамбура. И как раз вовремя. Перепонка шлюза лопнула, и Нордвик, отмахнувшись от что-то горячо говорившего ему Шеланова, вошел в тамбур. Шеланов, не обратив на меня внимания, последовал за ним.
«Тем лучше», — подумал я и тоже вышел на причал. Посреди причала, раскорячившись на магнитных присосках, стоял бот Гидаса. Уцелевшие захваты были наполовину втянуты в корпус и торчали из бота суставчатыми побегами. В таком виде «мухолов» напоминал проросшую картофелину, поставленную на воткнутые в нее спички. Люк бота был закрыт.
— Что он — спит там? — недовольно процедил Нордвик. Я подошел к люку и толкнул его рукой. Перепонка лопнула, и мы увидели лежащего в кресле Гидаса со страшным, расплющенным перегрузкой лицом. Он пытался встать, но у него ничего не получалось.
Отпихнув меня, в кабину «мухолова» забрался Нордвик и помог Гидасу выбраться наружу. Ноги не держали Гидаса. Он висел на Нордвике тряпичной куклой, руки конвульсивно дергались, на лице безобразной маской застыл неприятный оскал.
— Противоперегрузочная защита совсем села, — прохрипел он. Из-за застывшего оскала казалось, что он улыбается.
Я подскочил к Гидасу и подставил плечо. Не церемонясь, Нордвик перегрузил его на меня и повернулся к боту. Но там уже, загораживая собой люк, стоял Шеланов.
— Куда? — спокойно, но твердо спросил он.
— Туда, — так же прямолинейно ответил Нордвик.
— Не имею права пустить тебя.
Плечи Нордвика напряглись, он набычился, казалось, еще мгновение — и он просто отшвырнет щуплого Шеланова со своего пути. Но напряжение вдруг оставило его, и он неожиданно улыбнулся.
— Я понимаю, о чем ты думаешь, — сказал он. — Дай мне пилота, чтобы успокоить твою совесть.
Нордвик повернулся к нам и посмотрел на Гидаса. Тот уже немного пришел в себя и дрожащими руками разминал затекшее лицо. Шеланов тоже посмотрел в нашу сторону.
— Ты же сам видишь…
— Ну, пусть со мной идет этот, — Нордвик кивнул на меня. — Мне все равно, какой балласт.
Конечно, меня неприятно резануло, что меня окрестили «балластом». Но, когда выпадает такой случай, не до обид. Кажется, это был именно тот случай, о которых думают девушки, восхищенно глядя на шевроны наших комбинезонов…
— Хорошо, — все еще с сомнением буркнул Шеланов и отступил от люка.
— Извиняюсь, — сказал я Шеланову и, так же бесцеремонно, как Нордвик, передав ему Гидаса, скользнул в «мухолов».
— Быстрее уходите, время дорого! — крикнул Нордвик, заращивая перепонку люка. Затем сел в единственное кресло.
— Стань за креслом, — сказал он мне, — прижмись спиной к стене, а руки упри в спинку кресла.
Я развернулся в тесной для двоих кабине и оперся спиной о переборку.
— Сколько у нас осталось времени? — спросил Нордвик, глядя, как с причала в обнимку уходят Шеланов с Гидасом. Естественно, я не знал.
— Минут тридцать пять.
— Ты хоть догадался в рубке кого-нибудь оставить?
От неожиданности я вздрогнул. Все замечает! Хорошо, что он не спросил этого при Шеланове… Нордвик включил внешнюю связь.
— База?
— Дежурный оператор станции «Проект Сандалуз-II» на связи, — отозвался Владик.
«Молодец!» — восхищенно подумал я. Быстро он!
— Сколько у нас времени?
Кажется, Владик замялся. Ну, правильно, откуда ему знать, о чем идет речь.
— Не понял? — переспросил он.
Я перегнулся через спинку кресла поближе к пульту.
— Владик, — сказал я, — дай, пожалуйста, бегущее время с экрана вариатора на компьютер бота ЗХ-46.
Я еще успел заметить, как на дисплее вспыхнули цифры: 32.42, и тут же меня отшвырнуло назад, распластав по стене. Бот, прорвав перепонку причала, буквально выстрелил собой в пространство.
С огромным трудом, чувствуя, как мое лицо превращается в лицо Гидаса, я вытянул перед собой руки и уцепился за спинку кресла. Перед собой я ничего не видел, кроме затылка Нордвика, — кресло полностью заслоняло собой экран обзора. Шея Нордвика побагровела, но голову он держал прямо. Длинные волосы откинулись назад, обнажив уши: одно нормальное, как и у всех людей, прижатое к голове, другое оттопыренное, стоящее практически перпендикулярно. У нас на станции над ним за глаза подшучивали: мол, в детстве родители его часто драли за ухо, причем только за правое.
«А Шеланова у нас прозвали Людовиком», — глупо подумал я. За длинный нос, похожий на нос одного из французских королей…
«Мухолов» резко дернуло. Очевидно, Нордвик начал тормозить. Руки не выдержали, и меня бросило лицом на спинку кресла. Причем носом я уткнулся именно в то самое оттопыренное ухо Нордвика. Хорошо еще, что нос у меня не королевский, а то, наверное, проткнул бы его «воспитательное» ухо. Лицо у меня стало вытягиваться вперед, и теперь я уже не знал, на что оно стало похоже. Но в таком положении, приплюснувшем меня к спинке кресла, было и свое преимущество. Теперь я видел экран обзора и надвигающуюся радужную диафрагму Глаза.
Надо сказать, что вхождение в диафрагму не доставило мне удовольствия. Вспышка в глазах, разноцветные кольца на сетчатке и неприятная оторопь во всем теле. И тут же наступила невесомость. Гравидвигатели в диафрагме не действовали.
Все-таки Нордвик был асом. Полет, траекторию движения он рассчитал великолепно. Буквально секунды три работали аварийные химические двигатели, и мы плавно пристали к переходному тамбуру пилотского отсека.
Не знаю, кому как, но я в невесомости почувствовал себя весьма неуютно. Мы настолько привыкли к искусственной гравитации, что, впервые оказавшись в невесомости, я сразу понял, что означала «космическая болезнь» для первых пассажиров времен начала освоения пространства. Желудок подступил куда-то к легким, казалось, что ты падаешь вместе с ботом в бездонную прорву, и безотчетно хотелось ухватиться за что-то крепкое и надежное, чтобы предотвратить это падение. Наверное, молоденький капитан «Градиента» испытывал то же чувство, потому что, когда лопнула перепонка переходного тамбура, он, ожидая нас, висел везде входа, неестественно крепко уцепившись рукой за поручень. Одному Нордвику все было нипочем. Он крепко стоял на ногах, приклеенный к полу магнитными присосками, — экипировка работников патрульно-спасательной службы была рассчитана на все случаи жизни.
— Здравствуйте, — несколько смущенно проговорил капитан «Градиента». — У нас почему-то отказала система искусственной гравитации…
Не обращая на него внимания, Нордвик прошагал по тамбуру, вошел в рубку лайнера и, подойдя к корабельному компьютеру, четкими, уверенными движениями открыл переднюю панель. Конечно, капитану ПСС положено было знать рубку корабля как свои пять пальцев. Откинутая вверх панель корабельного компьютера огромным крылом закачалась под потолком.
Капитан «Градиента» растерянно смотрел на действия Нордвика. Затем перевел на меня недоуменный взгляд.
— Что случилось? — понизив голос, с плохо скрываемой тревогой спросил он.
Я чуть не ударил его. Очевидно, он был моим ровесником — лет двадцать пять-двадцать шесть, — но щуплая фигура, светлые волосы, откровенно розовая кожа делали его совсем похожим на мальчишку. Впрочем, блондины всегда выглядят моложе. Даже щетина у них на лице практически не заметна, а у этого кожа на лице вообще была девственно чиста.
— Вы завели лайнер в зону эксперимента станции «Проект Сандалуз-II», — процедил я, глядя в небесно-чистые глаза капитана «Градиента». — Вам это что-нибудь говорит?
Глаза его дрогнули, потемнели. Он побледнел, по горлу судорожно прокатился кадык. Что-то это ему говорило.
— Иржик, — позвал меня Нордвик, вытягивая из внутренностей компьютера какие-то длинные, белесые, похожие на макароны шнуры с полупрозрачными присосками на концах, — переключи, пожалуйста, время сюда, в рубку.
«Откуда он знает мое имя? — несколько ошарашено подумал я. — На причале-то обозвал меня „этим“…» Я неуверенно, цепляясь за все предметы на своем пути, проплыл к пульту управления и, крепко уцепившись за подлокотник пилотского кресла, соединился с Владиком.
В нашем распоряжении оставалось двадцать три минуты. Впрочем, не в нашем, а в распоряжении Нордвика, потому что только он знал, что нужно делать.
Внезапно включилась внутренняя связь, и девичий голос, очевидно, стюардессы, сказал:
— Капитан, пассажиры жалуются на невесомость…
— К черту! — рявкнул Нордвик. — Пусть потерпят полчаса!
Бледный капитан «Градиента» только беззвучно раскрыл и закрыл рот.
— Где у вас можно побриться? — неожиданно обратился к нему Нордвик.
Капитан «Градиента» ошалело уставился на него.
— Побриться?
— Да, побриться, — раздраженно повторил Нордвик.
— В душевой…
— Депилат там есть?
Вконец обескураженный мальчишка-капитан только кивнул, и Нордвик быстрым шагом направился в душевую. В это время на экране связи вместо Владика появился Шеланов.
— Где Нордвик? — спросил он.
— Кажется, пошел бриться, — ответил я.
— Что?!.
Я пожал плечами.
— Пошел бриться, говорю. Во всяком случае, он искал место, где можно побриться.
Шеланов смотрел на меня расширенными глазами, словно проверяя, не сошел ли я с ума.
— Чем вы там занимаетесь?
— Не знаю, — откровенно признался я.
— А где капитан «Градиента»?
— Здесь.
— Давай его сюда!
Я повернулся. Капитан «Градиента» по-прежнему висел возле тамбура, держась за поручень.
— Вас зовут, — пригласил я.
Он, наконец, оторвался от поручня и стал так же неуверенно, как перед этим я, пробираться к пульту.
— Я слушаю, — сказал он, добравшись до кресла пилота.
— Кто — я? — осадил его Шеланов. — Доложите по форме.
Держась за спинку кресла, капитан «Градиента» выпрямился.
— Капитан грузо-пассажирского лайнера «Градиент» пилот второго класса Чеслав Шеман на связи, — отрапортовал он. Впервые я услышал его голос без растерянных интонаций.
— Вот так-то лучше, — кивнул Шеланов. — Начальник научно-исследовательской станции «Проект Сандалуз-II» Руслан Шеланов. Доложите о проводимых мероприятиях.
Чеслав Шеман вновь растерянно повернулся ко мне.
— Я не получал никаких указаний…
Кажется, Шеланов выругался, но в это время у меня за спиной послышался цокот магнитных подошв, и я обернулся. С закутанной полотенцем головой из душевой возвращался Нордвик. Тщательно растирая голову, он отстранил меня от кресла и сел. Затем снял полотенце. Я обомлел. От его пышной шевелюры не осталось и следа. Голый череп стыдливо розовел младенческой кожей, как бывает только после депилата, и по нему, страшный в своей наготе, глубоким оврагом змеился безобразный шрам, заканчивающийся за оттопыренным ухом.
— Здесь тебе никто ничего не скажет, — объяснил он Шеланову. — У меня нет времени вводить всех в курс дела.
Я непроизвольно бросил взгляд на таймер. Семнадцать четырнадцать.
— Сообщи о происшедшем в патрульно-спасательную службу, — продолжал Нордвик. — И вызови мой крейсер. Может статься, ему придется здесь поработать…
— Уже вызвали.
— Хорошо. Теперь дальше. Я отключил блокировку системы запуска двигателей лайнера и попытаюсь вывести двигатели на режим прямым нейроуправлением. Вполне возможно, что я их сожгу, но две минуты они проработают у меня на полной мощности. Твоя же задача: когда я буду готов, ты выстрелишь в Глаз из катапульты… Ты ведь говорил, что диафрагма после обстрела захлопывается на две с половиной минуты?
— Да, — кивнул Шеланов и тут же поперхнулся. — Но… мне нечем стрелять…
— Что значит — нечем? — опешил Нордвик.
— В катапульте нет рабочего вещества.
— А тот астероид, который вы только что приволокли?!
— Даже если бы он смог поместиться в катапульту, мне его нечем туда затолкать! — тоже сорвался на крик Шеланов.
Кажется, я впервые увидел Нордвика растерянным. На нашей станции было всего два бота. Но один, с Банкони, находился сейчас неизвестно где, дрейфуя с сожженным двигателем в космосе, а второй был здесь. И тут впервые жуткий холодок неприятной струйкой побежал по моей спине. Похоже было, что восхищенные взгляды девушек могут уже никогда не коснуться моих шевронов. Какие только глупости не лезут в голову! Но я ошибся в Нордвике. Он быстро оправился. То ли у него был в запасе еще один вариант, то ли его голова в этой ситуации работала быстро, трезво и четко. Как компьютер.
— Тогда — не мешай, — жестко сказал он Шеланову и отключил внешнюю связь. Затем повернулся к капитану «Градиента» и посмотрел на него внимательным взглядом.
— Значит так, сынок, — тихо сказал он. — С прической тебе придется расстаться… Запустишь двигатели ты. Надеюсь, не забыл, что такое прямое нейроуправление?
Чеслав Шеман съежился.
— Нет… — прошептал он.
— Что значит — нет? Не забыл или прически жалко?
Нордвик бросил взгляд на таймер. Я тоже. Оставалось тринадцать минут.
— Я не смогу…
— Что значит — не смогу?! — взъярился Нордвик. Глаза его недобро щурились. — А ну, марш в душевую!
— Я не смогу… — снова пролепетал Чеслав Шеман и тут же быстро затараторил: — Когда мы в институте сдавали зачеты по нейроуправлению, я с трудом укладывался в три минуты…
Нордвика перекосило.
— Черт бы тебя побрал! — выругался он и, резко повернувшись к пульту, включил селектор внутренней связи.
— Внимание по всему кораблю! — сдерживая себя проговорил он. — Прошу пассажиров, имеющих права пилотов, отозваться. На отзыв — одна минута. Повторяю: в течение одной минуты.
Секунд через пятнадцать отозвался чей-то голос:
— Микробиолог Бахташ Тарма. Двести шестая каюта. Имею любительские права…
— Спасибо, не надо. Прошу отзываться пилотов не ниже первого класса.
Минута прошла в напряженном молчании. Больше отзывов не поступило. Нордвик подождал еще лишних секунд десять, затем отключил селектор и повернулся к Чеславу. Лицо Нордвика было страшным и одновременно жалким. Смесь ярости и страдания.
— В таком случае… — прохрипел он, лицо его исказилось, и он часто-часто задышал, — на боте пойдешь ты. Твоя задача… по моему приказу… направить бот в супермассу…
Я похолодел. Так вот какой второй вариант был у Нордвика! И без того потерявший свою розовощекость Чеслав Шеман побледнел еще больше.
— Нет… — Он испуганно замотал головой. — Я не смогу…
— Сможешь. Больше это некому сделать.
Шеман продолжал мотать головой. А я стоял и с ужасом наблюдал, как один уговаривает другого пойти на смерть.
— Надо, сынок, надо… Я бы сам пошел, но никто не сможет тогда вывести лайнер. А послать туда этого микробиолога…
Чеслав Шеман только сильнее замотал головой. Казалось, еще немного и с ним случится истерия. Но тут лицо Нордвика посуровело, и он жестко сказал:
— В таком случае, я тебе приказываю: сесть в бот и направить его в супермассу. Как старший по званию. Выполняйте приказ!
И тут я не выдержал.
— Да какое ты имеешь право приказывать! — гаркнул я в лицо Нордвику. — Посылать человека…
Закончить я не успел. Лицо Нордвика исказилось яростью, он повернулся ко мне и ударил. Страшно, сильно — у него была опора в невесомости на магнитные подошвы.
Когда я пришел в себя, Чеслава Шемана в рубке уже не было. Я висел под потолком; левой стороны лица не чувствовалось, словно ее облили анестезином, видел только правый глаз. В рубке горели почти все экраны: на одном, практически закрывая всю его поверхность, темнел близкий «зрачок» супермассы; на втором рельефно вырисовывался уже отшвартованный от лайнера бот; на третьем — лицо Чеслава Шемана в рубке «мухолова»; на четвертом по корпусу лайнера медленно перемещался двигательный отсек, занимая позицию напротив «зрачка» супермассы. На таймере горело время: пять минут сорок восемь секунд. А из кресла пилота торчала бритая голова Нордвика, сплошь утыканная присосками белесых проводов.
— Подлец! — прохрипел я разбитыми губами. Резкая боль рванула мне всю челюсть. — Убийца!
Подсознание глупо отметило толику мелодраматичности этих фраз и всего моего положения. От злости на себя и на свое подсознание я попытался оттолкнуться от потолка, чтобы броситься на Нордвика, но у меня ничего не получилось. Я только завертелся в воздухе.
— Не мешай, — не оборачиваясь, спокойно сказал Нордвик. — Если мы начнем сейчас драться, лайнер войдет в супермассу. А здесь восемьсот двадцать три человека, не считая нас.
Я заскрипел зубами от бессильной ярости, но тут же схватился за челюсть. Как он меня…
Тем временем на одном из экранов двигательный отсек лайнера застыл напротив «зрачка» супермассы.
— Внимание по всему кораблю! — объявил Нордвик по селектору внутренней связи. — Всем пассажирам приготовиться к появлению искусственной гравитации.
Он отключил селектор и посмотрел на таймер. Оставалось меньше четырех минут.
— Пора, сынок, — тихо сказал он Чеславу Шеману.
Шеман вздрогнул.
— Прощайте… — прошептал он. Лицо его исказилось совсем по-детски, как от незаслуженной обиды, и экран погас. Он выключил его — наверное, не хотел, чтобы видели его слабость. — Передайте маме…
И все. Может быть, он отключил и связь, а может, спазм сдавил ему горло. И мне почему-то показалось, что сейчас по его лицу текут слезы.
«Мухолов» сорвался с места и тут же исчез в супермассе. И, может быть, потому, что не было ни взрыва, ни вспышки — это не показалось страшным. Но мне хотелось кричать.
Радужная вспышка ударила по глазам чуть позже — сократилась диафрагма, и тут же появившаяся искусственная гравитация швырнула меня на пол. Пол подо мной завибрировал, возник ноющий звук, все более усиливающийся. Нордвик активировал двигатели по ускоренному режиму. Обычно двигатели активируют в порту в течение примерно получаса, и это проходит незаметно. Работающих же в полном режиме двигателей вообще не слышно, а когда корабль ложится в дрейф, они работают на холостом ходу, чтобы обеспечить возможность быстрого маневра. Так они и работали на «Градиенте», но диафрагма погасила их. И поэтому Нордвик пытался не только активировать двигатели, но и одновременно двинуть лайнер с места.
Ноющий звук перешел в невыносимый вой, от которого, казалось, крошились зубы, переборки уже не вибрировали, а сотрясались крупной дрожью, но лайнер по-прежнему оставался неподвижным. Только когда время на таймере перевалило за полторы минуты, к дикому вою добавился еле слышный комариный писк, и «зрачок» супермассы стал медленно отодвигаться.
По содрогающемуся полу я на четвереньках прополз к пульту управления и, цепляясь за кресло, встал на ноги. Передо мной замаячила бритая голова Нордвика, вся в присосках и проводах. Я крепче ухватился за кресло и выпрямился, чтобы через его голову видеть приборы. Взгляд мой метался между экраном, на котором проецировался удаляющийся «зрачок», гравилотом, спидометром и таймером. Мала скорость, мала! Кажется, я даже грудью навалился на спинку кресла, словно пытаясь подтолкнуть лайнер вперед. Супермасса сработала как часы. Только на таймере выпрыгнуло время: две тридцать шесть, — как она выплюнула из себя диафрагму. Я еще успел бросить взгляд на гравилот: одиннадцать и шесть метров в секунду, — как разом умолкли двигатели, радужная вспышка ударила по глазам, и вновь наступила невесомость.
Не успели… До спасения оставалось еще более километра. Но я ошибся. Несмотря на то, что диафрагма усиленно гасила скорость корабля (скорость падала просто на глазах), инерция движения была огромна, и лайнер продолжал, хоть и теряя скорость, уходить от супермассы.
Переход границы диафрагмы оказался мучительным. Скорость лайнера упала практически до нуля, и я даже видел, как радужная пленка диафрагмы возникла передо мной прямо из экранов, вошла в меня и словно вывернула наизнанку. Как я еще остался стоять на ногах, не знаю. Но когда пришел в себя и смог хоть что-то соображать, то увидел в обзорные экраны, что лайнер находится за границей диафрагмы. Мало того, он по-прежнему уходил от супермассы. С небольшой, почти черепашьей скоростью, какие-то метры в минуту, но уходил! Вышла соринка из Глаза…
На дисплее замигала красная надпись: «Авария в двигательном отсеке!!!» — сжег-таки Нордвик двигатели…
Я посмотрел на него. Нордвик неподвижно сидел в кресле, пустыми глазами уставившись в пульт управления. На его вдруг обострившемся лице ощутимо быстро высыхали крупные капли пота. Я поморщился и тут же чуть не вскрикнул от боли. С трудом передвигаясь на ватных ногах, направился в душевую. К счастью, там нашлась аптечка. Я снял боль и кое-как ретушировал кровоподтек, заливавший почти всю правую половину лица… К сожалению, я не врач-косметолог, и добиться полного рассасывания кровоподтека мне не удалось. Он разлился по щеке сине-желтым пятном и, как я ни старался, в нем только больше появлялось зелени. Тогда я оставил синяк в покое, содрал с себя одежду и забрался под душ.
Когда я вышел из душевой, Нордвика в рубке уже не было. Переднюю панель на компьютере он закрыл, но как-то небрежно, неаккуратно — из-под нее змеились по полу те самые белесые червеобразные провода нейроуправления, вызывавшие какое-то гадливое чувство. Очевидно, он просто отпустил кронштейны панели, и она упала, придавив провода.
Неприкаянно побродив по рубке, я попытался пройти в пассажирский отсек, но перепонка двери оказалась заблокированной. Тогда я открыл дверь в пилотский информаторий. За перепонкой оказалась вторая, светозащитная, и я просунул в нее голову. И чуть было не отпрянул от грохота взрыва, швырнувшего мне в лицо комья земли. В информатории шел фильм. Старинное кино, квадратом экрана светившееся на стене.
Фильм был о войне и, наверное, игровой. На экране, за бруствером окопа, стоял военный в длинной шинели и папахе (наверное, генерал — я в этом слабо разбираюсь) и смотрел на поле боя в странный, похожий на перископ, бинокль, установленный на треноге. Рядом с ним стоял второй военный, в туго перетянутом полушубке и в каске. Очевидно, его офицер.
Я уловил только конец фразы, которую офицер говорил генералу:
— …Вы забываете, что они не только солдаты, но и люди. Что у каждого из них есть матери, жены, дети…
Генерал резко повернулся к офицеру. Лицо его было суровым и решительным, как и положено генералу во время боя.
— Если я буду помнить, что у каждого из них есть матери, жены и дети, — жестко обрубил он, — то я не смогу посылать их на смерть!
Я всмотрелся в темноту информатория. В углу, в мигающем свете экрана, отблескивала лысина Нордвика.
Я отпрянул назад и с треском захлопнул за собой перепонку двери. Ишь, с кем себя сравнил! Генерал!.. Я прошагал через всю рубку и с размаху сел в кресло пилота. Командир! Он, видите ли, имеет право посылать на смерть! В моей голове стоял полный сумбур. Я, конечно, понимал, что своей смертью Шеман спас всех пассажиров «Градиента», Но заставить его это сделать не имел права никто. Потому что это подвиг, а на подвиг люди идут сами, жертвуя собой по зову своей души. Приказать же мальчишке… Я не знаю, как там считали в двадцатом веке, но это — убийство! Неожиданно мне в голову пришла мысль: а смог бы я, если бы умел управлять ботом, сделать то, что сделал капитан «Градиента»?
И не сумел ответить.
Сказать: «Да! Я готов на подвиг!» — это слишком просто. Это пустой звук, за которым ничего нет, если впереди — жизнь.
Так я и просидел в кресле пилота, пока не прибыли спасатели. К счастью, это оказался не крейсер Нордвика, а другой, находившийся в этот момент ближе к нашему сектору. К счастью, потому что я не хотел, просто уже физически не мог оставаться на лайнере, а к Нордвику, если бы это был его крейсер, обращаться с просьбой доставить меня назад на нашу станцию не хотел.
Первое время, пока крейсер ПСС швартовался к «Градиенту», брал его на буксир и десантировал ремонтников к двигательному отсеку, я не вмешивался в их переговоры между собой. Но когда их работа вошла в спокойное русло и количество приказов и переговоров в эфире упало, я вызвал их капитана и, отрекомендовавшись, попросил помочь мне вернуться на станцию.
— Так в чем дело? — не очень любезно осведомился капитан. — Берите спасательную шлюпку и летите.
— Я не умею управлять шлюпкой.
— В таком случае сидите и ждите. В настоящий момент у меня нет людей для вашей доставки на станцию.
Я начал было ему снова объяснять, кто я такой и как здесь оказался, но он резко оборвал меня, попросив не засорять эфир.
— Если ты не возражаешь, Иржик, — вдруг раздался голос за спиной, — то это могу сделать я.
Я обернулся. У стены стоял Нордвик и смотрел на меня усталыми, больными глазами. Не знаю, да и никогда не смог бы объяснить, почему я кивнул.
Спасательная шлюпка, хоть и была всего раза в два больше «мухолова», в середине оказалась довольно просторной. Впрочем, оно и понятно — ей не нужен такой мощный двигатель, как у бота. Я подождал, пока Нордвик усядется в пилотское кресло, и сел на жесткое откидное сиденье, у самого выхода.
Почему-то я ждал, что он заговорит со мной, попытается как-то оправдаться… Но весь путь до станции он молчал и не смотрел в мою сторону. И когда мы спустились на причал станции и я вышел из шлюпки, он продолжал неподвижно сидеть в кресле, даже не проводив меня взглядом.
У входа на причал станции меня ждали возбужденные ребята. Наверное, у них была ко мне масса вопросов, но никто их не задал. Все молча смотрели на меня. Не знаю, что на них произвело большее впечатление — то ли выражение моего лица, то ли синяк. Впрочем, делиться своими впечатлениями у меня тоже не было желания.
— Где Шеланов? — спросил я.
— В медотсеке, — ответил кто-то.
Я кивнул и, пройдя сквозь толпу, зашагал по коридору в сторону мед отсека. Ребята меня поняли, и никто за мной не последовал.
В медотсеке было трое: Шеланов, Гидас и Долли Брайен — врач станции. Гидас лежал на выдвинутой из стены койке. На его голове блестит шлем психотерапии, а над грудью, свешиваясь с потолка на штанге хромированного штатива, висела платформа диагноста. Гидас плакал. Долли сосредоточенно возилась у пульта диагноста, а Шеланов сидел на стуле рядом с Гидасом и держал его за руку.
— Мне надо было идти… — трудно, с болью выдыхая из себя слова, говорил Гидас. Слез, бегущих по щекам, он не замечал. — Я же знаю «мухолов» как свои пять пальцев… Надо было вывести его из диафрагмы… разогнать… по спирально сужающейся траектории… и катапультироваться… Компьютер бы сам довел…
— Я вернулся, — сказал я.
Шеланов мельком глянул на меня, кивнул.
— Разрешите доложить? — официальным тоном спросил я.
— Потом, — отмахнулся он.
— Не потом, а сейчас. Я считаю, что действия капитана Нордвика на лайнере «Градиент» граничат с преступлением.
Шеланов поднял на меня недоуменный взгляд. Затем отпустил руку Гидаса и встал.
— А ну, пойдем отсюда, — сказал он и, подхватив меня под локоть, вышел из медотсека.
— Что ты сказал?! — спросил он.
— Я сказал, что действия капитана Нордвика преступны. Он не имел права приказывать Шеману идти на смерть. Допустим, это можно и оправдать сложившейся ситуацией, но с моральной стороны — Нордвик совершил убийство.
— С моральной стороны?..
Лицо Шеланова обострилось, стало жестким.
— Ты еще назови смерть Шемана подвигом. В результате этого, как ты говоришь, преступления, спасено восемьсот двадцать три человека.
— Сейчас не средневековье, чтобы приносить кого-то в жертву! — почти выкрикнул я ему в лицо. — И даже не двадцатый век! Человек должен сам…
— Не двадцатый, — согласился Шеланов. — Поэтому не тебе его судить.
— А кому? — перебил я.
— И никому… — тихо закончил Шеланов, непримиримо глядя мне в глаза. — Нет для него суда.
— Есть! Суд его собственной совести! И если она спит, то я хочу, чтобы о его поступке знали все! Тогда посмотрим!
— Суд совести…
Шеланов вдруг потух, и глаза его стали грустными и невидящими. Будто он жалел меня за что-то. Меня — или Нордвика?..
— Это он тебя? — спросил он, кивнув на синяк. — Мне тоже хочется…
— Послушай, — спросил он вдруг, — а ты знаешь имя того пилота, который бросил свой лайнер на Сандалуз?
Я молчал. Ждал продолжения.
— Это был Нордвик, — сказал он.
Я вздрогнул от неожиданности.
— Но и это не все, — тихо продолжал Шеланов. — В пассажирском отсеке лайнера находилась вся его семья. Жена, трехлетний сын и пятилетняя дочь. Так что совесть у него и так…
Я молчал. Мне нечего было сказать.
— Да и не в Сандалузской катастрофе дело, — снова заговорил Шеланов. — Даже не будь ее, Нордвик имел право на такой приказ! Заруби себе…
Он вдруг осекся и встревожено спросил:
— А где Нордвик?
— Там, в шлюпке…
— Где — там?!
— На шестом причале…
Шеланов вдруг резко повернулся и побежал по коридору к причалам. Мгновение я смотрел ему вслед, затем тоже сорвался с места и побежал. Я понял, о чем подумал Шеланов.
Когда мы подбегали к причалам, из тамбура третьей платформы вышли Банкони и сопровождавший его незнакомый человек в форме спасателя ПСС. Чуть не сбив их с ног, мы пробежали мимо и вскочили в тамбур шестого причала. Перепонка шлюза медленно затягивалась, но Шеланов успел протиснуться в нее и она, на секунду застыв, лопнула.
Спасательная шлюпка по-прежнему стояла на том же самом месте посреди причала. Только входной люк был задраен.
— Нордвик! — тяжело дыша, позвал Шеланов, остановившись метрах в десяти от шлюпки. — Нордвик!
Молчание. Словно в шлюпке никого нет.
— Нордвик, — снова, но уже более спокойно, заговорил Шеланов, — ты же знаешь, что не сможешь стартовать, пока на причале люди. А я отсюда не уйду.
И снова молчание. Затем, наконец, перепонка люка лопнула, и мы увидели Нордвика. Он стоял, держась за края люка, и смотрел на нас. Смотрел долго, думая о чем-то своем. А потом сел.
Шеланов подошел к нему и сел рядом. Они молчали.
Потом Нордвик повернул голову к Шеланову и долго, словно изучая, словно в первый раз видя, смотрел на него. Я подумал, что сейчас он скажет что-нибудь возвышенно-сакраментальное типа: «Ты знаешь, я перебрал все варианты, чтобы самому… А пришлось послать его», — и уронит голову себе на руки.
Но он неожиданно спросил Шеланова:
— Ты никогда не пробовал чеканить свой профиль на монетах? Неплохо бы получилось…
Шеланов поднял на него глаза.
— Мало тебя в детстве драли за ухо.
И они горько, вымученно улыбнулись друг другу.
И тогда я повернулся и ушел.
Сентябрь 1984 г.
Борис Зотов Каяла
(В сокращении)
…Это необыкновенная и в каких-то поворотах странная история. Автор услышал ее много лет назад от кавалерийского офицера, участника наступления наших войск на Юге весною 1942 года. И пересказал — но не для всех. Ничего не даст книжка тому, кто не ищет в прошлом ответов на вопросы сегодняшнего дня…
* * *
Эскадрон шел всю ночь усиленным аллюром. Десять минут валкого и крупного конского шага заканчивались, и раздалась слабо слышимая в четвертом сабельном взводе команда — командовал комэск в голове растянувшейся колонны, там, где, невидимый в темноте, качался на пике синий эскадронный значок, а потом команда дублировалась на разные голоса взводными — все ближе и ближе:
— О-о-о… О-о-во… По-вод!..
Дорога вертелась вдоль Донца; повторяя его капризное русло и часто проваливаясь в поперечные балки, — поверху было уже сухо, и здесь копыта трещали четко, барабанным треском, а в низинах чернела еще грязь, оставленная весенним половодьем.
Третью ночь подряд идет на запад колонна, покрывая за переход по семьдесят-восемьдесят километров.
Спешит.
Куда, зачем?
Таких вопросов в военное время не задают. Но если бы каким-то чудом бросить взгляд на засекреченную карту с оперативной обстановкой, тогда сразу обратил бы на себя внимание резкий выгиб линии фронта: как раз в бассейне Северного Донца широким и длинным языком вдавалась красно-синяя линия в расположение немецких войск.
С такого «языка» заманчиво наступать, особенно на карте: ударом на север можно окружить силы противника южнее Харькова; ударом на юг — отсечь в районе Ростова. Сам Ростов дважды переходил из рук в руки и зимой с тяжелыми боями был все-таки отбит и утвержден за нами. Здесь немцы откатились к Матвееву Кургану, к реке Миус и за Таганрог.
Синяя и красная линии упрямо сошлись, уперлись и остановились, завязнув в снегах, а потом в жидкой грязи…
В последнем ряду четвертого взвода ехал боец Андриан Пересветов, и голова его моталась из стороны в сторону при каждом шаге караковой кобылы. Так получилось, что днем, в то время, когда все отдыхали после перехода, отделение Пересветова было выброшено в разъезд и честно, до последней точки маршрута, прощупало назначенное направление. Поэтому сейчас, на исходе ночи, бессонница и усталость ртутью наливали голову кавалериста. Он оборачивался и вглядывался в край неба, в надежде, что светило примется за дело, но видел только размытые тьмой контуры тачанок.
Сосед Пересветова справа, Халдеев, чуть зазевался, его лошадь, которой что-то померещилось на дороге, приняла вбок, лязгнуло стремя о стремя. Еще немного, и ствол заехал бы Пересветову по голове. Винтовка у Халдеева снайперская, ствол длинный — не то, что у остальных, вооруженных короткими и легкими карабинами образца тридцать восьмого года. На походе каждый грамм чувствуется. Халдееву тяжелее. Он таскает на килограмм больше. А каково едущему впереди Пересветова Ангелюку? Его «Дегтярев пехотный» весит семь восемьсот. Правда, Халдеев сухой, тощий и высокий, а Ангелюк широкий, упитанный — как раз пулеметы таскать.
Постепенно небо из темного стало фиолетовым, налились нежной позолотой перья реденьких облаков, плавающих на огромной высоте, и майская ночь стала таять.
Боец Отнякин (левый сосед Пересветова) зевнул так, что стало страшно. Окая, произнес:
— Облаков-то нету нынче, бомбить будут. Пора бы ховаться кто куда да дневать. Поработать надо четвероногого друга.
На казарменном жаргоне это означало сон, а отнюдь не тренировку коня. Однако сонливость уже сошла.
Организм человеческий издревле налажен на пробуждение с восходом солнца. Взбодрился и Пересветов, осмотрелся, встал на стремена и увидел впереди чуть изогнутую полоску воды в зеленой оправе молодой травы, блестевшую стальным сабельным блеском. За рекой лепилась к горизонту роща — веселое зеленое облако. И боец изумился, даже глаза протер — ландшафт был знаком, и хорошо знаком.
— Да это же Оскол, река Оскол! — вырвалось у Пересветова.
— Откуда знаешь? — подозрительно спросил Отнякин, которому было все равно, Оскол это или не Оскол, а просто он не любил, когда московский студент что-то знал, а он, деревенский парень с пятью классами, этого не знал.
— Здесь я был 22 июня, — сказал Пересветов, чувствуя, как сжалось сердце при упоминании о том самом грозном дне, который разорвал его жизнь на «до» и «после». В настоящем было: рассвет на военной тропе, качающееся седло и грязь под ногами да еще вода, в сапогах хлюпающая; а в куске отсвеченного войной прошлого — экспедиция.
Да, именно здесь застигла война московскую историко-археологическую экспедицию, а студент Пересветов входил в ее состав…
Дело в том, что еще в прошлом веке талантливый историк Андрей Христофорович Пересветов, автор «Истории образования государства Российского» разгадал маршрут войска князя Игоря; он точно определил место последней брани с половцами и нашел (как он считает) таинственную реку Каялу, не обозначенную ни на одной карте. При этом историк преодолел некую колоссальную трудность.
Трудность эта заключалась в том, что маршрут движения, как он представлялся неведомому автору «Слова о Полку Игореве», приводил русских в Половецкую глубинку, к Дону и к морю. Летописцы же, описывая поход, о море и о Доне упоминали, но смутно, глухо. Зато приводили другие названия, в «Слове» отсутствующие. Да и Ярославна с крепостной стены, как издавна повелось, обращалась к Днепру и Дунаю…
Тот, первый Пересветов, зачинатель целого рода историков, не оробел при виде этих неувязок. В «Слове» говорилось ясно, что гибель русских полков была на реке Каяле; а в летописи, кроме Каялы, фигурировали как промежуточные рубежи реки Сальница и Сюурли.
Пересветов поверил автору «Слова». Он искал Каялу на торговом, издревле известном, сухопутном ответвлении пути «из варяг в греки». Если Игорь был намерен, как сказано в «Слове», «поискати града Тмутораканя, а любо испита шеломом Дону», то Каяла должна быть неподалеку от устья Дона. При этом выполнялись все три основные условия — море близко, Дон близко и до Тмуторокани по берегу Азовского моря рукой подать. Все сходилось!
Что удивительно: на этом, вычисленном за письменным столом, как орбита неизвестной планеты, месте Пересветов обнаружил реку с современным названием Кагальник, довольно близким к Каяле по звучанию. Более того, рядом оказалось озеро Лебяжье, а в летописи как раз упоминалось еще некое озеро, возле которого шел последний страшный бой и был пленен Игорь. Так умозрительное исследование подтвердилось на месте, и ученый мир принял гипотезу Пересветова за истину…
Было это во времена Бородина и Стасова, когда на волне дел великих и славных дух русский взыграл и вознесся небывало высоко. Открылась всему свету русская литература, музыка, живопись. Засияли во всем блеске мировые имена — Толстой, Достоевский, Тургенев, Чайковский, Мусоргский, Репин, Суриков… Чуть копнули дотошные любители во Владимире, Суздале, Звенигороде — обнаружились перлы древней иконописи. Раскрылись глаза на считавшуюся ранее примитивной допетровскую архитектуру, народные художественные промыслы. Работа Пересветова, рисующая князя Новгород-Северского как организатора смело задуманного дальнего похода во имя освобождения закабаленных русских братьев, находила восторженный отклик в сердцах патриотов. На железной дороге вблизи Лебяжьего озера появилась станция, которую так и назвали — Каяла.
Но подержалась волна национальной гордости, подержалась и начала спадать. Поднялась волна другая — трезвого, но холодного правдоискательства. В мелькании урожайных и неурожайных лет времена менялись, менялись и взгляды на историю России. Умер Пересветов, не ведая, что сын его будет искать в летописях иное…
Пересветов-сын в книге «Миф о реке Каяле» с новейших позиций начисто разгромил теорию отца о дальнем рейде Игорева войска за Дон. Появились и другие исторические работы: вносились новые понятия, не столько дополняя и уточняя, сколько разрушая старые.
Обозначились другие подходы, иные уровни мышления. Патриотизм славянофилов? Наив. Великая страна? Великий народ, уже в древности рождавший героев, поэтов, мыслителей, полководцев? А не европейская ли, попросту, провинция? И не выдумал ли Бородин загадочную двойственность натуры Игоря? Обычный волк-грабитель, напавший на мирных половцев, зауряд. Да и было ли «Слово»?
…И вот теперь, качаясь в седле, Андриан Пересветов разом вспомнил все это. Не просто вспомнил, а наглядно представил себе, будто киноленту крутил. Недаром он был историком в третьем поколении. Андриан имел дар воображения, и очень развитый дар. С детства жаден был до чтения. Представлял себе и споры схлестнувшихся крайностей — очередного поколения «западников» со «славянофилами». Понимая в чем-то «западников», снимая шляпу перед их высокой культурой, он все же воспринимал их почему-то в несимпатичном виде ничего не мог сделать с собой, со своим сердцем, Так уж был устроен. «Византией попрекали, варягами глаза кололи, — с горечью думал он, — играли прошлым, как циркачи дутыми гирями».
Тут Пересветову будто кто на ухо скрипуче и въедливо шепнул:
— А кто в одной лодке с Кончаком сидел? Оба — Игорь и Кончак — хитрые азиаты, в конце концов…
Андриан не утерпел, вскинулся при этих словах воспаленно:
— Нет, были, были люди. И еще какие! Только и им трудно приходилось — такой был век, их понять надо, понять…
Голос Отнякина привел Пересветова в чувство:
— Эй, студент! Очнись! Что лопочешь-то так сердито? Чокнутый, что ли? Сам с собой разговаривает, смотри, ребя!
— Ладно, тебе-то что? — нехотя отмахнулся он.
— Витаешь! Нет, чтобы с товарищем перекинуться словцом хучь о девках. Эх, девочки-припевочки, — не отставал задиристый Отнякин, — ведь были делишки насчет задвижки? Расскажи!
Студент замкнулся и отвечать не стал, не любил он этого ерничества. И о похождениях Отнякина слушать не любил — уж очень у того, пусть на словах, получалось просто, совсем просто — наше дело не рожать… И верить этому не хотелось. Послать товарища куда подальше, как мог грубоватый Ангелюк, Пересветов себе не позволял, да и не получилось бы у него.
…При подходе к Осколу перешли на шаг, управлять кобылой уже не требовалось, и Андриан Пересветов отдал повод и дух перевел. Ему стало легче отдаться загадкам старого, совсем другого мира. Почему отец вдруг отверг исследования деда? Потому что прошла мода на возвышение русских художественных и исторических ценностей? Мода или закономерность? Критический пересмотр на базе новых знаний? Кто знает…
Бойцу Пересветову надо бы не терять момента, заснуть в седле, — вон Отнякин уже отключился, кемарит вовсю. Но слишком его взбодрила встреча с Осколом, пущенная в работу голова покоя не дает!
Конечно, проще всего сказать, что отец опровергал деда в то время, когда в Россию хлынул французский и английский капитал. А кто платит деньги, тот и музыку заказывает, и нет ничего удивительного, что западники начали перекручивать, перелопачивать всю русскую историю, расклевывать ценности: тот герой ездил на поклон к хану, а этот страдал буйным помешательством, третий — уж совершенно точно — губил души, к тому ж, пил без меры. Игорь-князь шел-де просто пограбить, делал обычный пограничный набег, и вообще он сам то нападал на половцев, то — в союзе с ними — на своих. Свой поход 1185 года он не согласовал с киевлянами, чем и поставил всю Русь под удар; стало быть, и героя из него делать нечего. Да-с, заурядный феодальный разбойник, и Бородин старался совершенно напрасно.
Такое объяснение не устраивало Андриана. Он думал о связях потаенных, о причинах, лежащих в иной области. Дед был романтиком в науке — отец жил во времена трезвых расчетов. И отец опрокинул версию деда ничем иным, как точными арифметическими выкладками.
Пересветов-второй в «Мифе о Каяле» скрупулезно выписал из летописей все сведения о боевых походах того времени. Работал на совесть. Складывал, делил, умножал. Вывел: длина среднего однодневного перехода войск равна 25 километрам.
И поставил вопрос трезво: мог ли Игорь оказаться за Доном, если весь поход длился с 23 апреля по 5 мая, каких-то неполных две недели? И ответил, что не мог, даже если допустить, что поход закончился не 5, как сказано у Татищева, а 12 мая. Неделю он набрасывал на всякие возможные летописные ошибки.
И в самом деле — за три недели пройти с боями чуть ли не тысячу километров? Сомнительно, просто невозможно: подвижность войска получалась чрезмерно высокой, выпирая из подсчитанных 25 километров, как тесто из горшка. Это стало первым и главным ударом по гипотезе о дальнем рейде Игоря за Дон.
…Пока боец Пересветов добирает крохи сна на самом медленном лошадином аллюре, а это значит, на шагу, еще есть возможность заглянуть в книгу его отца. Там есть выписанные из Ипатьевской летописи «опорные» даты Игорева похода 1185 года и пояснения к ним.
«23 апреля. Вторник. Начало похода из Новгород-Северского после Пасхи. (Дата точна, ибо проверено: Пасха в том году приходилась на 21 апреля.)
1 мая. Среда. Солнечное затмение. Переправа войск через Северский Донец. (Дата верна, ибо астрономы дни затмений вычисляют точно.)
3 мая. Пятница. Удачная атака половецкого стана на реке Сюурли. (Эта дата и все последующие сомнительны, о чем будет речь ниже.)
4 мая. Суббота. Бой в окружении.
5 мая. Воскресенье. Гибель русских полков».
Далее Пересветов-второй резонно спрашивал: позвольте, как же так, ведь летописец вклинил между 1 и 3 мая — между солнечным затмением и атакой на Сюурли — массу других важнейших событий! Так, после переправы через Донец 1 мая Игорь шел к Осколу (вероятно, к месту его впадения в Донец), стоял на Осколе два дня, ожидая брата с его курянами, потом делал переход к Сальнице, а от Сальницы еще нужно было идти к Сюурли. Когда же все это — за один день 2 мая? Включая двухсуточную стоянку на Осколе? Следовательно, дата окончания похода сама собою сдвигалась с 5 на 12 мая. Другая дошедшая до нас летопись — список «Мниха Лаврентия» — вообще оказалась несуразной и даты похода высветить не могла.
«Не может быть и речи о том, — писал Пересветов, — чтобы от устья Оскола добраться до Лебяжьего озера за Доном за оставшиеся на сам поход по половецкой земле четыре дня, ибо длина этого маршрута составляет около 300 верст. Допуская ускоренное движение, т. е. до 40 верст в сутки, мы легко получаем необходимое минимальное время — семь с половиной суток. Этим временем князь Игорь уже никак не мог располагать. Кроме того, летописец ни словом не обмолвился относительно переправы русских войск через такое мощное препятствие, как Дон. Каялу следует искать в приграничной зоне, неподалеку от Северского Донца, да и была ли она, эта мифическая Каяла? Скорее всего, это есть опоэтизированная формула покаяния или раскаяния».
Шерсть на лошадиных крупах начала уже слипаться, темнеть и лосниться от пота, а в пахах появилась беловатая пена. Стало совсем светло. Кавалеристы то и дело всматривались в небо — «Хейнкели» могли появиться с минуты на минуту. Когда же дневка? Наконец эскадронный значок поплыл с дороги вправо, качнулся и исчез. Колонна втянулась в глубокую сырую балку и встала. Переходу конец, будет каша и будет отдых. Взводы растеклись по мокрым от росы зарослям лозняка. Ожили, залопотали балагуры.
— Поспим, — зевая, как обычно, до треска в челюстях, сказал Отнякин, — от сна никто не умирал!
В четвертом взводе вывернулся из строя красавец сержант Рыженков, кавалерист от бога, чудилось, сросшийся с конем, будто кентавр. Соловый, рослый ахалтехинец нервно крутился под ним, по-лебединому выгибая шею и роняя легкую пену с трензелей. Рыженков отсек последний ряд и приказал:
— Пойдете в охранение. Место — вершина балки, задача — не допустить внезапного на взвод нападения и воспретить ведение разведки противником. Старший — Халдеев.
— Товарищ сержант!.. Товарищ сержант, ведь мы вчера весь день были в разъезде, из седел не вылезали…
В светлых глазах Рыженкова появилось холодное мерцание, а конь его вдруг встал как вкопанный.
— Выполняйте! — будто выстрел.
По дну балки трое кавалеристов проехали метров триста и спешились. Пересветов, едущий в ряду средним — по расчету коновод, — принял повода и остался внизу, остальные полезли по невысокому здесь обрыву и сразу же взялись за саперные малые лопатки. Заскрипел песок с мелкой галькой пополам. Пересветов прикинул: солнце взойдет повыше, тень пропадет, а редкие кусты да заросли ежевики не скроют лошадиных голов и спин, с воздуха все будет как на ладони. Надо маскировать.
Пересветов накрыл лошадей попонами защитного цвета и отпустил подпруги — лошади тянулись к молодой травке. Солнце заглянуло в балку, стало пригревать. Загудели оводы, бросились в атаку слепни, лошадиные мучители…
Коновод есть коновод — руки заняты, а голова свободна, воображение может работать во всю прыть. Невольно Андриан подумал о том, что восемь веков назад, возможно, в этой же балке вот также прятал коней воин русской рати, готовясь к броску на половецкую сторону Донца. Раньше, до войны, Андриана больше всего привлекала в «Слове» романтика дальнего похода, обаяние битвы, поэтическая звонкость древнего сказания. Теперь, после девяти месяцев службы в кавалерийском полку, когда Андриан начал соображать, что к чему в военном деле, сложное переплетение скрытых нервов описания Игорева похода стало проглядываться куда ясней и четче. Как на фотобумаге под воздействием проявителя, появились контуры тактических тонкостей.
Игорь, подойдя к Донцу, прятал свое войско от половецких взглядов в дубравах, а сам стремился вызнать о противнике побольше. В ожидании, пока подоспеет буй-тур Всеволод с курянами, он, естественно, отправил в степь глубокую разведку. Но чем дальше идет разведка, тем больше времени нужно для ее возвращения к своим. Игорь решил выиграть время и назначил встречу с разведчиками не на Донце, а на Сальнице, на расстоянии одного кавалерийского перехода от Донца. Два дня, пока Игорь ждал курян, разведка шла на юго-восток. Потом был еще один переход: разведка возвращалась назад, а основное войско двигалось вперед, и встретились они на Сальнице; и там, уже в половецкой степи, Игорь получил сведения обо всем, что делается впереди на целый переход. Мудро!
А в том, что русские переправлялись через Донец не у Изюмского брода, а ближе к устью Оскола, Андриан не сомневался. Изюмский брод удобнее, мельче недаром через него проходил главный сухопутный путь «в греки», путь торговый, наезженный, накатанный тысячами колес. Веками шел по нему купеческий и странствующий люд, гнали скот и конские табуны, вели на продажу живой товар — людей… Путь шел к теплому синему морю, Сурожу и Корчеву, к греческим богатым колониям, к сказочной Тмуторокани и дальше, на благодатный Кавказ и в таинственную Азию. Но у Изюмского брода, на плоском холме, напоминающем оползший гранитный курган, было слишком бойко, было много враждебных глаз. Поэтому Игорь предпочел идти к Осколу — там река глубже, коварнее, переправа труднее, но зато сохранялась внезапность. Переходить за Оскол смысла не имело: эта река несет не меньше воды, чем Донец, и после их слияния переправа становится еще труднее, да и крюк получался великоват.
Мысль Пересветова скользнула в недавнее довоенное прошлое и остановилась на одном разговоре с крупными последствиями. «Если б не этот разговор ранней весной сорок первого года, не быть мне сейчас здесь», — размышлял Андриан…
Ранней весной сорок первого, когда в московских водосточных трубах обвально ухает лед, пугая старушек, а девушки на улицах начинают улыбаться неизвестно чему, в чинной профессорской квартире неожиданно разразился скандал. Дом, в котором квартира помещалась, был построен в начале века, имел майоликовый фриз, выступающие за линию фасада «фонари» и помещался в тихом месте близ Арбата. И вот в этой представительной квартире — с гравюрами на сложные мифологические сюжеты, с обязательным пианино, с книгами в темных с золотом переплетах, со стопкой сухих пороховой сухостью березовых дров около колонки в ванной комнате, с зеленым, как лужайка, письменным столом, с чернильницей в форме массивных стеклянных кубов, накрытых модными остроконечными шлемами, с раскрытым шахматным журналом на партии «Атакинский против Диффендарова», — в такой солидной и тихой квартире вспыхнула дикая семейная ссора. Странно, что вспыхнула она на пустом, можно сказать, месте.
Началось с того, что за ужином первокурсник Пересветов неожиданно выпалил:
— Мы, знаешь, изучили твой вариант маршрута Игорева войска в походе 1185 года и пришли к выводу, что он противоречит историческим сведениям.
Брови у Пересветова-второго поползли вверх:
— Хм, забавно. Позволь узнать, кто это «мы»?
— Мы все, кружковцы. Члены кружка «Древняя Русь».
— А, тот, что сколотил неудачник доцент Пасынков, благополучно проваливший свою докторскую диссертацию?
— Причем тут диссертация Пасынкова? Мы сами ищем истину…
— Сильно, сильно. Сами с усами. Но ведь нужны веские научные аргументы, опровергающие мою теорию, — налегаю на слово «научные», — заметил профессор.
— И мы их нашли! — сказал задиристый студент. — Мировые аргументы!
Профессор откинулся на спинку стула.
— Крайне, крайне любопытно, — внимательно вглядываясь в сына, желчно процедил он, — извольте изложить кратко и внятно суть ваших возражений. И прошу без вузовского жаргона! Говорите на языке дефиниций исторической науки.
— Пожалуйста! Я тогда тоже перехожу на «вы». В своей книге вы утверждаете, что «Слово», будучи скорее всего песнью, то есть поэтическим произведением, не может являться историческим документом. Ведь верно?
Профессор уже был облачен в блестящую шелковую стеганую пижаму и рвался к разбору шахматной партии. Вообще где-то в придонных слоях души он хранил неловкость — как-никак, его теория разрушала концепцию отца, «старого» Пересветова, Пересветова-первого!
— Совершенно верно. «Слово» переполнено аллегориями, символами, тропами это документ скорее эмоциональный… Летопись — более точный источник, хотя следует признать — и тут бывают ошибки. В «Слове» же полно исторических вольностей…
— Вот здесь, — нетерпеливо перебил сын, — мы расходимся во мнениях. Мы проверили названные в «Слове» события: имена князей, их деяния, битвы — все сходится. Выходит, что названные в «Слове» географические ориентиры — те, что определяют район последней битвы с половцами, верны. Дон, понимаете ли, Дон и море должны быть обязательно вблизи, а не за двести километров, не за тридевять земель. Вы, отец, впали в логическую нелепицу, — въедливо продолжал младший Пересветов. — Частный эпизод, по-вашему — пограничная обычная стычка, а результат-то какой — неисчислимые беды ослабленной Руси. Как же так: местный случай, а половцы поднимают голову, опустошают русские земли, а? Неувязка! Тут нет истины!
Профессор нервно зашевелился на стуле. Пытаясь не выйти из себя, заговорил:
— Я внимательно вас выслушал, и первый пункт ваших возражений мне ясен. Можете продолжать. Отвечаю: я не игнорирую указания «Слова» о близости моря. Я объясняю этот факт. Дело в том, что в древности на Руси крупные озера довольно часто называли и морями. Например, около Славянска есть озеро, кстати, соленое.
— Но в том, вашем районе близ Донца нет больших озер! — вскричал младший Пересветов. — Славянское соленое озеро маленькое — его нет даже на карте области. Это не море! Море тогда, когда берега не видно!
— С вами невозможно разговаривать, — резко сказал профессор, и по лицу его пошли красные пятна, — я вас не перебивал и выслушал до конца. Прошу выслушать и меня. Да, там нет озер, как Ильмень или Ладога, или хотя бы Нево — «море тинное». Но дело происходило весной. Во время половодья даже небольшие речки разливаются на километры. В степном краю широкая полоса воды сливается на горизонте с плоским берегом и возникает иллюзия морского простора. Могу предъявить многие фотографии разлива весенних вод, сделанные недавно по моей просьбе в тех краях — это настоящее море! Теперь о Доне. Упоминаемый в «Слове» и летописях Дон есть не что иное, как Северский Донец. Так в старину иногда называли эту реку. Все объяснилось, как видите. Может быть, есть вопросы? — сухо, официально закончил свою речь профессор, словно разговаривал не с родным сыном, а с отпетым незачетником.
— Есть вопросы. Есть!
Младший Пересветов извлек из кармана серенького пиджачка записную книжку и, раскрыв ее, продолжал:
— Читаем в старой «Гидрографии южных русских рек»: «половодье в бассейне С. Донца начинается в конце марта, иногда и раньше, реже в начале апреля, причем держится не более полутора — двух недель, после чего восстанавливается меженный уровень вод. Весенний подъем вод Донца относительно невелик, колеблется в пределах между 1—2,5 сажени». Если учесть еще разницу между юлианским и григорианским календарями, то поход Игоря закончился в середине мая месяца. Откуда же в это время могли взяться «разливы весенних вод», равные почти морям?
— Ерунда! — взорвался профессор. — Ерунда! Мы не знаем, когда началось половодье в 1185 году, не знаем, когда закончилось. Год на год не приходится, как говорят в народе. Не исключено, что весна была тогда затяжной. Многие погодные аномалии зафиксированы в летописях тех веков. Впрочем, вы не способны и это отвергать!
Сидела на кухне приходящая домработница тетя Проня, шумно пила чай с сахаром внакладку, словно профессорша какая, со здоровым интересом прислушивалась к голосам, глухо и возбужденно гудевшим в столовой, и недоумевала:
— Чего не поделили? Сердятся, будто в трамвае зажатые. Добро бы по делу спорили, а то какой-то князь им дался. И не по пьяному делу — профессор больше рюмки не принимает, а молодой и вовсе в рот не берет — комсомольцу не разрешено. Женщины нет в доме — вот в чем беда, тут завоешь, а не закричишь.
— …Вы и это будете отрицать?! — в ярости кричал профессор. — Что разлив мог быть в мае?
— Допустим, — тоже входя в азарт, быстро отвечал студент, — допустим такую вещь. Но тогда возникает вопрос: как Игорь с войском прошел сотни километров в условиях половодья и распутицы? Ему пришлось бы обязательно преодолевать такие реки, как Десна, Сейм, Псел, Ворскла, тот же Северный Донец, еще многочисленные притоки, разлившиеся как море, Перепрыгнуть эти преграды? Вплавь, километры в ледяной воде? А раскисшие дороги?
— О-о, — застонал, обхватывая голову ладонями, профессор, — прости их, господи, ибо не ведают, что творят! Какая наивность!..
Конное дело — особое дело. Каждый предвоенный мальчишка грезил чапаевской развевающейся на скаку буркой, но мало кто знал, чем дается это звонкое, как труба: «впереди на лихом коне».
Война перекинула Андриана из профессорской благоустроенной квартиры в другой мир. Теперь Андриан спал на втором ярусе нар, а день проводил в учебном поле, на плацу и в потной атмосфере конюшни, — если не был назначен в суточный наряд, караул или не разгружал уголь. В школе и в институте Пересветова уважали за блестящие способности, за начитанность и за успехи в учебе. Здесь, в полку, на первом месте была готовность беспрекословно выполнять любые приказы, ценилась расторопность и требовалась выносливость. Как ни кисло было Андриану, больше всего на свете он хотел стать настоящим конником — лихим рубакой, как Рыженков. В мечтах видел, как на рубке, на полном карьере поражает клинком все мишени.
Владение конем и холодным оружием особо ценилось в полку. Нет, не ценилось — не то слово: с пристрастием взращивалось и с огромнейшей и искренней любовью приветствовалось всеми кадровыми кавалеристами.
Командир эскадрона твердил:
— Кавалерия — не ездящая верхом пехота. Это подвижный род войск. Развивая успех, достигнутый танкистами, мы будем атаковать в конном строю.
Андриан полюбил горячее конное дело. Он часто думал: вот появилась авиация и танки, а ему неожиданно выпала доля готовиться воевать за Отечество точно так же, как восемь веков назад. Тогда готовились русские витязи «потручати» мечами по поганым половецким головам. Он выедет в поле, как и те витязи, с узкой полосой отточенной стали в руке… Правда, они были в доспехах, а его сердце прикрывает только комсомольский билет. Правда, враг имел луки и стрелы, а теперь — пули и снаряды, Андриан начинал понимать, что страна напрягается, пуская в борьбу все — все средства, какие есть. А борьба эта получилась совсем не такой, какой ее представляли студенты-историки в веселой зеленой дубраве на Донце в первый военный день. Студенты спешили попасть в действующую армию, чтобы успеть к разгрому гитлеровских полчищ, но дело оборачивалось по-иному.
Мучил, не давал покоя вопрос: как же так? Почему мы отступаем, почему сдаем города, лежащие уже в самой сердцевине страны, куда со времен Наполеона не ступала вражеская нога? Но обсуждать этот вопрос не принято было в полку. Само слово «отступление» не произносилось. Действовали строжайшие приказы, по которым всякое, пусть малейшее проявление неверия, малодушия и паники каралось по закону военного времени. Открыть душу своим ближайшим по строю товарищам — Халдееву и Отнякину — Андриан как-то не решался: Халдеев был постоянно мрачен, даже сердит, замкнут, каждое слово из него приходилось клещами тянуть. Отнякин, напротив, вязался по каждому пустяку, состязался с ним во всем. Уступая Андрианову в знаниях, Отнякин головою выше был в другом. Скажем, на стрелковых ежедневных «тренажах»: мозолистой пятерней, как тисками, зажимал он обойму, с треском вгонял учебные сверленые патроны в магазин, споро лязгал затвором. Пересветов же до крови обдирал руки угловатым металлом, ломал ногти, и с затаенным укором следил за его тонкими неумелыми пальцами Рыженков… Сдерживался: снова и снова звучала его непреклонная команда: «Стоя, пятью патронами, заряжай!» — и Пересветов заряжал и разряжал, пока рука сама не стала находить ремешок подсумка, обойму, затвор, пока глаз не научился безотрывно следить за мишенью. И все же до врожденной моторности Отнякина он дотянуться не мог. Иное дело конная подготовка. Как ни странно, Пересветов быстрее выработал настоящую кавалерийскую посадку, а это было уже большим делом. Недаром комэск твердил: «Узнают птицу по полету, лисицу по хвосту, а конника по посадке». Отнякин же сидел на лошади сгорбившись, как кот на заборе.
Тыл ковал кавалерийскую подмогу осень и зиму. Упорные занятия изматывали, один уход за конем отнимал ежедневно три с половиной часа. Чтобы всюду успеть, коннику нужно было летать пулей, вертеться юлой. Шагом эскадрон ходил только в столовую.
Профессорский сын скоро, очень скоро выяснил, что серая алюминиевая ложка не хуже серебряной, а вилка и нож вовсе не нужны войну. Конюшню он уже принимал, как дом родной, — тут колготились все почти время: чистили, мыли, входили в тонкости службы.
Рыженков, сдвигая черные брови и щуря серые глаза, вопрошал:
— Что главное в нашем кавалеристическом деле? Отнякин.
— Харч, — неохотно и с вызовом отвечал Отнякин, — а то работаешь, работаешь физически, а кишка кишке показывает кукиш в животе.
— Кому что, а вшивому баня. Халдеев, вы!
Халдеев был ленинградским потомственным слесарем, в кавалерию попал, как он считал, по недоразумению, застряв на юге в командировке, когда пути в родной Ленинград оказались перерезанными. Цедил сквозь зубы:
— Я думаю, кавалерия в наше время моторов и техники вообще какая-то чепуха. Лично мне стыдно признаться родным, что я в армии кобылам хвосты верчу и навоз выгребаю… В письмах я пишу, что служу снайпером, все же оптика, точная механика.
Все знали, что Халдеев писал рапорт о переводе в техническую часть, но рапорт тот где-то затерялся и хода не получил.
— Голодной куме одно на уме, — морщил лоб Рыженков. — Там, наверху, виднее, где вам служить. Как Пересветов мыслит?
Пересветов, продолжая тереть мелким песком железное стремя, высказал уже продуманное за время кавалерийской службы:
— Главное для кавалериста — преодолеть страх перед лошадью. Даже добронравная лошадь может испортиться, если не подавлять ее. Почувствует она неуверенность всадника — и все. Животное сильное, намного сильнее своего хозяина. Зверь! А зверь всегда остается зверем, от него чего хочешь можно ожидать.
— Уже теплее, — весело сказал Рыженков, — вот оно, образование-то… Только длинно и вбок немного. А я скажу проще, но в лоб, без кривотолков: характер. Характер нужен! Все! Продолжим чистку. Драить, драить стремена так, чтобы у мухи глаз лопнул — до блеска!
Прав был насчет характера Рыженков — в этом Пересветов вскоре убедился. Когда эскадрон более или менее подтянулся к уровню боевой единицы, его подняли по тревоге и бросили в учебно-боевой поход.
Полк шел сперва по осенним скошенным полям, потом начались возвышенности и кое-где радостный для глаза северянина лес. За переход покрывали километров по восемьдесят, и они гнули кавалеристов к земле крепко. На берегу Сенгилеевского озера — очень большого, синяя вода которого с низким морским гулом лизала голый желтый берег, Пересветов ощутил вдруг полную свободу и легкость езды и острое удовольствие от этого. «А ведь я стал настоящим конником», — радостно подумал он.
…Солнце пригревало уже ощутимо, и стало сильней клонить в сон. «Сейчас немцы прилетят», — подумал Пересветов, оглядываясь в поисках подручного маскировочного материала и видя на сыроватом с прозеленью дне балки лишь детски-наивный голубой цвет вероники да белые зонтики купыря. Потянуло дымком и борщом.
Вдруг издали послышалось утробное завывание авиационных моторов: немецких моторов, это уже кавалеристы знали — наши гудели иначе и ровней.
— Воздух! — разноголосо командовали дневальные в балке. Халдеев деловито щелкнул затвором. Вой на западе нарастал.
— Хейнкели, двенадцать штук! — выкрикнул нервно Отнякин. — Разворачиваются над рощей — пошло-поехало!
Лошади захрапели, одна из них почти села, натягивая повод. Земля под ногами Пересветова как бы провалилась, и тут же его толкнуло вверх. С обрыва посыпались комки, и только после этого донеслись тугие разрывы. Удерживая лошадей. Пересветов несколько отошел от обрывистого края к середине балки и увидел самолеты, с воем делающие виражи над степью. Роща — та самая, приютившая в прошлом году студенческую экспедицию, — вся была в пляске разрывов.
Пересветов боялся только одного — не управиться с лошадьми. Может обезуметь от страха, оборвать повод. Убегут — трибунала не миновать.
Конь — чуткое животное, он улавливает все оттенки состояния человека: трусить, терять самообладание нельзя ни на секунду. Храпя и выкатывая глаза, лошади все же оставались на месте, не несли. На лбу Пересветова выступил пот.
Разрывы в роще прекратились, но один самолет, отколовшись от группы, повернул прямо к балке.
— Воздух! — завопил Отнякин.
Халдеев поднял из окопа ствол своей снайперской, пытаясь поймать в зрачок прицела переваливающийся из ровного полета в пике бомбардировщик с растопыренными, как лапы, колесами устаревшего, неубирающегося шасси.
— Брось, — крикнул Отнякин, — демаскируешь!
Раздался дикий вой — пилот включил сирену. От самолета отделился черный предмет, раздаваясь в окружности, понесся к земле и ударился о землю в полусотне шагов от кавалеристов; отскочил и, ломая кусты, покатился на дно балки, где лег на зеленой травке. С изумлением все увидели, что это не бомба, а железное тракторное колесо — заднее, с шипами-шпорами.
Повезло.
Халдеев выпалил обойму бронебойно-зажигательных, с черно-красными головками, но все зря: самолет улетел туда, откуда прилетел.
— Кончен бой, перекур, — сказал, подходя, командир взвода Табацкий, отирая платком потное лицо и доставая кисет и стопочку газетной бумаги.
Напряжение сразу спало.
— А странно, — Пересветов огладил успокоившихся коней, — только что была такая опасность, а сейчас будто и нет никакой войны, солнышко светит. Привыкает человек ко всему…
— Что это? — Табацкий указал на небольшое вздутие на ноге пересветовской кобылы.
Андриан пожал плечами.
— Так нельзя, — Табацкий оживился, — за лошадью надо смотреть. Глаз да глаз. Особенно за кобылами — у них организм понежней. Ведь лошадь в принципе устроена так же, как и человек…
Комвзвода извлек из полевой сумки пинцет, ватный тампон и бутылочку с йодом. Быстро и ловко обмял нарыв, обнажил, сняв коросту, его головку, выпустил гной…
— Здорово, — вырвалось у Пересветова, — кобыла не шелохнулась даже, а она у меня строптивая.
— Так, милый-дорогой, это же мой хлеб… Я ветеринарный техникум кончил, плюс десять лет практики. Лечить лошадей — умею, а ездить — так-сяк. В школе мне в первый день сказали: «Без шенкелей на конную подготовку не ходить». Я спросил, где их взять. «Хоть на складе получайте». Ну, я и поперся на склад. Складские оборжались с меня: шенкель-то, говорят, это внутренняя часть ноги от колена, так сколько вам надо, килограмм или два?
Возвысилась голова Отнякина над бруствером:
— Товарищ младший лейтенант, а можно нескромный вопрос?
Табацкий кивнул.
— Да нет, я не об вас. Вот Пересветов возомнил, выпендривается. Отец профессор, асфальт-Арбат, экспедиции, понимаешь, разногласия… Вот спросите его, пусть расскажет, что за книжечку хитрую он в переметной суме возит нет чтобы товарищу дать… А то раскурить бы ее!
— Зачем тебе, — с досадой сказал Андриан, — эта книга не на современном русском языке, а на древнем.
— А что это? — заинтересованно спросил Табацкий. — Я и сам взял на фронт учебник — по специальности, конечно. Не все же время боевой Устав кавалерии зубрить!
— Да «Слово о Полку Игореве», академическое издание тридцать четвертого года. Я ведь учился на историческом. А экспедиции… Представляете, мы находились в том самом районе, откуда русское войско начало свой бросок к морю восемь веков назад. Игорево войско пряталось в дубравах…
— Любопытно. Так доложите вкратце, что там у вас вышло с отцом и с экспедицией.
— Мой дед, понимаете, — заволновался вдруг Пересветов, — установил, что русские ходили за Дон, на берег Азовского моря. Отец же, напротив, — что это было невозможно, исходя из скорости движения в среднем по двадцать пять километров и никак не более сорока за один переход.
— Почему? — Табацкий в удивлении поднял брови так, что они исчезли под козырьком фуражки. — Вот мы за три перехода покрыли более двухсот километров. Почему же Игорь не мог?
— Вот-вот! Смотрите сами — в «Слове» уйма мест, указывающих на отдаленность Каялы: «конец поля половецкого», «далеча зайде Сокол, птиц бья — к морю», «среди земли незнаемой», «у Дону» и так далее.
— А не могло быть так, — полюбопытствовал Табацкий, — что средина половецких земель была не у моря, а где-то здесь, у Донца?
— Да нет. Археология — наука точная. Все половецкие захоронения, отмеченные каменными статуями, найдены только южнее Донца. Наоборот: чуть севернее есть остатки русских укреплений двенадцатого века. А между ними и половцами лежала ничейная земля, дикое поле, так сказать, нейтральная полоса. Стало быть, отец был неправ, и русские действительно подошли к морю. Я разошелся с отцом принципиально, только дело вот в чем…
Табацкий, втаптывая окурок в землю, перебил:
— Ладно, потом доскажете. Кончен перекур.
Он ушел, а Андриана воспоминания не отпускали, и настойчиво лезли мысли о том прошлогоднем крутом московском разговоре, когда отец, разъярившись, доказывал, что…
— Дело в том, что летописный эпизод с утоплением в море определенной части игорева войска, — доказывал профессор, — легко объясним. Излагаю суть в популярной, доступной для первокурсника форме.
— Что ж, — усмехнулся при этих ядовитых словах Пересветов-сын, — послушаем.
— Последняя битва Игоря не могла происходить у моря. При той скорости движения войск и том, максимально возможном, времени на все маневры и переходы, которым располагал Игорь, битва могла произойти южнее Донца на сорок, ну, пятьдесят-шестьдесят километров — это максимум-максиморум. Река Сальница, как известно, впадала в Донец вблизи Изюма — там, где русские переправились через Донец. Далее — один переход к неведомой нам Сюурли, удачная завязка боя в пятницу, а на следующий день, в субботу, половцы уже окружили игорев стан, «аки борове». А море…
— Я вынужден прервать вас, отец, — нетерпеливо сказал студент. — Вопрос о возможной скорости движения русского войска — вопрос важный. Не будем его затушевывать и смазывать. Давайте пройдем его еще раз…
— «Затушевывать, смазывать», — саркастически усмехнулся профессор. — Вы не в вашем молодежном кружке.
— А вы уклоняетесь от спора, — с жаром наседал младший Пересветов, — тогда я сам отвечу на свой вопрос. Я подчеркиваю двумя жирными линиями: скорость движения войск сильно зависит от многих факторов, это нам Пасынков подробно объяснял, а он на фронтах провел четыре года. — (При упоминании имени Пасынкова профессор сморщился, будто принял рюмку скверного коньяку.) — Факторы такие: род войска, время года, погода, время суток, местность, втянутость войск в походы, состояние дорог, а главное — какая боевая задача решалась, ну, например, где был противник: далеко, близко, наступал он или отступал и прочее. Ведь речь-то вдет не о средних показателях, а о конкретной вещи — мог ли Игорь в тех условиях в три перехода преодолеть расстояние от Изюма до устья Дона или до побережья Азовского моря или нет. Другими словами, могла ли его рать сделать подряд три перехода по семьдесят-восемьдесят пять километров? Мы пришли к выводу, что так вполне могло быть. Вот доказательства. В том же двенадцатом веке Владимир Мономах с дружиной поспевал из Чернигова в Киев за один день, «до вечерен», — об этом он пишет в своих «Поучениях». А ведь от Чернигова до Киева 145 километров! Исследователи определили длину суточного перехода запорожских казаков: оказалось, от 90 до 120 верст. Известен также рейд конницы генерала Плизантова во время гражданской войны в США. Было пройдено за один переход 135…
— Может быть, достаточно? — поднял руку профессор. — Не стоит утомлять меня перечислением различных случаев.
— Сейчас. Только один пример еще. Пасынков служил в дивизии Буденного. Так вот, в мае в Сальской степи, заметим, в весьма сходных условиях, дивизия за трое суток прошла триста километров и с ходу вступила в бой с конницей белого генерала Улагая. При этом марш проходил при нехватке воды. Пасынков говорил, что давали по котелку на человека и на лошадь. Было это в девятнадцатом году.
— Опять Пасынков, — профессор резко ударил ладонью о стол, словно хотел прибить муху, и седые пряди свесились ему на лоб. — Он сбивает с панталыку студентов! И моего собственного сына! Да, конница могла бы, в принципе, дойти от Оскола до моря за три дня. Конница! Но где доказательства, что у Игоря не было пеших воинов?
— А где доказательства противоположного? Все, что написано где-либо о походе, говорит о том, что наше войско было именно конным. Найдите хотя бы одно место в «Слове» или в летописи, из которого можно было бы заключить, что хотя бы часть русского войска двигалась пешим порядком.
— Есть такое место! — торжествуя, сказал профессор. — Прямых указаний действительно нет, но есть в Ипатьевской летописи место, которое позволяет трактовать ситуацию так, что пешие воины у Игоря были. Речь идет о «черных людях», которых князь не захотел бросать на произвол судьбы, хотя имел возможность уйти верхом.
— Не согласен! «Черные люди» — это не пехота, а простые люди, толпа, масса. Простолюдины могли воевать и на конях — почему нет? Например, в летописи есть запись: черные люди потребовали от князя Изяслава Ярославича оружия и коней, чтобы идти на половцев. Значит, это было в обычае, чтобы черные люди воевали в коннице? Было?
Вышла из кухни тетя Проня, шептала беззвучно:
— Что ж творится: отца лает. А то и закричит враз, как в очереди. Это дело рази! Тут князья уже двадцать лет как в болоте, а они гудут и гудут. А ежели что — подведут под монастырь. Спросят: а вы где были, гражданка Однополова? Хоть бросай службу безбедную да в деревню уезжай от греха.
А профессор, слушая сына, выпил вторую, неурочную, рюмку столовой мадеры и думал о том, что придется искать новые аргументы. Возможно, они придут потом, когда спор закончится — как говорят французы, блестящие мысли приходят в голову, когда уже спускаешься по лестнице. Но сейчас приходилось свертывать дискуссию, и это бесило профессора по-настоящему.
— Нет и еще раз нет! — тяжело дыша, обрубал концы профессор.
— Доказательства! Почему? Докажите! — побледнел сын.
— Потому что я больше знаю — всю жизнь служу музе Клио, и я профессор, а не желторотый студент!
При этих словах Андриан вскочил, будто получил пощечину. Отец встал медленно и удалился в свой кабинет внешне успокоившийся.
Но когда включил настольную лампу, руки у него еще дрожали. Он сидел, согнувшись, над ярко освещенной зеленой суконной лужайкой стола, и шахматные фигурки прыгали у него пред глазами.
Партия «Атакинский против Дифферендарова» осталась неразобранной в тот вечер.
Студен же после ссоры пошел спать, но только веретеном вертелся в постели, сбивая простыни. Сон убегал от него. Перед глазами объемно, озвучено и цветно возникали то картинки недавних споров об Игоре и его походе, то неожиданно включался сам, будто въявь двенадцатый загадочный, мучающий исследователей век…
— Вы возьмите в толк, что летописцы писали по указке сверху. Вот они Святославу, брату моему, приписывали пленных в десять раз больше, а обо мне и моем походе насочиняли, да встарь еще летописи правил игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр — правил, как того хотели киевские князья. А у меня со Святославом, великим князем киевским, были натянутые отношения. Он желал моими руками обезопасить от половцев днепровский путь, а мне было нужно другое — очистить от половцев наш торговый путь — к Дону и Синему морю. Святослав в феврале и марте мог бы идти к Дону, но не пошел. А почему? Не захотел мне путь на Тмутаракань расчищать. Боялся — закачается пред ним великий престол, если я верну себе законную мою дедину — Тмутаракань, и тем усилюсь. Вот мне и пришлось воевать самому…
В жиденьком сумраке весенней ночи пораженный услышанным Андриан разглядел зыбкую фигуру, лицо… Смоляные кудри свешивались на смелые светлые глаза, чуть-чуть смугловат был незнакомец, имел усы и складно вьющуюся бородку.
«Так это же князь Игорь! — ахнул про себя студент. — Прямо будто из оперы. Как я сразу не сообразил!»
Князь Игорь, как был — с мечом и в костюме по эскизу художника Федора Федоровича Федоровского, приблизился, присел на край постели и заговорил тихо и с угрозой:
— Ладно, в Ипатьевской летописи со мной обошлись все же вежливо, а Лаврентьевский список и читать стыдно. Будто бы рать моя три дня на Сюурли гуляла и праздновала. И все же ты скажи профессору — пусть почитает внимательно. Правды не скрыть, нет… Там есть про то, как мы ходили к Дону…
Часы тикали, стрелочка открутила ночные минуты. Утром, еще до занятий, расстроенный Андриан поймал в институтском коридоре Пасынкова и рассказал ему о крупной ссоре с отцом.
— Как жить под одной крышей с человеком, чуждым мне по взглядам и духу? — ломающимся голосом спросил он.
Присели на подоконник.
— Горячку не пори, в амбицию не вламывайся, — увещевал Пасынков. — Как говаривал Цицерон, не человек виноват, а эпоха. И хлопаньем дверью ты не докажешь, что поход Игоря — дальний героический рейд, а не мизерный пограничный набег… Вот вденем ногу в стремя — и айда в степь, в экспедицию. Нужны точные данные! Знаешь, как хлещет полынь по ногам, качается горизонт? Я-то уже раз перемерял эти степи с конармейцами. Эх… Не журись, казак, до рубки дело еще дойдет!
Предстоящее наступление без труда угадывалось по многим красноречивым признакам. И не особо наметанный глаз в блеклом свете луны различал на обочинах дороги не затоптанные еще рубчатые широкие следы, отдающие керосином, — это доказывало, что вперед прошла броня. Под маскировочными сетями просматривались толстые, как бревна, стволы мощных пушек. На ходу обдавая гарью полевые кухни длинных, позвякивающих котелками пехотных серых колонн; эскадрон все еще обгонял их по мере приближения к передовой.
В балках глухо ворчали моторы.
Из всех примет складывалась картина, поднимающая дух Андриана на высоту дела крупного и славного, дела государственной важности. Теперь Пересветов уже не просто прикасался к истории через страницы «Слова», а сам — он успел утвердиться в этой мысли — творил новую русскую летопись.
Андриан успел пробежать глазами дивизионку, напечатанную на желтой рыхлой бумаге в половину обычного газетного листа. Его поразила заметка, начинавшаяся словами: «Красноармеец, помни: ты сражаешься в тех местах, где восемь веков назад русские воины под командованием князя Игоря показали высокий пример воинской доблести и отваги. Будь достоин славы своих далеких предков…»
Далее со ссылкой на центральную печать сообщалось, что «Слово о полку Игореве» будет переиздано массовым тиражом для раздачи бойцам действующей армии.
Пересветов тут же вспомнил Пасынкова и его рассказ о своем пути в историческую науку: в гражданскую, в голодные и отчаянные годы, Москва издала «Слово». Пасынкову попался потрепанный экземпляр случайно, и какой-то десяток замусоленных страниц перевернул всю его жизнь…
С Пасынковым, как и с отцом, Андриан связи не имел все десять военных месяцев. Прервав экспедиционную работу, доцент пошел воевать, его студенческий отряд рассыпался еще на призывном пункте.
Отцу Пересветов написал пять писем. Военные треугольники не вернулись, но и ответа полевая почта не принесла. Где мог быть отец? Эвакуирован и спокойно читает лекции в Казани или Куйбышеве, а то и в Свердловске? Или сидит под грозным московским небом, подпертым световыми столбами? На фронте? Маловероятно — ему за пятьдесят, больное сердце… Серьезная размолвка с отцом, измельчившим фигуру Игоря и весь его поход, воспринималась Андрианом сейчас иначе, чем год назад: в свою правоту он верил еще больше, но личной неприязни уже не испытывал. «Ну, заблуждается, но это не диковина, — думал Андриан, — отец остается отцом».
Вычистив карабин и получив благословение на «отдых лежа», Андриан пошел в посадки, где на полевой коновязи стояли лошади. Машка теплыми губами ткнулась в карман, учуяв хлеб. Она была возбуждена — байки о том, что кони чуют предстоящий бой, подтверждались. Огладив кобылу, Андриан отдал ей хлеб, ушел во взвод и лег на попону.
У Пересветова остался под сердцем ледок. Все же первый настоящий крупный бой. Опасался как-то ненароком сплоховать, подвести взвод. Он, прежде чем заснуть, долго перебрасывал в памяти страницы последних походных дней — по службе все было достойно. Но одна страничка своей яркостью заслоняла маршевые будни, сияла в памяти… Тогда в разъезде достигли они хуторка, утонувшего в степном мареве — хатки беленькие, как кусочки брошенного в зелень рафинада; лохматые камышовые крыши нахлобучены папахами на подведенные синькой окна. Вертелись под ногами куры, собаки и свиньи.
На стук копыт явились тотчас босые ребятишки, десяток разновозрастных казачек и старый-престарый дед.
Увидев звезды на фуражках, мальчишки успокоились, восхищенно рассматривали стройных подтянутых верховых лошадей, оружие, шпоры, предлагали передохнуть, попить студеной водицы.
Пожилая казачка спрашивала кавалеристов:
— Сынки, устоите, либо под немца будете нас отдавать? Вон, государством вам все дадено — и сабли и ружья. Неужто не остановить его? Когда кончите отступать?
Хмурились солдаты, отворачивались, прятали глаза.
Сипло и немощно кричал дед со слезящимися глазами, в засаленной до черных залысин казачьей фуражке:
— Цыц! Дура баба, разве рядовой могет про то знать? Военная ведь тайна! Казачки, кони у вас добрые, а что же пик-то нету? Как же воевать?
Халдеев неохотно сказал деду:
— Сейчас, дед, самолеты воюют, танки. А пика у нас одна на эскадрон. Флажок треугольный на ней.
— Эх, казачок, люди воюют, а не танки. Мы, бывало, в турецкую-то войну, как пойдем наметом, да в пики… Мне бы скинуть время, лет полста, тогда-то я был лихой…
Стояла рядом красивая казачка — гордо посаженная на высокой и сильной шее голова, гладкие и блестящие черные волосы, кожа смугловатая, губы идеальной формы, будто из красного граната вырезанные искусным скульптором. Во внешности ее, да и, наверное, в характере, не было досадных мелочей, Андриан опешил, будто в жухлом подзаборном бурьяне увидел редкостной красоты цветок: он стоит один, покачиваясь, — и манит, и дразнит…
Отнякин, на что тюфяк, едва увидел молодку, рот разверз и чуть из седла не выпал — как ехал, так и поворачивался всем корпусом, будто подсолнух за красным светилом. А молодка вдруг обожгла глаза Пересветова своим взглядом. И негаданное случилось в тот же миг.
— Казачок, — полным, чуть сорванным на вольном воздухе голосом позвала степная красавица, — казачок, заезжай-ка молочка попить.
Зубоскал Отнякин с завистью закричал:
— Нет ли воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!
Пересветов до этого дел сердечных почти не имел — так уж складывалась его жизнь и отношения с прекрасным полом, да и решительности не хватало. А сейчас повернул коня, словно к себе домой.
Было вареное кислое молоко с коричневой хрустящей корочкой, холодное и густое, а потом твердые, точеные губы, а еще потом — звезды в глазах, и больше ничего.
В белом тумане цветущих вишен уплывал хуторок… «Чем взял — уму непостижимо, — вздыхал Халдеев, — ни кожи, ни рожи…»
До этого хутора Пересветов вспоминал на походе чаще всего умершую давно мать, Москву, Арбат, книги на зеленой лужайке профессорского стола в уютном световом конусе, и в книгах — загадочную историю загадочного народа, который должен был давно исчезнуть, раствориться в других народах, просто пропасть, сгинуть. Однако не пропал и не сгинул, и не зря скрипели перьями по телячьей коже старцы в монастырских узких кельях. И не зря, видать, сказители передавали из поколения в поколение песни и былины о героях и подвигах.
После хутора, после глаз женщин и деда, старого воина, и после точеных губ, и молока, и звезд Пересветов считал лично себя обязанным не пустить немцев в этот хутор. Убить хотя бы одного фашиста, а потом будь, что будет, долг уже погашен, — так рассуждал бывший студент, а ныне защитник Родины, боец-кавалерист Пересветов. Он подсчитал, что если каждый наш воин убьет хотя бы по одному вражескому солдату, останется только войти в Берлин. Подсчет наивный, но что возьмешь со вчерашнего историка-первокурсника, чувствительного, распаленного собственным воображением и известной всему миру статьей «Убей его», вызывавшей желание мстить. И в генштабе иной раз самые зубры просчитываются.
В ночь пред наступлением эскадрон подняли по тревоге. Были дополучены, уже сверх боекомплекта, патроны, гранаты и бутылки с бензином и зажигательными приспособлениями. До боя оставались считанные часы. Кавалерийский полк двинулся не на запад, как это стало всем привычным за последние дни, а на юг. В лица кавалеристов плеснуло речной сырью. Зашумела вода. В белых бурунах, выделявшихся на темном текучем зеркале, почти по холку погруженные, шли лошади, вытягивая шеи и хватая ноздрями воздух. Скоро переправились вброд на правый берег Северского Донца и расчленились на эскадронные колонны. Теперь эскадроны были рассыпаны в посадках и по балкам во втором эшелоне изготовленной к наступлению группировки и фронтом обращены на юг, в сторону Азовского моря. Удар в этом направлении мог, в случае успеха, потрясти до основания весь правый фланг группы немецко-фашистских армий «Юг».
Конница остановилась в ожидании, когда бог войны пройдется огневой метлой по траншеям супостата, когда всколыхнется Мать-Сыра-Земля, выбрасывая в дымный рассвет серые цепи, и покатятся на юг колючие гребенки штыков в красноватых точках выстрелов. Конница будет ждать своего часа: сначала Иван-пехотный должен прогрызть оборону, вслед за броском гранаты сапогом встать на бруствер вражеской первой траншеи. И настанет то самое знаменитое время «Ч», которое запустит всю машину наступления.
И только после прорыва вражеской обороны кавалерийский командир вденет ногу в стремя, а танкист захлопнет крышку люка и скажет: «Заводи!»
И вот с шипеньем вылетели сигнальные ракеты, оставляя за собой белесые зигзаги дымного следа, тяжело ухнуло раз и другой, а потом пушечные удары слились в единое грохотание. Столбы дыма и пыли поднялись над степью. Мелко задрожала земля. Немцы опомнились; на наше расположение обрушился ответный огонь. Пересветов взрыва не слышал — по лицу хлестнуло упругим, зазвенела, обрываясь, какая-то струна, да обоняние уловило напоследок химический, больничный запах тола. Сознание на мгновение включилось и ту же будто открыло мир заново…
Занялось утро, над головой небо голубело, но над горизонтом низко плавала длинной полосой сизая тяжелая туча, закрывая солнце. И тут же солнце багровым лучом просверлило где-то в тонкой части облака отверстие. Теперь оно сверкало, как налитый кровью бычий глаз, и наводило жуть.
Пересветову стало не по себе. Ему показалось, что прямо в него уперся грозный взгляд Перуна. Вообще вместе с этим багровым лучом в природу вошло нечто необычное: настала хрупкая тишина, и словно бы воздух переменился и стал плотней и духовитей; и трава поднялась выше и из однотонно-зеленой превратилась в пеструю, разноцветную; и небо резануло глаза чистейшим голубым — драгоценным бадахшанским лазуритом. Все в природе сделалось как на картине Васнецова «После побоища». С удивлением Андриан обнаружил, что изменения коснулись не только природы. Изделия рук человеческих — ремни конского снаряжения — прямо на глазах бойца из темных, жестковатых, выделанных фабричным способом превратились в более светлые — сыромятные, пучок поводьев в руках обмяк. Более того, стальные пряжки оголовьев сами по себе сменились простыми узлами, но еще больше поражали седла. Металлические трубчатые луки исчезли, возникли деревянные, а вместо ожиловки появились кожаные подушки.
Пересветова била дрожь. Первым делом он решил, что просто заснул стоя, отключился на секунду: за поход накопилась усталость, такое бывало. Но кони, как обычно, мотали головами, дергая повод, свистели их хвосты, отгоняющие слепней и оводов. Он дотронулся до седла, чтобы убедиться, не галлюцинирует ли. Оказалось, ничего подобного. Деревянная допотопная лука седла оказалась твердой реальностью, а вовсе не миражом.
Но самое странное заключалось в том, что коновод со своими лошадьми стоял в неглубокой балочке один как перст. Товарищи загадочным образом исчезли, точно их не было, сколько ни озирался по сторонам ничего не понимающий Пересветов. Ему показалось, что густая трава в нескольких шагах подозрительно колышется и что там, в траве, кто-то скрывается. Немецкий лазутчик?
Кавалерист насторожился и, удерживая лошадей левой рукой, правой потянул из-за спины карабин. Затвор стоял на предохранительном взводе, совладать с ним одной рукой не удавалось. Но в траве белым пятном вместо вражеского лика мелькнула знакомая отнякинская круглая, как блин, физиономия — и только почему-то белесые волосы его были не ежиком, а свисали сосулькам на брови.
Сзади раздался в этот момент тихий вибрирующий свист, и на плечи Пересветова упала упругая черная петля. Не успел он что-либо сообразить, не то что сделать, как кольцо скользкого конского волоса впилось в шею, аркан натянулся, в глазах стало быстро темнеть. Он выпустил из рук поводья, захрипел и, теряя сознание, навзничь рухнул в траву.
Очнулся Пересветов не сразу. Сначала он услышал глухие, будто сквозь вату, голоса; попытался придти в себя, но не получилось — мешала мучительная дрема, тусклое полузабытье, будто во время какой-то детской болезни с температурой через сорок. Потом с Пересветовым что-то делали, теребили, терли; наконец, он с трудом разлепил веки и смутно увидел озабоченные лица Отнякина и Халдеева. Тут же он заметил, что оба бойца одеты не по форме: вместо гимнастерок свободные холщовые рубахи неопределенного цвета, вместо синих шаровар — такие же портки, заправленные в мягкие, на тонкой подошве и почти без каблуков, кожаные сапоги.
— Очнулся, вражий сын, — не своим обычным голосом, а как будто нараспев, сказал Отнякин, — ну, сказывай, где вежи половецкие?
— Снимите с него путы и поставьте пред лицом моим, — раздался властный голос.
Пересветов узнал голос Рыженкова, но опять-таки голос смягченный, со странным произношением, будто в нос немного, как при насморке.
«Брежу я, что ли?» — подумал Пересветов, но грубый рывок показал ему, что он не бредит. Поддерживаемый с двух сторон, стоял кавалерист в поле, у подножия невысокого, но крутого кургана с каменной бабой наверху, а прямо перед ним, в двух шагах, стоял Рыженков: в блестящем, с позолотой, шишаке, в кольчуге, с прямым «каролингским» мечом на поясе, — словом, в боевых доспехах игоревских времен. Только сержант был брит, а у этого воина торчала сбитая малоухоженная борода: в заботах, видно, был весь и о внешности не думал.
— Кто таков? — громко пропел Рыженков.
— Товарищи, что такое? Кончайте шутить, — нашли, в самом деле, время, — взмолился Пересветов и тут же изогнулся от боли — так хватил его по плечу тяжелой плетью Отнякин.
— Тебя князь Игорь Святославович не о том спросил! — прогудел Отнякин и добавил пару бранных слов.
— Сволочь, — не своим голосом выкрикнул Пересветов и со злобой ударил обидчика кулаком по пухлой скуле.
Тот проворно набросил петлю на шею Андриана, а Халдеев заломил ему за спину руку.
— Княже, дозволь удавить поганого! Мы другого в полон возьмем! — выкрикнул Отнякин.
Рыженков-князь внимательно всмотрелся в помятого, взъерошенного Пересветова, и какая-то мысль змейкой промелькнула в его серых глазах.
— Ступайте оба, Чурило и Швец. Спаси вас бог за службу честную.
Пара молча поклонилась и беззвучно исчезла.
«Так вот в чем дело, — телеграфным ключом застучало в голове Пересветова. — Это не маскарад, маскарад перед самой атакой быть не может. А вот попасть в двенадцатый век — дело другого рода. Машина времени вещь известная: Уэллс, Твен, Маяковский, Булгаков… Но ведь никакой машины под рукой не было, только лошади, шашка и карабин… Правда, карабин тоже своего рода машина времени — малым усилием пальца в два килограмма всего-то навсего можно отнять у живого существа все время его жизни. Но перелет в прошлое? Разве что нематериальный? Обладает же доцент Пасынков уникальной способностью находить спрятанные предметы. Он силой воображения угадал точное место еще в древности сгоревшей башни, которую долго искали археологи, и что же — под слоем земли в четыре метра нашли уголья и остатки исполинских дубовых бревен. Бывают чудеса и хлеще. Просто наука многое еще не знает. Обнаружили же недавно магнитные аномалии, почему бы не быть где-то и временным?»
Пока Пересветов соображал, что к чему, князь острым взглядом ощупывал его, изучая покрой одежды, качество ткани и сапог, разглядывая зеленые пуговицы с выдавленными звездами. Взгляд у князя был не совсем такой, как у Рыженкова. У того взгляд будничный, деловой, а у князя — словно у человека, только что спустившегося с высокой вершины, где он долго сидел в полной тишине и одиночестве. Такой взгляд свойствен — он и прошивает насквозь, и уходит в себя. Под этим странным взглядом Андриану стало неуютно.
— Ты не половчин, — уверенно, с напором сказал князь, — и ты не грек. На варяга не похож. И не булгарин… Из угорского края? Нет.
Князь нагнулся и поднял лежащее у его ног оружие Пересветова. Клинок был обнажен, ножны валялись тут же, на траве.
— Что это? — указательный палец лег на выбитую по обуху надпись «Златофабр, 1941».
— Златоустовская оружейная фабрика, тысяча девятьсот сорок первый год. Понимаете, двадцатый век от рождества Христова, а не седьмое тысячелетие от сотворения мира, как у вас. А Златоуст — город, где оружие делают. Вы должны знать, кто такой Иоанн Златоуст…
— Ты-то кто есть? — впился в Пересветова князь своим удивительным ледяным взором так, что тому стало совсем плохо, — и одновременно потянул из ножен свой меч.
— Воин, — взяв себя в руки, с достоинством сказал Пересветов, — мы тоже воюем здесь, в степи…
Он подумал, что нелепо погибать от рук князя Игоря, когда предоставился случай раскрыть тайну Каялы. Правда, нужно будет найти еще обратный ход по временной аномалии, вернуться в двадцатый век, а потом еще — и объясниться с Рыженковым, Табацким, а может, и с самим комэском — самоволка в такой момент дело подсудное.
Князь поднял меч и резко опустил его на лезвие златоустовского клинка. «Проверяет — не наваждение ли», — сообразил студент. Игорь хмыкнул, потом протянул оружие Пересветову:
— Гляди, какая зазубрина! А на моем харалужном и следа нет. Как же вы бьетесь на сечах?
— Князь, так ты веришь, что я попал сюда из двадцатого века? Я могу еще красноармейскую книжку показать, — обрадовался до поглупения Пересветов, поняв главное: Игорь каким-то верхним чутьем правильно оценивает появление человека из будущего.
— Верю во всемогущество бога, а более того верю глазам своим, — князь курчавой короткой бородкой указал на карабин, — это я разглядывал — ни у кого, ни за морем такого оружия нет…
Игорь поднял карабин и начал вертеть его в руках, понял назначение ствола и затвора, пытался его открыть, но затвор во время нападения Халдеева и Отнякина Андриан так и не успел снять с предохранительного взвода — он не открылся.
Пересветов взял карабин, оттянул и повернул вправо тугую пуговку затвора и поставил его на боевой взвод, а патрон еще в двадцатом веке был дослан в патронник.
Князь показал на вершину кургана:
— Смотри: там каменная баба, а рядом валяется валун. Валун тот не больше человеческой головы, а я стрелу мимо не пущу. Ну, сможешь ты попасть?
До каменной бабы было не менее пяти десятков метров. Пересветов сказал, поднимая карабин:
— Князь, сейчас будет гром. Приготовься и смотри. Стреляю… — Он выровнял мушку в прорези прицела, затаив дыхание и плавно дожал спуск.
Выстрел и самому Пересветову показался пушечным — больно стало ушам, зазвенело в голове. От валуна, отдаленно напоминавшего человеческую голову, веером брызнули каменные осколки. Князь побледнел, но не испугался, скорее задумался, еще больше сбив бороду на бок.
— Добро. Лучше лука. Скажи мне, — опять вцепился он взглядом в студента, — человек из двадцатого века, чем окончится мой поход? Или наш народ не хранит памяти о нас?
— Ничего хорошего, — вырвалось у Пересветова как-то слишком поспешно, без его осознанного желания, — нужно отменить поход. Гибель ждет русские полки. Поворачивай, князь, назад…
— Пусть гибель! — закричал Игорь, и глаза его стали огненными и страшными, — а честь? Честь дороже жизни! Лучше лечь костьми честно, чем со срамом воротиться, не знавши поля. Смерть в бою — слава, а на позор я не пойду! Будь что будет!
— Князь, — умоляюще прижал к груди руки Пересветов, — мне, нам нужно знать, как было дело, почему ты не пошел на половцев со Святославом, великим князем киевским? Ведь тебя некоторые чуть ли не предателем Руси считают, да ведь ты и раньше с Кончаком в одной лодке сидел.
Князь рывком отдернул дергающееся лицо.
Туча, которая плавала над горизонтом, развалилась надвое, и ударило ослепительное солнце. Доспехи князя и его золотой шлем вспыхнули режущим блеском.
— Нелепо лукавить, — успокаиваясь и становясь печальным, сказал Игорь, — я объясню все. Смотри: вот плакун-трава. Это слезы богородицы; может, степные травы донесут до потомков и наши слезы, и нашу кровь. Не ездить мне у Святославова стремени и не быть у него подручным. Скажу, почему…
Пересветов сделал шаг вперед, и затуживший князь исчез. Рядом стоял только Отнякин, коего секунду назад здесь не было и быть не могло. На нем увидел студент синие, запачканные землей шаровары и обычные «кирзачи»; холщовые же порты и рубаху двенадцатого века будто ветром сдуло. И этот современный Отнякин должен был сидеть сейчас впереди, в окопе, а не у коноводов сшиваться.
— Заповедь: ближе к кухне и дальше от начальства, — угадав вопрос, объяснил свое появление Отнякин.
Андриан огляделся. Все было на месте, оседланные лошади стояли, как и прежде, шестерками, только тревожнее фыркали и нюхали пороховой южный ветер, вытягивая шеи. Не приснился ли двенадцатый век?! Нет, в ушах еще звучал рассказ князя, а ствол карабина, который Андриан тут же пощупал, еще хранил тепло выстрела. Ему вспомнилась странная летописная строка о поимке «басурманина», умевшего стрелять огнем задолго до появления пороха в Европе. Может быть, это весточка о нем самом?.. Прошлое и настоящее, смешавшись, единым вихрем закружилось в голове Пересветова. Он сделал случайный шаг назад — и лошади опять исчезли, мгновенно пропали, словно остались по другую сторону высокой зеркальной стены. Кругом была ковыльная степь. Отнякин стоял там же, на прежнем месте, только снова в одежде двенадцатого века и с белесыми лохмами почти до самых глаз.
«Я вернулся каким-то образом в 1185 год, видимо, где-то здесь раздел эпох, временная аномалия, — лихорадочно соображал студент, стремясь не сбиться, — нужно, раз я уже и в летопись попал, как-то предотвратить беду, нависшую над Игоревым войском. Убедить князя, доказать, помочь ему. Или все, что со мной происходит, лишь обычный психический сдвиг?»
Шальная мысль о князе показалась Андриану более чем резонной: если вместо поражения в мае Игорь добьется победы — ход русской истории может стать другим. Русь овладеет Полем, усилится Тмутараканью, торговлею с Востоком. Таинственные, упоминаемые только в «Слове» «хинови» повезут в Европу китайский бело-синий фарфор через русские земли, а это прибыль. В воображении студента создавалось обширное, сильное государство от Кавказа до северных морей. С таким Батыю не совладать! Отразив нашествие кочевых орд, Русь расцветет, украсятся ремеслами, науками, литературой…
— Князя хочешь увидеть? Нас решил продать? — во второй раз каким-то чудом перехватил Отнякин мысль Пересветова и, уловив его движение, заступил путь. — Не выйдет!
Злые, волчьи огоньки зажглись в глазах Отнякина, и он, наклонившись, быстро потянул из-за голенища длинный и острый нож.
Пересветов стоял слишком близко. Как успеть перезарядить карабин и направить его в цель? Чтобы уберечься, оставалось только сделать короткий замах прикладом, шагнув для этого назад. Но, шагнув и замахнувшись, Андриан пересек невидимую границу эпох и внезапно увидел Отнякина в красноармейской форме. Успел ужаснуться тому, что не сможет уже погасить свое импульсное движение, — удар пришелся в левое подреберье. Отнякин глухо екнул, переломился влево и рухнул на спину.
Пересветов стоял в холодном поту, потрясенный; ноги не шли. Как не крути, Отнякин был парень ничего, делил с ним солдатский кислый хлеб — вместе дневали, до мокрой спины, до мыла выгребая, вывозя тачками навоз из конюшни; вместе сидели под бомбами; вместе крутили скатки; вместе поднимали четырехпудовые седла с походным вьюком. И все же нет-нет, да и проскальзывали у Отнякина неприятные шуточки насчет «гнилой интеллигенции», и раскрывались, будто шторки, при этом на сонных отнякинских глазах, и становились видны озерки плескавшейся в них лютости и буйства. Пересветов во время таких вспышек терялся, он и впрямь чувствовал себя виноватым в том, что был благополучен и имел возможность учиться, и спокойно ел свой гоголь-моголь и пил рыбий жир в тяжелейшем тридцать третьем году, когда Отнякин в деревне «сидел голодом». Завертелось в пересветовской голове крошево из воспоминаний о Москве, о довоенной счастливой поре исследований и научных споров: мелькнул отец в антрацитовом фраке и белой манишке, важно вещающий с трибуны что-то о неведомой «земле Трояне», о таинственных «стрикусах», о грозном Диве; вспыхнули огни милого Арбата, — а за ними золотые корешки Полного Собрания Русских летописей издания тысяча девятьсот седьмого года. И Платон со знаменитыми диалогами и теорией анамнезиса…[2]
Отнякин зашевелился и со стонами и оханьем пытался сесть. «Через пять минут он очухается совсем», — решил Андриан. Медлить далее не приходилось.
— Князь, где ты? — крикнул Пересветов.
В голове Пересветова еще гудел колокол, а в глазах не потухала боль, когда перед ним вырезалось из пыльной мути лицо Рыженкова — не князя, а старшего сержанта, которого комэск оставил командовать коноводами.
— Жив? Тут около тебя так рвануло — думал, накрылся вместе с лошадьми. Смотрю — лошади целы… Потом слышу: «Князь!» Ты шумнул? Ладно. Вставай, чего сидеть. Так, крови нигде нет. Порядок!
Пересветов встал так быстро, как только мог, и торопливо, сбиваясь, заговорил:
— Товарищ старший сержант, тут дело чрезвычайной важности. Если со мной что-нибудь случится, вам нужно будет написать в Москву, моему отцу. А о чем — запоминайте лучше! Времени мало. Я побывал только что в двенадцатом веке — как, не спрашивайте, не представляю. Важно другое: я с князем Игорем Новгород-Северским говорил, тем самым.
— Ты что, бредишь, Пересветов? Тебя оглушило, вон воронка еще дымится. Какой еще князь? Ты контужен, очнись, скоро нам в наступление идти.
— Я не в бреду, — упорствуя, сказал студент, — я докажу.
Он выдвинул из ножен на две ладони клинок.
— Ого, — удивился Рыженков, — почти на треть перерублен. Это порча оружия! — теперь уже осерчал старший сержант.
— Какая порча — это князь свой меч пробовал! А это? — Пересветов показал на вспухший рубец на шее от аркана. — Я, между прочим, вешаться не собирался. Я в плен попал. Это меня на аркане тащили Отнякин и Халд… а черт, нет, Чурило со Швецом.
— Хватит путать меня! Хоть я в институтах не учился, кое-что понимаю, — мрачно и резко оборвал его Рыженков, — чего не может быть, того не бывает.
— Я не путаю: невозможно, невероятно, но факт! — про анамнезис Андриан умолчал. — А вот еще — на кургане баба, там должен быть свежий след от пули, откол, понимаете? Если я брежу, откуда знаю про это? Поднимитесь, проверьте.
— А точно, — широко раскрыл глаза Рыженков, — было — долбануло по бабе. Я еще удивился: ни выстрелов, ни разрывов, а от валуна — искры веером!
— А стрелял я, понимаете ли, из двенадцатого века, хотя это и странно, — торжествуя, Пересветов щелкнул затвором и выбросил стреляную гильзу, — вот!
В глазах старшего сержанта вдруг загорелось теплое понимание и сочувствие.
— Ловко, — нетерпеливо повел головой Рыженков, — так что там с князем-то? Запомню на всякий случай. Чем черт не шутит, Все может быть. Только покороче.
Грохот сражения нарастал, слова будто попадали в вату. Пересветов облизнул сухие губы, оглядываясь на желтоватую завесу пыли на южной стороне небосклона.
— Главное из рассказа северского князя я понял так. Игорь со Святославом не вполне доверяли друг другу. Святослав божился идти на половцев «на все лето», но вместо этого чужими руками расчищал торговые пути по Днепру. А в половецкую глубинку — ни шагу. Мог он, понимаете, мог освободить Тмутаракань — вернуть ее Руси. Но Святослав посылал отряды громить вежи половецкие на юг, вдоль Днепра, а не к Дону.
— Зачем ему это было нужно? — со слабым интересом спросил Рыженков, ковыряя носком сапога рыхлую землю.
— У него был свой расчет, свой интерес. Если бы русские совместными усилиями очистили от половцев все Приазовье, то Тмутаракань отошла бы не к Святославу, а к Игорю! Это была его законная «дедина»: дед Игоря — Олег, прозванный Гориславичем. В 1097 году решением съезда князей в Любече Тмутаракань была закреплена за Олегом Гориславичем и его потомством. Святослав не хотел усиления Игоря, своего политического соперника. Ведь в случае полного разгрома половцев вновь открывался прямой торговый путь из Новгород-Северского в Тмутаракань и дальше на восток, а это подняло бы значение княжеств, соперничающих с Киевом. Киевляне душили торговлю других княжеств, не давая им выхода к Днепру.
— Ясно, политика, — покрутил головой Рыженков. — Киевский этот Святослав по отношению к Игорю, стало быть, вел себя как собака на сене — сам не гам и другому не дам.
— Как раз Святослав хотел «гам»: в летописи под 1194 годом есть прелюбопытнейшая запись, из которой видно, что Святослав грозился идти войной против рязанских князей. Причина — те высказали притязания на некоторые волости тмутараканские. Значит, Святослав имел нелады со всеми, кто имел виды на Тмутараканское княжество.
— Эх, — сказал Рыженков с досадой, — паны дерутся, у холопов чубы трещат. Ну, что там еще? Давай, только короче, короче, Пересветов, не тяни кота за хвост.
— Очень важно: Игорь, понимая, что Тмутаракань ему на блюде не поднесут, вынужденно решает действовать сам. Он мне сказал: «Еще 12 лет назад я побил Кобяка и Кончака, гнал половцев почти до Дона Великого, да сил было маловато. Сейчас у меня войска больше». В общем, шансы на успех у Игоря в походе восемьдесят пятого года были солидные. И еще два дела прояснились. Первое: в русское войско пехоты не брали. Даже обоз Игорь имел не колесный, а легкий вьючный…
Рыженков перебил:
— Ты что все облизываешь губы? Глотни воды, вон солнце уже начинает работать, я будет еще жарче.
— Нет воды.
— Как так?! Воду подвозили! Старшина Шестикрылов обкричался: «Напоить лошадей, залить воду по флягам!»
— Понимаете, кобыла моя очень пить хотела. Я отнимаю ведро, а у нее слезы на глазах… короче отдал всю воду ей.
— Эх, интеллигенция, — сказал с напускной досадой Рыженков, снимая с ремня зеленую округлую флягу. — На, пей! Так, говоришь, очень важно нашим профессорам знать, какое было у русских войско? А по-моему, и так ясно: половцы — степные кочевники, все на конях, да коней было у них с избытком, могли менять, имели подвижность. Где же с пехотой по этим степям за кавалерией гнаться? Если бы Игорь с войском шел стоять в обороне, а он же наступал!
— Да, он шел в дальний рейд, рассчитывая на быстроту и внезапность своих действий.
На вершине кургана зашевелился оставленный Рыженковым наблюдатель «махала», поднимая над головой ракетницу.
— Вижу сигнал «Коноводы»! — закричал махала, и Пересветов замолк на полуслове.
Ракета взлетела и разделилась на три зеленых звездочки. Рыженков, надсаживаясь, пропел:
— По ко-о-н-ям! — и озабоченно спросил Пересветова: — У тебя голова как? И вообще, вести лошадей сможешь? С шестеркой справиться — не шутка. Трудно будет.
— Ничего, справлюсь.
Пересветов тяжелей, чем обычно, сел в седло и разобрал повод. В голове позванивало, после выпитой воды поднималась к горлу противная соленая волна. Голос Рыженкова доносился издали уже оборванно:
— Колонну… мно-ой… ма-а-а-арш…
Коноводы выводили свои шестерки повзводно. Из них складывалась внушительная колонна. Сквозь плотную дробь ударов копыт прорезалось конское короткое ржанье, фырканье. Зазвенели, соударяясь, пустые стремена. Колонна, переходя с шага на рысь, вытянулась из балки, обогнула древний курган, миновала молодой яблоневый сад и пошла по открытому полю. Впереди была слышна стрельба и глухие, долбящие землю удары.
Пересекли линию мелковатых, вырытых наспех, по-славянски, наших окопов, откуда вставала в атаку пехотная волна. На брустверах, на бермах стрелковых ячеек, на пулеметных площадках червонным золотом играли блестки стреляных гильз. Прошла колонна крупной рысью метров четыреста и втянулась в проход, проделанный саперами в немецких заграждениях, минных и проволочных. Здесь земля была бурой, опаленной разрывами и полосами от удлиненных зарядов.
В поле перед заграждениями и около них неприметными продолговатыми бугорками, как бы вжавшись в степь, неподвижно лежали люди. По защитным шароварам и пилоткам Пересветов определил, что это наши пехотинцы, — те, кто поднялись и шли в атаку первыми. Опираясь на винтовку, двигался раненый боец. Его под руку вел другой красноармеец. У раненого лицо было бледно-серым, как отбеленный холст, и покрыто испариной, а у сопровождающего, наоборот, красным и сальным.
— Ну, как там, пехота? — крикнул на ходу Рыженков. Сопровождающий почему-то со злобой ответил:
— Увидишь! Хорошо вон минометами набили мужиков.
Ближе ко второй траншее лежало столько бугорков в защитном, что сердце у студента дрогнуло и будто остановилось. Сквозь неожиданную внешнюю обыденность этой картины, сквозь кукольную неподвижность тел вползал в его душу ослабляющий страх.
И тут же перед Андрианом, как и десяток минут назад, со звоном лопнувшей струны встала картина побоища восьмивековой давности, и земля поползла на него, встала на ребро, как тарелка. Отчаянно ухватился Пересветов за луку седла, уперся — багровое, заволоченное пылью и тучами солнце поползло назад и заняло свое место над горизонтом. И тут же что-то щелкнуло, исчезли поверженные витязи и остались в степи совсем не картинно лежащие тела, а ясное солнце ударило жарко и желто. Андриан удержался в седле; вместе с картинкой из той, древней войны пропал и охвативший его было страх смерти. «Не мы первые, не мы последние», — шевельнулось в растревоженном мозгу. Пустынное поле перед второй траншеей кончилось, коноводы провели колонну через проход в проволочных, в два кола, заграждениях. В самой же траншее густо копошилась наша пехота: мелькали стертые до зеркального блеска саперные лопатки, летела на брустверы земля. Кое-где бойцы повязали головы от жаркого уже солнца белыми носовыми платками. Восстанавливали разрушенное артиллерийским огнем, рыли ячейки для стрельбы теперь уже в другую сторону, на юг.
Вперед Табацкий выслал Рыженкова, приказав взять с собой пять бойцов. Помкомвзвода в число пяти выбрал Ангелюка, Халдеева и Пересветова. Ехали по дну балки мелкой тряской рысью, быстрее не получалось из-за кустов, ям и промоин с отвесными стенками, оставленными весенней снеговой талой водой: кое-где оставались еще лужи и бочаги с водой, возможно, еще не протухшей на жарком солнце и пригодной для питья. Но об остановке нечего было и думать: впереди и справа била немецкая минометная батарея. Чахх, чахх! — звуки выстрелов были мерными, с присасыванием, будто работали какие-то мирные прессы или молоты, а не боевые орудия.
Рыженков еще на ходу спешился, перебросил повод Ангелюку, а за собой поманил Пересветова:
— Полезли-ка наверх. Проползем по-над балкой, посмотрим, что и как.
Минометы, выпустив положенную дозу, стрельбу прекратили, Рыженков с Пересветовым ползли по откосу вверх, удерживая направление по слуховой памяти. Впереди послышалась немецкая речь. Рыженков, сняв фуражку, приподнял голову над травой и тотчас ее опустил.
— Вшестером?! — ахнул Пересветов.
— Э, не журись, студент. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Подумай сам. Мы подскочили к ним под бок только потому, что за стрельбой им нас не слышно было. Отстрелялись и теперь будут отдыхать, такая у них, понимаешь, техника. По часам все. Взвод сейчас подойдет — они же его услышат, развернут пулеметы, положат весь взвод, как пить дать, положат ребят…
До Пересветова дошло — каков Рыженков, мог и так и эдак, а он выбрал решение самое отчаянное. Студент глянул с почтением на старшего сержанта и обомлел: на голове у него красовался древний боевой позолоченный шлем; курчавилась черная густая бородка. Голос князя Игоря зазвучал в ушах Пересветова:
— Говоришь, про меня в двадцатом веке пишут нехорошее? То с русскими на половцев, то с половцами на русских, и, вообще, в жилах его течет половецкая кровь. Все верно, да не так. Нет такого государя или князя на свете, чтобы был чистокровный, как скаковой жеребец. Однако земля сильнее крови! Да, с половцами я то воюю, то мирюсь, они соседи наши. С ними торгуем, через их земли идут купцы к нам и от нас. Владимир Мономах девятнадцать раз с половцами бился и девятнадцать раз чинил мир, и нам то завещал. Я сам своими руками выдергивал половецкие стрелы из груди, я изрублен весь в сечах за Русь…
Игорь говорил, а Пересветов силился вспомнить: были ли в средневековой Европе короли и князья, что не отдавали своих дочерей в чужие земли, что сами не женились на иностранках, что союзничали со своими ближними соседями и не воевали с ними?
— Святослав Киевский, — гнул свое обиженный князь, — на брань выезжает со своей челядью — каждый день разбивают ему красный шатер, заморские вина льются рекой. Тьфу! А я сплю на попоне, укрываюсь звездами, под голову кладу седло… Ем то же, что и воин, что и гридьба! Он с холма в сражениях рукой водит, а я первый лезу в сечу, где копья гуще… за мной идут, мне верят люди… Я каждую подпругу в полках проверяю сам… не я усобицы выдумал, все страдаем от них!
Странноватый для современного уха напев Игоря затих, а затем Пересветов услышал уже громкий шепот Рыженкова:
— Тю! Как провалился! Что такое: толкнул его, а у него глаза аж закатились. Пошли скорей к нашим. Давай, давай!
Андриан Пересветов понял, что его забытье длилось не более нескольких секунд. Рыженков накрыл голову фуражкой с синим околышком, и они скользнули в густой траве назад. Сначала ползком, потом пригибаясь, а в зарослях на дне балки — в рост.
— Шашки к бою, — прохрипел старший сержант, взлетел в седло, не касаясь стремени, — за мной!
Немцы никак не ожидали атаки, да еще конной, с тыла: кто курил, кто обтирал бумажными концами мины, готовя их к стрельбе. Два офицера уютно, голова к голове, лежали под тентом из плащ-палатки и о чем-то беседовали. Минометы стояли на позиции в круглых свежевырытых окопах, блестя на солнце темно-зеленой эмалью. Дежурный пулемет был обращен дырчатым стволом на север, и пулеметчик в летнем кителе с закатанными по локоть рукавами дремал, уткнув голову в руки. Когда шестеро кавалеристов оказались в ста метрах от батареи, он повернул голову, и крайнее удивление выразилось на его лице. Остальные немцы застыли на своих местах, словно актеры в немой сцене.
Сто метров идущая карьером строевая кавалерийская лошадь проходит меньше чем за шесть секунд. Через две секунды самый опасный на батарее немец пулеметчик очнулся, ухватил свою машину, перебрасывая ее навстречу атакующим. Но Ангелюк уже прямо с седла пустил в ход своего «Дегтярева», длинной очередью выпуская веер пуль. Весь диск, все сорок семь патронов расстрелял Ангелюк не зря. Немец выпустил пулемет и ткнулся в землю носом. Рыженков, опередив остальных на три корпуса на своем резвом ахалтекинце, бросился к офицерам. Он хищно спружинился в седле, литые богатырские плечи округлились, бледно и холодно заиграл златоустовский клинок в его руке, поданной сильно вперед, за голову коня. Первый офицер упал без звука, как глиняная пирамида на рубочной полосе. Пока Рыженков разворачивал проскочившего коня, второй офицер успел вытащить из кобуры пистолет. Раздался запоздалый крик, гортанный, испуганный:
— Козакен! Козакен!..
Пересветов направил свою кобылу к ближайшему немцу, взмахнул клинком, нанес удар такой силы, которую в себе и не подозревал. Одобрительно блеснул глазом в сторону студента, «человека тонкой кости», Халдеев. Сзади послышался нарастающий дробный гул — по склону балки разворачивался взвод, искорками вспыхивали на солнце клинки…
Пленные сгрудились, разглядывая победивших, перехитривших их в этом бою одни высокомерно-нагло, другие со страхом, третьи — с недоумением: эти запыленные, безмерно уставшие худые безусые юнцы сумели застать их — опытных воинов, покоривших Европу, — врасплох, вогнали в страх, вынудили бросить оружие… Немцы судили о русских по карманной книжечке-инструкции Гиммлера, в которой говорилось, что русским культура не нужна, а из знаний потребны лишь три вещи: подписать свое имя, таблица умножения (только до 25) и дорожные знаки, чтобы не бросаться под машины.
Бешеный всплеск, вливший в руку Андриана утроенную силу ненависти, опустошил его, и теперь он смотрел на пленных спокойно, но твердо. Пролитая кровь не тревожила Пересветова, слишком четко рисовалось в его памяти увиденное и пережитое — и нахально летающие едва не по голосам крестатые самолеты, и безвестно поглощенный войной отец, и вишневый хуторок в степи, и страшные своей неподвижностью тела там, перед траншеями.
«Видел бы меня в седле Пасынков, бывший конармеец, — накатилась гордость, — он-то знает толк в рубке!»
И Андриан, явно подражая Рыженкову, круговыми движениями освободил правую кисть от кожаного темляка.
Жара бы ничего, но драло горло от сухой пыли, давили плечи ремни; Андриан утешался мыслью — им-то, кто шел здесь восемь веков назад, приходилось совсем тяжко в полупудовых железных кольчугах, с тяжелыми копьями и громоздкими щитами. Он поглядывал то на очередной курган, то жадно всматривался в горячее марево на горизонте, надеясь что-то разглядеть, а потом прикрывал веками побаливающие глаза и гнал, пытался гнать от себя тоскливое предчувствие. Эскадрон углублялся в степь…
Белоголовый орел-могильник, чей профиль как бы венчал высокий курган, при приближении людей нехотя взмахнул крыльями, тяжело взлетел и пошел кругами ввинчиваться в бездонную синеву.
Солнце уже повисло над головой, а уставшие конники все качались в седлах, прижимаясь к обочине, где свечами стояли тополя и была узкая полоска тени слабое, но единственное укрытие от жары и от воздушной опасности. Дорога, помеченная цепочкой древних курганов, вела на юг, к Азовскому морю. За час до этого комэск собрал поредевшие взводы и держал речь, как всегда, отрывистую, но предельно прямую и краткую. Смысл ее был всем понятен: эскадрон много часов в деле; без воды и пищи война не война, однако есть приказ идти вперед, и он будет выполнен. Так как все без меры устали, предлагается в усиленную головную походную заставу пойти только добровольно. Застава захватит выгодный в тактическом отношении рубеж и удержит его. А уж на этом рубеже будет и вода, и кухня туда подойдет, конечно, вместе с основными силами.
И вот второй час качаются в седлах всадники в синих шароварах, курится пыль и ползет под копыта древняя дорога, хлопают по шароварам златоустовские некаленые, торопливой военной работы клиночки, булькает вода в трофейной фляге напившегося вдоволь Отнякина — успел спроворить, бестия, — и пока лошади бредут усталым неторопким шагом, он доброволец, он герой, ему не грех порезвиться на счет смурного Андриана.
— Скажи, студент, как одно из двух будет правильно: статосрат или сратостат? Ага, не знаешь! — И кошки на душе у самого Отнякина будто меньше скребут, а то вызвался идти на неизвестность, а все же трухает. — Многого не знаешь… Вот в нашем селе Великий Сызган, знаешь, какая главная улица? — продолжал ерничать Отнякин, — тоже не знаешь!..
А в больной, контуженной голове истомленного Пересветова — то грозный гул, как будто море бьет берег, то вообще полная путаница и неразбериха; и перед глазами его время от времени вспыхивали и плыли цветные лампочки.
Он с натугой повернулся к Отнякину, увидел длинные белесые лохмы и услышал странные слова:
— Слышь, студент, что такое торный путь, знаешь?
Пересветов оторопело молчал.
— Не знаешь, — удовлетворенно сказал Отнякин… — через реку Тор путь известный, еще прадеды так и называли — торный путь в Тмуторокань, проторенный. Да что ты меня Отнякин все кличешь — Чурило я. А еще ты не знаешь одного… я ухожу, чтобы на белом свете еще пожить.
— Так ты просто трус?
— Сказал — жить хочу. Мало я пальцев загнул, мало девок перепробовал.
— Эх, Отнякин, да ты молодецки держался, а сейчас совсем раскис. А ну, давай без паники! И потом: куда ты уйдешь? Назад? Или сразу расстреляют, или в штрафбат пошлют. Вперед? Половцы тебя, как овцу прирежут.
— Тебе, Андриан, легко говорить, — захныкал Чурило-Отнякин, меняясь на глазах и превращаясь в бойца-кавалериста, — а у меня все ребра, можно сказать, переломаны. Утром, еще перед атакой, закемарил я в окопе, и вдруг чем-то садануло меня в бок. Показать синяк?
Пересветов вспомнил свою стычку с Чурилой и удар прикладом, но не знал, как объясниться.
— Понимаешь, наше наступление переплетено с прошлым. Здесь уже шли конники восемь веков назад! — втолковывал он. — Но половцы от кого-то знали все, готовили ловушку в безводном поле. Вот я и хотел предупредить Игоря о предательстве…
Андриан умолк, об ударе прикладом и о ноже Чурилы он не хотел распространяться, поэтому добавил только одно:
— Мне удалось кое-что уточнить из нашей истории.
Едва он произнес последнее слово, Отнякин снова превратился в Чурилу.
— Что мне до истории! — усмехнулся Чурило. — Да мало ли таких, как я; ухожу, ухожу.
— Нет, Чурило, ты не уйдешь, — Пересветов положил руку на латунную головку шашки и тут увидел перед собой испуганные, круглые, как у тюленя, глаза Отнякина.
— Товарищ старший сержант, — в панике кричал Отнякин, — студент наш спятил совсем: меня Чурилой какой-то обзывает, грозится куда-то не пускать, за шашку хватается! Да у него солнечный удар!
Рыженков на эту ябеду Отнякина сделал рукой знак — мол, не приставай к человеку, потом понимающе взглянул на Андриана, и закончил фразой загадочной, ни к селу, ни к городу:
— Когда ты натянул лук и прицелился, надо стрелу пускать.
Потом добавил уже совершенно другим тоном, махнув вперед рукой, где на фоне неба, на перегибе линии горизонта горбился грузный, оплывший конус большого кургана:
— Высота «девяносто шесть». Там будем держать оборону — за скатом должна быть речка. И коней напоим, и напьемся, и головы остудим.
При виде этого кургана Пересветова охватило волнение. Он подался вперед, впился взглядом в треугольный силуэт и прошептал:
— Чью кровь проливал он рекою? Какие он жег города? И смертью погиб он какою? И в землю опущен когда? Безмолвен курган одинокий… Наездник державный забыт, И тризны в пустыне широкой Никто уж ему не свершит!В то время, когда головная походная застава — сабельный взвод, усиленный двумя противотанковыми ружьями и станковым пулеметом, опоясывал окопами склон кургана на боевой высоте в далекой степи, в московской профессорской квартире близ Арбата прозвенел звонок. На площадке стоял подтянутый командир Красной Армии. Был он с пистолетом и полевой сумкой на ремне, в петлицах по «шпале». То, что открыла незнакомая женщина, несколько обескуражило его.
— Это квартира профессора Пересветова? — осведомился военный, вглядываясь в смутное пятно лица.
— Да мы тут по уплотнению… Вещи все целы — мы их в кабинете замкнули, чтобы дети не попортили…
Женщина замялась, и военный спросил, пытаясь придать «штатские» интонации своему командному лающему голосу:
— Ключи от кабинета у вас? Мне нужно оставить письмо для сына профессора. Он воюет где-то на юге.
— Сейчас; сейчас, — засуетилась женщина, гремя цепочкой, — да вы проходите.
Была открыта тугим ключом дверь кабинета и перед военным предстало тесно заставленное помещение: снесли мебель из других комнат, наспех бросили, как попало. У окна, заклеенного множеством перекрещенных матерчатых полосок, в пыльных столбах потревоженного воздуха, зеленел письменный стол с давно высохшими чернильницами. На столе лежало несколько листов хорошей довоенной глянцевой бумаги, исписанной крупным, с правильным наклоном почерком, какой вырабатывала дореволюционная гимназия.
Военный прочитал на первом листе:
«Еще раз о тайне Каялы (наброски, тезисы и другие материалы для статьи и для сообщения на Ученом Совете).
Война заставила критически пересмотреть многие выработанные ранее исторические концепции, слагавшиеся в другом состоянии общества и в другую эпоху, под влиянием других идеалов… Это относится, в первую голову, к моему раннему труду „Миф о реке Каяле”.
Должен с открытым сердцем — а в такое время нельзя по-другому — признать, что студенты кружка Пасынкова не такие уж бесшабашные незнайки, как это показалось вначале. Разумеется, обвинения лично Пасынкова в конъюнктурности моего исследования я принципиально отвергаю, как отвергал и раньше…»
Прочитав это, он щелкнул пальцами.
Женщина кашлянула. Военный обернулся и сказал:
— Профессор, видно, немало успел сделать перед уходом в ополчение. А этот документ как раз касается меня и моей научной работы. Мне нужно хорошенько ознакомиться с ним.
— Да что же, конечно, читайте, раз нужно, — женщина нерешительно отступила в коридор и прикрыла дверь.
«…ибо конъюнктурность включает сознательное искажение научной истины в угоду господствующему мнению, я же недоисследовал все связи между фактами, кое-чему просто не придал значения.
Кроме того, наукой получены новые данные, в частности, археологического порядка, которые целесообразно вовлечь и в исторический обиход. Все это побудило меня переосмыслить и уточнить некоторые положения моей работы, относящиеся к местонахождению последней битвы игорева войска с половцами.
Указанные корректировки должны, в первую очередь, коснуться вопроса о достоверности основных географических и временных ориентиров этой битвы.
При этом оговорюсь: выстроить стопроцентно непротиворечивую гипотезу и сейчас еще не представляется возможным, так как слишком заметны расхождения в ряде существенных пунктов во всех трех первоисточниках (Ипатьевском и Лаврентьевском летописных списках и собственно „Слове”, а если принять во внимание и вариант Татищева, основанный на еще каком-то неизвестном нам летописном своде, то противоречий будет еще больше).
Следовательно, речь идет о наименее противоречивой гипотезе, наилучшим, наиболее вероятным образом объясняющей эти противоречия, и ни о чем другом.
Итак, первый опорный пункт — море. Ранее я отождествлял море с каким-либо внутренним водоемом — озером или разлившейся в половодье рекой».
Командир, помедлив секунду, мелко, но разборчиво приписал простым карандашом на полях: «Какие такие боевые действия в двенадцатом веке в период половодья? Их и сейчас ведут до или после. Пасынков».
«Нынешнее воззрение на море опирается на иную, как мне представляется, более твердую опору. Упоминания моря как географического ориентира, возле которого следует искать Каялу, действительно, в „Слове о Полку Игореве” многочисленны. Но предстоит упорная работа по анализу этих упоминаний. Цель — отделить символы от действительных, реальных географических объектов. Трудность заключается в том, — что основным художественным методом в двенадцатом веке был символизм».
Рядом немедленно появилась приписка: «Мысль здравая, но тем и отличается „Слово”, что в нем на боянов символический слой наложен слой реалистический: „на реце Каяле у Дону Великого” — разве это символы? „На Синем море у Дону”? А в летописи: „в море истопоша” — это тоже символ? Синее море — Азовское море. Пасынков».
«Что же касается Дона, то следует иметь в виду, что некоторые авторитетные ученые считали и продолжают считать возможным употребление названия „Дон” применительно к Северскому Донцу. Но тогда возникает вопрос: как отличить одну реку от другой? Как объяснить то место в „Слове”, где „Игорь мыслию поля мерит от Великого Дона до малого Донца”? Автор „Слова” четко понимал, где Дон и где Донец.
Внутренний малый водоем морем или степную речку Великим Доном не назовешь. Автор „Слова” восклицает: „Половцы идут от Дона и от моря и от всех стран”, а этот образ представляет море именно как весьма протяженный в географическом смысле объект. Озеро диаметром в один-два километра отождествляться со страной света, конечно, не может.
Совокупность всех этих подробностей весьма существенно подкрепляет версию с перенесением от пограничного Донца битвы к берегам Азовского моря. Конечно, требуются еще исследования, в особенности, археологические.
Второй пункт: где находилась упомянутая в летописи река Сальница? Сальница, по расчету, должна находиться в 3-х кавалерийских переходах от Дона и в одном переходе от места переправы Игоря через Донец. Для проверки мной были просмотрены все летописные сведения, связанные с Сальницей.
В 1111 году Владимир Мономах тоже стоял на Сальнице, имея сведения о том, что половцы накапливают силы на левобережье Дона, на землях „диких” половцев и начали переправу через Дон.
Мономах ждал наступления этих сил всю субботу, воскресенье и какую-то часть понедельника, когда и вступил с ними в бой. Это факт огромной важности. Уж половцы-то имели только конницу. Следовательно, местоположение реки Сальницы должно отвечать одновременно ряду требований:
а) находиться между Северским Донцом и Доном, на направлении основного маршрута, т. е. от устья реки Оскол на Донце на юго-восток (как указано в „Слове” — „Игорь к Дону вои ведет”);
б) быть в одном переходе от района переправы через Донец, ибо на Сальнице произошла встреча Игоря с разведчиками (пока Игорь ждал брата Всеволода с курянами, разведка ушла на половецкую сторону Донца на два перехода; затем Игорь переправился через Донец и сделал один переход, а разведка вернулась к Сальнице;
в) находиться от Дона на расстоянии в два с половиной или три перехода конницы, что следует из анализа боевых действий 1111 года.
Единственная река, удовлетворяющая всем этим требованиям — это Бахмут, правый приток Северского Донца.
Стоит отметить, что слово Бахмут — татарского происхождения (лошадка), но татары здесь появились лишь в тринадцатом веке, во время похода Игоря река такое название носить не могла. В „Книге Большому Чертежу” Сальница отождествлена с Сольницей и показана как правый приток Донца, несколько выше по течению, чем Бахмут, ближе к Изюму.
Но удивительная вещь — Сальница упоминается только в одном или двух экземплярах „Книги Большому Чертежу”, в других дошедших до нас экземплярах издания Книги Сальница попросту не числится. Зачем, спрашивается, было редакторам Книги изымать это название? Логично предположить, что первые, по современной терминологии сигнальные, экземпляры книги были проверены специалистами и ошибочные сведения перед печатанием основного тиража книги изымались. Ведь в Книге указана река Бахмутова, и запись о Сольнице была ошибочной и излишней. В конце концов, именно на Бахмуте, а не в Изюме, имеются огромные, издревле известные запасы каменной соли. Один из поселков на Бахмуте так и называется Соль».
Пасынков тяжело задумался, отодвинув листки и упираясь взглядом в стеклянные кубы пересохших чернильниц, будто в их гранях могли проскользнуть тени минувшего, отшумевшего восемь веков назад. Ему было пора в свой эшелон, что стоял на станции Белорусская-товарная, а он медлил — прошедшее цепко держало его.
Усилием воли Пасынков встряхнулся, отогнал миражи. Решительно отстегнул крышку полевой сумки и извлек ветхий экземпляр «Слова», изданного еще в голодной Москве девятнадцатого года, свое письмо к Андриану и «Полевую книжку командира». Взглянул на «кировские» наручные часы со стальной решеткой вместо стекла. Стрелка показывала три часа дня.
Люди к трем часам дня устали. Рыженков требовал рыть окопы, известна ему была такая военная формула: больше пота — меньше крови. А иной раз кажется, что минута отдыха дороже крови. Вот и думай, командир… Напившись гниловатой теплой воды из узенькой речки, петлей, как арканом, охватившей высоту «96» с трех сторон, конники обмякли. Усталость притупила чувство опасности, да и солнце жгло и томило по-майски. Казалось, тишина и покой ничем и никогда не могут быть нарушены.
— Окопы на каждого — для стрельбы стоя, а между окопами — шут с ним, глубиной шестьдесят сантиметров! Давай, ребята, давай, — настойчиво требовал помкомвзвода, не обращавший никакого внимания на разлитое в природе благоденствие.
Но взвод устал: надежный Халдеев и здоровенный медлительный эскадронный запевала Ангелюк; Отнякин — его щеки, всегда будто натертые морковным соком, побурели и опали; маленький, проворный, как белка, коновод-гитарист Микин; неистощимый сквернослов ростовчанин Гвоздилкин; истребитель танков Касильев, бойцы Шипуля, Серов и мрачный белорус Рогалевич, командир второго отделения; даже перестал толковать о шашлыках, женщинах и горных орлах Георгий Амаяков. Ничто не брало, казалось, только Рыженкова.
Он выбрал позиции для пэтээровцев-противотанкистов на левом фланге, ближе к мостику, для «станкача» — на правом. Лично проследил, чтобы катки пулемета врыли в землю для большей точности стрельбы, проверил, не подтекает ли из кожуха через сальник вода. Рыженков знал свое дело.
Пересветова, кроме усталости, донимали тошнота и головокружение: начинался шум в ушах, назойливый и усиливающийся, потом начинали раскачиваться качели, и земля вставала на дыбы. С лошадьми за курганом остался Микин, а Пересветов копал землю и качался — бросит лопату и встанет, на лопату обопрется — лучше не получалось. Рыженков заметил, сказал:
— Ладно, пойдем на вершину кургана, укажу сектор для наблюдения. Окоп я тебе вырою сам.
На плоской вершине, раздувая широко крылья носа, Рыженков ловил духовитый, настоянный на степных травах ветер, озирался. Он смотрел больше по сторонам и назад, чем в сторону противника. Пересветов же смотрел на ровную, уходящую на нет, перечеркнутую посадками вдоль дорог и убегающую к невидимому морю степь.
— Тихо, хорошо, — сказал Пересветов.
— Тихо — плохо, — отрубил помкомвзода, — хуже быть нет. Где соседи? Где общее наступление? Сильно сбивает на то, что наш эскадрон выскочил вперед один, а взвод — и того далее. Немцы что-то замышляют. В окружение нам сейчас попасть — как два пальца обмочить.
— Еще бы немного, и мы дошли бы до Синего моря, — мечтательно глядя на юг, сказал студент, и перед его глазами плавно качнулась земля — медленно, затем быстрее. Голос Рыженкова возразил что-то, а потом будто удалился и стал протяжнее и мягче.
— Ох, черные тучи с моря идут, — услышал студент. — Веют стрелами…
Пересветов уперся ногой в зачудившую планету, и она, как лодка, выправилась. Он посмотрел на Рыженкова и увидел, что тот в древнем шишаке, том самом, «Игоревом».
Сержант объяснил:
— Ангелюк притащил подивиться — выкопал из кургана. Почистил немного песочком — и вот заблестел. Может, из твоего двенадцатого века. Так ты говоришь, князь Игорь знал, что его поход половцами каким-то случаем расшифрован, и не повернул назад? — Сказав это, он снял шлем и надел фуражку.
Пересветов пожал плечами:
— Когда я это говорил?
— Перед атакой, во время артподготовки. Вроде что-то такое узнал важное. Из головы выскочило?
Пересветов силился вспомнить:
— Артподготовка? Ах да — Игорь, Каяла. В эти края он шел, к морю, к Дону. И до Каялы и после нее собирал он полки, водил упорно сюда, в приазовскую степь. Князь слыл ведь храбрым полководцем, с малым числом удальцов не раз, как говорится, небо штурмовал.
— Ну, добро. Наблюдай. В случае чего — кричи сразу, без размышлений, навскидку. Ориентиры… Первый — перекресток дорог, второй — тригонометрический пункт, третий — отдельное дерево у реки Самбек.
Рыженков ушел. Пересветов огляделся. Коршун высоко над головой делал свои упорные круги, широко разбросав трепаные ветрами крылья. Курганы зелеными горбами стояли почти на одной, слегка изогнутой линии, вдоль древнего шляха. Ориентиры — первый, второй, третий. Мостик. Речка, петлей аркана захлестнувшая горло высоты «9б». Зеленая с голубым небесным отливом трава да кое-где прошлогодние серые островки жухлого бурьяна — больше ничего не видел наблюдатель. Никаких следов столетий, что прошумели дождями, просвистели ветрами над осевшими вершинами. Здесь все как было когда-то, так и осталось. Тихо в степи, только негромко звякали внизу лопаты и поскрипывал перемешанный с галькой песок…
Но вот закурился желтенький, вихляющий штопором пыли на шляхе, загудели моторами и на земле и на небе.
— Ориентир три, левее один палец — танки! Воздух! — закричал Пересветов, ощупывая подсумки с нерасстрелянными еще патронами.
Черные зудящие мухи, вначале будто приклеенные невысоко над степью, быстро оперялись, обрастали крыльями, хвостами и крестами. От головного отделилась черная капелька, переломилась в полете книзу, стала точкой.
Звериный древний инстинкт ошпарил, как кипятком, поднял Пересветова в переброс и через секунду, не помня как, он оказался уже внизу, в окопе. Секундой спустя тяжелая фугаска впилась в самую вершину кургана, легко прошила его насквозь и там, в погребальной камере, обратилась в разжимающий газовый кулак.
Газ вывернул внутренности кургана, выбрасывая на головы бойцов землю, остатки доспехов, кости, черепа и ржавые убогие железки — то, чем люди воевали сотни, а может, и тысячи лет назад.
Останки древних воинов с их оружием усеяли траву, а в глубине, в толще образовавшейся насыпи оказался станковый пулемет вместе с расчетом.
Тем временем пылящие по шляху и хорошо видимые издали танки приближались. Сколько их, Пересветов не мог сосчитать, он видел только две первых машины, остальные закрыло белесое, с желтыми подпалинами, облако пыли.
К Пересветову взбежал Рыженков, рявкнул:
— Что сзади?! Где эскадрон?!
— Стрельба там. В лощине сзади, откуда мы пришли. А так никого не видно.
— Та-а-ак, — Рыженков сосредоточенно посмотрел на мост. — Речка хоть и хилая, по колено воробью, а бережок-то для танков крутоват. Если подойдут наши и будем наступать, а мост я уничтожу, меня со шпорами съедят, карачун сделают. А если, слышь, Пересветов, мост оставлю и немецкие танки по нему проскочат, меня объявят — знаешь кем? Вот елки-палки!
— Танки в километре, — напомнил Пересветов, — через две минуты они подойдут к мосту. Надо решать.
Рыженков оглянулся. Из лощины, в которой продолжалась стрельба, выскочил всадник на гнедом коне и широким полевым галопом направился прямо к высоте. Скорее всего, это был связной с каким-то приказом. Но и ему было скакать до кургана не меньше двух минут. Медлить уже не приходилось.
— А, черт! — оскалился Рыженков, приподнимаясь из воронки и выкатывая глаза, заорал во всю мочь. — Противник с фронта, взвод, к бою-ю! Амаяков, Шипуля, взять бутылки, поджечь мост!
Две пригнувшиеся фигуры на левом фланге, что был ближе к мосту, вынырнули из окопа и скользнули к мосту. Танки были уже в шестистах метрах, пригнувшиеся фигуры их них заметили. Сухо простучал пулемет раз и другой, а в третий раз под стук выстрелов запнулась на полушаге одна фигура, сломалась, блеснул огонек, и змейками пополз неярко горящий на солнце бензин.
— Бронебойщики, огонь! — скомандовал Рыженков. Дегтяревские ружья калибра четырнадцать с половиной миллиметров не могли, конечно, пробить на таком расстоянии лобовую броню танка, и это понимал Рыженков, но нужно было отвлечь внимание от моста. Стеганул выстрел, трава перед стволом ружья пригнулась, разбежалась волнами, а бронебойщика отшвырнуло назад.
Красная трасса зарылась в землю. Но другая уперлась в башню головного танка, и пуля, не взяв брони, ушла вверх. Сзади, бросив своего гнедого коня у коноводов внизу, забрался на курган рядовой Дубак.
— Эскадрон атакуют немцы — с фланга вывернулись и ударили гады, — захрипел он, — да там половина нас после бомбежки осталась: комэск тяжело ранен, старшину вместе с кухней накрыло. За мной один увязался самолет, гонял по степи — чуть коню на уши не пикировал. Короче — приказано передать: держать высоту до последнего, иначе всему эскадрону каюк…
Когда боевая высота «96» в приазовской широкой степи, занятая 4-м сабельным взводом, подернулась дымом и опоясалась бледными точечками выстрелов, в Москве в профессорском кабинете капитан Пасынков дочитывал заметки, оставленные хозяином на письменном столе.
«О масштабе события, послужившего толчком к созданию „Слова”. Конечно, поход Игоря — не эпохальное военное событие. Но для того отрезка времени, для середины 80-х годов двенадцатого столетия, оно было выдающимся и оставило глубокий след в сознании современников. Об этом говорит и то внимание, которое уделили походу летописцы, и довольно тяжелые для южных княжеств последствия поражения Игоря и, наконец, сам факт создания великой поэмы (сегодня слушал по радио „Варяга” и живо вспомнил потрясение, испытанное русским обществом при известии о гибели эскадры в Цусимском проливе и о подвиге моряков крейсера. Это был урок огромной силы).
Таким образом, нет оснований для представления похода Игоря, как грандиозной военной акции. Но и позицию унижения военной основы „Слова” отныне я не разделяю».
Пасынков отодвинул листки. Его взгляд упал на лежащий рядом с чернильным прибором запылившийся шахматный журнал, из которого высовывался уголок почтового конверта. Капитан раскрыл журнал на партии «Атакинский против Диффендарова» и увидел, что письмо без адреса. На нем стояло только «Андриану Пересветову».
К этому письму Пасынков присоединил свое, еще в поезде написанное, и сам торопливо и размашисто начал строчить:
«Глубокопочитаемый Владимир Андрианович, не обессудьте, так сложилось, что я ознакомился с тезисами Вашей статьи. Не могу передать, как я рад, что туман олимпийской недоступности, которым была окутана система взглядов на „Слово”, рассеивается и начинается живой обмен мнениями, гипотезами.
Настало время проверить целый ряд научных положений, поэтому хочу использовать возможность заочного общения с Вами и изложить кое-какие соображения по военной стороне „Слова”. В моем распоряжении не более получаса, но я обязан попытаться сделать это, ибо еду на фронт, а война есть война. Но что бы ни случилось со мной, с Вами, с Андрианом — будут развиваться исторические науки, и найдутся новые пытливые люди, которым будет дорого то же, что дорого нам и любимо нами.
Что мне удалось уточнить?
Первое: князь Игорь со своей частью войска мог ожидать брата Всеволода на Осколе только в течение 30 апреля и первой половины дня 1 мая, но никак не позже. В этом и состояла ошибка летописца (или точнее, того, кто рассказывал летописцу о походе), он торопился рассказать о солнечном затмении, как провозвестнике несчастья. (Кстати, в „Слове” небесное затмение отнесено вообще к началу похода, так потрясен был автор, так торопился он рассказать об этом!) Добавлю: сомнительно, чтобы Игорь мог решить возникший в связи с затмением вопрос о прекращении похода до личной встречи с братом и до объединения всех войск.
Значит, 30 апреля Игорь сделал дневку у устья Оскола, а покинул он Новгород-Северский 23 числа, во вторник, на второй день после Пасхи. Войско его должно было пройти за 7 суток 482 км, т. е. в среднем по 68 км за переход. Этот темп выше, чем, скажем, Мстислава в 1168 г. (9 дней по 55 км), но следует иметь в виду, что точное датирование начала похода вряд ли возможно, если учесть, что Игорь собирал свое войско не в одном пункте, враз, а постепенно, в ходе движения.
Ручейками стягивались отряды и отрядики, и целые полки примыкали к игореву стягу: шли из разных мест, разными путями; и в полном составе войско собралось только у Северского Донца. Игорь шел, „ожидаяся с войски”. Но если разные маршруты, разные расстояния, — кому ближе, кому дальше, — значит, не было общего, так сказать единовременного для всех частей войска старта, не было и единой для начала похода даты. Не могло быть. В подтверждение сошлюсь на Татищева, который указал начало похода не 23, а 13 апреля. Это, возможно, и не ошибка: могут быть верными обе даты, названные разными участниками похода летописцам.
Вернемся на Сальницу, т. е. в район современного Артемовска, куда Игорь мог выйти утром 2 мая. После дневного отдыха за вечер 2 мая, ночь и утро 3 мая: Игорь, двигаясь к Дону форсированно, как того требовала обострившаяся обстановка (доклад разведки), мог пройти до 80 км из расчета 7–7,5 км за час движения. Поэтому реку Сюурли следует отождествлять с одним из притоков Миуса либо Тузлова.
Преследование разбитого на Сюурли в пятницу, 3 мая, противника, продолжалось до темноты.
Передовые отряды, пройдя в преследовании 80–90 км, могли и „испита шеломом Дону”, достигнув берега его западной протоки — Мертвого Донца и „начали мосты мостити по болотам и грязливым местам”. Болота есть и сейчас именно там, в дельте Дона.
Основное ядро войска с Игорем во главе двигалось медленнее, чем увлекшиеся преследованием пылкие молодые князья. Ночлег рати с пятницы на субботу должен был состояться в поле в 25–30 км к северу от места впадения Мертвого Донца в Азовское море.
Эта ночь прошла тревожно — в ходе боя выяснилось, что на подходе свежие, неожиданно многочисленные силы половцев. Теперь уже о продолжении похода за Дон не было.
Обстановка диктовала: немедленно, используя ночь, отходить назад, что позволило бы избежать окружения. Это и предложил Игорь на совете князей и военачальников. Но те переутомленные полки, которые в длительном преследовании и при возвращении к стану совершенно измотали людей, и лошадей, двигаться без отдыха просто не могли. Как сказал один из князей, в этом случае полки останутся на дороге.
И утром Игорю пришлось спешить все войско, чтобы пробиваться через кольцо вражеского окружения. Князь не хотел, чтобы прорвались именно его полки, не участвовавшие накануне в преследовании, и не ушли на свежих конях, бросив остальных на произвол судьбы. Пусть все сражаются в равных условиях, честь превыше всего.
В пешем строю, отбивая наскоки половцев и атакуя заслоны, пробивались русские на северо-запад, к Северскому Донцу. Вряд ли за день такого движения в боевых порядках могло быть пройдено более трети обычного перехода пехоты в колоннах. Возможно, 12–16 км.
Ночь застала уставшую и поредевшую рать в безводной местности. Было принято решение продолжать это движение с боем и ночью — не ложиться же спать в окружении под половецкими стрелами. Плохо было без воды — до ближайших рек по основной, „торной”, дороге оставалось не менее 40–50 км, недостаток воды остро давал себя знать.
Гораздо ближе была Каяла; теперь стояла задача пробиться к какой-либо воде. Половцы понимали это не хуже и усилили сопротивление.
Вряд ли за ночь в такой обстановке (три форсированных перехода и более полутора суток почти непрерывного боя за плечами — и богатырь начнет сдавать) могло быть пройдено больше 10 км. Они еще будут биться более полусуток — до тех пор, пока плечо еще дает силу удара мечом, пока еще поддается руке тугой лук.
Тактика половцев, как и всегда, состояла в том, чтобы, препятствуя движению русского войска, как можно дольше продержать его в безводной степи, изматывая беспрерывными наскоками и засыпая стрелами. Это была тактика стаи степных волков, излюбленная и испытанная.
Картографируя места находок наконечников стрел и копий XII века, я убедился в том, что плотность находок выше именно на вышеописанном маршруте, т. е. археология подтверждает нашу версию или, лучше сказать, не противоречит ей.
Где же искать Каялу? Летописец не дает ее характеристик, зато в „Слове” река названа „быстрой… половецкой”, текущей „ку Дону Великого”.
В предполагаемом месте гибели русских полков, в 20–25 км восточнее Матвеева Кургана, находится верховье речки с современным названием Самбек, текущей отсюда на юг и впадающей в море. Название это позднего, турецкого происхождения; в XII веке речка так не могла называться. В Книге Большому Чертежу гуртом названы реки „Калы”, впадающие в Азовское море. Близко к „Калам” текут Кальчик, Кагальник, Кальминус, Калка. Каяла явно вписывается в этот звукоряд. Итак, Самбек-Каяла?
Гипотеза еще сыровата, хорошо бы ее обкатать перед Советом. Там, в степи, нужно обследовать курганы…»
Последние слова Пасынков писал стоя; почти бегом бросился из квартиры на улицу, миновал перекресток, откуда долетел до метро и вместе с народом всосался в каменную воронку входа.
Вскорости два паровоза с воем вынесли номерной воинский эшелон со станции Белорусская-товарная. Пасынков стоял в открытом дверном проеме, опираясь за закладочный брус, и взглядом прощался с Москвой.
Один танк горел в степи на дороге, второй чадил у берега речки — его поймали бронебойщики в момент, когда он пытался найти место для спуска и переправы вброд. Еще немного дымилось то место, где упал и сгорел Шипуля. Догорал мост, подожженный тогда же, в начале боя, Амаяковым. Сам Амаяков, раненый в живот, стойко, почти без стонов, как полагается человеку чести, доживал последние минуты в разбитом, развороченном, затянутом гарью и пылью окопе, который воронки превратили в цепочку ям неправильной формы.
Пять танков, подойдя к обрыву над рекой, методично, выстрел за выстрелом, разбивали позицию взвода из пушек. Уже засыпаны были оба противотанковых ружья, лежал убитый пулей в голову запевала Ангелюк, уткнувшись в расщепленный приклад своего пулемета; умер от ран Касильков; убиты Серов, Дубак и Рогалевич.
Дважды в этот день контуженный и иссеченный множеством мелких осколков, истекал кровью на дне воронки наспех перевязанный Пересветов, и не было никакой возможности отправить его в тыл: кругом шел бой, и лошади за курганом частью были перебиты, частью в безумии разбежались.
Бесхозно валялась на вытоптанной копытами земле гитара Микина, ее оборванная струна дрожала и звенела при каждом выстреле.
На южном склоне еще сражались. Наконечник половецкой стрелы с остатком древка, взвитый вместе с курганной землей очередным немецким снарядом, впился в левую руку помкомвзвода повыше локтя. Ругаясь, вырывал и вытягивал Рыженков из кармана шаровар прорезиненный, похожий на большую пельменю пакет, искал нитку. Найдя, разрезал ею пакетную обертку надвое, щепотью испачканных землей и гарью пальцев взял тампон и унимал кровь от немецко-половецкого подарка.
Пересветов просил пить, но где там — немцы держали под прицелом все подходы к воде. Оставшиеся в живых защитники высоты «96» немцев к воде тоже не подпускали, не давали им сделать пологий съезд для танков рядом с мостом. Едва фашисты поднимались в рост и пытались сделать свое дело, хлопала снайперская Халдеева, и тот сам себе со злобной радостью говорил:
— Еще один! И еще покажем, как бьют с оптико-механического Ленинградского.
Стреляли Рыженков и Отнякин.
Пересветов лежал на спине, смотрел на дымное небо непонимающими глазами, временами вел странные речи, поднимал руку, на что-то показывал:
— Вот идет старик… он просит помочь… снять кушак… и надеть тулуп… ему холодно… холодно… вот, дотянулся до месяца, а он рассыпался, превратился в петуха, из серебра кованого…
Отнякин, весь в пыли, с закопченным лицом, отбросил карабин с открытым затвором, присел на землю и повел кругом злым и затравленным взглядом:
— Все, отстрелялся.
Со стороны речки, на которой были немцы, блеснул жестяной мегафонный раструб, донеслось по-русски, и чисто, без всякого акцента:
— Эй, на кургане! Братва, кончай дурака валять и сдавайся! Вас не тронут, будут вода и жратва! Вот я сдался — и жив!
Рыженков выстрелил в голос навскидку и не попал. Голос на той стороне построжал:
— Эй, кончай шухарить! Даю две минуты!
Выждав две минуты, голос сказал утвердительно:
— Сдаетесь, значит.
Прямо напротив кургана, сбоку от танка вырезалась фигура в красноармейской гимнастерке. Солнце поблескивало на жестяной трубе. Немцы не показывались — ждали, что будет.
— Халдеев!
— У меня один патрон остался, а у Пересветова я уже смотрел — он все расстрелял… Жалко на эту шкуру патрона тратить. Я лучше немца, — повернулся Халдеев к помкомвзвода.
— Значит, все ребята, кто честно… здесь лежат, а он будет на солнце смотреть? — задыхаясь говорил Рыженков. — Бей!
Халдеев повел оптикой, и в круглом зрачке, где сходились три нити — две тонких горизонтальных и вертикальная заостренная, появилась фигура в застиранной, выбеленной гимнастерке. Халдеев вывел заостренный пенек к левому нагрудному карману и нажал на спуск. В ответ на выстрел прилетел снаряд, тупо ударился в бруствер, взвизгнули осколки. Отнякин вытянулся, сполз по стенке. Халдеев охнул и сел на дно окопа. Его глаза были забиты землей, лицо иссечено камешками, он начал руками протирать глаза.
Взрыв будто вывел из шока Пересветова, он приподнял голову, посмотрел осмысленно:
— Вам нужно уходить, — слабым голосом сказал он, — нужно, товарищ… вы один знаете… ну, что я говорил… про Игоря. Это важно…
— Бредит, — протерев кое-как один глаз, сказал Халдеев.
— Идите, пробивайтесь…
Кавалеристы решили, что Пересветов умер, но он открыл снова глаза широко, и странность была в них, он в упор посмотрел на Рыженкова:
— Зачем сняли шлем? Наденьте, наденьте!
Рыженков невольно уступил настойчивому взгляду: поднял валяющийся рядом старинный шишак.
— Он еще утром контужен был, — как бы извиняясь перед Халдеевым, сказал Рыженков, — все ему двенадцатый век мерещится, князь Игорь… А каска и впрямь будто по мне кована.
Пересветов увидел помкомвзвода в шишаке и улыбнулся.
— Вижу, вижу, — прошептал он.
Взгляд померк. Потом глаза начали леденеть, а улыбка осталась. И остался еще отпечаток какой-то таинственной, преходящей мысли…
Немецкий снаряд ударил в бруствер, пласт земли отвалился и древний курган принял в свои недра Пересветова.
Из-за речки донесся рев моторов и перестук танковых гусениц.
— Пойдем, — сказал Рыженков, отряхивая землю, которой его обдало при взрыве, но Халдеев не откликнулся: уронил голову на плечо, из полуоткрытого рта бежала струйка темной крови.
Старший сержант выглянул: головной танк медленно сползал к речке, переваливаясь через наспех сделанный в обрыве съезд.
Хуже того — отделение немцев обошло левый фланг позиции и, переговариваясь, поднималось теперь к кургану. Солдаты заметили последнего защитника высоты и шли прямо к нему.
Рыженков выскочил из воронки как был в шлеме. Немцы увидели и загоготали. Они не торопились пустить в ход оружие.
— Рус, сдавайс! — крикнул один из них.
— Сейчас, — пробормотал Рыженков и скачками кинулся в сторону — туда, где в изгибе речного русла пластался черный дым.
Сзади выстрелили. Пуля цвиркнула косо по шлему, но старое железо выдержало. Пуля ожгла плечо, еще были выстрелы, но Рыженков уже бежал в дыму, огибая трупы лошадей, нелепых в непривычной для глаза неподвижности. Караковая кобыла подняла голову, полными муки глазами моля о помощи. Лежал рядом с лошадью Микин, на руки намотав повода. Рыженков остановился посмотреть — убит Микин или только ранен, и увидел, что коновод мертв. Тут в плечо его сильно толкнуло, он обернулся и увидел своего солового, волочащего по земле повод.
В бешеном беге и грохоте копыт промчалось по задымленной степи видение — всадник в высоком шлеме. Подвернулся на дороге немецкий солдат, поднял было автомат, стрекотнул, и тут же коротко и зло вспыхнуло солнце на клинке, солдат сложился и упал, а конь скоро растаял в размытой дымами дали, унося своего необыкновенного всадника.
Людмила Козинец Я иду!
Я — вакеро[3]. Понимаю, рекомендация сомнительная, но что же делать, другой нет. И дед мой, и отец были вакеро. Но посчитали бы зубы любому, кто посмел бы назвать их так. А мне все равно. Пусть — вакеро! И никем иным я быть не могу. Не по мне это — солидный офис, баранка грузовика, сияющие стеллажи маркета. Изо дня в день одно и то же: жалкий никель в кармане, змеиные глаза босса, телефоны, бумаги, клиенты… И лихорадочная, палящая жажда, разогретая фильмами и лаковыми, блестящими обложками журналов. Там недоступные женщины в мехах и бриллиантах, столетние вина, длинные перламутровые автомобили, лошади, яхты, виллы. Но больше всего я ненавижу сухие, презрительно сжатые рты швейцаров в тех заведениях, куда меня не пускают.
Ладно! У меня сейчас нет лошадей и яхты. И не про меня пока что клубные кабаки. Но у меня есть то, что им всем только снится: свобода. Я сам себе шеф, босс и бог. Пусть я знаю, какого цвета пасть смерти, будет еще мое время. И пусть я подыхаю от жажды в буше, от голода в пампе, от страха в сельве. Никто этого не видит и не знает. Но с каким скандалом меня брал Интерпол в Париже — это же приятно вспомнить…
И как сильно нас презирают. Как клеймят нас газеты, как вынюхивают наши следы ищейки, как точат на нас шанцевый инструмент археологи! Я уж не говорю об этих болтунах из ЮНЕСКО… Даже очередная клиентка, вцепившись в золото ацтекских принцесс, отслюнивает зелененькую «капусту», а после шипит в спину: «Гробокопатели, пожиратели падали…»
Все мы одиночки. Свой шанс делить ни с кем не хочется, а смертью и рад бы поделиться, да смерть — только твоя. Весь мир против вакеро. И даже потусторонние силы. Наслушался я о духах древних склепов, о болезнях, таящихся в фараоновых пирамидах, о призраках заброшенных могильников. Я знаю: все, кто коснулся золотого орла вождей майя, погибли смертью скорой и необъяснимой. Но знаю и другое: если вакеро гибнет, то виноват он сам.
Собери тело и нервы, тщательно проверь оружие и аптечку, смотри куда ступаешь, ничего не трогай голыми руками, не пей на тропе и молчи. Во сне, в бреду, в хмелю — молчи! Куда идешь, откуда, что видел и слышал — молчи! И главное — умей ждать.
Мой дед погиб, придавленный базальтовой глыбой в лабиринте пещер, — поторопился, не разведал путь. Мой отец не успел вовремя убраться с дороги мафии — надо успевать.
Мне пока везет. И в большей степени потому, что я умею прикинуться простачком. Слава богу, никто из наших не знает, что я успел отмучиться четыре семестра в колледже. Тихоня Тим — так меня называют. Очень хорошо. Я тихо выжду, потом тихо смоюсь от конкурентов, от полиции, от черта, от дьявола. Я пройду сквозь сельву так, что ни одна птица не проснется, проползу по горной тропе, камня не уронив. Я хожу по восемь—десять миль в час, я умею спать в полглаза и есть в полрта. И кто-то крепко за меня молится — эй, уж не ты ли, Рыжик?
Придет еще мое время. Выкупаю Рыжика в шампанском. Вот визгу будет!
Остался еще один переход. Два сухаря, горстка кофе, соль, сахар, спички, прогорклый бекон. Дойду. Плохо, что утопил в строптивой речушке аптечку — теперь придется поберечься. Самое паршивое — змеи. Здешние гады имеют скверную привычку сваливаться прямо за шиворот. Но лучше об этом не думать и не прислушиваться к ночным голосам и шорохам сельвы. Подбросить веток в огонь и уповать на то, что костер отпугнет коварных «тигрес», что коралловая змея обминет мой ночлег.
Тоскливая ночь. В такую ночь лучше всего вспоминать что-нибудь хорошее, но кажется мне сегодня, будто ничего хорошего в моей жизни не было.
Ну, ну, Тихоня Тим! Встряхнись, старина! Припомни, как посыпались лалы и бирюза, когда ты пнул ногой невзрачный горшок в сыром подвале заброшенного индийского храма! Цена этим камушкам оказалась грош, но какое было зрелище! Припомни зеленоватый блеск древнего золота Боливии, звонкое серебро Мексики, белых нефритовых рыб Китая! А сейчас я пустой. Даже хуже, чем пустой, — долги. И сезон кончился. Значит полгода нищей жизни, если не подвернется что-нибудь. Что ж, не привыкать. Думай, думай, Тихоня Тим. Смотри в глаза ночи и думай.
Ну, вот и все. Вот здесь, под этим деревом, истлеют мои кости, если звери не растащат их. Третий день треплет жестокая лихорадка. Идти не могу. Конец Тихоне Тиму. Я всегда знал, что умру в дороге, глупо и неожиданно. Жаль, так и не удалось подержать в руках настоящую большую удачу. Я ведь не жадный, немного и просил у судьбы… Подлая баба!.. Что это? Что это? Опустилось небо, опрокинулось чашей и хлынуло дымящейся молочной струёй. Горячее молоко… Я машинально глотал его, еще не видя ничего вокруг себя. Наконец различил над головой аккуратные швы крытой листьями кровли и провалился в темноту.
Очнулся я в звенящей тишине. Был так слаб, что не мог поднять голову. Лежал, собираясь с мыслями, пытаясь попеть, где я нахожусь. Мысли расползлись, как муравьи. Прилетела откуда-то песенка на незнакомом языке. Пела женщина. Голосок был тоненький, задыхающийся, бьющиеся в непривычном ломаном ритме. Я слушал песенку и шарил глазами вокруг.
Я лежал в гамаке, набитом душистой травой и плохо выделанными шкурами. Ребрами я чувствовал крупные ячейки гамака. Надо мною была лиственная кровля, по которой стучали редкие капли дождя. В полумраке хижины различил груду корзин, какие-то горшки, ручную мельницу и подумал с облегчением: «Индейцы подобрали…»
А потом на меня снова навалился бред, горячий и красный. Открыв глаза, цепляясь за свет последними остатками сознания, я увидел, как склонилась надо мною женщина, как пролились с ее плеч волосы цветы корицы и прохладой своей удержали меня на краю забытья. Я спрашивал, больно сжимая ее тонкие запястья, не замечая, что ракушечный браслет впивается в тугую шелковистую кожу: «Кто ты, кто ты, кто ты?..»
Она ответила, щебетнула, как птица. Не понимаю! Она повторяла эту же, судя по интонации, фразу на другом языке. Не понимаю… Наконец я узнал одно местное наречие. Она говорила на нем плохо, я еще хуже. Отчаявшись, она сказала:
«Я позову Отца».
И я провалился в небытие, успев удивиться ракушечному браслету на ее руке. Ракушечный — так далеко от океана.
Я бредил. Спал. Бредил. Спал. Лихорадка истрепала меня вконец. Часто прохладная рука женщины осторожно поднимала мою голову, у рта появлялась чаша с коричневым тяжелым напитком. Я покорно глотал отвар, угадывая в нем неизбывно горький вкус хины.
И пришел день, когда я понял, что выкарабкался. Кажется, поживем еще, Тихоня Тим?
Выполз я на солнышко, постоял, унимая дрожь в коленях. А потом сел и блаженно закрыл глаза. А ведь и вправду выкарабкался. Судя по тому, что зверски хочется курить. И — еще бы рюмку виски, нет, лучше джину. Рот заполнился слюной, когда я представил себе смолистый можжевеловый аромат и острую прохладу лимона. Немножко сахару и лед… Дьявол! Я открыл глаза. Напротив меня сидели мои спасители — индейцы, человек пять. Мой взгляд невольно задержался на лице одного из них: теплой тьмой мерцали на нем большие добрые глаза. Они смотрели прямо в душу, взвешивая и оценивая. Мне стало жутко, захотелось взъерошиться. Я вдруг ощутил себя собакой, которая вынуждена отступать перед твердым взглядом, поджав хвост и припадая к земле, но все же ворча и огрызаясь.
Человек этот был стар и блистательно сед. И бесстрастным было его удлиненное, изрезанное обильными морщинами лицо.
И уловил я атмосферу глубокой почтительности вокруг этого человека. Один из индейцев обратился к нему: «Отец…»
Он оборвал фразу движением руки и продолжал рассматривать меня. Затем спросил на плохом английском:
— Что нужно белому человеку?
Я растерялся.
— Мне… ничего не нужно. Я не к вам шел, как попал сюда — не знаю. Где я?
— Тебя нашли мои люди. Ты болел. Совсем плохо.
— Мне и сейчас не лучше. Доктор тут есть где-нибудь поблизости?
— Доктор нет. Доктор не нужно. Говори — что нужно?
Я засмеялся. Вопросик! Что нужно! Так спрашивает, будто предложит сейчас на ладони все, что мне пожелаете.
— Эх, Отец, мне б сейчас стаканчик джина и «Данхилл».
— Что есть: стаканчик джина и «Данхилл»?
А серьезен-то как! Что ж мне, рассказывать ему, как выглядит джин и сигареты?
Старик укоризненно покачал головой и вразумляюще, будто уговаривая ребенка, сказал:
— Какой! Не говори — думай, думай… Какой — большой, маленький, железный, горький… Какой? Думай!
Я утомленно закрыл глаза. Из пепельной тьмы вдруг выплыла плоская красная с золотом коробка «Данхилла» и четырехгранная бутылка, на этикетке которой красовался важный бифитер.
Потом я уловил какое-то новое ощущение: что-то изменилось, я будто почувствовал тяжесть в руках. Расцепив веки. Я держал в руках привидевшуюся мне бутылку и коробку сигарет!
Я отвинтил пробку, даже не успев осмыслить всю дикость появления желанных предметов здесь, в сердце непроходимого леса. Когда я хватил добрый глоток джина и на мгновение задохнулся, индейцы сдержанно заулыбались, поглядывая на невозмутимого старика с любовной гордостью.
А старик оставался спокойным, и в этом спокойствии почудилось неземное величие. Я ничего не спросил: не знал, как спросить.
Они ушли. А я долго сидел, прихлебывая джин, затягиваясь сигаретой, бездумно глядя в небо, в ненавистную сельву.
Я не запаниковал. Я просто не поверил. Сработало жесткое правило: не торопиться. Не торопись, Тихоня Тим. Выздоравливай. А там разберемся в этих индейских фокусах.
Индейцы обходились со мной жалостливо. Разговаривать мы не могли, но часто кто-либо приходил ко мне, садился рядом, улыбался и кивал, угощая фруктами и орехами. Лучшую рыбу тащили они моей хозяйке, лучшие куски редкой добычи. Мне все они казались на одно лицо, их варварские имена я вообще не пытался запомнить. Откровенно говоря, я уже мог бы и уйти — по моим расчетам до большей реки около сотни миль, на реке же всегда есть люди. Но меня держала тайна старика.
Помог случай. У моей хозяйки кончилась соль. Она грустно повертела в руках красный горшок, в котором обычно хранилась соль, и побежала к соседке. Как я понял, соседка ей ничем помочь не смогла. После долгих и шумных совещаний пять-шесть женщин, прихватив посудины, потопали гуськом туда, где высился странно безлесный для этих мест холм. Почему-то обмирая, я пополз за ними. Женщины шли весело, болтая и смеясь.
Они остановились у подошвы холма, трижды поклонились черному отверстию пещеры и запели забавную песенку.
Из пещеры вышел Отец. После небольшой суматохи и уважительных приветствий старик уселся на землю. Перед ним полукругом расположились женщины. Все группа замерла на минуту. Потом женщины подхватили заметно потяжелевшие горшки, поклонялись старику и двинулись в обратный путь. Я заполз поглубже в кусты. Женщины прошли мимо, и я разглядел в горшках насыпанную горкой крупную, чистую, розоватую соль.
А если я захочу луну с неба!
Неделю я ломился сквозь языковой барьер. Но и проломившись, выяснил немного. Кто этот старик? — Отец. — Чей? — Всех. — Как он делает свои чудеса? — Не знаем. — Он может сделать все? — Нет. Только вещь. — Какую? — Любую. — А если он не видел ее никогда? — Надо, чтобы видел тот, кто хочет вещь. — Старик всем девает нужные вещи? — Да. Почему он не сделал вам много денег, золота, ружей, виски? — Нам это не нужно. — Откуда он взялся, Отец? — Раньше был другой Отец. Потом умер. Стал этот. — Как стал? — Старый Отец научил нового. — Научил?! Да. — Он и меня может научить? — Нет. — Почему? — Ты не будешь Отцом. Ты уйдешь. Ты чужой. — Зачем же ты делаешь острогу, попроси Отца, — он даст новую и лучшую. — Стыдно лениться.
О! Вот он, мой шанс. Я должен заставить старика научить меня. Он как дитя. Обмануть, запугать его — легко. А ух тогда… И перед моим взором выросли штабели маслянисто блестящих слитков золота, завертелась рулетка Монте-Карло, улыбнулась мне Мей Лу — суперзвезда экрана… Я вонзал ногти в ладони и стал лихорадочно умолять себя не торопиться.
Я месяц просидел в этой деревушке. Месяц меня жрали все насекомые сельвы, а я, соответственно, жрал их — трудно даже представить себе, сколько всякой ползучей и летучей гадости сваливается в горшки, пока варится пища!
Я месяц мылся без мыла и весь зарос, пока сообразил попросить у старика все, что мне нужно. И я получил лезвия «Жиллет» и мыло «Поцелуй Мерилин». Старик сотворил бы для меня и груду золота, да только как я ее потащу? И потом, мне нужна не просто груда…
Меня замучали кошмарные сны. И когда я понял, что схожу с ума, я снова пошел к старику.
Он сидел у костра, грея над углями сухие руки, обтянутые пергаментной кожей. Рядом неслышно суетился юноша лет восемнадцати — будущий преемник Отца, как я узнал в деревне.
Я сел напротив, закурил длинную плоскую сигару — тоже подарок Отца. Я видел такие однажды, когда толкал одному нефтяному шейху кое-какую мелочь из раскопок Междуречья. Дымок липкими голубыми лентами поплыл к вершинам деревьев. Он пах, как дорогие духи, и этот запах вызвал во мне припадок злобы и радужные видения: Париж, Гавайи, Рио… Я с трудом взял себя в руки. И повел долгую беседу.
Старик бесил меня своей прямотой, откровенностью, примитивным уровнем изложения. Ведь не может быть, чтобы это оказалось так просто! И не может быть, чтобы мне, чужому человеку, вот так запросто взяли и рассказали все? Разумом я понимал, что старик не лжет, но в душе не мог поверить ни единому его слову. Это надо быть идиотом, чтобы поверить!
Вот что он мне рассказал. Отец был в племени всегда. Он делал все, что просили люди. Просили же немного: соль, иногда железные наконечники для остроги, простые украшения. Не так давно кто-то побывал в гостях у соседнего племени и попробовал там сахар. Теперь просят и сахар. Племя живет уединенно, добывает себе все необходимое, а в большем нужды не испытывает. Отца же просят только тогда, когда чего-то не могут сделать сами или когда нужно очень быстро сделать. Вот в прошлом году горела сельва. Погибли растения, из которых делают веревки, сети. Тогда попросили Отца. Он дал.
Я был готов выть и грызть землю. Какая несправедливость — удивительный, фантастический дар попал к дикарям, которые и распорядиться им толком не умеют!
Я осторожно приступил к самому главному. И опять старик понес какую-то чушь. Он сказал, что научить этому нельзя. Дар можно получить от прежнего Отца. И самому стать Отцом. Прежний тогда умирает. О господи! Какое мне дело до прежних? Как получить?! Старик прижал длинным пальцем беспокойную жилку на своей шее:
— Нужно разрезать здесь и пить. Пить кровь. Пока прежний Отец не умрет. С его кровью получишь знание.
И все? Так почему ты до сих пор жив, старая обезьяна? Я покосился на будущего преемника, щуплого, темнокожего, придерживая мысли и дыхание. Чего ж ты ждешь, парень?
Старик пожал плечами, угадав невысказанную мысль:
— Зачем? Я стар, я скоро уйду. Когда буду очень слаб, я позову его к себе.
И он будет давать твоему племени соль, сахар, красивые бусы из океанских раковин?
И я вынул верный мой нож, клейменный у рукоятки изображением волка.
И сам стал волком! Я выпью… я выпью твою проклятую кровь, старик, и спазма рвоты не шевельнется в горле! И тогда мир узнает Тихоню Тима…
…Тяжелая струя пролилась в мою ладонь. И я стал глотать теплую солоноватую жидкость, упиваясь радостью на грани безумия.
Держись, человечество! Я иду!
Тело старика мягко опустилось к моим ногам. В конце концов он сам виноват. Зачем он мне все рассказал?!
Щенок-преемник сбежал куда-то, спрятался, не найти. Меня тошнило, в ушах бухал набат. Все. И мне не будет сниться этот старик. Я прав! Трижды прав! Сто тысяч раз прав!
А теперь мне нужен вертолет. Э, нет… кажется, сейчас мне понадобится автомат. Тревожные голоса и цепочка огней катятся от деревни. Я оглянулся, ища убежища.
Поздно! Вот они, факелы и лица… Лица тех, кто еще вчера ухаживал за мной, предупреждая каждое мое желание. В их глазах я читаю короткий беспощадный приговор.
Автомат! Маленький, хорошенький десантный автоматик и пару магазинов к нему!
Ладони изогнулись, готовясь принять радостную тяжесть вороненого металла. Правый локоть к бедру, левую ногу чуть вперед…
Где?! Где же этот проклятый автомат?! Руки мои пусты…
Я забыл. Я ничего не могу сам для себя. Этот дар — только для других.
Где я сейчас возьму человека, который знает, как выглядит автомат, а главное — который захочет попросить у меня эту самую ненужную ему и самую нужную мне вещь?
Поздно.
Александр Марков АПСУ[4]
1. Чрез семь дней воды потопа пришли на землю… в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились… И усилилась вода на землю чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы.
Бытие, 6, 10—19 2. Сурт едет с юга с губящим ветви, солнце блестит на мечах богов; рушатся горы, мрут великанши; в Хель идут люди, расколото небо. Солнце померкло, земля тонет в море, срываются с неба светлые звезды, пламя бушует питателя жизни, жар нестерпимый до неба доходит. Прорицание Вельвы, 52—57 3. Едва занялось сияние утра, С основанья небес встала черная туча, Адду гремит в ее середине… Из-за Адду цепенеет небо. Вся земля раскололась, как чаша. Ходит ветер шесть дней, семь ночей, Потопом буря покрывает землю… Я открыл отдушину — свет упал на лицо мне, Я взглянул на море — тишь настала, И все человечество стало глиной! «О все видавшем», эпос о Гильгамеше.4. Из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: свершилось! И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. И город великий распался на три части, и города языческие пали… И всякий остров убежал, и гор не стало.
Апокалипсис, 16, 17—20Глава 1 НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В ТРАКТИРЕ СТАРОГО БАЛГА
Теплым майским вечером по дороге из Элора в Тетагир ехал молодой человек на серой лошади. На вид ему было лет двадцать. Темные глаза и волосы, нос с горбинкой и небольшой рост сразу выдавали в нем уроженца здешних мест. Низкое солнце било ему в глаза, он отводил взгляд; при этом лицо его сохраняло добродушное, мечтательно-задумчивое выражение. Как и большинство жителей Эн-Гел-а-Сина — «Страны у Лунной реки», — наш всадник любил предаваться размышлениям о жизни, любви и красоте и тайно сочинял стихи. Полное имя всадника было Шем-ха-Гил, но друзья звали его просто Гилом. Сейчас он ехал домой и гнал перед собой толстую неповоротливую овцу. Овца эта потерялась два дня назад, и Гил потратил немало времени на ее поиски. Процессия двигалась медленно — овца явно не торопилась, то и дело останавливалась отдохнуть или пощипать травки у обочины. Да и не в обычаях Гила было спешить. Но вот овца, а вслед за ней и лошадь со всадником, спустились в небольшую ложбинку. Солнце скрылось из виду, потянуло сыростью, и Гил поплотнее закутался в тонкий серый плащ с застежкой в виде лунного серпа.
— Слушай, подружка, давай-ка прибавим ходу, — обратился Гил к овце. — Смотри, вечер уже, а мне еще надо заглянуть к старому Балгу. Ну, пошла, пошла, — добавил он более строго, увидев, что овца не реагирует.
Они двинулись чуть быстрее. Теперь дорога шла вверх, взбираясь на пригорок.
Трактир Балга находился как раз на вершине, в двух шагах от дороги. Вот уже показалось невысокое строение с черепичной крышей и круглыми окнами. За задней стеной рос могучий дуб, прикрывавший своими ветвями почти весь дом. Этот дуб, казалось, вышел на своих старых корнях из темной стены леса, тянувшегося к югу от дороги, и остановился в раздумье на вершине пригорка. Место для трактира Балг выбрал удачно — отсюда была видна вся округа: от невысоких гор Ио-Син на северо-востоке и леса на юге почти до самого Эллила — большой реки на западе. Все это пространство было занято пастбищами и виноградниками, рощами, холмами и овражками. Виднелись аккуратные домики из желтых кирпичей — жилье местных хуторян, паслись кое-где овцы. Жители хуторов, выпив в кабачке у Балга кружку-другую доброго пива, любили выйти на крыльцо и, усевшись на ступеньках, любоваться окрестностями. Такое занятие было для них неисчерпаемым источником радости и душевного равновесия.
Сегодня, однако, на широком крыльце не было ни души. Спешившись, Гил обнаружил еще более невероятную вещь — стекло в одном из круглых окошек было выбито, и трава внизу была усыпана осколками. Гил нетерпеливо взбежал по ступенькам и вошел в дом. Внутри было темно — солнце зашло, а Балг еще не зажигал свечей. Гил почувствовал знакомый с детства густой запах пива и бараньего жаркого. Послышался скрип половиц и глухое ворчанье, затем в дальнем углу осветился дверной проем, который тут же был заполнен массивной фигурой трактирщика. Балг держал перед собой две горящие свечки — при этом сам он был хорошо освещен, но ничего не видел.
— Ну и темнотища, гуллы бы меня забрали, — проворчал он.
Гил заметил, что трактирщик как-то странно выглядит: лицо его выражало растерянность и тревогу — чувства, редко испытываемые жителями Эн-Гел-а-Сина.
— Это я, Гил, — нерешительно сказал Гил, по-прежнему стоящий на пороге. Круглое лицо Балга расплылось в улыбке, и он засуетился, зажигая одну за другой свечи на стенах. Отблески свечных огоньков заплясали у него на лысине.
— А, господин Гилли, здорово, дружок! Славно, что ты зашел ко мне. А я уж думал, не увижу тебя больше. Проходи, проходи, да не стесняйся, садись. Пивка? Бесплатно сегодня. Да ты не смотри, что я в таком виде — собираюсь в дорогу, вот и не встретил тебя. Ну вот, — Балг поставил на стол две большие глиняные кружки и уселся напротив Гила. — Посидим, поговорим. В последний раз ведь, дружок, да! Вот уж не думал, что так оно обернется. Ах, знали бы вы, сударь, как это мне тяжело! А выхода-то нет! — трактирщик сморщил нос, казалось, он вот-вот заплачет.
Гил с удивлением смотрел на Балга, слушал его бессвязную болтовню и ничего не понимал.
— Да что с тобой сегодня, старина? Что это на тебя нашло? — спросил наконец Гил, в то время как трактирщик сопел, обхватив голову руками.
— Ах, и не спрашивай, дружок. Вот ведь дожили до чего! Ты только погляди! — Он показал на пустые столы и разбитое окно.
— Ну-ну, успокойся! Лучше расскажи по порядку, что тут у тебя стряслось. И что это ты заговорил вдруг такое: больше не увижу! да в последний раз! да не могу!.. Вот стекло у тебя разбили — это да! Это правда, шутка нехорошая. Но все равно — так расстраиваться…
На лице Балга отразилась происходившая в нем внутренняя борьба — ему, видно, и хотелось поделиться с Гилом своими переживаниями, и что-то его останавливало. Пока он кряхтел и строил рожи, страшная догадка пронзила Гила.
— Признайся, старина, — сказал он. — У тебя завелись клопы?!
— Что, что?
— Клопы! Помнишь, когда в Горячем Ключе завелись клопы — ну, такие маленькие твари, которые кусаются по ночам и сосут кровь, — так все тамошние такой крик подняли, и тоже все клялись, что уедут и не могут этого вынести. Неужели…
— Нет-нет, господин Гилли, что ты, такой гадости у меня нету. Не дошло еще до этого, слава дэвам! А, ладно! — Балг хлопнул ладонью по столу. — Расскажу! Все равно уж вся округа знает. — Лицо Балга приняло решительное выражение, и он отхлебнул пива. — Нидхаги, сударь! Сегодня утром, вот как уехал ты свою овцу искать, не больше часу прошло, слышу на дороге шум, топот, рычит кто-то, ну прямо как медведь, — голоса грубые, а слов не понять. Потом вваливаются два мужика — сразу видно, что не наши коренастые, кривоногие, морды — вот такие, бороды всклокоченные, глаза горят, а у одного еще желтые клыки торчат, как у собаки. Ну, я за стойкой ни жив ни мертв, а они прямо ко мне, и тот, что с клыками, как зарычит: а ну, говорит, тащи сюда пива да баранью ногу! А я прямо оцепенел весь, только смотрю на них и рот открываю. Тут тот, что без клыков, как выхватит свой меч — кривой такой, короткий, как рубанет им по стойке — вот, две доски разрубил, — и как заорет: «Пошевеливайся, гулл плешивый, а не то мы тебя спалим с твоей конурой вместе, и будет у нас вместо барана жареная свинья!»… Это я-то гулл! — Балг сморщил нос, чуть не плача от такого оскорбления.
— Постой, Балг, что ты говоришь! Да как же это? Нидхаги? Откуда они здесь? Ведь до гор пятнадцать миль, не меньше.
— В том-то и дело, сударь. Раз уж они сюда добрались, значит все — конец! Уезжаю я, дружок, вот соберусь и с рассветом в путь. Поеду на восток, поближе к городу и к нашему королю — и куда только он смотрит! Все равно — полюбуйся! — ни одного посетителя! За целый день! Прознали, видно, что сюда нидхаги ходят, теперь доброго человека сюда ничем не заманишь. Дурные вести не стоят на месте, или как там говорится… Так что прощай, Гилли. И мой тебе совет: уезжай тоже! Всем нам надо бежать отсюда, да поскорее! — Балг встал и направился к задней двери — укладывать вещи.
— Эй, Балг, подожди, — окликнул его Гил. — Подожди! Ты же не рассказал, что было дальше. Как же так — сразу бежать! Не можем же мы все бросить наши дома, виноградники… Мы же здесь родились! Надо что-то придумать…
— Да что тут придумаешь! — угрюмо сказал Балг, возвращаясь к столу. — Ничего мы сделать не можем. Когда нидхаги появились в Ахеле — что мы сделали? Ушли оттуда, вот и все. Перебрались на этот берег Эллила и даже мертвых перестали отвозить на запад. Они вырубили весь лес, и теперь там пустыня. А когда они вдруг объявились в наших горах — ты тогда только родился, — что мы стали делать? Собрались все вместе и выставили их оттуда? Или, может быть, отряд светлоликих дэвов прибыл из Асгарда, чтобы помочь нам в беде?.. А теперь нидхаги пришли сюда, в мой трактир, и, значит, старому Балгу надо собирать вещички и сматываться, пока цел. Видно, такая уж у нас судьба — уходить, отступать, оставлять нидхагам наши дома и земли. А против судьбы не пойдешь.
Балг задумался. Взгляд его стал отсутствующим… Вряд ли он скажет что-нибудь еще. Потрясенный Гил смотрел на него широко раскрытыми глазами. Его переполняли противоречивые чувства. Впервые в жизни он начал понимать, что в мире происходят события более значительные, чем женитьба, и даже более страшные, чем смерть прадедушки Халина.
— Балг! Эй, Балг! — негромко позвал он. — А что дальше-то было? Ты же не рассказал, чем все кончилось. Ну, очнись, Балг!
Балг нехотя перевел взгляд с потолка на Гила.
— Дальше? Да ничего. Принес я им пива и жаркого, они все сожрали и ушли.
— Ну, а окно?
— Что окно? А, это они кружкой. Зубастый швырнул.
Ужасное воспоминание вывело Балга из состояния задумчивости, и он заговорил с прежним воодушевлением:
— А уж как жрали-то, сударь, вы себе и не представляете! Точно голодные собаки, даже кости разгрызали. Противно было смотреть. Хотя смотреть-то они мне запретили. Как я им все принес, так они мне: пшел отсюда, мол, чтоб духу твоего здесь не было. Я за дверь, но далеко, конечно, не пошел — там ведь замочная скважина, в двери-то.
— Ах ты хитрюга! Так ты слышал, о чем они говорили?
— Слышать-то слышал, да только мало что понял. Сам знаешь, язык-то у них не человечий, все слова перекорежены. Разобрал только, что, вроде, ищут они кого-то.
— Кого?
— Кого-то, кому они хотят отомстить. А если так, то, конечно, понятно, кто им нужен. — Лицо Балга приняло значительное выражение.
— Ну, Балг, не тяни же! Говори, кто им нужен?
— А кто же, как не твой сосед, господин Ки-Энду! Ведь это он позавчера у Крайнего Пригорка пришиб одного нидхага, который пытался его ограбить.
— Ки-Энду!.. Он такой несдержанный! Сколько раз я ему говорил, что так нельзя!
С улицы донесся стук копыт. Кто-то подъезжал к трактиру с севера.
— Кто бы это мог быть в такое время?
Видно было, как он напрягся, вслушиваясь. Дверь распахнулась, и в трактир бодрым шагом вошел высокий мужчина лет двадцати восьми — темноволосый, голубоглазый — не обошлось без прабабушек с севера, — в темном плаще и в берете с гусиным пером, придававшим ему решительный вид. Лицо его, помимо неистребимого Эн-Гел-а-Синского добродушия, выражало твердость. Вошедший окинул взглядом Гила и Балга.
— Что приуныли, друзья? — сказал он весело, подходя к столу.
Балг заулыбался и, бормоча слова приветствия, побежал за третьей кружкой.
— Ну что, Балг, не понравились тебе нидхаги! — посмеивался вошедший.
Гил улыбнулся. Балг, возившийся у пивной бочки, посмотрел на них укоризненно.
— Вам бы все шутить, господин Ки-Энду! Мне вот не до шуток, — в словах Балга слышалось уважение, хоть он и притворялся обиженным. Все в округе знали и любили Ки-Энду, хоть он и удивлял их своей решительностью и прямотой. Качества эти были врожденные, но некоторые считали, что он приобрел их на севере, в Асор-Гире, где в течение семи лет обучался искусствам, истории и ремеслу кузнеца.
Ки-Энду перестал смеяться и сказал серьезно:
— Нет. Это не шутки. В том-то и дело, что мне тоже не нравятся нидхаги. Совсем не нравятся. И еще кое-что мне не нравится. Наш взгляд на жизнь. Наша беззаботность. Слишком уж мы привыкли, что за нас думают и решают другие.
Ки-Энду нахмурился. Балг принес пиво, и Гил предложил перейти на крыльцо. Они взяли кружки, вышли и уселись на верхней ступеньке. Ночь была теплая, тихая и ясная. На небе высыпали звезды, на западе, низко над горизонтом, блестел лунный серп. Все трое почувствовали, как красота и покой проникают в душу. Разгладились морщины на лице Балга; мягче стал взгляд Ки-Энду; Гил улыбаясь смотрел на небо, звезды отражались в его глазах.
Молчали долго. Наконец Ки-Энду отвел взгляд от далеких горных вершин, посмотрел на свои стоптанные башмаки и сказал:
— Я еду в Элор, ребята. Хочу поговорить с королем. Что-нибудь вам привезти?
Гил вздрогнул и удивленно посмотрел на Ки-Энду.
— О чем же ты хочешь говорить с королем?
— О многом, Гилли. В последнее время я часто задумывался о том, как мы живем, и понял, что многое у нас неправильно. Взять тех же нидхагов. Почему они могут грабить нас, выгонять нас с наших земель, а мы только вздыхаем и отходим все дальше на восток? Неужели мы так привыкли во всем полагаться на дэвов, что сами не можем и пальцем пошевелить ради собственного спасения?
— Постой, Ки, что ты говоришь? Разве дэвы не любят нас, не заботятся о нас? Ведь мы их дети. Они, наверное, лучше знают, что правильно, а что нет. Раз мы не сопротивляемся нидхагам, значит, так надо. Воевать, творить насилие — это же гадко, это значит идти против дэвов и против самих себя. Скажи, вот ты, например, мог бы убить человека или даже нидхага?
— Я ударил одного, ты знаешь, — Ки-Энду мрачно посмотрел на Гила. — Крепко ударил. А что дэвы о нас заботятся — тут я не спорю, не думай, что я упрекаю их в чем-то. Но они далеко, и мне кажется, что они уже не могут за всем уследить. Их мало осталось, а людей становится все больше. И боюсь, что из Асгарда Эн-Гел-а-Син не виден даже в хорошую погоду. Подумай, что нас ждет. Нидхаги выгнали нас из Ахела, согнали с гор. Теперь они появились здесь, и, похоже, скоро мы и отсюда уйдем. Пройдет лет десять — и они объявятся в Элоре. Когда же мы опомнимся? Когда нас загонят в море по шейку? Или и тогда будем надеяться на дэвов? Я скажу королю — пусть он соберет взрослых мужчин, человек двести, даст им оружие, и пусть они выгонят нидхагов хотя бы с восточного берега Эллила.
Гил напряженно думал. Он и сам смутно ощущал какую-то неправильность в поведении своих соплеменников, и теперь ему казалось, что Ки-Энду выразил словами его собственные невысказанные сомнения.
— Знаешь, Ки, мне кажется, ты прав. Действительно, пора что-то делать. Но, может, было бы лучше сначала съездить в Асгард и посоветоваться с дэвами? Надо же узнать, почему они не защищают нас от нидхагов, и вообще что происходит, что у них на уме, и что…
Балг, не принимавший участия в разговоре, внезапно поднял руку и показал на север:
— Взгляните-ка, господа! Что это там за огни?
Глава 2 НАБЕГ
Тягостно в мире, великий блуд, как мечей и секир, треснут щиты, век бурь и волков до погибели мира; щадить человек человека не станет. Прорицание Вельвы, 45Перед ними расстилалась ночная долина. Луна заходила. Последние огни погасли в окнах. Земля лежала во мраке, покрытая тонким прозрачным туманом, серебристым, словно сотканным из звездного света. Силуэты гор, темные на фоне неба, окаймляли горизонт. Внизу, милях в пяти-шести к северо-востоку от трактира, горели два или три огонька — красноватые, они то почти пропадали из виду, то вспыхивали снова. Одна и та же мысль возникла одновременно у Гила и Ки-Энду. Они переглянулись.
— Пожар! — сказал Балг.
— Это нидхаги! — вырвалось у Гила. — Ки, они жгут твой дом! Где твои? Спят? Где Мирегал?
— Нет, это не в Желтом Ручье, — произнес Ки-Энду, всматриваясь. — Мирегал дома, но можешь о ней не беспокоиться. Похоже, это у тебя, в Белых Камнях.
— У меня? Нет, нет, ведь это тебе они хотят отомстить! И Белые Камни, по-моему, правее.
— Что мы сидим? — вскричал вдруг Гил, вскакивая. — Поехали, Ки!
Секунды хватило Ки-Энду, чтобы собраться с мыслями.
— Балг, быстро в подвал, принеси два меча, лук, стрелы. Да не смотри на меня такими глазами! Я же знаю, что у тебя устроили склад эти, которые привезли оружие из Асор-Гира… Потом поговорим, быстрей.
Округлившиеся глаза Балга вдруг сузились, он вскочил, нелепо взмахнул руками и, издав воинственный клич, бросился в дом. Возбуждение трактирщика было легко понять: отважные люди, рвущиеся в битву с врагом, — такого в Эн-Гел-а-Сине еще не видели.
Гил, спотыкаясь, бежал к крыльцу, ведя двух лошадей. Мгновение спустя запыхавшийся Балг вышел с оружием — два широких кожаных пояса с длинными прямыми мечами в ножнах, два круглых деревянных щита, белые с серебряной луной в центре, небольшой лук и колчан со стрелами.
— Щиты оставь! Держи! — Ки-Энду бросил Гилу меч с поясом, второй ловким движением застегнул у себя под плащом. Гил неумело пытался нацепить на себя меч, бормоча смущенно: «Зачем это, Ки? Как его надевают?»
— Ну, ты теленок, Гил, — сказал Ки-Энду. — Дай помогу!.. Чем здесь бездельничать, надо было тебе в Асор-Гир съездить поучиться. Ну, все! Поехали! — Они вскочили в седла.
— Счастливо, Балг! — сказал Гил. — Последи за моей овцой.
— Счастливого пути! — помахал рукой Балг, смутно осознавая, что сейчас это не самые подходящие слова.
Всадники поскакали на северо-восток, спускаясь с пригорка, и быстро скрылись в темноте. Балг смотрел им вслед; воодушевление постепенно сменилось в нем задумчивостью, и он еще долго стоял на крыльце, глядя во мрак невидящими глазами.
Спустившись с пригорка, всадники сразу потеряли из виду далекие огоньки. Теперь их окружала почти полная тьма. Спасало только то, что лошади прекрасно знали все местные тропы. Ки-Энду скакал впереди. Гил еле поспевал за ним. Левой рукой он боролся с мечом, который все время норовил ударить по лошадиному боку. В голове его мелькали обрывки мыслей: «Мирегал… что с ней? Что они с ней делают?.. Этот дурацкий меч… как его достают? А если придется драться? Я же не смогу… убийство, кровь — что с нами будет?»
Они миновали хутор Три Клена, пересекли неглубокий овраг, проехали яблоневый сад людей из Синего Клена. Теперь дорожка шла вдоль Желтого ручья — самого ручья почти не было видно, но Гил чувствовал знакомый запах серы. Этот ручей начинался в горах и тек через двор Ки-Энду. Вода в нем даже зимой была теплой, и Ки-Энду говорил, что в ней есть какие-то ценные соли, которые он использовал в своей таинственной работе.
Гил увидел, что Ки-Энду, ускакавший довольно далеко вперед, остановился и ждет его.
— Что? — спросил Гил, подъехав.
— Это развилка. Ты уверен, что горело у нас?
— Ну конечно! Ведь они тебя искали. Зачем им Белые Камни?
— Не знаю, мне показалось, что это у вас горит. Ну ладно, поехали.
Они поскакали дальше вдоль ручья, к дому Ки-Энду. Через несколько минут показались смутные очертания дома с высокой крышей, кузницы, нескольких низких сараев и хозяйственных строений. Все было тихо — ни огня, ни запаха дыма, ни людей, ни нидхагов. Подъехав к крыльцу, Ки-Энду спрыгнул на землю и вбежал в дом. Через минуту он вернулся и вскочил в седло.
— Они ничего не видели и не слышали. Это у вас. Быстрей!
Две мили от Желтого Ручья до Белых Камней показались Гилу бесконечными. «Опоздаем, — думал он. — И все из-за меня!»
Безжалостно пришпоривая лошадей, они подъехали к дому с тыльной стороны. Все деревянные постройки, сараи, помещения для скота горели, по двору метались обезумевшие козы и овцы. Откуда-то выскочил петух с ярко пылавшими перьями, пронесся по двору и упал с хриплым кудахтаньем.
— Заходи справа, Гил! — крикнул Ки-Энду и поскакал через двор к дому. Его конь шарахнулся от бежавшего на него барана, Ки-Энду соскочил на землю и побежал. Гил поскакал направо, пригнувшись к самой шее лошади и пытаясь вытащить застрявший в ножнах меч. Выехав из-за угла, Гил увидел прямо перед собой сгорбленную фигуру нидхага с факелом в руке. Нидхаг ухмылялся, красноватые отблески плясали на его зубах. Он шагнул вперед и ткнул факелом в морду лошади. Та отпрянула, заржала и поднялась на дыбы. Гил не удержался в седле и полетел куда-то в темноту…
Очнувшись, он увидел вдали быстро удаляющиеся силуэты двух всадников и лошади, нагруженной какими-то тюками. У дальнего конца дома стоял Ки-Энду с натянутым луком. Он выстрелил и… безнадежно опустил руки: нидхаги были слишком далеко.
Только сейчас Гил начал осознавать, что между ним и Ки-Энду, на ярко освещенном крыльце, лежит что-то страшное — глаза отказывались увидеть это, а разум — понять. Нетвердой походкой, борясь с подступающей тошнотой, Гил подходил все ближе и ближе к крыльцу.
Там, на ступеньках, раскинув руки, лежало обезглавленное тело его отца…
Гил проснулся в своей комнате оттого, что солнце, поднявшееся над горами, било ему прямо в глаза. Он лежал на спине, наслаждаясь покоем и тишиной, но смутное, давящее ощущение пережитого ужаса и горя уже шевелилось в дальних тайниках подсознания. Гил рассматривал картину, висящую перед ним. Его отец, Конгал, прекрасный художник, больше всего гордился именно этой картиной. Гил еще мальчиком настоял на том, чтобы ее повесили в его комнате. Картина называлась «Кулайн ведет дэвов и людей в битву за Ойтру». Как говорили сведущие люди — а их немало приезжало в Белые Камни взглянуть на картину, — это было одно из самых удачных изображений дэва, созданных человеческой рукой…
Равнина, залитая багровыми лучами заходящего солнца, простиралась до горизонта. Вдали был виден город — зубчатые стены и белые башни, высокие дворцы с золотой сверкающей кровлей — древняя Ойтра. Посреди города, подавляя его и прижимая к земле, высилась громадная черная ступенчатая пирамида — магдел. «Дэвов и людей» на картине не было — они подразумевались вне полотна, на месте зрителей. В центре был изображен дэв на белом коне, в сверкающих доспехах. Конь смотрел на город, туда же указывала рука всадника, а лицо его было повернуло к людям, которых он звал в бой. Это и было главное в картине — лицо Кулайна. Оно было прекрасно, но в этой красоте было что-то неземное — она не принадлежала этому миру. В лице Кулайна была едва уловимая грусть, словно он навсегда утратил что-то безмерно любимое. Никто из людей, видевших дэвов, не мог описать их лица — так было и с картиной. Какого цвета глаза Кулайна? Никакого — и всех сразу, цвета переливались, сменяя друг друга, и в то же время — не менялись; глаза эти смотрели из вечности, и в них было все — глубокая мудрость и тайная боль, гнев и прощение, смирение и гордость, и надо всем, поверх всего — Любовь. Казалось, она заполняла весь мир, и небо и земля воспламенялись ею, и человек отступал, ослепленный и плачущий, и отводил взгляд.
Гил подумал об отце и вдруг вспомнил… Все образы прошедшей ночи всплыли в его памяти, он словно видел все воочию: рыдающая мать, безмолвные бледные сестры — Лингал и Залин; Ки-Энду поднимает голову отца; приезжают какие-то люди, появляется повозка; Гил помогает перенести тело в эту повозку, пытается утешить мать…
Ки-Энду, уезжая, обещал все подготовить к сожжению. И еще он сказал, что ни один нидхаг больше не посмеет ступить на эту землю.
Горестные раздумья Гила были прерваны стуком в дверь. Вошел Ки-Энду.
— Вставай, Гил. Уже полдень, а у нас много дел.
— Ки! Это я во всем виноват, — простонал Гил. — Если бы я послушался тебя, мы бы не опоздали!
— Нет, Гилли, — серьезно сказал Ки-Энду. — Мы бы опоздали все равно. Я разговаривал с твоими племянниками и узнал, как все было. Нидхаги действительно искали меня, кто-то показал им направление, но они случайно попали к Белым Камням. Господин Конгал вышел на крыльцо — а они уже подожгли все, что могло гореть, — и спросил, что им нужно. Они сказали, что ищут одного долговязого гулла, который посмел поднять руку на их дружка. Твой отец понял, что речь обо мне, и сказал, что здесь таких нет. Тогда они бросились в дом. Он пытался задержать их, и они его убили… После этого нидхаги еще минут десять рыскали по дому и хватали все, что попадалось золото, спички, гвозди, посуду… Когда мы подъехали, они уже вышли на улицу и собирались уезжать. Так что мы опоздали бы в любом случае, и твоей вины тут нет.
— Нет, нет, все равно… Никогда не прощу себе… — бормотал Гил, уже одетый. Он был погружен в свои мысли и почти не слушал Ки-Энду.
— Гил, я за ночь приготовил тело к сожжению, и нам с тобой нужно заняться теперь погребальным костром,
— Костром? — в глазах Гила пробежала какая-то тень, потом они гневно сверкнули. — Нет! Отец умер, как герой, и я похороню его по обычаям предков, в Тетагире!
Ки-Энду посмотрел на него, как на безумного.
— Ты что, Гил? Ты соображаешь, что говоришь? Там нидхаги, там пустыня, там лет двести не было ни одного человека.
Гил мрачно смотрел себе под ноги, взгляд его был непреклонен.
— Не отговаривай меня. Лучше помоги. Приготовь отца, как полагается. Ты говорил, что умеешь.
— Если ты хочешь таким образом искупить свою мнимую вину, то это глупо, — сказал Ки-Энду.
Гил ничего не ответил, подошел к окну и выглянул во двор. Внезапно лицо его просветлело, он обернулся.
— Прекрасная Мирегал едет!
Ки-Энду неодобрительно взглянул на него — фраза прозвучала как дурацкий стишок, «Са лайн гал Мирегал».
— Никудышный ты поэт, Гилли. Пойдем, встретим сестренку.
Младшая сестра Ки-Энду — прекрасная Мирегал — была бойкая, веселая девушка с задорным блеском в глазах. Когда Ки-Энду и Гил спустились в гостиную, она была уже там.
— Привет, Ми, — сказал Гил. — Я очень рад, что ты приехала.
— Здравствуй, Гил. Я пришла немножко помочь… где ваши женщины? Еще спят?
— Ты уже знаешь, что случилось? Тебе рассказали?
— Это такой ужас, Гилли! Такое горе! Бедный господин Конгал, он был такой добрый. Я его ужасно любила! Ну, не расстраивайся, — она взяла Гилла за руку. — Ки сказал, что нидхаги больше никогда не посмеют прийти сюда!
— Этот ненормальный хочет устроить похороны в Тетагире, — сказал Ки-Энду.
— О! Это правда?
Гил кивнул. Мирегал сначала немножко испугалась, но выражение страха на ее лице тут же сменилось восхищением и любопытством.
— Это ты замечательно придумал. Какой ты смелый! Я поеду с тобой!
— Только тебя там не хватало, — буркнул Ки-Энду. — Что вы все с ума посходили? Будь моя воля, запер бы вас в сарае, посидели бы, очухались, пока мы сожжем господина Конгала, как полагается.
— Ну, Ки, не сердись, — попросила Мирегал. — Почему ты так против этой идеи? Разве тебе самому не интересно побывать там, на западе, похоронить господина Конгала по старому обычаю, посмотреть на этот таинственный Тетагир?
Ки-Энду помолчал, вздохнул.
— Ладно. Делайте, что хотите. Я только хочу вас предупредить. Дэвы прилагают все силы, чтобы люди поменьше знали о существовании в мире зла. Они, так сказать, оберегают наш душевный покой, поэтому мы почти ничего и не знаем. Но на севере, в Асор-Гире, где я учился, людям кое-что известно. Ходят слухи, что пустыня Ахел — место нехорошее. Нидхаги там живут — или раньше жили — это раз. Второе — дэвы еще двести лет назад посоветовали перестать бальзамировать мертвых и отвозить их на запад. Тогда говорили, что это варварский обычай, и цивилизованные народы должны заменить его кремацией — это, мол, гигиенично и не давит на психику. Но я слышал, что дело не только в этом. Кое-кто в Асор-Гире считает — только это большой секрет, пожалуйста, не болтайте, — что, может быть, гуллы — не только сказочные чудовища. Может быть, они существуют на самом деле. И говорят, что как раз в Ахеле — их родина, их там полным-полно. Слухи, конечно. Но лезть туда я бы все равно остерегался. Есть гуллы или нет их — мне неохота с ними встречаться.
— Перестань, Ки! — сказала Мирегал. — Тоже придумал — гуллами нас пугать. Не хуже нас знаешь, что это просто дурацкая детская страшилка. Иди лучше баль… буль… делать мумию. А мы с Гиллом займемся всем остальным.
К середине дня вся долина от леса до гор уже знала о гибели Конгала и готовящихся похоронах. Вскоре Белые Камни стали похожи на гудящий пчелиный улей — все считали своим долгом выразить свое сочувствие и чем-нибудь помочь. Узнав, что тело находится в Желтом Ручье, люди шли туда проститься с покойным, но Ки-Энду никого не пускал в свою святая святых — кузницу. Обычно бальзамирование продолжалось сорок дней, но Ки-Энду обещал, что все будет готово и к завтрашнему вечеру. А люди, возвратившись домой, начинали укладывать веши. Первыми уехали жители Горячего Ключа — те самые, у которых завелись клопы. Они выехали ранним утром следующего дня, заявив, что с радостью оставляют нидхагам все свои матрасы и подушки. Вскоре дорогу запрудили повозки и всадники, вдоль обочин потянулись стада овец. Все это медленно двигалось на восток — к Элору, к живописной долине Лунной реки Энсингела. Люди не сомневались, что тамошние жители помогут им на первых порах — так же, как сами они в свое время помогали переселенцам из Ахела и с гор Ио-Син.
Вечером Ки-Энду вышел из кузницы и поехал в Белые Камни сообщить, что мумия готова. Похороны были назначены на завтра.
Глава 3 ГОРОД МЕРТВЫХ
1. Иштар уста открыла и молвит, вещает она отцу своему Ану… «Проложу я путь в глубину преисподней, Подниму я мертвых, чтоб живых пожирали, Станет меньше тогда живых, чем мертвых!» «О все видавшем», эпос о Гильгамеше, 62. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них.
Апокалипсис, 20, 13Ранним утром похоронная процессия двинулась в путь из Желтого Ручья и выехала на дорогу у трактира старого Балга. Балг вышел на крыльцо попрощаться.
— Слушай, Балг, — сказал Ки-Энду, подъехав к крыльцу. — Мы с Гилом кое-что задумали, и у нас к тебе просьба. Когда мимо тебя будут проезжать переселенцы, будь добр, предлагай каждому мужчине взять у тебя какое-нибудь оружие. Скажи, что уезжаешь и не знаешь, куда все это девать. И пусть каждый, кто захочет, подождет нас у буковой рощи. Скажи, что мы с Гилом решили выгнать нидхагов из Ио-Сина.
— Нидхагов? Вы с Гилом? Ох, господин Ки-Энду, я всегда знал, что вы человек отчаянный, но такое! Да разве ж вы с ними справитесь? Убьют они вас, как господина Конгала, и все!
— Ну, драться-то мы с ними не будем. Постараемся как-нибудь перехитрить… А оружие — так, на всякий случай.
— Да уж, я думаю, никто из наших не захочет драться. Ладно, господин Ки-Энду, я все сделаю. Только к чему им в буковой роще-то сидеть? Пусть у меня подождут, у меня пива хватит. А я уж, так и быть, не поеду пока никуда, раз тут такие дела начинаются.
— Ну, спасибо тебе!
— Счастливо, господин Ки-Энду! — Балг помахал рукой ему вслед.
Похоронная процессия двигалась на запад. Первой ехала повозка с мумией. Гил правил лошадьми. Во второй повозке сидели мать Гила Нинсун и его сестры, Дайре — мать Мирегал и Ки-Энду, сама Мирегал и дедушка Эндор. Следом ехали всадники: восемнадцатилетние близнецы Гилдор и Хайр, племянники Гила, и их отец Ган-а-Ру, муж Лингал. Замыкали процессию Ки-Энду и его отец Син-Оглан. Они негромко разговаривали.
— Не нравится мне эта кутерьма, которую вы с Гилом затеваете, — говорил Син-Оглан, — мало того, что вы лезете в Ахел прямо в лапы к нидхагам, так вы еще собрались воевать. Я просто не узнаю тебя, Ки. Разве этому учили тебя в Асор-Гире? Добро никогда не рождается из крови и насилия. Зло плодит только зло, разве ты этого не знаешь?
— Я знаю это, отец. Но мы вовсе не собираемся воевать. И потом, разве ты не хочешь, чтобы все, кто сейчас уезжает, смогли вернуться? Разве тебе не жалко нашей долины? Она ведь скоро совсем опустеет. Смотри, вот еще едут. А, это из Серой Лошади! Здорово, Вайл! Загляни к Балгу, он хочет тебе что-то сказать.
Процессия продолжала двигаться на запад. По дороге им то и дело попадались встречные группы беженцев. Конечно, в другое время многие из них приняли бы участие в похоронах, но Гил настоял, чтобы поехали только ближайшие родственники и друзья. Через два часа они добрались до развилки. Меньше стало встречных групп — они подъезжали к малонаселенной приречной местности. Еще через час показалась серебристая лента Эллила, а вскоре они разглядели на берегу низкую бревенчатую хижину и рядом — небольшой плоскодонный корабль, стоящий на ровной прямоугольной площадке.
— Раньше здесь жили перевозчики, — сказал Син-Оглан. — Я думаю, нам надо здесь переночевать, а переправляться завтра с утра. Иначе мы не успеем засветло вернуться на этот берег. Насколько мне известно, до Тетагира ехать еще часа три-четыре.
— Здесь тоже место нехорошее, — возразил Ки-Энду. — Голый берег, мертвые ивы и ни одного человека вокруг. Вряд ли стоит тут останавливаться. Я думаю, пусть те, кто не поедет на тот берег, простятся с господином Конгалом и отправятся домой, а мы попробуем успеть засветло.
— Правильно, — согласился Ган-а-Ру. — Пусть женщины и господин Эндор возвращаются, а Гилдор и Хайр будут их сопровождать.
— Еще чего! — сказала Мирегал, незаметно пересевшая в повозку Гила. — Чтобы я поехала домой, когда начинается самое интересное?
— Великие дэвы! — воскликнул Ки-Энду. — Ладно, сестренка, я тебя предупреждал. Ты делаешь это на свою голову.
Ржавые механизмы, предназначенные для спуска и подъема корабля, еще работали, хоть и скрипели после двухсотлетнего бездействия. Спущенный на воду паром сидел очень высоко, и его плоская корма почти касалась берега. На корме не было бортика, и повозка с телом легко въехала на палубу. Следом, ведя лошадей, вошли Ки-Энду, Син-Оглан и Ган-а-Ру. Оттолкнув паром, они вместе с Гилом сели на весла. Мирегал, стоя в повозке, махала рукой оставшимся на берегу и не могла скрыть торжествующей улыбки. Четверо мужчин с трудом управлялись с паромом, рассчитанным на двадцать гребцов. Но течение было слабое, и вскоре им удалось развернуть корабль и пристать к западному берегу. Подъемных механизмов здесь не было — видимо, их уничтожили нидхаги, — и они оставили паром на воде, привязав его к большому камню. Повозка и трое всадников выехали на дорогу и продолжили свой путь на запад.
Ахел не был настоящей пустыней — но нидхаги вырубили его, часть вывезли, а остальное сожгли. И теперь это был огромный пустырь с чахлой, пыльной травой, выбивающейся из трещин в сухой земле.
Мирегал и четверо мужчин приуныли. Чем дальше они продвигались, тем безрадостней становилась местность. К тому же ехать было трудно — дорогу уже двести лет никто не ремонтировал, и землетрясения, частые в этих местах, сильно ее повредили. Повсюду торчали вывороченные каменные плиты, а кое-где дорогу перерезали глубокие овраги и трещины.
После двух часов изнурительного пути Син-Оглан, ехавший впереди, вдруг остановился и поднял руку. Он только что выехал из-за высокой черной скалы и, видимо, заметил впереди какую-то опасность. Когда остальные подъехали ближе, они разглядели за скалой, в полумиле от них, два длинных приземистых строения, стоящих по обе стороны дороги. Ряды крошечных узких окошек выглядели зловеще. В Эн-Гел-а-Сине таких домов не строили.
— Что это? — спросила Мирегал. — Кто здесь живет, в такой пылище?
— Пусть мой ученый и бесстрашный сын, затащивший нас сюда, ответит, что это такое, — мрачно сказал Син-Оглан.
— Неправда, это я всех затащил, — сказал Гил. — Ну, Ки, говори же.
Ки-Энду обвел взглядом своих спутников,
— Это нидхагир. Нидхаги живут не в хуторах, как мы, а в поселках из нескольких длинных домов. Эти дома не разделены на комнаты и в каждом может жить по сто—двести нидхагов.
— Выходит, мы направляемся в гости к четырем сотням нидхагов? — сказал Ган-а-Ру. — А удобно ли это? Ведь они нас не приглашали, а у нас даже подарков для них нет. Может, вернемся за подарками?
— Брось свои шуточки, Ру, — сказал Гил. — Если хочешь, можешь вернуться.
— А ты что же, предлагаешь ехать вперед? — спросил Син-Оглан.
— Я лично поеду, — сказал Гил. — Раз уж я в это дело встрял, надо довести его до конца.
— Может, они нас не тронут, — сказала Мирегал, — может, они не очень злые?..
Они двинулись дальше. Мирегал крепко держала Гила за руку. Нидхагир приближался, но его обитателей не было видно. Подъехав к одному из домов, Ки-Энду осторожно заглянул в окошко — незастекленную дырку под самой крышей. Он долго всматривался, потом повернулся к своим спутникам, притихшим в ожидании.
— Никого, — сказал он, и в его голосе слышалось недоумение и растерянность. — Совершенно пустой, брошенный нидхагир. Много лет назад брошенный…
— Ну и слава дэвам!! — сказал Син-Оглан.
— Ура! — обрадовалась Мирегал. — Чего ты такой мрачный, Ки, ведь это же здорово, что их нет!
— Боюсь, что это совсем не здорово, — пробормотал Ки-Энду, присоединившись к остальным, — лучше бы они были. Ладно, поехали. Зря ты затеял эти похороны, Гил.
— Почему? Что тебя так встревожило? По-моему, нам страшно повезло, что мы не наткнулись на нидхагов.
— Не к добру это. Подумай: сначала приходят нидхаги, и люди бегут на восток. А потом появляется нечто еще более страшное, чего сами нидхаги боятся, как огня. И они тоже бегут, бросив свои жилища. Выходит, это страшное нечто теперь безраздельно царствует здесь.
— Но, Ки, может быть, они ушли по другой причине, — сказал Гил, пытаясь побороть подступающий страх. — Ну, вырубили весь лес, и им стало нечего делать…
— Ладно, возвращаться все равно уже поздно. Гляди, вот он, Тетагир, совсем близко.
Похоронная процессия поднялась на возвышенность, откуда было видно далеко вперед. До Тетагира оставалось не больше двух миль. Древний Город Мертвых, когда-то стоявший посреди зеленого леса, теперь был окружен безжизненной сухой равниной, Весь город состоял из гробниц, между которыми петляли узкие улочки. Гробницы были разные: кубические, прямоугольные, бесформенные — в виде каменных глыб, некоторые имели форму ступенчатых пирамид — магделов.
Повозка и трое всадников въехали в город. Они по-прежнему не видели вокруг ничего живого, но в окружающей их тишине было что-то давящее. Казалось, кто-то пристально смотрит на них — то ли из темных входов гробниц, многие из которых стояли раскрытыми, то ли из-под земли. На дороге валялись кости. Гил заметил, как помрачнели его спутники. Ки-Энду был смертельно бледен, руки у него дрожали, по лицу стекал пот. Он смотрел прямо перед собой, словно боясь взглянуть в отверстые двери склепов.
«Чего это он так перепугался? — подумал Гил. — Вроде все тихо».
Они долго ехали по узкой прямой улочке, читая надписи на стенах. Наконец начались склепы людей из их долины. Они свернули в один переулок, затем в другой. Им попадалось все больше знакомых названий: Крайний Пригород, Пасека, Синий Холм… Вдруг Ган-а-Ру указал на одну из гробниц. Над входом был нарисован белый круг, неровный черный овал и три точки одна над другой.
«Вайлин Пени, — прочитал Гил, — Белые Камни». Вот она, наша семейная гробница.
Они зажгли факелы, сняли мумию с повозки и, пригибаясь, осторожно вошли в склеп. Внутри пахло сыростью. Все ниши в каменных стенах были пусты. На полу лежали полуистлевшие обрывки материи.
— Странно… — пробормотал Гил, — я думал, здесь должны быть мумии наших предков.
Внезапно он почувствовал, что кто-то схватил его за плечо. Гил резко обернулся и увидел искаженное от ужаса лицо Ки-Энду.
— Бежим отсюда, Гил! — хрипло прошептал он. — Я потом все объясню. Бежим!
— Пусти! Сначала мы сделаем то, зачем пришли.
Гил и Ган-а-Ру осторожно положили тело в одну из ниш. Затем все пятеро, постояв в молчании несколько минут, вышли на улицу. Солнце клонилось к закату.
— Почему лошади такие странные? — спросила Мирегал. — Как будто они чем-то напуганы.
— Странные мы, а не лошади. Бежим отсюда. Да скорей же! — Ки-Энду был уже в седле.
Они двинулись в обратный путь по узким улочкам Тетагира. Гилу начало казаться, что он слышит какие-то шорохи, приглушенные голоса, шарканье ног по пыльным плитам. Город Мертвых уже не казался безмолвным и застывшим, Тетагир оживал, в темных переулках замелькали какие-то тени. Внезапно Мирегал воскликнула:
— Смотри, Гил! Мумия на дороге.
Гил увидел мумию. Она лежала в какой-то маслянистой черной луже. Мумия была очень старая, сухая кожа плотно обтягивала скелет. В боку у нее зияла огромная дыра, словно какой-то зверь вырвал из нее кусок.
— Наверное, звери вытащили ее из гробницы… — Мирегал, словно зачарованная, смотрела на мумию. — Нехорошо, что она так лежит, надо отнести ее на место.
— Ради всего святого, не останавливайтесь!!! — воскликнул, оборачиваясь, Син-Оглан.
Гил хотел ему ответить, но в этот момент лицо Син-Оглана словно окаменело, и тут же раздался испуганный крик Мирегал. Она крепко вцепилась в руку Гила, глаза ее были полны ужаса. Гил не стал дожидаться объяснений и погнал коней.
Повозка с грохотом понеслась вперед, подпрыгивая на неровных плитах. Всадники, не оглядываясь, скакали впереди. Выехав из Тетагира, они немного сбавили скорость, и Гил сказал:
— А теперь, Ми, успокойся и объясни, что ты увидела и что тебя так напугало.
— Рука… Эта мумия была живая. Она подняла руку! Гил, спаси меня!!! — Она уткнулась ему в плечо. — Я хочу домой!
— Успокойся, глупенькая! Мумии не шевелятся. Тебе просто показалось — мы все устали, издергались. Мне тоже почудилось, будто я слышу какие-то голоса.
— Гил, это правда, — сказал Син-Оглан. — Я тоже это видел — мумия шевельнулась. И голоса я слышал. И если мы не успеем засветло на тот берег, нам конец.
Они ехали молча, подгоняя усталых лошадей. Гил пытался мысленно связать все, что увидел сегодня: брошенный нидхагир, пустые гробницы, шевелящаяся мумия, голоса… «Ничего не понимаю, — думал он. — Ясно только, что есть какая-то связь между пустыми гробницами и пустым нидхагиром. Ладно, спрошу у Ки-Энду, когда выберемся отсюда».
Путь был длинным. Измученные лошади, казалось, вот-вот упадут от усталости. Никто не проронил ни слова на протяжении всего пути. Когда они, наконец, спустились к реке и погрузились на корабль, солнце уже зашло. В сумерках они причалили к восточному берегу и подняли корабль на каменную площадку. Теперь, когда напряжение и страх обратной дороги через пустыню остались позади, им хотелось только одного — спать. Заночевать решили на первом же брошенном хуторе — его обитатели, очевидно, только что уехали. Комнаты были аккуратно прибраны и выметены, в подполе нашлось немного еды и вина, и усталые путники смогли поужинать.
— Это, надо полагать, хозяева оставили для нидхагов, — сказал Ган-а-Ру, уплетая большой кусок ветчины.
— Да, народ у нас добрый, — сказал Син-Оглан, — Что ж, господа, позвольте поздравить вас. Насколько я понимаю, мы только что чудом спаслись от страшной опасности. Если вы не слишком устали, чтобы слушать, я хотел бы попросить моего сына рассказать, что он думает по поводу нашей занимательной экскурсии в Город Мертвых.
Ки-Энду неуверенно посмотрел на отца:
— Может, лучше не говорить?
— Хватит секретничать, Ки, — сказала Мирегал. — Рассказывай быстрее, что ты там надумал.
— Ну, слушайте. Первое, что меня удивило, — это брошенный нидхагир. Что могло заставить нидхагов бросить свои дома? Я сразу вспомнил, как один человек в Асор-Гире утверждал, что в Ахеле живут гуллы.
— Ой, ребята, пошли лучше спать, — зевнул Ган-а-Ру. — Не люблю страшных историй перед сном. А завтра я вам и сам могу рассказать — и про гуллов, и про драконов с троллями, и про что угодно.
— Подожди, Ру, — сказал Ки-Энду, — это серьезнее, чем ты думаешь. Так вот, когда я увидел открытые гробницы в Тетагире, мои подозрения усилились. И, наконец, когда мы не нашли в семейном склепе Гила ни одной мумии, все стало ясно окончательно. Оживающие мертвецы, или гуллы, существуют на самом деле. Это не что иное как ожившие мумии наших предков. Этим все объясняется — почему дэвы были против бальзамирования, почему сбежали нидхаги — ведь гуллы внушают им такой же ужас, как и всем живым существам. Теперь ясно, что злые силы, создавшие нидхагов, на этом не остановились. Они стали оживлять мертвых, чтобы пополнить ряды своего воинства. Знают ли об этом дэвы? Может, нужно сообщить в Асгард?
— Хэн дэвин, Ки! — воскликнул Ган-а-Ру. — Выходит, все наши предки стали гуллами? И мой отец тоже? И что это за злые силы, которые создают гуллов и нидхагов?
— Может, хватит на сегодня? — сказала Мирегал. — Вечно ты, Ки-Энду, говоришь на ночь какие-нибудь гадости! Господин Конгал стал гуллом! Тебя послушаешь — еще и не тем станешь! Давайте-ка лучше пойдем спать.
— Да, пожалуй, — сказал Гил. — Что-то я сейчас не могу сосредоточиться.
На следующий день, хорошо выспавшись, они позавтракали и поехали домой. О гуллах не заговаривали — солнечное майское утро, зеленые холмы и пение птиц наполняли души покоем, и никому не хотелось думать о неприятном. Когда вдали показался трактир старого Балга, Ки-Энду обратился к Ган-а-Ру.
— Ру, ты один еще не знаешь о нашем заговоре. Мы с Гилом хотим перебраться в Ио-Син…
— Да чего там мелочиться! У гуллов мы уже побывали, что нам теперь какой-то Ио-Син! Не хватает у тебя размаху, приятель. Давайте уж сразу на дно морское.
— Размах у него побольше, чем ты думаешь, — сказал Син-Оглан, — они ведь хотят выгнать оттуда нидхагов.
— Пойдешь с нами, Ру?
— Выгонять нидхагов? А что, можно. Для разнообразия.
— А ты, отец? — спросил Ки-Энду.
— Я уже говорил тебе, что думаю по этому поводу. Нет, мне с вами не по пути. Нидхаги имеют такое же право жить там, где они живут, как и мы.
— Но они-то нас лишают этого права!
— Так вы хотите уподобиться нидхагам? Ладно, я не буду вас отговаривать. Но вы скоро поймете, что кровопролитие никогда не приводит к победе добра.
Син-Оглан свернул с дороги и направился в сторону Желтого Ручья. Остальные подъехали к трактиру. На крыльце сидело человек десять, все ступеньки были заставлены пивными кружками. Один из сидевших на крыльце — это был Вайл из Серой Лошади — с трудом встал и сделал несколько шагов навстречу подъезжающим:
— Ки-Энду! Гил! Ру! А, и ты с ними, Мирегал! Наконец-то! Приехали все-таки. А то Балг решил совсем угробить нас своим бесплатным пивом. Еще час-другой, и мы все полопаемся, как мыльные пузыри. Ну, присаживайтесь. А может, к дубу пойдем?
— Давайте к дубу.
Гил, Ки-Энду, Ган-а-Ру и Мирегал пошли к старому дубу, росшему за задней стеной трактира. Сидевшие на крыльце с кряхтеньем и стонами побрели за ними. У дуба сидело еще человек двадцать, неподалеку горел костер, на котором Балг с пятью помощниками жарили мясо. Здесь же стояла большая бочка с пивом. Когда все расселись на траве, Хайр, племянник Гила, попросил рассказать, как прошли похороны и что они видели в Ахеле.
— Подожди, Хайр, — сказал Гил. — Сначала вот что скажите: все ли собравшиеся согласны участвовать в походе в Ио-Син?
Глава 4 ВОЙНА
1. И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона; и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
Апокалипсис, 12, 7—92. Вид колес и устроение их — как вид топаза… А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их… вокруг полны были глаз.
Иезекииль, 1, 16—18 3. …и запел Демодок, преисполненный бога. Начал с того он, как все на своих кораблях крепкозданных В море отплыли данаи, предавши на жертву пожару Брошенный стан свой, как первые мужи из них с Одиссеем Были оставлены в Трое, замкнутые в конской утробе, Как напоследок коню Илион отворили трояне. Одиссея, 8, 499—504Среди собравшихся возникло легкое замешательство, все притихли, переглядываясь. Наконец Беллан из Пасеки, высокий нескладный человек с рыжими усами, сказал смущенно:
— Видите ли, дорогие Гил и Ки-Энду, нам всем, конечно, очень жаль, что приходится уходить с обжитых мест. Мы родились в этой долине и любим ее. Все наши предки жили здесь — каково бы им было, если бы они узнали, что эта земля будет покинута и достанется нидхагам…
— Ну, о предках ты не беспокойся, — усмехнулся Ган-а-Ру. — Предки наши…
— А ну, заткнись! — Ки-Энду толкнул его локтем в бок.
— Так вот, я говорю, для нас это большое горе, что приходится уезжать, — продолжал Беллан. — И все из-за нидхагов. Если бы они ушли из наших гор, мы бы, конечно, могли остаться. Поэтому, когда Балг сказал нам, что вы хотите прогнать нидхагов, мы решили: надо вам помочь. Только мы пока не понимаем, как вы собираетесь это сделать. Если, скажем, драться, то тут от нас толку мало. Ну, я, да вот еще Энар из Будравы, мы хоть знаем, как держать меч в руках, мы учились в Асор-Гире. А остальные совсем ничего не умеют. Да и не поднимется у нас рука на нидхагов — они хоть вроде и не люди, а все-таки похожи на людей. Одним словом, вояки мы никудышные.
— Я же тебе объяснял, — сказал Балг, — у господина Ки-Энду есть план. Он с нидхагами драться не будет, он их перехитрит! А оружие — на всякий случай. Правильно я говорю, господин Ки-Энду?
— Правильно. Для того чтобы победить в войне, не обязательно уметь драться. Как известно, Ойтру не могли взять силой, но взяли хитростью.
— Это ты про ту Ойтру, которая на картине у меня в комнате? — спросил Гил.
— Ну да. Разве ты не знаешь этой истории?
— Отец вроде что-то рассказывал…
— Скажите, ребята, а вы тоже ничего не знаете про войну и про взятие Ойтры? — обратился к собравшимся Ки-Энду.
— Ну, мы-то с Энаром знаем, — сказал Беллан. — А остальным откуда знать?
— А знаете — так расскажите, — потребовала Мирегал.
— И правда! Расскажите, — сказал Гилдор, брат Хайра. — Страсть как хочется послушать про войну и про всякие подвиги!
— Хм, — сказал Ки-Энду, — что-то мы отвлекаемся. Впрочем, может, оно и правильно — надо же всем хоть немного представлять, что такое война. Ну, кто будет рассказывать? Ты, Беллан?
— Я? — смутился тот. — Почему я? Хотя, конечно, можно попробовать. Я начну, а вы меня поправляйте. Случилось это давно, лет эдак тысячу назад. В Эн-Гел-а-Сине тогда еще люди не жили, а жили только на севере — в Ас-а-Дене и Альвене. Столицей Ас-а-Дена был Асор-Гир, а Альвена — Ойтра. Жилось людям хорошо, дэвы их оберегали, а нидхагов и в помине не было. Дэвов в то время было много, и они жили в горах, как и сейчас, — в Анугарде, в Меллнире, ну и в Асгарде, конечно. Дэвы любят в горах жить, там для них, говорят, воздух подходящий. Хотя я лично не понимаю, чего они в нем находят. Я один раз был в горах — до того там холодно, и неуютно, и ветер все время дует! А дэвам нравится.
Беллан задумался, вспоминая свое путешествие в горы.
— Может, пока Беллан думает, ты расскажешь дальше? — обратилась Мирегал к брату. — А то он до вечера может провспоминать.
— Ну, а дальше было вот что, — заговорил Ки-Энду, — среди дэвов возник разлад. Оказалось, что один из них, Шемай-Лох, принес в своей душе из того мира, откуда пришли дэвы, семена зла. И семена эти проросли, и Шемай-Лох захотел стать первым среди дэвов. Сделать это было непросто — слишком велик был авторитет Элиара, слишком его все любили. Но Шемай-Лох возомнил себя самым мудрым, самым сильным. Его гордыня была так велика, что он решил доказать свое превосходство, чего бы это не стоило. Он задумал убить Элиара и силой захватить власть, но в одиночку этого сделать не мог. Зная, что никто из дэвов не поддастся на его подстрекательства, Шемай-Лох решил посеять раздор между ними…
В те времена жил один дэв, звали его Бел-Адор. Только он и прекрасная Фенлин могли делать людей добрее, сильнее, учить их понимать красоту, сочинять песни и любить. Это Бел-Адор и Фенлин сделали нас такими, какие мы есть — Сила Бел-Адора была так велика, что он мог взглядом отводить от себя пущенные в него стрелы и копья. Он говорил, что и люди смогут так делать, когда станут так же сильны духом, как он. Однажды, когда дэвы в Асгарде, веселясь, бросали в Бел-Адора копья перед собравшимся народом, а он отводил их, Шемай-Лох незаметно вложил в руку одного из дэвов — Хеда, великого певца и музыканта, — страшное огненное копье Ха-Бул. Хед не знал, что у него в руке, и едва он поднял копье, как вспыхнуло ослепительное пламя, и Бел-Адор погиб.
Велико было горе дэвов и людей. Но хуже всего было то, что дэвы начали подозревать друг друга. Случайно ли убийство Бел-Адора? Правду ли говорит Хед, будто не знал, что у него в руке Ха-Бул? Кто похитил хранившееся в тайных подземельях Меллнира страшное оружие дэвов? И никто не догадывался, что виной всему козни Шемай-Лоха. А он сам притворялся, будто больше всех потрясен случившимся. Он ходил по асгардскому магделу, разговаривал со всеми дэвами, которых встречал, и сеял раздор между ними. Хеду он сказал: «Элиар не верит, что ты убил Бел-Адора случайно. Он хочет изгнать тебя из Асгарда». Элиару сказал, будто видел, как Хед специально выбрал Ха-Бул из всех стоявших там копий. «Он хочет захватить власть, Элиар. Самого мудрого из нас после тебя он убил как бы случайно. Тебя он убьет открыто и будет царствовать над миром. Ты должен изгнать Хеда, пока он не осуществил свои черные замыслы». Другим он говорил: «Кто, кроме Таргала, мог похитить огненное копье? Ведь это ему поручена охрана тайных подземелий, только у него есть доступ к нашему оружию. Таргал и Элиар погубили Бел-Адора, а теперь хотят свалить вину на Хеда, чтобы погубить и его. И так они уничтожат всех, кто стоит у них на пути, — чтобы превратить этот мир в царство зла».
И дэвы верили Шемай-Лоху, не зная его коварных замыслов. Вскоре они совсем перестали доверять друг другу и разделились на два лагеря. Одни были на стороне Хеда, другие обвиняли его. Отношения между дэвами становились все напряженнее, и в конце концов те, кто поддерживал Хеда, ушли из Анугарда и Асгарда. Шемай-Лох примкнул к ним и стал их предводителем. Они направились в Ойтру, столицу Альвена. Там не было жилищ, пригодных для дэвов, поэтому было решено построить магдел в Ойтре. Люди Альвена встали на сторону Шемай-Лоха — откуда им было знать, что он переродился, и душа его стала черной? — и помогли дэвам строить магдел, а потом воевали за них. А люди Ас-а-Дена и Альвена перестали общаться друг с другом, и даже языки у них стали различаться. С тех пор мы говорим на разных наречиях.
Но Шемай-Лоху было мало того, что он стал полновластным правителем половины мира. Ему нужен был эликон. И ему нужна была Фенлин.
— А что такое эликон? — спросил Гилдор, с интересом слушавший рассказ.
— Честно говоря, я и сам толком не знаю… Это что-то вроде большого колеса, вернее, обода от колеса, диаметром примерно четверть мили. И по всему ободу снаружи идут вытянутые блестящие окна, похожие на глаза, но через них не видно, что внутри. Эликоны необходимы дэвам — в них они черпают свою силу. Если дэв долго не заходит в эликон, он слабеет и испытывает муки. Еще я знаю, что эликон должен лежать на вершине магдела, иначе дэвы не могут им пользоваться. Но самое удивительное, что эликоны могут летать. Вот, пожалуй, и все, что мне о них известно.
— А что там внутри, в этих бубликах? — спросила Мирегал.
— Этого никто не знает. Человек не может туда войти, а дэвы, когда их спрашивают, только улыбаются и говорят, что там — частица того мира, откуда они пришли…
— Ну а что было дальше? — спросил Хайр. Все, затаив дыхание, слушали Ки-Энду, а тот сидел, прислонившись к стволу старого дуба, и смотрел поверх их голов куда-то вдаль.
— Шемай-Лоху эликон был нужен, чтобы увенчать им магдел в Ойтре и чтобы верные ему дэвы могли стать полностью независимыми от Асгарда. Эликонов в то время было три: один в Меллнире, другой в Анугарде, третий в Асгарде. Все они надежно охранялись, и Шемай-Лох не мог похитить ни одного из них. Тогда он решил украсть прекрасную Фенлин. Теперь, когда погиб Бел-Адор, только она одна из всех дэвов могла изменять природу людей. А Шемай-Лох мечтал создать новый народ, полностью покорный его воле, который заполнил бы всю землю и в котором его черный дух обрел бы вечную жизнь. И вот однажды дэвы из Ойтры, как обычно, пришли в Асгард, чтобы побывать в эликоне и восстановить свою силу. Элиар не мог препятствовать этому — он не хотел ни гибели мятежных дэвов, ни кровопролитной войны. Пробыв несколько дней в Эликоне, пришельцы двинулись в обратный путь. Выйдя из магдела, они нашли Фенлин в нижней части города — там, где живут люди, — схватили ее и унесли обратно в Ойтру. Говорят, они летели по воздуху при помощи каких-то птиц… Не знаю, правда ли это, — в те времена дэвы действительно иногда пользовались чудесными предметами: стальными подводными змеями, кораблями, которые плыли без парусов и весел, громадными конями, которые бежали быстрее ветра. Потом все это то ли уничтожили, то ли спрятали…
Потеря Фенлин была катастрофой для дэвов, оставшихся с Элиаром. Люди тогда еще не были совершенны, не стали еще такими, какими их хотели сделать дэвы, чтобы обрести в них вечную жизнь. Шемай-Лох потребовал эликон в обмен на жизнь Фенлин, но отпустить ее из Ойтры он не соглашался даже за все три эликона. Тогда Элиар отправился к Мидмиру, чтобы посоветоваться с ним.
— Мидмир — это кто? Это дэв? — спросил Ган-а-Ру.
— Нет. Это большой черный дуб, он стоит в долине недалеко от Меллнира. Дэвы создали его, как только появились на земле. Это Великий Разум. Дэвы поведали ему все, что сами знали, и он может ответить почти на любой вопрос, если его правильно задать. Элиар рассказал Мидмиру о возникшем среди дэвов разладе и похищении Фенлин. «Виновен ли Хед в смерти Бел-Адора?» — спросил Элиар. «Нет», — ответил Мидмир. «А кто в этом виновен?» — «Шемай-Лох». — «Я так и думал, — сказал Элиар. — Шемай-Лох переродился и теперь служит злу?» «Да». — «Как нам вернуть Фенлин?» — «Вы можете получить ее назад только силой». — «Нам нужно идти войной на Ойтру?» — «Да, если вы хотите освободить Фенлин». — «Можно ли использовать наше оружие?» — «Нет. Тогда погибнет мир». — «Хватит ли у нас сил?» — «Да». — «Будет ли уничтожено зло после нашей победы?» — «Нет, зло только окрепнет». — «Можем ли мы уничтожить зло?» — «Я не знаю ответа», — сказал Мидмир. Дэвы долго совещались между собой и решили начинать войну. Таргал с тридцатью дэвами спустились с гор и пришли в Рагнаим. Кулайн отправился в Асор-Гир и собрал там армию людей из Ас-а-Дена.
— Очень ты много говоришь непонятных слов, — сказала Мирегал. — Что такое армия?
— Это большая группа вооруженных людей. Армия делится на отряды, и в каждом отряде есть мелх — человек, которому все должны подчиняться.
— Даже если им не хочется?
— Да. Война вообще — вещь страшная, и подчинение мелху — еще не самое худшее, что в ней есть. Так вот, когда Кулайн привел свою армию в Рагнаим, они соединились с Таргалом и двинулись в поход на Ойтру. На границе Альвена их встретила армия Шемай-Лоха — дэвы и люди. Произошло сражение — обе армии сошлись, и люди стали убивать людей, а дэвы — дэвов. Много погибло и тех, и других. Войско Таргала и Кулайна оказалось сильнее, и Шемай-Лох отступил. Но война продолжалась еще долго — целых семь лет шли сражения на полях Альвена, пока наконец люди из Ас-а-Дена не подошли к Ойтре. Шемай-Лох и его войско укрылись за могучими стенами. Город был окружен, но оказался неприступным…
Долго продолжалась осада. Дэвы в Ойтре, уже десять лет не входившие в эликон, начали терять силу, но люди стояли насмерть. Тогда Элиар решил пойти на хитрость. И вот однажды, через три года после начала осады, защитники Ойтры увидели в небе летящий эликон. Он опустился возле стана осаждающей армии, и из него вышли пятьдесят дэвов в сверкающих доспехах. Шемай-Лох знал, что, захватив эликон, он сможет выиграть войну. Его дэвы обретут прежнюю силу и смогут отбросить врага от стен Ойтры. Стальные ворота открылись, и все воинство Шемай-Лоха ринулось в бой. Натиск был так силен, что ряды людей из Ас-а-Дена дрогнули. Кулайн бежал с поля боя и следом за ним — вся армия, а Таргала не было видно. Дэвы Шемай-Лоха захватили эликон, но не могли попасть внутрь — эликон открывается снаружи, только когда лежит на вершине магдела. И пока армия преследовала отступающего врага, дэвы внесли эликон в город и подняли его на магдел. Открыв вход, они устремились внутрь, все до единого, не в силах ждать ни минуты. Они думали, что эликон пуст, но там было тридцать дэвов Элиара, и Таргал среди них. Они спрятались где-то в глубине, а потом вышли и заперли Шемай-Лоха и всех его дэвов внутри, перед этим лишив эликон способности летать. Они овладели опустевшим городом и закрыли ворота. А в это время отступавшая армия повернула назад и погнала защитников Ойтры обратно к крепости. Кулайн вел в бой шестьдесят могучих дэвов, противостояли же им только голодные измученные люди. Подбежав к городу, воины Шемай-Лоха хотели укрыться за стенами, но ворота были закрыты. На вершине надвратной башни появился Таргал. Он заговорил, и голос его был слышен на десять миль вокруг: «Защитники Ойтры! Ваша крепость пала. Ваши дэвы заперты в эликоне и не выйдут оттуда, пока мы этого не пожелаем. Вы проиграли войну, но каждый, кто добровольно сложит оружие, будет прощен».
И воины Шемай-Лоха побросали на землю свои мечи и копья. А тем временем в эликоне, лежащем на вершине магдела, происходили таинственные и страшные события. Элиар, в тот же час прибывший в Ойтру, пытался говорить с мятежными дэвами. Он сказал им правду о Шемай-Лохе, поведанную ему Мидмиром. Но эликон молчал. Двери его давно были отперты снаружи, но оказались запертыми изнутри. Наконец, через неделю, они открылись, и оттуда вышли сорок два израненных дэва и с ними прекрасная Фенлин. Шемай-Лох и восемьдесят других исчезли, а эликон был мертв — потерял всю свою силу. Он и сейчас лежит там ржавый, растрескавшийся, никому не нужный металлический обруч. Шемай-Лох, уходя, погубил эликон, и теперь их осталось только два.
— А как же он вышел оттуда? Ведь они были заперты, — сказал Гилдор.
— Этого не знают даже дэвы. Известно только, что он хотел забрать с собой всех, кто там был, но многие не согласились — ведь Элиар поведал им правду. Там, в эликоне, произошла кровавая битва, в которой погибло двенадцать дэвов.
— А что было дальше? — негромко спросил Гил, увидев, что Ки-Энду замолчал и погрузился в раздумья.
— Дальше? Сорок два мятежных дэва вернулись в Асгард, рознь между ними была забыта. Анугард опустел, лишившись эликона — ведь это анугардский эликон был погублен Шемай-Лохом. Да и дэвов осталось слишком мало, чтобы заселить два города. Ойтра тоже опустела, и жители Альвена построили себе новую столицу — Альвен-Гир на реке Солфьенн. Как и обещал Таргал, они были полностью прощены. Прекрасная Фенлин снова стала учить людей добру и любви. Люди заселили новые земли — Сол-а-Ден и Гарм-а-Ден на севере, Эн-Гел-а-Син на юге. Земля расцвела, и добро вновь воцарилось в мире.
— А Шемай-Лох так и исчез? — спросил Гил. Ки-Энду как-то странно взглянул на него.
— Вы что, ребята, хотите, чтобы я всю историю мира вам рассказал? Хватит уже, пора и о деле подумать.
Глава 5 РОЖДЕНИЕ ПЛАНА
1. И Ангел, которого я видел, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков… что времени уже не будет: но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия.
Апокалипсис, 10, 5—7 2. Конец возвещен рогом Гьяллархорн; Хеймдалль трубит, поднял он рог. Прорицание Вельвы, 46Все притихли. Солнце стояло высоко над лесом, воздух был теплый и прозрачный. Где-то в вышине пел жаворонок, в траве стрекотали кузнечики. Мирегал, сначала с интересом слушавшая рассказ брата, полулежа среди голубых и желтых майских цветов, под конец почувствовала, что у нее слипаются глаза. Травка была такая мягкая и ласковая, солнышко такое теплое, а голос рассказчика звучал так убаюкивающе-монотонно, что голова ее как-то сама собой стала склоняться все ниже и ниже, пока не скрылась в высокой траве. Мирегал закрыла глаза. Перед ее мысленным взором расстилались бескрайние зеленые равнины, по ним, вдалеке, скакали всадники, много всадников, закованных в сверкающую сталь. Развевались знамена, белые, как снег, и синие — как небо, солнце блестело на мечах дэвов, ветер развевал их золотистые волосы. Слышалась музыка, откуда лились звенящие трели — это жаворонок поет где-то под облаками, исчезающая точка в бескрайней вышине, — нет, это трубы играют, серебряные и золотые трубы дэвов, и зовут, зовут в бой. Но вот набегают тучи, небо багровеет, всадники поворачивают вспять и несутся галопом — ближе, ближе, земля дрожит под копытами. Вдруг раздается звук горна — резкий, надрывный, он отдается болью в ушах, он проникает в самые дальние уголки, и мир не может вынести этого звука — земля поднимается, раскалывается, разлетается миллионами осколков… Они летят вверх, вспыхивают искрами, сгорают, а из-под расколотой земли с грозным рокотом вырывается ослепительное пламя.
Испуганное сонное лицо Мирегал показалось над травой.
— Ой, — сказала она, протирая глаза, — что это было? Я, что ли, заснула? Прости, Энду, очень уж ты нудно рассказываешь. А мне такой сон приснился… будто все разлетелось на куски. Так красиво!
— Ах, Мирегал, какая же ты очаровательная, когда спишь, — сказал Гил, сидевший рядом и любовавшийся ею. — У тебя такой хорошенький носик, и ресницы такие длинные и пушистые, и еще вот этот колокольчик лежал у тебя на щеке…
— Глупости какие! — кокетливо улыбнулась Мирегал. Гилдор, сидевший неподалеку, сообщил с важным видом:
— А пока ты спала, у нас тут было землетрясение!
— Правда! Ой, как жалко!
— Да какое там землетрясение, — возразил Балг, — так, чуть-чуть тряхнуло, как будто кто-то постучал снизу: тюк-тюк! — и все.
— Военный совет проходил в серьезной, деловой обстановке, — торжественно произнес Ган-а-Ру, лежа на спине с закрытыми глазами и жуя травинку. — Были обсуждены все насущные вопросы: история мира, землетрясение, щечки и цветочки.
— Землетрясение… Так вот почему мне приснилось… — задумчиво начала Мирегал, но Гилдор перебил ее.
— Правда, давайте поговорим о деле! — воскликнул он с воодушевлением. — Господин Ки-Энду! Скажите, что же вы придумали? Мы что, тоже заманим нидхагов куда-нибудь и запрем?
— Куда же мы их заманим? Нет, нужна какая-то другая хитрость.
На дубу громко каркнула ворона. Мирегал встрепенулась, глаза ее расширились.
— А вот и горн! — сказала она громко, и все удивленно на нее посмотрели.
Она смутилась и скрылась в траве. Теперь там, где только что торчала ее голова, покачивались колокольчики…
— Честно говоря, у меня пока нет никакого плана, — продолжал Ки-Энду. — Сначала надо выяснить, где находится нидхагир и что там вокруг. Мы сходим в горы и все разведаем, а потом уже будем думать.
— Мне кажется, надо их напугать, — сказал Гил. — Устроить шум, грохот, крик поднять. Может, они испугаются и убегут.
— Нет, я вам все-таки расскажу! — голова Мирегал снова показалась над травой. — Это был ужасно интересный сон!
— Пустили девчонку на военный совет… — проворчал Гилдор, насупившись.
— Сначала была зеленая равнина, и по ней скакали дэвы на белых конях. Они были очень красивые, и играли трубы, а на самом деле это жаворонок пел. А потом все вдруг потемнело, и всадники повернули и поскакали прямо на меня. И тут каркнула ворона, а мне снилось, что это горн. Звук был такой резкий, страшный! И вдруг земля затряслась, и все разлетелось на мелкие кусочки, и оттуда пламя, пламя! Это, наверное, было землетрясение, а мне снилось, что земля раскалывается! Правда, здорово?
— Ну что ты вылезла со своим сном? — буркнул Гилдор. — Мало ли что приснится. Мы тут важные вещи обсуждаем, а ты мешаешь.
Но Ки-Энду внимательно выслушал рассказ Мирегал, а когда она кончила, его лицо внезапно просветлело, глаза заблестели, и он сказал:
— Ну, сестренка! Ну, молодец! Вот так сны тебе снятся! Все, ребята, у меня есть план! Эй, Балг, скажи, какое оружие оставили у тебя люди из Асор-Гира?
— Мечи, копья, луки, длинные ножи, щиты, секиры… все, кажется.
— А горны у тебя есть?
— Есть и горны.
— Отлично! Ну, ребята, пошли вооружаться.
— Да скажи хоть, что за план ты придумал? — спросил Гил, пока все вставали и потягивались.
— По твоему совету, Гил, и по сну Мирегал! Мы напугаем их трубами!
— Думаешь, они испугаются? — засомневался Гил.
— Еще как! — Ки-Энду хитро заулыбался. — По-моему, нидхаги должны бояться труб больше всего на свете.
— Почему?
— Потому!.. Ну, все готовы? Давай, Балг, веди нас в свои подземелья. Где там у тебя огненное копье Ха-Бул?
Возбужденный Ки-Энду отправился вслед за Балгом в дом, а за ними и все остальные. Вскоре они вернулись к дубу, неся кучу оружия. Гилдор вытащил меч из ножен, подбежал к поленнице и с воинственным криком «Эгей!» со всей силы ударил по бревну. Меч отскочил, вырвался из рук Гилдора и со звоном отлетел назад, чуть не снеся ему голову.
— Развоевался, — сказал его брат-близнец Хайр, — тоже мне!..
— Да… Всем нам, похоже, надо малость потренироваться, — сказал Ки-Энду. — Объявляю военные учения! Как в Асор-Гире. Школа стрельбы из лука — преподает господин Ки-Энду. Удар копьем — учит господин Беллан из Пасеки. Щит и меч — господин Энар из Дубравы. Прошу всех разделиться на три группы!
— Обманный взмах мечом с последующим самоубийством — преподает профессор Гилдор из Белых Камней! — объявил Ган-а-Ру.
Раскрасневшиеся, возбужденные мужчины приступили к занятиям. К задней стене трактира приставили три бревна, одно из которых служило мишенью для стрел, другое — для копий, а третье вскоре было изрублено мечами в мелкие щепки. («Покололи бы уж и остальные», — заметил Балг.) Все бегали, кричали, махали щитами и копьями. Запыхавшаяся Мирегал перебегала от одной группы к другой и требовала, чтобы ей тоже дали попробовать.
Расправившись с бревнами, перешли к учебным поединкам.
— Враг рубит мечом… Руби, Вайл! — кричал коротышка Энар, подпрыгивая на полусогнутых ногах и закрываясь щитом от стоящего перед ним неуклюжего Вайла. — Так! Подставляем щит! Меч застревает! Дергаем! Так! Враг выпускает меч из рук! Выпад! Все, Вайл, ты убит. Следующий! Кто следующий? А ты куда лезешь, Мирегал? Кто тебе дал меч? Э, ты что делаешь?!
— Давай, Мирегал, так его! — кричал Ган-а-Ру, потрясая копьем. — Чтоб не задавался! Удар! Щит раскалывается! Выпад! Все, ты убит, Энар!
— Не считается! — закричал Энар, поднимаясь. — Щит был с трещиной! Мне его предыдущие раскололи!
— Считается, считается! — смеялась Мирегал. — Ну, не расстраивайся. Хочешь, я тебя поцелую?
Наконец все устали, и Ки-Энду затрубил в рог.
— Отбой! — крикнул он. — Давайте передохнем.
Запыхавшиеся, взбудораженные новобранцы расселись под дубом, оживленно обсуждая свои первые боевые впечатления.
— Ты видел, видел? — махал руками Гилдор. — Я его — раз! А он меня — трах! А я как отскочу и снова — бабах!
— Успокойся, сынок, тебе вредно волноваться, — сочувственно сказал Ган-а-Ру.
— Славно повоевали! — вздохнул Хайр. — Теперь хоть на войну иди. На белых конях, со знаменами!
— Ни одно бревно не устоит перед нашим натиском! — поддел его Ган-а-Ру.
— Да, с бревнами-то мы лихо расправились, — вздохнул Вайл. — А вот как будем с нидхагами?
При упоминании о нидхагах общее оживление несколько спало.
— Выходит, все-таки будем драться? — спросил Беллан.
А как же обещанная хитрость?
— Будет и хитрость, не беспокойся, — сказал Ки-Энду. — Все равно надо хоть немножко научиться владеть оружием, мало ли что случится. Но я надеюсь, что обойдется без драки.
— Так какой у вас план, господин Ки-Энду? — спросил Хайр.
— План?.. Сейчас Балг принесет нам жаркое, если вы его не растоптали. После обеда продолжим учения — наколем Балгу дров за его труды. Потом поучимся трубить — это самое главное. А завтра с утра поедем в горы на разведку.
— А нидхагов-то как будем выгонять?
— Я же сказал — с помощью горнов. Ну, и еще кое-что… А теперь обедать!
Через два часа долина огласилась страшными звуками, идущими из-за трактира старого Балга. Звуки напоминали мычание большого стада бешеных коров. Овцы переселенцев, уныло бредущие вдоль дороги на восток, разбежались по окрестным полям. Тридцать девять лошадей, мирно пасшихся неподалеку от трактира, галопом помчались в сторону леса.
— А неплохо действует, — сказал Хайр, морщась. — Еще пять минут такого концерта — и пропал мой музыкальный слух!
— Да, ребята, это не тот эффект, к которому мы стремимся, — сказал Ки-Энду. — Давайте-ка разучим простенькую мелодию:
Пам, пам, парам! Пам, пам, парам! Пам-пам, пам-пам, Пам-пам, парам, пам-пам!Только играйте потише, прошу вас! Совсем тихонечко!
Когда Ки-Энду напел мелодию, Беллан испуганно вздрогнул и посмотрел на Энара. Тот молча кивнул. Они вдвоем подошли к Ки-Энду и попросили его отойти в сторонку поговорить. Пока все остальные разучивали мотив, негромко и ужасно фальшиво трубя в горны, Беллан, Энар и Ки-Энду незаметно отошли за угол дома.
— Мы поняли твой план, Ки-Энду, — сказал Беллан. — То, что ты задумал, — кощунство.
— Никто, кроме Хейм-Риэла, не смеет подавать этот сигнал, — сказал Энар.
Глаза Ки-Энду гневно сверкнули.
— Кощунство? А как вы назовете то, что делает враг? Травить нас нидхагами, оживлять наших предков, чтобы они пожирали нас, — не кощунство?
— Ты веришь в гуллов, Ки-Энду?
— Гробницы в Тетагире пусты. Мы своими глазами видели гулла на дороге. Это правда, Энар.
— Но мы не можем подать этот сигнал. Что будет, если кто-нибудь, кроме нидхагов, услышит нас? Уж лучше биться с оружием в руках, — сказал Беллан.
— Ты хочешь послать этих детей на смерть? По-твоему, это меньшее кощунство?
— Тогда лучше совсем отказаться…
— Мы не можем этого сделать. И так уже слишком поздно! Еще немного, и враг воцарится во всем мире. Не бойтесь, друзья! Никто, кроме нидхагов, не услышит сигнала.
К вечеру многие уже научились правильно играть напетую Ки-Энду мелодию. Поужинав, все разошлись по своим спальням, уставшие после напряженного дня. На втором этаже у Балга было несколько комнатушек для гостей, так что места хватило всем.
Гил не мог заснуть и долго ворочался, прислушиваясь к храпу Балга за стеной. Наконец он встал, вышел из комнаты и осторожно, чтобы никого не разбудить, прокрался к спальне Мирегал.
Она не проснулась, когда он вошел, хотя тяжелая дверь громко заскрипела. Комната была маленькая и уютная, совсем кругленькая — пол по краям мягко загибался кверху, плавно переходя в стены, и так же переходили друг в друга стены и потолок. В круглом окошке был виден лес. Неполная луна освещала комнату, и в этом волшебном свете лицо Мирегал казалось утонченным, почти неземным, словно это была не Мирегал, а спящая королева фей. Гил осторожно присел на край кровати.
— Ми… Ты спишь? Какая ты красивая!
— Гилли… Почему ты здесь? Тебе не спится?
Гил покачал головой.
— Ты мне сказал уже второй комплимент за день, — Мирегал чуть улыбалась. — Ты меня любишь?
— Не смейся надо мной. — Гил совсем смутился и отвел взгляд. — Я же действительно… Ты такая…
— Я так люблю луну, — сказала Мирегал, выглядывая в окошко. — Я становлюсь совсем другая, когда она светит. Мне хочется сразу и смеяться и плакать…
Оба молчали, стоя у окна. Потом она спросила:
— Ты когда-нибудь пел при луне?
— Нет, я же не умею. А ты так красиво поешь… Я все думаю: что это за мелодия, которую мы учили сегодня?
— Странная, да?
— Да, какая-то тревожная, словно зовет куда-то.
— Она незаконченная. Обрывается неожиданно на высокой ноте, ждешь конца, а его нет… А ведь я знаю эту песенку!
— Знаешь?
— Да. Ки часто ее напевает, когда думает, что его не слышат. Там и слова есть. Хочешь, спою?
Мирегал присела на кровати, завернувшись в одеяло, и запела. Гил смотрел на нее, очарованный. Она пела негромко, мягким, красивым голосом, похожим на звон серебряных колокольчиков:
Ом лайн аэр! Ом лайн аэр! Са Гарм, ха ку Вин сол ла эл габер!Песня обрывалась неожиданно, последняя нота повисла в воздухе, и Гилу вдруг захотелось вскочить и бежать, бежать куда-то далеко-далеко, по залитым лунным светом тропинкам.
— Какой это язык? Я понял только несколько слов.
— Дэвинмол. Ки рассказывал, что на нем говорили люди до войны. Я тоже не все понимаю. Кажется, это значит: «Спешите! Скорей бегите все к нам, потому что Гарм, большая собака, хочет съесть солнце и луну». Все равно непонятно.
Гил вздохнул. Его взгляд скользнул по стенам, обитым зеленой материей, и он заметил рог, служивший вешалкой, на котором поверх голубого платья висел меч в ножнах, «Что-то неведомое и грозное, и все смешалось, перевернулось, и мы все летим в какую-то пропасть…»
— Как там красиво, за окном! — шепнула Мирегал. — Милая наша долина. Наша добрая, тихая жизнь… Неужели это конец, Гил? — с горечью спросила она, и слезы заблестели у нее на глазах. — Неужели ничего этого больше никогда не будет?
Гил испуганно посмотрел на нее.
— Что ты, глупенькая, что с тобой?
В глазах Мирегал было такое неподдельное отчаяние, что он прижал ее к себе и стал успокаивать, гладя, как маленькую, по головке и говоря ласковые слова. Наконец он почувствовал, что она успокоилась и стала тихонько вырываться.
— Прости, пожалуйста. Что-то на меня нашло… Вдруг показалось, что сейчас все развалится, как тогда, во сне. Ну, пусти, я больше не буду…
Гил отпустил ее и ласково посмотрел ей в глаза.
— Чего только не почудится при лунном свете! — Мирегал улыбнулась с прежней беззаботностью. — Давай-ка закроем занавески. Вот так, а теперь иди спать. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, Ми!
Гил вышел, осторожно прикрыв дверь. А Мирегал долго еще ворочалась с боку на бок, то всхлипывая, то смеясь, то кусая подушку. «Что же это? — думала она. — Что же это такое?» Тонкий лучик, пролезший между занавесками, упорно, как она ни вертелась, падал ей на кончик носа.
Глава 6 ВЗЯТИЕ КРАЙНЕГО ПРИГОРКА
1 …Из этого рода станет один мерзостный тролль похитителем солнца. Будет он грызть трупы людей, кровью зальет жилище богов; солнце померкнет в летнюю пору, бури взъярятся — довольно ли вам этого? 2. Гарм лает громко у Гнипахеллира, привязь не выдержит — вырвется Жадный. Прорицание Вельвы, 40–41, 44С утра набежали тучи, подул прохладный сырой ветер. Проснувшись, Гил сел на кровати и посмотрел на унылую картину за окном. Он чувствовал себя разбитым, невыспавшимся и несчастным. В коридоре слышались шаги, голоса — очевидно, все уже встали и собирались в поход. «Куда тащиться в такую погоду?..» — подумал Гил. Он нехотя оделся, взял оружие и спустился в зал. Там уже было полно народу.
— Привет, Гилли! — сказал Ки-Энду. — Как настроение?
— Не выспался я, Балг так храпит…
— Ладно, ладно! Знаем мы, что ты по ночам делаешь, — рассмеялся Ки-Энду
— Как тебе не стыдно, Ки! — возмутилась Мирегал… — Никогда больше не буду тебе ничего рассказывать! — И тут же пожалела о своих словах, потому что все собравшиеся покатились со смеху.
Мирегал надулась, Гил не знал куда деваться от смущения. Наконец, чтобы хоть как-то замять ситуацию, он сказал первое, что пришло ему в голову:
— Ки, а что это за собака такая — Гарм?
При этих словах по крайней мере три человека перестали смеяться: Ки-Энду, Беллан и Энар.
— Гарм? Не знаю я такой собаки, — с деланной беспечностью сказал Ки-Энду.
— Не знаешь? Но ведь в этой песне, которую…
— Ну все, пора собираться! — крикнул Ки-Энду, вставая. — Завтракай быстрее, Гилли, ты самый последний. А мы пойдем седлать лошадей.
Через полчаса отряд, по предложению Хайра получивший название Ио-Син-а-Хут — «Армия Лунных Гор», — двинулся в поход. Тридцать восемь всадников, обвешанных мечами, луками и щитами, на добродушных разномастных лошадках неспешно пересекли дорогу и начали спускаться с пригорка. Балг, глядя им вслед, переминался с ноги на ногу, видимо, силясь принять какое-то решение. Наконец он махнул рукой — была не была! — спустился в погреб и, осмотрев оставшееся там оружие, выбрал для себя большой стальной шлем с торчащим на макушке конским хвостом. Во дворе он подобрал топор для рубки дров и пошел седлать своего тяжеловоза. Балг догнал отряд в Желтом Ручье, где Ки-Энду решил сделать небольшую остановку. Мужчины вытаскивали из сарая большие мотки крепкой веревки, лопаты, тяжелые железные ломы и грузили все это на телегу. Мирегал пересела с вороного, возившего повозку с мумией в Тетагир, на свою любимую белую лошадку. Она первой заметила приближение трактирщика.
— Ой, Балг, — закричала она, — на кого ты похож! Сними это сейчас же!
Но Балг, несмотря на всеобщий хохот и шуточки, не пожелал расстаться со своим шлемом.
— Так куда мы направляемся? — спросил Энар у Ки-Энду, когда отряд двинулся дальше на северо-восток.
— В Крайний Пригорок. Это близко к горам, там можно будет расположиться. Вышлем разведчиков и будем ждать, пока они найдут нидхагир.
— Думаешь, он там один?
— Судя по всему, да. И он должен быть недалеко от Крайнего Пригорка, ведь именно в тех местах нидхагов видели чаще всего.
Горы Ио-Син медленно приближались — уже можно было различить глубокие темные ущелья, прорезавшие глинистые склоны. Эти ущелья, промытые весенними ручьями, да еще торчащие кое-где вертикальные плоские скалы, напоминающие полуразрушенные стены крепости, были единственным, что нарушало волнистое однообразие пологих склонов и сглаженных вершин.
Ки-Энду и его спутники ехали по местам, с детства знакомым и родным. Их поразила необычайная тишина и безлюдье. Почти половина хуторов в этой части долины уже опустела, обитатели остальных только двух или трех одиноких пастухов, которые пугались, завидев отряд, а узнав, что это не нидхаги, а свои, идущие на войну, улыбались, желали удачи и предлагали чем-нибудь помочь.
— Нам понадобятся повозки, — говорил им Ки-Энду. — Постарайтесь пригнать побольше пустых повозок к Крайнему Пригорку.
Ио-Син-а-Хут подъехал к хутору Собачий Двор. Он получил свое название из-за наследственной любви его обитателей к этим животным. Десятка два самых разнообразных собак, бродивших вокруг дома, радостно залаяли и бросились навстречу подъезжающим. На крыльце появился старый Линдор, прозванный Кун-Линдором за любовь к четвероногим друзьям. Увидев вооруженных людей, он хотел было захлопнуть дверь, но, узнав Ки-Энду и его спутников, спустился с крыльца и приветствовал их.
— Добрый день, господин Линдор! — сказал Ки-Энду. — Как поживаете? Не страшно вам тут, у самых гор? Соседи-то ваши, похоже, все уехали?..
— Соседи уехали, а мы с женой решили — нечего нам на старости лет куда-то переселяться. Подождем, пока сыновья вернутся из Асор-Гира, пусть они тогда решают, что делать дальше. А до тех пор никуда мы отсюда не уйдем. Ну, а вы куда путь держите?
— В Крайний Пригорок.
— Э, вот туда-то как раз и нельзя. Там нидхаги. Внучка моя еще на рассвете забрела туда, смотрит — а там полным полно чужих косматых мужиков, еле ноги унесла.
— Они-то нам и нужны, — сказал Ки-Энду. — Это даже хорошо, что они там. Можно, мы на время оставим здесь своих лошадей и телегу?
— Господин Линдор, — сказал Гил, задумчиво гладя на резвящихся собак. — А нет ли у вас пса по кличке Гарм?
Кун-Линдор хитровато посмотрел на Гила:
— А у вас заметно расширился круг интересов, господин Шем-ха-Гил. Есть, как же. Гарм! Эй, Гарм!
— Хан Дэвин, — пробормотал Энар. Беллал вздрогнул и побледнел, гладя, как огромный черный пес подбежал к Линдору и уселся у его ног.
— Что за наваждение? Надо же так собаку назвать! — пробурчал Беллан себе в усы.
Оставив лошадей в Собачьем Дворе, отряд стал осторожно, стараясь не выходить на открытые места, пробираться к Крайнему Пригорку. Этот хутор — ближайший к горам — был оставлен жителями еще позавчера. Горы начинались крутым глинистым обрывом в полумиле к северу от хутора. Армия Лунных Гор приближалась к нему с юго-запада, двигаясь под прикрытием виноградника людей из Собачьего Двора. Когда виноградник кончился, они сразу увидели дом на пригорке — окна распахнуты, стекла выбиты, — большую группу конных нидхагов, двигающихся в сторону обрыва, и тяжело навьюченных лошадей. Нидхаги подъехали к сыпучей глинистой стене, возвышающейся над равниной, и один за другим начали исчезать в узком ущелье, промытом талыми водами.
— Кто-то должен пойти за ними, — сказал Ки-Энду, — это редкая возможность без долгих поисков найти нидхагир. Ну, что самый смелый?
— Я! — сказала Мирегал.
— Нет уж, на этот раз я тебя не пущу. Ты на войне и должна слушаться.
— А мне можно? — спросил Гил. — Давай я пойду.
— И я! — крикнул Гилдор, подпрыгивая от возбуждения.
— Ну уж нет, — сказал Ган-а-Ру, — от тебя слишком много шуму. Еще распугаешь их раньше времени, а мы что, зря учились дудеть? Я пойду, и точка!
Как только последний всадник скрылся в ущелье, Гил и Ган-а-Ру побежали следом и через две минуты достигли обрыва. Почти отвесные стены узкой трещины, в которую въехали нидхаги, были образованы сероватой глиной с прожилками сыпучего белого гипса. По дну ущелья вдоль сухого русла шла нетоптаная тропинка. Не переводя дыхания и не оглядываясь, Гил и Ган-а-Ру побежали по ней, боясь упустить нидхагов. Дно трещины постепенно поднималось, но стены оставались такими же высокими и неприступными.
После первого же поворота долина скрылась из виду. Гил и Ган-а-Ру вступили в царство нидхагов, Ио-Син окружил их со всех сторон сыпучими стенами. Через некоторое время они услышали впереди стук копыт и пошли медленнее. И почти тотчас же такой же звук раздался сзади.
— Поторопились мы! — Гил остановился. — Там сзади еще нидхаги едут. Что будем делать? И спрятаться негде…
— Беги вперед!
— А ты?
— Попробую уговорить их не ехать дальше. Приглашу в гости. Ну что ты встал? Беги!
Ган-а-Ру, снимая с плеча лук, подтолкнул Гила вперед. Тот побежал, спотыкаясь, и, миновав поворот, услышал сзади приглушенный голос Ган-а-Ру:
— Одну минутку, господин, извините, не знаю вашего имени. Бросайте-ка оружие и не скальте так зубы, тем более, что, по-моему, вы их сегодня забыли почистить.
Гил побежал вперед. Узкое, извилистое ущелье вело все дальше в глубь Ио-Сина. Тропинка перепрыгивала с одного берега сухого русла на другой, карабкаясь все выше, но ущелье оставалось таким же узким. Кое-где отвесные стены сходились так близко, что даже двум всадникам трудно было бы разъехаться. После очередного поворота Гил оказался в начале довольно длинного прямого участка; здесь проход заметно расширялся и просматривался на четверть мили вперед. Нидхагов не было видно, только одна крепкая, приземистая нидхагская лошадь понуро стояла на тропе. «Они меня здорово обогнали, — подумал Гил. — Сейчас ущелье кончится, и я не буду знать, куда идти». Он побежал со всех ног. Не добежав до лошади шагов двадцать, он споткнулся обо что-то мягкое и полетел вперед, еле успев выставить руки, чтобы смягчить удар. Сразу встать он не смог — в кровь разбил коленки и ладони, к тому же, падая, ударился головой о торчащий из стены камень. Медленно приподнимаясь на руках, он внезапно услышал сзади — примерно оттуда, где были его ноги, — глухое злобное бормотание. Обернувшись, Гил увидел прямо над собой оскаленную морду нидхага. Шкура у него на щеке была содрана, с желтых клыков капала слюна.
— Врх ногр над смотрэт. Шрак! — Нидхаг взмахнул мечом.
Ки-Энду и его спутники, залегшие на склоне пригорка в четверти мили от хутора, видели, как Гил и Ган-а-Ру скрылись в темной трещине и как сразу же вслед за этим из Крайнего Пригорка выехал конный нидхаг, направляющийся в ту же сторону.
— И мы никак не можем его задержать, — пробормотал Ки-Энду. — Только бы они заметили его раньше, чем он их.
— Они погибнут? — спросил Вайл.
— Откуда я знаю! Но мы должны сейчас же окружить хутор, чтобы к этому нидхагу не добавился еще десяток. Ну, бегом.
Отряд побежал к дому.
— Энар и еще десять человек — к задней стене! Остальные — к передней! Не бегите толпой, расстояние между людьми пятнадцать шагов. И тише, тише!
Несмотря на приказ Ки-Энду приближение отряда к хутору прошло шумно и неорганизованно. Люди натыкались друг на друга, падали, роняли оружие. Когда, наконец, дом был окружен, входная дверь внезапно распахнулась, и не пороге появились два пьяных нидхага — один держал под мышкой серебряную чашу, другой прижимал к груди скомканное одеяло. Они спустились с крыльца и, покачиваясь, сделали несколько шагов по направлению к своим лошадям, стоящим в дальнем конце двора.
— Стойте! — крикнул Ки-Энду, сняв с плеча лук. Нидхаги, до сих пор не замечавшие людей, остановились, тупо озираясь и тщетно пытаясь понять, что происходит. Наконец, один из них, менее пьяный, бросил чашу, вытащил меч и пошел на Ки-Энду с глухим рычанием.
— Я буду стрелять! Стой!
Нидхаг подходил все ближе. Вот он уже совсем рядом, вот он поднимает меч… Только когда стальное лезвие начало опускаться, Ки-Энду, отпрянув, спустил тетиву.
— Хватайте второго! Чего вы стоите?
Первый нидхаг, уронив меч и схватившись обеими руками за конец стрелы, торчащей у него из горла, стоял некоторое время, словно окаменев, потом глаза его налились кровью, рот открылся, и он упал на спину, не издав ни звука.
Мирегал, вскрикнув, закрыла лицо руками.
Второй нидхаг до сих пор не сдвинулся с места — так и стоял, вцепившись в свое одеяло, словно оно могло его защитить. Беллан подбежал к нему, вытащил у него из ножен меч и, убедившись, что другого оружия нет, посадил остолбеневшего нидхага на крыльцо. Ио-Син-а-Хут столпился вокруг, разглядывая пленного.
— Говорить можешь? — спросил Ки-Энду.
Нидхаг посмотрел на него тупым, бессмысленным взглядом.
— Ты бы хоть причесался, — сказала Мирегал.
— В доме есть еще ваши?
Нидхаг, с трудом двигая челюстями, прохрипел:
— Яхр их молчат! — Ему сделалось дурно, и он повалился на бок. Все отвернулись.
— Пошли, посмотрим, что в доме, — сказал Ки-Энду.
Оставив пленного на попечение Рилга из Приречья и Мирегал, все остальные вошли внутрь. Там был полный разгром — мебель перевернута, посуда перебита. Даже картины на стенах были изрезаны в клочья.
— Зачем они это делают, господин Ки-Энду? — спросил Хайр, с ужасом глядя на болтающиеся разноцветные лоскутки, недавно бывшие прекрасным пейзажем работы Конгала.
— Они ненавидят искусство, Хайр. Оно для них невыносимо — глядя на картины, они видят уродство собственных душ.
— А разве они не понимают?.. Разве они догадываются о собственной неполноценности? Я думал, они считают себя верхом совершенства.
— Нет. Они все очень тонко чувствуют. Ведь зло не является их исконной природой, оно насильственно вживлено в их души. Нидхаги — самые несчастные существа на свете, Хайр.
В подвале, среди пустых винных бочек оказался еще один нидхаг — он спал беспробудным сном прямо на земляном полу. Первого пленного, когда ему стало получше, перевели туда же. Когда оба были надежно заперты в подвале, Ки-Энду и его отряд вышли во двор.
— Смотрите! — воскликнул Гилдор. — Кто это?
Со стороны обрыва к хутору приближались двое — один, низенький и сгорбленный, шел впереди, заложив руки за спину, другой, повыше, с луком в руках, шагал сзади.
— Да это же Ган-а-Ру с Гилом, — сказал Балг.
— Второй-то точно Ру, а вот Гил какой-то странный… — сказала Мирегал. — Чего это он такой сутулый и лохматый?
Странная пара подошла ближе, и все разглядели, что первым шел нидхаг со связанными за спиной руками. Ган-а-Ру гнал его перед собой, насвистывая веселенькую мелодию.
— Позвольте представить вам господина Бхарга, — сказал Ган-а-Ру, подведя своего пленного к дому. — Он немногословен, мой новый друг, — за все время нашего знакомства я выучил только одно выражение на его языке: «шрак» — я правильно произношу, приятель? Это значит: «Сударь, ваша внешность и манеры оставляют желать лучшего».
— Подожди, Ру! Объясни, в чем дело. Где Гил?
— Видишь ли, Ки, мы с Гилом только что вошли в ущелье, когда господин Бхарг вдруг выскочил откуда-то сзади, и мне пришлось немного задержаться. Пока мы беседовали, Гил ушел далеко вперед, а потом оказалось, что я не могу бросить господина Бхарга одного, тем более, что он по моей вине лишился коня. Право, не мог же я его просто оставить там и попросить не ходить за нами! Пришлось привести его сюда.
— Надо было его связать!
— К сожалению, у меня только один пояс. К тому же мой новый знакомый, как мне показалось, хотя и не имеет привычки чистить зубы, но зато каждый день их точит — по крайней мере так они выглядят. Будьте любезны, господин Бхарг, покажите зубы!
— Одним словом, ты бросил Гила одного, чтобы не убивать этого нидхага?
Слова Ки-Энду попали в точку. Ган-а-Ру помрачнел и потупился.
— А ты, Ки-Энду, убил этого несчастного, когда нас было так много, и мы могли просто взять его в плен! — воскликнула Мирегал.
Все посмотрели на убитого и содрогнулись — так страшно его лицо с вылезшими из орбит глазами.
— Что ж, — произнес Ки-Энду после минутного молчания, — может, ты и права… И отец наш, возможно, был прав, когда говорил, что добро не родится из крови. Время нас рассудит. Но я сделаю все, чтобы убийств больше не было. А сейчас давайте готовить погребальный костер и ждать Гила.
Увидев занесенный меч, Гил перевернулся на спину, откатившись при этом немного в сторону, и вытащил из-за пояса нож. Нидхаг не успел среагировать на это движение, и его удар пришелся по камню. Лезвие сломалось. Нидхаг зарычал и бросился на Гила, пытаясь схватить его за горло. Тот вскрикнул от ужаса, зажмурил глаза и, не отдавая себе отчета в том, что делает, ткнул ножом куда-то вверх. Нож вошел по самую рукоятку во что-то мягкое, и в тот же миг тяжелая туша нидхага обрушилась на Гила, обдав его густым запахом перегара и грязи. Гил лежал, придавленный, и не мог пошевелиться — и от тяжести, и от отвращения, чувствуя, как что-то теплое, пропитав плащ и рубаху, стекает тонкой струйкой по его телу. Гила стало тошнить, ему казалось, еще минута — и он умрет. Наконец, собравшись с силами, он сбросил с себя труп и вскочил. Перед ним, все такая же понурая и равнодушная, стояла нидхагская лошадь — она и головы не повернула за все время схватки. Гил прыгнул в седло и поскакал дальше в глубь Лунных Гор. «Его лошадь… — думал он. — Напился, не доехав, упал… я ободрал ему лицо башмаком, а потом убил. Кровь. Плащ надо выбросить… Кровь полилась, теперь не остановишь ее… Дэвы великие!.. Нет, нельзя так думать… Держись, Шем-ха-Гил! Худшее еще впереди».
Две или три мили проскакал он на нидхагской лошади вверх по узкой тропе, когда ущелье внезапно кончилось, и он въехал в долину. Гил спешился, отступил назад и спрятался за каменной глыбой — перед ним, как на ладони, лежал Ио-Синский нидхагир. Долина была невелика, с востока и запада ее ограничивали крутые склоны гор, к югу они сближались и оставляли один узкий проход — то самое ущелье, по которому ехал Гил. Дальний конец долины плавно переходил в пологий северный склон. По нему шла, извиваясь спиралью, дорога, ведущая куда-то в сердце горной страны.
В долине стояли три дома — они были похожи на те, что Гил видел в пустыне, только подлиннее, и не бревенчатые, а из кирпичей. Отряд, вернувшийся с добычей из Крайнего Пригорка, уже подъехал к поселку. Нидхаги слезали с коней и шли к дому, стоящему в восточной части долины. Гил заметил, что входили они в этот дом с копьями, а выходили без. Из дальнего, северного дома, выбежали нидхаги в яркой одежде и с ними — маленькие шустрые нидхагята. «Женщины и дети — в северном доме, в восточном — склад», — сообразил Гил. Женщины принялись разгружать лошадей и разбирать добычу; далеко разносились их радостные возгласы.
Изучив нидхагар, Гил принялся рассматривать окрестности.
К северу от поселка пасся табун из ста — ста пятидесяти лошадей. По крутому, глинистому западному склону, ближе к гребню, шел слой серовато-белого камня — он торчал из глины, словно полуразрушенная стена, нависшая над долиной и готовая в любой момент обрушиться вниз. «Как они не боятся! — подумал Гил. — Ведь при первом же сильном землетрясении может произойти обвал». Очевидно, такое уже случалось в прошлом — в западной части долины лежало множество больших сероватых глыб, явно отколовшихся от этой нависшей стены. Противоположный, восточный склон выглядел иначе — только нижняя его часть была глинистая, в основном же он был образован громадной черной каменной плитой, которая хоть и нависала над поселком, но стояла почти вертикально. Верхний край плиты, неровный и зазубренный, находился примерно в трех четвертях мили над долиной, тогда как ее нижний край, точнее, то место, где кончалась глина и начинался камень, — не более чем в двух сотнях локтей.
Тщательно все рассмотрев и запомнив, Гил осторожно вышел из-за камня, где он прятался, взял под узцы нидхагскую лошадь и завел ее обратно в ущелье. Здесь он вскочил в седло и поскакал назад. По дороге он подобрал мертвого нидхага, посадил его перед собой и, придерживая левой рукой обмякшее тело, доехал до Крайнего Пригорка.
Там уже зажигали костер.
— Что я вижу! — вскричал Балг. — Господин Гилли обнимает нидхага как брата родного!
Вся Армия Лунных Гор, оцепенев, смотрела, как лошадь остановилась посреди двора, нидхаг свалился на землю, а Гил, бледный, с остекленевшими глазами, стал медленно заваливаться на бок и упал, раскинув руки, на мертвое тело…
Глава 7 ТРУБЫ В ГОРАХ
Народ воскликнул, и затрубили трубами… И обрушилась вся стена города до своего основания.
Иисус Навин, 6, 19Кровь полилась, теперь ее не остановишь… Небо затянуло красными тучами, шел кровавый дождь… Багровые ручьи бежали по земле…
Гил стоял в долине нидхагов, вся его одежда была пропитана кровью. Кровь текла по лицу, по рукам, во рту был ее соленый привкус.
Дождь полил сильнее. С крутых склонов потекли кровавые потоки. Они выворачивали камни, увлекая за собой целые пласты глины. Ревущий поток обрушился на Гила, сбил с ног, покрыл с головой, навалился чудовищной тяжестью. В нос набилась кровавая глина, нечем стало дышать… Гил отчаянно рванулся и закричал.
…В комнате было светло и чисто. Мирегал стояла рядом с кроватью и испуганно трясла его за плечи.
— Ми! Какой ужас… Мне снилось, что я тону в крови…
— Бедный ты мой! Ты и правда был в крови с головы до ног. Ты знаешь, что потерял сознание и упал с коня? Мы перенесли тебя в комнату, ты сразу заснул, а потом стал кричать. Я так испугалась!
— А где Ки-Энду? Я должен рассказать, что разведал. Я долго спал?
— Нет, совсем недолго. А Ки беседует с нидхагом… у нас же трое пленных, ты знаешь? Сначала их заперли в подвале, а мне стало их жалко, и я тихонечко приоткрыла крышку и поговорила с ними. Один из них оказался совсем неплохим парнем. Я уговорила Ки, чтобы их выпустили, они дали слово не убегать. Хочешь, я тебя познакомлю с Бхаргом?
— Неужели тебе удалось перевоспитать нидхагов? А что это за шум?
Со двора доносился звон, топот, возбужденные возгласы.
— Это военные учения. Наши учат новеньких владеть оружием. К нам сюда приехала куча народу, привезли телеги, разные продукты, все хотят помогать. Твои сестры приехали, и даже наш папочка — он по-прежнему дуется на нас, что мы собрались воевать, но все-таки решил помочь. Он же уверен, что мы погибнем без его мудрых советов… Ну, пойдем вниз!
Во дворе было шумно и многолюдно — мужчины тренировались, женщины готовили еду на больших кострах, все бегали, суетились, кругом стояли пустые повозки. Гил узнал своих сестер — сорокалетнюю Лингал, мать Гилдора и Хайра, и Эалин — красивую серьезную девушку двадцати пяти лет, ездившую на север учиться медицине.
— Смотри, — сказала Мирегал, — вот он, Бхарг!
— Гил увидел нидхага — тот стоял в дальнем конце двора, беседуя с Ки-Энду. Заметив Гила, они направились прямо к нему.
— Наконец-то, — сказал Ки-Энду. — Я уже хотел тебя будить. Пойдем в дом, там потише, расскажешь свои приключения. Тебе удалось что-нибудь разведать? Я уже узнал многое от Бхарга, но тебя мы тоже послушаем.
Нидхаг с любопытством разглядывал Гила. В его маленьких, широко расставленных глазах не было злобы — они выражали удивление, даже восторг.
— Почему упал с конь? — спросил он хрипло, с искреннем интересом.
— Очень хорошо, — сказала Мирегал, — только не с «конь», а «с коня». Скоро будешь совсем правильно говорить.
— Видите ли, господин… Бхарг, я убил нид… человека, то есть… первый раз в жизни…
— Ты убил, то он падает. Так Бхарг понимат. Ты падат — то он тебя убил, нах? — нидхаг осклабился, довольный своей шуткой. — Ру тебя один бросат, меня нах убиват. Ки убил; сестра ругат, омр грустныр. Ты убил, с коня падат, эр сон кричат. Бхарг нах знат, почему?
— Бхарг хитрый, — улыбнулся Ки-Энду, — все он уже знает.
— Он решил стать человеком! — сказала Мирегал. — Он увидел, что мы не любим убивать, и понял, что тоже не хочет быть злым. Правда, Бхарг?
— Значит, вы такие же люди, как мы? Можете быть добрыми? Почему же вы… — начал Гил, но Ки-Энду перебил его.
— Удивительно другое: как непрочно держится в них зло! Впрочем, нидхаги тоже разные: два других пленных не желают нас знать.
— Ашт нах Фенлин. Нытхакр — грубый работа э тунр. Грубый, грязный. Шрак.
— Какая работа? — не понял Гил. — И кто это — Ашт?
— Пойдем, у нас мало времени, — сказал Ки-Энду, — расскажешь, что с тобой приключилось, потом поужинаем — и в бой.
Они прошли в дом, позвав с собой Син-Оглана, Беллана и Энара. Пока Гил описывал ущелье, схватку с нидхагом и горную долину, женщины под руководством Балга приготовили ужин и позвали всех к столу. Стола, собственно, не было — люди расселись прямо на траве, и Балг, Мирегал, Лингал и Эалин стали разносить глиняные миски с аппетитно дымящейся бараниной. Когда все принялись за еду, Ки-Энду попросил тишины и сказал:
— Времени у нас мало, в любой момент могут вернуться нидхаги, поэтому мы пойдем в горы сразу после ужина, чтобы прийти на место засветло. Нужно разделиться на четыре отряда: в первом пойду я, Гил, Ру и еще двенадцать человек — кто захочет. Мы выйдем первыми, потому что нам дальше всего идти — мы обойдем долину нидхагов с севера. Следом за нами выйдут еще два отряда по двадцать человек, они разместятся на западном и восточном склонах, командовать ими будут Беллан и Энар. Остальные, во главе с моим отцом, останутся пока здесь, а на закате подойдут ко входу в ущелье. С ними должен пойти Бхарг. А теперь слушайте, кто что будет делать…
Пока Ки-Энду давал указания, люди покончили с едой. До заката оставалось часа три-четыре. Тучи, с утра затянувшие небо, рассеялись, ночь обещала быть ясной.
Сразу после ужина первый отряд двинулся в путь. Доехали верхом до западного края обрыва, стреножили лошадей и начали взбираться по крутому сыпучему склону. Поднявшись на гребень, двинулись по нему на северо-восток. В двух милях справа от гребня вытянулось глубокое ущелье, ведущее в долину нидхагов. После двух часов тяжелого пути отряд оказался над долиной, на сотню локтей выше похожего на стену каменного слоя. Дальше к северу гребень начал понижаться, склон справа от них становился положе, а каменная стена все меньше выступала из земли, пока не сравнялась с ней. Теперь свернули направо и перешли на пологий склон, ограничивающий долину с севера. Достигнув середины северного гребня, залегли в высокой траве. Внизу паслись лошади нидхагов, еще дальше лежал поселок, а в пяти милях к югу, там, где сходились восточный и западный склоны, темнея узкий провал — вход в ущелье. До заката оставалось полчаса.
— Долго еще? — обратился к Ки-Энду Рилг из Приречья.
— Лучше подождать лишний час, чем поторопиться и загубить все дело. Интересно, они собираются уводить на ночь лошадей?
— Там и пастухи есть, я вижу троих, — сказал Гил.
— Нидхаги рано ложатся спать, — сказал Ки-Энду, — и эти пастухи, должно быть, уже зевают. Но если через полчаса они не уйдут в поселок, нам придется с ними повоевать.
— Беллан с Энаром, наверное, давно уже пришли и ругают нас на чем свет стоит, что мы не даем сигнала, — сказал Ган-а-Ру.
— Вряд ли. Не забывай, что они тащат тяжелые ломы и лопаты.
Наконец солнце скрылось за дальними вершинами на северо-западе. Над изломанным краем каменной плиты, ограничивающей долину с востока, все ярче разгоралась луна. Там, между зубцами, что-то двигалось, какие-то крошечные силуэты перемещались в лунном свете.
— Смотри! — Гил толкнул Ки-Энду локтем. — Энар уже на месте.
— Хорошо. Ждем еще минут десять и подаем сигнал.
Зубчатая тень верхнего края каменной плиты скользила по долине, ее движение было хорошо заметно. Вот осветились два западных дома — ближний, где жили женщины и дети, и дальний, мужской. Потом тень соскользнула с крыш, пробежала по ложбинке, и, наконец, из мрака вынырнул восточный дом.
— Пора, — сказал Ки-Энду.
Пятнадцать воинов встали во весь рост, по пояс в высокой траве, и подняли горны. На миг все стихло, мир словно замер в ожидании. Но вот Ки-Энду взмахнул рукой, и тишину разорвали четыре звонкие, тревожные ноты:
— Пам, пам, парам!Резкие неожиданные звуки потонули в море тишины, словно их никогда и не было. Но прошло пять долгих секунд и, словно эхо, прозвучал ответ — он пришел сразу с востока и запада, с едва уловимым сдвигом во времени, звонкий, пронзительный:
Пам, пам, парам! Пам-пам, пам-пам, Пам-пам, парам, пам-пам!Отряд Ки-Энду снова сыграл первую строчку, и в тот же миг раздался страшный грохот, и земля содрогнулась. Громадная глыба, отколовшись от зазубренного края восточного склона, полетела вниз, ударяясь о каменную плиту, отскакивая, снова ударяясь, — вниз, вниз, быстрее, быстрее, и наконец с исполинской силой, подняв тучу пыли, обрушилась на землю в ста шагах от поселка. Дрожь пробежала по земле, а сверху уже летели новые глыбы — две, пять, десять… Звуки отдельных ударов слились в единый рев, многократно усиленный эхом. И надо всем этим грохотом, перекрывая и заглушая его, звучали трубы, раз за разом повторявшие все тот же тревожный мотив.
Люди Энара сбрасывали камни с восточного склона прямо на нидхагир восточный дом-склад. Мелкие обломки дождем сыпались на его крышу, не причиняя вреда, пока наконец большая глыба не накатилась на него, проломив обе стены и выкатившись по другую сторону. Нидхаги выскочили из домов; словно муравьи в разрушенном муравейнике, они метались, натыкаясь друг на друга, ослепленные ужасом, и вся долина наполнилась их тревожным ревом.
Многие бросились бежать на север, к лошадям, в сторону отряда Ки-Энду, но камни, летящие с западного склона, врывались в долину как раз между поселком и табуном — этот путь был отрезан. Нидхаги: мужчины, женщины, дети, безоружные, пешие, многие босиком и почти без одежды, — устремились на юг, ко входу в ущелье. Лошади, напуганные грохотом и отрезанные от поселка летящими камнями, поскакали вверх по склону, прямо на отряд. Не добежав до людей, табун остановился, оказавшись в безопасности, и тогда Ки-Энду опустил горн и крикнул:
— В долину! Скорей!
Воины перестали трубить и побежали вниз, мимо разгоряченных коней, к нидхагиру. Навстречу им двигались четыре сгорбленные фигуры — пастухи, уснувшие в траве и разбуженные трубами, устремились вслед за вспугнутым табуном.
— Они не должны пройти к лошадям! Они безоружны, их надо схватить.
Нидхаги, не обращая внимания на людей, ворвались прямо в середину отряда, и когда те навалились на них, они не пытались бороться, желая только одного — вырваться и бежать. Гил сцепился с крепким волосатым нидхагом и повалил его на землю. Тот извивался, хрипел, лязгал зубами, но Гил был сильнее и держал его мертвой хваткой.
— Шрак! Шрак! — кричал нидхаг. — Пусти! Рса Хейм-Риэл! Ха-рек! Рек! Гарм элуз! Рек!
Извернувшись, нидхаг вонзил острые, как ножи, зубы Гилу в плечо. Тот вскрикнул и разжал руки, нидхаг выскользнул из-под него и помчался к табуну, отшвырнув двоих подбежавших воинов. Ки-Энду бросился следом, догнал его и повалил. Гил поспешил на помощь. Вдвоем они связали нидхагу руки и ноги и отнесли к трем другим, уже связанным и лежащим рядышком на земле. Все четверо извивались, бились головами о землю и выкрикивали хриплыми, сорванными голосами:
— Ха-рек! Рса Хейм-Риал! Омр тэт!
— Тихо! — сказал Ки-Энду громко и властно. — Это не Хейм-Риэл. Рса нах ха рек. Рса шутка. Это мы, люди, устроили обвал и протрубили сигнал Хейм-Риэла. Иохр пониматр?
Нидхаги мгновенно успокоились и обмякли, в изнеможении распластавшись по земле. Только один из них произнес негромко, растягивая слова:
— Ваш народ ил платить кровь за такой шутка.
Все четыре нидхага закрыли глаза и замерли — то ли уснули, то ли потеряли сознание.
— Рилг, Силган, оставайтесь сторожить. В случае опасности — трубите. Когда придет Беллан, скажите ему, чтобы поторапливался. Остальные в долину, за мной!
Отряд побежал вниз по склону. Трубы смолкли, каменные глыбы перестали падать в долину, только мелкие камешки продолжали катиться по глинистым кручам. Облако пыли, поднятое обвалом, начало оседать, и вскоре воины увидели поселок — восточный дом был разрушен, повсюду валялись обломки камней. Ни одной живой души не было вокруг.
Пробегая через нидхагир, Гил услышал, как Ки-Энду за его спиной вдруг вскрикнул, словно увидел что-то ужасное. Гил обернулся. Ки-Энду стоял перед каменной глыбой, лежащей посреди поселка. В лице его было отчаяние. Из-под камня торчала крохотная детская ручонка.
— Не смотри! — вскричал Ки-Энду. — Я не хотел этого! Не хотел!
Он закрыл лицо руками. Гил подошел ближе и положил ему руку на плечо.
— Пойдем, Ки. — Голос Гила дрожал, слезы душили его. — Надо догонять наших. Без тебя они не будут знать, что делать. Еще кто-нибудь может погибнуть. Пойдем.
— Будь все проклято, Гил, я не могу!.. Беги, командуй ты… Скажи, что меня убили!..
Убежавшие вперед воины заметили отсутствие Ки-Энду и Гила, остановились и стали их звать.
— Пойдем, Ки. Они могут вернуться. Им нельзя этого видеть. Ты не виноват, я знаю, ты не хотел никого убивать. Пойдем.
Ки-Энду посмотрел Гилу в глаза.
— Нет, я виноват. И хорошо, если только этот ребенок будет на моей совести. Я посчитал себя умнее дэвов, а я всего лишь человек. Ладно, пошли, и будем надеяться, что самого страшного не случится.
Они побежали вперед и вскоре догнали отряд.
— Все в порядке! Идем дальше.
Воины шли на юг. Темный провал ущелья приближался. Возле входа было заметно оживление — последние нидхаги торопились войти внутрь. Ки-Энду и Гил шли позади всех.
— А что может случиться, Ки? Что ты имел в виду?
— Я долго не хотел говорить… Но теперь уже все равно. Ты видел много крови, ты своими руками убил нидхага. Тебе не будет хуже, если ты узнаешь. Самое страшное, это когда по-настоящему произойдет то, что мы сегодня разыграли, чтобы напугать врагов. Когда зазвучит труба Хейм-Риэла и раздастся вот этот самый сигнал, и Гарм вырвется на свободу — тогда и случится самое страшное. Ха рек.
— Опять этот Гарм! Кто же он такой?
— Гарм — великий подземный огонь. Он словно пес на цепи — лает и рвется на волю. Придет день, и цепь не выдержит.
— Так это что, огромная собака?
— Нет. Пес на цепи — это иносказание, чтобы было понятнее. Подземный огонь — величайшая сила в мире. Когда он шевелится, земля дрожит. Нидхаги называют это «рек», а по-нашему — землетрясение. Если Гарм вырвется, будет великий рек — горы обрушатся, земля расколется, мир погибнет.
— Значит, нидхаги подумали, что началось это самое великое землетрясение?
— Да, на это я и рассчитывал.
— А сигнал, который мы трубили, что это — условный знак?
— Этот сигнал подаст дэв по имени Хейм-Риэл. Он подаст его, когда вырвется Гарм или когда станет ясно, что он скоро вырвется. По нему все люди должны бежать в Рагнаим или Асгард. Кто успеет — спасется, хотя я и не знаю, как можно спастись, если весь мир погибнет.
— А Гарм обязательно должен вырваться? Кто посадил его на цепь? И почему нам не рассказывали об этом сигнале? Попробуй догадайся, что по нему нужно бежать в Асгард!
— Подожди, Гил, потом поговорим. Мы уже пришли.
Отряд стоял перед входом в ущелье. Две высокие скалы, смыкаясь наверху, образовывали подобие арки. За ней был мрак — лунный свет не проникал в узкое ущелье.
— Будем ждать Беллана или сразу пойдем? — спросил кто-то из воинов.
— Подождем. Все равно без факелов мы там ничего не увидим, — сказал Ки-Энду.
— Тихо! Слушайте! Что это?
Из ущелья доносился какой-то шум — он нарастал, приближался, и вот из темной арки один за другим стали выскакивать разъяренные нидхаги с палками и камнями в руках.
— Рса дейр! — крикнул один из них, указывая на людей.
— Тэт фра омр! Смерть им!
— Остановитесь! — сказал Ки-Энду. — Мы не хотим вам зла, но и себя не дадим в обиду. У вас палки и камни — у нас стрелы и мечи. Остановитесь!
Но нидхаги продолжали надвигаться. С грозным рычанием, плечом к плечу, шли они на людей; воины Ки-Энду теперь видели, что врагов совсем немного — не больше десятка.
— Я не смогу убивать безоружных, — шепнул Гил.
— Я тоже, — сказал Ки-Энду.
Один из нидхагов, самый высокий, взревел, словно раненый зверь, и поднял дубинку. Нидхаги бросились на людей.
На закате Син-Оглан привел свой отряд к южному входу в ущелье. Туда же подогнали множество пустых телег. Солнце зашло, стало быстро темнеть. Прошел час, люди устали вслушиваться в тишину. Бхарг и Эалин сидели рядом на траве и негромко беседовали.
— Главное — поменьше ругаться и смягчать согласные, — говорила Эалин. — И еще, когда хочешь образовать множественное число, не рычи, а добавляй к слову «ин» или просто «н», в зависимости…
— Нытхакр раньше были люди, — сказал Бхарг, погруженный в свои мысли, — потом тунр приходит, брат люди, делает злыр нытхакр.
— Ты меня не слушаешь! Кто такие туны? Почему ты опять рычишь?
— Яхр стараюсь! Туны — это черный великанр. Страшный, злый, лицо-то как у мертвый нытхак, пальцы длинный, белый, как кость, глаза красный, как уголь в них Гарм горит. Главный тун, его зват — Шемай-Лох.
Эалин изумленно посмотрела на Бхарга. Она уже открыла рот, чтобы что-то спросить, но в этот момент из-за гор донесся звук горнов, а затем глухой рокот, похожий на далекие раскаты грома.
— Всем приготовиться! — крикнул Син-Оглан. — Скоро они будут здесь.
Бхарг вскочил и подбежал к Син-Оглану.
— Яхр ходыт навстречу. Пора. Дейр сразу не остановятся. Яхр все им сказат, как надо.
— Ну, иди. Удачи тебе. Будь осторожнее!
Бхарг скрылся в ущелье. Далеко на севере трубы играли сигнал Хейм-Риэла, камни с грохотом неслись в долину. Потом все стихло.
Медленно тянулись минуты. Мирегал тихонько подошла к Эалин, села рядом и прижалась к ней.
— Мне страшно, Эа… Я так боюсь за Гила. Ему приснилось сегодня, что он тонет в крови. Что-то ужасное должно случиться, я чувствую!
— Уже случилось — мы начали войну! Теперь надо быть мужественными. Ты же всегда была такая смелая, Мирегал!
— Бхарг рассказывал тебе про каких-то страшных черных великанов…
— Как не стыдно подслушивать!
— А я вовсе и не подслушивала, просто сидела рядом, вот за этим кустом. Что это за великаны?
— Я и сама не знаю. Мы учили историю, но про великанов нам не рассказывали — только про дэвов, про войну, про людские царства, немножко про нидхагов… Но Бхарг сказал, как зовут главного из этих тунов, и, мне кажется, я начинаю понимать, кто они такие… Но это слишком невероятно… Я должна еще подумать.
— Почему все люди после учения становятся такими нудными и говорят загадками? Хотя бы думай вслух, чтоб мне не было так скучно.
— Вслух я не умею, прости, пожалуйста, — Эалин замолчала.
Мирегал уже была готова совсем рассердиться, когда из ущелья вышел Бхарг — с подбитым глазом, в разодранном плаще, но явно довольный.
— Дейр сдаются. Ил выходыт по одному. Мало не верит, обратно в долину бежат. Глупый — Ки-Энду ил их убиват.
Никто из отряда Ки-Энду не решился стрелять в безоружных или рубить их мечами. Отразив первые удары, они схватились с нидхагами врукопашную. Началась свалка. У Гила отчаянно болело прокушенное плечо, правая рука почти не действовала. Громадный нидхаг повалил его и стал тянуться скрюченными пальцами к горлу. Несколько воинов уже лежали на земле, оглушенные ударами мощных кулаков. Один из нидхагов завладел мечом и бросился на Ган-а-Ру. Завязался жаркий поединок. Ру отступал, щит его раскололся; вот он прислонился спиной к скале, нидхаг занес меч…
Топот множества бегущих ног раздался с севера.
— Держитесь! Мы здесь! — Беллан и его люди спешили на помощь отряду. В воздухе пропели стрелы. Нидхаг выронил меч, упал лицом вперед, пытаясь уцепиться за плащ Ган-а-Ру, но руки разжались, и он сполз на землю. Тот, что душил Гила, взревел, ослабил хватку и тоже упал. Из оскаленной пасти потекла струйка крови. Остальных схватили и связали.
Ки-Энду, прислонившись к камню, сел. Оглядев свое войско и увидев, что все живы, он устало закрыл глаза и произнес:
— Еще двое погибших… Теперь, наверное, все… Пока они не вернутся.
Из другого конца ущелья выходили нидхаги. Они глухо ворчали и хмурились, но покорно давали связать себе руки и садились в телеги.
Когда длинная вереница повозок выехала из Крайнего Пригорка, уже начинало светать. Процессия представляла собой зрелище доселе невиданное, поглазеть на него сбежались все, кто еще оставался в долине. В каждой повозке сидело по десятку косматых угрюмых нидхагов. Временами они выкрикивали угрозы и проклятия, но вяло и без настроения.
Между повозками и по обе стороны от них двигался победоносный Ио-Син-а-Хут: добродушные деревенские парни в полном вооружении, веселые, гордые победой. Здесь были только люди из отрядов Энара и Син-Оглана, не видевшие крови и потому беззаботные и радостные.
Совсем не так выглядели те, кто вышел на рассвете из ущелья вслед за нидхагами. Воины Беллана и Ки-Энду еле держались на ногах от усталости, побоев и ран, их одежда была забрызгана кровью и грязью. Они несли трех мертвых нидхагов — двух мужчин и ребенка, и гнали перед собой двенадцать пленных.
По требованию женщин — а кроме них никого не осталось в Крайнем Пригорке — Гил и еще шестеро раненых (в том числе два нидхага) были немедленно вверены заботам Эалин и вместе с ней отправлены на повозке в Белые Камни. Остальных разместили в Крайнем Пригорке и тотчас же уложили спать.
Глава 8 ПУТИ РАСХОДЯТСЯ
Гил проснулся только поздно вечером. Рана на плече, промытая и перевязанная его заботливой сестрой, почти не болела, но голова раскалывалась, и перед глазами бежали круги. Во сне его мучили кошмары, он чувствовал себя совершенно разбитым. Спустившись в гостиную, он увидел Эалин. Она спала в кресле, бледная и усталая. При звуках шагов она открыла глаза.
— Что случилось?
— Ничего. Я проснулся. Почему ты не ложишься в постель?
— Я не собиралась спать. Просто присела на минутку. Как твоя рука?
— В порядке. А как остальные?
— У Гилдора перелом. Больше ничего серьезного. У тебя не болит голова?
— Болит… — Гил присел рядом. — Кошмары снились. Иди ложись, Эа, ты же устала… Посмотри, какие у тебя синяки под глазами.
— Ерунда. Лучше расскажи мне о своем самочувствии. Какие тебе снились кошмары?
— Я почти ничего не помню… Какие-то собаки за мной гнались.
Гил помолчал, вздохнул, потом доверительно посмотрел на сестру.
— Эа, ты такая умная. Объясни, почему у меня так тоскливо на душе? Вроде мы победили, а радости нет. Все как-то неправильно получается. Хочешь добра, а погибают дети. Я очень много думал в последнее время. Почему человек такое странное существо? Как будто нас кто-то склеил из двух разных половинок, совершенно не подходящих друг другу. Одна часть — душа — все время хочет чего-то светлого, прекрасного, рвется в небо… А другая половинка — ум и тело — не только не может эти желания исполнить, но даже и понять их не в состоянии. Все у нас валится из рук, все получается совсем не так, как мы хотим. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Эалин кивнула. Она удивленно смотрела на брата.
— Ты сам до этого додумался? «Сущность человека» — специальный предмет в асор-гирских школах, его два года учат. А ты уловил главное без всякой учебы. Верно… Все в природе гармонично. У животных — маленькая, неразвитая душа, и ум и тело под стать ей. У дэвов тоже все соразмерно — великие души, великий разум, огромная сила. И только человек не такой, как все. Ума у нас немногим больше, чем у животных, а души, почти как у дэвов, велики. Наши далекие предки такими не были. Они были просты и бесхитростны, как звери, не писали стихов и картин, не рвались к звездам, зато умели упорно трудиться и знали, как выжить в суровой борьбе. Но пришли дэвы и вложили в нас свой беспокойный дух. Они нарушили равновесие, поместив великое сокровище в простенький деревянный ящик. И мы стали такими, какие мы есть, — хрупкими, непрочными, потому что все наши внутренние связи напряглись, надорвались, ослабли. И теперь, — Эалин говорила с нарастающим возбуждением, под конец она уже почти кричала, — теперь дэвы вынуждены скрывать от нас правду, чтобы их любимые, но такие слабые и нежные домашние животные ж свихнулись, узнав, что весь их мир висит на волоске!..
Гил невольно отшатнулся. Эалин продолжала уже более спокойным голосом:
— Этой ночью я говорила с Бхаргом и очень многое узнала о нашем мире. Я не могу больше носить это в себе, я должна с кем-то поделиться, и мне наплевать, что думают дэвы по этому поводу. Ки-Энду рассказывал нам о войне, верно? Так вот. Война не окончена. Шемай-Лох жив, и живы остальные восемьдесят дэвов, исчезнувших тогда вместе с ним. Только они уже не дэвы. Бхарг называет их тунр, туны — черные великаны с огненными глазами и белыми костяными пальцами. Понятно, почему они стали такими, — ведь у дэвов не может быть несоответствия между телом и душой, у них это единое целое. Туны создали нидхагов, вселив зло в сердца людей. И теперь нидхаги теснят нас все дальше на восток. Помнишь, Элиар спросил Мидмира: «Исчезнет ли зло после нашей победы?», и Мидмир ответил: «Нет, оно только окрепнет». Так и случилось. Зло оказалось сильнее дэвов. Ничто не спасет нас. Нидхаги уничтожат людей, и вся земля станет царством Шемай-Лоха.
Гил чувствовал, что у него мутится рассудок. Головная боль усилилась и стала почти невыносимой.
— Что же это… — пробормотал он. — Ки-Энду сказал, что мир погибнет, потому что цепь не выдержит, и Гарм вырвется на свободу… Теперь еще Шемай-Лох… Неужели нам нет спасения?
— Мы не можем ничего сделать, — сказала Эалин. — Ты же сам говорил: человек беспомощен, он даже сам себя не в состоянии понять.
— Нет, я не верю! Мы же выгнали нидхагов, значит, со злом можно бороться! Я поеду в Асгард… Дэвы спасут нас! Мир не должен погибнуть!
— Думаешь, дэвы ничего не знают? Раз они не сопротивляются, значит, они бессильны. Поверь, если Шемай-Лох одержит победу, горе дэвов будет гораздо больше, чем горе людей. Погибнет их прекрасная мечта, их последняя надежда.
— Ведь они верили, что человек когда-нибудь обретет достаточно мудрости, чтобы познать самого себя, и тогда люди сами станут как дэвы. Так бы и случилось, если бы наш мир был вечен.
Эалин замолчала, устремив взгляд куда-то вдаль. Гил чувствовал, как слезы наворачиваются у него на глаза, в горле стоял комок, кулаки невольно сжались. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошли Ки-Энду и Мирегал.
— Гил, что с тобой? Почему ты плачешь?
— Мирегал… Я не заметил, как вы вошли… Эалин сказала, что мы все погибнем, Шемай-Лох…
— Эалин! — гневно вскричал Ки-Энду. — Что ты тут наговорила? Ты не имела права…
— Замолчи! Мне надоела эта дурацкая игра! Теперь уже все равно! Пусть они знают — и про Гарма, и про тунов!
— Откуда тебе известно, кто такие туны? Разве ты была в Высокой школе?
— Нет. Мне сказал Бхарг.
Ки-Энду долго и пристально смотрел на Эалин.
— Так… Значит, это произошло. Утечка информации, как говорил мой учитель Асмол. Что ж, может, это и к лучшему. Ну и что вы теперь намерены делать?
— Я поеду в Асгард, — сказал Гил глухим голосом, словно в бреду, — и узнаю у дэвов все как есть. Я не верю… мы не погибнем! Дэвы знают секрет вечной жизни — Я… добуду его…
Глаза Гила остекленели, голова бессильно упала на грудь.
— Что же вы стоите! — вскричала Мирегал. — Видите, ему плохо! Сделайте что-нибудь!!!
Ки-Энду подошел к Гилу и, достав пузырек, влил ему в рот несколько капель.
— Так я и думал… — с отчаянием проговорил он. — Началось. Хорошо, что я догадался заехать к себе за лекарствами. Сейчас они все начнут сходить с ума.
Гил медленно поднял голову.
— Бессмертие… — прошептал он.
— Успокойся, Гил, — сказала Мирегал. — Я с тобой. Все будет хорошо.
В дверь негромко постучали — вошел Бхарг.
— Омр… Все здесь! Хорошо. Я с переправы. Мои мне сказали: предатель! Иди к своим людям. А я и сам так решил.
— Молодец, Бхарг. Спасибо, что доверяешь нам. А куда они пошли, твои сородичи? В Ахел?
— Нах, нет! Там гуллы! Пошли на север вдоль берег. Говорят: мы вернемся! Будет большой война!
— Это правда: они могут вернуться, — сказал Ки-Энду. — Кого-то надо срочно отправить в Элор — сказать королю, чтобы собирал армию для охраны границ. Я думал сам поехать, но теперь не получится — не могу бросить Ио-Син-а-Хут.
— Здесь не будет война. На западный берег нидхаги не живут, всех гуллы жрат. Война будет на север — наши пойдут в великий лес, оттуда — в Эл-а-Ден, в Эллигат. Надо туда идти, предупредить. Ио-Син-а-Хут — идти в Эллигат, помогат. Армия короля — тоже.
— В Эллигат? Ты уверен? Хорошо. Завтра соберем совет, все решим. Эалин, позаботься о Гиле и не рассказывай ему больше ничего, прошу тебя. Пусть завтра приходит с утра в Желтый Ручей на совет. Вот, это тебе, — Ки-Энду выложил на стол несколько пузырьков и крошечных глиняных кувшинчиков. — Разберешься, что к чему?
— Да, конечно. Спасибо.
— Мирегал останется тебе помогать. Ну, до встречи. Бхарг, съездишь со мной в горы? Нужно отвезти туда одну вещь.
Приехав с Бхаргом в Желтый Ручей, они сняли с крыши кузницы большой ящик из черного материала, похожего на непрозрачное стекло, и погрузили его на телегу. На одной из боковых граней ящика было несколько небольших отверстий.
— Надо затащить эту штуку на вершину горы, — сказал Ки-Энду.
— А что это такое?
Ки-Энду мрачно усмехнулся.
— Труба Хейм-Риэла. Настоящая. Одна из семи. До вашего прихода она стояла в горах, нужно вернуть ее на место.
На следующий день в Желтый Ручей съехался почти весь Ио-Син-а-Хут. В доме не нашлось места всем, поэтому расположились на лужайке возле кузницы, Среди собравшихся выделялась фигура Бхарга: после долгих уговоров он позволил Мирегал подстричь себя и причесать. На груди у него блестела медная пластинка, сделанная Ки-Энду специально по его просьбе, чтобы никто не принимал его за простого нидхага. На пластинке была выгравирована надпись: «Ио-Син-а-Хут».
Гил тоже пришел на совет. После принятых снадобий он воспрянул духом и сейчас выглядел отдохнувшим и бодрым. Только глаза смотрели тверже и решительнее. Мирегал сидела рядом с ним притихшая и грустная — она только сегодня утром узнала от Эалин о тунах и Гарме и еще не успела прийти в себя.
Увидев, что все в сборе, Ки-Энду взял слово.
— Насколько я понимаю, всем уже известно, почему нидхаги так испугались труб и обвала, — Ки-Энду с усмешкой посмотрел на Бхарга. Тот стал смущенно оправдываться:
— Я удивлялся: почему люди ничего не знат? Как слепой котенок. Зачем ваши туны — шрак! — дэвы делат из всего тайна? Меня спрашиват: почему так боитесь труб? Я и сказал: харек, говорю, Хейм-Риэл, Гарм элуз — на свободе, то есть. Я думаю, правильно сказал. Нельзя воевать и ничего не знат.
— Ясно. Что ж, спасибо, ты взял на себя самое неприятное. Я и сам собирался все объяснить. Я рад, что почти никто из вас не пал духом, узнав о Гарме.
— Да уж! Все бодры, веселы и беззаботны, как никогда, — заметил Ган-а-Ру, оглядывая мрачные, осунувшиеся лица собравшихся.
— Не все еще знают, как завершилась переправа, — продолжал Ки-Энду. — Пусть кто-нибудь, кто там был, расскажет, только покороче, у нас мало времени.
— Все прошло гладко, — начал Энар, — правда, нидхаги были недовольны, что мы отправляем их в Ахел — в лапы к гу…
— Но они не пытались сопротивляться? — спросил Ки-Энду.
— Нет. Мы предложили им подождать, пока будут доставлены их лошади и имущество, но они отказались. Как только всех переправили, они тут же двинулись на север, прямо по берегу, не отходя от реки даже на сотню шагов. Они шли очень быстро. И женщины с грудными детьми на руках, и маленькие ребятишки — никто не отставал. Пятеро наших пошли за ними следом, чтобы узнать, где они свернут. Пока никто не вернулся.
— В лес они идут, — уверенно заявил Бхарг, — в Хумба-Гир.
— Спасибо, Энар, — сказал Ки-Энду. — Теперь надо решить, что делать дальше. Нидхаги могут вернуться. Мы должны встать на охрану границ. Кого-то нужно немедленно послать в Элор — сообщить о случившемся королю и просить его прислать людей нам на помощь. Еще кто-то должен поехать в Эллигат. Бхарг сказал, что эта крепость, скорее всего, первой подвергнется нападению нидхагов, если они решат мстить — ведь она стоит как раз между нами и Великим лесом.
— В Эллигат поеду я, — встал Гил.
— Ты ранен, тебе лучше остаться здесь, — возразил Ки-Энду.
— Нет. Я твердо решил ехать. Из Эллигата я отправлюсь в Асгард и буду говорить с дэвами. Я не хочу, чтобы наш мир погиб. Дэвам должен быть известен секрет вечной жизни — ведь сами они бессмертны. Я выведаю у них эту тайну. Я добуду миру бессмертие.
— Ты говоришь глупости, Гил, прости меня. Дэвы не знают никакого секрета, и они смертны — просто живут очень долго, несколько тысяч лет. Но поехать в Асгард действительно нужно. Во-первых, сообщить об изгнании нидхагов и спросить совета. Во-вторых, рассказать, что мы видели в Тетагире. И, наконец, нужно узнать у них то, о чем все мы, наверное, много раз задумывались и не находили ответа: почему дэвы не защищают нас? Но и это еще не самое главное — возможно, они просто не в состоянии этого сделать. Меня больше удивляет, почему при полной нашей беззащитности нидхаги до сих пор не стерли нас с лица земли? Очевидно, существует какая-то неведомая нам сила, которая их одерживает? Это и нужно узнать в первую очередь — что это за сила и можно ли ее использовать в нашей борьбе.
— Вот-вот, — сказал Гил, — это я и имел в виду. Я уверен, что такая сила существует. И если мы сумеем направить ее против нидхагов и тунов, зло будет уничтожено, мир обретет бессмертие, и тогда сбудется великая мечта дэвов За этим я и еду в Асгард!
— Что ж, хорошо. Теперь мы поняли друг друга, — сказал Ки-Энду. — Осталось решить, кто поедет к королю.
Через два часа после окончания совета Беллан и Хайр выехали на дорогу и двинулись на восток, в сторону Элора. Они гнали перед собой около сотни отборных овец — обычная ежегодная подать, отправляемая жителями западных долин Эн-Гел-а-Сина в столицу. Стадо было бы гораздо больше, если бы так много людей не уехало из этих мест в последние дни. Король расплачивался за овец золотом, часть их шла на нужды города, большинство же перевозилось по Энсингелу в Асор-Гир и Асгард.
Гил отправился в Белые Камни, и Мирегал поехала с ним.
— Возьми меня с собой, — попросила она, когда они после ужина остались наедине в гостиной. — Я не хочу оставаться здесь. Я чувствую, что мы больше никогда не встретимся, если ты уедешь без меня.
— Нет, Ми. Путь неблизкий, тебе будет трудно. Я обязательно вернусь…
— Ты не вернешься! Я знаю! Ну, пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня, не оставляй меня здесь одну!
— Что ты… не плачь, глупенькая! Ну хорошо, поедем вместе.
Мирегал немного успокоилась.
— Ты так изменилась за эти дни, — сказал Гил.
— Ты тоже, — всхлипнула Мирегал.
— Ты раньше никогда не плакала. Наверное, это из-за того, что ты узнала про все эти злые силы?
— Не знаю… Наверное… Но это не главное. Просто я сердцем чувствую беду и боюсь тебя отпускать. Я… я люблю тебя!..
И на следующее утро Гил и Мирегал — он на серой лошади, она на белой отправились в путь. Когда они проезжали через Желтый Ручей, Ки-Энду вышел попрощаться с ними.
— Вот и расходятся наши пути, — сказал он. — Кто знает, встретимся ли мы снова? Прощай, Гил, прощай, сестренка. Да сопутствует вам удача.
— Что ты, Ки? До Асгарда всего пять дней езды! Луна едва начнет убывать, когда мы вернемся.
— На войне время течет по-другому. За десять дней многое может случиться. Но хватит об этом… — Ки-Энду неожиданно улыбнулся. — К сожалению, мне придется нарушить вашу идиллию. С вами поедут Бхарг и Энар. Что поделаешь, Мирегал, свадебное путешествие придется отложить!
— А откуда ты знаешь, что мы… — смущенно пробормотал Гил.
— Я слишком долго жил под одной крышей с этой юной особой, чтобы не понять, что означает этот восторженный блеск в ее глазах. Будьте же счастливы! А что касается Бхарга, то он обязательно должен поговорить с дэвами, ведь ему, может быть, известно многое, чего не знают ни они, ни мы. А без Энара вы просто не найдете дороги. Они ждут вас у Балга. Прощайте!
— Мы скоро вернемся! — Гил и Мирегал поскакали на юг, к трактиру, и вскоре скрылись в белесом тумане, поднимавшемся над серным ручьем.
Глава 9 ПОИСКИ БЕССМЕРТИЯ
Почему, Гильгамеш, ты исполнен тоскою? Потому ль, что плоть богов и людей в твоем теле, Потому ль, что отец и мать тебя создали смертным?.. Ярая смерть не щадит человека: Разве навеки мы строим домы? …сбираются Ануннаки, великие боги, Мамет, создавшая судьбы, судьбу с ними вместе судит: Они смерть и жизнь определили, Не поведали смертного часа, А поведали: жить живому! «О все видавшем», эпос о Гильгамеше, ХВскоре после полудня четверо всадников доехали до развилки и свернули на правую, эллигатскую дорогу. Бхарг в темно красном нидхагском плаще ехал впереди, глазея по сторонам и выпячивая грудь с блестящей медной пластиной. Вьючная лошадка шла в поводу: Балг дал путешественникам продуктов на дорогу и удобный непромокаемый шатер на случай ночлега в безлюдном месте. Гил, Энар и Мирегал ехали следом — мужчины в полном вооружении, как и Бхарг, задумчивые и серьезные, преисполненные чувства важности своей миссии; Мирегал, словно маленькое солнце, излучала во все стороны свет и счастье; сегодня она была по-настоящему красива…
Дорога, ровная и прямая, вымощенная базальтовыми плитами, пересекала долину с юга на север; вдоль нее тянулись цветущие луга, зеленые рощи, то там, то здесь виднелись остроконечные черепичные крыши — когда-то полная радости и жизни земля, ныне почти покинутая, поникшая пред лицом надвигающейся тьмы.
— Красивая страна, — сказал Бхарг, — приятно жить в такой. Счастливый народ. Вам есть за что бороться.
— И за что умереть, — сказал Энар.
— Теперь не умрете, — оскалился Бхарг, — господин Шем-ха-Гил привезет бессмертие из Асгарда. Ты не забыл большой мешок, куда ты его положишь, а, Гилли?
По мере продвижения на север местность становилась менее обжитой. Дорога подходила все ближе к Эллилу, он уже был виден — гладкая темная полоса, делящая землю на две такие разные части. Голая бурая пустошь западного берега казалась особенно унылой на фоне сочного разноцветья восточного, пышущего жизнью, полного цветов и птичьих голосов. Справа приближались пологие склоны Ио-Сина. Посреди равнины кое-где стояли отдельные скалы, как будто, не найдя счастья в своей тесной горной семье, они отправились искать его в другие, неведомые земли.
— Какие они красивые, эти скалы, — вздохнула Мирегал. — И ужасно одинокие. Они — как киты, выбросившиеся на берег. Всем чужие, и никто их не любит.
— Эти горы похожи на нас, — сказал Гил, — ведь мы тоже самых умных, сильных и смелых посылаем в далекие страны служить дэвам. Вот и мой старший брат, и старший брат моего отца живут в Асгарде, и мы никогда не видим их. Наверно, им так же одиноко, как этим скалам. Когда все кончится, я обязательно напишу об этом стихи.
Они подъехали к тому месту, где отрог Ио-Сина — длинная гряда холмов — подходил к самой дороге и внезапно обрывался высокой изломанной скалой. На ней, ближе к вершине, стояла величественная фигура из белого мрамора, созданная в незапамятные времена мастерами Энхом и Хетом. Дэв в ниспадающем складками одеянии сбегал со скалы по каменным ступеням, держа в ладонях неровный серебряный шар — луну. Фигура была поставлена в память о том, что дэвы научили людей пользоваться фазами луны для счета времени. Солнце, дожди, ветры и землетрясения не смогли разрушить прекрасную скульптуру — казалось, от времени она стала еще более совершенной…
Гил и его спутники остановились на привал. Бхарг развел огонь, остальные разгрузили вьючную лошадь и достали из мешков сыр, копченое мясо, хлеб и фляги с вином. Рассевшись вокруг костра, принялись поджаривать на палочках кусочки сыра.
— Смотри, — сказал Энар, обращаясь к Гилу, — эта скульптура… Она наводит на раздумья. В ней одна и та же мысль выражена дважды. Лунный календарь, познание времени, в каком-то смысле — власть над ним. Это раз. Второе — сама скульптура. Ей семь веков, а она как новая, и всегда будет такой. И она не мертва — смотри, сколько жизни в каждом изгибе, в каждой складке, как легко она бежит, едва касаясь земли. Сердце радуется, когда на нее смотришь. Разве можно назвать ее мертвым камнем? Не здесь ли секрет бессмертия, который ты ищешь? Быть может, искусство и есть путь к вечной жизни?..
Гил не нашел, что ответить. Он смотрел на мраморную фигуру, которая действительно казалась живой и при этом была неподвластна времени.
— Нет, — возразила Мирегал, — никакое это не бессмертие! Жизнь и красоту придает ей человек, глядя на нее и восхищаясь ею. Исчезнут люди — и она станет просто причудливым камнем. В ней нет души, только в наших сердцах она оживает.
— Очень сложно вы говорите, — сказал Бхарг. — Мне не понять. Я так скажу: не хотел бы я быть этот каменный дэв! Ни присесть, ни поесть, ни с женщиной… Нах, пусть я стану старый и умру, лучше буду такой как есть,
— Умница, Бхарг! — сказала Мирегал.
С едой было покончено, и путники двинулись дальше. Дорога теперь шла между горами и рекой, по узкой — не больше трех-четырех миль — полосе ровной земли. Хуторов здесь почти не было.
— Надо бы доехать до обжитых мест, — сказал Гил, — не хочется здесь ночевать. Очень уж тут пусто и голо.
— Похоже, придется, — сказал Энар. — Не успеем мы засветло добраться до Эл-а-Дена.
— Ой, а что это? — воскликнула Мирегал. — Смотрите, что-то беленькое лежит…
Подъехав поближе, путники разглядели на дороге множество костей, аккуратно сложенных: руки и ноги по краям, позвоночники и грудные клетки — в центре, сверху лежало пять черепов, и у каждого в темени была пробита большая дыра. Вокруг валялось оружие и разноцветные обрывки материи.
Бхарг спешился и, нагнувшись, поднял бледно-розовый череп с глубокими глазницами.
— Человеческий… — с болью произнес Энар. — У нидхагов не такой подбородок, скулы шире и брови выступают.
— Совсем свежий, — сказал Бхарг хриплым голосом, обнюхивая череп, только что обглоданный. — Вот здесь даже мясо осталось. Бежать надо!
Он вскочил в седло, и все четверо поскакали вперед.
— Чьи это кости? — крикнула Мирегал, стуча пятками по лошадиным бокам.
— Наших разведчиков, — ответил Энар, не оборачиваясь, — тех пятерых, что пошли вслед за нидхагами…
— Гуллы сожрали их! Они где-то рядом! — крикнул Бхарг.
Они скакали, холодея от ужаса, отчаянно подгоняя усталых лошадей. Долго длилась эта бешеная скачка; справа все так же тянулись горы, а слева темнел ленивый Эллил, и по-прежнему не было видно ни людей, ни домов. Солнце зашло, тьма начала наползать на землю. Наконец горы отступили от дороги на восток, а река повернула немного к западу.
— Теперь можно отдохнуть, — сказал Энар. — Здесь безопасно. Мы вступили в пределы княжества Эл-а-Ден.
— Гуллы могут не знать хорошо границы княжеств, — проворчал Бхарг, отвязывая тюк со свернутым шатром. Как только легкое сооружение из прочной ткани, натянутой на раму из тисовых жердей, было воздвигнуто, все легли на тонкие войлочные коврики и тут же заснули.
Только Бхаргу не спалось. Он ворочался, сопел, потом не выдержал, вышел из шатра. Расстелил свой коврик на земле, развел костер и улегся. Глаза его были открыты, он прислушивался — к ветру, треску костра и шелесту реки…
Незадолго до рассвета Гил, Энар и Мирегал были разбужены страшным криком Бхарга.
— Встават! Бежат! Рса гуллр!
Сонные, ничего не соображающие, они выбежали из шатра, чуть не повалив его, и стали растерянно оглядываться, протирая глаза. Было совсем темно — луна зашла, а солнце еще не встало, — рассвет только начинал алеть на северо-востоке. Бхарг седлал коней, притопывая от нетерпения и крича:
— Быстрей! Что смотрет? Гуллы, гуллы! Бежим!
Энар показал на Эллил. Там, посередине реки, что-то плескалось — какие-то существа плыли по черной глади; их тонкие руки с длинными ногтями, слабо фосфоресцирующими в темноте, делали широкие угловатые взмахи. Существа приближались.
— Они! — сказал Энар. — Собираем шатер, быстрее!
Когда гуллы выбрались на берег, четверо всадников и лошадь с поклажей уже скакали во весь опор в сторону Эллигата.
Оглянувшись, Гил увидел сзади на дороге белесые силуэты — длинные и прямые, как жерди, они мчались следом, вытянув жадные руки, делая громадные скачки на тонких костлявых ногах. «Догонят», — пронзила холодом отчаянная мысль…
На западном берегу Эллила белела большая груда костей. «Нидхаги, — подумал Гил, — это мы отправили их на смерть!»
В спину подул ледяной ветер. Гилу почудилось, что он вновь ощущает запах тетагирских склепов. Кони мчались, как бешеные, подковы гремели на каменных плитах. Гил всем телом чувствовал, как сзади надвигается смерть…
Но вот огненный край солнечного диска вынырнул из-за горизонта. Яркий свет залил Эл-а-Денскую долину. Страх понемногу начал отступать, сердце забилось чуть тише, и, оглянувшись, Гил увидел пустую дорогу.
— Э-э-эй! Они исчезли! — ошалело крикнул он своим спутникам. — Нет погони!..
Все сбавили ход и перевели дух. Кругом лежали мирные цветущие поля. Кое-где виднелись хорошенькие домики с островерхими крышами — почти такие же, как у них на родине. Ранние пастухи уже гнали на пастбище свои стада.
Бхарг улыбнулся, выставив желтые клыки.
— Вот, господин Шем-ха-Гил, — сказал он, — еще один секрет бессмертия. Умер — тебя отдают Хумбе, Хумба делает из мертвый человек отличный гулл — и живи еще, сколько хочешь!
Никто не улыбнулся шутке нидхага. Мирегал вся сжалась,
Гил почувствовал, как у него снова холодеет сердце. Только Энар не понял, что Бхарг пошутил, и принялся объяснять:
— Ты не прав. Мы ведь ищем вечную жизнь, а гуллов нельзя назвать живыми. Гуллы, насколько я понимаю, какая-то третья форма существования. Мы с ними стоим по разные стороны смерти. Если живых сравнить с теплом, а мертвых — с холодом, то гуллы — леденящий мороз. Это секрет вечной антижизни, если вы понимаете, что я имею в виду.
Мирегал закусила губу, собрала все силы и сказала веселым голосом:
— Здесь ужасно красиво! Почти как у нас. Давайте остановимся вот у этой маленькой рощи и перекусим. Была бы с нами Эалин, она бы сейчас сказала: «Скачки на голодный желудок очень вредны для здоровья».
Мирегал так точно передала интонацию, с которой Эалин произносила свои нравоучения, что мужчины не удержались и захохотали.
После завтрака двинулись дальше.
— Мы все перед тобой в долгу, — обратился Энар к Бхаргу. — Ты спас нам жизнь. Если бы не ты, мы бы ни за что не заметили гуллов.
— Да, — усмехнулся нидхаг, — если бы гуллы вас сожрали, не видать бы вам тогда бессмертия! Ни одна Хумба не сделает хороший гулл из обглоданная кость!
— Что это за Хумба такая? — спросила Мирегал.
— Хумбу не знаете? — удивился Бхарг. — Хумба стоит в Великий Лес. Поэтому мы его так и называем — Хумба Гир. Вокруг нее — семь деревьев. То деревья ужаса. Чужих не подпускают. Хумба — шар. Мудрый, злой, делает нидхагов, делает гуллов, дает советы тунам. Вот кто такая Хумба.
— Как много ты знаешь, Бхарг! — восхищенно сказала Мирегал.
— Обязательно расскажи все это дэвам, когда приедем в Асгард, — предупредил Энар.
Еще около трех часов скакали на северо-запад. Дорога шла по высокому берегу Эллила. Ахел остался позади, и теперь по обе стороны реки лежали одинаково яркие, полные жизни поля Эл-а-Дена. Путники встретили нескольких местных жителей, которые, приветливо здороваясь, опасливо поглядывали на Бхарга.
— Не бойтесь, я свой, — говорил нидхаг. — У меня в Эл-Гел-а-Сине теперь мир! Нидхаги и люди все заодно!
— Так, так, слава дэвам, — растерянно кивали местные, уступая всадникам дорогу.
Наконец впереди показались башни Эллигата. Крепость стояла на обоих берегах реки, грозная и неприступная, окруженная высокой стеной из черного камня с зубчатым верхом. По углам высились башни с бело-голубыми флагами и площадками для часовых. Над рекой стена прерывалась, проходя по наружному краю моста; под ним виднелись толстые стальные прутья — опускающаяся решетка, которая в случае опасности перегораживала реку и закрывала доступ вражеским кораблям. Дорога привела Гила и его спутников к широко распахнутым воротам, рядом с которыми в высокой траве под стеной мирно спал человек в стальном шлеме. Когда всадники были уже совсем близко, часовой проснулся и окликнул их.
— Эй, друзья! Куда это вы собрались в такую рань? У нас все кабаки еще закрыты. Э, да с вами нидхаг! Нидхагов пускать не велено. Он ваш друг, что ли? Ладно, проезжайте, — часовой зевнул и снова улегся в траву.
— Скажи, приятель, как нам найти вашего мелха? У нас к нему срочное дело.
— Поедете прямо, увидите дом с золоченым шпилем. Это, стало быть, и есть мелх-а-бет. Только бьюсь об заклад, что наш старик еще дрыхнет. У нас тут вчера такое было… ух! Свадьба, видите ли, мелховой дочки. В жизни мне не было так плохо! Ну, езжайте, что ли, не видите — человек спит… — Стражник перевернулся на другой бок и моментально захрапел.
— Защитничек! — хмыкнул Энар. — У самих гуллы по стране гуляют, а они тут пьянствуют. Пугнуть бы их хорошенько!
— Пугне-ем! — пообещал Бхарг.
Гил и его спутники въехали в крепость. Дорога, прямая, как стрела, пересекала крепость и выбегала в ворота в противоположной стене. Проехав совсем немного между двумя рядами двух- и трехэтажных домов, разделенных узкими улочками, они увидели слева высокое белое здание с решетчатыми окнами и золотым флагштоком на куполе. Спешившись, с удивлением обнаружили, что двери заперты. На стук первое время никто не отзывался, затем изнутри послышалось шарканье, и сонный голос произнес:
— Кому там не спится по ночам? Господин Халгат изволит почивать, и будить его я не возьмусь. Я старый человек, и покой мне дороже всего. Придется вам подождать.
— Открывай, — рявкнул Бхарг, — пьяная морда! Хуже будет!
— А вы кто такие, что я должен вам подчиняться?
— Дэвы великие! — воскликнул Гил. — Ты откроешь или нет? У нас важное, срочное дело.
— Как, сами дэвы… — произнес удивленно голос из-за двери.
— Дэвы, дэвы! — не растерялась Мирегал. — Я вот, например, Фенлин. Слышал про такую? Открой дверь, увидишь, как я прекрасна!
Послышался торопливо удаляющийся топот. Минуты через две двери распахнулись, и растрепанный седой человек, кланяясь, жестом пригласил их войти.
— Так вы и есть дэвы? — недоуменно пробормотал он.
— Не похожи? — Бхарг лязгнул зубами перед носом ошарашенного старика, и все четверо быстро прошли к шелковой занавеси, закрывавшей вход в приемный зал.
Они оказались в просторном, ярко освещенном помещении со сводчатым потолком и высокими окнами. В дальнем конце был длинный стол с не убранной после вчерашнего пира посудой. За столом, лицом к ним, сидел маленький лохматый человечек лет пятидесяти, сутулый, с помятым лицом и серебряным обручем на голове.
— Добро пожаловать, — с трудом произнес мелх. На втором слове он икнул и закашлялся, уткнувшись в рукав. Гил и его спутники сели на свободные стулья.
— Вы — мелх этой крепости? — спросил Энар. Человечек кивнул.
— Мы, конечно, не дэвы, но дело у нас действительно важное, — начал Гил. — Вы уж извините, что мы так бесцеремонно врываемся.
— У нас в Эн-Гел-а-Сине война началась, а вы тут пьянствуете, — вставил Бхарг.
— По вашим землям ходят толпы гуллов и нидхагов, мирным путникам проходу нет, а у вас стража спит, все ворота распахнуты, — сказал Энар. — И это Эллигат — неприступная крепость, надежда и защита южных царств!
— Свадьба, конечно, дело серьезное, — сказала Мирегал мягко, пытаясь сгладить резкость речей своих спутников, — но нас действительно чуть не слопали гуллы, и это было уже в пределах вашего княжества.
Халгат понемногу пришел в себя, принял солидный вид и сказал:
— Извольте объяснить прежде, кто вы такие и с какой целью прибыли в Эллигат.
— Мы из Эн-Гел-а-Сина, — сказал Энар. — Нас послали сообщить вам важные новости. — И он принялся подробно описывать события последней дней, от образования Ио-Син-а-Хута до перевозки нидхагов на западный берег Эллила. Когда он закончил, слово взял Бхарг.
— Нидхаги пошли на север вдоль реки. Они хотят попасть в лес, чтобы сообщить обо всем тунам. Скоро может начаться большая война. Эллигат первым окажется под ударом.
— Гуллы напали на нидхагов, — сказал Гил, — и нескольких съели. Оставшиеся наверняка озлобились еще больше и во всем винят нас.
— Готовьтесь к войне! — Голос Энара был суров и решителен. — Собирайте армию и идите на границу леса. Наши воины при необходимости придут к вам на помощь.
Халгат окончательно проснулся. Какое-то время он молчал, обдумывая услышанное, потом заговорил:
— Дурные вести принесли вы, посланники мелха Ки-Энду. Великую глупость совершил ваш народ, напав на нидхагов. Дэвы не раз предупреждали нас: терпите, отступайте, никогда не нападайте первыми, не будите ярость, дремлющую в Великом Лесу. И мы терпели и отступали. Лес разрастался, с каждым годом подступая все ближе к Эллигату. Когда-то он начинался в ста милях от наших стен, теперь не осталось и тридцати. Сам Лес стал другим — не обычные деревья растут в нем, о нет, и не обычные звери бродят там среди корявых стволов. И мы не смеем срубить ни одного дерева, дабы не разгневать великую Хумбу. Мы отдаем Лесу свои земли, пядь за пядью, а в обмен получаем мир. И цена эта, поверьте, не слишком высока! Вы же совершили безрассудный поступок, и теперь вся ярость врага обрушится на нас! — Мелх вздохнул и продолжал с решительным видом:
— Что ж, раз это случилось, и сделанного не воротишь, мы сумеем постоять за себя и заслонить грудью наше изнеженное царство, и да спасут нас великие дэвы! Не смотрите, что сегодня все в городе пьяны: наши воины умелы и выносливы, наши стены неприступны, ворота крепки, и у нас много такого оружия, которого убоится любая вражеская рать.
Мелх встал и поправил съехавший серебряный обруч.
— Впрочем, — сказал он с усмешкой, — может, мне и удастся предотвратить войну. Что ж, дорогие гости. Вы проделали тяжелый путь, и вам нужен отдых. Предлагаю вам провести этот день в моем доме и усладить свои души покоем.
Глава 10 ПОБЕГ
1. Человек-скорпион жене своей крикнул: «Тот, кто подходит к нам, — плоть богов — его тело!» Человеку-скорпиону жена отвечает: «На две трети он бог, на одну — человек он!» «О все видавшем», эпос о Гильгамеше, IX 2. И трое пришло из этого рода Асов благих и могучих к морю, бессильных увидели на берегу Аска и Эмблу, судьбы не имевших. Они не дышали, в них не было духа, румянца на лицах, тепла и голоса; дал Один дыханье, а Хенир — дух, а Лодур — тепло и лицам румянец. Прорицание Вельвы, 17—18Халгат дернул на шнурок, свисавший из отверстия в стене. Послышался мелодичный звон, и тотчас же из-за шелковой занавеси выбежал давнишний старик слуга.
— Завтрак гостям! — приказал мелх. Старик поспешно скрылся.
— Почему вы так с ним разговариваете? — возмутилась Мирегал. — Разве он не человек? Приказывают только собакам!..
— Вот как? Значит, в вашей стране каждый делает, что захочет? Очень жаль. Потому вы и натворили глупостей. У нас такой возможности нет. Мы обязаны постоянно быть готовыми к войне. Я стараюсь с детства приучать своих людей к подчинению.
В зал вошли четверо слуг, все в одинаковых бело-голубых одеждах. Они быстро убрали со стола вчерашнюю посуду. Другие четверо принесли еду: множество серебряных блюд, чаш и кубков с разнообразными изысканными яствами и напитками. Путники, привыкшие к простой пище и полной личной свободе, были потрясены этим зрелищем, пожалуй, больше, чем ночным нападением гуллов. Впрочем, они с удовольствием позавтракали второй раз.
— Недурно у вас кормят, — отметил Гил, расправляясь с жареным фазаном. — Это что, тоже по случаю военного положения?
Мелх промолчал.
— Теперь поспать не мешало бы, — сказал Энар.
— Разумеется, — улыбнулся Халгат. — Позвольте показать вам ваши спальни.
Мелх провел гостей на второй этаж. Мужчинам было предоставлено обширное помещение с тремя кроватями с окнами на дорогу. Мирегал расположилась в комнатке напротив, где из окна была видна река и почти все внутреннее пространство крепости — мощеные улочки, дома с плоскими крышами и портовые сооружения.
— Если вам что-нибудь понадобится, вызывайте слуг, — сказал Халгат. Шнурки звонков есть над каждой кроватью.
Пожелав гостям приятных сновидений, мелх спустился в зал, где долго разговаривал со старым слугой. Потом, нацарапав на дощечке несколько слов, отдал письмо старику, и тот вышел, бесшумно ступая по каменному полу. Вскоре из-под темной арки выскользнул легкий двадцативесельный корабль. Он помчался вверх по течению, туда, где в тридцати милях от города безмолвно стояла хмурая стена Великого Леса…
Перед сном Мирегал заглянула в комнату к мужчинам. Те уже лежали под одеялами.
— Ну и как вам понравился этот мелх? — спросила она. — По-моему, он отвратительный.
— Ну почему… — пробормотал Гил. — Он умный человек. Гостеприимный. Хотя, конечно, это рабство — и обжорство…
— Как он гоняет этого несчастного старика!
— Бросьте, — сказал Бхарг. — Он прав. Он знает, что может начаться война. Серьезный человек, не то что вы.
Мирегал долго не могла уснуть, потом словно провалилась в какую-то яму. Проснувшись, она увидела, что на дворе уже сумерки.
— Бр-р! Весь день проспала, дура, — сказала она сама себе. — И еще буду! Вот только бы попить чего-нибудь…
Она взглянула на шелковый шнурок, висящий над кроватью. «Нет, неудобно их беспокоить. Схожу сама». Мирегал вылезла из-под одеяла, оделась и стала тихонько спускаться по дубовой лестнице, ведущей в переднюю.
Из-за занавеси раздавался голос Халгата. Мирегал прислушалась.
— Ашт дала добро, — говорил мелх невидимому собеседнику. — Потребуется десять человек. Напоминаю: два воина, нидхаг и девчонка. Они пока спят, но скоро могут проснуться. Лучше обойтись без боя, так как их нужно взять живьем. Людям скажешь — это вражеские лазутчики. Если сделаешь все, как надо, я сумею тебя отблагодарить. Если нет — отправлю в Лес вместо них. А теперь действуй.
— Слушаюсь!
Мирегал опрометью бросилась наверх, в комнату, где спали мужчины.
— Вставайте! Бежим! Мелх хочет нас схватить. Одевайтесь скорей, я отвернусь.
Гил, Бхарг и Энар поспешно встали, взяли оружие и, не вполне еще понимая, что происходит, выбежали вон из комнаты вслед за Мирегал. Внизу, в передней, никого не было, но когда Гил, приоткрыв дверь, выглянул на улицу, он увидел быстро приближающийся вооруженный отряд.
— Поздно! Они уже идут!
— Бежим через окно! — крикнул Бхарг.
Все четверо устремились в приемный зал. Решетчатые окна не открывались. Бхарг со всей силы ударил щитом по стеклу. Зазвенели осколки, резные дубовые планки посыпались на пол. Путь был свободен. Они спрыгнули на мостовую, последним вылез нидхаг, злобно рыча и вытирая о плащ окровавленную руку. Изнутри слышались команды Халгата:
— Обыскать все комнаты! Окружить дом! Ворота запереть!
— К реке! — сказал Энар. — Они закрывают ворота. Попробуем пройти под мостом.
Они побежали вниз по переулку. Впереди, совсем близко, виднелась река. Внезапно Мирегал остановилась:
— Стойте! А наши кони? Куда они их отвели? Я никуда не пойду без моей лошадки!
Из прохода выскочил стражник; он набросился на Мирегал и с криком «Сюда! Я нашел их!» стал заламывать ей руки. Она взвизгнула, извернулась и попыталась его укусить. Он подставил ей подножку, и они упали. Мирегал больно ударилась лицом о камни мостовой. Стражник схватил ее за волосы и стал бить носом о землю… Внезапно его руки разжались, он издал хриплый стон, и Мирегал почувствовала, как ее бережно поднимают и ставят на ноги.
— Подонок! Бить женщину! — Гил на секунду прижал ее к себе, потом, спрятав в ножны окровавленный меч, взял за руку, и они побежали к реке, догоняя Энара и Бхарга.
У причала стояло несколько больших кораблей и множество лодок. Они выбрали одну — легкую, на четыре весла; Бхарг перерубил канат, и они выплыли на середину реки. Пока мужчины гребли, Мирегал, перегнувшись через борт, смывала кровь с лица.
— Гилли, — спросила она, — ты любишь девушек с разбитыми носами?
Лодка заплыла под мост, мрак окружил ее. В этот момент раздался металлический лязг — ворота Эллигата захлопнулись. По мостовым загремели кованые сапоги, стражники с факелами помчались по узким проходам. Но лодка уже вынырнула из-под крепостной стены, и беглецы выбрались на берег.
— Смотрите, там хутор, — сказал Гил, указывая на север, где в миле от них был виден домик на холме. — Зайдемте. Нам надо купить лошадей.
Они пошли по влажной траве, спотыкаясь и не разбирая дорога.
— Бедная моя беленькая лошадка! — причитала Мирегал. — Как же она без меня? Разве эти злодеи будут о ней заботиться так, как я?
В доме еще спали, в окне горел свет, и дверь была открыта.
Гил тихонько постучал, и они вошли. У горящего камина сидели двое пожилых людей. Обернувшись, женщина охнула и схватилась за сердце, старик побледнел и молча уставился на вошедших. Они и впрямь выглядели жутковато — два угрюмых воина с мечами, щитами и луками, оскалившийся нидхаг с длинным копьем в окровавленной руке и растрепанная девица с подбитым глазом, постоянно вытирающая рукавом бегущую из носа кровь.
— Добрый вечер, — приветливо сказал Гил. — Извините за беспокойство. Не бойтесь, мы не причиним вам зла. Мы едем в Асгард, и нас всю дорогу преследуют неудачи… Вы не могли бы продать нам четырех лошадей? У нас впереди долгий путь…
— Разумеется, дорогие гости, — вымолвил старик, несколько успокоенный вежливой речью незнакомцев, — присаживайтесь.
— Милая девушка, — сказала старуха, — куда же ты поедешь с таким носом? Позволь, я помогу тебе.
— А, пустяки, — смутилась Мирегал, — заживет! Мы очень спешим.
— Что ж, — сказал старик, — мы с удовольствием уступим вам нескольких коней… Вы из Элигата? Если не секрет, что вынудило вас отправиться в путь в столь поздний час?
— Дело, сударь, — уклончиво ответил Энар. — Нам необходимо завтра быть в Асор-Гире.
— Что-то случилось в крепости? Вас послал мелх? Неужели началась война?
— Не беспокойтесь, войны пока нет, — Гил выложил на стол горсть золотых. — К сожалению, у нас нет времени. Если вас не затруднит, не могли бы вы прямо сейчас пройти с нами в конюшню?
Старик вывел им четырех коней — это были спокойные, рабочие животные, не первой молодости, но на вид еще вполне крепкие. Поблагодарив хозяина, Гил и его спутники поскакали на северо-восток и вскоре выехали на дорогу.
— Отсюда до Асор-Гира около восьмидесяти миль, — сказал Энар. — Мы будем там завтра в середине дня, если поторопимся.
Они ехали всю ночь и остановились на привал на рассвете, оставив позади земли мелха Халгата и вступив в пределы королевства Ас-а-Ден.
В этот месте Лес подступал совсем близко к дороге. Он был серый, безжизненный, голые ветви сплетались в сплошную стену.
— Почему на деревьях нет листьев? — спросила Мирегал. — Даже смотреть холодно. Кажется, будто вернулась зима.
— Кто его знает? — сказал Энар. — Может, это и не деревья вовсе.
— Мелх говорил, что Лес все время наступает, — вспомнил Гил.
— Это правда. Когда-то он был гораздо меньше.
— Интересно, что они будут делать, когда он дойдет до дороги? Строить новую, в обход? А потом еще одну?
— Когда-нибудь он покроет весь мир, — сказала Мирегал.
Никто не ответил ей. Молча сели на коней и двинулись дальше на север. Небо серело, начал накрапывать мелкий холодный дождь.
Около полудня мокрые, продрогшие спутники достигли окраины Асор-Гира. Ни Гил, ни Мирегал, ни Бхарг никогда раньше не видели такого огромного скопления домов и людей. Улицы, несмотря на дождь, были полны народа, множество повозок грохотало по булыжным мостовым. В городе царило оживление, в многочисленных лавках бойко шла торговля; большинство людей были одеты в яркие платья, почти все улыбались, и угрюмые лица путников резко выделялись на фоне общего веселья.
— Откуда держите путь, о странники? — окликнул их толстый лавочник. — Вижу по вашим лицам, а особенно по твоему, красавица, что дорога ваша была длинной и трудной! Но теперь все позади — вы найдете в нашем городе покой и отдых и забудете свои печали, ибо сегодня праздник! Не желаете ли купить новые разноцветные одежды, лучшие во всем Асор-Гире, надев которые, вы сразу почувствуете себя счастливыми?
— У нас на родине, в Эн-Гел-а-Сине, народ тоже любит петь и веселиться в ночь полнолуния, — ответил Энар разговорчивому лавочнику, — но, боюсь, мы слишком устали, чтобы участвовать сегодня в празднестве. Не скажете ли вы, сударь, где нам найти господина Асмола? Он был моим учителем, и мы надеялись переночевать у него перед тем как продолжить свой путь. Преподает ли он, как и прежде, в Высокой школе?
— О да, господин Асмол здравствует и сейчас, вероятно, ведет занятия. В Асор-Гире время течет медленно, и потому людям, вернувшимся сюда после долгих лет отсутствия, кажется, что они уехали только вчера. Вы увидите, как мало изменился наш город…
Путники долго ехали по широким улицам и площадям. Дождь усилился, по мостовым побежали ручьи.
— Какой огромный город! — удивился Гил. — Ни конца ему, ни края. Как люди могут жить здесь? Они должны чувствовать себя маленькими и потерянными среди этой толкотни.
Всадники переехали Энсингел и оказались перед старой, замшелой каменной стеной.
— Она построена в дни первой войны, — рассказывал Энар, — и тогда внутри нее помещался весь Асор-Гир. Как видите, он все-таки меняется, правда, только в лучшую сторону.
Въехав в ворота, путники словно оказались в другом мире — здесь на всем лежала печать древности, старые дома угрюмо склонялись над узкими улочками. Над их потемневшими крышами золотая кровля королевского дворца сияла, подобно новорожденному солнцу.
— Смотрите, как строили в старину, — продолжал Энар. — Дома специально делались невзрачными, чтобы подчеркнуть изящество и роскошь центрального здания. В этом дворце царствует его величество Бел-Шамах, король Ас-а-Дена.
— А мы куда едем? Разве не к королю? — спросила Мирегал, увидев, что Энар свернул на одну из боковых улиц.
— Нет, нам сюда. Это Высшая школа. Здесь обучаются самые способные юноши со всего мира. В левой половине они живут, в правой занимаются. А здесь конюшня. Давайте остановим лошадей и пойдем искать господина Асмола.
Путники вошли в просторный полутемный зал. Сводчатый потолок опирался на массивные белокаменные колонны. Сероватый свет, льющийся из окон в передней стене, выхватывал из мрака фрагменты настенной росписи — картины из истории мира, изображения городов, фигуры дэвов и людей.
— Подождите меня здесь, — обратился Энар к своим спутникам, и слова его гулко отозвались в пустых коридорах. — Я скоро вернусь.
Он направился в сторону широкой мраморной лестницы, а Гил, Бхарг и Мирегал принялись рассматривать фрески, негромко переговариваясь и стараясь поменьше шуметь.
— Смотрите, это Асгард! — воскликнул Гил. — А это Таргал стоит на стене Ойтры и призывает воинов Шемай-Лоха сложить оружие… А вот дэвы поднимают эликон на вершину магдела.
— Ой, Гил, это же наша долина!
— Правда! Вот дорога, ручей… Это вид от трактира старого Балга!
— Ой, Гил, это же твой отец рисовал. Смотри, внизу написано: Конгал.
— Вот оно что!.. Ну конечно, он же здесь учился…
Сверху раздался тихий голос Энара:
— Господин Асмол скоро освободится. Мы подождем его в библиотеке. Там много интересного для всех нас.
Поднявшись по лестнице, они вошли в длинную комнату с высоким потолком. Вдоль стен тянулись бесконечные полки с книгами. Пожилая женщина вышла из глубины зала им навстречу.
— Добро пожаловать, господа! — приветствовала она их мелодичным, мягким голосом. — Чем я могу помочь вам? Какие книги вы желаете прочитать? Быть может, вас интересует последний труд господина Ханока «О движении планет»? Ведь сегодня полнолуние, и если погода будет ясной, вы сможете рассмотреть лунные горы и моря в зеркальную трубу, что стоит в Башне. Сегодня вход туда открыт для всех.
— Спасибо! Я с удовольствием почитаю Ханока, — сказал Энар. — А мои спутники… Какую ты хочешь книгу, Бхарг?
— Я вообще-то неграмотный… — смутился тот.
— Ничего, я почитаю тебе вслух, — успокоила его Мирегал. — Принесите нам что-нибудь о любви.
— А вы, юноша, так похожий на моего старого друга художника Конгала, что принести вам?
— Наверно, я хочу слишком многого… Я хотел бы узнать, откуда пришли дэвы, и как были рождены первые люди, и как появились добро и зло…
— Принесите ему «Беседы», — попросил Энар.
Женщина понимающе улыбнулась и, предложив гостям присесть, скрылась в глубине зала. Вскоре она вернулась, неся три книги в кожаных переплетах. Мирегал тотчас принялась читать нараспев какие-то любовные стихи; Бхарг, наморщив лоб, сосредоточенно слушал; Энар погрузился в ученый труд.
Гил оглядел на обложку своей книги. Надпись на ней гласила:
«Беседы Визгора, короля Ас-а-Дена. мудрейшего из людей, с Мидмиром, проведенные в годы 931–938 после прихода дэвов и сохраненные для потоков как образец логической мысли и пример для подражания в неустанном поиске истины».
Гил открыл книгу. Страницы были сделаны из неизвестного ему материала, похожего на тончайшую черную кожу. Текст был написан на его родном южном наречии, но не привычным, смысловым письмом, где каждый знак отражал сущность понятия, а менее выразительным буквенным, передающим лишь звучание слов и редко используемым жителями Эг-Гел-а-Сина.
«Король Визгор был мудрейшим из людей, — читал Гил. — Он царствовал в Асор-Гире спустя два века после войны. Целью своей жизни считал он поиски истины. Приехав в Асгард, Визгор пытался получить у дэвов ответы на все великие вопросы мироздания. „Ты мудр, — сказал ему Элиар, — но все же разум твой слишком мал, чтобы постичь все тайны мира“. — „Нет, я верю, что справлюсь, — отвечал гордый король, — я ощущаю в себе великие силы“. — „Хорошо, — сказал Элиар. — Ты поедешь к Мидмиру и будешь говорить с ним. Он ответит на любой твой вопрос, но помни: что бы ты ни спросил, ответ будет точен. Не думай, что это облегчит твою задачу. Нелегко будет тебе получить нужные ответы, и еще сложнее понять их“.
Визгор беседовал с разумом Мидмира в течение семи лет, и многое открылось ему, хотя он так и не смог узнать все, что хотел. Мидмир сохранил память об этих беседах, и впоследствии они были записаны, чтобы стать главным источником знаний людей о мире, о дэвах и о себе».
Дальше начинался текст беседы. Белыми буквами были написаны вопросы, голубыми — ответы. Гил погрузился в чтение.
«День 1
— Как появились люди?
— Вопрос неконкретен.
— Сколько лет назад появился первый человек?
— Уточни понятие „человек“.
— Человек — это существо, такое, как я.
— Сорок два года назад.
— Нет, это я родился сорок два года назад! А вообще, человек — это живое существо, способное логически мыслить, пользоваться орудиями труда, имеющее голову, две ноги для движения и две руки для работы, два глаза, чтобы видеть свет, два уха, чтобы ощущать колебания воздуха… Достаточно?
— Нет.
— Пару легких, чтобы дышать, скелет, состоящий…»
Гил пропустил длинное описание костей и внутренних органов.
«— Теперь можешь ответить?
— Нет.
— Почему?
— Непонятно, кого из людей считать первым.
— Того, кто первым пошел на двух ногах.
— Деление на ноль.
— Где ошибка?
— Тот, кто первым пошел на двух ногах, не подходит под заданное определение. Первый человек не был человеком.
— Я устал.
— Приходи завтра».
Гил перевернул несколько страниц. Там продолжались такие же бесплодные разговоры. «Какой прок от этого Мидмира? — подумал Гил. — От него же ничего нельзя добиться».
«День 23
— Сколько лет назад появились дэвы?
— Уточни понятие „дэвы“.
— Ясно. Сколько лет назад появились дэвы здесь, на Земле?
— 931 год назад.
— Где они были до этого?
— Вопрос неконкретен.
— В скольких милях отсюда находился Элиар 1000 лет назад?
— В 11766 миллиардах миль.
— Каким образом дэвы преодолели это расстояние?
— Они летели в эликонах.
— Там, где жили дэвы 1000 лет назад, сейчас живут дэвы?
— Нет.
— Есть ли во Вселенной планета, населенная дэвами?
— Да.
— Можно ли ее увидеть с Земли?
— Да.
— Как ее называют люди?
— Земля.
— Есть ли другие планеты, населенные дэвами?
— Я не знаю ответа.
— Почему?
— Исхожу из предположений о бесконечности Вселенной.
— На той планете, с которой дэвы прилетели на Землю, после их отлета еще оставались дэвы?
— Да.
— Жив ли сейчас кто-нибудь из дэвов на той планете?
— Нет.
— Они погибли?
— Да.
— Какова причина их гибели?
— Война.
— Дэвы, прилетевшие на Землю, сделали это, чтобы не погибнуть вместе с остальными?
— Да.
— До завтра. Спасибо за беседу.
— До завтра».
Гил пропустил еще несколько страниц.
«День 93
— Изменились ли люди после прихода дэвов?
— Да.
— Дэвы сознательно изменяли людей?
— Да.
— Зачем?
— Чтобы жить вечно.
— Кому из дэвов пришла мысль использовать людей как средство продолжить свой род?
— Никому.
— Кто это придумал?
— Я.
— Могут ли дэвы рожать детей, подобно людям?
— Уточни вопрос.
— Здесь, на Земле.
— Нет.
— Почему?
— Нет необходимых условий.
— Каких?
— В твоем языке не хватает понятий.
— Говорят, что люди — дети дэвов. Это верно?
— Уточни понятие „дети дэвов“.
— Рожденные дэвами. В прямом смысле рожденные дэвами.
— Не верно.
— Наследующие некоторые свойства дэвов.
— Верно.
— Какие это свойства? Назови пять главных.
— Первое назвать не могу из-за отсутствия в твоем языке необходимых понятий. Второе: способность любить. Третье: стремление к знаниям. Четвертое: чувство добра и зла. Пятое: способность к искусству.
— Каким образом эти свойства были переданы людям?
— Бел-Адор и Фенлин, руководствуясь моими указаниями, целенаправленно воздействовали на наследственный аппарат людей.
— Продолжай.
— В твоем языке не хватает понятий.
— Говори нужные слова на языке дэвов и определяй их.
— На это уйдет много лет.
— Начинай».
Дальше текст становился совершенно непонятным. Больше половины книги было занято чем-то вроде словаря… Гил заглянул в конец книги, прочел наугад какую-то фразу о «принципах перевода основной составляющей природно-экстетического чувства на земной генетический код» и безнадежно захлопнул тяжелый том.
— Ну как? — спросил Энар.
— Интересно, но непонятно, — признался Гил. — У меня голова даже закружилась.
— Неудивительно. Со времен Визгора никто из людей так и не смог до конца разобраться в этих беседах. Впрочем, сейчас придет господин Асмол, это очень умный человек, и ты сможешь кое-что у него выяснить. А вот и он.
Глава 11 ДЭВЫ
Высокий седой человек с благородными чертами лица, в белом одеянии, подошел к сидящим и склонил голову в знак приветствия.
— Бхарг, — сказал Энар, представляя своих друзей, — Мирегал из Желтого Ручья, дочь Син-Оглана, Шем-ха-Гил, сын Конгала, из Белых Камней.
— Мое имя Асмол, — мягко улыбнулся старик. — Я сожалею, что заставил вас ждать. Я бы немедленно покинул своих учеников, если бы знал, насколько вы нуждаетесь в отдыхе. Приглашаю вас к себе — это недалеко, там вы получите все необходимое: сухую одежду, пищу и сможете, наконец, выспаться.
Асмол занимал с семьей половину двухэтажного дома в пределах городской стены. Врач, приглашенный старым учителем, осмотрел и надлежащим образом обработал раны и ушибы путников, и сразу после еды — то ли позднего обеда, то ли раннего ужина — они легли спать и проснулись только в полдень следующего дня. Асмол поджидал их у камина в гостиной, куда они спустились один за другим, бодрые и посвежевшие.
— Сегодня вы выглядите несравненно лучше, чем вчера, — отметил Учитель, и тем не менее вам стоит остаться у меня еще на одну ночь. Вы много натерпелись и заслужили хороший отдых. Кроме того, Ану, гостивший в Асор-Гире, завтра возвращается в Асгард, и вы сможете поехать вместе с ним. Это избавит вас от дорожных забот и, безусловно, будет полезно, ибо всякое общение с дэвами возвышает и обогащает человека. А сейчас, если ничто не обязывает вас молчать, расскажите немного о себе и о своей поездке.
Гости принялись говорить, перебивая друг друга и перескакивая с одного эпизода на другой. Асмол внимательно слушал их путаный рассказ. Лицо его попеременно выражало горечь, радость, удивление и гнев. Когда Мирегал рассказала о подслушанном разговоре и ночном бегстве из Эллигата, все смолкли, и Асмол, задумавшись, долго глядел на догорающие угольки.
— За всю мою жизнь, — заговорил он наконец, — не доводилось мне слышать повести более ошеломляющей. События, столь значительные и грозные, давно уже не происходили в нашем мире. Похоже, что то шаткое равновесие, которое сохранялось на протяжении четырех веков, нарушено. Как странно, что причиной всему — гнев горстки жителей тихой долины на самом краю мира, людей, которых никто никогда не принимал в расчет как силу, способную повлиять на ход истории…
— Что же теперь будет? — спросила Мирегал, испуганно глядя на Асмола. — Неужели мои предчувствия оправдаются, и мир погибнет? И мы будем этому виной?
— Что ждет нас, я не знаю… Если кто и может теперь увидеть наше будущее, то только дэвы, и вы поступили мудро, отправившись в Асгард сразу после изгнания нидхагов. Жаль, что не раньше.
— Гил, твой рассказ о гибели Конгала причинил мне великую боль, — продолжал Асмол после минутного молчания, — я любил его всей душой и преклонялся перед его искусством. Не успел ли он что-нибудь сказать перед смертью об одной картине…
— Он умер мгновенно.
— Значит, она потеряна для нас навсегда… Его лучшая работа — портрет Фенлин, который он спрятал от людских глаз, ибо понял, что, глядя на него, человек может лишиться рассудка. Слишком еще непрочна связующая нить между слабым разумом человека и его великим духом. И без того натянута до предела эта хрупкая связь.
— Портрет Фенлин… Значит, на нее саму смотреть и подавно нельзя? — спросила Мирегал.
— На Фенлин? Почему ты так решила, Мирегал? Конечно, на нее можно смотреть. И счастливы те, кому довелось ее увидеть. Фенлин живая — все время меняется, и человек не успевает уследить за этими переменами и углубиться в суть какого-то состояния. Она окружена множеством подробностей — обстановки, места, времени — и эта конкретность и сиюминутность каждой встречи с ней тоже сглаживают эффект. Наконец, Фенлин не может допустить, чтобы людям был причинен вред, и она специально немного меняет себя… как и все дэвы. Картина — совсем другое. Она останавливает время, отбрасывает детали и срывает маски. Впрочем, теперь это неважно. Картина потеряна. Быть может, люди найдут ее спустя много веков, когда дэвов уже не будет с нами и память о них потускнеет. Но сами люди тогда уже будут подобны дэвам в своем совершенстве и смогут по достоинству оценить счастливую находку. Это будет прекрасный день… Но к чему мечтать? Есть дела более неотложные — мир стоит на пороге великих событий. Меня сильно обеспокоил ваш рассказ о мелхе Халгате. Мирегал, поняла ли ты из услышанного тобой разговора, почему он хотел схватить вас?
— Нет… не совсем. Он осуждал наш поступок. Говорил, что мир надо покупать любой ценой. Должно быть, мелх хотел отправить нас в Лес в знак того, что он тут ни при чем. Наверно, он думал этим предотвратить нападение.
— Значит, ты думаешь, что его поступок был продиктован добрыми побуждениями, заботой о сохранении мира? Что ж, хорошо, если так. Ибо если он переродился и перешел на сторону врага, последствия могут быть ужасны. Ведь Эллигат — наша главная опора на юге, и если его ворота откроются перед вражескими полчищами, у нас останется мало надежды на победу. Но довольно! Не буду более утомлять вас. Отдыхайте до завтра, друзья. Вечером вы сможете послушать прекрасный концерт — лучшие музыканты будут играть сегодня в королевском дворце по случаю проводов Ану. А после захода солнца к вашим услугам телескоп. Набирайтесь сил, впереди у вас еще много трудов и волнений.
На следующее утро Асмол рано поднял своих гостей. До отъезда Ану оставалось всего часа два. Гил и его спутники долго прощались с гостеприимным хозяином, которого успели искренне полюбить. Бхарг насупился, сгорбившись на спине престарелого Эл-а-Денского рысака, Гил молча закусил губу, а Мирегал откровенно всхлипывала.
— Не печальтесь, друзья! — сказал Асмол. — На обратном пути, когда вам не надо будет так спешить, вы сможете прожить у меня сколько захотите.
У королевского дворца их поджидала группа из пятнадцати всадников. Гил сразу узнал Ану, хотя никогда раньше не видел живых дэвов. От него исходило некое невидимое сияние, ощущаемое не глазами, а сердцем. Почувствовав его, Гил принялся искать его источник, а найдя, долго не мог отвести взгляд.
Ану, златокудрый юноша, стройный и хрупкий на вид, сидел на белом коне. Когда четверо всадников подъехали ближе и присоединились к остальным, Ану обернулся и улыбнулся им. Его взгляд выражал больше, чем слова. В нем можно было читать, как в книге. «Приветствую тебя, Шем-ха-Гил, — словно говорил он. — Я рад, что ты поедешь со мной в Асгард. Я люблю всех людей. Я люблю жизнь. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив. Ты найдешь бессмертие, которое ищешь».
Потрясенный Гил почувствовал, как неизъяснимое блаженство разливается по его телу. Посмотрев на своих спутников, он понял по их лицам, что те тоже прочитали что-то во взгляде Ану — каждый свое, и что они испытывают такую же радость и так же, как он, готовы следовать куда угодно за этим светлоликим юношей, который, собственно, ничего не сделал, даже не сказал — просто улыбнулся им.
На высоком балконе появился старик в синей, как небо, мантии, с тяжелым золотым обручем на лбу. Он простер руку, благословляя уезжающих.
— Прощай, Бел-Шамах! — произнес Ану,
Всадники почтительно склонили головы. Отряд поскакал прочь, растянувшись цепочкой по улице, ведущей на север.
Выехав за пределы города, Гил обратил внимание на то, что в окрестностях Асор-Гира гораздо больше распаханных полей, чем у них на родине: по-видимому, основным занятием местных жителей было земледелие. Хутора тоже выглядели по-разному. Дома имели более изящные очертания, и все были разные, словно их строители заботились не столько об удобстве жилища, сколько о его красоте.
Проехав около тридцати миль, остановились у небольшой рощи. Воины принялись готовить обед, Мирегал давала им советы; Ану остался с лошадьми: он подходил по очереди к каждой, брал ее руками за морду и так, стоя друг против друга, они как будто беззвучно разговаривали о чем-то. При каждом движении в волосах дэва вспыхивали золотистые искорки.
— Что он делает? — спросил Гил у одного из своих новых попутчиков, пожилого асор-гирца по имени Илраг.
— Дэвы знают язык зверей и птиц, — ответил тот. — Он говорит с лошадьми, чтобы придать им силы и снять усталость.
— Что за сказки!
— Посмотришь, как эти кони теперь поскачут.
Обед был готов, люди принялись за еду. Ану сел рядом, но не притронулся к пище.
— Что же вы не едите, господин Ану? — спросила Мирегал.
— Мне что-то не хочется, — улыбнулся тот.
— Он же дэв, они не едят, — шепнул ей на ухо один из воинов.
— Извини меня за бестактность, Мирегал, — сказал Ану, — то, что у тебя на лице, это специально? Тебе так нравится?
— Вообще-то не очень, — смутилась та. — А что, еще сильно заметно?
Ану поднял руку, его тонкие пальцы легко скользнули по лицу Мирегал. Гил посмотрел на нее и ахнул — от синяков и царапин не осталось и следа.
— Так лучше? — сказал Ану, протягивая ей нож с блестящим полированным лезвием вместо зеркала.
— Ой!.. — только и сумела вымолвить Мирегал.
— Чудеса, — сказал Бхарг.
— Пустяки, — возразил Ану, — чудо — это ты.
— Какое уж там…
— Самое настоящее. Я тебе объясню. Ты видел когда-нибудь, чтобы из кирпичей сам собой построился дом? Это же просто немыслимо! А наоборот бывает сплошь и рядом; здания разрушаются от землетрясений или от времени. Так же с добром и злом.
— Как это?
— Добрый легко может стать злым, но чтобы из злого сделать доброго, нужны большие затраты энергии.
— Чего затраты?
— Любви, — улыбнулся Ану. — Вот Фенлин умеет это делать!
— Я Фенлин не видел, — сказал Бхарг задумчиво, — только ее, — он кивнул на Мирегал. — И еще Эалин. Они такие добрые…
— Мирегал! — воскликнул Ану. — Что я слышу! Придется, видно, оставить тебя в Асгарде. Ты будешь первым дэвом, рожденным на Земле. Хочешь быть дэвом, Ми?
— Вообще-то… То есть да, конечно!.. А можно, я сначала рожу ребеночка? Ведь дэвы, по-моему…
Ану рассмеялся звонким и чуть-чуть грустным смехом.
— Ну хорошо, — сказал он после недолгой паузы, — пусть теперь наши друзья из Эн-Гел-а-Сина расскажут о своих приключениях. По-моему, у них произошло что-то важное.
Энар подробно описал события последних двух недель.
— Спасибо, — сказал Ану, дослушав до конца. — Знаете, наверное, мы не будем останавливаться в Рагнаиме. Вы же выдержите одну ночь без сна, правда? Давайте отдохнем еще немного и поедем. А завтра днем будем в Асгарде!
Кони бежали необычайно легко и быстро, даже Эл-а-Денские тяжеловозы, забыв о своем возрасте, не отставали от других. Дорога повернула немного на восток, и через несколько минут они увидели впереди большой город.
— Не были в Рагнаиме? — обратился Илраг к Гилу и его спутникам. — Один из самых древних городов. Здесь сходятся все пути, сухопутные и морские, в гавани стоят огромные корабли, и здесь, как и в Асор-Гире, много школ. Рагнаим — город, связывающий дэвов и людей, в нем постоянно находятся десять-пятнадцать дэвов, и люди могут видеть их и советоваться с ними.
— Но ведь мы не остановимся здесь, — с сожалением сказала Мирегал.
— Да… По-видимому, Ану счел ваш рассказ чрезвычайно важным и хочет поскорее доставить вас в Асгард.
Когда они въехали в город, солнце уже зашло. Улицы были темны и безлюдны, в воздухе пахло морем, откуда-то доносились крики чаек. Всадники достигли центральной площади, где сходились пять дорог. Одна вела на север, в Альвен-Гир, другая в Ойтру, третья на восток, к морю, по четвертой, асор-гирской, они приехали. Отряд свернул на пятую, западную дорогу и не останавливаясь двинулся в сторону гор Ио-Рагн. На рассвете они достигли предгорий. Дорога ползла по склонам, петляя и взбираясь все выше, пока не привела их к подножию горы, увенчанной магделом — черной ступенчатой пирамидой, у основания которой виднелись какие-то развалины. Это был Анугард, в прошлом большой город, покинутый после первой войны.
Дорога продолжала свой извилистый путь к вершинам. Горная страна Ио-Рагн, обитель дэвов, далеко превосходила Ио-Син и своими размерами, и высотой. Здесь, наверху, в ложбинках кое-где еще лежал снег; растительность была скудная и невзрачная.
В три часа пополудни отряд выехал из глубокого темного ущелья. Солнце ярко осветило склон горы, и взорам путников открылась величественная картина: бело-золотой сияющей россыпью раскинулся перед ними самый первый из городов, средоточие мира, ха-гир-а-дэвин — златопрестольный Асгард. Дома, разбросанные по склонам, были построены на искусственных террасах, которые, подобно ступеням, вели к вершине. Там, под самыми облаками, был виден черный магдел со сверкающим многогранно-зеркальным окаемом вокруг последнего уступа. Над ним, отделенное мягко светящимся слоем серебристого тумана, лежало голубовато-серое колесо со множеством продолговатых окон-глаз, живых, всевидящих, таящих в себе непостижимую мудрость…
Ану оставил Гила и его друзей в нижней части города, где в специальном здании путники всегда могли найти пищу и ночлег. «Отдыхайте до рассвета, — сказал Ану, прощаясь. — Завтра вас пригласят на совет».
Утром их разбудил человек в синем плаще — форме служителей магдела — и сообщил, что им пора предстать перед дэвами.
Они поднялись по извилистой улице и оказались перед черной отполированной стеной пирамиды — никаких кирпичей или швов в ней не было видно, словно все громадное сооружение было высечено из одной каменной глыбы. В стене была небольшая ниша, Гил и его спутники вошли туда, и в тот же миг с потолка полился желтоватый свет, а вход в нишу заслонила скользнувшая сбоку железная плита. Послышался гул, и на мгновение Гилу показалось, что пол уплывает у него из-под ног. Затем все стихло, плита снова отъехала в сторону, но вместо склона горы с домами и башнями перед путниками открылся длинный зал без окон и без мебели, со светящимся потолком. Весь пол покрывал мягкий, пушистый ковер.
В зале были дэвы — много дэвов, не меньше пятидесяти. Полусидя-полулежа на ковре, они приветливо улыбались гостям; Ану помахал им рукой. Кроме него Гил узнал еще нескольких дэвов, знакомых ему по многочисленным картинам и скульптурам — Элиара, Таргала, Кулайна, Хеда. Внимание его привлекла молоденькая светловолосая девушка — она лежала на животе, болтая в воздухе ногами в маленьких серебряных туфельках, Повернувшись, она улыбнулась Гилу, и тот замер, увидев, как она прекрасна.
— Привет, — сказала девушка.
— Что ты так на нее уставился! — Мирегал легонько подтолкнула Гила локтем. — Я сейчас обижусь.
— Здравствуйте, друзья! — сказал седобородый Элиар. — Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь.
— Здравствуйте, — пробормотал Гил, не в силах отвести взгляд от девушки, — меня зовут Гил… Кто вы, прекрасная госпожа? — Ему казалось, что все исчезли, и только он и она остались в зале.
— Я Фенлин, — ответила та, откидывая со лба прядь волос. — И можешь обращаться ко мне на «ты». Я, правда, постарше тебя, но ведь по мне этого не скажешь? Ну честно, разве я выгляжу на три тысячи лет?
Мирегал ущипнула Гила за бок, и тот, совсем растерявшись, густо покраснел и уселся на ковер.
— Ану рассказал нам о ваших приключениях, — начал Элиар. — Мы все обсудили и решили, что особенно волноваться пока не стоит. Постараемся все уладить — отправим посольство к Шемай-Лоху в Ио-Тун-Гир… Но если война все-таки начнется… — Элиар замолчал, вглядываясь в лица людей.
— Если война начнется, что вполне возможно, — подхватил Таргал, — вам нужно быть к ней готовыми. Поэтому мы решили рассказать вам всю правду о том, что сейчас делается в мире. Мы это всегда держали в тайне, чтобы люди зря не беспокоились, но вы, я вижу, многое повидали и сходить с ума не собираетесь.
— Почему они должны сходить с ума? — возмутилась Фенлин. — Неужели я потратила столько сил лишь для того, чтобы создать племя слабонервных, которые лишаются рассудка при первом испуге?
— После взятия Ойтры, — продолжал Таргал, — Шемай-Лох не появлялся семьсот лет. Мы уже надеялись, что он исчез навсегда. Но потом, совершенно неожиданно…
— Да чего уж там! — перебил его Кулайн. — Надо было лучше следить за эликоном. Это он его охранял, — показывая на Таргала, сообщил он гостям.
— Одним словом, эликон из Меллнира был похищен, — сказал Элиар. — Оказалось, что туны давно уже поселились в неприступном ущелье в горах к западу от Гарм-а-Дена — теперь эти горы называются Ио-Тун-Гир — и тайно построили там магдел. Захват эликона многократно увеличил их силу.
— Как же они семьсот лет обходились без эликона? — спросила Мирегал.
— Они же переродились. Зло, как известно, проще добра и потому гораздо устойчивее. Вскоре туны построили в Великом Лесу Хумбу разум наподобие нашего Мидмира, только черный, служащий злу. И там, около Хумбы и при ее содействии, один из тунов начал работу по созданию нидхагов.
— Это была достаточно примитивная выдумка, — заметила Фенлин, — ломать не строить. Не надо большого ума, чтобы из доброго сделать злое. А создать что-то по-настоящему опасное — народ, способный к развитию, который воплотил бы в себе черный дух Шемай-Лоха, — ей все равно не удалось.
— Кому ей? — не понял Гил.
— Этому туну. Спроси у Таргала, он знает.
Но Таргал лишь укоризненно посмотрел на Фенлин и отвернулся. Гилу показалось, что в его глазах на мгновение вспыхнул гнев. «Странно, — подумал Гил, — дэвы, оказывается, тоже могут сердиться. Интересно, чем же Фенлин задела Таргала?» Между тем, Элиар продолжал:
— Нидхаги быстро расплодились и стали теснить людей. Не прошло и двух веков, как люди были изгнаны из Гарм-а-Дена. Вскоре после этого начали появляться гуллы. Сначала их делали из мертвых растений — так был перерожден Великий Лес, — из зверей, и только потом стали работать с человеческими трупами. Однако ни нидхаги, ни гуллы не могли удовлетворить Шемай-Лоха — ему хотелось создать народ, в котором зло сочеталось бы с высоким разумом и культурой, ему нужно было утонченное, изысканное зло. Никто из тунов не был способен на это. Поэтому Шемай-Лох хотел…
— Чтобы это сделала я, — сказала Фенлин.
— И он стал угрожать нам. Сила, заключенная в меллнирском эликоне, позволяла ему выпустить Гарма из-под земли. Он грозил, что, если ему не отдадут Фенлин, он уничтожит мир. Нидхаги уже копали туннели и шахты в Гарм-а-Дене, вгрызаясь в недра, подбираясь все ближе к огнедышащему чудовищу. И нам пришлось пойти на великую жертву… Нет, Фенлин мы не могли отдать. Мы послали десять дэвов к Шемай-Лоху — они добровольно избрали себе эту участь, вечная им слава, — как бы для того, чтобы обсудить условия мира. Им удалось проникнуть во вражеский эликон и лишить его силы — на треть или на четверть, — так что теперь Лох не может выпустить на волю подземный огонь. Гарм снова связан, но никто из посланных не вернулся. Утрата тяжела, но это была плата за жизнь всех остальных — и людей, и дэвов. С тех пор прошло 85 лет. Поначалу натиск врага ослаб — Шемай-Лох знал, что теперь сила на нашей стороне. Ведь из нашего грозного оружия, что хранится в подземельях Меллнира, тунам не досталось ничего. Однако в последние годы, видя, что мы не наступаем и не применяем своего оружия, Шемай-Лох осмелел. Нидхаги двинулись дальше, на восток — в вашей стране, например, они захватили Ио-Син. Если бы тунам было известно, что мы ни при каких обстоятельствах не воспользуемся тем, что спрятано в Меллнире, они давно бы уже начали большую войну.
— Так вот что их сдерживает! — воскликнул Гил. — Но почему, почему вы не хотите воспользоваться этим своим оружием? Дайте его нам! Мы уничтожим тунов, очистим мир от зла, человеческий род обретет бессмертие! Вот она, тайна, которую я искал! Дайте нам свое оружие!
— Это невозможно, — сказал Элиар. — Им нельзя пользоваться. Многие из нас считают, что его вообще давно надо было уничтожить. Мы не делаем этого только потому, что его боятся туны. Оно погубило наш мир — тот, откуда мы пришли, а это был очень большой мир, и… очень хороший. Даже ограниченное его применение может выпустить Гарма. А что будет, если оно попадет в руки врага?
— Но мы все же решили дать вам кое-что из наших тайников, — сказал Таргал, — вот эти три меча. Это, конечно, не то страшное оружие, о котором шла речь, но… Они могут разрубить практически все, даже то, что сделано нами, кроме разве что обшивки эликона. Берегите их и никому не показывайте без необходимости.
Бхарг, Гил и Энар с благодарностью приняли из рук Таргала три длинных меча в ножнах из голубоватого металла.
— Такие же мечи будут посланы — по нескольку штук — во все наши города и крепости, — сказал Элиар. — Вам же сейчас следует вернуться в Эн-Гел-а-Син и готовиться к возможной войне. Мы надеемся, что у нас хватит сил справиться с врагом и без применения крайних средств. Так же, как это было во время осады Ойтры. И конечно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы война не началась.
В этот момент откуда-то — по-видимому, из-за стены — раздался громкий взволнованный голос:
— Срочный гонец! Срочный гонец! Срочный гонец!..
Ниша в стене открылась, и в зал вошел запыхавшийся человек в рваном плаще. Быстро оглядев собравшихся, он произнес хрипло, с трудом переводя дыхание:
— Я из Эллигата. Война! Полчища нидхагов окружили город. Мы долго не продержимся. Спешите на помощь!..
Глава 12 БИТВА
Рев в сарае усилился.
— Пора их кормить, — сказала Эалин, вставая. Голос ее звучал бодро, несмотря на усталость. Ки-Энду с жалостью посмотрел на нее. В его глазах красноватым блеском отразились углы очага.
— По-прежнему будешь сама возиться с ними? Не позволишь мне помочь?
— Ты не любишь их.
— Все равно ничего у тебя не выйдет. Их не переделаешь.
— Бхарг…
— Исключение. Врожденная склонность к добру.
Эалин покачала головой и вышла, ничего не ответив. Ки-Энду хмуро глядел на огонь. Ему казалось, что он чувствует слабую вибрацию пола, далекий подземный гул.
— Не терпится Гарму, — пробормотал Ки-Энду. — Знает, что близится его время. Привязь не выдержит, вырвется кровожадный пес…
Стук копыт отвлек его от мрачных мыслей. Он вышел на крыльцо. Две группы всадников приближались к Белому Камню: трое с запада и двое с юга — эти первыми подъехали к дому, и Ки-Энду узнал Беллана и Хайра.
— Привет вам, друзья! Что слышно в столице?
— В Элоре ужасный переполох, — сообщил Хайр. — Все из-за нас.
— Король сразу послал войско, — сказал Беллан, — они уже здесь. Мы возвращались вместе.
— Сколько людей?
— Целая армия! Двести воинов. Король страшно перепугался!..
— Двести? Очень мало.
— Он послал всех, кто у него был, и обещал собрать еще… Кроме того, многие из наших, из тех, кто переселился, возвращаются. Они вольются в Ио-Син-а-Хут.
— Что же вы стоите на пороге? — Эалин незаметно подошла к крыльцу. — Вы же устали с дороги и проголодались. Заходите в дом, пожалуйста. А это кто едет?
Трое всадников мчались во весь опор с запада.
— Там мой отец, — сказал Ки-Энду, — а двоих других я не знаю.
Син-Оглан, подъехав, лишь бегло поприветствовал друзей и указал на своих спутников — усталых, забрызганных грязью воинов в иноземных одеждах.
— Гонцы мелха Халгата.
— Да, мы из Эллигата, — сказал один из них, спешившись. Он говорил недружелюбно, почти гневно. — Мы потому прибыли сюда, что только вам и никому другому мы обязаны всем тем, что обрушилось на нас и на нашу землю. Кровь наших детей и жен да падет на ваши головы!
— Какой ужас! — воскликнула Эалин. — У вас весь рукав в крови. Вы ранены! Позвольте, я вас перевяжу.
— Вздор! — Незнакомец резко отдернул руку. — Сейчас каждая минута стоит десятков жизней. Скорей собирайте своих горе-вояк и спешите к нам на помощь.
Ки-Энду взглянул на Беллана и Хайра. В его глазах появилась твердость.
— Ведите королевское войско сразу к реке, — приказал он. — Отец, мы едем собирать наших. Выступаем через два часа. Сбор у Лунного Дэва. Опоздавших не ждем. А вы, — он обратился к гонцам, — расскажете мне все по дороге.
Рать двигалась на север, растянувшись по каменному тракту на несколько миль: рослые, сильные всадники в желто-синих плащах, с длинными копьями и тяжелыми прямоугольными щитами — королевская дружина, — и наспех вооруженные, одетые кто во что горазд деревенские увальни — Ио-Син-а-Хут — всего не больше пятисот человек.
Стемнело, луны не было видно из-за туч. Воины ехали вдоль берега Эллила в полной тьме, и никто не заметил ни слабо белевшей у дороги груды костей, ни многочисленных тонкопалых гулльских следов вокруг.
— Они появились на рассвете, — Ганах, эллигатский гонец, ехал рядом с Ки-Энду и говорил глухо, угрюмо глядя под ноги своего коня. — В тот день я дежурил на западной угловой башне — с нее хорошо виден Великий Лес. Утро было тихое, в небе ни облачка — словом, ничто не предвещало беды. Вдруг мне почудилось — солнце только-только встало — что край Леса на западе зашевелился и стал медленно приближаться. Накануне в городе был большой пир, и я подумал, что у меня просто помутилось в глазах от выпитого вина. Я подождал какое-то время, но видение не исчезало. Лес двигался. Тогда я навел на это место подзорную трубу. Зрелище, увиденное мною, было ужасно. Несметные полчища нидхагов: все в одинаковых темных плащах, с копьями и факелами — выходили из Леса. Они шли ровными рядами и уже на целую милю продвинулись в долину, а конца им все не было видно. На их пути оказался небольшой хутор; нидхаги ворвались туда, и вскоре к небу потянулся столб черного дыма. Позже мы узнали от беженцев, что нидхаги не просто убивали женщин, детей, стариков — они изобретали все новые виды мучительной смерти, и особенно дико хохотали, расправляясь с младенцами…
Мелх собрал всех воинов на центральной площади и обратился к ним с речью. Он сказал: «Я горжусь тем, что мое отважное войско преисполнено лишь одного желания — поскорее вступить в схватку с жестоким врагом. Для меня великая честь быть предводителем таких людей! Я скорблю вместе с вами, глядя, как гибнет этот столь дорогой мне край. Но я не вправе следовать зову сердца: у нас слишком мало сил, чтобы вступать в битву в открытом поле. Будем терпеливо ждать, пока враг не подойдет поближе к крепости, и тогда обрушимся на него, нанеся противнику значительно больший урон, сохранив при этом войско».
Речь мелха была разумна, и нам ничего не оставалось, как согласиться с ним. Кстати, тогда же он сообщил нам, что всему виной вы, жители Эн-Гел-а-Сина, что это вы раздразнили нидхагов и обрушили на нас гнев великой Хумбы.
Я вернулся на башню и, сжав зубы, смотрел, как мой родной край обращается в пепел. Ведь там, в этой ныне мертвой стране, жило много моих друзей и близких. Наконец, к вечеру, оставив за собой лишь дымящиеся развалины, враги подошли к городу. Путь им преградила река и эллигатские стены. Злобные гортанные выкрики нидхагов теперь были хорошо слышны в крепости. В этот час, наконец, Халгат повел нас в бой.
— Почему вы не применили камнеметные машины, раз враг стоял у самых стен? — спросил Ки-Энду.
— Не знаю! Я не полководец! Халгат лучше знает, как ведутся войны… Мы вышли из города через западные ворота. Справа от нас была река, спереди и слева — быстро приближающаяся вражеская рать. Нидхаги тогда еще не начали переправляться через Эллил, так что все их войско находилось здесь, на западном берегу. Мелх разделил нас на два отряда, примерно по три с половиной сотни человек. Один из них он возглавил сам, во втором назначил мелхом Фунгала, отважнейшего из наших воинов. Халгат повел свой отряд прямо на врага, нам же — я был в отряде Фунгала — приказал, двигаясь вдоль реки, попытаться зайти с тыла. Мы спустились к Эллилу и поскакали на северо-запад. Сначала мы не встречали сопротивления, потом сверху, с высокого берега, на нас обрушилось большое войско косматых нелюдей. Мы приняли бой — что еще оставалось делать, сзади была река. Фунгал крикнул, чтобы мы пробивались к воротам, навстречу Халгату. С трудом нам удалось немного потеснить нидхагов, и мы взобрались на высокую береговую кручу, откуда было видно все поле боя. То, что открылось нашим глазам, лишило мужества самых смелых: воины Халгата, не выдержав вражеского натиска, поспешно отступали в крепость, и когда последний из них укрылся за стенами, железная решетка с грохотом упала перед самым носом разъяренных врагов.
— Значит, ваш отряд был брошен на верную гибель?
— Иначе нельзя было поступить: нидхаги ворвались бы в город. Когда мы увидели, что путь в крепость для нас закрыт, многие пали духом, но Фунгал сказал, что еще есть надежда: можно было пробиться обратно к реке и переплыть на тот берег. Мы повернули коней… Что было дальше, я плохо помню. Крики, стоны, кровь, грохот мечей. Нелюди кидались на нас со всех сторон, и трудно было разобрать где свой, а где враг. Мне и еще нескольким воинам удалось прорубиться сквозь толпы врагов к берегу. Мы побросали оружие и кинулись в воду, но не успели доплыть до середины реки, как в нас полетели стрелы и камни — нидхаги, как оказалось, ловко управлялись с пращой. Только двое из нашего отряда выбрались вместе со мной на восточный берег. Мы спрятались в кустарнике, а когда вышли оттуда, то увидели, что пройти, как мы надеялись, к северным воротам не удастся. Несколько тысяч нидхагов уже переправлялись на этот берег — лодки они принесли из Леса на плечах. К счастью, они высадились в полумиле от нас, ближе к городу. Когда мы поняли, что из нашего отряда больше никто не спасся, мы двинулись на северо-восток, скрываясь за кустами и прячась по оврагам, пока не оказались на безопасном расстоянии от врага. Отдохнув, мы решили ехать за помощью. Нам удалось раздобыть лошадей, и один из нас отправился в Асгард, а мы вдвоем поехали сюда. Кроме нас сделать это было некому — Эллигат полностью окружен. Вот и все, что я могу вам сообщить, господин Ки-Энду.
Ки-Энду, нахмурившись, долго обдумывал услышанное, потом спросил:
— Почему вы не послали за помощью раньше, до того, как враг подошел к городу?
— Халгат сказал: «Наш долг — обороняться своими силами». Он очень гордый человек, наш мелх, и отважный воин. Наша поездка к вам предпринята против его воли. Мы решили взять эту ответственность на себя.
— Поистине мудрый поступок… Скажи, Ганах, добрались ли до Эллигата наши посланники — два воина, нидхаг и молодая девушка? Они должны были предупредить вас об опасности. Впрочем, я уже понял, что они побывали у вас — иначе Халгат не стал бы винить нас во всем… Они остались в крепости или успели уехать до начала осады?
— Они были у нас за два дня до нападения. Мелх отпустил их с миром. Куда они направились, я не знаю.
— Какие меры были приняты за эти два дня? Вы как-нибудь готовились к предстоящей битве?
— Что можно было сделать за столь краткий срок? Видимо, мелх не хотел беспокоить нас понапрасну, либо решил, что времени еще много.
— Что ж, спасибо за рассказ, Ганах, — Ки-Энду надолго замолчал, потом снова заговорил: — Вина моя огромна. Если бы я мог своей жизнью искупить ее, я сделал бы это не задумываясь. Но вместо этого мне приходится подвергать опасности жизни сотен моих соотечественников, и никому не ведомо, что еще ждет нас впереди. Я развязал эту войну, и пусть проклятие падет на мою голову.
— Не смей так говорить!.. — Эалин, ехавшая позади, догнала Ки-Энду и услышала его последнюю фразу. — Быть может, ценой своей крови мы купим мир и благоденствие нашим потомкам!
— Как ты здесь оказалась? Что ты собираешься делать на войне? Не хватает еще, чтобы женщины воевали, расплачиваясь за мою глупость!
— Разве на войне не нужны врачи? Я не вернусь, даже если ты мне прикажешь. И не стоит тебе брать всю вину на себя: без нас, без нашей поддержки ты бы ничего не сделал. Мы все в ответе за случившееся. Не падай духом, Ки-Энду, лучше подумай, как нам разумнее всего вести войну. Я считаю, что, поскольку нидхаги сильно превосходят нас числом, мы должны делать ставку прежде всего на внезапность нападения.
— Эалин, — Ки-Энду внимательно и серьезно посмотрел ей в глаза, — я никому не говорил таких слов. Ты самая мудрая, отважная и благородная женщина в мире.
Она улыбнулась.
— Знаешь, мне иногда больше хочется быть самой красивой.
Ки-Энду растерялся, не зная, что сказать. Тогда Эалин снова заговорила о деле. Разумнее всего, сказала она, было бы напасть на нидхагов до рассвета, но для этого придется отказаться от остановки на ночлег. Ки-Энду согласился с ней, и после совещания с Гиором, предводителем королевской дружины, они объявили двухчасовой отдых.
Воины развели несколько небольших костров и занялись приготовлением пищи — благо Балг и десяток женщин, поехавших с ними, позаботились о запасе продуктов.
Стояла тихая, теплая майская ночь. Эллил чуть слышно плескался, накатывая ленивые волны на низкий берег. Было совсем темно, лишь кое-где в траве горели звездочки светляков.
Балг, который всю дорогу тащился в хвосте отряда, гоня перед собой небольшое стадо баранов, теперь, отдав все необходимые распоряжения, подсел к костру, вокруг которого расположились ветераны Ио-Син-а-Хута — те, кто участвовал в изгнании нидхагов. Все были немного растеряны и напуганы — события развивались слишком стремительно.
— Мы собрались в такой спешке и так торопились всю дорогу, что я даже не успел толком прочувствовать, что произошло, — сказал Вайл из Серой Лошади. — А теперь я вижу, что нам по-настоящему придется драться и никакие хитрости не помогут. А ведь вы, господин Ки-Энду, когда затевали все это, обещали, что ни крови, ни жертв не будет…
— А тебя, между прочим, никто не заставлял, приятель, — оборвал его Балг. — Все мы добровольно пошли на это, и нечего все валить на господина Ки-Энду. Думаешь, мне не страшно?.. Меня ведь вытащили прямо из погреба — я как раз наливал пиво в кружку, — и не могу теперь вспомнить, завернул ли я кран. Так-то!..
— Вы что, перетрусили все, да? — возмутился Хайр. — Никто вас тут не держит! Можете возвращаться, мы и без вас обойдемся!..
— Мне не нравится, господин Ки-Энду, боевой дух вашего войска, — неодобрительно заметил Гиор, королевский военачальник.
Ки-Энду какое-то время молчал, потом ответил негромко, не поднимая головы:
— Вы оши6аетесь… Во всем мире нет такого, чей дух был бы крепче, чем у этих людей.
Все замолчали, удивленно переглядываясь.
— Это он про нас, что ли? — шепотом спросил Вайл у Рилга из Приречья. — Это у нас такой дух?..
— Не знаю, — пожал плечами Рилг. — Вряд ли. У меня так точно нет.
Когда войско двинулось в путь, до рассвета оставалось еще часа три-четыре. Этого времени им едва хватило, чтобы добраться до предместий Эллигата. В призрачном свете нарождающегося дня они увидели страшную картину: крепостные стены поднимались из серовато-бурой массы лежащих тел. Нидхаги, в своих коричневых шерстяных плащах, спали прямо на земле, кое-где горели костры; коренастые, кривоногие фигурки часовых вразвалку вышагивали между спящими. В отдалении, на западном берегу Эллила, стояло несколько шатров — там, видимо, находились предводители вражеской армии.
— По крайней мере ясно, что наши еще держатся, — с надеждой сказал Ганах, ехавший впереди вместе с Гиором и Ки-Энду, — но я почему-то не вижу никого на стенах. Впрочем, вон один появился.
На площадке надвратной башни действительно показался силуэт воина. Но уже в следующее мгновение он взмахнул руками и упал навзничь.
— Проклятие! — с отчаянием произнес Ганах. — Они подстрелили его, как куропатку! Почему наши не использует камнеметные машины?
— По-моему, ваш мелх вообще неправильно ведет войну, — сказал Ки-Энду. — Я сильно опасаюсь каких-нибудь непредвиденных осложнений. Нам надо быть начеку во всем, что связано с Халгатом. Но довольно разговоров, скоро встанет солнце.
Ки-Энду остановил коня и повернулся к войску.
— Друзья! — торжественно произнес он, когда Ио-Син-а-Хут и королевская дружина, подъехав, столпились вокруг. — Сейчас начнется бой… Нам предстоит убивать, а кому-то суждено быть убитым. Но мы не имеем права отступиться: ведь если нидхагов не остановить сейчас, то они, захватив Эл-а-Ден, нападут на нашу родину — Эн-Гел-а-Син. Не падайте духом, друзья! Добро и зло вечные враги, но добро в конце концов обязательно победит! Наша первая боевая задача не так уж сложна — пробиться через лагерь спящих нидхагов к воротам и войти в крепость. Не задерживайтесь, по возможности не ввязывайтесь в длительные схватки. С нами великие дэвы! Вперед!
Ки-Энду затрубил в рог, ему ответил горн мелха Гиора, и войско поскакало к южным воротам Эллигата. Нидхаги не ожидали нападения с тыла, взоры часовых были обращены на крепость, да и те были не слишком внимательны, поскольку за минувший день воины Халгата ни разу не беспокоили их вылазками или сколько-нибудь серьезным обстрелом со стен. Когда армии Эн-Гел-а-Сина оставалось не более четверти мили до вражеского лагеря, часовые наконец заметили приближающихся всадников и подняли тревогу. Нидхаги едва начали просыпаться и хвататься за оружие, когда Ки-Энду и передовой отряд Ио-Син-а-Хута уже ворвались в их лагерь. Кони сбивали копытами растерянных нидхагов, и почти никто из них не оказывал сопротивления. Ровным строем, низко опустив копья, налетела на врага дружина эн-гел-а-синского короля. Несколько врагов было убито, остальные обратились в бегство. Но на другом берегу уже стояла несметная вражеская рать; первые лодки с нидхагами устремились к восточному берегу — на помощь отступающим. Увидев, что столь внезапно появившиеся всадники не преследуют их и, по-видимому, желают лишь поскорей достичь ворот, нидхаги, бросившиеся было бежать, остановились по обе стороны дороги и начали обстреливать противника из луков. Но всадники мчались быстро, и вражеские стрелы редко настигали их; сама же дорога оказалась практически свободна. Не прошло и минуты, как армия Эн-Гел-а-Сина столпилась у городских ворот. Гиор со всей силы ударил древком копья по железной створке.
— Открывайте! Эн-Гел-а-Син пришел вам на подмогу!
— Привет, друзья! — раздался голос с башни у них над головами. — Сейчас открою. Лихо вы проскочили. Клянусь своей бородой, вы подоспели как раз вовремя. Нам тут туго пришлось. Только что застрелили моего товарища. Отойдите-ка от ворот, они открываются наружу. Господин мелх был очень сердит, что вы раздразнили нидхагов, ну да раз вы сами пришли нам помогать, то, конечно, он вас простит…
— Будьте любезны, поторопитесь с воротами, — крикнул Гиор.
Множество нидхагов уже переправлялись с западного берега на восточный; построившись полукругом, они приближались, осыпая толпившихся у стены всадников градом копий и стрел. Гиор и Ки-Энду отогнали своих людей на некоторое расстояние, чтобы дать воротам открыться; гиоровы дружинники спешились, вышли вперед и, сомкнув щиты, заслонили остальных. Часовой на башне почему-то замешкался; наконец раздался металлический лязг, и скрытые в стенах механизмы медленно раздвинули створки ворот. За ними оказалась железная решетка, между прутьев виднелась булыжная мостовая, по ней к воротам шла группа людей. Впереди шествовал мелх Халгат в блестящих доспехах, с серебряным обручем на лбу. Задрав голову, он крикнул часовому:
— Остановись! Эти люди из Эн-Гел-а-Сина предали нас. Они заодно с нидхагами.
— Что вы, господин мелх! Я же видел, как они с боем прорывались через их лагерь. Они пришли к нам на помощь!
Нидхаги с пронзительными воплями кидались на строй королевских дружинников. Некоторые, разбежавшись, пытались перепрыгнуть через заслон щитов; многие из них натыкались грудью на копья и, извиваясь всем телом, встречали смерть; но пока ратник стряхивал с копья одного нидхага, на него сверху обрушивались другие. Дружинники попятились, тесня своих к воротам. У решетки началась давка. Ужас охватил бойцов Ио-Син-а-Хута. Широко раскрытыми глазами глядели они на ревущую толпу кровожадных нелюдей и, бессильные что-либо сделать, ожидали неминуемой гибели. Ки-Энду ничем не мог помочь своим воинам — его конь был прижат к железным прутьям и лишь отчаянно взбрыкивал ногами.
— Клянусь десницей Таргала и мудростью Элиара, — вскричал Ки-Энду, — это ты, Халгат, предатель!
Шум битвы был ясно слышен по ту сторону решетки. Спутники мелха в чем-то яростно убеждали его, указывая на гибнущее у ворот войско. Наконец он махнул рукой и крикнул наверх:
— Поднимай!
Нападающие тем временем прорубились сквозь строй воинов Гиора; нидхаги, люди и кони смешались в один шевелящийся кровавый клубок. Казалось, еще минута, и все будет кончено — бурлящее море озверевших нидхагов поглотит горстку людей у стены. Но вот решетка медленно поползла вверх, обезумевшие всадники потоком устремились в город. Кони натыкались друг на друга, спотыкались, люди перелетали через их головы и падали на мостовую, в то время как десяток воинов из последних сил сдерживал ожесточенный натиск врага.
— Закрывай! Закрывай быстрей! — крикнул Халгат, отойдя в сторону с дороги.
— Все вошли? — спросили сверху.
— Всех пускать не обязательно, — усмехнулся мелх, — нидхагов можно оставить снаружи.
Решетка упала с грохотом, едва не придавив замешкавшегося Балга. Он только что дровяным топором разрубил голову нидхагу и ошалело смотрел на свои забрызганные кровью руки.
Оглянувшись, Ки-Энду увидел, что не все успели войти — схватка продолжалась по ту сторону решетки. Там оставалось пять или шесть дружинников и Вайл из Серой Лошади. Никто не мог теперь помочь им, и Ки-Энду, бессильно опустив руки, смотрел, как их убивают…
Наконец все было кончено. Нидхаги еще кричали что-то, просовывая свои кривые мечи между прутьями решетки, потом отошли, оставив перед воротами груду мертвых тел.
Все стихло. Солнце вышло из-за туч, осветив зубчатые стены и грозные башни. В Эллигате начинался третий день осады.
Глава 13 СОЛНЦЕ
В приемном зале мелх-а-бета было жарко и душно. Полуденное солнце заливало его своими горячими лучами. К счастью, через разбитое окно иногда пробивался в помещение прохладный ветерок: слугам было недосуг вставить стекло, которое Бхарг выбил щитом во время бегства. За столом, друг против друга, сидели Ки-Энду и Халгат.
— Не будем сейчас сводить счеты, — сказал Ки-Энду. — Нам обоим есть в чем упрекнуть другого… Я пришел, чтобы обсудить план действий. Я осмотрел укрепления, видел твоих воинов — у тебя осталось человек триста, не так ли? — и нашел, что с тем, что у нас есть, мы вполне можем снять осаду. Если ты согласишься выслушать мой план…
— Когда же ты успел так подробно все разведать, о славный мелх? Ты что, совсем не отдыхал после битвы и бессонной ночи? Я весьма озабочен тем, что ты так себя переутомляешь.
Ки-Энду поморщился.
— Тунам оставь свои заботы! Слушай. Вот на чем основав мой план. Армия нидхагов разделена Эллилом на две части. Меньшая стоит на восточном берегу, большая — на западном. Мосты есть только внутри крепости, поэтому переправляться с берега на берег нидхаги могут лишь на лодках, которых у них немного. Уничтожив лодки, мы полностью разобщим две половинки вражеской армии…
— Послушай, мелх Ки-Энду, — сказал Халгат, — ни к чему все это. Я уже предпринял вылазку — всего одну, в первый день осады. Это стоило мне половины войска. Здесь мы в безопасности. Эллигат абсолютно неприступен. Провизии пока хватает. Подождем, пока ситуация не изменится или не придет какая-нибудь серьезная помощь.
— Кому, нидхагам? Им она, вернее всего, придет и скоро. Ты же отказался послать за помощью. Нас известил случайно спасшийся боец из отряда, который ты отправил на смерть. Не надо водить меня за нос, Халгат. Я вижу тебя насквозь.
Тонкие губы Халгата растянулись в злобной усмешке:
— Лучше держи свои домыслы при себе, друг. В этом городе пока командую я. Все здесь доверяют мне и знают, что я безгранично предан дэвам и народу. Ты просто жалкий щенок по сравнению со мной. Не серди меня, Ки-Энду, советую тебе ради твоего же блага.
— Я знаю, что твои люди тебе верят, — сказал Ки-Энду, с трудом сдерживая гнев. — Потому я и пытаюсь договориться с тобой. Но тебе не кажется, что ты слишком самонадеян? У тебя всего три сотни воинов, а у меня здесь четыре с половиной. Стоит ли тебе со мной ссориться?
Глаза Халгата сузились, рука его потянулась к веревке звонка. Ки-Энду, усмехнувшись, достал рог и положил его перед собой на стол.
— Не спеши! Я не так наивен, как ты думаешь… Здесь под окнами два десятка моих людей. Если ты позвонишь, я дуну вот в это, и тогда…
Халгат опустил руку и недобро рассмеялся.
— Не будем ссориться, Ки-Энду. Наши разногласия — пустяк по сравнению с делом защиты отечества. Готовь свою операцию. Я дам тебе и катапульты, и корабли, если они понадобятся. Но людей своих я не вправе заставить участвовать в этой затее.
— С нами пойдут только добровольцы.
— Ну разумеется.
— Удачи тебе, друг.
Спустя час после разговора Халгат собрал своих воинов на площади перед мелх-а-бетом.
— Храбрые защитники Эллигата, — обратился он к войску. — Я позвал вас, чтобы посоветоваться, ибо никому я не доверяю так, как вам, мои доблестные воины. Мы беседовали с Ки-Энду, мелхом вновь прибывшего войска, и у нас с ним возникли разногласия. Я считаю, что мы должны оборонять крепость и не выходить за ворота. Здесь нам ничто не угрожает, а результаты нашей вылазки вы помните: четыреста человек погибло, а враг отброшен не был. Правда, Ки-Энду считает, что это я виноват во всем — я, мол, послал Фунгала на верную смерть.
Халгат сделал паузу, давая возможность воинам выразить свое мнение. Из толпы донеслись возгласы: «Неправда! Халгат храбро сражался! Врагов было слишком много! Халгат не виноват!» и даже: «Долой Ки-Энду!»
— Не судите его слишком строго, — продолжал мелх. — Такой опытный полководец имеет право на собственное мнение. Ведь это он выгнал нидхагов из Ио-Синских гор. Ему принадлежит честь разжигателя войны… Тише, друзья.
Когда смолкли возмущенные крики воинов, Халгат продолжил речь.
— Ки-Энду хочет сделать еще одну вылазку. Он считает, что имеющимися силами мы можем разбить противника и отбросить его обратно в Лес. Я долго пытался отговорить его от этой безумной затеи. Я приводил все возможные доводы — и пусть никто не говорит потом, что это я послал его на гибель, — но, увы, все было впустую. Ки-Энду продолжал упорствовать, и мне пришлось отступить. Вечером он поведет своих людей в бой. Мы поможем ему — дадим корабли и будем обстреливать врага со стен. Если кто-нибудь из вас захочет присоединиться к его отряду, я не стану вас задерживать. Но я надеюсь, что здравый рассудок в вас возобладает, и вы не станете ввязываться в это безнадежное дело. Скажите, друзья, прав ли я, что не посылаю вас в бой вместе с пришельцами?
— Прав! — крикнул один из воинов. Еще несколько голосов поддержали его.
В этот момент Ганах, ездивший в Эн-Гел-а-Син, поднял руку.
— Дайте мне слово!
Собравшиеся притихли.
— Друзья! — начал Ганах. — Это я призвал Ки-Энду и его людей к нам на помощь. Я видел, как они откликнулись на мой призыв, — не раздумывая, не сомневаясь, они помчались в Эллигат, едва узнали о нашей беде. Быть может, они и совершили ошибку, когда первыми напали на нидхагов и тем самым развязали войну. Но сколько же можно было терпеть бесчинства этих нелюдей? Если жители Эн-Гел-а-Сина и виноваты, то они готовы кровью искупить свою вину. Я участвовал в битве у южных ворот. Я видел, как сражаются эти люди. Поверьте моему слову — на них можно положиться. Ки-Энду и Гиор — хорошие полководцы, они не поведут своих ратников в бой, если дело действительно безнадежно. Я доверяю им и пойду с ними. Надеюсь, что многие из вас поступят так же.
Слово взял Синлаг, часовой, открывавший ворота армии Эн-Гел-а-Сина.
— Вот что я хочу сказать, ребята. Чего мы с вами тут дожидаемся? Сидим в безопасности, в то время как нидхаги все вокруг жгут и опустошают. Вы скажете — мы обороняем Эллигат. Но должны-то мы всю страну защищать. Надо идти с пришельцами на вылазку. Опасно? Конечно, опасно. Только, по-моему, лучше нам в бою погибнуть, чем сидеть тут, как трусам, за высокими стенами! Теперь про пришельцев. Правильно говорит Ганах: пусть они виноваты, но они же сами пришли сюда помогать нам — за одно это их надо простить. И потом, скажу вам по секрету, мы с ними квиты. Есть и у нас перед ними вина — когда они подъехали, мы долго не открывали ворота — господин мелх по ошибке решил, что это враги нападают, ну, словом, вышла заминка. И пока мы соображали, что к чему, нидхаги больше полусотни этих бедняг перебили. Так что нечего нам поминать свои обиды и спорить, кто в чем виноват. Был мир — мы бездельничали, теперь война пришла, и наше дело — драться, а не отсиживаться в крепости. В общем, пойдемте-ка, ребята, в бой вместе с Ки-Энду и его войском!
— Верно! — кричали воины. — Хватит нам ждать у моря погоды! Пора идти в бой!
Халгат печально покачал головой:
— Что ж, друзья, дело ваше. Вы вправе поступать, как хотите. Но знайте: я не в ответе за то, что с вами будет, если вы пойдете с пришельцами. Более того, я должен сложить с себя все полномочия. Пусть Ки-Энду командует здесь всем до завтрашнего утра. И если после боя кто-нибудь из вас останется жив, пусть он вспомнит, как ваш верный, мудрый мелх отговаривал вас…
Сказав это, Халгат, не оборачиваясь, поднялся по ступеням мелх-а-бета и захлопнул за собой дверь.
После того, как Халгат временно уступил свою власть Ки-Энду, в крепости немедленно закипела работа. Син-Оглан и Хайр вместе с десятком воинов Ио-Син-а-Хута обошли дома, приютившие беженцев, — среди них оказалось немало мужчин, которые согласились принять участие в битве. Оружия на городских складах хватило на всех, и к вечеру под началом Ки-Энду находилось, считая эллигатский гарнизон, около двенадцати сотен воинов.
Ган-а-Ру, назначенный адмиралом и получивший в свое распоряжение сто человек, отправился в порт. Они спустили на воду четыре быстроходных корабля, установили на каждом по две легкие катапульты и натаскали камней. Новоиспеченный адмирал с опаской поднялся по шаткому трапу на палубу и, обойдя внушительную груду булыжников, принялся рассматривать метательную машину.
— Остановись, — приказал он воину, принесшему еще один камень, — а то вся эта штука потонет, и река выйдет из берегов… Дай-ка мне этот-булыжник.
Ган-а-Ру зарядил катапульту, покрутил ручку, сжав до отказа главную пружину и, недоуменно пробормотав: «А как стрелять-то?», принялся шарить в механизме. Что-то щелкнуло, и булыжник со свистом унесся вдаль.
— Ой!.. — присел от неожиданности Ган-а-Ру. Послышался звон разбитого стекла. — Это называется камень в свой огород… Интересно, там никого не ушибло?
Вскоре выяснилось, что камень попал в мелх-а-бет, выбив еще одно окно в приемном зале, что создало приятный сквознячок и окончательно избавило Халгата от необходимости проветривать помещение.
Гиор руководил перестановкой сил в крепости. Большая часть камнеметных машин с башен и стен западного берега была перенесена на восточный, а также на башни над мостами. Сюда же были поставлены усиленные отряды стрелков.
Эалин привела два десятка женщин к мелх-а-бету, несмотря на протесты слуг, они заняли дом и через несколько часов превратили второй этаж в госпиталь. Туда были перенесены раненые, и их тотчас окружили внимание и заботой.
Балга назначили поваром. Силами шести эллигатских трактиров ему удалось организовать грандиозный обед на пять тысяч персон. Городские кладовые заметно опустели, но Балг сказал, что это не беда — все равно завтра осада будет снята. Чтобы на всякий случай пополнить запасы, половина действующей армии была отправлена на реку с неводами; пока они вычерпывали из Эллила всю рыбу от стены до стены, остальные выше ее чистили. «Ничего, — приговаривал Балг, — поработаете, зато накормим этих несчастных беженцев, они уже третий день голодают».
Ки-Энду еще не знал, на какое время назначить начало операции, так как было неясно, когда будут закончены приготовления. Вопрос этот был разрешен самым неожиданным образом. Часа за два до заката над городом появился голубь; сделав несколько кругов, он опустился на центральную площадь. К ноге его был привязан кусок пергамента. Послание передали Ки-Энду. Тот прочитал его вслух перед собравшимся народом:
«Мелху Халгату и всем защитникам Эллигата от мелха Геласа привет. Узнав о нашествии нидхагов, мы, жители восточного Эл-а-Дена, собрали большую рать. Тысяча воинов готова прийти вам на подмогу. Мы стоим лагерем в десяти милях к северу от города. Врагу об этом, как мы надеемся, ничего не известно. Мы планируем сегодня в полночь напасть на нидхагов; если возможно, поддержите нас из крепости и будьте готовы открыть северные ворота, чтобы впустить нас».
— Птица принесла нам благую весть, — сказал Ки-Энду, закончив чтение. — Теперь все сразу стало ясно: нам надо выступать за полчаса до полуночи.
— Послушайте, господин Ки-Энду, — подал голос Рилг из Приречья, — как же мы будем сражаться в темноте? Луны-то, похоже, не будет — вон какие тучи нагнало.
Ки-Энду задумался, почесал в затылке и сказал неуверенно:
— Есть у меня одна идея, только вот сможем ли мы ее осуществить? В Рагнаиме я видел маяк — это такой яркий светильник, указывающий путь морякам. Мы могли бы устроить такие же маяки на башнях, только для этого нужно достать зеркала, как можно больше зеркал.
— У Халгата в мелх-а-бете их полным-полно, — сказал Ганах, — и в других домах наверняка есть. Мы с товарищами сейчас принесем их.
Ки-Энду с несколькими помощниками направился в городскую кузницу. Жители Эллигата нанесли туда множество зеркал самых разнообразных размеров и форм. Ки-Энду принялся за работу, и через три часа воины водрузили на башни северных и южных ворот большие, по два человеческих роста в диаметре, круглые предметы, похожие на неглубокие чаши, собранные из зеркальных осколков на металлическом каркасе. Туда же подняли запас дров и сколоченные из досок щиты, которые должны были скрыть до времени огонь от нидхагов.
Солнце зашло, и осажденный город погрузился во мрак. Стих шум во вражеском лагере. Низкие тучи затянули все небо; ни звезд, ни луны не было видно. Медленно разгоралось красноватое зарево на высоких надвратных башнях. Пятьсот воинов безмолвно стояли у южных ворот; Ки-Энду нервно сжимал в руке рог, поглядывая то на небо, то на озаренную зловещим сиянием вершину башни, то на песочные часы. Время, казалось, замедлило свой бег: песчинки сыпались так лениво, словно хотели оттянуть неминуемую битву.
Наконец условленный час настал. Ки-Энду затрубил, и с северо-запада тотчас же прилетел ответный сигнал — Гиор со своими пятью сотнями стоял наготове в противоположном конце крепости. Железные ворота раздвинулись, и Ки-Энду, в последний раз окинув взглядом свое молчаливое войско, рванулся с места. Всадники помчались следом; громко топоча башмаками по мостовой, бежали сзади пешие ополченцы. Впереди из темноты послышались тревожные, тягучие звуки нидхагских рожков, замелькали во мраке сгорбленные силуэты. Сбившись неровным строем, направив на людей копья, кровожадные нидхаги подпрыгивая в неистовстве, выгибали спины, хищно скалились, предвкушая кровавое буйство, и рычали: «Шрак! Тэт фра дейр! Смерть им!»
Внезапно яркий свет залил все вокруг: воины на башне убрали заградительные щиты, и точно сфокусированный луч ударил прямо в глаза передовому отряду нидхагов. Жутко взвыв, ослепленные нелюди стали жмуриться, закрывать руками лица, многие заметались, как безумные, в луче света. Нидхаги, не видя, кто перед ними — свой или враг, насмерть разили друг друга, забыв от страха обо всем на свете, кроме неистребимой жажды крови, навеки вживленной тунами в их черные души. Безмолвно и стремительно налетел Ио-Син-а-Хут на растерявшегося противника. Все глубже врезались всадники во вражеский стан, и огненный эллипс двигался перед ними, освещая им путь. Бегущие сзади пешие воины ловили и убивали немногих разбегающихся нидхагов. Поле было завалено трупами.
Но чем больше удалялось войско Ки-Энду от крепости, тем слабее и рассеяннее становился свет маяка. Вот уже нидхаги не разбегаются перед всадниками; некоторые из них оборачиваются и, прикрывая глаза ладонью, пытаются обороняться… Продвижение войска замедлилось; несколько ратников упали, пронзенные нидхагскими копьями, посланными из темноты. Слева вновь протяжно затрубили рожки, в воздухе засвистели стрелы.
— Стойте! — крикнул Ки-Энду своим воинам. — Надо поворачивать! Мы слишком далеко забрались.
Всадники развернули коней и поскакали к воротам; теперь маяк уже не мог им помочь, и они скакали во тьме — к счастью, воины на башне догадались снова поставить заградительные щиты, чтобы не слепить им глаза. Увидев впереди какое-то движение, Ки-Энду решил, что это его отставшие пехотинцы, и велел им поворачивать назад. В ответ донеслась рычащая брань, и на всадников обрушился дождь стрел и копий. По приказу Ки-Энду отряд свернул направо, но там тоже были нидхаги… Увидев, что схватки не избежать, воины поскакали прямо на врага, и во мраке закипел бой. Не видя почти ничего, ратники разили наугад, и вскоре все так смешалось, что никто уже не мог сказать, где свои, а где враги, и что они делают — отступают ли, наступают или просто кружатся на месте. Ки-Энду время от времени трубил в рог, и воины отвечали ему криками, чтобы дать понять, где они находятся, но с каждым разом ответов было все меньше. Многие воины окончательно потеряли своих. Те из них, кому удалось выбраться из свалки, пытались поодиночке добраться до ворот, но сделать это было практически невозможно, так как нидхаги рыскали повсюду в поисках жертв. Ки-Энду понял, что через несколько минут его отряд попросту перестанет существовать, рассеявшись в темноте. Зарубив кинувшегося на него сбоку нидхага, Ки-Энду громко крикнул:
— Собирайтесь сюда все, кто меня слышит! Я придумал, как нам спастись!
Едва раздался сигнал к началу битвы, решетка, перегораживавшая реку под южным мостом, поднялась, пропуская потоки воды и огромные пуки водорослей. Из-под арки выскользнули два корабля (два других в это время выплывали из-под северного моста). Проходя под поднятой решеткой, корабли попали под дождик, и Ган-а-Ру, стоявший у руля на переднем судне, поморщившись, заявил, что это их боевое крещение, и им теперь не страшно утонуть, так как это всего лишь продолжит начавшийся процесс промокания. Гребцы изо всех сил налегали на весла, и корабли быстро и почти бесшумно скользили по черной воде. На правом, западном, берегу не было заметно никакого движения, тогда как слева мелькали какие-то тени. Оттуда, с востока, доносился стук множества копыт, топанье башмаков и протяжные звуки нидхагских рожков, трубивших тревогу. Неожиданно вспыхнул огонь на башне, и тотчас же страшный вой поднялся во вражеском лагере на левом берегу.
— Смотрите-ка, как на них подействовало, — обратился Ган-а-Ру к стоящему рядом с ним эллигатскому воину. — Должно быть, они решили, что чародей Ки-Энду вытащил из-под земли солнце, чтобы осветить путь своему войску.
— Солнце? А что, я бы и сам мог так подумать! — ответил воин. — Ваш мелх и вправду творит чудеса.
— Ки-Энду у нас — голова, — сообщил Ган-а-Ру, подруливая к берегу. — Эй, ребята, пора! Смотрите, не простудитесь!
Стоявшие наготове у борта люди — человек пятнадцать — попрыгали в воду, быстро выбрались на сушу и принялись отвязывать лодки и отталкивать их от берега. Оставшиеся на корабле зацепляли их баграми и подтаскивали к корме. Быстро справившись со своим делом, продрогшие, мокрые люди вскарабкались обратно на палубу. Дружно ударили весла, и корабль стал медленно выплывать на середину реки, таща за собой вереницу лодок.
На берег тем временем набежала целая толпа нидхагов: они спешили на помощь своим, что вели бой по ту сторону Эллила. Не найдя лодок, они недоуменно бегали туда-сюда вдоль воды, потом наконец кто-то заметил корабль. Три сотни глоток яростно взревели что-то наподобие «Рса дейр, ворр-р!», и в отплывающих полетели стрелы. «Сейчас, сейчас, — пробормотал Ган-а-Ру, — минутку!» Выйдя на середину, корабли развернулись бортами вдоль берега и бросили якоря. Воины навели все четыре катапульты на столпившихся у воды врагов и открыли стрельбу. Первые же выстрелы оказались удачными, прорубив глубокие бреши в самой гуще беснующейся толпы. Уже после пяти залпов нидхаги поспешно отступили в темноту, оставив на земле десятки искалеченных тел.
Воспользовавшись передышкой, Ган-а-Ру приказал поднять якорь, и корабль оттащил захваченные лодки в город. Там уже стояло штук двадцать таких же трофеев — северная флотилия справилась со своей задачей не хуже, чем южная. В городе светились почти все окна — никто не спал, ожидая исхода битвы; при этом улицы были совершенно безлюдны и стояла непривычная тишина…
Корабль вернулся на боевые позиции. Там было по-прежнему спокойно — нидхаги пока не пытались форсировать реку. Воины со второго судна, все так же стоявшего на якоре, сообщили адмиралу, что за время его отсутствия ничего существенного не произошло. «Не нравится мне это затишье», — нахмурился Ган-а-Ру. Впрочем, шум боя на восточном берегу, по-видимому, приблизился — теперь были отчетливо слышны крики людей, хриплый рев нидхагов и звон оружия. Через некоторое время из темноты, где-то совсем близко, раздался знакомый голос:
— Ру! Эй, Ру! Где ты? Забери нас отсюда, будь другом!
— Хан дэвин! Никак это ты, Ки-Энду? Какими судьбами? Что ты там делаешь?
— Слишком много вопросов! Скорее возьми нас на корабль, а то будет поздно!..
Корабли подошли к берегу, и остатки отряда Ки-Энду — все, кого ему удалось собрать в кромешной тьме и сумятице боя, не более сотни измученных воинов, — поднялись на палубу. Посадка еще не была закончена, когда налетели нидхаги, и матросам Ган-а-Ру с трудом удалось задержать их залпами катапульт, пока последние бойцы взбирались на борт. Лошадей пришлось оставить, к великому сожалению Ки-Энду и всех остальных, — для них все равно не хватило бы места.
Корабли двинулись к городу. Ган-а-Ру подошел к Ки-Энду и, мрачно глядя ему в глаза, спросил:
— Где остальные?
Ки-Энду отвел взгляд.
— Не знаю. Я растерял всех воинов в темноте. Одна надежда, что они сумеют вернуться поодиночке, благо нидхаги не гуллы и сейчас так же слепы, как и мы. Не смотри на меня так, Ру, я не привык видеть тебя таким угрюмым.
Ган-а-Ру горько усмехнулся и не ответил.
— Узнать бы, что происходит у нас на северном флоте, — сказал Ки-Энду, видя, что молчание затянулось, — пришел этот мелх Гелас со своими ополченцами или нет?
— Пришел, должно быть, раз обещал. Во всяком случае, в последние полчаса на восточном берегу стало гораздо тише — вероятно, нидхаги перебрасывают свои войска на север. Что ты собираешься делать?
— Вернуться к воротам, зажечь маяк и снова пойти в атаку. Со светом дела у нас шли гораздо лучше, чем в потемках… Подожди-ка… Что это за звук?
В наступившей тишине был ясно слышен грохот, доносившийся с северо-запада, со стороны города.
— Я уже давно прислушиваюсь, — сказал Ган-а-Ру. — Видишь ли, нидхаги с западного берега остались не у дел. Насколько я понимаю, они решили, чтобы хоть как-то себя занять, выломать западные ворота и захватить Эллигат. И это им легко удастся, ведь у нас на той стене не осталось ни людей, ни камнебросалок.
— Проклятие! Как я мог не предусмотреть этого? Скорее в город!..
Корабли прошли под мостом и сразу же пристали к западному берегу. Ки-Энду немедленно разослал гонцов во все концы крепости: было приказано перекрыть Эллил решетками, снова разжечь на башнях костры (без отражателей), чтобы указывать возвращающимся воинам дорогу домой. Люди, стоявшие на восточной стене, получили приказ переходить вместе с катапультами на западную; гонцы были посланы также в поле к северу от Эллигата — им было велено разыскать сражающиеся там отряды Гиора и Геласа и вернуть их в крепость. Ворота — северные и южные — должны были оставаться открытыми, пока не возвратятся последние воины или пока противник не приблизится вплотную к крепости.
Разослав гонцов, Ки-Энду повел остатки своего отряда к западным воротам. Ган-а-Ру со своими людьми отправился следом.
Поднявшись на надвратную башню, они встретили там всего десяток измотанных воинов — расстреляв все камни из своей единственной катапульты и истратив все стрелы, они уже отчаялись что-либо сделать и лишь с ужасом ждали, когда не выдержат ворота.
Ки-Энду посмотрел вниз. В темноте он с трудом разглядел громадную осадную машину, вокруг которой суетилось множество нидхагов. Машина стояла у самых ворот и ритмично, раз за разом, била в них тяжелым железным тараном. От каждого удара башня содрогалась, но ворота пока оставались невредимыми. Ратники принялись обстреливать нидхагов из луков, но было еще слишком темно, и потому стрелы редко достигали цели. Тогда Ки-Энду приказал воинам носить камни для катапульты.
— Надо хоть что-то делать, — сказал Ган-а-Ру, — ничто так не лишает людей мужества, как бездействие, пусть даже вынужденное.
Небо на востоке понемногу становилось светлее — скоро должно было взойти солнце. Вражеская машина продолжала методично бить по воротам; снизу сообщили, что железные засовы погнулись, но створки уперлись в решетку и пока держатся. «Вода и камень точит… — заметил Ган-а-Ру. — В конце концов их все-таки выломают».
Наконец прибыли катапульты с восточной стены; пока их при помощи блоков поднимали и устанавливали на башне, прибежал запыхавшийся гонец от мелха Гиора. Взобравшись на площадку, он разыскал Ки-Энду и радостно сообщил, что на севере одержана полная победа.
— Гелас подоспел как раз вовремя! И маяк нам очень помог. Мы окружили нидхагов и разбили их наголову; потом прошли вдоль восточной стены до самых южных ворот… Впрочем, я вижу, господин мелх, что вас не радует моя весть. Нам уже сообщили, что нидхаги западного берега пошли на штурм, поэтому Гиор и Гелас со всем войском спешат сюда. Я думаю, они уже в городе. Надеюсь, что серьезной опасности нет — ведь Эллигат, как известно, неприступен.
Снизу раздался громкий скрежет и грохот обваливающихся камней.
— Все, кто не занят с катапультами, — вниз! Скорей! — крикнул Ки-Энду, и воины помчались по крутой лестнице к подножию башни. Оказалось, что не выдержала каменная кладка стены в том месте, где к ней крепились воротные петли. Лицевой слой камней обрушился, и искореженная левая створка ворот упала на землю. Теперь только продавленная решетка стояла на пути разъяренных вражеских полчищ.
Встало долгожданное солнце, но то, что увидели в его свете защитники Эллигата, наполнило отчаянием их отважные сердца — нескончаемое море косматых нидхагских голов да страшная машина, без устали работающая своим тараном…
Ки-Энду еще не успел принять никакого решения, когда возникла новая опасность — сверху крикнули, что нидхаги принесли длинные лестницы и лезут по ним на стены. Это означало, что теперь уже поздно применять камнеметные машины, которые, к тому же, еще и не готовы. Ки-Энду понял, что нидхаги скоро ворвутся в крепость, и приказал строить баррикады и завалы на всех улицах.
Вскоре подошел Гиор со своим войском и Гелас, предводитель ополченцев восточного Эл-а-Дена. Это был небольшого роста старичок с длинной бородой. Несмотря на его почтенный возраст, жители края единодушно избрали Геласа своим вожаком — он пользовался всеобщим уважением как самый мудрый и образованный человек в округе. Вернулись и многие воины из отряда Ки-Энду, потерявшиеся в темноте. Теперь в Эллигате было не менее двух тысяч бойцов, однако, по сравнению с неисчислимыми ордами нидхагов, это было ничтожно мало.
Ки-Энду послал несколько человек, чтобы те обежали все дома и велели женщинам, детям и старикам поскорее уходить из города на восток. «Пока это еще возможно, — сказал Ки-Энду. — Не зря же мы пролили столько крови, очищая восточный берег».
Дополнительные отряды воинов были посланы на стены — отбиваться от лезущих по лестницам нидхагов. К оставшимся внизу Ки-Энду обратился с краткой речью:
— Я благодарю вас всех за мужество и доблесть, проявленные вами в бою, — сказал он. — Вы храбро сражались и честно выполнили свой долг перед дэвами и людьми. Теперь каждый из вас имеет право выбрать: погибнуть, до конца защищая Эллигат, или уйти, пока не поздно, на восток — путь еще свободен. Я никого не задерживаю и не принуждаю… А сейчас все, кто остается — на баррикады!
В это время железная решетка прогнулась под ударами тарана; ее нижние прутья, пропахав в земле глубокие борозды, приподнялись, и нидхаги стали по одному пролезать через образовавшуюся щель в город; бойцы Ио-Син-а-Хута бросились к воротам, и там началась жаркая битва. В это же время закипел бой на стенах. Нидхаги и люди, сцепившись в схватке, падали вниз и разбивались о камни мостовой.
Внезапно воины услышали сзади негромкий, но твердый голос Халгата:
— Теперь вы видите, к чему привела безумная затея Ки-Энду! — сказал он, обращаясь к войску. — Вчера вы не послушали моего совета. Надеюсь, что сейчас вы, наконец, поняли, кто из нас был прав, и больше не будете противиться моей воле. Приказываю прекратить бесполезное сопротивление и немедленно уходить из города. Всем следовать за мной к южным воротам. Пусть Ки-Энду и его люди прикрывают наш отход, это будет только справедливо.
— Уходите! — крикнул Ки-Энду, оборачиваясь. — Уходите все, кто хочет! Мы вас прикроем!..
Халгат повернулся и зашагал по переулку в сторону моста. Среди воинов, строивших баррикады, возникло замешательство. Люди Геласа, считавшие Халгата единовластным законным правителем страны, готовы были подчиниться его приказу; в то же время они видели, что остальные ратники не уходят и продолжают работу.
— Что здесь у вас происходит? — обратился Гелас к одному из воинов эллигатского гарнизона. — Разве между господами Халгатом и Ки-Энду были какие-то разногласия?
Однако ему не суждено было получить ответ. Железная решетка с лязгом и грохотом обрушилась на мостовую; сверху полетели выломанные из стены камни и нидхаги диким стадом ворвались в город. Ио-Син-а-Хут и дружинники Гиора вступили в смертельный бой. Им на помощь поспешили остальные защитники крепости; но натиск был слишком силен, и воины, терпя огромные потери, все дальше отходили от ворот…
В этот роковой миг откуда-то с севера донесся ясный и чистый звук серебряных труб. Люди, стоявшие на надвратной башне, ликующе воздев к небу руки, закричали все разом:
— Мы спасены! Дэвы с нами!
Услыхав это, нидхаги растерялись, сникли и той же дикой толпой бросились вон из крепости. Теперь отступающие превратились в преследователей и мчались следом за врагом.
Выйдя за ворота, Ки-Энду увидел три или четыре десятка золотоволосых, светлоликих всадников на белых конях; высоко подняв ослепительно сверкающие мечи, они приближались к Эллилу с северо-востока. Вслед за дэвами скакала небольшая группа людей.
Напрасно нидхагские мелхи размахивали кривыми мечами и грозно рычали, пытаясь одержать свое разбегающееся войско; их солдаты мчались со всех ног к Великому Лесу. Сражавшиеся на стенах побросали оружие и сдались.
Достигнув реки, кони дэвов не останавливаясь, вошли в воду и поплыли; люди же, приехавшие с ними, направились в город. Вот дэвы выбрались на берег и, проскакав мимо выломанных западных ворот, устремились в погоню за бегущим врагом. Ликующие защитники Эллигата приветствовали их восторженными криками. Воины прекратили погоню — было ясно, что дэвам не понадобится помощь…
Ки-Энду стоял посреди поля и, улыбаясь счастливо и чуть-чуть растерянно, смотрел вслед лучезарным всадникам. Вдруг сзади раздался звонкий женский смех.
— Братец! Что же ты нас не встречаешь? Мы с ног сбились, тебя разыскивая!
— Мирегал! — Ки-Энду обернулся, глаза его светились счастьем победы и радостью долгожданной встречи. Перед ним стояли его друзья — растрепанные, счастливые, смеющиеся — Гил, Энар, Бхарг и Мирегал.
Глава 14 БЫК
Шумной и радостной была встреча друзей, словно после долгой разлуки, ибо хоть они всего неделю как расстались, мир за это время изменился так сильно, будто прошла вечность. Мирегал без умолку болтала, обнимая брата. Все смешалось: и слезы, и смех, и сбивчивые рассказы о пережитых приключениях, и поздравления с победой. Гил тоже полез обниматься с Ки-Энду, требуя, чтобы тот немедленно рассказал о битве, и как они сюда попали, и как дела дома, и как поживает Халгат, и не собирается ли он снова их арестовывать, потому что у Мирегал только-только зажил нос, который ей разбил этот мерзавец стражник, да и то зажил только потому, что Ану ее вылечил, а дэвы — такой удивительный народ, они такие добрые и мудрые, им стоит провести рукой, и все раны сразу исчезают, словно их и не было, а еще нам подарили в Асгарде чудесные мечи, ведь мы только что из Асгарда, мы весь день и всю ночь скакали сюда, и еле-еле успели, а то бы еще неизвестно…
Энар пытался их урезонить: «Ну что вы набросились на беднягу Ки, он же устал после битвы, на нем лица нет, дайте ему передохнуть. Ох, молодежь…» — но и он не мог скрыть своего восторга и даже похлопал Ки-Энду по плечу. Бхарг, причесанный, умытый, аккуратно одетый — словом, совершенно преобразившийся Бхарг, — молча стоял в стороне и только широко улыбался, скаля начищенные мелом зубы.
— Спасибо, дорогие мои, спасибо! Простите меня, радость встречи отняла у меня последние силы — я ведь две ночи не спал, все бегал да сражался, был даже мелхом эллигатским! Раз вы тоже не спали сегодня, я думаю, нам лучше всего сейчас пойти немного отдохнуть. Я остановился тут в доме одной женщины. Ее муж и сын погибли в первый день войны. Этот грязный гулл Халгат послал их на верную смерть. Специально послал, я уверен, хоть и не могу доказать. Так что места в доме хватит на всех.
— Ки, а много людей погибло? — спросил Гил. — Наши все живы? Мы видели Балга, и Ру, и Рилга, а остальные?
— Не знаю, Гилли. У меня не было времени это выяснить. Давай пока отложим этот разговор.
Путешественники тоже были порядком измучены — шутка ли, больше суток в седле, — и теперь, после встречи с Ки-Энду, усталость особенно дала о себе знать. Гила неудержимо потянуло ко сну. Войдя в город, Ки-Энду подобрал две небольшие дощечки и острым обломком камня стал царапать на них рисунки-пиктограммы.
— Нужно отдать последние распоряжения, — объяснил он друзьям.
Надпись на первой дощечке гласила: «Всем участникам битвы строжайший приказ: немедленно идти спать. Мелх Ки-Энду». Вторая содержала следующий текст: «Халгат, только ты и твои слуги не сражались сегодня ночью, поэтому сейчас извольте заняться приготовлениями к приему дэвов. Если ты помешаешь отдыхать кому-нибудь из воинов, я выпущу из тебя потроха. На этом твои полномочия тебе возвращаю. Ки-Энду».
Поймав двух мальчишек, Ки-Энду вручил им по дощечке и объяснил, кому передать.
— Ну, теперь все. Пойдем.
Они свернули налево и, пройдя четверть мили, достигли северного моста. Здесь была одна из многочисленных лестниц, ведущих на стену.
— Ой, — сказала Мирегал, — я так хочу подняться и посмотреть на город сверху. Мы же успеем выспаться, ну правда, Ки?..
Ки-Энду вздохнул, но не смог ей отказать, и они вскарабкались по крутым ступеням. Наверху была узкая, в пять локтей дорожка, ограниченная снаружи прямоугольными каменными зубцами высотой в человеческий рост. Через щели-бойницы был виден убегающий вдаль Эллил, поле и полоска леса на горизонте. Бхарг последним поднялся на стену. Он хмурился и шагал неуверенно, словно чего-то опасаясь.
— Что ты, Бхарг?.. — обратилась к нему Мирегал. — Ты очень устал, да?
— Что-то мне не по себе. Как будто знобит немного, — нидхаг отвел взгляд.
— Посмотрите-ка сюда! — встревожено сказал Энар, внимательно гладя в бойницу. — Что-то странное происходит с рекой. Я никогда такого не видел. Везде вода спокойная, а в одном месте волны и водовороты. И это место движется… Оно приближается в нам!
— Правда, — пробормотал Гил. — Что же это может быть?
— Похоже, как будто под водой перемещается какой-то очень большой предмет, — сказал Ки-Энду.
— Наверное, кит! — беспечно предположила Мирегал.
— Радость моя, киты в реках не водятся, — нахмурился Гил. — Они живут только в море.
— Ну и что. Может, он случайно перепутал. Может, это глупый кит — забыл, что ему надо жить в море, и приплыл сюда.
— Но он плывет вниз по течению, со стороны Леса, — возразил Энар. — Маловероятно, чтобы…
Участок неспокойной воды быстро приближался к мосту. Теперь было ясно видно, что в глубине действительно движется большое темное тело. Оно уже почти достигло решетки, когда раздался плеск и над поверхностью показалось нечто, отдаленно напоминающее гигантскую бычью голову с единственным торчащим вперед рогом.
— Что-то не нравится мне этот глупый кит, — проговорил Ки-Энду, не отрываясь от бойницы. — Бхарг, как ты думаешь, что это такое?
Ответа не последовало. Все посмотрели на Бхарга и замерли от удивления. Нидхаг стоял, закрыв глаза, и трясся мелкой дрожью. Пот ручьями стекал по его побледневшему лицу. Он не в состоянии был вымолвить ни слова.
Внезапно снизу, из-под моста, раздался звук, подобный раскату грома; что-то зашипело, заклокотало, и в тот же миг стену и стоящих на ней людей заволокло облаком горячего пара. Стена дрожала, словно и ее тоже охватил необъяснимый ужас. Потом шум внизу стих, осталось только негромкое шипение и плеск, доносящиеся уже с другой стороны моста. Таинственное нечто сокрушило решетку и проникло в город.
Пар рассеялся, и потрясенные люди увидели, как из реки медленно выползает на берег неведомое чудовище. Бычья голова на толстой шее крепилась к массивному туловищу обтекаемой формы, закованному в блестящий, похоже, металлический панцирь; вместо ног было множество колес, охваченных широкой гибкой лентой.
— Что это, Ки?! — Гил схватил Ки-Энду за руку. — Что это за чудовищный бык?..
— Это наша смерть, Гил… — тихо сказал Ки-Энду. — Против таких вещей человек бессилен. Смотри, смотри!..
Половина корпуса быка была уже на берегу. Голова его медленно повернулась, и конец того, что напоминало рог, озарился ослепительным пламенем. Грянул гром, и стоящее поблизости здание разлетелось миллионами осколков. Поднялся столб дыма и пыли, потянуло гарью; в воздухе появился какой-то незнакомый едкий запах.
Несколько мгновений Гил стоял как вкопанный, с ужасом глядя на сверкающего быка, потом глаза его заблестели, и он воскликнул:
— Мы не бессильны, Ки! У нас есть асгардские мечи!
Ки-Энду метнулся к окаменевшему Бхаргу и выхватил меч у него из ножен:
— Бежим!
Гил помчался вниз по лестнице следом за Ки-Энду, крича ему вдогонку:
— …Они рубят все на свете! Таргал сказал: с размаху не бить, а резать, как ножом… Это когда что-то очень твердое — железо или камень… И ни в коем случае не прикасаться к лезвию! Ты понял, Ки?..
— Да! — не оборачиваясь крикнул Ки-Энду. — Я попробую возле головы, а ты ближе к хвосту. Прыгаем!
Они уже спустились со стены и оказались на мосту; перебежав на другую сторону, перескочили через низкие гранитные перила и с высоты в сорок—пятьдесят локтей бросились в воду.
Когда Гил и Ки-Энду побежали вниз, на мост, Энар какое-то время стоял в растерянности, глядя то на свой меч в ножнах, то на удаляющихся друзей.
— Эй, ты тоже окаменел, Энар? — крикнула Мирегал, изо всех сил тряхнув его за плечи. — Можно взять твой меч? А, ладно, я и без спросу возьму!..
Выйдя из оцепенения, Энар отстранил ее руку.
— Нет! Я сам.
С этими словами он побежал вниз, тут же споткнулся и едва не загремел носом по ступенькам.
— Тюлень неповоротливый, — с досадой пробормотала Мирегал, сжимая кулаки, — лучше бы мне дал… Бхарг! — Она повернулась к нидхагу — тот уже не стоял, как прежде, у бойницы, а сидел на корточках, сжавшись в комок и обхватив руками голову, и дрожал всем телом.
— Бхарг, милый, ну не трясись! — Мирегал, присев рядом, принялась гладить его по затылку, отчего нидхаг еще сильнее сжимался, втягивая голову в плечи. — Ну пожалуйста, объясни мне, что это такое? Почему ты так испугался? Ну не молчи, я же вижу, что ты знаешь, прошу тебя, Бхарг!
Наконец она услышала глухой, хриплый голос Бхарга, — забывшись, тот снова заговорил на родном языке:
— Рса тэт, ойр тэт. Рса гхар… Гхарр…
— Ну, ну, я понимаю. Кто? Великие кто? Говори же!
— Гхарр тунр! — выкрикнул Бхарг сорванным, неузнаваемым голосом и повалился на гладкие камни, словно моля кого-то о пощаде.
Вода была теплой, почти горячей. Гил, никогда в жизни не прыгавший с высоты в воду, едва не захлебнулся и с трудом выплыл на поверхность; одежда сковывала движения, и ему пришлось сбросить плащ и башмаки. Пока он барахтался под мостом, Ки-Энду уплыл далеко вперед. Убедившись, что асгардский меч крепко сидит в ножнах и никуда не денется, Гил бросился догонять товарища.
Задняя часть туловища быка по-прежнему была в воде. Голова его поворачивалась из стороны в сторону, и огнедышащий рог раз за разом исторгал из себя пламя. Каждую вспышку сопровождал удар грома, и неведомая страшная сила сокрушала окрестные дома, обращая их в груды дымящихся обломков. Люди в ужасе метались по улице, одежда на многих пылала; они падали на мостовую и умирали в корчах и судорогах. В воздухе распространялось нестерпимое, удушливое зловоние.
Ки-Энду доплыл до задней части бычьего корпуса, вскарабкался на его широкую спину и побежал к вращающейся голове. Гил к этому времени почти догнал своего друга. Он с трудом заполз по крутому боку чудовища. Металлическая поверхность быка оказалась горячей и шероховатой. Гил встал на ноги и вытащил меч из ножен. Поставив клинок вниз острием, он зажмурился и всем своим весом налег на рукоятку. Меч вошел неожиданно легко, словно у быка была не железная, а обычная шкура. Гил ожидал, что из раны брызнет густая кровь, а животное заревет, начнет брыкаться, однако этого не произошло. Голова по-прежнему вращалась, наводя свой смертоносный рог то на одно здание, то на другое.
Ки-Энду находился на загривке быка, до него было шагов сто. Гил посмотрел на свой меч, по самую рукоятку погруженный в живую, как он думал, плоть. «Неуязвим? — мелькнуло в голове. — Нет! Не может быть!» Он принялся резать горячий металл и только сейчас заметил, что клинок светится голубоватым светом и чуть слышно потрескивает при соприкосновении с бычьим телом. Гил сделал три пересекающихся разреза, и вдруг треугольный кусок панциря провалился внутрь. Под металлической шкурой не оказалось плоти. Ни капли крови не вытекло из черного отверстия; напротив, в него со свистом устремился воздух.
Не думая, что он делает, Гил шагнул прямо в дыру, и воздушный поток втянул его в утробу чудовища. Он упал плашмя на что-то твердое, но не ушибся. Подняв голову, огляделся… Кругом туман. Светлый треугольник неба над головой. Пахнет ужасно: запах тления, запах тетагирских склепов, смешанный с чем-то ядовито едким. Дышать нечем. Что-то гудит… какие-то странные механизмы. Вот оно что… Это же не бык, это огромная машина! Как я раньше не догадался! Ки-Энду, небось, знал, мог бы сказать. Меч. Где мой меч? Потерял! Нет, вот он, слава дэвам, лежит рядом. Любую машину можно сломать. Так… Ух, сколько железок. Все, больше не гудит. Но грохочет сверху по-прежнему. Хоть бы глоток свежего воздуха…
Внутренний голос торопил его: «Быстрее! Думай, действуй! Время дорого».
Гил побежал вперед, к голове и наткнулся на стенку. Помедлив секунду, вырезал в ней прямоугольное отверстие и проник в следующий отсек. Снова гудящие механизмы. Туман здесь был гуще, дышать труднее. Стены излучали слабый серебристый свет. Гил быстро расправился с неведомыми машинами, превратив их в груду мертвого металла, и двинулся дальше. Опять стена. Клинок искрился и горел голубым пламенем, вспарывая стальную перегородку. За ней были пустота и мрак. Гил шагнул вперед. Здесь, в третьем отсеке, стены не светились и почти ничего не было видно. Но Гил чувствовал, что этот отсек много больше прежних. Гила охватил приступ внезапного страха — он вдруг ясно ощутил чье-то незримое присутствие. Нет, не бездушные железные механизмы что-то огромное и ужасное ждало его в темноте — хуже чем нидхаги, хуже чем гуллы, — он чувствовал это всем телом.
Впереди было само зло, сама ненависть, сама смерть. Липкий холодный пот тек по лицу Гила, руки дрожали, рассудок мутился — он шел, словно во сне, держа обеими руками меч — его голубое сияние слабело с каждой секундой и наконец погасло. Кромешная тьма окружила Гила. Сердце отчаянно колотилось, легкие судорожно втягивали зловонный ядовитый туман.
Вдруг впереди он различил чуть заметные мерцающие искры — они, казалось, висели в воздухе и чуть подрагивали. Гил сделал еще шаг вперед. Искры обозначились яснее. Не просто страх, смертельный ужас проник в мозг Гила вместе с их тусклым светом.
«Я схожу с ума! — испугался он. — Милые, славные искорки… Звездочки в тумане… Мерцают, подрагивают… Все хорошо, сейчас мне будет тепло и спокойно».
Он закрыл глаза. Ноги его сделались ватными, руки опустились, и он отступил на шаг. Меч выпал из ослабевших рук. Его глухой стук как бы разбудил Гила: «Это же сердце быка… Не трусь, Шем-ха-Гил!»
Подняв меч, он бросился вперед и вонзил клинок в то невидимое, что было перед ним. В последний миг Гил понял, что искрами мерцала кожа враждебного существа. Теряя сознание, он увидел то, что потом до конца дней преследовало его в мучительных кошмарах: сверху, из тьмы, на него опускалась светящаяся мертвенным бледным сиянием громадная костлявая рука.
Гил очнулся через несколько мгновений, не ощущая ничего, кроме удивления, что он еще жив. Чудовищный призрак исчез. Сверху, через неровное отверстие в потолке, пробивался дневной свет. Гил приподнялся на локте и огляделся. Туман и полумрак скрывали от него большую часть помещения, поблизости был виден только ровный пол и черная поблескивающая стена…
Страх исчез. Сердце билось спокойно, во всем теле была необъяснимая умиротворенность. Он сел, прислонился к «стене» и тут же отпрянул — «стена» была горячая и мягкая.
Гил поднялся на ноги, сделал несколько шагов. «Стена» закруглялась и полого уходила во мрак на высоте его роста. В одном месте зияла глубокая дыра, из которой вытекало что-то черное, тут же застывающее студенистыми натеками. Сомнений не было — перед ним лежала туша чудовища.
Гил почувствовал, что силы вновь покидают его, он упал на колени, закрыл лицо руками и разрыдался. И тут он услышал голос Ки-Энду:
— Успокойся, Шем-ха-Гил.
Голос звучал глухо, словно издалека; но когда Гил поднял голову, он увидел, что Ки-Энду стоит в двух шагах от него. Взгляд его был устремлен вдаль, лицо выражало отрешенность, покой.
— Успокойся, все кончено. Пусть теперь рыдает враг, пусть слезами и воплями переполнится Город Зла в горах Ио-Тун-Гир. Великий подвиг совершили мы ныне, и память о нем не померкнет, пока растет трава и светит солнце.
— Что это было, Ки? Кого мы с тобой убили? — Гил поднялся и, подойдя к другу, крепко обнял его.
— Пойдем, Гилли. Скорей пойдем отсюда. Здесь нельзя долго находиться.
Они миновали машинные отделения и через прорубленное Гилом отверстие вылезли наружу. Стоя на блестящем металлическом панцире того, что Гил по-прежнему называл быком, Ки-Энду глубоко вздохнул и сказал негромко:
— Мы убили туна, Гилли. — И, помолчав, добавил с грустью: — Если бы нам удалось совершить еще семьдесят девять таких подвигов — мир был бы спасен.
Когда Гил очнулся, было уже утро. Он проспал целые сутки; более того, он решительно ничего не помнил, начиная с того момента, как Ки-Энду сказал ему, что они убили туна.
Жуткое воспоминание заставило его вздрогнуть. «Подумаю о чем-нибудь другом, — решил он. — Интересно, где я и как я сюда попал? Комната знакомая. Ну конечно! Это же спальня в доме Халгата, где мы ночевали и где нас чуть не схватили! Теперь-то Халгат не сунется. Хейм-Риэл сказал про него: Халгат добрый человек, но он не выдержал испытания. Не быть ему больше мелхом».
Гил продолжал рассеянно размышлять о Халгате, когда дверь открылась и вошла Эалин. Гил с трудом узнал сестру в необычном белом одеянии. Лицо у нее было строгое и усталое. Эалин улыбнулась вымученной улыбкой и сказала:
— Я рада, что вы проснулись, господин Шем-ха-Гил. Как вы себя чувствуете? За время вашего забытья было проведено лечение, в результате которого нам удалось полностью снять шоковое состояние и нормализовать все функции организма. Теперь ваша жизнь все опасности…
— Эа, ты чего? Ты меня не узнала? Это же я!
— Ах, Гилли, прости меня, я так устала, что уже ничего не соображаю!
Она присела на край кровати, и Гилу показалось, что в уголках глаз у нее блестят слезы.
— Кто бы мог подумать, что это ты, Гилли, мой младший братик, которого я всегда считала таким маленьким и бестолковым! Теперь ты стал героем, все только и говорят о вашем подвиге. Как ты был плох, когда тебя принесли! Я не верила, что тебя можно спасти. Но, слава дэвам, они, едва вернулись из Леса и узнали обо всем, сразу же помчались сюда и возвратили тебя к жизни.
— Эа, послушай, мне так много нужно узнать. Ты же мне все расскажешь, правда? Мне ведь нельзя волноваться, а я ужасно волнуюсь, потому что ничего не знаю.
— Конечно, я отвечу на все твои вопросы. У меня даже есть на это время: с тех пор как дэвы взяли на себя все заботы о раненых, мне почти нечего стало делать… Первый свой вопрос можешь даже не задавать: с Мирегал все в порядке, она, правда, тоже перенервничала — ведь она рвалась сюда, к тебе, а ее не пускали. Она проревела вчера весь день внизу, в прихожей, и только под утро заснула, когда ей сказали, что ты останешься жив. Ки-Энду перенес все гораздо легче, чем ты. Правда, он тоже надышался отравленным воздухом, но нервы у него оказались покрепче. Он уже давно встал и принялся за дела.
— А Энар, он остался там, на стене, или тоже поплыл к быку?
— Он побежал по берегу и попытался напасть спереди. Он рисковал, пожалуй, даже больше, чем ты. Это просто чудо, что он остался жив. Если бы не Энар, вам бы не удалось совершить свой подвиг: он отвлек внимание врага в решающий момент. Тун, по-видимому, первым заметил Энара. Он уже навел на него свое оружие, но гром не успел грянуть — в этот момент ты нанес ему удар куда-то в область поясницы. Тун попытался расправиться с тобой, но опять не успел — Ки-Энду свалился на него сверху и дважды пронзил ему шею. Но я вижу, что зря рассказала тебе все это: ты опять побледнел, и пульс у тебя участился. Поспи еще немного. Или, может быть, хочешь поесть?
— Нет, подожди. Расскажи мне еще, как прошла битва. Или нет, это потом, сейчас я только хочу узнать, не погиб ли кто-нибудь из наших?
— Мы победили, ты же знаешь. Погибших мало, нам очень повезло.
— Ну, а наши все живы?
— Ты имеешь в виду Ио-Син-а-Хут? Что ж, я скажу. Смешно скрывать что-то от человека, зарубившего туна и оставшегося после этого в живых… Мы… потеряли многих, Гилли. Очень-очень многих. Ио-Син-а-Хут всегда был впереди, во всех схватках. Я не буду перечислять всех погибших, ладно? А из наших соседей — это Вайл и Беллан. Вайла не стало еще позавчера утром — он пал в битве у южных ворот. А Беллана зарубили в ночном сражении. Но самая тяжелая утрата ждет нас впереди: смертельно ранен Син-Оглан, он доживает последние часы. Ки-Энду не отходит от его постели.
— А дэвы? Что же они его не лечат?
— Они оказались бессильны. Единственное, что им удалось, — оттянуть смерть на несколько часов, чтобы Син-Оглан успел попрощаться с близкими. О, если бы ты знал, как это тяжело, — дежурить у постели умирающего, особенно, когда это такой человек… почти родной. Я… я даже плакала, веришь, Гилли. Ки-Энду проклинает свою глупость, во всем, что случилось, винит себя, говорит, что лучше бы ему не родиться на свет, называет себя убийцей и могильщиком рода человеческого, а его старый умирающий отец утешает его. Смотреть на это невыносимо. Син-Оглан, который с самого начала отговаривал сына, убеждал его не нападать на нидхагов, теперь, умирая, говорит, что тот все делал правильно. Это ужасно, Гилли, ужасно все, что мы сотворили, и впереди только мрак, и ничто не спасет нас! Горе нам, и всему миру горе!
Гил обнял сестру, и она безудержно разрыдалась.
— Прости меня, братик!.. Я сейчас… Все, я больше не буду, — бормотала Эалин, заливаясь слезами. Наконец ей удалось взять себя в руки, она встала и, улыбнувшись Гилу, молча вышла из комнаты.
Вечером в приемном зале мелх-а-бета состоялся тайный совет. От дэвов на нем присутствовали Кулайн, Илмар и Хейм-Риэл; приглашения получили также предводители людских воинств, мелхи Халгат, Ки-Энду, Гиор и Гелас, верховный повар Балг, начальница госпиталя Эалин и прославленный капитан Ган-а-Ру; приглашен был и Хайр, после ранения Син-Оглана возглавивший оборону восточной стены и, разумеется, славные герои Шем-ха-Гил и Энар, вместе с Ки-Энду уничтожившие страшного быка.
Все собравшиеся выглядели усталыми, измученными и угрюмыми; и у всех были на то причины: Ки-Энду только что потерял отца, Гил и Энар еще не пришли в себя после битвы с быком, Гиор, Ган-а-Ру и Хайр были ранены. Даже дэвы, и те были печальны, хотя никто из собравшихся еще не знал причину их грусти.
Один только Халгат держался спокойно и уверенно, сохраняя достоинство и всем своим видом показывая, что если и произошли какие-то неприятности, то он тут совершенно ни при чем. На правах хозяина он взял слово первым. Своим тихим, чуть дребезжащим голосом он заговорил на древнем языке, которому дэвы учили первых людей:
— О дэвин хан да люмиен, ом одомгард, абсу ла хет-а-белин, омн ойр сан хайре виден ди…
— Оставь церемонии, Халгат, — прервал его Илмар, — говори так, чтобы все тебя понимали. Современное южное наречие ничем не хуже старого дэвинмола, и не нужно делать из языка что-то большее, чем просто язык, только потому, что его разработала мыслящая машина по имени Мидмир.
— Хорошо, я буду говорить по-нашему и без всяких церемоний скажу, что рад видеть в своем доме высоких гостей, спасших наш город от разорения и гибели. Приветствую вас, о великие дэвы, да не померкнет в веках ваша слава. Что могу я сказать об обороне Эллигата? Сверх того, что вам поведал гонец, мне почти нечего добавить. Ведь в последний день, когда произошла главная битва, я был фактически отстранен от власти. Я призывал своих воинов к благоразумию, но они не подчинились мне и предпочли встать на сторону господина Ки-Энду, который и руководил всеми мероприятиями накануне и во время сражения. Посему я не в ответе за то, что произошло вчерашней ночью. Продлись моя власть, мы бы спокойно и без жертв дождались вашего прихода, о великие.
— Хорошо, Халгат, — сказал Илмар, — хорошо, что ты сложил с себя свои полномочия накануне битвы. Как нам известно, ты сделал это по своей воле и без принуждения. К сожалению, это чуть ли не единственно верное решение из всех, которые ты принял за последнее время. Мы подробно изучили все твои поступки и решили, что хоть ты, вероятно, человек от природы честный, достойный и мужественный, вверенная тебе власть дурно повлияла на твою душу. Не огорчайся. Испытание властью — одно из самых страшных, и мало кто из людей способен его выдержать. Не выдержал и ты. Поэтому мы решили передать твою должность другому. Жители Эл-а-Дена выберут себе нового мелха, и, по всей видимости, им станет Гелас. Для тебя же мы подыскали другое место, на котором ты тем не менее сможешь проявить все то добро, что в тебе, мы знаем, осталось.
— Никто не сравнится с вами в мудрости и справедливости, о лучезарные. Что же это за место?
— Мы формируем новое большое войско в Меллнире, в горах Ио-Рагн. Тебе мы хотим доверить командование одним из отрядов.
— Благодарю, — Халгат склонил голову, пряча злобную усмешку. — Я весьма польщен оказанной мне честью. Как знать, может быть, мне и впрямь удастся лучше проявить себя на новой должности. А тебе, Гелас, если ты действительно займешь мое место, желаю снискать на нем больше почета и славы, чем удалось мне, недостойному.
Сказав это, Халгат сел и до конца совета не проронил ни слова.
После короткой паузы заговорил Хейм-Риэл.
— Я должен сказать кое-что об уничтоженной вражеской машине и погибшем туне. Мы опознали его — это Хасмод, один из главных создателей Мидмира, впоследствии — верховный смотритель Хумбы, правая рука Шемай-Лоха. То, что Гил, Ки-Энду и Энар сразили его — поистине чудо из чудес. Никогда раньше ни туны, ни дэвы не погибали от руки человека. Поэтому то, что случилось, для нас не только радостно, но и грустно немного, ибо лишний раз напоминает о том, что мы всегда знали, но о чем старались реже задумываться: отпущенный нам срок не бесконечен. Быть может, наше время уже подходит к концу, и вам, людям, предстоит вскоре остаться одним в этом мире. Он ваш по праву, мы же здесь чужие; придет день, и вам нужно будет самим отвечать за его судьбу. Историю нельзя повернуть вспять. Нас становится все меньше, вас — все больше; мы слабеем, вы же набираетесь сил — ваш дух уже настолько тверд, что вы можете убивать нас.
— Но это же не так, — возразила Эалин, — вы сильны по-прежнему. Я видела, как вы обратили в бегство целую армию нидхагов, даже не вступив с ними в бой.
— Нидхаги по самой своей природе — рабы. У них в крови ужас и преклонение перед нами. Век нидхагов недолог, ибо они не способны к развитию. Без тунов, без Хумбы их ждет быстрое вырождение и деградация. Но не о них сейчас речь. Будущее принадлежит людям.
Ты говоришь, Эалин, что мы сильны по-прежнему. Послушай же, как завершилась наша погоня. На границе Леса навстречу нам вышли пятеро тунов. И мы не оказались столь же удачливы — или столь же сильны, как вы — Ки-Энду, Энар и Гил. Хоть нам и удалось заставить врага отступить, один из нас пал в бою. Его тело — тело славного Иаяра, смотрителя асгардского эликона, — лежит в поле, скрытое от людских глаз, и ожидает погребального костра. Оберегая людей от ненужных волнений, мы хотим сохранить в тайне гибель Иаяра. Поэтому прошу вас не передавать никому того, что вы услышали. Костер мы сделаем сами; вам же сообщаем это для того, чтобы вы знали: наши силы не безграничны, мы уязвимы и смертны; вам нужно больше полагаться на себя и не ждать от нас каких-то чудес.
— Я тоже хочу участвовать в сожжении Иаяра, — поднялся Гил. — Я успел полюбить его за время нашего краткого знакомства, и мне горько слышать, что его больше нет. Но вдвойне горько мне будет, если я даже не смогу оказать ему последних почестей!..
— Людям нельзя видеть мертвых дэвов, — сказал Илмар, — а тем более тебе, Гил. Оставим этот разговор. Давайте лучше обсудим наши военные дела.
— Пока остается хоть малейшая возможность добиться перемирия, — сказал Кулайн, — мы будем делать для этого все, что в наших силах. Элиар хочет встретиться с Шемай-Лохом на нейтральной земле и обсудить условия мира. Возможно, придется пойти на большие уступки — все же это лучше, чем продолжить кровопролитие. Однако надежды на мир мало. Туны разгневаны, Хумба предвещает им победу, наше оружие по-прежнему заперто в меллнирских подземельях, и враг начинает догадываться, что оно не будет использовано никогда. Одним словом, скорее всего, нам придется воевать. И сейчас наша главная задача — показать врагу, что мы сильны. Это сделает его уступчивее и заставит пойти на переговоры.
Я не буду подробно рассказывать о наших военных планах. Скажу лишь о том, что считаю самым главным: мы должны вести только оборонительные бои. Если наши воины вторгнутся на территорию врага, договориться с Шемай-Лохом будет уже невозможно. Начнется война, после которой одна из сторон перестанет существовать. А у нас слишком мало шансов на победу в такой войне. Ведь сейчас на каждого человека в мире приходится два или три нидхага, а на каждый десяток людей — один гулл. Поэтому единственная наша надежда продержаться до заключения мира. Особенно хочу предупредить тебя, Ки-Энду: не надо больше дерзких предприятий. Остановись, одумайся, пока не поздно. Для тебя найдутся другие дела. Сейчас нужно собирать войско: для обороны Эл-а-Дена потребуется пятнадцать—двадцать тысяч человек. Если удастся собрать больше, пошлите часть отрядов в Меллнир — враг, скорее всего, направит свой главный удар туда в надежде захватить оружие, поэтому там следует сосредоточить наши основные силы. Воины, пришедшие из Эн-Гел-а-Сина, пусть останутся здесь; для защиты вашей родины хватит людей: как нам известно, король собирает в Элоре большую армию. Теперь я хочу дать несколько советов, как лучше вести оборонительную войну…
Кулайн говорил еще очень долго, и Гил вскоре понял, что не успевает следить за его мыслью. Решив, что, в конце концов, он человек маленький и вся эта стратегия к нему отношения не имеет, он и вовсе перестал слушать и вернулся мысленно к гибели Иаяра и странной фразе, произнесенной Илмаром: «Людям нельзя видеть мертвых дэвов, а тем более тебе, Гил». Почему нельзя? С трудом дождавшись конца совета, Гил задал этот вопрос Ки-Энду.
— Действительно, — сказал тот, — ни один человек еще не видел мертвого дэва, если не считать тех воинов, что сражались в битвах Первой войны. В те дни случалось, что дэвы убивали друг друга на глазах у людей. От тех далеких времен до нас дошли только темные, неясные слухи, поэтому точно ответить на твой вопрос я не могу. К тому же погибших дэвов всегда немедленно сжигали обычно в течение часа после их смерти. Но я слышал в Асор-Гире — а случай с гуллами показал, что асор-гирские сплетни бывают порой достоверными, — дэвы после смерти преображаются. Тело их распухает, якобы даже в несколько раз, и меняет свою форму. Кожа темнеет почти до черноты, и только кисти рук остаются мертвенно-бледными, черты лица искажаются и становятся настолько ужасными, что на них нельзя смотреть без содрогания…
Одним словом, Гил, мертвые дэвы становятся похожи на тунов. Чем вызвано это сходство, сказать трудно — ведь мы до сих пор очень мало знаем о дэвах. Однако учащиеся Высокой школы в Асор-Гире выдвинули два предположения. Первое — так называемая гипотеза «зло и зло». Известно, что облик дэвов находится в полной гармонии с качественным состоянием души. Поэтому смерть, будучи злом, преобразует их точно так же, как внутреннее перерождение, когда душа отвращается от добра.
Другая точка зрения — «смерть и смерть». Согласно ей, посмертное преображение дэвов объясняется физиологическими особенностями их организма. То есть приходится признать, что дэвы, исчезнувшие вместе с Шемай-Лохом из эликона в Ойтре, в процессе своего превращения в тунов пересекали порог смерти. Так или иначе, дело это темное, и есть в нем что-то такое, во что человеку лучше не соваться… Пусть дэвы хранят свои тайны! Все равно людям не суждено понять их до конца.
А сейчас нам с тобой не мешало бы пойти отдохнуть. Вечером я тебе расскажу еще кое-что.
— Расскажи сейчас!
— Нет, я должен еще раз все взвесить.
— Значит, ты действительно что-то задумал?
— Да. До вечера, Гилли.
Глава 15 ПРОЩАНИЕ
Друг мой, далеко есть горы Ливана, Кедровым те горы покрыты лесом, Живет в том лесу свирепый Хумбаба, Давай его вместе убьем мы с тобою, И все, что есть злого, изгоним из мира! Нарублю я кедра, — поросли им горы, Вечное имя себе создам я! «О все видавшем», эпос о Гильгамеше, IIТихонько постучав, Ки-Энду вошел в комнату, оглянулся и, убедившись, что в коридоре никого нет, осторожно прикрыл дверь. Гил валялся на кровати и читал книгу. На столе горела свеча. Окно было открыто, и огонек чуть подрагивал.
— Ты еще не спишь, Гил?
— Вот, стихи читаю. Ты что такой странный? Случилось что-то?
— Смешно! Мало еще тебе событий? Гил, у меня серьезный разговор… Мирегал у себя?
— Нет. Пошла в госпиталь помогать.
— Бхарг, Энар?
— Ужинают. Хозяйки тоже нет. Никого нет. Да в чем дело-то? Если у тебя какие-то тайны, лучше не говори мне — я все разболтаю Мирегал.
— В тебе я уверен… Ты никому слова не скажешь, тем более Мирегал…
Ки-Энду уселся в кресло, положил на стол свой берет и внимательно посмотрел на Гила.
— Дурные новости, — сказал он после долгой паузы. — Только что прискакал гонец от короля Ас-а-Дена Бел-Шамаха. Он сообщил, что нидхаги снова наступают, идут бои на подступах к Асор-Гиру. Дэвы срочно покидают Эллигат и отправляются туда. Они продолжают твердить что-то о скором конце войны, но любому разумному человеку ясно, что надеяться на мир с Шемай-Лохом бессмысленно. Война разгорелась, и никто уже ее не остановит. Так что все эти разговоры об обороне, по-моему, равносильны самоубийству: тот, кто не наступает, — проигрывает. Понимаешь, к чему я клоню?
— Понимаю. Ты задумал какую-то хитрость и хочешь с отрядом в пять человек проникнуть в Ио-Тун-Гир и перебить всех тунов.
— Почти. И если раньше я еще сомневался, то теперь, когда враг снова перешел в наступление, я окончательно уверился в том, что другого пути у меня нет. Я говорю «у меня», потому что не знаю, пойду один или с кем-то. Вообще-то следовало бы идти одному, потому что это я виноват во всем, это из-за моей глупости началась война. И я уже слишком много потерял, чтобы дорожить такой мелочью, как собственная жизнь. Но, к несчастью, мне будет не под силу одному сделать то, что я задумал.
— Кстати, ты так и не сказал, что именно. Но в любом случае, один ты не пойдешь. Хотя бы потому, что на самом-то деле это я во всем виноват. Если бы я в свое время послушал тебя и мы поскакали бы не к тебе, а к Белым Камням, никто бы не погиб, и нам просто не пришло бы в голову затевать эту историю с трубами… Короче, я иду с тобой. Остается только узнать, куда.
— Спасибо, Гилли. Я не сомневался, что ты так скажешь. Мы с тобой с самого начала были вместе, так пусть же мы останемся вместе до конца.
Ки-Энду снова замолчал, задумчиво глядя на пламя свечи.
— Ки, я и не знал, что ты можешь быть таким невыносимым!
— Поклянись, что не скажешь никому.
— Ты же сейчас говорил, что уверен во мне!.. Ну, клянусь.
— И не будешь мне мешать, если сам передумаешь?
— Ки! Ты издеваешься надо мной?
— Прости. Я сейчас все скажу.
Ки-Энду встал, выглянул в окно, прислушался.
— Как будто все тихо… Гилли, я задумал проникнуть в Великий Лес и уничтожить Хумбу.
Гил резко сел на кровати:
— Гуллин ме хабе! Какой вздор! Ты что, спятил?!
Переведя дыхание и вытерев пот со лба, Гил продолжал более спокойным голосом: ему было стыдно, что он так вспылил.
— Послушай, Ки. Я понимаю, что тебя постигла тяжелая утрата, что ты к тому же мучаешься сознанием собственной вины, и тебе очень хочется одним махом все исправить. Но зачем же даром отдавать свою жизнь? Я боюсь, ты только не обижайся, что у тебя действительно не все в порядке, вот здесь, — Гил постучал пальцем по виску. — Или, может быть, это просто изощренный способ самоубийства? Хочешь искупить свою вину, да еще и героем стать? Погиб при попытке уничтожить великую Хумбу?
Ки-Энду весь как-то поник и сжался, слушая Гила; при последней фразе глаза его вспыхнули гневом.
— Пошел ты к гуллам! Считай, что этого разговора не было. — Он направился к двери, Гил окликнул его:
— Подожди, не сердись. Ты же знаешь, я тебя одного не пущу. Если ты не передумаешь, я все равно пойду с тобой.
Ки-Энду вернулся к столу, взял свой берет, скомкал его.
— Но неужели ты и вправду думаешь, — продолжал Гил, — что у нас есть хоть малейший шанс убить Хумбу? Ее что, совсем не охраняют? Или все нидхаги, населяющие Лес, лежат при смерти?
Ки-Энду заговорил очень тихо, было видно, что каждое слово достается ему с трудом и причиняет боль.
— Послушай меня, Гил. Шансов у нас мало, но они есть. Один из ста, а может, из тысячи. И все-таки стоит попробовать! Что наши жизни? А если не будет Хумбы, враг будет обезглавлен, не сможет рассчитывать будущее, начнет делать ошибки. Наконец, перестанут появляться новые гуллы. Я не говорю о впечатлении, которое это произведет на тунов. Тут-то они и пойдут на переговоры, вот увидишь!
— Ладно, это ты мне можешь не объяснять. Я согласен, что попробовать стоит, даже если есть один шанс из тысячи. Но где он, этот шанс?
— Наберись терпения!.. Великий Лес, или Ха-мерк, это нечто совершенно непознанное, но одно мы знаем точно: он не является чем-то единым, целостным, его разрывают противоречия, в нем слишком много разнородных, несовместимых элементов. Там обитает великое множество нидхагов, это правда. Но там есть и гуллы. Насколько я понял из разговоров с Бхаргом, Хумба играет главную роль в их создании. Гуллы, к счастью, не могут размножаться. Значит, все они происходят из Леса. Там должны быть гулльские поселения, гулльские дороги и так далее. Но нидхаги боятся гуллов так же, как и мы, если не больше, и гуллы пожирают их при первой возможности. Следовательно, Лес наверняка поделен на гулльские и нидхагские участки, между которыми должны быть какие-то «ничейные» полосы, — по ним мы и будем передвигаться. Кроме того, сам Лес — то есть деревья, кустарники и травы, — это творение Хумбы и тунов, он имеет неживую, вероятно, «гулльскую» природу. Я не знаю, каковы эти растения и их свойства; но они наверняка несъедобны. Значит, вокруг нидхагских поселений должны быть островки нормальной растительности — поля, пастбища, огороды. Мы можем двигаться по краю этих островков, и, с какой бы стороны ни возникла угроза, нам будет куда отступить. Наконец, я уверен, что границы Ха-мерка не охраняются: туны знают, что никто из людей по своей воле туда не сунется. Оборонительная тактика дэвов им тоже известна… Конечно, большая группа людей не сможет пройти незамеченной, но нас будет только двое!..
Сложнее будет расправиться с самой Хумбой, — продолжал Ки-Энду. — Известно, что она охраняется, и охраняется надежно. Вокруг нее семь каких-то таинственных «деревьев ужаса» — так сказал Бхарг. Остается надеяться, что эти деревья, чем бы они ни были, не устоят перед асгардскими мечами. Что касается тунов, то мы знаем точно, что в Ха-мерке их всегда было семеро. Одного, Хасмода, мы убили. Пятерых встретили дэвы во время погони. Они были на границе леса, в его юго-восточной части, то есть напротив Эллигата. Поэтому можно предположить, что сейчас, когда нидхаги наступают на Асор-Гир, эти пятеро тунов находятся там, в районе боев. В таком случае, в самом лесу находится только один тун, да и тот может быть где-то далеко от Хумбы.
Говоря все это, Ки-Энду расхаживал по комнате и бурно жестикулировал. Сначала он был очень возбужден, потом немного успокоился, словно, убедив Гила, и сам убедился, что пойти и убить Хумбу — пустяковое дело.
— Но, Гил, не думай, что я уверен в успехе. Нужно смотреть правде в глаза. Это дело, скорее всего, будет стоит нам жизни. Если Хумба погибнет, в лесу поднимется такой переполох, что нам вряд ли удастся уйти оттуда живыми. Я хочу, чтобы ты ясно представлял себе, на что мы идем. И все же стоит рискнуть.
— Ладно, Ки, я согласен. Ради такого дела и умереть не жалко. То есть, конечно, жалко, но… Ты ничего не слышишь?
— А что?
— Какой-то шорох за дверью…
Ки-Энду прислушался.
— Вроде тихо. Пойду посмотрю на всякий случай.
Едва Ки-Энду направился к двери, из коридора донесся звук удаляющихся шагов: чьи-то легкие нога чуть слышно прошелестели по каменному полу.
— Нас подслушали, Ки?
— Очень похоже. Неужели в Эллигате есть шпионы?
— Может, это Халгат?
— Будь он проклят!
— Что же делать?
— Идти! Будем надеяться, что они не успеют ничего предпринять.
— Когда выходим?
— Сегодня уже не успеем: надо запастись едой, а сейчас это сделать невозможно. Еще какое-то снаряжение потребуется, и самое главное: нужно под каким-то предлогом одолжить у Бхарга или Энара асгардский меч. Так что, думаю, выйдем завтра ночью. А сейчас набирайся сил. И не вздумай завтра ни с кем прощаться и все такое — никто не должен догадаться, что мы куда-то собираемся:
— Ки!.. — с упреком и обидой воскликнул Гил.
— Ну-ну, спокойной ночи!
Ки-Энду закрыл за собой дверь, и Гил сразу же заснул.
Наступивший день был днем скорби.
С утра клубы черного дыма заволокли Эллигат, повсюду в полях горели погребальные костры. Нигде не было слышно ни смеха, ни громких разговоров. Опустевший город затих. Огромные толпы людей в молчании вышли проводить в последний путь тех, кто пал в бою. Угрюмо стояли вокруг костров воины, сжимая рукоятки мечей, и сердца их исполнялись жаждой мести. Скупые слезы текли по морщинистым лицам стариков. Распустив длинные и черные, как ночь, волосы, безутешно рыдали женщины, притихшие дети испуганно цеплялись за их одежду.
В отдалении от остальных горели пять больших костров. Возле них не было ни души; воины, сложив их, сразу вернулись туда, где обращались в дым и пепел тела их близких.
Один только Бхарг задумчиво бродил вокруг этих покинутых костров, прощаясь с погибшими сородичами и размышляя о судьбе своего несчастного народа, не согретого любовью, лишенного будущего, обреченного до конца своих дней жить одним лишь злом и вечно терзаться в тщетных попытках залить чужой кровью пустоту своих душ…
Ки-Энду уже простился со своим отцом и понуро смотрел на кучу дымящегося пепла, в котором одиноко белели кости тех, кто еще недавно стоял с ним в одном строю, был сильным или слабым, веселым или грустным, простодушным или мудрым; он любил их всех, каждый был ему близок и дорог.
Эалин подошла к нему; ее волосы спутались и растрепались, наполовину закрыв лицо; голова была посыпана пеплом.
— Смотри, Ки-Энду, — сказала она глухо. — Вот и все, что осталось от наших братьев. Не то ли суждено и нам, и всему нашему миру? К чему все наши мечты и планы, наше горе и радость, книги, искусство, наша любовь — к чему все это, если судьба наша — стать горстью праха, кучкой холодной золы, развеваемой ветром?
Ки-Энду опустил голову.
— Зачем ты говоришь это, Эалин? Разве ты не видишь, как мне тяжело? Конечно, ты права, умом я понимаю это, но сердце отказывается верить. Оно ищет хоть какого-то выхода и нашептывает безумные мысли. Иногда мне кажется, что смертно только наше тело. Кто знает, может, душа после смерти попадает в какой-то иной мир, где нет ни зла, ни страха, ни времени, и пребывает там вечно в покое и счастье? Да, это безумие, я знаю. Наверное, я дошел до какого-то предела, после которого мозг отказывается воспринимать новое горе. Не слушай меня, Эалин, я не знаю, что говорю…
— Милый мой, должно быть, тебе очень плохо, иначе ты не стал бы сочинять эту смешную сказку о бессмертии душ. Вспомни: Гил тоже хотел найти бессмертие. Но он отправился за ним в Асгард, к дэвам, у него была вполне определенная цель. Ты же пытаешься найти вечную жизнь в собственных фантазиях. Твоя сказка по-своему красива и, наверное, могла бы стать утешением для отчаявшихся и обреченных. Но это удел слабых… Пойдем в город, тебе надо успокоиться и отдохнуть.
Ки-Энду улыбнулся:
— Знаешь, это не единственная безумная идея, которая пришла мне в голову за последние дни. Например, вчера я подумал, что могу погибнуть, и Ио-Син-а-Хут останется без мелха. Поэтому я написал завещание и хочу, чтобы оно хранилось у тебя, — с этими словами он передал ей свернутый кусок пергамента. — Здесь написано, что в случае моей гибели или исчезновения мое место должен занять Ган-а-Ру.
Эалин посмотрела ему в глаза с болью и жалостью.
— Ты хочешь обмануть меня, Ки? Я же читаю в твоей душе, как в открытой книге. Ты задумал совершить подвиг, но не можешь открыть свою тайну… Не говори ничего, просто обними меня. Вот так, а теперь прощай. А если твоя сказка сбудется, мы встретимся снова.
Вечером Гил подошел к мелх-а-бету и робко постучался. Дом теперь полностью перешел в распоряжение госпиталя: Халгат и его слуги покинули Эллигат и вместе с дэвами отправились на север, в Асор-Гир.
В прихожей Гила остановили две женщины в безупречно белых одеждах.
— Сюда нельзя, господин Шем-ха-Гил. Здесь раненые.
— Но мне нужно поговорить с Мирегал, моей невестой.
— Хорошо, мы позовем ее. Вообще-то у нас это не принято, но для вас мы готовы сделать исключение. Только, пожалуйста, не задерживайте ее надолго, ведь у нас на счету каждая пара рук.
Спустя несколько минут Мирегал сбежала вниз.
— Что ты, миленький? Что случилось?
— Мы с тобой так давно не виделись! Вчера я так и не дождался тебя, заснул, а когда встал, ты уже снова убежала. Я соскучился. У тебя правда столько работы?
— Ну, Гилли, мы же теперь долго-долго будем вместе, до самой смерти! Зачем расстраиваться из-за нескольких дней? Вот кончится эта глупая война, и все сразу станет замечательно!
— Не понимаешь ты ничего!.. Вдруг со мной что-нибудь случится? Вдруг меня завтра убьют? Может, сегодня мы в последний раз вместе…
— Глупенький, неужели ты думаешь, что нас что-нибудь может разлучить? Ну, пока, я спешу, — она чмокнула его в нос и убежала.
Гил вздохнул и направился к выходу.
— Если бы только она знала! — прошептал он. — Если бы только могла вообразить, какой удар ее ожидает! Впрочем, может, оно и лучше, что она ничего не знает.
За окном уже совсем стемнело.
— Вроде ничего не забыли, — Гил в последний раз заглянул в мешок. — Провизия тут. Кстати, у кого ты взял меч — у Энара или Бхарга?
— У Энара. Бхарг наотрез отказался отдать мне свой. Даже обиделся…
— Наверное, подумал, это из-за того, помнишь?.. Но ведь на самом деле он не трус, верно, Ки? Он же не виноват, что у него в крови страх перед тунами.
— Конечно. Ну все, нам пора. Пошли!
Под окном раздался шорох.
— Нас опять подслушивают! — воскликнул Ки-Энду. — Проклятье!
— Задуй поскорее свечку.
Ки-Энду прихлопнул ладонью огонек, и друзья прижались носами к стеклу. Какая-то тень двигалась по переулку, быстро удаляясь от окна. Понять, кто это, было совершенно невозможно. Но вот на мгновение свет из окна соседнего дома упал на неизвестного, и Гил успел рассмотреть сгорбленный силуэт в плаще с капюшоном.
— Кто же это?
— Вчера я был уверен, что это Халгат или его люди, — сказал Ки-Энду. — Кому еще могло придти в голову следить за нами? Но Халгат прошлой ночью уехал отсюда вместе со всеми своими людьми. Не знаю, что и думать. Может, это лазутчики из Ха-мерка? Но почему они наблюдают именно за нами? Неужели… Нет, об этом даже страшно подумать!
— Ты хочешь сказать, что Хумбе стали ведомы наши мысли?
— А как же еще это можно объяснить? Хотя это и кажется невероятным, но, по-видимому, Хумба почуяла опасность…
— Что же теперь делать?
— То, что задумали!.. С одной стороны, враг оказался сильнее, чем мы ожидали. Но раз он принимает какие-то меры против нас, значит, мы представляем для него реальную угрозу. Хумба боится нас — следовательно, она уязвима.
— Ну, тогда пошли. Нужно опередить их.
Через минуту они были уже у реки. Ки-Энду заранее присмотрел подходящую лодку — маленькую, как раз на двоих, и достаточно быстроходную. Они отчалили и, проплыв под мостом, где до сих пор чернели опаленные остатки разрушенной быком решетки, двинулись вверх по течению в сторону Леса.
Вскоре набежали тучи, с юга подул сильный ветер, пошел дождь. Ки-Энду греб, Гил всматривался во мрак, но кроме смутных очертаний берегов ничего разглядеть было невозможно.
Около часа они плыли в молчании, потом Гил предложил Ки-Энду сменить его. Они стали пересаживаться. Вдруг Гил замер, насторожившись. Сзади, сквозь шум дождя, явственно слышался плеск.
— Что это, Ки? Неужели погоня?!
— Да, Давай грести вместе.
Они налегли на весла, и лодка пошла быстрее. Так прошло два часа. Дождь продолжал лить, и путники давно уже промокли насквозь; наконец они позволили себе немного передохнуть. Сзади ничего не было слышно, кроме шипения дождевых капель.
— Кажется, оторвались, — сказал Ки-Энду, — но все равно надо спешить. До рассвета хорошо бы миновать населенные места.
Они стали грести по очереди, и когда тучи на востоке осветились первыми лучами солнца, до Леса оставалось не более мили. Зеленые цветущие поля Эл-а-Дена остались позади, берега были безжизненны и голы, лишь кое-где из мокрой глины торчали чахлые ростки.
Лес приближался. Вскоре путники смогли разглядеть отдельные деревья. Толстые, корявые стволы, покрытые буграми и наростами, на небольшой высоте делились на множество ветвей. Мокрая серая кора отсвечивала матовым, водянистым блеском и казалась гладкой и скользкой, как лягушачья кожа. Ветви отдельных деревьев сплетались в сплошную сеть, такую густую, что даже птица не смогла бы пролететь сквозь нее. Побеги во многих местах срослись, и теперь невозможно было понять, где кончается одно дерево и начинается другое. Лес стал единым организмом, гигантским спрутом с миллионами щупалец, расползающимися по земле. На ветвях не было ни одного листа; тонкие побеги, гладкие и полупрозрачные, слабо шевелились, покачивались, изгибались, сжимались и вытягивались. От этого весь Лес наполнялся омерзительным шуршанием.
— Ну и место! — с отвращением пробормотал Гил. — Это же не деревья, это какие-то осьминоги. Как же мы здесь проберемся?
— Не знаю, возможно, придется прорубать себе дорогу. Во всяком случае, пока ничто не мешает нам проплыть по реке еще миль тридцать, потом Эллил поворачивает на восток — там уже придется идти пешком.
Но не успела лодка войти в Лес, как путники увидели, что выше по течению река перегорожена перекрещивающимися железными цепями, натянутыми между берегами. В этом месте к реке с обеих сторон подходили широкие просеки.
— Приплыли! — сказал Гил, сидевший на веслах. — Куда теперь прикажете, капитан?
— Давай пока к левому берету. Попробуем перенести лодку.
Деревья у воды были вырублены; просека, имевшая около пятидесяти шагов в ширину, уходила на запад, почти под прямым углом к берегу; по середине просеки шла хорошо утоптанная дорога. Вдоль края Леса с обеих сторон тянулись высокие земляные валы, гребни которых были утыканы железными кольями, густо оплетенными проволокой. В начале просеки, недалеко от воды, стояла покосившаяся деревянная постройка — то ли хлев, то ли сарай. Едва Гил и Ки-Энду ступили на берег, из этого сарая вышли четверо нидхагов в полном вооружении. Друзья уже схватились было за рукоятки мечей, как вдруг один из нидхагов, видимо, главный, в темном плаще с железной застежкой в виде черепа, обратился к ним на чистейшем южном наречии:
— Что-то я вас раньше не видел. Новенькие, что ли? Передайте своему хозяину — владычица разгневана. Во имя каких гуллов он навел на нас этих грязных асгардских убийц? Ему придется хорошенько постараться, чтобы заслужить прощение. Ну, давайте, что там у вас!
Ки-Энду решил использовать ошибку нидхагов, хоть и не знал, за кого именно их приняли. Медленно, с расстановкой, тщательно взвешивая каждое слово, он ответил:
— У нас секретное поручение к владычице. Мы должны говорить с ней лично. Будьте любезны пропустить нас; насколько я понимаю, эта дорога доведет нас до места, не так ли?
— С каких пор наш верный друг перестал доверять слугам своей госпожи? Впрочем, нам нет до этого дела. Сдайте оружие, мы свяжем вам руки и доставим вас куда надо.
— Не пристало вам так обращаться с посланниками, исполняющими важнейшую миссию на благо владычицы, — сказал Ки-Энду, доставая из ножен меч, как будто для того, чтобы отдать его. — И мы не можем доверить вам свое оружие, ибо оно не простое. Оно обагрено черной кровью Хасмода и получено нами от дэвов, чтобы нести вам смерть!
Взмахнув мечом, Ки-Энду обрушил его на нидхага. Ослепительно вспыхнуло лезвие, и тело врага, рассеченное надвое, упало на скользкую глину. Нидхаги не успели опомниться, как Ки-Энду пронзил второго, а Гил — третьего. Последний оставшийся в живых нидхаг, жутко взвыв, отскочил в сторону.
— Бежим! — крикнул Ки-Энду, и друзья со всех ног помчались по дороге. Сзади раздались крики и рев: целая толпа нидхагов высыпала из сарая и бросилась в погоню.
— Догоняют! — крикнул Гил, бежавший позади. — Сворачивай в Лес!
Они вскарабкались на крутой вал и оказались перед заграждением. Асгардские клинки, искрясь и вспыхивая голубым пламенем, рассекли проволоку, и через мгновение беглецы скатились вниз, к тесному строю влажных серых стволов. Сплетение ветвей, голых и мокрых, преградило им путь. Ростки шевелились, как прозрачные пальцы чудовища. Заработали мечи, и вскоре Гилу и Ки-Энду удалось углубиться в Лес на сотню шагов. Оглянувшись, они увидели, что их преследователи, достигнув проволочного заграждения, остановились, не решаясь идти дальше. Постояв немного, нидхаги побрели назад и скрылись за земляным валом.
— Отдохнем немного, — сказал Ки-Энду, и они легли на влажную, покрытую копошащимися обрубками землю.
Глава 16 ЛЕС
1. Ясень я знаю по имени Иггдрасиль, древо, омытое влагою мутной; росы с него на долы нисходят; над источником Урд зеленеет он вечно. Прорицание Вельвы, 19 2. Три корня растут на три стороны у ясеня Иггдрасиль: Хель под одним, под другим исполины и люди под третьим. Речи Гримнира, 313. Сказочный лес… отражает воспоминание о лесе как о входе в царство мертвых.
В. Я. ПроппДождь кончился, но тяжелые капли еще падали с голых ветвей; пахло плесенью, душные испарения пропитали воздух. Все шуршало. Гил поежился от холодного прикосновения — скользкий росток ткнулся ему в щеку. Гил отмахнулся от него, как от назойливой мухи, но побег упорно тянулся к лицу. Преодолев отвращение, Гил отломил кончик — он оказался совсем хрупким, — и, осторожно держа двумя пальцами, рассмотрел его. Нежный, почти прозрачный росток слабо извивался, на сломе выступила вязкая капля.
— Как ты думаешь, — подал голос Ки-Энду, — за кого они нас приняли?
— Ясно — за шпионов, явившихся с очередным донесением. Наверное, за тех самых, которые подслушивали ваши разговоры и преследовали нас по реке.
— Хорошо, а кто такой хозяин и каких это асгардских убийц он на них навел?
— Хозяин — это, конечно, руководитель шпионов в Эллигате. А убийцы наверняка дэвы, прогнавшие нидхагов с поля боя. Только почему они решили, что дэвов привел хозяин? Ведь гонец, позвавший их на подмогу, никак не может быть предателем?
— Это верно. Но, возможно, здесь решили, что гонца послал Халгат. Откуда им знать, что за помощью поехали трое случайно спасшихся бойцов из разбитого отряда Фунгала — поехали вопреки воле мелха? Может, Халгат и есть главный шпион и предатель? Многие его поступки подтверждают это.
— Да, конечно, но ведь есть и другой вариант: вдруг асгардские убийцы это мы с тобой? А хозяин, кто бы он ни был, виноват перед Хумбой в том, что позволил нам уйти. Правда, если в Лесу уже узнали, что мы двинулись в путь, значит, шпионы опередили нас, а этого быть не может, мы же оторвались от них на реке.
— К тому же в этом случае здешние нидхаги не были бы так уверены, что перед ними свои.
— Пожалуй. Знаешь, Ки, наверное, это не так важно — за кого нас приняли и знает ли Хумба о нашем прибытии в Лес. Если не знает, то очень скоро ей это станет известно. Шпионы-то плыли за нами следом.
— Это точно, — согласился Ки-Энду. — Действительно, для нас это теперь безразлично. Владычица все знает или скоро будет знать. Кстати, ты понял, кто это такая?
— Хумба, конечно!
— Нет. Мне показалось, что речь не о ней. Этот нидхаг явно говорил о ком-то, кого боится и перед кем преклоняется. Хумба ведь в конце концов всего лишь мыслящая машина. Я думаю, имелся в виду кто-то из тунов. Может быть, тот самый седьмой тун, о котором мы пока ничего не знаем — женщина? Возможно, подобно тому как Фенлин при помощи Мидмира создавала людей, какая-то женщина-тун в союзе с Хумбой создает гуллов и нидхагов?
— Ки, тебе не кажется, что все эти домыслы и предположения никому не нужны? Лучше подумаем, что нам делать дальше. Мешок-то остался в лодке. Может, подождем ночи в попробуем его достать?
— Терять столько времени из-за мешка? Спички у меня с собой есть, а без продуктов и одеял мы как-нибудь обойдемся. Еще немного полежим и двинемся дальше. Честно говоря, мне страшно хочется спать.
— Мне тоже. Это, наверное, от духоты, — Гил зевнул. — Голова у меня тяжелая-претяжелая. Я вздремну немного, — с этими словами Гил устроился поудобнее и тут же заснул.
Ки-Энду в последний раз огляделся и, не увидев никакой опасности, последовал его примеру.
…Шуршание стеблей постепенно перешло в топот множества ног. Нидхаги окружили Гила со всех сторон. Глумливо смеясь, обнажая желтые клыки, они навалились на него, он чувствовал их зловонное дыхание, слышал злобное шипение, исходящее из их глоток. Они связали его так крепко, что он не мог ни вздохнуть, ни шевельнуться, и потащили куда-то. Вот его поднимают, раскачивают и швыряют в кучу мусора — нет, это огромный муравейник! Гил похолодел, осознав, какая ужасная смерть его ожидает. Вот уже громадные, с ладонь величиной муравьи заползают под одежду, вонзают свои стальные челюсти в его тело, вырывают куски мяса, заливаясь кровью… Гил закричал и проснулся.
Но действительность была не лучше сна. Он увидел ростки, прикасающиеся к самому лицу, почувствовал страшный зуд во всем теле. Он попытался встать и не смог — сотни ползучих ветвей оплели его, прижав к земле. Он ощутил, как тонкие побеги прорывают одежду и врастают, впиваются в тело, словно хищные черви.
— Ки! — отчаянно крикнул Гил. — Где ты? Спаси меня!
— Проклятие, Гил! Эти ветки хотят меня сожрать!
Поняв, что помощи ждать неоткуда, Гил принялся изо всех сил брыкаться, пытаясь высвободиться из скользких пут. С великим трудом ему удалось высвободить правую руку. Теперь дело пошло быстрее. Он обрывал целые пучки хрупких побегов, вросших в одежду и кожу, сбрасывал с себя извивающиеся обрывки, дрыгал ногами… Наконец он смог дотянуться до рукоятки меча. Лежа на спине, он принялся рубить ветки над собой; посыпался дождь скользких обрубков. Гил отмахивался от них левой рукой, а правой продолжал рубить. Наконец он расчистил над собой пространство, достаточное, чтобы встать. Преодолевая страшную боль в спине, начал приподниматься на локтях. Это было мучительно трудно — множество хищных побегов проросло, пока он спал, под его телом, намертво пришив его к земле. Гил напряг все силы и рванулся, сжав зубы, чтобы не закричать. Внизу хрустело, невыносимая боль пронзила его так, что в глазах потемнело и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Но он уже был свободен. Большая часть ростков осталась на земле, они извивались, покачивая окровавленными кончиками, словно щупальца лезущего из недр спрута. Другие, те, что успели глубже врасти в тело, остались болтаться у него на спине вместе с комьями глины.
Гил встал. Его шатало из стороны в сторону, перед глазами плыли круги, липкие струйки крови стекали по телу. От затхлого, пропахшего плесенью воздуха к горлу подступала тошнота. «Сейчас я потеряю сознание, — мелькнуло в голове, — и это — смерть». Секунду или две он стоял неподвижно, напрягая все силы, чтобы не упасть. Наконец почувствовал, что стало легче — головокружение уменьшилось, ноги обрели твердость. Он услышал голос Ки-Энду:
— Гил! Где ты? Я освободился! Помочь тебе?
— Не надо, я уже стою. Где дорога?
— Вот наш проход. Пробирайся сюда.
Гил взмахнул мечом.
— Осторожно! Я в двух шагах от тебя.
— Ага, вижу…
Гил достал нож и перерезал разделявшие их ветки. Через несколько мгновений они уже стояли рядом. Ки-Энду несколько раз ударил мечом по сплетению побегов, и друзья оказались в начале узкого хода, ведущего на север.
— Это мы прорубили, спасаясь от нидхагов, — сказал Ки-Энду. — Почему-то заросло только там, где мы спали, а в остальных местах…
— Бежим сюда! — прервал его Гил. — Потом расскажешь.
Они выбрались из чащи и поднялись на вал. Дорога была пуста, и друзья спустились на нее, благо дыра в заграждении уже была ими проделана во время бегства от нидхагов.
— Воздух здесь почище, — сказал Ки-Энду, остановившись посреди дороги. — Ну, как тебе наше приключение?
— Хан дэвин, Ки, на кого ты похож! — вскричал Гил, взглянув на своего товарища. — Ты же весь кишишь червями, как дохлый бык, неделю пролежавший на солнце!
— И ты, Гил, не лучше… О дэвы, как все чешется! Придется нам выковырять друг из друга эту гадость, пока она дальше не проросла. Ну-ка, раздевайся.
Гил стал снимать плащ. Это оказалось нелегким делом — одежда была словно прибита к телу гвоздями. Ки-Энду пришлось воспользоваться ножом, чтобы отпороть продырявленную материю от кожи. Затем, склонившись над Гилом, он принялся выдергивать из него прозрачные ростки. После них оставались маленькие круглые ранки, вскоре перестающие кровоточить. Но побеги были такими хрупкими, что большая часть их обламывалась, и тонкие кончики оставались внутри. К счастью, Ки-Энду быстро нашел способ их извлекать: достаточно было прижечь росток спичкой, как он сразу сжимался и выходил легко и безболезненно.
Ки-Энду провозился с Гилом не менее получаса. Наконец мучительная операция закончилась. Гил, вконец обессилевший от боли, с трудом натянул одежду, — она была вся в мелких дырочках.
Потом они поменялись ролями.
Но с Ки-Энду что-то произошло: он сник и нахмурился, видно было, что его одолевают какие-то мрачные мысли. Гил подумал, что причиной всему боль, и, чтобы как-то отвлечь его, принялся рассказывать всякие истории. Он даже пытался пошутить, заметив, что это занятие — выковыривание ростков из тела дело для него привычное, так как в детстве отец частенько посылал его в огород полоть грядки. Однако Ки-Энду не оценил юмора.
— Спички береги, — прохрипел он, — больше взять неоткуда. И постарайся быстрее закончить. Это же нидхагская дорога. Непонятно, как нас до сих пор не обнаружили.
— Ну, вот и все, — сказал наконец Гил, задувая спичку. — Можете одеваться, больной.
Они побрели по дороге на запад. Боль и усталость не давали им идти быстрее; к тому же сильно хотелось есть, а продукты остались в лодке. В тучах появились просветы, и Ки-Энду, взглянув на солнце, сказал, что они, судя по всему, проспали в Лесу совсем немного — самое большее час.
— Как же быстро растут эти дрянные деревья! — сказал Гил.
— Кстати, — заметил Ки-Энду, — тут есть одна интересная деталь. Помнишь, перед тем как заснуть, мы довольно долго беседовали? За это время никакого роста я не заметил. И проход, который мы прорубили, не зарос.
— Что ж, выходит, эти кровопийцы интересуются только спящими людьми?
— Думаю, что да. Спящими или, скорее, мертвыми. Должно быть, они приняли меня за мертвого. Боюсь, если они и ошиблись, то не сильно — на день или на два…
Гил решил не обращать внимания на дурное настроение Ки-Энду и попытался перевести разговор на другую тему.
— Знаешь, мне вдруг стало жаль нидхагов, которые здесь живут. Как это, должно быть, тоскливо — всю жизнь дышать плесенью и не сметь выйти ни на шаг за железную ограду. Вот ведь как смешно получается — после этого лесного приключения нидхаги кажутся мне чуть ли не братьями родными. У нас с ними так много общего — здесь, в Лесу. Мы одинаково боимся гуллов и этих мерзких деревьев; и нам, и нидхагам здесь одинаково неуютно.
— Это, конечно, очень трогательно, что ты испытываешь нежность к нидхагам, — ядовито заметил Ки-Энду. — Жаль только, что если они нас встретят, то вряд ли догадаются о нашем с ними родстве, даже если ты начнешь их обнимать и называть братьями.
— Ты что, Ки? Ты хочешь меня обидеть? Не хватает еще нам с тобой сейчас поссориться!
Какое-то время они шли молча. Потом Ки-Энду сказал с глубокой тоской в голосе:
— Прости меня, Гил. Со мной происходит что-то нехорошее. Возможно, я просто схожу с ума. У меня появились навязчивые мысли. Какие-то предчувствия. Мне кажется, что я скоро умру. Это началось внезапно, когда я увидел ростки, копошащиеся у тебя на спине. Я сразу начал думать о червях, что заводятся в падали, и с тех пор не могу отделаться от этих мыслей.
— Но, Ки, ты же прекрасно знал, на что мы идем. Ты сам говорил, что, скорее всего, этот поход будет стоить нам жизни. Зачем же тогда, когда мы уже здесь и дороги назад нет, снова начинать этот разговор? Мы все взвесили, когда принимали решение, и теперь надо его выполнять.
— Я знал, что ты не поймешь меня. Ты-то останешься жив! И все остальные Эалин, Мирегал, Бхарг, Ру — все будут жить, а меня не будет. Я не хочу умирать, Гил! У меня от этого все смешалось в голове. Я уже никого не люблю. Я всех вас ненавижу! Вы будете жить, дышать, думать, чувствовать, а от меня останется только горсть золы. Я знаю, ты думаешь, что я просто струсил. Нет, я не трус. Но в душе у меня так пусто и холодно, я чувствую себя таким одиноким… Я обречен, Гил. Прости меня, я знаю, что не должен всего этого говорить, это слабость. Но предчувствие смерти лишает меня сил, отбирает мужество. Я чуть не плакал, когда ты выдергивал из меня ростки, — не от боли, а от сознания собственного бессилия перед судьбой. Кто распоряжается нами? Кто решает — кому жить, а кому умирать? Почему от нас ничего не зависит? Кто мы? Разумные существа, наследники дэвов, будущее мира? Или жалкие твари, не властные даже над собственной жизнью и смертью?
— Ки, послушай меня. Человек не может знать своего будущего. Все твои предчувствия — от страха и усталости. Почему ты решил, что умрешь, а мы все останемся живы? Как ты это определил? Ты должен понять: все, что с тобой происходит — это что-то вроде болезни. Кроме тебя самого, тебе никто не поможет. Я уверен, ты сможешь с этим справиться. Возьми себя в руки. Это болезнь. Не поддавайся ей. Помни, что мы должны убить Хумбу.
— Хорошо, Гил. Ты прав. Неважно, что это на самом деле. Я должен верить, что болезнь. Болезнь. Сейчас я с ней справлюсь. Дай мне только сосредоточиться.
Разговор оборвался. Ки-Энду шел, угрюмо глядя под ноги, лицо его было напряжено, челюсти сжаты. Гил шагал следом, и мысли его бежали по кругу: как помочь Ки-Энду? — как достать чего-нибудь поесть? — как помочь?.. — как поесть?..
Обе проблемы, впрочем, были одинаково неразрешимы, во всяком случае, от Гила не зависело ничего.
Так они шли часа два, не проронив ни слова, углубляясь все дальше в Лес.
Дорога по-прежнему бежала прямо на запад по середине просеки. Деревьев не было видно за земляными валами, лишь еле слышное шуршание постоянно напоминало об их присутствии.
— Что-то давненько мы не встречали своих братьев нидхагов, — неожиданно произнес Ки-Энду.
У Гила отлегло от сердца: Ки-Энду улыбался! Он справился со своими страхами! Гил настолько обрадовался, что когда, спустя мгновение, они увидели впереди большую группу нидхагов, он совсем не почувствовал страха.
— А вот и они! Что будем делать, Ки?
— То же, что всегда. Пойдем, погуляем в лесочке.
Друзья посмотрели друг на друга и расхохотались. Но время терять было нельзя — нидхаги быстро приближались и в любой момент могли заметить людей. Они поднялись на вал справа от дороги, прорезали дыру в заграждении и притаились по ту сторону забора. Спускаться вниз, к кровожадным деревьям, им совершенно не хотелось, да в этом и не было необходимости. Нидхаги не заметили их. Сидя в укрытии, Гил рассматривал лес. Он был совершенно такой же, как и там, у реки. Правда, приглядевшись, Гил заметил нечто новое: маленькая белесая змейка немигающими глазами смотрела на них из ветвей. Ее тонкое тело изящно вплеталось в спутанную массу побегов.
— Гляди, змея, — тихонько сказал Гил.
— Ничего змейка, — сказал Ки-Энду. — Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как она подохла?
— Да она живая! Видишь, повернула голову.
— Здесь не может быть ничего живого. Посмотри, какая она тощая и высохшая, какие у нее мертвые глаза. Это настоящая гулльская змейка, змеиный гулл.
— Ты уверен? — засомневался Гил. — Ой, а это что?
Чуть поодаль, у самого подножия вала, лежали останки животного, по-видимому, волка. Шевелящиеся ростки пробивались сквозь свалявшуюся шерсть.
— Зря ты мне это показал, — пробормотал Ки-Энду, отворачиваясь. — Я сейчас опять начну думать о смерти и червях.
— Нет уж, пожалуйста, не надо! Смотри, нидхаги уже прошли. Можно идти дальше.
Они вернулись на дорогу. Теперь они уже не молчали — мирно беседуя, вспоминали былые времена, свою тихую счастливую жизнь, которая так внезапно оборвалась, но обязательно вернется, как только кончится война. Солнце давно уже перевалило за полдень, а они все шли, превозмогая усталость и старательно поддерживая неторопливую беседу, позволявшую им хоть на время забыть о реальности и о том, что их ждет впереди. Между тем, ранки, оставленные хищными растениями, нестерпимо чесались, и голод все сильнее давал о себе знать. Наконец Гил не выдержал и решил все-таки задать Ки-Энду несколько тревожащих его вопросов.
— Ки, а нам еще далеко идти? — спросил он как бы невзначай.
— Довольно-таки, — ответил Ки-Энду, — по прямой от края леса до Хумбы семьдесят миль, мы прошли двадцать или чуть больше. Но мы идем не совсем правильно. Надо бы правее…
— Значит, сегодня не дойдем?
— Что ты! Если нам ничто не помешает, что вряд ли, и если эта дорога действительно ведет к Хумбе, в чем я тоже сомневаюсь, — словом, в лучшем случае мы будем там послезавтра.
— Как же мы проделаем такой путь на голодный желудок? Нет, ты не думай, я не жалуюсь, я могу идти еще долго. Но мне кажется, было бы неплохо раздобыть чего-нибудь поесть. Как ты думаешь, это возможно?
— Не знаю. Может быть, нам попадется какой-нибудь нидхагир, и мы сможем что-нибудь украсть.
— Украсть?..
— А что ты предлагаешь? Купить? У нас ведь нет выбора. И потом, мы уже научились убивать, а это большее зло, чем кража.
Гил вздохнул… «Лучше не думать о еде», — решил он.
Беседа заглохла, и они долго шли молча. Вдруг Гилу показалось, что он слышит сзади шаги. Он оглянулся. Никого. Через несколько минут звук повторился. Но и на этот раз, оглянувшись, он увидел только пустую дорогу. «Странно, — подумал Гил. — Уж не схожу ли и я с ума? Вдруг эти ростки занесли в нас какую-то заразу, которая действует на мозг? Ки-Энду начал предчувствовать смерть и всех ненавидеть, а мне шаги мерещатся… Впрочем, здесь так тихо, что звук может быть слышен издалека. Возможно, кто-то действительно идет за нами — в миле, например, или в двух». Чтобы зря не тревожить друга, Гил решил не делиться с Ки-Энду своими опасениями. В конце концов, если это нидхаги, от них всегда можно спрятаться в лесу.
Дорога тянулась бесконечно, прямая, унылая и такая однообразная, что Гилу начало казаться, что она никуда не может привести их — сколько ни иди, она все так же будет бежать через лес и никогда не кончится. Гил страшно устал. От голода у него начала кружиться голова; зуд становился нестерпимым. Гил подумал, что, возможно, они не все ростки вытащили друг из друга. Может, самые кончики остались и теперь начали прорастать? Если так, только дэвы могут спасти их от медленной и мучительной смерти.
Дорога пошла круто вверх. Путники поднялись на пригорок, и их взорам открылось удивительное зрелище. Земляные валы, не подпускавшие лес к дороге, разбежались в разные стороны, окаймляя обширный, три-четыре мили в длину, четырехугольный участок — остров зелени в сером океане древесных гуллов. В середине участка располагался большой нидхагир — три десятка длинных низких домов. К западу от поселка виднелось пастбище, к югу было поле, засеянное ячменем, к северу — какие-то огороды. На восток от нидхагира, то есть прямо перед путниками, зеленел большой фруктовый сад.
— Красота какая! — восхищенно вздохнул Гил.
— Да уж!.. — протянул Ки-Энду. — А я еще сомневался, что нидхаги нам братья родные.
— Пошли скорее в сад. Смотри, какие там яблоки!
Деревья были старые, с толстыми корявыми стволами. Видимо, почва и воздух не совсем подходили для яблонь: многие ветки засохли, листья пожелтели.
Гил и Ки-Энду шли по саду, выбирая дерево с плодами покрупнее. В предвкушении долгожданного пиршества они совсем забыли об опасности. Гил потряс одну из яблонь, но ни один плод не упал: видимо, яблоки были еще незрелые.
— Придется лезть, — сказал Гил и, ухватившись за сук, начал карабкаться на дерево.
Внезапно сзади раздался грубый окрик:
— Ворр, шрак! Слезат, яхр ил стрэлат!
Гил свалился на землю. Ки-Энду схватился было за меч, но тут же опустил руку. Двадцать или тридцать нидхагов бежали к ним с разных сторон, грозно рыча и размахивая руками. Они окружили Гила и Ки-Энду, стали вокруг дерева и натянули луки.
— Рса тэт ар дур, — ухмыльнулся один из них, — ворр, гуллр грязныр.
— Вот и все, — шепнул Ки-Энду. — Как глупо!
Внезапно среди нидхагов возникло замешательство. Кто-то подошел к ним сзади.
— Дейр пленныкр ар гха балу, — услышал Гил знакомый голос. Не веря своим ушам, он оглянулся и едва удержался, чтобы не вскрикнуть от изумления. Ряд вооруженных нидхагов расступился, и к яблоне направились двое — те, кого Гил меньше всего надеялся здесь встретить. Он готов был плакать от счастья! Впереди, в грязном изодранном платье, согнувшись под тяжестью огромного мешка, ковыляла Мирегал. За ней шел Бхарг в нидхагском плаще: в руке он держал обнаженный меч. Пользуясь тем, что его лесные сородичи не понимали ни слова на южном наречии, он зарычал грозным голосом, как будто ругаясь:
— Не бойтесь! Вы мои пленники! Я веду вас к государыне Ашт! Ну, шагайте вперед!
Бхарг легонько подтолкнул Мирегал, и та, притворно всхлипнув, прибавила ходу. Пробегая мимо яблони, она весело подмигнула Гилу и Ки-Энду из-под своего мешка. Друзья поспешили за ней. Растерявшиеся нидхаги посторонились, давая им пройти.
— Быстрей, быстрей! — подгонял их Бхарг. — Имя Ашт отшибло у них мозги, но не навсегда. Сейчас они сообразят, что пленники-то при мечах! Ну все, нас уже не видно. Побежали!
— Да возьми ты, наконец, свой противный мешок! — на бегу крикнула Мирегал, и Бхарг послушно взвалил ношу себе на спину. Они миновали фруктовый сад и по ячменному полю добежали до вала. Но нидхаги, находившиеся в поселке, заметили бегущих. Не прошло и минуты, как отряд косматых всадников выскочил им наперерез.
— Попались! — испуганно крикнул Бхарг.
— Ерунда, — успокоил его Гил, — отсидимся в лесу!
— В лесу? — Бхарг с ужасом посмотрел на Гила. — Нет, только не это. Нет! Я не пойду!
Ки-Энду взобрался на вал и прорубил отверстие в заграждении.
— Не бойся, Бхарг, — крикнул он сверху. — Мы уже дважды спасались таким образом. Это совершенно безопасно!
Гил и Мирегал подхватили Бхарга под руки и потащили его к дыре. Вскоре все четверо скрылись за проволокой. Ки-Энду и Гил принялись мечами расчищать проход, Мирегал и Бхарг шли следом.
— Это правда не опасно, господин Ки-Энду? — бормотал несчастный Бхарг. — Почему же мне так страшно? Я никогда раньше не бывал в Хумба-Гире, но слышал, что местные никогда не заходят в лес. Говорят, здесь страшные деревья-людоеды, покойники и прочая нечисть.
Хоть Бхарга и трясло от страха, он все же не отставал от друзей, решив довериться их опыту.
Тем временем всадники поднялись на вал. Один из них поднял лук, намереваясь пустить стрелу вслед беглецам, но другие прорычали ему что-то, и он передумал. Отряд повернул вспять и скрылся из виду.
— Слава дэвам! — сказал Ки-Энду. — Теперь можно вернуться к заграждению. Куда ты так рванул, Бхарг? Мешок не потеряй!
Путники расположились на отдых на вершине вала, под самым забором. Наконец-то они могли отдохнуть и побеседовать. Ки-Энду не терпелось узнать, каким образом Мирегал и Бхарг оказались здесь, в Ха-мерке, да еще в такой критический момент, когда, казалось, их с Гилом уже ничто не могло сласти. Но ему пришлось временно подавить свое любопытство: Бхарг никак не мог прийти в себя после того, как на несколько шагов зашел в чашу, — он со страхом глядел на извивающиеся ветки, вздрагивал, мотал головой и бормотал что-то невнятное. Мирегал с Гилом сидели в сторонке, взявшись за руки, и, глядя друг на друга счастливыми глазами, беседовали о каких-то пустяках.
— Гилли, неужели ты хотел от меня убежать? — говорила Мирегал. — Помнишь, когда ты пришел ко мне в госпиталь, я сказала, что нас с тобой ничто не разлучит. Глупый, ты не поверил мне!
— Да, я помню. Я тогда немного расстроился, что ты так легкомысленно со мной простилась. Откуда мне было знать, что мы расстаемся только на день?
— Зато я это знала! Ты же от меня ничего скрыть не можешь, как бы ни старался. Я по твоим глазам все-все вижу, что у тебя на уме.
— Ну хорошо, ты могла догадаться, что я собираюсь уйти. Но как ты узнала, куда? Направление-то у меня в глазах не написано, я надеюсь?
— Пусть это будет моей маленькой тайной, — улыбнулась Мирегал.
— Какая же ты смелая! — восхищенно сказал Гил. — Ты что, пошла сюда, в этот ужасный лес, только для того, чтобы не расставаться со мной?
Мирегал кивнула и рассмеялась. Гил обнял ее. Ки-Энду, который все это время прислушивался к их разговору в надежде что-то узнать, не выдержал и обратился к сестре.
— Послушай, Мирегал. Ты все-таки должна объяснить, как вы сюда попали. Это не только ваше личное дело. Нам очень важно знать это. Понимаешь, кто-то подслушивал наши разговоры с Гилом в Эллигате, а потом, когда мы плыли по реке, за нами была погоня. Мы решили, что это шпионы из Леса, и, значит, Хумбе известны наши планы. Но теперь получается, что это могли быть вы с Бхаргом. Я тебя очень прошу, расскажи все по порядку.
— Ах, Ки, как ты любишь, чтобы все вокруг были серьезны и говорили только о делах! Ну ладно, так и быть, расскажу. Кстати, вы случайно не голодны? У нас в мешке куча продуктов, пообедаем?
— Еще как голодны! — воскликнул Гил. — Бхарг, скорей развязывай мешок! Мы ведь из-за этого и попались — увидели яблоки и забыли об осторожности, даже не заметили, как нидхаги нас окружили.
Бхарг извлек из мешка хлеб, сыр, большой кусок вареной баранины и бутылку с водой. Даже Ки-Энду не устоял и, мгновенно забыв о своем неудовлетворенном любопытстве, набросился на еду.
Когда все насытились, Мирегал все же пришлось рассказать свою историю.
— Возвращаюсь я вечером из госпиталя, — начала она, — прохожу мимо двери Гиловой спальни и вдруг слышу очень таинственный голос любимого брата, который вещает о каких-то ужасах, как он это любит: о гуллах, тунах и прочей гадости. Нет, я вовсе не собиралась подслушивать. Но уж очень было интересно. Я только немножко постояла у двери, вот и все. Потом решила пойти прогуляться и все хорошенько обдумать. Я, конечно, сразу поняла, что раз вы решили совершить еще один подвиг, значит, вошли во вкус и отговаривать вас бесполезно. Но Гил решил от меня сбежать — вот с этим я никак не могла смириться. Нет, думаю, радость моя, никуда ты от меня не денешься!..
Я пошла к Бхаргу и рассказала ему обо всем. Мы заранее все обговорили: Бхарг сказал, что переоденется нидхагом, перестанет причесываться и чистить зубы, а я должна буду изображать его пленницу. Вчера вечером он прибежал ко мне и сказал, что вы отплываете. Мы помчались к реке — вещи у нас давно уже были собраны, — сели в лодку и поплыли за вами следом.
Сначала все шло хорошо, а потом вы, видно, нас услышали и так припустили, что мы порядочно отстали. Я боялась, что теперь мы вас не найдем в лесу, но нам повезло: мы заметили у берега вашу лодку и поняли, что вы пошли по дороге. Бхарг побеседовал с нидхагами, которые сидели в этом старом сарае, и от них мы все про вас узнали, нам даже показали дырку в заборе. Нидхаги ухмылялись и говорили: «Пусть теперь деревья обгладывают их косточки». Бхарг ужасно расстроился, но я не поверила, что вы погибли, и залезла все-таки в эту дыру. Дошла до конца прохода, где вы притаились, увидела, что вас там нет, и никаких косточек, конечно, тоже, и вернулась. Часа через три мы вас догнали, а потом уже не выпускали из виду. Ну, вот и все, дальше вы знаете. И не надо на нас сердиться, Ки, мы же вам не помешаем! С Бхаргом куда безопаснее! Правда, он здорово придумал про пленников? Одно только плохо — он каждый раз взваливал на меня этот тяжеленный мешок, когда видел нидхагов. Ну, теперь вы будете его тащить!
Не успела Мирегал договорить, как Гил снова начал ее обнимать, шептать что-то на ухо. Ки-Энду пустился в рассуждения о Хумбе и о том, что она знает и чего не знает, а Бхарг только посмеивался и ковырял в зубах спичкой…
Наконец Ки-Энду сказал, что пора идти дальше. Они двинулись по гребню вала — слева был лес, а справа, за забором, ячменное поле и нидхагир. Ки-Энду и Гил по очереди тащили мешок, а Бхарг нес три асгардских меча.
Через час они добрались до западного края огражденного участка. Отсюда снова начиналась просека. Они спустились на дорогу и продолжили свой путь на запад. Идти вчетвером было гораздо веселее — они непрерывно болтали, смеялись, шутили. Вскоре Гил и Ки-Энду забыли о том, что у них все чешется и что они хотят спать. Даже о своем страшном приключении они почти перестали вспоминать и ни словом о нем не обмолвились, решив, что ни к чему лишний раз пугать Бхарга и расстраивать Мирегал.
Когда солнце уже клонилось к западу, им повстречался нидхаг на вороной кобыле. Бхарг перекинулся с ним парой слов и, когда всадник скрылся из виду, сказал друзьям:
— Плохо дело! Дорога впереди перекрыта. Видно, здешние власти прознали, что в Лесу появились чужаки.
— Что ж, придется пробираться через чащу, — спокойно произнес Ки-Энду. — Все равно дальше по этой дороге нам идти бессмысленно: давно уже пора свернуть направо. Не бойся, Бхарг, это совершенно безопасно. Главное — не засыпать.
— А если заснуть?
— Понимаешь, эти деревья очень быстро растут. Потом будет трудно выбраться из чащи.
Они вошли в лес. Шуршащие ростки, полумрак и затхлый воздух окружили их. Движение их сразу замедлилось. Вскоре стало ясно, что удобнее всего идти гуськом — один из мужчин расчищал дорогу, остальные шли следом. Бхарг, видимо, сумел побороть свой страх или, по крайней мере, научился его не показывать. Мирегал постоянно болтала и шутила, прилагая все усилия, чтобы ее спутники не пали духом.
Они преодолели не более трех с половиной миль, когда начало темнеть. Сразу похолодало, запах плесени усилился и стал почти невыносимым; быстрее начали шевелиться прозрачные побеги. Откуда-то появилось множество белых змеек — они бесшумно скользили в ветвях и время от времени падали путникам на головы, отчего Мирегал каждый раз отчаянно визжала. Ки-Энду повернулся к Гилу и сказал тихо, чтобы остальные не услышали:
— Скоро придется останавливаться на ночлег. У тебя есть какой-нибудь план?
— Ну, наверное, вырубим участок побольше, все вытопчем, выдернем все росточки… Хорошо бы развести костер.
— Боюсь, что эти деревья не будут гореть, они слишком водянистые. А на земле спать нельзя, они же вырастают оттуда за считанные минуты.
— Что же делать?
— Не знаю.
Лес быстро погружался во тьму. Скользкие ветви со всех сторон тянулись к путникам, трогая их лица, обвиваясь вокруг ног. Страх начал овладевать ими. Мирегал притихла, Бхарг снова начал дрожать.
— Я не смогу идти всю ночь, — жалобно произнесла девушка. — Давайте остановимся хоть ненадолго.
Бхарг, уже давно с трудом волочивший ноги, стал как вкопанный и хрипло прошептал:
— Дальше нельзя. Дальше смерть.
В этот момент Гил, прорубавший дорогу, воскликнул изумленно:
— Смотрите, поляна!
Усталые путники оказались на краю небольшой, сотню шагов в диаметре, круглой площадки. Глинистая почва была полностью лишена растительности, лишь в самом центре поляны, раскинув могучие ветви, стоял огромный дуб — настоящий живой дуб!
Мирегал подбежала к дереву и обняла его, прижавшись лицом к потрескавшейся коре.
— Милое дерево! — воскликнула она, и Гил не смог понять по ее голосу, плачет она или смеется. — Сколько в тебе силы, сколько мужества! Смотрите, оно же в одиночку борется с этим гадким лесом! Вокруг давно уже не осталось ни одной живой травинки, а дуб все равно не сдается, и эта мертвая поросль не смеет к нему приблизиться. Нам бы такую волю к жизни — мир был бы вечен!
— Дерево и правда красивое, — согласился Ки-Энду. — И нам очень повезло, что мы на него наткнулись — здесь мы переночуем спокойно. К тому же я вижу сухие ветки, значит, можно развести костер.
Они поужинали в наступившей темноте и легли спать, решив, что мужчины будут по очереди охранять сон остальных. Гил вызвался нести вахту первым; он сидел у костра и, время от времени подбрасывая в огонь дубовые сучья, прислушивался к лесным шорохам. Мирегал что-то бормотала во сне. Гилу удалось разобрать отдельные слова: «Твои корни доходят до дна бездны, на твоей кроне покоится свод неба… Ты — середина мира, опора жизни… Пока ты стоишь, мы бессмертны».
«Бедненькая, — подумал Гил, — у нее тоже помутился разум, как у Ки. Милая моя, отважная девочка! Как же мне помочь тебе?»
Тихая беззвездная ночь окутала землю мраком. Зловеще шуршали древесные гуллы, чуть слышно шелестели листья старого дуба. Весело потрескивали сучья в костре; искры уносились к небу.
Гил сидел у огня; лицо его было спокойно, и в душе не было страха.
Он твердо знал, что найдет бессмертие.
Глава 17 ХУМБА
С первыми лучами солнца они двинулись в путь. Серые влажные стволы и шевелящиеся ветки вновь окружили путников. Бхарг был смертельно бледен — страх опять овладел им, каждый шаг давался ему с великим трудом. Напрасно Мирегал пыталась его успокоить: чем дальше они углублялись в лес, тем сильнее дрожал бедный нидхаг. Они не успели пройти и четверти мили, когда он остановился и хрипло произнес:
— Подождите, дальше нельзя. Мы приближаемся к чему-то ужасному.
Гил тоже смутно ощущал какую-то угрозу. Он взял Мирегал за руку, и они остановились, прислушиваясь. Ки-Энду, расчищавший дорогу, тоже встал как вкопанный.
— Что там? Ты что-то увидел? — спросила Мирегал.
— Тс-с! Подойдите ко мне, только тихо! Смотрите!
Гил, Мирегал, а вслед за ними и трясущийся Бхарг подошли к Ки-Энду и посмотрели туда, куда он показывал. То, что они увидели, напоминало картину из кошмарного сна. Через сплетение ветвей была видна дорога. По ней бесконечной вереницей, в затылок друг другу, шли гуллы. Они бесшумно переставляли сухие тонкие ноги; их плоские лица были неподвижны. Руки висели, как плети; кисти были несоразмерно велики, пальцы заканчивались чудовищными белыми ногтями. Гуллы шагали на юг, словно влекомые какой-то неведомой силой. Никто из них не смотрел по сторонам; им не было никакого дела до притаившихся за деревьями людей.
Увидев, что гуллы не замечают их, Бхарг несколько успокоился.
— Сколько мертвецов! — сказал он шепотом. — Должно быть, идут в Ахел.
— Эта дорога нам очень удобна, — сказал Ки-Энду. — Она ведет прямо на север. По ней мы наверняка доберемся до Хумбы.
— Вы хотите идти по гулльской дороге, господин Ки-Энду?
— Почему бы и нет? Здесь все гулльское, Бхарг, этот лес — настоящее царство мертвых.
Но время шло, а конца страшной процессии все не было видно. Лишь через полчаса показался последний гулл. А позади колонны ехала на бледном коне юная, прекрасная женщина. Ее смуглое лицо, казалось, вобрало в себя всю красоту темных южных ночей; в ее чертах было столько благородства, величия, что у Гила перехватило дыхание. Он почувствовал, что готов следовать куда угодно за прекрасной всадницей, без оглядки подчиняясь ее воле. Поэтому он не удивился, когда Бхарг упал на колени и, сложив руки, словно в мольбе, пробормотал:
— Приказывай, госпожа! Я твой раб!
Ки-Энду приблизил острие меча к лицу Бхарга и хрипло произнес:
— Молчи и не двигайся, или я убью тебя.
Бхарг замер, широко раскрыв глаза; только губы его продолжали шевелиться.
Гил не мог отвести взгляда от всадницы.
— Как она прекрасно, — шепнул он.
Как ни тихо это было сказано, Мирегал услышала.
— Посмотри получше, — прошептала она ему на ухо, — у нее же ледяные глаза. Неужели тебе такие нравятся?
Но Гил не слушал ее.
— Как она попала сюда, эта женщина-дэв, что она делает среди гуллов?
Мирегал ущипнула его за руку.
— Очнись! Разве это дэв? В ее лице нет ни капли добра, только холод и презрение ко всему живому. А этих гуллов она гонит в Ахел или в Эн-Гел-а-Син — на погибель нашим близким!
Всадница проехала мимо, не заметив путников. Она смотрела лишь на шагающих впереди мертвецов, а те все шли и шли по дороге на юг, безмолвные и безвольные, покорные ее взгляду.
Наконец и гуллы, и всадница скрылись вдали. Бхарг начал понемногу приходить в себя. Он встал на ноги и смущенно попросил прощения.
— Я ничего не мог с собой сделать. Если бы она приказала мне убить вас, я бы не посмел ослушаться… Это даже не страх. Мне кажется, я перестал быть собой.
— Кто эта прекрасная женщина, Бхарг? — спросил Ки-Энду. — Ты знаешь ее?
— Как я могу не знать государыню Ашт! — воскликнул Бхарг. — Ашт — великая владычица леса, она единственная из всех тунов, переродившись, сохранила свой прежний облик.
— Видно, такая оболочка одинаково пригодна как для добра, так и для зла, — с улыбкой заметил Ки-Энду. — Остерегайся красивых женщин, Гил!
После долгих споров Ки-Энду убедил своих спутников пойти по гулльской дороге. Было очевидно, что она ведет прямо к Хумбе; кроме того, Ашт, по-видимому, перегнала на юг всех или почти всех имевшихся около Хумбы гуллов. Это позволяло надеяться, что путникам не грозит еще одна встреча с ними; нидхаги же наверняка не пользовались этой дорогой.
— К тому же, — сказал Ки-Энду, — у нас есть Бхарг, который чует гуллов на расстоянии… Как только тебе станет страшно, Бхарг, — сразу говори!
— Вот как, значит, и трусость может оказаться полезной? — улыбнулся Бхарг.
Они двинулись на север по гулльской дороге. Как и предсказывал Ки-Энду, этот путь оказался самым безопасным: за весь день они не встретили ни гуллов, ни нидхагов. Гил, Мирегал и Ки-Энду то и дело спрашивали Бхарга, не страшно ли ему, и он неизменно отвечал, что ни капельки. К вечеру эти вопросы превратились в своеобразный ритуал, очень веселивший путников. К тому же Мирегал заметила, что Гил и Ки-Энду постоянно почесываются, совсем как несчастные обитатели хутора Горячий Ключ, заеденные клопами, — это тоже служило предметом ее шуточек.
После ужасов и опасностей вчерашнего дня путешествие по гулльской дороге показалось Гилу развлекательной прогулкой; он шагал в каком-то полусне, и когда они после захода солнца остановились на ночлег, он почти не чувствовал усталости, хотя за день прошли добрых тридцать пять миль.
На этот раз они не стали разводить костер — не было дров; спать пришлось прямо на дороге. Короткая июньская ночь пролетела на удивление быстро, и на рассвете путники двинулись дальше на север.
Они шли около двух часов, когда Бхарг, доселе неустрашимый, сказал, что ему не по себе. Путники остановились. Стояла полная тишина, лишь ветви шуршали, извиваясь.
— Ну как, Бхарг, — спросил Ки-Энду, — что ты чувствуешь?
— Впереди какая-то опасность. Наверное, гуллы.
— Они приближаются?
— По-моему, нет. Во всяком случае, страшнее мне не становится.
— Хорошо, стойте здесь, я пойду посмотрю, — сказал Ки-Энду и быстро зашагал вперед. Поднявшись на пригорок, он махнул рукой своим спутникам, приглашая их следовать за ним.
— Наверное, ты ошибся, Бхарг, — сказал он, когда они приблизились. — Дорога пуста. Правда, она кончается тупиком…
Действительно, им оставалось идти по дороге не более полумили; дальше она бесследно исчезала, упершись в деревья.
— Вот так штука, — удивился Гил. — Мы-то надеялись, что она ведет к Хумбе, а она, оказывается, не ведет вообще никуда. Зачем только ее сделали? И откуда взялись на ней гуллы и Ашт?
Дойдя до конца дороги, они увидели на земле большой металлический диск. Бхарг указал на него дрожащей рукой.
— Это там, — пролепетал он, — под этой штукой!..
— А-а, это, наверное, вход в подземелье, — сказал Ки-Энду, — оттуда и вышли те гуллы, которых мы видели.
— Там их еще много, господин Ки-Энду! — сказал Бхарг.
— Я туда ни за что не полезу!
— А нам туда и не надо. Пойдем через лес. Мы почти у цели.
Они снова углубились в чащу, мечами расчищая себе дорогу. Прошло совсем немного времени, и вдруг лес кончился. Путники очутились на краю огромного ровного поля, выложенного шестиугольными каменными плитами. Слева возвышалась ступенчатая пирамида — магдел. У ее подножия теснилось множество низких, длинных сараев. В центре поля — в миле от путников и полумиле от магдела они увидели цель своего путешествия — Хумбу.
Блестящий черный шар лежал на прямоугольной подставке, выдолбленной наподобие чаши, так что нижняя часть шара погружалась в нее.
Гил ожидал увидеть нечто более внушительное — в действительности Хумба была высотой всего в три человеческих роста. Вокруг нее стояло семь металлических столбов с перекладинами. Нигде не было видно ни души. Стояла полная тишина.
— Вот мы и пришли, — немного растерянно произнес Гил.
— Неужели все так просто? Я думал, Хумба гораздо больше, и вокруг нее стоит целая армия нидхагов, тунов и гуллов. Ну ладно, раз так, пойдем убьем ее поскорее, да и домой!
— Не говори глупостей, — оборвал его Ки-Энду. — Просто! Видишь эти кресты? Бхарг, скажи, как они называются.
— Деревья ужаса, господин Ки-Энду. Это стражи Хумбы. Они не подпускают к ней чужих.
— Интересно, как они отличают чужих?
— Говорят, есть специальные опознавательные знаки…
— Вот бы достать такой знак! — сказал Гил.
— Мы с тобой глупцы! — сказал Ки-Энду. — Надо было обыскать убитого Хасмода. Ну да ладно! Пойдем посмотрим, что это за деревья. Может, удастся срубить их или как-нибудь обезвредить.
— Подождите. Давайте на всякий случай замаскируемся, — предложил Бхарг. — Отдайте мне свои мечи.
Но Гил и Ки-Энду предпочли оставить оружие у себя: они повесили мечи себе на шею, спрятав их под одеждой. Бхарг для большей достоверности связал им руки за спиной — впрочем, узлы он сделал настолько слабыми, что веревку можно было в любой момент сбросить. Мирегал взвалила себе на спину изрядно полегчавший мешок, и все четверо зашагали прямо к Хумбе. Через четверть часа они беспрепятственно подошли почти к самым столбам. В пятидесяти шагах от ближайшего металлического креста на земле была проведена красная черта; она тянулась в обе стороны, загибаясь к северу. Нетрудно было догадаться, что это круг, центром которого является Хумба.
— Достаточно недвусмысленная линия, — заметил Ки-Энду. — Дальше чужакам хода нет. Посмотрим, однако, каким образом нас задержат.
Они подошли к запретной черте и остановились: ближайший к ним столб бесшумно повернулся, его перекладина наклонилась, так что теперь один ее конец торчал вверх, а другой был направлен на красную линию, под ноги путникам.
Несколько мгновений Ки-Энду о чем-то напряженно думал, потом сложил руки рупором и крикнул, обращаясь к черному шару, что стоял в трех сотнях шагов от них:
— Хумба, ты слышишь меня? Пропусти нас, мы можем сообщить тебе много интересного. Мы знаем, как был убит Хасмод! Ты сама увидишь тех, кто убил его!
Ки-Энду постоял немного, дожидаясь ответа, потом сказал, обращаясь к спутникам:
— Бесполезно, она не слышит…
— Может быть, она просто читает наши мысли и поэтому не подпускает нас?
— Если бы она читала наши мысли, нас бы давно схватили и мы стояли бы сейчас перед ней в несколько ином качестве… И потом, Хумба хоть и машина, во машина мыслящая. Поэтому у нее наверняка есть, как и у Мидмира, своя индивидуальность, которая выражается прежде всего в постоянной жажде новых знаний. Мидмир необычайно любопытен, и Хумба, скорее всего, такая же. Но Мидмир служит добру, а Хумба злу. Подумай, разве мог бы такой великий разум оставаться черным и помогать тунам, если бы поступающие в него сведения не сортировались и не отбирались самым тщательным образом? Скорее всего, Хумба не может самостоятельно получать знания, она не видит и не слышит ничего, что происходит снаружи от этих крестов, и тем более не читает мыслей. Эти несчастные шпионы, — он кивнул на Мирегал и Бхарга, — ввели меня в заблуждение. Но теперь я не сомневаюсь, что это именно так…
— Ки, остановись! Ведь мы пришли сюда не затем, чтобы обсуждать возможности Хумбы… Что, по-твоему, сделают эти столбы, если мы перешагнем черту?
— Не знаю, — Ки-Энду посмотрел на столб, на Хумбу, на своих товарищей. — Надо попробовать, вот и все. Я сейчас ее перешагну, а вы… Словом, если со мной что-нибудь случится, обещайте не падать духом и попробовать все-таки подобраться к Хумбе, ладно? Есть же и другие пути, например…
— Не торопись, братик! — перебила его Мирегал. — Твоя жизнь нам еще пригодится. У нас есть кое-что менее ценное.
С этими словами она сняла со спины мешок и перебросила его через черту. Он вспыхнул пламенем и сгорел без следа, не долетев до земли.
Путники замерли, потрясенные и, не в силах вымолвить ни слова, посмотрели друг на друга. Мирегал чуть улыбнулась.
— Вот видите, как хорошо, — сказала она. — Больше не придется таскать этот гадкий мешок.
— Спасибо, сестра, — сказал Ки-Энду с чувством. — Ты дала мне пожить еще немного.
— Что же мы теперь будем делать? — спросил Гил.
Ки-Энду посмотрел ему в глаза, как делал каждый раз, собираясь сообщить неприятную новость.
— Я вижу только один путь — гулльское подземелье. Помните люк в конце дороги? Вон там, в двух шагах от Хумбы, точно такой же.
— Гулльское подземелье… — пробормотал Гил. — Но…
— Нидхаги! — воскликнул вдруг Бхарг, указывая рукой на запад, и Гилу показалось, что в этом возгласе было больше облегчения, чем страха. Он посмотрел туда, куда показывал Бхарг. Из длинного дома — одного из тех, что стояли у подножия магдела, — вышли нидхаги, два десятка или больше; построившись прямоугольником, они быстро шагали к Хумбе.
— Бежим! — сказал Бхарг.
— Нет. Бежать нельзя, — Ки-Энду говорил быстро, чтобы успеть сказать все это до того, как враг приблизится. — Бхарг, все зависит от тебя. Сообрази, что говорить. Нидхаги обслуживают Хумбу. У кого-нибудь из них должен быть пропуск. Этот кто-то мечтает о повышении в звании. Для этого нужно выслужиться перед Хумбой. Хумба любопытна. Мы — твои пленники, мы развязали войну, мы сбежали от Халгата, мы убили быка, мы знаем замыслы дэвов… Ты привел нас по приказу Ашт… Действуй!
Нидхаги подошли к ним и остановились в десяти шагах. Один из них — видимо, мелх — стоял отдельно от отряда. На лице его не было обычного для нидхагов зверского выражения, он был причесан, и его умные маленькие глазки внимательно разглядывали незнакомцев.
— Хро, бал! — поздоровался Бхарг. — Яхр…
— Воин, мне не нравится эта тарабарщина, — негромко произнес нидхагский мелх. — У нас принято говорить на йоммоле, и если тебе не известен этот язык, я предпочел бы общаться с твоими пленниками.
Нидхаг, несомненно, говорил на южном наречии, хотя и несколько необычно произнося слова. Бхарг улыбнулся и заговорил уверенно, спокойно и убедительно:
— Приветствую вас, господин…
— Тлуак, — подсказал нидхаг.
— Господин Тлуак, я прибыл сюда по приказу великой владычицы. Мое имя Ргабх, раньше я служил в Ио-Тун-Гирском магделе. Моя специальность — особо важные и секретные поручения. С начала войны я был переведен в Хумба-Гир и три дня назад, выполняя ответственное задание в Эллигате, захватил пленников, располагающих важнейшими сведениями. Владычица велела их доставить к великой Хумбе для допроса и изучения. И вот я привел их, но Хумба не пропускает нас, и я в замешательстве.
— Почему же владычица не дала тебе пропуск? — спросил
Тлуак. Он говорил очень тихо, лениво растягивая слова.
— Она собиралась сама присутствовать на допросе. Когда мы встретились с ней в условленном месте на гулльской дороге…
— Ты забыл, где находишься, Ргабх, — прервал его Тлуак.
При упоминании о гуллах лицо его скривилось от отвращения.
— Я понимаю, что тебе по долгу службы приходится участвовать в темных делах и бывать в запретных местах, но оскорблять слух служителей магдела и Хумбы непозволительно. Итак, ты полагал, что владычица будет здесь к моменту твоего прихода? Как видишь, ты ошибался. Любопытно, как ты это объяснишь.
— Видимо, она задержалась. Во время нашего свидания она сказала, что вернется к Хумбе, как только выведет гу… Как только закончит дело, которым она была в тот момент занята; это должно было произойти сегодня утром…
— Странно! Мы полагали, что владычица должна вернуться вечером. Но с этим мы еще успеем разобраться. Теперь ответь мне, что ты собираешься делать.
— По-видимому, единственное, что я могу предпринять — это дождаться возвращения владычицы.
При этих словах Гил и Мирегал испуганно переглянулись, а Ки-Энду лишь чуть улыбнулся.
— Так-так… — задумчиво произнес Тлуак. — Разумеется, это самое очевидное решение. Но самое очевидное — не всегда самое разумное. Пойдем с нами, Ргабх. Я вижу, что разговор с тобой обещает быть интересным. Твоих пленников мы пока спрячем в надежном месте. Возможно, я смогу предложить тебе что-то другое… На войне, Ргабх, всякое промедление чревато большими неприятностями. И низшим чинам иногда приходится брать на себя ответственность за решения, которые в мирное время могут принимать только верховные мелхи.
Тлуак жестом предложил Бхаргу и пленникам следовать за ними, а отряд нидхагов зашагал обратно, к низким серым домам. По дороге Тлуак несколько раз оглядывался на Мирегал.
— Ргабх, — сказал он наконец, — ты уверен, что Хумбе нужны все твои пленники? Например, эта девушка: неужели она представляет какую-то ценность для Хумбы и великих тунов? Не лучше ли нам использовать ее несколько иначе?
— Стоит ли торопиться, Тлуак? — спокойно возразил Бхарг. — Сейчас она, разумеется, нужна Хумбе, иначе я не привел бы ее сюда. Но после допроса — уж я позабочусь, чтобы прочие ее достоинства не пропали даром… Хумба, надеюсь, согласится на это, получив такое количество интереснейших сведений благодаря нам!
— Благодаря нам… — в раздумье произнес Тлуак. — Я-то здесь ни при чем. Хотя… Если служитель Хумбы проявит рвение и возьмет на себя какую-то ответственность — ей на благо, — возможно, он заслужит поощрение.
— Еще бы! — поддержал его Бхарг. — Конечно, заслужит!..
Достигнув поселка у подножия магдела, Бхарг и Тлуак направились в один из домов; пленников втолкнули в небольшое каменное здание без окон, с голыми стенами и полом. Когда тяжелая дверь захлопнулась, они оказались в полной темноте. В помещении было сыро и холодно, как в погребе.
Едва они остались одни, Мирегал бросилась к Ки-Энду и схватила его за плечи.
— Что все это значит, Ки? Бхарг предал нас? Что они замышляют? Что они хотят со мной сделать? Нас допросят, убьют, превратят в гуллов? Почему мы не бежим отсюда? Дай мне свой меч!
— Не торопись, сестренка! — спокойно сказал Ки-Энду. — Бхарг повел себя не просто правильно: он проявил необыкновенную мудрость.
— Но он сказал, что будет дожидаться возвращения Ашт!
— И тем самым навел Тлуака на мысль, что этого возвращения лучше не ждать. Тлуак сообразил, что если он проявит инициативу и проведет нас к Хумбе сразу же, не дожидаясь команды, то может рассчитывать на награду. Бхарг весьма искусно соблазнил его… и ты сыграла в этом не последнюю роль. Все пока идет хорошо. Я думаю, нам недолго придется ждать. Правда, этот Тлуак болтлив и считает себя культурным и образованным, а в Бхарге он нашел достойного собеседника… Как бы они не заговорились! Впрочем, нет, не зря же Бхарг выведал у него время возвращения Ашт. Он не даст себя заговорить.
— А если Тлуак уличит Бхарга во лжи? — засомневался Гил. — Или Ашт вернется раньше? Или нас обыщут перед тем, как вести к Хумбе, и найдут мечи?
— Разумеется, Гил, любая случайность может нас погубить. Но согласись, что наш шанс на успех — тот самый один из тысячи, с которым мы отправлялись в путь, — пока сохраняется. Давайте не будем больше об этом говорить. Сейчас все зависит от Бхарга, нам же остается только ждать…
Время тянулось медленно. Мирегал казалось, что прошла уже целая вечность. Наконец дверь отворилась, и пленники зажмурились от яркого света. На пороге стоял Бхарг.
— Встать! — рявкнул он. — За мной!
«Неужели он все-таки предал нас?» — с ужасом подумал Гил. Но его сомнения рассеялись, как только он вышел на улицу: у порога, рядом с Бхаргом, стоял Тлуак и еще трое нидхагов.
— Шагайте вперед. Сейчас вы предстанете перед Хумбой.
Они побрели к черному шару; руки у Гила и Ки-Энду по-прежнему были связаны, на шее висели скрытые под одеждой мечи. Вслед за пленниками шагал Бхарг, Тлуак и трое стражников. По пути Тлуак давал наставления:
— Если вы подробно и правдиво ответите на все вопросы, ваша смерть будет легкой и быстрой, а после вас воскресят, и вы будете… жить еще долго. Имейте в виду: обмануть Хумбу невозможно, она мгновенно распознает ложь. В этом случае ваша участь будет… весьма печальной… — Тлуак так добродушно улыбнулся, что Гил едва удержался, чтобы не броситься на него.
В десяти шагах от красной линии Тлуак приказал всем остановиться, сам же пошел дальше, спокойно переступил черту и направился к Хумбе. Подойдя почти вплотную к каменному возвышению, он что-то сказал. В ответ раздался сильный, грудной, но в то же время мягкий, женский голос Хумбы:
— Проходите, я усыпила стражей.
Бхарг, пленники и нидхагские воины перешагнули черту — железные кресты стояли неподвижно — и подошли к каменному постаменту. Слева от того места, где стоял Тлуак, на земле лежал металлический диск — дверь в подземелье. Пленники остановились возле него.
— Они уже здесь, госпожа, — сказал Тлуак.
Черный шар начал медленно поворачиваться в своей чаше; женский голос при этом произносил:
— Спасибо, Тлуак, ты заслужил награду… Пленники, назовите свои имена и звания… Отвечайте громко и четко и не смейте лгать…
Вот шар остановился; теперь на пленников был наведен одиноко блестевший на черной поверхности рубиновый глаз. В тот же миг, не дожидаясь ответа на первый вопрос, Хумба сказала:
— Тлуак, вы обыскали пленников?
— Нет, госпожа.
— Тлуак, твоя жизнь в опасности… Труби в рог… Воины, убейте этих пленников и предателя Бхарга.
Гил и Ки-Энду мгновенно выхватили мечи и бросились на стражников. Бхарг поспешил им на помощь. Поединок завершился в считанные секунды — кривые мечи нидхагов, скрестившись с асгардскими клинками, распались на части, а трое стражников остались лежать на каменных плитах.
Тлуак, стоявший в отдалении, затрубил в рог. Из домов у подножия магдела начали выбегать вооруженные нидхаги. Бхарг подбежал к Тлуаку; тот стал отступать, выставив меч; Бхарг изловчился и перерубил его лезвие, после чего Тлуак обратился в бегство.
Хумба вращалась в своей чаше, наблюдая за ходом схватки. Когда все было кончено, она сказала:
— У вас хорошие мечи… Бросьте их сюда, на железный круг, и я подарю вам легкую смерть…
— Сначала ты испытаешь их на себе. — Ки-Энду направился к шару.
— Ты пожалеешь об этом, когда я буду рвать твое тело на куски в своем подземелье, — с угрозой заговорила Хумба, наведя на Ки-Энду темно-красный глаз. Тот быстро приближался, а сзади его уже догоняли Гил и Бхарг. И тут голос Хумбы изменился: теперь с ними говорила плачущая юная девушка:
— Подарите мне жизнь, о герои… Я сделаю все, что вы пожелаете… Я дам вам великую силу, великую власть — над тунами, над дэвами и над людьми…
Ки-Энду остановился в трех шагах от шара и увидел множество приближающихся к красной черте вооруженных нидхагов.
— Разбуди стражей! — крикнул он Хумбе.
— Слушаюсь, господин.
Столбы повернулись, наклонив перекладины, и трое нидхагов, ослепительно вспыхнув, исчезли; остальные столпились у черты.
— Прикажи им уйти!
— Убирайтесь! — приказал голос.
Нидхаги бросились наутек.
— Я стану служить добру, я уничтожу тунов и гуллов… — снова заговорила Хумба.
— Ки, может, она не врет? — крикнул Гил.
Ки-Энду, не отвечая, бросился к черному шару.
— …а нидхагов сделаю людьми… — Она говорила так жалобно, что трудно было усомниться в ее искренности. — Никогда больше не будет на земле зла, настанет эпоха мира и благоде… — Ки-Энду занес меч, и Хумба мгновенно переключилась:
— Только я могу спасти мир, когда оружие дэвов попадет в руки тунов… Дослушайте же!.. — Меч опустился и глубоко рассек черный панцирь, во все стороны посыпались искры. — Только я смогу убедить тунов не применять оружия!.. Убивая меня, вы убиваете свою последнюю надеж… неисправность в блоке три-три три-ноль… конец программы…
Бхарг и Гил, подбежав, вонзили в Хумбу свои мечи, но это было уже лишним. Черный шар был мертв, глаз его потускнел, став из рубинового темно-бурым.
— Ки! Мы победили, да? Она умерла?
— Да, Гил… — Ки-Энду посмотрел на друга пустым взглядом. — Мы все-таки сделали это…
Глава 18 АШТ
1. На красоту Гильгамеша подняла очи государыня Иштар: «Давай, Гильгамеш, будь мне супругом!» 2. …стал недуг тяжелей к Энкиду. Одиннадцатый и двенадцатый дни миновались На ложе своем приподнялся Энкиду, Кликнул Гильгамеша, ему вещает: «Друг мой отныне меня возненавидел… Друг, что в бою спасал, — почему меня покинул? Я и ты — не равно ли мы смертны?» 3. Энкиду, младший брат мой, Гонитель онагров в степи, пантер на просторах! С кем мы, встретившись вместе, поднимались в горы, Вместе схвативши, Быка убили, — Что за сон теперь овладел тобою? Стал ты темен и меня не слышишь! А тот головы поднять не может. Тронул он сердце — оно не бьется. 4. Шесть дней миновало, семь ночей миновало, Пока в его нос не проникли черви. Как же смолчу я, как успокоюсь? Друг мой любимый стал землею! «О все видавшем», эпос о Гильгамеше, VI—IXКак зачарованная смотрела Мирегал на мертвую Хумбу, на круглую голову с помутневшим взглядом, которая только что так страстно боролась за свою жизнь.
— Вдруг это правда, — задумчиво произнесла Мирегал, — то, что она сказала в последний момент? Неужели мы опять совершили ошибку?
Гил не слышал ее. Беспокойно озираясь, он сказал:
— Надо быстрее уходить отсюда!
Мирегал с трудом оторвала взгляд от Хумбы.
— Неужели тебе совсем ее не жалко?
— Мне? Но это всего лишь машина. Она хотела нас обмануть… Конечно, жалко. Но все равно, Ми, надо бежать. Пока нидхаги не вернулись.
— Нам туда, — Ки-Энду показал на северо-восток. Он совсем сник, на лице его застыло тоскливо-безразличное выражение.
— Почему? Мы пришли с юга.
— Выйдем в долину Меллнира. Это гораздо ближе, чем Эллигат
— Что с тобой? Опять предчувствия?
Ки-Энду не ответил.
Они миновали круг деревьев-стражей и подошли к красной линии.
— Стойте, — Гил, оглянувшись, увидел, что столбы повернулись и навели на них смертоносные перекладины. — Они по-прежнему охраняют черту. Придется их срубить. Теперь это не трудно, раз мы внутри, а не снаружи.
Он подошел к ближайшему кресту и, примерившись, аккуратно перерезал его мечом у самого основания. Гил знал, как валить деревья, чтобы они падали в нужную сторону. Столб с грохотом обрушился на каменные плиты.
Ки-Энду и Бхарг направились к соседним столбам. Мирегал, постояв немного без дела, побрела назад к Хумбе и уселась на землю возле железного люка.
Но что это? Мирегал зажмурилась — не померещилось ли? Люк исчез. На его месте зияла дыра. Бездонный черный колодец уходил вертикально вниз. Из него поднимался трупный запах. Но теперь, глядя на вход в гулльское подземелье, Мирегал не чувствовала страха. Она посмотрела вниз, сморщила нос, фыркнула: «Ну и воняет там у них», отошла на несколько шагов и спряталась, присев за углом каменного ложа Хумбы. Отсюда она видела три поваленных креста. Мужчины находились по другую сторону шара.
Внезапно послышался странный звук — то ли свист, то ли шипение, переходящее в пощелкивание и птичий щебет. А потом женский голос красивый и спокойный:
— Зачем ты звала меня, Хумба?
Мирегал осторожно выглянула из-за угла.
Железный круг был снова на своем месте. Возле мертвого шара стояла Ашт, вся в черном, с распущенными волосами. Она подняла бледную руку и коснулась дыры, оставленной в Хумбе мечом Ки-Энду.
Мирегал, затаив дыхание, следила за хозяйкой леса. В этот миг из-за шара раздался голос Гила:
— Ми, где ты?
Ашт повернула голову и встретилась с Мирегал глазами. Владычица произнесла какую-то фразу, состоящую из свистящих и щелкающих звуков, потом недобро улыбнулась и сказала:
— Ты забыла наш язык, красавица? Хотела обезьян под себя подделать, да вот беда — сама стала обезьяной. Ну, выйди, что прячешься, или ты боишься меня?
Мирегал почувствовала, как непреодолимая сила тянет ее прямо к Ашт.
— А, девчонка, человечек!.. — разочарованно сказала та, когда Мирегал, спотыкаясь и нелепо размахивая руками, подбежала к ней. — А ты сильная, пригодишься нам. Стой здесь.
Ашт пошла прочь, а Мирегал осталась на месте — ее тело словно окаменело. Она хотела крикнуть, предупредить друзей, но не могла произнести ни звука.
Ашт отошла всего на несколько шагов и увидела мужчин — они только что свалили последнее дерево. Бхарг скорчился на земле. Ки-Энду и Гил стояли с обнаженными мечами, растерявшись от неожиданности при виде хозяйки леса.
— Бхарг, оставайся на месте, — сказала она. — А вы, люди, подойдите ко мне. — Голос ее был спокоен и как будто беззлобен, но в нем чувствовалась такая твердость и сила, что они подчинились.
Гил, не отрываясь, глядел на прекрасное лицо государыни, в ее огромные блестящие глаза — в бездонную тьму. Не глаза — двери в черноту вечной ночи. У Гила закружилась голова, он готов был, как Бхарг, упасть на колени и шептать рабские клятвы.
Ашт лишь мельком взглянула на него и обратила взор на Ки-Энду. Тот, стиснув зубы, шел к ней уверенным шагом и крепко сжимал в руке асгардский клинок.
— Стой, — резко сказала Ашт, и Ки-Энду остановился в двух шагах от нее, словно наткнувшись на стену. Из последних сил он начал поднимать меч, медленно, как будто огромную тяжесть. В ушах трещало, а перед глазами вспыхивали огненные искры.
Ашт простерла бледную руку.
— Брось меч.
— Нет.
Они смотрели друг другу в глаза — стройная смуглая женщина и высокий голубоглазый воин в сером плаще. Несколько мгновений продолжался безмолвный поединок. Потом Ки-Энду медленно опустил руки. Оружие его со звоном упало на камни.
— О ты, великий герой! — с ненавистью прошептала владычица. — Ты убил Хумбу! И Хасмод, верно, тоже пал от твоей руки! Это славные подвиги, они достойны дэвов… Ты могуч и бесстрашен, ты стал уже почти как один из нас. Как же ты мог поднять руку на слабую женщину? Разве ты никогда не знал любви? Разве у тебя нет сердца? — с улыбкой она прикоснулась ладонью у его груди.
Ки-Энду страшно закричал, взмахнул руками; Ашт оттолкнула его. Он упал на спину и, с трудом перевернувшись, попробовал встать. Ашт мгновение смотрела, как он корчится, и повернулась к Гилу.
Тот молча наблюдал за поединком. Сначала чудесное наваждение застилало ему глаза. Но когда Ки-Энду занес меч, в прекрасных очах государыни появился кровавый блеск: они зарделись пламенем бездны, горячим дыханием Гарма. Чудесное существо в один миг превратилось в злобное чудовище. Пелена упала с глаз Гила, и он поднял меч. Но Ашт посмотрела на него и сказала тихо:
— Безумец, что ты делаешь? Посмотри, какая я красивая! — Глаза ее снова были черны и глубоки, голос стал теплым и ласковым. — Я всего лишь слабая женщина, за что ты желаешь мне смерти?
— Я видел твое лицо, Ашт, — прохрипел Гил, чувствуя, что не в силах убить ее.
— Опусти меч, Шем-ха-Гил. Я люблю тебя… Тебе и не снилось, сколько счастья я могу тебе подарить. Ни одна женщина земли не любит так, как я. Подойди же и поцелуй меня. — Она протянула к нему руки.
Гил выронил меч и шагнул ей навстречу. Вдруг сзади раздался отчаянный крик Мирегал:
— Не смей!..
Руки Гила и Ашт уже почти встретились, когда Мирегал, подбежав, схватила Ашт за плечи и, с неожиданной силой повернув ее к себе лицом, влепила ей звонкую пощечину.
В глазах Ашт вспыхнуло пламя. Гилу показалось, что она начала расти. Пальцы ее скрючились, из них высунулись длинные корявые когти. Но Мирегал уже подняла меч, оброненный Гилом.
— Меня-то ты не удержишь! — сказала она, и клинок со свистом рассек воздух.
Словно черная тень пронеслась по земле — в последний миг Ашт выскользнула из-под удара. Очертания ее преобразились, теперь она была похожа на огромную кошку. Одним прыжком Ашт достигла железного люка и вместе с ним провалилась в бездну.
Меч Мирегал глубоко вошел в каменную плиту. Она перевела дыхание… Гил подошел к ней; на глазах у него блестели слезы, его трясло. Теперь, когда Ашт сбежала, наваждение исчезло, и он понял, что был на волосок от гибели.
— Мирегал… — прошептал он. — Ты спасла меня… Всех нас… Любимая моя… Я не могу теперь называть тебя девочкой, потому что ты стала совсем как…
— Теперь-то уж точно! — улыбнулась Мирегал. — Ты не поверишь, но эта ведьма сначала приняла меня за Фенлин.
Гил хотел было обнять ее, но она покачала головой:
— Сейчас не время. Надо бежать отсюда. Что с тобой, Ки? Ты сильно ударился? Гил, помоги ему встать.
Ки-Энду сидел на земле с закрытыми глазами и держался за сердце. Он был смертельно бледен, лицо его исказилось от боли.
— Бегите, — с трудом произнес он. — Бегите, оставьте меня…
Мирегал только фыркнула и принялась поднимать его; Гил поспешил ей на помощь. Ки-Энду почти не держался на ногах и все бормотал, чтобы его бросили.
— Не болтай глупостей! — сказал Гил.
Бхарг по-прежнему неподвижно лежал на земле.
— Бхарг! — окликнула его Мирегал. — Ну-ка, очнись! Когда ты наконец станешь человеком?
Нидхаг встрепенулся и поднял голову.
— А где государыня?
— Я съездила ей по физиономии, и она убежала. Помоги, видишь, Ки-Энду плохо.
— О, госпожа Мирегал, неужели вы одолели саму великую владычицу?
— И совсем это было несложно. Хватит болтать, надо уносить ноги. Бхарг, ты полежал, отдохнул, сажай теперь братца себе на спину.
Ки-Энду, по-прежнему не открывая глаз, обхватил шею Бхарга, и они побежали. До Леса оставалось не более полумили, когда они заметили погоню: из поселка у подножия магдела вышел большой отряд нидхагов — к счастью, нидхаги были пешие, а беглецы успели к тому времени сильно их опередить.
У края мощеного поля начиналась дорога, ведущая на северо-восток. Здесь путники перешли на шаг — погоня была еще далеко…
— Подождите! — сказала Мирегал. — Давайте отсидимся в Лесу, как мы делали раньше. Нидхаги поищут-поищут, и пойдут домой.
Так они и поступили. В сотне шагов от дороги Гил расчистил небольшую площадку, и путники расселись на земле, подстелив плащи. Ки-Энду впал в забытье.
— Что с ним случилось? Отчего это? Ведь его не ранило? — допытывался Гил.
— Государыня Ашт прикоснулась к нему, — сказал Бхарг мрачно. — Она велела ему умереть. Я не знаю, как он до сих пор держится за жизнь. Мне никогда не понять вас, людей. Телом как мы, а душой как дэвы. А ты, Мирегал… Я даже не знаю, как теперь называть тебя. Если ты оказалась сильнее самой Ашт — ты не человек больше. Мне хочется пасть перед тобой на колени, быть твоим рабом.
— Забудь, наконец, о рабстве, Бхарг! И не надо делать из меня дэва. Я человек, самая обычная девушка, даже не очень красивая, — краем глаза она посмотрела на Гила. — Просто я люблю Гила, вот и все.
Время шло; начинало темнеть. Ки-Энду все не просыпался.
— Сегодня мы не сможем идти дальше, — сказала Мирегал.
— Нидхаги, наверно, уже не ищут нас. Пойдем на дорогу и переночуем там.
Ночь прошла спокойно, но не принесла отдыха. Мирегал металась и кричала, Бхарг стонал, а Гил и вовсе и мог сомкнуть глаз. Его мучил голод, а на душе была такая смертная тоска, что хотелось плакать. Перед рассветом Мирегал стала звать его во сне. Он склонился над ней и тут же отшатнулся в ужасе, увидев ее правую ладонь, покрытую огромными кровавыми волдырями.
Гил разрыдался.
— Бедная моя, — бормотал он, целуя ей лоб и щеки и заливая ее слезами. — Вот как далась тебе твоя пощечина!
Только Ки-Энду лежал все так же неподвижно, положив руку на грудь, и сердце его билось все слабее, и все тише становилось его дыхание.
Утром они снова двинулись в путь. Теперь Гил нес Ки-Энду — тот все еще был без сознания. Идти было неимоверно тяжело — от голода и усталости путники валились с ног. Но дорога была пуста, и Бхарг не чувствовал никакой опасности.
За весь день никто не проронил ни слова.
Они двигались теперь очень медленно и к вечеру прошли меньше двадцати миль. На закате остановились, вконец обессиленные, и решили снова ночевать на дороге. Гил осторожно положил Ки-Энду на землю и сел рядом; и тут Ки-Энду открыл глаза.
— Гил, — произнес он чуть слышно, — я хочу пить…
— Продержись еще немного, Ки, завтра мы будем в Меллнире. Дэвы тебя сразу вылечат! А воды у нас нет, ты же знаешь. Мы сами не пили больше суток.
— Мне больно, Гил. Жжет… вот здесь, — Ки-Энду положил руку на грудь. — Посмотри, что там.
— Ничего… На одежде никаких следов, ни одной дырочки.
— Что одежда… Расстегни мне ворот. Это должно быть на теле.
Гил сделал так, как просил его друг.
— Дэвы! — Гил, потрясенный, не смог сдержать вопль. На левой стороне груди у Ки-Энду чернела глубокая, страшная, обугленная язва в форме пятипалой руки.
— Так и есть… — пробормотал Ки-Энду. — Что, ручка государыни Ашт?
Гил, с трудом одерживая слезы, начал говорить, что ничего страшного, что дэвы рядом, что они, конечно, вылечат его…
— Нет, Гил, меня уже ничто не спасет. Это печать смерти, мое сердце сожжено. Я не задержусь на этом свете.
— Не смей так говорить! Ты не умрешь!..
Ки-Энду долго молчал — видимо, снова впал в забытье; когда же наконец очнулся, взор его был устремлен мимо Гила, куда-то в небо — это был отрешенный взгляд человека, которому осталось жить не больше минуты.
— Ну, вот и все… — прошептал он. — Она уже здесь… Вот и сбылось то, что я предчувствовал. Что ты теперь скажешь? Мы всегда были вместе, и думали, что это навечно, но судьба решила иначе… Если увидишь Эалин, передай ей… — Ки-Энду замолчал и закрыл глаза.
Гил потряс его за плечо — сначала чуть-чуть, потом сильнее… Слезы слепили его, в горле застрял комок. Он не видел ничего вокруг — ни шуршащего гулльского леса, ни стоящих рядом Бхарга и Мирегал…
Ки-Энду очнулся в последний раз.
— Гил, — прошептал он. — Почему ты покидаешь меня? Разве ты не так же смертен, как я?
Взгляд Ки-Энду остановился, глаза помутнели. Гил, задыхаясь, припал к его груди, но не услышал биения сердца.
Горе, огромное, как мир, навалилось на него и прижало к земле. Он долго плакал — не было сил шевельнуться. «Ки, я не покину тебя», — беззвучно прошептал он.
Когда он пришел в себя, была уже глубокая ночь. Только звезды освещали призрачным светом заплаканное лицо Мирегал. Она трясла его за плечо.
— Гилли, Бхарг чует опасность, проснись. Опасность! Гилли, туны идут сюда. Очнись, надо бежать.
Гил с трудом встал и поднял с земли бездыханное тело.
— Он умер, Гил, — всхлипнула Мирегал, — оставь его здесь. Нам надо бежать!
— Они уже близко! — торопил Бхарг. — Господин Ки-Энду простил бы нас… Он сам велел бы нам так поступить.
— Я его не оставлю, — сказал Гил, и его спутники поняли, что спорить бесполезно. Бхарг направился к деревьям и, обнажив меч, стал расчищать путь; Мирегал и Гил с телом Ки-Энду двинулись за ним. Но не прошли они и десяти шагов, как Бхарг сел на землю, обхватил голову руками и сказал коротко:
— Все.
В это миг Гил и Мирегал услышали шаги на дороге — тяжелые, медленные шаги, от которых земля вздрагивала, а гулльские деревья ликующе взмахивали ветвями.
Все ближе раздавались шаги тунов. В затхлом воздухе стал отчетливо слышен запах падали.
Сквозь расчищенный Бхаргом проход Гил видел темную ленту дороги, стену деревьев на другой стороне и полосу звездного неба над ней. Вот черная тень заслонила звезды на несколько мгновений и проследовала дальше на северо-восток, тяжело ступая, заставляя притаившихся в лесу человечков вздрагивать при каждом шаге. Вот второй силуэт — чудовищная голова над деревьями — мелькнул и исчез, а за ним третий… четвертый… пятый… Наконец тяжелые шаги стихли в отдалении.
Странно, но Гил не чувствовал страха во время этой, уже третьей, встречи с тунами. Другое чувство переполняло его теперь, заставляя напрягать все силы, чтобы сдержаться, не выдать себя, не закричать, — ненависть. Как ему хотелось выскочить из укрытия, броситься на этих отвратительных чудовищ и порубить их на куски!
Еще с полчаса они стояли молча, прислушиваясь к шуршанию веток. Бхарг первый пришел в себя и встал, вытирая пот со лба. Гил по-прежнему держал на руках тело друга. Он не замечал, что его ноша становится все легче и легче.
— Что будем делать, госпожа Мирегал? — спросил Бхарг.
— Надо идти. Лес должен скоро кончиться. Нам нельзя терять ни минуты. Я чувствую, как надвигается что-то ужасное. Эти туны неспроста так поспешно идут на северо-восток.
Из всего этого Гил услышал только одно слово «туны», и его прорвало.
— Плевать я хотел на эту падаль!.. — закричал он не своим голосом. — Пусть только попробуют сунуться!
Мирегал испуганно отшатнулась, но отчаянный вопль Гила не мог быть услышан врагами — он увяз в сплетении веток, заглох в густом удушливом воздухе, едва успев сорваться с губ.
— Гил, пойдем, уже светает, — попросила Мирегал. — Оставь Ки-Энду, нам не добраться с ним до Меллнира!
— Идите без меня… Я как-нибудь сам выберусь.
Мирегал с минуту сдерживалась, потом громко расплакалась.
— Пожалей меня, Гил! — взмолилась она. — Я уже потеряла и отца и брата, неужели и ты меня бросишь? Зачем мне тогда жить?
— Ми, любимая, не разрывай мне сердце. Мы с Ки-Энду всегда были вместе, как же я теперь его оставлю? Разве я не так же смертен, как он? К тому же он такой легкий… О, что это?
Первые слабые лучи света пробились сквозь густые заросли, и Гил с ужасом увидел: то, что он держал на руках, уже не было телом Ки-Энду!
Хищные ветви протянулись к нему со всех сторон, оплели плотной массой, проникли под одежду. Прозрачные ростки копошились везде — во рту, в глазах, в ноздрях; кожа вспухла буграми и лопалась, и оттуда выползали скользкие черви-ростки.
Гил в ужасе отпрянул, выпустив из рук свою страшную ношу, — но она не упала, а повисла на гибких ветвях. В считанные минуты от Ки-Энду не осталось ничего, кроме нескольких клочков одежды, вплетенных в серый шевелящийся клубок.
Мирегал, не сдерживаясь больше, безудержно рыдала. Бхарг сидел на корточках и, обхватив голову руками, раскачиваясь из стороны в сторону, тоскливо выл, Гил не отрываясь смотрел на ужасное зрелище; лицо его окаменело. Наконец он положил руку Мирегал на плечо и тяжело произнес:
— Надо идти.
И они двинулись на северо-восток. Втроем.
Часа через два заросли начали редеть, воздух стал чище. В полдень гулльская поросль расступилась, и взорам путников открылась благоухающая зеленая равнина, переходящая в пологие предгорья Ио-Рагна. Там, вдалеке, белели снежные пики, а пониже, наполовину скрытый изломами скал, возвышался магдел — его черный ступенчатый силуэт отчетливо выделялся на фоне бесформенных серо-желтых глыб.
— Вот мы и дома, — вздохнул Бхарг. — Трудно в это поверить после всего, что мы пережили.
Гил и Мирегал промолчали.
Но все же свежий воздух опьянил их, а живая зеленая травка под ногами казалась прекраснейшим из даров судьбы.
Вскоре на востоке показался конный отряд; несколько десятков всадников мчались наперерез спутникам. Впереди отряда скакал дэв — его золотистые волосы сверкали на солнце. Но вот отряд круто повернул на север; теперь всадники удалялись.
— Они нас не заметили… — с сожалением сказала Мирегал. Гил достал рог, снятый им с погибшего Ки-Энду, и затрубил. Отряд тотчас же остановился; дэв и еще четверо всадников повернулись и поскакали им навстречу.
У дэвов острое зрение — Хейм-Риэл первым узнал своих старых знакомых.
— Так вот вы где! — воскликнул он. — Мы искали вас. Ха-мерк! Еще ни одному человеку не удавалось пересечь его. Поедем с нами в Меллнир!..
Глава 19 ИСКУШЕНИЕ
1. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьмы над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет.
Бытие, 1, 1—32. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю?»
Бытие, 3, 1Всадники подъехали ближе и спешились. Едва взглянув на путников, Хейм-Риэл понял, что стряслась беда.
— А где Ки-Энду? — тихо спросил он. — Впрочем, не отвечайте. Пусть сначала исчезнет боль, — он посмотрел на Гила своими грустными зеленоватыми глазами, и тот почувствовал, как стальные тиски, которыми горе сдавило его сердце, чуть разжались. Гил заплакал. Хейм-Риэл взглянул на Мирегал.
— Как ты терпишь такую боль, отважная девушка? Где твоя рана?
Мирегал протянула ему правую руку ладонью вверх. Хейм-Риэл прикоснулся к обожженной коже, и Мирегал улыбнулась:
— Ну вот, все уже прошло, — и тоже заплакала.
— Бхарг, — сказал Хейм-Риэл, — отныне ты человек. Запомни: твое сердце больше не знает страха. Ты свободен и ни перед кем не преклонишь колени.
— Благодарю вас, господин, — сказал Бхарг, чувствуя необыкновенный прилив сил и бодрости.
— Садитесь на коней!
Среди всадников, ехавших из Асор-Гира в Меллнир, находился и Халгат, бывший эллигатский мелх. Увидев Гила, он широко улыбнулся и помахал ему рукой, но Гил не ответил на приветствие.
Гил и Бхарг сидели за спинами высоких воинов в красно-синих одеждах — дружинников Бел-Шамаха, а Мирегал ехала с самим Хейм-Риэлом.
Вскоре дорога начала петлять, взбираясь на поросшие кипарисом склоны — сперва пологие, потом все более крутые, — пока не уперлась в высокую отвесную стену. Отряд проехал немного вдоль нее до того места, где она переходила в стену, сложенную из обтесанных плит. Теперь путники ехали по узкому козырьку, прилепленному к стене в двадцати локтях от земли. Это был единственный путь к воротам, расположенным точно посередине между двумя неприступными скалами, ограничивающими ранее широкий естественный проход в долину Меллнира. После того, как Шемай-Лох тайно проник в долину через этот проход и похитил меллнирский эликон, Меллнир-а-Ден превращен в неприступную крепость, и проход в него загорожен стеной.
Ворота открылись, и отряд, под приветственные крики стражи преодолев крутой спуск, въехал в долину. Это была каменная чаша с ровным дном, вытянутым с севера на юг, сверкающая многоцветьем июньских трав. Из ее дальнего конца текла быстрая извилистая речка; достигнув восточного края долины, она исчезала под высокой скалой. Посреди Меллнир-а-Дена высился магдел, окруженный десятком домов, похожих на шатры. Повсюду, насколько хватало глаз, стояли шатры — здесь был стан только что созданной армии.
— Давным-давно, — сказал Хейм-Риэл, — задолго до нашего прихода, здесь было горное озеро, а Эллил срывался вниз водопадом в том месте, где сейчас ворота. Но потом, во время одного из землетрясений, каменная чаша треснула, и вся вода ушла, а Эллил нашел себе новый путь… Когда мы пришли на землю, это место показалось нам таким красивым, что мы хотели даже построить здесь свой главный город.
— Почему же вы этого не сделали? — спросила Мирегал. Она была благодарна зеленоглазому дэву за то, что он своими разговорами отвлекает ее от горьких воспоминаний и боли, которая, если сказать правду, лишь немного притупилась от его прикосновения.
— Здесь слишком низко. Долина находится всего в тысяче локтей над морем; Асгард мы построили на высоте в восемь с половиной тысяч локтей.
— Вы так любите горы?
— Да. Внизу слишком много воздуха и слишком мало духа.
— Чего?..
— Ты не знаешь, что такое дух? Неудивительно, я никому из людей этого, кажется, не объяснял… Разве что Визгору? Нет, он был слишком увлечен технической стороной… Но тебе это следует знать, ведь ты и твой друг Шем-ха-Гил — наша надежда. Может быть, вам придется когда-нибудь сменить нас… Я постараюсь быть кратким, чтобы не утомлять тебя. Как устроена жизнь на земле? Растения ловят лучи солнца и преобразуют их в свои стебли, листья и корни, то есть создают новые формы. Животные достают этот свет, спрятанный в растениях, но не выпускают его, а используют для создания других форм. Так что все живое на земле — воплощенный свет. Ну это ты, конечно, знаешь.
— Еще бы! — сказала Мирегал. Она никак не могла взять в толк, с чего это Хейм-Риэл завел с ней этот разговор в такое неподходящее время — неужели только для того, чтобы отвлечь ее? Или он спешил сообщить ей что-то очень важное, зная, что потом времени на разговоры не будет?
— Но существует еще одна жизнь, не такая, как ваша, — продолжал дэв. — Это — мы. Свет нам не нужен, мы питаемся от другого источника, ведь дэвы это воплощенный дух. Дух, как и свет, способен создавать разнообразные формы. Но для света высшей формой, конечным результатом развития, является мыслящая материя — мозг. Дух же способен творить формы еще более сложные: добро, зло, любовь, ненависть, искусство… Создавая вас, мы развили в ваших предках — разумных животных — способность воспринимать дух. Потому-то вы, люди, единственные существа, питающиеся от двух источников: вам нужна пища для тела — преображенный свет, и пища для сердца — дух. Поистине, мы можем гордиться своим творением — ведь с вашей помощью мы связали воедино два мира. Жизнь света должна была завершить свое развитие, создав разум, и вы бы навсегда остались обезьянами, пусть очень умными, но все же обезьянами — вы никогда не узнали бы любви и не сочинили бы ни одной песни. Мы же помогли вам ступить в мир духа, где перед вами открылись новые бескрайние просторы. Вы сделали только первый шаг в своем развитии. Вас ждет великое будущее… Мирегал! Что с тобой?
Мирегал вздрогнула и растерянно посмотрела на дэва.
— Знаете, господин Хейм-Риэл, по-моему, я никогда не смогу все это понять.
— Тебе только так кажется. Главное — постарайся не забыть то, что услышала.
— Я хотела у вас что-то спросить… Ах, да. Этот самый… дух и свет — они как-нибудь связаны? То есть я поняла, что мы, люди, их как бы соединили, а раньше?
— Хороший вопрос. Жаль, что мы не знаем на него точного ответа. Догадок разных много, но я расскажу тебе всего одну, свою собственную. Возможно, сначала был только разумный дух. Он отделил от себя некую неоформленную материю, а потом, сливаясь с ней, начал воплощаться в формах. Так появились мы. Но духу захотелось создать нечто, что развивалось бы самостоятельно, без его участия, и он сотворил свет, который, в свою очередь, стал сливаться с бесформенной материей и воплощаться опять-таки в формах. Так возникла земная жизнь. Ну, теперь понятно?
Мирегал напряженно думала, потом наконец сказала:
— Нет, так сразу я не могу. Можно, я завтра подумаю?
— Конечно. Смотри, мы уже приехали.
Отряд остановился у высокого дома с многочисленными башенками. Навстречу им со стороны магдела на белом коне скакал рыжебородый Таргал.
— Приветствую вас! — воскликнул он, подъехав. — О, кого я вижу! Где же вы пропадали, господин Шем-ха-Гил?
— Они были в Ха-мерке, — сказал Хейм-Риэл.
— Вот как? — Таргал грозно нахмурился. — Ну-ка, отвечайте, что вы там натворили?
— Не шуми, — мягко сказал Хейм-Риэл. — Они очень измучены, им надо отдохнуть.
— Ах, они измучены! И тебя совсем не волнует, что мы можем потерять драгоценное время, находясь в неведении, пока враги готовят что-то против нас! В лесу произошли какие-то важные события — это видно по резкой перемене в поведении тунов, — а мы, вместо того чтобы немедленно расспросить очевидцев, будем дожидаться, пока они отдохнут!
— Не слушайте его, — сказал Хейм-Риэл. — Проходите в дом, там вас накормят и уложат спать.
— Ладно, — проворчал Таргал, насупившись. — Конечно, забота о людях прежде всего. Посмотрим, до чего доведет эта твоя забота…
Мирегал и Бхарг уже вошли в дом; Гил, стоя на пороге, перед тем, как закрыть дверь, обернулся и сказал:
— Не сердитесь, господин Таргал. Ничего страшного в лесу не произошло — просто мы убили Хумбу.
Рано утром Гил, Мирегал и Бхарг были приглашены на совет в магдел. В просторном зале на мягком ковре сидели Таргал, Хейм-Риэл и несколько военачальников — мелхов меллнирской армии. Южная стена зала была, как показалось Гилу в первый момент, прозрачной — через нее был виден Лес. Однако Гил, входя в магдел, не заметил никаких окон, к тому же до леса в действительности было миль пятнадцать, а изображение на стене казалось во много раз ближе. «Наверное, это что-то вроде гигантской подзорной трубы», — подумал Гил.
— Ну что ж, начнем. Шем-ха-Гил, будь добр, расскажи нам о вашем путешествии в Ха-мерк, — строго сказал Таргал. — Только старайся ничего не упустить, любая деталь может оказаться важной.
Почувствовав упрек в голосе Таргала, Гил гневно сверкнул глазами. «Вот как! — подумал он. — Ну попробуй только сказать, что мы опять сделали не то. Ки-Энду жизнь свою отдал, чтобы убить Хумбу!»
Но тут подал голос Хейм-Риэл:
— Может быть, ты, Мирегал, расскажешь? Бывают случаи, когда эмоциональный женский ум точнее оценивает происходящее, чем рациональный мужской, и мне кажется, что это как раз тот самый случай.
— У Гила — рациональный ум? О, вы ошибаетесь! — сказала Мирегал. — Но все-таки лучше расскажу я, мне это легче…
Первое время все слушали молча, но Мирегал рассказывала с таким артистизмом, что слушателям трудно было сохранить благопристойный вид, они поневоле вовлекались в действие, многие вскрикивали от ужаса или смеялись от радости, когда героям в очередной раз удавалось спастись от какой-нибудь опасности. А когда Мирегал стала шипеть и извиваться, изображая гулльские деревья, все так и покатились со смеху, К концу же рассказа мало кто из слушателей мог сдержать слезы. В зале воцарилась тишина.
Через некоторое время Мирегал сказала, обращаясь к дэвам:
— Теперь расскажите вы, что происходило здесь в эти дни. Как дела у наших друзей, оставшихся в Эллигате?
— О, у них все в порядке, — успокоил ее Хейм-Риэл. — Нидхаги больше не нападали. В Эллигате собралось большое войско, ворота и решетки приведены в порядок, стены укреплены новыми камнеметами. Гелас получил десять асгардских мечей. Так что о своих друзьях не беспокойтесь. Ио-Син-а-Хут и его новый мелх Ган-а-Ру пользуются всеобщим уважением. Балг обеспечивает войску бесперебойное трехразовое питание, Эалин заправляет всеми делами в госпитале…
— Эалин… Не говорите ей пока ничего, ладно? — попросил Гил.
— Хорошо… — сказал Хейм-Риэл после неловкой паузы. — Я еще должен рассказать вам о том, что произошло в Асор-Гире. Когда мы прибыли туда шесть дней назад, положение было очень тяжелым. Нидхаги ворвались в город и захватили почти все правобережье. Кроме того, им удалось переправиться через Энсингел к северу от Асор-Гира. Еще немного, и армия Бел-Хемаха была бы окружена. Мы, признаться, ожидали, что одного нашего появления будет достаточно, чтобы обратить нидхагов в бегство, но не тут-то было. Они стали отчаянно сопротивляться. Видно, туны пригрозили им чем-то пострашнее, чем смерть от наших мечей. Началась битва. Нас было чуть больше сотни, из них тридцать дэвов, остальные люди. В открытом поле мы довольно легко одержали победу, — кстати, Халгат сражался отважно и показал себя настоящим героем, но на улицах города дела пошли хуже. Нидхаги разбежались по закоулкам, к тому же из Леса подходили все новые вражеские полчища. Бой затянулся. За четыре дня мы так и не смогли очистить Асор-Гир от нидхагов. Отступая, они крушили все подряд. И вдруг на пятый день ушли обратно в Лес…
— Это показалось мне невероятным, — сказал Таргал. — Что могло заставить нидхагов прекратить сражение? Ведь у них была реальная возможность победить. Я еще тогда подумал: а не случилось ли что-нибудь во вражеском лагере — в Ио-Тун-Гире или в Ха-мерке?
— Откуда же вы знали, господин Таргал, о событиях в Асор-Гире, ведь вас там не было, а господин Хейм-Риэл приехал только вчера, вместе с нами? — поинтересовалась Мирегал.
— Скажи, Зеленоглазый, — обратился Таргал к Хейм-Риэлу, — объясни им, это по твоей части.
Хейм-Риэл протянул Мирегал небольшую черную коробочку с мелкими отверстиями в стенках. Мирегал повертела незнакомый предмет в руках, безуспешно попробовала его открыть и отдала обратно.
— Что это?
— Это называется эйтлан, «длинное ухо». У каждого из нас есть такая штучка. Я, находясь в Асор-Гире, могу взять эйтлан и сказать вот в эти дырочки: «Таргал! Как поживаешь?» Таргал услышит меня — мой голос будет раздаваться из его эйтлана — и ответит: «Спасибо, хорошо», и я его тоже услышу.
— Разве такое бывает?!
— Конечно, это очень просто. Есть такие лучи — тот же свет, только невидимый, — они-то и переносят слова по воздуху на большие расстояния.
— Ну, ладно, — сказал Таргал. — Давайте, наконец, поговорим о деле. Прежде всего я хочу воздать должное нашим бесстрашным героям — Ки-Энду, Шем-ха-Гилу, Мирегал и Бхаргу. Они проникли в самое сердце вражьего царства и убили великую Хумбу, нанеся тем самым врагу невосполнимый урон. Своим поступком вы прославили человеческий род и показали, что по силе своего духа приблизились к нам: я бы сказал, что вы уже на две трети дэвы.
Одного вам только не хватает: здравого смысла. Ведь гибель Хумбы может обернуться великим злом для нас всех. Если бы нам удалось сохранить мир, зло было бы побеждено. Починить Хумбу или построить новую тунам уже не удастся — они и так уже выкачали все силы из своего эликона, да и Хасмод, творец Мидмира и Хумбы, погиб. За несколько лет должен зачахнуть и сгинуть гулльский Ха-мерк, и на его месте снова зазеленеют живые деревья. Род нидхагов тоже придет в упадок, и в конце концов они выродятся в диких зверей — правда, это произойдет лишь через двести—триста лет. Мерзкие гуллы, ужаснейшее из творений Шемай-Лоха, к счастью, недолговечны, и от них скоро не останется и следа. Короче, если бы на земле был мир, могуществу тунов со временем пришел бы конец. Беда лишь в том, что туны понимают это не хуже нас, так что, пока они живы, мира нам не дождаться.
— Что же они теперь будут делать? — спросил один из мелхов.
— Если бы мы знали! Сразу после гибели Хумбы они вывели свое войско из Асор-Гира и прекратили войну. Я думаю, это было сделано лишь для того, чтобы приготовить новый, более мощный удар. Быть может, они попытаются захватить Мидмира и заставить его служить злу. Только у них ничего из этого не выйдет. Мидмир не пойдет у них на поводу и погубит их лживыми советами.
— Я все-таки надеюсь, что они еще могут переродиться, вернуть себе прежнее обличье и воссоединиться с нами, — сказал Хейм-Риэл.
— Нет, Зеленоглазый, не верю я в это. Ты о многих думаешь лучше, чем они того заслуживают. Это относится, кстати, и к Халгату, ведь это ты настоял на том, чтобы простить этого предателя и дать ему возможность исправиться. Боюсь, как бы твоя доброта не обошлась нам слишком дорого!
— Он уже исправился, Таргал, он храбро сражался с нидхагами в Асор-Гире. Халгат неплохой человек, просто ему власть вскружила голову.
— Ладно, посмотрим!.. Так вот… туны… Скорее всего, они обрушат сейчас всю свою мощь на Меллнир и попытаются захватить оружие. Если это случится, мы и оглянуться не успеем, как будем обращены в пыль. Правда, некоторые считают, что наши железные яблочки могут выпустить из-под земли Гарма. Тогда все провалится в бездну, и туны с нидхагами тоже. Но тунов это вряд ли остановит. Они подумают: все равно погибать, так уж лучше вместе с людьми и дэвами.
— Я не верю, что они настолько неразумны, — начал Хейм-Риэл. — Ведь у них есть способ выжить — для этого лишь надо вернуться на путь добра…
Хейм-Риэл замолчал, заметив, что никто его не слушает. Взгляды всех, кто был в зале, обратились на южную стену — ту самую, сквозь которую был виден Лес. Но теперь изображение изменилось. Из Леса в долину выходила армия нидхагов — не менее десяти тысяч воинов. За ними ползли механические тараны и странны блестящие боевые машины с башнями, колесами и рогами. Многие нидхаги несли длинные осадные лестницы. Из Леса выходили все новые полчища, а над деревьями вдалеке двигались пять громадных черных фигур.
— Вот так, — мрачно сказал Таргал, — не оправдали они твоих ожиданий? Теперь придется собрать все силы, чтобы наше оружие им не досталось.
— Воистину, Таргал, пришла, наконец, пора его уничтожить! Зачем нам лишний риск? Хумбы нет, враг обречен, время на нашей стороне. А сейчас они могут захватить Меллнир. Открой свои подземелья, давай поскорее покончим с этим ужасом, нависшим над миром!
Таргал ответил не сразу:
— Жалко мне его уничтожать. Я все-таки почти две тысячи лет хранил его. Мы много раз собирались с ним разделаться, и всегда в конце концов оставляли.
— Правильно. Мы хотели держать тунов в страхе, чтобы они не начали войну. Но они-то все равно уже воюют!
— Можно было уничтожить оружие тайно. Раз Элиар этого не сделал, значит, все же допускал возможность его применения. Давай попробуем, Хейм. Одно яблочко в середину их армии — ведь не развалится же мир от этого!
— В том-то и дело, что мы ничего не знаем. Риск слишком велик. Посоветуйся лучше с Элиаром.
— Хорошо, — отрывисто бросил Таргал, доставая эйтлан. Он приблизил коробочку к губам и быстро-быстро заговорил что-то на щелкающе-свистящем языке, похожем на пение птиц. Мирегал сразу узнала эти звуки — так пыталась говорить с ней Ашт, приняв ее за Фенлин. Видимо, язык дэвов позволял необычайно быстро выражать мысли — всего несколько мгновений ушло у Таргала на разговор с Элиаром.
— Старик отослал нас к Мидмиру.
— Он прав как всегда.
— Ну так поехали. Только сначала нужно предупредить воинов.
Таргал снова поднес к губам эйтлан, трижды повторил слово «Меллнир» и отдал приказ: готовиться к защите южной стены. Многократно усиленный голос Таргала раздавался с вершины магдела, и его было слышно по всей долине.
Спустя минуту оба дэва, Гил, Мирегал и мелхи, присутствовавшие на совете, скакали во весь опор к северной оконечности Меллнир-а-Дена. Там, на плоской скале, что возвышалась над чистым холодным ключом — истоком Эллила, — стоял черный куб высотой в тридцать локтей. На его передней грани блестело рельефное изображение гигантской головы с курчавой бородой и темно-синими глазами. Всадники остановились внизу о родника, а Мидмир смотрел на них сверху немигающим взглядом.
Таргал и Хейм-Риэл просвистели что-то на своем языке, и Мидмир ответил им голосом старого, умудренного опытом человека:
— Вы сообщили мне важные сведения. Я должен подумать.
Наступило молчание.
— Мидмир — очень полезная машина, но слишком умная, — сказал Хейм-Риэл. — Как-то его спросили, может ли быть одержана окончательная победа над злом. Так он думал целый день, прежде чем ответить «не знаю».
Но на этот раз Мидмир молчал не больше минуты.
— Оружие следует немедленно уничтожить, — сказал он.
— Почему? — спросил Таргал.
— Тектоническая обстановка крайне нестабильна. Движение Гарма усилилось. В ближайшие дни ожидаются сильные землетрясения. Возможна активизация вулканов, особенно Гефа и Таха. Победу над тунами можно одержать и обычными средствами.
Снова наступила тишина.
— Что ж, ваша взяла, — буркнул Таргал. — Едем в подземелье!
Они поскакали обратно к магделу. Долина напоминала растревоженный муравейник. Повсюду бегали вооруженные люди, слышалось ржание лошадей и призывные звуки труб. И все же в этой суматохе не было беспорядка. Каждый знал, куда ему идти. Часть воинов направлялась к южной стене, что преграждала вход в долину со стороны Леса. Другие поднимались на крутые склоны, ограничивающие Меллнир-а-Ден с востока и запада, — там вдоль гребней тоже тянулись ряды укреплений.
Военачальники, принимавшие участие в совете, просили у Таргала разрешения присоединиться к своим отрядам, но он сказал: «Вы должны помочь нам. Позовите еще человек пятьдесят из числа самых надежных, в ком вы уверены, как в себе, и мы пока приготовим все необходимое, чтобы вы могли пройти в подземелье».
Гил, Мирегал и Бхарг сильно отстали от остальных и последними подъехали к магделу. Теперь они стояли у пирамиды одни: мелхи отправились собирать людей, а дэвы скрылись за черной дверью.
— Жаль, что Таргал не смог настоять на своем, — сказал Гил. — Как бы я хотел своими руками превратить в пыль всех этих тунов и гуллов, весь этот вонючий Лес!
— Мне кажется, дэвы слишком добры, — заметил Бхарг. — Они, похоже, жалеют не только своих, но и врагов.
— Своих-то они как раз не жалеют! — взорвался Гил. — Вместо того чтобы применить оружие и победить без всяких потерь, они заставляют нас биться врукопашную с этой огромной армией!
— Но, Гил, Мидмир же сказал, что тектоническая обстановка… — начала Мирегал.
— Много ты понимаешь!
Мирегал уже собралась было обидеться, но тут сзади послышался знакомый дребезжащий голос:
— Что я вижу! Вы ссоритесь! В чем же причина, друзья мои?
— А, это ты, Халгат, — буркнул Гил. — Что ты тут делаешь?
— Как и все, спешу занять свое место на стене. Но вот увидел вас и решил спросить… Вы же были в Лесу. Может быть, вам известно что-нибудь о судьбе наших несчастных земляков? Я имею в виду жителей Эл-а-Дена и Эн-Гел-а-Сина.
— О чем ты?
— Как, вы не знаете? — Лицо Халгата помрачнело. — Ясно. Дэвы решили, что вы уже хлебнули достаточно горя, и ничего не сказали вам. Что ж, прошу прощения. Всего наилучшего.
Халгат пошел прочь, но Гил ухватил его за плащ:
— Ну-ка, рассказывай. Что такое случилось в Эн-Гел-а-Сине?
— Не могу, — развел руками Халгат. — Не имею права.
— Халгат, миленький, ну будь человеком, расскажи, — заискивающим голосом попросила Мирегал.
— Ну ладно, раз ты просишь. Только обещайте не выдавать меня. Три дня назад в Асор-Гир прибыл гонец из Элора с письмом от вашего короля. Там говорилось, что гуллы переплыли реку и вторглись в Эн-Гел-а-Син. Войско в ужасе разбежалось. Мертвецы подходят к столице. Повсюду опустошение и смерть. Вот и все, больше никаких вестей оттуда не было. Дэвы хотели броситься туда на помощь, но опоздали: армия нидхагов, которая перед этим захватила и разрушила Эллигат, вышла к морю и отрезала Асор-Гирское войско от южных стран.
Мирегал дико закричала. Бхарг со стоном закрыл лицо руками и прислонился к черной стене магдела. Гил невероятным усилием воли подавил подступающую тошноту и, вцепившись обеими руками в плащ Халгата, тихо спросил:
— Халгат, что ты знаешь об оружии дэвов?
— Самое главное их оружие — айрапин, железные яблоки, — сказал Халгат. — Один небольшой шарик уничтожает все живое на три мили вокруг.
— Как они приводятся в действие?
— Очень просто. Нужно поднести айрап к лицу и сказать трижды «оружие», а потом назвать номер — на каждом написано определенное число. Дэвы могут делать это на расстоянии, при помощи эйтланов. Отпусти меня, Шем-ха-Гил, мне нужно спешить, а то подумают, что я уклоняюсь от битвы…
Халгат направился к южной стене. Мирегал всхлипывала.
— Не плачь, Мирегал, — сказал Гил, — я отомщу им.
Халгат обернулся, услышав эти слова. Глаза его сверкнули.
— Да, отомсти им! — воскликнул он. — Я верю в тебя. Ты один на это способен!
Гил молча кивнул.
Глава 20 ОРУЖИЕ ДЭВОВ
1. Я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя… и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя.
Апокалипсис, 9, 1—2 2. …Сразить его можно оружьем великого Брахмы. О Рама, подобной стрелы не найдем в трех мирах мы!.. В ее острие было пламя и солнца горенье, И ветром наполнил создатель ее оперенье… Окутана дымом, как пламень конца мирозданья, Сверкала и трепет вселяла в живые созданья… И — смерти приспешница — ратников мертвых телами Кормила стервятников эта несущая пламя. Рамаяна, 108 3. Винт-Тор от сна разъяренный встал; увидел, что Мьелльнир молот пропал… Локи сказал, рожденный Лаувейей: — Тор, ты напрасно об этом толкуешь! Асгард захватят етуны тотчас, если свой молот не сможешь вернуть. Песнь о Трюме, 1—18Мирегал безутешно рыдала.
— Не плачь, пожалуйста, Ми, — уговаривал ее Гил. — Сейчас начнут собираться люди. Мы не должны показывать виду, что все знаем, нас тогда могут отправить спать, лечиться и еще не знаю куда, и не пустят в подземелье. Ми, успокойся. Смотри, люди уже идут. А ну, перестань реветь! — рявкнул он наконец, потеряв терпение. Мирегал обиженно всхлипнула, вытерла слезы и отвернулась.
Вскоре у входа в магдел собрался народ. Вот черная дверь скользнула в сторону, и на пороге показались Таргал и Хейм-Риэл.
— Все готово, — сказал Таргал. — Время у нас еще есть — нидхаги пока стоят у опушки, то ли чего-то ждут, то ли заканчивают приготовления. Гил, что с тобой? Ты весь светишься!
— Что вы, господин Таргал. И не думаю даже.
— Ты светишься лучами духа, невидимыми для вас. Ты стал вдвое сильнее, чем полчаса назад! Теперь я уже не сомневаюсь, кого назначить верховным мелхом на время моего отсутствия.
— Вашего отсутствия?
— Да. Сейчас тридцать человек спустятся в подземелье. Там вы увидите три двери. То, что за левой и средней дверьми, нужно поднять наверх — это мечи, огненные копья, метательные и самоходные машины и другие боевые устройства. Часть мы оставим здесь, остальное отвезем в Асгард. Для этого я попрошу тех, кто останется снаружи, подогнать сюда штук двадцать телег. Мы с Хейм-Риэлом поможем погрузить оружие, потом я спущусь вниз и уничтожу то, что лежит за правой дверью — там хранятся айрапин, те самые шарики, которые, якобы, могут уничтожить мир. После этого мы завалим шахту, и я поеду в Асгард сопровождать телеги с оружием. Мне не по душе бросать вас тут одних перед самым началом битвы, но у меня нет выхода.
— А вы, господин Хейм-Риэл, вы-то останетесь с нами? — спросил один из воинов.
— К несчастью, я тоже должен ехать в Асгард. Элиар призвал меня; потому-то я и покинул Асор-Гир раньше остальных. Надвигаются грозные события, и я обязан находиться в столице, чтобы наблюдать за всем, что происходит в мире, и вовремя давать нужные распоряжения. Я понимаю, все это выглядит так, словно мы испугались и бежим с поля боя, бросив вас на произвол судьбы. Прошу вас, верьте, что это не так. Мы вызвали Кулайна и остальных дэвов из Асор-Гира, они будут здесь сегодня ночью и помогут вам.
«Они оставляют Асор-Гир, — мелькнуло в голове у Гила. — Значит, весь Юг уже захвачен врагами. Правду сказал Халгат».
— Проходите, — Таргал указал на открытую нишу в стене магдела.
Тридцать воинов, и среди них Гил, Мирегал и Бхарг, вступили в проем. Последними вошли дэвы. Гил уже знал, что это помещение — передвижная комната, которая быстро доставит их в нужное место магдела. Дверь бесшумно закрылась, послышалось негромкое гудение, и через несколько мгновений воины оказались в небольшом зале с железным люком, занимавшим почти весь зал. Все, кроме дэвов, встали на крышку, и она тотчас начала быстро опускаться в шахту. Спуск длился долго. Вход в колодец становился все меньше, вот он уже превратился в едва различимую точку. Наконец железный круг остановился.
— Ну и глубина, — пробормотал Бхарг, вглядываясь ввысь, — добрых две мили.
Воины теперь находились в ярко освещенной комнате с тремя выходами. Сначала все подошли к правой двери — каждому было любопытно посмотреть на таинственное и грозное оружие, способное уничтожить мир. Однако то, что они увидели, не оправдало их ожиданий. В маленькой комнатке стояло два ящика с тускло поблескивающими округлыми предметами, формой и размером действительно напоминающими яблоки. Гил попытался представить себе дерево, на котором они могли бы расти — высокое, до самых облаков, совершенно прямое, черное и страшное. Дерево Смерти.
Поглядев на невзрачные айрапин, воины принялись за работу. В левой и средней комнатах лежали мечи — такие же, как у Гила, Мирегал и Бхарга, длинные тонкие трубы — огненные копья Ха-Бул, и множество непонятных механизмов. Все это предстояло погрузить на железный круг. Гил начал работать вместе со всеми, шепнув Мирегал, чтобы та не отходила от него ни на шаг. Спустя несколько минут Гил, улучив момент, проскользнул в правую комнату. Мирегал юркнула за ним. Гил взял из ящика два железных шара, один передал своей спутнице, другой сунул в карман. После этого они поспешно выскочили из запретной комнаты и присоединились к работающим. Все прошло хорошо: никто не заметил их краткого отсутствия.
Вскоре железная платформа была полностью загружена и отправилась наверх. Через четверть часа она вернулась уже пустая, и воины продолжили работу. Вместе с третьей, последней партией оружия наверх поехали и люди. Они помогли дэвам перетащить все в передвижную комнату, а потом погрузить на телеги.
Теперь можно было немного передохнуть, пока Таргал внизу в подземелье уничтожал смертоносные яблоки.
Гил тщательно прикрыл складками плаща оттопыренный карман и переглянулся с Мирегал. Та подмигнула ему.
Хейм-Риэл смотрел в небо, лицо его выражало покой и умиротворение: наконец-то пришел конец грозному оружию, извечному страху мира!
Через некоторое время вернулся Таргал. Хмуро взглянув на Хейм-Риэла и стоящих вокруг людей, он достал эйтлан и трижды произнес слово «Меллнир», после чего его голос мощно зазвучал с вершины магдела.
— Слушайте меня, о воины, защитники долины Меллнира! К вам обращается верховный мелх Таргал. Только что я уничтожил страшное оружие, две тысячи лет хранившееся здесь в подземелье. Теперь мы можем вздохнуть свободно: в мире нет больше силы, способной выпустить из-под земли кровожадного Гарма. Но уничтожено только самое мощное оружие. Все остальное необходимо отвезти в Асгард, чтобы враг не захватил его, если наша крепость падет. Сорок мечей я оставляю здесь, они помогут вам в битве. Самому мне придется сопровождать оружие. Как ни тяжело мне покидать вас в такой момент, я не могу нарушить свой долг. Сегодня ночью к вам на помощь прибудет Кулайн и тридцать дэвов из Асор-Гира. До его прихода верховным мелхом я назначаю Шем-ха-Гила. Этот человек вместе со своим другом, отважным Ки-Энду, совершил множество славных подвигов. Это они изгнали нидхагов из Эн-Гел-а-Сина, сразили туна Хасмода и его страшную боевую машину, проникли в гулльский Ха-мерк и уничтожили великую Хумбу. Поистине, Шем-ха-Гил достоин занять мое место. Слушайтесь его и будьте мужественны.
— Я не заслужил такой чести, господин Таргал, — сказал Гил. — Прошу вас назначить кого-нибудь другого.
— Какая же это честь? Это тяжкий труд и великая ответственность. Мне больше некого назначить. Возьми мой эйтлан, — Таргал протянул Гилу черную коробочку. — Чтобы обратиться к войску, нужно трижды сказать «Меллнир». Чтобы обратиться к кому-то из дэвов, трижды назвать его имя. Ну, поехали!
Таргал и Хейм-Риэл вскочили в седла. Телеги с оружием тронулись и, растянувшись вереницей, покатились на север; по обе стороны от них ехали вооруженные всадники.
— Некстати меня назначили мелхом, — пробормотал Гил.
— Какой у тебя план? — спросила Мирегал.
— Да никакого плана! Послушай, шла бы ты лучше в дом. Отдай мне свой плащ, айрап и иди. Все равно ты не будешь участвовать в битве.
— Ах, Гилли, разве ты еще не понял, что от меня нельзя так просто отделаться? Хочешь, чтобы я опять ходила за тобой тайком?
— Кстати, обо мне тоже не надо забывать, — сказал Бхарг, незаметно подошедший к ним. — Я с вами в доле, что бы вы ни задумали.
— Это правда, — сказала Мирегал и быстро, так что Гил не успел помешать ей, посвятила Бхарга в их тайну.
Наспех перекусив в одном из передвижных трактиров, верховный мелх Меллнирской армии Шем-ха-Гил направился к Южной стене. Вместе с ним ехали Мирегал и Бхарг. Внешне Гил был совершенно спокоен, лишь необычный для него мрачный, решительный взгляд выдавал внутреннее напряжение.
Поднявшись на стену, Гил осмотрел укрепления. На первый взгляд Меллнир-а-Ден казался совершенно неприступным, но Гил знал, что это впечатление может быть обманчивым. Южная стена, закрывавшая единственный вход в долину, имела двадцать локтей в толщину и около мили в длину; слева и справа она упиралась в отвесные скалы. Как и в Эллигате, воины, находившиеся на стене, были защищены высокими прямоугольными зубцами, между которыми имелись узкие щели для стрельбы. Напротив каждого третьего проема стояла метательная машина; грудами лежали чугунные ядра. Над стеной возвышались двенадцать башен, на двух из них были установлены огненные копья Ха-бул, но с ними могли управляться только дэвы.
К единственным воротам по искусственному козырьку вдоль стены вела узкая дорога; козырек держался на железных балках, и при помощи специальных механизмов его можно было обрушить в пропасть.
На стене находилось не менее тысячи воинов; одни стояли у катапульт, другие — с луками — у бойниц. Видно было, что каждый здесь хорошо знает свои обязанности. Гил подумал, что такая армия вполне может обойтись без мелха.
Гил и его спутники поднялись на башню, чтобы посмотреть в подзорную трубу. Нидхаги медленно двигались по долине. Пока они отошли всего на милю от опушки; еще три им оставалось пройти до начала предгорий и пять — по холмам. Впереди шли пешие воины, за ними — конница. Гил насчитал пятнадцать механических таранов — каждый тащила на канатах целая толпа нидхагов, и шесть самоходных машин, похожих на эллигатского быка. Шествие замыкали девять черных великанов. Даже с такого расстояния и при ярком солнечном свете были видны их жуткие глаза, пылающие красным огнем.
— Девять тунов, — сказал Гил, оторвавшись от подзорной трубы. — И еще шестеро, вероятно, управляют быками. Что скажешь, Бхарг? Не поехать ли тебе в Асгард, пока не поздно? Все равно от тебя здесь тачку не будет.
Бхарг нахмурился и произнес глухим голосом:
— Хейм-Риэл сказал, что я человек. А раз так, я не буду бояться. И не оставлю вас, пока жив.
Мирегал огляделась и, убедившись, что поблизости никого нет — все воины находились в другой части башни, у катапульты — спросила дрожащим от волнения голосом:
— Гил, ты хочешь использовать эти яблочки прямо сейчас?
— Да. Пятнадцать тунов и сорок тысяч нидхагов — не такая уж плохая месть за Ки-Энду и… всех остальных.
— Я придумала: давай забросим яблоки катапультой прямо в середину их армии, а потом отдадим им приказ этой коробочкой, ну, которую дал тебе Таргал. — Мирегал выпалила это единым духом и от нетерпения стала дергать Гила за рукав, чтобы он поскорее ответил.
Гил внимательно посмотрел на нее и ничего не сказал. Они покинули башню и прошли еще немного по стене. Около одной из метательных машин они встретили Халгата. Он отошел от остальных воинов и обратился к Гилу:
— Поздравляю с назначением, господин мелх! Позвольте поинтересоваться: успешно ли прошло уничтожение оружия?
— Вполне, — сухо ответил Гил.
— И ни одного железного яблока не оставили, ну, скажем, на всякий случай?
— Должно быть, так.
— Ну и правильно, — Халгат хитро прищурился. — Значит, вы рассчитываете на победу в этой битве?
— Безусловно.
— Я верю вам, господин мелх. Я очень вам верю, — и он вернулся к своему отряду.
Пройдя еще немного, Гил спросил у одного из воинов, на какое расстояние можно бросить небольшой камень при помощи катапульты.
— На полторы мили, — был ответ.
— Видишь, не получается, как ты хотела, — обратился Гил к Мирегал, когда они отошли на достаточное расстояние. — В мои планы вовсе не входит погубить вместе с врагами и своих. К тому же, я не очень-то доверяю Халгату. Вдруг он обманул нас, и эти айрапин приводятся в движение как-то по-другому. Тогда они попадут в руки тунов, а страшнее этого и придумать ничего нельзя.
— Что же делать?
— У нас, по-моему, нет выбора. Сейчас я сяду на коня и поеду навстречу вражеской армии. Когда удалюсь от стены на три мили, подпущу нидхагов поближе и приведу айрап в действие. Если ничего не получится, я успею вернуться в крепость. Наконец, если станет ясно, что Меллнир будет захвачен, я уничтожу айрапин — просто разрежу их мечом.
Мирегал вздохнула.
— Гил, ты говоришь так, как будто собираешься делать все в одиночку! Ведь мы же договорились!..
— Да, но зачем нужны бессмысленные жертвы? Зачем вам с Бхаргом умирать, если от этого никакого не будет проку? Нет, Мирегал, я не возьму вас. Я приказываю вам оставаться здесь.
— Какой же ты стал сухой и бесчувственный, Гил! Ладно. Я вижу, ты не станешь меня слушать, если я скажу, что мне незачем жить без тебя. Но я могу привести и другие доводы, почему тебе нельзя идти одному. Дело это слишком важное, чтобы допустить хоть малейший риск. Что будет, если твой конь, например, упадет и сломает ногу?
— Ми, я не желаю ничего слушать. Мой приказ остается в силе.
— Ах, так! Ну, тогда вот тебе мой последний довод: плевать я хотела на твои приказы! Мы с Бхаргом все равно поедем с тобой. А если ты попытаешься задержать нас силой, я расскажу всем, что ты украл из подземелья оружие, и в доказательство покажу вот это! — Мирегал достала айрап и высоко подняла его над головой, глаза ее бешено сверкали.
— Убери! Убери! Что ты делаешь? — в ужасе вскричал Гил.
Воины, встревоженные шумом, уже начали поворачивать головы в их сторону. Мирегал спрятала железный шарик, и Гил сказал хмуро:
— Поступайте как хотите. Я хотел спасти вам жизнь, но если вам это не нужно — пожалуйста. Можете хоть сейчас прыгнуть со стены головой вниз.
— Гилли, давай не будем ссориться. Может быть, завтра нас уже не будет, а мне… не хочется умирать в ссоре с тобой. Лучше поцелуй меня.
Гил повиновался, но Мирегал не почувствовала в его поцелуе ни капли любви. Ее сердце больно сжалось, однако она ничего не сказала.
Они спустились со стены, сели на коней и подъехали к воротам.
— Куда вы собрались, господин мелх? — удивленно спросил один из стражников.
— Я должен выполнить секретное поручение Таргала, — сказал Гил. — Не беспокойтесь, я вернусь задолго до начала битвы.
— Не лучше ли послать кого-нибудь другого? Дело-то, наверно, рискованное.
— Видишь ли, никто, кроме нас троих, с ним не справится. К тому же это совершенно безопасно. Открывайте ворота!
Гил, Мирегал и Бхарг проехали по узкому козырьку вдоль стены, повернули на юг и поскакали по дороге навстречу врагу.
— Гил, со мной происходит какая-то чепуха, — сказала вдруг Мирегал. — Я понимаю, что это смешно и ни к месту, но мне безумно хочется спать.
Гил удивленно взглянул на нее.
— Надо же. И у меня тоже слипаются глаза. А ведь мы не так давно встали.
— Господа, — сказал Бхарг. — Мне кажется, я все понял. Дело в том, что я тоже прямо-таки засыпаю на ходу. Нам, должно быть, подмешали что-то в пищу.
— Зачем? Кто это мог сделать?
— Помните, выходя из трактира, мы натолкнулись на Халгата? Не слишком ли часто он в последнее время нам попадается?
— Но, Бхарг, это не доказательство. Скорее всего, мы просто слишком сильно перенервничали и устали.
Они скакали вперед, удаляясь от стены. Им оставалось преодолеть не больше мили, когда Гил вдруг услышал женский голос, показавшийся ему знакомым. С большим трудом он отогнал сон и заставил себя прислушаться. Голос шел из эйтлана, висящего на цепочке у него на шее.
— Таргал, — шептал голос. — Таргал, ты слышишь меня? Еще не поздно одуматься. Вам не одолеть нас, Таргал, зачем бессмысленные жертвы? Открой ворота, отдай нам оружие, отдай нам Мидмира… Что же ты молчишь? Ты можешь не делать этого, если не хочешь; все, что хотим, заберем силой…
Голос замолчал, а потом, неуловимо изменившийся, продолжал:
— Таргал, хотя бы сам приходи. Я так давно тебя не видела! Я жду тебя! Вспомни, как мы любили друг друга. Моя любовь к тебе и сейчас жива. Я люблю тебя, Таргал! Шемай-Лох стар… С тобой вдвоем мы легко одолеем его. Мир будет принадлежать нам, только нам одним…
— Можешь не стараться, Ашт, — сказал Гил, поднеся к губам эйтлан, — Таргал тебя не слышит. Ты говоришь с Шем-ха-Гилом, верховным мелхом.
— Ах вот как! Ты все-таки дополз до своих, мой маленький? Как жаль, что ты далеко. Я бы заставила тебя оплакивать Хумбу кровавыми слезами.
— Мне тоже жаль, грязная ведьма, что ты далеко. На этот раз ты бы не удержала меня, и я увидел бы, какого цвета у тебя кровь!..
— Ах, мой дорогой, я забыла спросить, как себя чувствует твой дружок Ки-Энду? А твоя милая подруга — у нее уже выросла новая ручка?
— Очень скоро ты подавишься своими словами, Ашт! — Гил решительно спрятал эйтлан.
Мирегал и Бхарг ничего не слышали — они давно уже ехали с закрытыми глазами; голова Бхарга моталась из стороны в сторону; Мирегал клевала носом. Гил почувствовал, что еще минута — и он тоже заснет. Он оглянулся.
— Ладно, — пробормотал он, — будем считать, что на три с половиной мили мы отъехали. Мирегал, Бхарг! Проснитесь хоть на секунду! Мы уже на месте!
Бхарг, не открывая глаз, проворчал что-то, остановив коня, сполз с него и улегся в высокой траве. Мирегал с великим трудом приподняла отяжелевшие веки, тупо посмотрела на Гила и зевнула.
— Мы приехали, Ми, — сказал Гил. — Видишь нидхагов? Сколько до них, по-твоему?
— М-м-миля.
— Может быть, попрощаемся?
Мирегал встрепенулась, взгляд ее немного прояснился.
— Гилли… Мы так и не успели сыграть свадьбу… Прощай, мой дорогой. Спокойной ночи…
Она затихла, обняв лошадиную шею.
«Нам действительно что-то подмешали, — подумал Гил. — Успеть бы».
Он слез с коня и достал айрап. Глаза слипались, ноги отказывались стоять. Гил лег на землю, прочитал номер на железном яблоке и тут же выронил его.
— Вот видишь, Ки-Энду, — пробормотал он. — Я одержал свое слово. Я сказал тогда, помнишь, что не покину тебя?
В последний миг перед тем, как заснуть, Гил тихо и отчетливо произнес:
— Оружие, оружие, оружие. Шестьсот шестьдесят шесть.
И настала тьма.
…Он плыл на большом корабле. Черные тучи застилали небо; молнии с шипением разрывали мрак. Море бурлило. Он чувствовал, как качается палуба. Внезапно над самым ухом он услышал дребезжащий голос:
— Проклятое землетрясение! Как некстати! Ну, спите, спите, голубчики.
Это толстый старый попугай сидел на мачте и, щелкая клювом, ковырялся в перьях.
— Оружие, оружие! — проскрипел попугай. — Хе-хе!
Он почувствовал, как кто-то роется у него в карманах. Какой-то пьяный матрос. Гил хотел его прогнать, но почему-то не смог пошевельнуться; попытался сказать что-то, но издал лишь слабый сгон.
— Один есть, — крикнул попугай. — А девка-то, девка! Как не свалится! Прямо на лошади спит. Еще один. Все. Приятного сна, мои драгоценные.
Попугай взмахнул крыльями и полетел прочь. Ветер подул с новой силой, мачта накренилась и вдруг — трах! — обрушилась на палубу.
— Гил! Проснись! Нас предали!
Гил открыл глаза. Мирегал лежала на земле — от очередного толчка она упала с лошади — и кричала ему, чтобы он проснулся.
Навстречу надвигающимся нидхагам быстро скакал Халгат. Он был уже довольно далеко.
Гил прикусил язык, чтобы отогнать сон. Пожалуй, слишком сильно. Во рту появился вкус крови.
— Стой! — закричал он, вскакивая. — Халгат, я убью тебя! Бросай оружие!
Гил бросился к коню; на седле должен был висеть лук, но его не было. Халгат остановился и крикнул, злобно ухмыляясь:
— Не сердись, Гилли. Видишь, я даже не убил тебя. Я хочу, чтобы ты увидел своими глазами, как ваше царство превратится в пепел! Эх вы, дурачки-простачки! Таким, как вы и ваши дэвы, не место в мире! Только те, кто хитер и силен, достойны жить здесь!
Халгат поскакал прочь, а Гил бессильно опустился на землю. Сон снова овладел им.
— Будь ты проклят! — шептал он. — Чтобы тебе провалиться в бездну, чтоб тебя сожрал Гарм! Чтоб тебе стать змеей, без рук, без ног, ползать на брюхе в грязи до скончания века и шипеть!
Глаза слипались. Теперь уже все кончено… Теперь можно спать. Хоть до самой смерти. Пускай приходят нидхаги и туны. Пусть гуллы сожрут нас всех. Теперь все равно…
Через час после отъезда верховного мелха, когда только что прекратились подземные толчки, а передовые отряды нидхагов уже поднимались по пологим склонам и были всего в четырех милях от стены, защитники Меллнира услышали великий рев, поднявшийся над вражеской армией. Нидхаги, задрав головы, орали; рога железных быков полыхнули огнем и грянули громом; туны торжествующе воздели к небу белые костяные руки, издав нестерпимо тонкий, пронзительный вой, от которого у воинов волосы встали дыбом, а сердце сковало холодом.
Как только стих этот чудовищный шум, вражеское войско повернулось и пошло прочь, оставив потрясенных защитников Меллнира недоумевать и теряться в догадках. Туны вели свою армию на запад, в страну гейзеров и дымящихся рек в долину Гарм-а-Ден.
Глава 21 ПОЕДИНОК У БРОДА
1. Боги потопа устрашились, Поднялись, удалились на небо Ану, Прижались, как псы, растянулись снаружи. Иштар кричит, как в муках родов, Госпожа богов, чей прекрасен голос… Ануннакийские боги с нею плачут, Боги смирились, пребывают в плаче, Теснятся друг к другу, пересохли их губы. «О все видавшем», эпос о Гильгамеше, II2. И встал в ту ночь, и… перешел чрез Иавок вброд. И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари.
Бытие, 32, 22—24Комната была незнакомая. Тут стояло еще две кровати, кроме той, на которой лежал Гил, и в них мирно спали Мирегал и Бхарг. «Уж не приснилось ли мне все это?» — подумал Гил. Но эйтлан, по-прежнему висящий у него на шее, доказывал обратное. Гил горько усмехнулся. «Значит, айрапин действительно в руках тунов. Дэвы, какой же я безмозглый болван! Как уверенно, шаг за шагом, мы с Ки-Энду толкали мир к гибели! И вот теперь я довел дело до конца! Почему, почему Халгат не убил меня? Как это жестоко! Что мне делать теперь со своей проклятой жизнью?»
Сейчас жизнь казалась Гилу ненужной, бессмысленной ношей, от которой лучше всего поскорее избавиться. Если бы он мог сейчас оказаться в бою и погибнуть, сражаясь! Но он лежал на кровати и смотрел в потолок, и солнце, проникнув через высокое окно, било в глаза, и где-то жужжала муха. И Гил понял, что до поры до времени придется ему все-таки тащить свою никчемную ношу, а раз так, надо что-то делать. Например, попытаться понять, где он находится. Может, в плену? Нет, вряд ли. Большие окна, высокий потолок, мягкие кровати — этого не встретишь у нидхагов. Значит, у своих. Но каким образом… И тут страшная мысль пронзила его мозг: дэвы ничего не знают! Они и представить не могут, что айрапин попал к тунам! Может быть, что-то еще можно сделать, как-то спасти положение… Может быть, еще не поздно…
Гил взялся за айрапин. Сначала он хотел вызвать Таргала, но вспомнил его суровый взгляд и не осмелился. Да и как его можно было вызвать, если на его имя откликается вот этот самый эйтлан… Наконец, обливаясь потом и мысленно проклиная Халгата за то, что тот оставил его в живых, Гил трижды назвал имя Хейм-Риэла.
— Я слушаю тебя, Гил, — отозвался из эйтлана мягкий голос. — Ты давно проснулся?
— Отдайте меня гуллам, господин Хейм-Риэл! Я погубил все, все! Я украл два железных яблока… А Халгат подмешал мне в еду сонного зелья и отнял их! Теперь они у тунов!
— Гил, я понял так, что два айрапин попали к тунам. Это верно? — очень спокойно переспросил Хейм-Риэл.
— Да, — всхлипнул Гил. Ему хотелось одного: провалиться под землю Гарму в пасть.
— Гил, не вини себя ни в чем, — сказал Хейм-Риэл, — в том, что произошло, повинно не столько твое безрассудство, сколько наши роковые ошибки. Это мы, дэвы, обрекли мир на гибель, ибо над нами тяготеет проклятие и черный дух вечно преследует нас, губя все светлое, что мы пытаемся сделать. Наш путь в этом мире завершен, но для людей еще осталась надежда. Слушай теперь мою трубу — Ха-ила-Хорн.
Эйтлан смолк. Гил встал, выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что он в Меллнире. Здесь ничего не изменилось: землетрясение не повредило ни одного здания, а битва, по-видимому, так и не началась. Было раннее утро, значит, он проспал полдня и ночь. Как же он оказался в Меллнире?
Дверь отворилась, и в комнату вошел Кулайн.
— Проснулся, наконец, горе-воевода, — сказал он с улыбкой. — Ну, выкладывай, что вы делали в поле и кто вас так здорово опоил.
Но Гил не в силах был второй раз подряд рассказывать о своей безумной и роковой выходке; да еще с глазу на глаз, да еще самому могучему из дэвов, порывистому и грозному, чуть насмешливому Кулайну. Поэтому Гил сделал вид, что не расслышал слов дэва, и поинтересовался, каким образом он сам, а также Мирегал и Бхарг, очутились здесь, в Меллнире. Кулайн ответил с легкой усмешкой:
— Нас призвали сюда, как ты, должно быть, знаешь, из Асор-Гира, и мы отчаянно спешили, ожидая увидеть полчища тунов, идущих на приступ, бурлящие потоки крови… Однако, подъехав, мы увидели картину несколько иного плана, а именно, верховного мелха, мирно почивающего в поле среди цветов и кузнечиков. И, заметь, никаких признаков вражеского нашествия. Я никогда не слышал раньше, чтобы ты напивался до бесчувствия, и все это показалось мне весьма странным. Признаться, увидев эйтлан у тебя на шее, я даже подумал, что полученное нами известие о нападении тунов было лишь очаровательной шуткой. Но когда мы, подхватив вас, беспробудных, как мешки с песком, приехали в крепость, нам сказали, что враги действительно появлялись и даже подошли довольно близко к стене.
— Куда же они делись? — растерянно пробормотал Гил.
— Это я думал у тебя узнать.
— Скажите, господин Кулайн, это правда, что Эллигат разрушен, Асор-Гир взят, а в Эн-Гел-а-Сине гуллы?
— Что за чушь! Какие нелепые слухи! Сейчас во всех трех южных странах нет ни одного нидхага или гулла. Послушай. Гил, я вижу, что тебе не хочется отвечать на мои вопросы. И все же ты должен это сделать.
Но Гилу так и не пришлось пересказывать Кулайну историю о похищении оружия, потому что в этот миг раздалась музыка. Она звучала с вершины магдела, из большого черного ящика, трубы Хейм-Риэла, называемой Ха-ила-Хорн. Точно такая же музыка раздавалась сейчас в горах Ио-Син, в Элоре, Эллигате и Асор-Гире, на севере — в Солагире, Альвен-Гире и Менигате, в Рагнаиме, Ойтре и Анугарде, и ее слышали все люди, живущие в подвластных дэвам странах. И музыка эта была слишком знакома Гилу: Хейм-Риэл трубил в свой серебряный рог, и стройный хор подпевал ему. Гил узнал эти полупонятные слова, услышанные впервые от Мирегал в трактире старого Балга. По всей земле раздавалась тревожная песня, предрекая миру скорую гибель:
Ом лайн аэр!..Мирегал и Бхарг вскочили разом. Вытаращив глаза и испуганно озираясь, они пытались понять, что происходит. Гил смотрел на Кулайна — с его облике происходили странные перемены. Он как будто стал выше ростом, лицо задрожало, как-то расплылось и потемнело, глаза засветились желтоватым огнем… и вдруг он бросился вон из комнаты.
Ом лайн аэр!..Гил, Мирегал и Бхарг, застыв в неподвижности, слушали грозную песню. Вот музыка смолкла, и зазвучал голос Хейм-Риала:
— Люди Земли! Дэвы взывают к вам! Великое горе постигло наш возлюбленный и прекрасный мир. Близка его гибель! Мы не сумели сохранить то, что создали, горе нам! Зло оказалось сильнее! Напрасно вы надеялись на наше всемогущество! Близок час, когда великаны-туны, воплощение черного духа, с которыми мы тщетно боролись четыреста лет, выпустят на волю подземный огонь, кровожадного Гарма, мерзостного тролля, пожирателя солнца. И тогда миру придет конец — пылающая бездна поглотит его. Но мы еще можем кое-что сделать для вас, и род человеческий не погибнет. Знайте: за океаном, что окружает наш мир, есть другие земли. Они ничем не хуже нашей, и вы сможете жить там в покое и счастье. Мы не в силах перенести туда всех людей, но часть будет спасена. Возлюбленные наши дети! Не спешите предаваться отчаянию! Не позволяйте безумию овладеть вами! Дух, который мы вложили в вас, да поможет вам достойно встретить крушение мира. Слушайте, мы укажем вам путь к спасению многих! Пусть те из вас, кто живет у моря, снаряжают корабли. Не забудьте взять с собой домашний скот и семена съедобных растений: ничего этого нет за океаном. Запасайтесь едой на три месяца. Пусть первыми поднимутся на корабли дети, молодые женщины и мужчины из числа тех, кто учился в наших школах в Асор-Гире, Рагнаиме, Альвен-Гире и Асгарде. Те, кому не хватит места на кораблях, пусть ждут на берегу: большие суда из Рагнаима пройдут вдоль побережья и заберут их. Выходящие в море! Плывите на восток или на запад, но не на север и не на юг. Не перегружайте корабли; лучше пусть спасутся немногие, чем погибнут все.
Пусть все мужчины, способные сражаться и живущие в пределах дня пути от Асгарда, спешат в столицу, ибо нам придется дать врагу последний бой. Мы ждем здесь также всех, кому Асгард ближе, чем море. Они улетят по воздуху на железных птицах.
Жители Эл-а-Дена! Вам не добраться ни до моря, ни до Асгарда. Ждите нас в Эллигате, и мы придем, чтобы спасти вас.
Не проклинайте нас! Мы не уберегли ваш прекрасный мир от гибели, так же, как когда-то не уберегли свой. И все же пусть память о нас будет доброй!
— Неужели все это наделали мы? — пробормотал Бхарг.
— Не печальтесь, — задумчиво сказала Мирегал. — Может быть, наш новый мир будет лучше прежнего?..
— Нового мира нет, — возразил Гил, — есть лишь голая земля где-то за океаном. Людям придется самим создавать его. Разве нам это по силам? Кто мы без дэвов?
— Я не верю, что все дэвы погибнут.
— Брось! Ты сама прекрасно понимаешь, что это конец. Пусть даже остатки людей долго еще будут влачить жалкую жизнь, питаясь травой и червями среди пустынных скал по ту сторону моря. Только я-то точно не попаду туда.
— Ты не веришь в этих… железных птиц?
— Я просто никуда не полечу отсюда. Пусть мое место достанется кому-нибудь поумней меня. Какое право мы, погубившие мир, имеем на спасение?
— Ну что ж… — проговорила Мирегал после долгого молчания. — Смерть не так уж страшна. Когда я засыпала там, в поле, я знала, что не проснусь, но мне не было грустно. Я знала, что так надо. Вот и сейчас — то, что я еще жива — пусть это будет сном — мимолетным, но добрым.
— Знаете, — сказал Бхарг, — Хейм-Риэл меня все-таки порадовал. Ведь Халгат обманул нас! Эллигат не разрушен. Значит, все наши друзья живы и могут еще спастись.
— И те, что в Эн-Гел-а-Сине гуллы — тоже вранье! — подхватил Гил.
— Вот видите, — улыбнулась Мирегал, — у нас даже есть повоя для радости.
— Одно только не дает мне покоя, — сказал Гил. — Как же могло так получиться, что мы толкали мир к гибели, а сами думали, что боремся со злом? Как мы старались! Сколько подвигов совершили! А вышло так, что своими благими намерениями мы вымостили миру прямую дорогу в бездну!
Внезапно вернулся Кулайн. Вид у него был воинственный и грозный; тело заковано в сверкающую броню, меч на поясе, копье в руке. Желтые глаза смотрели сурово и жестко.
— Собирайтесь. Мы все едем в Асгард.
— Зачем? — спросил Гил сухо, едва взглянув на дэва.
— Для самообвинений у тебя еще будет время! — гневно воскликнул Кулайн. — Если каждый, кто чувствует себя виноватым, сейчас откажется сражаться, отсюда не спасется никто! Шемай-Лох идет на Асгард, и нам придется дать ему великую битву, чтобы корабли успели отплыть до гибели мира.
— Ну, если так, пошли, — вздохнул Гил.
Армия покидала долину Меллнира. Длинная вереница всадников растянулась по дороге, что вела через горы на север к Асгарду. Кулайн ехал рядом с Гилом, Мирегал и Бхаргом; когда они подъезжали к выходу из долины, дэв сказал:
— Хотите попрощаться с Мидмиром? Это не задержит нас.
Они свернули с дороги — три человека и дэв — и предстали перед черным кубом. Тихо журчала вода. Солнце блестело на поверхности озера и на стальном панцире Кулайна. Бронзовая голова Мидмира глядела на них так печально и мудро, что казалась живой.
— Я все знаю, — сказал Мидмир. — Я слышал рог Хейм-Риэла.
— Верно ли мы поступаем? — спросил Кулайн.
— Да. Одно лишь хочу посоветовать: во что бы то ни стало должны быть спасены Шем-ха-Гил и Мирегал.
— А Бхарг? — воскликнула Мирегал. — Вы забыли про Бхарга!
— Он заслужил спасения, но вам опасно брать его с собой за море. Его дети не будут настоящими людьми. Нельзя допустить, чтобы в ваш новый мир попали семена зла.
— Мидмир, скажи, сколько времени у нас еще осталось? — спросил Кулайн.
— Я не знаю точного ответа. Наиболее вероятно, что мир погибнет завтра.
— Почему ты так думаешь?
— Завтра в два часа пополудни произойдет полное солнечное затмение. Завтра же ожидается извержение Гефа и сильное землетрясение с центром в Гарм-а-Дене. В интересах Шемай-Лоха использовать оружие в это время.
— Спасибо тебе, Мидмир. Ты верно служил нам и людям. Хочешь, я усыплю тебя?
— Нет, я желаю видеть и слышать до самого конца и погибнуть вместе с миром. Прощайте!
Догнав уходящую армию в узком ущелье при выходе из долины, Кулайн обратился к своим спутникам:
— Вам необходимо знать, что имел в виду Мидмир, когда говорил о затмении, землетрясении и планах Шемай-Лоха. Туны не хотят, чтобы человеческий род продолжился за океаном, и они приложат все силы, чтобы помешать людям спастись. Те же, кто все-таки вырвется, пусть прежде всего потеряют рассудок, — так думает Шемай-Лох. Поэтому он хочет, чтобы катастрофа была как можно более ужасной. Согласитесь, что когда одновременно начнут извергаться вулканы, солнце померкнет среди бела дня, а земля задрожит, расколется и обрушится в бездну, многих людей может охватить безумие, даже если они успеют подняться в воздух на железных птицах. Ну а сумасшедшие не способны будут выжить и сохранить свой род на далеких берегах. Теперь, благодаря Мидмиру, мы можем предупредить людей, и они легче перенесут все это. Хотя, признаться, даже мне не по себе, когда я думаю, какие странные совпадения происходят сейчас по воле судьбы. Помните, в песне Хейм-Риала говорится о Гарме — пожирателе солнца и луны. И вот пожалуйста — луна умерла сегодня на рассвете и не родится вновь до гибели мира; а солнце умрет завтра днем, заслоненное лунным диском. Мы же имели в виду совсем другое: тучи пепла и дыма, которые поднимутся в воздух и затмят светила.
— Какая разница! — с отчаянием сказала Мирегал. — И зачем говорить о затмениях и прочих пустяках, когда нас ждет такая страшная катастрофа…
— В этих пустяках, Мирегал, таится великая опасность. Я боюсь, что в сознании людей все смешается, и это может отбросить вас далеко назад, к дикой звериной жизни. Все мельчайшие детали, самые обычные вещи, которые будут сопровождать катастрофу, навеки впечатлеются в память спасшихся, и я не удивлюсь, если ваши потомки будут придавать огромное значение таким простым явлениям, как солнечное затмение, и даже новолуние будет казаться им зловещим. Не исключено, что в расположении светил вы начнете искать причины происходящего на земле…
— Ну, со мной-то ничего такого не случится, — уверенно заявила Мирегал. — Я видела вещи пострашнее новолуния, честное слово!
— Да, ты не потеряешь рассудок, что бы ни случилось, — сказал Кулайн. — И Гил тоже. Потому-то Мидмир и велел нам во что бы то ни стало спасти вас обоих.
Около полуночи меллнирская армия достигла Асгарда. Глазам воинов открылось фантастическое зрелище: на фоне черного неба возвышалась гора огней, увенчанная светящимся голубым обручем. Он, казалось, висел прямо в воздухе. Магдала вовсе не было видно: черная пирамида сливалась с окружающим мраком, и только эликон одиноко парил во тьме, словно неведомое новое светило, явившееся заменить бездельницу луну.
В Асгарде уже собралось великое множество людей, в основном вооруженных мужчин; постоянно прибывали новые отряды. Здесь были низкорослые молчаливые горцы, высокие, шумные, бородатые северяне из Сол-а-Дена и светловолосые, голубоглазые жители Альвена, говорившие на непонятном северном наречии. Вся эта пестрая многоязыкая толпа кольцом окружила подножие горы, так что когда встало солнце, спешащие в Асгард путники могли подумать, что город в осаде.
Почти никто из воинов не спал в эту ночь.
Сразу по прибытии Кулайн потащил Гила, Мирегал и Бхарга наверх в магдел, где их ждали дэвы. Как не похоже было теперь их угрюмое общество на то весело-доброжелательное, окружающее гостя теплом и заботой, которое Гил видел здесь же, в этом зале, менее двух недель назад. Помрачнели лица, запали глаза, потускнели золотые кудри. Страх, тоска и смятение поселились в магделе.
Гил долго искал глазами Фенлин — юную, смешливую девушку, чем-то напоминавшую Мирегал. С трудом он узнал ее в статной, величественной женщине, невыразимо прекрасной, с затаенной болью в глазах: Гил подумал, что так, должно быть, выглядит королева, чье царство разрушено, а народ обращен в рабство.
— Ты удивлен? — спросила Фенлин, заметив взгляд Гила. Голос ее тоже изменился: потерял звонкость, но обрел силу. — Не пугайся! Меняется мир, меняются люди — и я меняюсь… В прошлый раз вы были юны и беспечны — и я была такая же. А сегодня…
Гил всем телом ощущал подавленность и напряженность, исходящую от дэвов. Ему было не по себе с ними, хотелось выйти на улицу, побродить по городу, взглянуть напоследок на небо, на горы…
— Расскажите, как случилось, что айрапин попали к тунам, — сказал Элиар.
— Сначала давайте зажжем огланы, — сказал Кулайн, — чтобы враг не подкрался незаметно.
— Оглан — «длинный глаз», то есть видит то, что вдали, — пояснил людям тихо подошедший Хейм-Риэл.
И вот на всех четырех стенах зала появились живые картины. На восточной стене был виден, словно с высокой горы, большой город на берегу бескрайнего моря. По небу неслись низкие тучи, волны разбивались о скалы, вздымаясь пенными шапками; в порту стояли корабли, а на берегу возле них бурлила огромная толпа. Туда-сюда сновали лодки — шла посадка. Один большой корабль уже снялся с якоря; паруса были опущены, гребцы отчаянно боролись с ветром. Судно тяжело раскачивалось на волнах и почти не двигалось с места. Гил понял, что это в Рагнаиме отчаливают корабли.
На южной стене застыло изображение покинутой долины Меллнира, на северной была видна незнакомая крепость с остроконечными башнями, одиноко стоящая в безлюдной голой степи. Гил подумал, что это, вероятно, Менигат, полночные врата, заслонявший собой северное царство, подобно Эллигату, вратам Эллила, на юге. Но дэвы смотрели на западную стену, где был виден Гарм-а-Ден, долина подземного огня, широкой полосой, разделявшая горные хребты Ио-Рагн и Ио-Тун-Гир. Гарм подходил там совсем близко к поверхности земли. Потоки застывшей лавы, вырывающийся из трещин пар и горячие фонтаны гейзеров придавали долине зловещий облик. Там же, в Гарм-а-Дене, стояла несметная рать нидхагов. Но не она страшила дэвов — впереди войска шли туны, тридцать черных великанов с громадными палицами. Они тяжело ступали по горячим камням: казалось, они уже совсем близко — вот-вот сойдут со стены и окажутся здесь, в зале.
— Ну, готовьтесь, — встал Кулайн. — А я задержу их.
Он бросился к выходу.
— Я с тобой! — Таргал рванулся за ним.
— Не надо! — крикнул Кулайн уже из передвижной комнаты. — Я и один справлюсь. Я остановлю их у брода, там узко, мне не потребуется помощь.
— Почему вы отпустили его? — спросила Мирегал, когда Кулайна скрыла скользящая дверь. — Он же погибнет!..
— Кулайн — сильнейший из нас, — сказал Элиар. — Он действительно сможет надолго задержать их у брода. А вскоре придет и наш черед. Многим из нас суждено погибнуть сегодня, а часом раньше или часом позже — какая разница?
— Среди этих тунов — Диафер, бывший друг Кулайна, — сказала Фенлин. — Наверное, Кулайн надеется как-то сохранить ему жизнь, или, может быть, договориться с ним, переманить его на нашу сторону…
— Неужели вы верите, что тунов можно исправить?! — воскликнул Гил.
— Эта вера еще жива во многих, ее трудно вырвать из сердца, — Фенлин задумалась. — Ведь мы помним, какими они были раньше, за жуткими масками видим лица своих друзей и соратников, с которыми вместе создавали этот мир. Узы, связывающие нас, непросто порвать.
— Это правда, Гил, — сказал Бхарг. — Я отлично понимаю дэвов. Вот я стал человеком, но какая-то связь с моим народом у меня осталась, и мне до конца дней не удастся забыть, что я родился нидхагом. Если бы ты знал, как мне больно видеть несчастье своего народа, его обреченность, безысходность его судьбы! Ведь мы не виноваты, что нас сделали такими. Может быть, и туны не виноваты в том, что переродились, кто знает.
— Пора вам все же начать свой рассказ, — сказал Элиар. — Надо торопиться, ведь скоро все мы пойдем в бой.
И Гил, вздохнув, поведал дэвам историю похищения айрапин и предательства Халгата.
Никто не упрекнул его и не сказал ни слова, дэвы молча стояли, опустив головы, только Таргал вдруг громко расхохотался.
— Мы с тобой, оказывается, похожи! Гляди, — и он протянул Гилу пару железных яблок, — я тоже не удержался! И правильно сделал, ведь туны думают, что мы у них в руках и беззащитны, а нам теперь есть чем ответить.
Дэвы удивленно зашумели, кто-то присвистнул-прищелкнул, но Элиар остановил его:
— Не надо, друзья, говорить по-нашему, уважайте гостей. А то, что ты сделал, Таргал, хоть и против наших обычаев, но обернулось благом.
— Добро бы ты был похож только на Таргала, — улыбнулся Хейм-Риал. — К несчастью, ты еще и на меня похож: такой же доверчивый. Оба мы знали, что Халгат предатель, и все же верили ему!
— А теперь, — сказал Элиар, — пора подняться в эликон. Завтра нам понадобится вся наша сила. Но кто-то должен остаться здесь, чтобы следить за событиями.
— Давайте мы останемся, — предложила Мирегал.
— Хорошо, — согласился Элиар. — У тебя, Гил, есть эйтлан, если увидишь что-нибудь примечательное, сразу сообщи мне.
Элиар передал Гилу железную пластинку с какими-то колесиками и кнопками.
— Это для управления огланами. Вот так, смотри, мы как бы углубляемся в Гарм-а-Ден. Вот-вот, ближе, ближе…
Туны на стене стремительно росли.
— Это Диафер… И не узнать его — настоящий мертвец. А так — удаляемся…
Туны уменьшились, превратились в крошечные далекие фигурки, а на переднем плане появились скалы, дорога на дне ущелья и пересекающий ее мутный поток.
— Так и оставим. Здесь Кулайн их встретит… Держи.
Дэвы покинули зал, а люди остались ждать. Гил занялся управляющей пластинкой, пытаясь увидеть в южном оглане Эн-Гел-а-Син или хотя бы Эллигат, но изображение останавливалось, дойдя до опушки Ха-мерка.
Мирегал и Бхарг смотрели на Рагнаим. Там не утихала буря. Вдруг одна из шлюпок с людьми опрокинулась и исчезла в черной воде. Мирегал вскрикнула.
…Спустя час Гил достал эйтлан и вызвал Кулайна. Послышался стук копыт и металлический звон.
— Господин Кулайн, это я, Гил. Мы в магделе, смотрим на брод… Туны уже близко, вы успеваете?
— Да, конечно! Сейчас вы меня увидите. Дэвы в эликоне?
— Да.
— Жаль, не успел. Ну, смотрите, потом расскажете людям. Пожалуй, оставлю вам и звук.
Через минуту на стене появилось изображение Кулайна. Дэв стоял в колеснице, груженой оружием, с копьем в руке и в железном панцире. Белый конь мчался, как ветер, колеса гремели на каменных плитах. Туны уже вошли в ущелье и гуськом двигались к броду. Река Наг текла под самыми скалами, преграждая великанам путь наверх, к Асгарду.
Тяжелый низкий голос раздался из эйтлана — голос туна:
— Куда бежишь, пес?
Это была не брань, а намек на значение имени Кулайна, догадался Гил.
— Скоро ты подожмешь хвост, и бежать будет некуда, когда сорвется с привязи пес посильнее тебя, — грохотал великан.
— Тебя-то, Муспелль, я не испугаюсь, — сказал Кулайн, сходя на землю.
Они стояли друг напротив друга — громадина-тун с лицом трупа и маленький светлый дэв, ростом чуть повыше его колена, бурлящий поток шириной с сотню локтей разделял их.
Другие туны стояли позади — узкое ущелье позволяло им подходить к броду лишь поодиночке, почему Кулайн и выбрал это место для обороны. Муспелль шагнул в воду, вспенившуюся вокруг белесых ступней, и взмахнул палицей.
— Прочь с дороги, малявка, не то, клянусь, не придется тебе больше бегать и лаять, — будешь лежать здесь до гибели мира и обликом станешь подобен нам!
— Да, тебе это легче — не придется менять облик, труп ты ходячий…
Палица, кружась, пролетела над головой дэва; выпрямившись, Кулайн метнул копье. Столько силы было в этом броске, что его оружие, попав в грудь чудовищу, вошло в тело целиком, вместе с древком, и тун, взревев, упал вниз лицом в горячую воду. Запруженный Наг забурлил, вздыбился и перелился через мертвое тело.
Второй тун шагнул вперед, но не успел поднять палицу, как и его настигло метко пущенное копье. Когда четыре великана один за другим окунулись в поток, а Наг, широко разлившись, образовал небольшое озеро, туны отступили вглубь и стали совещаться.
— Вы меня слышите? — Кулайн, используя передышку, обратился к Гилу. — Скажите Элиару, пусть поторопится… Боюсь, следующим моим противником будет Диафер. Только он один может одолеть меня в единоборстве.
Гил вызвал Элиара, узнал, что отряд дэвов уже скачет к броду, и передал эту весть Кулайну. Тот уже готовился к новому поединку. Из ущелья выступил пятый тун.
— Диафер, ты вышел против меня с оружием?.. — воскликнул Кулайн. — Я не желаю тебе смерти. Во имя нашей былой дружбы прошу тебя: отступись! С любым из вас я готов принять бой, но не с тобой!
— Зачем поминать старое, Кулайн? — прогремел Диафер.
— Я не хуже тебя помню, как мы дружили в юности. Мне тоже не по душе сражаться с тобой, но у меня есть долг, и моя воля скована клятвами, данными мной великому властелину.
— Вспомни, Диафер, как вместе мы мечтали о новом, прекрасном мире, где не будет места злу, и люди будут стремиться к сияющим вершинам светлого духа! Разве власть над миром и толпы коленопреклоненных рабов столь желанны для тебя? Чем прельстил тебя Шемай-Лох, что ты жаждешь смерти своего друга?
— Довольно слов, Кулайн! К бою! Сражайся за свою мечту. Воюй, светлый дух, с духом черным, и посмотрим, чья возьмет, о возлюбленный друг мой Кулайн-Милдориэл![5]
Диафер ступил в воду и по телам своих предшественников двинулся вперед. Дойдя до середины потока, он взмахнул палицей и нанес удар. Казалось, никто уже не спасет дэва, но в последний миг он подпрыгнул — подпрыгнул необычайно высоко, на два своих роста, и грозное оружие не задело его. Пока Диафер снова замахивался, Кулайн метнул подряд два копья, но первое тун поймал и сломал, как щепку, а второе отбил ударом палицы. Выхватив меч, Кулайн снова прыгнул — и прыжок этот был еще выше, еще чудеснее первого, и, вскочив, словно цепкий котенок, на грудь великана, глубоко вонзил лезвие в его тело ниже сердца. Тун взревел и сбросил с себя врага; черная кровь, дымясь, хлестала из раны. Кулайн упал в воду, и в тот же миг удар палицы настиг его. Гил зажмурился: все, конец, погиб отважный дэв! Но хриплый рев Диафера заставил его снова открыть глаза:
— Теперь ты охромел, друг мой Кулайн!
Дэв, прихрамывая, выбрался на берег и подбежал к колеснице. Диафер, заливаясь кровью, снова поднял палицу.
— Прости меня, Диафер! — Кулайн держал в руке огненное копье Ха-Бул. — Я не могу пропустить тебя в Асгард!
Облик Кулайна неуловимо изменился, черты его исказились — это уже не был человек, а неведомое существо, охваченное яростью боя, огненный демон, пылающий лютым красным огнем. Сбросив сандалию, Кулайн — если это все еще был Кулайн! — самым невероятным образом захватил Ха-Бул двумя пальцами ноги и метнул его движением, требовавшим необычайной гибкости суставов либо полного их отсутствия. Вспыхнуло пламя, и тысячи огненных стрел пронзили черного великана и разбежались по его телу испепеляющими лоскутами; и вот вся громадная туша распалась и рухнула облаком праха, тут же унесенного бурной рекой.
Кулайн вернул себе человеческий облик, подобрал Ху-Бул и скорбно опустился на прибрежный камень, закрыв лицо руками.
— Горе мне! — воскликнул он. — Погиб мой любимый друг, отважный Диафер!
Шестой тун уже стоял по ту сторону брода.
— Нечестно ты воюешь, презренный пес! Будь у нас такое оружие, мы бы давно правили миром. Удар за удар — брось мне свое копье!
— Никто не посмеет сказать, что Кулайн воюет нечестно! — воскликнул дэв. — Что ж, держи, если поймаешь! — И он метнул копье вперед рукояткой с такой силой, что железная трубка глубоко воткнулась в грудь великана, как если бы она была остро заточена. Тун упал навзничь, но подбежавший к нему товарищ выдернул из него смертоносный Ха-Бул и навел на дэва.
— Торопись, жалкая тварь! — произнес Кулайн. — Посмотри, вон уже скачут дэвы!..
Из огненного копья вырвалась ослепительная молния… И тут Мирегал, не выдержав, протянула руку к железной пластинке и погасила изображение. А потом упала лицом на ковер и разрыдалась. Эйтлан отчаянно затрещал и замолк. Лишь через полчаса раздался голос Элиара:
— Мы возвращаемся. Теперь ваш черед сразиться с нидхагами.
— А туны… где? — пролепетал Гил.
— Вы что же, не смотрите? Они отступили, мы прогнали их. Слава Кулайну, он устрашил врагов, дал нам время набраться сил. Теперь наступают нидхаги. Гил, объяви людям, пусть спускаются в Гарм-а-Ден и сдерживают их натиск; мы же побережем силы для боя с более страшным противником.
— Кулайн… погиб?
— Зачем ты спрашиваешь?.. Зажги оглан и посмотри.
Гил повернул рукоятку. У брода не было никого, только пять мертвых тунов лежали в воде, сдерживая ее бег. И Кулайна не было. Только оплавленный, почерневший камень, на котором он сидел в момент вспышки, безмолвно свидетельствовал о его судьбе.
Глава 22 ХА РЕК
Блеск зыбей, средь которых ты находишься, Белизна моря, по которому плывешь ты, Это — расцвеченная желтым и голубым Земля, она не сурова… Вдоль вершин леса проплыла Твоя ладья через рифы. Лес с прекрасными плодами Под кормой твоего кораблика. Плавание БранаНа рассвете войско спустилось с гор и вступило в бой с нидхагами. Гил сражался в первых рядах. Разя асгардским мечом, отбивая щитом удары, он был счастлив, что сумел вырваться, ускользнуть не только от дэвов, пытавшихся первым посадить его в улетавшую железную птицу, но даже от Мирегал, куда более бдительной, и от хитрого Бхарга, — и вот он здесь и наконец-то может хоть как-то искупить свою великую вину перед миром. Должно быть, Гил и вправду излучал какую-то невидимую энергию — «светился», по выражению Таргала, — во всяком случае, нидхаги явно избегали с ним встречи, а те, кого он настигал, защищались слабо и все норовили пуститься наутек.
Обе армии были велики; битва затянулась и широким пятном расползлась по долине, и все же преимущество с самого начала было на стороне людей: судя по всему, труба Хейм-Риэла отбила у нидхагов всякое желание воевать. Они сражались вяло и неохотно, тревожно думая лишь о том, как бы раздобыть себе место в Шемай-Лоховых подводных змеях — тех таинственных кораблях, на которых, по слухам, собирались спасаться туны в случае гибели мира…
Земля задрожала и поползла трещинами; она открывалась широкими проемами и обрушивалась, обнажая черные бездонные колодцы.
Оттуда, из бездны и мрака, зловонными толпами поднимались гуллы. Тысячи их в считанные секунды наводнили долину. Безмолвные плосколицые мертвецы бросались на людей и нидхагов; раздирали ногтями их плоть, впивались в тело длинными плоскими губами. Гарм-а-Ден наполнился воплями, стонами и хрустом костей. Гуллам не было числа; никто не в силах был сопротивляться им. Одни воины, окаменев, стояли в ожидании неминуемой смерти, другие безумно метались по полю, теряя оружие и проваливаясь в черные ямы.
Лишь один человек сохранил рассудок и волю в этом чудовищном, бредовом кошмаре. Это был Шем-ха-Гил. Он давно ожидал появления гуллов; единственное, чего он не ожидал, это их появления из-под земли. Смерть его не страшила, он был готов к ней и собирался встретить с достоинством.
Какой-то гулл, вырвавшись из трещины, глубоко прокусил ему ногу. Но Гил взмахнул мечом и отсек эту жадную голову, которая, впрочем, не разжала челюстей, и Гилу пришлось повозиться, прежде чем он избавился от мерзкого, обтянутого сухими мышцами черепа, повисшего у него на лодыжке. Хромая, он пошел на восток, к горам. Битвы уже не было — был великий гулльский пир. Остатки нидхагов и людей разбегались во все стороны. Мертвецы-победители пожирали останки. Гил шел, отбиваясь от бросающихся на него гуллов. Он делал это с легкостью, ведь у них не было иного оружия, кроме страха. Он зарубил их уже не меньше десятка. До гор оставалось совсем немного. «Не судьба мне умереть в бою, — подумал Гил, прикончив очередного гулла. — Ну что ж, пойду в Асгард, может, там найдется для меня какая-нибудь работа. А за океан не полечу, дудки. Сыт по горло своей дурацкой жизнью».
В этот момент Гил был уверен, что в мире уже не может произойти ничего такого, что его поразило бы, потрясло. Но зло неистощимо на выдумки!..
…Мерзкий гулл с прилипшими к черепу седыми космами и с грубым толстым шрамом поперек шеи встал перед Гилом и протянул к нему тощие жадные руки. Ледяной ужас сковал сердце Гила. Он остановился, задрожал, ноги его подкосились, оружие выпало из рук…
Мертвец приоткрыл сухую пасть и прошелестел:
— Я так долго искал тебя, сынок!
Гил рухнул на землю, все его тело свело судорогой.
— Отец, — прошептал он, — сжалься, сжалься надо мной!
— Сжалься ты надо мной, сынок, — прохрипел гулл. — Мое нутро горит неутолимым огнем. Дай мне насытиться твоей плотью, она моя по праву! Только твоя кровь зальет пожирающее меня лютое пламя, только тобой я утолю свой нестерпимый голод!
Зубы лязгнули над самым ухом Гила.
— Я люблю тебя, сын мой, люблю безумно, страстно, — шипело чудовище. — Только о тебе я мечтал все это время! Я не причиню тебе боли…
Гил потерял сознание.
И снова он очнулся, отказываясь верить, что жив.
— Дэвы, дэвы, когда же я наконец-то умру? — пробормотал он, не открывая глаз.
— Ты не умрешь, Гил, ты не имеешь на это права, — услышал он мягкий голос Хейм-Риэла. — Тебе суждена долгая жизнь. Встань, смотри! Солнце еще светит. Асгард стоит. Мы еще боремся.
— Как я здесь очутился?.. — Гил, оглядевшись, узнал зал асгардского магдела. Огланы светились на стенах. В помещении, кроме него и Хейм-Риэла, никого не было. Гил глянул на западную стену. Он увидел поле, заваленное трупами и обрубками гуллов, изрытую трещинами землю и стелющийся дым. На белых конях скакали дэвы, полторы сотни светлых всадников — почти все, сколько их было на свете. Они добивали шныряющих среди трупов гуллов, и эта работа была уже почти закончена. Вдалеке ползли страшные быки и шагали черные великаны. Земля колыхалась. Из трещин били в небо фонтаны горячей грязи.
— Я спас тебя в последний момент, — сказал Хейм-Риэл, — когда гулл уже собирался вонзить зубы тебе в горло. Я сгреб тебя в охапку и привез в Асгард, и теперь ты будешь сидеть здесь, сбежать тебе больше не удастся. Хочешь ты этого или нет, но тебе придется полететь за море.
— А что, армия наша погибла? Кто еще спасся, кроме меня?
— Спаслись сотни две из восьмидесяти тысяч, — сказал Хейм-Риэл со вздохом. — Но все они погибли не зря: за это время мы успели приготовиться к отлету, загрузить железных птиц всем необходимым и выбрать людей, которые будут вывезены. Ну, смотри, запоминай, — дэв указал на западную стену, — теперь недолго осталось. Солнце уже меркнет.
Солнце, видимое на южной стене зала, где оно стояло прямо над меллнирским магделом, уже потеряло правый край своего диска. Черная тень быстро надвигалась.
— Сейчас, Гил, на улице наступит тьма. Мы здесь этого не увидим: огланы устроены так, что видят одинаково и ночью, и днем.
Гил видел, как дэвы, расправившись с мертвецами, помчались на запад, навстречу тунам. Подземные толчки усиливались. Теперь они ощущались даже здесь, в магделе, несмотря на упругий фундамент. Одна из гор в далекой гряде Ио-Тун-Гира, по ту сторону долины Гарма, исторгла тучу пепла, и нижний край ее озарился кровавым светом…
— Началось, — сказал Хейм-Риэл. — Смотри внимательно, Гил, теперь туны пустят в ход похищенное оружие.
Туны, прежде двигавшиеся навстречу дэвам, внезапно повернули на север. Только один железный бык продолжал ползти вперед. Хейм-Риэл до предела приблизил его изображение.
— Вот оно, — прошептал он, — сейчас…
Солнце померкло. Мир погрузился во мрак. Дэвы повернули вспять: теперь они стремительно убегали от железного быка, рассыпавшись по полю. Грозная машина деловито проползла еще с полмили на восток и остановилась. Бык вращал головой, уставив свой рог прямо Гилу в глаза, и плюнул огнем. Это маленькое пламя в один миг разрослось во всю стену и стало ослепительно ярким, потом стена почернела…
Хейм-Риэл начал вращать рукоятку, удаляя изображение, но ничего нового не появлялось. Наконец по краям стены возникли светлые пятна; вот выступили скалы, ущелье и брод с мертвыми тунами. Посреди Гарм-а-Дена росла, раздувалась чудовищная черная гора дыма и пепла. Три или четыре дэва, мелькнув, как яркие искры, с невероятной скоростью промчались к Асгарду. Вслед за этим могучие скалы обрушились и завалили проход.
Хейм-Риэл направил взгляд оглана чуть повыше, так что поверх каменных обломков снова стал виден Гарм-а-Ден. Туча, оторвавшись от земли, поднималась, расползаясь над долиной. На том месте, где стоял железный бык, теперь зияла громадная оплавленная воронка диаметром не меньше полумили.
Гил почувствовал, как дрогнул пол, закачались стены. Магдел угрожающе накренился.
— Пора! — встал Хейм-Риэл. — Идем, Гил. Птицы ждут нас.
Последнее, что увидел Гил, входя в передвижную комнату, была длинная, извилистая трещина, пересекшая Гарм-а-Ден с севера на юг. Края ее медленно раздвигались, и оттуда, из недр, рвалось к небу бешеное подземное пламя.
Гарм дождался своего часа.
Снаружи творилось нечто неописуемое. Земля ходила ходуном; рушились дома, громадные глыбы с грохотом катились по горным склонам. К югу от Асгарда вулкан Геф бросал в небо красные камни, трескался и истекал лавой; внезапно с грохотом раскололась его вершина — ее сорвало, как крышку с котла, и огненные потоки устремились в долины. Гарм-а-Дена не было видно, но с той стороны доносился странный звук, подобный реву водопада, и наползала зловещая туча.
Хейм-Риэл, взяв Гила за руку, тащил его к железной птице. Она стояла на искусственной террасе у подножия магдела — длинное блестящее тело на смешных лапках, раскинутые плоские крылья, опущенный клюв, вздернутый треугольный хвост. От постоянных толчков птица подпрыгивала, мягко пружиня на гибких ногах. В брюхе была открыта дверь, к ней приставлена лесенка. Гил, оглядевшись, не увидел вокруг ни одной живой души, кому бы он мог уступить свое место, вздохнув, поднялся по ступенькам и вошел в круглое брюхо.
Внутри было полно народу; все жались друг к другу и озирались испуганно, словно затравленные зверьки. Какая-то женщина билась в истерике; где-то надрывно блеяла коза; жутко выли собаки.
Хейм-Риэл провел Гила к железной двери и втащил его в стеклянный клюв птицы.
— Ну, наконец-то!.. — Мирегал перевела дух и бессильно опустилась в кресло. — Я так боялась, что вы опоздаете!
Хейм-Риэл устроился перед столиком с рукоятками, похожим на увеличенную пластинку для управления огланами. Гил сел рядом с Мирегал.
— Постой-ка, а где Бхарг? — вдруг встрепенулась она. Хейм-Риэл повернулся к ней с выражением страдания на лице.
— Мы не можем взять его, Мирегал. В вашем новом мире не нужна кровь нидхагов…
— Ну-ка, подождите, — Мирегал сорвалась с места и бросилась вон из клюва.
Хейм-Риэл не успел удержать ее. Схватившись за рукоятки, он тихонько присвистнул, и Гил, сидевший за его спиной, увидел, как столик осветился ярко-зеленым светом.
Между тем трясло все сильнее. Уже обрушилось в пропасть несколько нижних террас Асгарда. Черная туча, налетевшая со стороны Гарм-а-Дена, заволокла все небо и снова скрыла солнце, только что показавшееся из-за лунного диска, и опять стало темно… Все громче становился грозный рев воды… С другой стороны магдела взмыла в небо и унеслась прочь железная птица, ведомая Таргалом. Сначала она летела на запад, потом взяла правее и скрылась в дыму.
Наконец Мирегал с победной улыбкой вернулась в стеклянный клюв, и Хейм-Риэл потянул какую-то рукоятку. Послышался гул, птица подпрыгнула и сорвалась с террасы, клюнула носом, выровнялась и пошла вверх…
У Гила перехватило дыхание. Глянув вниз, он увидел Асгард у себя под ногами, накренившийся магдел и голубое кольцо эликона. Затем все это уплыло куда-то назад; теперь они летели над трясущимися в бешеной пляске горами. Какой-то миг — и они уже над Гарм-а-Деном…
Но что это? Гил не удержался и вскрикнул, второй раз за день убедившись, что был не прав, думая, что нет на свете ничего, что его взволновало бы. Та узкая огненная трещина, которую он увидел из магдела, разрослась, расширилась неимоверно, как глубокая рана на теле земли, достигшая самого ее раскаленного сердца. Она протянулась с севера на юг от моря до моря, громадные куски земли, целые поля вместе с многочисленными нидхагирами обрушивались в пылающую бездну. И с двух концов, с севера и с юга, неудержимо рвалось в этот жуткий провал кипящее море. Два громадных вала неслись друг другу навстречу, заливая красную бездонную глубь, разверстую пасть вырвавшегося Гарма. Вода бурлила, взрываясь огромными пузырями, выпуская клубы пара и дыма. И вот валы сошлись, вздыбились горой и разбежались кольцами волн к тонущим берегам. Море поглотило Гарм-а-Ден, мир раскололся на два острова, и острова эти тряслись в предсмертных судорогах…
— Не смотри вниз, Гил, — сказал Хейм-Риэл. — Видишь впереди серебряную точку? Это птица Таргала. Он хочет преподнести Шемай-Лоху прощальный подарок. Полетим следом, может быть, ему понадобится помощь.
Они пересекли широкий, бурный пролив, недавно бывший долиной Гарма-а-Дена. Теперь под ними в дыму и пламени рушились горы Ио-Тун-Гир. Вулкан Тах плевался огненными глыбами, сгущая тучи над гибнущим миром. Впереди показалось темное, глубокое ущелье, из которого опасливо высунулась вершина притаившегося во мраке магдела, увенчанного черным колесом. Это был Хатт, столица Шемай-Лоха.
Железная птица Таргала нырнула, пронеслась над магделом, выбросив искорку — айрап, и взвилась вертикально вверх. Через несколько мгновений магдел и ущелье исчезли в ослепительном пламени. Таргал, повернув, стремительно мчался на северо-восток, обратно к новорожденному морю. Хейм-Риэл, не долетев до Хатта, повернул в ту же сторону, что и Таргал. И вот снова под ними бушуют горячие волны. Гил, обернувшись, успел заметить, как просел, подобно гигантской чаше, Ио-Тун-Гир, и как вслед за потоками лавы устремился в провал ревущий океан.
Тучи пепла носились над водой. Впереди, распластав крылья, летела железная птица Таргала. Вдруг внизу, в бушующих волнах, блеснуло длинное змееподобное тело.
— Змея Шемай-Лоха! — воскликнул Хейм-Риэл. — Скорей, Таргал!
Опять крошечная яркая искра, выпав из туловища Таргаловой птицы, понеслась вниз, и в тот же миг навстречу ей из змеи взлетела другая такая же. Две ослепительные вспышки последовали одна за другой, на воде и в небе, и Хейм-Риэл круто развернул летучую машину. Теперь они мчались назад, на юг. Гил посмотрел направо и с ужасом увидел одно лишь бескрайнее море на месте гор Ио-Тун-Гир.
— Что произошло? Что с Таргалом? Куда мы летим? — крикнул он.
— Таргалу не понадобилась наша помощь, — глухо сказал Хейм-Риэл. — Мы летим в Эллигат, забрать тех, кто там остался.
Вскоре впереди показалась суша, и птица начала снижаться. Гил не узнавал эту землю, покрывшуюся сетью кровавых трещин, дрожащую, исторгающую пламя и пепел.
Птица опустилась в поле возле Эллигата. Толчки продолжались; птица, едва опустившись, стала подпрыгивать, тыкаясь в землю то клювом, то крыльями. Мирегал вылетела из кресла и упала Гилу на колени.
Хейм-Риэл вышел и отсутствовал полчаса. Вернувшись, он сразу сел за рукоятки и поднял машину в воздух.
— Больше нельзя было ждать, — сказал он. — Эл-а-Ден просел очень сильно, мы сейчас находимся на добрых триста локтей ниже уровня моря. Через несколько минут сюда хлынет вода.
— Кого-нибудь удалось спасти? — спросила Мирегал. Она не вернулась в свое кресло, так и оставшись у Гила на коленях.
— Да… двадцать человек. Остальные либо погибли под обломками, либо, обезумев, разбежались. Среди спасшихся пятеро друзей и близких: Эалин, Балг, Энар, Ган-а-Ру и Хайр. Все они обезумели от ужаса, но рассудок еще вернется к ним. Ну, вот и все. Нам нечего больше здесь делать…
— Я хочу в последний раз посмотреть на нашу долину, — сказал Гил.
Хейм-Риэл кивнул и повернул птицу клювом на юг. Внизу снова мелькнули руины Эллигата. Вот сейчас должны показаться горы Ио-Син… но их не было, всюду плескалось море.
— Ваша долина уже под водой, Гил, — сказал Хейм-Риэл. — Полетим теперь на север, я должен взглянуть на асгардский магдел.
Мирегал рыдала, крепко обняв Гила. Сзади, за дверью, слышался многоголосый вой обезумевших людей; женщины кричали в голос, мужчины стонали, припав к круглым окнам, за которыми неистовый Гарм разрывал на части и обрушивал в бездну, в темную морскую пучину их землю, их прекрасный мир. Никогда его благоуханные долины, ставшие обиталищем подводных чудищ, не огласятся детским смехом, никогда больше не проскачут на белых конях по высокой траве ясноокие дэвы…
— Дэвы… — прошептал Гил, прижимая к груди пушистую голову Мирегал. — Дэвы погибли?..
Хейм-Риэл не ответил. Они летели над Ио-Рагном — море ревело у самых его подножий, и пылающие горы одна за другой скрывались в пучине. Вот показался Асгард — магдел, накренившийся и треснувший, еще цеплялся за гранитную вершину; последние остатки разрушенных домов лепились по склонам.
— Я увидел то, что хотел, — сказал Хейм-Риэл. — Люди, храните надежду! Вершина магдела пуста.
…Не сейчас, через много дней дошел до Гила смысл этих слов, и они потом долго не давали ему покоя, заставляя часами вглядываться в серое небо и высматривать там долгожданное многоглазое колесо…
Хейм-Риэл вел птицу на восток, и одно лишь бурное море расстилалось под ними.
Через час показалась земля. Правду сказал Хейм-Риэл! Их мир не был единственным островком суши в бескрайнем океане. Вот они, неведомые заморские земли. Здесь тоже были горы, леса и реки, и здесь, должно быть, так же рос хлеб на полях и так же пели птицы и журчали ручьи. Часа два или три они продолжали лететь на восток, море и суша успели несколько раз сменить друг друга, когда, наконец, птица начала снижаться.
Внизу была незнакомая страна, полная сочной зелени. Гил успел разглядеть две могучие широкие реки, бежавшие на юг, к морскому заливу.
Хейм-Риэл посадил машину на самом берегу волнующегося моря, в нескольких милях от устья великой реки. И все, кто, дрожа и воя от страха, прижимались друг к другу в длинном теле железной птицы, сошли на землю и стали безмолвной толпой в зарослях тростника. Жалок был вид этих людей; пять сотен безумных, круглых от ужаса, беспомощных глаз с мольбой и страхом взирали на тех, кто последними спускались из блестящей небесной машины.
— Вот народ твой! — сказал Гилу Хейм-Риэл, простирая руку к кучке безумцев. — Возлюби его и будь ему вместо нас.
Возвысив голос, Хейм-Риэл обратился ко всем спасенным.
— Внимайте мне, о люди! Наш долгий путь завершен. Нет больше мира, созданного нами на прекрасном острове, ныне канувшем в бездну. Гарм разорвал его, и океан поглотил его навеки. Вместе с этим погибшим миром уходим и мы, дэвы. Вам отныне придется самим делать все то, что раньше делали мы. Наше время истекло, у вас же впереди великий простор и великая слава. Мы дали вам все, что могли. Мы наделили вас беспредельной способностью к развитию. Для вас нет ничего невозможного. Придет день, и вы станете во всем как мы, и устремитесь дальше — навстречу сиянию великого духа.
Какая-то женщина вырвалась из толпы и с воплем упала на землю у ног Хейм-Риэла.
— Смилуйтесь, господин! — взвыла она. — Не покидай нас! О, сжалься, не уходи!
Хейм-Риэл помог ей подняться, ласково утешая ее и прося не отчаиваться. Гил с болью узнал в этой безумной женщине свою сестру Эалин.
— Мне незачем оставаться, — сказал дэв. — Я один не в силах облегчить вашу участь; без своих товарищей и без светлого эликона я — ничто. Последнее, что я могу для вас сделать — это научить вас, как строить вашу жизнь здесь, в этом незнакомом мире. Слушайте! Эту страну я нашел давно, еще когда мы, только появившись на Земле, летали повсюду, выбирая место для поселения. Две великие реки текут здесь с севера на юг, и почва по их берегам плодородна. Вы должны будете усмирить крутой нрав этих рек, бурно и широко разливающихся время от времени. Как это сделать, какие копать каналы и где строить дамбы, я не буду объяснять — много подробных сведений содержится в ученых книгах, взятых нами перед отлетом из асгардской библиотеки, а того, чего нет в книгах, вы способны достичь собственным умом. Не отчаивайтесь, думайте и трудитесь — и вы будете вознаграждены…
Вы встретите в этой стране дикие племена, не знающие ни металлов, ни письменности, ни искусства; не умеющие выращивать хлеб и разводить скот, живущие в жалких тростниковых шалашах или пещерах. Они охотятся на диких зверей с камнями и палками. Вам не избежать встреч с этими существами. Учите их языку, ремеслам, земледелию; не враждуйте с ними. Из таких же, как они, мы создали вас. Сделайте и вы теперь людей из этих животных! Но остерегайтесь сразу смешаться с ними, чтобы ваша кровь, кровь дэвов, не растворилась в их звериной крови, чтобы вы не исчезли бесследно! В первое время я советую вам избегать смешанных браков. Пусть лучше братья женятся на сестрах; воистину так! Сберегите себя; лишь потом, когда дикари станут разумны и начнут отличать добро от зла, можете понемногу принимать их в свою общину. Жить вы должны все вместе, не расходитесь далеко: эта земля бескрайняя, наш погибший мир был ничтожно мал по сравнению с ней. Пройдут века, прежде чем ваши потомки заселят всю эту землю…
Вам придется самим управлять своей страной, и вот вам мой совет: пусть Шем-ха-Гил будет вашим верховным мелхом до самой смерти, ибо он, могуществом своего духа, из всех вас наиболее близок к дэвам. Он и его жена Мирегал, — а после их смерти их дети и внуки — пусть правят этой страной!
Теперь мне осталось лишь сказать, что ждет вас в будущем — насколько это можно предвидеть. Первые несколько лет будут самыми трудными — не только потому, что все будет внове, но и потому, что скоро великие тучи, поднявшиеся во время гибели нашего острова, затмят все небо, солнце померкнет на годы, и его тепло перестанет согревать землю. Будет долгая ночь и долгая лютая зима. Но не отчаивайтесь: солнце снова засияет на небе. Я знаю, вам не скоро удастся сразу сделать свою жизнь такой, какой она была раньше. Но никакие беды, никакие трудности не сломят тот дух, который мы в вас вселили…
И, наконец, последнее, что я хочу сказать вам на прощанье. Помните нас! Помните о безродных пришельцах, явившихся на землю из глубин черного неба, о тех, кто навеки утратил свой мир, как и вы теперь, и, как и вы, поселился в неведомой, чужой земле, храня, как святыню, в сердце наивную, смешную мечту о бессмертии. И наша мечта осуществилась! Труд дэвов не пропал даром: заброшенные волей жестокой судьбы в чуждый нам мир, обреченные на гибель, мы все же сумели найти выход, сумели спасти свой род, — мы породили вас, смешав свою кровь с кровью диких местных племен. Дэвы, мои братья, павшие в последней войне, не исчезли бесследно. Вдыхая полной грудью прохладный морской воздух, вы вдыхаете нас! Глядя на снежные вершины, золотые в лучах рассвета, вы впитываете глазами нашу плоть! Наслаждаясь музыкой и пением птиц, вы чувствуете, как наша кровь проникает в вас и наполняет тело блаженством!.. Поэтому не плачьте, расставаясь со мной. Мы не покинем вас. Уходит наша телесная оболочка, но светлый дух наш останется с вами навек!
Хейм-Риэл, опустив голову, быстро поднялся по ступенькам и исчез в блестящем птичьем теле. Загудев, машина подпрыгнула, взмыла вертикально вверх и понеслась на запад. Горстка людей на берегу стояла молча и неподвижно; все долго смотрели вслед удаляющейся серебряной точке, и им казалось, что они все еще видят ее, хотя она уже давно исчезла. А, может, они и вправду видели бы ее, если бы не слезы, такие горькие и такие светлые…
Глава 23 ВОЗНЕСЕНИЕ
Я видел сон — не все в нем было сном. Погасло солнце светлое, и звезды Скиталися без цели, без лучей В пространстве вечном; льдистая земля Носилась слепо в воздухе безлунном… БайронСтарый мелх сидел на соломенном коврике, скрестив ноги, и задумчиво покусывал конец тростниковой палочки. На коленях его лежала влажная, мягкая глиняная табличка, почти целиком покрытая рисунками-письменами. Такие же таблички, только уже твердые и обожженные, исписанные с обеих сторон, лежали стопками и просто валялись во множестве на полу по всей комнате. Это Бхарг, хитрюга, придумал писать на глине, честь ему и слава. Кожа! Кто бы сейчас посмел использовать для записей кожу, которой и на сандалии-то не хватало! Нет, даже сам мелх не мог себе этого позволить…
Гил рассеянно начертал на табличке несколько завершающих слов, подумал немного и, отступив, поставил в самом низу: «Написано мелхом Шем-ха-Гилом. Годы 46—51 после потопа».
Отложив табличку, он глубоко вздохнул. Да, теперь можно расслабиться. Труд долгих лет, наконец, закончен. Он спешил, он отчаянно спешил, чувствуя, как неумолимо надвигается старость, безжалостно стирая из памяти имена, лица и события. Как жаль, что не было возможности раньше заняться книгой, все приходилось решать какие-то сиюминутные вопросы, захлестывающие их маленькую страну подобно нерегулярным, но безудержным разливам не укрощенной до сих пор великой реки. Конечно, труднее всего было в первые годы. Перед глазами Гила проносились мрачные картины тех лет — страшных, холодных лет, без солнца и звезд, прозванных в народе Зимой Великанов. Сколько пришлось им пережить, его несчастным подданным, этим двум с половиной сотням полубезумных людей! Но они выстояли, не пали духом даже тогда, когда земля семь лет подряд из года в год не давала хлеба, птицы и звери замерзали в степи, оголодавшие дикари совершали опустошительные набеги на людские поселения, отбирая последние, с трудом добытые крохи, когда люди перестали отличать день от ночи, не отходили от огня и все равно не могли согреться; когда мужчины с пустыми руками возвращались с охоты, а женщины рожали чудовищ. Все-таки они выстояли, дождались возвращения солнца и в конце концов даже построили из глины и тростника бледное подобие старого мира…
Гил вышел на улицу и посмотрел вокруг. Конечно, гордиться было особенно нечем; это поселение, плод беспримерных усилий, больше всего напоминало самый что ни на есть захудалый нидхагир, но все же в домах можно было жить и растить детей, а глинобитная стена худо-бедно защищала от диких зверей. Теперь уже не повторится кровавое побоище, учиненное здесь обезумевшим от голода львом во второй год после потопа. У Гила до сих пор иногда еще ныли раны, оставленные когтями этого зверя, которого он победил в жаркой схватке, подтвердив тем свое право на власть.
Вот и теперь они заныли, должно быть, от воспоминаний, и старый мелх, кряхтя, присел на ступеньку. Он снова подумал о своей книге. Счастье великое, что он успел ее закончить! Кто бы еще, кроме него, мог оставить потомкам столь подробное описание последних дней старого мира! Они должны быть благодарны ему, но он-то знал, что многие посмеиваются над ним, стариком, думают, что их мелх совсем спятил на старости лет, вот и принялся записывать нелепые сказки. Они, молодые, не видевшие ни того мира, ни дэвов, ни гуллов, почему-то уверены, что лучше него знают, как все случилось! Послушаешь некоторых, так смешно станет. Впрочем, тут не молодежь виновата. Родители их несчастные, ошалевшие от страха беженцы, с них-то все и началось. Кто из них сохранил рассудок после потопа, кроме него, Мирегал да еще Бхарга? Никто. Уже на следующий день после того, как Хейм-Риэл высадил их возле устья реки, кто-то, кажется, Энар, заявил, что, дескать, это дэвы ниспослали нам потоп за грехи наши. И пошло, и пошло… Эалин, бедняжка, вылепила из глины статую Таргала. Ну, добро бы вылепила и поставила на видном месте, статуя была хорошая. Так она стала утверждать, что дух Таргала теперь не носится больше в воздухе неприкаянным, а поселился в этой глиняной фигуре! И пошел народ на поклон к статуе, разговаривали с ней, как с живой, да еще и выпрашивали у нее всяких благ. Таргал, заостри наши мечи! Таргал, даруй нам победу! Научили этому и дикарей. Те и говорить-то еще толком не умели, а уже ползали на брюхе перед истуканом и выли, коверкая слова, как только можно: Торгал, Нергал, Маргал! Укрепи десницу царя Гил-га-Шема! А какой-то умник придумал, что, мол, дух Таргала разделился, и часть его обитает в статуе, часть рассеяна в воздухе, а часть улетела на небо и стала там звездой. Все поверили, и никто не хотел слушать, что эта красная звезда — четвертая планета и светила она в небе за миллионы лет до рождения Таргала. Потом развилась целая безумная система: Фенлин поселилась на второй планете, и Ашт почему-то оказалась там же, да еще и слились обе воедино, так что их уже не различить. Элиар, как главный дэв, полетел на пятую, Хейм-Риэла забросили на первую, небо ожило, светила обрели великую власть. Шемай-Лох стал царем подземного мира, полного гуллов и призраков, а его железная змея кольцом опоясала землю, грозя новым потопом. Как-то раз выше по течению, где сейчас северное поселение, упал метеорит. Так его разыскали, привезли и вмуровали в голову очередного идола, статуи Ану, утверждая, что это священный небесный камень дэвов. А ведь это был кусок отличного железа, как бы он мог пригодиться!..
Гил тяжело вздохнул. Никто из беженцев, увы, не знал, как добывать металл. Он искал эти сведения в книгах, но книг было много, а времени мало. Может быть, потомки, когда поумнеют, найдут утерянный секрет. Не вечно же будет длиться это потопное безумие! Тогда, быть может, люди снова станут учиться читать и писать — ведь теперь и это забыто! Кроме стариков, что прилетели сюда уже грамотными, да двух-трех молодых из числа так называемых жрецов, никто из людей не понимает ни букв, ни рисунков-слов. Зато как они любят болтать о том, чего не знали и не знают! Когда тучи, наконец, пролились дождями, когда в первый раз выглянуло солнце и в небе засияла радуга, как они спорили, чуть не до драки, что это такое — посланный дэвами знак, говорящий о том, что потопов больше не будет, или воздушный мост, связывающий землю с Асгардом небесным…
Но Гил не держал гнева на свой народ. В конце концов, люди не были виновны в своем безумии. Да и сам он… Ведь это он поведал людям, что перед гибелью мира вершина асгардского магдела была пуста, и, значит, часть дэвов спаслась в эликоне. Хейм-Риэл улетел на запад, чтобы разыскать их. «Из этого следует, — сказал тогда Гил, — что мы можем рассчитывать на возвращение дэвов, если не сейчас, то когда-нибудь в будущем».
Что тут началось!.. Нужно срочно строить магдел! Место для него указано самими дэвами — как раз там, куда упал злополучный метеорит. Начался великий и бесполезный труд. Гил был вынужден начать очередную, на редкость длительную и тяжелую войну с низенькими, круглоголовыми местными дикарями, чем-то похожими на нидхагов, чтобы захватить побольше рабов, необходимых для строительства. Нелепое ступенчатое сооружение, не имевшее с магделом ничего общего, кроме внешней формы, было построено, а вокруг него выросло северное поселение, где жило теперь большинство жрецов. Эта новая каста почитала смыслом своей жизни служение дэвам и ожидание их прихода. Дэвы, однако, все не являлись, и тогда Зуэн, сын Балга, верховный жрец, стал утверждать, будто знает причину этой задержки. «До потопа, — проповедовал он, — существовал обычай первенцев всех стад отправлять в Асгард, а самых одаренных детей отдавать дэвам на обучение. Но Асгард теперь на небе, и попасть туда нам нельзя из-за тяжести бренного тела. Давайте же будем здесь, у подножия магдела, лишать жизни тех, кого сочтем достойными, и пусть их освобожденный дух возносится в Асгард небесный. Тогда дэвы вспомнят о нас и вернутся на землю».
Безумие спасшихся неудержимо приобретало кровавый оттенок. Силой своей власти Гил запретил человеческие жертвоприношения, и это дорого обошлось ему, едва не став причиной раскола страны. Жрецы ополчились против мелха. Часть их ушла еще дальше на север и основала там свое поселение, неподвластное Гилу. Одним дэвам ведомо, что они теперь там творят — должно быть, обагряют жертвенные камни человеческой кровью и пожирают, подобно гуллам, собственных детей…
Раздоры возникали и по более земным причинам. Гил до сих пор не мог без содрогания вспомнить кровавую распрю, вспыхнувшую среди его сыновей из-за дочери Бхарга, красавицы Нуам. Дело кончилось тем, что брат убил брата; убийца Кам был проклят и изгнан, и с ним ушли на запад его друзья и его любимая Нуам… О судьбе их долго ничего не было известно, но потом почтовый голубь принес весть об изгнанниках. Гил и Мирегал могли больше не беспокоиться о своем преступном сыне: Кам вместе со своими спутниками пересек пустыню и достиг прекрасной плодородной страны далеко на западе, где величайшая из рек, Хапи, что течет с юга на север, ежегодно разливается, оставляя по берегам слой жирного ила. Там, в благодатной стране Кеме, изгнанники основали поселение и живут безбедно.
Гил долго сидел на ступеньке своего царского дома — жалкой глиняной хижины с крышей из тростника — и вспоминал бурные события своей жизни. Больше всего он жалел о том, что почти не помнит своей молодости, тех безоблачных двадцати лет, что он провел в Эн-Гел-а-Сине, на хуторе Белые Камни, среди родных и друзей. Великое горе и тяжкий труд стерли из его памяти это счастливое время. Что ж, может, оно и к лучшему, думал Гил, а то бы я прежде времени сошел в могилу от горя, постоянно сравнивая то, что было, с тем, что есть. И я бы тогда не дождался… Я не дождался бы…
Гил вскочил, в волнении прижав руку к груди, и воскликнул, обращаясь к глиняным стенам домов:
— Скоро я покину тебя навсегда, о жалкий мир, плод безумия и великих усилий! Я сделал для тебя все, что мог, и теперь счастлив, что могу наконец уйти и получить то, что мной заслужено!
Дверь открылась, и на крыльцо вышла Мирегал. Она и в старости сохранила свою милую улыбку и независимый вид.
— С кем ты говорил, Гилли?
— Ни с кем, любимая, сам с собой. С кем еще можно говорить в этот час, когда все, кроме нас с тобой, беснуются в капище распроклятой государыни Ашт!
Мирегал усмехнулась.
— Представляю, что было бы, скажи я им, что в свое время влепила ей пощечину. Они разорвали бы меня, просто разорвали!
— Мирегал… — Гил загадочно посмотрел на жену, поглаживая седую курчавую бороду. — Скажи, если бы мы могли сейчас уйти отсюда навсегда — ты пошла бы со мной?
— Нам же некуда идти! Или ты задумал переселиться к сыну в страну Кеме?
— Дальше, Мирегал, дальше. Слушай, я поведаю тебе великую тайну.
— Гилли, что с тобой! У тебя горят глаза, как у Кулайна во гневе! Уж не заболел ли ты?
— О нет! Я здоров, как никогда. Слушай. Сегодня ночью случилось то, чего я ждал все эти годы. Эйтлан ожил.
— О-о! — простонала Мирегал. — Опять туны какие-нибудь?..
Давно, еще в первый год после потопа, эйтлан однажды заговорил, донося из какого-то неведомого мира глухие проклятия на дэвинмоле. Гил и Мирегал решили, что это был голос туна. Судя по тем словам, что удалось разобрать, тун умирал и перед смертью проклинал Таргала, затопившего железную змею Шемай-Лоха. С тех пор прошло полвека, и за все это время из эйтлана не донеслось ни звука.
— Нет, это были не туны. Я говорил сегодня ночью с Хейм-Риэлом.
Мирегал широко раскрыла глаза, все такие же большие и черные, и дрожащим голосом спросила:
— Это правда?! Что же он сказал?..
— Они вернулись из дальнего путешествия… Эликон долго странствовал в просторах Вселенной, преодолел многие миллиарды миль, и в конце концов они нашли то, что искали.
— Что?
— Он не сказал. Что-то очень, очень важное. Открыли какую-то великую тайну. Мы скоро узнаем, что именно. Потому что они прилетели за нами.
— За нами?!
— Да, через три дня, в ночь полнолуния, эликон опустится на вершину нашего злополучного магдела. Мы будем ждать его там. Дэвы возьмут нас с собой, потому что мы уже сами, как сказал Хейм-Риэл, давно стали дэвами, и нам осталось только немного подучиться…
— Мы войдем в эликон, куда не входил ни один человек?
— Да. И полетим в неведомый мир. И узнаем великую тайну. Быть может, это секрет бессмертия…
— Но, Гил, мы же все-таки люди, и родились среди людей. Не жалко тебе покидать свой народ? Своих детей и внуков? Эту несчастную страну, наше нищее детище? Они же совсем одичают без нас, потеряют последние остатки рассудка!
— Этого мы уже не в силах предотвратить. Безумие надолго воцарилось здесь. Нам не дождаться победы разума, хоть я и верю, что светлый дух, вложенный в людей дэвами, в конце концов выведет их на верный путь. И когда-нибудь, спустя века, мы вернемся… А пока мы не нужны здесь… Собирайся же, Мирегал, путь неблизкий.
Все население глиняного городка отравилось проводить Гила и Мирегал на север, в верхнее поселение, где находился магдел. Слова мелха о том, что он желает улететь с дэвами в эликоне, по-своему преобразились в искаженном сознании людей. Они решили, что мелх захотел умереть на жертвенном камне, и с восторгом предвкушали невиданное зрелище.
Зуэн, верховный жрец и служитель магдела, вышел навстречу мелху с ржавым, зазубренным ножом в руке — одним из последних оставшихся еще у людей металлическим предметом — и радостно скалясь, предложил Гилу и Мирегал сейчас же отправиться на небо с его помощью.
— Великая радость для всего народа видеть, что ты, о мелх, наконец признал истинность нашей веры и правильность наших поступков, — сказал Зуэн, сын Балга. — Принеся тебя и Мирегал в жертву, мы наверняка обретем благосклонность дэвов, и они даруют нам мир, хорошие урожаи и смирную воду. Своим благоденствием народ будет обязан вам. Мы воздадим вам великие почести, и будем поклоняться вам, как дэвам! Ложитесь же на этот камень и примите смерть с радостью — и, живя на небе, не забывайте о нас!
— Пропади ты!.. — отмахнулся от него Шем-ха-Гил. — Да возьмут тебя гуллы со всей твоей бредовой мудростью и кровавыми обычаями! Чем без толку лить на камни овечью кровь, лучше занялся бы делом! Не надо просить дэвов о милости. Учите дикарей уму-разуму, вместо того чтобы нападать на них и обращать в рабство, — и будет мир. Прочитайте книги по земледелию, работайте умно — и будут хорошие урожаи. Прокопайте каналы, как я многократно объяснял вам, — и вы усмирите Евфрат! А теперь — прочь с дороги! Мне не нужен твои нож, Зуэн, чтобы попасть к дэвам!
— Горе! — воскликнул жрец.
— Твой разум опять помутился!.. Придется нам помочь тебе довести до конца то, что ты хотел совершить, но в последний момент отступился!
Зуэн махнул рукой, и десяток воинов-полукровок, детей от смешанных браков людей и дикарей, вооруженных заостренными палками, двинулись к Гилу и Мирегал.
— Стойте! — кричал мелх, обнажая меч, ослепительно сверкнувший на солнце. — Убирайтесь! Этот меч я получил от дэвов в Асгарде для того, чтобы разить нидхагов и гуллов. И поскольку ты, Зуэн, не видел ни тех, ни других, я поясню: это злобные твари, похожие на тебя и твоих приспешников. В моих руках еще достаточно сил, чтобы изрубить вас всех в куски!
Толпа обступила старого мелха и его жену. Сквозь плотные ряды людей протиснулся старик и присоединился к окруженным.
— Я с вами! — шепнул он. — Не бойтесь. Это трусы и ничтожества, они сразу же разбегутся, отведав асгардских мечей.
— Бхарг, милый! Я знала, что ты не оставишь нас! — По лицу Мирегал текли слезы.
— Пропустите их, — хмуро сказал Зуэн. — Пусть идут, куда хотят, безумные.
— Идем с нами, Бхарг, — сказал Гил.
И они втроем молча пошли вперед, к пирамиде, и начали долгий подъем по каменным ступеням. С первого уступа Гил швырнул вниз, в безмолвную толпу, свой эйтлан на золотой цепочке.
— Сохраните эту вещь! — крикнул он. — Когда дэвы захотят говорить с вами, вы услышите их голоса в этой коробочке. И прощайте!.. Да, в своем доме я оставил для вас книгу о днях до потопа. Прочтите ее и запомните, там все до единого слова — правда… Не молитесь звездам и идолам, не проливайте человеческой крови, не воруйте! Не допускайте в свое сердце зависть; перестаньте творить разврат в капищах Ашт — ведь это была злобная, мерзкая ведьма!.. Все мои прощальные советы я начертал на камнях, которые вы найдете в моем доме. Но главную заповедь я скажу вам сейчас. Помните, кто вас создал! Помните, кто вы! Люди, кровь дэвов течет в вас! Идите по пути добра, ибо черный дух не дремлет! Вы созданы, чтобы стать дэвами, — дэвами, а не тунами!
Поднявшись на следующую ступень, Гил снова обратился к людям:
— Прощайте, братья мои! Возлюбленные мои безумцы, гуллы бы вас забрали! Я любил вас, и не моя вина, что потоп помутил ваш рассудок. Прощайте!..
Гил, Мирегал и Бхарг поднимались все выше и выше по крутым ступеням и вскоре скрылись из виду.
Толпа внизу, постояв какое-то время, наконец в безмолвии разошлась.
Рано утром юноша Ушумгал, сын дикарки и Абирана, сына Хайра, вбежал в глиняное жилище жреца Зуэна. Мальчик был возбужден до крайности, колени его тряслись, а глаза постоянно закатывались, выворачиваясь белками наружу, как у припадочного.
— Я видел, видел! — лепетал он дрожа. — Я своими глазами это видел! О, великий жрец, дозволь мне сказать, что я видел!
— Сядь и говори спокойно, — приказал Зуэн. — Я слушаю тебя.
— Сегодня ночью я гулял возле магдела, о великий жрец, со своей подругой Гештинаей. Вдруг мы услышали шум, идущий с неба. Я поднял голову и увидел — молю, верь мне, это правда! — сияющее голубое колесо с глазами по краю. Оно летело, вращаясь вот так, и светило сильнее, чем сам великий Син! И колесо это опустилось на вершину магдела, и в нем отворилась дверь, и оттуда вышли трое — о жрец, я не могу описать их! Великий страх охватил меня, когда я их увидел; я окаменел и не мог шевельнуться… Их лица сияли, золотой ореол обрамлял их головы, и от них исходила неведомая грозная сила! Я увидел, как к этим трем светлым фигурам — а это были дэвы, о великий жрец, воистину это были дэвы! — подошли три темные фигуры. Я узнал их — это были мелх Шем-ха-Гил, жена его Мирегал и Бхарг аби Нуам. Дэвы взяли их за руки и повели туда, в светящееся колесо. И когда эти люди один за другим входили в дверь, они преображались, о великий жрец, да, да, они преображались, пересекая порог чудесного колеса. Их волосы вспыхивали золотым огнем, они становились выше, стройнее, их тела наливались светом, они становились дэвами! Пусть лопнут мои глаза, если я лгу! Все это продолжалось один краткий миг, и небесное колесо полетело вверх, все выше, выше, пока не превратилось в маленькую голубую звездочку. Тогда я упал на землю, и всю ночь пролежал там в великом страхе, и молился государыне Ашт, чтобы она смилостивилась надо мной!.. Все, что я сказал, правда, и моя подруга Гештиная может подтвердить каждое мое слово, о великий жрец!
— Хорошо, Ушумгал. Благую весть ты принес нам. Дэвы вернулись! Мелх Шем-ха-Гил, Мирегал и Бхарг живыми вошли в эликон! Это великий праздник для нашего народа, и мы должны достойно встретить его. Я пойду оповестить народ. Ты же, Ушумгал, беги, приведи свою подругу к магделу и жди меня!
Весь день продолжался праздник. Во славу великих дэвов неугасимо пылал жертвенный огонь, на священные камни рекой лилась кровь овец и коз. Ушумгал и Гештиная поведали всем собравшимся о том, что видели ночью; народ ликовал. Нинул, дочь Эалин и Аги, по приказу Зуэна за два часа с помощью десятка рабов вылепила гигантскую статую Шем-ха-Гила, в самую середину которой был вмурован священный эйтлан.
— Пусть же сегодня вслед за Шем-ха-Гилом отправятся к дэвам все, кто этого достоин! — вскричал Зуэн под ликующие вопли толпы.
И вновь полилась кровь на жертвенные камни. Дымясь, капала она на топкую землю, и была она красней и горячей, чем кровь скота, ибо это была кровь дэвов…
Первыми были принесены в жертву Ушумгал и Гештиная; взявшись за руки, радостно устремились их освобожденные души к небу туда, где в сияющей вышине раскинулся Асгард, небесная столица дэвов. И за этими двумя последовали многие, многие другие…
Но кровавое празднество было прервано внезапно и страшно: могучий Евфрат, грозно разлившись, хлынул в поселок, смыл кровь с жертвенных камней, смыл и самые камни, и глиняные хижины, и даже грандиозный, но, увы, тоже глиняный магдел. Люди в страхе бежали на запад, многие были сметены потоком и соединились с дэвами, миновав ножа Зуэна. Те же, кто выжил, вернулись спустя месяц, чтобы найти лишь толстый слой ила и обломки своих жилищ.
Но люди не пали духом и отстроили все заново, еще хуже и уродливее, чем раньше, но отстроили; и так много, много раз они уходили и возвращались, находя развалины, и строили, строили, строили… Дома становились все меньше, делаясь похожими на звериные норы, но люди не отчаивались и знай себе работали.
Дайте им время, о великие дэвы! Дайте им время! Они поумнеют, они еще вспомнят, они научатся! Не надо их торопить. Смотрите, вот прошло каких-то пять-шесть тысяч лет, и — кто бы мог подумать? Они уже возрождаются! Вот поднялись из праха шумерские города. Вот и потомки Кама в Египте, пообвыкнув, начали вспоминать: а как это мы строили магделы?..
Пусть время идет своим чередом. У них еще все впереди. Ведь это — люди.
Эрнест Маринин Узник
День первый
В грохоте рвущейся атмосферы, заслоняя звездное небо взмывшим горизонтом, планета обрушилась на корабль каменной грудью и помчалась дальше по орбите, унося на себе смятую жестянку с полураздавленным человеком в кабине.
Это была всего лишь неудачная посадка, но именно так представилось все Олегу, когда он пришел в себя. Он был один в корабле. Он возвращался на Землю. Вернее, его отправили на Землю. Выгнали за трусость. Но он не был трусом. Он был осторожен и предпочитал обойти опасность, а не преодолеть ее. Правда, если другого выхода не оставалось, он шел напрямик и пробивался. Но он всегда предпочитал другой выход. Виновато было не в меру богатое воображение. Оно подавляло его, жило самостоятельно, не подчиняясь логике, нанизывало страхи связками, как баранки. Он видел все маловероятные и невероятные опасности и по склонности характера избегал их. Но его не поняли, сочли трусом — и выгнали. Дали корабль, рассчитали маршрут, но в космосе можно рассчитать не все — корабль лежал разбитый на планете, которая неслась по орбите вокруг быстровращающейся звезды. У таких звезд планет не бывает. Но у этой была.
Закрыв глаза, он шептал: «Не больно, не больно, не больно…» Эти слова вспыхивали в темноте, где-то вдали, узенькой светящейся строчкой, надвигались в оранжевом сиянии и исчезали, уплывая за затылок. Так повторялось много раз. Потом боль прошла. Он подумал, что надо встать, и ужаснулся, представив, с каким звуком будут выдергиваться из обшивки кресла изломанные ребра, — и рванулся вперед, пока страх не успел сковать мышцы. Он встал, замер, покачиваясь, вдохнул воздух пересохшим ртом и осторожно, не веря, медленно повернулся. Руки слушались его, движения не причиняли боли. Все было цело. Он опустился на подлокотник и хрипло рассмеялся. Он наконец поверил, что жив и цел, и ощущение вновь обретенной жизни наполнило его бесконечной радостью.
«Дельта» была трупом. Погиб вычислитель. При ударе микромодули треснули, рассыпались и теперь лежали на полу красивыми кучками разноцветной крошки. Систему регенерации, правда, можно было восстановить. Месяца за два. Разбилась вся электроника. Ручное управление уцелело, но разрегулировалось. А какая разница? Все равно не было вычислителя, почти не было горючего. Продукты уцелели, но кислорода хватит максимум на неделю.
И вообще, что снаружи? Почему-то он еще об этом не подумал.
Он подошел к иллюминаторам. Желто-серые камни и скалы без следа растительности, какое-то нелепое серо-розовое небо. И заметный ветер: по небу ползли лиловые кляксы — облака, что ли? — и еще пыль вдруг взлетала столбиками и уносилась в сторону. Вверху воздух был прозрачен, а вдаль видимость резко ухудшалась. Похоже на клюквенный кисель, разбавленный водой из лужи. Он хотел взять пробу воздуха, но анализатор, естественно, не работал.
«Надо выйти наружу. А если там какая-нибудь дрянь живая?» Ему тут же показалось, что в киселе мелькают тени. «Да нет, не может быть, чудится мне со страху. Нет тут никого!» В розоватой дымке ничего не было видно, он снова подумал, что пора выходить, вздохнул и, спиной чувствуя близкую опасность, пошел за скафандром.
Долго стоял в шлюзе, не решаясь открыть люк, и думал: «Эх, если бы бог был! Я бы уж от души помолился: господи, сделай из этого киселя нормальную атмосферу — чтоб дышать, чтобы было прохладно и свежо, и с запада тянуло жасмином, а с юга, к примеру, ландышами… Эх!» Он тяжко вздохнул, сцепил зубы и открыл люк.
Походил для порядка вокруг корабля, а потом сказал себе: «Кончай тянуть. Надо пробовать воздух. Если годится — порядок, будем жить».
Это был воздух, настоящий, чистый, прохладный, как летним вечером, немного сухой и пыльный. И он слегка попахивал киселем. Олег принюхался. Точно, пахло клюквенным киселем. Анекдот! Снова налетел порыв ветра. Олег вздохнул — и ему стало нехорошо. Ветер принес легкий запах жасмина.
«Черт побери, значит, все-таки бред! Или это частичный бред? Самовнушение. Подумал о жасмине и внушил себе, что слышу запах. Ну, тогда я гений самовнушения. Гений аутогипноза, И вообще гений. Я — Наполеон». Он сложил руки на груди, выпятил живот и опустил голову, надменно глядя исподлобья. Наполеоновская прядь волос непривычно щекотала лоб. Он попытался убрать волосы и, естественно, наткнулся на шлем. Рука скользнула по гладкой поверхности и сшибла наземь… треуголку.
Это был совершеннейший идиотизм. Наваждение. Он припомнил старинное заклинание и шепотом произнес: «Сгинь, нечистая!» Треуголка не сгинула. Тогда он, пятясь, вернулся к кораблю. Забрался в шлюз, прикрыл люк и, прицелившись через щель, коротко нажал кнопку пистолета. Треуголка вспыхнула неярким пламенем, слишком желтым на грязно-розовом фоне неба, долго горела, потрескивая и распространяя запах паленого. Потом ветер унес дым и пепел, на камне осталось только пятно копоти. Олег снова вылез наружу, шепча: «Раз-два-три-четыре-пять. Вышел зайчик погулять. Зайка беленький, зайка серенький. Заюшечка».
В этот момент раздался странный звук, что-то вроде легкого всхрапывания. Не раздумывая, Олег отпрыгнул в сторону, укрылся в расщелине и осторожно выглянул из-за камня. Там, где он только что стоял, возник заяц. Нет, кролик. Он шевелил раздвоенной губой, принюхивался, приседал.
Бред зашел слишком далеко. Возможно, это было отравление какими-то составляющими местной атмосферы. Или просто предсмертные видения. Только неизбитые. Говорят, человек перед смертью видит родных и близких, а тут ахинея. Зайчики-кролики. Жасмин. Шипра только не хватает.
Тут же потянуло шипром. Тяжелый, с детства ненавистный запах заполнил легкие. Олег кинулся в корабль…
Примерно через час он успокоился, встал и подошел к иллюминатору. Снаружи стало светлее. Камни заливал ровный свет. Небо очистилось от клякс и потеряло серый оттенок. Большое красное солнце заметно грело через стекло. Прямо против иллюминатора сидел давешний кролик. «Голодный, наверное, — подумал Олег, — морковочку бы тебе. Оранжевую, хрустящую, с зеленым хвостиком».
Морковочка возникла. Довольно крупная каротель. С хвостиком. Повисела в воздухе и упала перед кроликом. Тот, приподняв зад, переступил лапками, подобрался поближе и начал сосредоточенно жевать. Хруста через стекло слышно не было, но Олег представил его себе, и ему самому захотелось моркови. Под язык набежала слюна. Он сердито отвернулся — и увидел морковку. Она висела в воздухе посреди кабины и покачивалась. Удивляться уже надоело. Олег поймал морковку за хвостик, обтер рукавом и съел. Морковка была настоящая.
Он расхаживал по кабине, старательно поворачиваясь через левое плечо; на ходу думалось легче.
«Страна чудес. А я — Алиса. Алиса Александрович Блинов. Планета воплощенной мечты. Что хочу, то и воплощу. Интересно, как они это делают? То есть кто „они“? Почему обязательно „они“? Ну она. Сама планета. Или я? Будем считать, что это взаимодействие пси-поля с полями планеты. И вообще, какая разница, как это получается?»
Он сосредоточился и представил себе табуретку. Старинную, из музея. Деревянную, квадратную, некрашеную. С дыркой для руки и с гвоздями.
Табуретка получилась. Деревянная с дыркой. Крайняя доска слегка треснула. Гвозди наличествовали. Один даже здорово торчал. Олег поискал глазами, чем его вбить, не нашел и ударил каблуком. Гвоздь спрятался. Значит, не видение и не сгусток поля. Обыкновенная табуретка. Он сел.
День второй
Утром он собрал вертолет и отправился на разведку. Внизу проплывало однообразное каменистое плато. На этой планете не было ничего, кроме камней и пыли. После трех часов полета он повернул обратно. Что-то беспокоило. Мерещились мезозойские чудища, обнюхивающие «Дельту» и ворочающие ее уродливыми лапами. Он постарался отогнать эти мысли и увеличил скорость.
Корабль был на месте. Он только перевалился набок и на нем появились свежие царапины. И что-то изменилось вокруг — камни, что ли, не так лежали, а между камней виднелся след. Отпечаток громадной куриной лапы. Очень четкий оттиск. «Так… Страшновато здесь думать. Это я ведь его создал, когда летел сюда, черт побери», — пробормотал Олег и вернулся к вертолету.
Поднявшись метров на двести, Олег заметил в стороне движущееся пятно. Он выключил двигатель, немного отдал ручку и бесшумно пошел вниз на авторотации. Это был зверь — вроде кенгуру, только размером с автокран. Двигался он плавными прыжками, грациозно отставив хвост. Какой-то хищный динозавр, из крупных.
Олег ударил его лучом прямо между выпяченных глаз — желтых, свирепых, с вертикальным зрачком. Потом полетел к кораблю. Тот лежал на боку, и люк теперь был под ним. Аварийный люк заклинило еще при посадке. Внутрь попасть было невозможно. Олег долго бессмысленно топтался возле аварийного люка, дергая рычаг замка, потом решил выжечь замок лучом. Тугоплавкий металл поддавался медленно. Оранжевые брызги разлетались в стороны, ветер относил густой дым. А потом луч исчез — сели аккумуляторы. Олег отбросил пистолет, опустился на камни и заплакал.
Потом встал, с трудом выпрямился и пошел, спотыкаясь о камни, не выбирая дороги, не задумываясь, куда и зачем. Шел и думал: зачем идти? Какая разница, когда это случится, — через два дня или через две минуты? Все равно в конце концов будет лежать в красивом серебристом скафандре белый скелет.
Он споткнулся и остановился. Он споткнулся о скафандр — когда-то красивого серебристого цвета, а теперь желто-серый от пыли. Олег наклонился и стер пыль со шлема. Внутри был череп — белый, с темными провалами глазниц и носа, с отвалившейся нижней челюстью. Это был его труп. Он понял это сразу, и ему стало так страшно, как никогда.
Он побежал, оступился на камне, упал, снова вскочил, заметался на одном месте, бессознательно срывая с себя шлем, опять упал, ударился головой о камень и потерял сознание.
Большой рыжий муравей прополз по тыльной стороне ладони, остановился, деловито подергался в разные стороны, как будто принюхивался, потом перебрался на травинку и исчез. Олег оперся руками и с трудом приподнялся. Он находился в низинке, заросшей густой мягкой зеленой травой. Слева, на холме, колыхались под ветром длинные висячие ветки двух березок. За извилистой линией ивняка журчал ручей. По розовому небу плыли редкие малиновые облака.
Лето, далекое деревенское детство. Он сорвал длинную травинку, жевал сладковатый стебелек — уже на ходу. Шел, сунув руки в карманы, уверенно, улыбаясь, и усталость теперь стала приятной, теплой и мягкой. Повеяло свежестью надвигающегося вечера. Надо было думать о ночлеге. Наверное, он бы не замерз просто в траве, но перед глазами на фоне заката вдруг выросла до зенита надпись черными буквами с лохматыми потеками внизу: «НОЧЬ» — и сразу стихло журчание ручья и шелест листьев, отдаленным громом пронесся тяжелый рев, и едва заметно потянуло зоопарком.
Олег плотно застегнул ворот и сосредоточился. На склоне холма встала кубическая бетонная громада. Высоко вздымались глухие серо-зеленые стены, в передней чуть поблескивала в сумерках утопленная стальная дверь.
Олег подошел к двери и уперся в нее плечом. Дверь медленно, с едва слышным рокотом повернулась и стала поперек проема, наполовину загородив его своей метровой толщей. Олег вошел внутрь, с усилием повернул дверь обратно и запер массивными поворотными засовами. Нащупал на стене выключатель. Вспыхнул слепящий после сумерек свет. Постепенно глаза привыкли, и стала видна легкая деревянная лесенка, круто поднимавшаяся на второй этаж. Она упиралась в горизонтальную стальную плиту. Олег поднялся и приложил к плите ладонь — щелкнуло реле, заурчал мотор, плита повернулась. За ней открылся ярко освещенный коридор, выходящий в просторный зал. Олег прошел коридор, задвинул за собой тяжелую стальную дверь, с внутренней стороны обшитую дубовой панелью, и перевел дух.
День третий
Утром он отправился к кораблю. И создал кротов. Наверное, они мало напоминали настоящих, но копать эти зверюги умели и копали в нужную сторону. Они прорыли канаву под кораблем до самого люка, а там сразу полезли вглубь; больше они нужны не были.
Первым делом Олег нашел запасные аккумуляторы, подобрал пистолет, зарядил и повесил на бок. Потом взялся за регенераторы. Чинить было легко — все, чего не хватало, создавалось на месте. Но работы было все равно много…
День четырнадцатый
Корабль уже не лежал, а стоял, нацелившись в зенит, баки были полностью залиты, все системы отлажены. Работы оставалось совсем немного; собственно, он мог бы улететь через час. Но вычислителю требовалось время для расчетов. Олег кончил работу рано и улетел в замок с твердым намерением отоспаться.
Среди ночи его разбудило ощущение беспокойства. Он забыл закрыть наружную дверь! Встал, зажег свет и пошел к выходу. Тяжелая плита, перекрывавшая лестницу, начала плавно поворачиваться, и тут страшный удар снизу сорвал ее с оси. Из отверстия полезла огромная, в рост человека многорогая голова, пасть раскрылась, обдав Олега зловонным выдохом. Олег закричал и рванулся обратно. Он успел закрыть дверь зала и прислонился к ней, переводя дух, но тут же упал, отброшенный могучим ударом с той стороны. Потом дверь рухнула вместе с куском стены, в проеме показалась бессмысленно свирепая морда и метнулась к Олегу. Он схватил со стула пояс с лазером и помчался к лифту. «Муха» рванулась в небо прямо из колодца.
Замок как будто стал вдвое длиннее. Рядом с ним высилась округлая металлическая блестящая гора. Она вздрагивала и шевелилась, и замок тоже шевелился, по нему пробегали черные трещины, крыша раскололась, оттуда вырвалось пламя, и в нем поднялась почти до вертолета длинная шея, толстая и блестящая, как ракета на старте; она все вытягивалась, выпрямлялась, голова с раскрытой пастью тянулась к вертолету… Олег бросил машину в сторону, и вслед ему из пасти вылетела длинная огненная струя, пронеслась намного выше «Мухи» и, рассыпавшись, упала вниз, на траву. Трава загорелась.
…Олег ворвался в кабину корабля и, левой рукой затягивая ремни, правой включал системы. Теперь надо было ждать пять минут, пока корабль приготовится к старту. Засветились экраны. На левом зеленая точка двигалась к кораблю. Олег сразу включил прогрев, хотя еще было рано. Рука лежала на рычаге тяги, но он ждал, сцепив зубы, потому что корабль не был готов. Четыре минуты тридцать секунд. Дракон был уже совсем рядом. Олег дал малую тягу. Из дюз ударило пламя, мгновенно испепелило траву и подняло пыль. Дракон остановился и выплюнул струю, но она не долетела. Ну, наконец! Он врубил полную тягу, и корабль рванулся кверху.
День пятнадцатый
В 10:30 бортового времени Олег стартовал к Земле. Он решил идти на двойной перегрузке все полтора года. Будет плохо, но зато потом будет Земля. Родина. Планета, где можно видеть сны. Можно не бояться. Может быть, он встретит Лену. И сделает что-то такое, что докажет ей. Докажет, что бездумная отвага — не главное. Конечно, жаль, что там, на Земле, он уже не будет Алисой. Но у него достаточно хорошая голова, чтобы и без чудес сделать кое-что. Например, вернуться на эту проклятую планету. Конечно, не одному. Если разгадать тайну чудес, тайну этого хитрого поля и научиться воспроизводить его… Кстати, этой будущей экспедиции придется довольно весело. Сперва они встретят огнеплюйного дракона. А потом придумают своих. Идея! Елки-палки, экран! Самый примитивный экранчик-давилка. Сеточка на голове, через сеточку — слабый ток. Какие-нибудь высокочастотные колебания — и проблема решена!
Он так обрадовался, что не сразу услышал сигнал тревоги. Но тут выключились двигатели, сразу наступила невесомость, кресло спружинило, и он крепко долбанулся головой в потолок. От потолка его отбросило обратно, он ухватился за кресло и удержался. Что это? Быстрый взгляд на пульт: горючее кончилось. И вычислитель отключился — ни одна лампочка не горит. Да что же это делается? Он рванул дверь приборного отсека — и сразу все стало ясно. Там было почти пусто. Исчезло все, что он устанавливал при ремонте. Точнее, то, что он сам создавал, воплощал. Где-то шипел газ, где-то капало, журчало. Очевидно, корабль уже вышел за пределы магического поля, и потому все созданное исчезло. Разрушилось, испарилось… И снова, как пятнадцать дней назад, вспухала на экране желтая планета, готовясь поглотить разбитый корабль.
День двадцать шестой
Олег проснулся рано и, упершись локтем в подушку, долго глядел на спящую Лену. Жена… Любимая… Вот она — рядом. Она? Да, она! Настоящая. Почти… Но это все равно, теперь у него вся жизнь, такая — почти настоящая.
Лена появилась однажды вечером, потому что он не включил генератор глушителя. Он теперь, ложась спать, обязательно включал генератор, и ночи проходили спокойно, без неприятных визитов. Вообще все шло проще. Тогда он успел заполнить баки перед посадкой и сел нормально. Сразу построил дом, вырастил лес и траву, провел ручей. Потом слетал к месту первой посадки, собрал все настоящие детали. Понемногу ремонтировал «Дельту» — по инерции, потому что полностью восстановить ее он все равно не мог, а на придуманных деталях далеко не улетишь… В самый первый день сделал сеточку-экран и генератор. Действовало очень здорово.
А потом появилась Лена. В ту ночь она приснилась ему. Не такая, как в жизни, а такая, какой ему хотелось бы ее видеть.
Он заснул в кресле перед камином, и ему приснилось, что он спит в кресле перед камином. Поздний вечер… Лена подходит к нему, гладит по щеке, говорит: «Алик, вставай, пора спать ложиться!» — и смеется. Он, не открывая глаз, протягивает руку, привлекает ее к себе. Она сопротивляется, потом легко присаживается на подлокотник, склоняется к нему, щекочет длинными ресницами. Сердце сжимается от нежности.
Олег проснулся и открыл глаза. Камин почти погас, и в зале было темно, но он сразу узнал ее. Он вскочил и зажег свет. Она зажмурилась, закрыла глаза рукой. Олег ощупал генератор — так и есть, отключен! Он закусил губу. Пробормотал: «Подожди, Лен, я сейчас проснусь». Что же делать? Что ей сказать, как объяснить? Ладно, фантазия вывезет…
Ее глаза уже привыкли к свету, она опустила руку и смотрела на него с улыбкой, но тут ее взгляд изменился, она огляделась — и улыбка стала растерянной и робкой, а потом совсем пропала.
— Олег… Ведь ты же Олег, да?
— Ну, конечно, Олег, а кто же еще? — почти естественно улыбнулся он.
— Подожди, я ничего не помню, ничего не понимаю… Где это мы? Это ведь не «Гамма». А почему я в халате? Где все? Что случилось?
— Лена… Ты вот что… Ты сядь, да? А я все по порядку объясню.
Он усадил ее в кресло, сам устроился на ковре, боком, чтоб не все время глядеть ей в лицо. Она зябко поежилась, подобрала под себя ноги и натянула на них полу халата.
— Понимаешь, ты заболела на Регуле-4. Подхватила там какую-то дрянь, вроде летаргии. Эжен ничего не мог сделать, связи с Землей не было, тебя положили в гибернатор, и ты лежала два месяца, но пульс за это время уменьшился, еще что-то там стало ухудшаться, и тогда Янсон решил отправить тебя на Землю. И послал меня.
— А почему тебя?
— Ну… Не знаю, он так решил. И вот мы полетели на «Дельте» — ты лежала в гибернаторе, а я шел на тройной перегрузке, чтоб поскорей долететь. Сперва было плохо, а потом я заметил, что пульс у тебя стал стабильный и вообще показатели улучшились. Наверное, ты в анабиозе вылечилась. Но тут подвернулась эта планета. Понимаешь, я шел, конечно, рискованно близко к звезде, но она быстровращающаяся, планет не должно было быть. А вот — оказалась… От корабля воспоминание осталось… А потом я обнаружил, что эта планета необычная. Поля, что ли, какие-то. В общем, осуществляются желания. Вот подумаешь о чем-нибудь — и возникает. Ну, я сделал дом, тебя туда перенес, настроил гибернатор на пробуждение, но ты все спала. И вот сейчас проснулась.
— Странно… Я ничего не помню и совсем не чувствую, что болела… Все очень нормально, только в памяти провал…
— Ну, я не знаю, и никто не знает, это ведь чужая болезнь. Но теперь уже все хорошо, ты совсем здорова… И еще вот что…
Он встал, отвернулся и неожиданно охрипшим голосом сказал:
— Лена. Я тебя обманул. Я знаю, почему Янсон послал меня. Он знал, что я… что я тебя люблю… вот и послал, — он повернулся и смотрел на нее в напряженном ожидании. А она так и сидела, кутаясь в халат, опустив глаза к полу, а потом подняла голову, и он увидел, что она улыбается.
— Ах, Олег, Олег… Это все знали, кроме меня. Ты ведь мне ничего не говорил. Ну, может, теперь скажешь?
— …Алик… Я тебя буду звать Алик, ладно?
— А я тебя как?
— А как ты хочешь?
— Не знаю. Я еще не придумал. По-моему, Лена — лучше всего.
— По-моему, тоже.
— Кстати, Лен, ты вот что… на тебе эту штуку, — он снял сеточку, отстегнул генератор и передал ей, — нацепи на себя и пореже выключай. А то напридумываешь чего-нибудь. Я вот, когда первый раз сел, еще до этого экранчика не додумался, так я уж тут насоздавал…
Он замолчал, сосредоточился и сотворил второй комплект. Лена от изумления широко раскрыла глаза.
— Слушай, а как ты это делаешь?
— Ну, как… в общем, очень просто. Сосредоточься, представь себе почетче и поподробнее, захоти сильно — оно и возникнет.
Прохладный душ бил по коже. Олег наклонился и подставил спину. Приятно… Потом завернулся в махровую простыню, сел на край ванны и задумался. Итак, он счастлив… И от этой мысли ему стало тоскливо и тяжело.
День четыреста семьдесят пятый
Сашка уже наелся и уснул. Все-таки он похож больше на Олега — курносенький, бровки беленькие. Хороший мальчик, спокойный. Только первый месяц спать не давал, а потом — как отрезало. И вес набирает хорошо. Вот только он какой-то развитый не по возрасту — пятый месяц, а уже зуб лезет. Сейчас сосал — так укусил… И вообще, мудрый, видно, парень будет — когда не спит, все глазеет по сторонам, улыбается, а потом нахмурится, пальцы считать начинает. Смотрит на каждый по очереди, шевелит, будто загибает… Не пора ли ему под капор сеточку надевать? Кто их знает, детенышей, когда они соображать начинают. Надо с Аликом посоветоваться.
Тут Лена услышала тихий звон и рокот лифта. Хлопнула дверь. Теперь, наверное, он задвигает эту кошмарную плиту — ну да, вот дошел через пол мягкий толчок. Шагов не слышно — ковер заглушает. Лена считает: двенадцать, тринадцать, сейчас откроется дверь…
Открылась дверь, и вошел Олег. Наклонился над кроваткой, нежно коснулся губами румяной щечки. Потом сел рядом с женой, обнял за плечи, прижался лбом… устало откинулся на подушку.
— Горыныч слониху сожрал. Машу. И саванну зажег. Выгорело до самого озера. Вот черт никелированный!
— Слушай, ну убей ты его. Никакой ведь пользы от него, кроме вреда.
— Уже. Жалко было сперва — все-таки уникальный зверь. А потом решил: надо будет — нового сделаю. А до чего живучий оказался — четыре ракеты я в него всадил, а он еще дрыгался! А серые — тоже еще твари! Пяти минут не прошло, а они — тут как тут.
— Алик, а может и их?
— Нет, их нельзя. А то твои олешки сразу расплодятся, всю флору съедят, болеть начнут. Пусть поддерживают биологическое равновесие.
— Какой ты у меня умный, знающий и предусмотрительный!
Пошла на кухню. Олег пошел следом, стал в дверях в любимой позе привалившись плечом к косяку, руки в карманах. Смотрел, как она накрывает на стол. Она осталась такой же стройной и изящной, как и до Сашки, а лицо стало еще красивей. И она никогда не вспоминала того, что было раньше, до ее появления здесь. Только иногда они говорили о Земле. Но редко — они старались не говорить о Земле.
— Да, Лен, а Земля-то нас никогда не услышит — волны не проходят.
— Откуда ты знаешь?
— А я утром запустил «Дельту» на длинную орбиту. Локатор фиксировал ее до трех тысяч, а потом — как отрезало. Через два часа, когда расстояние уменьшилось, — пожалуйста, все в порядке. А с корабля, с настоящего передатчика, сигнал проходил все время.
— Она и сейчас на орбите?
— Да. Я оставил передатчик включенным. Конечно, до Земли он не достанет, но, может, кто-нибудь будет пролетать. Услышит SOS, сядет и заберет нас на Землю.
Олег заснул в кресле перед камином. Книжка упала на пол, рука, свесившаяся через подлокотник, налилась кровью, потемнела, резко проступили набухшие жилы. «Как он устает!» — подумала Лена. Она выключила верхний свет и подошла поднять книжку. Олег что-то невнятно пробормотал во сне, зашевелился и перевернулся на правый бок. Сетка у него на голове немного сдвинулась, и Лена увидела красные отпечатки там, где проволочки вдавливались в кожу. «Еще сетка эта ужасная, как он ее терпит?» Она осторожно сняла сеточку с головы мужа и сунула в карман куртки.
День четыреста семьдесят шестой
Первое, что увидел Олег, выйдя утром на поверхность, был корабль. Его верхушка сверкала за рощей в лучах поднявшегося солнца. Сначала он не поверил, но, когда пробежал через рощу и остановился на опушке, корабль открылся весь — покрытый окалиной, высокий, на трех могучих опорах, врезавшихся в опаленные камни. Люк был открыт, внизу стояли двое в скафандрах.
Его заметили. Ждали, повернувшись лицом; один положил правую руку на пояс. В люке появилась третья фигура.
Метров за двадцать Олег перешел на шаг. Приблизившись, остановился и тихо сказал:
— Ну, здравствуйте, земляки.
…Капитана Олег узнал. Это был Стил Т. Дэвидсон, командир трех звездных. Герой Земли. Олег представился:
— Олег Блинов, планетолог. «Регул-Гамма».
— Стил Дэвидсон, командир. «Сириус-Бета».
— Мистер Дэвидсон, я хотел бы побеседовать с вами наедине.
Капитан удивленно приподнял бровь:
— Пожалуйста. Садитесь, прошу.
— Скажите, вы идете на Землю?
— Да.
— Мне нужно на Землю. Мой корабль поврежден.
— Мы видели его на орбите, вашу записку прочли.
— Да… Вы сможете взять меня с собой?
— Конечно, Олег.
— Но, видите ли, Стил, я здесь не один. Со мной жена и ребенок.
— Мы можем взять и их.
— Нет, Стил, они должны остаться. Я не могу сказать вам всего, но… они не могут улететь отсюда.
— Вы не боитесь оставить их на планете?
— Нет, здесь безопасно, они хорошо устроены. Вы сами увидите. Но взять я их не могу. И объяснить вам подробнее тоже не могу…
— Вы не находите, Олег, что это звучит странно?
— Конечно, Стил, но я больше ничего не могу вам сказать.
— Ну хорошо. А что вы скажете им?
— Я скажу, что вы идете на Сириус, что вы дадите о нас знать на Землю, что за нами пришлют корабль. Я улечу с вами, но они не будут знать об этом. А потом я вернусь за ними.
— Так… А что я скажу команде?
— То же самое. Или что сочтете нужным. А теперь, — Олег встал, — прошу вас и весь экипаж посетить мой дом. Да, здесь можно ходить без скафандров. Планета абсолютно безопасна — в смысле атмосферы и микроорганизмов. Бластеры на всякий случай возьмите.
Обед прошел очень хорошо. Американцы хвалили все — и дом, и стол, и хозяев, особенно хозяйку. С удовольствием возились с Сашкой — таскали его на руках, пели непонятные песенки, а он весело гукал и таращил глаза.
— А теперь, — Дэвидсон встал, — нам пора. Завтра, в восемнадцать часов бортового времени, мы стартуем.
— Мы придем, — сказал Олег. — А сейчас я провожу вас до корабля.
Олег чувствовал себя негодяем. Необходимость расстаться с Леной и Сашкой угнетала его. В нем боролись два желания: вернуться на Землю, жить, как все люди, и навсегда забыть о страхе или остаться здесь, с любимыми людьми, на планете, где он научился быть властелином, но все равно оставался рабом — рабом своего страха. Вернуться — и стать человеком. И быть одиноким. Или остаться с любимыми людьми. Но разве они люди? Они ненастоящие. Он сам их создал. А Сашка? Он настоящий или нет? Или наполовину? Улететь — и предать. Пусть ненастоящих, но любимых. И любящих. Или остаться честным перед ними и собой — и остаться здесь навсегда, и всю жизнь тосковать по голубому небу и настоящим людям. И ненавидеть этих…
День четыреста семьдесят седьмой
Они уже попрощались с американцами и отошли подальше, к опушке рощи. Лена держала на руках спящего Сашку, Олег взглянул на них и вдруг понял, что ничего ему не хочется так сильно, как остаться здесь, с ними. Но он тут же подавил в себе эту мысль и сказал:
— Лен, подожди немного, я забыл одну штуку. Сейчас смотаюсь на корабль и вернусь, это всего десять-пятнадцать минут.
Он даже не поцеловал их на прощание.
В шлюзе «Сириуса» он остановился, упершись рукой в стену, зажмурился, прикрыл глаза ладонью. Сосредоточился. Постоял так несколько секунд. Открыл глаза. Рядом с ним стоял, упираясь рукой в стену, человек в потертом комбинезоне. Вот он поднял голову, посмотрел направо, потом налево — и повернулся, стал, глядя на него.
— Олег, — тихо сказал Олег, — это ты… или я? Черт, как обращаться к самому себе?
— Да, Олег, это я. В смысле ты.
— Ты ведь все знаешь, все понимаешь?..
— Да, я все знаю, все понимаю.
— Ты сделаешь все как надо. И еще: я создал тебя не совсем таким, как я сам. Ты лучше. Честней, смелей… Ведь ты же любишь их, верно? И для тебя не будет проблемы — уйти или остаться.
— Все верно, Олег. Не бойся. Счастливо!
— И тебе… Ну — давай!
Они крепко обняли друг друга и поцеловались. Потом двойник повернулся и быстро выпрыгнул через люк. Дверца захлопнулась.
Олег, тяжело дыша после бега, стоял рядом с Леной и смотрел на корабль. На обратном пути он сам нес Сашку, в который раз поражаясь, какой он теплый.
Олег попросил Дэвидсона найти «Дельту». Он хотел забрать свой скафандр и кое-что из мелочей. Они стартовали к Земле в три часа, а в 3:25 Олег вылетел из койки и увидел, как тают в черноте космоса стены каюты. Он успел захлопнуть щиток гермошлема и какое-то время летел, сдерживая дыхание, а звездное небо кувыркалось вокруг него.
«Все — мираж! Все! Теперь уже все! И пусть, пусть, так мне и надо, пусть!» — шептал он в отчаянии. «Ну что ж, наверное, пора умирать», — сказал он себе и потянулся рукой к замку шлема. Но тут навалился страх смерти — безобразный, огромный и бесконечный, как космос. Вращая руками, он сориентировал тело и включил ранцевый двигатель.
День четыреста семьдесят восьмой
Олег встал рано утром, когда на небе только начали светиться самые высокие облака. Роща была затянута дымкой, и роса блестела на сизой траве. Олег с удовольствием осматривал новый дом. Полуметровые бревна сруба заросли мхом, нависала над сверкающими окнами мохнатая тростниковая крыша. В гнезде на высокой печной трубе возились аисты…
И тут ему показалось, что над трубой мелькнул светлый дымок. Откуда? Никто не топил… Но, присмотревшись, он понял свою ошибку. Это был не дымок. Где-то далеко медленно опускался парашют. «Кому-то не повезло», — подумал он и бросился к вертолету.
Когда Олег подлетел, человек уже успел погасить парашют и возился с лямками. Он был в скафандре и шлеме и стоял спиной, поэтому Олег узнал его не сразу. Он выскочил из кабины и остановился в растерянности:
— Это ты? Откуда? Ты же улетел… Или ты третий?
— Улетел! Кой черт!.. Все мираж… Ничего, ничего здесь нет настоящего, кроме меня, идиота. Поверил, кретин… Миражи, ублюдки, создания, такие, как ты и она!
Олег стоял, опустив руки, не находя слов, а тот, снова отвернувшись и склонившись над парашютом, замолчал. Потом замер, как будто ему пришла в голову неожиданная мысль, и глухим, каким-то чужим голосом сказал:
— Ты уж извини меня, но я не третий. Я первый. И единственный!
Он резко повернулся, взметнул руку с пистолетом, и Олегу прямо в глаза ударила ослепительно алая звезда.
Ветер унес пепел, но обгорелые кости остались. Их пришлось закопать.
Когда он посадил вертолет во дворе, Лена еще спала. Он потихоньку прошел в ванную и долго отмывал руки горячей водой. Ему все казалось, что на ладонях песок и зола, и он продолжал тереть руки щеткой и мылом и думал о том, что проживет еще много лет и каждый день будет пытаться смыть с рук песок и золу…
Таисия Пьянкова Спиридонова досада
Велико Байкал-море восточное, широка Кызыл-степь полуденная, перевалист Урал-хребет каменный, а Сибирь-тайге и предела нет…Беспредельность! Она полна зовом надежды, в которой таится дух страды, чья благодать вседоступна, умей лишь причаститься к ней.
Человек, освободившись от суеты, обиды забудь, жадность умерь, доверься вечному, и тебе станет ясным то, о чем шепчутся под землею корни, о ком вздыхают столетние мхи, чей древний след на земле чуют мудрые звери… Ты поймешь голоса ветров, музыку солнечных струн, услышишь сказания осенних дождей; постигнешь такие были, от которых воспрянешь родовой памятью и, даст бог, сумеешь осознать, кто ты есть, кем и для чего ниспослан ты на эту и без тебя прекрасную Землю.
Ныне порядком наплодилось умников, до которых чесоткою прикипела немочь доказать ближнему, что души в нас не было и не будет.
Человек, приглядись к этому мудрователю, пожалей его: боль преждевременной изжитости глаголет в нем, разменявшем призвание свое на мелочь умыслов, раструсившем совесть по прилавкам сытости…
Случались и прежде такие умники; старые люди вздыхали им вослед, говорили:
— Многолико созданье божье: в одном ангел тешится, в другом — кобель чешется…
Что мы есть без души? Какими представляемся Господу в грехах наших? Столь часто поминая нечистых, не грешим ли мы бездуховностью своей?
Человек, скинь личину исполина, побывай в тайге милым братом. Кто знает, не твоего ли гостевания ждет она, чтобы поведать о заветном.
Побывай. Запомни все, что доверит тебе она. После перескажи внукам; зачаруй их удивлением и любовью к человеческой душе, а за нею дело не станет.
Ну а пока…
Послушай, о чем тайга поведала мне, и поверь, что все это было, было… А может, будет, когда нас не будет… Когда отомрет нынешний оборот жизни, и Земля попытается заново возродить для чего-то необходимого миру человека.
В неугаданные времена потерялся в тайге один очень нужный мужик.
Я говорю о Парфене Улыбине.
Необходим он был для едомян[6] тем, что умел дарить людям покой. Загорятся мужики злобою — бабенки не мешкают, за Парфеном бегут.
— Уйми, — просят.
Тот придет, слово скажет и… все. И мужики начинают расходиться по семьям, недоумевая: и чего это, мол, с нами только что было?! Семейные распри тоже гасил Парфен.
Не было во всем околотке такого человека, который ни разу не заворачивал бы до Улыбы со своей тревогою. И хотя все понимали, что творит человек святое дело, однако находились и такие фармазоны, которые шептались:
— Улыбе-то, пользителю нашему… ему ж черти пособляют людями командовать.
— Я вот покой от яво принял, а теперича думаю: вдруг да на страшном суде за его с меня спросится?!
Едомяне долгие годы не знали неурядиц, и потому им было не страшно потерять Улыбу.
Но когда Парфен перед зазимками ушагал в тайгу и не вернулся — народ запоохивал. Особенно бабы:
— О-е-ей! Кем же теперь мужики представятся перед нами, без Улыбы-то?
Один лишь местные целовальник Спиридон Кострома не раз и не два слетал в эту пору на второй ярус своего самого высокого в деревне дома, чтобы там, в богатой спаленке, накреститься до боли в плече.
Как-то, наломавши спину, выскочил он довольнехонький на улицу и вставился в бабьи пересуды своею отрадой:
— Так ему и надо, чертову послушнику. Не будет носом небо пахать. А то ишь… И сам-то он — Улыба… дерьма глыба, и жена его — Заряна… состряпана спьяна.
— Это ж кака холера тебя выворачиват? — осекла его скандальную усладу бабка Хранцузска, прозванная так за картавый язык. — Али надежду лелеешь, что Парфенова молодайка от горя-беды за тебя спасаться завалится? Ага! Подвинься да не опрокинься…
— Да у яво, как только привез Улыба свою Заряну с уезду, в тот же день стегна взопрели, — поддержала Хранцузску Акулина Закудыка. — Вот и сикует, бедный…
— Так его, горбатого — не суйся в щель, — засмеялся проходящий мимо рыжеватый мужичок. — Суди соня, да не забудь себя…
За такими откровениями и смехом не забывали едомяне и создателю напоминать о том, что Парфен им шибко необходим. Потому и тянули шея в сторону тайги.
Но прошла седьмица, миновала другая, и третья потонула в глубине времени. Люди притомились держаться навытяжке, ссутулились, нахохлились, да вдруг и обнаружили в себе, что всякая надежда потеряна.
Надежда потерялась, но сомнения среди народа все еще крутились…
— Уж больно Улыба с тайгою сроднен, чтобы она выдала его лихому случаю.
— И я так думаю — не может того быть…
— Куда там — не может, — упорствовал Кострома, — не может только лошадь, и та косится…
Упорствовал Спиридон и все реже получал отпор, поскольку правда его с каждым днем становилась неоспоримей.
Но торжества своего целовальник больше не выказывал. Он пристроился до общей печали и стал сочувствовать. С этим сочувствием привязался он и до Заряны. В дом, правда, к ней захаживать не насмеливался, а вот своим соседством начал пользоваться вовсю. Дворы-то ихние одним лишь заплотом разделялись. Услышит, что Заряна во двор вышла, оторванную от заплота досточку в сторону отведет, морду свою долгозубую просунет и начинает… сострадать — куда крепше угадать.
— Смиряйся, — говорит, — милая. Не перечь судьбе: она ить старатся на твою пользу. Глянь-ка сюда, какой я тебе перстенек припас… А то заходи ко мне — королевой уйдешь…
А в другой раз начинает:
— Гляди не гляди в окошечки, ходи не ходи за околицу, вой не вой дикой волчицею — не выкричать тебе радости, потому как я теперь — твоя радость. Без меня ты навек сирота…
Как-то осмелился Кострома через перекладину в заплоте ногу перекинуть. Но смиренная, казалось бы, Заряна тут же взяла вилы наперевес.
Спиридон лишь ухмыльнулся на это, однако ногу втянул на свою сторону.
Да следующим днем башка его лошакова опять обрисовалась в заплоте.
— Будешь так убиваться — глазыньки твои плесенью подернутся, личико заметет прахом, в головушке запекется о смерти думушка…
Ловок был Кострома языком работать. Этим бы заступом да хрен копать, а он с ним в душу полез. Заряне столь кроваво на сердце сделалось, что и на прочих едомян не осталось в ней силы глядеть приветливо. И получилось у нее так: идет ли по воду, зовут ли ее зачем, до нее ли кто пожалует — она ровно в щель закатилась: и тут, и нет ее. Что до Костромы, так для нее у заплота вроде воробей чирикает. Только Спиридон об себе воробьем не думал. Он даже командовать пытался:
— Чего ты мне копыта… подставляшь? Я чо? Волк какой? Зерать тебя собрался?! Любить хочу. Ты от Парфена такой любви и не чуяла. Повернись. Ну!
Зря Кострома голос бугаем настраивал: больше воробья в Заряниных глазах он так и не вырос. Этой вот жалкой птахою Спиридон как-то поутру и глянул из окошка своего высокого дома. Глянул да чуть и вовсе не лишился голоса. Сквозь протертое от морозной накипи стекло разглядел он, как сто раз похороненный им Улыба по декабрьскому снегу выбрался из тайги на дорогу, постоял растерянным человеком и направился к деревне.
Он обогнул поскотину, протопал вдоль изумленных дворов, повернул до своей калитки, взошел на крыльцо…
Костроме не было видно, как он вошел в избу, сколь крепко обнял Заряну, сказавши ей:
— Ну-ну. Все, моя хорошая, все! Не реви. Ты, похоже, и так на сто лет вперед наревелась…
Не видел Кострома и того, как Улыба опустился в доме на лавку, как задумался-затуманился…
Зато Спиридон видел, как собралась у Парфенова дома толпа, как люди стали натискиваться в ограду, набиваться в избу.
Он и себе заторопился туда же. Покуда народ осторожничал, Спиридон уже сопел от нетерпения, сидя рядом с Улыбою.
Короткий день декабря перекатил ленивое солнце на закатную сторону неба, однако в Парфеновой избе никто и не подумал о домашних делах. Люди ждали.
Тишина стояла такая, вроде бы она была обречена век терпеть свое молчание. Она лишь каким-то змеиным шипением встречала тех, кто изнемог от уличного ожидания, кто вознадеялся втиснуться в избяную духоту. Затем она вновь каменела, и только безнадежный голос Улыбы изредка признавался:
— Нет. Не могу. Не вспомню. Как отрезало…
Наконец Парфен поднял на людей глаза, спросил:
— Сколь времени я не был дома?
— Так ить сколь уж… — ответил за всех Селиван Кужельник, умный и ласковый старец. — Тебя идей-то еще перед Покровом[7] унесло. А ноне, считай, Никола[8] на носу. Ажно два месяца получается.
— Со днями, — уточнил Кострома.
Улыба за голову схватился.
— Неужели! Это какое со мною затмение было?!
— Ты, сынок, больно-то в нервы не кидайся, — посоветовал Кужельник. — Ить там, где страсть пирует, память на дворе ночует. Ты успокойся, поразмысли, а мы пождем, хотя и нам не легше твоего. Неясность звон сколь всех нас в страхе за тебя держала. Ты взгляни на жену свою молодую: твоя пропажа во столь глубокое горе опустила ее, что и с твоею подмогою вряд ли ей скоро оттуда выбраться. Она путем и реветь-то разучилась. Должно же на такие перемены оправдание отыскаться. Так что давай, вспоминай…
— Легко сказать — вспоминай, — горько усмехнулся Парфен. — У меня в голове ровно кто разбойный прошелся. Только того и не разграбил, что было до затмения.
— Тогда выкладывай ту сказку, котору ты до «затмения» сочинил, — вставился опять Кострома, но Парфену было не до подковырок.
— А сказка со мной сочинилась очень даже странная, — отметил он целовальников намек лишь тем, что нажал голосом на подсунутое им словцо, и стал выкладывать. — В ухода иду я по тайге, ситуха моросит, снежок посыпает. Помню — зазнобило меня. А уж отмахал я — лешак скоком не измерит. Поворачивать поздно: чую — лихорадка пеленать меня начинает. Скорей бы, думаю, до Журавков[9] дойти — там землянуха. И вот, по времени, пора бы мне к месту прибиться — ан нет: не та вкруг меня тайга. Вроде, не на Журавки я попал, а на Гуслаевскую лягу.
— Вот те на — времена: у кумы да шули![10] — воскликнул Кострома. — Гуслаевска мочажина где?! — спросил он так, ровно до него никто о том не хотел знать, и уточнил: — До нее следует на полночь идти. А Журавкины болота? Они где?
— На полдень, — пискнула какая-то бабенка.
— Ты чо нам мозжечок на сторону двигаешь? — пристал Спиридон до Улыбы. Это как же надо вывернуться, чтобы через грядку да на вятку?[11]
— Да черт его знает как, — пожал плечами тот. — Мне самому, когда бы кто рассказывал о таком вертовороте, не больно-то поверилось бы. Не могу взять в голову, какой дурниной отломал я этакий крюк?
— Ну, ладно, — взялся Кострома строить из себя основного допросчика, — вышел ты на Гуслаевску лягу, и што дальше?
— Дальше? — улыбнулся Парфен на его пристрастие, но обратился до Кужельника, давая понять целовальнику, что тут имеются люди и постарше его. — Дальше меня совсем закрутило: Гуслаевска ляга оказалась вроде бы Воложным торфяником. Но и в том я скоро засомневался, потому как появилась осина, которой на Воложках не имеется. А во мне уже колотье такое поднялось, вроде бы я еловой хвоей набит. И слабость — за стволы хватаюсь. Этак, думаю, недолго и себя потерять. Под ногами хлюпает. Ежели завалиться в сырость — к утру не поднимешься. А хворю во мне точно кто поджег — стенки печет, в голову дымом отдает, искрами. Кажется, то искры по тайге рассыпаются, озаряют ее. И в той «заре» я окончательно разглядел, куда меня вынесло.
— Ну?! И куда? — завозился Кострома по лавке от нетерпения.
Парфен не дал ему протереть штаны, ответил:
— На Шептуновскую елань.
— Э-вон! — всплеснула руками Акулина Закудыка, а бабка Хранцузска тут же вспомнила:
— Шептуновска елань деда мово, царство ему небесное, держала как-то при себе цельну неделю. Апосля так же вот… впал он в думную тяжесть. И зачала его сухотка глодать. А когда помирать собрался, меня подманил — я ишо сопленышем была. Поделился со мною тайною. Нашаптал он мне тоды, будто по елане по Шептуновской белые черти прыгали…
— Иде ты видела белых чертей?! — оборвала ее Закудыка.
— Не я видала — дед. Прыгали те черти и шипели меж собою. А потом уселись в каку-то медну лохань и укатили в небо.
— Вольно тебе городить-то! — перекрестилась Закудыка.
А Хранцузска сказала:
— Может, и не черти. Может, лунатики навалились ездить на Шептуны? Дед мой гадал, не в них ли опосля смерти душа человечья вселяется?
— Ты чо — по себе дура или с печи сдуло? — взъерошился Кострома. — Какие ишо лунатики? — так и разломил он бабкину весть, словно сухую ветку. — Нечистая сила набегает на елань. У нее там заведено проводить шабаш, — заявил он столь убежденно, что Хранцузска хихикнула.
— И откеля в тебе, Лукьяныч, уверенность такая живет? Али ты якшаешься с теми с чертями?
Кострома скраснел, оскалил долгие зубы. Не то укусить хотел бабку? Но мужики заржали, и он прикрыл оскал. Лишь заходили желваки.
А рассказ Парфена потек своим руслом.
— И вот… Гляжу я и вижу: под тем осинником сумерки рыскают, всякую пустельцу — рассовывают до зари по гнездам. Стало понятным, что в скорой темноте из этой блуковины мне и вовсе не выбраться. Я и прикинул: не лучше ли будет на елани заночевать. А что? Прогалина высокая, сухая, и трава на ней, в отличку от таежной, совсем еще зеленая.
— Эк тебя! — крякнул рыжеватый мужичок, словно не Парфену, а ему предстояло перебыть на Шептунах осеннюю ночь. А Улыба все говорил:
— На самой елани я не сдюжил устроиться. Насобирал по осиннику ворох листа и зарылся в него у оборка. Часок-другой передохну, загадал я себе, а там, поднимусь, костерок разведу, поужинаю. Дождик к той поре притих. Так, разве что капля с ветки сорвется. Разок щелкнула, другой, третий… И ущелкало меня в небыль. Уснул я, ажно застонал. И вот мне видится, что сияет вкруг меня красное лето. Через дремоту соображаю: такая благодать приходит к спящему тогда, когда человек околевает. Однако ж уверенность была во мне, что нет, не от внезапной стужи разжарило меня; в самом деле испарно. Не отворяя глаз, пошарил я возле себя, а ворох мой — только не вспыхнет. Тут уж — не до хвори. Сел, гляжу: вся округа светом отдает. Голову поднял, а над еланью висит, как говорит Хранцузска, медная лохань. Только не лохань, а скорее громадный клещ! Потому как многоног он и многоглаз. И не просто висит, а лапами пошевеливает, а лучами глаз по елани шныряет. Да еще жаром пышет, урчит… Мне бы подняться с вороха-то, бежать бы, а я сижу — рот раззявил. Какого лешего понять в той вражине вознамерился? Она же, на мой интерес, как чихнет! Подняло меня над землей да спиной о валежину — хрясь! Вот на том и память моя заглохла.
— Хребет перешибло? — тихо спросил рыжеватый мужичок, боясь того, что его слова покажутся глупыми.
— Ты чо, брат, опупел? — вставился Кострома. — Кабы Парфену расхватило становую жилу, он бы сщас сидел, толковал бы тут с нами?
— Бывает… — собрался рыжий оправдаться, но его опять перебил целовальник.
— У тебя и то бывает, што кобыла порхает…
— Цыц вы, порхуны! — прицыкнул на обоих почтенный Селиван и повернулся до Улыбы.
— Ну? А дальше?
— Дальше? — переспросил Парфен и по одному лишь ему различимым приметам приступил скорее догадываться, нежели вспоминать. — Дальше, кажется… я и не просыпался на елани, а может и вовсе на нее не выходил… Подозреваю, что вся эта небыль набродилась мне…
— Ни хрена себе бред — мужик на кол надет, — воскликнул целовальник. — Вот это побасенка… с поросенка! Как же так, Парфен Нефедыч? Вот ты вошел в тайгу, вот занемог, вот завалился — лежишь, бредишь. Неделю бредишь, другу, месяц, два… и все это чуть не у людей под окнами. Но никто на тебя не натыкается. И вот ты очухался, поднялся, как ни в чем не бывало воротился в деревню. Теперь сидишь перед нами, всяку галиматью собирать — ищешь из выводка выродка, кто бы поверил в твою брехню…
Тут надо сказать, что едомяне старались касаться Спиридону Кострому только тою нуждою, которая доводила их до Ивана Елкина[12]. И все, и ничем больше. Нет, они его не боялись и уважением не тяготились — просто не хотелось наживать лишнего греха, поскольку в каждом человеке видел он только дерьмо и страсть как любил покопаться в нем. И еще… Хотя морда Костромы была занавешена бородой, а все просвечивало в ней что-то такое, от чего пьяным мужичкам хотелось завалить целовальника и пощупать. Пока же Спиридон оставался непроверенным, соглашаться с его мнением никто не торопился.
Но на этот раз кто-то даже пособил ему:
— Парфен Нефедыч, и в самом деле… чо ты наводишь тень на плетень?
А кто-то и поддержал:
— Ты давай-то, обскажи все толком. Чо там тебе ишо набредилось? Может, золота шматок?
— А может, нозьма ломоток?
— Ха-ха-ха!
Но тут рыжий мужик сказал громко:
— Погоди ржать! Дай человеку оправдаться. А ты, Парфен, не суди убогих, — оборотился он до Улыбы. — Им, ровно с покойником, один бог судья.
— Ладно баешь, Яснотка, — одобрил его почтенный Кужельник. — Тут весельем и не пахнет. Тут соображать надо, что к чему. Ты и сам понимаешь, — сказал он Парфену, — в твоем случае никакой богатырь живым бы не остался.
— Та-ак, — сделал вывод Кострома. — Кто-то в тайге тобою попользовался. Признайся, что побывал ты на том свете. А теперь явился выходцем. Расскажи: кто тебя послал, зачем? Может, сам сатана снарядил тебя смущать нас? Он тебя и настроил городить тут всяку хреновину…
— Вот вам крест, — поднялся Парфен и осенил себя святым знамением, чего выходец с того света сотворить бы не сумел.
— Ежели я в чем и провинился, — признался он, — то лишь такая на мне тягота: из всего забытого помню, что кто-то шибко сладко меня кормил. И еще… просили петь… А когда пел, спину немного саднило…
— А ну-ка, сынок, — повелел ему Селиван, — покажи спину.
— С большой охотою.
Смахнул Парфен с плеча душегрейку, рубаху задрал — нате, любуйтесь.
Люда глянули — ба-а! Спиниша повдоль таким ли рубцом продернута, что никакого вечера не хватит удивляться.
— Да как же она могла у тебя не болеть?!
— Да нешто с тебя шкуру снимали?
— Да и кто ж это столь умело заштопал тебя?
Селиван осторожными перстами прощупал рубец, простучал позвонки, спросил — не больно?
— Нет, — ответил Парфен.
— А ить похоже, что гряда твоя становая в местах трех порушена.
— Это чо ж тогда получается… — опять закрутился Кострома. — Кто же, кроме нечистого, сумел такое чудо сотворить?
— Лунатики, — ответил ему Яснотка. — Разве они глупей сатаны, ежели по небу умеют ездить?
— Ангелы на клещах не ездют, — заспорил Спиридон. — Черти тут…
— Али ты у них в ямщиках? — спросил Яснотка и засмеялся.
— Гляди — узнаем: одним духом со второго яруса-то сдернем.
— Да-а, загадка, — протянул Кужельник и опять спросил:
— Как ты ушел… от лекарей-то от своих?
— Никак не уходил, — признался Улыба. — У околицы сегодня очухался. Сразу-то мне показалось, что я и часу не пролежал. А когда увидел, что по тайге зима гуляет, подивился не меньше вашего.
— И чо ж, и никаких следов не заметил вокруг себя на месте воскрешения?
— Кабы заметил, сказал бы.
— Ну так и скажи! — опять подсунулся Кострома. — Выклади, за каку услугу хвостаты лекаря тебя с того света отпустили?
Его цепляния Парфен больше претерпеть не смог; сказал, одернувши рубаху:
— Я те сщас… отпущу услугу! Отыскался мне — духовник — через трубу проник. Ступай, пса своего исповедуй. Спроси, пошто он у тебя калачи лопает, когда многие ребятишки от лебеды пухнут. Али, по твоим понятиям, ты тем самым создателю услугу творишь?
Да. Стыдил козюлю[13] Савва, когда она его кусала… Сумел-таки Спиридон напустить яду в деревенский покой: зашуршал травленый народ. Каждый посчитал полезным сунуться до Улыбы со своей охоронкою.
— Ой, Парфен, Парфен… смотри со всех окон: кабы на твое на чудо не позарилось бы худо…
— Кабы черти деньгой с тебя спросили, холера б с ними. Мы бы за тебя всею деревней выкуп наладили. А ежели поганые пожелают получить твоею душой?!
— Ить оне всю твою жисть пустят насмарку.
— Ишо Заряною могут оне взять…
Это уж люди потом упреждали Улыбу.
А тогда, зимою, Кужельник первым поднялся с лавки. Поднялся и повелел всем остальным:
— Довольно расспросов. Пора бы увериться, что Парфен Нефедыч тот самый человек, которому даже во сне одна только правда видится. Ить он мог бы нам наврать, что за это время в Москве побывал, и мы б ему поверили…
Потянулись тогда едомяне из хаты, один только Спиридон придержался у порога. Знать, душонка его, злонравием изъеденная, не могла уже не крошиться.
— Ты это… Парфен Нефедыч, — сказал он с подговорчивостью в голосе, — как только… чего ежели забрезжит сомнительного… не мучайся долго — меня кликай… прямо через заплот — я накарауле буду. Я это… бабкой своей ишо в зыбке заговорен. Вот у меня и ладанка, — вынул он из-за пазухи вкатанный в гутаперку клок седых волос, прицепленный на крепкий гайтан. — Она у меня каку хоть заваруху бесовску развеет…
Чем мог ответить Костроме Улыба? Гнать взашей? Так тот и сам догадался кинуть ладанку за рубаху и выскочить на улицу. Не догонять же его Парфену.
Спиридон Кострома за долгих два месяца, знать, основательно создал в себе Улыбу мертвецом. Столько, знать, силы потратил он на это создание, что теперь не хватало ее в целовальнике сотворить обратное.
Может, и стоило Парфену догнать в обсказанный вечер целовальника во дворе да снабдить его сторонней монетой? Хотя бы для того, чтобы еще в зародыше отсечь, ради самого же Костромы, пуповину того события, которое произошло через лето — осенью.
А может, и правильно, что не догнал. Однако тем же вечером Улыба сказал Заряне:
— Не поглянулся мне допрос. Не лучше ль было бы подохнуть на Шептуновской елани…
— Ну, вот тебе, — отвечала Заряна, — запели гуды на чужие лады… Радоваться надо, а он носом подхватывает. Господь не выдаст, свинья не съест
Она, Заряна Улыбина, насчет всякой напасти понимала так, что и господь в нас, и сатана в нас; не выпускай-де из себя ни того, ни другого, и проживешь на свете человеком.
Недавний Парфен соглашался с нею, а вот теперешний…
Дело в том, что теперешний Улыба ощутил в себе такую необычность: как бы взамен утерянной памяти обрел он в тайге особое чутье. Душу его ровно бы кто собакой натер. Ежели до этого случая он только покоил людей, то теперь… стала происходить с Улыбою еще одна странность: идет он, для примера, по улице, видит — мужичок-бедолага до кого-то торопится.
— Степан, — окликает его Парфен, — не до Дементия ли Лыкова бежишь?
— До Дементия, — остановится тот.
— Не намерен ли ты в извоз упряжную лошадь просить?
— Намерен. А чаво?
— Станет тебе Дементий Буланку давать, откажись.
— Пошто?
— Дорогою ляжет лошадка.
— Спасибочки. Не возьму.
И не возьмет.
А Буланка и в самом деле укладется. Только на собственном дворе. Для Дементия Лыкова такое горе не больно велико — у него целый табун гривами полощет. А каково было б Степану?
Как-то, перед майской грозою, почуял Парфен беспокойство насчет избы Котенкиных. Побежал. Хозяин на пахоту собрался. И жену с собой снарядил. Малых ребят в хате стоит запирает.
— Захар, — шумит ему Парфен, — ты бы лучше дома остался. Сердце мое вещует…
Остался Захар. А часом гвозданула молния прямо в кровлю; резной петух на коньке мигом распустил огненные крылья. Так Захар Котенкин успел того петуха с крыши согнать. А то чо было бы — подумать страшно.
Осенью большая ярмарка наметилась в уезде. Накануне Кострома прибежал до Парфена. Понадобилось ему подлизаться до Улыбы, чтобы узнать: выдержат ли колеса, ежели ему вздумается на телегу не одну, а две сорокаведерные бочки со хмельной брагою водрузить?
Улыба ответил Спиридону:
— Колеса выдержат; не лопнули б бочки…
— Чо ты меня пугашь? — захохотал Кострома. — Али на выручку мою завидки берут? У меня ж не бочки — крепости турецкие!
Укатил Кострома до ярмарки. Но не успел он версты три-четыре до торгов докатить — подвернулся ему на дороге этакий Добрыня-богатырь.
— Продай битюга[14], — привязался он до Спиридона. — Сколь хошь дам.
Ломовой жеребец Костромы не мог не поглянуться тому детинушке, поскольку были они друг дружке под стать: и в кость, и в масть сумели совпасть.
Целовальник и не думывал лишиться своего красавца, но торги затеял. Да такие горячие, что распалил Добрыню до белого каления. А напоследок и предлагает ему:
— Ежели, — говорит, — с этого места до торговых рядов, взамен мово ломовичка телегу с поклажей упрешь, тогда… будь по-твоему.
Ну чо? Взяли, выпрягли жеребца; детина — оглобли в руки, башку в хомут и попер. Да так лихо попер, что Костроме пришлось впробегушки пуститься. Хорошо, что при нем имелся работник — было кому битюга доглядеть. Одному бы Спиридону — хоть разорвись.
Ну вот. Скачет Кострома по одну сторону телеги, а по другую росточь идет. Не больно глубок буерак[15], но крут. Целовальник верещит:
— Хватит! Будет, чертушка трисильный. Перекинешь телегу-то… Пошутил я…
— Каки-таки шутки? — отвечает Добрыня. — Никаких шуток не признаю. Уговор дороже денег.
— Не было уговора, — визжит Кострома. — Не было! Одна только потеха была.
— Вон как?! Потеха? Ну щас и я распотешусь!
Богатырь тот башку из хомута долой, а сам оглоблями — круть! Хваленые бочки и взвеселились. И пошли плясать по овражному уклону.
Брага-хмель от пляски разгулялась в них: когда одна сороковка нагнала другую да, озоруя, врезала той зашлепину, обе охнули от восторга и прыснули радужной пеною выше дороги.
Мужики, которым повезло оказаться близко, коновки да ведра с возов похватали и… кубарем в разлог!
И не поверите! Не успела брага-милага скатиться по уклону пенистым ручьем, а кубарики те уже и посудины подставили.
Вот проворы!
И ведь набрали. Потом всю ярмарку перекликались да хохотали.
Им-то, конечно… Чего им не веселиться? А каково было Костроме? Спасибо еще, что Добрыня телегу в овраг не завалил.
Покуда лавошник на пустой телеге трясся обратной дорогою, все хватался то за голову, то за сердце; скулил да жаловался работнику своему на людское зло.
— Видал бы ты, как он лыбился при этом, — говорил Спиридон, поглядывая на спину батрака, который правил жеребцом и прятал в красивой бороде точно такую же улыбку.
Этот борода, моготой смахивающий на Улыбу, не так давно был нанят Костромой. А до него у Спиридона двое парней батрачили. Так они вдвоем не успевали делать столько, сколько делал он один.
Перед деревней Кострома, от жалости к себе, расскулился настолько, что стал обещаться:
— Щас приедем… спалю к чертовой матери Улыбу. Ей-бо спалю!
— Не божись, хозяин, — пробубнил на его клятву Борода. — Могет новая потеха случиться…
— Могет, могет… — не захотел его слушать Спиридон. — Могет, кто волокет… А кто ушами хлопат, тот жданки лопат… Сидишь, каркаешь! Нашелся мне… ишо предсказатель. Ступай, пособляй Улыбе… колдовать.
Одним словом, намолол Ерошка — не упечет и сношка.
Парфенова дома Кострома, понятно, не спалил. Побоялся, что пожар может перекинуться и на его собственное подворье.
Замыслил целовальник иную для соседа пакость. До случая с бочками он все юлил перед Улыбой, а тут дал понять, что и знать его не знает и замечать не хочет. Зато опять стал, где только можно, подкарауливать Заряну. Стал подговаривать ее молодость побеспокоиться о муже всерьез.
— Не то нечистая сила навалится на него внезапно и уволокет на Шептуновскую елань!
Дело дошло до того, что в глазах Заряны он на семерых Спиридонов расспиридонился: и в заплоте — он, и за пряслом — он, и в кусточке, и в лужочке, и на болотной кочке — кругом целовальник.
А тут как-то признался Парфен Заряне:
— Понимаешь ли, тянет меня на Шептуновскую елань. Не могу с собою справиться. Хочу знать, кто меня воскресил, за какие заслуги сошла на меня такая благодать — грядущее видеть, невзгоды чужие предугадывать?
— Может, с тобою, — гадает ответно Заряна, — такой перерод случился не от кого-то? Может, от удара проснулся в тебе ясновидец. Ведь ты и прежде не числился в бездарях.
— Хорошо. Ладно. А у кого я столько времени пробыл?
— В леснухе, может, какой забытье перемогал…
— А сила, которая шваркнула меня о лесину?
— Может, и не шваркала. Может, захворамши, ты в какую-нибудь водомоину запрокинулся. Там и спину о камень сбороздил и головой до беспамятства долбанулся.
— А рубаха без кровинки?
— Сам, не помня, застирал.
— Больно у тебя все просто объясняется.
— Зато ты… и себе разумение запутал и людям… навязал узелочков…
— Допустим: не было со мной на елани никакого чуда. Почему ж ты отговариваешь меня сходить на нее, чтобы проверить всякую правду?
— Боюсь новых пересудов.
Разговор случился перед самой ночью, а во сне Заряна видела, как гарцевала она, оседлавши сеношный порог, и с хохотом выкрикивала на всю деревню:
— Черти мово Парфена залюбили! Черти!..
Когда же утром отворила она глаза, а мужа рядом нету, тогда Заряна, не мешкая, стреканула задворками до Синего разлога, по косогорью поднялась до выпаса и через выбитую скотом луговину пустилась в тайгу — догонять его.
А по сибирскому раздолью, в березовой золотой рубахе, в бархатном чекмене[16] зеленой хвои, в рябиновых кудрях гулял хмельной сентябрь. Недолгое бабье лето дышало на него жаром последней любви. Горячие их головы туманились предчувствием скорой разлуки. Заряне же казалось, что Земля готовится сотворить небывалый разворот и над таежным краем опять воссияет малиново-смороденный июль, пчела полетит брать медовую взятку, разразится на лугах покос и…
О, этот лукавый мужичок Сентябрь! С ним надо держать ухо востро! У него огонь в голове, стужа в сердце.
Заряна ж доверилась оранжевому теплу — и унырнула со двора в чем была, вроде бы ей в миткалевом сарафане да линялой голубой косынке предстояло пробежаться только до поскотины.
Примерную дорогу до Шептуновской елани она себе представляла. Потому и понадеялась нагнать в тайге Парфена, но сколько она ни подхлестывала проворные ноги, их резвостью Парфен не догонялся. А солнце, затянутое осенней дымкою, очень скоро взялось коситься на ее выгоревшую косынку совсем с другой стороны неба.
К этой поре Заряна и оголодала, и перетрусила, да только вдруг услыхала она хруст валежника под чьей-то тяжелой ногой. Затем различила впереди спину человека. А скоро уловила и знакомый напев. Шагающий тайгою негромко выводил родным для нее голосом:
Велико Байкал-море восточное, широка Кызыл-степь полуденная, перевалист Урал-хребет каменный, а Сибирь-тайге и предела нет.Не станем говорить о том, когда вернулся Парфен из соседней деревни, куда бегал он по срочному делу, пожалевши утром разбудить молодую жену да сказаться ей об этом. Не станем и о том говорить, когда хватился Парфен Заряны.
Станем рассказывать, как Заряна, узнавши голос, вздохнула радостно и сказала себе — слава Богу!
Окликать Парфена она не стала, решила все страхи перетерпеть, а истину добыть. Хорошую истину. Чтобы воротиться в деревню и при всем народе сказать осточертевшему Костроме: нету на Шептуновской елани чертей. И пущай он отвяжется.
С тем решением и замелькала Заряна по тайге следом за голосом…
Вот она, окруженная осинником, таежная прогалина, которая должно быть и зовется Шептуновской еланыо. Тайгу уже обуяли сумерки, а прогалина видна оттого, что середка ее светится. И такое свет тот представление дает, ровно бы под травянистой поляною прячется земляника. Из земляники лаз отворен, чтобы кому-то виднее было отыскать подземный приют. Похоже, что там кто-то кого-то поджидает. Не Парфена ли?
Да. Но где же он?
Хватилась Заряна, а никого кругом нету.
Притихла она под кустом. Но сколь не ждала, никто на прогалину не вышел, и никто из-под земли не показался.
Затрепетала: ежели Парфеново дело чисто, какая причина столь ему сторожиться?
Ну, как ни трепетала, а намотанный ею за день этакий клубок таежного пути, взялся потихоньку слабеть да опутывать ее усталостью. Телесная тяжесть добралась до памяти, сгустилась в ней патокою дремы, затянула глаза липучими веками. Сон изготовился развернуть перед нею ковер небытия…
И развернул бы. Только вдруг позадь дремотной Заряны затрещал сушняк, завизжала ночь кабаньим выводком, следом реванул медведь да так, словно его шпаранул острой пикою дурной лесовик.
Заряна медлила ровно столько, сколь хватило страху времени пронизать ее от маковки до пят. Пятки ударили в землю и… только линялая косынка осталась на прежнем месте. Знать, цепкий кусток хотел придержать ее прыть, чтоб не расшибиться молодой в прыжке.
Спасибо — не расшиблась. Через миг ее пуганые глаза были уже озарены тем светом, что исходил из-под земли. Они опасливо ждали, кабы не высыпал звериный хоровод на прогалину.
Бог миловал — пронесло стороной. Скоро переполох рассыпался по тайге, а темнота поглотила всякие отзвуки ночного сочинения.
Когда Заряна отдышалась, увидела перед собой нору, что вела в подземелье. Нора эта вроде как служила узким горлышком крутобокому кувшину, наполненному чистым светом. Нутро кувшина было устлано чем-то белым, не то прикатанным облаком, не то мягкой кошмой, ворсинки которой отсвечивали лунным огнем.
Если б Заряна могла заглянуть поглубже, она бы, кажется, увидела в подземелье хозяйку ночного неба, тем более, что над тайгою взошли одни лишь какие-то мокрые звезды. Луна ж, верно, от сырости забралась в свое земное логово и отдыхает, покуда не наступила ее пора красоваться над околдованным тишиною миром.
То, что не было в подземелье ступенек, Заряну не удивило: для чего луне лесенка, когда у нее и ног-то нету. Поразило ее другое; как такая толстая барыня протискивается во сталь узкий лазок?
Но скоро она смекнула, что из белого уюта, знать, имеется другой выход. Может, где ворота распахиваются и Луна выплывает в небо на том самом клеще, о котором говорил Парфен. Вот и получается тогда, что чертей тут нету, а, скорей всего, заодно с Луной, прилетают на елань те самые лунатики, в которых, по словам Хранцузски, вселяются человечьи души, ждущие своей очереди определиться в новом теле. Говорят еще, что ночами они свешивают с Луны ножки и зорко всматриваются в ночную жизнь Земли — выслеживают разных злодеев, а поутру Господь обо всем от них узнает. Когда ж Луна отдыхает, они и в самом деле могут прилетать с нею на елань…
На всякий случай — вдруг кто ненужный узрит ее возле света — Заряна оттеснилась в темноту, где слилась с ночью, будто увязла в саже. Там она пошеборшила больно сочной для осенней поры травою и затихла…
Голова ее заново притуманилась дремотой, в сонном представлении поплыли смутные чудеса: вот бы из лесу опять послышалось родное пение. Только на опушке показался никакой не Парфен. А выкатал из чащи на елань этакий косматенький многолапый муравей величиною с кота.
Мордахой тот муравей и в самом деле пошибал на Котофея Иваныча. Разве что усы были куда как длиннее кошачьих и расходились на стороны этакими лучами. Да и сам он весь теплился огромным светляком.
Котофей катил на задних лапках, передними выкручивая так, словно пытался сотворить некий символ, но его никак не устраивал узор. Потому он опять и опять распускал лапки, чтобы тут же сплести новое изображение. При этом он смешно сердился, фыркал в усы и… похихикивал. Заряне показалось, что неудачу свою творит он умышленно: желает распотешить ее. Она и в самом деле почуяла безбоязненность, даже выпустила в траву смешинку. Тут же, правда, опомнилась, но Котофею, знать, хватило и такой ее смелости, чтобы без дальнейших выкрутасов взять и запеть родным для Заряны голосом:
Велико Байкал-море восточное, широка Кызыл-степь полуденная…Пел Котофей Иваныч, а глаза его сияли зеленоватым озорством. И столь они были ясными — звезды небесные и только!
«Скажите на милость, — каково умел да глазаст! — думала Заряна. — Хитер! При его уме почему бы и не распознать мудреную науку врачевания? Почему б и не поставить на ноги расшибленного Парфена?»
Покудесил Котофей Иваныч, попел — промялся. Устроился недалече и давай траву уминать. Быстрыми лапками стебли срывает и в рот. Оголодавшую Заряну завидки взяли: хорошо лунатикам живется — еда всегда под рукой. Людям бы так.
Глядит она, слюнки глотает. А Котофей наворачивает — за ушами трещит; лапы так и мелькают. Сам же озорно в сторону Заряны поглядывает, как бы приглашает харча своего отведать.
Сорвала Заряна стебелек, зажевала, подивилась: вкусно-то как! Подивилась, села в открытую и тоже давай уписывать.
Закладывает за обе щеки, а трава сочная, сладкая: и не лапша на молоке, и не спелая с куста смородина, и не ядрышко ореха таежного — все, вроде, вместе.
Отродясь не пробовала такой еды.
Сидит Заряна, уплетает за милую душу, сама думает: «Лунатики не сегодня обжили елань и не завтра намерены покинуть ее. Вон какое поле возделано, корму сколь насеяно! Не о нем ли Парфен упоминал, когда держал ответ перед селянами?»
А в деревне переполох: Заряна пропала. Древние бабки цепляются друг за дружку (потому как доброму народу не до них), верещат треснутыми голосами:
— Второ пришествие ли чо ль наступат?
— Кто? Понкрат? Етот могет. У яво кровя — кипяток! Ребятня большим под руку суется, затрещины хватает. А что про Улыбу сказать, так проще народ послушать.
— До пены избегался бедный.
— Все облески обшарил, буераки излазил.
— В тайгу молодайка запала!
— Бог милостив, найдется. Зверь ныне сытехонек — не тронет.
Никому не хотелось до сознания допустить, что пропажа Заряны хотя бы тонкой паутинкой связана с Шептуновской еланью.
Пытался и Парфен отогнать от себя большой страх. Но близилась ночь, а с нею и вывод — надо идти в дальние поиски.
Покуда накапливалась в Улыбе такая необходимость, люди на месте не стояли. Они сходились, расходились, делали повседневные дела. Несколько мужичков нашли причину заглянуть до Костромы, который держал питейный погребок под вторым ярусом высоких своих хором. Так вот перед теми мужичками Спиридон и высказался:
— Это как же получается? О бочках чужих Парфен сумел вперед угадать, а о супружнице так-таки ничего и не знат? Да в жизнь тому не поверю.
— А чему поверишь? — спросил кто-то.
— Парфен Заряну сам… нечистому запродал, а теперь Ваньку валят…
— Что ты треплешь языком, как собака хвостом?
— Вытянись у меня хвост, — взъерошился Кострома, — ежели ее не унесло на Шептуновску елань.
И хотя подпитое собрание в глубине души перекивнулось с ним согласием, однако его запевку никто не подхватил: кашель всякий и тот затих. И вдруг, на девятый[17] Спиридонов глас, непонятно кто посулил глухо, но разборчиво:
— Будет тебе хвост.
Ровно кипятком окатило Кострому: весь скраснел, испариной покрылся, каждого из мужиков оглядел: кто, мол, тут смелый такой?! Но высмотрел лишь то, что у протрезвевших от страха мужиков рожи лютым морозом сковало. Тогда Спиридон и себе краску с лица потерял: побелел настолько, что мужики пересилили свою стужу, нащупали шапки и гуськом потянулись до порога.
Последний «гусек» не перенес напиравшего со спины страха, поторопился и обступил впереди идущему запятку до вскрика. Тогда передние смекнули, что задних уже хватают и… закрутился по улице осенний лист, подхваченный вихрем улепетывающих ног.
Остался Кострома один. До стеночки прижался; убежать не может — дверь не на запоре. А пройти закрыть — силы нету.
В это время взяло что-то и зашеборшало над перекрытием, там, где на втором ярусе располагалась целовальникова контора. Понесло сквозняком, свечи погасли. В темноте увидал Кострома, как просочился сквозь перекрытие клубок света, распустил кошачьи усы, зелеными зрачками нашел его у стены и повторил посулу — насчет собачьего хвоста. Спиридон и рявкни на весь особняк боевой трубою полный сбор. А кому было собираться, если жил он бирюком? Убрать в доме приходила на час сторонняя хозяйка. А новый работник? Так тот был во дворе. Покуда услыхал крик да сообразил, что это хозяин блажит, да пока потопал до питейки — Кострома уже валялся на полу тряпкою, хоть ноги обтирай.
Очухался целовальник только перед рассветом. Первым делом в контору поднялся — глянуть, что там шуршало? И увидел он в углу прожженную дыру, с кошачью голову. Была она просажена столь раскаленной штуковиной, что ее края и закоптиться не успели. А еще стекло в одном из окон оказалось просаженным овальной отдушиной, вроде как просквозило его шаровой молнией.
— Пущай шаровая… — взялся Кострома рассуждать вслух. — А усищи? А глазищи? Нешто привиделось?
Когда же на зов его сердитый в контору поднялся Борода, Спиридон задал ему такой вопрос:
— Кто это вечор посулился мне собачий хвост привесить?
— Ды бог яво знат, — ответил работник, уже наслышанный о вчерашнем голосе.
— Болтают, вижу, по деревне-то? Кто болтает?
— Ды бог яво ведат…
— Знат, ведат… — разорался вдруг Кострома и сам невольно подстроился к дремучему языку работника. — Ни хрена ты не знашь. За каким годы лядом я тя при собе дяржу?
— Не дяржи, — ответил улыбчивый Борода и спросил: — Расчетамся ли чо ли?
Кострома захлопнул рот, набычился и дальнейшее стал обдумывать про себя. Додумался он до того, что: нет, не шаровая молния навертела в его доме дырок, а побывал в нем, похоже, подговоренный Улыбою Шептуновский сатаненок. Зеленые глаза, усы, умение прожигать продушины, загробный голос — все это пристраивало его догадки близко к правде.
Думается, что любой человек в таком случае постарался бы откреститься от лукавого. Не таким оказался Спиридон. Он умудрился сделать для себя высокородное заключение, что-де сам сатана кинул ему вызов! И предстоит ему теперь тяжкое сражение. Не зря бабка наговаривала ему ладанку — чуяла дело вперед. И потому он должен выйти изо всей этой катавасии победителем! Когда же вызволит он Заряну, черти заберут самого Парфена. И придется красавице понять, кем она, глупая, брезговала…
— Ничего, — успокаивал себя Кострома. — Где победа тяже, там истома слаже.
Сам ли Спиридон себя переплутовал, черт ли его попутал — теперь у кого спросишь? Но заключение такое в нем состоялось. Тем временем он увидел в просаженное окно, что у Парфенова двора собрались мужики — Улыбы среди них не было.
«Ускакал, — встревожился Кострома. — И подсобников дожидаться не стал. Зачем они ему, коли побежал он заметать следы».
Мужики за окном определились, видно, куда кому идти и рассыпались на все стороны.
Кострома же, не найдя во дворе работника, махнул на заботы рукой и заторопился до Шептуновской елани.
Вот бежит Спиридон, скачет — ему бы давно обогнать мужиков, но нет никого впереди. Это не совсем подходяще оказалось для Костромы: вдруг подмога понадобится, кого позовешь? Стал уж он было скакать на одном месте, да тут по ходу мелькнула чья-то спина и услыхалась ему Парфенова песня, в которой поется о беспредельной сибирской тайге.
— Ты смотри, какой гад, а! — зашептал целовальник. — Гуляет! Видимость создает, будто ищет жену. Певец нашелся…
Однако певец не гулял. Хотя и неспешно, а правил он в сторону елани.
— Ладно, — смекнул себе Спиридон. — И я торопиться не стану. Быват и медленней, но ходче…
И вот виляет Кострома по тайге следом за Улыбою, до каждой лесины притыкается, всяким кустиком прикрывается — нету, дескать, меня тут. А сам все бабкину ладанку теребит — вдруг да нечистая сила вывернет!
Трусит, значит.
Надо же! За каким тогда лядом этот заяц копытом бил?!
Боится Кострома, но не отстает. Шепчет чего-то: готовит, видать, дух для битвы, язык для молитвы. А прибыл на место, как несватанная невеста — жениха-то нет. За лесину Парфен зашел и как растаял. И Заряны нет. Никого нет. Только трава не по времени сочная поляну укрыла.
Зачем перся сюда Спиридон — и сам стоит не знает. Оно ладно, когда б Шептуны располагались за Парфеновой баней. Тогда бы он чихнул на всю эту затею, прибежал домой и сел бы обедать. А тут? Солнце уже успело в заполдень скатиться. А ведь на дворе не июнь. Не успеешь вернуть и половины пройденного пути — ночь в тайге поймает; сграбастает черными ручищами, до уха припадет и такого страха нашепчет, что до конца дней своих ото всякой тени вздрагивать будешь. Черт бы с ним, со спасением Заряны!
А солнце уже скатилось на колени к закату, зарделось от смущения и сползло на землю. Целовальника ж все держала в кустах нерешительность, словно неразборчивая бабенка, суля ему бог весть какие выгоды. Ну, а когда солнце разметнуло по небу лучистые волосы и вместе с ними кануло в пучину времени, Спиридону волей-неволей пришлось загадать — перебыть у Шептунов до рассвета.
Скоро осенница хмарью затянула небеса, смурь напустила на целовальниково тело таких ли сирот[18], что не мурашки — тараканы забегали по его спине. Вот когда он понял, что не дома сидит, не денежки считает. Застонал даже, зубами заскрипел.
Тут и захихикала над ним близкая кикимора; лесовик в ладони захлопал, засвистал; ухнул над головою филин, отчего Спиридон маленько сам в пугача не оборотился: выше куста взлетел и вдруг… различил на нем знакомую косынку!
Что-то екнуло у него в животе, вспенилось и взвеселилось, наполнило Кострому уверенностью, что этой самой косынкою и привяжет он до себя увертливое сердце Заряны. Однако ж улику он с собой не забрал, чтобы, при случае, не сказали — спер, мол, да в кармане носил. А, веселясь, спрятал ее под тем же кустиком и, окрыленный надеждою, почти смело побежал домой.
Уж какая дурная отыскалась на небе звезда, что и сквозь осеннюю непогодь высветила перед целовальником обратную дорогу? И хотя она не отказала себе в удовольствии поводить Спиридона по ночной тайге, однако же, упадая в утреннюю зарю, сунула-таки его долгим носом именно в ту тропу, которая выходила на деревню.
Выбрался Кострома из утреннего леса, с гордостью глянул на свой высокий дом, обогнул поскотину и на спесивых ногах направился вдоль улицы.
Он еще издали узрел, что у Улыбина двора ликует праздник. Бабка Хранцузска, слетавшая за чем-то домой, проносясь мимо Спиридона, шумнула ему, что Парфен с мужиками наткнулся на Заряну у Гуслаевской ляги. Молодайка, видать, уже успела обсказать селянам, кто вымучил ее следить за мужем. Оттого-то в народе при появлении Костромы и затихла всякая радость.
Люди ждали, когда целовальник пройдет стороной, чтобы не грешить с ним в такой момент, но тот попер прямиком на толпу. Остановившись против Заряны, спросил усмешливо:
— А скажи-ка, душа-красавица, пошто гологоловой стоишь? Куда это запропастилась твоя линялая косыночка? Не оставила ли ты ее на Шептуновской елани?
Будь Заряна побойчей, она бы, может, придумала чего-нибудь хитрого. Но совестливая, она только скраснела вся, а бабы зароптали было на Кострому. Однако тот прикрикнул:
— Чего расшипелись?! Не мертвого достаю, не живого закапываю. Да вы у нее самой спросите, как они с Парфеном этой ночью на Шептунах чертей ублажали…
— Не было его со мной, — вскрикнула Заряна да и поняла, что поймалась на слове.
Побледнела, попятилась, домой кинулась. Улыба же вперед выступил:
— Спиридон Лукьяныч, — взмолился он, — подумай, то ли ты говоришь? Ежели Заряна отыскалась на Гуслае, могла ли она быть на Шептунах? Положим, добралась она позавчера до елани. Но ведь от елани до ляги тридцать верст! И все мочажинами да кочкарником. Мужику доброму трое суток не хватит пробиться, чего же ты с молодой хочешь взять?
— Не с нее, с тебя я хочу взять.
— Да не мог же я там быть. Не мог.
— Мог! — так и выстрельнул Кострома. — Кто как не ты вечор на елани распевал — «велико Байкал-море восточное»?
— Убей бог, не он, — заверил из толпы Яснотка. — Мы ж его еще днем на Воложках встренули и не расходились боле.
— Ясно, ясно, — остановил его Спиридон. — Не я ли уверял, что Парфен с чертями связан. Вот они нам всем глаза и отвели. Так мало того, что сам он продался, еще и жену заложил. Сбегай на елань, убедись: косынка ее под кустиком лежит…
— Ну хорошо… пущай ты прав, — устало согласился Парфен. — Связался я с чертями. С той поры скоро год минует. Скажите, люди добрые: кому от меня горечь перепала? Либо утрата случилась? Разве что Кострома бочки растерял…
— Сам виноват, — определила бабка Хранцузска. — Помене куражился б над людями…
— Покою хватает, — поддержала Улыбу Акулина Закудыка. — А ежели Пелагея Смешная да Астах Вылитый, земля им пухом, за этот год ушли, так уж оне сами давно кланялись богу — просились на покой. Чо им по два века из-за Костромы жить?
— Ну, а когда Федот Нахрап показал нам всем длиннющий язык, так ить вольному воля…
— Накопил дерьма-то… Вот ему нечистый и пособил вазочку затянуть — чтоб не расползалось…
— Ладно, — остановил Спиридон заступниц. — Энто его дело… И ты как хошь собой распоряжайся, — обратился он к Парфену. — Но Заряна… Вольно ли тебе губить ее душу? Заверяешь: не могло быть ее на Шептунах. А как же косынка? Она там, под кустиком, свидетелей ждет.
— Не знаю, как могла она на елане оказаться.
— Не знашь?! Тогда веди нас в дом. Веди, веди! Сщас мы от твоей красавицы все узнаем.
И опять Парфенова хата набилась народом.
То, что было с Заряною до встречи с лунатиком, пересказывать не стоит. Зайдем с того момента, когда она, вполне оправившись от испуга, докладывала:
— Жую я эту траву и вроде легче делаюсь. Огляжусь — нет, все на месте, а прислушаюсь к себе, похоже, распадаюсь на пушинки и только сознание во мне прежнее. И вот уж я лечу, плыву ли куда этим сознанием. Котофей мой Иваныч впереди маячит — манит за собой. И оказались мы в каком-то длинном, слепом подземелье. По сторонам — свечи. Горят, а темно. Кто-то черный ходит туда-сюда, — гасит их да зажигает. А мне думается: что это? И отвечается безо всякого голосу: жизни человеческие: какая свеча крепше — хозяин ее здоровей, тонкая — хлюпок, коптит свеча — зряшно живет человек; с новым огоньком новая жизнь зарождается; не стало человека — свеча погасла…
— Мою не видала? — не утерпела Хранцузска спросить с тревогой.
— Видала, — призналась Заряна и улыбнулась. — Хороший огонек: так и прыгает…
— А мою? А мою? — посыпались вопросы, но ответчица сказала:
— Велено мне одному лишь Спиридону Лукьянычу передать, чтобы распрямился душой, не то свеча его попусту оплывает.
Целовальник ажно кулаком в кулак ударил.
— Так я и знал — вот насочиняла!
— Правду насочиняла, — одобрила Хранцузска. — Здря, Лукьяныч, оплываешь, здря.
— Ладно. Молчи, трещотка! Поглядим, чем вся эта брехня кончится.
— Брехня моя кончится тем, — сказала Заряна, — что, миновав подземелье, оказалась я у Гуслаевской ляги. Там и наткнулась на наших. Однако ж я нагляделась еще и такого!..
— Ну, ну! Давай, давай! Рассказывай, — поторопил ее Кострома. — Аль придумать ишо не успела?
— Я-то успела, — сказала Заряна. — А вот когда ты, даст Бог, воротишься, сам обо всем и доложишь.
— А-а, — вдохнул в себя Кострома целое ведро воздуха, а потом выдохнул. — Сговорилась! Ой, узнаю… Ой, проверю…
— Проверь, проверь… в берлогу дверь.
— Башку свихну, а загляну, — ажно захрапел целовальник.
— На том и порешили, — поднялся на ноги тут же сидевший Селиван Кужельник и, проходя мимо Костромы, уточнил свои слова: — Вот что, Лукьяныч: чтоб никто не успел упредить чертей о твоей ревизии, прямо сщас и собирайся до Шептунов.
Вот уже… попал черт под куму, и сдернуть некому… Явился Кострома домой злее небитой бабы. Работника своего в тридцать три сатаны изругал. А когда Борода и себе запыхтел — взлетел по крутой лесенке в контору и дверь защелкнул. Стал думать: идти на Шептуны или отступиться?
До вечера промаялся, взвешивая выгоду. Когда осознал, что хрен редьки не слаще, кинуло его и в жар, и в колоти, а когда испариной покрылся, понял захворал. И сказал себе: слава Богу — день-другой проваляюсь, а там видно будет…
Сказал и растянулся. Тут же, в конторе на лавке. И тяжело задремал. Но к ночи его опять зазнобило, вроде как из окна холодом потянуло. Поднял он глава — стекло на месте, но из-за шторки кот белый выглядывает, усищи распустил и дует на него — стужу нагоняет.
Господи, помилуй!
Подхватился Спиридон — нет никакого кота. За дверью, слышно, работник топчется, спрашивает:
— Хозяин, чаво орешь?
«Надо же, — думает Кострома, — окончательно занемог. Скрутит лихоманка, Бороде придется взламывать дверь».
— Погоди, отворю, — сказал он и подался откинуть щеколду. Откинул, дверь на себя потянул, а за порогом нет никого! И ничего нету: ни стен, ни потолка, ни крутой лесенки — черный провал перед Костромой. И не провал даже, а долгое подземелье. По обеим сторонам свечи. Каждая теплится в своем ореоле. Черная тень бродит туда-сюда… Все так, как Заряна рассказывала.
За световой завесой слышна какая-то возня: похоже, устроена там огромная гулкая баня, где кто-то кого-то хлещет, правит, ворочает и скребет и, время от времени, обдает крутым кипятком. Не смолкают вздохи, стоны, скрежет и хруст, тупые удары и раздирающий душу вой.
— Преисподня! — ужаснулся Кострома и хотел захлопнуть дверь, но ее на месте не оказалось. И под ногами никакой опоры. Неведомая сила уже влечет его куда-то: не то опускает, не то возносит. И все слышней звуки вселенской бани. А мимо — огни, огни… И не свечи в темноте, а пойми, что там: глаза ли чьи, звезды ли, оконца ли каких виталищ? Все ли вместе?
Одно оконце поплыло рядом. Кострома вцепился в покатную раму, подтянулся, припал глазами…
Спиридону оказалась видна палата, окутанная по стенам и потолку как бы плотным, искристым куржаком. И пол снеговат. Белый стол посередке, а на том столе распростерт голышом Федот Нахрап, тот самый Федот, которого — сорок дней назад! — едомяне опоздали вынуть из петли. Лежит Нахрап, корчится, зубами скрежещет и завывает так, что не только волосы — кожа вздымается на голове Спиридона. Однако ж он словно припаян до окна — ни оторваться, ни сгинуть в темноте.
Смотрит он, видит: опали Федотовы корчи, будто мужик другой раз помер; чистое мерцание забрезжило над ним, стало сгущаться крохотными блестками, собираться в светлый, живой колобок. Тело же подернулось синевой, пошло пробелью, сделалось сизым, живот распух, суставы набрякли, ногти вытянулись и затвердели, нос расквасился, нижняя губа отвисла, верхняя запала, уши растопырились, бурые, тонкие черви полезли из тела. Они тут же костенели щетиною…
Не прошло и нескольких минут, как со стола соскочил готовый черт. Он ощупал себя, взвизгнул, подпрыгнул — хотел поймать над столом сияющий сгусток, обжегся, взвыл, и все видимое растворилось в темноте. Но вой не утих. Напротив. Заодно с пыхтением, вознею, чавканьем он все накапливался во тьме. Кто-то толкнул Кострому, оторвал от опоры, швыранул в ненадежность, где различил он тени чудищ, которые шевелили лапами, хвостами, плавниками и крыльями. Схватываясь в темноте, они уже не расцеплялись: терзали друг друга, кусками растрепывали на стороны. Куски пожирались сторонней живностью.
Один отлетел, шлепнул Кострому по голове. Тот хотел отлепить ошметину, да кто-то опередил и зачавкал перед самым его носом, обдавая вонью поганой утробы. Спиридон дернулся прочь, но его ухватили, и вдруг оказался он лицом к лицу с преображенным Нахрапом…
В человеке все подменно, только не глаза: в них основа сущего.
Когда-то Кострома побаивался Нахрапа, его коварства и диких шуток. Потому избегал даже глядеть на него. Но тут он понял, что более бестыжих глаз в жизни не видел. Спиридон постарался бы отделаться от цепких лап, но что-то удержало его. А вглядевшись, Кострома застонал. Он признал в подлобных впадинах чудища собственные глаза. Целовальник вывернулся, но Федот уловил его за бабкину ладанку. Тогда Спиридон ловко присел, выскользнул из гайтана, поднырнул под Нахрапа и застрял меж его ног. И опять крутанулся, и… свалился в своей конторе с лавки…
В дверь кто-то колотился.
В полном еще страхе Кострома на четвереньках пощекотал до шкафа с амбарными книгами, поджал брюхо, чтобы подлезть под него…
К тому времени, когда поддетая мужиками дверь соскочила с петель, Кострома сумел подсунуть только голову.
Откуда взялись мужики?
Да они ждали-ждали, когда Спиридон отправится на Шептуновскую елань — не дождались. Стали поутру сходиться у его дома, спрашивать Бороду, что тот знает про хозяина. Узнали только то, что вчера прибежал Кострома домой бешеной собакою и защелкнулся наверху.
Вот мужики и поднялись по лесенке. А тут дикие крики. Мужики колотиться. Никто не отворяет. Тогда и высадили дверь, и увидали, что Кострома мортиру свою в потолок выставил. И венчает эту жерлицу собачий хвост. А конец хвоста повязан линялою косынкою Заряны.
Ну, что мужикам? Пугаться? Кабы их мало было, может, и напугались бы, а здесь — целая орава.
Потянули целовальника из-под шкафа. Кто-то не побрезговал за хвост уцепиться. Тот и оторвись. Оказалось, пришит он был до Спиридоновых штанов. Только и всего.
Мужики хохот подняли, повалились кто куда.
Кострома тоже… сел на полу и лыбится, и говорит:
— Чертей на свете нету, и Парфена нету, и меня… Одна только видимость, и проверять нечего. На том свете за нас все проверено…
Мужики того тошнее ржать.
И вдруг!
Вдруг ретивое это ржание рассекло лезвием тонкого смеха. Все смолкли и увидели — на высоком окошке занавеска колышется.
Кто-то из мужиков и откинь шторину…
Хохочет на подоконнике белый кот-муравей, закатывается, лапами дергает. Учуял тишину, опомнился, вскочил, усами повел да через голову — кувырк за окно. Только оплавленная скважина осталась в стекле.
В ту скважину влетел оранжевый кленовый лист, поколыхался и улегся перед Костромой, и завернулся так, будто состряпал ему горячую фигу.
Целовальник подпрыгнул от такой издевки, кинулся до окна — разглядеть во дворе кого-то, да оттуда вдруг засветило ему прямо в лоб его же волосатой ладанкой.
Зажмурился Кострома — не успел нужного увидеть. А вот мужики успели: Борода стоял под окном и улыбался. Потом он рукой мужикам помахал и пошел со двора, и запел: «Велико Байкал-море восточное…»
Надо ли говорить, что никакого работника Спиридон потом не отыскал. Но звезда во лбу волосатая при нем осталась.
Так-то. Ну все, ребята. Дальше сами думайте.
Александр Силецкий Маски
Настроение было отличное.
По праздникам у меня всегда хорошее настроение, а в Новый год — особенно. К тому же сегодня я был приглашен на бал-маскарад, где надеялся встретить ЕЕ…
С туалетом было покончено.
На меня из зеркала смотрела довольная, гладко выбритая физиономия и хитро улыбалась.
Я в последний раз окинул себя снисходительным взглядом и высунул язык, дабы убедиться, что здоров, как бог.
В зеркале я увидел лишь самый кончик совершенно белого языка.
«Эй, — сказал я сам себе, не на шутку обеспокоенный, — что это с тобой?»
И высунул язык, насколько мог.
В зеркале, против ожидания, я увидал вообще свои сжатые губы и все ту же хитрую улыбку.
Сначала я ничего не понял.
Я тянул язык изо всех сил, но зеркало и не думало реагировать.
И тогда, разозлясь, я в сердцах плюнул в собственное отражение — дескать, совесть-то надо иметь!..
На секунду что-то изменилось — то ли зеркало внезапно помутнело, та ли свет померк, то ли потемнело вдруг в моих глазах, а может, просто я закрыл их на мгновение — словом, факт остался фактом: когда я снова глянул в зеркало, моего отражения там не было.
Не было — и все тут!
Я отчетливо видел потолок, часть кафельной стены, раскрытую дверь и даже стену коридора позади нее — я прежде заслонял ее своей головой, а теперь голова пропала…
В первые минуты мне даже сделалось смешно — вот так новогодний сюрприз!..
Я помчался в комнату и нашарил в ящике письменного стола маленькое зеркальце — ну-ка, что оно покажет?!
Ничего.
Пустота.
Один потрескавшийся потолок отражался в сверкающем осколке…
И тут мне стало страшно.
С воплем я бросился обратно в ванную и заколотил кулаками по зеркалу.
Тщетно, тщетно я пытался заглянуть в его глубину: зеркало словно потешалось надо мной.
Я зажигал лампу за лампой, подносил к самому лицу горящие спички, становился перед зеркалом в профиль и анфас — пустое занятие, мое отраженье все равно не возникало.
Тогда, окончательно взбешенный, я сорвал зеркало со стены и швырнул на пол, я растоптал осколки в белую труху, собрал и выкинул в окно, и ветер разнес эту пыль над миром.
Я сел на край ванны и заплакал.
Сколько времени так прошло — не знаю.
Все во мне словно вывернулось наизнанку и, плохо закрепленное с внутренней стороны, теперь отваливалось и осыпалось с меня на пол — бом, бом, со звуком, будто бьют часы.
Я поднял голову, прислушался и, действительно, услышал бой часов — с тихим шипением они отсчитали одиннадцать раз и стихли…
Одиннадцать часов.
Уже одиннадцать часов!
Я торопливо вытер слезы.
Странное дело, пальцы ощутили плоть моего лица, теплую, упругую плоть…
Я с наслаждением прикасался к носу, щекам, губам — все оставалось на месте.
Но ведь отражения-то не было!
Впрочем, размышлять было некогда.
Поспешно одевшись, я спустился на улицу и у подъезда схватил такси.
И, только уже сидя в машине, вспомнил, что праздничную маску впопыхах оставил дома.
Возвращаться?
Поздно. Что-нибудь придумаю на месте.
Я постарался забыть о маске и вновь взялся думать о недавнем происшествии.
Что бы это значило, в конце концов? Неужто я никогда больше не увижу в зеркале своего лица?! А что об этом скажут остальные?..
Машина затормозила, и на меня из темноты надвинулся дом, сияющий огнями.
В зеркальные парадные двери то и дело входили приглашенные на бал.
Расплатившись, я быстро выскочил из такси и, прикрываясь поднятым воротником пальто, чтобы никто не заметил моей ужасной утраты, прошел в дом.
В вестибюле, у гардероба, стояли люди — все уже в масках. Они переговаривались между собой, шутили, и кругом витал привычный шум, единственный в своем роде, какой бывает только в фойе театров или концертных залов.
Ах, была не была, подумал я и решительно снял пальто и шапку.
Кругом все осталось по-прежнему, никто не таращил на меня глаза, и никого мой вид не удивлял.
Вот и отлично!
Против вешалок висело зеркало — я покосился в его сторону, но своего лица не увидал.
Его сменило равнодушие.
И даже гнездилась в душе какая-то игривая насмешка над самим собой…
Без четверти двенадцать я поднялся в зал.
По дороге, там, где кончался первый марш лестницы, мое внимание привлек красочный плакат:
«КОНКУРС!!! Самая лучшая маска! Участник — каждый! Победителю — приз!»
Я пожал плечами и равнодушно прошел мимо — у меня маски не было.
Черт с ней, решил я, обойдусь и так. Ведь не прогонят же теперь!..
Все протекало, как обычно: по праздничному залу расхаживали дамы и кавалеры с лицами, упрятанными в самые немыслимые маски. Им было хорошо — никто не узнавал друг друга, и это ободряло всех, придавая должную уверенность в себе.
Играла ненавязчивая музыка, взрывались хлопушки, змейками взбегали огни по разряженной елке, но настоящего веселья все-таки не получалось — приглашенные просто с удовольствием отдыхали друг от друга.
Потом все сели за длинные столы и долго смотрели на разные кушанья, расставленные на белых скатертях.
Ровно в двенадцать все встали и подняли бокалы с шампанским, чокнулись и сели на место, и снова долго и тоскливо смотрели на разные кушанья, аппетитно расставленные на белых скатертях, и глотали слюнки, и делали вид, будто им ничего не хочется…
Условия бала требовали: в течение вечера никто, ни на одну минуту, не смеет остаться без маски — уж коли маскарад, так до конца! Пока под конкурсом не подведут черту…
И все сидели за столом — и тихо мучались, блестя голодными глазами…
А я меж делом уплетал и пил вовсю — у меня-то ведь маски не было…
После пиршества в программе значились танцы.
Гости несколько взбодрились, вновь повеселели, но ненадолго — есть все-таки хотелось.
И я заметил, как один за другим приглашенные стали исчезать в туалетных комнатах, держа под мышками объемистые свертки, а возвращались уже без них.
Это выглядело комичным, даже больше того — совершенно нелепым, и я засмеялся, громко, на весь зал, но никто меня не поддержал.
Так Она нашла меня.
Она узнала меня по голосу.
— Здравствуй, — сказала Она, подходя ко мне. — С Новым годом! Какой ты сегодня странный…
— С Новым годом, привет, — ответил я, улыбаясь, а сам весь невольно напрягся: ну вот, начинается!.. — Чем же я, по-твоему, странный?
— Маска. У тебя удивительная маска. Где ты купил такую?
— Нигде. Потом расскажу. Давай потанцуем.
Мы принялись ритмично шаркать.
Она нежно прижималась ко мне, красивая даже в своей уродливой маске, и мне было с ней хорошо и покойно…
Неожиданно загремел гонг, и тогда, взгромоздившись на один из столов, распорядитель вечера громко закричал, хлопая в ладоши:
— Все сюда! Все, все! Объявляем результат конкурса масок! Жюри определило победителя! Вот он! — И я внезапно с ужасом увидел нацеленный на меня холеный палец.
Я хотел возмутиться, как-то отвести все подозренья, заявить в конце концов, что у меня нет маски вообще, но ноги мои приросли к полу, и язык во рту онемел.
Я лишь беспомощно стоял и смотрел, как ко мне приближается торжественная процессия, как меня окружают смеющиеся люди и в мои руки вкладывают приз — маску лопоухого толстяка с плотоядной улыбкой.
Потом все ушли заниматься своими делами и тотчас словно бы забыли обо мне.
Я остался один, зажимая в ладонях дурацкую маску.
— Милый, что с тобой? — встревоженно спросила Она. — Тебе нехорошо?
— Да, — кивнул я, — нехорошо.
— Ой, — вдруг отшатнулась она от меня, — твоя маска движется. Та, что на лице… Она как живая!
— Маска, да? Какая, к черту, маска?! — заорал я, теряя всякий контроль над собой. — У меня нет ее. Понимаешь — нет! У меня больше нет лица!
— Но… как же так? — прошептала Она. — Если это — не маска, то что же тогда? — И Она провела кончиками пальцев по моей щеке.
— А что ты видишь? — спросил я, понимая с ужасом, какой последует ответ.
И Она начала перечислять.
И каждое ее слово было подобно удару кнута, которым секли — нет, не меня. Мою душу.
Каждое ее слово было подобно взрыву бомбы, которая выжигает, потребляет все внутри.
Я понял, что мне нет спасенья, что я весь на виду, и каждый отныне может доставить мне неизмеримую боль, достаточно ему только всмотреться в мое лицо и завести разговор о том, что он видит…
Да, лица, привычного, прежнего, больше не было, но было другое лицо, обращенное всегда внутрь — Я САМ, моя натура, скрытая прежде под маской обыденного лица, — и когда я предстал перед всеми таким, каков я в своем естестве, никто меня не узнал, даже больше того, я сам не узнал себя, не признал, не разглядел.
Теперь на моем лице было все: и мои тайные мысли, и желания, и пороки, и таланты, и любовь, и неверие — словом, все, что представляет сущность человека, от которой он сам порой бежит.
Своим любопытным взором девушка проникла в мой внутренний мир, по злой иронии судьбы ставший внешним, и называла деталь за деталью, и я мучился как будто при всех с меня сдирали кожу…
— Хватит! — прохрипел я наконец, теряя силы. — Ради всего святого, хватит!
Она замолчала и удивленно уставилась на меня.
— Так, значит, у тебя нет маски?! Хм… А что же это тогда?
И тут я решился.
— Пойдем, — сказал я, беря ее за руку.
— Куда? — пролепетала Она, смутно начиная догадываться, что вечер для нее испорчен до конца.
— Пойдем, — повторил я и потянул ее за собой.
— Нет, нет?! — Она попыталась вырваться, но я держал крепко.
В ее глазах застыл страх. Господи, как мало человеку нужно!..
— Ты пойдешь или нет? — крикнул я и изо всех сил стиснул ее руку. — Ну?!
Не знаю почему, но мне было приятно видеть ее ужас, я ощущал какое-то странное удовлетворение, верша насилие.
Вокруг понемногу стали собираться люди, но мне уже было наплевать.
Я подхватил ее и выволок из зала. Как куклу, протащил по лестнице…
Она что-то кричала, зачем-то умоляла простить, потом, кажется, заплакала…
Наконец мы добрались до зеркала напротив гардероба. Я остановился.
— Вот, — сказал я, поворачивая ее лицом к зеркалу, — теперь любуйся!
Некоторое время, тихо всхлипывая, Она смотрела в зеркало, затем перевела взгляд на меня.
Наверное, Она все поняла, или, быть может, мне так только показалось право же, не знаю.
Во всяком случае лицо ее — маска потерялась где-то на лестнице — вдруг выразило искреннее разочарование, а глаза удивленно округлились.
— Только и всего-то?! — произнесла Она и нервно усмехнулась.
— А, по-твоему, этого мало?
— Милый, — сказала Она ласково и мягко. — Стоит ли из-за этого так огорчаться? Ну, подумаешь!.. Тебе понравилась моя маска?
— Ничего, — пробормотал я, силясь припомнить.
— Так вот, мне ее сделал один чудесный мастер. Хочешь, я сведу тебя к нему и он скроит тебе настоящую маску, как твое старое лицо? — Ее глаза горели, гипнотизируя меня. — Хочешь? Ты станешь носить ее каждый день, и она тебе нисколечко не будет мешать. Это прекрасный мастер!
— Не знаю, — через силу улыбнулся я. — Право, не знаю. Надо подумать.
— Ладно, — согласилась Она. — Подумай. А сейчас пойдем в зал потанцуем. Я ужасно хочу веселиться!
Я вернулся домой под утро.
Не зажигая свет, я разделся и лег в постель. Прошедшая ночь теперь казалась нелепым кошмаром. Я провел рукой по лицу, ощупывая губы, подбородок, щеки, нос, и закрыл глаза. Решено, подумал я, завтра пойду к мастеру.
Потом я уснул, и мне снилось мое лицо — такое, каким я видел его всю жизнь. Я стоял перед зеркалом и показывал себе белый язык…
Александр Силецкий Впустите репортеров
Утром старый Луху отколотил его палкой, отодрал за уши и выволок из пещеры.
— Не сберег, — сказал он, — сам добывай!
Слово старого Луху было законом для всех в племени, и ослушаться никто не смел.
Тып едва не заплакал от отчаяния. Он был горбат и колченог. Обреченный первым умереть, едва придет Великий Голод, он вынужден был искать себе занятие, которое уберегло бы его от презрения и смерти. Племя нуждалось в огне. И Тып поборол и себе страх перед костром. Он стал Хранителем Очага племени.
Целую зиму он стерег костер, не давая угаснуть Языкам Дракона. Но вчера разразилась лютая непогода, пламя сделалось совсем маленьким — сидеть бы и сидеть возле него, поминутно подбрасывая сухие ветки, но… Тып устал, глаза его слипались, он недолго боролся со сном, и теперь Языки Дракона ушли из их пещеры. Ушли навсегда. Лишь Небесный Огонь мог зажечь его, а разве дана человеку сила Неба?
Скоро вернутся воины с охоты, и тогда все племя соберется и уйдет на новое место, куда-нибудь, где уже горит огонь, а его, Тыпа, напоследок съедят — в пути он им не нужен, но не бросать же лакомый кусок!..
— Шесть восходов даю тебе, — сказал старый Луху.
Сначала Тып решил идти к обрыву. Он сам видел, как загнанные охотниками звери срывались с него и разбивались насмерть. Но потом передумал. Потому что удивительное воспоминание вдруг всплыло в его голове.
Это было давно…
Возле их пещеры случился обвал. Камни с грохотом, сметая все на своем пути, проносились мимо. Они ударялись друг о друга, и тогда между некоторыми из них проскакивали искры.
Искры… Уж не крошечные ли это Языки Дракона? Ведь если так, то ими можно зажечь щепотку мха! Можно зажечь большой костер!
Эта мысль поразила Тыпа. Значит, спасение все-таки есть?! Он натаскал камней — больших и маленьких, округлых, и угловатых, уселся перед входом и взялся за работу.
Несколько раз из пещеры выходил старый Луху. С любопытством смотрел на Тыпа. Он никак не мог понять, чем тот занят. Но срок, данный Тыпу, еще не вышел. А тот работал, не зная усталости. Он бил и бил камнем о камень, потом хватал новую пару, третью, четвертую…
«Тук-тук-тук…» — стучали камни, не переставая.
Тып не мог остановиться. Все будущее сосредоточилось для него в этих камнях — добыть хотя бы искорку, а там уж будет проще…
Крупнейшая в мире радиообсерватория Фификал-Бэнкс готовилась к принятию сигналов из дальнего космоса. Серия из пятнадцати сеансов. Первый начинается. Может, сразу повезет, а может, никакого сигнала и не будет…
Ученые расположились в центре пультовой. Метроном отсчитывал секунды.
— Начали! — крикнул Джон Тортолетт, хотя мог и не кричать — автоматы и сами в назначенный срок включили бы установку.
Вспыхнули экраны осциллографов, ожили динамики. Треск, хрип, шум, свист, рев вселенной наполнили зал. Свет погас, и стены словно раздвинулись и исчезли, оставив людей один на один с пустотой. Огни на пультах казались огнями межзвездного корабля, и люди сидели в темной рубке и слушали, слушали голос космоса, его странную, ни с чем не сравнимую песнь, и силились разобрать хотя бы слово, хотя бы один звук, который можно наполнить высшим смыслом и сказать потом: все, разум найден!
Шли минуты, а космос завывал бессмысленно и дико.
— Господи, — прошептал, покрываясь испариной, Джон Тортолетт. — Неужели все впустую?
Ги де Брутто крепко сжал его руку:
— Веселее, коллега. Они позовут. Непременно позовут. Как же иначе?
Рядом гулко вздохнул Апаш-Белтун, астрофизик и фантаст.
Сколько раз описывал он нечто подобное, но лишь теперь, когда впервые стал участником сеанса, он понял, сколь невыносимо ждать. Да-да, сидеть и ждать. И больше ничего.
И тут!..
Взметнулись пики на экранах осциллографов, накатили слева-направо волны огней на панелях счетных машин, и из динамиков — что явственно услышал каждый — донеслось едва различимое, но реальное: «Тук-тук». Ритмичная серия ударов — и пауза. И снова удары, как щелчки метронома.
— Вы слышали? — крикнул Фридрих Готлиб Клопфер. — Ведь это… пять четвертых, ритм-то какой! Невероятно…
Звуки прекратились столь же внезапно, как и начались.
Ученые сидели, точно в столбняке, и, судорожно вцепившись в подлокотники, ждали, ждали — звуков не было, неведомый источник умолк. И приборы не фиксировали ничего — только обычные голоса вселенной ловила гигантская чаша радиотелескопа, голоса бессмысленные, как всегда…
И шесть сеансов в последующие сутки ничего не дали. Казалось, произошла какая-то сбивка.
Но едва приступили к восьмому сеансу…
…Даже когда солнце зашло, и на небе высыпали редкие звезды, и стало темно, так что в двух шагах уже ничего не различить, Тып все равно не двинулся с места. Он по-прежнему сидел и бил, бил, бил… Камень о камень. Нет, не годится. Новая пара. Опять не годится. И так сотни, тысячи раз. А впереди — пять восходов…
Под утро он взял последнюю пару камней из той кучи, которую заготовил себе еще вчера.
И вот… Первый же удар внезапно высек искру. Даже не одну — целый сноп ослепительных искр. Потом еще и еще… Тып засмеялся от радости и, зажимая в руках камни, повалился на спину. Ноги онемели, ныла поясница, руки сделались вдруг тяжелыми, будто сами были из камня… Но Тып ничего этого не замечал. Главное — сделано! Теперь — спать, спать. Он успеет развести костер еще до пятого восхода.
Он спал долго — весь день и еще ночь. Его никто не трогал, потому что никому он не был нужен, а срок, назначенный старым Луху, еще не миновал. Проснувшись, Тып напился родниковой воды и тотчас отправился на свое место возле пещеры.
Один на один с чудесной, удивительной силой, рождающей Языки Дракона, первый из всех людей…
Два восхода миновали, как в воду канули, а Тып все разжигал свой костер. В какой-то момент сухой мох начал было тлеть, пошел дымок, и на секунду взметнулось крошечное пламя, но порыв ветра все загасил. Тогда Тып перебрался в пещеру и продолжил работу.
— Один восход остался, — сказал старый Луху.
Тып не обратил внимания на эти слова. Его заботило другое — камни стесывались, их могло не хватить, а где найти другие, такие же точно, Тып не знал.
Только бы успеть!
И совсем незадолго до пятого, урочного, восхода, когда старый Луху угрожающе поднялся со своего ложа и все, кто оставался в пещере, мрачной толпой окружили Тыпа, снова вспыхнул мох, и по тонким прутикам пламя побежало дальше, перекидываясь на ветви потолще, наконец в очаге запылал небольшой, но настоящий, новый костер.
— В-вы-ы! — закричали люди племени, кидаясь к выходу из пещеры, а старый Луху сел перед костром и заплакал.
Сияли лампы, слышались громкие разговоры, операторы ходили радостные, а в дверях, галдя, толпились репортеры.
«Тук-тук-тук…» — неслось из динамиков, уже освобожденное от посторонних шумов, усиленное и поражающее своей четкостью, ритмичностью и каким-то невероятным, всесокрушающим напором. Джон Тортолетт выключил магнитофон и повернулся к коллегам.
— Искусственная природа сигналов вне сомнений, — громко сказал он, счастливо улыбаясь. — Это — Разум, господа! — Он поднял голову к прозрачному потолку, где горели и трепетали далекие костры вселенной. — Впустите репортеров!
Первые лучи солнца проникли в пещеру, высветили дальний угол и в нем безмятежно спящего Тыпа. Рядом с ним на шкуре лежали два маленьких невзрачных обломка…
Сергей Сухинов Дворник
Резкий звон будильника вызвал его из небытия, темного, болезненного, насыщенного призрачными, набегающими друг на друга, словно волны, кошмарами. Он захлопал, не открывая, глаз ладонью по столу, стоящему рядом с диваном, но будильник был далеко, на серванте, и чтобы его придушить, нужно было подняться и пройти несколько шагов по холодному полу. Одна мысль об этом привела его в ужас, и он с головой накрылся толстым ватным одеялом, свернувшись в клубок — так в детстве он спасался от многих неприятностей. Еще минутку — сказал он сам себе, пряча голову под подушку, еще хотя бы минутку…
Но будильник продолжал надсадно звонить, противно дребезжа разболтанным молоточком — словно в закрытой банке жужжали сотни мух. Он попытался плотно закрыть глаза и ровно дышать, словно этот звон не имел к нему никакого отношения, но он уже не спал. И тогда он понял, что надо вставать, хотя еще никак не мог вспомнить — зачем.
Яркий сноп света настольной лампы вырезал в темноте узкий кусок комнаты: стол, заваленный окурками, недопитую бутылку «Жигулей», желтую полосу паласа, еще дальше — секретер, на котором лежала какая-то толстая книга, и чуть правее — часть стены, с матовым четырехугольником фотографии. Но сейчас его интересовала только бутылка пива — откашлявшись, он приложился к скользкому горлышку и одним глотком допил горьковатую, выдохшуюся за ночь жидкость. «Надо было закрыть вечером пробкой, — озабоченно подумал он, натягивая носки, — где вчера была моя голова?»
Все еще сокрушаясь, он пошатываясь побрел в сторону ванной, натыкаясь на острые углы стульев и тихонько чертыхаясь про себя. Открывая дверь, он невольно обернулся и скользнул безразличным взглядом по смутно различимому секретеру и толстенному тому, но ничто внутри его не дрогнуло, только на лице промелькнула идиотская ухмылка: «Это надо же!»
Больше о книге он не вспоминал.
За завтраком, проглатывая небрежно сделанный бутерброд с колбасой, он вдруг вспомнил, зачем встал — нужно было идти подметать улицу рядом с домом. За неплотно сдвинутыми занавесками синела чернильная темнота, чуть позванивали по стеклу редкие капли осеннего дождя, а на соседней улице мерно шаркала чья-то метла. «Тетя Настя уже встала, — озабоченно подумал он, обжигаясь горячим чаем. — И почему я всегда просыпаю?» Промозглое октябрьское утро не пугало его, он наконец проснулся и все вспомнил — и то, что в последние дни дождавшись холодных дождей, начался проклятый листопад, и то, что его фотография висит вторую неделю на доске почета ЖКО. Не тети Насти, а его, Андрея Чернова, который в дворниках ходит всего второй год, а уже у начальства на хорошем счету.
«Опять проспал, — горестно подумал он, натягивая влажную телогрейку, — теперь попробуй нагони! Э-эх, дела…»
Через несколько минут он уже стоял, поеживаясь, на невысоком крыльце дома и мрачно осматривал поле битвы, окутанное туманом. В его участок входили пять асфальтовых отрезков дороги между серыми пятиэтажками, большой газон со скамейками, детской площадкой и жалкой клумбой, и, конечно, подъезды — с каменными лестницами, насчитывающими от четырех до двенадцати ступенек. Каждую из этих ступенек Андрей знал наизусть со всеми особенностями ее норова — одни, с острыми отколотыми краями, любили собирать тяжелые ошметки грязи, другие, с широкими выбоинами, были обычно набиты сплюснутыми окурками и фантиками от конфет, которые выгрести было совсем нелегко, особенно после дождя. Но сейчас, поздней осенью, ступеньки были для него лишь легкой разминкой, настоящие хлопоты ему приносила мостовая.
Куда ни глянь, вся она забрызгана пестрыми лоскутами кленовых листьев — видимо, ночью был сильный ветер. Прибитые к асфальту дождем, они представляли серьезную угрозу, но худшее было под ними — вдоль бетонного парапета, в выбоинах старого асфальта, гнездились узкие мелкие листья придорожных кустарников, которые Андрей ненавидел, но никак не мог собраться вывести. Эти листочки держались за асфальт намертво, и взять их можно было самой жесткой, старой метлой с короткими, истертыми до белизны березовыми прутьями. Андрей добирался до асфальтовых выбоин обычно к тому времени, когда по улицам потоком начинали двигаться на работу жители поселка. Ему казалось, каждый из них с насмешкой наблюдал за его мучениями, удивляясь, как это еще довольно молодой, здоровый на вид мужчина может заниматься такой чепуховой, непрестижной работой вместо того, чтобы пойти, например, работать на завод токарем. И самое мучительное было то, что он и сам по утрам плохо помнил, что же его удерживает от такого шага.
От всех этих невеселых мыслей было одно верное лекарство — натянуть поглубже холщовые рукавицы, жесткие и пересохшие за ночь от тепла батареи, взять в руки любимую пышную метлу с серым, отполированным руками — его руками! — древком, и пройтись в хорошем темпе по подъездам, сгоняя в широкое русло улицы всю осевшую за вчерашний день мусорную муть. Это не занимало много времени, зато создавало приятное ощущение, что дело движется и до конца остается не так много. Дальше уже себя не приходилось подгонять — он без колебаний брался за вторую, средней жесткости метлу, и вгрызался, как ледокол, в серое месиво листьев, расшвыривая их по сторонам и с радостью чувствуя, как все быстрее начинает струиться кровь в его мускулистых руках. Раз, еще раз, поцалу-у-й, раскраса-а-вица…
Через какой-то час все было кончено — листья покорными кусками сиротливо жались к бетонному парапету, черный асфальт маслянисто блестел под первыми лучами чуть поднявшегося над горизонтом солнца, и Андрей, раскрасневшийся, довольный собой, весело поглядывал на торопливо шагающих мимо прохожих, не скрывая своей гордости. Как он ее сделал, а? А говорила — не дам, ломалась… Накось, выкуси — час — и в дамках! Я тебе не какой-нибудь божий одуванчик вроде тети Насти, а здоровый мужик, понимать надо…
Оставалось немногое — собрать мусор в ведра и отнести на соседний участок, где между двух могучих тополей (ох, и достанется от тети Насти на орехи!) громоздилась могучая куча листьев. А потом можно будет всласть покемарить… Конечно, днем еще дернут, и не раз, из кровати — то приедет машина и надо будет грузить вилами рассыпающееся месиво в кузов, то назойливый начальник ЖКО погонит на какие-нибудь общественные работы, скажем, приводить в порядок территорию возле бани или агитплощадку… Но до этого еще далеко. И потом, сегодня вполне можно сказаться больным — ничего, обойдутся и без него, он во дворничьем бабьем взводе один мужик — ефрейтор, его беречь надо…
Но тут где-то рядом, в серых лоскутках нехотя расползающегося тумана, раздался знакомый мелкий кашель и скрежет совка. Андрей невольно поежился. Своего бригадира тетю Настю он немного побаивался, а порой и терпеть не мог за ее удивительную способность выискивать работу на ровном месте. Конечно, если ты сорок лет машешь метлой, да мучает тебя старческая бессонница, да тридцать три болезни, а дома, в полуподвальной служебной квартирке тебя никто не ждет, кроме толстого дымчатого кота Васьки…
Неожиданно его обожгла острая мысль — чего это он, ведь его, Андрея, не ждет дома вообще никто! Он постоял несколько секунд, глотая воздух пересохшими губами и пытаясь изо всех сил ухватиться за краешек только что показавшейся мысли, но тут рядом кто-то сказал:
— Здравствуй, Андрюша… Как дела-то? Ого, сколько у тебя листьев-то слетело! Считай, повезло, завтра, бают, настоящие дожди начнутся…
Андрей буркнул что-то неприветливое в ответ и с ожесточением стал вытряхивать из ведра остатки мусора. Сбила, старая! О чем это он только что подумал? Попробуй теперь вспомни, а ведь о чем-то очень важном подумал. И ведь про дожди не зря говорит, ох, не зря…
Тетя Настя постояла рядом, ласково поглядывая на громадного Андрея снизу вверх, и, перевязывая свой шерстяной платок, мигом вывалила на него все вчерашние поселковые новости: у Ширяевых померла бабка, хорошая, веселая, в церковь очень любила ходить, а все равно померла без отпущения грехов, а у Плешаковых из восьмого дома двойня родилась, а у Маховых, что над магазином живут, девка загуляла, напилась допьяну вместе с парнями и ругалась нецензурно, так что пришлось отцу тащить ее домой за косы, а Галя Степашкина заболела, температурит, и придется кому-то сегодня ее участок убирать.
Андрей, слушая бригадиршу вполслуха и думая только о теплой постели, встрепенулся.
— Это как? — сказал он, недобро блестя глазами и меряя взглядом маленькую старушку. — Это что, я опять ее участок грести должен? Вчера греб, позавчера греб, и сегодня греби? Что я, один у тебя в бригаде, тетя Настя? Ты вот что, ты лучше Соловьиху сегодня позови, у нее участок самый маленький, а баба она здоровая, таких, как я, двоих за пояс заткнет!
Но скоро он сдался и покорно пошел за бригадиршей, бурча под нос неотразимые доводы, по которым сегодня не он, а кто-нибудь другой должен подменять заболевшую дворничиху.
Освободился он только к девяти, когда зябкое красное солнце поднялось над далеким лесом. Спать уже не очень хотелось, и можно было, скажем, сходить за опятами. Нынче опята пошли поздно, и почему-то особенно много их было в орешниках, где они росли прямо в жухлой траве. А что, почему бы не пойти? Грибы он любит, а не собирал почему-то давно. «Странно, почему же я не ходил этой осенью за грибами? — подумал Андрей, тяжело подымаясь по лестнице. — Может, болел? Нет, вроде не болел… Значит, чем-то был занят. Интересно, чем это я могу быть днем занят?»
Теперь ему никто не помешал, и он крепко ухватился за краешек мысли и не без труда вытащил ее на свет божий, морщась от глухой головной боли.
Он вспомнил, что ему предстоит сделать сегодня днем. Во-первых, надо внести квартплату — ему уже делала на днях замечание Валентина из сберкассы, и он обещал заплатить, но как всегда забыл, надо будет не забыть сегодня. Во-вторых, неплохо бы к обеду сходить в дачный поселок и как обычно постучать с мужиками в домино — его приглашали. И еще что-то надо было сделать, но голова уже раскалывалась от напряжения, и он решил дать ей отдохнуть. Ничего, успеется, день длинный, дай бог, и за опятами выберемся…
Полчаса он провел на кухне, наслаждаясь горячим грузинским чаем, который ценил больше всего потому, что тот всегда бывает в продаже. Постепенно головная боль улеглась, и он понемногу стал загружать ее кое-какими мыслишками — надо было починить стулья, совсем расшатались, сидеть стало невозможно, а еще надо сходить к бывшей графской конюшие, где начались реставрационные работы, и посмотреть что к чему, а может и зашибить трояк: дел там невпроворот, а мужиков — раз, два и обчелся. И еще нужно сходить на кладбище — поправить покосившуюся калитку у могил жены и сына, и вообще посидеть…
Было около половины десятого, когда он, зевая, собрался было улечься в смятую постель, но тут его внимание вновь привлекла книга, лежавшая на откидном столе секретера. Она была настолько толстой, что вызвала у него раздражение — читать он не любил, от чтения у него голова болела, и зачем он держит в доме такую толстую книгу, наверняка скучную и заумную.
Над книгой он вдруг увидел табличку, на которой красными крупными буквами было написано:
«Андрей! Открой книгу!!
От этого зависит твоя судьба!!!»
«Ну как же, бегу и падаю», — усмехнулся он, смерив книгу недобрым взглядом и прикидывая, куда ее лучше сбагрить, но тут у двери раздался протяжный звонок.
— Привет, Андрюха! — прямо с порога заорал Вася Никитин, затянутый в синий спортивный костюм, раскрасневшийся и как всегда самодовольно улыбающийся. — Никак днем спать собрался, старик?
Андрей посмотрел на себя — босого, со свисающим животом, и грустно пошевелил волосатыми пальцами ног.
— Да уж, — сказал он неопределенно, — работа у меня такая.
Никитин захохотал и втолкнул его в комнату, пряча левую руку за спиной.
— Ох, и бедлам же у тебя, — покачал он головой, разглядывая диван, кресло, стулья — все заваленное беспорядочно разбросанной одеждой. — Везет тебе! Мне моя Татьяна последние волосы за такое бы повыдергивала…
Почувствовав, что сказал глупость, Никитин тут же перешел на другую тему и эффектным жестом поставил на стол две бутылки портвейна.
— Вот, получай.
— Это за что же? — спросил Андрей неровным голосом, жадно разглядывая этикетки. — Ого, кавказский!
— Я не мелочусь, — гордо сказал Никитин, располагаясь бесцеремонно на кресле, скинув с него предварительно на пол мятые брюки. — Пить так пить, чего травить себя бормотухой… Ну что, договорились?
— О чем? — спросил Андрей, срезая дрожащими руками пластмассовую пробку. — О чем, благодетель?
— Как о чем? — удивился Никитин. — Ты что, забыл, что вчера утром раскололся и согласился отдать мне за два червонца собрание Майн Рида?
Андрей поморщился. Что-то такое действительно было…
— Почему же за два? — глухо спросил он, разливая портвейн по стаканам. — Ты только посмотри, какие тома толстые! Может, если их в город свезти, за них в магазине всю тридцатку дадут. Это дело обдумать надо.
— Ты уже две недели думаешь, — обиженно сказал Никитин, брезгливо отхлебывая терпкую красную жидкость. — Лучше посмотри, сколько эти книги на старые деньги стоили. Гроши! А я тебе даю живые два червонца. Что тебе, два червонца не нужны?
— Почему не нужны — нужны, — вздохнул Андрей, снимая с подвесной полки увесистые тома. — Я к тому, что, может, в городе за них больше дадут…
— Э-эх!.. — застонал Никитин, закатывая глаза к потолку. — Мучитель ты мой! Да как ты до города-то доедешь — вот что мне скажи. Либо в вытрезвитель попадешь, либо все перезабудешь, заплутаешься в метро, так что придется тебя из милиции либо еще откуда выручать. Помнишь, как в том году я тебя еле из психбольницы вытащил? Этого ты хочешь?
Андрей загрустил. Что верно, то верно, с его головой до города добраться нелегко, а если и доберешься, то будет одно мучение, — народу тыща, все куда-то бегут, толкаются, на него скалятся, а он, потный, раскрасневшийся, стоит в телогрейке посреди улицы Горького и жалко улыбается, все со страху перезабыв. Нет уж… Пропади он пропадом, лишний червонец, чтобы за него такое терпеть. А книг ему не жалко, толстые они, ему все равно такие теперь не осилить, а Никитину хоть бы что, он человек ученый, кандидат наук, даже с формулами книжки читает, а у него, Андрея, от одного вида этих формул голова сразу же начинает раскалываться…
Поколебавшись немного и безуспешно попытавшись выжать из Никитина хотя бы еще пятерик, Андрей сдался и сам сложил книги в нейлоновую сумку.
— Ну, мне пора, — сразу же заторопился гость, бросая жадный взгляд на полку, где осталось еще несколько стоящих книг. — Надо статью написать сегодня в один реферативный журнал, в гараж наведаться — так что дел невпроворот. Как-нибудь забегу на следующей неделе. Пока!
Андрей, возбужденный спором и вином, вновь остался один. Спать ему совсем расхотелось, он достал с полки наугад том Конан Дойля и завалился на диван, пытаясь прочитать хоть один рассказ до конца. Но это ему, как всегда, не удавалось, в конце первой же странницы буквы начинали расплываться у него перед глазами, и он забывал прочитанное. После нескольких безуспешных попыток уловить смысл рассказа Андрей отбросил книгу в сторону.
«Ерунда, — подумал он равнодушно, — и как я раньше мог такое читать? Все одни выдумки, ничего реального… Надо будет в следующий раз предложить этому жмоту всю подписку, но цену назначить свою — рублей тридцать или тридцать пять. Выпивка на неделю будет обеспечена! Интересно, на сколько бутылок там еще осталось?»
Он вскочил с дивана и внимательно изучил полку. Книг стояло совсем немного, штук десять, а ведь когда-то у него их было много, солидных, в красивых переплетах, за них можно было бы взять сейчас хорошую цену…
И тут он вспомнил про книгу, лежащую на секретере.
Она была какая-то странная, непохожая на маленькие тома подписок — неимоверно толстая, с тяжелым кожаным переплетом и завлекательной полуобнаженной девушкой на обложке. Она ловко скидывала с себя белье, стоило только повернуть голову чуть в сторону, но так же быстро и одевалась, дразня бесстыжими глазами.
Андрей глухо заворчал и подвинул к себе стул.
Когда он открыл книгу, за спиной гулко стали бить часы, так что Андрей невольно обернулся. Было ровно десять часов утра.
Первые страницы книги были продолжением темы, красовавшейся на обложке, и по-настоящему увлекли его. Он уже не вспоминал про постель и назойливую головную боль, а, устроившись поудобнее, стал не спеша просматривать глянцевые красочные фотографии. Потом к ним присоединился текст — отрывки из «Анжелики» и «Убийственного лета», обширные вырезки из «Иностранной литературы», смакующие одно и то же. Картинок, правда, становилось все меньше, а текста все больше, но он не заметил этого и не без удовольствия проглатывал страницу за страницей, жуя ириски, разбросанные на столе. Постепенно у него разыгралось воображение, и сочные описания быта американских солдат или французских буржуа обрели в его сознании вполне красочные формы. Страница, еще одна…
«Стой! — прочитал он с удивлением, перелистнув довольно вялое описание любовной сцены из какого-то романа Жорж Санд. — Хватит заниматься этой чушью! Я хочу предложить тебе нечто значительно более интересное, прелесть чего ты поймешь через каких-то полчаса. Но сначала посмотри на часы».
Андрей невольно обернулся и увидел, что часы показывают десять часов двадцать одну минуту. Все еще плохо понимая, что происходит, он перечитал фразу с самого начала. «Но сначала посмотри на часы. Сколько сейчас времени — можешь вспомнить?»
«А как же, — усмехнулся Андрей, — десять часов двадцать одна минута, в чем вопрос…»
Он хотел было продолжать чтение дальше, как вдруг его поразила мысль: «Я помню время! Я почти минуту назад смотрел на часы, и ничего не забыл. Не забыл!..»
Эта мысль ошеломила его, он отодвинулся от секретера и растерянно огляделся вокруг. За окном трепетали под порывами ветра багровые клены, редкие прохожие сновали по дороге, торопясь в магазин с бидонами, а на кухне тихо позванивала о немытую посуду струйка воды из крана. «Я помню!» — повторил он про себя и с силой провел ладонями по небритому лицу.
Что-то переменилось вокруг, и что-то изменилось в нем самом. Он прислушался к своим ощущениям и почувствовал, как отяжелела его голова и на место бесконечной тупой головной боли пришло пульсирующее тепло. Раздумья больше не приносили ему мучений, и он без труда до мельчайших деталей вспомнил все события сегодняшнего утра, но это еще больше запутало его. И тогда он снова обратился к книге, но уже не стал перечитывать страницу сначала, потому что знал ее почти наизусть.
«Если сейчас больше одиннадцати, перелистай несколько десятков страниц и обратись к странице сто пятьдесят три. Там ты найдешь ускоренный курс восстановления твоего интеллекта, который поможет тебе быстро войти в форму. В противном случае — читай не спеша все подряд и пройди весь курс полностью.
А теперь начнем. Прежде всего достань из ящика секретера магнитофон. Конечно, ты забыл, как им пользоваться, — посмотри на схему, помещенную на следующей странице».
Открыв ящик, Андрей с удивлением обнаружил небольшой изящный магнитофон с какими-то иностранными буквами на передней панели. Ему стало любопытно, как же включать эту штуку, и он, внутренне съежившись, рискнул попытаться разобраться в схеме. Она казалась довольно простой, на ней не было непонятных символов и формул, которых он боялся пуще огня, но и она требовала некоторого напряжения мысли. «Способен ли я на это? — трусливо подумал он, косясь на смятую постель. — Может, бросить это дело, пока не поздно?..»
Но в нем уже начал просыпаться неутолимый демон любопытства, и он потратил десять минут, водя пальцем по жирным стрелкам схемы и щелкая клавишами. Оказалось, что управлять магнитофоном было ненамного сложнее, чем привычным телевизором, и это подбодрило Андрея. Затем он включил магнитофон и был разочарован — вместо объяснений из него полилась мелодичная музыка.
Обиженный, он снова обратился к книге, а та, не давая ему передышки, заставила его извлечь из другого ящика какие-то баночки с мазью и натереть тыльную сторону шеи, виски, позвоночник и часть поясницы. Мазь пахла резко и неприятно, но он уже попал под неотразимую власть книги и не мог освободиться. Книга и мягкий женский голос в магнитофоне дружно заставили его провести двадцать минут в физических упражнениях, принимать на паласе странные и забавные позы, но все ему давалось, к его изумлению, весьма легко. Сделав напоследок несколько энергичных вздохов и стерев с лица испарину, Андрей вновь уселся за стол, с удовольствием перелистнув очередную страницу, прислушался к себе и неожиданно замер. Что-то произошло в нем — кровь, движение которой он ранее не ощущал, горячими потоками заструилась по его телу, поясницу стало приятно покалывать, и скоро он с волнением почувствовал, как по позвоночнику пошел какой-то внутренний ток, подымаясь все выше и выше к голове. Еще через несколько минут стало покалывать в затылке, и тогда он сделал несколько энергичных нажатий пальцами на биологически активные точки около шеи, которые ему порекомендовала книга, и по ее же совету некоторое время посидел, расслабившись и закрыв глаза.
И тогда он стал ощущать свой мозг. Андрей задышал глубже, насыщая кровь кислородом. Вечно заложенный от хронического насморка нос превратился в мощный насос, засасывающий потоки воздуха.
Ему хотелось немедленно опробовать свой «новый» мозг, но Книга (теперь он не мог называть ее иначе как с большой буквы) заставила его еще некоторое время вживаться в это новое состояние. Теперь он воспринимал мозг как тягучую мышцу, способную по его команде совершать колоссальные усилия и разгрызать самые сложные интеллектуальные задачи, а не безвольно пасовать перед ними, как это было ранее.
Но до начала Работы было еще далеко.
«Я знаю, что ты не ощущаешь себя больше несчастным слабоумным, лишенным памяти и воли, как это бывает с тобой по утрам, — продолжала беседовать с ним Книга. — Однако прежде чем перейти к реконструкции себя как личности, ты должен как следует потренировать свой мозг и свою память. Лучше всего для твоего склада ума годятся философские произведения. Переверни страницу и внимательно прочитай отрывки из философских трактатов — от Платона и Гельвеция до Гегеля и Канта. Старайся понять каждую фразу и не переходи к следующей, пока не исчерпаешь предыдущую».
Не без опасения он перевернул страницу и пробежал глазами первую строчку (страх еще гнездился где-то в глубине его сознания), но тут произошло чудо: он воспринял фразу не как набор слов с ускользающим смыслом, а как глубокую мысль. В течение нескольких минут с огромным напряжением он обдумывал ее, добавляя, развивая и уточняя, и вскоре он почувствовал нечто вроде интеллектуального наслаждения от работы своего мозга — он и не знал, что такое возможно! Вчитываясь в страницы философских трактатов, Андрей при каждой особенно удачной своей мысли ощущал мягкое покалывание где-то в глубине мозга. Все остальное перестало существовать для него, и когда тексты неожиданно кончились, он ощутил глубокое огорчение. Между тем Книга немедленно поставила перед ним новую задачу.
«Уверена, что прочитанные страницы доставили тебе огромное удовольствие. Но попробуй теперь вспомнить все то, о чем ты прочитал, и записать свою интерпретацию мыслей знаменитых философов. Положи перед собой наручные часы. Даю тебе три минуты».
Андрей, усмехнувшись, полузакрыл глаза и напряг свой мозг, уверенный в успехе. Увы! Мысли, только что занимавшие его, немедленно стали расплываться перед его внутренним экраном, сбиваясь в хаотичный клубок. Он попытался распутать его и поставить прочитанные фразы в строгой последовательности, но это только ухудшило положение — под нажимом фразы тотчас же порвались и превратились в бессвязные отрывки, в которых уже невозможно было найти и тени смысла. Андрей почувствовал ужас, его спина покрылась испариной.
Не может быть, этого просто не может быть!
«Не пугайся, — тотчас же успокоила его Книга. — Твой „новый“ мозг не виноват, просто твоя память сейчас находится на крайне низком уровне. Без ее тренировки невозможно дальнейшее движение вперед. На следующих страницах ты найдешь краткий курс тренировки памяти, разработанный с учетом твоих индивидуальных возможностей. Пройдя его, ты наконец станешь хозяином самого себя и вновь обретешь себя как личность. Но прежде всего посмотри на часы. Сейчас должно быть около одиннадцати, не так ли?»
Было без пяти одиннадцать, но Андрей уже ничему не удивлялся. Он перевернул страницу и погрузился в методы тренировки памяти, в приемы, запоминания цифр, текста, деталей рисунков. Все давалось ему удивительно легко, как будто он вспоминал забытое!
К двенадцати часам он чувствовал себя уже почти сверхчеловеком: казалось, его мозг разрастается с каждой минутой, занимает почти все его тело. Возможности его выросли настолько, что он уже мог прочитать за минуту несколько страниц текста и запомнить их. Книга научила пользоваться и зрительной памятью — перед его «внутренним экраном» возникал любой виденный когда-либо образ, словно включался кинопроектор. Потренировавшись немного еще и почувствовав, что все прочитанное глубоко усваивается, он с нетерпением стал читать дальше.
«А теперь пора немного рассказать о тебе самом, — доверительно сказала ему Книга. — Ты уже, наверное, догадался, что отнюдь не являешься слабоумным — твои способности намного превышают возможности большинства людей. Вряд ли кто-нибудь еще способен в течение нескольких десятков минут так круто развить свою память практически от нуля… В этом нет никакого чуда, более того — для тебя это обыденное явление, ты только приходишь в свою обычную форму. Но так же ежедневно ты и теряешь все — у тебя есть враг, страшный и беспощадный: сон. Сон!!!
Когда-то, лет пять назад, ты считался одним из самых многообещающих молодых ученых-математиков. Блестяще защитив в тридцать лет докторскую диссертацию, ты стал начальником лаборатории, уверенно шел дальше к профессорскому званию, но вдруг попал в автомобильную катастрофу. И твой мозг, получив серьезную травму, не выдержав нервных перегрузок из-за гибели жены и сына, отказал… Каждую ночь, погружаясь в небытие сна, он теряет почти всю „интеллектуальную надстройку“, спускаясь на крайне низкий уровень функционирования.
В течение долгого времени ты находился на излечении, врачи надеялись найти пути борьбы с твоим необычным недугом, но все оказалось бесполезно. В процессе сна в нейронах твоего мозга, перегруженных сложной информацией, которая не является жизненно важной для организма, происходят необратимые биохимические реакции… И каждое утро ты начинаешь как будто с нуля.
Ты очень просил, и со временем тебя оставили в покое. Друзья устроили тебя на сравнительно легкую работу рядом с домом, требующую только физических усилий, и ты стал дворником. Врачи считали, что это — лучший выход из положения, что твоя память никогда не придет в норму. И они оказались правы.
Ты мог бы успокоиться и жить нормальной жизнью, тем более что самостоятельно давно уже не в состоянии вспомнить, кого потерял и чего лишился. Друзья постепенно оставили тебя, для них ты уже не тот Андрей Чернов, которого они знали и любили, а всего лишь больной человек, которому внимание и назойливое сочувствие доставляют лишь новые мучения.
Тех, кто не хотел примириться с этим, ты сумел оттолкнуть.
И тогда ты остался одинок.
И ты начал все снова.
Три года ты писал эту книгу, подымаясь самостоятельно шаг за шагом по лестнице своего интеллекта, и когда ночью ты неизбежно скатывался с нее, у тебя оставался верный помощник и советчик, предлагающий тебе проверенный путь — как вновь подняться до вчерашнего уровня. И главное, благодаря книге и своим недюжинным способностям, в течение дня ты, как правило, успевал немного продвинуться дальше в развитии своего интеллекта и занести все новое на очередные страницы. И так, постепенно, ты овладел методом, который тебе не смогли предложить лучшие врачи, — ты САМ научился безошибочно проходить свой эволюционный путь — от дворника до талантливого ученого — в течение одного дня. Каждого дня.
Пока хватит о прошлом. Теперь я открою тебе одну тайну, которая во многом объясняет твои выдающиеся достижения в той, прошлой жизни. Ты никому не рассказывал об этом, боялся насмешек и непонимания… а два года назад, блуждая в дебрях своего больного разума, вновь наткнулся на это. Я говорю о твоей способности растягивать внутреннее биологическое время. Ты можешь за час прожить „внутри себя“ целые месяцы, убыстрив в сотни раз скорость своего мышления. Именно поэтому ты в состоянии за три-четыре „внешних“ часа с помощью меня, книги, восстанавливать ежедневно свой интеллектуальный потенциал.
А сейчас отодвинь занавеску в углу комнаты за платяным шкафом».
Заинтригованный, Андрей подошел к шкафу и отодвинул занавеску. Он почти не удивился, обнаружив за ней еще одну дверь. «Ну конечно, там же вторая комната, — догадался он, — ведь не зря я плачу пятнадцать рублей в месяц. И как я утром мог забыть о такой простой вещи!..»
Он открыл дверь и замер, потрясенный.
* * *
В начале первого он вышел на улицу, давая немного передохнуть уставшему мозгу (так научила его Книга).
День был солнечный, золотистые клены плавно раскачивались под порывами холодного ветра, изредка роняя на землю листья, но это совсем не раздражало его. Он не спеша прошелся по своему участку, разбрасывая ногами сухую листву и улыбаясь своим затаенным мыслям. Как много произошло за эти несколько часов! И что его ждет впереди?
У магазина он встретил соседок, живо обсуждающих последние новости, и вежливо раскланялся с ними, внутренне волнуясь: как они его примут такого подтянутого, чисто выбритого, в новом джинсовом костюме? Но они, казалось, совсем не удивились, а только, проводив его сочувственными взглядами, зашептались еще горячее, поглядывая ему вслед.
Впрочем, они, наверное, и не знали его другим, утренним, размышлял Андрей, сворачивая на узкую асфальтовую дорожку лесопарка, ведущую в соседний дачный поселок. Судя по тому, что ему рассказала Книга, каждый день он проходит мучительную операцию реконструкции самого себя, подымаясь от тупого, полуживотного уровня до нормального человеческого состояния, овладевая снова и снова своим мозгом. Быть может, об этом его каждодневном перерождении никто и не знает? Быть может, тетя Настя всегда его воспринимает только как небритого, косноязычного человека с метлой в руках? Интересно, как она отнеслась бы к вот такому, заново рожденному Андрею?..
Проходя мимо двухэтажного коттеджа, утопленного в желто-буром мареве сада, он остановился, смущенный какой-то неясной мыслью, и тут же услышал приветственный крик:
— Пришел! Андрей Сергеевич, что же ты, мужики заждались!
Он увидел в глубине двора под густой липой группу мужчин, уютно расположившихся вокруг большого стола. Они радостно замахали ему руками, и тогда он вспомнил — да это же его приятели, с которыми он днем часто проводит время обеденного перерыва. Он открыл калитку и несмело вошел во двор, не зная, как себя вести.
Лица сидящих на столом показались ему очень знакомыми, но он с большим трудом вспомнил лишь имя хозяина, расположившегося на солнышке в теплом мохеровом свитере, время от времени гостеприимно разливавшего по стаканам пиво из глиняного кувшина.
— Припоздал ты сегодня что-то, Андрей, — укоризненно сказал Петр Михайлович, перемешивая черные костяшки на отполированной до блеска крышке стола. — «Спартак» нас сегодня задавил, мы с Леней едва-едва пару «рыб» сделали…
— Ничего, сейчас дело пойдет, — сказал Леня, высокий худой парень в спецовке, энергично выуживая костяшки из кучи и пряча их в раскрытую ладонь. — Мы еще покажем, на что годится ЦСКА! Давай, Федорович, заходи!
Сидящий напротив Андрея старик в промасленном комбинезоне крякнул и, почесав затылок, аккуратно положил на стол «наполеона». Хозяин тут же щелкнул костяшкой, выпустив на конец «двойку», которых у Андрея было навалом. Тот блаженно улыбнулся и подмигнул партнерам. Игра началась…
Постепенно, минут через десять, Андрей стал ориентироваться в происходящем. Оказывается, на даче Петра Михайловича, бывшего директора овощной базы, а ныне пенсионера, вот уже второй год собирается один и тот же состав любителей «забить козла» — сам хозяин, четверо рабочих со стройки жилого многоэтажного дома, который за это время вырос едва до половины, и он, Андрей. Играли только в обеденный перерыв строителей — с двенадцати до часа, как раз в то время, когда Андрей по совету Книги выходил прогуляться. Эти игры в домино стали ежедневным ритуалом для всех шестерых. Здесь же, за столом, наскоро обедали и обсуждали последние новости. Андрея все знали хорошо и, судя по всему, уважали — за рассудительность, живое остроумие и редкостное умение играть в домино.
— А куда же это вчера ты ездил, Андрюха? — неожиданно спросил Леонид, прокатывая Федоровича под одобрительный смех его партнеров — двух молодых рабочих лет двадцати.
Андрей едва не выронил из рук костяшки домино.
— Путаешь ты что-то, Леня, — ответил он укоризненно.
— Ты что на меня уставился? Ты лучше за Федоровичем смотри, что-то он нам готовит, какую-то ловушку, чует мое сердце…
— Верно, ездил, — подтвердил Федорович. — Меня вчера старуха послала вечером в Никишкино, в прачечную. Влезаю, значит, в автобус с полной сумкой барахла — вижу: Андрюха наш при полном параде сидит у окна, портфель, значит, на коленках держит и какие-то листки с формулами перелистывает. На меня, значит, старика, ноль внимания. Народу — тыща! Ногу поставить некуда, сумку хоть на голову соседу ставь — а он листки читает. Я уж тебе, Андрюха, кричал, кричал — пока до Никишкина не доехал…
— Да вы что, мужики, — хладнокровно делая «рыбу», сказал Андрей. — Я уж года два как в городе не был, да и костюма у меня никакого нет. На мои семьдесят рубликов в месяц такого не купишь!
«А впрочем… — тут же угомонился он, вспомнив свою вторую комнату, заполненную стеллажами с научными книгами. — Был там, кажется, и гардероб… Жаль, я испугался и сразу же захлопнул дверь! Ничего, через полчаса вернусь и с этим делом разберусь окончательно».
— Не-е-ет, ты не темни! — сказал хозяин, сверля Андрея жестким взглядом. — Я давно к тебе приглядываюсь… да как-то случая не было заговорить об этом. На той неделе, скажем, я дважды ходил поутру в ваш поселок — просто так, прогуляться. И каждый раз встречал тебя с метлой: морда тупая, небритая, только на мостовую и смотришь. Я специально у тебя прикурить просил (в его голосе зазвучало торжество), а ты меня не узнал даже. Меня — и не узнал! Это как понимать?
— Очень просто это понимать, — неожиданно поддержал растерявшегося Андрея один из молодых строителей. — Я раньше тоже зашибал — поверите, иногда по утрам жену признать не мог!
— Положим, так, — недовольно прервал его Петр Михайлович. — Хотя у меня имеются сведения, что наш дорогой Андрей Сергеевич ничего крепче лимонада и в рот не берет. За редким исключением, естественно…
— Это еще откуда известно? — прервал хозяина Леонид. — Михалыч, ты что, ему в окна заглядываешь, что ли?
Мужики зашумели, угрожающе поглядывая на хозяина. Тот понял, что несколько перегнул палку, и вынужден был защищаться.
— Ну почему же в окно… Да и как к нему в окно заглянешь, ежели он на третьем этаже живет, а окна день и ночь зашторены? А узнал я про пивные бутылки у Олега Захарьина — ну, того шофера, который к нам по воскресеньям приезжает на халтурку под видом сборщика стеклотары. Этот Олег третий год ездит, всех в поселке в лицо знает. Говорит — ты подыми меня ночью и спроси — что пьет, скажем, Дмитрий Сергеевич из тринадцатого дома? А пьет он боржоми да грузинские сухие вина по большим праздникам. И так далее — полное досье на всех наших окрестных мужиков. Так что сведения, Леня, насчет лимонада самые верные, можешь не сомневаться.
Мужики зашумели.
— Считай, Андрюша, доказано, что ты не пьешь, — мягко продолжил Петр Михайлович. — Ну и хорошо, и правильно. Только тогда как объяснить то, что по утрам ты машешь метлой и своих друзей не узнаешь, а по вечерам в город ездишь, носа в автобусе из всяких научных формул не вытаскиваешь и опять же своих не узнаешь? (Голос хозяина дачи восторженно зазвенел.) Как все это объяснить, а? Кому ты голову морочишь — ЖКО, нам или кому-то там, в городе?
«Вот, значит, как, — растерянно подумал Андрей, перебирая дрожащими пальцами костяшки домино. — А я-то думал, что после того, как Вася Никитин меня, можно сказать, из смирительной рубашки в психбольнице вынул, я в городе и не бывал. Оказывается — бывал, и не раз. И эти листки с формулами… Неужели я езжу туда… как ученый?..»
Эта странная мысль оглушающе подействовала на него. Впервые за этот день Книга не успела подготовить его к очередному повороту — и он почувствовал страх.
Он машинально посмотрел на часы — было без пятнадцати час. А он должен был уйти не позже чем в час — так его наставляла Книга.
Андрей встал, пошатываясь от невесть откуда взявшейся головной боли, приволакивая ноги, пошел к калитке. Его никто не остановил.
Вернувшись домой, он не смог сразу сесть за Книгу — странная апатия овладела им. Андрей лежал на диване и смотрел, как утекают минуты на настенных часах: тик-так, тик-так… Делать не хотелось ничего и думать не хотелось ни о чем. Еще многое было неясно в его судьбе. Книга лежала раскрытой меньше чем на треть — но стоило ли идти дальше? Похоже, чего бы он ни достиг сегодня к вечеру после невероятных усилий, ночью неумолимый враг сон вновь сотрет все мокрой тряпкой с доски его памяти, и он все забудет — и завтра утром опять будет бездумно махать метлой под дождем, мечтая о походе в лес за опятами. А потом? Наверное, перед тем, как улечься в постель, он захочет взглянуть на красивую девицу на обложке Книги… и все завертится снова. Только разве что к Петру Михайловичу завтра идти уже не придется. Как бы не забыть об этом… Ах да, Книга ему напомнит. Ведь перед сном он должен занести на очередные страницы все накопленное за день…
Часы пробили половину второго, но Андрей никак не мог заснуть — его неотрывно тянула к себе Книга, лежащая на столе. «Пойду закрою ее да и уберу куда подальше, — вяло подумал он, сев на диван и в поисках тапочек елозя ступнями по полу. — Ну ради чего я потратил полдня на эту дурацкую Книгу? Что, она сделала меня счастливей оттого, что моя голова стала лучше соображать? Да, читать я теперь могу, и не без удовольствия — это хорошо. В домино могу прилично сыграть, с мужиками побалакать „за жизнь“, не чувствуя на себе снисходительных взглядов, — и это неплохо. На что мне еще свой поумневший мозг использовать? Куда себя деть? Сходить в лес за грибами, а вечер провести у телевизора — это я мог сделать и раньше. Нет, не нужен для моего заурядного образа жизни „новый мозг“, способный за минуту запомнить страницу самого сложного текста, решить быстро и безошибочно любую задачу в пределах школьной программы, вести непринужденную беседу на английском языке о погоде и моей квартире… Не нужен. Зачем же тогда вновь засовывать бедную голову в ярмо? Чтобы через час-другой могучих усилий уметь сделать то же самое, но уже в пределах университетского курса? Ну и что?..»
И тут ему вспомнилась обнаженная девица на обложке, и неожиданная мысль мягко толкнула его в мозг. Стой, да как же он мог забыть! Ведь два часа назад он не просто проглатывал со скоростью экспресса программу средней школы, нет, он еще и получал НАСЛАЖДЕНИЕ!!! Наслаждение от интеллектуальной работы! И куда большее, чем от скабрезных описаний в начале Книги. Тогда нужно ли продолжать лежать в постели, не испытывая и тени удовольствия, одну только тупую тяжесть в искусственно заторможенном мозгу и отказывать себе в наслаждении мыслью?
Через минуту он уже сидел за секретером и с жадностью переворачивал очередную страницу. Что ждет его впереди?
Книга предложила ему небольшую интеллектуальную разминку — с десяток разнообразных тестов, которые он решил, не без труда преодолевая ленивую инерцию мозга. Но вскоре он опять почувствовал теплые потоки, подымающиеся вверх по позвоночнику, приятные уколы в затылке, и мозг вновь приобрел власть над ним.
Приведя Андрея в форму, Книга неожиданно отослала его к небольшой книжечке, лежащей на полке секретера. Андрей с недоумением перелистал плотные страницы еженедельника, испещренного чьим-то бисерным почерком (похоже, то был его «новый» почерк), нашел последнюю заполненную страницу и озадаченно прочел:
«15 октября: вторник. В 18.00 выступление на семинаре по прикладным вопросам диф. игр. В 20.00 приглашен на банкет, будут Родичев, Минелли и м. б. Алла. Выех. дом. не позднее 22.00!»
Последняя фраза была жирно подчеркнута красным карандашом, но не она поначалу привлекла внимание Андрея. Он был ошеломлен и несколько раз перечитал короткие отрывистые записи. Неужто через какие-то четыре часа он должен выступать на научном семинаре по диф. игр. (Кстати, что это такое?!) И кто они, эти Родичев, Минелли и Алла?
Книга тут же прояснила ситуацию, отослав его к солидному блокноту лежавшему в секретере рядом с еженедельником. Это оказался некий «Индекс имен», составленный его собственной рукой.
Родичеву было отведено в «Индексе» две с половиной страницы, написанных, очевидно, в разное время — даже чернила встречались неодинакового цвета. Андрей узнал, что Родичев — это начальник лаборатории специальных проблем прикладной математики одного из крупнейших академических институтов, доктор физико-математических наук, лауреат и прочее, и прочее… Некогда они учились вместе с университете, вместе начинали работать, негласно соревнуясь друг с другом, но Андрей всегда опережал товарища на полшага — и по защитам, и по премиям, и даже по любовным успехам. После того как Андрей заболел и ушел из НИИ, лаборатория осталась Родичеву, и тот уже без препятствий пошел к следующему званию… Ладно, ладно…
Минелли. Гениальный математик из Генуэзского университета. Приехал в Москву на международный симпозиум. Намеревается встретится с ним, Андреем, «чьи ранние работы приводят меня в восторг» (цитата из газеты). На институтский семинар заманен Родичевым только при клятвенном обещании, что там будет выступать и «отошедший от науки по причине болезни Андрей Чернов».
Алла. Его первая и единственная любовь. Училась в университете на курс младше, влюбилась в него на третьем курсе, когда Андрей прослыл «новым Лобачевским». После того как Андрей женился на Надежде, дочери их декана, два года изводила его ревностью, а затем неожиданно вышла замуж за Родичева. Позднее они вновь стали встречаться (смотри тетрадь в синем переплете)…
Заинтригованный, Андрей было протянул руку к толстой синей тетради, но тут же вздрогнул от перезвона часов. Батюшки, уже два! Так, считаем — до города ехать тридцать минут на автобусе, потом еще десять минут (он взглянул в Книгу), нет, двенадцать минут на метро. А он еще совсем ничего не знает о себе как УЧЕНОМ. Что же будет, как он успеет за оставшееся время взобраться на Монблан своей научной специальности?
И тут он, уже без помощи Книги, вспомнил о своей удивительной способности растягивать время.
* * *
Андрей первым вошел в банкетный зал, нахально опередив сияющего Родичева, который вместе с заместителем директора института, седым одутловатым профессором Мухиным, нежно вел под руки слегка упиравшегося Минелли. Остальные гости — участники только что закончившегося семинара — шумной толпой, соблюдая определенную дистанцию, шли позади.
Пока распорядитель вместе с Родичевым приглашал всех за стол (на каждом стуле предусмотрительно было разложены картонные карточки с именами, написанными от руки изящным старинным почерком с завитушками), Андрей уже усаживался на приглянувшемся ему месте — на самом конце стола-отростка, уходящего от основного стола в уютную полутемь. Место было как по заказу для настроения Андрея — даже не «балкон пятого яруса», а просто «неудобное», за колонной. Такие места на банкетах обычно предназначаются для дальних родственников из числа наезжающих в Москву (чтобы больше не наезжали), или для горемык-аспирантов, сделавших большую часть работы за диссертанта, чтобы знали свое место и помалкивали.
Усевшись на мягком, чуть скрипучем стуле, он ради любопытства пробежал глазами по белому плотному квадрату и не удивился, увидев на нем свою фамилию. Что ж, усмехнулся он, по Сеньке и шапка. Могли и вообще не пригласить…
Воспользовавшись несколькими минутами замешательства в зале (каждый, как обычно, посчитал, что его посадили не там и не с тем), Андрей закрыл глаза и мысленно попытался восстановить весь ход дискуссии, возникшей на семинаре после его доклада. Вот он, раскрасневшийся от духоты, подчеркивает на доске огрызком мела последнюю формулу гамильтониана, вытирает чуть дрожащие руки носовым платком и, стараясь не смотреть в зал, подходит к кафедре. На ней заманчиво блестит стакан с водой, но он сдерживается, хотя во рту пересохло, и вопросительно смотрит направо, на председателя. Профессор Мухин вместе с секретарем семинара еще разглядывают его последние выкладки, на их лицах написано некоторое недоумение. Что ж, Андрей сам виноват — на семинарах такого уровня (да еще в присутствии таких корифеев, как Минелли) не принято лезть в густые математические дебри, а требуется по возможности просто и доступно изложить основные результаты работы, нажимая на их несомненную ценность для практики. А его почему-то повело…
Наконец морщины на лбу Мухина разглаживаются, он что-то со смешком бросает секретарю, а сам обращается в зал, невольно смотря на Минелли, севшего по собственной инициативе чуть ли не в последний ряд.
— Ну что ж, любопытно, любопытно… Я полагаю, можно приступить к обсуждению. Кто из уважаемых участников семинара — (он снова смотрит на Минелли) — желает высказаться?
Андрей берет себя наконец в руки и всматривается в лица присутствующих. Со многими сидящими в зале он работал долгие годы, но Книга познакомила его только с теми, с кем он был сейчас непосредственно связан по своему «самодеятельному творчеству». Родичев, сложив руки на полноватом животике, смотрит на него явно осуждающе и наверняка раскаивается в том, что взял риск на себя и выпустил Андрея после многолетнего перерыва на всеобщее обозрение. На его лице легко было прочесть нечто вроде: «Э-эх, промашка вышла… Все-таки человек немного не в себе после болезни, вот и сорвался. Надо было выпустить какого-нибудь молодого кандидата, тот бы отбарабанил результаты как „Отче наш“ и ушел целым и невредимым…» А что думают остальные? В зале наберется пять-шесть головастых мужиков, читающих любой математический экспромт с листа, и в зале есть Минелли. Сейчас начнут спрашивать, сейчас…
— Андрей! — мягко произнес рядом чей-то женский голос. — Ты что, заснул?
Ему очень не хотелось открывать глаза, но Алла уже вернула его к действительности. Она сидела рядом, эффектно развернувшись к нему так, что он сразу же был «сражен» — и водопадом ее темно-медных волос, и очаровательным овалом лица…
— Сдаюсь, — рассмеялся Андрей после минутного замешательства (улыбка Аллы сразу же стала значительно теплее). — Выпускаю белый флаг и встаю на якорь, полагаясь на милость флибустьеров.
— Напрасно полагаешься, — рассмеялась Алла, вручая ему бокал и демонстративно не замечая томительной паузы, возникшей в зале перед первым официальным тостом. — Корабль будет разграблен до основания, все посторонние женщины выброшены за борт на радость акулам, а мужчины уведены в рабство! Хотя бы на сегодняшний вечер…
На них зашикали — там, в другом конце зала, уже поднимался Родичев с фужером в руке и почему-то смотрел в их сторону. «Ну да, Алла же его бывшая жена, — вспомнил Андрей скупые данные „Индекса имен“. — И расстались они сразу же после того, как он, Андрей, попал в автокатастрофу…» Жаль, он не успел, готовясь к докладу, пролистать толстую синюю тетрадь, посвященную их сложным взаимоотношениям. Столько и так пришлось изучить — вновь изучить! — за какие-то два с лишним часа. Сначала — сокращенный университетский курс матанализа, потом ряд специальных курсов: теорию чисел, функциональный анализ, численные методы оптимизации и многое, многое другое… Хорошо, что ему сразу же удалось войти в «медленное время» — на все эти десятки толстых томов он потратил менее часа «обычного» времени… Ну, а потом его собственная область — теория дифференциальных игр — оказалась почти необъятной, словно материк: со своими горными хребтами, ущельями, дремучими лесами и непроходимыми болотами. И лишь в двадцать минут пятого он добрался до своего небольшого огорода — оптимизации смешанных стратегий в дифференциальных играх с неполной информацией. Доклад пришлось дочитывать уже в автобусе…
Родичев между тем, непривычно запинаясь, произнес стандартный тост: мол, семинар удался на славу, много интересных идей… налицо достижения института за последний год… корифеи, как всегда, на высоте, молодежь так же, как обычно, подает надежды, и так далее. Все это время Алла, не снижая голоса, подтрунивала над Андреем, вызвав некоторое замешательство в чинном зале — впрочем, Мухин с Минелли с другого конца стола смотрели на нее с явным одобрением. Андрей почувствовал угрызение совести, заметив, что слева от Минелли стул пустовал, и нетрудно было догадаться, кому этот стул предназначался…
— Эх ты, флибустьерка, — вздохнул он, жадно вглядываясь в сияющее лицо Аллы и с нежностью отмечая незаметные на первый взгляд отклонения от отпугивающей каждого мужчину идеальной красоты — и редкие веснушки, не скрытые тонким слоем пудры с блестками, и легкую горбинку на изящном носу, и чуть полноватые, неправильной формы губы. Милая, милая… — Никуда ты не денешься от королевских фрегатов! Подвесит тебя завтра Родичев на рее в нашей лаборатории за явное пренебрежение к высоким особам, особенно иностранного происхождения. Думаешь, тебя там держат как талантливого кандидата наук? Ошибаешься, тебя используют только в качестве букета, который можно поставить при случае рядом с самыми почетными гостями!
Алла рассмеялась:
— Я и так сижу с самым почетным гостем. Кто сегодня нарушил чинное течение семинара? Я сидела рядом с Минелли и боялась, что старик вот-вот заснет, тем более, что по-русски он понимает не очень здорово. Но ты своим выступлением его прямо-таки зажег!
— Да… зажег… Хорош был костер — весь доклад сгорел дотла! Мне с завтрашнего дня ничего и не остается, как посыпать голову пеплом. Надолго его хватит!..
Они помолчали, пристально вглядываясь, уже без улыбки, в глаза друг другу. Андрею показалось, что они с Аллой отгородились от всех какой-то невидимой стеной.
— Ну, как живешь, Андрюша? — наконец тихо спросила Алла, бесцельно вертя в руках пустой бокал. — Я не видела тебя почти две недели…
— Все хорошо, — поспешно прервал ее Андрей. — Работал над докладом, как проклятый… Времени у меня в обрез — ты же знаешь…
Да, Алла все знала. Все.
— Знаешь, ты похудел… По-прежнему питаешься бог знает чем? Ну конечно, когда тебе готовить, если и позвонить мне пяти минут не находишь. А уж что у тебя дома творится…
— Не надо об этом, — резко сказал Андрей. — Мы же договорились с тобой однажды — не надо об этом говорить никогда.
Алла, возбужденная, уже не пыталась одерживать себя.
— О чем же мы будем еще разговаривать — может, о твоей теории? Нет, о ней ты со мной говорить не станешь — если уж сам Минелли запутался в твоих выкладках, то чего же ждать от рядового кандидата наук, да еще бабы. Да, бабы! И мысли у меня обычные, бабьи, и жгут они меня с утра до вечера, а уж ночью… И думаю я вовсе не о том, как продвигается твоя замечательная теория, которой наша лаборатория последние два года прикрывается как железным щитом. Плевать я хочу на твою теорию! Мне важно другое — как ты живешь, о чем ты думаешь, вспоминаешь ли обо мне хоть иногда — сам, а не под диктовку Книги? Что ты ешь за завтраком, не простужаешься ли на работе, что ты чувствуешь, когда на тебя надвигается черная волна твоего дьявольского сна… Вот о чем я хочу с тобой говорить!
Андрей с жалостью смотрел на ее искаженное болью лицо, ставшее вдруг совсем некрасивым, с черными капельками слез, стекающими по щекам, смывая блестки. Так хотелось сжать это лицо руками и целовать, целовать у всех на глазах… Но это безнадежно. Безнадежно!
С трудом он взял себя в руки и украдкой посмотрел на часы. Оставалось совсем немного времени…
— Ну что ты смотришь на часы, как Золушка! — вновь взорвалась Алла, придвигаясь к нему так, что их плечи соприкоснулись — Андрея словно молнией пронзило. — Я помню, что тебе пора, не беспокойся, — я отвезу тебя на машине. Ты даже и не заметил, что вместо шампанского я пила лимонад. Знай — сегодня я еду с тобой!
— На нас смотрят, Алла! — напряженным голосом сказал Андрей.
— Плевать, пусть смотрят. И муженек мой бывший пусть смотрит, как я перед тобой стелюсь. И Минелли твой замечательный тоже пусть смотрит. Я на все пойду теперь, на любое унижение, только бы не оставить тебя одного.
— Нет, человек должен иметь право на одиночество. А вы все тогда, когда началась моя болезнь, хотели это право у меня отнять. И кому от этого стало лучше? Моим друзьям? Да по утрам мне с ними о поговорить не о чем было, у меня в это время от умных разговоров только голова болит. А вечером мне разговаривать с ними тоже несподручно — сама знаешь, на какую гору каждый день приходится карабкаться. Каждый день снова и снова. И все равно часам к пяти-шести вечера я успеваю восстановить лишь часть своей личности. Только часть! Сегодня, например, я почти ничего не знаю про наши с тобой отношения — некогда было читать записи, не относящиеся прямо к работе. Некогда! Знаю, что ты стала моей любовницей давно, еще в институтские годы, потом я женился на Наде, а ты от обиды стала женой моего друга-соратника Родичева. И то, что мы позднее вновь стали встречаться, тоже знаю. Но это знание вычитано из Книги. Сердцем я ничего не помню — ни одной нашей встречи, ни одной ночи…
— Замолчи… — умоляюще прошептала Алла, закрыв лицо ладонями.
Андрей опомнился. Его била нервная дрожь, но он решил довести дело до конца. Так ему рекомендовала Книга. Сегодня — и до конца. Хватит мучить беспочвенными надеждами единственную женщину, которая еще любит его.
За столом было почти пусто — народ подался в общий зал, где разухабисто гремела музыка. Только за крайним столом одиноко сидел Родичев и вяло ковырял ложкой кусок торта. На них он уже не смотрел.
— Мне надо идти, — как можно мягче сказал Андрей, гладя Аллу по плечу и чувствуя, как в нем все дрожит от жалости к ним обоим. — И мой тебе совет — возвращайся к Родичеву, ведь он любит тебя… А со мной — поверь, это безнадежно. Сам я, конечно, этого не помню, но Книга рассказала, как ты однажды утром приехала ко мне домой и попыталась обосноваться, пока я… Ну, сама понимаешь. Сколько ты тогда выдержала — неделю?
— Почти две, — тихо сказала Алла.
— И как сбежала от меня, тоже помнишь?.. Нет, в чем-то я все же счастливей вас всех — я помню каждый день только то, что решил помнить накануне. Иначе, наверное, я не смог бы так хладнокровно сегодня всадить в тебя нож, как хирург, удаляющий лишний нарост… И вот еще что — не надо меня жалеть! Я живу полнокровной жизнью, я не калека и не инвалид — я просто другой. Как, скажем, буддийский монах, проживший всю жизнь в горах Тибета. Я — другой, чем вы. Другой!..
Алла все еще не отнимала рук от лица, но уже не плакала — просто сидела, одинокая и заледеневшая. Сердце Андрея разрывалось от боли, но он ничего не позволил себе, только чуть прикоснулся к ее волосам сухими губами. Когда он проходил мимо Родичева, тот даже не повернул головы.
* * *
В автобусе Андрей впервые почувствовал признаки приближающегося сна. Он сидел на переднем сиденье в полупустом салоне, поглаживая «дипломат», чтобы хоть как-то занять дрожащие руки, и смотрел в окно. Ранняя октябрьская ночь уже опускалась на мелькающие мимо колхозные поля. Где-то далеко, над неровной полосой леса, в туманной дымке золотился узкий серп луны. Да, день подходил к концу. Еще один день.
Он невольно зевнул и вдруг ощутил страх. Его коварный недруг — сон, оказывается, уже на пороге. Но как же так, ведь еще только половина одиннадцатого, детское время! Надо еще многое обдумать и занести в Книгу все новое, что он сегодня узнал!
Глаза его слипались под уютное, убаюкивающее покачивание машины. Пришлось достать из «дипломата» текст доклада и пробежаться по нему глазами, вспоминая остроумные замечания Минелли. Где же нашел ошибку знаменитый математик? Ага, вот здесь, после этого функционала…
Андрей увлекся и попробовал на обороте страниц развить идею Минелли. Черт побери, любопытно получается…
Очнулся он только тогда, когда автобус, взвизгнув тормозами, остановился. Конечная остановка, приехали. Э-эх, не успел, надо было «растянуть время», можно было довести выкладки до конца… Впрочем, можно ли «растягивать время» на людях? Нет, вроде бы Книга этого не рекомендует…
Шагая по темным, плохо освещенным улицам поселка, Андрей думал об Алле. Кажется, сегодня ему удалось наконец все разорвать. Так резко отхлестал ее словами… нет, этого ни одна женщина не выдержит. Их разговор еще долго будут обсуждать у нее за спиной — это ведь только казалось, что их никто не слушал. Слушали! А завтра постановят и осудят в узком рабочем кругу. Бедная, бедная Алла… Если бы она только знала, что он ей солгал. Ведь многое из их встреч он помнил и без Книги — и их безумные ночи, и ее глаза, полные счастья… Помнил — и проклинал эти воспоминания! Как бы они ни были ему приятны, они не заменят ему те, другие, начисто выпавшие из его памяти. Жена, сын… Надя, Олежка…
Он долго стоял, привалившись к косяку входной двери и задыхаясь от невесть откуда хлынувших слез. Затем он быстро вошел в подъезд и долго поднимался по лестнице, останавливаясь на каждом пролете. Силы, казалось, совсем оставили его, голова кружилась, тошнило…
Дома, выпив несколько чашек крепкого кофе, он немного успокоился и заставил себя, несмотря на легкое головокружение, сесть за стол. Нужно было на двух-трех листах изложить все накопленное за прошедший день — и обсуждение доклада, и новости, услышанные в кулуарах, и разговор с Аллой… Только бы успеть…
Он успел — даже не пришлось в очередной раз «растягивать время». Да и неизвестно, смог бы он это сделать сейчас, в половине двенадцатого, — голова с каждой минутой становилась все тяжелее и непослушнее, мысли начинали путаться. Последние фразы получились у него корявыми, безграмотными, но он успел. Успел!
Вклеив три плотно исписанные страницы в Книгу, Андрей оставил ее на столе секретера закрытой — с полуобнаженной женщиной-приманкой на обложке. Сейчас начнется, сейчас…
Но сон неожиданно отступил, и голова на минуту вновь стала легкой и ясной. Андрей увидел себя — полураздетого, стоящего у распахнутого дивана с несвежим бельем. Что-то он еще должен сделать, что-то очень важное…
Должен?..
Медленно ступая босыми ногами по холодному линолеуму, Андрей подошел к темному участку стены, туда, чуть правее секретера, и наощупь нашел на ней тонкий провод с выключателем. Вспыхнул неяркий свет.
На большой черно-белой фотографии были все трое — Надя, счастливая, хохочущая, с Олежкой на руках, и он, Андрей, обнимавший сзади их обоих. Такая радостная семейная куча мала — Надя, Олежка… Надя. Олежка… Надя, Олеж… Машина? Зачем на фотографии машина?!
Он закрыл глаза и тут же явственно услышал визг тормозов.
Из-за поворота вынырнул грузовик, слепя его фарами.
Куда ты прешь, дурак! Руль — вправо! Быстрее! Нет, не успеть!
Не успеть!
Резкий звон будильника вырвал его из небытия, темного, болезненного, насыщенного призрачными, набегающими друг на друга, словно волны, кошмарами. Он захлопал, не открывая глаз, ладонью по столу, стоящему рядом с диваном, но будильник был далеко, на серванте, и, чтобы придушить его, нужно было подняться и пройти несколько шагов по холодному полу. Одна эта мысль привела его в ужас, и он с головой накрылся толстым ватным одеялом, свернувшись в клубок, — так в детстве он спасался от многих неприятностей. Еще минутку, сказал он себе, пряча голову под подушку, еще хотя бы минутку…
Через двадцать минут он уже стоял, поеживаясь, на невысоком каменном крыльце и мрачно осматривал свой участок. За ночь почти все клены сбросили свою листву, и теперь толстым слоем, чуть посеребренным первым инеем, она застилала все улицы. К буро-желтому месиву кое-где примешивались и какие-то зеленые кучки — батюшки мои, да это старик-тополь почти на треть опал! Ты что, родимый, очумел — всегда же до холодов терпел! И кусты придорожные дождь все оголил. Да что ж теперь-то переживать! Э-эх, раззудись, плечо, размахнись рука!.. И поспешать надо, а то тетка Настя еще какую работу ему найдет. До чего же вредная тетка, если подумать!
Андрей покрепче взял метлу в руки и спустился с крыльца, утонув сразу же в кленовых листьях по щиколотку.
День обещал быть трудным.
Владимир Шитик Наставник
Школа стояла на высоком песчаном берегу большого озера. А вокруг шумел красивый парк. Липы, клены, ясени были аккуратно подстрижены. Садовник говорит, что именно в этом и заключается красота.
А я, глядя на посыпанные желтым песком дорожки и яркие, как огонь, клумбы, вспоминал картину, висевшую в школьном вестибюле: среди леса вдруг открылась полянка, где бежит серебристый родниковый ручей. Красиво — да только почему-то ни у кого не возникало желания побывать там.
Картина оставалась картиной, и ей не хватало жизни, движения. Так и с парком. В своей подстриженной красе он утратил главное. Нам почему-то больше нравился остров на озере. Лес там сохранился в своем первозданном виде. Кусты были густые, как заросли в джунглях. Деревья, вывороченные с корнем, напоминали в полумраке силуэты каких-то доисторических зверей.
У каждого класса на острове был свой излюбленный уголок. Там собирались, гуляли, мечтали, спорили. Нашим местом была окруженная густым орешником поляна, посередине которой рос серебристый тополь. Он был очень старый: даже взявшись за руки впятером, мы едва могли обхватить его ствол. Метрах в двух от земли во все стороны отходили толстые ветви. Мы любили сидеть тут под вечер, скрытые сумраком и листвой от всего мира.
Мы представляли себя путешественниками, которых судьба закинула на неизвестную планету. В ветвях тополя гудел ветер, волны с шумом набегали на берег, а нам было и радостно, и немного боязно.
Ребята из других классов приходили на остров со своими наставниками. Мы же почти всегда одни. Не потому, что не любили своего наставника. Он был добрый, ласковый. Но временами он не понимал нас или не хотел понять. Мы, как и все в нашей школе, грезили о космосе. И всем старшеклассникам наставники рассказывали про путешествия к планетам и звездам, возили их на космодромы, а отправляясь на экскурсии в Австралию или на Огненную Землю, обязательно заказывали места в ракетоплане. От нашего же наставника мы почему-то никогда не слышали ни слова даже про самые интересные полеты. Однажды во время урока пришло сообщение, что возвращается экспедиция с Тау Кита, но он и не подумал прокомментировать новость. Мы слушали затаив дыхание, а наставник отошел к окну и, пока шла передача, задумчиво глядел на пустынный плес.
Радовалась вся Земля, и только он один, казалось, оставался безразличным. Это нас удивляло и настораживало: мы уважали и любили своего наставника, но безразличия к космосу никому не могли простить. Даже ему. И у нас появилась от наставника тайна…
Знал ли наставник про нее? Наверняка. Он понимал нас лучше нас самих. Порой мы забывали, что ему уже под девяносто, — такой он был выдумщик. Но он словно нарочно не замечал нашего стремления лететь в космос. Если даже на уроках случалось проходить темы, связанные с историей освоения космоса, он обязательно говорил:
— Штурм космоса — не романтика, ребята. Это тяжело даже взрослым.
— Зачем он нас запугивает? — больше всех обижался Сашка Шарай.
Рассудительный Мишка Потапчук успокаивал его:
— Чтобы понять космос, надо побывать в Пространстве.
Мы соглашались с Мишкой. Откуда было нашему наставнику знать, что такое полет к звездам, если он совсем земной человек. Кто еще в наше время, кроме него, мог взять посох и пойти на целый день в степь? Он и нас звал с собой. Один раз мы пошли. Ну и что такого? Бесконечное, однообразное поле пшеницы да жаворонки в небе. Что тут необычайного? А наставник восторгался всем этим. Он останавливался на каком-нибудь холмике, подставив лицо солнцу, и слушал, как откуда-то из синей бездны неба лилась песня жаворонка. Лицо его при этом словно молодело. А мы скучали. И домой вернулись утомленные, недовольные. Наставник поглядел на нас с какой-то жалостью и, прощаясь, вздохнул.
Вскоре наступили экзамены. Язык и физика, литература и математика… Наставник был все время с нами, помогал нам, и мы только удивлялись, как много он знает.
А потом был экзамен по истории. Чтобы сделать наставнику приятное, я решил написать про Древнюю Русь, про горячие битвы наших предков со степными кочевниками. Мне хотелось, чтобы наставник увидел милые его сердцу широкие степи, полные солнца и простора.
Сочинение, видимо, понравилось учителю. Он слушал, закрыв глаза, кивал временами головой, словно в знак согласия, а когда я кончил читать, он не стал, как делал это часто, дополнять. Он не похвалил меня — не в его правилах было хвалить человека, который выполнил свою обязанность. Он считал это естественным. Высший балл он мне все-таки не поставил. Почему? Что-то, видно, было не так. Но надо сначала самому продумать, что было «не так».
Немного разочарованный отметкой, я не сразу расслышал, о чем рассказывает Сашка. А прислушавшись, возмутился. Еще заранее мы договорились не затрагивать в своих работах тем, связанных с освоением космоса. И вдруг Сашка нарушил договор. Зачем этот вызов наставнику! Видимо, так же подумали и остальные ребята: в классе наступила необычайная тишина. Я не отрывал взгляда от наставника, искал на его лице обиду, злость или что-нибудь в этом роде. И не находил. Он и Сашку слушал, как недавно меня: внимательно, сосредоточенно.
Сашка был сообразительный парень. И где это он набрал столько сведений? А Сашкин голос вдруг зазвенел, как струна, которая вот-вот порвется:
— В жизни было немало случаев, когда космос покорялся юным!
Красиво сказано! Но у меня лично не было уверенности, что так случалось на самом деле. Что ни говорите, в космос подростков не отправляют. Надо и школу окончить, и специальность приобрести, и подготовку пройти… Так что, пожалуй, Сашка напрасно сделал свой выпад.
А Сашка подошел к столу наставника и нажал кнопку. На окна опустились черные шторы. В классе на секунду стало темно. Мы не успели даже крикнуть Сашке, чтобы он не чудил, как засветился экран. На этом экране каждый может писать, чертить схемы, оставаясь за своей партой. Только надо нажимать соответствующие клавиши.
Я подумал, что Сашка вернется сейчас к своей парте и нарисует какую-нибудь иллюстрацию к докладу. Но я ошибся. Сашка миновал свою парту и подошел к проекционному аппарату, что-то вставил в него, покрутил, и экран ожил. Мы увидели рубку космического корабля, центральный пульт, над которым склонился пожилой седой человек. Рядом с ним стоял… мальчик. Ему было немного меньше, чем нам, лет десять или одиннадцать.
У нас вырвался дружный вздох восторга и, наверное, зависти. Ведь о том, что выпало этому мальчику, мы не осмеливались даже мечтать, когда собирались у своего тополя.
— Тише вы! — крикнул Сашка. Он назвал экспедицию, звезду, у которой она побывала, год, когда вернулась на Землю.
Наверное, это были интересные сведения. Но для меня их в то время словно не существовало. Я не мог оторвать глаз от маленького космонавта. Я представлял себя на его месте, и в груди делалось горячо. Я едва не выскочил из-за парты — такая радость охватила меня.
Через мгновение я почувствовал, что ничего не понимаю. В рубке множество приборов, на экране светятся чужие звезды, в телескоп, наверно, можно увидеть и планеты у этих звезд… А мальчик словно всего этого не замечает. Он поглядывает куда-то вбок, и вся его фигура выказывает покорное терпение. Может быть, он болен?
Тем временем Сашка закончил свое выступление. Он снова подошел к столу наставника, нажал кнопку. Шторы поползли вверх. В класс хлынул веселый солнечный свет.
— Ты больше ничего не добавишь, Саша? — спокойно, как всегда, когда мы, по его мнению, сказали еще не все, что должны были сказать, спросил наставник.
Сашка остановился, не дойдя до парты:
— Было мало времени, чтобы докопаться в архиве до дальнейших событий. Но уверен, что мальчик, когда вырос, стал знаменитым космонавтом, лучшим, чем прочие. У него же такая практика!
Сашка победно оглядел нас и сел на свое место.
Мы ждали, что наставник сейчас поставит отметку и вызовет следующего. Мы ошибались.
Наставник неожиданно попросил:
— Включи, Саша, проектор, — а сам затемнил класс.
На экране снова появились рубка звездолета, штурман и мальчик.
Некоторое время наставник молчал. А когда заговорил, в классе сразу стало тихо, прямо до звона в ушах.
— В то время, когда мальчик начал помнить себя, — говорил наставник, — «Алтай» возвращался в Солнечную систему. До дома оставалось шесть независимых лет. Для вас эти слова — «независимые годы» — словно музыка. Они же используются только в Пространстве, где вокруг горят незнакомые звезды, существуют неведомые планеты, где можно ждать встречи с иными цивилизациями. Все это существует и для космонавтов. Но для них кроме этого еще есть и время. То самое, независимое, в одном названии которого кроется все. Его нельзя ни ускорить, ни замедлить. Оно такое, какое есть.
Это знали взрослые. А мальчику тогда было еще все равно. Ему на корабле было интересно все: и как сами по себе открываются двери, стоит только подойти к ним, и как робот-нянька ходит за ним следом, не давая забраться по лестнице в машинную часть, и многое другое. Мальчик родился на корабле. У него было множество игрушек: ему их делали и взрослые, и робот. Игрушки были продолжением корабельной жизни. Это были маленькие ракеты, вездеходы, роботы и многое другое, что, только побольше размером, было у взрослых. Мальчик не удивлялся. Он считал, что так и должно быть. Взрослые большие, потому у них и игрушки большие. Он только иногда задумывался, почему взрослых на корабле много, а он всегда один.
Наконец (а это случилось после долгих споров взрослых, про что мальчик узнал значительно позже) ему показали фильмы о Земле.
В первый раз родная планета не поразила его. Он глядел спокойно, а потом спросил: «Земля — это как дендрарий?» На звездолете был такой уголок, где росли настоящие деревья. Ему ничего не объяснили, только фильмов больше не показывали.
А ему почему-то очень захотелось посмотреть еще хоть один такой фильм. И однажды в сопровождении робота мальчик отправился в библиотеку. Там он быстро нашел какие-то фильмы, снятые на Земле.
Мальчик снова увидел то, что он считал большим дендрарием. «Для взрослых», — подумал он, пораженный размерами. И тут же вздрогнул: среди деревьев шел другой мальчик, такой же, как и он сам, а может, и еще меньше. Это было необычайно, удивительно и почему-то вызывало непонятное желание куда-нибудь убежать. Мальчик остался на месте: он знал, что отсюда можно убежать только в дендрарий. А этого ему не хотелось сейчас. Он впервые подумал, что дендрарий — такая же игрушка, какие есть у него, но для взрослых.
Тем временем детей на экране стало больше. Они бегали, скакали, ловили один другого. И смеялись — громко, весело, как никто не смеялся на звездолете. Мальчик перестал глядеть на экран и сказал роботу: «Хочу к детям». На корабле больше детей не было, и робот повел мальчика к отцу.
Отец внимательно выслушал его сбивчивый рассказ про фильм, потом положил ему на голову большую и теплую руку и как-то через силу сказал: «Осталось шесть независимых лет. Тогда…» Он не разъяснил, что будет тогда.
И мальчик спросил: «А когда будет это „тогда“?» Отец молча повел его в каюту, поколдовал над электронной машиной, и из нее выползла белая лента с множеством черных черточек. Отец покопался в своих карманах, потом в ящике и наконец нашел маленькую палочку. Этой палочкой он сделал на ленте из первой черточки крестик и отдал ее сыну.
— Каждый день, — начал было он, но вспомнил, что мальчик не знает, что такое «день», и поправился: — Каждый раз, как прогудит большая сирена, будешь ставить тут один крестик. Когда поставишь все, тогда мы прилетим на Землю, и ты пойдешь к детям.
Он еще раз погладил сына по голове и вышел.
А мальчик начал разглядывать ленту. Он быстро наставил бы на ней крестиков и побежал бы на Землю в большой дендрарий. Но отец велел ждать сигнала сирены. И мальчик только однажды поставил лишний крестик, хотя ему и очень надоело ждать. Черточек оставалось так много, что он не мог их даже пересчитать и не верил, что их когда-нибудь не станет. Черточки уже снились ему. И, встав, он звал робота и отправлялся в библиотеку. Там был только один фильм — тот самый, который он уже выучил чуть ли не наизусть. Но все равно смотрел его много раз подряд, каждый раз находя нечто новое, желанное и интересное…
Наставник замолк. В голубом полумраке мы видели только его фигуру, высокую, широкоплечую, и гордую голову с поседевшими волосами.
Молчали и мы, удивленные тем, что, оказывается, наш наставник знает и эту, не любимую им тему. Наконец Мишка нарушил тишину:
— Он потом встретился с детьми?
Наставник повернулся к экрану, и мы увидели, как он покачал головой. Потом услышали:
— Звездолет вернулся позже. Была авария. А мальчик… Он тогда уже вырос.
Нам стало жалко мальчика, который ни разу не погулял со своими ровесниками. Один Сашка сказал:
— Ну и что? Зато ему легче было вернуться в космос.
— Он остался на Земле, — ответил наставник. И мне показалось, что его голос задрожал. Но мне это, наверное, только показалось. Через мгновение наставник добавил: — Ведь что может быть лучше нашей чудесной, чудесной Земли.
— А тот мальчик, — вырвалось у меня, — где он сейчас?
Шторы поползли вверх. Снова стало светло. Наставник стоял за столом, глядя поверх наших голов. И мне показалось… Мне показалось, что наш наставник очень похож на того штурмана, отца мальчика… и на самого мальчика…
Владимир Шитик На Чаргон? Или нет?..
Тишина не успокаивала. Она звенела в ушах, мешая собраться с мыслями, гнала из уютной комнаты, полнила сердце еще большей тревогой. Хотелось куда-то мчаться, что-то делать, лишь бы вновь обрести душевное равновесие.
Но куда кинешься, куда побежишь, что сделаешь? За дверью — коридор, по обе стороны которого расположены такие же каюты, а в конце — рубка, где половину сферической стены занимают экраны локаторов, телескопов и массдетекторов.
Отчаяние, злость на себя переполняли душу. Кар грохнул кулаком по столу. Твердый пластик ответил на удар — руку словно пронзали тысячи острых иголок. Кар потер кулак и опустился в кресло. Он отдал космосу почти все зрелые годы, из них большую часть был капитаном. Он привык к ответственности и за себя, и за других. Однако никогда еще ему не было так трудно.
Час назад он узнал о мнении экипажа. Девять за, двое против. И это был не тот случай, когда можно было положиться на простую арифметику. Он не знал, кто проголосовал против, — на этот раз каждый принимал решение независимо от остальных и не называя себя, — да если бы и знал, что он мог сделать?.. Ведь прежде чем товарищи высказались, прошли сутки — время достаточное для серьезных размышлений и выводов.
Сигнал был принят вчера утром на аварийной волне, приемники которой по давней традиции никогда не выключались.
Земных звездолетов вблизи быть не могло — по крайней мере, так считали Кар и его товарищи. Сигнал пришел откуда-то из далеких глубин Вселенной. Он был искажен пространством и оттого невыразителен. Кодированное сообщение звучало всего несколько секунд и больше не повторилось. Пеленгаторы не сумели даже засечь направление, откуда он шел.
Просматривая расшифрованное сообщение, большинство членов экипажа согласились в одном: наиболее вероятно, что сигнал могли отправить только с планеты звезды Чаргон, до которой было не менее парсека.
Кар протянул руку к небольшому пульту, вмонтированному в стену, и нажал красную кнопку. В каюте стало темно, лишь на пульте помигивали контрольные индикаторы. Потом засветился небольшой экран. Началась передача…
Начало передачи приемники «Геракла» не захватили, — наверное, она велась узким направленным лучом. На экране сразу возник край какой-то планеты. А через мгновение встревоженный голос скупо констатировал:
— Посадка неизбежна…
Позже у того, последнего, космонавта, видимо, не хватило времени, чтобы послать специальное сообщение — просьбу о помощи. А может, он знал о «Геракле» и просто отправил в пространство часть записи своеобразного дневника, который, фиксируя все, что происходит на корабле, служит своеобразным отчетом.
Планета приближалась. Показались горы. Проплыла серая унылая пустыня, на которой местами виднелись какие-то нагромождения — то ли растительные, то ли каменные. Корабль снижался по спиральной орбите.
Тот же голос снова сказал:
— Никаких следов жизни…
На какое-то время объектив заглянул внутрь корабля, скользнул по приборам. Над пультом светилась надпись: «Дебрал». Название корабля, однако, ничего не говорило людям с «Геракла». Незнакомыми были и два астролетчика, склонившиеся над столом штурмана. Видимо, звездолет стартовал с Земли гораздо позже «Геракла».
Словно между прочим прозвучали слова, которые в первый раз заставили содрогнуться всех, кто видел передачу: «Нас только трое…»
Что произошло с «Дебралом», куда подевались остальные, в какую катастрофу они попали, почему вынуждены садиться на чужую, неизученную планету, запись не сообщала. Космонавтов осталось только трое, но они надеялись, что на этой планете восстановят двигатели корабля, которые почему-то утратили свою мощь.
Еще просматривая передачу в первый раз, Кар спросил инженеров, можно ли отремонтировать двигатели. Они дружно ответили, что на это нужны время и специалисты. Однако неизвестно, остались ли в живых инженеры «Дебрала».
Сейчас Кар попытался смотреть передачу как бы впервые. На какое-то время это ему удалось. Однако где-то подсознательно пульсировала горькая мысль, что «Геракл» бессилен помочь, изменить ход событий…
«Дебрал» сделал посадку. Вокруг лежала все та же серая песчаная равнина, на далеком краю которой в фиолетовых лучах местного светила вырисовывались голые черные горы. День на планете только начинался.
Следующие кадры были сняты уже под вечер. Может, между ними и предыдущими минул день, а может, неделя. Рядом со звездолетом выросли ангар, гараж для вездеходов. Между строениями, окруженными оградой, деловито сновали роботы. Мирная, в общем, картина. Да вот ограда…
Два космонавта стояли возле выхода из ограды и смотрели в сторону гор. Наконец там возник столб пыли. Он двигался к звездолету, и вскоре объектив поймал блестящий корпус вездехода. С обидной лаконичностью кто-то промолвил:
— Клам возвращается.
Потом уже втроем космонавты сидели в салоне корабля. Хмурые, озабоченные, они советовались, не выключив микрофон.
— В горах, как и в пустыне, — ничего интересного. Прекратим поиски.
— Ты геолог. Мы обойдемся без тебя, — сказал самый молодой.
— Вам с Гердом будет трудно, Син, — возразил Клам.
— Меня тревожат нагромождения, — покачал головой тот, кого Клам назвал Сином. — Иногда там чувствуется какое-то движение.
Он сказал это очень неуверенно, а Кар прошептал: «Молодец, блестящая интуиция».
— Я схожу туда, — помолчав, произнес Клам. — Возьми вездеход.
— Это недалеко…
— Рискованно, — нахмурился Син. Клам засмеялся, — нервно, отрывисто, невесело. — Здесь нет жизни!
Син снова покачал головой и с горечью сказал:
— Жаль, что командир погиб.
По экрану забегали волны. Кар знал, что в следующий момент объектив покажет растерянных Сина и Герда среди пустыни, на поверхности которой будут лишь следы от обуви Клама — его самого уже не увидит никто…
Какую-то часть дневника Син не включил в передачу.
В следующих кадрах были те же самые нагромождения. Вблизи они выглядели как-то странно и не хаотично. Кару бросилась в глаза определенная закономерность в их кажущемся беспорядке. Отдельные участки группировались, напоминая огромные тетраэдры. А все вместе, поданное сверху, было похоже на тело какой-то гигантской кристаллической структуры.
Недавняя гибель товарища выбила Герца из равновесия, и он не доверил разведку чужой природы роботу, как того требовали и правила, и логика, а пошел к нагромождениям сам, пешком.
Кар выключил экран. Не было сил смотреть на то, что произошло дальше. Он никак не мог понять, что же все-таки случилось?
…Герд не почувствовал опасности, не обратил внимания на поведение своего механического помощника — робота, который вдруг заколебался, будто выбирая, идти за человеком или отступить. Кар догадался, что робот, снова-таки в нарушение инструкции, был настроен на самоохрану. Но даже если бы и не это — чем бы он помог человеку?
Последняя сцена была жуткой. Смотрел ли Кар на яркий свет лампы, жмурил ли глаза, а перед ним стояло одно и то же.
Герд, который до этого шел спокойно, вдруг начал недоуменно озираться по сторонам. Похоже, что-то его смутило. В своем неуклюжем скафандре он и сам был похож на робота. Потом… Потом фигура его стала светлеть, потеряла выразительность, рельефность, словно на нее наплыл туман.
А через мгновение… Герд исчез.
Когда они смотрели передачу впервые, Кару показалось, что Герд действительно скрылся в тумане. Однако в следующий момент, он это помнит отчетливо, все сомнения развеялись — на экране можно было рассмотреть все детали пейзажа до мелочей, отчетливо было видно и то место, где только что находился Герд. И несколько позже — новое диво: с роботом, шедшим за человеком, ничего не случилось.
Только оставшись один на один с неизвестной и страшной угрозой, Син решился послать сигнал о несчастье.
Будь Кар один, он не задумываясь направил бы корабль к Чаргону. Но он возглавляет экспедицию, отвечает за судьбу и жизнь каждого члена экипажа. Даже если бы они проголосовали единодушно, он не имел права не взвесить все «за» и «против», послушавшись сердца, а не разума. А в данном случае двое считали риск неоправданным.
Кар не осуждал их. Он не сомневался, что ими двигал не страх за себя. Решаясь оставить обреченного космонавта, без помощи, они, безусловно, руководствовались какими-то иными, также заслуживающими внимания соображениями.
Поворот к Чаргону означал, что продолжительность экспедиции увеличится примерно на десять независимых лет, которые пойдут на торможение, полет к планете, возвращение на прежнюю трассу и новый разгон до субсветовой скорости. Это плюс к двадцати двум годам, которые «Гераклу» и без того предстояло пробыть в пространстве. А на Земле минет более полувека. Не окажутся ли ненужными открытия, которые они везут с собой и за которые уже заплатили жизнью трое из команды «Геракла»? Кар понимал, что арифметика тут довод не очень убедительный, но не вспоминать погибших тоже не мог. Может, о них думали и те двое, сказавшие «нет»?
Однако разве только этими тремя жертвами они обойдутся, продлив время своего путешествия? Кар подумал о биологе Габе. Вскоре они собираются отметить его вековой юбилей. Габа состарился в космосе. Хватит ли у него сил, чтобы продержаться дополнительные десять лет? Инженер Верс моложе, но он был ранен на третьей Лебедя. Одолеет ли он дополнительные годы?
И все же Кар был уверен, что именно эти космонавты, которые, наверное, больше остальных мечтают о встрече с родными, не сказали своего «нет». Люди его времени требовательнее к себе. Но это совсем не означает, что он, капитан, имеет право забыть о них.
Кару снова показалось, что на него начал опускаться потолок. Стало невыносимо тесно и душно. Он подставил грудь под упругую струю холодного воздуха, но облегчение не пришло. Кар с трудом поднялся и вышел из каюты.
Невидимые плафоны лили мягкий свет, не дававший тени. Его привычная мягкость сейчас почему-то раздражала. Кар торопливо зашагал к рубке, где на штурманском экране уже вторые сутки виднелся один и тот же сектор неба. Кар надеялся, что в рубке никого не будет, и он сможет без помех изучить район Чаргона. Не хотелось, чтобы кто-то стал свидетелем его мучительных сомнений, колебаний.
За пультом, задумчиво глядя на мигающие индикаторы, сидел штурман Рехва. Он не заметил капитана, и Кар тихо пристроился сзади. Рехва был самый молодой из них — ему еще не исполнилось пятидесяти. Кар вдруг подумал, что если они изменят курс, то штурман может уже не застать на Земле свою жену, и его дочь, чей портрет — маленькая девочка с синим бантом в светлых кудрявых волосах — стоит в каюте штурмана на столе, будет уже старше своего отца.
Штурман услышал, как вздохнул капитан, и оглянулся. Кар положил одну руку Рехве на плечо, а второй попытался усилить резкость телескопа.
На экране вспыхнул Чаргон — фиолетовый косматый клубок. Он пульсировал, выбрасывая в пространство сгустки плазмы. А в отдалении, словно привязанная, висела маленькая голубая точка — единственная планета этого могучего светила.
Что станет с Сином? Наверное, об этом думал и штурман, потому что он снова поднял вопросительный взгляд на капитана. Кар не выдержал и, не произнеся ни слова, вернулся в каюту. Он сбежал от Рехвы, который, по-видимому, не случайно сидел все время за пультом, готовый в любой момент изменить курс. Кар не сомневался, что и соответствующие расчеты уже произведены. Нужна была только его команда. А капитан, Железный Кар, как его уже давно прозвали космонавты, не находил в себе сил, чтобы преодолеть сомнения.
Возвратившись в каюту, Кар потребовал последние данные дешифровальных аппаратов. Однако ничего нового не было.
Зазвучал сигнал внутренней связи. На экране возникло хмурое лицо штурмана. Он молча смотрел на капитана, сдерживая готовый сорваться с языка упрек. Кар взглянул на экран, дублировавший штурманский, затем на хронометр. Наступало оптимальное время для поворота. Нужна лишь команда — и через час машины выполнят все необходимое для нового маневра.
Нужна лишь команда…
Юрий Магалиф Типтик, или Приключения одного мальчика, великолепной Бабушки и говорящего Ворона
— Это что же за имя такое — Типтик?
— Да вот уж такое. Обыкновенное имя — Типтик.
— Нет, не обыкновенное. Ты, наверное, его просто придумал. Таких имен не бывает.
— Всякие имена бывают. Имена бывают всякие, и мальчишки тоже бывают всякие.
— А этот твой Типтик — какой мальчишка?
— Вроде тебя. Росту невысокого, но и не такой уж малыш. Не толстый и не худенький — в самый раз. Глаза серые, нос курносый… И по правде говоря, зовут его не Типтик, а Тимофей. Тимофей Птахин. Вот как его зовут по настоящему.
— А ты говорить — Типтик. Выдумал, да?
— Я тут ни при чем. Это ребята в его классе так придумали: взяли первые буквы от имени и фамилии. Получилось — ТИПТ. А потом, чтобы удобнее было выговаривать, прибавили еще две буковки. И получилось — ТИПТИК.
— Смешно получилось.
— А мне нравится.
— Мне тоже нравится… Ну, и что же было сначала?
— Ничего особенного сначала не было. Ходил Типтик в школу. В первый класс, потом во второй, потом — перешел в третий…
— А приключения? Ты же обещал рассказать о необыкновенных приключениях этого мальчишки.
— Очень уж необыкновенные приключения. Боюсь — не поверишь.
— А ты не выдумывай. Рассказывай по правде все, как было.
— Все равно, не поверишь.
— Это сказка?
— Сам не знаю… Не могу понять — где кончается правда и где начинается сказка.
— Все-таки расскажи, пожалуйста.
— Ну что ж, слушай.
— И про Ворона не забудь!
— Не забуду.
— И — про великолепную Бабушку!
— Не забуду. Итак…
Глава первая Старый дом
Типтик все утро бегал по двору и устал. Присел отдохнуть. Имеет право на отдых человек, который прожил на свете целых девять лет? Имеет право на отдых человек, который закончил учебный год на пятерочки и четверочки? Должен отдохнуть человек, если все утро он бегал по двору и устал?.. Да, человек имеет право на отдых. Об этом даже есть специальный закон. И Типтик отдыхал вполне законно.
Он сидел на нижней ступеньке крыльца старого нежилого дома и ковырял щепочкой землю возле ног.
Обратите внимание: вокруг дома, где отдыхал Типтик, был не жесткий асфальт, а мягкая земля. Это потому, что дом был старый-престарый; его уже сто раз собирались разобрать на двора и на этом месте выстроить новый современный домище. Но почему-то с этим делом не торопились. Наверное, потому, что в городе было много новых домов, а старых почти и не осталось. А ведь приятно, когда на тихой улочке вдруг повстречается такой старый-престарый домик, украшенный деревянной резьбой, с чердаком и с высокой кирпичной трубой.
Говорят, что здесь когда-то жили ленинградцы, эвакуированные во время войны с фашистами. А до них, говорят, жили инженеры, построившие мост через реку. А до инженеров тут, говорят, проживали командиры непобедимой Красной Армии. А до командиров — здесь жил и работал Знаменитый Художник.
Как была фамилия этого художника и чем он был знаменит — этого сейчас никто уже не помнит… Впрочем, между нами говоря, с художниками так нередко бывает: пока живой — знаменит, а когда умрет — никто и не вспомнит.
А все-таки, про этого художника — хоть и забыли люди его фамилию — до сих пор рассказывают всякие чудеса.
Например, говорят, что этот художник очень любил птиц; на чердаке устроил голубятню (голуби до сих пор там воркуют) и как будто бы научил разговаривать по-человечески какого-то умного вороненка. Еще говорят, что нарисовал художник удивительную картину, где изображен город, построенный, представьте себе, из стекла! Говорят, что картина эта была заколдована: чтобы ее увидеть по-настоящему, надо было произнести какие-то волшебные слова. Говорят… да мало ли что люди придумают — художника-то давно ведь нет на белом свете; поди теперь проверь, где правда, а где сказка.
Глава вторая «Рази-двази…»
Так вот, значит, сидел наш Тимофей Птахин на крылечке старого дома, отдыхал и от нечего делать ковырял щепочкой землю.
Ковырял, ковырял… и вдруг щепочка наткнулась на что-то твердое. Типтик стал копать глубже и увидел в земле темный продолговатый металлический предмет. Вынул он этот предмет из земли, смахнул с него налипшие песчинки и соринки и понял, что держит в руках плоскую железную коробочку.
Разумеется, коробочка снаружи заржавела, — так что Типтик открыл ее с большим трудом. А когда открыл — ахнул! Внутри находились акварельные краски — яркие, свежие, совсем-совсем новенькие, словно их только что вчера положили в коробочку. А на внутренней стороне крышки зелеными буквами были написаны странные слова. Типтик сначала прочитал их про себя, а потом повторил вслух:
— «Рази-двази, тризи-мизи, пята-лата, сули-мули, буба-бэнс»!
Но едва Типтик произнес до конца эти удивительные, совершенно непонятные слова, как на чердаке старого дома послышался шум, и, расталкивая перепуганных голубей, оттуда вылетела большая черная птица. Она повисла в воздухе, как вертолет, — и вдруг, сложив крылья, камнем кинулась вниз и опустилась на землю прямо перед Типтиком.
— Мол-чать! — четко сказала птица. — Дурррак!
— Что-о?! — разинул рот Типтик (он, действительно, между нами говоря, на секундочку поглупел). — Это ты сказала?
— Дурррак! — повторила птица и добавила: — Забудь!
Раскрыв огромный клюв, птица нахально подскочила к Типтику и выхватила у него из рук коробочку.
— Отдай! — закричал Типтик. — Отдай сейчас же!
Но птица ловко, хотя и тяжеловато, взлетела на крышу старого дома, положила коробочку рядом с собой, придавила ее когтистой лапой и прокричала:
— Каррр! Чужое не трррогай! Забудь!.. Привет!
И, зажав краски в клюве, улетела неизвестно куда.
Глава третья Великолепная бабушка
Прошла неделя… другая…
Типтик часто теперь думал об этой странной говорящей птице, о заржавевшей коробочке с красками, и вспоминал непонятные слова: «Рази-двази…» Что там было написано дальше — Типтик как ни старался, никак не мог вспомнить.
Черная птица сказала: «Забудь!» И Типтик забыл. Как странно!.. Очень странно…
Конечно, он рассказал об этой птице ребятам во дворе, рассказал дома. Но все смеялись и говорили, что Типтик выдумщик, фантазер, сочинитель. Мама даже сказала, что когда Типтик вырастет, то непременно станет сказочником. «Потому что все они порядочные бездельники и вруны», — объяснила мама и побежала на кухню варить яблочный компот.
Но бабушка Тимофея Птахина (которая называла его только ласкательно по-старинному — «Тимоша», а иногда по-деловому — «внук»), когда услышала эту непонятную историю — задумалась. Задумалась надолго, на целых полтора дня.
Ах, это была великолепная Бабушка! Она разгуливала по городу в синих брючках, стриглась «под мальчика», читала газету «Спорт» и журнал «Здоровье», а по вторникам и четвергам бегала легкой трусцой в спортзал играть в волейбол.
— Вот что, внук, — сказала великолепная Бабушка. — Я думала полтора дня и решила, что, к сожалению, ты не станешь сказочником, потому что ты не врун. Ты — человек честный, и я верю в то, что ты рассказал. Я убеждена, что черная птица — это Ворон! Да-да, тот самый Ворон, который когда-то давным-давно был обыкновенным вороненком и которого Знаменитый Художник научил разговаривать по-человечески. В одной газете я прочитала, что вороны чрезвычайно умные и способные птицы, а в журнале «Здоровье» сказано, что живут они долго-долго, почти триста лет… хотя проверить это невозможно.
Тут великолепная Бабушка взяла гантели, сделала несколько силовых упражнений, трижды глубоко вздохнула и рассказала Типтику кое-что интересное.
— На днях я пробегала мимо старого дома. И заметила, как странный какой-то человек карабкался по наружной лестнице на голубиный чердак. Вокруг беспокойно кружились голуби, суетились воробьи, а человек отбивался от них палкой… И знаешь, что я еще заметила?.. Он тащил с собой тонкую легкую сеть! Ах, к сожалению, я опаздывала на волейбол и не успела спросить: зачем ему сеть?
— Я знаю! — сказал Типтик. — Он хотел поймать Ворона.
— Может быть, — согласилась Бабушка. — Вполне возможно. Но понимаешь ли, за такой необыкновенной птицей должен охотиться только необыкновенный охотник.
— А какой он из себя?
— Я же тебе сказала, Тимоша, что торопилась на волейбол и не смогла рассмотреть птицелова подробнее. Но мне показалось, что он маленький, толстенький — ему надо бы побегать трусцой! И он в клетчатом пиджачке… А нос у него крючком… то есть, конец носа загнут книзу, кажется… или кверху?.. Точно не могу сказать, но твердо помню, что — крючком.
Глава четвертая Портрет Ворона
Какая досада, что Ворон утащил ту коробочку с акварельными красками!
Дело в том, что Типтик иногда любил рисовать. Он многое любил делать иногда. Иногда любил собирать марки. Иногда любил играть в «чижика». Иногда любил помогать взрослым по хозяйству. Иногда любил читать, иногда рисовать. И хорошие краски ему очень пригодились бы.
Конечно, в столе у Типтика лежала и бумага, и хорошие кисти, и неплохие краски… Но те — в металлической коробке — были просто замечательные: чистые, яркие…
Все-таки Типтик решил что-нибудь нарисовать своими неплохими красками. Взял бумагу и самой черной краской, которая называется очень страшно: «жженая кость», попробовал изобразить говорящего Ворона. Не получилось — Ворон вышел слишком черный и даже немного страшный. А ведь Типтик помнил, что та птица была совсем не страшная, а, наоборот, вполне симпатичная. И глаза у нее были смелые да веселые, а клюв блестящий. А перья совсем не черные, а с каким-то синеватым металлическим отливом.
Тогда Типтик развел темно-синюю краску, добавил туда немного зеленой, фиолетовой, прибавил черную (но совсем чуть-чуть!) — и на этот раз Ворон получился замечательный! Как живой!
Портрет Ворона Типтик прикрепил у себя над кроватью. И чем больше смотрел на эту птицу, тем сильнее она ему нравилась.
— Ворон!.. — шептал мальчик, перед тем, как лечь в постель. — Воронуша… Мой Воронусик… Я тебя люблю! И во что бы то ни стало найду тебя!
Глава шестая Птицы в клетках
Это произошло в субботу днем.
Накануне родители уехали на дачу собирать ягоду «викторию», а Типтик и его великолепная Бабушка остались в городе.
— Внук! — сказала Бабушка. — Не сбегать ли нам с тобой в тир? Не пострелять ли из пневматического ружья?
— Идет! — ответил Типтик. — Давненько не брал я ружьецо в руки!
— И я давненько.
— А деньги у нас найдутся? — спросил Типтик.
— Найдутся. Я беру с собой два рубля.
— Достаточно…
Надвинув на лоб легкие голубые каскетки с длинными козырьками, чтобы не щуриться от солнца, бабушка и внук побежали легкой рысцой в тир.
На самом углу Зеленого проспекта и Мирной улицы они увидели небольшую стайку ребят: мальчишки громко разговаривали, смеялись и что-то там такое разглядывали.
— Необходимо выяснить, в чем дело, — сказал Типтик, слегка запыхавшись от легкого бега.
— Выясняй, — безо всякой одышки ответила великолепная Бабушка.
Растолкав знакомых ребят, Типтик лицом к лицу очутился перед странным человечком.
Человечек — низенький, чуть повыше Типтика, толстенький; губы широкие, зубы мелкие, желтоватые, а нос загибается книзу, крючком! Левый глаз прикрыт черной повязкой… Одет незнакомец в клетчатый пиджак.
— Бабушка! — крикнул Типтик. — Иди-ка сюда!..
Рядом с одноглазым на асфальте стояли клетки с птицами. Клетки маленькие, тесные; и птицы отчаянно бились о прутья. Бились, щебетали, трепыхались щеглы, синички, пеночки, овсянки…
— По какому же праву здесь издеваются над живой природой? — очень строго и очень громко спросила Бабушка.
Ребята замолчали. Смех прекратился. Только слышно было, как трепещут птичьи крылья.
Одноглазый вовсе не испугался. В ответ он быстро затараторил:
— Кто, кто, кто издевается? Где, где живая природа? Тут нет никакой природы, тут пташки! Вас не касается. Сам изловил, сам посадил, сам продаю!..
— А я вас опознала! — торжественно провозгласила Бабушка. — Вы лезли на чердак старого дома ловить птиц. Я опознала вас!
— И нечего опознавать. Меня и так все знают. Любого спроси, любой ответит: это Дядя Ловушка — знаменитый любитель птиц.
— Какой же вы любитель, если держите птиц в таких тесных клетках?.. Любитель должен быть добрым, — сказал Типтик.
— Много ты, голубок, понимаешь в любителях. Есть любители добрые, есть любители недобрые; а я — средний… Пташки мои — хочу люблю, хочу не люблю.
— Они пить просят, им жарко. А вы воду в клетки не поставили.
— Тебя как звать? — спросил Дядя Ловушка и прищурился.
— Типтик.
— Его полное имя — Тимофей Птахин! — объяснила великолепная Бабушка.
— Ну вот что, Пташкин… — единственный глаз Дяди Ловушки сердито сверкнул: — Вот что: топай, топай отсюда! Пташкин, не мешай торговать пташками. Ясно?.. Топай, топай! Живо!
— Как вы разговариваете с ребенком! — возмутилась Бабушка. — Безобразие! Вы не имеете права! Вы — враг живой природы!
— Я? Враг?.. Хи-хи! — обнажил мелкие зубы Дядя Ловушка. — А пташки все равно мои. Пить хотят? Меня не касается!
— Что же вас, дяденька, касается?
— А касается меня только то, что я сам пожелаю!.. Ты купи пташечку, а после хоть напои ее, хоть залей ее водой — дело твое. Ты не враг живой природы, нет? Тогда дай пташке напиться, будь любезен. Только сначала купи ее!
— У меня нет денег, — сказал Типтик.
— Нет денег? — Дядя Ловушка зло взглянул на Типтика. — Тогда не лезь. С нищими не разговариваем!
— Ишь какой богатый выискался! — вступились за Типтика ребята. — А вот мы вас, дяденька, поймаем и тоже в клетку без воды посадим. Хорошо вам будет, а?
— Нет у нас такого закона, чтобы мучить птиц!
Великолепная Бабушка от волнения сделала два глубоких вдоха и решительно сказала:
— Не имеете права! Выпустите птиц на волю!
— Но-но!.. — закричал Дядя Ловушка. — Мои пташки!
— Нет! — сказал Типтик. — Птицы не ваши. Птицы — для всех. Птицы должны жить на воле!
— Пррра-пррравильно! — раздался резкий скрипучий голос — как будто гвоздем по консервной банке чиркнули.
Глава седьмая Воронуша
Это еще что такое?!.
Клетчатый пиджак Дяди Ловушки оттопырился, и оттуда высунулся длинный черный клюв. А вслед за клювом показались круглые карие глазки.
— Галка! — сказал какой-то мальчишка.
— Грач, — сказал другой.
— Нет! — обрадовался Типтик. — Ничего вы не понимаете. Это не галка и не грач, не сорока и не ворона… Бабушка, смотри: ведь это же необыкновенный ворон! Я тебе рассказывал!..
— Сказочно-красивая птица! — воскликнула Бабушка.
— Пррра-пррравильно! — четко произнес ворон. — Воронуша кррра-крррасавчик!.. Пить давай!
Все ахнули:
— Говорящий!
— По-человечески умеет!
— Он продается? — спросила Бабушка. — Какая цена?
— Ишь чего захотели! — прищурил свой единственный глаз Дядя Ловушка. — Не продается Воронуша. Ни за что не продается. Нет, ни за что! Самому нужен.
— Пррро-пррродавай! — каркнул Ворон. — Ррразбойник! Воррр! Пррродавай!.. Пить Воронуше, пить!
— Он водички хочет… — голос у Типтика дрогнул. — Я… Ну, я очень вас прошу, дяденька Ловушка!.. Пожалуйста, будьте так добры… Я очень… Бабушка, ну что же ты: попроси, пусть продаст… Ну пожалуйста!
Ворон совсем выбрался из-под клетчатого пиджака. Замахал крыльями, хотел вспорхнуть, да не смог: его крепко держала за ногу короткая стальная цепочка.
— Пусти! Воррр! Ррразбойник! — сердито щелкнул клювом Воронуша.
Дядя Ловушка ударил его по клюву:
— Чего захотел, паразит!
— Ну, продайте… Пожалуйста!.. — прошептал Типтик.
— Сто рублей! — ехидно улыбнулся птицелов.
— Ско-олько?! — возмутилась Бабушка. — Грабеж среди бела дня. Сто рублей за птицу!
— Пташечка-то не простая, а говорящая! — подмигнул Дядя Ловушка. — Десять рублей за перья с клювом, а девяносто за разговоры.
Типтик полез в карман курточки.
— Вот… — сказал он, протягивая руку — на ладони лежали шестьдесят копеек. — Вот… на три выстрела в тире… Больше нету.
Дядя Ловушка захихикал: толстые губы растянулись до самых ушей.
— Погоди, Типтик, — сказали ребята. — Мы тебе отдадим свои деньга.
— У меня есть восемь копеек…
— У меня пятак…
— А вот целый полтинник!
— Три копейки…
— У меня денег нет, но есть перочинный ножик, почти новый, только тупой и без штопора…
Ребята сложили все в кучку перед Дядей Ловушкой. На асфальте лежали: ножичек, ошейник, рыболовное грузило, значок «Юный турист», увеличительное стеклышко, испорченный карманный фонарик, старая батарейка, кусочек жевательной резинки… А денег всего — один рубль семьдесят шесть копеек.
— Сто рублей! — хохотал Дядя Ловушка. — Ни копейки меньше!
У Типтика защипало в носу — он вот-вот готов был разреветься.
— Не могу видеть, как страдает ребенок! — сказала великолепная Бабушка. — Сто рублей?.. Отлично! Сейчас же сбегаю за деньгами домой.
Она подтянула свои синие брючки, откинула назад коротко подстриженную голову и побежала легкой рысцой.
Глава восьмая Добренький дядя
— Ладно, — сказал одноглазый. — Ладно, я ужасно добренький. Пока гражданка Бабушка летает за деньгами, я — так и быть! — разрешаю маленько поиграть с моим Воронушей… А ну, давайте-ка сюда ваши денежки — один рубль и семьдесят шесть копеек. Так и быть, на три минутки можете взять птичку в руки…
Он сделал цепочку немного подлиннее и, не отстегивая ее от пиджака, спустил Воронушу на землю. Звякнув цепочкой, Ворон немедленно вспрыгнул Типтику на плечо:
— Пить!.. Пить!..
— С-сейч-час… — от радости Типтик даже заикаться начал.
Кто-то из ребят побежал к автомату с газировкой… А где деньги? Ведь ни копеечки не осталось — все отдали Дяде Ловушке.
— Верните копеечку! — попросили у него. — Воронуша пить хочет…
— Авось, не сдохнет, — сказал птицелов, подбрасывая на ладони ребячьи медяки. — Птица — она до самой смерти выносливая: пока не помрет — будет жить!
Все-таки у кого-то из мальчишек завалялась в самом уголке кармана позеленевшая монетка. И вот целый стакан газированной воды — чистой, прохладной, с легкими воздушными пузырьками преподнесен Воронуше:
— Пей, птичка! Пей, Воронуша!
Ворон сунул клюв в стакан, потом задрал голову — проглотил воду.
— А что, Воронуша, надо сказать? — спросил Типтик.
— Давай с сиррропом! — без запинки ответил Ворон.
Все так и покатились со смеху — ну и птица! Сообразительная!
А Типтику вдруг неизвестно почему — ну, совершенно непонятно почему! — вспомнилась та коробочка с красками и те странные слова, похожие на считалку. Он совершенно беззаботно, шутя произнес:
— Рази-двази…
— Тризи-мизи… — продолжил Ворон; но вдруг запнулся, словно вспомнив что-то, отшатнулся от Типтика и четко сказал:
— Дурррак! Мол-чать!
И прицелился клювом, как бы выбирая: куда бы побольнее стукнуть Типтика?
— А только посмей! Только клюнь! — раздался испуганный голос Бабушки. — Да, я принесла деньги. Сто рублей. Но я не могу тратить такую огромную сумму на хулиганскую птицу. Ребенок может ослепнуть…
— Это у них, у паршивых пташек, дело обыкновенное, — проворчал Дядя Ловушка. — Раз — и в глаз!
И грязными пальцами он поправил свою повязку. А Типтик давно уже приметил, что у стальной цепочки есть маленький пружинный замочек. И в тот момент, когда Дядя Ловушка поправлял повязку на глазу, Типтик незаметно (как будто бы совершенно случайно!) нажал на пружинку; замок раскрылся, и…
Глава девятая Милиция!
Ребята закричали:
— Смотрите, смотрите! Летит!
— Держи его, держи!
— Счастливого пути, Воронуша!
Дядя Ловушка, растерянный, стоял посреди улицы, топал ногами и орал благим матом:
— Назад!.. Проклятая птица!.. Кому сказано — на-зад!.. Ах ты!..
Ворон, вырвавшись на волю, взмыл высоко в небо. Странно, вместо того, чтобы поскорее улететь прочь отсюда, Воронуша, немного покружившись в небе, плавно опустился на вершину высокого тополя, что стоял на самом углу Мирной улицы и Зеленого проспекта. Длинным крепким клювом он спокойно перебирал перья на животе и, поворачивая голову то вправо, то влево, наблюдал, что делается внизу.
А внизу суетился Птицелов — перебегал с места на место, махал руками, кричал, звал… Ворон не обращал на него никакого внимания и думал о чем-то своем — серьезном и, наверное, таинственном.
Тут вдали показалась желто-синяя милицейская патрульная машина. Выждав, когда она приблизится к тополю, Ворон спрыгнул на ветку пониже и громко заявил на всю улицу:
— Воррр! Каррртину укрррал! Огрррабил!
Машина остановилась, из нее вышел сержант милиции и спросил:
— В чем дело, граждане? Кто кричал «вор»? Кто кричал «ограбил»?
Сверху раздалось еще погромче:
— Воррр! Каррртину укрррал! С чердака!
Глава десятая Про картину
— Спокойно, граждане! — милиционер строго посмотрел на ребят, на Бабушку, на Птицелова. — Признавайтесь быстренько: кто похитил произведение искусства?
— Разрешите вам объяснить, — сказала великолепная Бабушка. — Речь идет, вероятно, вот об этом браконьере. Он торгует птицами, торгует, так сказать, живым товаром. И вы только взгляните — в каком бедственном положении все эти пеночки, синички и щеглы! И еще он хотел продать нам за сто рублей вон того ворона, который, к счастью, вырвался из плена и улетел…
— Нет, Бабушка, он улетел к несчастью! — воскликнул Типтик. — Вот если бы он улетел к нам — это было бы к счастью!
— А ведь я уже приготовила сто рублей, чтобы уплатить их этому… этому… — Бабушка не могла подобрать нужного слова.
— Воррру! — закончил за нее Воронуша. — Укрррал каррртину со старого чердака!
— В чем дело, гражданин? — милиционер подошел к Дяде Ловушке. — Какая картина? Какой чердак?
— Шутка, гражданин начальник! — Дядя Ловушка подмигнул единственным глазом. — Пташка шутит. Кричит безо всякого понимания. Дурацкая башка — вот и кричит…
— Но позвольте! — вмешалась Бабушка. — Я лично видела этого человека, когда он в своем клетчатом пиджаке забирался на чердак старого дома. В том доме когда-то жил Знаменитый Художник. И, может быть, на чердаке до сих пор хранятся его картины? Нет, товарищ милиционер, у Ворона не такая уж глупая голова.
— Шутка, граждане!.. Ну да, было такое дело — полез я на тот старый чердачок: думал парочку голубей отловить… Вижу, на чердаке картина валяется — вся в пыли да в паутине. Чего ж добру пропадать? Взял я картинку, принес домой, вымыл с мылом… Гляжу и глазам не верю: не картина это, а просто чистый холст! Ничего там не нарисовано: золоченая рама, а в середке серый холст… Пусто!
— Вррранье! — раздалось сверху.
— Вы кому больше верите? — обозлился Дядя Ловушка. — Мне, человеку разумному, или этой дурацкой птице?.. А еще вот что, гражданин милиционер: когда я на чердаке взял в руки проклятую картину, эта черная ворона налетела на меня и долбанула в левый глаз! Через нее инвалидом стал. Работать не могу — вот, пташками стал интересоваться.
— Воронушу вы все-таки потом поймали? — спросила Бабушка.
— А как же! За такое разбойное нападение наказание полагается. Как раз сегодня хотел ему башку открутить, да вот, освободился он каким-то чудом…
— Нет, что же это делается, товарищи! — воскликнула Бабушка. — Живой птице хотят голову открутить! Мало того, что он торгует несчастными пернатыми, учит детей жестокости, так он еще…
— Ладно, разберемся, — сказал милиционер. — Собирайтесь, гражданин, поедете с нами.
— За что, за что? — затараторил Дядя Ловушка. — Ни одной птички еще не продал, ни одной копейки не получил… За что, за что, за что?..
— Неправда! — сказал Типтик. — Копейки-то он получил.
— На-на! Забирай свои денежки! Забирайте все! — и Птицелов швырнул на асфальт один рубль семьдесят шесть копеек, а за ними — тупой ножичек, ошейник, грузило, значок, увеличительное стеклышко, карманный фонарик, батарейку и жевательную резинку…
Милиционер собрал клетки с птицами, поставил их в машину. Туда же забрался Дядя Ловушка, и за ним захлопнулась дверца с решетчатым окошечком.
— Ура! — сказала Бабушка.
— Ура! — сказал Типтик, а за ним и все ребята: — Ура! Теперь Ловушка сам оказался в клетке!
— Типтик! — Бабушка подтянула синие брючки. — Вперед! Ребята, за мной!.. У меня в кармане осталось сто рублей, и каждый, кто хочет, может пострелять в тире из пневматического ружья. Денег хватит на всех!
— Кррра-крррасота! — раздалось сверху.
Глава одиннадцатая Ночной гость
Что и говорить — этот день был что надо! Типтик освободил Воронушу. Милиция забрала птицелова Дядю Ловушку. Потом всей компанией стреляли в тире. И надо признаться, что великолепная Бабушка целилась лучше всех. Правда, и Типтик пять раз подряд попал в забавную мишень: как угодишь в самый центр, так сразу же раздается песенка про голубой вагон.
А после тира они с бабушкой еще долго гуляли по городу, и Типтик все задирал кверху голову: не видать ли где-нибудь в небе Воронушу?.. Нет, не видать…
Родители вернулись с дачи поздно. Они там слишком долго ползали на корточках между грядками — ухаживали за ягодами; устали и поэтому не слишком внимательно слушали Типтика и Бабушку, которые рассказывали про птицелова, про Воронушу и про стрельбу в тире.
— Очень интересно, — рассеянно сказала мама. — Я все поняла: Бабушка посадила птицелова в клетку, а ты научил ворону петь «Голубой вагон». Молодец! Забавно!
Нет, сегодня родителей интересовала только ягода. Они ничего не поняли. И Типтик огорченный отправился спать.
Он спал в одной комнате с Бабушкой. Честно говоря, это ему не слишком нравилось, потому что Бабушка заставляла его перед сном чистить зубы и непременно мыть ноги; когда он забирался под одеяло, Бабушка отворяла форточку, чтобы ночью в комнате был свежий воздух…
Но засыпать рядом с Бабушкой было интересно, потому что она знала много удивительных историй. Типтик слушал… слушал… и засыпал, не разобрав, где в этих историях правда, где выдумка, где быль, а где сказка.
Сегодня Бабушка начала рассказывать небывалую небывальщину: будто бы давным-давно — две с половиной тысячи лет тому назад — умные птицы решили построить Город Счастья.
— А разве птицы могут строить? — спросил сонный Типтик.
— Могут, могут… — тихо ответила Бабушка. — Это ведь сказка, а в сказке они все могут. Решили птицы жить по справедливости, честно, без обмана…
— Хорошо… — тихо произнес Типтик уже во мне. Бабушка погасила в комнате свет… И тоже заснула. Не спали только одни часы — они тикали, тикали и, наконец, не торопясь, пробили полночь.
…В этот момент Типтик проснулся. Показалось ему, что кто-то смотрит на него сквозь открытую форточку. Он сел на кровати и увидел, что Бабушка тоже не спит, тоже сидит на кровати и тоже смотрит в окно.
Вдруг в комнату бесшумно влетело что-то большое, крылатое, черное.
— Воронуша! — вскрикнули одновременно Типтик и Бабушка.
— Не каркать! — скомандовал Ворон. — Ти-ши-на!
Однако сам он при этом шумел довольно сильно: топал когтистыми лапами по полу; сунул клюв в вазу с цветами и опрокинул ее; испугавшись, вспорхнул на полку с книгами и уронил их на пол.
— Что у вас там происходит? — раздался сонный папин голос из соседней комнаты. — В чем дело?
— Ничего особенного, — громко ответила Бабушка. — Просто я потеряла свои очки.
— Зачем ночью очки? — спросил папа.
— Чтобы лучше видеть интересные сны, — ответила Бабушка.
А Воронуша сел к Типтику на подушку и предложил:
— Неплохо бы пообедать!
Типтик на цыпочках прокрался на кухню, взял из холодильника котлету и принес Воронуше.
— Не дурно! — произнес Ворон. — Лучшее горючее для дальних перелетов — жирная котлета!
Он поправил клювом перышки на брюхе, почесал лапой за ухом и вылетел в форточку, даже не сказав «спасибо».
— Скверное воспитание! — покачала головой Бабушка. — Боюсь, Тимоша, что это для тебя неподходящая компания.
Тимофей Птахин улыбался в темноте: при чем тут воспитание? Главное, Воронуша не потерялся — он здесь, он неподалеку!
Глава двенадцатая Занятия
Через несколько дней Ворон опять прилетел. Прилетел днем, когда родители были на работе.
Он сел на телевизор и запел во всю глотку:
Каррр-каррр-каррр! Да здравствует базар! На базаре чудеса: Пирожки и колбаса!— Кошмар! — сказала Бабушка. — Впервые в жизни слышу такой громкий и такой скрипучий голос.
— Пре-крррасный голосок! — возразил Воронуша.
— Ты хвастун, — покачал головой Типтик. — Сам себя нахваливаешь. Так у нас не полагается. Пусть другие тебя похвалят.
— Пррравильно! Пусть хвалят другие. Начинай!
— За что же тебя хвалить-то?
— За хороший нос. Он длиннее твоего.
— Велика важность. У слона, например, нос во сто раз длиннее, но слон не хвастает.
— Слон может порхать? В форточку залететь? На дерево сесть?
— Не может…
— А я могу. Выходит, я самый лучший в мире!
— Ты хоть бы грамоте выучился, — сказала Бабушка.
— Зачем Ворону грамота? И без грррамоты все знаю!
— Нет, милый друг, надо тебе учиться.
— Не могу. Занят.
— Что же ты делаешь? Чем занят?
Ворон ответил не сразу. Он помолчал. Оглянулся по сторонам и произнес очень тихо:
— Кррра-кррраски стерегу.
— Какие еще краски? Ты художник?
— Я знаю, бабушка! — воскликнул Типтик. — Коробка с акварельными красками? Так?
— Так, — кивнул Ворон.
— А внутри на крышке таинственная считался: «Рази-двази, тризи-мизи…»
— Мол-чать! — скомандовал Ворон. Он опять оглянулся вокруг: не услышал ли кто-нибудь посторонний эти слова?
И улетел, встревоженный.
Глава тринадцатая Уроки
Воронуша стал прилетать часто — то днем, то ночью. Он был очень осторожен, и кроме Типтика и Бабушки его никто в доме не видел.
Бабушка обучила Воронушу четырем правилам арифметики.
Тот моментально сообразил в чем дело и быстренько наловчился складывать, умножать, с удовольствием отнимал. Но делить ни за что не соглашался:
— Отнимать, потом складывать — прррекрасно! Делить не хочу пррро-пррротивно!
А Типтик читал ему вслух разные книжки. Воронуша слушал невнимательно, глаза у него затягивались пленкой — не проходило и трех минут, как он сладко спал.
Сны Воронуша видел приятные: будто бы сидит он в большом гнезде, а рядом лежат котлеты, пироги, колбаса, пряники, и все это можно есть, не сходя с места.
Глава четырнадцатая Приключения начинаются
Папа с мамой ушли на работу. И только за ними захлопнулась дверь — в форточке показался Ворон:
— Здррра-здррравствуйте!
— Как живешь? Какие новости? — спросил Типтик.
— От-кррры-открррытие!.. Знаю, где находится картина!
— Какая картина? — удивился Типтик.
— Погоди-ка, Тимоша, — вмешалась Бабушка. — Мне кажется, Воронуша говорит о той картине Знаменитого Художника, которую нашел на чердаке тот ужасный птицелов.
— Не нашел! Укрррал! Воррр!
— И где же она сейчас находится, эта картина?
— Вспорррхнули! Полетели!
Типтик и Бабушка не успели ничего ответить, а Ворон уже кружился в небе над их домом и призывно каркал. Конечно, надо было ему помочь, надо было найти картину.
— Возможно, дорога будет дальняя, — сказала Бабушка, — предлагаю надеть кроссовки, в них легче ходить и бегать. И это была прекрасная мысль!
Погода в тот день стояла серенькая. Однако было тепло, безветренно.
Воронуша спустился на землю и сначала враскачку вышагивал по тротуару. Типтик с Бабушкой шли рядом. Потом Воронуше идти надоело — он поднялся в воздух и, легонько помахивая крыльями, летел медленно, неторопливо. А Бабушка и Типтик трусцой бежали по улицам, стараясь не отставать от своего крылатого друга.
— Как ты думаешь, Бабушка, — спросил Типтик, — неужели Ворон и вправду знает, где картина?.. Летит и летит…
— А мы бежим и бежим! Никакой усталости! — великолепная Бабушка, сжав кулаки и согнув руки в локтях, легко обгоняла прохожих, успевая при этом вежливо говорить «Простите… Извините!..»
— А что мы будем делать, если встретимся с Дядей Ловушкой? — беспокоился Типтик. — Без милиции, пожалуй, с ним не справиться…
— «Вперед, без страха и сомненья!» — воскликнула Бабушка и прибавила ходу, потому что Воронуша полетел быстрее…
Типтик начал отставать. Он то бежал, то шел шагом — спотыкаясь, задыхаясь. И как-то не заметил, что они свернули со знакомых улиц и попали в район, где ни разу до сих пор не бывали.
Здесь шло большое строительство. Перекликались рабочие. Ворчали бульдозеры. Мягко катились по рельсам башенные краны. Грузовики везли готовые стены с отверстиями для дверей и окон. Всю стройку опутали электрические провода, резиновые шланги. Кругом виднелись бочки с краской, мешки цемента, груды горячего асфальта, ящики со стеклом…
Прошлой осенью Типтик видел, как у них во дворе сосед строил гараж для мотоцикла. Малюсенький гаражик, но строился он почти неделю.
А здесь целая квартира получалась за какой-нибудь час! Поставили стенку, к ней прислонили другую, третью, четвертую и — будьте любезны! — осталось лишь пол настелить да стекла в рамы вставить. Никто словно не торопится, а дома растут и растут.
…Воронуша присел на стрелу башенного крана, посмотрел небрежно, сверху вниз, на Типтика, на Бабушку. Типтик помахал рукой. Воронуша перелетел на другой кран, потом на третий… — все дальше и дальше. Там, за строящимися домами, темнел парк.
— Стой! — кричал Типтик. — Стой! Спускайся сейчас же!..
Бабушка ничего не кричала, не говорила — бежала той же легкой рысцой, но, кажется, тоже начала уставать.
— Ты, Бабушка, отдохни, — сказал Типтик. — А я его догоню…
Увязая в грудах песка, путаясь в шлангах и проводах, мальчик опять побежал за птицей.
Иногда он останавливался, чтобы перевести дух… И тогда замечал, что чем ближе к парку, тем быстрее строились дома. Но здесь уже не слышны были крики, шум, как в начале стройки. И людей почти не было видно — за них работали машины. Лишь кое-где под стеклянными навесами стояли дяденьки и нажимали клавиши на столиках, будто на маленьких роялях играли. Нажмут клавишу — и квартира, с окрашенными полами и вымытыми окнами, наверх поехала на восьмой этаж. Нажмут другую клавишу — и квартира сама становится рядом с такой же готовой квартирой.
— Здорово! — воскликнул Типтик и даже о Воронуше забыл на минутку.
Потом вспомнил, побежал дальше.
А Ворона нигде не было видно — скрылся за деревьями. Типтик повернул назад, к Бабушке. Но улица, по которой он только что бежал, исчезла — на месте улицы вырос новый дом!.. Типтик решил обогнуть этот дом, но окончательно запутался и заблудился между кранами, деревьями, домами и проводами… Он бежал все тише и тише. Соленый пот струйками сбегал по лбу, попадал в глаза… А деревьев становилось все меньше и меньше. А город становился все выше и выше.
— Бабушка… Воронусик… Где вы? — едва выговорил Типтик и без сил шлепнулся на жесткий асфальт.
…То ли он спал, то ли не спал — ничего нельзя было понять от усталости. Когда же, наконец, снова поднялся на ноги, то увидел, что находится в непонятном городе.
Да-да! Дома здесь были особенные, невиданные. Белые, как сахар. Или как снег. Или как лед. Их, наверное, не успели покрасить, и весь город был похож на черно-белый рисунок из детского альбома «Раскрась сам».
Из чего сделаны эти дома? Из пластмассы, что ли?.. Изо льда?.. Или из взбитых сливок?.. Типтику даже захотелось лизнуть стенку соседнего дома.
Но в этот момент высоко за крышами раздалось «Каррр-каррр-каррр!»
Типтик пошел дальше, высматривая Воронушу в небе. Погода изменилась, тучи исчезли. Стены, крыши, двери, лестницы наполнились солнечным светом — как будто сами светились изнутри.
Но глаза от этого света не болели. Наоборот, смотреть было легко, приятно. И усталость пропала…
«Куда же это я попал? — думал Типтик. — И где моя Бабушка?»
Глава пятнадцатая Стеклянный город
Сквозь широкие окна видно было, как живут здесь люди — никаких занавесок, никаких тайн и секретов.
Чем занимались жители города? Где работали? Что делали?.. А, кажется, ничего не делали! Они бродили без толку по своим квартирам — словно что-то потеряли и не могли найти. Они лениво выглядывали в окна; дремали на балконах в мягких креслах; некоторые, задрав голову к небу, тревожно прислушивались в чему-то; многие бродили по улицам. Ноги передвигали еле-еле… Какое-то сонное белое царство!
На каждом проспекте, в каждом переулке торчали искусственные белые цветы из жести и бумаги. А возле суетились крохотные юркие машинки на колесиках и обдавали цветы распыленной водой. И клумбы казались сияющими: радужные капли воды скатывались с лепестков на листья, с листьев на стебли, а по стеблям скользили вниз — в неглубокие канавки, сделанные в асфальте.
Как чисто в городе! Ни пылинки, ни соринки. И небо над городом — будто мылом вымытое; Типтик все вглядывался в него — вдруг Воронуша покажется… Нет, черненькая птичка скрылась где-то за плоскими крышами.
Снова Типтик прибавил шагу. Редкие прохожие с удивлением поглядывали на запыленного, раскрасневшегося мальчишку, который энергично топал по тротуару. Прохожие удивлялись: мальчишка был одет вовсе не так, как одевались местные жители. На них были белые костюмы из легкой шелковистой ткани; на плечах — тонкие серебристые накидки; и когда по улицам проносился ветерок, люди казались крылатыми.
Типтику было забавно смотреть на этих «крылатых» жителей: почти все они были слишком полными, раздобревшими, даже толстыми; и от этого ходили вперевалку, как домашние гуси, тяжело отдуваясь при каждом шаге. И хотя все люди-гуси улыбались, но их улыбки казались равнодушными…
Типтику показалось, что он попал на какой-то скучный праздник, который начался давным-давно, и все от него уже здорово устали.
Удивительный город! Ни автомобилей, ни троллейбусов; даже велосипедов не было! И милиционеров, кажется, тоже не было — зачем они, если вокруг полный покой и порядочек?
Но когда Типтик побежал быстрее — вдруг перед ним, прямо из-под земли выскочил маленький столбик с круглым щитком! На щитке — цифра «I».
Проходившая мимо полная тетенька сказала Типтику:
— Мальчик в старинных башмаках! Разве ты не видишь дорожный знак: «СКОРОСТЬ ОГРАНИЧЕНА»?.. Тебе разрешается двигаться не быстрее одного километра в час.
Типтик остановился.
— Во-первых, — сказал он, — во-первых, у меня не башмаки, а кроссовки. Во-вторых, они не старинные, а совсем новые, недавно купленные. В-третьих, я очень беспокоюсь…
Типтик даже не успел объяснить — о чем он беспокоится, как из-под земли выскочил другой знак: круг, в середине которого было нарисовано серое сердце, перечеркнутое полосой.
— Что это? — спросил Типтик.
— Это значит, — объяснила тетенька, — «БЕСПОКОИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО».
Типтик удивленно развел руками и медленно зашагал дальше со скоростью один километр в час.
Глава шестнадцатая Памятник
Вот круглая большая площадь.
Ни кустика, ни деревца, ни травинки.
В самом центре площади возвышался в одиночестве роскошный памятник. Он изображал стройного мужчину, на плечи которого был наброшен клетчатый пиджачок. Лицо у мужчины ласковое, доброе, полные губы сложены бантиком. Правой рукой мужчина поднимает какой-то предмет, похожий на картину, а левой поглаживает что-то непонятное — то ли птицу, напоминающую орла, то ли машину…
А перед памятником — люди-гуси. Толстые, с заплывшими глазками. Они заунывно пели, покачиваясь из стороны в сторону:
Картины Главный Хранитель Наш дорогой повелитель! Как ты красив! Как ты умен! Как ты хорош Со всех сторон!«Скучная песенка», — подумал Типтик и пошел дальше по площади. К ней с четырех сторон сходились длинные проспекты. На высоких башнях развевались клетчатые флаги… В конце самого широкого проспекта что-то поблескивало; туда указывал знак — стрела с надписью: «Река».
«Пойти искупаться, что ли? — подумал Типтик. — Нет, Бабушка будет сердиться, если узнает, что я купался в незнакомом месте… Но где же она, моя великолепная Бабушка? И где Воронуша?..»
Глава семнадцатая В саду
У Типтика начала кружиться голова. Захотелось спокойно посидеть, собраться с мыслями.
И он направился в сад, раскинувшийся рядом с площадью. Тенистый сад с песчаными дорожками, с белыми скамейками и ровными рядами фруктовых деревьев.
Позвольте, а что за странные плоды росли на этих деревьях? И что это за деревья?.. Да ведь они все искусственные! — вместо стволов — чугунные тумбы, вместо веток — железные палки, вместо листьев — тряпочки, а вместо яблок да груш — булочки, котлеты и сосиски!..
Между железными деревьями сновали самоходные машины. Одни белили известью стволы, другие разглаживали тряпочки, чтобы они были похожи на листья, а третьи аккуратно развешивали на ветки плоды. Типтик даже засмеялся, глядя, как ловко они это проделывают.
А в садовых аллеях, в удобных низких креслах сидели толстые мальчики и девочки. Они старательно жевали булочки и котлетки, по очереди приказывая машинам:
— Двадцать вторая! Яблоко покрупнее!
— Девятнадцатая! Две груши послаще!
— А мне, Тринадцатая, помягче!
«Попробую-ка я тоже», — решил Типтик и сказал робко, вполголоса:
— Двадцать вторая! Будьте добры, принесите, пожалуйста, самое лучшее яблоко!
И тотчас же машина, на крышке которой стояли цифры 22, подкатила к Типтику и прямо в руки сунуло ему свежевыпеченную румяную булку.
Эх, что за булка!.. Эх, что за жизнь!..
Глава восемнадцатая «Чижик»
Типтик мигом проглотил булку и от удовольствия показал язык девчонке, сидевшей в соседнем кресле. Девчонка тоже показала язык, но вышло у нее это как-то скучновато.
А девчонка, кажется, славная. И, главное, не толстая, как другие. Она съела маленькую котлетку и вздохнула.
— Что вздыхаешь? — спросил Типтик.
— Так…
— Скучно тебе?
— Нет, что ты! — испуганно сказала девчонка, оглянулась по сторонам и опять вздохнула. — Мне совсем не скучно…
— Ей просто стыдно, — сказал сидевший напротив толстощекий парнишка. — Ей стыдно, что она такая худющая.
— А тебе не стыдно, что ты такой жирнющий? — вступился Типтик за девчонку. — Посмотрел бы я, как ты будешь играть в футбол или гонять шайбу.
— Во что играть? — спросил толстощекий.
— А кто такая Шайба? — спросила девочка. — За что ее прогонять?
— Не прогонять, а гонять. Да неужели вы тут не знаете, что такое футбол и хоккей? Во что же вы тогда играете?
— Мы играем в «медленность», — сказал толстощекий. — Очень интересно. Хочешь, научим?
— Научите.
— Это совсем просто, — объяснила девочка. — Сначала надо отмерить дистанцию. Например, десять метров…
— Десятиметровку, значит, — кивнул Типтик.
— Да. А потом — встать на старт, и по команде «марш!» нужно…
— Скорее добежать до финиша?
— Не скорее, а, наоборот, медленнее, — сказал толстощекий. — Вот я, например, десять метров прохожу за полчаса! А вон там, видишь, гуляет мальчик, который эту дистанцию за три с половиной часа проползает! Он чемпион нашего города.
Чемпион по «медленности» шел, заложив руки за спину. Типтику показалось, что это не мальчик, а надутый воздушный шар плывет по аллее.
— Ты что делаешь в нашем саду? — важно спросил шарообразный мальчик.
— Ничего. Булку съел, — ответил Типтик.
— Так нельзя говорить. Булка в нашем саду называется «яблоко»… Ну, ладно. Ешь побольше, если желаешь стать таким же ловким, как я.
— А ты бегать умеешь? — спросил Типтик.
— Что ты! С ума сошел? Бегать вредно.
— Надо тебе поговорить с моей Бабушкой, — сказал Типтик. — Она знаешь как бегает! И это ей совсем не вредно!
— А может твоя бабушка съесть полсотни пирожков с мясом?.. Не может?.. Тогда как же ей заниматься спортом — «медленностью»? Она обязательно проиграет.
— Чепуха! — воскликнул Типтик. — «Медленность»! Да разве это спорт?.. Жаль, нет у меня с собой мяча — показал бы я вам настоящую игру — вмиг похудели бы… Футбол или даже лапту… Погодите-ка, я придумал что-то интересное!.. Вон там, кажется, валяется палочка…
— Это от флажка.
— Какого флажка?
— Стартовый флажок; когда в «медленность» состязаемся.
— Все равно… Можно взять палочку?
— Тридцать первая! — приказал толстощекий. — Принеси палочку!
Машина с номером «31» покатилась…
— Стой, Тридцать первая! — остановил машину Типтик. — До чего же вы, ребята, тут все обленились. Пошли, сами принесем. Нечего зря машину портить.
— Нам самим нельзя носить, — опять вздохнула девчонка. — Нельзя носить и делать ничего нельзя. За нас все делают машины.
— Пусть вам нельзя. А мне можно!
Типтик принес палочку и достал из кармана перочинный ножичек.
— Сейчас попробуем сделать… — он разрезал палочку на две части: на коротенькую и длинную.
Он взял коротенькую часть и начал обстругивать ее с обеих сторон, как затачивают сине-красный карандаш.
Со всех сторон сада потянулись к Типтику ребята; они с любопытством смотрели, как ловко скользит лезвие по дереву.
— Как мне хочется тоже попробовать! — сказал кто-то.
— И мне хочется очень! Дай хоть немножечко построгать…
— На, попробуй, — Типтик отдал ножик худенькой девчонке. — Осторожнее, не порежь палец!.. Не так!.. Неужели ты никогда нож в руке не держала?..
— И я хочу попробовать! — захныкал малыш.
— Дай мне хоть на секунду подержать твой ножик, — попросил высокий паренек с белыми пухлыми пальцами.
Палочка и нож переходили из рук в руки — ребята работали с таким удовольствием, с каким изнемогающий от жары человек бросается в прохладную воду.
Только шарообразный чемпион гордо стоял в сторонке, даже не глядя на работающих.
— Так, главное дело сделано! — объявил Типтик. — Теперь нужно поаккуратнее обстрогать длинную палочку. Вы знаете, какая у нас будет игра?.. Эх, ничего-то вы не знаете!.. Это будет «чижик»!
— Игра очень полезная для здешних детей, — раздался знакомый голос сзади,
Бабушка!.. Она вошла в сад вместе с несколькими взрослыми.
Чемпион по «медленности» поспешил им навстречу. Впрочем, слово «поспешил» здесь не совсем точное, потому что ноги чемпиона были похожи на валики от старомодного дивана; передвигал он их едва-едва.
— А вот этот чужой, незнакомый мальчишка, — чемпион показал пальцем на Типтика, — делает то, что не позволяет нам Главный Хранитель…
Взрослые переглянулись:
— Делает?!.
— Дедушка! — закричала худенькая девчонка, подбежав к высокому старику. — Дедушка, погляди, как работает этот замечательный человек в голубой каскетке. Погляди, дедушка!
— Не понимаю, что тут удивительного? — спросила Бабушка.
Но остальные взрослые зашептались тревожно:
— Работает?.. Что?.. Как так, работает?..
Они осторожно приблизились к Типтику, который обстругивал палочку. Дерево было сухое, а ножик острый, и тонкие стружки свивались в нежные золотистые лепестки.
— А хорошо-то как! — опять зашептались взрослые. — Какое это прекрасное занятие — строгать ножом!
— А я вам скажу по секрету — смотрите, не выдавайте меня!
— У меня дома тоже есть маленький ножичек, и когда мне тоскливо — я им работаю…
— А у меня дома есть отвертка — только прошу вас, об этом никому ни слова!
— Какой у меня был молоток! Пришлось сдать его Главному Хранителю…
— Ни-че-го не понимаю! — воскликнула Бабушка. — Работа — самая первая потребность каждого нормального человека. А как же можно работать без инструментов?
— Тише, тише!.. И с инструментами, и без инструментов в нашем городе работать нельзя! Главный Хранитель запретил! Тише, тише, тише!..
— А давненько я не видел работающего человека, — задумчиво произнес высокий старик, ласково глядя на руки Типтика.
— Какое дивное зрелище — труд!
— Как вы думаете, последний Доктор, это не слишком опасно? — спросил его кто-то из взрослых.
— Ну конечно, немножко опасно, — ответил старик.
— Не тревожься, дедушка! — сказала худенькая девчонка.
— Чепуха! — улыбнулся Типтик. — Или вы думаете, что я палец порежу?
— За твои пальцы я спокоен — вижу, что умеешь работать. Но… не следят ли за тобой? — Последний Доктор посмотрел сквозь металлические ветви на небо. — Нет, нас тут не видно…
Типтик ровным счетом ничего не понял. Не поняла и Бабушка:
— Кто может следить за моим внуком? — удивилась она. — Мальчик ничего плохого не сделал…
«Чижик» готов!
Типтик положил его на землю, резко ударил палочкой по заточенному концу.
«Чижик» подскочил, и палка еще раз щелкнула по нему в воздухе — он полетел, кувыркаясь.
— Догоняйте! — крикнул Типтик. — Кто первым принесет «чижика» обратно, тот сможет сам запустить его снова!..
Все — и ребята, и взрослые — побежали за «чижиком». Конечно, быстрее всех бегала великолепная Бабушка, но она нарочно немного отстала, чтобы первой прибежала к «чижику» худенькая девчонка. Последний Доктор тоже вступил в игру; у него было сухощавая фигура, бегал он довольно легко.
А девчонка принесла «чижика» на место, сама ловко запустила его. И все опять побежали по аллее. Сад, зазвенел от веселого смеха. Лица у всех разрумянились, глаза заблестели.
— Прекрасно! — радовался Последний Доктор. — Так и надо! Быстрее бегайте!
— Энергичней размахивайте руками! — кричала Бабушка.
— Выше колени!
Типтик играл вместе со всеми. Ему нравилось бегать по этому странному железно-булочному саду.
Нашелся бы Воронуша — тогда и совсем хорошо будет.
Глава девятнадцатая Бабушка и мермехон
Игра незаметно передвинулась к воротам сада. Здесь было просторнее и светлее.
Худенькая девочка — ее звали Зоя — первая выбежала за «чижиком» на площадь.
— Осторожнее! — крикнул Последний Доктор и бросился догонять внучку.
Но раньше всех к «чижику» подбежал Типтик. Он нагнулся чтобы поднять его, и в этот момент закричали:
— Берегись! Мермехон летит!..
Черная тень с тихим свистом пронеслась над Типтиком. Он обернулся и увидел прямо над собой огромные сверкающие стальные крючья. Отвратительной вонью повеяло в воздухе — то ли горелой резиной, то ли керосиновым дымом. Что-то резко лязгнуло, щелкнуло. Голубая каскетка сорвалась с головы Типтика; летающая машина ловко подхватила ее и унесла куда-то высоко в небо.
— Ага! Что я говорил? — ликовал шарообразный мальчик.
— Бежим! — Последний Доктор схватил Зою и Типтика за руки и потащил их обоих в сад. — Спрячемся под деревьями, пока он снова не пролетел…
— Это от кого же вы собираетесь прятаться? — подбоченилась Бабушка. — От этой вонючей керосинки?
Она подпрыгнула, ухватилась за железную ветку булочного дерева и отломила ее:
— Ну-ка! Пусть еще раз спустится!..
— Мермехон! — закричали опять. — Спасайся, кто может!..
Камнем упала с неба черная крылатая машина. Не долетев двух метров до земли, она со змеиным шипением зависла в воздухе, растопырив кривые когти. Вот она подлетела к Типтику… Вот слегка накренилась, чтобы половчее ухватить его… И в ту же секунду…
Трах!.. Трах!.. И еще раз — трах-бабах!..
Это великолепная Бабушка изо всех сил лупила железной палкой по машине, ловко попадая по растопыренным когтям.
— Бей мермехонов! — весело кричала Бабушка, размахивая палкой. — Никакой пощады! Долой!
Летающая машина подобрала свои страшные когти. Внутри ее что-то звякнуло-брякнуло; из ее железного брюха закапала вонючая черная жидкость. С пронзительным воем машина кое-как поднялась в воздух и исчезла за крышами высоких домов.
— Вы храбрая женщина! — сказал Последний Доктор. — Разрешите поцеловать Вашу мужественную руку… — Он наклонился и губами прикоснулся к пальцам великолепной Бабушки; — А теперь мы должны бежать. Сейчас сюда прилетит целая эскадрилья мермехонов, и нам несдобровать.
— А почему они называются мермехоны? — спросил Типтик.
— Что значит слово «мермехон»?
— Это значит: Мерзавец Механический Особого Назначения, — объяснила девочка Зоя. — А сокращенно будет — «мермехон». Ах, какие это ужасные машины! Они сверху следят за всем, что движется по земле, а в воздухе уничтожают все живое. Понял?
— Да… Теперь понял… понял… — Типтик едва одерживал слезы. — Я все понял…
— Что с тобой? Что ты понял?
— Я понял, что случилось с моим… с моим… с нашим… — Типтик не смог продолжать; он не выдержал и заплакал.
— Что я вижу, внук?! — великолепная Бабушка кинула Типтику платок. — Вытри нос и убери слезы! Не бойся — наш Воронуша не так глуп, чтобы попасться в лапы этим Мерзавцам Механическим Особого Назначения. Прибавьте ходу, друзья! Энергичней размахивайте руками!
Глава двадцатая Последний Доктор
Они быстро шли какими-то стеклянными переходами, поднимались и опускались по стеклянным лестницам, перебегали по стеклянным мостикам. И далеко ушли от того места, где их подстерегали злые механические хищники. Мало-помалу Типтик перестал плакать. Нет, он еще не совсем успокоился — все вспоминал своего Воронушу, его хриплый голосок, его забавные разговоры. Неужели больше никогда он не услышит этого?..
Но ведь слезами горю не поможешь.
К тому же Зоя сказала:
— А плакать в нашем городе воспрещается. Смотри, чтобы никто не увидел твоих мокрых щек.
— Да что же это за город такой! — рассердился Типтик. — Играть нельзя, бегать нельзя, даже плакать воспрещается. Что же у вас тут можно делать?
— Делать у нас ничего нельзя! — вздохнул Последний Доктор. — В этом-то вся беда…
— Смешно!
— Совсем даже не смешно, — сказала Зоя. — Ведь громко смеяться тоже нельзя. Можно тихонько улыбаться.
— А если я не хочу улыбаться! Если я хочу хохотать! Чепуха какая-то… Не нравится мне ваш город!
— Что ты! — воскликнул Последний Доктор. — Город у нас замечательный! Замечательный, как и все города теперь на земле. О таких городах давно мечтали люди. Ты только посмотри, мальчик… Как тебя зовут?
— Типтик.
— Чудесное имя для мальчишки!.. Ты только взгляни, Типтик, какие красивые у нас дома. Посмотри, какие умные машины работают вокруг: шьют одежду, очищают воздух, готовят пищу, убирают мусор… делают все, что прикажет им человек. Разве это плохо?
— Нет, неплохо. Хорошо… А кто приказывает?
— Не понимаю…
— Вы сказали, что машины делают все, что им прикажет человек. А какой человек им приказывает? Кто такой? Как его зовут?
— О! Этого человека зовут очень красиво. Его зовут Главный Хранитель!
— Знаю, знаю! — обрадовался Типтик. — Я видел памятник этому вашему главному…
— Тимоша, внук, — сказала Бабушка. — Памятники воздвигают только умершим людям. А Главный Хранитель, очевидно, живой человек. Значит, ты видел не памятник, а монумент в честь Хранителя.
— Пусть монумент. А я его видел. Дяденька в клетчатом пиджаке — красивый такой — стоит улыбается… а в руке держит какого-то мермехона.
— Правильно, — кивнул Последний Доктор. — Он управляет не только всем полезными машинами, но и всеми мермехонами. Он самый главный человек в нашем городе.
— А мермехоны — они тут зачем?
— Чтобы наблюдать за порядком и вылавливать бунтовщиков.
— Ха-ха! — засмеялась Бабушка. — У вас есть бунтовщики? Вот уж никогда бы не подумала. Вы все на вид такие тихие, покорные.
— Нет, не все такие… — Последний Доктор беспокойно взглянул на Зою и ничего больше не сказал.
— Вы побледнели… — Бабушка тревожно посмотрела на старика. — Вы нездоровы?
— Я здоров. Вполне здоров. Здесь все, знаете ли, здоровы. А я никому не нужен. Я — Последний Доктор. У нас тут никто больше не болеет ни свинкой, ни коклюшем, ни корью. Разумеется, это прекрасно, это великолепно. Но…
— Нет, ты нужен, дедушка! — перебила Зоя. — В городе все тебя уважают, советуются с тобой.
— И совсем не слушаются меня! — старик печально вздохнул. — В нашем городе люди стали быстро толстеть: всем приказано есть как можно больше. И у всех поэтому появились жирные подбородки, жирные животики, жирные щеки и даже жирные ноги. А лишний вес — беда для здоровья! Все наши толстяки, может быть, скоро-скоро умрут от ожирения сердца. Жирное сердце — это ужасно, это конец!
— Совершенно с вами согласна! — воскликнула великолепная Бабушка, слегка подтянув узкие синие брючки. — Но не будем медлить. Вперед, друзья!
Глава двадцать первая Про картину
Хотя Типтик был человеком серьезным и, закончив второй класс, успешно перешел в третий; хотя он многое знал на белом свете — все равно, он слишком часто употреблял в разговорах четыре важных слова: «Почему?», «Как?», «Откуда?» и «Когда?»
— А как построили такой город? — спросил Типтик.
— Сначала строили медленно, а потом все быстрее и быстрее. Потому что людям помогали специальные строительные машины.
— А когда начали строить?
— Это трудно сказать… Видишь ли, сначала нужно было придумать такой необычный город. Придумал его один Знаменитый Художник и нарисовал его на большой Картине. Кажется, наш город построен в точности так, как этого хотел Художник… Поэтому можно считать, что начался этот город с того момента, когда была закончена большая Картина… Правда, по-моему, она не совсем закончена. Мне кажется, что Знаменитый Художник не успел ее раскрасить.
— Ага, — сказал Типтик. — Ваш город похож на рисунки в детском альбоме «Раскрась сам».
— Мы и хотели сами раскрасить наши дома, сады, одежду. Но Главный Хранитель запретил. И поэтому все здесь белое, серое и черное.
— Весьма любопытно… — сказала Бабушка и, помолчав, тоже спросила: — А скажите, уважаемый Последний Доктор, можно ли взглянуть на эту картину?
— Что вы, что вы! — замахал обеими руками старик. — Это совершенно невозможно! Картина находится у Главного Хранителя, только он смотрит на нее, а всем остальным это категорически запрещено. Запрещено под страхом смерти!
— Почему? — спросил Типтик.
— Сам удивляюсь, — сказал старик. — Главный Хранитель говорит, что мы слишком простые люди, чтобы глядеть на произведение искусства. Он говорит, что мы ничего не поймем… Он сам смотрит и потом рассказывает, что там нарисовано: какие дома, какие дворцы, какие магазины; как надо одеваться, как надо ходить, как надо есть…
— А как надо есть? — Типтик проглотил слюну. — Я сию минуту хочу узнать, как надо есть в вашем городе!
— Идем! — Зоя взяла Типтика за руку. — Это рядом. Иди, ешь.
Глава двадцать вторая В белом зале
Они вошли в ослепительно белый зал.
Здесь так же, как и повсюду в городе, все было залито светом. Тихо звучала ласковая музыка, похожая на журчанье маленькой речки. И это было прекрасно.
Но для Типтика прекраснее всего здесь были не свет и не музыка, а вкусные запахи. С одной стороны неслись ароматы жареных котлет и наваристого бульона с петрушкой. С другой стороны пахло теплыми булками, шоколадом. Свежесть клубники словно проникала под язык… Типтик даже зажмурился от удовольствия… Стоял и размышлял: на какой запах кинуться в первую очередь?.. Приоткрыл один глаз — посмотрел вправо, приоткрыл другой посмотрел влево: куда ни глянешь — везде заманчиво!
Сначала ему показалось, что здесь — магазин: на длинных полках стояли банки с компотами, лежали головки сыра, желтели груды лимонов, бананов и ананасов; с потолка свисали круги копченых колбас; с розовых окороков стекали капельки прозрачного жира…
Нет, это был не магазин, а, пожалуй, столовая: на белых столах стояли белые тарелки с супом, а над ними клубился белый пар; в белых стаканах белело молоко; шипела яичница на белых сковородках…
Нет, наверное, это была не столовая и не магазин, а фабрика: по залу бегали машины, похожие на тех, что были в саду. Только здесь они сортировали продукты, варили, жарили, подносили еду к столам, убирали и мыли посуду…
— Садитесь за стол и ешьте, — сказала Зоя Типтику и Бабушке. — Ешьте что хотите и сколько хотите.
— Но у нас с собой нет денег, — сказала Бабушка.
— Что такое «деньги»? — Зоя посмотрела на своего дедушку. — Не понимаю, о чем говорят эти люди?
— Да, в нашем городе нету денег, обходимся без них, — сказал Последний Доктор и наклонился к самому уху Типтика: — Помни мой совет — не объедайся! Еда у нас вкусная: многие едят, забыв всякую меру, поэтому быстро толстеют. Толстеть вредно и опасно — запомни, мальчик!
Видать, Типтик сильно проголодался после всех сегодняшних переживаний — суп был съеден в один момент.
Но жареное мясо Типтик ел уже помедленнее. И совсем спокойно, аккуратно облизывая ложечку, проглотил порцию сливочного мороженого.
Бабушка съела крохотный пирожок и выпила малюсенькую чашечку чая с клубничным вареньем… Пожалуй, она съела бы еще что-нибудь, но это наверняка помешало бы ей бегать трусцой.
…В зал входили все новые люди. Серьезно, деловито, словно совершая самую важную в их жизни работу, они проглатывали по несколько тарелок супа, ели котлеты, манную кашу с вареньем, большими ложками черпали мед из фарфоровых кувшинов. Бабушка смотрела с возмущением: разве можно столько съесть за один раз?
А вот в зал ввалился шарообразный мальчик. Машины засуетились вокруг него, торопливо подсовывая тарелки одну за другой. Чемпион по «медленности» ел так жадно, что противно было смотреть.
— Все в порядке! — объявил Типтик, отходя от стола. — Спасибо… Живете вы тут неплохо. Только откуда берется вся эта бесплатная еда?
— Автоматы! Роботы! Электроника! — с гордостью объясню Последний Доктор. — Все делают наши умнейшие машины: пашут землю, пасут коров, мелют муку, пекут хлеб, ловят рыбу, сбивают масло… Рука человека ни к чему не притрагивается. Умные роботы сами делают новых еще более умных роботов. Все рассчитывают компьютеры.
— Здорово! Это мне нравится, — сказал Типтик. И только он хотел было обтереть рот рукавом своей курточки, как внезапно подкатилась специальная машинка и приложила к его губам чистую салфетку. Типтик улыбнулся во весь рот:
— А это уж совсем красота!
— Пррра-пррравильно! Красота! Карр! — раздалось откуда-то с самых верхних полок.
— Воронуша!.. Миленький! Чудная моя птичка!
«Птичка» почистила лапой клюв и заплясала по полке, распевая:
Карр-карр-карр! Ох и вкусный здесь товар! Не товар, а чудеса: Пирроги и колбаса!— Слезай сейчас же! — закричал Типтик. — Слезай, кому говорят!
— Воронуша! — строго приказала Бабушка. — Марш вниз!
Воронуша подумал-подумал, сунул клюв в банку с компотом, проглотил ягоду, опять подумал… И нехотя спрыгнул с полки прямо на плечо Типтику. Вот радость-то!
Радость?.. Вы посмотрели бы вблизи на «птичку»! Как он ужасно растолстел и отяжелел! Голова, шея, хвост — все было выпачкано вареньем, салом, сметаной, медом; перья слиплись, к ним пристали крошки печенья, кусочки яичной скорлупы… Да, видать, Воронуша даром времени здесь не терял!
— Не понимаю, из чего сделан этот летающий механизм? — спросила Зоя, осторожно дотрагиваясь до Воронуши.
— Никакой это не механизм, — обиделся Типтик. — Это самая настоящая живая птица…
— Высокого напряжения? — Зоя испуганно отдернула руку.
— Бедная моя внученька! — Последний Доктор обнял девочку. — Мы с тобой теперь не видим в нашем городе ничего живого, ничего естественного. Одни механизмы! А ведь это, если не ошибаюсь, настоящий, чистокровный ворон, называемый по латыни «корвус коракс»…
— Это не машина?! — Зоя даже подпрыгнула от удивления.
— Говорящий ворон! — Типтик с гордостью оглянулся вокруг. — Ни у кого нет такого. Его зовут Воронуша.
Их окружили люди; все громче и веселее толковали они о птицах — о воронах, синицах, воробьях, которых нигде теперь в городе не встретишь. Говорят, раньше их было сколько угодно, а вот теперь…
Воронуша дремал, полузакрыв глаза. Он не слышал, как к ногам Типтика подкатилась машина, не видел, как высунулся из нее длинный рычаг с крючком на конце… Вдруг крючок ухватил Воронушу за лапы и потащил в дальний угол зала — туда, где мыли посуду.
Воронуша отчаянно каркал, долбил клювом по рычагу — ничего не помогало: машина сунула Воронушу под теплый душ и держала его так до тех пор, пока с перьев не смылась вся грязь…
Типтик хохотал:
— Так тебе и надо — не будешь улетать от нас, не будешь обжираться! Так тебе и надо!
Хохотала великолепная Бабушка, хохотал Последний Доктор, хохотала Зоя, даже «подушечный» мальчик хмыкал, глядя, как Ворон, мокрый и взъерошенный, бился под струями воды.
— А что тут происходит, я спрашиваю? — затараторил кто-то у дверей. — Что происходит, спрашиваю я? Спрашиваю, что происходит?
— Карр! Карраул! — завопил Воронуша. — Ворр!..
Глава двадцать третья Старый знакомый
В дверях стоял Дядя Ловушка.
Типтик сразу же узнал его: да-да, тот самый кривоногий человечек в клетчатом пиджачке, с повязкой на глазу!
Моющая машина отпустили Воронушу. Его сильно знобило, и он, распластав мокрые крылья, всем телом прижался к Типтику.
А шарообразный мальчик запел:
Картины Главный Хранитель! Ты наш дорогой повелитель; Как ты красив! Как ты умен! Как ты хорош! Со всех сторон!— Рраз-разбойник! Ворр! — орал Воронуша, лязгая клювом.
— Ай-яй-яй! Как не стыдно забывать старых приятелей, как не стыдно! — качал головой Дядя Ловушка, одним глазом глядя на Типтика. — Если бы не мои верные помощнички, если бы не любезные мои пташки-мермехончики, я бы, наверное, не сразу узнал о появлении в моем городе таких дорогих и важных гостей. Нет, не сразу бы… Вот, прошу принять!
И птицелов протянул Типтику голубую каскетку.
— Ворр! — снова каркнул Воронуша.
— Смеетесь? Хохочете? — Дядя Ловушка так ласково посмотрел на всех, что у Типтика по спине мороз прошел. — Вместо того, чтобы глотать, жевать и переваривать жирную пищу — вы тут хохочете, вы тут смеетесь?.. Ну-ка, Последний Доктор, скажи, немедленно скажи всем, что веселье вредно, что от громкого смеха человек худеет. Скажи, Последний Доктор, немедленно скажи!
Типтик и Зоя исподлобья смотрели на Последнего Доктора, ожидая, что он сейчас скажет.
Старик молчал, опустив седую голову.
— Глупости! Чепуха-чепухенция! — неожиданно воскликнула великолепная Бабушка. — Смеяться всегда полезно. А вот толстеть вредно. Я выписываю журнал «Здоровье» и там прочитала, что у толстяков сердце обрастает жиром, и они быстро…
— Молчать, молчать, молчать! — оборвал Дядя Ловушка. — Молчать! Спорить со мной запрещено! Надо всегда помнить, что нарисовано на картине. А там Знаменитый Художник изобразил, как по улицам стеклянного города — нашего города! — передвигаются сытые, толстые людишки. Все должны жить, как на Картине. Все, все, все!
— Но мы… мы никогда не видели эту Картину, — пробормотал Последний Доктор.
— Вам и не надо ее видеть. Тебе вредно смотреть на нее. Я сам видел эту Картину. Я сам! Я каждый день смотрю на нее. И знаю, что там гуляют толстенькие людишки. Кругленькие, как шарики. Симпатичные, как винтики-шпунтики. И никто там не смеется. И никто не бегает… Ах, значит, ты мне не веришь, Последний Доктор? Поберегись, лекарь: можешь попасть туда же, куда угодил твой неразумный сыночек!
— Что с моим папой? — быстро спросила Зоя. — Где он?
— Спокойненько, спокойненько! — прикрикнул Дядя Ловушка. — Волноваться, милая девочка, категорически запрещено. Запрещено волноваться! Запрещено задавать вопросы Главному Хранителю… За своего папочку не беспокойся: твой драгоценный папуля отдыхает возле моей избушки, кушает хлебушко, глядит на небушко… Хи-хи-хи!
Но никто не рассмеялся. Все испуганно глядели на Дядю Ловушку.
И только Воронуша громко крикнул:
— Врраки!
Дядя Ловушка, не обращая внимания на Ворона, цепко ухватил Зою за подбородок, подтянул ее лицо к своему кривому носу и проговорил тихо, но так, чтобы все слышали:
— Запомни, миленькая девочка, сама запомни и другим расскажи, чтобы все-все запомнили: я никому не позволю — нет, не позволю! — смотреть на картину. Вам на нее смотреть опасно! Картина заколдована. Заколдовал Знаменитый Художник картиночку…
— Прравильно! — неожиданно каркнул Ворон. — За-кол-до-ва-но! Чу-де-са!.. Урра!
Дядя Ловушка нахмурился и с большим интересом посмотрел на Воронушу. Он оттолкнул Зою, почесал у себя за ухом и забормотал тихонько, едва шевеля толстыми губами: «Я так и думал — он. Кажись, знает. Конечно, знает… Надо его в клеточку… Скажет, никуда не денется…» — а потом произнес громко и ласково, почти нараспев:
— Какая умная пташка! Какой красавчик!.. Хочешь, назначу тебя начальником всех мермехонов?
— Воронуша — красавец! — взмахнул крылом говорящий ворон. — Но не дурак! Дуррак, кто думает, что Воронуша дурак!
Придерживая на плече Воронушу, Типтик шагнул вперед:
— Не понимаю. По-моему, каждый может смотреть на Картину. Зачем ее прятать? Если Картина хорошая, красивая — пусть все смотрят… Но, может быть, этот ваш город совсем не такой, как на Картине?
— Что?!.. Что ты сказал? — Дядя Ловушка свирепо взглянул на Типтика.
— Зря вы сердитесь, Дядя Лов…
— Молчать! Ни слова больше! — и Дядя Ловушка своей широкой ладонью мгновенно зажал Типтику рот. — Молчать! Да-да, я — дядя! Хи-хи! Я твой дядя, а ты мой любимый племянник. Мы родственники! И сейчас полетим в мою маленькую избушку. Молчать! Ни слова!
Он с силой вытолкнул мальчика на улицу.
— Как! — закричала великолепная Бабушка. — Толкать ребенка?! Толкать человека, который держит беззащитную птицу?.. Ну, этого я так не оставлю!
— И не оставляйте! — злобно прохрипел Дядя Ловушка. — Сказано ведь: летим все вместе с мою избушку. Вам там будет весело, моя дорогая родственница!
Глава двадцать четвертая Воронуша и мермехоны
На улице стоял автомобиль… нет, не автомобиль, а, пожалуй, самолет… нет, не самолет, а что-то похожее на вертолет — вот так-то правильнее будет назвать эту круглую бронированную кабинку с черным пропеллером над белой крышей.
Возле вертолета, как птицы-стервятники, приземлились мермехоны, оглядывая улицу круглыми глазами-фарами.
При виде мермехонов Воронуша дерзко закаркал, вырвался из рук Типтика, но тут же испугался этих огромных хищников и кинулся было обратно, к двери в обеденный зал…
Дядя Ловушка изловчился и ударил Воронушу. Ворон перекувырнулся, захлопал крыльями, да не смог быстро подняться в воздух — слишком отяжелел сегодня, слишком набил живот всяческой едой.
Мермехоны злобно, пронзительно зашипели, запрыгали вокруг Воронуши (они всегда вначале подпрыгивают, чтобы потом взлететь). Один из них вытянул когтистую лапу-рычаг и прижал Воронушу к земле.
— Хватайте его! — приказал Главный Хранитель.
— Не сметь трогать птицу! — крикнула Бабушка. — Не сметь!
Кое-как Воронуша выбрался из-под рычага и, пошатываясь, заковылял по тротуару.
— Беги, Воронуша! — умолял Типтик. — Спасайся, моя маленькая птичка!
Но мермехоны уже поднялись в воздух; их крылья свистели, как зимний ветер. Вот один из них растопырил когти, на лету схватил Воронушу и понес его все выше… выше… выше…
— Карр-караул!.. — донеслось до Типтика. — Прро-пропа-даю!.. Совсем пропал!.. Карро!..
Глава двадцать пятая Беседа в воздухе
— Что, жалко? — ухмыльнулся Дядя Ловушка, вталкивая Типтика и Бабушку в вертолет. — Жалко, спрашиваю, Ворона? А?..
Типтик не отвечал. Он крепко сжал зубы, чтобы не разреветься.
— А ловкие пташечки-мермехончики мои родные? — включая мотор, опять спросил Дядя Ловушка.
— Н-не ловкие… — с трудом ответил Типтик. — Воронуша ловчее этих керосинок.
— Ах, если бы он ел поменьше! — сказала Бабушка.
— В том-то все дело, дорогие гости, в том-то все дело! С обжорами всегда легко совладать, хи-хи-хи!.. Обжоры ленивы, обжоры неповоротливы. В том-то и дело… Ах, как я рад, что мы с вами встретились! Как я рад!
— А чему тут радоваться, Дядя Ловушка?
— Вот что: запомните, в этом городе все называют меня: Главный Хранитель Картины! Только так и не иначе. Только — Главный Хранитель. Запомните! Никто здесь не догадывается, что я когда-то торговал пташками на улице и что меня звали Дядя Ловушка. Это звучит некрасиво — «Дядя Ловушка». Куда красивей — «Главный Хранитель Картины»!.. А ведь вы можете случайно проболтаться, что я птицелов, что я Дядя Ловушка. Так что, чтобы вы держали язычки за зубками и рты понапрасну не раскрывали, я принял мудрое решение: поселить вас рядом с моей избушечкой. Каждого в отдельную каморочку. И под замок, чтобы вас не украли… Хи-хи!..
— Какое нахальство! — возмутилась Бабушка. — Я еще никогда не сидела в тюрьме.
— Ну, какая же это тюрьма? Хи-хи! Просто небольшие такие каморочки возле моей избушечки.
Тихо-тихо, без треска и грохота вертолет поднялся над улицей. Типтик невесело смотрел на проплывающий под ним город и думал о Воронуше.
— Теперь они его растерзают… — сказал он, со злостью глядя на Дядю Ловушку.
— Кто? Мермехоны? Не бойся, не растерзают. Они послушные, работают по приказу. Им приказано не убивать птицу. Надеюсь, что Ворон мне большую пользу принесет.
— Ворон?!.. Пользу?
— А что особенною?.. Интересуетесь?.. Ладно, так и быть — расскажу. Вы теперь не проболтаетесь: каморочки у меня надежные, а ключики — вот они, в моих руках.
Глава двадцать шестая Картина и город
Птицелов нажал какую-то кнопку, и вертолет остановился в воздухе. Он висел над городом, как на ниточке. И город уже не проплывал под ним, но замер и глядел в небо, словно спрашивал: «Где там этот мальчик Типтик и его Бабушка?»
— Красота? — тихо спросил Дядя Ловушка, глядя вниз единственным глазом. — Конечно, красота. Это мой город. Мой собственный. Я сам его построил. И все людишки, которые там внизу, тоже мои собственные. Что хочу с ними, то и сделаю!
— Вы сами построили этот город? — недоверчиво сказала Бабушка. — Разве один человек может совершить такую работу?
— Да, город строили людишки, которых я позвал. Город строили машины, которые я достал.
— А что же вы делали? — спросил Типтик.
— Я?.. Я им говорил как надо строить: какие дома возводить, какие улицы прокладывать.
— Вы архитектор? Инженер?
— Ни-ни!.. Не архитектор и не инженер. Просто, как-то совершенно случайно прихватил на одном старом пыльном чердаке картину Знаменитого Художника. А там все было нарисовано: улицы, дома, квартиры. Тоненько нарисовано, едва заметно… А на обратной стороне картины — стишки; хорошо их помню:
Города нужно строить вовремя Не опаздывать и не спешить! Иначе, сограждане, горе вам: Очень трудно будет житьСтишки эти, конечно, зряшные. Почему «не спешить»?.. Есть чертеж, есть картина — значит, нужно побыстрее построить!.. Крикнул я людишек: «Желаете жить в сказочном городе? Принимайтесь за дело!» Раз-два-три, тяп-ляп, кидай-хватай!.. Вот тебе и город, вот тебе и сказка, вот тебе и мечта! Живи — не хочу! Все, как на Картине!.. А потом я приказал, как надо жить в моем городе, как питаться, как ходить, как играть…
— А Воронуша? — спросил Типтик. — Зачем он вам?
— Проклятая птица какой-то секрет знает! Не зря же Знаменитый Художник обучил ее разговаривать. И не зря она Картину караулила. Думаете, Главный Хранитель дурак? Ни-ни! Я сообразил, что Картина заколдована, есть в ней какая-то тайна. И Ворон эту тайну знает…
Дядя Ловушка стал говорить шепотом, как будто здесь, в вертолете, его могли подслушать посторонние:
— Да-с! Картина таинственная, с секретом. Но если произнести волшебные слова — секрет пропадет, Картина расколдуется… А мне это, между прочим, ни к чему — не желаю, чтобы она расколдовалась. Мне и так хорошо.
Типтик сидел в кресле; пальцы его впились в подлокотники; он боялся разжать руки, как будто бы в них находилась тайна. Он вспомнил старый дом; вспомнил ржавую коробочку с яркими красками; вспомнил, как Воронуша унес эту коробочку неведомо куда.
— Нет, ничего Ворон не знает, — проговорил Типтик. — А если даже и знает, все равно, он вам не скажет. Он упрямый. Даже мне ничего не сказал.
— Хи-хи-хи! — засмеялся Дядя Ловушка. — Тебе не сказал. А у меня перестанет упрямиться. Разговорится. Есть разные способы, как язык развязывать.
— Опять на цепочку посадите?
— Не огорчайся. Я его теперь не на стальную цепочку посажу, а на золотую.
— А мы с Бабушкой? Тоже на цепи будем сидеть?
— Вопрос непростой. Еще не решил. Подумаю.
Вертолет тронулся с места и опять медленно полетел над городом; он кружил, набирая высоту. Вечерело. Солнце сделалось сначала оранжевым, потом красным. И стеклянные крыши домов тоже стали красными, словно в огне горели.
Глава двадцать седьмая Дядя Ловушка мечтает
Дядя Ловушка круто повернул руль, и вертолет скользнул к окраине города.
— Сейчас, дорогие гости, я вам кое-что покажу… Глядите!
Типтик посмотрел вниз:
— Что это?!.
На земле стоял гигантский металлический предмет, похожий на копье сказочного великана. Копье это словно нацеливалось в вечернее небо. Уходящее солнце озаряло острие. А внизу, там, где копье как будто было воткнуто в землю, уже плавал в сумраке тонкий белесый туман — холодно и пустынно было там, внизу.
— Так ведь это же ракета! — воскликнул Типтик. — Смотри, Бабушка, ракета! Настоящая?..
— Хи-хи! — усмехнулся Дядя Ловушка. — А как же? Без обману. Самая настоящая — хоть сейчас на Луну или на Марс.
— И вы полетите на Марс? — Типтик недоверчиво посмотрел на Главного Хранителя. — Вы уже побывали в космосе?
— Что я — больной? Или смахиваю на сумасшедшего? Что мне делать на Марсе? Зачем мне космос? Нет, голубчики, мне и без Луны хорошо живется.
— А для чего же ракета, если в городе нет космонавтов?
— Почему — нет? Желающих сколько угодно. Многие в космос рвутся. А я их рядом со своей избушечкой содержу. В миленьких каморочках. Потому что высоко летать — это нехорошо. Вредно высоко летать. Опасно летать выше меня. Запрещено летать выше меня!
— Опасно? Вредно? Запрещено?
— Ага. Потому что полетит такой «желающий» в космос и героем может стать. А герой в нашем городе один-единственный, это я сам. И других героев мне тут не требуется.
Типтик молчал. Молчала и Бабушка. Они сидели, прижавшись друг к другу и смотрели, как солнце исчезает за краем земли — вот оно легло боком на синюю тучку… вот последний разок брызнуло длинными лучами… вот подтянуло к себе лучи и спряталось.
«Ну отчего я еще маленький? — думал Типтик. — Был бы я большой да сильный — выбросили бы мы с Бабушкой этого одноглазого из вертолета… Ну, ничего мы еще что-нибудь придумаем. Хорошо, что рядом Бабушка…»
Она, кажется, угадала, о чем думал внук, потому что шепнула ему на ухо:
— Не унывай!.. Двое — не один!
Вертолет снижался.
— Эх, скоро-скоро весь этот город будет моим! — сказал Дядя Ловушка. — Скоро-скоро людишки мои помрут… Город мне достанется!
— Зачем вам одному целый город? — спросила Бабушка. — Вы, конечно, сумасшедший!..
— Не знаю… Может быть, может быть… Один в городе! Буду ходить по улицам один. Буду сам по себе разгуливать по разным кварталам и смотреть, где чего имеется. У меня будут ключи от всех-всех квартир! И все здесь будет мое: платья, костюмы, шляпы, ботинки. Я каждые десять минут буду переодеваться, каждые пятнадцать минут буду переобуваться. Каждый час буду смотреть на свой монумент. Сам себе буду говорить: «Да здравствует Главный Хранитель!» Сам себе буду говорить: «Ура! Спокойной ночи!» Не жизнь, а сплошное ликование.
— А если Картина до этого расколдуется? — спросил Типтик.
— Ни-ни! Ни в коем случае!.. Что ты, голубок — мне этого совсем не надо. Мне и так хорошо. Просто замечательно! А если кто-нибудь другой ее расколдует, тогда моя жизнь пойдет совсем иначе. Боюсь, как бы Ворон не вмешался в это дельце… Конечно, свернуть бы ему башку — и все в порядке. Но мне самому тайну узнать хочется… А вот и моя бедная избушечка!..
Они пролетели над каменным забором, над железными воротами и приземлились посредине широкого двора. Прямо перед ними высился дом-громадина. Сразу было видно, что он не такой, как другие дома в городе. Темный. Каменный. В нем даже настоящих окон не было. Только высоко-высоко, под самой крышей, тускло светились три узеньких щелочки.
На крыше пересвистывались мермехоны.
Наступала ночь.
Глава двадцать восьмая Сто вторая ошиблась
— Хороша моя избушечка? — спросил Дядя Ловушка, вылезая из вертолета. — Вы теперь будете жить у меня под боком. Нет-нет, не в моей избушечке, а рядышком, в железном дворике. И никуда вы отсюда не убежите: слишком много знаете обо мне. Ох, как много!
Он хлопнул в ладоши:
— Сто вторая!
Немедленно из темноты подкатилась машина, похожая на перевернутого паука: стальные лапы шевелились у нее по бокам, как живые.
— Возьми-ка, Сто вторая, бабушку-старушку и запри ее в хорошенькую клеточку!
— Не имеете права! Я буду жаловаться! — закричала Бабушка. — Я напишу в газету!..
Но Сто вторая ловко обхватила ее своими могучими лапами, приподняла над асфальтом и покатила в самый дальний угол двора.
— Тимоша! Внук!.. — послышалось оттуда.
Сто вторая приехала обратно; теперь ее лапы потянулись к Типтику.
— Умница! — похвалил машину Дядя Ловушка. — Лучший сторож и надзиратель; одна заменяет двадцать самых опытных охранников. Никогда не спит; есть не просит — только смазывай, да подзаряжай аккумуляторы… Займись-ка, Сто вторая, этим сопляком паршивым! Живо!..
Мгновенно стальные лапы схватили Типтика под мышки. Приподняв его, машина закружилась по двору.
— Что же ты, дурашка, мечешься из угла в угол? — ласково проговорил Дядя Ловушка. — Ты ведь образованная машинка… Тащи этого щенка туда, где клетки. Сажай его под самый большой замок!
Вихрем понеслась Сто вторая вдоль двора. В полутьме Типтик заметил: тут было что-то вроде зверинца — клетки большие и маленькие, низкие и высокие.
Что было дальше — Типтик не помнит. Сто вторая его бросила… опять приподняла и с силой посадила на твердый асфальт… У Типтика потемнело в глазах, и он потерял сознание.
Он очнулся на рассвете.
Кто-то тихонько смеялся: совсем близко…
Типтик приоткрыл глаза и увидел, что сидит около запертой клетки. Не в самой клетке… а около! А сама клетка закрыта на тяжелый замок, который болтается над его головой.
А в соседней клетке, за решеткой, смеется молодой человек. Сидит взаперти, а смеется весело, по-озорному, как все равно мальчишка.
— Ничего смешного тут нет, — сердито сказал Типтик.
— Наоборот, это очень забавно! — весело прошептал молодой человек. — Ведь Сто вторая ошиблась!.. Ах, как это хорошо!.. Главный Хранитель думает, что его хватающие машины похожи на людей и все могут делать сами, без ошибок. Нет, машина без человека, сама по себе, ни на что не годится. Самая умная машина становится глупой, как пробка, если ею командует злобный дурак.
— Дядя Ловушка, по-моему, не дурак.
— Ловушка?.. Главный Хранитель — Ловушка? Отличное прозвище! Кто придумал? Ты.
— Нет, не я…
— Все равно хорошо. Он действительно — хитрая ловушка. Воображает себя умным, а на деле бывает дураком. Хочешь докажу?
— Ничего я не хочу… — у Типтика болела голова. — Я хочу удрать отсюда.
— Для тебя это пара пустяков! Ты ведь сидишь не за замком, а под замком. Понимаешь разницу?. Ловушка не совсем четко отдал команду, и Сто вторая перепутала. Понял?
— Да… — слабо улыбнулся Типтик.
— Пока еще все спят, давай знакомиться. Я — Учитель, сын Последнего Доктора.
— Вашу дочку зовут Зоей?
— Правильно. А тебя — Типтиком?
— Кто вам сказал?
— Угадай.
— Н-не знаю…
— Загляни-ка вон в тот уголок… Только тихонько, не шуми!
Типтик с трудом поднялся на ноги. Огляделся. В клетках спали люди… На решетках, как в настоящем зверинце, белели таблички:
«УЧЕНЫЙ. Из породы беспокойных».
«ПОЭТ. Редкий экземпляр — из породы мечтателей».
«ИНЖЕНЕР. Из породы искателей».
Тишина… Краешек неба за углом черного дома чуть заметно порозовел, но в вышине еще сияли крупные звезды…
А в углу, там, куда показал Учитель, стояла позолоченная клеточка; в ней, подвернув голову под крыло, дремал… Воронуша!
— Проснись! Проснись, черненькая птичка! — зашептал Типтик, просунув руку в клетку к Воронуше.
Ворон вздрогнул, хотел каркнуть, но Типтик зажал ему клюв:
— Тс-с! Молчи!.. Мы убежим. В твоей клетке прутья тонкие… попробуем их согнуть… Только не каркай. Тише!..
Осторожно, но изо всех сил Типтик потянул к себе один прут… Прут скрипнул и чуть-чуть подался… Типтик еще приналег. Ворон нетерпеливо переступал лапами; потом боком навалился на решетку… Еще усилие — и клетка сломана! Воронуша на свободе!
Теперь — как можно скорее перелезть через высокий каменный забор. Скорее — пока не проснулся Ловушка, пока его глазастые мермехоны не подняли тревогу.
Воронуша единым махом вспорхнул на ворота.
А Типтик… Что с ним? Почему не бежит, почему медлит?
«Бабушка, где ты?» — хотел крикнуть Типтик, но тут же крепко сжал губы. Он посмотрел вглубь двора. Двор огромный, и где-то там, в самой глубине его стоит клетка, в которую хватающая машина бросила Бабушку.
Мальчик медленно подошел к Учителю. Ох, у этой клетки прутья были такие толстые! И замок на дверце — грузный, стальной.
— Беги, дружище, спасайся! — Учитель печально смотрел на Типтика. — Ты почти на свободе. Лезь через забор…
— Не могу. Здесь моя Бабушка. Не могу я без нее…
— Твоей Бабушке не убежать. Замок без ключа не открыть. Ключи от всех клеток у Главного Хранителя, у Ловушки.
— А где он их держит?
— Неизвестно… Знаю лишь, что спит он сейчас вон в той комнате с открытым окошком. До этого окна тебе даже во сне не добраться — слишком высоко.
— Мне не добраться… А что если… — Типтик сдвинул брови. — Воронуша, ко мне!
Глава двадцать девятая Бой
Что Типтик шептал Ворону — Учитель не слышал. Только отдельные слова можно было разобрать: «блестит»… «разрешаю»…
И вот черные крылья заколыхались — сначала едва заметно, нерешительно; потом — все чаще, чаще: Ворон набирал высоту, с опаской поглядывая на каменный дом… Вот он осторожно подлетел к узкой щелочке окна, заглянул внутрь…
— Ну, давай, давай! — шептал Типтик. — Действуй, Воронусик!
Воронуша отважно тряхнул хвостом и скрылся в комнате.
Сердце у Типтика сжалось, он даже дышать перестал… Если вдруг Ловушка сейчас проснется и увидит Воронушу — все погибло. Ах, как долго тянутся эти минуты! Где же ты, Воронушенька, что с тобой?..
А солнце на востоке разгоралось все ярче и ярче. Звезды совсем померкли. Скоро солнце взойдет.
Воронуша вылетел из окошка!
В клюве он держал связку блестящих ключей.
— Кидай! — выдохнул Типтик.
Ворон разинул клюв. Связка шлепнулась у самых ног мальчика.
И тут наш храбрый Воронуша не выдержал. От радости, что все получилось так удачно, он заорал на весь двор:
— Урра! Крра-красота! Уррра!
— Что такое? Кто кричит? — Дядя Ловушка высунулся из окна, поспешно натягивая клетчатый пиджачок. — Ворон?.. Хватай его! Держи!..
С крыши сорвались Мерзавцы Механические Особого Назначения — затрещали их моторы, засвистели их крылья, со страшной силой рассекая холодный утренний воздух. Растопырились хищные когти.
— Карр-карр! — перепуганный Воронуша кинулся наутек.
Мермехоны легко догнали его. Один из них пролетел над Вороном и, круто спикировав, загородил ему путь.
Но Воронуша не растерялся: сложил крылья и камнем рухнул вниз. Видимо, мермехон хотел поступить так же: втянул в себя когти и крылья и стал стремительно падать вслед за живой птицей. Но что-то в механике этого Мерзавца не сработало вовремя, и он всей тяжестью грохнулся об асфальт. Пружинки, лампочки и колесики вывалились из его стального брюха.
— Хватай-держи Ворона! — приказывал Дядя Ловушка другим мермехонам.
Но они беспорядочно кружились в воздухе, сталкивались друг с другом словом, вели себя как существа неразумные.
А Воронуша — не будь дурак — моментально забился в узенькую щель между двух клеток, и никакой хищный коготь не смог бы дотянуться до него.
Тем временем Типтик носился по двору и открывал у клеток хорошо смазанные замки. Измученные люди выходили на волю, расправляя затекшие плечи.
— Бунтовщики! — надрывался Главный Хранитель. — Мятежники! Вот я вас всех!..
Тут во двор, расставив длинные рычаги, ворвались новенькие хватательные машины — закрутились, заюлили между клетками, пытаясь загнать туда людей.
Но люди — умные, талантливые люди — не испугались. Учитель ловко подобрался сзади к хватательной машине, дотянулся до пульта управления и что-то переключил там… Машина на секунду остановилась, а потом, не обращая внимания на людей, пошла сражаться с другими машинами!
Такой шум стоял в тюремном дворе, такой звон и лязг, что все мермехоны, все хватательные машины стали неуправляемыми — не могли расслышать ни одной команды Главного Хранителя.
Великолепная Бабушка вырвалась из своей клетки и, энергично работая локтями, высоко поднимая колени, побежала навстречу Типтику:
— Внук! Тимоша!.. Воронуша!.. Вы истинные герои! Я все знаю! Я горжусь вами!
Люди, ощутив свободу, дорвались до самого желанного сегодня дела: они умело выключали и останавливали хватательные машины, всю эту технику, которая держала людей взаперти, не позволяла им жить так, как хочется.
Воронуша, высунув клюв из своей щели, храбро подбадривал:
— Урра! Бей крепче! Пре-крра-сно!
Но сам из щели, на всякий случай, не вылезал.
Глава тридцатая «Прыгай!..»
У Дяди Ловушки от бессильной злобы тряслись губы. Немигающими глазами смотрел он на то, что делалось во дворе. Остановились его верные слуги — хватательные машины; присмирели его стражники — мермехоны.
Что делать Ловушке — убежать, спрятаться?.. Некуда бежать, некуда прятаться: несколько человек уже ломились в дверь его черного дома.
И тогда Главный Хранитель, с трудом протиснув свой толстый живот сквозь щель узкого окна, встал на подоконник и пронзительно затараторил:
— Прощайте! Сейчас я брошусь вниз и разобьюсь насмерть на ваших глазах. Насмерть разобьюсь, имейте в виду! Смотрите, как умирает герой!
Люди во дворе чуть притихли; они испуганно смотрели на кривоногого человечка, который стоял на самом краешке подоконника.
— Да! — кричал Дядя Ловушка. — Я сейчас умру, потому что не хочу больше жить рядом с вами, негодяи вы эдакие! Не хочу, негодяи, видеть вас и слышать! Вы не уважаете меня — меня не уважаете, нет! Меня — мудрого Главного Хранителя Картины… Я сейчас умру, и никто-никто не будет заботиться о жирной пище для ваших родных… Сейчас умру! Прощай, мой стеклянный город! Прощай, теплое солнышко! Прощайте, негодяи!
Он говорил уже спокойнее, и даже немного отодвинулся от края подоконника.
А во дворе кто-то уже опустил глаза, кто-то уже тяжело вздохнул…
— Вы не жалеете меня, — еще громче затараторил Дядя Ловушка. — Вы не любите меня. Вы не верите мне!.. Вы хотели поближе рассмотреть Картину… А, может быть, вы хотите ее переделать, изменить ее?.. Но ведь Картину нарисовал Знаменитый Художник — нарисовал всю вашу жизнь. Он оставил мне свою Картину, потому что любил меня, верил мне. А вы, негодяи, не уважаете, не жалеете меня. И вот, я сейчас прыгну и умру на ваших глазах!..
— Прыгай! — раздался звонкий голос.
Все обернулись.
На каменном заборе стояла худенькая девчонка… Зоя! Колени у нее ободраны, лицо раскраснелось, и под лучами утреннего солнца сияло, как маленький флажок.
— Прыгай, прыгай! — весело повторила она. — Ну, что же ты?.. Боишься? Или раздумал умирать?
— Нет, не раздумал! — взвизгнул Дядя Ловушка, губы его опять задрожали от злости. — Не раздумал, но хочу, чтобы смерть мою видели не только эти бунтовщики, мятежники. Я желаю, чтобы весь город увидел, как погибает Главный Хранитель…
— Весь город? — спросила Зоя. — Пожалуйста!..
За забором зашумели, загудели тысячи голосов. Заскрипели железные ворота — во двор ворвались сердитые люди. Впереди всех — Последний Доктор.
— Дорогой мой сын! — закричал старик радостно. — Мы пришли, чтобы спасти тебя и всех твоих друзей…
А Зоя смеялась, показывая пальцем на Ловушку:
— Глядите, глядите! Сейчас будет совершен прыжок с высоты в пятьдесят метров! Прыжок без парашюта!.. Прыгай! Алле-гоп!..
— Ой, будьте добры, не прыгайте, дяденька Хранитель! Если вы разобьетесь, то я уже не буду чемпионом города по «медленности»…
Это сказал шарообразный мальчик; он, оказывается, тоже приплелся сюда.
— Пусть прыгает! — требовала Зоя. — Струсил?
— Нет… не струсил я… — промямлил Дядя Ловушка. — Но жалко… Жалко зашибить кого-нибудь там внизу, если прыгну.
В толпе засмеялись.
— Ну чего, чего вы от меня хотите? — единственный глаз Ловушки часто-часто замигал. — Чего вам надо?
— Чтобы стать по-настоящему счастливым — нам всем нужна работа! — крикнул Учитель.
И тысячи людей заволновались, зашумели:
— Хо-тим ра-бо-тать!
— Труд!
— Ра-бо-та!
— Строить! Учить!
— Выдумывать! Изобретать! Делать! — кричали взрослые.
— Смеяться, бегать, играть! — кричали дети.
— Порр-порхать! — каркнул Воронуша, но его, кажется, никто не услышал.
Глава тридцать первая Карандаш, ластик и яркие краски
Учитель взобрался на разломанную ветку, с нее перескочил на забор и стал рядом с Зоей. Он отовсюду был виден.
— Я хочу спросить вас, друзья, — начал Учитель. — Разве это правильно, что нашим прекрасным городом командует самый жадный и самый злой человек?
— Не-пра-виль-но! — ответили тысячи людей.
— Мы с вами живем открыто, на виду у всех, у нас нет секретов друг от друга. А он живет в черном каменном доме за высоким забором; у него нет друзей, и никто не знает, о чем думает сумасшедший человек, который сам себя назвал Главным Хранителем. Разве это правильно?
— Не-пра-виль-но! — ответили тысячи людей.
— Разве это правильно, что он запрещает нам работать?
— Нет, неправильно! — все громче и громче говорили люди. — Не-пра-виль-но!.. Не-пра-виль-но!
— И почему он прячет от нас Картину? Нашу Картину! Если город выстроен, как на Картине — мы имеем полное право видеть ее!
— Имеем право! — сказали тысячи людей так громко, что Воронуша вздрогнул и даже подпрыгнул от волнения:
— Имеем прра-во! — сказал он.
— Ладно, уж так и быть, ладно… — заверещал Дядя Ловушка. — Покажу я вам Картину, покажу… Сейчас принесу… Но если вы тронете меня хоть пальцем, то я уничтожу ее — разорву, разрежу, разобью, если тронете меня, старичка несчастного.
— Не тронем, — с презрением сказал Последний Доктор.
…И вот распахнулись настежь двери черного дома, и показалась Картина.
Дядя Ловушка держал ее перед собой, прикрываясь ею, словно щитом; он весь спрятался за нее — и только снизу видны были ноги, а сверху лысина и клочок слипшихся волос.
— Ворр! Ворр! Ворр! — закричал Воронуша и сел на плечо Типтику.
— Вот Картина, которую мне подарил мой лучший друг — Знаменитый Художник, — сказал Дядя Ловушка. — Он сам подарил мне эту Картину и сам назначил меня Главным Хранителем. Ведь я тоже был художником…
— Неправда! — воскликнула Бабушка. — Возмутительно! Он никогда не был художником, этот гнусный птицелов. Я сама видела, как он торговал живыми птицами. Мы с моим внуком Тимофеем Птахиным видели это собственными глазами! Скажите, разве может художник ловить птиц и держать их в клетках?
— Прравда! Прравда! — крикнул Воронуша и перелетел на плечо Великолепной Бабушки.
— Он мучил птиц, — подтвердил Типтик. — Не давал им пить…
— Прравда! — мотнул своей большой головой Ворон и перелетел от Бабушки опять к Типтику.
— Погодите-ка, — Типтик слегка прищурился. — Да разве это Картина?
— Да-да… — проговорил Последний Доктор, пристально вглядываясь в полотно в раме. — Это не похоже на Картину. Это, пожалуй, чертеж, схема…
И верно: все увидели, что на белом полотне тонкими еле заметными линиями были очерчены контуры домов, улиц, проспектов. А в самом центре чья-то неумелая рука — это сразу было заметно — карандашом нацарапала неуклюжий монумент в честь Главного Хранителя.
— Все в точности! Тут все в точности! — захлебывался Дядя Ловушка. — Очень похоже, в точности! — он кричал из последних сил, и от натуги лысина его покрылась капельками пота. — На Картине, как в жизни! В жизни, как на Картине! В точности!
— Минутку! — великолепная Бабушка пригляделась к Картине. — Тимоша, Зоя! У вас молодые глаза: взгляните — здесь подделка!
— Вижу! — обрадовался Типтик.
— Вижу! — обрадовалась Зоя. — Снимите, пожалуйста, стекло.
Тотчас же несколько человек осторожно сняли с Картины стекло.
А Типтик порылся в карманах — достал оттуда кусочек мягкого ластика и легонько стер неумелый рисунок монумента в центре.
— Негодяй, что ты делаешь? — зарычал Дядя Ловушка. — Это же мой монумент! Тут я красуюсь…
— Здесь пока что пустое место, — засмеялась Зоя.
— Да, я красуюсь на пустом месте!.. Что делается, что делается!
Дядя Ловушка застонал, весь как-то съежился, сморщился и запахнул потуже свой клетчатый пиджачок.
— Странно, — сказал Учитель. — На картине совсем не видно людей… И почему она не раскрашена?
— Так и в жизни, так и в жизни! — заверещал Дядя Ловушка. — Посмотрите-ка на себя!
И все посмотрели на себя с удивлением, словно впервые увидели эти бесцветные платья, бесцветные халаты, бесцветные дома…
— Бабушка! — воскликнул Типтик и хлопнул себя по лбу. — Я все понял! Я догадался! Помнишь, что говорил нам в вертолете этот Дядя Ловушка? Он сказал, что Картина заколдована. Так и есть!.. Погодите, а где Воронуша?
В самом деле, никто не заметил, как Ворон куда-то исчез.
— Воронуша, где ты? — крикнул Типтик.
— Во-ро-ну-ша, где ты? — закричал по слогам весь народ. — Где ты, Во-ро-ну-ша?..
Высоко в небе показалась мало приметная точка. Вот она все ближе, ближе, ближе…
— Мермехон! — крикнул кто-то испуганно.
Да нет! Не мермехон это, а Воронуша!.. А что он держит в клюве?
На землю упала плоская ржавая коробочка. Учитель поднял ее, раскрыл…
Там были краски — яркие, свежие, совсем-совсем новенькие, как будто их только вчера положили в коробочку. На внутренней стороне крышки Учитель прочитал:
— Рази-двази…
— Тризи-мизи!.. — откликнулся Ворон.
— Пята-дата! — сказал Типтик.
— Сули-мули! — прочитал Последний Доктор.
— Буба-бенс!.. — почти шепотом выговорила Зоя.
И в тот же миг коробочка опустела: краски исчезли.
И в тот же миг Картина чудесно преобразилась: стали разноцветными дома, сады и бульвары покрылись свежей зеленью, улицы наполнились людьми в оранжевых, синих, фиолетовых, розовых платьях и костюмах… Все на Картине куда-то спешили, бежали, прыгали — каждый был занят делом. Худощавые, энергичные фигуры взрослых и детей наполняли этот сказочный город, в самом центре которого возникло высоченное торжественное здание.
«ДВОРЕЦ ТРУДА» — было написано на этом прекрасном доме, за широкими окнами которого кипела дружная работа: кто стоял у станков, кто сидел за компьютерами, кто за письменными столами…
— Вот о чем мы все мечтали, — прошептал Последний Доктор.
— Пре-крра-сно! — прищелкнул клювом Воронуша. — Ура!
И тысячи горожан подхватили эти правильные слова:
— Прекрасно! Ура!
Глава тридцать вторая Что было дальше
Об этом, наверное, и рассказывать не нужно. Понятно все и так.
Весь город строил Дворец Труда; и скоро в нем закипела работа еще веселее, чем на Картине. Многое там делали умные машины — они помогали людям. А люди, придумывая, изобретая, сами становились все умнее и умнее. И каждый понимал, что никогда не удастся сделать машину, которая была бы во всем умнее человека.
Клетки, конечно, разломали. Из прутьев сделали качели. На них с утра до ночи раскачивались ребятишки.
Удивительно, но в городе совсем не стало толстяков. Даже «подушечный» мальчик похудел, и прошел слух, будто бы он собирается стать чемпионом по бегу на семьдесят семь с половиной метров — он сам себе придумал такую дистанцию.
Всюду громко смеялись, хохотали до упаду. И плакать никому не запрещалось. Но, конечно, никто и не хотел плакать. Только однажды какой-то малыш заревел благим матом, когда кормящая машина насильно пичкала его манной кашей с малиновым вареньем. Малыша успокоили, а машину срочно отправили в ремонт.
Но что с нашим Типтиком? Что с Бабушкой?
Вот тут я ничего вам сказать не могу. Дело в том, что Типт… ах, простите — Тимофей Птахин… Так вот, Тимофей Птахин стал старшим помощником младшего юнги на огромном космическом корабле и улетел куда-то, в направлении… Позабыл я, как называется эта далекая планета. Помню лишь, что жители этой планеты не могут жить без сказок — они дышат сказочным воздухом и глотают сказочные пирожки. Думаю, что там, должно быть, с удовольствием будут слушать нашего Типтика, когда он начнет рассказывать, что случилось в стеклянном городе на Земле.
Великолепная Бабушка, кроме журнала «Здоровье», подписалась на газету «Советский спорт» и читает лекции о том, как сохранить молодость до ста двадцати лет. Она по-прежнему ходит в синих брючках, по-прежнему делает силовые упражнения с гантелями, по-прежнему каждый день бегает легкой трусцой. И поговаривают, что теперь она решила каждое утро обливаться ледяной водой. Действительно — великолепная Бабушка!
А Воронуша? Как поживает черненькая птичка?.. Должно быть, улетел вместе с Типтиком на далекую планету?
Ничего подобного. Воронуша теперь далеко не залетает. Его назначили заведующим белым столовым залом. Он следит там за чистотой и даже сам командует моющей машиной.
Иногда в столовом зале появляется пришедший неизвестно откуда одноглазый кривоногий старикашка в клетчатом пиджачке. Воронуша дает ему котлету с картофельным пюре и разрешает выпить чашку компота. Он ведь добрый, наш Воронуша.
…А недавно мне позвонил по телефону Последний Доктор и сказал, что жители города собираются воздвигнуть монумент в честь вольных птиц: ласточек, аистов, журавликов, воробьишек.
Воронуша, когда узнал об этом, сказал с восторгом:
— Прра-вильно! Кррасота!
Юрт-Акбалык 15 июля 1988 г.Примечания
1
Элогий — у древних краткая запись, составленная в честь известного человека после его смерти с перечислением заслуг покойного.
(обратно)2
Анамнезис (греч.) — воспоминание. В диалоге «Федон» Платоном впервые сформулирована идея априорного восприятия информации.
(обратно)3
Вакеро — сленговое название людей, занимающихся раскопками и грабежом древних захоронений
(обратно)4
Апсу — по-древнеегипетски: бездна, беспредельность.
(обратно)5
Милдориэл — Дух-Ведет-Войну (дэвинмол).
(обратно)6
Едома — болото, едомяне — жители болотистых мест.
(обратно)7
Покров — 14 октября (здесь и далее новый стиль).
(обратно)8
Николай зимний — 19 декабря.
(обратно)9
Журавка — ягода клюква.
(обратно)10
Шуляки — коржи, но шули — яйца, в данной поговорке смысл двояк.
(обратно)11
Через грядку (хребет, спина) да на вятку (порода лошади), то есть: перекувыркнувшись через спину, сесть на лошадь.
(обратно)12
Иван Елкин — кабак, питейная.
(обратно)13
Козюля — гадюка.
(обратно)14
Битюг — конь, тяжеловоз.
(обратно)15
Буерак, росточь — овраг.
(обратно)16
Чекмень, сибирка — кафтан.
(обратно)17
Девятый глас, или драть козла — пение невпопад.
(обратно)18
Напустить на тело сирот — нагнать озноб страха.
(обратно)
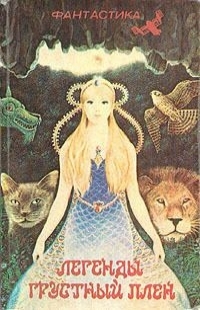




Комментарии к книге «Легенды грустный плен», Александр Александрович Бушков
Всего 0 комментариев