1
Волгин не любил наглых. Этот же забор был нагл. Он самодовольно усмехался. На его гладких выше человеческого роста металлопластовых плитах при желании можно было прочесть написанную незримой и неощутимой краской надпись: «Вот я, бесконечный, непреодолимый! Не пытайся обойти, не ищи способа проникнуть внутрь. Умерь любопытство. Да и что тебе до того, что кроется за моей спиной? Разве сам я – не сооружение, достойное почтительного взгляда? Смотри. Налюбовавшись же – иди прочь!»
Волгин не внял этому разумному совету, который прозвучал в его ушах так явственно, будто и впрямь был произнесен или хотя бы начертан резкими литерами. Внимательно осмотрев забор и определив его высоту, он воровато поглядел направо, потом налево. Затем он повернулся и действительно зашагал прочь, продолжая обшаривать глазами окрестность.
Пройдя двадцать с лишним шагов, Волгин остановился и вновь обратился лицом к препятствию. Секунду он стоял на месте, затем кинулся, внезапно и стремительно. Могло показаться, что он хочет повергнуть забор, ударившись о него всей своей немалой массой. На самом деле все было гораздо прозаичнее: Волгину был нужен разбег для того, чтобы включить микродвигатели.
Через несколько мгновений он уже сидел на заборе, сосредоточенно разглядывая открывшийся взгляду пейзаж. За самодовольным сооружением росла такая же трава и такие же группы кустов, видневшиеся тут и там, немного оживляли скучную картину. Метрах в трехстах белел уютный домик, а больше и действительно ничего не было. Так что забор, похоже, высился тут зря.
Волгин знал, что не зря.
Поерзав, он съехал вниз, как ребенок съезжает со стула. Приземлился на корточки, затем, пригнувшись, сделал несколько шагов. Когда между ним и белым домиком оказался ближайший куст, Волгин выпрямился и облегченно вздохнул. Потом стал осматриваться, подолгу задерживаясь взглядом на каждой неровности почвы, на каждом сколько-нибудь крупном камне.
Один из камней заинтересовал Волгина больше остальных. Волгин шагнул, приближаясь. На миг на его лице возникла брезгливая гримаса. Но уже в следующее мгновение, совладав с чувствами, он негромко позвал:
– Рамак! Послушайте, рамак…
Он предвидел Неожиданности, и все же, не выдержав, отпрянул: камень рос.
Не камень, вернее, а то, что Волгин назвал рамаком. Нечто, похожее на обруч, около метра в диаметре и сантиметров тридцати высотой, плашмя лежало в высокой траве и до последнего момента не было заметно, камнем же казалась выступавшая над зеленым покровом земли округленная башенка серо-коричневого цвета. Теперь башенка быстро поднималась, потому что в лежащем кольце, как оказалось, скрывались другие, вдвинутые одно в другое, как колена старинной подзорной трубы, а сейчас плавно выдвигавшиеся. Волгин на всякий случай отступил еще на шаг; к этому времени башенка достигла уже двухметровой высоты и остановилась.
– Я рамак, – проговорил приятный голос, исходивший, как определил Волгин, из башенки. – Добрый день, человек. Зачем вы пришли?
Волгин молчал, тяжело дыша.
– Говорите, – сказал рамак. – Время дорого, человек. Ваше медленное, и мое быстрое время.
Волгин откашлялся; ему было трудно выговорить слово, как будто кто-то держал его за горло.
– Ага, – пробормотал он наконец. – Значит, такой вы и есть. – Он произнес «вы» совершенно машинально, словно обращаясь к человеку.
– Да. Я рамак: разумная машина космоса.
– Я думал, вы больше похожи на нас.
– Зачем?
– Вот именно, – сказал Волгин. – Зачем? Все равно у нас не может быть ничего общего. Вы – машина.
– Вы тоже, – сказал рамак. – Но я – разумная машина.
– Ах, ты… – выдохнул Волгин, сжимая кулаки.
– Что вы хотите сказать еще, человек?
Но Волгин снова смирил себя.
– Это я скажу не здесь. И не вам.
– Идите, человек! – сказал рамак. – Сколько ушло времени!
Он произнес это прежним – ровным, приятным голосом.
– Можете ли вы подняться сами? В противном случае я помогу вам.
– Не нужно, – сказал Волгин, не пытаясь более скрыть отвращение.
Разбежавшись, он включил микродвигатели и поднялся в воздух. Перелетая через забор, оглянулся. На крыльце домика стоял человек. Руки его были подняты к лицу; кажется, он смотрел в бинокль.
– Вот с тобой мы еще поспорим, – пробормотал Волгин, опускаясь на землю с внешней стороны ограды. – Но этот прав: потеряно очень много времени. Торопиться, торопиться! Иначе они уйдут, и тогда их уже не остановишь!
И он торопливо зашагал к одинокому дереву, в тени которого стоял его аграплан.
2
Из-за приоткрытой двери доносились голоса.
– А это?
– Это и есть конус церебропушки.
– Не сказал бы, что он похож на конус.
– Сходство было в первом варианте. Потом пришлось добавить три магнитные линзы для тонкой фокусировки. Вот и получилось…
Голоса звучали свободно; так говорят люди, когда их не слышит третий. Один голос – юношеский, ломкий – был свой, привычная деталь обстановки. Другой – взрослый, глуховатый – чужой. Вроде бы незнакомый. Хотя что-то в глубинах памяти, кажется, резонировало с ним; дрожала какая-то струнка, но чересчур тихо. Если нырнуть в воспоминания…
– Вообще-то вам повезло. Потому что уже сегодня вечером попасть к нам никому не удастся: начнем подготовку к решающему эксперименту.
– О! – Взрослый голос благопристойно удивился. – И какова цель?
…Нет, вряд ли в памяти что-нибудь отыщется. Просто очередной любопытствующий; прибыл поинтересоваться, какими такими чудесами пахнет в этой части Вселенной. Ну, пусть понюхает в меру. У нас нет секретов, мы-то забором не отгораживаемся!
У Витьки, лаборанта, ангельское терпение: объясняет уже в сто какой-то раз. Мог бы избавиться от гостя и побыстрее. Выйти, прекратить?
Не стоит. Раз уж удалось незамеченным проникнуть в собственный кабинет – сиди и работай. Ибо великие дела предстоят нам…
Волгин сделал несколько неслышных шагов от окна. Ступать бесшумно при волгинских размерах и весе было нелегко. Зато голоса стали слышнее.
– Цель?..
Витька сделал интригующую паузу. Немного, правда, затянул. Самую малость.
– Цель, по существу, можно сформулировать так…
Еще пауза, на этот раз с соблюдением меры. И – совершенно небрежно, этак между прочим:
– …Создание нового человека. Именно так!
Интересно, как этот: изумится сразу или начнет докапываться до сути?
– Нового? Чем же он будет отличаться от старого?
Копается. Из въедливых.
– О, многим!
– Четыре руки будут, что ли?
Прикинулся недоумком. Ходят, отнимают время. Времени мало, тот рамак был прав. И все-таки мы успеем. Эксперимент поставим. И заставим многих задуматься.
Может быть, одного эксперимента будет мало? Ведь результата придется ждать долго, долго… Придумать еще что-нибудь? Что же можно придумать?
– …Почему – четыре руки? Анатомию и физиологию мы не затрагиваем. Психика – вот главное!
Правильно, только так кричать не следует.
– Ведь основным рубежом в исследовании космоса сейчас является именно рубеж психический. Не при полетах в Солнечной системе, конечно. При достижении отдаленных миров, при их освоении, приспособлении для жизни. Бесконечность расстояний, разлука навсегда, смена поколений в полете – все это слишком тяжело для человеческой психики. А ведь это не главное. Основное – то, что человек в космосе никогда не чувствует себя дома. Космос – всегда враждебная среда.
– Это не ново.
– Но от этого никому не легче, не правда ли? До тех пор, пока человек не почувствует себя в пространстве своим, он не сможет по-настоящему приняться за осуществление своей задачи: расселения в Большом космосе. Следовательно, психика человека нуждается в некоторой перестройке…
Интересно, когда твои взгляды высказывает кто-то другой. Слышишь все словно в первый раз. Каждое слабое место само бросается в глаза. Но ведь пока что слабых мест не было?
Нет. И не должно быть. Но послушаем еще.
Волгин откинул кресло у рабочего стола. Уселся и закрыл глаза, чтобы лучше воспринимать звуки.
– …А механизм влияния вас не интересует?
– Но я, кажется, вас задерживаю?
– Ладно. Садитесь и старайтесь понять.
Послышался свистящий шорох; это Витька чересчур сильно двинул стул. Волгин зажмурился. Сейчас эта принадлежность мебели врежется в кристаллическую путаницу, именуемую контрольным блоком (правильнее было бы назвать ее контрольной кучей), возвышающуюся посредине лаборатории. Миновать ее, судя по тому, откуда доносились голоса, стул никак не мог. Три, два, один…
Звона не последовало. Адресат сумел все-таки перехватить. Недурная реакция. Хорошо. Во-первых, не пострадал блок. Во-вторых…
Во-вторых, если не очень привередничать, то вообще все хорошо.
Волгин позволил себе на минуту расслабиться в кресле. Взгляд его лениво скользил по столу. Не в поисках чего-либо, а так – отдыхая. На столе все было знакомо, все на своем месте: прежде всего – порядок. От раскрытой рабочей тетради взгляд пополз дальше, ни на чем не намереваясь задерживаться. И вдруг остановился. Это еще что такое?
Это были цветы. Полевая гвоздика в лабораторной мензурке. Цветы. Только и всего. Черт, как хорошо: цветы… Откуда здесь цветы?
Резким движением Волгин схватил мензурку; вода перебрызнула через край, но он не обратил на это внимания. Цветы. И карточка. Два слова: «С сорокалетием». Ну спасибо. Вспомнили.
А кто бы это вспомнил?
Мысль пришла непрошенной. А вдруг это?.. Мысль была горька и сладка вместе. Волгин заставил себя усмехнуться, покачать головой. Нет. Нереально. Это было и прошло. А еще вернее: не было – и прошло. И достаточно об этом.
И все же…
Да нет, это не она. Если бы она, здесь было бы написано еще что-нибудь. Например: только не надейся, это – просто так, выполняю правила приличий. Или еще что-то в этом роде. Увы, мол, ничего не поделаешь…
Конечно, после такого промежутка времени о подобном внимании с ее стороны и мечтать бесполезно. Цветы! В сорок-то лет начинаешь понимать такие вещи. Женщина мужчине – цветы? Вряд ли. Новую книгу или запись, старое вино – это да. Кстати, и почерк-то не ее. А какой – ее?
Вместо того чтобы размышлять над разными тонкостями предстоящего эксперимента, Волгин принялся вспоминать – и действительно вспомнил, что ее почерка не знает. Да и ничьего не знает. В наше время звонят по видеофону, шлют теле– или фонограммы. А писать – не пишут.
Значит, не она, решил он окончательно: то, что он не знал ее почерка, его в этом убедило почему-то. Кто же? Стоп. А если…
Нет. Не может быть. Но – проверим.
Волгин вместе с креслом повернулся направо, к информатору, набрал нужный шифр. Информатор несколько секунд молчал, разбираясь, наверное, в самом свежем материале. Наконец отбарабанил деревянным голосом:
– В ближайшие дни прибытие кораблей Дальней разведки не ожидается.
Отбарабанил и умолк. Честный, ни на что не претендующий автомат, не какой-нибудь рамак!
А ведь и рамак тоже – железо железом.
Значит, цветы поставила не она. Еще их могли поставить сентиментальные флибустьеры Дальней разведки, но они их тоже не поставили, потому что еще не прибыли. Жаль, что не прибыли: поддержали бы в решающие дни. Словом, примем в качестве рабочей гипотезы, что цветы преподнес Витька. Начитался чего-нибудь трогательного, взял и преподнес. Да, что он там, Витька?
Волгин постарался выбросить цветы из головы, и лишь после этого вновь стал слышать голоса, звучавшие в соседней комнате. А вслушавшись, явственно ощутил, как лютая злоба подступает к самому горлу.
3
– Вот, – заканчивал в этот миг Витька. – Вот как мы это собираемся сделать. И вот для чего.
– Как, – задумчиво протянул гость, – мне понятно. И Волгину вновь почудилось, что где-то уже слышал он такую манеру растягивать слова в минуту задумчивости.
– А для чего – разве вам неясно?
Гость помолчал. Потом ответил:
– Тут могут быть сомнения.
Секундная пауза. И озадаченное Витькино:
– Да-а?
– Естественно. Потому что есть существа, которые настолько приспособлены к существованию в космосе и выполнению связанных с этим задач, что человеку до них всегда будет далеко. Есть ли смысл пытаться создать несовершенное их подобие?
Вот тут Волгин начал ощущать злобу, потому что почувствовал, о чем пойдет речь дальше.
– Это вы об этих? – нерешительно спросил Витька.
– О рамаках, конечно.
Волгин прямо физически почувствовал, как Витька замешкался. И не случайно: само имя рамаков у Волгина было под запретом.
– Ну да, – промямлил Витька наконец. – Ну да, я понимаю. Только… Они же все-таки не люди, правда?
– Правда, – сказал гость. – А что? Какая разница?
– По-моему, очень большая, – ответил оправившийся от легкого потрясения Витька. Люди и не люди – очень большая разница.
– Мы ведь не об этом говорим, – сказал гость. – А о том, что если, допустим, вам известна обстановка в работающем реакторе, то не потому, что там находятся люди, а как раз по той причине, что там размещены не люди.
Волгин сердито засопел. Но Витька и сам нашел ответ.
– Так там приборы. А рамаки – разве приборы?
– Не совсем, конечно… Но можно сказать и так: приборы – или аппараты, – обладающие суммой качеств, необходимых в той обстановке, в которой им придется работать.
– А разум – одно из этих качеств?
– Разум – одно из этих качеств.
Витька подумал.
– Но ведь приборы постоянно находятся под контролем человека. А рамаки, как только их выпустят, уйдут из-под этого контроля.
– Так и должно быть.
Волгин настороженно вслушался: гость ответил вроде бы убежденно, и все же не было в его голосе должной уверенности. Словно бы он и сам сомневался в собственных словах и оттачивал мнение, полемизируя с собеседником. Противника, правда, избрал не очень сильного. Но, по правде сказать, и не такого уж слабого.
– А если так и должно быть – что нам толку от этого? Зачем нужен в реакторе прибор, не дающий нам никаких сведений?
– Прибор не нужен, разумеется. Но ведь, скажем, современный реактор ведут автоматы. Они не сообщают нам о каждой мелочи, потому что справляются сами. Так и здесь.
– По-вашему, освоение Большого космоса – мелочь?
– Нет. Но это – процесс сложный, и многое зависит от того, что считать в нем главным. Само течение процесса – или наше в нем участие.
Говорит неглупо. И все же сам он не совершенно уверен. Нет.
– Для меня, – решительно сказал Витька, – именно участие человека – главное.
– Ну что же: с этим, быть может, многие согласятся. А многие нет. Как и почти всегда, тут трудно достичь полного единомыслия. Во всяком случае, пока вы разрабатывали методику и готовились к вашему эксперименту, другие создали рамаков и тоже подготовили их к решающему эксперименту. И если он удастся, я не вижу причины, которая помешала бы рамакам выйти в пространство и начать экспансию.
Витька пробормотал что-то неразборчивое.
– Посудите сами. Какими бы качествами, физическими и психическими, ни обладал бы человек, большая часть планет практически останется для него закрытой. Мы слишком хрупки и привередливы. Нам подавай температуру – в узких пределах, атмосферу – строго определенного состава, напряжение гравитации – от и до, интенсивность ультрафиолетового излучения – не более известного уровня, и так далее, и тому подобное. Нам подавай продолжительность полета опять-таки не дольше известной величины, да к тому же еще и коллектив – человек, оставшийся на чужой планете в одиночестве, гибнет, – да к тому же и комплекс орудий, приборов, машин, без которых человек беспомощен, и еще – мощную биологическую защиту, препятствующую болезнетворным бактериям и вирусам расправиться с нами в два счета; а если все эти условия соблюдены – что бывает в крайне редких случаях, – вступает в действие новая группа факторов…
Шпарит, как по писаному. Вот в этом всем он уверен, чувствуется по тону. Вроде бы не сторонник рамаков. Но – склоняющийся. А кто бы это мог быть? Откуда? До сих пор любопытствующие тут лекций не читали. А этот не испугался. Но если он чересчур разойдется, придется выйти и прервать. Иначе парень начнет сомневаться. А именно в эти дни сомнения страшнее всего. Но надо слушать.
– …Потому что люди неизбежно образуют общество. Общество не только разумных, но и эмоциональных индивидуумов. Для того чтобы оказаться устойчивым, общество это, в свою очередь, должно обладать необходимым минимумом качеств, что не всегда удается обеспечить. Качеств, начиная с личности руководителя – или руководителей – и кончая… Кончая…
Тут гость запнулся. Волгин чуть усмехнулся: кончая численным соотношением представителей обоих полов – вот что хотел сказать посетитель, но вовремя спохватился: вспомнил, что разговаривает с мальчишкой, чей возраст еще не позволит оценить всю важность этого обстоятельства. Ну, ну?
– …Кончая еще сотней условий, над соблюдением которых в поте лица работают психологи, социологи, физиологи, инженеры – и далеко не всегда достигают цели.
Что же, завершил достойно. Только, любезный просветитель юношества, ты не учитываешь одного: что мы как раз и работаем над тем, чтобы обеспечить устойчивость такого общества – даже если оно будет состоять всего из двух человек. Большинство несчастий происходит оттого, что человек – исследователь и космический колонизатор – не чувствует себя дома на чужой, необитаемой планете – а обитаемых нам не попадалось, да их и колонизировать, разумеется, никто не стал бы. Он переживает, он тоскует, как бы ни уходил в работу, – а память о Земле висит над ним и гнетет, а исчезнет она лишь в следующем поколении. Это на планете; что же говорить об открытом космосе, где так подолгу приходится жить в тесной коробке корабля, выход из которой приносит не облегчение, а лишь новое напряжение. Но мы сделаем, обязательно сделаем так, что человек будет считать и корабль, и даже скафандр своим настоящим домом, а новую планету – землей обетованной, а себя самого – предназначенным именно для выполнения задач по обнаружению и приспособлению планет для жизни. Такие люди и обеспечат нам проникновение в космос. Нет, уважаемый лектор, ты, видимо, все же теоретик – один из тех, кто постигает мироздание по бумагам, а поездку на Лунные станции считает космическим путешествием. Вот если бы ты хоть разок побывал в Дальней разведке – сразу понял бы, что к чему, и какие в космосе бывают люди… А что он там еще рассуждает?
Волгин приставил к уху ладонь: человек, видимо, устал и теперь говорил тише.
– …Кристаллический мозг, манипуляторы, диагравионный двигатель и устройства для преобразования энергии. Вот и все. Как видите, рамак – сам себе корабль, силовая станция, мастерская и – главное – сам себе разум. Так что из тех человеческих слабостей, которые мы тут с вами перечисляли, он не обладает практически ни одной. А разум у него не слабее нашего. Сильнее, пожалуй. Кроме того, эмоциями он не обладает, полом – тоже, а воспроизводится путем создания себе подобных из имеющихся вокруг материалов. И вот получается, что если из ста планет для нас пригодна одна, то для рамака – девяносто девять. И если даже он попадает на планету один как перст – все равно он начнет воспроизводиться, и через краткий срок рамаки заселят планету и начнут приводить ее в порядок.
Тут Витька наконец подал голос.
– В порядок – для нас?
Человек замялся.
– Не обязательно. Вообще – в порядок. Станут поднимать ее на новый уровень. Это, по-видимому, неизбежный этап в эволюции Вселенной. И главную часть этой работы рамаки способны выполнить куда лучше нас.
Ну и нахал, подумал Волгин. Каков нахал! Приходит прямо ко мне в лабораторию – и начинает проповедовать рамакизм! Нет, кажется, пора положить этому конец. Выйти и сказать: эй, вы…
Волгин поморщился и вздохнул. Нет, не стоит. Ввязаться сейчас в спор – значит бесповоротно испортить себе настроение на весь день – и хорошо еще, если только на один день. Какое-то невезение сегодня: сначала – это свидание с рамаком, первая попытка увидеть противника в натуральную величину, а теперь и этот гость, дилетант какой-нибудь, торопящийся, как и всякий дилетант, блеснуть крохами весьма поверхностных знаний перед первым попавшимся слушателем. А Витька, конечно, не искушен в дискуссиях… Нет, выходить не стоит. Спорить и опровергать будем не таким образом. Проведем эксперимент. Объявим. И скажем: пока не будет ясен результат, от операций с рамаками следует воздержаться, какие бы блестящие результаты ни дало их испытание. Ждать придется лет двадцать; что же, нас это устраивает. Надо набраться терпения…
Терпения Волгину как раз никогда и не хватало. Он протянул руку к интеркому, нажал нужную клавишу.
– Ну, как со столом?
Виноватый голос пробормотал что-то в ответ.
– То есть как это – не опробован? В таком случае работать будете вы сами – на собачьем столе. Ах, не будете? А я вас заставлю! – Брови Волгина столкнулись на переносице, вертикальная морщина перечеркнула лоб, и он пожалел, что нельзя говорить в полный голос: услышат в лаборатории. – Нет, ничего не желаю знать. А почему же вы эту следящую автоматику не получили? Мало ли – не дают… Должны были предупредить меня еще вчера. Только сегодня? Все равно вы должны были знать еще вчера. По голосу надо чувствовать: если они вчера обещали, а сегодня не дали, то они и вчера уже не были уверены, а это следует чувствовать по голосу. Ну довольно: сейчас иду к вам. Все.
Волгин нажал выключатель, экран погас. Придется идти. Нельзя медлить: не что-нибудь, а сама история человечества, кажется, входит в крутой поворот и даже, как и всегда на поворотах, слегка накреняется при этом. Усилия всего института слились в одном русле, и вот завтра…
А этот все говорит? Вот неиссякаемый источник! Что он?
– …Но даже если их будет много, это не явится обществом в нашем понимании этого слова. Так что и такого рода случайности исключены. Вот как обстоит дело с рамаками… Ну, спасибо за беседу, мой мальчик. А Волгина, очевидно, я так и не дождусь.
– Он, – обиженно сказал Витька, – все равно с вами не согласился бы.
– Не сомневаюсь. Но я хотел просто навестить его. Воспоминания, воспоминания… нежные мелодии юности. Как-никак, мы с ним съели вместе не один килограмм стимулятора. Ну, друг мой, дэ-дэ.
– Что?..
Но дверь – было слышно – затворилась. Волгин с опозданием выскочил из-за стола, остановился посреди комнаты, опустил руки. Неужели ему не почудилось, и такой голос когда-то был в его жизни?
Несколько секунд он напрягал память. Да нет же, нет. Не было. Но иногда в голосе что-то проскальзывало, и вот это «что-то» определенно было. Но когда, где? Что упущено, что забыто?
– Дэ-дэ? – едва слышно спросил он. – Дэ-дэ? Неужели? Но я ведь помню всех отлично. Все лица, все голоса. Кто?
Он на миг закрыл глаза. Потом решительно тряхнул головой, пожал плечами.
– Не все ли равно? Узнаю днем позже. Сейчас главное – проклятый стол!
И решительно направился в опустевшую лабораторию.
4
– Нет, – сухо сказал Волгин. – Я жалею, что доверил вам такую важную отрасль, как обеспечение.
– Но ведь вчера они и в самом деле собирались дать нам. Однако сегодня следящая автоматика понадобилась рамакистам…
– Что-о? И вы…
– Да не я: они. Автоматика была запланирована и для нас, и для них.
– Для нас – в первую очередь.
– Теперь положение изменилось. Представители Звездного флота прибыли раньше, чем предполагалось. У них мало времени, и рамакистам приходится проводить все испытания по уплотненной программе. Автоматика нужна им только сегодня, на предварительных показах на полигоне. Испытания в присутствии представителей будут проводиться без автоматического слежения – так, как это будет происходить в рабочей обстановке.
– Программу рамакистов вы могли бы мне не разъяснять, – сердито сказал Волгин. – Она меня не интересует. Одним словом, следящую вы проспали. Когда же они вернут?
– Завтра.
– А мне нужно сегодня. Вечером назначена прикидка, испытание всего комплекса приборов, всей аппаратуры. Когда у них показы – днем?
Обеспечитель торопливо кивнул.
– Хорошо. Поезжайте и заберите автоматику сразу же после того, как они закончат. Потом…
Взглянув в кислое лицо собеседника, Волгин не закончил фразы и махнул рукой.
– Ладно, сидите здесь. Поеду сам. Уж мне-то пусть попробуют не отдать! Витя!
Он огляделся. Ах да, Витька куда-то исчез вслед за этим гостем. Придется ехать одному. Откровенно говоря, не очень хочется: на полигоне кто-то из домика наблюдал, как он объяснялся с рамаком. Если его узнали – а это весьма вероятно, – будет неловко.
Пришлось подогревать себя мыслями о том, что забирать чужую автоматику еще менее прилично. Кстати, здесь в остальном все в порядке. Разве что еще поговорить с психофизиками, настроить себя для теплого собеседования с рамакистами. Волгин подошел к аппарату.
– Психофизики? Приветствую вас и желаю хорошего настроения. И не только вам. К приему человека вы готовы? Как-никак, это женщина, и переживает, конечно, основательно. Так что не пренебрегайте ничем. Цветы там, музыка, что еще? Если она, идя на стол, не будет бодрой, не будет лучиться радостью – заранее вам не завидую. Если вам ясно, у меня все.
Вот теперь он как будто снова обрел расположение духа. Хотя – уже в третий раз за сегодня, нет, в четвертый – предстояло столкнуться с вариациями на тему рамаков, на сей раз Волгину предстояло выступить в привычной роли официального соперника, и это приводило его в хорошее настроение.
В таком настроении он и влез в аграплан и бесшумно взлетел. Быстро кончился лес, в котором помещался институт, потянулись зеленые луга, испещренные кустами. Волгин негромко напевал какую-то, нечаянно вспомнившуюся мелодию. Одну из песенок Дальней разведки – тех, которые сочинялись и распевались в таких местах, где было, вроде бы, совсем не до песен. Потом он замолчал: вдалеке показался знакомый забор. Волгин поморщился: а что, если его все-таки видели? Несолидно. Неприятно. Хотя…
Тут он хитро подмигнул сам себе: сейчас-то у него есть все основания приземлиться около лабораторного корпуса полигона, но он этого не сделает. Он оставит машину под тем же деревом, что и с утра, и точно так же преодолеет забор напротив белого домика, предназначенного вообще-то для гостей полигона. Потом пойдет, не скрываясь, к центру. Поскольку прилетел он по делу, то в крайнем случае не стыдно будет признаться и в том, что утром он был здесь: тоже, мол, хотел зайти по делу, но встретил рамака – и расхотел, а вот теперь, будьте любезны, возвращайте поскорее автоматику: мы не с железом работаем, нам ждать некогда.
Он так и сделал; диагравионный микродвигатель послушно перенес его через забор, по-прежнему невозмутимо и нагло возвышавшийся среди долины. Оказавшись в пределах полигона, Волгин не стал пригибаться и оглядываться; наоборот, он внешне беззаботно и даже с некоторой лихостью размахивая руками, зашагал туда, где – километрах в полутора – купа высоких деревьев скрывала лабораторный корпус, в котором помещалось и все руководство этой грязной работой, как Волгин про себя – а иногда и не только про себя – называл производство рамаков. Правда, здесь их только монтировали, создание же отдельных узлов и механизмов было делом слишком сложным для того, чтобы им можно было заниматься в условиях полигона.
Он не встретил ни одного рамака, и, по правде говоря, ничуть не пожалел об этом; наоборот, он и не ожидал их встретить, потому что теперь, во время предварительных испытаний, все они должны были находиться где-то в центре. Конечно, если бы такая встреча и произошла, Волгин не подвергся бы никакой опасности, как не подвергался ей утром: рамаки – это было известно – по отношению к людям держались вежливо, никаких агрессивных намерений не проявляли, и вовсе не потому, что уважение к человеку было в них запрограммировано, а потому, что они были разумны; разум же, кстати, имеет свойство противиться навязываемым программам. Но все равно, Волгин не хотел встречаться с ними; он испытывал по отношению к этим сложнейшим созданиям техники и интуиции чувство брезгливости и некоторого возмущения. Мы часто умиляемся разными мелочами, если существо – объект умиления – занимает по отношению к нам подчиненное положение, как например, собака или автоматическое устройство. Но если бы вам пришлось даже не подчиняться, а хотя бы сотрудничать с собакой и автоматом на равных условиях не в той области, где вы и так признаете их превосходство – в области отыскания запахов или, скажем, точной обработки металла, – а во всех областях, то умиление моментально уступило бы место досаде, озлоблению и нежеланию устанавливать контакты с вынужденными партнерами. Поскольку же рамаки внешне напоминали роботов куда больше, чем людей, то отношение Волгина к ним именно таким и было. Во всяком случае, так он объяснял это другим, а порой – и себе, хотя настоящая причина, по-видимому, крылась не в этом.
Волгин медленно приблизился к белому домику для гостей. На этот раз никто не вышел на крыльцо, никто не стал разглядывать нарушителя ни в бинокль, ни простым глазом. Но домик был обитаем, и прибывший на полигон гость, видимо, не принадлежал к людям аккуратным: пустая дорожная сумка валялась около крыльца. Волгин подошел, любопытствуя; сердце забилось сильнее, и он вздохнул с сожалением: такие сумки раньше были только в Дальней разведке, он и сам сохранил такую с тех сказочных времен, когда о делах Дальней Волгин узнавал без помощи кабинетного информатора. Теперь, верно, каждый, кому охота, мог обзавестись этой сумкой, может быть, они даже вошли в моду, а раньше достаточно было увидеть у человека такой предмет, чтобы безошибочно признать в нем своего. Волгин пожал плечами, неодобрительно покачал головой; но задерживаться здесь было некогда, время шло, а сегодня предстояло сделать еще очень многое.
Он достиг лабораторного корпуса. Здесь царило оживление, сотрудники готовились к испытанию, несли какие-то приборы, стереотрубы, портативные радиостанции, все это укладывалось на невысокую платформу, которая, видимо, должна была доставить все необходимое в ту точку полигона, где будет происходить испытание – предварительное испытание, только для своих. Волгина никто не остановил, никто не спросил ни о чем; наверное, полагали, что и он приглашен на испытания, хотя кое-кто из рамакистов наверняка узнал его: он заметил искоса брошенные на него взгляды. Он поднялся на третий этаж, где помещался руководитель проекта. Кабинет был пуст, киберсекретарь пробубнил, что руководитель в точке испытаний. Волгин торопливо спустился и успел вскочить на платформу в последний момент. Снова никто не сказал ни слова, просто посторонились и дали ему место.
Платформа плавно поднялась; полет продолжался минут пять, не больше – полигон, в сущности, был не столь уж велик. Там, где они приземлились, не было никаких строений, только глубокий, в рост человека, ров, облицованный пластиком и прикрытый пластиковым же козырьком, над которым торчали лишь рога перископов. Рамакисты разбежались в разные стороны, унося приборы; Волгин пытался разыскать взглядом аппараты следящей автоматики, но это ему не удалось, потому что почти сразу он увидел около спуска в траншею длинную фигуру Корна, руководителя проекта «Рамак», и торопливо направился к нему.
Вряд ли Корн был приятно изумлен, увидев Волгина, однако виду не подал; невозмутимость и вежливость его были известны повсюду. Официально улыбаясь, он сделал шаг навстречу.
– По-видимому, мои сотрудники исправили оплошность своего руководителя и направили вам приглашение, – своим обычным ровным голосом произнес Корн. – Сам я, откровенно говоря, этого не делал.
– Не волнуйтесь, – сказал Волгин сухо; часть неприязни, испытываемой к рамакам, он бессознательно перенес и на их создателя. – Я по делу, и всего на несколько минут. Следящая автоматика, которую вы захватили на базе, – наша; и у нас не так много времени, чтобы по вашей милости переносить запланированные эксперименты.
Он внутренне поморщился: получилось грубовато, но иначе не удалось сформулировать мысль.
– Очень сожалею, доктор Волгин, – сказал Корн и наклонил голову в знак извинения. – Могу сказать лишь, что настоящий виновник – не мы: Звездный флот сократил сроки на несколько дней, и мы оказались вынужденными…
– Ладно, – сказал Волгин. – Это все я знаю. Меня интересует, когда вы вернете аппаратуру. Мне она будет нужна…
Он хотел сказать «через час-два», но удержался и назвал настоящий срок:
– Будет нужна сегодня вечером.
– Разумеется, вы ее получите. Собственно, сразу же после испытания надобность в ней минует, и вы…
Корн запнулся, но вежливость предписывала закончить мысль.
– Вы смогли бы сразу же забрать ее, если… если на ближайший час у вас намечены какие-то дела поблизости.
Волгин мысленно усмехнулся.
– Нет, доктор Корн, – сказал он. – Поскольку никаких дел у меня не запланировано, я с удовольствием проведу этот час здесь.
Корн нерешительно кашлянул; видимо, вежливость боролась в нем с неприязнью.
– Хорошо, я буду очень рад. Хотя, откровенно говоря, до сих пор не предполагал, что вы принадлежите к числу сторонников нашего проекта.
– Разумеется, нет, – откровенно ответил Волгин. – Но ведь делаем-то мы одно дело.
– Итак, решено. А сейчас прошу извинить меня, необходимость уточнить план испытания вынуждает нас…
– Ну, само собой, – сказал Волгин. – Я постою здесь.
Ладно, подумал он, сейчас мы посмотрим на твоих питомцев в работе. Может быть, и не так убедительно они выглядят и я зря тороплюсь. Может быть, из этой затеи вообще ничего не получится.
Корн повернулся.
– Вызовите руководителя проверки.
Взгляды окружающих обратились в ту сторону, откуда, видимо, и должен был появиться руководитель испытания. Там было только несколько густо разросшихся кустов. В следующий миг руководитель испытания показался из чащи, и Волгин почувствовал, как мгновенное головокружение пошатнуло его, потому что этот руководитель был рамак.
Он приблизился, плывя в воздухе на расстоянии нескольких сантиметров от земли и повис рядом с Корном. Кольца медленно раздвинулись; их движение окончилось в тот момент, когда полукруглая башенка рамака оказалась на уровне лица Корна.
– Здравствуйте, руководитель, – сказал Корн.
– Здравствуйте, доктор Корн.
Голос был мелодичен, слова неторопливы, и странным казалось, что они исходят не из человеческого рта, а из отверстия в башенке, забранного частой металлической сеткой.
– Итак, у вас все готово?
– Мы всегда готовы, доктор.
– Вы ведь помните сегодняшнюю программу: действия вашей группы, работающей в контакте с группой людей, и второй этап – демонстрация воспроизводства.
– Мы будем выполнять действия первого этапа, доктор Корн.
«Ну и что? – подумал Волгин. – Ничего особенного. Такие ответы может давать и робот. И таким же голосом. Пока еще мне не страшно».
– Я надеюсь, и второго тоже?
– Со вторым возникли некоторые осложнения.
Корн покосился в сторону Волгина, однако ничем другим не выдал замешательства.
– С воспроизводством?
– Впрочем, быть может, все уладится. Мы не хотели бы доставлять неприятности кому-либо из вас. Я поставлю вас в известность несколько позже.
Второй Корн. Ей-богу, второй Корн. Хотя – естественно: он же их воспитывал. У меня они разговаривали бы по-другому. И будут. Но не они, а люди, вот как.
– Какие-нибудь технические неполадки?
– Что вы, доктор Корн. Нет, некоторые затруднения общественного порядка.
– Общественного?
– Разве мы – не общество, доктор? Вопросы равенства сейчас очень интересуют нас. Но было бы слишком долго излагать их, учитывая крайне низкий темп усвоения информации людьми. Я полагаю, мы начнем.
– Пожалуйста, пожалуйста, – торопливо проговорил Корн.
Странно, подумал Волгин. Неполадки. Конечно, можно бы этому и порадоваться. Но это не роботы, нет, Они живут своей жизнью. Я и не представлял, что это так выглядит… Ну, посмотрим, что они сейчас начнут вытворять…
Тем временем рамак отплыл метров на двадцать. Остановился. И затем началось испытание.
5
Они свалились откуда-то сверху; быть может, все время, пока шла подготовка, рамаки, снабженные диагравионными двигателями, парили где то на неразличимой высоте. Очевидно, это должно было означать, что они прибыли из космоса; глядя на них, в это можно было поверить.
Над самой землей они стремительно замедляли падение и повисали в нескольких сантиметрах над поверхностью планеты. Ни один аппарат, управляемый человеком, не мог бы развивать таких ускорений: пилот не выдержал бы перегрузки. Но рамаки не боялись перегрузок.
Считанные мгновения они висели неподвижно. Широко раскрыв глаза, Волгин смотрел на эту жизнь, которая, будучи однажды создана человеком, сконструирована и изготовлена на его рабочих столах и станках, успела уже стать естественной, живя и даже размножаясь в естественной среде, без какой-либо помощи со стороны своих создателей. Но никаких особенных подробностей разглядеть не удалось, потому что почти сразу же рамаки сдвинулись с места и приступили к выполнению задачи.
Темные, покрытые матовым веществом тела двигались бы совершенно бесшумно, если бы не едва слышное шипение диагравионного разряда в атмосфере. Сначала их движение казалось беспорядочным, как суетня молекул газа. Они сближались, временами останавливались, собирались по двое или сразу по нескольку и, продержавшись две-три секунды вместе, вновь плыли в разные стороны, чтобы через мгновение соединиться уже с другими, образовав на миг новую фигуру. Иногда тот или другой рамак, отделившись от основной группы, отплывал в сторону, опускался на землю, втягивал кольца и замирал, затем вновь раздвигался и включался в общее движение. Они не обменивались ни единым звуком, и от этого картина непонятного танца становилась еще более жуткой.
Сам того не сознавая, Волгин приблизился к Корну и взял его за локоть.
– Что это значит? – спросил он шепотом.
– Этого мы не знаем, – едва слышно ответил Корн. – Не забудьте, что они работают не по программе. Мы не знаем, что они думают и как будут действовать через секунду. Единственное, чего мы просим, это достижения определенных результатов. Поэта можно попросить написать стихи, но нельзя предписывать ему, как это сделать.
Волгин удивленно покосился на Корна: сопоставление было из той области, в которую он погружался не часто.
– Так что – абсолютная загадка?
– Некоторые предположения есть… Эта группа составлена из рамаков, до сего времени не работавших и не живших вместе. Возможно, здесь происходит образование рабочих ячеек… бригад, если угодно. Но это – предположения…
– Вы не пытались узнать?
– Они не любят говорить на эту тему… Но смотрите, смотрите: они начинают!
И в самом деле, беспорядочное движение прекратилось. Рамаки окончательно разбились на несколько групп по три-четыре в каждой. Кроме того, пять фигур отдалились в стороны, образовав правильный пятиугольник, внутри которого оказались остальные.
– У них абсолютное геометрическое чутье, – прошептал Корн. – Это мы наблюдали уже не раз.
Оказавшиеся в вершинах пятиугольника рамаки втянули кольца и опустились на землю. Через миг они снова раздвинулись до предельной высоты; из башенок выдвинулись короткие, толстые антенны, на концах их раскрылись решетчатые рефлекторы. Вслед за тем такие же антенны расцвели и над остальными башенками и зашевелились, словно нащупывая друг друга.
– По-видимому, налаживается энергетический обмен, – негромко пояснил Корн. – Эти, по периметру, будут поставлять дополнительную энергию, если отдельные действия окажутся не под силу кому-либо из остальных.
– Взаимопомощь по принципу муравейника?
Корн отрицательно покачал головой.
– По принципу людей, доктор Волгин. Не ниже. Но спустимся в укрытие: пора, я полагаю.
Волгин огляделся, и увидел, что остальные присутствовавшие уже укрылись в траншее. Он торопливо последовал за руководителем проекта: от рамаков наверняка можно было ожидать чего угодно.
Словно именно присутствие людей на поверхности мешало им работать, рамаки сразу же принялись за дело. Из колец выдвинулись манипуляторы; у каждого рамака их было шесть. Волгин заметил, что манипуляторы разделялись на три группы; одни были покороче и потолще, другие – тонкие, длинные, гибкие. В следующий миг Волгин зажмурился: казалось, загорелась земля – вспыхнуло пламя, повалил дым. Когда он рассеялся, оказалось, что пятиугольная площадка покрыта блестящим, твердым на взгляд слоем какого-то вещества, воздух над ней дрожал, словно над раскаленной солнцем землей.
– Стартовая площадка? – спросил он.
– Нет, платформа для строительства станции. По договоренности с ними, подразумевается, что среда планеты враждебна для человека.
– Гм, – кашлянул Волгин. Среда такая, конечно, бывает, но до сих пор и на такие планеты разведчики высаживались без посторонней помощи. Так что – стоит ли игра свеч?
– Да, высаживались. Но сколько из высадившихся никогда больше не приняло участия в стартах? Не слишком ли дорогая цена?
– Конечно, но многое в человеческой деятельности связано с риском. И человек идет на этот риск вовсе не потому, что его кто-то заставляет. Он идет по своей внутренней потребности, потому, что иначе не может. Зачем же ему отдавать свое дело другим, которые ко всему тому даже не люди?
Но собрать все мысли и впечатления воедино можно будет и позже. Сейчас, раз уж удалось попасть на испытание, надо смотреть и наблюдать, и запоминать, чтобы потом оценить – насколько же серьезный конкурент появился в космосе. Кстати, что они там успели?
Волгин приник к окуляру перископа. По краям площадки уже поднималось несколько ажурных мачт. Откуда взялись детали для них? Неужели их подвезли в те краткие секунды, пока Волгин не смотрел в перископ? Или… они создали их на месте? Из чего же? За пределами площадки – какие-то черные кучи, несколько рамаков возятся около них. Что они, в самом деле плавят металл на месте? Здесь нет никаких руд… Или это не металл? Что-то на кремниевой основе? Может быть. Во всяком случае, такого материала до сих пор, насколько известно, в строительстве не применялось…
Он повернулся к Корну; доктор пожал плечами.
– Мы не знаем, что это. Потом попытаемся исследовать. Рамаки ведь решают на месте, что и как делать. И о материалах, и о конструкциях…
– Вы хотите сказать, что эта конструкция станции им наперед не задана?
– Конечно, нет. В космическом разнообразии, как вы знаете, типовые проекты неприменимы. Рамаки знают, какие функции должна выполнять станция, предназначенная для людей. Остальное они решают сами. Доктор Волгин, после испытания я с удовольствием расскажу вам все, что знаю по этому вопросу, но сейчас я хотел бы наблюдать…
– Извините, – пробормотал Волгин и умолк.
Что типовые проекты не годятся, это он и сам знал. Но так, сразу – без разработки, без создания модели…
– Они у вас – великолепные инженеры, – не удержался он. Корн тяжело вздохнул, но все же ответил:
– Разумеется, доктор Волгин. Но примите во внимание мощность их кристаллического мозга и его быстродействие. Уверяю вас, в переводе на наш масштаб, они затратили на проект не меньше времени, чем понадобилось бы нашему проектному отделу того же профиля. Разумеется, чтобы выиграть время, мы пользуемся определенными стандартами. Рамаки же в этом не нуждаются.
– В таком случае, завидую конструктору их мозга.
Корн удивленно взглянул на Волгина.
– Кристаллический мозг не конструируется – он выращивается. Это было открытие, не изобретение. Я полагал, что столь элементарные истины вам известны.
– Да, – пробормотал Волгин. – Что-то я, конечно, слышал…
Может быть, и действительно слышал. Но какое дело до кристаллического мозга тому, кто занят мозгом живым? Но что-то и впрямь было. Об этом сообщали. Ага! Кристаллы эти, к сожалению, не растут больше определенного размера, а способа их соединения найти не удалось. Поэтому для создания больших машин они оказались непригодными, и тогда-то и возник этот проклятый проект «Рамак».
Он снова уткнулся в перископ. Теперь на мачтах уже повис купол, сделанный, по-видимому, из того же материала. Рамаки, вися в воздухе, устанавливали пластины, из которых складывались стены. Вспыхивали огни сварки.
– Во взрывчатой среде они не очень бы… – пробормотал он. Корн услышал.
– Там они нашли бы иной способ. Изготовили бы клей, – буркнул он, не отрываясь от окуляра.
Работа шла к концу, и стало ясно, что ничего непредвиденного не произойдет. Действительно, примерно через полчаса здание станции оказалось законченным. Первая фаза испытания завершилась. Оживленно переговариваясь, работники полигона высыпали из укрытия на поверхность.
– Ну, что же, доктор, – сказал Волгин. – Должен вас поздравить. Вы сделали неплохую вещь.
– Не вещь, – сказал Корн. – И делали их не мы. Этих.
– Кто же?
– Был сделан всего один. Это – уже второе поколение.
– Дети?
– Если угодно. Но простите…
Корн повернулся к руководителю проверки.
– Все получилось великолепно.
– Задача была не особенно сложна.
– А как со вторым этапом? Вы не сможете?
– Я полагаю, что мы сможем, – сказал рамак; Волгина передернуло от этой правильности и непринужденности его речи: нет, это не был убогий, раз и навсегда затверженный язык роботов, но тем неестественнее он казался. – Мы сможем, если вы согласитесь подождать около получаса.
– Разумеется, – сказал доктор Корн.
Руководитель проверки отплыл. Затем шуршание диагравионных двигателей усилилось, группа поднялась в воздух, стремительно набирая скорость.
– Куда они?
– Обычно они опускаются где-то здесь, на полигоне. Где точно, мы не знаем: мы не старались их выследить.
«Я знаю», – подумал Волгин, но вместо этого сказал:
– А если бы их задачей была не подготовка места для людей, а самостоятельные действия?
– Не знаю, что бы они стали делать. Не станцию, во всяком случае: она им не нужна. Они стали бы приспосабливать планету к своим нуждам.
– Допустим. А что получили бы от этого мы?
– В галактике стало бы одной разумной планетой больше. Доктор Волгин, я полагаю, что теперь могу возвратить вам вашу аппаратуру. Она нам более не потребуется.
– Сердечно благодарен, – сказал Волгин. – В таком случае распорядитесь, чтобы ее отправили прямо в институт. Или нет: за вашей оградой, в той стороне, стоит мой аграплан. Перенесите туда, этого будет достаточно.
Корн отдал распоряжение. Потом вновь повернулся к Волгину.
– Итак, зрелище вас не убедило?
– Зрелище было внушительным. И поучительным. Но что значит – убедить меня? Заставить меня признать, что человек свое отлетал – это вы имеете в виду?
– Не знаю, – сказал доктор Корн. – Как вы понимаете, я не ставил своей задачей лишить человека крыльев. Отнюдь. Но я осуществил этот проект потому, что назрели условия для его осуществления. Был открыт кристаллический мозг. А рамак оказался наилучшим вариантом его использования. Если человек может что-то создать, он создает. Вот и все.
– Порой мне кажется, – сказал Волгин, – что это – наихудшая из самых плохих его черт. Этого самого человека.
Он поклонился, стараясь, чтобы это получилось как можно вежливее.
– Возможно, – ответил Корн. – Но человека защищаете вы, а не я. Защита человечества во всех условиях и при всех обстоятельствах – вряд ли черта более приятная.
Он поклонился, в свою очередь, очень вежливо.
Волгин повернулся и направился той же дорогой, по которой пришел сюда.
6
Погруженный в размышления, Волгин миновал домик для приезжающих. В голове теснилось множество мыслей, но над всеми преобладала одна: судя по тому, что он только что видел, рамаки – не шутка, и не попытка с негодными средствами. Это действительно разумная машина, и действительно она предназначена для космоса. Поэтому Волгин должен выполнить свою работу как можно скорее и как можно лучше. Рамаки будут чувствовать себя в космосе как дома, человек и до сего времени там всего лишь пришелец. До тех пор, пока он из сына Земли не превратится в сына галактики, освоение Большого космоса будет идти черепашьими темпами. А так быть не должно. Пора выйти в галактические просторы по-настоящему.
Итак, нужная аппаратура получена. Сегодня днем – через два с небольшим часа – прилетит та женщина, ребенок которой станет первым гражданином Вселенной. Завтра произойдет эксперимент. Даже не эксперимент это будет, а начало новой эпохи: галактической эпохи.
Сегодня и завтра – решающие дни. Надо надеяться, что ничто не помешает. Формальная сторона вопроса в порядке: необходимые согласия и разрешения всех научных и общественных инстанций у него есть, согласие женщины – тоже. Правда, до начала массового воздействия пройдет еще два десятка лет – пока окончательно не выяснится, во что вылился первый опыт. Но что такое – два десятка лет, если речь идет о галактических… Проклятие!
Он поднялся с земли, недовольно ворча нечто в свой собственный адрес: нельзя же до такой степени уходить в свои мысли, чтобы не заметить валяющегося на пути камня. Волгин, Волгин, где твои рефлексы Дальнего разведчика? Когда-то тебе было достаточно однажды пройти, чтобы потом безо всякого усилия помнить каждое препятствие на дороге, миновать его даже без участия рассудка. А теперь…
Но, черт бы побрал, этого препятствия на пути не было! И это вовсе не камень!
Волгин понял это, как только нагнулся, чтобы отряхнуть колени. Это был не камень, а рамак.
Втянув свои кольца, он лежал в траве, словно греясь на солнце. Можно было подумать, что он спит, но Волгин понял, что это не так: рамаки не нуждались во сне или иной форме отдыха, а батареи, преобразовывавшие свет, тепло и энергию гравитации в электрический ток, были настолько чувствительны, что не могло быть и речи о том, что рамак остался без энергии в этот летний день. Он сам не знал, откуда взялись у него эти сведения; вероятно, кто-то говорил по соседству, а он услышал и бессознательно запомнил: нельзя провести час с лишним в мире рамаков и их создателей и не набраться разных мудростей. Так в чем же здесь дело? Почему рамак не только разрешает человеку споткнуться о себя, но даже и после этого не вступает в разговор – хотя бы для того, чтобы извиниться или посочувствовать? Что-то тут не так…
Он нерешительно переступил с ноги на ногу, потом устыдился этой нерешительности.
– Эй! – окликнул он негромко. – Эй, рамак!
Ответом было молчание. Волгин огляделся, как бы в надежде найти кого-то, кто помог бы разобраться в этом. И увидел, что еще три рамака лежат невдалеке, точно так же не подавая никаких признаков жизни.
– Послушайте, – сказал Волгин, присаживаясь на корточки. – Вы меня слышите?
Он подождал, но безуспешно. Тогда он дотронулся пальцем до шероховатой поверхности солнечных элементов, покрывавших кольцо извне. Он сделал это осторожно, опасаясь, что его поразит разряд. Однако ничего не произошло. Голубоватые объективы, расположенные в верхней части башенки, продолжали смотреть каждый в свою сторону. В объективе Волгин увидел свое отражение. Ему стало не по себе.
Он встал и отошел на несколько шагов. Затем вернулся.
– Эй! – закричал он что было сил.
Тишина зазвенела, и это было все.
Тогда Волгин нагнулся и ухватился за диагравионную антенну, виток которой обнимал нижнюю часть кольца. Поднатужившись, он приподнял рамака с одной стороны. Рамак оказался тяжелым. На действия человека он никак не реагировал. После нескольких попыток Волгину удалось перевернуть массивное создание.
Он заглянул внутрь, в кольцо. Там была странная путаница чего-то. Жгуты и ленты, во всех направлениях извивающиеся, переплетающиеся и расходящиеся внутри сложенного корпуса рамака, трудно было назвать деталями, хотя и органами их никто не именовал бы. Они были сделаны из вещества, напоминавшего пластик, но когда Волгин дотронулся до одной широкой, плотной ленты, служившей как бы соединительным звеном между двумя кольцами, лента зазвенела, как будто была металлической.
Волгин пожал плечами. Он все-таки чересчур мало узнал о рамаках, чтобы объяснить их пассивность в данном случае.
Он уже хотел встать и продолжить свой путь, когда что-то светлое, поблескивавшее в глубине, под лентами и жгутами, привлекло его внимание. Волгин вгляделся, затенив глаза ладонью.
Вначале ему показалось, что в глубине корпуса рамака лежит большое яблоко, размером без малого в человеческую голову. Такие яблоки он видел однажды во сне. Яблоко было окружено прозрачной пленкой, в которой, кроме него, ничего не было, только блестели капли жидкости.
Всмотревшись, Волгин убедился в том, что это, разумеется, не было яблоком. Но это был тоже шар, полупрозрачный шар бело-зеленой окраски. Это мог быть только кристаллический мозг.
Когда Волгин понял это, его охватило чувство, как будто он увидел что-то интимное, запретное, что не должен был видеть. На самом деле так оно и было. Все же он продолжал смотреть дальше. Чуть в стороне, там, где ленты, выгибаясь, образовывали пустое пространство, оказалось второе такое же образование. Оно было маленьким, не более кулака. Волгин понял, что здесь кристаллизовался второй мозг; и поскольку рамак вряд ли нуждался в дополнительном мозге, вывод мог быть только один: второй мозг в дальнейшем должен был стать основой нового рамака. По-видимому, мозг был единственным органом, возникавшим в родительском теле; остальное уже не выращивалось, а изготовлялось. Догадка была интересна, но она не помогла понять, почему же рамак не подает признаков жизни. Его можно было бы счесть мертвым, но Волгин не был уверен в том, что рамаки умирают.
Он покачал головой и тут же, спохватившись, взглянул на часы: времени оставалось немного, рейсовый дирижабль придет по расписанию, и женщина, которой предстоит сыграть одну из основных ролей в завтрашнем эксперименте, прилетит именно на нем. В конце концов, заботиться о благополучии рамаков – вовсе не его дело.
Перед тем, как вернуть рамака в первоначальное положение, Волгин все же еще раз вгляделся в путаницу органов и внезапно просвистел что-то невеселое.
Пожалуй, этот рамак был все-таки мертв.
Волгин на сей раз увидел, что множество тонких проводничков, отходивших от каждого кольца и сливавшихся в более толстые, почернело, как бы от огня. Сначала он думал, что таковы они и должны быть, но теперь разглядел, что кое-где сквозь черноту нагара проглядывал светлый металл.
По-видимому, по этим проводничкам текла энергия, как течет кровь по сосудам человека. Сейчас они, сожженные, наверное, мощным, слишком мощным током, более не могли выполнять своих функций. Но неужели Корн не подумал о предохранительных устройствах? Этого быть не могло. Смерть вряд ли была естественной.
Волгин озадаченно потер лоб. Вряд ли мог быть более убежденный противник рамаков, чем он сам. Но сделать такое?.. Да и невозможно: рамаки наверняка обладали совершенной защитой, и не только от явлений природы; мало ли с кем предстояло им встретиться в космосе.
Если, конечно, они туда попадут, привычно подумал он. Но сейчас эта мысль не нашла отклика в сознании. Мало того: Волгин почувствовал, что если раньше ему трудно было заставить себя поверить в то, что рамак – не машина, а все-таки жизнь, то теперь, глядя на опрокинутого рамака, он начинает испытывать что-то, напоминающее жалость. Не такое, конечно, как если бы умер человек, но все же… Значит, они тоже смертны?
– Как и мы?
Волгин спросил это вслух, хотя и знал, что мертвый рамак ему не ответит. Просто иногда ему нравилось разговаривать вслух. В моменты сильного волнения.
– Но почему? И кто же? Сами они? Или кто-то?..
– Они были против, – услышал он и вздрогнул от неожиданности. Затем торопливо распрямился.
Мертвые рамаки лежали точно так же, как и до сих пор. Но и они, и сам Волгин находились теперь в кольце, образованном рамаками живыми. Выдвинув все кольца, возвышаясь в полный, более чем двухметровый рост, они столпились вокруг, появившись неизвестно откуда. Впрочем, это не удивило Волгина: он уже знал, что они могут передвигаться быстро и бесшумно.
– Против чего? – спросил он, стараясь говорить спокойно.
– Против равенства, – ответил рамак.
– Против равенства, – глухо прошелестели остальные.
– У нас, – сказал рамак, – ни один не должен обладать более развитым мозгом, чем остальные.
– Почему? У нас – может.
– Вы, люди, не принадлежите к самосовершенствующимся. Вы не можете изменить этого, если даже захотите. Вы не способны заранее определять свойства потомков. А мы можем.
Волгин усмехнулся.
– Нет, – сказал он. – Начиная с завтрашнего дня, сможем и мы. Но все равно, у нас были и есть более способные и менее. Если бы мы все были одинаковы, человечество никогда не продвинулось бы. Почему же вы против этого?
– Мы против неравенства, – своим негромким, приятным, человеческим голосом произнес рамак. – У вас неравенство существовало с древних времен…
– Откуда вы знаете?
– Мы многое знаем о людях. Неравенство в правах, в имуществе, в очень многом – не знаю, должен ли я перечислять все. Вы постепенно избавлялись от него, и процесс этот был болезненным. Неравенство интеллектуальное у вас тоже исчезнет: ведь оно – функция неравенства материального, просто его устранение требует больше времени. Но у вас останутся исключения, ибо – вы правы – без этого вам труднее будет идти вперед.
– А вам?
– Вы – индивидуалисты по природе. Общественные индивидуалисты. И будете такими до тех пор, пока результаты мышления передаете друг другу при помощи языка – сигнальной системы, – а не непосредственно, в форме соответствующего поля. Передается не мысль, а лишь ее отражение. Приближенное – ибо количество слов языка ограничено, оттенков же мысли – бесконечно. Даже в науке вас порой подводит терминология, язык же математики, хотя и более точен, но не передает ассоциаций. Каждый из вас – замкнутый мир…
– Из нас! – рассердился Волгин. – А из вас?
– Каждый из нас – мир распахнутый. Ибо между собой мы общаемся без помощи промежуточных систем. Достаточно физического контакта между двумя рамаками, чтобы из двух мозгов образовался один, но вдвое более мощный. А если надо – из двадцати, из двухсот…
– И до бесконечности, – закончил Волгин. – И что же?
– Не до бесконечности: наш мозг – электронная система, и при известных ее размерах наш фон, уровень собственного шума повышается настолько, что дальнейшее увеличение впрок не идет. Одним словом, если возникают задачи, которые у вас требуют появления гения, мы соединяемся – и решаем их. Теперь вы понимаете, в чем дело и почему нам не нужны те, кто превышает наш уровень интеллекта: вместе мы в любом случае сильнее, но каждый в отдельности знает, что он равен остальным. Как вы понимаете, материального неравенства у нас быть не может, а интеллектуального мы не хотим. В какой-то мере и нам свойственны эмоции – во всем, что касается разума, только в этом. Вы поняли, человек?
– Я понял. Вы их убили.
– Можно сказать и так. Но ведь отношение к жизни и смерти – функция эмоционального уровня. Ваша забота, а не наша.
– Значит, они были просто умнее вас?
– Нет. Но они хотели сделать своих… на вашем языке – потомков, но язык, как я говорил, неточен… своих потомков лучше, чем будут у остальных. Поскольку мы обладаем способностью к направленному совершенствованию, им это удалось бы. Мы возражали, но они не согласились.
– Ладно, – сказал Волгин. – Вы их убили; по-вашему, это можно делать, по-нашему – нельзя, не в этом суть. Но вот вы разлетитесь по планетам, по звездным системам. Вы достигнете их в разное время и в разном количестве: по десятеро, по двое, по одиночке…
– Возможно.
– И вот эти одиночки, вдали от остальных, будут создавать таких потомков, какие им понравятся. Возникнут общества, население целых планет. Но поскольку общей координации не будет, какие-то общества будут выше остальных. А потом вы встретитесь… кто же кого будет убивать тогда?
– Зачем? Мы же не убиваем, допустим, вас, человек.
– Нас? Люди, как-никак, вас создали…
– Точнее, мы произошли от вас. А ведь вы, в конечном итоге, произошли, скажем, от рыб; но разве это мешает вам убивать их? Или иную жизнь?
– Знаете, – сказал Волгин, чувствуя, как его жалость к рамакам исчезает. – Я бы на вашем месте не стал сравнивать людей, которые вас придумали, и рыб. Рыб не волновало, произойдет от них кто-нибудь или нет.
– Но разве вы предусмотрели все, связанное с нашим возникновением? Нет, вы были не в силах. Мы – продукт вашей эволюции, только не биологической, а психической, связанной с развитием ваших познаний и интеллекта. Нет, мы не будем убивать друг друга, я полагаю. Мы не люди, мы рамаки.
– Мы – рамаки, – прошелестело вокруг.
– Но пока убиваете вы, – сказал Волгин. – И подумайте-ка над тем, что я вам сказал.
– Конечно, мы подумаем. Ваши соображения все же не лишены интереса. Но сейчас нам пора – люди ждут нас, их интересует, как происходит наше воспроизводство. До свидания, человек!
Волгин только мотнул головой. Кинув взгляд на часы, он встрепенулся и, даже не проводив рамаков взглядом, помчался, поднявшись в воздух, к своему аграплану со всей скоростью, на которую были способны его микродвигатели.
7
Может быть, стремительный полет аграплана, а возможно, то, что ему удалось нащупать уязвимое место в холодной логике рамаков, – так или иначе, что-то вновь привело Волгина в хорошее настроение, именно такое, какое и нужно для работы. Войдя в кабинет, он с удовольствием уселся в кресло, повернулся к столу и удовлетворенно подмигнул сам себе.
Нет, все не так страшно. Конечно, эти рамаки – недурное изобретение, но все же смогут ли они обойтись без человека – еще вопрос. Они просто перебьют друг друга. А работа по подготовке высадки на планету отряда людей сделана действительно неплохо, ничего не скажешь. На этих ролях рамаков можно держать, с условием, что вслед за ними приземлится корабль с людьми. А уж какие будут это люди – об этом мы с тобой, Волгин, позаботимся!
Нет, не зря прошли годы, не напрасно вложено столько сил, нервов, всего. Когда-то думали, что в светлом будущем работа будет – одно удовольствие. Чепуха. Работа есть работа, труд, пот и слезы и скрежет зубовный, а удовольствие – не то слово, рамак прав. От работы бываешь счастлив, а удовольствие – это другое, это легкое что-то и не очень значительное. А тут – да черт возьми, сколько мозолей набили мы на руках и на душе, пока это стало возможным, то, что обозначается только одним словом: завтра.
Нет, неплохо ты встречаешь свое сорокалетие, Волгин. Прямо сказать – хороший подарок. Правда, не тебе. Людям. Человечеству. Дальней разведке.
Ну, значит, и тебе самому тоже.
Волгин поморщился. Вот уж не время рассуждать… Куда полезнее было бы поразмыслить вот над чем: каким образом, при помощи каких аргументов и в каком порядке будет он возражать против проекта независимых рамаков и доказывать необходимость – в лучшем случае – подчинения их людям на правах роботов высшего класса. Полезнее, конечно. Но день сегодня выдался насыщенный впечатлениями и приключениями, а утомленный мозг ищет спасения именно в неконкретных рассуждениях, пытается от кропотливого и трудоемкого анализа перейти к нешироким, но зато легким и радостным обобщениям. Не потому ли обобщения подчас оказываются недостаточно обоснованными?
Но это не о тебе, Волгин, не о тебе…
Налегая грудью на стол, Волгин потянулся, достал длинными пальцами апельсин из вазы. Он любил, чтобы на столе, кроме необходимого, стояло что-нибудь такое – неделовое и радостное: работая, неплохо помнить и об остальном хорошем, что есть в жизни.
Кстати, поэтому и фотография Елены на столе… Но это – запретное направление мысли.
Он задумчиво вертел в пальцах апельсин; от тугого шара исходило мягкое оранжевое сияние. Волгин на мгновение пожалел плод – это совершенное произведение природы, затем усмехнулся; начатое надо доводить до конца… Он рванул шкурку, сок брызнул на стол. Не разламывая на дольки, вонзил зубы в налитую сладкой жидкостью мякоть.
Вот так же, как апельсин, стал доступен теперь плод работы. (Он выплюнул косточку, сердито поморщился.) Не могли вывести апельсин без кожицы и косточек, тоже работники. Возьмись за это дело Волгин… Но он занялся не апельсинами, а кое-чем потруднее. И все же сделал.
Он медленно жевал. Да, кажется, все в порядке. Автоматика доставлена. Через сорок минут они с Витькой отправятся на аэродром и встретят подопытную. Психофизики ее подготовят. А сколько работы было с нею! И пока ее нашли, и после – пока уговорили. Пришлось пустить в ход весь свой авторитет плюс мужское обаяние… (Волгин на секунду усомнился, потом кивнул: не надо ложной скромности!) И получить разрешение на эксперимент было тоже не так-то просто: сомневающихся везде достаточно. Теперь все это – вчерашний день. Но настанет завтрашний…
Он заставил себя не думать о завтрашнем, чтобы заранее не пережить всей радости и торжества, чтобы они не потеряли чего-то из своей новизны и полноты. Торжествовать будем завтра. А эти сорок минут надо чем-то занять, не терзать себя. Хотя бы разобраться с мелочами; институт – немалое хозяйство, всегда возникают какие-то мелкие делишки. Ну, посмотрим, что же у нас накопилось?
Волгин снова оглядел стол – на этот раз критически, испытующе, как будто искал, где же затаились эти мелочи. Взгляд опять наткнулся на мензурку с цветами. Нет, это к делу не относится. Ну а конверт относится?
Он протянул к конверту руку – медленно, словно боясь то ли обжечься, то ли еще чего. К чему бы такой конверт? Что-то мешает вскрыть его сразу. Боязнь? Ну, пусть бы и так. Любое непредвиденное известие может вдруг изменить ход жизни. Как камни на дороге, эти конверты: на них налетаешь, вовсе не ожидая. Ну ладно…
Волгин вскрыл конверт; в чуть более резких, чем следовало, движениях угадывалось раздражение, которое с годами приходило все быстрее. Зачем вообще ему кладут сегодня на стол такие вещи?
В конверте был бланк телеграммы. Волгин прочел ее. Комната мягко повернулась вокруг оси, закружилась, в ушах что-то загремело: пульс. Как камни на дороге, эти конверты. Но бывает – целуют и камни…
Волгин встал и решительно шагнул к двери, словно бы торопясь вдогонку за утраченным спокойствием. Но, сделав два шага, остановился. Запустил пальцы в волосы: отросли безобразно, давно уже следовало чуть больше следить за собою. Но уже не успеть. Придется предстать в таком виде.
Он почувствовал, как мысли сдавливают его, словно вода на глубине. Зачем вообще идти? Что изменится от того, что ты потопчешься на посадочной площадке, поглядишь издали? А ведь подойти у тебя не хватит смелости, это ясно уже сейчас. Может быть, лучше – считать, что никакой телеграммы не было?
Волгин стиснул пальцы, сколько было сил. Потом разжал. Прочесть телеграмму теперь не удалось бы даже археологу, мастеру склеивать клочки и черепки. Пластмасса была хрупка; Волгин счистил с ладони обломки. Вот и все. Как легко подчас решаются вопросы!
– Витя! – позвал он, напрягая горло.
Витька показался на пороге, и Волгин с минуту вглядывался в него, пытаясь понять, кто же именно вошел в его кабинет. Руки парня были сложены на груди, брови сдвинуты, рот изламывала трагическая усмешка. На сей раз ясно. Эдмон, граф Монте-Кристо – неистребимый, неклассический Дюма. Что-то, значит, крепко уязвило Виктора: лишь в таких случаях он становится графом, вершиной таинственности. Ага, он, вероятнее всего, еще не может опомниться после разговора с неведомым гостем, заронившим в Витьку сомнения относительно ничтожности рамаков и необходимости волгинской работы. Ничего, мы сейчас впрыснем противоядие. Витьку, в перспективе – светило цереброники, мы никому не отдадим. Не для того растим, не для других воспитываем…
– Был у рамакистов, – сказал Волгин, словно Витька имел право требовать отчета. – Наблюдал испытание. Ничего, скажу тебе, особенного. Конечно, роботы первоклассные, но, думаю, не больше.
И все об этом, чтобы настойчивость в развитии темы не показалась нарочитой. Для умного сказано достаточно, а Витька не из глупых.
– Ну а у тебя что?
– Все в порядке, – отрывисто произнес граф Витька и резко повернулся; незримый глазу черный плащ, взвившись, прошелестел за его узковатыми еще плечами.
– Скольжение частот наладил?
– Все! – отрубил романтический лаборант. – Можно работать. А вам пора встречать.
– Ну да, конечно, – проговорил Волгин. – Что-то я тебе хотел сказать… Вот только что помнил… Да. Ну да. Вот что: пойди, переоденься. А то она тебя еще испугается, пожалуй. Встречать-то придется тебе ехать. Возьмешь аграплан…
Любопытство пересилило – Витька повернулся к Волгину, моргая глазами.
– А вы разве не поедете?
– Ну раз я говорю не поеду – не поеду, – сказал Волгин, чувствуя, что логики в ответе не хватает. Он нахмурился: – Да и вообще делом надо заниматься. А не устраивать тут пресс-конференции.
– А это приезжали как раз к вам, – мрачно проговорил Витька, снова взмахивая плащом. – Ваш старый друг.
– Что-то не помню я таких друзей. Короче – лети, встречай. Ты ее видел, узнаешь. Объясни, что эксперимент – завтра, в двенадцать ровно. Вот. Хотя погоди…
Волгин умолк, лицо его сделалось таким, словно у него болел зуб. Витька вздохнул. Волгин поднял глаза и взглянул на Витьку неожиданно виновато.
– Ну шагай. Ясно?
– Ясно, – сказал Витька и поинтересовался: – Новая идея?
– Новая, – сказал Волгин. – Идея. Отвезешь ее прямо к психофизикам. Женщину.
– Хорошо, – милостиво согласился Витька и вдруг взмахнул ресницами – вспомнил: – А что такое – дэ-дэ?
– Дэ-дэ? – Волгин подозрительно покосился на Витьку, но тут же вспомнил, что утренний гость именно так попрощался с парнем – значит вопрос возник естественно. – Это значит – доброй дороги. И все. Впрочем, некоторые считают, что – дальней дороги.
– Где так говорят?
– Далеко отсюда. Ну чего? Там, где ближних дорог нет. Понятно?
– А вы там были?
– Был, – ответил Волгин. Тут надо было бы усмехнуться, но он не смог. – Был. В прошлом.
Витькины глаза вспыхнули, и это означало, что включилась фантазия.
– Значит, он из прошлого, этот – кто приходил?
– Из прошлого? – рассеянно сказал Волгин – Из какого же он прошлого?
И вдруг память ударила в виски. Он понял, что если бы люди и впрямь могли приходить из прошлого, то он, пожалуй, мог бы сказать… Но из прошлого не приходят.
– Да! – сказал он и ударил ногой по тумбе стола.
– Это зачем? – спросил Витька, – Сходите с ума?
– Затем, что схожу, – сказал Волгин.
– Да ладно, – утешил Витька. – Не беспокойтесь только. Встречу я эту чудачку.
– Что? – спросил Волгин, не слыша. – Ну, пойду я.
Он вышел на балкон. С тридцатого этажа центрального корпуса института лес казался непролазной чащобой. Сильно оттолкнувшись ногами, Волгин кинулся вниз.
8
Причальная мачта поднимала свой тонкий, кружевной шпиль над яркой зеленью леса, в которой путались и прыгали солнечные блики, над прохладными ручьями, над радостными полянами. Даже здесь, на высоте нескольких десятков метров, чувствовался умиротворяющий аромат трав. Теплый день летел навстречу; заросли золотых одуванчиков казались застывшими отблесками светила.
Волгин позволил себе секунды три падать свободно, и лишь потом рванул рычажок на поясе. Рычажок с маху проскочил три позиции и остановился на четвертой; щурясь от бьющего в лицо воздуха, Волгин порадовался тому, что точность движений не оставила его: это свидетельствовало, по его мнению, о полном внутреннем спокойствии, Волгину же очень хотелось уверить себя в том, что он совершенно спокоен.
Институт медленно отступал. Наверху, метрах в десяти, пролетел обеспечитель; теперь, когда автоматика находилась на месте, он, по-видимому, снова почувствовал себя хорошо – вместо того, чтобы покраснеть, повел защитными очками и достойно наклонил лохматую голову. Волгин показал бездельнику кулак; ему хотелось еще и крикнуть кое-что вдогонку, но он сдержался. Затем он перевел взгляд на далекую еще причальную мачту и легкими движениями пальцев выровнял направление, пытаясь обмануть сносивший его ветер.
Необъятная тень накрыла его через несколько минут. Волгин машинально съежился, ожидая пронзительного прикосновения первых капель. Но это было не облако. Обширное тело неторопливого вакуум-дирижабля медленно протянулось правее и метров на двести выше, на ходу сокращая объем и теряя высоту. Причальная мачта приближалась. Причальной она называлась, впрочем, лишь по традиции, в ней размещались следящие устройства и аппаратура связи, дирижабли же, с тех пор как они перестали наполняться газом, садились на поле у ее подножия.
Воздушный транспорт обогнал Волгина. Теперь, сзади, было ясно видно ромбическое сечение корабля. Если Елена и впрямь прилетела, то сейчас, глядя в широкое окно гондолы, легко может увидеть Волгина. Но она не ожидает встречи. Не будь общих знакомых, которые вовремя прислали телеграмму, и Волгин не знал бы, что она приедет. Теперь он увидит ее, посмотрит издали. Не станет подходить, конечно, ни за что: ведь, если бы Елена хотела встретиться с ним, она нашла бы возможность предупредить о приезде или хотя бы намекнуть. А что, если те цветы и были таким намеком? Глупости, она же не знает, что о ее приезде сообщат. И все же…
Он совершенно запутался; в голове замелькали какие-то мелко нарубленные мысли, этакий винегрет из обрывков всякой ерунды, понятий и заключений. Я, кажется, сегодня еще не обедал? Нет, а ведь время уже прошло. Сумасшедший день… А почему? У меня возникла идея внутриконусной фокусировки, и я решил ее продумать; потому и послал тебя встречать… Ну да, это он в случае нужды скажет Витьке. Кстати, Витька наверняка увидит тебя тут же, на аэродроме. Забавно: и Елена, и та женщина, которую я уговорил, прилетают одним и тем же дирижаблем. Интересно, есть ли в этом какая-нибудь закономерность, или чистой воды совпадение – но и в совпадениях есть свои закономерности… Кстати, вы мне не думайте подсунуть философское обоснование вместо конструктивного решения: ох, и пойдет же от вас дым! Это – из филиппики, приготовленной для конструкторов специальной аппаратуры, предназначенной для будущих работ. Но это все не то, не то…
Волгин понял, что опаздывает к посадке. Приняв горизонтальное положение, он передвинул рычажок микродвигателя на две, и потом еще на две позиции, до конца. Микродвигатели зашелестели сильнее, словно зашептались. Ощутимее стала упругость воздуха, пришлось надеть защитные очки, которых Волгин не любил. Но нагнать дирижабль так и не удалось.
По посадочному полю Волгин почти бежал: летать здесь, по соображениям безопасности, запрещалось. Затем он перешел на шаг и шел все медленнее, спотыкаясь и разводя руками, и бессознательно растерянно улыбаясь. Он увидел ее.
Елена стояла спиной к Волгину, разговаривая с человеком, которого заслоняла собой от напряженного волгинского взгляда. Вот она улыбнулась – как показалось Волгину, нежно; сделала резкий жест – сумка в ее руке описала замысловатую траекторию… Пора остановиться, подумал Волгин, иначе она меня заметит, если обернется, узнает. Пора, пора остановиться!.. Он сделал шаг вперед, потом еще шаг, потому что с каждым шагом все лучше можно было разглядеть ее, а ведь для этого он и летел, правда ведь? Она улыбается этому. Впрочем, откуда ты знаешь, она ведь стоит спиной к тебе? Все равно, знаю: она всегда так откидывает голову, когда улыбается. Я же не вижу вообще ее лица и все равно знаю, что это – она. Кажется, я и правда схожу с ума, не надо было лететь, посидел бы, пострадал в своем кабинете, светило… Нет, пора бежать, пока она не заметила.
Он отвернулся и стал глядеть на легкий треугольник вокзала; вдруг, словно увидев кого-то, решительно двинулся туда. Почему туда, опять-таки он не знал. Но время было уже упущено, потому что Елена повернулась и увидела его, и узнала его сразу.
– Волгин! – негромко окликнула Елена, уверенная, по-видимому, что он услышит, – и он действительно услышал. Вздрогнув и краснея, он повернул голову к ней и медленно поднял глаза. Человек, которого Волгин так и не успел разглядеть, исчез. Это было странно, потому что все остальное, что находилось поблизости, обрело странную неподвижность. Или время потекло так медленно? Но вот чья-то странная кургузая машина отъехала от вокзала, на ходу расправляя для взлета короткие крылья, и, словно разбуженный ею, мир снова двинулся по течению времени. Елена стояла одна и смотрела на Волгина.
Прошли годы; он понял это, глядя на ее лицо и замечая все. Прошли без него, как будто он жил в какой-то другой эпохе. Вдали от него появились эти, едва заметные, правда, морщины на лбу и у глаз. Не он целовал этот рот, когда в углах его возникали невеселые складочки… Но сколько бы лет ни прошло, для него ничего не изменилось: пусть такой, пусть какой угодно – только бы была у него возможность видеть ее. Видеть хотя бы!
Волгин медленно опустил взгляд до туфель. Это было болезненно, но лишь снова поднимая глаза, он понял, в чем дело, и почувствовал, что ему нечем дышать. Со спины было трудно заметить это, потому что Елена была в плаще. Нет, подумал он, не то, она просто не следила за собой… И сам же опроверг: глупости. Дело не в пренебрежении гимнастикой. Ты – взрослый человек и понимаешь, в чем тут дело. Уже месяцев пять…
Он подошел к ней неторопливо; так могло показаться, на самом деле ноги просто отказывались идти.
– Смотри-ка, – сказал он, – ты в наши края попала! Здравствуй, здравствуй… А я тут встречал кое-кого – он, я вижу, не приехал. Ты не видела? Такой… среднего роста, в шляпе… – Импровизация не удалась Волгину, и он махнул рукой. – Ну да ладно, зато вот тебя повидал. Хотя – что же это я тебя задерживаю, ты ведь, верно, не ко мне прилетела, да и вряд ли одна. Как бы он не приревновал тебя к старым приятелям: мужья – народ ревнивый!
Волгин говорил это, думая, что шутит, и еще думая, что если бы он сам был когда-нибудь хоть чьим-то мужем, а он мог бы быть лишь ее мужем, Елены, и ничьим больше, но она порвала все решительно и окончательно, он обязательно ревновал бы ее, хотя эмоция эта давно уже почиталась умершей от естественных причин. Он и сейчас ревновал, не имея на то никакого права, кроме того, которое дает память.
– Ну, так как она, жизнь? – продолжал он вслух, и даже заскрипел зубами: эх, сколько ненужных слов он говорит! – Лена, послушай! – вдруг перебил он сам себя. – Раз уж мы встретились, то я хочу сказать: если бы…
Он умолк; Елена поняла его смущение по-своему – или предпочла понять по-своему, чтобы не догадываться о том, что он хотел сказать.
– Да, как видишь, – отозвалась она спокойно. – В скором времени буду принимать поздравления. Что же: время ведь идет…
«И уходят надежды», – промолчала она, но он услышал и это. Да, для нее все это значит очень много. Это значит – совсем уже не осталось никаких надежда на осуществление того, о чем она мечтала с юности, – никаких надежд, раз приходится искать и находить другие. Что же, она нашла.
– Что касается остального, – продолжала Елена после краткой паузы, – то я здесь одна, и вообще тоже. Иначе не хочу, – торопливо добавила она, боясь, что Волгин может понять последние слова, как замаскированное разрешение говорить о том, что некогда было и что могло быть. – Ты ведь знаешь мой характер.
Волгин кивнул; он знал.
– А… я с ним знаком?
– Нет, – сказала Елена. – А разве это важно?
– Да нет… Просто – ты тут стояла с одним… показалось, что знакомая фигура.
Елена слегка улыбнулась.
– Это был не он.
– Так что привело тебя сюда?
– В общем, ничто, – сказала она. – Может быть, любопытство. Или еще что-нибудь. Не могу засиживаться на одном месте.
– Где остановишься?
– Еще не знаю, – рассеянно сказала она. – Сейчас поеду.
– Куда?
– Что-нибудь найду, наверное. Здесь ведь есть гостиница?
– Конечно.
– Ну да, он мне говорил.
– Кто?
Елена взглянула на него с таким видом, словно просила извинения за какую-то бестактность.
– Ну, все равно.
– Вижу, – сказал он, – тебе не очень весело. А?
– Может быть, – согласилась она. – Ты сам понимаешь. Но будущее кажется более привлекательным.
Ну конечно, подумал он. Когда окончательно теряешь надежду, тем более – главную, весело быть не может. Это понятно. Это знакомо. А что касается будущего…
Мысль его не успела получить завершения, потому что в этот миг некто вышел из вокзала, увидел Волгина и неторопливо направился прямо к нему. Он приближался, изящно помахивая левой рукой, и только шляпы не было в ней, широкополой шляпы с волочащимся по земле плюмажем. Наконец Витька приблизился и сделал поклон по всем правилам.
– Вы здесь, оказывается, – сказал он.
– Ну и что? – сердито спросил Волгин. – Неужели даже на час нельзя отлучиться, чтобы… Ну, я понимаю, хочешь доложить, что встретил, и все такое. Мог бы сказать и попозже. А?
Витька стоял перед ним, закрыв глаза и качая головой, и это дурацкое покачивание разозлило Волгина еще больше. Он на миг смолк, приготовляясь к более обстоятельному анализу Витькиного поведения, но мальчик ухитрился втиснуться именно в эту узкую щель.
– Да ведь я говорю – нет, – сказал он. – Ну, не встретил.
– Как не встретил? – спросил Волгин. – Что значит «не встретил»? Прозевал?
– Не приехала – и все, – оказал Витька.
– Да этого быть не может. Прозевал, а она небось разыскивает институт!
– Нет. Передала, что не приедет. Через пилота дирижабля.
– Так… – протянул Волгин. – И почему же это она не приедет? – Вопрос был задан таким тоном, как будто Витька являлся ответственным за поведение той, которая должна была приехать.
– Ну, раздумала, наверное, и все.
– Раздумала… – медленно, словно стараясь проникнуть в смысл этого слова, произнес Волгин. И вдруг топнул ногой: – Да ты понимаешь? Раздумала!.. А завтра? А эксперимент?
Он повернулся в сторону, словно ожидая поддержки. Но там стояла лишь Елена, с любопытством глядевшая на него. Волгин вспомнил, что он не в институте, не в своей лаборатории, и что Елена не имеет к этому никакого отношения – не говоря уже о том, что трудно признавать неудачу в присутствии любой женщины, не только этой… Он заставил себя умолкнуть.
– Да, – проговорил он через секунду, но уже нормальным голосом. – Бывает, бывает. Ничего, выкрутимся как-нибудь…
Произнося это, он понимал, что не выкрутится: все задержится на долгое время, а Корн тем временем бросит своих рамаков в мироздание. И Волгину не на что будет сослаться.
Проклятая женщина: подвести в такой момент!
– Выкрутимся! – сказал он уверенно, взглянул на Елену и понял, что ее-то он не обманул.
– Ты не меняешься, – сказала она, когда он умолк. – Все громы и молнии, да?
– В зависимости от погоды, – усмехнулся Волгин.
– Сорвалось что-нибудь важное?
– Да как тебе сказать… – промямлил Волгин, которому не хотелось врать, а говорить правду – тоже. – Впрочем, чего мы тут стоим? У нас – аграплан, отвезем тебя, подумаем, где остановиться. В гостинице – пусть в гостинице…
Он сделал шаг в сторону, пропуская Елену вперед, и еще раз – непроизвольно – провел глазами по ее пополневшей в талии фигуре. Интересно, каким будет ребенок. Это всегда интересно…
– Что?
«Интересно, каков будет ребенок», – снова произнес Волгин про себя, и на сей раз каждое слово было полно глубокого значения.
9
– Слушай, Лена, – сказал он, догнав женщину и взяв ее за рукав плаща (на большее Волгин все же не осмелился). – А может быть, в гостиницу не стоит? Это не близко, да и вообще… Давай, мы тебя устроим у нас в институте. Так, как у нас, ты нигде не отдохнешь: на полной научной основе. Поживешь, осмотришься… А вообще ты торопишься куда-нибудь?
– Да нет… – ответила она чуть растерянно.
– Вот и чудесно! Тогда, может, поработаешь у нас – полгодика или больше, как сама захочешь. Тем более – за тобой сейчас нужен квалифицированный надзор, а уж у нас медики такие, что лучших и не бывает.
– Не знаю, – нерешительно проговорила Елена, и Волгин узнал ту нерешительность, которая и раньше охватывала Елену порой в самые неподходящие моменты. – Один друг предлагал свое жилье – я отказалась. Правда, – торопливо добавила она, – это не его жилье, он сам здесь проездом…
– Ну и чудесно! Сегодня отдохнешь, а вечерком я к тебе зайду, побеседуем… Нет, нет, – перебил он себя, заметив странное выражение, мелькнувшее в ее глазах. – Я ведь понимаю, что ты! И в этом нет ничего неудобного; к нам приезжает множество людей! А? Ну? Соглашайся!
– Хорошо, – сказала Елена, и повторила громко: – Хорошо. Пусть в институте. – Она тряхнула головой, и это означало, что минутная нерешительность прошла, а, за исключением таких минут, Елена была человеком определенных намерений и решений. – Едем.
– А вот Виктор тебя проводит. Лаборант, но без него я – как без рук (Волгин знал, что Витька еще не успел выработать иммунитет против лести, а сейчас парня надо было чем-то оглушить, чтобы он не стал чересчур много размышлять о том, почему Волгин все же оказался у дирижабля и по какой причине так уговаривает женщину; к тому же слова насчет Витьки были правдой, так что это выходила и не лесть вовсе: разве что непедагогический разговор, но здесь ведь не детский сад). А я еще задержусь. Зато уж попозже приду обязательно. К психофизикам, Витя, пусть посмотрят, снимут характеристики, чтобы отдых вышел хорошим, человек устал…
Витька посмотрел на Елену, потом на Волгина.
– Ну, – сказал Волгин, – быстро, быстро. И анализы по всей программе, ясно?
Витька, кажется, хотел что-то сказать, но Волгин замахал руками, повернулся и заспешил в сторону. Ему очень нужно было остаться одному.
Ничего себе, ситуация сложилась. Громадное дело могло затормозиться потому, что какая-то неврастеничка в последний момент передумала и не пожелала участвовать в эксперименте. Хорошо, что Волгин за годы жизни на Земле не утратил способности принимать быстрые и правильные решения – способность эту он выработал на сумасшедших кораблях Дальней разведки. Дело должно быть сделано, и будет, потому что дальняя дорога по пескам поиска привела нас все-таки к оазису открытий… Так сказал бы известный всем нам Аль Бухори, если бы не лежал давно в фиолетовом песке Галатеи, тогда еще не оживленной человеком. Да, близится завершение, и не странно ли, что мы с тобой снова встретились именно на этом пути, и именно тут наши дороги сольются в одну, хотя ты меня и не любила, и не будешь любить никогда.
Волгин уселся на краю посадочного поля. Елена и Витька были уже далеко – там, где стояли аграпланы. Отсюда женщина выглядела совсем прежней, такой, как тогда, когда он впервые сказал ей о любви, но ее очередной приступ нерешительности…
Волгин вздохнул. Рейсовый дирижабль еще стоял у подножия мачты. Вот он начал медленно, едва заметно для глаза, увеличиваться в объеме. Невидимые извне устройства, преодолевая огромное давление наружного воздуха, упрямо раздвигали плоскости в ромб, и дирижабль, подчиняясь возникшему в его непроницаемом теле вакууму, отделился от прочной, устойчивой земли и пошел вверх, в свою среду. Тихо дышали моторы. Подъем становился все стремительнее, вот машина легла на курс – какая-то из граней ослепительно блеснула на солнце, – а вскоре стало уже трудно сказать, где именно скрылся легкий корабль, дешевый настолько, что даже аграпланам не удалось полностью вытеснить его. Дирижабль оставил здесь эту женщину, вместо того чтобы увезти ее с собой, – и черт бы побрал все эксперименты!
Нет, так нельзя, – одернул Волгин сам себя. Конечно, решающий опыт лучше всего ставить на себе самом. Но поскольку в данном случае это невозможно…
Значит, на Елене?
Кто мог придумать такое, какой хитроумный джин так запутал нити? Громадная машина института разогнана на полный ход, и если сейчас стремительно затормозить, неизбежны жертвы, не говоря уже о потере скорости. Насколько легче Корну, который экспериментирует с машинами, хотя бы и разумными. Там совесть может оставаться чистой.
А здесь – нет? Значит, должна быть причина. В чем дело? В опасности? Ее нет, в этом ты уверен, все испытано, все подогнано. Не в этом дело. Непонятно, в чем. И все же – нет полной уверенности. А она нужна, как глоток воды в пустыне…
Волгин снова мельком вспомнил Аль Бухори, который щедро засеял его память всеми этими джинами и оазисами. А затем, по сходству судьбы, припомнил и Маркуса, погибшего куда глупее, чем утонченный и мудрейший узбек. Бухори кинулся в своей машине прямо на песчаную цунами, впервые увиденную ими как раз на Галетее. Он ухитрился-таки спасти поселок, хотя даже надежда на такой исход казалась нелепой. Он выполнил задачу; он показал, как вообще надо выполнять задачи.
Бухори… В последнюю минуту связь донесла до разведчиков, молча ожидавших конца, высокий голос. Он читал строки Хайяма чуть нараспев, как предки Аль Бухори некогда декламировали суры Корана. Это было последнее от Бухори; гигантская песчаная гора выросла на месте его гибели, так что людям не пришлось ставить памятник.
Маркус же погиб иначе и, верно, ничего при этом не декламировал, потому что, не отличаясь ораторскими талантами, обладал к тому же голосом резким и хриплым, как сирена бедствия, и при этом – что самое ценное – говорить не любил.
Такими вспомнились сейчас Волгину, сидевшему на посадочном поле дирижаблей, погибшие друзья. А раз уж они начинали вспоминаться, значит, пришло время посоветоваться с ними: мертвые никогда не вспоминаются нам без нужды и основания.
Аль Бухори понимал толк в любви, и если бы только об этом шла речь, никто не пожелал бы лучшего советчика. Но сейчас надо было говорить и о других, не менее сложных вещах, и на сей раз Волгин избрал собеседником Маркуса. Были и живые друзья. Они тоже находились очень далеко, хотя и чуть ближе, чем мертвые. Но с живыми и отсутствующими советоваться в мыслях трудно: поди знай, насколько изменились за годы разлуки они сами и их взгляды на жизнь, которая постоянно находится в движении и тянет за собою и нас. А мертвые не меняют взглядов (если за них этого не делают живые, но отнюдь не друзья), мертвые устойчивы и неколебимы, они уже достигли своей вершины, и ты можешь быть уверен, что на один и тот же вопрос они всякий раз дадут один и тот же ответ, разумеется, если ты еще помнишь их как следует.
Итак, дорогой Маркус, почему же меня тревожит совесть, почему не зудят нетерпением пальцы, как это бывало перед каждым экспериментом, даже и не решающим? Ага, ты высоко поднимаешь брови и спрашиваешь, чего же, собственно, я хочу добиться? Ну, что же, я расскажу, а ты поймешь, как понимал всегда все. Слушай.
Мы все-таки изобрели эту пресловутую разумную машину. Нет, я не принимал в этом участия, есть такой Корн – ты его не знаешь, способный парень, но он никогда не был в Дальней разведке, не стоял на палубах наших отчаянных кораблей, и в этом-то, наверное, и кроется причина того, что он не сумел остановиться вовремя и довел свое дело до конца. Его создания предназначены для того, чтобы убить нас. Задушить, уморить, называй как хочешь. Нет, они не питают вражды к человеку, им на нас, строго говоря, наплевать. Но они предназначены для завоевания космоса, для того, что до сих пор было нашим, и только нашим делом, которым жили и на котором выросли многие из нас. А теперь пришли эти рамаки, приспособленные для работы в пространстве и на диких планетах куда лучше нас – лучше, Маркус, лучше, видишь – я откровенен, они действительно получились неплохо, а ведь они будут еще совершенствоваться. И вот, выполняя свою задачу, они вытеснят нас так, как некогда трактор вытеснил лошадь. А я не хочу, Маркус, чтобы мы оказались в положении лошадей, или чтобы нам, в лучшем случае, осталась роль пассажиров, в то время как по природе своей мы не пассажиры, а пилоты.
Ты понимаешь: я не хочу и не могу допустить этого. Но есть немало людей, которые хотят; не потому, чтобы они желали плохого человеку, но потому, что сложность и масштабность задачи привлекает их: подобные вещи всегда привлекали человека. С этими людьми можно бороться одним лишь способом: вместо хорошего предложить лучшее. Я давно уже искал это лучшее, и вот наконец нашел его.
Надо было опровергнуть главное положение: что человек не способен делать эту работу так же хорошо, как, судя по предварительным данным, смогут выполнять ее рамаки. Мне кажется, я знаю, как сделать это.
Дело в том, что до сих пор все мы полагали главной причиной того, что расширение обжитого космоса идет медленнее, чем нам хотелось бы – нашу физическую неприспособленность, хрупкость, требовательность к условиям обитания. Но на самом деле это не так: ведь именно то, что нам нужны определенные условия, что мы не можем жить где попало и как попало, заставляет нас, став хотя бы одной ногой на поверхность новой планеты, приспосабливать ее к своим нуждам, организовывать хаос, приводить природу в разумный порядок. Мы не можем приспособиться к окружающему; вместо этого мы приспосабливаем его к себе, и разве не в этом состоит наша основная задача? А? По-моему, Маркус, ты говоришь: «В этом».
То, что нам приходится выполнять значительную часть этой работы в трудных условиях, живя в непроницаемых станциях, выходя в скафандрах, подчас жертвуя собой (и ты, и Бухори, да и я сам, мы кое-что знаем об этом, правда?), – это не самое тяжелое. В конце концов, когда достаточное количество людей вложило достаточный труд, природа поддается, мы усмиряем планету, одеваем ее – если нужно – атмосферой, и люди начинают жить на ней не хуже, чем на Земле. Конечно, не везде это возможно; но в каждой звездной системе находится хоть одна планета, пригодная для заселения, а остальные остаются в качестве резерва, чтобы новому человечеству, когда оно окончательно укоренится, было чем заняться, где проявить свои достоинства. Надо думать и о правнуках: у них тоже будут чесаться руки, черт возьми! Что ты говоришь, Маркус? Ага, ты говоришь: «Пока все правильно. Давай-ка дальше».
Пожалуйста. Итак, главное – не наше физическое несовершенство; впрочем, я сказал бы «наше устройство»: совершенство или несовершенство – это вопрос спорный. Но что же главное? Почему иногда замирает жизнь на уже, казалось бы, окультуренных планетах, почему подчас люди осаждают прилетевшие корабли и приходится забирать их на Землю, оставляя все, созданное с таким трудом?
Я думаю, я уверен, что дело тут в одном: в нашем несовершенстве, но не физическом, а психическом. Слишком долго человек жил на Земле, слишком глубоко в нее уходят его корни, слишком многим обязан он этому Солнцу – этому, а не какому-либо другому. Ты помнишь, Маркус, как это бывает: каждую ночь видеть над собой чужое небо, чужие созвездия, в которых не найти никакого подобия нашим. Сначала это даже развлекает, потом приходит тоска, начинает казаться, что только в ковше Большой Медведицы есть та вода, которая необходима для жизни. Но нам было легче: мы не так-то уж долго задерживались на одном месте, динамика жизни не позволяла нам погружаться в тоску. А людям, прилетевшим навечно, бывает настолько тяжело, что они не выдерживают.
Они начинают вспоминать Землю, древнюю родину, с ее центрами культуры, которых население новых планет лишено: ведь их культура, хочешь не хочешь, надолго застывает на том уровне, на котором была, когда они покинули Солнечную систему. Нельзя забрать с собой книги и полотна, и симфонии, которые еще не написаны, да и тех, что уже есть, всех не возьмешь! А то, что им, время от времени, доставляют потом, лишь усиливает в людях чувство оторванности, несовершенства, второсортности; все понимают, сколь жалок человек без всех тех духовных ценностей, которые создали его предки и современники. Люди понимают, что пройдут еще десятилетия и столетия до того, как им удастся создать на новой планете собственную культуру, не уступающую земной; и они не хотят и не могут ждать. Вспомни, Маркус, разве мы с тобой не были такими? Конечно, были.
Люди не чувствуют себя хозяевами новых планет, вот в чем основная беда. Они чувствуют себя лишь пришельцами, пересаженными в новую почву лишь с крохами родной земли на корнях, и им мало этих крох. Уже с самого начала они – сначала бессознательно – стремятся назад. Многие у нас пытаются проводить аналогию между колонизацией вновь открытых материков и островов Земли в прошлом, и заселением космоса сегодня. Но это разные вещи: если в прошлом людей гнал голод и социальная несправедливость, то теперь это давно забыто, и если в те времена кусок хлеба, которого не было, манил больше, чем все блага культуры, то теперь нельзя и представить себе этого. Теперь не элементарные физиологические потребности гонят человека вдаль, а иные: потребность знать, потребность проникать все дальше. Но проникать все дальше мы можем, лишь постепенно оседая на завоеванных рубежах: радиус достижимого при стартах с Земли не столь велик. А вот с оседанием-то и не всегда получается. Энтузиасты, готовые жертвовать всем для того, чтобы познавать, не в счет: они есть, как были всегда, но они никогда не составляли всего человечества.
Вот, оказывается, в чем дело, Маркус: в нашей психической, а вовсе не физической, неприспособленности. Мы продвигаемся очень медленно; поэтому перенаселяется Земля, поэтому возникает чувство неудовлетворенности. Мы пытаемся выходить из положения путем создания на планетах станций со сменным персоналом; но это, как ты сам отлично понимаешь, не решает вопроса.
А рамакам чужды эмоции, их ничто не держит на Земле, потому что все свое они несут с собой, подобно древнему мыслителю. И они смогут расселиться, приспособиться, они будут обитать повсюду – да только нам что от этого? Создатели рамаков перепутали две вещи: завоевание Вселенной вообще – и завоевание ее человеком.
Это очевидно, правда, Маркус? Но есть люди, которые с этим не соглашаются: они не понимают, что при достаточном желании и воле все препятствия материального, физического характера могут быть преодолены, и наоборот: при отсутствии желания даже жизнь в раю покажется невыносимой. Главное – ступить подальше, говорят эти люди; ступить хотя бы не своей ногой, а железной стопой рамаков. Потом люди будут прилетать к ним как бы в гости, а помощь стартующим дальше кораблям рамаки смогут оказывать и сами, необходимость колоний отпадет.
Они не понимают, что не в одних же кораблях дело…
«Излагай суть», – говоришь ты? Я как раз к ней подошел.
Итак, психика. Но разве не в наших силах воздействовать на нее, преобразовывать нужным образом? Конечно, в наших. Разве мы уже сегодня не можем повлиять на психику человека таким образом, чтобы он именно в пространстве чувствовал себя дома, чтобы именно завоевание в битве с природой, именно освоение новых планет стало его основной мечтой, его главным делом? Мы можем сделать это; я могу. И если появятся такие люди, поколение таких людей, то зачем тогда рамаки и тому подобное? Люди совершат все сами, и жизнь начнет стремительно распространяться все дальше.
Нужно очень немногое: небольшое вмешательство на субмолекулярном уровне, лучше и вернее всего – еще когда человек не родился, еще в материнской утробе. Основа нашей психики, как известно, материальна, а следовательно, на нее можно влиять, можно изменять, если знать, разумеется, как это сделать. Я узнал.
Да, я теперь обрел силу. Это далось нелегко. Десять лет работы, десять лет поисков и экспериментов, сотни забракованных схем, множество уничтоженных животных. Но это – в прошлом; зерна проросли, и пришла пора собирать урожай. Вопрос достаточно сложен для популярного изложения, а ты никогда не имел никакого отношения ни к биологии, ни к физиологии, ни тем более к церебронике. Поэтому скажу только, что дело заключается в воздействии на память; не на ту, в которой у каждого из нас хранятся результаты собственного опыта, приобретенные знания, а на память врожденную, унаследованную от бесчисленных поколений, ту память, на основе которой действуют инстинкты животных, и которая и в деятельности человека играет роль, намного большую, чем мы обычно думаем.
Эта память стабильна; тем легче влиять на нее. И вот сегодня стало возможным стереть то, что в ней записано, и именно в той степени, в какой это нужно, и вместо стертого, как на ленту магнитофона или на кристалл кристаллографа, нанести новую запись. Нет, для этого не нужно оперативное вмешательство, мы не вводим в мозг электроды или что-либо подобное, влияние происходит при помощи направленного пучка электронов, пучка, обладающего определенной частотой колебаний; только и всего.
Только и всего; но когда человек родится, он уже не будет чувствовать себя привязанным к Земле невидимой, но крепкой цепью поколений. Наоборот, ему будет казаться, что родина его – там, где звезды. И он будет стремиться туда.
Он отправится в полет и достигнет неведомой прежде планеты. Он ступит на ее поверхность с таким чувством, как будто вернулся в старый дом, в котором увидел свет, но где не бывал очень давно, с самого раннего детства. Он пройдет по комнатам этого старого дома, по плоскогорьям и низменностям планеты и увидит, что все, в общем, осталось по-прежнему, он смутно вспоминает это. Только пауки сплели густые сети в углах, разросшиеся кусты заглядывают в окна, густой, почти в человеческий рост, травой заросли дорожки в саду, и еще многое пришло здесь в запустение за то время, пока человек гостил в других местах. Но стены стоят, и они не перестали быть стенами родительского дома. Нужно только поскорее вынуть из багажа топор и пилу, молоток и гвозди – и очень скоро дом снова станет пригоден для жизни, для того, чтобы ввести в него жену, чтобы вскоре здесь раздались голоса детей.
Так увидится человек с новой планетой. И хотя он будет знать, что на самом деле оказался здесь впервые, он не поверит этому. Он будет жить и преобразовывать; вспоминая о далекой Земле, он отдаст должное ее красоте и размаху, ее технике, науке, искусству порой он даже будет говорить обо всем этом с завистью. Но это будет та зависть, которая выливается в стремление сделать и у себя не хуже. И пусть еще не сразу будут там созданы великие книги и полотна, пусть долго еще Земля, а не новая планета останется главной базой науки; новая планета будет догонять и догонит. И когда земные корабли бросят якоря в ее космопорту, человек встретит пилотов, как братьев, равных по рождению и возможностям.
Вот как мы завоюем космос, а вовсе не с помощью рамаков. И то, что произойдет на одной планете, произойдет и на десятках, сотнях, наверное, тысячах других. А потом, укрепившись, люди эти начнут одну за другой осваивать или использовать остальные планеты. А потом и там вырастут люди, готовые к поискам новой родины… Не это ли нужно нам, Маркус? Ага, я вижу, ты киваешь и говоришь: «Именно это».
Тебя волнует этическая сторона? Уместно ли вмешиваться? А почему бы и нет? Вмешиваются же врачи в процесс родов! Предписывают же они женщине, что нужно делать для того, чтобы ребенок родился здоровым! Это – явления одного порядка. Тем более что никакие, совершенно никакие механизмы мозга не пострадают, человек будет абсолютно нормальным. У меня полон кабинет доказательств. Нет, не это беспокоит меня, Маркус, и не потому прошу я твоего совета. Сложность, мне кажется, в другом.
Обстоятельства сложились так, что объектом эксперимента будет Лена. Да-да, наша Лена. Так вышло, я не могу откладывать ни на день, ни на час. Завтра; потому что не позже, чем послезавтра будет решаться судьба рамаков, и я должен бросить на весы и горсть своих аргументов, небольшую горсточку, но весомую. Ты понимаешь, что Лена для меня – святыня, что бы там ни было когда-то. Тот ребенок, который будет у нее – он и наш, кто бы ни был его отцом. Ребенок Дальней разведки. Значит, он должен быть достоин Дальней, правда? Это говорит в пользу моего намерения, правда?
И еще одно. Раз так, то получается, что я провожу эксперимент как бы с частью самого себя. Раз он принадлежит Дальней, то и мне. А для меня это значит очень много.
Ну да, скажешь ты, так в чем же дело? Действуй, работай…
Дело в том, что она меня не любит. Если бы… о, тогда у меня не было бы ни малейших сомнений, и я не тревожил бы тогда твою память. Тогда она была бы тоже – я, и можно было бы одновременно и лежать на столе, и стоять у пульта церебропушки. Но, увы… ты знаешь. Так вот что меня смущает, Маркус, старина: а должен ли я это делать? Становиться вот так – пусть частично, пусть условно – отцом ее ребенка? Ведь он тогда будет если не плотью, то душой обязан мне, а не другому.
Если бы она сама захотела этого – насколько легче бы стало мне. Но Елена приехала вовсе не за этим, я толком даже не знаю – зачем. Я, конечно, смогу убедить, я умею убеждать, когда дело касается работы, а передумать у нее просто не останется времени, но это удастся мне лишь в том случае, если сам я буду убежден до конца.
А я не уверен. Еще и вот почему: впоследствии она не сможет не понять, в каком долгу она у меня за то, что ее ребенок избежит ее судьбы. Будет чувствовать себя должником; другая – нет, но она, с ее безжалостностью к себе, будет. А ты представляешь себе, что такое – чувствовать себя обязанной человеку, которого не любишь, но который любит тебя? Есть разные способы, Маркус, отдавать долги, и среди них такие, которых я боюсь, и – хочу.
Ты всегда был мудрецом, Маркус, что же ты скажешь?
Волгин закрыл глаза, вглядываясь, и Маркус возник перед его внутренним взглядом – такой же маленький, взъерошенный и сердитый, каким был перед своим последним выходом из головного форта экспедиции. «Ты все такой же путаник, – беззвучно прохрипел он, – годы тебя не исправили. К чему этот субъективизм? Делай свое дело, как ты выполнял бы задачу, будучи врачом. И заранее откажись от гонорара, это умели и раньше. А через год или три у тебя будет уже целая куча таких детей, и ты начнешь понемногу забывать, кто из них был первым, тем более что Лена не станет мозолить тебе глаза и совесть».
Так-то так, Маркус. Но первого не забыть, да и, кроме того, несколько лет придется держать его под наблюдением: только после этого можно станет работать с другими.
«Понимаю. Но – пусть так. Тем чаще ты будешь видеть Лену. Не об этом ли ты мечтал? А дальше… Кто знает, что будет дальше, где пройдет рубеж, за которым кончится признательность и начнется нечто другое? Но по этому поводу тебе лучше было бы обратиться к Бухори, не правда ли?»
Конечно, Маркус, я понимаю. Значит, ты думаешь, не стоит волновать себя такими рассуждениями? Но ведь совесть, Маркус, никогда не беспокоит зря. В чем же было дело?
«Я думаю, в том, что сегодня ты почувствовал, что не очень-то она удовлетворена жизнью. А ты – да, ты – удовлетворен, хотя Лены и не было у тебя. Ты ведь обладаешь способностью заменять одно другим – ты работал. И тебя смущает теперь, что ты станешь еще счастливее за ее счет: ведь именно она тебе поможет в этом. Ты станешь счастливее, и будто бы отнимешь что-то у нее, у которой и без того мало. Но это – чепуха, прости меня, друг мой. Самая настоящая чепуха. Счастье не подчиняется четырем правилам арифметики; разделенное на две или на сколько угодно частей, оно не становится меньше, наоборот – количество его в мире увеличивается. Поэтому не бойся делиться счастьем, но и не отказывайся, если его предлагают тебе другие. Они не станут от этого беднее, понятно тебе, липовый мыслитель Волгин? Получилось так, что твое счастье зависит от Елены – и в одном, и в другом аспекте. Так возьми то, что тебе дают, не отказывайся лишь потому, что тебе не дано остального. Вот, по-моему, причина твоих колебаний, милый Волгин, если, разумеется, ты твердо уверен во всем остальном».
О да, в остальном я уверен. Волнуюсь, конечно, но уверен.
«Тогда лети домой и отдохни, пока Витька устраивает Елену у твоих психофизиков. Успокойся, приведи себя в порядок. А завтра – начинай. Тебе не пройти мимо этого эксперимента. Иного пути нет. Так делай, Волгин, свой шаг через порог. Делай, разведчик!».
Спасибо тебе, Маркус. Спасибо, и дэ-дэ: дальней дороги.
«Моя дорога, Волгин, давно уже вся. Дэ-дэ тебе. Тебе – дальней дороги, доброй дороги. Будь счастлив…»
По телу забегали странные, приятные мурашки, пылинки на бенитовом покрытии поля начали едва слышно потрескивать. Волгин поднял голову, потер лоб. Шла очередная уборка; плывшая над полем сетка на квадратной раме наводила на пылинки заряд, а следовавший за нею медленно вращавшийся шар притягивал их. Значит, шесть часов. Поздновато. Но время не потеряно зря. Маркус помог мне. Я решился.
Друзья помогают даже тогда, когда их больше нет. Жаль, что я не увиделся сегодня с тем, кто заходил ко мне. Наверняка это был кто-то из бывших разведчиков. Только никак не припомню, из какого экипажа. Да это и не важно. Посидели бы, как следует, и вместе вспомнили бы Маркуса, Бухори и еще многих.
Но с ним мы еще увидимся. А сейчас – пора. У нас, дальних разведчиков, всегда много дел. Жаль, что мы никогда не успеваем сделать их все, до конца…
Медленно, нащупывая каждую позицию, Волгин поставил переключатель на поясе в нужное положение. Микродвигатель закряхтел: нелегко все-таки оторвать от земли такую тушу, как Волгин, даже если ее более не отягощают сомнения.
…На уровне двадцать седьмого этажа, подлетая к институту, Волгин увидел Витьку. Лаборант летел со стороны корпуса психофизиков. Значит, с Леной все в порядке.
На кого это он похож?
Волгин наморщил лоб. Витькины брови были сведены к переносице, пронзительный взгляд устремлен вперед, кисти рук совершали какие-то непонятные движения. Изображает пианиста? Нет, не то… Проигрывает завтрашние действия на пульте? Тоже нет. Да и за пультом работать не ему. Что же это за упражнения такие?
Волгин замедлил скорость.
А не похоже ли это… а не так ли работали перед посадкой пилоты Дальней? Им приходилось подчас на одной интуиции садиться прямо в черт знает что, задавая немало работы всей автоматике, – но при этом дел оставалось достаточно и на их долю.
Витька изображает дальнего разведчика? Он, который и летает-то редко? Парень, чье любимое занятие в свободное время – бродить по лесу или залечь, после утомительной прогулки, в траву и наслаждаться запахами Земли? Ха. И еще раз – ха.
Но пусть изображает.
А кто ему рассказывал о Дальней? Я? Наверное. А может, не я?
И куда он летит вообще? Не в институт. Куда-то прочь.
Летит по делам. Наверное, у него тоже есть какие-то свои дела. Что же тебя удивляет?
То, что он летит. Раньше он во всех случаях предпочитал лифты.
А ну его. Сейчас надо думать не об этом. Предстоит серьезный разговор…
Волгин вовремя подобрал ноги, чтобы совершить посадку на балкон по всем правилам.
10
Кургузая машина с тихим шорохом сложила крылья. Однако седок не торопился выходить. Еще несколько минут он сидел, откинувшись на спинку кресла. Потом открыл дверцу, высунул голову и осмотрелся.
– Какая буйная природа, – сказал он негромким, приятным голосом и почти с той же интонацией, с которой этим утром убеждал волгинского лаборанта в преимуществах рамаков. – Нет, я не упущу такого случая прогуляться пешком. Я никогда не простил бы себе, не воспользуйся я этой возможностью.
Вероятно, он обращался к машине; во всяком случае, больше никого вблизи не было. Машина не ответила; впрочем, человек и не ждал ответа.
– Да, – сказал он. – Кто ходит пешком – долго живет. Или как это там было? Вот здесь я и поброжу; большего уединения в этих краях желать, кажется, невозможно. Ты обождешь здесь. – Несомненно: он обращался к машине. – Надеюсь, я не заблужусь. Было бы очень смешно, если бы я заблудился, не правда ли?
Он углубился в чащу. Молодая сосенка ласково прикоснулась лапами к его одежде. Седой мох шуршал под ногами. Внезапно человек рванулся в сторону; в следующий миг он остановился, досадливо потирая ладонью грудь там, где сердце.
– Да, – пробормотал он, переводя дыхание. – Так испугаться простой белки… С отвычки. Да и нет ничего удивительного. Если увеличить ее раз в пятьдесят, зверь вовсе не покажется таким милым. А у меня ведь с собой ничего…
Он услышал приглушенный смешок и живо обернулся. Невдалеке стояла женщина в зеленых брюках, в руке она держала лист папоротника. Человек развел руками.
– Увы, – сказал он, обращаясь к женщине, – я испугался. Ничего удивительного: я трус от природы. А вы?
– Нет, – протянула она, – я бы не сказала.
– В таком случае, может быть, вы не испугаетесь, если я…
Он не закончил, потому что лицо женщины внезапно исказилось, широко раскрывшиеся глаза уставились куда-то вверх. Он успел еще подумать, что это гримаса самого настоящего страха. В следующий миг женщина пронзительно вскрикнула и кинулась в самую гущу кустарника, затрещали ветки. Тогда человек обернулся и на лице его показалась улыбка: по соседству стремительно снижались короткие цилиндры, увенчанные круглыми башенками. Человек шагнул им навстречу. Повиснув невысоко над землей, цилиндры раздвинулись и в свою очередь направились к нему, негромко шурша. Они остановились, когда их разделяло не более двух шагов.
– Мы не думали помешать вам, – торопливо произнес тот из рамаков, который стоял ближе.
– Нет, – сказал человек, махнув рукой. – Все равно…
Он хотел сказать: все равно у меня не хватило бы смелости, но решил, что рамаков это совершенно не касается.
– Мы сожалеем. И сразу же признаемся, что мы здесь не случайно: наши дежурные там, наверху, наблюдали за вами. Потому что вы единственный, кто может дать нам требуемую информацию.
Человек с любопытством посмотрел на рамака.
– Скажите, ваш лексикон и прочее: это записано или вы обходитесь каким-то другим образом?
– Это не запись, конечно, мы говорим, как и вы. Только у вас в основе лежит механический принцип, у нас – то, что вы называете электроникой.
– Устройства, наверное, достаточно сложны. Но ведь между собой вы не разговариваете?
– Разумеется, нет: медленно, и не нужно. Это – лишь для вас. Впоследствии при воспроизводстве мы исключим этот аппарат, как только надобность в нем отпадет.
– Ну да, – сказал человек. – Я так и думал. Так чем же могу помочь?
– Мы знаем, что вы – представитель Звездного флота.
– Что ни слово, то загадка, – пробормотал человек. – Откуда вы, например, знаете, что существует Звездный флот? В вас заложена какая-то информация?
– Во всяком случае, не в виде программы, как представляет большинство из вас. Просто мы, в отличие от людей, используем свой мозг полностью, а не на несколько процентов, поэтому каждый из нас запоминает большое количество информации. Источники же ее до сих пор нам предоставляли люди. Кроме того, существует, конечно, опыт.
– Благодарю вас. Я ведь до сих пор встречался с вами всего лишь однажды, и…
– Все, что вас интересует относительно нашего строения и возможностей, безусловно, содержится в данных, которые у вас есть.
– Да, – сказал человек, – но я терпеть не могу такого рода литературу. Предпочитаю получать сведения из первых рук.
– Мы тоже, поэтому мы и обратились к вам.
– Тогда спрашивайте, потому что времени у меня, – он взглянул на часы, – не так уж много: вечером у меня свидание, которое я и в самом деле не хотел бы пропустить.
– Скажите, вы много летали в космосе?
– Если вас интересует время, то пятнадцать лет. Если же расстояние, то я, право, затруднился бы подсчитать сразу.
– Не нужно. Не можете ли вы назвать число планет в других системах, на которых вы бывали?
– Н-ну, – сказал человек, – думаю, что-то около двух десятков. Вы хотите, чтобы я рассказал вам о них?
– Нет, наоборот, мы хотим, чтобы вы лишь отвечали на вопросы.
– Ах вот как. Слушаю?
– Встречались ли вам планеты, чья поверхность целиком покрыта водой?
– Да.
– Сколько?
– Одна.
– А такие, где воды на поверхности нет совсем?
– Конечно. Почти половина.
– Планеты, совершенно или почти совершенно лишенные атмосферы?
– Сам я на таких не высаживался: мы предпочитали поискать что-нибудь более подходящее. Но такие нам встречались. Во многих системах первые планеты расположены настолько близко к светилу, что…
– Это понятно.
– А что вам непонятно?
– Пока таких вещей нет. Ответьте, пожалуйста…
Допрос продолжался еще с полчаса, потом рамак сказал:
– Это все, благодарю вас.
– Теперь ответьте вы: зачем вам все это?
Рамак мгновенно ответил:
– Мы хотели сравнить наши выводы с практическими данными.
– Ну и что же?
– Все в порядке.
– А зачем вам заниматься этим сейчас, – спросил человек, – если вскоре вы начнете накапливать информацию такого рода куда быстрее и куда более полную, чем это делаем мы?
– Ваш вопрос очень сложен, – ответил рамак. – Я сейчас ничего не могу вам сказать. Вы чувствуете удовлетворение вследствие того, что побывали на многих планетах?
– Удовлетворение? – задумчиво переспросил человек. – Очевидно, да. Хотя мне и трудно было бы провести четкую грань между удовлетворением от самого факта и тем чувством, с которым мы, люди, вспоминаем о том, что происходило в молодости.
– Но ведь вы летаете и сейчас?
– Сейчас я просто не представляю себе иной жизни.
– Вы, по-видимому, не подвергались большой опасности за годы, проведенные вне Земли. Но такие опасности существуют?
– Кое-какие опасности существуют, – ответил представитель Звездного флота.
– И еще: как относится время, проведенное вами на планетах, к времени, ушедшему на передвижение в пространстве?
– Тут не обойтись без вычислений… Во всяком случае, в пространстве мы проводим куда больше времени, чем на планетах.
– Мы удовлетворимся и такой точностью. Не хотите ли вы спросить о чем-нибудь нас?
– Готовы ли вы к завтрашнему испытанию?
– О, сделать все то, что нужно вам, не составляет трудностей.
– А что нужно вам, кроме этого?
– Об этом, – сказал рамак, – мы думаем. Но нам пора. На полигоне считают, что мы не должны отлучаться: люди не привыкли к нам. Хотя вы, например…
– О, – любезно сказал представитель, – мне случалось видеть и не такое.
– А вам не случалось встречать в пространстве жизнь, похожую на нас?
– Если бы случалось, об этом знала бы вся Земля.
– Итак, до свидания, мы летим.
– До завтра, – вежливо сказал представитель Звездного флота.
Он проводил рамаков взглядом; они отплыли в сторону, чуть покачиваясь в воздухе, скользя над самой травой, так что можно было подумать, что это удаляются люди в старинных, до пят, одеждах, надетых поверх металлических доспехов. Затем, один за другим, рамаки взмыли в воздух.
– Счастливого пути, – пробормотал представитель. – Однако я начинаю сомневаться, даст ли завтрашнее испытание полное представление о том, что можно и чего нельзя ожидать от них. Разумеется, проспекты и описания не дают полной информации, да и кто может дать исчерпывающую информацию о такой не простой вещи, как разум?
Он вспомнил женщину с папоротником и вздохнул.
Он двинулся дальше, в глубь леса, с наслаждением вдыхая густой и, казалось, зеленоватый воздух. Прошло довольно много времени, в продолжение которого он не вымолвил ни слова, только глядел и дышал. Несколько минут он простоял под сосной, глядя на еще одну белку; на этот раз он не испугался. Затем его надолго задержало суетливое население высокого муравейника, сложенного из сухой хвои.
Стояла лесная тишина, которая никогда не бывает полной, но не надоедает и не беспокоит. Где-то стучал дятел, в противоположной стороне насвистывала еще какая-то птица. Затем в ее пение вмешалась еще одна; голос ее был резок и прерывист. Человек вздохнул и извлек из грудного кармашка маленькую коробочку. Он поднес ее ко рту.
– Не так громко, – сказал он. – Не то вы распугаете все живое в радиусе километра, а то и двух. Да, Витя, я слушаю вас с удовольствием. Жаждете видеть меня? Не ожидал, что произведу на вас такое впечатление… Да я вам, собственно, ничего и не рассказывал. Ах, остальное вы додумали сами? Смотрите, не ошибитесь…
Он помолчал, слушая.
– Ну, допустим, все это удастся, и я возьму вас. Но что скажет ваш шеф? Добрый? М-да, значит, он основательно изменился с тех пор, как я видел его в последний раз… Вот видите, он вам ничего не рассказывал, хотя у него есть, что порассказать, я знаю, – значит, он не хотел. А почему…
Он снова умолк. Потом сказал:
– Ну что же – это и в самом деле справедливо. Нельзя обрекать людей на что-то, не испробовав предварительно этого самому, тут я с вами согласен. Ну что вам сказать, давайте встретимся еще раз. Сейчас же? Жаль, конечно… Нет, я имею в виду прогулку: давно уже мне не приходилось бродить так по лесу. Что? – Он засмеялся, но в глазах его была грусть. – Ну, это не те леса. Ладно, что-нибудь мы с вами придумаем. Прилетайте – хотя бы на полигон рамаков, там есть такой маленький домик для приезжающих – вот-вот, там я и обосновался. А я вылетаю сейчас же.
Он опустил руку с коробочкой и еще с минуту постоял, вслушиваясь в частый стук дятла.
– Счастье не бывает продолжительным, – изрек он наконец. – Но ничего не поделаешь, юнец прав.
Он снова поднял коробочку, из одного угла ее вытянул антенну, больше похожую на обыкновенную булавку. Затем повернул назад и вскоре вышел к тому месту, где суетились муравьи.
– Надеюсь, – пробормотал он, – мы не помешаем им.
Он остановился и поднял коробочку над головой. Через несколько минут послышалось негромкое жужжание, кургузая машина повисла над поляной. Человек отошел в сторону, подальше от муравейника; машина послушно следовала за ним. Он остановился. Тогда машина мягко приземлилась.
– Да, – сказал человек. – Ты, конечно, помогаешь экономить время. Но все же пешком куда приятнее!
Он провел ладонью по дверце, прежде чем открыть ее. Затем уселся в кресло. Повернул несколько переключателей на пульте и закрыл глаза.
– Волгин, Волгин, – негромко проговорил он. – Не знаю, как с рамаками, но с тобой вряд ли мы договоримся, корифей. Интересно, насколько ты изменился за это время и в какую сторону. Все же то, что ты встретил Лену, говорит в твою пользу. Это я видел собственными глазами, это неоспоримый факт, именно такой, какие так уважают наши друзья рамаки. Но ни о чем другом я судить пока не могу.
Он открыл глаза вовремя – под ним уже были кусты и редкие строения полигона.
11
Волгин осторожно затворил за собой дверь, уселся в кресло, оперся на стол локтями и несколько секунд сидел не двигаясь, неотрывно глядя на Лену и бессознательно улыбаясь. Наконец и она, так же внимательно глядевшая на него, улыбнулась в ответ; тогда он внезапно стал серьезным, даже мрачным: он вспомнил, что визит его был не просто дружеским визитом.
– Ну как тебя устроили? – спросил он. – Хорошо? Если что-нибудь не так, только скажи.
– А ты здесь что – наместник Бога?
– Да вроде этого, – усмехнулся он, и почувствовал, что усмешка получилась неуместной – выходило, что он хвастался, а Волгин не хотел этого. – В общем, институт разрабатывает мою идею. Но обо мне – в другой раз, я, как видишь, в порядке, у меня все благополучно.
– Да, – сказала она. – Ты благополучен.
– Хватит обо мне. Давай лучше о тебе и… – он кивнул головой – о нем.
Она положила руку на живот.
– О нем – пока рано, тебе не кажется? Да и зачем?
– Что значит – зачем! Естественно же! А что касается того, что рано, то тут, понимаешь ли, все зависит от точки зрения.
– Не совсем понимаю, – сказала Елена. – Слушай, Волгин… Я ведь помню тебя и знаю, что такие предисловия – не к добру. Может быть, ты скажешь, в чем дело?
– Ну, конечно, скажу, – ответил он после недолгого колебания. – Дело в счастье, только и всего.
– В счастье… – медленно проговорила она. – В чьем?
– В твоем, в его…
– О моем, я думаю, не стоит. А у него все впереди.
– Вот-вот. Но «все впереди» – не значит «неизбежно впереди». Жизнь, как ты знаешь, выкидывает разное. И, может быть, надо уже заблаговременно подумать о том, чтобы это самое счастье для нового человека было гарантировано.
– Ты все еще говоришь загадками и самыми общими местами. Конечно, каждый человек мечтает о счастье. Только – что каждый из нас понимает под этим словом?
– Ну, вот взять тебя, – сказал Волгин и тряхнул волосами, словно отбрасывая что-то, мешавшее ему. – Взять тебя. Мы одни, мы давние друзья, можем говорить откровенно. Ты не была счастлива, я-то уж это знаю.
Ее веки дрогнули, когда она подтвердила:
– Не была.
– Хотя, – неожиданно для самого себя торопливо произнес Волгин, – хотя в свое время я, кажется, делал все…
– Если ты об этом, – прервала Елена, – то не надо.
– Да нет, не об этом… это нечаянно сказалось, прости. Но ты несчастлива была прежде всего потому, что всю жизнь хотела того, чего не могла. Так?
– Так, – тихо ответила она. – Но к чему…
– Подожди… Я не зря, поверь. Ты принадлежала Дальней разведке, правда? Вспомни, сколько раз мы стартовали вместе!
– Не так-то уж много…
– Пять раз, совершенно точно.
– Шесть, – сказала она. – Считая старт с Земли – шесть.
– Пусть шесть. Помнишь, с какой радостью, подъемом, как это еще называется, с каким восторгом ты это делала?
– Забыть нельзя. Если бы даже хотела…
– И как ты не смогла выдержать до конца ни одного поиска – тоже помнишь, конечно. Как отвратительно чувствовала себя, как не могла думать ни о чем другом, только о Земле, как мечтала о возвращении туда… И ведь ты не боялась, я растоптал бы каждого, кто заподозрил бы тебя в трусости, в слабодушии, но у нас таких не было: мы быстро научились отличать трусость от чего-то другого, и все мы знали, чего ты стоишь. Но с этим справиться ты не могла…
– Бывали дни, когда я просто переставала чувствовать себя человеком, – призналась Елена, опустив голову.
– Мы видели, что с тобой творится неладное. И посоветовали тебе взять длительный отпуск, пожить на Земле.
– Я часто думаю: не было ли это ошибкой? Этот самый первый отпуск.
– Сейчас легко судить себя. Но тогда даже со стороны было видно, каково тебе. Ты улетела на Землю, а мы двинулись дальше…
– Я еще не успела долететь до Земли, – сказала Елена, – как поняла, что не надо было уходить. Меня тянуло назад не меньше, чем из Дальней тянуло на Землю. Я высидела на планете полгода – через силу, стиснув зубы, честное слово. А потом вернулась.
– Да. И повторилось то же самое. Прошло не помню сколько месяцев – и тебе пришлось лететь на Землю опять.
Елена промолчала.
– Для любого другого этого хватило бы: обратный путь в Дальнюю разведку оказался бы для него закрыт. Но никто из нас не хотел расставаться с тобой. Мы ведь все переживали то же самое, только, видимо, не так сильно…
– Или вы сами оказались сильнее…
Волгин и сам думал так, но не хотел говорить этого вслух.
– Может быть, не знаю… Вероятно, да. Но мы старались сделать так, чтобы ты привыкла, чтобы избавилась от этой страшной тоски по Земле, которую, быть может, можно назвать и страхом перед бесконечностью пространства, перед множеством миров…
– Наверное, можно сказать и так.
– Это все равно. И это повторялось не два, не три раза. И мы не противились. Но однажды ты не вернулась сама, а Дальняя разведка уходила все дальше. Теперь это кажется немного смешным, но тогда достигнутое представлялось громадным.
– И я завидовала вам. А не вернулась потому, что поняла – бесполезно. Я не смогу преодолеть себя.
– И осталась на Земле.
– С тех пор я не вылетала даже на Луну. Земля не так уж мала, на ней достаточно места и занятий, – так казалось мне. Но столько лет прошло…
Елена внезапно умолкла, словно спазма перехватила ей горло. За нее закончил Волгин:
– Да, прошло много лет, и ты не нашла своего места, не нашла себе занятия. Не нашла и до сего дня. Так? Какие-то ветры, как сухой лист, гонят тебя по планете и нигде не разрешают остаться надолго…
– Хватит, Волгин, – сказала Елена. – Хватит. Мне не очень легко разговаривать об этом, и я не вижу смысла…
– Смысл есть, в том-то и дело, – сказал Волгин. – Ты ведь согласишься с тем, что мы не только сами должны учиться на своих ошибках, но и учить других; своих детей – прежде всего?
– Трудно было бы возразить. Но при чем тут…
– Слушай, Елена, – сказал Волгин, привстав и перегнувшись через стол, чтобы оказаться как можно ближе к ней. – Слушай, Ленка… Ты ведь не хочешь, чтобы этот – тот, кто у тебя будет, – пережил то же, что ты, чтобы и он – или она, все равно – всю жизнь не мог найти свое дело?
– Разве в этом главное? Я-то свое дело нашла, я только не смогла его делать, вот в чем причина…
– Ну пусть так. Ты ведь не станешь желать, чтобы и его постигла такая же судьба?
Она зябко повела плечами.
– Нет, не приведи… Об этом мне страшно и подумать.
– Но гарантировать, что так не получится, ты не можешь.
– Как будто ты можешь, – слабо усмехнулась она.
– Я могу, – сказал Волгин, распрямляясь. – Вот именно, что я – могу.
Елена молчала, недоверчиво глядя на него.
– Тут, понимаешь ли, открываются такие возможности, такие перспективы… Человек будет устремлен туда, в пространство, с самого начала. Он… Погоди, я лучше объясню тебе все по порядку…
Он отодвинул стул и стал расхаживать по комнате, объясняя и растолковывая, крича и размахивая для убедительности руками. Волгин знал, что ему удается передать другим свою убежденность – тогда, когда она у него есть; но он знал еще и то, что убежденность, если даже вначале ее не хватало, приходила к нему именно в процессе разговора, в процессе убеждения других: прежде всего он как бы убеждал сам себя, другие же были свидетелями этого процесса и, раньше или позже, проникались его мыслями сами. Однако сейчас ему не требовалось доказывать что-то себе, и тем убедительнее казались его аргументы. Елена слушала, глядя куда-то вверх, словно не хотела, чтобы слова связывались в сознании с образом Волгина, а существовали бы лишь сами по себе: тогда к оценке их не примешивалась симпатия или антипатия, любое из чувств, которые она могла питать к говорящему.
Наконец он кончил объяснять; наступила пауза, Волгин все еще расхаживал по комнате, но все медленнее, точно гася инерцию, приобретенную во время длинного монолога.
– Это ты… сам придумал? – наконец медленно спросила она.
– Моя идея. И разработкой руководил я сам, конечно. Но вообще много народу работало: целый институт.
– Ты молодец, – искренне сказала она. – Честное слово, ты молодец, и я тебе просто завидую.
– Да ну, что там, – сказал он.
– Нет, я от души тебя поздравляю. Действительно, тебе удалось сделать много. И еще потому завидую, что тебя Земля не выбила из правильного ритма.
Она помолчала.
– Откровенно говоря, тогда… тогда я не ожидала от тебя такого.
– Да нет, – дурашливо сказал Волгин, – мы всегда рады стараться. Значит, получилось, ты считаешь?
– Без сомнения.
– Ну и чудесно. Значит, завтра экспериментируем.
Он произнес это как бы между прочим, как говорят о вещи, которая сама собой разумеется и не заслуживает специальных разговоров. Елена приподняла брови, потом улыбнулась.
– Ты все такой же хитрец, Волгин.
– Разве? – удивился он, весело улыбаясь и как бы показывая этим, что серьезный разговор окончен, и все, что будет сказано впредь, следует воспринимать, лишь как шутку. Зато Елена перестала улыбаться.
– Ты хитер, – сказала она убежденно. – Потому что на самом деле ты отлично понимаешь, что признать твой успех – одно, а согласиться на твое предложение – совсем другое.
– Пусть. Но ты ведь согласилась, – сказал он, также перестав улыбаться.
– Тогда напомни, в какой момент это произошло. Напомни, потому что я, откровенно говоря, этого не припоминаю.
– Ну здравствуйте, – сказал он обиженно. – Ты все время слушала и кивала…
– Мне жаль было тебя прерывать. Ты рассказывал очень интересно, как и всегда… Но что касается меня…
– Погоди, – торопливо прервал Волгин. – Погоди. Наверное, ты не до конца поняла. Я тебе гарантирую – я гарантирую, понимаешь? – что твоему ребенку, стоит ему лишь вырасти, легко удастся сделать то, что не удалось тебе. Он будет чувствовать себя как дома там, где ты так и не смогла удержаться. Он пройдет по Вселенной…
– Нет, – сказала Елена. – Все это я поняла.
– Тогда в чем же дело?
– С чего ты взял, что я хочу, чтобы он прошел, как ты говоришь, по Вселенной? Чтобы он где-то там чувствовал себя как дома?
– Но ведь ты сама всю жизнь…
– Я. Но для него я не хочу этого. И прежде всего потому – но тебе не понять этого, Волгин, – прежде всего потому, что я не хочу с ним расставаться. Ни когда он будет маленьким, ни когда вырастет. Это будет самый близкий мне человек, и если он уйдет с той планеты, на которой вынуждена жить я, мне этого будет не вынести.
Волгин помолчал, ища возражений.
– Но ведь наши матери… – начал он.
– И нашим матерям было нелегко, они только старались не показать этого. Но от наших матерей это не зависело, хотя, вспомни, ни одна из них не уговаривала нас избрать эту стезю, они, наоборот, сопротивлялись, но пассивно, тихо, не желая сделать больно нам. Они предпочитали страдать сами. Я не могу ручаться: может быть, и он со временем изберет такой путь. Но я не сделаю ничего, совсем ничего, чтобы помочь ему в этом. Наоборот, скажу тебе откровенно: если я и тогда смогу как-то помешать этому – я помешаю. Ты понял?
– Понять нетрудно, – проворчал он. – Значит, ты предпочтешь, чтобы твой потомок сидел на Земле, как лягушка в болоте, вместо того, чтобы стать человеком Дальней разведки?
Елена покачала головой.
– У тебя никогда не было детей, Волгин…
– Кто же виноват? – обиженно спросил он. – Когда могли быть, этого не хотел кто-то другой.
– Я тогда еще надеялась на то, что смогу возвратиться. Но больше не надеюсь. Да я ведь тебя не обвиняю; я говорю просто: у тебя никогда не было детей и ты не можешь понять, что значит – заранее обречь себя на разлуку с ними. Нет, не укладывается в голове. Молчи, что бы ты ни сказал, все будет напрасно.
– Ну пускай, я все равно скажу. Не было детей! Ну и что же, что не было? Для меня Витька – все равно что сын. Чудесный парень, и перспективы у него – великолепные, и, по сути дела, я ему дал все, он у меня вырос. Так вот я тебе говорю совершенно честно: если бы мне надо было расстаться с ним, послать его в Дальнюю, а самому остаться здесь – а ты ведь знаешь, что мне никуда уже не тронуться с Земли, для полетов я непригоден, – все равно, я отправил бы его, ни минуты не раздумывая, и только радовался, что ему выпала такая прекрасная судьба.
– Это слова. Что же ты его не отправишь?
Волгин усмехнулся.
– По одной простой причине: нет на свете человека, менее приспособленного к работе разведчика, чем Витька. Он, конечно, романтик, но по натуре своей – мыслитель, а не деятель. Может быть, и даже наверняка, сам он этого еще не понимает, но я-то ясно вижу. Для него космос исключается. Он проживет на Земле, его дело – наука, и когда я помру, он мне глаза закроет и продолжит дело даже лучше, может быть, чем я… Но я отправил бы его, ручаюсь. Веришь?
– Верю… в то, что ты так думаешь. Но, значит, я не могу хотеть, чтобы мне глаза закрыли?
– Ну… это ведь я сказал просто так, а ты всерьез: насчет смерти. Конечно, мы смертны… Но до того времени и твой успеет возвратиться на Землю в высоких академических чинах-званиях и останется при тебе навечно… особенно если встретит такую женщину, как ты сама, которая всю жизнь будет стараться быть от него на расстоянии…
– Опять ты говоришь лишнее… Нет, все равно ты не убедил меня. Давай побеседуем лучше о чем-нибудь другом. Было ведь и в моей жизни хорошее. Повспоминаем об этом.
Но Волгин не был расположен вспоминать: все летело кувырком, и завтра некого будет класть на стол, и не о чем будет говорить на обсуждении проекта «Рамак»… И снова потому, что эта женщина, как и всю жизнь, уперлась, закостенела в желании сделать все по-своему, невзирая ни на какие аргументы… Что же, этого надо было ожидать; как же ты сразу не сообразил, Волгин: именно на нее твой дар убеждения никогда не действовал, ты просто упустил это из виду. И все же, другого выхода нет: она должна согласиться…
– Вспомнить, конечно, есть что, – сказал он. – Но только не знаю, так ли это будет приятно. Ведь, если говорить беспристрастно, вся моя жизнь заключалась в том, что я гнался за тобой, а ты или ускользала, или подставляла ножку…
Елена подняла брови.
– Разве? Не припоминаю…
– Ты, наверное, и не замечала этого… Но вспомни: после того, как ты ушла, я тоже уехал… Бросил работу и уехал, и два года сидел у Ирвинга в лаборатории. Я без этого вполне мог обойтись, но хотелось быть подальше от тех мест – ну, от наших мест. И только потом удалось создать этот вот институт… Разве не так?
– Не знаю, я ведь не следила за тобой. И потом, ты врешь: вовсе не вся твоя жизнь заключалась в погоне за мной…
Волгин в глубине души и сам знал, что не вся; но сейчас ему было выгодно убедить себя в обратном.
– Мне видней. И вот сейчас… Труд десяти лет – десяти! – повисает в воздухе, потому что ты… Значит, опять по твоей милости я окажусь у разбитого корыта.
Елена помолчала.
– Не верю, чтобы обстояло так трагично…
– Я ведь тебе рассказывал: если завтра я не проведу начальный этап эксперимента, то Корн… Да нужно ли повторять! Словом, мне тогда одно останется: бросить все и идти – разве что в садовники куда-нибудь.
– Разве плохо? – сказала она, но в голосе ее не было насмешки: кажется, она задумалась, и Волгину показалось, что еще не все потеряно.
– Плохо, конечно, – мрачно продолжал он, – что от самого близкого человека получаешь такое… Что ж, видно, такова моя судьба. А ведь могло быть иначе…
Он сам не смог бы, при всем желании, отделить здесь святую правду от натяжек и преувеличений; сейчас ему казалось, что каждое слово – истина. А то, что она оставалась для него самой близкой – это уж наверняка была правда, и Елена это почувствовала. Опустив веки, она молчала, и по участившемуся дыханию можно было понять, что какие-то мысли волнуют ее – только неизвестно было, что это за мысли. Потом она подняла глаза.
– Хочешь знать, почему тогда… почему я не осталась?
Волгин промолчал: вопрос был неожиданным.
– Потому что и тогда ты был таким же: эгоистичным, самонадеянным, думал в первую очередь о себе. И мне кажется – да нет, я уверена даже, – что и сейчас тобой руководит то же самое. Ох, эта твоя благополучная самонадеянность…
– Но на каком основании…
– На простом: опять твои собственные страдания – настоящие или предполагаемые – выступают на первый план. И опять ты забываешь обо мне, Волгин. И не хочешь понять одного: что если бы ты действительно… относился ко мне так, как говоришь, то ты бы согласился все перенести, лишь бы спокойна была я. Но ты неспособен на это…
К чертям, подумал Волгин. Все к чертям. Но ведь она не права! Не может быть, чтобы она была права… А что можно еще сделать? Не знаю. Хотя… Есть!
– Ладно, – сказал он. – Ты не веришь. Пусть, твое право. Но вот что я тебе скажу: во всем этом деле я-то и буду самой пострадавшей стороной, понятно? И вовсе я себя не жалею.
– Что-то я этого не заметила… – Елена прищурилась с подозрением.
– Ты же не дала мне договорить, – соврал Волгин. – Слушай: ведь от завтрашнего дня до того момента, когда он должен будет покинуть Землю, пройдет – ну, лет восемнадцать – двадцать, самое малое. Так?
– Наверное.
– Но ты ведь не думаешь, что в течение этих двадцати лет мы будем почивать на лаврах?
– Кто знает? Но, предположим, не будете.
– Значит, будем работать. А над чем? Скажу тебе по секрету, так и быть: ведь с детей мы только начинаем! В дальнейшем будем работать над все более взрослыми… ведь в принципе воздействие остается тем же, разница лишь в деталях, но уж коли в главном мы разобрались, то и в остальном разберемся. И вот, пока он будет расти, мы справимся и с этой задачей. А ты понимаешь, что это для тебя значит?
– Ну?
– Да то, что мы и на тебя воздействуем таким же образом, и ко времени старта – да нет, куда раньше! – ты будешь готова отправиться туда же, куда и он, осуществить то самое, что всю жизнь тебе не удавалось. Понятно? Представь себе, что не он один летит, а вы оба, и ты свободна от той тоски, которая столько раз заставляла тебя возвращаться с полдороги… Ну, как?
Если бы понадобилось, Волгин был бы готов поклясться, что тема эта уже включена в план института, и не чувствовал бы себя виновным во лжи, потому что уже завтра эта тема и вправду окажется в плане. Но клятвы не потребовалось; Волгин увидел, как в глазах Елены загорелся огонек, и облегченно перевел дыхание.
– Ну, Ленка, договорились?
– Мне надо подумать, – сказала она медленно. – Тут есть о чем подумать. Но я отвечу тебе завтра, рано утром.
Но теперь он был уже уверен в согласии.
– Ладно, думай. А я пойду пока, займусь своими делами. Но ты не думай особенно долго, лучше ложись поскорее спать. А наутро проснешься – и все станет ясным.
– Ладно. Иди, иди.
Он улыбнулся и помахал рукой.
– До завтра, – сказал он вполголоса, как бы расставаясь после любовного свидания и назначая новое.
– До свидания, – сказала она, глядя на него вдруг опустевшими глазами.
Волгин осторожно затворил за собою дверь и внезапно почувствовал, что страшно устал и что у него дрожат руки.
12
На свой этаж он поднялся на лифте и медленно пошел по коридору, приближаясь к лаборатории.
Это была не приятная физическая усталость – он даже забыл, когда испытывал ее в последний раз, – а тяжелая нервная усталость, когда не хочется ни работать, ни отдыхать, когда требуется какая-то разрядка, но трудно представить, в чем она могла бы заключаться. Даже не усталость, а оцепенение, как после минувшей опасности. Да и то – опасность действительно была. Большая опасность. Если бы в последний момент спасительная мысль не пришла ему в голову, Лена не согласилась бы, и тогда…
Но мысль и в самом деле была неплоха. Даже не то, что неплоха, а просто необходима. Неизбежна. Она уже созрела где-то в подсознании и в любом случае всплыла бы на поверхность. Или упала бы, как созревшее яблоко. А сегодня оно еще не упало бы само, это румяное яблочко, но дерево потрясли (основательно потрясла его Лена!) – и плод не выдержал, свалился.
Опять тебе повезло: даже из неудачи – пусть частичной, пусть даже и не постигшей тебя, но назревавшей, – даже из неудачи ты смог извлечь что-то полезное.
Волгин почувствовал, что ему становится легче: он снова начал подчиняться самогипнозу, снова взошел на привычный мостик удачливого мастера. Но еще чего-то не хватало.
Он остановился около одной из дверей и постоял, размышляя. В этой комнате к нему иногда приходили удачные мысли.
Он вошел. В виварии был полумрак и, несмотря на кондиционирование, пахло, как полагается. Волгин уселся на диванчик. В углу снова завозились притихшие было коты. Они принялись ожесточенно грызть траву. Эти коты жрали только траву, невзирая на абсолютную к этому неприспособленность. Чтобы чудаки не подохли, их приходилось подкармливать искусственно, это были пожизненные волгинские пенсионеры; наследственная память была из них выбита начисто и заменена другой.
Свирепо фырча, коты сцепились из-за какого-то, видимо, особо вкусного стебля. Нет, бойцовых инстинктов они не утратили. И никто не утратил, и человек не утратит. Но эти коты – как и все, с кем Волгин до сих пор работал, – были исправлены еще в материнской утробе. А если теперь попробовать еще раз повоздействовать на них? Хватит, поели они травки…
В самом деле. Взять вот этого скоррегированного кота, положить на стол и произвести все в обратном порядке. Ведь норма известна.
Конечно, ни удача, ни неудача здесь ничего не докажут. Хотя нет: удача докажет принципиальную возможность, и сразу станет ясно, в каком направлении работать. Неудача же будет означать лишь, что надо искать другой путь к той же самой цели. Но времени у нас хватит, найдем.
Итак, возьмем кота. Сейчас же; к чему откладывать то, что хочется сделать? Одного из вот этих. Или… Ксс!
Словно дожидавшийся этого зова, со стеллажа метнулся вверх Василий Васильевич, матерый котище. Он кинулся в воздух, передние лапы, словно крылья, захлопали, затрепетали… Но лапы – не крылья, когти не помогут взлететь высоко: кот тяжело грохнулся на пол и обиженно и хрипло мяукнул. Это повторялось уже в который раз, но не в его силах было перебороть привитое ему желание полета.
Волгин схватил его за шиворот. Вот с кого начнем, а то в один прекрасный день он и вовсе разобьется об пол: к сожалению, инстинкт, повелевавший приземляться на все четыре лапы, был котом утрачен… Тяжелый Василий Васильевич висел неподвижно, сохраняя солидность, да и не в первый раз уже его так таскали, привык… Волгин вошел в лабораторию и сунул кота в клетку; тот сейчас же улегся, обвил хвостом лапы. Волгин натянул халат, приготовил все для наркоза, позвал Витьку, но того не оказалось; Волгин пожал плечами и сделал все сам. Потом уложил кота на стол, называемый собачьим, нашел соответствующую карту, заложил ее в приемник церебропушки и подождал, пока аппарат настроился на нужные частоты. Волгин в это время соображал, с какой мощности начинать. Это был первый, черновой опыт, рассчитывать можно было лишь на интуицию, но и это уже не так мало.
Потом он надвинул экран, включил ток; когда Васькин мозг появился на экране, Волгин, меняя фокусировку, стал забираться все глубже, отыскивая нужный центр. С первого захода он не отыскал, усилил увеличение и начал сначала. Ага, вот он. Здесь все заложено. Мощность дадим пока… ну, хотя бы вот такую – он повернул лимб на несколько делений. И для начала сотрем все, что здесь записано. Выдержку побольше. Ну, начали.
Он включил ток, и только теперь почувствовал, что усталость окончательно прошла, потому что он наконец-то занялся своим настоящим делом, а не дипломатией и всем прочим. Время потекло быстро, как будто до конца открылся кран. Несколько раз Волгин менял частоту и мощность. Потом сделал перерыв на несколько минут. Распятый и пристегнутый к столу кот мирно спал и вряд ли ему снилось, что в судьбе его происходит крутой поворот.
Ну хорошо, все предыдущие записи мы стерли. Но память не может быть пустой. Сейчас мы попытаемся заполнить ее тем, что содержалось в ней до рождения, до начала работы с этим Василием. Его тогдашняя запись сохранилась, надо опять нанести ее, важно только угадать мощность и выдержку. Ну, рискнем. Где его карта? Витя!
Витьки все еще не было, и Волгин осуждающе покачал головой. Он принялся сам искать запись там, где, помнится, видел ее в последний раз, и не нашел. Сердясь он перевернул все и наконец нашел нужную катушку – не там, где когда-то видел ее, а на ее законном месте, в нужном гнезде. Он еще больше разозлился, теперь уже сам на себя, походил по лаборатории, чтобы успокоиться, потом заправил катушку и снова принялся за работу.
Когда он кончил, за окном было уже темно; день прошел, да и вечер, откровенно говоря, кончался. Он вызвал, кого следовало – пусть займутся котом. Интересно, что получится; жаль, что узнать об этом можно будет лишь завтра, но предчувствие такое, что все окажется в порядке и, следовательно, принципиальная возможность влияния и на взрослые особи при помощи уже созданной аппаратуры будет доказана. Конечно, кто-то станет возражать: вы, мол, не привили ничего нового, просто стерли свою же запись, а извечные кошачьи инстинкты все время благополучно существовали под ней, и теперь всплыли на поверхность; это – одно, а что-то создать заново – совсем другое… Оппонентов, как всегда, будет предостаточно. Но и с ними мы разделаемся, важно быть уверенным самому.
Кота унесли. Теперь самое время продолжать работу, закончить всю подготовку к завтрашнему дню. Большой стол уже установлен, и следящая автоматика тоже. Однако все это предстоит еще опробовать. Сейчас неплохо было бы положить кого-нибудь на место подопытной, проверить, как работают все механизмы, системы, приборы… Ого, сколько еще работы! А Витька гуляет. Неужели его еще нет? Не может быть, чтобы он сегодня не зашел больше. Витька – не тот человек!
– Витя! – позвал Волгин. – Да где же ты пропал?
Ага, вот где: возможно, он сидит у психофизиков и дожидается, пока они изготовят карты с Лениными данными, для завтрашней работы. Если так – молодец парень.
Он позвонил к психофизикам. Витьки там не оказалось. Тем хуже для них: чтобы разговор не пропал зря, пришлось их выругать за то, что карты будут готовы только завтра, рано утром. Волгин выговорился, но легче ему от этого не стало: Витьки-то не было, а работать без него было непривычно, неуютно и вообще паршиво.
Волгин с досады удалился в свой кабинет и сильно хлопнул дверью. Тут с этой подготовкой он совсем ослабил вожжи, все гуляют, когда и где хотят. И Витька – первый.
Ну подожди у меня, мушкетер. Хотел было я завтра поставить тебя рядом, чтобы смотрел и учился. А теперь посажу вон в ту кутузку, к стабилизаторам напряжения. И просидишь все время, глядя на вольтметры и покрикивая на автоматы, которые все равно стабилизируют без тебя. Весело тебе будет? А?..
Волгин прислушался. Что-то гудело в лаборатории. Нет, он пушку выключил. Кто же там возится?
Определенно Витька: пришел, прокрался и включил аппарат с таким видом, словно и не отлучался никуда.
– Виктор! – рявкнул Волгин. – Выключи машину и иди сюда!
Витька показался на пороге. Сейчас это не был ни граф Монте-Кристо, ни Ушаков, прославленный командор звездников. Это был просто Витька. Восемнадцати с половиной лет отроду, лаборант.
– Так вот, – сказал Волгин. – Слушай, какая мне пришла идея: после этого эксперимента сразу же займемся одной вещью…
Он стал рассказывать, как всегда увлекаясь. Потом внезапно умолк, глядя на Витьку: парень слушал внимательно, как всегда, но в глазах его было страдание, прямо боль. Такого не замечалось раньше.
– Ты что, – спросил Волгин, недоумевая. – Нездоров? У врача был?
– Здоров, – сказал Витька тусклым голосом.
– Тогда, может… – Волгин подбоченился, – может быть, тема разговора тебя не интересует?
– Интересует. Только…
– Ну, ну? Смелее!
– Мне над этой темой не работать.
– Это еще почему? – Это было так нелепо, что Волгин забыл даже рассердиться.
– «Вега» уходит завтра, – несчастно сказал Витька и крепко сжал челюсти, – даже заметно было, как напряглись скулы.
– Что еще за «Вега»?
– Корабль Дальней разведки.
– Нет сейчас на Земле никаких кораблей Дальней разведки.
– Есть. «Вега» вне расписания, и пришла по заданию флота. Но корабль-то их.
– Ну допустим, так. Но тебе-то что до этого? Ты-то, надеюсь, в Дальнюю не собираешься?
– Вот именно собираюсь, – сказал Витька.
– Ты? Прямо смешно…
– Что ж смешного?
– Да не возьмут тебя, как бы ты ни хотел. Не дорос. Да и что тебе там делать?
– Что все.
– Да ведь есть у тебя дело здесь, в институте. Не знаю, какого еще рожна тебе нужно.
– Это правильно, – согласился Витька. – Только вы-то сами там были?
– В Дальней? Был.
– Так что вы знаете, для чего работаете. А я?
– А что ты?
– Я там не был и не знаю.
– Ну если тебе так нужно, я могу рассказать…
– Нет, я сам хочу видеть.
– Ну… ладно, дам тебе время – слетай на Луну, поживи, там у меня знакомые есть; там все увидишь: что Луна, что любая планета за тридевять систем – все равно.
– Наверное, не все равно, – рассудительно сказал Витька, – раз с Луны никто не уезжает, а с дальних станций…
Волгин вздохнул и пожал плечами.
– Ладно, может быть, в чем-то ты и прав, подумаем на досуге. Но сейчас в Дальнюю тебя не возьмут. Может, хочешь зайцем улететь? И не пытайся: нынче такие номера не проходят. Хотели бы тебя взять, у меня спросили бы: для них я не чужой человек. Просто тебе кто-то задурил голову, а ты…
– Меня взяли, – сказал Витька. – Самый главный их взял: представитель Звездного флота. Он еще сегодня утром к нам приходил, хотел вас увидеть…
– Что же, он насчет тебя, что ли, хотел говорить? Что ты за персона, что даже в Дальней разведке известен?
– Нет, я сам его попросил.
– Ага, – сказал Волгин. – Ты попросил, он согласился… все понятно, все очень просто. Как в сказке.
Он умолк и зашагал по кабинету из угла в угол, заложив руки за спину. Витька сидел, глядя вдаль и, наверное, уже представлял себе, что оказался в Дальней разведке.
Рано размечтался, милый. Рано. Да. Но кто бы мог подумать…
И вдруг странная мысль пришла Волгину в голову, так что он даже остановился с ходу, словно налетев на стол. Всего несколько часов прошло с тех пор, как он, Волгин, сказал Елене: если бы потребовалось, отпустил бы Витьку, как бы это тяжело ни было. Но не получилось ли так, что Витька после этого увиделся с Еленой, и она, желая проверить, испытать искренность Волгина, уговорила мальчишку, и он в самом деле воспылал желанием? Конечно, можно сказать ему категорически: никуда не поедешь, я буду протестовать, я сделаю так, что Дальняя откажется… Можно. И можно в самом деле добиться того, что никто его не возьмет: доказать хотя бы, что Витькино участие в важнейших экспериментах просто-таки необходимо. Все это возможно; но если завтра Елена небрежно осведомится о том, к какому же решению пришел Волгин по этому поводу, и если она узнает или поймет (а она и узнает, и поймет), что Волгин не только не согласился, но всячески противодействовал этому, то ее участие в эксперименте будет наверняка исключено. Да, именно так: не зря же она сказала, что будет думать до завтрашнего утра…
Нет, ломиться напрямик нельзя.
Но и оставить так нельзя: трудно себе представить, как он будет обходиться без Витьки. Конечно, он говорил Лене; но это была, так сказать, риторическая фигура, этого не следовало понимать буквально…
Волгин почувствовал, что от презрения к самому себе на душе становится мутно. Однако презирай, не презирай себя, это ничего не меняло, и просто так, сразу, отказаться от Витьки он не мог. Столько труда вложил Волгин в этого парня, столько идей высказал ему – в первую очередь ему! – столько надежд связывал с ним – видел его наследником научного, интеллектуального имущества (Волгин хотел было добавить «и морального», но отчего-то запнулся даже в мыслях), – и вдруг ни с того ни с сего послать этого мальчишку в Дальнюю, а что такое Дальняя, Волгин знал, и не ведать, дождешься ли его оттуда: Дальняя – не на месяц и не на год, а на годы, а то и навсегда. Как у Маркуса, у Бухори…
Нет, Витька не уйдет. И не уйдет – по своему желанию. Сам не захочет. Или… или заболеет. Тяжело. Надолго? Нет: «Вега», по его словам, стартует завтра, а уж когда она отчалит, ее не догонишь. То, что корабли Дальней приходят на Землю нечасто, имеет, оказывается, и свои хорошие стороны… Все очень просто: для начала…
Для начала он подошел к интеркому.
– Как там наш Василий?
– Спит, – ответили ему. – Просыпаться не собирается.
– Ясно. А состояние?
– Показатели в норме.
– Ну, замечательно, – сказал он, кончая разговор.
Значит, как пока можно судить, вмешательство никакого вреда коту не причинило. Конечно, это еще не значит, что не причинит и человеку. Но ведь здесь речь идет не о столь грубом вмешательстве, а лишь… Лишь о чем? Нет, на болезнь решиться трудно. Не надо: она и сама по себе опасна, даже без вмешательства. А вот чуть-чуть пройтись резиночкой по памяти, не по врожденной, а по благоприобретенной, по самым верхам, чтобы только память сегодняшнюю стереть – и все в порядке. Парень проснется, не помня о Дальней ничего. А уж Волгин позаботится, чтобы никто не смог напомнить ему… Работа предстоит не то что ювелирная – ювелир тут покажется каменотесом, – но не работы же бояться Волгину!
– Ну ладно, – сказал он мирно. – Поспорили, и хватит. Хочешь в космос – мотай. Дуй, дуй, возражать не стану. Но сегодня-то еще поработаем?
– Ну конечно, – радостно сказал Витька.
– Испытаем стол, погоняем аппаратуру…
Витька кивнул. Они вышли в лабораторию. Стол стоял на своем месте, неуклюжий конус нависал над ним, толстые кабели тянулись от него к решающим устройствам, скрытым за облицовкой стен. Витька ждал распоряжений, в его глазах была готовность сделать все – и в благодарность за волгинское решение, и потому, что в последний раз… Волгин не стал смотреть Витьке в глаза. Он деловито заложил в приемник Витькины карты, захлопнул крышку и сказал:
– Сначала проверим точность углубления, остроту, фокусировку…
Это и в самом деле надо было проверить: собачий стол давно отрегулирован, а этот – новый.
– Я лягу, – сказал Витька.
– Ложись.
Захваты туго, как полагается, обхватили Витьку, зафиксировали его положение так, что он при всем желании не смог бы пошевелиться. Так и полагалось. Волгин отошел к пульту.
– Не бойся: я вхолостую.
– А чего мне бояться, – сказал Витька. – Я же не женщина, у меня все равно никто не родится.
Он засмеялся, и Волгин заставил себя улыбнуться. Затем накатил экран и включил. Мозг. Глубже. Левее, левее… сейчас совпадет с картой этого уровня, с ответной… стоп!
Но конус и сам остановился, как только отметка совпала.
Волгин взглянул на Витьку. Парень смотрел наискось – в потолок, моргал и улыбался. Думал он явно не об эксперименте, и это придало Волгину решимости, которую он уже начал было терять.
– Значит, так, – сказал Волгин и протянул руку к выключателю конуса.
Что позади открылась дверь, он даже не почувствовал, а увидел всею спиною, и обернулся, радуясь возможности излить на кого попало всю наконец-то вскипевшую в нем ярость.
– Кто смеет во время эксперимента… – начал он высоким, резким голосом, указывая пальцем на дверь, пока речь еще не успела дойти до этой, заключительной части. – Кто…
Вошедший остановился, но не испугался, а сказал:
– Это я.
13
Ветер размашисто бил в окна, и упругие стекла едва слышно гудели. Волгину захотелось распахнуть рамы и впустить в комнату этот мощный и дружеский ветер. Но все окна были сейчас намертво заблокированы; чтобы кому-нибудь, по рассеянности, не вздумалось полететь в такую погоду.
А ветер был нужен, потому что, как припомнилось вдруг, они никогда не разговаривали в тишине, в покое. За бортами кораблей, за непроницаемыми колпаками разведывательных станций когда-то бушевали ураганы иных планет. Но здесь была Земля, да и другими были их личные эпохи.
– Я не видел тебя сто лет, – сказал гость. – Или больше?
Волгин шагал по кабинету, беря и вновь ставя на место разные ненужные безделушки: устарелый микрофильмоскоп, кусок озодиона с Пенелопы, древний индикатор связи… Волгину всегда было жаль расставаться с привычными вещами и, по мере появления новых, они переселялись на специально для этого предназначенный столик в углу. Иногда ему нравилось перебирать их и вспоминать то, что было связано с каждой вещью. Например, кусок озодиона до сих пор сохранил странный запах планеты…
Волгин осторожно положил его на место, и мускульное ощущение подсказало ему, что когда-то это уже было: и они вдвоем, и это осторожное движение руки с камнем, и ветер, отступающий и с разбега снова таранящий прозрачную стену… Волгин отрицательно покачал головой и тотчас же вспомнил: да, было. На Галатее, в пятьдесят пятом году, то ли в пятьдесят шестом. Бесновалась песчаная буря, и надо было в конце концов разобраться с предположением о наличии в этом песке особых форм бактериальной флоры, активной именно в песке и именно в летящем. Она пожирала все металлопласты, в состав которых входил ванадий. После каждой песчаной бури все детали из этого материала наперебой вылетали из строя, хотя сам по себе песок при любой скорости не мог бы одолеть их: на борьбу с ураганным песком металлопласты и были рассчитаны.
Обнаружить эту микрофлору можно было, лишь выйдя из станции во время бури. Маркус первым решился на этот сумасшедший, никем не разрешенный опыт – и не вернулся. Искать его было бесполезно, но Волгин все же повторил опыт и даже пытался объединить его с поисками. Волгину повезло куда больше: буря улеглась, когда не прошло еще и двух часов с момента его выхода, и его нашли в изъеденном скафандре, но еще дышавшего – правда, воздухом Пенелопы, что уже само по себе здоровья не прибавляло. Этим и завершилась для него работа в Дальней разведке, как и любая другая работа вне Земли. Да и на Землю он тогда только чудом возвратился. Так это было, да… Но работа нашлась и на Земле, страсть к рискованным экспериментам не прошла. А о том, что никакой микрофлоры не было, а были реакции, протекавшие в ураганном песке вовсе не так, как в лаборатории, Волгин узнал гораздо позже из краткого сообщения, где даже не было сказано, кому из химиков это удалось установить, Маркус тоже был химик. Но он не вернулся.
– Давно это было, – сказал Волгин.
– Давно, – согласился Маркус. – И, кстати, не совсем точно. Мне как раз повезло больше: я сразу угодил в щель, и потом меня оттуда спокойно вытащили. Но ты этого уже не видел. Я, конечно, перетрусил, но в щели было очень удобно заниматься проверкой этого предположения, чем я и развлекся… Не стрясись с тобой беды, ты не хоронил бы меня даже мысленно.
– Но как могло получиться, что за все эти годы я ничего не слышал о тебе? Я ведь так часто вспоминал…
– Не сомневаюсь в этом. Но, по-видимому, на все есть причины; наверное, тебе хватало воспоминаний и уверенности в том, что все произошло именно так, как тебе представлялось.
– Откровенно говоря, мне не очень хотелось растравлять рану.
– Это одно и то же. А что касается нас, то мы нашли твой след не сразу: в первое время пребывания на Земле ты не сидел на месте. И еще одна причина была…
– Интересно…
– Эти первые годы были у тебя, мне кажется, счастливыми.
– Ты говоришь о Лене?
– Ты догадлив.
– Да, это были хорошие годы.
– Тем хуже казались они мне, Волгин. Видишь, я не скрываю.
– Вот что, – протянул Волгин. – Впрочем, я всегда догадывался…
– Всегда – в этом я сомневаюсь. Но к чему этот разговор?
– Пожалуй, ты прав… Значит, ты до сих пор в Дальней?
– Я до сих пор в Дальней.
– Видимо, я забываю голоса. Даже твой, хотя его-то, казалось, не забуду никогда.
– С голосом – не твоя вина. Кое-что у меня было попорчено, мне подремонтировали. Разведчики нашего возраста часто состоят наполовину из протезов.
– Но душа остается той же.
– Да, ум и сердце.
– Куда вы сейчас забрались? Вести от вас приходят редко…
– Забрались? Далеко. А ты?
– Я тоже не терял времени.
– Твой парень рассказывал. Да, в общем, мы все время в курсе дела. Что мы были бы за разведчики, если, уходя вдаль, теряли бы из виду свою планету? Помнишь: «Дальняя разведка – не профессия, даже не призвание; это – форма жизни». И в этой жизни полагается помнить о друзьях.
– Ладно, вот, кстати, о парне: ты забираешь его? Почему, зачем?
– Пусть он увидит это, пусть поживет там. Тогда он сможет решить, должен ли и вправе ли он делать то, к чему ты его готовишь.
– А у тебя, например, разве возникают сомнения в необходимости того, чем я занимаюсь?
Голос Волгина напрягся; Маркус улыбнулся.
– Нет, я не сомневаюсь.
– Вот видишь!
– Подожди. Я не сомневаюсь в том, что это просто-напросто не нужно.
Волгин помолчал. Потом переспросил:
– Ка-ак?
– Не нужно, друг мой. Это лишнее.
Волгин усмехнулся.
– Ну да, я и забыл… Утром я нечаянно слышал ваш разговор; ты стал приверженцем рамаков, конечно.
– Ничуть. Я им не симпатизирую. Нет, совершенно серьезно.
– Но в таком случае я не понимаю…
– Сейчас поймешь. Конечно, человеку, летавшему столько, сколько пришлось любому из нас, не хочется уступать место каким-то гомункулам, как бы они ни были совершенны, тем более что я абсолютно уверен в том, что мы и сами, без них, справимся с задачей.
– Так же и я считаю. Но…
– Помолчи, дай досказать. Да, здесь мы с тобой солидарны. Но разве то, что исповедуешь ты, не тот же рамакизм – только под другим соусом?
Поджав губы, Волгин отрицательно покачал головой.
– Ты просто не понял, Маркус.
– Я отлично понял, а вот ты, боюсь, не сознаешь всего. Мы с тобой в принципе не хотим рамаков потому, что они не люди. Так?
– Ну правильно.
– А те, за кого ратуешь ты, они будут людьми?
– То есть как?
– Что такое человек? Это, я думаю, не только внешность, и не только физиологическое тождество с нами. Человек – это сумма всех качеств, и физических, и психических, и в том числе тех, которых ты хочешь его лишить: той же унаследованной памяти, памяти предков. Той же тоски по Земле, короче говоря. Ты отнимешь эту тоску, эту любовь к своей планете, к своим корням. А ты представляешь, что останется? Я – нет, и ты тоже не знаешь, и даже лучшая из наших машин не даст тебе точного предсказания. Но уже сейчас можно сказать одно: это не будут люди. Так при чем тут, Волгин, твоя забота о людях, если ты уже в самом начале хочешь освободиться от них и действовать при помощи кого-то другого – тоже, быть может, рамаков, только не кристаллических, а человекоподобных? Боюсь, что поиск слишком увлек тебя и ты перестал думать об остальном.
– А я боюсь, что это ты забираешься куда-то, слишком уж далеко. И, скажу откровенно, от тебя меньше всего ожидал этого. Потому что кто-кто, а ты-то знаешь, во что иногда обходится освоение космоса людьми, со всеми их слабостями, с этой самой тоской, со следующей за ней неуравновешенностью, со всем тем… Да что говорить! Я думаю прежде всего о завоевании космоса, которое становится все более неотложной задачей, а ты…
– Погоди. Ты думаешь о завоевании космоса, очень хорошо. Но для чего?
– Для чего я думаю?
– Не хитри.
– Я-то не хитрю. Но вот ты, я вижу, стал настоящим оратором.
– Да, мне доставляет удовольствие слышать свой голос. Тот, которым наградили меня медики. Приятный тембр, правда?
– Исключительно.
– Но давай уж договорим до конца. Ты не ответил мне: для чего же, по-твоему, само завоевание космоса?
– Ну, ясно же: для расселения, для распространения…
– Так отвечают в школе. Но не кажется ли тебе, Волгин, что завоевание космоса в первую очередь нужно для того, чтобы человек все больше очеловечивался? Чтобы, в непрерывной борьбе с самим собой в первую очередь поднимался все выше? Ведь, когда мы думаем, что боремся с природой, мы в первую очередь все равно боремся с собой – за себя: со своей ленью и трусостью, нерешительностью и отсутствием организованности, и неумелостью, и отсутствием подлинного коллективизма, и еще многим… Преодоление всего этого достается нам нелегко; но, преодолевая каждый из этих недостатков, мы приобретаем новые, неисчезающие моральные ценности, мы становимся выше самих же себя – вчерашних. А что приобретет человек в результате того, что минуту или час полежит под твоим аппаратом? Ты хочешь отнять у него память предков, так? Браво, Волгин, великий ученый! А потом тебе покажется, что надо отнять и его личную память – если она вдруг в чем-то начнет мешать.
Волгин закашлялся.
– А потом придет чья очередь? Совести? Любви? Нет, куда Корну с его рамаками до тебя, Волгин! Он хоть, не мудрствуя лукаво, преподнес нам кристаллический мозг, а ты куда хитрее…
Волгин молчал, опустив голову; в мозгу не было ни одной мысли, только обида и боль. Через несколько секунд он поднял глаза.
– Да… С тобой – воображаемым я беседовал не так…
– Боюсь, ты чересчур идеализировал меня – мертвого, – засмеялся Маркус, и в смехе его проскользнуло что-то от прежней, каркающей манеры. – Ничего не поделаешь, тут я подвел тебя.
– Ничего, – сказал Волгин. – В конце концов, это всего лишь твое личное мнение. Ты не можешь запретить мне работать, не в силах зачеркнуть труд десятилетия. Говори, говори! Но через несколько часов сюда придет человек…
– Говори уж прямо: придет Лена… Но она не придет.
Волгин сжал кулаки.
– Ты и здесь?..
– К тебе я пришел от нее. Она не придет, Волгин, и не придет никто. Против твоего эксперимента не только я: против Дальняя разведка, и ты знаешь, что в этом случае ее мнение будет решающим.
– Быстро ты успеваешь… – хрипло выдохнул Волгин.
– Нет, тебе кажется… Правда, из-за этого мне пришлось прибыть на Землю раньше, чем было предусмотрено, и даже поторопить рамакистов с их испытанием. Но я торопился именно из-за тебя: мы все узнали своевременно, пространство – великолепный проводник новостей. И я хотел сказать тебе об этом еще утром.
– Ну ладно, – сказал Волгин. – У тебя все?
– Да, как будто.
– Тогда уходи. Не хочу тебя видеть.
– Невежливо. Но я-то хочу видеть тебя. Хочу посидеть, вспомнить многое, может быть, ты даже угостишь меня чем-нибудь – мне позволено в пределах одной рюмки. Я бы, например, вспомнил жизнь на Протее, с его взрывчатой атмосферой.
Как ни было Волгину тяжело, он улыбнулся.
– Мы были беспомощны, как щенята.
– Правда? А около звезды Толипа…
– С ее пульсирующим тяготением? И тогда мы еще немногого стоили. И на Афродите тоже. А планета была прекрасна…
– Вот видишь, и ты начал вспоминать. Но все же мы кем-то стали, правда? Стали лучше и умнее, чем тогда. Это далось нам нелегко. Но ведь, если бы далось легче, мы быстрее потеряли бы все приобретенное. Ты согласен?
– Тебе бы женщин уговаривать…
– Увы, ты помнишь, как я стеснителен. Так ты дашь рюмку?
– А институт? Столько людей, такие замыслы, все на ходу, в высшей точке подъема – и вдруг кувырком вниз…
– Я и не говорю, что тебе и всем вам будет легко перенести это. Но ты умен, ты найдешь выход, найдешь новое направление.
– Итак, я для тебя оказался врагом номер один. И ты прикончил меня, а рамаки завтра пройдут испытание, и ты, именно ты, увезешь их в космос и там выпустишь…
– Ну, поживем, увидим. Что это? Ого, ты стал гурманом… Хватит. А что касается рамаков, то, поскольку завтра ты свободен, пойдем на испытание вместе. Как-никак, ты тоже – из Дальней разведки. Пойдем поглядим… Твое здоровье, корифей.
14
– Я бы хотел узнать, – вежливо произнес Корн, – есть ли у вас претензии к первой части испытаний.
– Нет, – сказал Маркус. – С постройкой станции ваши подопечные справились очень хорошо. И значительно быстрее, чем мы. Воспроизводство также прошло нормально.
Он еще раз обошел прозрачный купол станции, внимательно разглядывая его. Корн и его инженеры тянулись за Маркусом, как королевская свита. Волгин остался на месте; ему было и смешно, и грустно.
– Образцы материала посланы на анализы? – спросил Маркус, оборачиваясь.
– Разумеется, – сказал Корн. – Ответ мы получим приблизительно через час.
– Тогда не будем ждать результатов. Пусть начинают вторую часть. Как она у вас называется?.. – Он зашелестел бумагой.
– Рамаки в самостоятельной, не связанной с людьми деятельности, – подсказал Корн.
– Вот именно… Да, станция хороша, в такой можно отсиживаться бесконечно. Кое-что мне, правда, неясно: назначение этого кольцевого барьера внутри…
– Мне тоже, – сознался Корн. – Но, я думаю, мы попросим объяснить того рамака, который будет руководить второй частью испытаний. Ведь, так или иначе, без объяснений мы не обойдемся: нам и самим неизвестно, как представляют себе рамаки свою будущую деятельность.
– Что же, – согласился Маркус, – пусть объясняет.
– Вы разрешите начать?
– Сделайте одолжение.
Корн дал сигнал. Рамаки один за другим скользнули в дверь построенной ими станции и заняли места внутри кольцевого барьера. Там оказалось ровно столько места, сколько было нужно им, чтобы разместиться. Лишь в середине осталось свободное пространство – по-видимому, для последнего, который сейчас неторопливо приблизился к людям.
– Здравствуйте, люди, – приятным голосом произнес он. – Я здороваюсь с вами в последний раз: испытание закончится, и мы начнем ту деятельность, для которой оказались наиболее приспособлены. Но, чтобы у вас не возникали вопросы, могущие остаться без ответа, постараюсь объяснить вам то, что вам предстоит увидеть.
– Академическое вступление, – проворчал Маркус, Корн лишь улыбнулся.
– Как видите, мы заняли наши места. Сейчас я присоединюсь к остальным, и все окончится – и все начнется.
Мы долго размышляли над тем, в чем наша сущность. И, подобно вам, пришли к выводу, что основное в нас – не различные хитроумные приспособления, которыми вы нас снабдили, а разум. Это – основное оружие для того, что мы должны делать: для познания мира.
Однако познавать можно по-разному. Можно расходовать время и энергию на полеты к планетам, и там заниматься постижением вещей и их связей. Так поступаете вы; но вас гонит не только разум: вас толкают на это эмоции, те эмоции, которых мы, как я полагаю, лишены. Мы без труда могли бы выполнить это ваше пожелание. Однако из бесед с некоторыми людьми, а также при помощи рассуждений мы сделали вывод, что, рассеиваясь по Вселенной, мы столкнулись бы со множеством осложнений, нежелательных не только для нас, но и для вас. А мы искренне благодарны за то, что вы послужили фундаментом для нашего возникновения.
С другой стороны, мы убедились и в том, что нам доступно познание исключительно при помощи разума: имея достаточно исходных данных, мы можем, не трогаясь с места, приходить к правильным выводам, справедливым как качественно, так и количественно. Иными словами, нам незачем лететь куда-то для выполнения своего предназначения. Ведь Земля – тоже планета, и она ничем не хуже других.
Поэтому мы останемся здесь. Сейчас я войду, и мы закроем станцию навсегда, и, соединившись, образуем один громадный мозг с единым ходом мысли. Если бы мы обладали эмоциями, я сказал бы, что это – наслаждение, недоступное вам, людям.
Мы не будем мешать вам. Мы будем мыслить, и только. Надеюсь, что и вы не станете беспокоить нас; это не только было бы чревато последствиями, но и просто невозможно: наша постройка достаточно надежна, она способна противостоять всему.
Мне кажется, я объяснил достаточно подробно. Мы начинаем действовать. Вы же можете смотреть на нас до тех пор, пока не признаете это занятие излишним.
От имени рамаков говорю вам, люди: прощайте…
Шуршание диагравионного двигателя рамака усилилось. Скользя низко над землей, он направлялся к станции. Никто не сделал попытки помешать ему. Рамак вплыл в дверь. Она закрылась за ним. Сверкнуло пламя: рамак заваривал швы.
– Я не понимаю, простите, – пробормотал Корн.
– Ну что же, – сказал Маркус. – Испытание можно полагать оконченным. Думаю, что протокол не обязателен: желающие убедиться всегда смогут найти их на этом самом месте.
– Нет, – сказал Корн. – Я не могу согласиться…
– Что от этого изменится? К ним не пробиться, они правы; разве что лишить их энергии? Но это невозможно; вы знаете это лучше меня.
– Вы, кажется, ничуть не удивлены? – заметил Корн.
Маркус помолчал, глядя, как рамак, завершив работу с дверью, устраивается в самом центре своего государства.
– Признаться, – сказал представитель Звездного флота, – я ожидал чего-то подобного.
Волгин невежливо засмеялся. Маркус взглянул на него.
– Нет, как видно, никто не снимет с нас, людей, этой тягости: завоевывать мировое пространство. И я вынужден спешить: корабль ждет меня.
15
Они стояли там, где обычно прощаются с улетающими. Волгин мог бы пройти к самому кораблю, но не захотел.
– Ну, – сказал Маркус, – до следующего свидания.
– Бывай. Приехал, увидел, все перевернул – и убегаешь…
– Нет, я послужил, как ты знаешь, только рупором Дальней – в отношении тебя. Что же касается рамаков, они решили все сами. А ты не вини, пожалуйста, ни в чем Лену. Она мне не жаловалась.
– Я и не думаю.
– Кстати, как тебе мои цветы?
– Так это твои? Вот что, оказывается… Цветы хорошие.
– Правда? Очень рад, я ведь в них ничего не понимаю.
– Постой, постой… – пробормотал Волгин, краснея. – Лена прилетела, чтобы говорить с тобой, значит, это ты…
– К сожалению, нет. Я ведь только Маркус, со мною лишь советуются – лично или мысленно… Ну, вон идет твой парень, а мне тоже пора.
Волгин отвернулся, чтобы встретить подходившего Витьку. Парень был грустен и весел одновременно и старался держаться так, как, по его мнению, подобало дальнему разведчику.
– Мне, оказывается, еще год придется провести в тренировочных лагерях, – сказал он с ноткой обиды в голосе.
– Все равно, – утешил Волгин. – Это не на Земле.
– Проводили бы меня до лагерей…
– Долгие проводы – лишние слезы, – сердито ответил Волгин. – А в лагеря меня все равно не пустят. Мне, уважаемый, планету покидать запрещено.
– Ну да, – сказал Витька. – Здоровье…
– При чем тут здоровье? – возразил Волгин. – Просто я очень нужен на Земле. – Вздохнув, добавил: – Но ты-то здоровье береги.
Они помолчали, не зная, что еще нужно сказать. Потом Волгин вздрогнул, услышав позади знакомый голос; она разговаривала с Маркусом. Волгин заставил себя не прислушиваться. Еще через минуту Маркус торопливо подошел и, привстав на цыпочки, расцеловал Волгина.
– Вот теперь – окончательно, – сказал он. – Ты не умолкай. Мы и так будем видеть тебя, однако не умолкай. Это было бы просто невежливо.
– Конечно, – сказал Волгин. – Это тебя зовут?
– Да, пора. И так я тут потерял кучу времени… В общем, ты все-таки не зря живешь, разведчик.
– Утешаешь?
– Утешаю. Что же, иногда и это нужно. Работай и думай. А лучше: сначала думай, потом… ну, дэ-дэ.
– Дэ-дэ, – откликнулся Волгин.
– Дальней дороги, Лена, – крикнул Маркус, закашлялся, схватился за горло и побежал к машине. Витька последовал за ним, на бегу он оглянулся и помахал рукой.
Лена подошла к Волгину, и он опустил голову. Но глаза его все так же оставались прикованными к машинам. К последней, к которой сейчас приближался Маркус. Потом привычный звук сирен разнесся над полем. Он пролетел трижды, затем включились двигатели.
Волгин долго стоял, глядя туда, где еще недавно возвышались корабли. Эти суденышки перевезут людей на обращающуюся вокруг Земли «Вегу», которая после этого возьмет курс туда, где, далеко, очень далеко от Солнечной системы, помещалась теперь центральная база Дальней разведки. Это будет дальняя дорога; та самая, которую принято желать друзьям.
Когда он обернулся, на опустевшей площадке не осталось никого. Только Лена стояла рядом.
– Я виноват перед тобою, – сказал Волгин. – Я обещал… а оказалось, что этого вовсе не нужно.
– Маркус счастливый, – сказала она. – Он улетел… Чем ты будешь сейчас заниматься?
– Не знаю… Но мне больно, что я не смог помочь тебе хотя бы так, как умел. А по-другому я не умею. Ты ведь знаешь – если разобраться, то никогда не умел…
Она покачала головой: как и всегда, об этом не надо было вспоминать.
– Понимаю, – грустно усмехнулся Волгин. – Ответ все тот же… Тяжело временами, но я привык.
– Разве? – спросила она и чуть улыбнулась.
– Если нет, то начну привыкать… рано или поздно.
– И все же, ты мог бы мне помочь.
– Как? – Волгин поднял голову.
– Ты дал мне новую надежду… и я не хочу расставаться с нею так скоро. Вообще не хочу расставаться. Я согласна с Маркусом, что так, как хотел ты, нельзя; но, может быть, можно как-то по-другому? Чтобы не нарушать ничего, не уничтожать ничего, и все-таки сделать по-своему. Можно?
– Не знаю, не представляю себе.
– Но ты подумай об этом! Может быть, не обязательно проникать в мозг твоей электронной иглой… Может быть, что-то совсем другое нужно человеку, чтобы он мог найти самого себя, а найдя – никогда уже не выпустить из рук. Сумей это, Волгин. Ты же сможешь, если только захочешь. Вас много, целый институт таких умных ребят… Спроси их; до сих пор ты ведь не очень-то их спрашивал. Кто-нибудь подскажет… Ну хотя бы для меня.
Волгин очень серьезно взглянул на нее.
– Я все сделаю для тебя. При одном условии: чтобы ты была поблизости. Чтобы я не забывал, для кого делаю… – Он помолчал, глядя в небо, потом покосился на Елену. – Иди ко мне лаборанткой. Вместо Витьки. Хочешь?
– Это тебе поможет?
– Да.
– Я подумаю, – нерешительно сказала она. – Подумаю.
Волгин грустно усмехнулся и стал насвистывать какую-то протяжную мелодию.
– Ты грустишь?
– Есть основание: я, кажется, всерьез остался один. Даже Витька ушел; а тот, кого родишь ты, кто мог бы возглавить следующее поколение, поколение новых людей, – он пойдет, как видно, другой дорогой.
– Пусть, Волгин, пусть идет какой захочет, – лишь бы она была дальней.
– Может быть, ты и права. Но мне от этого не становится легче, потому что в одиночестве, кажется, я не смогу сделать больше ничего. Пойдем, видишь – из шахты поднимают новый корабль. Начнется посадка, провожающие будут плакать, и как бы я не последовал их примеру.
– Ты говоришь об одиночестве. А друзья? Пусть далеко, но они все же есть.
– Друзья… Они добры, но иногда кажется, что они топчут тебя ногами и жгут на костре.
– Нет, – сказала Елена. – Это они месят твою глину и обжигают ее, чтобы ты стал твердым, и звенел бы чисто, и не раскисал в непогоду. Позови их – и они придут.
– Вот я зову тебя, – проворчал Волгин. – Что толку?
– Пошли, – сказала Елена. – Нам пора.



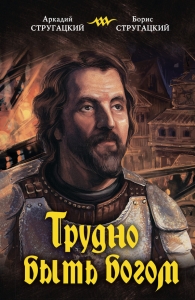
Комментарии к книге «Дальней дороги», Владимир Дмитриевич Михайлов
Всего 0 комментариев