Меньшов Виктор
Храм Василия Блаженного
Посиделки
Поселок городского типа, в котором все это происходило и происходит, называется Мытарино.
Что такое - поселок городского типа? Как говорят в народе: большая деревня. Для города - маловат, а для деревни - великоват. Словом, отсюда вышел, а туда не пришел. Несмотря на то, что находится он в Московской области, до Москвы рукой подать - всего и езды три часа на автобусе, но уклад в посёлке тихий, скорее, деревенский. Домики в основном частные, с участками, с огородами, стоят за заборчиками, в зелени красуются.
А на самом краю поселка - несколько кирпичных домов, одноэтажные, длинные, но есть и двухэтажные. Дома старой постройки, пятидесятых годов, система в них коридорная: двери всех квартир на этаже выходят в один коридор, по которому зимой гоняет на трехколесных велосипедах малышня.
Дома эти являются поселковой достопримечательностью и имеют клички. Самый длинный из них зовется "резиновый", но не за длину его, как можно было бы подумать, а за то, что одно время населили в него столько народа, что проживание в одном доме такого количества людей казалось невозможным.
Другой дом зовется "горелым", это потому, что трижды за время своего существования горел, но оказался крепок и выстоял, да так и стоит, красуясь черными разводами под крышей, оставшимися после последнего, совсем недавнего, пожара, поскольку на покраску стен денег у поселковых властей нет.
Живут в поселке так, как в больших городах давно отвыкли. Все всех знают, двери в домах часто даже не запирают, перед кирпичными домами во дворах веревки общие, на которых сушит белье весь дом.
Перед каждым домиком обязательно стоит скамейка, а перед кирпичными скамейки и стол. Не для домино, в домино стучат в стороне, этот стол для вечерних и воскресных общих посиделок. Вроде клуба.
Теперь представьте себе: вечер, лето, тепло. Тихий двор, где в стороне, возле сараев, звенит мяч, это мальчишки гоняют в футбол.
Над столом стелется синий папиросный дымок, текут неторопливые разговоры, а из окон картошечкой поджаренной пахнет, у кого-то котлеты слегка подгорели, а кто-то пироги затеял.
Выйдет во двор тихий пьяница Костя-татарин с гармошкой своей разлюбезной и начнет наяривать извечную любимую им мелодию, одну и единственную, которую сумел он усвоить за редкие моменты трезвого своего существования на земле.
Сидит он на низкой скамеечке, которую с собой вынес, и, закатив узкие глаза, страстно и с чувством исполняет: "четыре татарина, четыре татарина, четыре татарина и один армян...". Вот так он сидит, пиликает и заунывно поет. Кроме этих нескольких слов других он не знает и потому песня его бесконечна.
В субботний вечер выносят прямо на стол, на улицу, домашние лакомства нехитрые, если дело к осени, в основном зелень огородную, поскольку огороды вон они, за сараями, над овражком, рви, не хочу.
Огороды у каждого отмерены ровно такие, какие кому по силам. Копай сколько нужно. Кто запретит?
А если кто-то и запретить надумает, то кто его слушать будет?
На столе появляется бутылка, потом вторая. Выпить народ местный может и всегда не прочь, но всё же во время субботних посиделок тяжело и угрюмо не напиваются, по крайней мере, скандалов пьяных не бывает. Скандалы местные не любят, особенно во время таких вот застолий субботних, когда люди отдыхать садятся. Хочется скандалить - иди домой, там и шуми.
Выпили, как положено, похрустели огурчиками, приняли по второй и по третьей, пошли разговоры оживлённые, смех да шутки.
Уже выносят на улицу, а то и просто подают через окошко чайник, крутым кипятком злой. И заварка появляется, когда-то дефицитная, за ней, бывало, специально в Москву ездили, запасались при случае. Сколько же этого чая в желтых пачках, с упрямо идущими куда-то слонами, до сих пор лежит в домашних запасниках!
Перемешается аромат крепкого индийского чая с запахом трав и горькой полыни, с запахом хвои близкого вечернего леса, химией не траченного, благо поселок от Москвы в стороне, из предприятий - одна лесопилка, да и та за два километра, и сейчас чаще стоит, чем работает. Даже лес не нужен стал. Вот дела!
Но за столом о таких грустных вещах поминать не принято. О скучных делах и об отсутствии денег за столом не разговаривают. Выпьют, пожуют, посудачат, отберут у Кости-татарина гармошку, сунут ему в руки большую глиняную кружку с крепким горячим чаем, в который положат шесть кусков сахара, и сидит Костя-татарин, шевелит крепкими скулами, кроша белыми, гранеными зубами каменные сушки, шумными глотками отпивает горячий чай, блаженно щурится при этом, словно не на закат смотрит, а на полуденное солнце...
А на подоконник второго этажа торжественно выставляют старенький патефон, крутят ручку и запускают пластинки.
Над полусонным поселком, над тихими двориками, через ближний лес, плывут транзитом, куда-то в дальние дали песни и музыка, улетая с черных дисков.
"Румбу" сменяет "Рио-Рита", ее - "Брызги шампанского", потом "Амурские волны".
Поют Клавдия Шульженко, Капитолина Лазоренко, Русланова, Утесов...
Робко, немного смущаясь, поплыли в танце первые пары. А потом, когда танцевать все устанут, слесарь Костя, в широченных, как его улыбка, парусиновых брюках и голубой линялой майке, ведет на середину площадки, до твердости асфальта вытоптанной, хохотушку и певунью Клавдию, которая танцует с ним с огромным удовольствием, но все помыслы ее о лысом, толстом и пожилом бухгалтере Анатолии Ивановиче, который на нее - ноль внимания.
Вот он: круговорот судьбы в природе...
Но именно в этот вот самый момент смотрит она на слесаря Костю отчаянно влюбленными глазами, а всей любви этой - всего-то на один танец.
И не она одна так смотрит на Костю в эти минуты. Все позабыли, что у Кости, в уголке рта, непогашенная замусляканная сигаретка тлеет, что майка его давно в стирку просится, что у Клавдии туфли-лодочки настолько давно из моды вышли, что опять модными стать успели, а после этого еще раз устарели. И платьице на ней простенькое, ситцевое, не платье даже, а сарафан летний, на солнце выгоревший, с васильками линялыми по подолу.
Встает Костя картинно посреди двора, бросает замусоленный окурок под ноги, оттянув носок, вытягивает он босую ногу, обутую в сандалии-плетенки, именуемые в народе "ни шагу назад" за то, что они без задников, и затаптывает этот самый окурок.
И смотрит он выжидающе вверх.
А сверху, из окошка второго этажа, смотрит на него с почтительным вниманием полковник в отставке Анатолий Евсеевич, который старается не пропустить торжественный момент, который больше всего ждёт и он сам, и весь двор, ждут с самого начала бесхитростных посиделок.
И вот!
Костя поднимает правую руку на уровень плеча и неслышно щелкает пальцами, обозначая этим движением звук.
Анатолий Евсеевич делает ему рукой знак, что он все видит, поворачивается в комнату, к стоящей наготове с пластинкой в руках, супруге своей, Полине Сергеевне, с которой они неразлучны с того самого сорок шестого, послевоенного, года, когда демобилизованная медсестричка Полиночка, уезжая из зауральского госпиталя домой, в поселок Мытарино, взяла с собой причитающийся ей паек, скатку шинели через плечо, да молоденького полковника, безногого, тяжело контуженного, никого не узнающего, и три месяца ни слова ни с кем не говорившего, от которого отказалась приезжавшая к нему в госпиталь жена - белокурая красавица.
А в приданое взяла Полина за седым своим полковником сапоги офицерские, хромовые, да увесистый сверток с орденами и медалями, среди которых лежали отдельно, бережно завернутые в замшу, две звездочки геройские.
Про Полину не зря, наверное, говорили, что она немного "не при себе". Не зря потому, что на вокзале, дожидаясь поезда, выменяла она сапожки хромовые, целое состояние по тем временам, на трофейный патефон в чемоданчике с блестящими никелированными застежками.
Правда, обменявшийся с ней майор-танкист, со следами страшных ожогов на лице, узнав, кого она везет, пробежал по вагонам воинского эшелона и насобирал ей два солдатских "сидора" провианта. Да к тому же умудрился уговорить коменданта эшелона, чтобы тот разрешил довезти в воинском эшелоне медсестру с полковником до станции Березняки, откуда до Мытарино было рукой подать, километров двадцать всего.
Комендант эшелона, тоже полковник, согласился со своим строгим помощником, что это, конечно, непорядок, везти демобилизованных в литерном воинском эшелоне, но возразил он так:
- А кто сказал, что они - демобилизованные? Для них война еще только начинается. Своя, личная война.
И помощник не нашел, что ему возразить.
Он вышел под моросящий дождь, попытался закурить, переломал гору спичек, но так и не прикурил, в сердцах сломал и выбросил дорогую папиросу на мокрый перрон, подозвал караул и велел помочь погрузиться в офицерский вагон медсестре и полковнику, дважды Герою Советского Союза. А еще он приказал до самой станции назначения зачислить их на полное офицерское довольствие...
Когда, уже в Березняках, солдаты помогали вынести полковника на платформу, все офицеры стояли в дверях купе, мимо которых проносили носилки, и отдавали честь Полине и ее полковнику.
Комендант эшелона вышел проститься со своими необычными пассажирами и бережно укрыл седого, контуженного и безногого полковника своей офицерской шинелью с полковничьими погонами. И тоже отдал честь. Сначала - Анатолию Евсеевичу, а потом - Полине.
Полина, в мешковатой солдатской шинели без погон, держала своего седовласого Героя за руку и, растерявшись, только и смогла ответить:
- Служу Советскому Союзу!
И заплакала.
Все офицеры, как по команде, отвернулись. А ее полковник открыл глаза и сказал, глядя в серое небо, сказал впервые за все время:
- Смотри-ка, дождик идет... Как славно!
Вагоны дрогнули, поезд тронулся, начальник станции, которому помощник коменданта поезда велел помочь своим подопечным, тут же незаметно исчез...
Транспорта до Мытарино не было, Полина и Анатолий Евсеевич почти сутки провели в пустом и холодном здании вокзала, стоявшем к тому же без окон, пока не подобрали их, заехавшие в Березняки за почтой и хлебом, мытаринские почтальон и бригадир с лесопилки.
Поселились они в маленьком домике Полины, оставшимся ей от рано умершей матери.
Анатолий Евсеевич с тех самых пор, как на перроне вспомнил дождик, быстро пошел на поправку, память у него восстановилась почти полностью, вот только про то, что был женат, вспомнить не смог. А может быть, не захотел.
Полина Сергеевна работала в крохотном поселковом медпункте, который гордо именовала поликлиникой. У Анатолия Евсеевича оказались золотые руки и удивительные способности к ремонту всякой, как теперь её принято называть, "бытовой техники". Таковой по тем временам было немного, в основном мелкая, так что по дворам ему ездить не приходилось. Люди сами несли кто утюг, с перегоревшей спиралью, кто настольную лампу, которая не включалась, кто радиоприемник, который только трещал. Чаще же всего приносили керогазы самые капризные приспособления, какие только могли быть. Но зато как весело гудели эти самые керогазы! За это, наверное, их и держали.
Вот так они и жили потихоньку. Анатолий Евсеевич смастерил себе коляску, раздобыв велосипедные колёса, стал на улицу выезжать.
Шло время, домик их совсем обветшал. И выделил им поселковый совет, как семье дважды Героя Советского Союза, квартиру в только что отстроенном двухэтажном доме. Двухкомнатную квартиру, на первом этаже, чтобы выезжать на улицу было удобно.
Получили счастливые супруги ордер в поссовете, все их там от души поздравили, а на следующее утро они этот ордер вернули.
В канцелярии за голову схватились: виданное дело - люди сами, добровольно, просят отдать двухкомнатную квартиру многодетной вдове солдатской, Анастасии Пантелеевой, взамен полученной ею в том же доме однокомнатной, да ещё и на втором этаже.
Стали их отговаривать, да Анатолий Евсеевич только смеется:
- Я - летчик, мне поближе к небу быть положено, да и на мир сверху смотреть мне как-то привычнее.
- Да ты что, полковник, очумел?! - говорят ему в поссовете. Выдумали тоже: квартиру Тоське Пантелеихе отдать! Она же пьяница горькая, стыд и совесть совсем потеряла, ей не квартиру давать, у нее детей отбирать нужно: сама пьет, ребятишки босые, голодные, а старший и вовсе умом съехал.
- Знаем мы все, - ответили упрямые супруги. - Но только в том, что старший сын у неё болен, Анастасия Николаевна Пантелеева, вдова солдатская, не повинна, это не вина ее, а беда. И что пьет она - так это ее война покалечила, а за жизнь ее мужа, который погиб, Родину защищая, мы все ей своими жизнями обязаны.
На них только руками замахали:
- Это вы-то своими жизнями обязаны?!
Они стоят на своем твердо:
- И мы тоже. Все, кто живым вернулся, все, кого война минула, все своими жизнями павшим обязаны. А что касается Анастасии Николаевны Пантелеевой, то мы с этого самого дня берем на себя полную за нее ответственность, в чем можем и подписку дать.
Подписку не подписку, а заявление их, после жарких споров, криков и уговоров, написать заставили.
Но что примечательно: Анастасия Николаевна Пантелеева, после такого случая, пить решительно бросила.
До самого марта пятьдесят третьего, когда ранним утром разбудила ее ворвавшаяся без стука соседка, и бросилась рыдать на груди переполошившейся Анастасии Николаевны, которая спросонок никак не могла понять что же случилось. Когда соседка, превозмогая рыдания, сообщила ей, что умер Вождь, заголосила сама, перепугала детей, а те, проснувшись, дружно включились в общий рев.
А уже днем, выпив с горя заветный "мерзавчик", полезла пьяненькая Пантелеиха по шаткой лесенке вешать над подъездом портрет любимого Вождя в траурной ленте. Лезла она, хлюпая распухшим от слёз носом, бережно, прижимая портрет к груди, да лесенка поехала, и сама она свернулась с нее, упав на спину.
Она приходила в себя, оглушенная падением, над ней склонились взволнованные лица соседей, а она испуганно хваталась за портрет: цел ли? И только убедившись, что цел портрет, успокоилась. А пить с тех пор окончательно перестала.
И вот сидит эта самая Анастасия Николаевна за столом, смотрит, как сынок ее младший, Костя, красуется перед людьми. А саму ее облепило со всех сторон большое семейство: сыновья, да дочери, да внучата с внуками, да правнуки уже появившиеся. Только старшего сына не видно, носится где-то с мальчишками за сараями.
Полина Сергеевна уняла легкую дрожь в руках, вспомнив, что она все же фронтовая медсестра, а не кисейная барышня, опустила черный диск пластинки на бархатистый круг патефона, охваченный блестящим никелированным кольцом. Крутанула бережно положенное количество раз ручку патефона и раздалось на весь двор легкое потрескивание и шипение, такое домашнее и уютное, такое многообещающее и манящее...
Костя незаметно переступил ногами, освободившись от своих горемычных сандалий, да так ловко это проделал, что никто даже не заметил, потому, как все замерли в ожидании музыки.
И Костя замер. Только ноздрями шевелил, стараясь не пропустить надвигающийся звук первых тактов, вынюхать, предчувствовать, предугадать эти звуки звериным чутьем, всей чувственностью древней крови своей, крови охотника и зверя.
И Клавдия тоже замерла в предчувствии музыки, откинувшись гибкой талией на крепкую руку Кости. Замерла Клавдия, обомлела. Сердце вот прямо сейчас остановится...
Ну же! Ну!
И только коснулся, только первую струну семиструнной тронул невидимый музыкант, только начал он набирать замысловатый аккорд, дергающий душу и пьянящий крепче хмельного, а Костя уже подбоченился, притопнул плавно ногой, как каблуком пристукнул!
Да ей богу!...
Даром что босиком, а спросите любого, кто видел, каждый скажет: как каблуком щегольского сапожка ударил. Да так, что искры шальных нездешних костров взметнулись вверх и дымком далеких костров, и полынным степным ветром дохнуло.
И Клавдия взмахнула рукой, в которой щепоткой подол сарафана ее ситцевого. Повела она плечами, словно озноб ее пробил, а у зрителей мурашки по коже пробежали.
Закрутил ее Костя, и пошла она юлой. Сарафан - колоколом!
Костя-то! Костя! Вытянулся в струночку, одна рука в бок, другая над головой пальцами щелкает, как кастаньетами. А какие там кастаньеты? Откуда? У Кости пальцы - железо! Он ими запросто гвозди из доски выдергивает.
А ноги! Ноги! Такие кренделя выписывают, таким мелким бесом сыпят, что где носок, где пятка не разберешь.
И эээээхххх...!
А гитары! Гитары! Как бегут, струна струну обгоняя! Как только не рвутся эти тоненькие жилочки! Как только не лопаются! Никак не человек черт играет на этих гитарах! Да разве успеть человеческим пальцам за такими переборами?!
Черт играет! Черт!
И рвут струны черти огнеглазые, белозубые, с кудрями витыми. Не струны они рвут, ой не струны! Это они души наши в плен берут, на кусочки рвут, по кусочкам растаскивают!
Ох, Костя, вражья сила! Что вытворяет?! Взвился в воздух, подпрыгнул до самой луны и кричит прямо в нее:
- Эх, горррри - жги, солнышко цыганское!
И висит, на землю не опускается, вокруг себя вьется, руками Клавдию обволакивает, обнимает. Даже и не прикоснулся к ней, а такие объятия жарче солнца-огня!
И вот - рухнул! На колени упал, наклоняется, наклоняется, вот уже затылком земли касается, а коленями той земли так и коснулся! На чем только держится?! Ну, разве не черт?!
Тут и Клавдия - как врежет каблучками! Как юбкой вскинет, до самых трусиков голубеньких подол взметнулся! А каблучки, каблучки, словно иголка в швейной машинке, туда-сюда! Руки вокруг вьются-кружатся!
Не иначе, как у музыкантов сердца полопались вместе со струнами, так внезапно обрывается эта сумасшедшая музыка. Клавдия смущенно присаживается на скамеечку, оглаживая сарафанчик на круглых коленях, а Костя оглядывается вокруг нездешними глазами.
Обувает он свои сандалии, достает мятую пачку "Примы", и курит, курит, курит, часто сплевывая на землю.
И молчит, молчит, молчит...
И вид у него такой, словно побывал он где-то, а где, про то ему говорить заповедано...
Чай уже совсем остыл, собирают со стола чашки-ложки, остатки нехитрого пиршества, расходятся неторопливо поселковые по квартирам и домам. Первыми уходят мужчины, тщательно загасив папироски, следом за ними расходятся женщины, проверив еще раз, не забыто ли что, все ли аккуратно убрано.
А из окна второго этажа "горелого" дома звучит им в спины печальный, скорбный и героический вальс "На сопках Манчжурии".
Зажигается свет в окнах, открываются форточки, и кричат матери, загоняя домой загулявшихся ребятишек:
- Петькааааа! Домооой!
- Колькаааа! Ужинааать, ухи оборвуууу!
- Сашкаааа, оболтус! Опять воды не принес?!
- Толиииик, кушаааать!
Нехотя появляются из своих секретных и потаенных мест мальчишки, неутомимый народ, которому сколько ни гуляй, все мало будет. Идут, пряча ободранные коленки, разбитые локти, прикрывая ладошками разодранные штаны.
Последней, с большим трудом, удается дозваться своего старшего Анастасии Николаевне Пантелеевой.
- Васькаааа! - голосит она. - Домоооой! Васькааааа!
Так надрывается она ежевечерне, потому голос у нее сиплый и басовитый. Наконец, откуда-то из-за сараев отзывается густым басом ее Васька:
- Идуууу, маманя! Я идуууу! Ту-тууууу! Я едуууу на паровозе!
В круг неяркого вечернего света от одинокого фонаря, "въезжает" из темноты Васька, верзила с неправильным, одутловатым лицом.
Лет ему много, а ума - как у малолетки. И дружбу он водит с мальчишками, с которыми носится по сараям и за огородами.
Пацаны его не обижают, в игры свои принимают охотно, и даже немножко гордятся такой дружбой, изредка попугивая Васькой извечных своих соперников из соседней деревни Кукушкино, до которой километров пять, если лесом, напрямки. А если по дороге, то все восемь будет, если не больше. Да по дороге кто ходит? Разве что ленивый. А если, например, после дождя, так лесом даже суше, там хотя бы ветки тропинку прикрывают.
Раньше по дороге ходили вечерами, возвращаясь из кино, которое привозили в пятницу в Березняки, в субботу - в Кукушкино, а в воскресенье в Мытарино. Вот и ходили те, кто понетерпеливее, да кто помоложе, в субботу в Кукушкино. Потом сидели в воскресенье в мытаринском клубе и заранее вслух рассказывали о том, что сейчас произойдет на экране.
Теперь кино не возят, говорят, что даже дорога не окупается, невыгодно. На машинах по дороге тоже, у кого они и есть, машины, без нужды не гоняют. Бензин дорог.
Даже про лошадей вспомнили, а то уже в деревнях совсем про них позабыли, не помнят даже, с какой стороны хомут на лошадь прилаживают. Да только и лошадь, хотя ей бензин и не нужен, кто ее зазря гонять будет? Лошадь - она кормилица. Она и пашет, она и возит, с ней в огород, и в лес за дровами. Да мало ли что по хозяйству нужно?
Вот так получилось, что по дороге совсем ездить перестали. Пробежит изредка припозднившаяся стайка мальчишек, которым в темноте боязно по лесу идти. А бегают мальчишки из поселка в поселок подразниться со сверстниками, да силенками померяться. Не со зла. Стенка на стенку на Руси и взрослые хаживали, деревня на деревню выходили. Только было это от избытка силушки молодецкой, а не от избытка зла на соседей, которым в случае нужды первыми на помощь приходили.
По новым временам у взрослых, если и есть что в избытке, так только не силенка, ее лишней нет. Если только у пацанов, которым все нипочем, сил и энергии в избытке.
Стоят на околице, в кучку сбившись, мытаринские пацанята, а вокруг, подкараулившие их и заставшие врасплох, кукушкинские мальчишки, которых намного больше. И тут мытаринские расступаются и выталкивают вперед Ваську, которого перед этим старательно прятали за спинами, поскольку характером он кроток и не любит, когда его бьют, хотя и терпит, если в мальчишечьих играх в запале ему иногда перепадает лишку.
Сам он никогда не дерется, хотя силой обладает просто чудовищной. И вот выпихивают его вперед, он не желает, рычит и упирается, тем самым еще больше повергая в трепет кукушкинских, особенно этим рычанием.
Но вот его все же выпихнули. Стоит он, среднего роста, в плечах невероятно широк, руки свисают почти до земли, пиджак ему короток и из рукавов свисают два кулака, размером с хорошую тыкву каждый. Кукушкинские резко теряют уверенность в победе, несмотря на явный численный перевес.
- Не бойся, - уговаривают они друг друга. - Это он только с вида такой страшный, а так он не дерется даже, мне братан говорил...
- Тебе говорил, вот ты и иди, стукнись с ним. Боишься?
- Ничего я не боюсь! Мне братан говорил...
- Вот и не боись, а с каким фингалом твой братан в прошлый раз из Мытарино пришел, мы все видели, такой фингалище - шапкой не прикроешь! Не зря его твоя мать на улицу не пускает, на него даже посмотреть больно.
- Это его Петька Клещ так треснул, а не этот!
- Рассказывай! Петька! Так тебе и поверили! Такой фингал только Кинг-Конг может поставить!
Так и не решившись напасть, кукушкинские, после ленивой словесной перепалки, уходят, пригрозив еще вернуться и заловить в следующий раз мытаринских тогда, когда они будут без снежного человека.
Мытаринские пацаны признали Ваську своим навсегда. Уже несколько поколений мытаринских мальчишек выросло и пробегало по кустам вместе с Васькой. Многие вчерашние и позавчерашние его дружки по играм и забавам сами стали отцами, некоторые уже и дедами, а Васька, приятель их детства, все по сараям прыгает, да по кустам в салки гоняет.
Ваську вообще в поселке никто и никогда не обижал и не дразнил. Тем более, что и сам Василий никогда ни на кого не обижался, всегда и всем готов был помочь в меру своих возможностей, так что хорошо относиться к нему было совсем даже не обременительно.
Вот так и вырос Васька, как трава у забора.
Вырос потихоньку и поселок. Особенно за последние годы, когда с грохотом и треском рухнул наш нерушимый, и поехали новые люди со всех концов бывшего Союза, понастроили новые дома. Ехали в эти тихие места из Армении, из Таджикистана, из Чечни. И стали приезжие селиться и строиться на двух концах поселка.
Вернее, строиться стали одни, другим даже сарай построить не на что было.
Поначалу местные всем приезжим одинаково сочувствовали, мол, бедные люди, сорвала их с места война, да междоусобица. А потом пригляделись, не все такие уж и бедные.
На дальнем конце села, недалеко от кирпичных домов, подбираясь к оврагу и огородам, скупая участки и старые развалюхи, безжалостно рушили и возводили на их месте двух и трехуровневые хоромы с гаражами, банями, и хрен его знает с чем еще, да такие палаты каменные, что в поселке раньше ни у кого таких не было.
Но большинство приезжих были такие, кому не то, что жилье купить, приготовить поесть не на чем было. Особенно много таких ехало из Чечни. На них смотреть было больно: приезжали, бывало, все имущество на себе имея. Там их боевики-чеченцы грабили, из домов выгоняли, по дороге сюда - казачьи лихие кордоны пощипали, да порой так, что и перьев не оставили. Безжалостно крали остатки их скудного барахлишка на забитых битком вокзалах всякие мерзавцы.
Вот эти обворованные, оглушённые бедой и кругом ошельмованные бедолаги селились на другом краю, в вагончиках, которые привезли сюда военные. Вагончики, это конечно лучше, чем на голой земле спать, в них и печи, работающие на мазуте, стояли, но все же, как ни крути, - вагончики не дом. Спросили у военных, которые вагончики эти ставили, как же дальше будет? Те только плечами в ответ пожали и уехали.
Те, кто в вагончиках жили, быстро с местными перемешались, прижились, нашли общий язык и были приняты за своих. А вот те, что с дальнего конца, те особняком держались. За их высокие, диковинные в здешних местах, заборы, которые выше окон, поселковые в гости не хаживали. Их и не приглашали, да они и сами не напрашивались.
Работали на строительстве домов мужики поселковые: стены возводили, воду подводили, дворы плитами выкладывали. Но и они про этих поселенцев говорили без желания, на работу к ним шли неохотно, хотя и платили они хорошо и исправно.
Просто с попадавшими туда людьми что-то происходило. Они становились угрюмыми, молчаливыми и замкнутыми. И никто из них ничего не рассказывал, что же там такое за заборами этими высокими. Только Костя-сантехник как-то ответил нехотя на расспросы о приезжих:
- Что они за люди - не знаю, только нас они за людей не считают. Я им целый день сантехнику монтировал, по ниточке все выводил, душу в работу вложил. А мне даже спасибо не сказали, сунули молча деньги и поскорее за ворота выставили. Когда я на кухне у них с трубами возился, а потом во дворе, за мной пацан ходил, лет двенадцати. Он за собой стул таскал и тарелку с яблоками, которые грыз, чтобы не скучно было за мной следить, чтоб я не спёр чего...
На этом интерес поселковых к приезжим иссяк. Раз живут так люди, значит так им хочется. Значит - так им и надо. Правда, поначалу туда ещё ребятишки поселковые бегали. Ребятня народ любопытный. Но тут случилась беда: украл какой-то пьяница из вагончиков что-то из машины у тех, кто на дальнем конце селились. Пьяницу этого жена его застукала, когда он домой припёр барахлишко, сама отнесла всё обратно, прощения за мужа своего непутевого просила.
Крайние промолчали, но стали на ночь пару собак выпускать прямо на улицу. Да не дворняг каких брехливых, а серьёзных псов. Молчаливых, злобных. И как-то утром позабыли одну домой загнать, а тут мальчишки поселковые прибежали, их псина эта и покусала. Сеньке Малахову кусок мяса на плече вырвала. С тех пор и ребятишки туда ни шагу.
Так вот и жили, не замечая друг друга. Рядом и врозь.
Телевизор
Дочь Валентина и зять Геннадий привезли из Москвы в подарок матери и теще, Анастасии Николаевне Пантелеевой, телевизор. Себе они купили новый, импортный, с видеомагнитофоном вместе, а свой привезли матери. Он тоже был почти новый, цветной, с большим экраном и хорошо работал.
Поставили телевизор в углу и полезли зять Геннадий и сын Анастасии Николаевны Костя, на крышу, антенну ставить. Да где-то там, на крыше и пропали.
Мать с дочерью Валентиной мужчины усадили напротив включенного телевизора, чтобы они покричали им в окошко, когда на экране появится изображение.
Сидели, сидели мать с дочкой у экрана, по которому шел рябивший в глазах снег, да мелькали полосы, а картинки все нет как нет, и мужики ни гу-гу. Сообразила, наконец, Анастасия Николаевна, что здесь что-то не так, отправила дочку посмотреть, чем там мужики заняты.
Дочь Валентина лихо вскарабкалась на чердак, но там мужиков не было. Выглянула она в чердачное окошко на крышу, увидеть ничего не увидела, но голоса услышала отчетливо. Прислушалась она и ахнула: ее муж и брат... пели!
Два очень пьяных голоса, хотя и заплетаясь языками, но старательно и душевно выводили:
Пускай судьба забросит нас далеко! Пускай!
Ты к сердцу близко никого не подпускай!
Следить буду строго
мне сверху видно все - ты так и знай!
Пора в путь дорогууууу...
Услышав про то, что "пора в путь дорогу", Валентина не на шутку разволновалась, но все же на крышу лезть не решилась, стала звать мужиков в окошко и грозить всевозможными карами, но те то ли не услышали, то ли проигнорировали, тогда Валентина, женщина крупная, чтобы не лазить по чердаку вверх-вниз, свесилась в люк и стала кричать матери на первый этаж, помня, что двери в квартиру открытыми оставила.
Вышла мать на площадку, подняла голову, видит, дочка висит в люке вниз головой и что-то кричит ей, а что - ну никак она не разберет, потому что у телевизора появился звук, который заорал во всю свою железную глотку какую-то музыку и песни, и теперь мать не знала как его заткнуть.
Дочка, видя, что мать ее не понимает, свесилась ниже, да и сверзилась вниз головой. Быть бы беде, если бы не крепдешиновое платье Валентины, подолом которого она зацепилась за какой-то крюк. Платье выдержало, и ее удержало, только все, как есть, задралось кверху. И висела теперь Валентина во всей своей сокровенной шикарности, как лук в сеточке, нижним бельем красуясь, даже ногой дрыгнуть боится.
Прибежала наверх мать, увидела, что происходит, давай к соседям стучать. Выехал в коляске Анатолий Евсеевич, как увидел происходящее, так захохотал, что едва из коляски не выпал. Выбежавшая следом Полина Сергеевна быстро обстановку оценила, закатила мужа в обратном порядке в квартиру, несмотря на его протесты, а сама выскочила на площадку с утюгом в руках, перепугав Анастасию Николаевну.
Пролетев мимо нее, Полина Сергеевна загрохотала утюгом в двери соседей.
- Михаил тут живет, откатчик леса, ты что, не помнишь? - пояснила она, обрушивая могучие удары на двери.
- Так он же глухой! - удивилась Анастасия Николаевна.
- А ты думаешь, я зачем за утюгом бегала?
- Мамочка, это ты упала? - спросила из-под подола дочка, не видящая что происходит, но услышавшая грохот.
- Ты что, Валентина, по звуку так решила? Так у тебя мать не железная по лестнице так греметь, - успокоила ее Полина Сергеевна.
- Это вы, Полина Сергеевна? - заволновалась под платьем Валентина. Ой, стыдно-то как!
- Сейчас мы тебя снимем, ты только не дергайся. И чего тебя на чердак понесло? Мужиков, что ли, в доме нет?
- Ой, Полиночка, она же за мужиками и полезла, - попыталась внести ясность Анастасия Николаевна.
- Валентина? За мужиками на чердак? - едва не выронила утюг Полина Сергеевна.
- Да она за нашими мужиками полезла, - поняв, что сказала что-то не так, стала пояснять Анастасия Николаевна, но в это время двери открылись и на пороге выросла фигура соседки, Веры Ивановны, которая ловко перехватила в воздухе утюг, летевший на двери из рук Полины Сергеевны, недоуменно повертела его и вернула обратно.
- Ты чего это мне суешь, Полина? Не мой это утюг, - зевнула она, лениво попытавшись запахнуть халат, который разъезжался, открывая фиолетовый бюстгальтер необъятных размеров, удивительно похожий на гамак.
Кустодиевская женщина стояла на пороге. Слона на скаку остановит!
- Это чего это висит? - спросила она.
- Это Тоськина Валентина, - пояснила Полина Сергеевна. - Ты зови скорее мужа, ее снять надо.
- Ага, - с готовностью отозвалась Вера Ивановна, повернулась и пошла в квартиру, заорав басом. - Мишка! Вставай! Там Валентина чегой-то повесилась, вытащить надо!
- Вот дура баба! - сплюнула в сердцах Полина Сергеевна. - Типун ей на язык!
- Сейчас идет Мишка, - сообщила Вера Ивановна, появляясь в дверях. Полина, ты фершалка, посмотри пока, прыщик у меня на языке выскочил чегой-то, глянь, а?
Анастасия Николаевна с ужасом посмотрела на Полину Сергеевну.
- Давно прыщик твой выскочил? - спросила Полина Сергеевна, сама изменившись в лице.
- Этот, что ли? - ткнула себя в кончик языка Вера Ивановна.
- А у тебя их что - много? - ужаснулась Полина Сергеевна.
- Да нет, бывают изредка. Этот вот вчера выскочил. А что?
- Да ничего, - с облегчением вздохнула Полина Сергеевна. - Это хорошо, что вчера.
- Чего тут хорошего? - обиделась Вера Ивановна. Но тут вышел ее муж.
- Об чем шум, бабоньки? - рявкнул он. - Кого вымать? Кто повесился и по какой причине-надобности?
- Дурак ты, Мишка! - рассвирепела Анастасия Николаевна. - Помог бы лучше: висит же человек.
Михаил с трудом поднял голову, да так и застыл, разинув рот.
- Закрой варежку, глаза твои бесстыжие! Не видал, что ли?! прикрикнула на него супруга.
- Да где же такое показывают? - обиделся Михаил. - И как я ее не глядя выну?
- Ты вниз смотри! - распорядилась жена.
- Ага! Вниз! - проворчал Михаил. - А если возьмусь не за то? Ладно, отойдите.
Он быстро отцепил Валентину, опустив ее на площадку. Женщины тут же заспешили во двор, покричать снизу Косте и зятю Геннадию.
Когда вышли и глянули на крышу, у женщин дух захватило: оба стояли на самом краю, радостно размахивая руками, и вопили счастливыми голосами:
- Валечка! Я тута!
- Маманя, а это я - Костя!
- А мне летаааать, а мне летаааать, а мне летааать охотаааа!
- Чичас мы полетим, маманя!
- Точно! Как два этих, как их?
- Как две говешки, маманя!
- Грубый ты человек, Костя! Мы полетим как две птички!
- Костя! Костя! Не смей! Прибью, бандит!
- Геночка, милый, не надо!
Как бы не так! Они же были советские люди! Они прыгнули.
Что с ними случилось? А что может случиться с пьяным русским мужиком? Голова болела. Утром. А так - ничего. Ну, у Кости еще пятка немного, да зять Геннадий нос разбил, когда на четвереньки упал, руки у него подогнулись, алкоголем ослабленные. Вот, собственно, и все.
А как же антенна? Заработала антенна. Изображение хорошее получилось. Валентина даже с завистью сказала, глядя с укором в сторону мужа, что у них так хорошо этот телевизор не показывал.
Смотреть телевизор в этот беспокойный вечер не стали, отложив до завтра, других забот хватало: Геннадию нос смазать, ужином всех накормить.
Попробовали после ужина посмотреть, но шел скучный урок японского языка, а им это было как-то без надобности. По другим программам ничего не показывали, поздно уже было.
Зато на следующий день, проводив утром дочку с зятем, собрав со всего поселка многочисленных Пантелеевых, сели смотреть телевизор, усадив на ковре, впереди всех, Василия.
Костя торжественно включил телевизор и опять на экране появился человечек с очень узкими глазками. Такими узкими, словно он очень сильно не хотел видеть все это многочисленное семейство Пантелеевых. Те же, решив, что это опять урок японского языка, терпеливо досмотрели передачу до конца. Но закончил говорить один с узкими глазками, как его тут же сменила миловидная девушка, но опять с узкими глазками и опять заговорила по-японски.
Костя вспомнил, что программ на телевидении существует несколько, и стал переключать их. Программ, действительно, оказалось множество, и показывали на них все, что душе угодно: мультики, песни, танцы, кино, спорт, новости, но всюду почему-то были узкоглазые люди, и говорили они исключительно по-японски.
- Константин! - ледяным голосом спросила мать, заподозрившая неладное. - Вы чего это с телевизором сделали? Вы его, часом, водкой не напоили?
- Маманя! - возмутился Костя. - Он же - телевизор, потому и не пьет. Как его можно напоить? А я - что? Я - ничего. Я в антеннах этих ни черта не смыслю, антенна не унитаз, я только держал, да приваривал там, куда зять Гена показывал.
Что только потом не делали! Когда же разобрались что к чему, оказалось, что телевизор точно показывает Японию, что, как сказал Анатолий Евсеевич не с каждой спутниковой антенной возможно.
Невозможно-то невозможно, но показывало же!
Попытались было переделать антенну, но оказалось, что она приварена к другим антеннам, к трубам, скобам, крыше, ко всему железному, что подвернулось под руку "умельцам" на чердаке и на крыше. Как сказали потом специалисты, которые приехали специально из Москвы, посмотреть на это чудо, получилась некая система антенн, но все же того, что получилось, получиться никак не могло.
Но - получилось!
К японскому телевидению Пантелеевы привыкли быстро. Им понравились вежливые, всегда очень опрятные, доброжелательные и улыбчивые маленькие человечки на голубом экране. Пантелеевы быстро освоились в таинственном и загадочном мире далекой страны. Что самое интересное, так это то, что все Пантелеевы, от мала до велика, в один голос утверждали, что все понимают.
- А чего? - говорил сопливый внучок Петька, ковыряя задумчиво в носу. - Чего там непонятного? Усе ясно. А чего? Говорят не по-нашему? Ну и что? Все одно понятно, чего там...
- А чего тебе понятно? - спрашивали соседки, выбившиеся из сил допрашивать его.
- А чего там непонятного? - вопросом на вопрос отвечал флегматичный Петька, выуживая из носа искомое.
- Тьфу ты, этих Пантелеевых! - в сердцах отступались приставучие соседки. - Как стали свой чудной телевизор смотреть, так сами совсем чудными стали...
Особенно полюбилось японское телевидение Ваське, смотревшему все подряд, так его заворожила эта таинственная жизнь. Смотрел он как-то очередной фильм про самураев, рот раззявив, и заявил вдруг, показывая пальцем на экран:
- Хочу такое, маманя!
Просил он что-то настолько редко, что мать не сразу даже поняла его просьбу.
- Саблю, что ли, тебе приспичило? - удивилась она, зная миролюбивый Васькин характер.
- Неее, - замотал сердито головой Василий. - Вот это! Вот это вот!
И ткнул пальцем прямо в экран, отчего там осталось темное пятнышко.
- Ах ты, анчутка беспятый! - возмутилась мать. - Опять лапы не моешь, мурзатый бегаешь! Тряпка тебе, что ль, понадобилась, которая на нем?
- Это, бабушка, не тряпка, - тут же свысока поправила ее внучка Леночка, которая училась в восьмом классе и была признанной умницей. Это - кимоно.
- А мне все едино, как оно, или никак оно. Ничего умнее не придумал? Совсем одурындасел? Лучше бы книжку почитал, что ли. С голой задницей еще только не хватало по улицам в распашонке разгуливать. Засмеют же. Да еще и Горыныч какой-то на спине нарисован....
- Бабушка! - подала опять голос возмущенная Леночка. - Не "как оно", а кимоно, это одежда такая, и не Горыныч это, а дракон. И не давай ты Ваське "Колобка" читать. Ты что - забыла? Он как дочитает до того места, где лиса колобка "ам" - сразу плакать начинает, а потом в бурьяне прячется, за колобка переживает, а мне его искать по всем кустам приходится.
- Ох, горе мне с вами. Отдай книжку, читатель, лучше погуляй сходи, мать отобрала у него книжку. - Иди, сделаю я тебе это... как его? Кимоно, кимоно...
И через два дня вышел Васька на улицу без порток, в коротком стареньком мамкином капоте, с засученными рукавами, из которых свешивались волосатые ручищи. Еще более волосатые ноги были обуты в подаренные ему для полноты костюма Костей.
На спине Васькиного "кимоно" красовался дракон, похожий на крокодила, вставшего на задние лапы, при этом опирающегося на тощий хвост. А еще дракон этот, по причине торчащих из него во все стороны колючек, походил на кактус, сбежавший из горшочка. Из пасти этого чудовища свисал почему-то синий язык. Так его нарисовала Леночка, а мать Васькина вышила по рисунку. Обе сделали свое дело, как умели, и теперь этот плод коллективного труда и творчества внучки и бабушки, украшал могучую Васькину фигуру.
Это кимоно мытаринского пошива, было, возможно, первым кимоно, пошитым в России.
При виде Васьки в новом наряде по двору прокатился было смешок, но в руках у него оказалась увесистая дубина, и смех как-то сам собой прекратился.
- Вася, - отойдя на всякий случай подальше, спросил один из мальчишек, - а оглобля тебе на кой?
- Это не оглобля, - важно пояснил вместо Васьки вездесущий Петька, как всегда проводивший изыскания в недрах своего носа. - Это - дорожный посох. Васька сначала хотел стать самураем, но самураи дерутся на мечах и убивают, а он этого не любит. Тогда Васька решил стать странствующим монахом. Нам про них рассказывал дядя Толя, который без ног, он у нас смотрел кино про этих монахов и рассказывал. Они, монахи эти, называются буддисты и веруют в Будду, толстого такого дядьку. У него бывает три головы, много подбородков, а на голове - лягушка...
- Врешь ты все! - усомнились мальчишки, великие скептики по жизни.
- А вот и не врет! - вступилась за сопливого родственника Леночка, которая в таких спорах пользовалась авторитетом даже у мальчишек. - Лягушка это символ мудрости.
После такого пояснения у мальчишек резко пропал интерес к буддизму. Возможно, лягушка и символ мудрости, но держать на голове такую гадость? Нет уж, фигушки!
Вот так мытаринские мальчишки разочаровались в буддизме. А когда Петька с Леночкой, перебивая друг друга, рассказали, что буддисты эти уединяются и часами созерцают песок, воду и даже делают сады из камней, мальчишки разочаровались и в Ваське.
- Эх! Классный был пацан! Загубила человека религия! Пошли купаться! - подвел итог Колька Петух.
И мальчишки убежали на пруды. А во дворе остались соседки, которые тщательно перемыли косточки всем Пантелеевым.
- Станные они все. Детей у всех - мал-мала меньше, да еще телевизор этот. Они даже кланяться при встрече стали. Прощаются - опять кланяются. И все "спасибо", да "пожалуйста", и песни стали какие-то заунывные петь...
Дружно сошлись во мнении, что у этих Пантелеевых вроде даже глаза стали косыми, словно они от солнышка щурятся.
Сплетни все это, конечно, глупости... Хотя, если присмотреться, глаза и вправду у Пантелеевых стали какие-то странные... Сузились, что ли? Или нет?
Монахом же Васька решил стать после того, как посмотрел кино по телевизору. В кино этом бедный крестьянин убил соседа, его выгнали из деревни, и он ушел в монастырь. Милостыню для монахов собирал, делал любую черную работу, а потом стал монахом и стал отшельником.
Он стал жить на горе, на самой ее вершине, подолгу сидел над ручьем, таскал в гору корзинами песок, из которого сделал сад, принес камни, которые положил в песок. И часами просиживал, созерцая эту красоту. И вылечился от страшной болезни, которая с ним приключилась, и стал лечить других, кто приходил к нему.
Когда же случилась великая и страшная засуха, когда погибали от голода люди в долине, монах этот бросился со скалы, принеся себя в жертву. И пошел дождь, и люди спаслись. А монаха похоронили на вершине горы и поклонялись ему.
Васька досмотрел кино, судорожно вздохнул, закрыл рот, глядя прямо перед собой невидящими глазами, вытер рукавом с губ слюнки, еще раз сглотнул и пошел в чулан...
Пряники
Вернувшаяся домой Анастасия Николаевна, промокшая до нитки под проливным дождем, слегка испуганная начинающейся грозой, закричала из прихожей в комнаты:
- Васька! Принеси тапки! Я их в комнате оставила! Да скорее ты, мне холодно босиком стоять!
Васька не отзывался.
- Спит, что ли, олух? - беззлобно ругнулась мать, шлепая босиком в комнаты. К ее великому удивлению Васьки в квартире не оказалось. А дождик он не любил, грозу же вообще боялся панически. Маленький он в таких случаях залезал под кровать, и вытащить его оттуда до конца грозы было просто невозможно.
Обеспокоенная мать кое-как переоделась в сухое и, прихватив зонтик, бросилась по ближним соседям и родственникам. К ее ужасу Васьки нигде не оказалось.
- Да не волнуйся ты так, - успокаивал ее Анатолий Евсеевич. - Куда он денется?
- Наверняка у кого-то из родни сидит, - вторила Полина Сергеевна. Он в грозу на улицу боится выходить, все знают. У нас половина поселка Пантелеевы, если не больше. Где ты его сейчас найдешь? Кончится гроза - сам прибежит.
Но Васька не прибежал, и едва гроза притихла Анастасия Николаевна опять кинулась по многочисленным Пантелеевым в поисках своего старшего. И чем больше домов она обегала, тем больше нагоняла страха на себя и на всю родню. Вскоре по улицам и переулочкам поселка, из дома в дом, носились бесконечные Пантелеевы, повсюду спрашивая одно и то же:
- Ваську не видели?!
Можно было наблюдать такую картинку: идет по улице бабуля из магазина, а на другом конце этой улицы появляется кто-то из Пантелеевых и спешит к ней. Бабуля, не дожидаясь пока до нее добегут, кричит через всю улицу:
- Не видала я вашего Ваську!
Закончилось же это тем, что к Пантелеевым постепенно присоединилось все взрослое население поселка, которое в резиновых сапогах, под зонтиками, в дождевиках, бродило по улицам, закоулкам, шарило по сараям, чердакам и погребам в поисках Васьки. К ним присоединилось население вагончиков, засновали, мелькая черными пятками, мальчишки в сверкающих брызгах луж.
По требованию местного населения к поискам присоединилась поселковая милиция в полном составе: сам товарищ участковый, капитан Тарас Миронович Пасько, и младшие сержанты Сергей и Григорий Тарасовичи Пасько.
С появлением этих красавцев-великанов в любовно пригнанной по статным фигурам форме, поиски приобрели более осмысленный характер. Участковый собрал всех жителей поселка вместе, опросил их всех, кто и где искал, распределил, кому и где еще посмотреть и куда заглянуть.
Вскоре, обшарив весь поселок, собрались на краю возле сараев, которые были так же тщательно обследованы, но ничего, кроме нескольких бутылок водки, припрятанных за поленницами дров от бдительных жен, найдено не было.
Тарас Миронович осмотрел своих сыновей, облепленных паутиной, не удержался и недовольно спросил:
- На вас что, пауки напали?
И не дожидаясь ответа, направился к оврагу.
А за ним, рассыпавшись по его команде цепью, шли жители поселка. На склонах оврага, глинистых и скользких после дождя, все это напоминало известную картину Сурикова про переход героических Русских войск через Альпы под водительством генералиссимуса, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, щупленького старичка на белом коне, с лихим седым хохолком на голове.
Пока же население, махнув рукой на штаны и юбки, с визгом и хохотом, лихо съезжало по склонам овражка, старички, скучковавшись, отправились в обход, вспомнив про мосток, который был в полукилометре в сторону.
Шли они степенно, важно. Старушки, поддерживая одна другую под локоток, старички, опираясь на палки. Шли серьезно и торжественно, словно на воскресную проповедь в церковь.
Закрепляя это впечатление, впереди всех вышагивал, подоткнув полы рясы, поп Антон. В очках, с реденькой бородкой, но уже богатый щеками и животом. Молодой, и не про батюшку будь сказано, чертовски красивый. И попадья с ним рядышком. Он без нее - никуда...
Совсем еще молодой Антон Птицын, вчерашний студент гуманитарного факультета, попал в армию, где служил на южной границе, и где приучился курить травку, которую там разве что верблюды не курят.
Во время одной стычки со "стариками" сильно досталось Антону. Попал он в госпиталь. Трижды его оперировали, колено у него было разбито, чтобы снять боли, кололи что-то наркотическое. Короче, боли-то сняли, да другая беда за горло взяла: попал он на зависимость наркотическую.
Медсестричка, молоденькая дуреха, которая влюбилась в красавчика Антона по самые уши, что-то мудрила с дозами, что-то выкраивала для него. Но делала она это так неумело, что почти сразу же ее и засекли.
Вызвал ее к себе врач-хирург, кудесник, золотые руки, а вот души человеческие не умел лечить. Рассказал он медсестричке про то, как она сама, своими руками, убивает своего возлюбленного, делая его безнадежно больным человеком, наркоманом.
Выслушала она врача, заплакала, соплюшка-несмышленыш, и ушла. И пока шла - плакала. Пришла она домой, да какой у нее, воспитанницы детдомовской, дом? Общежитие. И соседка, как назло, в ночную смену работала. А она все плакала, и все удивлялась, что у человека столько слез может быть.
Пошла она в ванную, и вода была такая теплая и приятная, ласковая, и она уплывала на этих ласковых волнах, жалея погубленного ею Антона, жалела любовь свою бестолковую, жалела такого замечательного хирурга, которого она так подвела... Она плакала за все и за всех, и жалела, жалела, жалела...
А потом вода в ванной стала совсем холодной, но она уже ничего не чувствовала. Она уже перестала плакать. И жалеть перестала. И жить перестала.
Она убила себя лекарствами, которые должны были спасать от смерти...
Антон узнал об этом на следующий день, когда понаехали из милиции, и его тоже допрашивали.
Ночью он сломал замок в кладовой с вещами, подобрал себе штатскую одежду, оставив больничную. Потом пробрался в провизорскую, разбил стеклянный шкаф, высыпал, не разбираясь, лекарства в пустую наволочку, взломал подвернувшейся монтировкой железный ящик, выгреб оттуда лекарства, и ушел, прихватив с собой пакет с одноразовыми шприцами.
В больничном саду, в кустах, он наглотался таблеток, разрывая трясущимися руками облатки. Они не поддавались, эти облатки, и Антон рвал их, прихватывая края волчьим прикусом молодых крепких зубов.
Потом он шел по ночному городу, размахивая наволочкой. На перекрестке его попытался остановить милиционер, которого Антон ударил. Потом ударил еще раз. И бросился в запальный звериный бег, в попутные машины и поезда....
Он добрался до Лены, бывшей своей однокурсницы, которая оставила его ночевать у себя, а утром сообщила, что выбросила его наволочку и все, что в ней было. Он сел на пол и заплакал. Она подошла к нему, села рядом и тоже заплакала.
Потом она повезла его куда-то, и привезла в монастырь...
Он лежал в маленькой келье, смотрел в потолок и молчал. В первое время его страшно ломало, он рычал, скверно ругался, рвал на себе одежду и простыни на постели, катался по полу, выл, раздирал лицо и грудь ногтями, бил себя кулаками по лицу.
За ним терпеливо и молча ухаживали. В келье все время кто-то дежурил. Однажды он очнулся, осмотрелся осмысленным взглядом и остался в монастыре на год.
Через год приехала в монастырь Лена, которой он даже "до свидания" не сказал. Распрощался он с монастырем и поехал в семинарию, в сопровождении Лены, с которой больше никогда не расставался.
После окончания семинарии получил он приход в Мытарино. И вот шел теперь рука об руку с матушкой Еленой, супругой своей венчанной. Шел впереди старушек и стариков, обходя овражек, из которого те из его паствы, кто помоложе, изрядно извозившись, со смехом и шутками выбирались уже на другой стороне, где впереди их ждало путешествие через вскопанные огороды. При ходьбе по такой почве на ноги налипает столько грязи, сколько и земли-то на белом свете нет.
И с каждым шагом приходится приподнимать на обуви прилипший к подошвам земной шар. Движущийся по этим огородам похож не на слона, идущего по грязи, а на человека, который идет по пашне со слоном на плечах.
Что самое ужасное - вернуться невозможно, потому что, сделав несколько шагов, с ужасом осознаешь, что назад ни за что возвращаться не нужно, потому что для этого требуются точно такие же усилия, как и для того, чтобы пройти вперед.
Когда старички, ведомые отцом Антоном, успевшим уже выгвоздать рясу, вышли к огородам, смело вступив на них, подбадривая сами себя, те что помоложе уже выбирались за огороды и падали без сил в мокрую траву.
И вот тут кто-то заметил приближающийся из подлеска тусклый свет фонарика. Вскоре перед отрядом отважных спасателей предстал целый и невредимый Васька. Он шел напролом в мокром насквозь кимоно, не обращая внимания на злую крапиву, хватавшую его за голые ноги, только хрюкал довольно, как от щекотки.
Заметив выстроившийся перед ним поселок, он застыл с раскрытым ртом, не понимая, что за народ бродит ночью по огородам, на которых еще и красть нечего.
Спасатели же, увидав целехонького Ваську, сначала обрадовались, а потом, оглянувшись назад, на огороды, и вспомнив, что их ждет на обратном пути, резко изменили свое отношение к нему в худшую сторону.
Не побили его, наверное, только потому, что ни у кого на это сил не осталось. А те, у кого они остались, находились при исполнении. Отделался Васька поцелуем и звонким подзатыльником от матери, да еще устным обещанием спустить с него семь шкур, дома, во что не только Васька, но и никто из окружающих не поверил.
И правильно. Поскольку из всех многочисленных угроз в его адрес, мать выполнила только одну: не выпускать его из дома. Отобрала кимоно, заперла его вместе со штанами и рубахой в шкаф, а самого Ваську, уходя из дома, запирала на ключ. И ходил он по квартире в сползающих с круглого живота чудовищного размера трусах и в полосатой майке, перешитой из тельняшки, неведомыми путями попавшей в этот совершенно сухопутный поселок. Ходил он горестный и грустный, но уперся и не сказал матери, где пропадал той самой ночью.
И не просто молчал об этом, а молчал три дня, и совершенно молча отсидел все три дня дома. Такого с ним раньше не случалось и перепуганная странным и необычным его поведением мать, плюнув на все, открыла шкаф и сказала, в сердцах выбрасывая оттуда Васькино кимоно и другие вещи:
- Гуляй, давай, но только смотри мне, чтобы тебя видно было. Со двора - ни на шаг! Ты понял меня? Понял, я тебя спрашиваю?
Васька молча стоял перед ней, сопел и вертел ногой дырку в половике, так ничего и не сказав в ответ.
- Иди уж, горе мое, - вздохнула мать, рассудив, что на свежем ветерке быстрее дурь выдует.
Минут через десять вышла она во двор по делам хозяйственным, глянула туда-сюда, а Васьки уже и след со двора простыл, как корова языком его слизнула. Ох и взвилась тут Анастасия Николаевна!
Шум она, правда, поднимать не стала, опасаясь за реакцию соседей, не забывших еще про ночные гуляния по оврагам и огородам. Побегав молча по дворам, поняла она, что возраст ее не соответствует такого рода мероприятиям, как поиски блудного сына. Звать своего Ваську в голос она по тем же причинам не отважилась, крикнула его несколько раз, согласно дворовому этикету, и больше не стала. С тоской смотрела она на темневший за огородами перелесок, откуда в прошлый раз появился ее Васька. Сердцем чувствовала она, что там он.
Русский народ смекалкой жив, а женская его часть и подавно. Подозвала она внучонка своего, вечно сопливого рыжего Петьку, сунула ему пряник, что-то пояснила, руками размахивая.
Петька покивал, быстро убежал куда-то и так же быстро вернулся во главе ватаги босоногих мальчишек, которым Анастасия Николаевна так же что-то пояснила, показывая в сторону перелеска. Мальчишки выслушали и умчались за овражек и огороды так быстро, что даже пыль на дороге шевельнуться не успела.
Сама же Анастасия Николаевна поспешила в магазинчик, откуда вышла с увесистым пакетом и заспешила вперевалку за сараи, к овражку. Там уселась она на краешке, укрывшись от взглядов, свесив ноги в прохладу и тень овражка, где на дне, в полумраке, звенел ручеек. Сидела она, терпеливо выжидая, покусывая пряник, который извлекла из пакета, удивляясь давно позабытому вкусу.
Прямо чудесный какой-то ей пряник достался, с давным-давно позабытым вкусом. И жевала она его медленно, удерживая на языке каждую крошку, жевала и вспоминала. И вместе с забытым вкусом возвращались к ней и полузабытые воспоминания.
Вспомнила она деда, вернувшегося из города с заработков. Лицо вспомнить не могла, помнила только роскошную бороду с густой проседью, крепкие руки с узловатыми пальцами, которые извлекали из холщового мешочка невиданную по тем временам в голодной деревне роскошь: пряничных коников. И помнила она этих самых коников так ясно и подробно, словно только что в руках держала.
И грустно ей было оттого, что коников этих пряничных она до самой малой черточки, до последнего завитка в развевающихся гривах помнила, а лица дедова никак вспомнить не могла, как ни старалась. Пропало из памяти лицо дедово. Пропало так же, как и сам дед, которого погубили лихие люди на дороге, позарившись на заработки его городские.
Стала вспоминать бабушку, но тоже никак не могла вспомнить лица ее. Вместо лица, хоть ты плачь, вспоминались опять пряники, только домашние, вспоминалось, как пекла бабушка из теста жаворонков, вставляя каждому вместо глазика - изюминку. И пахло в доме праздником и ванилью.
Глаза бабушкины помнила, и руки тоже помнила, как и у деда, еще колечко помнила, тонкое медное колечко, навсегда вросшее в натруженный палец.
Мать и отца Анастасия Николаевна даже и не пыталась вспоминать. Она сама их только на фотографии видела, которая дома на стене висела. Сгорел дом, и стена эта сгорела, и все фотографии: дедушки, бабушки, отца и матери тоже сгорели.
Отец с матерью вместе на Гражданской воевали, война и свела их. Война свела, война и погубила. Про отца бабушка часто рассказывала, а вот про маму и она почти ничего не знала. Отец привез ее в дом родителей, когда рожать пора было. Привез, а сам обратно - на фронт. И мама, как только родила, да немного оправилась, за ним следом, даже дочку грудью не докормила.
Погибли они вместе, где-то в далеком Туркестане, в жарких песках, в горячей схватке с отчаянными басмачами.
Посидела она, прикрыв глаза, пытаясь вспомнить такие дорогие лица, и заплакала от обиды на память свою, которая спрятала их в далеких тайниках.
Даже мужа своего, безумно ею любимого Ванечку, вспомнить в лицо никак не могла. Опять вспоминались пряники, которые приносил ей муж в получку, и которыми любил угощать крохотного еще Ваську, и ее, супругу свою любимую. Еще помнила она вкусный запах свежей стружки, и мелкие опилки в черных кудрях мужа своего.
И так ей жалко стало Ванечку своего потому что убили его, что она снова заплакала, не утерев еще слез прежних. Как же все неправильно устроено! Жили хорошие, красивые люди, а после них - ни фотки, ни лиц в памяти, все время постирало. И где могилки отца-матери? Где муж похоронен?
Писали про него в похоронке, что похоронили его в Восточной Пруссии, на площади в каком-то городе, название которого она позабыла, а похоронка в пожаре сгинула. Не запомнила она название того города, больно мудреное название было.
Стала она как-то искать по карте школьной, но ни Туркестана, ни Пруссии этой не нашла, ни Восточной, ни Южной, ни Западной.
И что это за Пруссия такая? Пруссаков, что ли, там разводят? И кому они нужны эти рыжие тараканы? Ползают, ползают...
Да если бы и отыскала она страны эти диковинные, то где в них искать могилки дорогие? Нет, неправильно все это. Человек должен родиться и умереть на своей земле. Как они там лежат в чужих землях? Может быть, могилки их с землей уже давно сравняли. Да и то: кому там за чужими могилками ухаживать, своих, небось, хватает.
На поселковом кладбище и то стали бесхозные могилки появляться. Уезжают люди из поселка, насовсем уезжают. Только могилки остаются, куда могилки уедут?
Соседка рассказывала, что в Москву к дочке ездила, так та говорит, что на кладбище за место платить нужно. Это ж надо же! А если у кого денег после смерти не осталось? Как хоронить?
Чем дальше, тем все непонятней. Была помоложе, думала, что когда повзрослеет, все поймет, да куда там!
Темное дело - эта жизнь. Работаешь, работаешь, детей ростишь, внуков нянчишь, оглянулась - жизнь и закончилась. А кажется, что еще и не начиналась она.
Вздохнула Анастасия Николаевна, высморкалась в платочек беленький, чистенький, с голубенькой каемочкой, сложила его аккуратно и обратно в рукав заправила.
- Вот и жизнь прошла, - прошептала она вслух, поняв это светло и обреченно, вроде как даже и с облегчением.
Только за Ваську сердце ее тревожилось...
Тут, к радости ее, появились из перелеска бегущие ватагой мальчишки, размахивая на бегу сломанными в лесу гибкими ветками.
- Господи, только бы глаза себе не повыбивали! - перекрестилась Антонина Николаевна, забыв про все свои охи и воспоминания безрадостные.
А может быть, и не забыла. Светла печаль...
Пригляделась она повнимательнее, но Васьки среди мальчишек не высмотрела, тут же опять забеспокоилась, затеребила край платка, наброшенного на плечи.
Первым добежал до нее, конечно же, рыжий Петька, внучок ее. Подтянул он съехавшие трусы, вдувая и выдувая кругленький пузик со смешным, задиристо торчащим вперед пупком. Засунул палец левой руки в широкую, хорошо разработанную ноздрю, правую руку приложил к вихрастой голове, и серьезно доложил:
- Ваше задание выполнено! Васька в лесу, вон тама, за перелеском, дальше, на бугре. Он там что-то стрит в березках. Шалаш, что ли?
- Чего строит? - не поверила своим ушам Анастасия Николаевна.
- Шалаш, кажись, - весело подтвердил Петька. - Точнее мы не рассмотрели, он нас прогнал. Палками стал кидаться, шишками, ругается, ногами топает, мы ближе побоялись подходить, ну его. Мы только видели, что он там коробки старые складывает, ветки таскает, наверное, шалаш строит, чего же еще там строить?
- На кой он ему, шалаш этот? - удивилась мать, несколько все же успокоившись тем, что сын отыскался. - А чего это он ругается? Такого за ним раньше не водилось. Вы его не обидели чем? Дразнились, может?
- Когда мы его обижали?! Когда мы его дразнили?! - возмущенно загалдели мальчишки. Она не смогла припомнить такого случая, примирительно поблагодарила мальчишек за помощь, отдав им пакет с пряниками.
- Может позвать Ваську? - вызвался воодушевленный Петька. - Так мы мигом.
- Не, без надобности, - отмахнулась мать. - Пускай себе забавляется. У него и так радостей не много. Пускай строит, пусть тешится, пока не надоест.
Она повернулась, и пошла, согнув спину, сказав куда-то, непонятно кому, еще раз:
- Пускай себе...
Цыгане
Так вот и стал Васька целыми днями в лесу пропадать. Утром схватит пару бутербродов - и за двери, а возвращается уже только к ужину, поест - и спать, чтобы поскорее проснуться.
Все шутки по поводу вечерних поисков Василия под проливным дождем уже отшутились, все ругательства отбранились. Скучающий поселок жил ожиданием следующего события, равного по масштабам.
Событие не заставило себя ждать, и не одно.
Сначала исчезла общественная веревка для сушки белья, купленная вскладчину, которая висела во дворе "резинового" дома. Побегали-побегали хозяйки по двору под шутки-прибаутки мужиков, да разведя руками, купили новую.
Так бы оно и забылось. Подумаешь, веревка! Но на следующий день у Степана-плотника украли из сарая инструмент, прямо в ящике. Качественный был набор инструмента, плотницкий. И вместе с этим уникальным инструментом пропала у него обыкновенная лопата.
Виноватых искать не спешили. Сначала принялись сообща искать инструмент, думали, что Степан его мог где-то и оставить по случаю магарыча какого. Но о воровстве пока никто даже словом не обмолвился.
К воровству и всяким пропажам в Мытарино отношение было крайне болезненное, с выводами никогда не спешили. Были к тому причины. И очень даже основательные причины.
Дело было прошлое, а случилось оно после войны, когда кирпичные дома строить стали.
Было это так. Спустили сверху в поселок деньги на постройку кирпичных домов. Деньги выделили, стройматериалы тоже, лес сами добывали, леспромхоз и лесопилка при поселке состояли. Что, вроде, еще надо? Строй!
А вот кому строить? По совместительству в то время даже и думать не моги. А без этого где же в послевоенном поселке, на мужиков ополовиненном, да еще леспромхозном, строителей возьмешь? Тем более - каменщиков. Ну, сруб срубить, это еще могли, а вот кирпич класть...
Каменщики после войны на дорогах не валялись.
Но оказалось, что они по дорогам этим ездили. Ездили из конца в конец разрушенной, разоренной послевоенной России, как ездили веками по всему миру: в пыльных кибитках, покрытых старой и ветхой парусиной, в прорехи которой ночью так хорошо видно звездное небо. Веками ехали они по бесконечным дорогам, догоняя неверное, ускользающее, всегда манящее и всегда недоступное, цыганское свое прихотливое счастье, волю вольную, убегающие от них в бесконечные степи, леса, туманы...
Вот прямо оттуда, из глубины веков, выплыли на окраину поселка кибитки, запряженные лошадьми. Из кибиток высыпала орава пестро одетых, а точнее, пестро раздетых, черных как воронята, голопопых ребятишек. Следом за ними высыпали мужики и женщины, такие же кудрявые и черные, как грачи на пашне, пестро одетые, мужчины с серьгами в ушах, женщины в цветастых юбках с короткими трубками-носогрейками в зубах, все перемешалось, закипело, задвигалось, завертелось, как крупа в кипятке.
Все они сразу забегали, залопотали на гортанном, звучном и непонятном языке, замельтешили, путаясь сами у себя под ногами. Просто удивительно, как среди всей этой бестолковости и не останавливающегося ни на секунду движения, выросли шатры, загорелись, выбрасывая вверх веселые искры, костры, задымились над ними закопченные котлы, разнося дразнящий, щекочущий ноздри запах самую малость подгоревшей каши. Подгоревшей ровно настолько, насколько нужно для того, чтобы пахнуть дымком. Промчались к речке на неоседланных лошадях бесшабашные цыганята, мелькая смуглыми попками, сверкая белозубыми улыбками...
И только когда опустели котлы, наступило некое подобие покоя в цыганском таборе. Мужчины улеглись в тени кибиток, надвинув на лица шляпы, заложив под голову руки, дремали, покуривая короткие диковинные трубки.
Ребятишки опять понеслись к речке, оттирать песком котлы и мыть посуду, женщины уселись кормить грудью младенцев, совершенно никого не стесняясь, в отличие от русских женщин.
Кто-то тронул струны гитары, кто-то взял в руки вторую, вступила в этот разговор скрипка, и запел высокий гортанный голос, такой непривычный, что не вдруг и поймешь: мужчина поет, или женщина. И песня была какая-то не совсем привычно цыганская, не про "очи черные", не про "две гитары".
Билась в этой протяжной, как степь, длинной, как дорога в этой степи, тоскливой, как дождь, песне, извечная тоска, та самая, что вела этот народ по пыльным дорогам, по городам и странам. Словно пытались эти предсказатели чужих судеб проникнуть в загадку и тайну судьбы своего народа, своей судьбы. И, не разгадав эту тайну, выплеснули всю тоску, все отчаяние, в протяжные, страстные, жгучие и бесконечно тоскливые песни.
А потом была ночь. Спал табор, уставший за несколько бесконечных переходов в тряских кибитках и на неоседланных лошадях, горячих цыганских кровей.
Но уже утром стояли у поссовета, дымя дружно трубками, несколько цыган в ярких кумачовых рубахах, в плисовых жилетах, в коротких сапожках, блестящих, словно лакированные, на короткие голенища которых были щедро приспущены штаны-шаровары, а за голенища воткнуты кнутовища с витыми рукоятями, украшенные серебряной нитью. В ушах сверкали серьги, из карманов жилеток свисали массивные цепочки часов. Все как один были рослые, статные красавцы, кроме одного, который стоял немного впереди. Невысокий могучий старик без шапки, седой, кудрявый, с буйной бородой.
Ожидание, как видно, входило в неведомый поселковым жителям ритуал, поскольку цыгане ничуть не беспокоились отсутствием начальства, и на часы не посматривали.
Начальство появилось ровно в восемь ноль-ноль. Оповещенное заранее, оно пришло в полном составе: председатель, писарь, бухгалтер, и, конечно же, парторг. Зайдя в помещение всего на минуту, скорее всего для важности, начальство тут же вернулось обратно, говорить с цыганами.
Разговора никто не слышал, но зато все его видели. Этого было вполне достаточно.
Видели, как попеременно председатель, бухгалтер, или даже парторг, били себя в грудь, что-то пытаясь втолковать старшему цыгану, обращаясь почему-то только к нему.
Терпеливо дождавшись пока поселковое начальство выскажется, молодые цыгане начинали размахивать руками, возмущаться, тянуть старшего в сторону табора.
Старый цыган стоял молча. Он терпеливо дожидался пока молодые намашутся руками и навозмущаются, потом, пыхнув трубкой, вынимал ее из густой бороды и говорил что-то краткое, отрицательно мотая головой.
Начальство в отчаянии принималось театрально рвать на себе пиджаки, бегало в здание за какими-то бумагами, которые совало под нос цыганам. Те махали рукой на бумаги и на начальство, начальство махало рукой на цыган, все плевались под ноги, растирали пыль и поворачивались спинами, чтобы разойтись.
Но не успевали цыгане отойти на несколько шагов, как вслед за ними бросался писарь, ловил их за полы жилеток и возвращал обратно.
И действо начиналось сначала. Наконец, после долгих и горячих споров, начальство и цыгане договорились. По крайней мере, начальство принялось похлопывать цыган по плечам, молодые цыгане хлопали железными ладонями по мягким ладошкам начальства, отчего начальство морщилось, но терпело. Наступило короткое оживление и веселье, которое прервал старый цыган. Он что-то крикнул молодым, и те опустили виновато головы, и отошли за его спину.
Начальство обреченно вздохнуло, но старый цыган, дождавшись пока молодые угомонятся за его спиной, протянул широкую, как цыганская душа, ладонь председателю поссовета и улыбнулся.
Солнышко, на мгновение ослепив председателя, прокатилось по золотым зубам вожака туда и обратно.
Ударили они по рукам.
Ударили вечером у цыганских костров звонкие гитары!
Ахнул перепляс, звучали до утра песни...
А рано утром цыгане вышли на работу, разочаровав все население поселка.
В рабочих робах цыгане выглядели невзрачными смуглыми строителями. Не очень красивыми, в большинстве своем - малорослые, с резкими чертами лиц, носатые. Это были совсем не те цыгане, что стояли возле поссовета, красуясь цепочками, жилетками, серьгами и щегольскими сапожками.
Занятые обыденной, лишенной всякой романтики, работой, они сразу же стали для всех интересны не более, чем поселковые мужики на лесопилке. Там даже было романтичнее: золотистые горы опилок, запах свежераспиленного леса, визг механических пил...
А тут - что? Стройка. Цемент, кирпич, раствор. Грязь, пыль, тяжелая работа, пот. Ну и что, что цыгане? Ну и что, что кибитки? Такие же люди.
Ничего вроде бы не случилось, но где-то в подсознании у поселковых затаилась обида на цыган за обманутые ожидания. Словно пообещали они что-то, какой-то большой, яркий праздник без конца, а сами взяли и обманули.
При этом никто не признался бы, что в чем-то обижен на цыган. Упаси господь! За что?!
А все же - было. Была эта припрятанная обида. И закончилось это, как и любые тайные обиды, не очень здорово.
Полина Сергеевна развесила белье и ушла на работу. Днем прибегали к Анатолию Евсеевичу мальчишки с просьбой починить самокат. Он, разумеется, починил, а мальчишек попросил снять с веревки белье, просохшее на солнце, принести на второй этаж, чтобы помочь немного супруге. Мальчишки мигом все сделали.
Вечером Полина Сергеевна пришла с работы, смотрит: белья на веревке нет, как нет. Заметалась она по двору, не знает что делать, где искать. Шла мимо соседка, спросила, что за беда приключилась, и сразу же заявила, что это цыгане белье украли. Больше, говорит, некому у нас красть. У нас, мол, никто ничего не крадет, разве что огурец с грядки, да и то мужики на закуску.
Полина Сергеевна, вконец расстроенная, прислушалась к словам соседки, белье постельное по тем временам недешево стоило, да и не вдруг купишь. А соседка подбила ее идти к цыганам, требовать обратно украденное. Полина Сергеевна засомневалась, мол, если и взяли, то разве же признаются, разве отдадут? Соседка попалась боевая: не бойсь и не сомневайся, говорит, куда они денутся? У них у всех паспорта в поссовете лежат на все время работ и временного проживания. А без паспорта куда? Только в тюрьму. Словом, привела соседка еще трех подружек и пошли они в табор.
А там, по случаю рабочего дня, одни бабы да ребятишки. Даже стариков не было, куда-то уехали. Увидев решительно приближающихся поселковых женщин, все таборное население высыпало им навстречу. Поскольку до этого случая поселковые женщины, в отличие от мужчин и ребятни, в табор заходить опасались, не решались.
Увидев пеструю, галдящую толпу цыганок, среди которой было полным-полно голопузых детишек, Полина Сергеевна заскучала сердцем и стала просить соседок уйти отсюда, бес с ним, с бельем этим, может, зря на людей напраслину возводим? Соседки ей, мол, как же так?! Если не цыгане, то кто же у тебя тогда белье украл? Мы, что ли?! И прямиком к цыганкам: так и так, отдавайте что взяли! Те так и обомлели, за рукава женщин хватают, галдят, кричат:
- Сестра! Сестра! Как можно?! Мы что, если цыгане, значит воры, да?!
Женщины распалились, стоят, кричат, сами себя заводят, руками друг перед дружкой размахались. Полина Сергеевна зачем-то наклонилась, ее случайно по лицу цыганка рукой задела, соседкам же ее показалось, что ударили Полину Сергеевну. Бросились они ее защищать, цыганки стали их отталкивать, пытаясь что-то пояснить развоевавшимся женщинам, да куда там! Только масла в огонь подлили.
Стали цыганки выталкивать женщин из табора, а одна из поселковых споткнулась, и как назло попала рукой в костер. Тут уж разъяренные мытаринские бабы кинулись в рукопашную. Цыганки, наученные горьким опытом кочевой жизни, старались в драку не ввязываться, только лица прикрывали, пытаясь успокоить разбушевавшихся мытаринских женщин.
Тут появился старый вожак, еще несколько цыган откуда-то прибежали, кое-как оттеснили мытаринских искательниц простынь. Те в бой с мужиками не полезли, но помчались в поселок, послав мальчишек на лесопилку, за мужиками, а мужики уже и сами бегут, кто-то уже успел им сообщить, что цыгане мытаринских баб бьют.
Не разобравшись толком, что к чему, мытаринские мужики бросились на цыган, которые на стройке работали. Те даже кирпичом ни один не замахнулся, хотя на них мужики с дрекольем шли. Попытались цыгане голыми руками защищаться, только где уж там!
Побежали цыгане.
Мужики следом. Те по улочкам кривым заплутали, выбрались кое-как, да скорее в табор. А поселковые у поссовета собираются. Разошлись не на шутку, уже и ружьишко появилось, следом и еще одно, топоры в руках замелькали. Беда! Милицию в баню заперли, двери снаружи ломом приперев, а больше как назло никого из начальства в поселке не было. И кто знает, чем бы все это закончилось, если бы не выскочил из переулочка Васька Пантелеев. Подбежал к мужикам, бросился чуть не под ноги, бьется в припадке, кричит страшное:
- Кровь! Кровь! - кричит. - Не бейте! Нельзя!
Поначалу все подумали, что Ваську цыгане побили, а он вскочил на ноги - да обратно в переулок, мужики за ним. А в переулочке том - тупик и в том тупике трое здоровых мужиков завалили цыганенка молоденького, почти мальчишку, и бьют его смертным боем. Ногами пинают уже. Тот калачиком свернулся, прикрывается, как может...
Васька растолкал всех, и бросился сверху на цыганенка, лег на него и кричит:
- Кровь! Кровь! Нельзя!
Тут мужики пришли в ум, оттащили бивших, цыганенка тут же в больницу отправили, стали разбираться, что к чему. А как разобрались, самих себя всем стыдно стало. Женщинам, разумеется, по первое число попало за то, что попусту такой тарарам устроили, едва кровью дело не кончилось. Хотя и не совсем едва...
На следующее утро никто из цыган на стройку не пришел, а все мытаринское население, как по команде, собралось возле поссовета. Стояли кучками, пряча глаза друг от друга, мужики молча курили, уставившись в землю.
Прошел мимо участковый, которого вчера мужики сгоряча заперли в бане, остановился возле мужиков этих, хотел что-то сказать, но передумал, только сплюнул молча им под ноги и тяжело ступая поднялся по ступеням в помещение. Вскоре оттуда вышло на крыльцо все поселковое начальство. Председатель начал было говорить, но тут же и замолчал, уставившись толпе за спину удивленным взглядом.
Сбежал с крыльца участковый, дав знак народу расступиться. В образовавшийся круг вошли цыганский вожак и пожилая цыганка, которые, не обращая внимания на всеобщий интерес, стали выискивать в толпе глазами кого-то нужного им. Вожак нашел взглядом Ваську, подошел к нему, взял за руку и отвел к пожилой цыганке, что-то сказав ей.
Цыганка посмотрела растерявшемуся Ваське в глаза, провела ладонью по небритой, одутловатой щеке, и слегка наклонив, поцеловала его в лоб. Сняла с себя большой темный крест, поцеловала и повесила на могучую Васькину шею.
Подошел к нему, тяжело ступая на коротких, косолапых ногах, вожак. Он опустил на плечи Ваське большие ладони и долго молча смотрел ему в глаза. Потом приобнял его левой рукой за плечи, притянул к себе, а правой привлек его за затылок и замер, уперев большой и широкий лоб к Васькиному лбу, словно что-то невидное переливая в него из глубин своих, как из сосуда в сосуд...
Долго так стояли они. Потом вожак отпустил Ваську, толкнув его легонько лбом в лоб, словно шутя, оттолкнув его от себя. Потом порылся в кармане жилета, толстыми короткими пальцами, достал большие часы луковицу с двумя крышками и музыкой, на толстой цепочке, самое ценное цыганское свое сокровище, и опустил их в ладонь Ваське, сжав его пальцы в кулак.
Васька испуганно стал пихать неожиданный подарок обратно, но цыган гортанно прикрикнул на него и Васька покорно замолчал, словно понял, что сказал ему старый вожак и принял этот невиданный для него подарок. Самый дорогой подарок в его, Васькиной, жизни.
А пока он приходил в себя, старый цыган подошел к участковому и что-то спросил у него. Тот отрицательно помотал головой, но вожак требовательно протянул руку. Участковый нехотя достал из планшета бумагу и отдал ему. Тот даже читать бумагу не стал. Он просто порвал ее на мелкие кусочки.
Участковый сделал было шаг к нему, чтобы помешать, но старый цыган уже уходил сквозь толпу, глядя в нее и насквозь. Следом, гордо вскинув голову, шла пожилая цыганка, стараясь никого не коснуться.
Ушли цыгане. Ушло с крыльца, так ничего не сказав, поселковое начальство. Только люди долго еще стояли возле опустевшего крыльца. Стояли молча, словно ждали, что придет к ним кто-то и объяснит им, что же с ними со всеми такое произошло, и скажет, что же им теперь делать.
Тяжело было у всех на душе. Долго стояли так вот, молча. И только когда солнце стало садиться, кто-то повернулся и пошел в сторону табора. И следом за ним, словно только этого и ждали, потянулись остальные.
А когда поднялись на холмик, за которым стоял табор, замерли, увидев, что табора нет.
Вот так вот: был - и не стало. Даже угольков от костров не осталось, только голая земля, аккуратно выметенная в том месте, где пламя плясало. И все. Были цыгане - не стало цыган. Даже денег за работу, которую сделали, не взяли. Как потом выяснилось, паспорта им участковый вернул, а деньги они взять наотрез отказались.
С тех самых пор к воровству и пропажам в Мытарино относились с большой осторожностью, тем более, что жители Мытарино за обиду свою, причиненную ими цыганам, остались не прощенными.
Чтобы попросить у ветра прощения, его сначала догнать нужно...
Но инструмент, как ни искали, не находился. А инструмент - это все же не веревка со двора. Тут еще обнаружилось, что пропали у Павла Огородникова грабли деревянные, он граблями этими сено ворошил, для кроликов собранное. А у Потаповых большую корзину со двора как ветром сдуло.
После этого уже осторожно зашептались, стало ясно, что в поселке завелся вор.
Как всегда, в центре событий оказались вездесущие мальчишки. Они примчались к дому участкового, потребовав у его сыновей немедленно разбудить отца, заявив, что точно знают, где все украденное за последнее время: и веревка, и грабли, и инструмент, и все остальное. Но скажут они об этом только Тарасу Мироновичу лично, да и то только тогда, когда он даст им подержать в руках пистолет. Они бы и сыновьям его сказали, но все в поселке, включая мальчишек, знали, что сыновья участкового ходят с пустыми кобурами, а пистолеты их лежат надежно запертые в служебном сейфе, ключ от которого у самого Тараса Мироновича.
Что было делать сыновьям? Пришлось ради раскрытия взволновавших весь поселок краж, прервать так любимый и чтимый отцом послеобеденный сон.
Вышел грозный участковый к пацанам одетый как на службу: в сапогах и непонятно как сохранившихся галифе, разутюженных вширь так, что об "уши" порезаться можно было.
- Ну, мужики, - строго спросил он притихших мальчишек, - об чем наш разговор будет?
- Разговор, дяденька Тарас Миронович, - выступил вперед предъявлять требования, Колька Петух, - будет только после того, как ты нам разрешишь подержать в руках пистолет.
- Пистолееет... - протянул участковый, делая большие глаза. - Прям таки и пистолет сразу. А если вы ничего не знаете? Если вы меня, например, в заблуждение вводите? Или обманываете?
- Когда это мы обманывали?! - привычно возмутился Колька.
- Когда это мы говорили, чего не знали?! - дружно поддержали его остальные.
- Ладно, была не была, - притворно вздохнул Тарас Миронович, вытаскивая из кобуры пистолет, казавшийся в его огромной ладони игрушечным.
Ловким движением выбросил он себе в ладонь обойму, оттянул ствол, проверив, не остался ли там патрон, и рукояткой вперед протянул разряженный пистолет Кольке.
Тот старательно вытер руки о замызганную и без того майку, бережно и с некоторой опаской взял в руки пистолет, который минут пять переходил из рук в руки. Мальчишки восторженно рассматривали настоящее боевое оружие, целились им в небо, потому как направлять оружие, даже разряженное, на людей, Тарас Миронович строго настрого запретил. Категорически.
- Ну что, наигрались? - спросил участковый, дав всем подержать пистолет, не спуская с них глаз. - Тогда давайте его сюда, и рассказывайте, что знаете.
- Дядя Тарас, а стрельнуть дашь?! - выпалил, сам пугаясь собственной смелости, Колька.
- Вот про это у нас уговора не было, - тут же охладил пылкие замыслы участковый.
Мальчишки несколько разочарованно повздыхали, но сбились вокруг участкового и стали что-то оживленно ему рассказывать, отчаянно жестикулируя и показывая пальцами куда-то за огороды, в сторону перелеска. Тарас Миронович слушал, внимательно кивая головой, потом отпустил мальчишек, всем без исключения пожав на прощание руку.
- Ну что, батя, сказали что путное мальчишки? Кто крадет? подступился к отцу старший, Сергей.
- Сказали, - недовольно буркнул участковый. - Васька это.
- Да быть того не может! - хлопнул себя по коленям Григорий.
- Может, не может, но похоже, что так оно и есть, зачем пацанам врать? - резонно возразил участковый.
- Что, опять Ваську искать будем? - вздохнул Сергей.
Библиотека
А Васька был совсем рядом. Старательно вытерев босые ноги о ворсистый пластиковый коврик перед дверями, возле которых он снял сандалии, прежде чем войти, он прошел в зал библиотеки.
- Васенька? - привстала навстречу ему слегка удивленная библиотекарша, не избалованная вниманием читателей.
- Васька? - еще больше удивилась ее добровольная помощница, дочка Наталья. - Тебе что надо?
- Книжку, - с трудом ворочая языком от волнения, но с достоинством, ответил Васька.
- Ты разве читать умеешь?
- Наташа! - возмутилась мать. - Как тебе не стыдно! Ты, Вася, не слушай ее, глупенькая она. Ты проходи, Вася, проходи. Иди к полкам, сам выбери книжку.
И она открыла калиточку, пропуская Ваську в книгохранилище, к стеллажам с книгами.
Придерживая полы кимоно он прошел за перегородку и раскрыв рот принялся разглядывать книжное изобилие на стеллажах.
Мучительно морща лоб, двигая бровями, с трудом читал он названия, водя по корешкам пальцем, проигнорировав предложенные ему для обзора полки с детскими книжками с картинками, которые так любил обычно рассматривать. К удивлению библиотекарши Нины Петровны он пришел не поглазеть на картинки, а явно что-то пытался отыскать, притом даже не среди художественной литературы, а среди словарей, энциклопедий и справочников.
Наташа, студентка библиотечного техникума, приехавшая к матери на каникулы, исподтишка разглядывала экзотическое Васькино одеяние, расползающийся на животе халат, едва доходивший ему до колен, на смешного крокодила на задних лапах и с синим языком, на могучие, кривые и ужасно волосатые ноги с громадными босыми ступнями.
- Наташа! - постучала карандашом по столу мать. - Ты его смущаешь.
- А я что? - таким же сердитым шепотом отозвалась дочка. - Я ничего. Чего это он так смешно вырядился? Он что - ориентацию поменял, да?
- Какую ориентацию? - не поняла мать. - Он прекрасно ориентируется, и вполне соображает...
- Какая ты скучная, мам, я же не про это, я про сексуальную ориентацию спрашивала.
Мать даже книгу выронила.
- Господи! Не успел ребенок от дома на два шага отойти, а уже только и разговоров, что о сексе. И где только нахваталась? Ты бы так в техникуме знания нахватывала.
- Мам! Да сейчас про секс любой первоклашка все знает.
- Вот-вот, оно и видно, что про это вы все знаете, а писать грамотно забыли научиться. Это вот что за слово такое - "околологический"? заглядывая в карточку, заполненную дочкой, спросила Нина Петровна.
- Где? - вскинулась дочь, заглядывая матери через плечо. - Значит, так на книжке написано. Я что, сама, что ли, названия придумываю? Я с обложек списываю.
- На обложке написано - "онкологический"! Не Васю надо рассматривать, а писать внимательнее.
- А что? Вася очень даже ничего, - озорно хихикнула дочка, - смотри, какие плечищи!
- Вот егоза! - усмехнулась мать. - Пиши, давай, озорница.
И они углубились в работу. Скучную и кропотливую работу библиотекаря: формуляры, реестры, карточки, картотеки, описи...
Наташа старательно писала, склонив голову набок, как первоклассница, даже кончик языка прикусила.
Глядя на дочку, вспомнила Нина Петровна, как приехала сюда работать с молодым мужем. Он - учитель, она - библиотекарь. Как радовались они всему, что с ними происходило в новой, взрослой и самостоятельной жизни, самостоятельной работе, собственному дому, который им выделил поссовет, как молодым специалистам, пообещав квартиру в строящемся кирпичном доме. Конечно, она понимала, что все эти льготы касались прежде всего ее мужа, молодые учителя, как правило, в поселке не задерживались. Отрабатывали положенное и перебирались в Рязань, Владимир, а то и в Москву.
Радовались Нина Петровна с мужем новой школе, выстроенной в поселке, а вернее - всем поселком. Это была по-настоящему народная стройка. Каждый житель хоть что-то сделал на строительстве, хотя бы мусор строительный убирал. И школа получилась - на загляденье, из обкома начальство приезжало школу смотреть. И как вовремя школа подоспела! Как раз дочке в первый класс идти. А отцу - в последний.
Через неделю-другую он должен был уехать. Без Нины Петровны и без Наташи, родившейся в поселке. Все тихие слезы по этому поводу были выплаканы, все слова, и злые и добрые, были сказаны. Остались усталость, пустота, безразличие и тихое желание, чтобы все это поскорее закончилось.
Сидела в тот вечер Нина Петровна дома у стола, под лампой настольной, подшивала воротничок кружевной к школьному платью дочки. Муж лежал на кушетке, прикрыв лицо газетой. То ли дремал, то ли думал о чем-то своем. Наташа играла в уголке в куклы, посадив их за столик, кормила горошинами, которые старательно накладывала им в тарелочки.
Нина Петровна отложила шитье, устало сказав Наташе, что пора спать, завтра рано вставать в школу.
- Ура! В школу! - обрадовалась Наташа, забыв на минуту о домашних неприятностях, но заглянула в заплаканное мамино лицо, вздохнула, и молча пошла умываться...
Нина Петровна спала на кровати, а муж - на кушетке. Именно он первый услышал среди ночи Наташины всхлипы. Когда Нина Петровна подбежала к дочкиной кровати, муж уже сидел на краешке, держа дочку на коленях. Она плакала негромко, задыхалась, лицо отекло и приобрело синеватый оттенок. После кратких вопросов выяснили, что играя в куклы она засунула себе в нос горошину и забыла об этом. Твердая горошина за ночь разбухла и стала перекрывать ей дыхание. Мать и отец светили в нос лампочкой, пытались извлечь горошину, но все тщетно.
Завернув Наташку в одеяло, кое-как одевшись сами, помчались к Полине Сергеевне, с Наташкой на руках. Та попробовала извлечь горошину тонким пинцетом, но у нее тоже ничего не получилось. Стали созваниваться с районной больницей, но как назло что-то случилось с телефоном.
Нина Петровна совсем потеряла голову, столько несчастий сразу обрушилось на нее. На нее, для которой жизнь была радостью и праздником. Она плакала, суетилась и только всем мешала. Отец встал и взял дочку.
- Вы дозванивайтесь до больницы, - сказал он. - А я побегу, соберу Наташку, забегу заодно к Тарасу Мироновичу, если не дозвонитесь, он нас отвезет в район, у него "газик".
И ушел. Нина Петровна, отстранив Полину Сергеевну, сама села вертеть диск телефона, не в силах вынести бездействия. И только в трубке, после долгого молчания и зловещей тишины, послышались, наконец, шорох, треск и отдаленные гудки, как двери распахнулись.
На пороге стояла Наташка, а за спиной у нее - смеющийся отец.
- Не надо больше никуда звонить! - весело заявил он. - Мы сами справились!
Перебивая друг друга, отец и Наташка рассказали, как по дороге, пока он нес Наташку на руках, отец нашарил в кармане своей старой куртки вместо платка, который искал, табачные крошки. И тут его осенило. Он насобирал по карману щепотку табачной пыли и поднес Наташке к носу, заставив вдохнуть ее. Наташка послушалась, втянула с отцовской ладони едкую пыль, стала хватать ртом воздух, сморщилась, да так, что отец даже испугался, то ли он сделал? Но она оглушительно чихнула! Еще раз! Еще! И горошина выскочила из носа.
Когда счастливые родители принесли Наташку домой и уложили ее в кровать, несмотря на все ее протесты и капризы по поводу того, что горошина - это не болезнь и что она уже совсем проснулась. Вернувшись в комнату из детской, отец первым делом распаковал собранный уже чемодан, приготовленный в дорогу, сел к столу и написал заявление в РОНО с просьбой отменить его перевод.
Вот так, возможно, спас жизнь дочке отец ее. И вот так маленькая горошина, едва не погубив дочку, можно сказать, спасла в результате семью.
А уехал отец много позже, став уже директором школы. Уехал тихо и странно. Со времени той самой истории с горошиной в доме не было ни ссор, ни, тем более, скандалов. Никогда. Даже самых маленьких. И вот...
Наташка окончила школу, провалилась в институт и готовилась ехать поступать в библиотечный техникум. Наутро, через день после ее отъезда Нина Петровна обнаружила на столе записку, на которой почерком мужа было написано всего-навсего одно слово: "Простите!" - и все. Он даже не взял с собой ничего. Ушел - в чем был. С тех пор скоро уже год, как в воду канул, ни слуху, ни духу, словно его и не было...
От воспоминаний ее оторвали странные звуки. Нина Петровна подняла голову от бумаг и увидела душераздирающую картину: зацепившись за край высокого стеллажа висел Васька, дрыгая в воздухе ногами.
- Васька! - крикнула Наташа. - Отпусти полку и прыгай вниз! Тут невысоко, иначе стеллаж уронишь!
- Помолчи, Наталья! - остановила ее мать. - Не стеклянный стеллаж, ничего с ним не будет, а вот Васю он может придавить, если упадет. Не кричи, ты его пугаешь...
И стала она говорить Ваське ласковые, ничего не значащие слова, только для того, чтобы он успокоился и перестал дергаться. Но тут случилось такое, что окончательно выбило его из колеи: от резких его телодвижений не выдержала хилая резинка его многострадальных "семейных". Черной птицей скользнули они из-под кимоно, погладив Ваську напоследок по могучим ляжкам, словно прощаясь с любимым человеком. Васька обезумел от такого вероломства собственных трусов, покинувших его в такую, возможно, самую трудную минуту его жизни.
От такого конфуза, да еще перед лицом двух дам, он совсем потерял голову, рванулся, стеллаж рухнул и сработал "принцип домино". Стеллажи попадали, заваливая один другой. Большой беды от этого не было бы, если бы под ними не оказался Васька, засыпанный сверху книгами.
- Васенька, ты живой?! - робко спросила перепуганная Нина Петровна у поваленных стеллажей.
Книги зашевелились, послышалось кряхтение, кто-то там копошился, но ответа не было. Наконец выбрался Васька, показал пальцем на гору книг и сказал:
- Это я завтра...
Достал из кармана своего кимоно толстую книгу и заявил:
- Это я сегодня.
И не простившись, что с дружелюбным Васькой раньше никогда не случалось, вышел. Шел он весьма странной походкой: почти что на корточках, изо всех сил натягивая на колени куцые полы коротенького своего кимоно...
Только-только женщины, взбудораженные таким приключением, непривычным в стенах этого тихого заведения, приступили к ликвидации следов аварии, как двери библиотеки открылись, и на пороге величественно возникла фигура Тараса Мироновича, загородившего собой весь дверной проем. А прямо в живот ему уперся совок с мусором, который несла перед собой Наталья. Тарас Миронович, прищурившись после солнечного света, спросил:
- Это ты меня выносить собралась? - показав на совок в руках замершей от неожиданности Натальи.
- Ой! Извините, Тарас Миронович, - ойкнула она, отодвигаясь в сторону, пропуская участкового в двери.
- Милые дамы, мне сказали, что к вам направился один весьма мною уважаемый читатель, Василий Пантелеев. Мне очень хотелось бы, с вашего позволения, разумеется, поговорить с ним, обменяться, так сказать, своими впечатлениями о прочитанном. Как, милые дамы, предоставите мне такую возможность?
- Мирон Тарасович... Извините, Тарас Миронович! - совсем запуталась в словах Нина Петровна. - Голова, простите, кругом. Был у нас Вася, был, но... Он только что... это... ушел он только что.
- А зачем он приходил? Что-то я его раньше в библиотеке не замечал?
- Да как же вы его могли замечать, если вы сами даже не записаны в библиотеку? - встряла все же в разговор ехидная Наташка.
- Прекрати! - ахнула мать. - Вы не обращайте на нее внимания и не обижайтесь, глупенькая она еще. А Васенька за книжками приходил.
- Ишь ты! - искренне удивился участковый. - И что же? Что взял почитать?
- Он взял "Культуру и религию средневековой Японии". А потом он еще выбирал, что-то искал, но не успел... Ушел он быстро... Так получилось...
- Я вижу, что тут кое-что получилось, - присвистнул Тарас Миронович, оглядывая перевернутые стеллажи. - Это что же он такое прочитал, что такое вытворял тут?
- Вы не подумайте плохого, это он нечаянно. Он хороший, этот Вася. Вы лучше нам помогите стеллаж на место поставить.
- Очень хороший мальчик, - покачал головой участковый. - Хорошие мальчики стеллажи не переворачивают.
Он отстранил женщин и легко, не напрягаясь, ухватив стеллаж за край, вернул его в первоначальное положение. Хотел и со вторым проделать то же самое, но застыл с открытым ртом, разведя в сторону руки...
Женщины проследили за его взглядом и наткнулись глазами на видавшие виды, разлегшиеся поверх книжных премудростей, Васькины невообразимые, гигантского размера. Нина Петровна украдкой взглянула на участкового, слабо надеясь, что смотрит он на что-то другое, но тут же стала заливаться краской, поняв, что смотрит он на то самое. Она только и смогла сказать, что:
- Ой, мамочки...
- Это чье? И что тут произошло? - спросил потвердевшим голосом участковый, поднимая двумя пальцами Васькины трусы.
Пока потрясенные женщины пытались обрести дар речи, участковый рассматривал свою находку с некоторым даже уважением. Он даже приложил трусы к себе, восторженно прищелкнул языком и задумчиво сказал:
- Вот это вот - размерчик! От шеи до самых пяток... Ну так что, милые дамы? Что же здесь произошло? В честь чего это тут Васька устроил стриптиз, или сексуальную революцию? Или...?
- Или, Тарас Миронович, или! - в один голос закричали мать с дочкой. - Вы слушайте, мы вам все расскажем, только вы не поверите...
- У меня служба такая - слушать и... не верить, - развел руками Тарас Миронович. - Так что же здесь случилось?
Перебивая, и путаясь в словах, женщины ему рассказали о так печально завершившемся визите Васьки.
- Ладно, приму к сведению, - вздохнул участковый. - А это вот что за книжки отдельно лежат?
- Это Вася начал откладывать, потом заспешил...
- Я возьму их, с вашего позволения? Давно я что-то хороших книжек не читал!
- А что вы в последний раз прочитали? - спросила озорница Наташа, и добавила, - В жизни.
Нина Петровна даже поперхнулась от такой бестактности со стороны дочери, а участковый, не моргнув глазом, ответил, набрав в грудь воздуха:
- В последний раз, как я помню, я прочитал "Концептуальность гармонизации формообразовательного рецептурного в границах перцептивных, с позиции апперцепции"
И выдержал паузу, хитро косясь осторожным глазом на женщин.
Те явно прониклись уважением к участковому, которого до сих пор считали, в глубине души, разумеется, добрым, но туповатым немного.
- И давно вы этим... аппп.. пеценп... Ну как его там? Занимаетесь? уважительно спросила Наташка.
- Чем этим? - небрежно поинтересовался участковый. - Ах, вот этим-то? Ну, как сказать? Наверное, всю свою сознательную жизнь...
Он задумался, загибая на руке толстые пальцы и шевеля губами.
- Да, так оно и есть, все сходится, - произведя в уме подсчеты, кивнул Тарас Миронович. - Всю жизнь сознательную. Вот так вот оно получается. Захватила меня, значит, эта самая штука... Да как прочел впервые про эту штуку в детстве, так сразу же самому захотелось это делать.
- Что делать? - расширив глаза, спросила Нина Петровна.
- Как - что?! Ну, это самое, изучать, конечно... А вы про что подумали?
- Мы ни про что не подумали, Тарас Миронович. Вы не согласились бы выступить у нас в библиотеке, рассказать об... ну, как вы это называете? Об увлечении вашем...
- При наличии свободного времени можно будет поразмыслить, - степенно согласился участковый, правда, весьма туманно и неопределенно.
После этого он заспешил, галантно раскланялся, сказав женщинам, чтобы сами не надрывались порядок наводить, он пришлет на помощь кого-то из сыновей, не женское это дело - стеллажи ворочать.
Женщины смотрели ему вслед весьма уважительно, провожая этого мужественного человека, который шел выполнять трудную и опасную работу, а после нее, скорее всего по ночам, читает эту, ну про которую он говорил, мудреную науку...
Посмотрели они вслед, вздохнули, и принялись за уборку.
Объявлен в розыск
Тарас Миронович с головой окунулся в розыск.
Первыми это заметили сыновья, вернувшись из библиотеки, куда он отправил их на помощь женщинам, сразу же с порога увидели сильно задумавшегося отца.
Он лежал на тахте, широко раскинув руки, в майке, положив на лицо толстенную книгу, которую нашел как-то сидя в засаде, озорник Гришка, когда учился еще в школе милиции. Другой литературы в помещении, где была устроена засада, не нашлось, и пришлось Гришке читать эту единственную, оказавшуюся под рукой книгу, которую он потом принес домой. Дома долго смеялись над мудреным названием, которое не то, что понять, произнести невозможно было. Но отец тогда на спор выучил это название назубок.
Из-под книги раздавался мерный храп, и Григорий сказал Сергею:
- Смотри-ка, ну и силен батя спать! Даже книжка в воздух поднимается!
- Задумался батя, - подтвердил Сергей.
- Попробовал бы ты так посреди дня задуматься, - завистливо вздохнул Григорий.
- Ты бы, Гришка, поменьше по девкам бегал заполночь, тогда высыпался бы.
- Это кто бегает?! Я, например, провожу интенсивные розыскные мероприятия, опросы среди населения по поводу возможных краж личного, а также общественного имущества.
- Где же это ты услышал про общественное имущество?
- Стыдно мне за твою, просто ошеломляющую, юридическую безграмотность. Ты даже квалифицированно оценить состав предполагаемого преступления не можешь. О чем это говорит? Это нам говорит о недостаточном образовательном уровне младшего состава отделения милиции поселка городского типа Мытарино. Среди прочего пропавшего имеется веревка, купленная вскладчину, следовательно, являющаяся имуществом общественным.
- Ладно, общественник, буди отца, ты у нас сегодня дежурный.
- Легко сказать, - с опаской приближаясь к тахте, сказал Григорий.
- Батя, вставай! - потряс он отца за плечо и тут же проворно отскочил в сторону.
Книга полетела в сторону Сергея, который привычно перехватил ее в полете.
- В чем дело?! Что случилось?! - гаркнул доблестный участковый, вскакивая. - Ты чего это мою, как там ее? Мою "Перцеперацию..." схватил? Не видишь - читаю?!
- Да разве ее можно читать? - не поверил Сергей. - Пойдем, батя, там мальчишки нашли место, где Васька все краденое прячет.
- Сам Васька - там?
- Пацаны говорили, что видели его там.
- Ну, тогда пошли, - нашаривая сапоги, согласился участковый....
Мальчишки нашли место, где прятался Васька, это было все там же, где он строил "шалаш", но подойти он им так и не дал, шумел, бросался ветками и топал ногами, поэтому наблюдение мальчишки вели издали. Когда пацаны объяснили участковому, где находится Васька, тот даже крякнул с досады:
- Во занесло его! Придется обходить. Только сначала надо посмотреть, что там да как, не вышло бы чего потом. Если он на нас набросится, это еще полбеды, а вот если он нас испугается, да побежит, беда может случиться: там кругом овраги, шею можно запросто только так свернуть, а еще дальше Черная Топь, если туда рванет, быть беде, оттуда никто не возвращался. Так что смотрите все, чтобы тихо! Идем в обход.
Идти пришлось долго. За овражек, за огороды, в перелесок, через высоченные заросли крапивы.
- Скоро мы уже придем?! - в сердцах воскликнул Григорий, не успевший уклониться от крапивы, и теперь яростно потиравший щеку.
- Не-а, не скоро! - честно и радостно ответил рыжий Петька, который даже в этих условиях непрерывной борьбы с крапивой не вытаскивал палец из носа.
- Петька, - окликнул его запыхавшийся Сергей. - Ты не боишься?
- Не-а, - все так же, не задумываясь, ответил Петька, не дожидаясь продолжения, ответил сам, привыкший, хитрюга, к разным шуточкам и приколам в свой адрес, и знавший их наизусть. - Чего бояться? Палец сломать, да? Не-а, не боюсь.
- Да нет, палец у тебя тренированный, железный. Ты мозги себе не боишься выковырять?
- Это как это? - даже приостановился от неожиданности Петька.
- Да очень даже просто. Зацепится козявка за мозги, а ты ее потащишь, вот мозги следом и вытащишь.
- Иди ты! - огрызнулся Петька, но палец на всякий случай вытащил и внимательно осмотрел его, наверное, на обнаружение зацепившихся мозгов, но ничего не обнаружив, проворчал:
- Иди ты, обманиииил...
- А ты что, разочарован? Смотри, бывали такие случаи с мозгами. Потом не говори, что я тебя не предупреждал.
- Ты, Петька, - вступил в разговор Григорий, дуя на обожженные крапивой пальцы. - Ты когда-нибудь вытащишь из носа такоооое!
- Какое это - такое?! - подозрительно спросил обескураженный Петька.
- Да вот такое: как вытащишь, сам испугаешься. Вот какое!
- Да ну вас! - прошипел негромко Петька, совсем сбитый с толку, подсознательно понимавший, что его разыгрывают, но все же - вдруг про мозги - правда?
Тем временем вышли, наконец, из зарослей крапивы к довольно высокой горке.
- Куда теперь? - спросил, изрядно запыхавшийся, Тарас Миронович.
- Теперь рядышком. На горку вот поднимемся, потом еще на одну, вот с нее уже можно и ту горку увидать, на которой Васька, - пояснил Петька, сжимая правую кисть руки левой так, что костяшки пальцев побелели.
- Что это у тебя с рукой? - спросил его участковый.
- Да это у меня так... Ерунда, - засмущался Петька.
- Рассказывай! - хохотнул Сергей.
- Это он, батя, волю воспитывает. От дурных привычек избавляется, пояснил Григорий.
- Смотри ты! - удивился уважительно участковый.
С трудом вскарабкались на горку, потом на другую, где и остановились возле могучего дуба, под которым сидели, терпеливо поджидая их, мытаринские мальчишки. На шее у Кольки Петуха болтался мощный полевой бинокль.
- Ого! - удивился Тарас Миронович. - Вот это вот - техника! Нас такой не снабжают. И где такие дают?
Деловито поинтересовался он у Кольки.
- Клевая вещь? - загордился Колька.
- Спрашиваешь! - восхищенно прищелкнул языком участковый. Посмотреть дашь?
- Не могу, - вздохнул Колька, и честно признался со вздохом сожаления. - Не мой.
- А чей же? - спросил Сергей.
- Вон его, - кивнул Колька в сторону молчаливого мальчишки, сидевшего немного в стороне, и что-то строгавшего маленьким перочинным ножичком из палки.
- Что-то я тебя, мальчик, не знаю, - заметил, вглядываясь, участковый.
- Он только вчера вечером приехал, его мамка привезла из Москвы, он там в больнице лежал, - сообщил Колька.
- Ну, тогда мы почти что знакомы, - уверенно заявил Тарас Миронович. - Ты - Олег Пинегин. Верно? Я знаю твою маму, и бабушку тоже знаю. Вы в вагончике живете, рядом с Гаспаровыми. Так?
- В вагончике. Только я еще не знаю, кто там рядом живет, - как-то без интереса ответил мальчик, не подняв головы и даже не перестав строгать палку.
- Ты мне разрешишь посмотреть в твой шикарный бинокль? А я тебе дам подержать пистолет.
- А зачем? - равнодушно пожал плечами Олег.
- Что - в бинокль посмотреть? - растерялся участковый.
- Бинокль вы берите, смотрите, сколько нужно, только осторожно. А оружие я не люблю...
Олег еще ниже склонился блондинистой головой к рукоделию.
- Вот те на! - удивился участковый. - Мужчина, а оружие не любит! А как же ты в армию пойдешь?
- Я не пойду в армию. И стрелять не буду. Ни в кого и никогда не буду стрелять!
- У него папу в Чечне убили, - тихо пояснил Петька.
- Да! - воскликнул Олег. - Убили! Мы с мамой приехали в Грозный за дедушкой и бабушкой, а я там заболел, и мы не смогли сразу уехать, а потом было поздно. Дедушка хотел нас отправить, но никак не получалось. Надо было большие деньги платить. А сам дедушка не хотел уезжать. Он говорил, что хотя он и русский, но в Грозном родился, здесь и умрет. Он был хирургом в городской больнице.
Потом стали бомбить, дедушка стал пропадать в госпитале, даже домой не приходил, так много там было раненых. Гражданских полно. Дети тоже, старики, женщины. Страшно. Потом ночью приходили боевики с автоматами, стали нас выгонять из квартиры и мы очень испугались, что нас убьют. Бабушка говорила про дедушку, что он работает в больнице, а боевики стали выбрасывать на улицу наши вещи. Пришли соседи, стали уговаривать боевиков, соседи были чеченцы, но боевики их не слушали. Тогда кто-то привел старого дедушку с первого этажа. И он стал кричать на боевиков, и даже побил их палкой. И боевики попросили прощения и ушли. Больше они не приходили.
Олег прервал рассказ, помолчал и продолжил.
- А город все бомбили и бомбили, а по телевизору говорили, что это не русские самолеты. Бомба даже в больницу попала и убила дедушку. Мы даже не знаем, где его похоронили, нам после рассказали, что он погиб. Потом стало совсем страшно. В город вошли танки, по улицам бегали люди с оружием, даже чеченские мальчишки бегали с автоматами, я сам видел. И все стреляли. Мы сидели в подвале и боялись. Все, кто жил в доме, чеченцы и русские. И когда штурмовали город, то в подвал забежал русский солдат, он закричал, чтобы все выходили, подняв руки, а в ответ кто-то что-то крикнул по чеченски и тогда солдат бросил гранату...
Олег снова помолчал.
- Тогда меня и ранило, и бабушку тоже. Она теперь ничего не слышит. Еще двух русских мальчиков, и одного чечена, убило, они рядом со мной сидели. Мне все это потом рассказали. И еще мы узнали позже, что той же ночью погиб мой папа. Он был танкист, майор. Нам потом привезли его ордена и медали, а мне - часы и бинокль отцовские. Мама говорила, что даже гроб не разрешили открыть...
- Почему? - спросил Колька.
- Потому, что папа был танкист, он сгорел в танке.
- А солдат, который в подвале гранату бросил, он был наш?
- Там не было чужих. Там были люди с оружием, и люди без оружия.
- Но там же был твой папа! И он воевал, - не очень уверенно вставил Сергей.
- Там были еще мои бабушка и дедушка, моя мама, я, а еще все наши соседи по дому: чеченцы и русские. Они не воевали, они сидели в подвале... Я никогда не буду воевать, никогда ни в кого не буду стрелять...
Тарас Миронович грузно опустился на корточки возле Олега. И когда голова мальчика оказалась на уровне глаз участкового, тот даже губу прикусил: мальчик был не белокур, а абсолютно сед.
- Ты прости меня, старого дурня, - с трудом прокашлявшись, обратился к нему участковый. - Не всегда все сразу понимаешь, можно жизнь прожить, и то не все поймешь. Ты прости, брат, если я что не так сказал. Ты настоящий мужчина.
Он хотел погладить Олега по голове, но остановился, взял у мальчика из руки ножик, аккуратно положил его рядом и положил ладошку мальчика на свою широкую, как сковородка, ладонь. Осторожно пожал, задержав с уважением.
Олег засмущался и сказал:
- Вы меня совсем и не обидели. А бинокль, пожалуйста, берите, мне нисколечко не жалко, только поосторожнее, он отцовский...
- Ну, конечно! - отозвался Сергей, бережно взяв бинокль.
- Куда смотреть-то? Где он, Васька? - спросил у мальчишек участковый, забрав бинокль у сына, не обращая внимания на изображенное им лицом возмущение такой несправедливостью.
- Вооон, напротив, горка, немного повыше, там, за кустами он, там полянка, вот там и веревка, и все остальное.
- Как же вы его сквозь кусты увидели? - рассердился Тарас Миронович, безуспешно пытаясь рассмотреть хоть что-то на соседней горке, которую по склонам покрывал густой кустарник.
- А вы неправильно смотрите, дядя Тарас, - выпалил Колька.
- Как это так - неправильно?! - даже присел участковый. - Я что, с другого конца в бинокль смотрю, что ли?!
- Смотрите вы в бинокль правильно, с правильного конца, только так вы все одно ничего не увидите, - пояснил Колька. - Смотреть нужно вон с того дуба, мы оттуда смотрели, больше ни с какого дерева не видно, а снизу тем более.
- Откуда?! - ахнул участковый, задрав голову и уронив при этом фуражку. - Я что - белка, что ли?! Вы что - издеваетесь надо мной?
- Нет, дяденька Тарас Миронович, - вступился Петька. - Только мы все оттуда смотрели, Колька правду говорит.
И грязный, исцарапанный палец его указал вверх, куда-то почти на макушку высоченного дуба.
- Тааак... - печально и задумчиво протянул участковый, внимательно оглядывая своих сыновей.
- Надо лезть, - твердо заявил Сергей.
- Надо! - сурово и решительно поддержал его Григорий.
- Молодцы! - обрадовался отец. - Правильно обстановку понимаете! Кто полезет?
- Я думаю, что полезет тот, у кого бинокль, - сказал, отводя глаза в сторону, мстительный Григорий. - Там, наверху, удивительно подходящее место для наблюдательного полета... Тьфу ты! Я хотел сказать: для наблюдательного пункта.
Тарас Миронович укоризненно покачал головой и с надеждой повернулся к Сергею.
- У меня завтра экзамены в школе милиции, - быстро ответил тот, стараясь не смотреть отцу в печальные глаза.
- При чем тут экзамен?! - выкрикнул разгневанный Тарас Миронович. Ты что там, на дереве, до завтра сидеть будешь?!
- Экзамен тут при том, - ответил рассудительно Сергей, - что если я полезу на этот дуб, то вряд ли я попаду завтра на экзамен.
- И не только на экзамен, - вставил Григорий.
- Тааак! - демонстративно сбрасывая на траву фуражку, и расстегивая китель, протянул Тарас Миронович. - Значит, получается так, что лезть придется мне? Я правильно понимаю?
- Что поделать! - притворно посочувствовал Григорий. - Должность у тебя, батя, такая.
- Ты что, хочешь сказать, что у меня должность - по деревьям лазить?
- Да что ты! - округлил глаза Григорий. - Конечно же, нет! Просто по старшинству звания ты должен подавать личный пример младшему составу вверенного тебе подразделения милиции. А состав, то есть мы с Сережкой, должны смотреть и учиться, овладевать, так сказать, премудростями службы.
- Да? Учиться, говоришь? В детстве, как я помню, вы по деревьям шныряли без всяких примеров и обучения, даже стаскивать приходилось.
- Где это время? - грустно вздохнул Сергей. - Потом ведь стаскивали, жестоко подавленная инициатива впоследствии приводит к бездействию и безынициативности.
- И потом, отец, ты очень узко трактуешь. Надо смотреть на вопрос шире, тогда все сразу встанет на свои места, - резонерствовал Григорий. - В чем, собственно, у нас проблема?
- В чем? - с некоторой надеждой спросил отец, снявший уже китель, форменную рубашку и стягивавший сапог.
- Проблема в том, - продолжил свои теоретические изыскания Григорий, - что надо не просто залезть на дерево. Залезть на дерево - это и обезьяна сможет. Но старший участковый инспектор - это вам не обезьяна, не мартышка какая-то там. Старший участковый инспектор - это...
Он посмотрел на отца, стоявшего перед ним в одном сапоге, второй он держал в руках, широкоплечего, в майке, с буграми мышц, буйной порослью на плечах и груди, с волосатыми, могучими ручищами, да к тому же стоял он, подавшись вперед, разведя руки в стороны, подвернув чуть внутрь пудовые кулаки...
Сергей, что-то представив себе, не удержался и фыркнул, а Григорий, поняв, что рискует ляпнуть лишнее, торопливо закончил:
- Старший участковый инспектор - это старший участковый инспектор, товарищ Сергей Тарасович Пасько, а не хиханьки. И в отличие от глупой обезьяны, которая лезет на дерево исключительно за бананами и за всякой другой ерундой и глупостью, нужной ей для удовлетворения собственных потребностей, старший участковый инспектор лезет на дерево исключительно для того лишь, чтобы сверху правильно оценить обстановку, дать соответствующие указания младшему составу, и при необходимости осуществить сверху общее руководство...
- Я что же, по-твоему, на год туда лезу?! Или ты предлагаешь мне навсегда там поселиться и оттуда руководить?
- Да нет, почему? Навсегда не надо. Только на время проведения операции.
- Ладно, сынки, дома поговорим!
Стащив второй сапог, участковый в майке и галифе, босиком, подошел к дереву. Распаляясь, шел он очень уверенно. Подойдя к дереву, поплевал деловито на ладони и решительно взялся за нижний сук. Но глянул наверх, как-то сник, завздыхал, засопел, косясь с надеждой на сыновей.
Сыновья с неожиданно проснувшимся интересом к живой природе рассматривали пристально деревья и кусты, отвернувшись в другую сторону.
Тарас Миронович выразительно повздыхал, покряхтел, плюнул и - полез. Лез он долго, пробуя на прочность каждую ветку, на которую собирался поставить ногу, или за которую собирался взяться рукой. Лез, рассказывая по дороге дереву про некоторых неблагодарных и невоспитанных сыновьях, которых растишь, растишь, а в один не очень прекрасный день вдруг оказывается, что и на дерево слазить некому...
Как бы то ни было, но он залез. Осторожно пристроившись на ветке, и крепко обняв ствол, он стал рассматривать в бинокль Васькино пристанище.
Высмотрев все, что почитал нужным, он решил спускаться, что на самом деле оказалось еще более трудно, поскольку приходилось смотреть все время вниз, выбирая сучки, на которые можно было смело наступать.
Спустился он, наверное, уже на треть, когда под ним подломился сучок, и повис участковый, держась двумя руками за сук над головой и отчаянно болтая в воздухе ногами, не находя точку опоры.
- Батя! Держись! - закричал Сергей, бросаясь к дереву. - Я сейчас залезу к тебе!
- На фига ты мне здесь нужен? - рассердился Тарас Миронович. - На плечах будешь меня вниз спускать?!
- Батя! - прокричал Григорий. - Ты там как, держишься?!
- Нет, Гришенька, - сердито огрызнулся отец. - Я летаю. Ну ты и спросил! Надо же было такого дурня уродить!
- Ты держись, мы что-нибудь придумаем! - помахал Сергей.
- Если мне висеть до тех пор, пока вы что-то придумаете, то я за это время шишкой стану. Вы лучше китель под деревом растяните на руках, под тем местом, где я вишу.
- Ага! Здорово! - обрадовано завопил Сергей. - Мы натянем китель, а ты на него прыгнешь!
- Вот спасибо, сынок! Может, ты меня в носовой платок поймаешь? совсем рассвирепел отец. - Бинокль, дурьи головы, на китель ловите. Не поймаете - спущусь, ноги выдерну! Если, конечно, спущусь.
Это он уже себе под нос, не слышно, снимая с шеи бинокль, с трудом удерживаясь на одной руке.
- Готово, батя! Натянули! Бросай!
- Ты его прямо отпусти - и все!
- Оп-па! Поймали! Цел бинокль!
- Ну, хотя бы бинокль цел. И почему я не птица?! Ребятишек от дерева уберите подальше. Сорвусь если, - расплющу!
- Держись, отец!
- Я что - акробат, что ли, столько висеть? Посмотрите лучше, что там, под горкой, в том месте, где я вишу, куда мне лететь...
- Ручей там, батя!
- Ручей - это хорошо...
- Не! Ты туда не прыгай! Там по склону овражка до самого ручья на дне - чертополох, да малина с шиповником!
- Хорошо, сынки! Спасибо за заботу, ласковые вы мои! Я вверх прыгну. Или стороной облечу... Ох, сейчас отпущу!
- Пацаны! Быстро все в сторону! - распорядился Григорий. - И уши закройте!
- Уши-то зачем? - поинтересовался Сергей.
- Ты что, отца не знаешь? Он же не только падать будет, он еще и слова всякие... нехорошие, говорить будет.
Отпусаюууууу! / звук свободного полета /. Мать! Мать Мать!-ать-ать-ать.../склон и шиповник/. Оп-оп-оп-оп! / не совсем так, но фонетически близко: это чертополох и ручей/.
- Батя! - заорали, свесившись в овражек, обеспокоенные сыновья. Вылезай! Мы поддержим!
- Спасибо, сынки! Вы меня уже поддержали!
Охая и пыхтя, как паровоз, Тарас Миронович долго и упорно карабкался по скользкому и заросшему всякой колючкой склону. Лез он долго, склон был крутой. Наконец над краем овражка показалась голова участкового, с основательно исцарапанным лицом.
- Руку! - выдохнула с трудом голова.
- Что, батя? - ласково спросил Григорий, наклоняя к нему заботливое лицо.
- Ты что - издеваешься?! Руку, говорю, давай! Еле держусь!
Григорий с готовностью протянул отцу крепкую руку, все столпились возле края, готовясь увидеть картину спасения доблестного участкового любящим сыном.
Тарас Миронович с облегчением вздохнул, левой рукой продолжая удерживаться за хилый кустик, правую протянул в сторону надежной ладони сына.
И тут случилось страшное: Григория укусила оса. Она укусила его в лоб. Прямо между бровей. От боли и неожиданности Григорий инстинктивно стукнул себя правой ладонью по месту укуса на лбу.
В это же самое мгновение правая рука его отца вместо надежной и такой, казалось, близкой ладони сына поймала пустоту. Ухватиться за что-то другое он не успел: кустик, который удерживал его шаткое равновесие, покинул склон и улетел вниз.
Вместе с Тарасом Мироновичем.
На этот раз дети заткнуть уши не успели. Поэтому прощальное слово улетающего в бездну участкового навсегда врезалось в память слышавших его мытаринских пацанов, сохранилось впоследствии в виде бережно передающейся из уст в уста легенды, как некогда передавался знаменитый Большой Матерный Загиб Петра Великого.
Пацаны переглянулись и восторженно подвели итог услышанному:
- Вот это круто! Класс!
- Ребята! Уйдите от края! - поспешил вмешаться Сергей. - И не слушайте, сейчас дядя участковый вылезать будет! Нечего вам это слушать.
- Ну да! Нечего! - возмутились мальчишки. - Мы такого ни у кого не слыхали!
Когда Тарас Миронович вылез, он только и сумел сказать сыновьям:
- Поговорим дома.
Чем весьма испортил им настроение. Молча оделся и, кивнув сыновьям, направился к горке, на которой был Васька. Пацанам категорически было велено оставаться на месте.
- Петька! Полезай на дерево с биноклем! - скомандовал Колька. Оттуда все увидишь, нам скажешь, мы все равно первые в поселке знать будем, да еще и другим рассказать успеем...
Так оно и вышло.
Храм
Из-за огродов, из-за сараев, на улочки поселка обрушилась с воплями босоногая ватага мальчишек, орущих во всю Ивановскую:
- Ваську заарестовали! Милиция Ваську Пантелеева заарестовала! Васька покражи делал! Ваську заарестовали!
Взбудораженные пронзительными воплями, повыскакивали на улицы все, кто в это время дома был. Вышла за ворота и Анастасия Николаевна, привлеченная шумом. Услышав, что Ваську ее арестовали, да еще и за воровство, схватилась она за сердце. И посерев лицом, прислонилась к стене дома, возле которого стояла. Все окружающие сразу примолкли, заметив как-то вдруг, какая она уже совсем старенькая старушка.
- Васькууу... - заголосил было по инерции кто-то из мальчишек, но тут же схлопотал подзатыльник и заткнулся.
Все стояли в ожидании, высыпав на край поселка, за сараи. Переминались с ноги на ногу, поглядывая виновато на Анастасию Николаевну, словно ища у нее за что-то прощения.
И вот показались.
Впереди всех шагал Тарас Миронович: грязный, оборванный, с оцарапанным лицом, но с гордо поднятой головой. За ним следом шел Григорий, в сдвинутой на самый затылок фуражке. На лоб она не налезала. Он вел за руку Ваську, крепко вцепившегося в него. Сзади шагал, по журавлиному высоко поднимая ноги, Сергей, нагруженный корзиной, ящиком с инструментами, лопатой, веревкой через плечо и бренчащим ведром ядовитого оранжевого цвета, снятым Васькой с какого-то пожарного щита.
- Ой, мамыньки! Гляди, как Васька милицию потрепал! - ахнули в толпе, завидев растерзанного Тараса Мироновича.
- Смотри, смотри! Ваську за руку ведут, сопротивлялся, кажись, сильно.
- Ой, Васька! Ой, бедокур! Что будет?!
Анастасия Николаевна с трудом отделилась от стены и пошла навстречу вышагивавшему впереди Тарасу Мироновичу.
Тот шел неестественно прямо, держа за спиной фуражку. Завидев приближающуюся Васькину мать, он завертел головой, высматривая, куда бы улизнуть, но она уже приблизилась к нему вплотную и спросила, глядя ему прямо в глаза, которые лукавый участковый старательно скашивал куда-то за спину.
- Ты, Тарас, не косись, не косись! Ты мне прямо отвечай - это Васька мой тебя так подрал и личность тебе покарябал?
- Да ты что, - очумела?! - Тарас Миронович вытаращился на нее. - Это я сам! Это я... Это я с дуба упал.
При этих его словах, несмотря на всю серьезность происходящего, собравшиеся жители поселка взорвались хохотом.
- Да я не в том смысле с дуба упал! - рассердился участковый. - Я действительно с дуба упал!
Этим заявлением он только масла в огонь подлил. Анастасия Николаевна даже почти закричала на него:
- С тебя, старый дурень, люди смеются! Ты что - ответить не можешь честно?! Да что ты все за спину себе смотришь? Ты встань прямо и смотри мне в глаза!
Рассердившись, она дернула его за руку. Фуражка, которую он держал за спиной, выскользнула из рук и покатилась по траве, открыв огромную дыру на лопнувших сзади галифе участкового. Он аж юлой закрутился.
Те, кто стоял сбоку и сзади него, окончательно зашлись от смеха, даже Сергей, отвернувшись в сторону, прикрывал рот ладошкой. Все остальные, не понимая в чем дело, обуреваемые любопытством, стали перемещаться за спину участковому.
- Устал я что-то... - пробормотал тот, затравленно оглядываясь и в отчаянии опускаясь на землю, прямо под ноги оторопевшей Анастасии Николаевне.
Та так и осталась с открытым ртом, ничего не понимая, махнула рукой и пошла к Ваське, которого держал за руку Григорий.
Подойдя поближе, она увидела, что все обстоит как раз совсем наоборот: это ее Васька держал Григория за руку, потому что огромная, просто чудовищная опухоль, разрослась на лбу Григория, наплыв ему на глаза, которые он не мог даже открыть.
- Милай! - присела на корточки от неожиданности и жалости Анастасия Николаевна. - Это и тебя мой ирод отделал?!
- Да что вы, Анастасия Николаевна! - пробасил возмущенно Григорий, узнав ее по голосу. - Это не ваш Васька, это меня оса в лоб укусила...
Она подскочила, словно это ее оса ужалила.
- Вы что мне голову морочите?! - раскричалась она, возмущаясь. - Мой обалдуй людей покалечил, а они его выгораживают!
Она коршуном подлетела к Ваське:
- Это что же ты с людями наделал?! Анчутка ты беспятый! Нехристь! Басурман! Это что же ты набедовал?!
- Маманя! Маманя! - гудел расстроенный Васька. - Не я это... Не я, маманя...
- Я тебе покажу - "не я"! - разбушевалась мать. - Ворует, изверг, да еще и людев калечит!
- Не трогал он никого, успокойся ты, Анастасия Николаевна! прикрикнул на нее участковый. - Вот что покрал он - это верно. Это совсем даже худо, а вреда физически он никому не причинил.
- Покрал?! - ахнула мать. - Васька?!
- Ну не я же, - печально вздохнул участковый так искренне, словно и вправду сожалел, что не он это сделал.
- Ах ты, бедоносец проклятый! Чтоб тебя лихоманка потрепала, непутевого! - напустилась мать на своего оболтуса, который молчал и только гудел на одной ноте:
- Маманя! Маманя!
- Тебе это надо было?! - напустилась она на него с новыми силами. Да чтоб тебя на той веревке, что ты покрал, черти за углями гоняют! И за каким, отвечай, тебе это спонадобилось?!
- Строить... - присвистнул носом Васька.
- Чегооо? - вылупилась на него мать. - Ты же в жизни своей гвоздя ни разу не забил, чтобы пальцы не оттяпать, куда тебе строить?! Будет врать-то!
- Я не вру! - обиделся уже Васька.
- Ты, оболтус, объясни матери, что да как, людям сам верни, что покрал у них, не спросясь, - грозно распорядился сидящий на травке участковый.
- Простите! - густым басом прогудел Васька, подняв голову вверх.
Вокруг стояла тишина. Васька глотал слезы.
- Я больше не буду! Я строить взял...
- Господи! Да чего строить-то?! - закричала мать.
- Говори, что сопишь? - прикрикнул без злобы участковый. - Говори, мать спрашивает.
- Храм строить... - почти прошептал Васька.
- Чегооо?! - едва не села рядом с участковым мать.
- Храм я строю! - непривычно внятно произнес Васька, подняв голову. Вот тут наступила полная тишина.
- Во, блаженный! - воскликнула в этой тишине Анастасия Николаевна, сама не подозревая, что с этой минуты сына ее иначе, как Василий Блаженный, называть не будут, а стройку его нарекут в народе - Храмом Василия Блаженного.
Кражи его дурацкие скоро позабудутся, простят их Ваське легко, любили его за искреннюю беззлобность и неспособность причинять сознательное зло, потому простили бы ему и не такое. А вот прозвище останется навсегда...
Народ стал расходиться. Сергей взял под руку Гришку и повернулся к отцу:
- Пойдем домой, батя.
- Да что-то не хочется, - оглядываясь на еще остававшихся самых любопытных, отозвался участковый. - Посижу я тут на солнышке. Что-то я пригрелся, посижу...
Сергей удивленно посмотрел на закатное неяркое солнышко, уходящее за маленькие, словно на корточки присевшие, сараи. Хотел что-то еще сказать отцу, но нетерпеливый Гришка стал тянуть его за рукав, и Сергей повел его к дому. Уже уходя, он оглянулся. Отец сделал блаженное лицо, подставляя его солнцу.
- Ты пересел бы, что ли, батя, - посоветовал Сергей.
- А тут что - занято? - съехидничал отец.
- Да нет, свободно. Сиди, если нравится. Только коровы тут гуляют.
- А я им что - мешаю? Да и нет никаких коров.
- Нет, - покорно согласился Сергей. - Но были. Были и оставили вещественные доказательства своего пребывания.
Тарас Миронович подскочил, оглядел многострадальные галифе, шепотом выругался и широким шагом пошел домой, не обращая уже ни на что внимания, даже фуражку в траве оставил.
Сергей поднял фуражку и сказал Григорию:
- Пойдем, брат. Боюсь, что дома нам будет мучительно больно. И почему-то мне кажется, что тебе - особенно.
Он повел Григория домой, сочувственно обнимая его за согнутые тяжелыми предчувствиями плечи. Шли они домой долго. Часто останавливались, перекуривали. Когда же вошли под крышу дома своего, увидели выходившего из ванной отца: свежевыбритого, пахнущего одеколоном, земляничным мылом и легким, едва уловимым ароматом коньяка, единственным напитком из разряда спиртного, который отец себе изредка позволял.
Порции спиртного, которые он принимал, даже чисто символическими можно было назвать только с большой натяжкой. Он вообще не только презирал пьянство, как явление, но и люто его ненавидел. Были у него на это свои личные причины. Одна - зажившая, оставшаяся под самым сердцем, страшным уродливым шрамом, а другая - в самом сердце - незаживающая.
Участковый
Тарас Миронович прошел к тахте и с наслаждением вытянулся на ней, подставляя большое тело свежему ветерку из окошка, как кот щурясь от наслаждения.
На кухне, над газовой плитой, сохла уже выстиранная форма, а под вешалкой в прихожей стояли вымытые и уже начищенные до яростного блеска сапоги.
Он лежал, посвистывая, словно не замечая топчущихся у порога сыновей, глядя куда-то в другую сторону.
Сергей проследил его взгляд, который застыл на светлом пятне на старых обоях, которые давно пора бы было поменять, да все что-то никак рука не поднималась.
Пятно это осталось от старой фотографии. Сняли со стены ее давно, но человека, который был на этой фотографии, помнили всегда. Помнили, но вслух никогда не вспоминали.
Это была жена Тараса Мироновича, мать Сергея и Григория.
Красавица, выдумщица, хохотушка и заводила. Очень они любили друг друга. От такой красивой любви и дети родились красавцами. На загляденье. И жили супруги душа в душу, всем на зависть. Дети уже в школу ходили, а родители все еще влюблены были, как молодожены.
Тараса Мироновича отправили на долгую учебу. Жена осталась одна. Сыновья в школе, по дому с работой она справлялась споро, все делала играючи, вот только одной оставаться непривычно. Скучно. В поселке и пойти толком некуда. То хотя бы мужа ждала, а теперь муж далеко. Вечером полезла она зачем-то в шкафчик, вкусненького захотелось, да натолкнулась на бутылку с вином, тогда еще Тарас Миронович себе позволял. Достала она эту бутылку...
Когда Тарас Миронович вернулся, его прежний начальник, тогдашний участковый, перехватил его на станции и привез к себе домой, откуда сразу же выставил за порог случайных гостей, закрыл двери и долго что-то говорил Тарасу Мироновичу. А говорил он ему о том, что жена его, Тараса, стала злоупотреблять. Дети неухоженные, ну и все такое прочее...
Тарас расстроился, конечно, но решил, что все это из-за его отсутствия долгого, а теперь все наладится само, отвыкнет...
Не отвыкла.
Кончилось все это и совсем плохо. Тарас поехал на дальний хутор по срочному вызову, дело оказалось серьезное, задержался он там, а жена его, крепко выпив, решила чайку попить. Поставила чайник на плиту, села на кухне за столом и заснула...
Мальчишек чудом спасли, еле выходили их в больнице. А сама жена крепко уснула. Навсегда. Газ-то она включила, а спичку поднести позабыла. Сама от газа умерла и ребятишек сильно потравила, они в больнице долго лежали оба. Еле выкарабкались.
После этого про мать в доме - ни слова, хотя на могилку к ней ходили исправно и обихаживали ее старательно. Могилку соблюдали, а вслух про мать никогда не вспоминали.
Вот с тех самых пор Тарас Миронович спиртное на дух не переносил. Тем более, что был к тому и еще один повод, едва ему самому жизни не стоивший. Был случай.
И звали этот случай Михаилом Куриным, мужем Веры Ивановны, соседки Полины Сергеевны и Анатолия Евсеевича. Михаил этот сильно на стакан западал. В поселке, надо сказать, это было общей бедой, потому что пили все. В разной, конечно, степени и по разным причинам и поводам, и до разных кондиций, но зато почти поголовно. Впрочем, практически как в любой другой российской глубинке. Да и только ли в глубинке? Сколько светлых головушек сгубила водка эта проклятущая, кто считал? Да и что об этом говорить зря, и так все сами знают.
А с Михаилом вот какой случай приключился. Выпил он сильно лишка, и что-то с ним случилось такое, что бросило его с кулаками на жену свою, тараканы у него в голове забегали. Вера Ивановна с перепугу заорала, выскочила на улицу. Мишка, конечно, бугай здоровый, но в поселке хилых мужиков нет, все с малолетства на лесопилке, да по хозяйству, так накачались, куда там Шварценеггеру!
Скрутили Мишку, оказавшиеся рядом мужики, слегка по шее дали, чтобы в чувства привести, без злобы, разумеется, а чтобы ума вернуть, для успокоения. И отпустили. Мишка смолчал, в драку не полез, пошел домой.
Мужики стоят возле дома в кружок, курят, Мишку обсуждают, а он в это время выходит у них из-за спин из подъезда.
И в руках у него двустволка тульская, а на плече - патронташ. И в карманах пиджака патроны, и за пазухой мешком набиты. Встал он под козырьком подъезда, загнал два патрона в стволы, вскинул ружье и ни слова не говоря - бабах! Прямо из двух стволов. Хорошо еще, что поспешил и плохо прицелился по пьянке. Просвистела картечь над головами мужиков, едва папироски не проглотивших от испуга. Бросились они кто куда, врассыпную, словно и не было их во дворе.
Мишка им вдогонку - бабах! бабах!
Стекла в доме зазвенели. Бабы завизжали, дети орут, мужики попрятались, орут из укрытий Мишке, чтобы тот перестал дурью маяться, бабы кричат мужьям, чтобы они чего сделали, а те отвечают, что ничего поделать не могут, не стрелять же им в Мишку...
Тарас Миронович как назло на речке купался. Пока за ним пацаны сбегают! Речка не близко. И получилось так, что на стрельбу первым прибежал Гришка, Сергей немного отстал.
Мишка, увидев приближающегося милиционера, рванул в подъезд, Гришка, по горячности, следом за ним, а когда Сергей в подъезд влетел, следом за братом, то увидел что стоит Григорий к нему лицом, а лицо у него при этом белее белого. Из-за плеча Гришкиного выглядывает пьяная морда Мишки, который два ствола приставил к горлу Гришки и говорит Сергею:
- Бросай пистолет!
Что тому делать? Бросил. За Гришку испугался, а если честно, то и за себя тоже.
- Дядя Миша! - взмолился Сергей, пытаясь уговорить его. - Отпусти Гришку, успокойся.
- Уйди с дороги! Брата твоего жизни решу!
И тычет стволами Гришке в горло. Сергей задом-задом, вышел из подъезда. Следом за ним - Мишка, поставив Григория перед собой, как щит. Ружье у Мишки уже за плечами, а в руках пистолет. И орет он дурным голосом:
- Веркаааа! Выходи, говорю! Быстрррро все рррразбежались! С Мишкой Куриным шутки плохи!
- Мишка! Ирод! Отпусти парня! - кричат ему со всех сторон. Да куда там! Он пьяный кураж поймал, он жену за какую-то обиду к ответу требует. Она даже выйти хотела, да люди ее удержали силком.
- Куда тебя, дуру, несет?! Сиди, убьет! Не видишь, не в себе он?! В нем сейчас вино разговаривает.
Мишка постоял у подъезда, покуражился, пошумел, даром что пьяный, заметил перебегающих по двору мужиков с охотничьими ружьями, вскинул свою тулку, да не успел выстрелить, забежали мужики за дом, за угол, а пара в подъезде скрылась.
- Ага! - орет Мишка. - На крышу полезли?! Мишку Курина с крыши стрелять решили?! И бросился он к сараям, толкая перед собой Гришку. Заскочил в первый попавшийся сарай, и вскоре перед дверями выросла гора дров, которую складывал, как баррикаду, Григорий, под прицелом Мишкиного ружья. Сам же Мишка притаился в темноте сарая, не видимый снаружи.
- Ну, теперь его хрен достанешь, хрен возьмешь! - разочарованно вздохнули мужики. - Пока не прочухается, не выйдет, если к тому времени еще чего не набедокурит.
Мужики к Сергею подступились: командуй, мол, милиция, что дальше делать? А что он им сказать может? Он сам только что в школу милиции поступил.
- На кого охотиться собрались, мужики? Не сезон вроде как.
Оглянулись мужики, смотрят, Тарас Миронович стоит. В сапогах резиновых, в шляпе соломенной. Только удочки где-то по дороге бросил. Но в отделение успел забежать: рубаха навыпуск была перехвачена ремнем с висевшей на нем кобурой.
- Да вот, Мишка Курин там, в сараях...
- Знаю, слышал, - перебил участковый сурово. - Это он стрелял?
- Он, Тарас Миронович. Там Гришка твой у него в сарае... Вроде как заложник.
- Врешь! - выдохнул, меняясь в лице, участковый.
- Разве так врут?!
- Ладно. Ну-ка, вольные стрелки, немедленно сдать все оружие курсанту Сергею Пасько, я после разберусь, что это за оружие, и все ли зарегистрировано. А у тебя, Сергей, чего кобура расстегнута?
- Он Гришку грозился убить, - потупился Сергей.
- Ясно. После поговорим. Значит - у него теперь кроме ружья еще и два пистолета имеются? Ну, теперь он нам грохота наделает больше, чем Царь-пушка. Значит, теперь перед нами хорошо укрепленная крепость, в которой полно оружия. Ладно. Сергей, ты стой тут, охраняй временно конфискованное оружие, наблюдай за населением, чтобы не лезли, куда не нужно. И чтобы, не дай бог, палить не вздумали куда попало и почем зря. Я милиция, и там мой сын. Так что это дело - вдвойне семейное. И проследи, чтобы в доме напротив все от окон отошли, мало ли, пальнет Мишка, да как раз напротив окон...
Он выслушал в подробностях, что же произошло, постоял, уставившись взглядом под ноги и, шевеля губами, снял с себя пояс с кобурой и протянул Сергею.
- На. В крайнем случае. Ты понял меня? В самом крайнем!
- Понял, батя.
- Не слышу?!
- Так точно, понял! - вытянулся Сергей.
- Вот так вот лучше. Ну, я пошел.
И он вразвалку направился в сторону сараев.
- Мишка! - крикнул он, не останавливаясь. - Это я - участковый Пасько! Ты видишь меня? Смотри - я без оружия!
- Уйди от греха, участковый! - завопил Мишка из темноты сарая.
- Куда же я уйду, дурья твоя голова?! У тебя мой сын. Отпусти - может и уйду.
- Приведи мне Верку, тогда отпущу твоего сына.
- Не могу я тебе ее привести, никак не могу.
- Это почему же? Тебе что - сын не нужен?!
- Очень даже нужен. Только жену твою я никак привести не могу, потому, как я ее арестовал и сделал запись в журнале. А в журнале страницы пронумерованы...
- Ты чего городишь, участковый?! Ты что - пьяный?!
- Это ты. Мишка, пьяный, а я в трезвом уме и соблюдаю законность и порядок. Для того и на должность поставлен. И в соответствии с законом, за причиненные ею тебе обиды, я ее арестовал, в соответствии с законом о семье и быте...
- Нет такого закона!
- Есть такой закон!
- Кто же тебе дал право бабу в кутузку сажать?!
- Перед законом, Мишка, все равны, - вздохнул участковый. - А я что? Я только исполняю.
- Тогда веди ко мне Кольку и Петра!
- Это тех, которые тебе по ж... которые тебе обиды причинили? Так их я тоже уже посадил.
- Да ты что, участковый?! - взревел Мишка. - Обалдел?! У тебя же всего одна камера в наличии имеется!
Разъяренный Мишка выскочил из сарая, толкая перед собой Гришку.
- Веди мне жену немедленно! Веди, и забирай своего пацана!
Толкнув в спину Григория в сторону от себя, Мишка собрался нырнуть обратно за поленницу.
- Постой, Миша! Погоди! - остановил его участковый вкрадчивым голосом. - Пойдем мы с тобой вместе за женой твоей сходим. Что тебе ждать сидеть?
- Ага! Так я тебе и доверился!
- Да ты посмотри - у меня даже оружия нет! - пошел участковый к Мишке, расстегивая на ходу рубашку, и демонстрируя ему свой живот.
Михаил растерялся, попятился, а воспользовавшийся этим участковый подошел к нему на расстояние вытянутой руки.
- Ну чего ты, Миша? Это же я - Тарас Миронович. Участковый. Помнишь, я тебя, когда ты в шестом классе учился, на мотоцикле ночью в райцентровскую больницу возил? У тебя тогда аппендицит случился. Вспомнил? А ты что же, сукин сын, тут устраиваешь, а?! Ну-ка, давай сюда быстро оружие! Давай, пока беды не натворил!
Он осторожно потянул за стволы у Мишки из рук ружье, и всем уже казалось, что дурацкая и страшная эта история благополучно заканчивается, все, кто наблюдал за происходящим, с облегчением вздохнули...
Но тут Мишка боковым зрением заметил, что кусты слева от него зашевелились. Нервы его не выдержали. Он дернул стволы из рук участкового и выстрелил в шевелящиеся кусты, а навстречу выстрелу, перекрывая его, бросился Тарас Миронович. Он тут же охнул и упал на спину, отброшенный выстрелом картечи в упор. Мишка выронил ружье и стоял, нелепо разведя руки в стороны, и с ужасом смотрел на растекающуюся по груди участкового кровь.
От домов мчались, обгоняя друг друга, люди. Впереди всех бежал Сергей. Григорий уже разорвал на отце рубаху и пробовал остановить кровь.
Сергей забежал перед толпой и выстрелил над головами людей, сжимавших палки и обломки кирпичей, загородив собой Мишку.
- Назааад!!!
Толпа отступила.
- Отойти всем на двадцать шагов! - заорал Сергей, наступая на толпу, размахивая пистолетом.
Когда все отошли, он велел приглядеть за безоружным Мишкой двум мужикам поспокойнее, сам же полез в кусты, посмотреть, что там за герой и не задело ли его. Когда он раздвинул кусты, то увидел прижавшегося животом к земле, насмерть перепуганного дворового пса Шарика, который признав знакомого, осторожно пополз из кустов, ласково виляя хвостом.
- Сергей! - позвал Григорий. - Подойди, отец зовет.
Сергей подошел. Над отцом колдовала, накладывая повязку, Полина Сергеевна, которую участковый попросил отойти. Когда она сделал это, он прошептал Сергею:
- Никто не стрелял...
- Чтоооо?! - удивился Сергей.
- Никто не стрелял, - упрямо повторил отец. - Мишка отдавал ружье добровольно, держал его за приклад. Произошел самопроизвольный выстрел. Понял?
- Я лично не понял! - возмутился Григорий. - Неужели ты ЕГО прощаешь?
- Выстрел был, действительно, случайный, а у него, между прочим, двое мальцов в доме. Ясно?
- Ясно, - тихо ответил Григорий.
- А тебе, Серега?
- Ты помолчи, отец, молчи, папа. Мы все сделаем как нужно...
Такую рану в упор пережить - нужно железное здоровье иметь. И оно у него было. И еще у него были сыновья, которые сутками дежурили возле отца, мотаясь между службой, учебой и больницей.
Правда, за все время пребывания участкового в больнице в поселке не было ни одного скандала, ни одной пьянки.
А Михаил Курин сидел. Шло следствие. Правда, сыновья потерпевшего утверждали, что выстрел был самопроизвольный, но говорили они об этом как-то неубедительно. Все остальные свидетели находились за спиной участкового, и видеть точно все не могли. Участковый же, как только пришел в себя, потребовал бумагу и ручку и тут же написал, что выстрел произошел самопроизвольно, во время добровольной сдачи оружия гражданином Куриным, который в момент выстрела даже за курки не держался.
Про отобранные пистолеты все дружно промолчали, и получил Мишка четыре года, а поскольку на работу был зверь, то вышел он скоро.
Но это было после. А тогда к участковому в палату вошли два пацана. Оба одинаково лобастые, в стираных одинаковых матросках. Вслед за ними в двери протиснулась Вера Ивановна, заполнив собой сразу всю палату. Она подтолкнула мальчишек в спину и зашептала им:
- Ну! Говорите же! Ну...!
Мальчишки совсем засмущались. Наконец вперед вышел один из них и забубнил, откашлявшись, переминаясь с ноги на ногу.
- Дяденька Тарас Миронович! Вы простите нашего папку мы вас всегда благодарить и к вам молиться... Нет, не так: будем молиться на вас! Вот.
- Эх ты, - проворчал второй пацан. - Не на вас молиться, а всегда за вас молиться.
- А вы умеете? - усмехнулся участковый.
- Чего умеем? - спросили мальчишки.
- Как это так - чего? Молиться, конечно.
- Нет, - честно признались мальчишки. - Не умеем.
- Что же ты так, Вера? Обещают молиться твои гвардейцы, а сами даже ни одной молитвы не знают?
- Ты извини нас, Тарас Миронович! Мы в церкви уже были, свечку за твое здоровье поставили.
- Ну, если свечку поставили, тогда проходите, гостями будете...
Вот так закончилась эта история...
Тарас Миронович заметил, что Сергей смотрит на его шрамы, отвернулся и сказал:
- За такие издевательства над отцом надо было бы вас выпороть публично, но я сегодня почему-то добрый - прощаю. Только ты, Сергей, отнеси Ваське ключи от нашего сарая, пускай он берет инструменты, какие ему нужно, только чтобы на место потом все ставил.
Бог и Васька
Сергей понес ключи от сарая Ваське, которого спас от сурового материнского наказания. Все свои эмоции Анастасия Николаевна выместила в долгом рассказе Сергею про то, как трудно одной вырастить такую ораву ребятни, особенно такого олуха, как ее Васька. Да и остальные не лучше: с крыш прыгают, дома ничего сделать не заставишь, телевизор, поганцы, и тот...
Васька, от греха подальше, вышел на улицу вместе с Сергеем, который повел его к сараю, где и вручил запасной ключ.
Из глубин сарая пахнуло детством. Таково удивительное свойство всех на свете сараев и чердаков. Пока Васька рассматривал инструменты, Сергей стоял, прислонившись плечом к дверному косяку, а в лицо ему дышала сыроватая прохлада сарая, запах сырой земли из погреба, запах машинного масла, стружки, опилок... Спину пригревало солнце, и так приятен был этот контраст, что век так стоял бы...
Васька, увлеченно рассматривая инструменты, умудрился ткнуть себе в палец шилом, пришлось искать йод, чтобы смазать маленькую ранку, шило было ржавое.
- Как же ты со строительством справляться будешь, если с простым шилом управиться не можешь? - проворчал Сергей, обрабатывая терпеливому Ваське ранку.
- Справлюсь! - уверенно и твердо ответил Васька.
- Может быть, помочь тебе?
- Не надо, я должен сам.
- А если не справишься один?
- Я справлюсь! Я должен. Я построю Храм. Вот. Потом - сад. Из камней и песка. Буду смотреть. Думать. Молиться. И выздоровею. Вот.
- Как же ты молиться будешь, если ни одной молитвы не знаешь?
- Молитва до Господа и без слов дойдет, если она чистым сердцем произносится...
Сергей обернулся на голос - за спиной у него стоял отец Антон, местный поп.
- Вы извините, проходил мимо, услышал разговор, заинтересовался, каюсь, не прогоните?
- Да нет... - Сергей замялся, не зная как называть ему своего почти что ровесника, ненамного старше него, только в рясе, не отцом же.
Отец Андрей дружелюбно смотрел на него улыбчивым взглядом, но на помощь приходить не спешил. Пауза затянулась.
- Нет... батюшка, - решился все же Сергей. - Не помешаете. Мы с Васькой про Храм разговаривали. Он Храм решил строить.
- Ну что же, Бог в помощь.
- Так он же не православный храм строит, - прищурился на попа Сергей, ожидая, как тот выйдет из такой ситуации.
- Я наслышан, - ничуть не удивился поп. - Он считает, что если сам построит - поправится. Значит, так оно и должно быть.
- Даже если не тому богу храм строит?
- Бог един, - ничего толком не поясняя, ответил поп. - Каждому же по вере его воздается. А вот вы бы меня с отцом вашим познакомили поближе, премного от прихожан наслышан о нем, а вот знаком шапочно, хотелось бы поближе познакомиться.
- На путь истинный наставить?
- Ну, зачем же так? - улыбнулся широко отец Андрей. - Его Господь наставляет. Всякого Господь наставляет, да не всякий ему следует. А вот батюшка ваш следует. Если бы его Господь не любил, разве народ любил бы?
Он мелко перекрестил сарай, в котором находились Сергей и Васька, собрался уходить, но Васька остановил его.
- Если я построю Храм - я поправлюсь?
- Главное, чтобы ты в это верил. Я уже сказал: по вере воздается. Господь таких, как ты, без защиты не оставляет. Ты приходи ко мне в церковь, я тебе кое-что расскажу, книжки дам посмотреть.
Отец Антон откланялся и ушел. Васька взял лопату и тоже ушел, строить свой Храм. Сергей же сел в траву, глядя на закатное солнышко.
- Почему Васька - не такой, как все? - думал он. - Как может Бог услышать молитву, если ее вслух не произносить? Почему главное самому верить в то, что вылечишься?
Он встал, помотал головой, поймав себя на мысли о том, думает про то, поправится ли Васька, или нет, если построит свой Храм? Он сердито топнул ногой, рассмеялся, поняв, что хитрый поп, ничего почти не сказав, оставил после себя десятки вопросов, которые теперь так и будут всегда с ним, с Сергеем. Всю жизнь.
А Васька строил Храм. Дальними путями, через огороды и овражки, с горки на горку таскал он картонные коробки, обрывки веревок, пустые фанерные и деревянные ящики. А еще - чистый песок и камни, которые он тщательно выбирал и отыскивал, а после относил в горку в корзине.
Посреди поляны возвышались сделанные из картонных коробок и ящиков стены Храма, кое-где они поднялись уже на высоту человеческого роста. Коробки и ящики ставились друг на друга, связывались веревками, прикручивались проволокой. Местами их подпирали колья.
Как вся эта конструкция не развалилась от ветра, совершенно непонятно. На месте дверей, прикрывая внутренности помещения, висел большой рогожный мешок, разрезанный пополам. А надо всем этим сооружением натянут огромный тент из кусков полиэтилена и обрывков клеенки, которые покоились на привязанных между деревьями веревках.
Возле наружного угла Храма лежала аккуратно сложенная пирамидка булыжников разных размеров. С другой стороны Храма возвышалась куча песка, тщательно просеянного. Часть его ровным слоем была разглажена на очищенном от травы месте. Дерн, аккуратно снятый с этого места, лежал плитками рядом с жердями, приготовленными, наверное, для крыши.
Но предметом особой гордости Василия, а с некоторых пор и особой любви, являлось строение метрах в пятидесяти от строительной площадки.
Там, над большой ямой, диаметром четырех, а глубиной семи-восьми метров, он настелил лесины, сделав мостик шириной метра в полтора, два. В самом центре прорубил дырку, под которой плескалась на дне черная стоялая дождевая вода. Вокруг этой самой дырки возвел он картонные стены, после чего получилась будочка, только без крыши, вход в которую загораживала вторая половина рогожного мешка. Таким образом Васька стал полноправным хозяином уютного туалета с видом в мечтательное небо.
Словом, обустроился Васька не очень умело, но старательно и заботливо. По-своему, даже уютно. И даже собственным ритуалом обзавелся. Приходя утром на поляну, сложив у стен Храма поклажу, прежде чем приступить к работе, он брал лист толстой фанеры и шел с ним в туалет.
Почему с фанерой? Да потому, что он там, в туалете, можно сказать, медитировал. Он придумал это созерцание, когда приходил сюда по мере своих потребностей и сиживал, задрав голову к небу.
И поскольку ни сада из камней, ни сада из песка он пока не построил, то стал Васька созерцать небо. Делал он это так: прикрывал дырку в настиле листом фанеры, ложился на эту фанеру, высунув ноги наружу, под мешок. Вокруг него, отгораживая от внешнего мира, возвышались стеночки будки, а сверху голубело, или светилось солнышком, огромное небо. Вот так вот получился у Васьки небесный сад.
Так и лежал он, нос к носу, глаз в глаз с этой бездонной вечностью. И что он там такое видел, что ему там показывали, про то только он сам и знает.
И кто на кого пялился: Васька на Бога, или Бог на Ваську?
Впрочем, Васька даже Бога однажды видел. И не только видел, а даже поговорил с ним немножко.
Лежал как-то Васька на спине, думал ни о чем, ну так, о ерунде всякой. Вроде даже задремал.
И вдруг видит: из облачка, что проплывало как раз над Васькой, вышел Бог.
И был он из себя немного странный.
Маленький, толстый и в кимоно. А на голове - почему-то милицейская фуражка. Глазки узенькие и очки в тонкой оправе, как у отца Андрея. А на кимоно, на спине сзади, нарисован дракон, тоже, как и у Васьки, с синим языком.
И сандалии у него были точно такие же, как у Васьки.
Тут Васька совсем осмелел: свой человек, чего там.
И спрашивает он у Бога:
- А что это ты не такой, как тебя рисуют?
Бог еще больше прищурился, смотрит на Ваську и улыбается хитренько так:
- А зачем меня рисуют, если не видели?
- Я-то тебя вижу.
- Может, видишь, а может, и не видишь.
- Ты не уходи. Ты послушай... я поправлюсь?
- Молись, - уклончиво ответил Бог, и полез в тучу.
- А как же молиться?! Как?!
Бог вернулся.
- Вот чудной! Да так и молись, как сейчас молишься.
- А разве я молюсь?
- А разве нет?
И Бог опять полез в тучу. Лез он головой вперед, как в нору, короткое кимоно задралось, под ним оказались черные сатиновые трусы, точь-в-точь такие, как Васька в библиотеке потерял.
- Бог! Ты погоди! Ты не уходи. Мне же тебя спросить нужно.
Бог нехотя обернулся.
- Спрашивай.
- Скажи вот... Откуда у тебя трусы эти?
- А вот до трусов моих тебе решительно никакого дела нет! рассердился Бог и опять полез в тучу.
- Да что ты все время в тучу, да в тучу?! - чуть не заплакал Васька. - Ты скажи мне: поправлюсь я, или нет?!
Бог передумал лезть в тучу. Он взбил ее, как подушку, и уселся как на диване. Попрыгал, пружиня, и только потом ответил.
- Наверное, нет, - и вздохнул.
- Ты что - не знаешь?! - воскликнул потрясенный Васька. - Ты и не знаешь?!
- А что ты кричишь? Мало ли чего ты сам не знаешь, на тебя же за это не кричат. А я что - врач, что ли? - рассердился Бог.
- Я думал, что ты все знаешь, - вздохнул разочарованный Васька.
- Я тоже когда-то так думал. Но не лекарь я. И жизни не прибавляю. И богатства не даю. И врагов ничьих не караю...
- А для чего же ты тогда?
- Я? Для утешения. Утешаю я.
- И только-то?! - совсем разочаровался Васька.
- И только-то?! - возмутился Бог. - Ты вот лучше давай, поплачь лучше.
- Это еще зачем? - подивился Васька.
- Тебе же давно хочется...
И было у Васьки три Великих Плача.
И плакал он свой первый Плач.
Сам он не помнил, чтобы так горько когда плакал: яростно, почти зло, отчаянно. И слезы его были едкие и жгучие.
Много их было - слез.
Обжигали они щеки и падали на землю.
Казалось Ваське, что все обиды его на других, вся злость к чужой, недоступной ему, радости, к чужому здоровью, просто к тому, что кто-то лучше, чем он, все это выходило, исторгалось из него горькими злыми слезами.
Прорастали слезы эти крапивой огненной, репьем и чертополохом колючим, бездомной сорной травой.
И упал невидимый обруч с Васькиной головы.
Перестало давить на голову то постоянное, что давило всегда.
Стал он успокаиваться, но тут же плечи его опять затряслись.
И был у него второй Великий Плач.
Излились потоками слез из него жалость к себе самому, жалость к матери за то, что мучается она с ним, жалость ко всему, что, как казалось, ему не дано было.
Пришла взамен этих слез тихая радость бытия.
Тихая радость любви к близким, любви к небу, ко всему, что вокруг него, ко всему, что не только просило любви, но и само готово было дарить ее всем, кому она требовалась.
Заулыбался Васька.
И лицом возрадовался.
Но не успел он еще и эти слезы отереть, как начался у него третий Великий Плач.
И пролились на этот раз слезы его внутрь него.
И омыли они душу его.
И очистили они ее.
И тогда пришел Покой.
Покой и Очищение.
Понял он, что есть нечто, что важнее даже здоровья.
И было это нечто - Великое Утешение, которое дал ему странный Бог, в похожем на его, Васькино, кимоно...
Когда же Васька нашел в душе своей слова благодарности, оказалось, что этот смешной и хитрый Бог залез все же в тучу.
Что-то прошелестело в воздухе, что-то коснулось легким дуновением лица его.
И наступила Тишина...
А может, и не приснилось...
Партизан
Когда к нему пришел Партизан, Васька как раз собирался возводить крышу.
Партизан вышел навстречу ему из кустов, застегивая ширинку. Он был точь-в-точь такой, каких Васька видел в кино про войну. В подпоясанной солдатским ремнем телогрейке, в пилотке, в солдатских брюках и сапогах. За плечом у него висел автомат.
- Здорово, мужик! - весело и белозубо улыбаясь, поздоровался Партизан с Васькой. - Я тут переночевал в твоем дворце. Ты не в обиде будешь?
- Это не дворец, - глядя в землю, произнес Васька.
- А что же это?
- Это - Храм, - ответил Васька серьезно, не приняв шутливого тона.
- Храаам, - протянул, тоже посерьезнев, Партизан. - Ну, тогда, извини. Я сразу не догадался. Ты скажи, брат, если я тебе мешаю, то могу уйти.
- Ты - Партизан? - в упор спросил его Васька.
- Чтоооо? - гость внимательно всмотрелся в Васькину физиономию. Ааа, ну в некотором роде я, конечно же, партизан. А ты кто - фашист?
- Я Васька. Я тут недалеко живу, - он указал рукой в сторону поселка. - А война давно закончилась. Ты не знал, что ли?
- Знал, как не знать? Только нас специально оставили немного в лесах, чтобы мы не отвыкли. Но это секрет, военная тайна, ты про меня никому не рассказывай. Понял?
- Никому! - важно подтвердил Васька, гордый тем, что у него теперь есть своя, самая настоящая тайна.
- Вот и хорошо! - обрадовался Партизан. - А поесть у тебя случаем не найдется?
Васька с готовностью расстелил на траве большой чистый носовой платок, на который с гордостью выложил свои припасы на день: хлеб, вареные яйца, огурцы, помидоры, соль.
- Ух ты! - сглотнул слюну Партизан. - А выпить у тебя, случаем, не найдется?
- Я не пью, - важно ответил Васька. - Мне нельзя пить.
- А что - со здоровьем проблемы? - участливо поинтересовался Партизан, оглядывая мощную Васькину фигуру.
- Мне мама не разрешает пить, - с важной гордостью ответил ему Васька.
- Ну, мама, - это святое, согласился Партизан. - Тогда и говорить не о чем.
И он набросился на еду. Васька, видя, как человек изголодался, пододвинул ему свою половину.
Партизан наелся и откинулся на спину, в ласковую зеленую траву. Порывшись в карманах, достал мятую пачку "Примы", вытащил, подцепив ногтями за кончик, сигарету, наполовину выкрошенную. Покачал головой, закрутил пустой кончик жгутиком, поджег и задымил, блаженно и глубоко затягиваясь, не спеша выпуская вверх тонкие струйки голубого дымка.
В небе появился вертолет. Он пролетел совсем низко над перелеском, почти задевая верхушки деревьев растопыренными колесами.
Васька хотел помахать ему рукой, но Партизан затащил его под деревья, куда он молниеносно нырнул рыбкой, услышав стрекот вертолетных лопастей.
- Я же секретный! - укорял он Ваську, обидевшегося за резкое с ним обращение. - Ты же меня выдаешь!
Вертолет покружился над поляной, потом развернулся, еще раз облетел поляну и улетел.
- Ты отдыхай, а мне работать надо, - вздохнул Васька, берясь за лопату.
- Давай, браток, я тебе помогу, а то получается, что я вроде как даром твой хлеб ем, - поднялся на ноги Партизан.
- Я сам должен, - ревниво нахмурился Васька. - Мне Храм поможет здоровье вернуть.
- Это ты здорово придумал. Только мне кажется, что Бог на тебя и обидеться может.
- Это почему? - встревожился Васька.
- Да потому, что получается так, что ты его как бы приватизируешь, себе присваиваешь. Понял? Получается, что у тебя Бог для личного пользования.
- Это как это? - не понял Васька.
- Ты сам подумай. Что я тебе все пояснять должен? Привык ты, брат, что тебе все другие объясняют. Своим умом жить надо, какой бы он ни был. Понял?
- Понял, - не очень уверенно ответил Васька.
- Был у меня командир отделения... Был... Да это другой разговор. Так вот. У него над кроватью образок висел, а на шее - крестик. И в увольнении он всегда в церковь первым делом шел. На занятиях нас учил Родину любить и защищать, все про Бога рассказывал. А сам, гад, в каптерке по мешкам солдатским лазил, еду воровал, вещички по мелочи. И меня, сволочь, замучил, загонял, как раба какого: принеси то, принеси это... И воровать заставлял. И попробуй, откажись. Он здоровенный, как шкаф. И "старик". Вся ответственность за имущество в каптерке на мне. А он меня воровать заставляет. Я ему говорю: как же, мол, так, тебя же Бог покарает, он же велел "не укради". А гад этот только смеется: я, говорит, не краду, это ты, это он про меня, это ты крадешь. Понял? Говорит, что я краду, и ему приношу, а его Бог любит, потому что он ему молится и свечки ставит. А вот мне он воровства не простит.
Партизан замолчал, устало сел на траву, закурил, вытирая со лба испарину.
- А дальше? - спросил Васька.
- А чего дальше? Дальше - тишина...
- Какая тишина? - опять не понял Партизана Васька. - Тишина - это как?
- Да вот так, - непонятно на что рассердился Партизан. - Ладно. Все. Ты скажи лучше, даешь ты мне лопату или что еще? Не в сортире же мне сидеть, пока ты работаешь?
- А почему в сортире? - не понял Васька.
- Не смотреть же мне, как ты трудишься, а самому ничего не делать.
Васька долго думал и, наконец, решился:
- Ладно, помогай.
Партизан оказался парнем рукастым и смекалистым. В работе шустрым и веселым. Все время он что-то напевал, сыпал прибаутками, рассказывал смешные байки и весело подгонял Ваську...
- Цунами, конечно, не выдержит, но и от чиха не развалится, - сказал Партизан, закончив работу, удовлетворенно рассматривая укрепленные им стены Храма.
Обошел строение вокруг и задумчиво сказал Ваське:
- Ты, Вася, не забудь потом помолиться за меня и за других, таких же пропащих.
- Почему пропащих?
- Потом расскажу, - вяло махнул Партизан. - Ты мне завтра принеси что-нибудь из одежды, ладно? Я купить могу, или на свою форму обменять. Новенькая форма. Только ты не забудь: никому не говори про меня. Ладно?
- Ну! Спрашиваешь! - важно ответил Васька и пошагал, договорившись встретиться утром...
Утром Ваську арестовали.
Он пришел, как и обещал, раненько. Принес узелок с Костиными поношенными, но крепкими и чистыми джинсами, парой рубашек и легкой курткой. И принес с собой завтрак.
Они ели, постелив большой платок на чуть еще влажной от утренней росы траве, пили молоко из одной бутылки, прямо из горлышка, запрокидывая голову, и тогда становилось видно небо, в окружении верхушек деревьев.
Громко и весело хрустели огурцами, макая их в крупного помола соль и прежде чем откусить огурец, Партизан долго рассматривал его на солнце, любуясь кристалликами соли на прозрачной мякоти.
И еще они слушали разговоры птиц, шелест тихого ветра в листве деревьев, тихий-тихий шелест, словно кто-то невидимый залез на самую верхушку дерева и сидел там, свесив ноги, болтая ими в густой листве и потирая с тихим шелестом ладошки.
Ничего они друг другу не говорили, только переглядывались. Да улыбались взаимно. А что им, собственно, было говорить в такое замечательное утро? О том, что мир - большой и добрый? О том, как красиво жить в таком прекрасном мире?
Они сидели, смотрели вокруг, слушали, вникали в эту таинственную, полную значимости, жизнь ползающих и летающих мошек. Разглядывали полчища муравьев, провожали взглядом неспешный, словно в замедленной съемке, полет красавца-шмеля, разглядывали блестящую на солнышке после росы сеть паутины...
Долго сидели они вот так, блаженствуя, пока Васька не отправился медитировать, но его остановил Партизан.
- Васька, не ходи туда. Заваливается твой сортир. У него одна опора треснула, я переоденусь и сделаю.
Партизан стал переодеваться, а Васька с опаской взял в руки его автомат.
- Ты только там ничем не щелкай! - крикнул Партизан, натягивая через голову рубаху.
Васька и не собирался ничем щелкать. Он просто положил автомат на колени, гладил отполированное многими ладонями ложе, смотрел завороженно на это оружие, несущее смерть, смерть, вылетающую из черной дырочки, в которую он, Васька, засунул кончик пальца...
Кто-то прыгнул ему на спину, больно выкрутил руки, заламывая за спину, защелкнули на них наручники, отобрали автомат.
От резкой боли в кистях рук он замычал, рванулся, сбросив с себя невидимку, но его ударили ногой в лицо. Васька наклонил голову, и удар пришелся в лоб. Было очень больно, по лбу что-то потекло, заливая правый глаз. Он с трудом поднял голову, чтобы посмотреть, что с Партизаном и кто на них нападает.
Партизан сидел, прихваченный веревкой к дереву, скованный по рукам и ногам наручниками. Голова у него завалилась набок, глаза были прикрыты, лицо залито кровью, вытекающей из разбитой головы. Левая щека глубоко и страшно рассечена, рубаха разорвана до пояса, один рукав и вовсе оторван. Как видно, сопротивлялся он отчаянно, за что ему и досталось.
По поляне расхаживали пятеро в военной форме. Четверо из них были удивительно похожи на спичечные коробки: такие же прямоугольные и молчаливые. И одновременно они были похожи на спички - черноволосые, с одинаково белыми лицами.
Васька представил себе, что будет, если взять одного из них и чиркнуть головой об коробок?
Представив себе это, он не выдержал и заулыбался. И тут же получил свирепый удар в бок тяжелым ботинком. Что-то хрустнуло, бок обожгла острая боль, словно кипятком на это место плеснули. Он крикнул:
- Нельзя бить! Я Партизану помогал! - и заплакал от обиды и боли.
- Молчи, ублюдок! - замахнулся на него автоматом, точно таким, как тот, который он сам только что гладил, один из "коробков".
- Гляди, старшой! Этот гад под придурка косит!
- Дезертиры, сволочи! Они свое получат! Не выйдет у них закосить! подошел к ним пятый, похожий на большой молочный бидон, такой же плотный, обтекаемый, фундаментальный, с приплюснутой головой.
Солдаты разбрелись по поляне, что-то усердно искали. Нашли в кустах форму Партизана, принесли и бросили к ногам Бидона. Солдаты пошли искать дальше, а Бидон принялся изучать содержимое карманов формы Партизана и вытащил военный билет. Раскрыл его и оттуда выпала тоненькая пачка сложенных пополам денежных купюр.
Воровато оглядевшись по сторонам Бидон, неожиданно быстро наклонился, и в мгновение ока не только подхватил деньги с земли, но и переправил их в свой карман. Выпрямившись, он еще раз огляделся.
Солдаты были заняты поисками на краю поляны, Партизан еще не пришел в себя.
Бидон вздохнул с видимым облегчением, но тут встретился с Васькиным взглядом. Он пригрозил Ваське большим кулаком и прошипел сквозь зубы:
- Молчи, падла! Зашибу!
В этот момент, не знавший на что же ему решиться, Васька заметил, что Партизан зашевелился и замотал головой, приходя в сознание. И совершенно неожиданно даже для самого себя, Васька заголосил:
- Товарищ Партизан! Товарищ Партизан! Он у вас деньги украл! Он вор! Он у вас деньги...
Бидон рывком поднял Ваську за грудки и обрушил ему на лицо кулак. У Васьки помутилось в глазах, из носа хлынула кровь, он увидел ее расплывающиеся пятна у себя на груди, на разорванном своем кимоно, хотел что-то сказать, и... уплыл куда-то, где тихо и приятно...
- Не смей его трогать! - заорал пришедший в себя Партизан. - Я тебя зубами порву, не смей!
- Ты, падаль, молчи! - ощерился в его сторону Бидон. - Я при задержании особо опасных преступников могу что хочешь с ними сделать! Особенно, если они оказали активное сопротивление.
- Да он же - больной человек! Ты что?! Ты сам-то хотя бы - человек? Ты же зверь! Убийца!
- Это ты - убийца! И на дружке твоем еще неизвестно что висит!
- Он даже не сопротивлялся. Он гражданский.
- Кто сопротивлялся, кто не сопротивлялся, - это мне решать в такой ситуации. Рапорт все спишет. Как напишу - так и будет. За пару лишних выбитых зубов с меня никто не спросит и не взыщет...
- Сволочь ты! Мясник!
- А твой дружок знает, что ты сам натворил?!
- Товарищ прапорщик! - позвали его солдаты. - Мы тут будку какую-то нашли.
- Иду! - отозвался Бидон, тяжелым шагом затопав на призыв, приказав на ходу одному из солдат. - Ты присмотри тут за этими. Если что - не церемонься, по зубам прикладом. Понял? Очнувшийся Васька хотел что-то сказать, предупредить, но Партизан прошипел ему:
- Молчи, Вася, молчи!
Бидон, осмотрев странное сооружение, велел всем оставаться на местах, а сам вступил на мостки.
Партизан едва себе шею не свернул, чтобы не пропустить, предвкушая тихую радость.
Бидон прошел вполне благополучно до самой будочки, но тут стало происходить нечто странное: настил медленно пополз у него из-под ног. Он тупо смотрел себе под ноги, не веря глазам своим: он не двигал ногами, а они сами скользили вперед. Все быстрее и быстрее. У него даже мелькнула сумасшедшая мысль, что это сапоги уезжают от него на дикой скорости.
Кое-как собрав мозги в горстку, он сообразил, что это падает настил, но было поздно. Настил рухнул вертикально в яму. Бидон со страшной скоростью просвистел по нему вниз головой...
Что было после - это просто дурной сон. Его с трудом вытащили из ямы, потом он долго плескался и отмывался у ручья.
А потом долго били Ваську и Партизана. Били, как попало и по чему попало.
Рапорт спишет.
Устав бить покурили. Потом опять били.
Били все вместе.
Потом били поочередно.
Потом опять все вместе.
И только когда надоело, вызвали по рации вертолет.
И до самого его прилета опять били.
В вертолет Ваську и Партизана загружали как дрова.
Но самое страшное для Васьки случилось уже тогда, когда их бросили в гудящую лопастями, как шмель, машину.
Солдаты вынесли из вертолета канистру с керосином, которым облили Васькин Храм, побросав внутрь все, что только могло гореть, и - подожгли.
Васька из последних сил рванулся к открытой двери вертолета, но его схватили за плечи, прижали разбитым лицом к рифленому железному полу, потом с трудом оттащили и бросили рядом с Партизаном, который уже едва шевелился, но все же пополз к Ваське, извиваясь от боли, повернулся к нему лицом и зашептал в упор:
- Ты прости, брат... прости... Ты не думай очень плохо обо мне. Я не хотел тебя подвести. Я уйти хотел. Не успел, извини, брат. Мне теперь крышка... Не мог я, чтобы меня вором считали. Ты не вспоминай меня плохо. Ты - думай. Помнишь, как я тебе говорил? Думай! Сам думай... Как, ты говорил, молиться надо? Сердцем? Так вот ты и думай сердцем. Сердцем слушай. Понял? Слышишь? А за Храм - прости! Нельзя мне было к тебе приходить... Ты мне только пообещай, что построишь Храм свой...
- Его же сожгли... - захлебнулся слезами Васька.
- Ну и что же?! Ну и что же?! - все так же горячо шептал Партизан, обжигая Васькину щеку дыханием. - Ты опять строй! Пускай жгут и рушат, а ты - строй! Понял?! Ты обязательно Храм построй. Ты помолиться за меня должен. За всех пропащих и за меня. За меня некому - детдомовский я. Ты слышишь? Кроме тебя...
У него пошла горлом кровь, очевидно от напряжения, он впал в беспамятство, только бормотал в забытьи:
- За всех пропащих... кроме тебя... кроме тебя...
Васька терся об него лицом, стараясь стереть кровь с лица Партизана, и кровь их перемешалась. И плакал Васька красными слезами, словно кровью он плакал...
На маленьком аэродромчике их уже встречали.
Когда Ваську выносили из вертолета на носилках, его пронесли мимо носилок с Партизаном, которому прилаживали капельницу. Партизан с трудом перевесился через край, заглядывая воспаленными глазами Ваське в лицо, в глаза, поймал его за руку и с трудом сказал, едва разжимая разбитые, запекшиеся губы:
- Ты меня простил?
- Я построю Храм... - ответил Васька с трудом.
- Прощай, брат, спасибо, - вроде как с облегчением сказал Партизан и слабо пожал руку Ваське.
Носилки пронесли мимо Васьки, а он все шевелил губами, словно что-то говорил вслед Партизану. Санитар наклонился над ним и услышал, как Васька еле шепчет:
- За всех пропащих... за всех пропащих...
А Партизан с трудом приподнялся на локте и быстро прокричал Ваське:
- Меня Борисом зовут! Слышишь, Вася?! Борис я! А фамилия у меня крылатая - Гусев моя фамилия. Запомни: Борис Гусев!
И уже упав обратно на носилки, прошептал сам себе:
- Кроме тебя...
Васька приподнял руку, словно помахать собрался, и тоже прошептал тихо, вроде как без звука совсем:
- Я построю Храм...


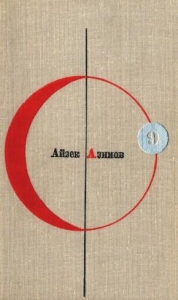

![Плутни робота Егора [Плутни Егора]](https://www.4italka.su/images/articles/498248/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Храм Василия Блаженного», Виктор Меньшов
Всего 0 комментариев