FIAT HOMO! ДА БУДЕТ ЧЕЛОВЕК!
Глава 1
Брат Френсис Джерард из Юты, скорее всего, никогда бы не обнаружил сии священные документы, не появись во время Великого поста, которое послушник проводил в пустыне, странник с препоясанными чреслами.
По сути дела, брат Френсис никогда ранее не встречал странников с препоясанными чреслами (а именно таковой предстал перед ним), и как только смутное видение его, напоминающее колышущуюся запятую, предстало в жарком мареве на горизонте, он ощутил, как по спине его прошел холодок. Бесформенная, с маленькой головой, словно плывущая в зеркалах миражей, пляшущих над разбитой дорогой, запятая эта скорее влачилась, чем шла; и брат Френсис, схватив распятие, украшавшее его четки, дважды пробормотал: «Аве, Мария». Запятая напоминала смутное видение, рожденное демонами из пекла, которые терзали землю в зенит полудня, когда все живое на лоне пустыни, способное двигаться (не считая стервятников и некоторых монастырских отшельников, таких как брат Френсис), недвижимо лежало в своих норах или под прикрытием скал искало спасения от ярости полуденного солнца. Только чудовище, только сверхъестественное существо или создание со сдвинутыми мозгами могло бесцельно влачиться по дороге в такое время дня.
Брат Френсис торопливо вознес молитву святому Раулю-Циклопу, покровителю монстров и мутантов, чтобы он защитил его от своих несчастных подопечных. (Ибо кто в наши дни не знает, что ныне на земле в изобилии существуют чудища? Происходит сие по той причине, что рождаются они живыми и, согласно законам Церкви и Природы, те, кто порождают их на свет, должны выхаживать их. Законы эти соблюдаются не всегда, но достаточно часто, чтобы существовало определенное количество чудищ, которые нередко выбирают самые отдаленные уголки пустынных земель, где и бродят по ночам вокруг костров обитателей прерий.) Но в конце концов двигающаяся запятая миновала полосу вздымающихся столбов горячего воздуха, и стало видно, что это фигурка пилигрима; брат Френсис опустил распятие с облегченным «Аминь».
Пилигрим оказался тощим стариком с посохом, в соломенной шляпе, с клочковатой бородой и с бурдюком, перекинутым через плечо. Для призрака он слишком смачно жевал что-то, с заметным облегчением сплевывал и был слишком тощим и усталым, чтобы претендовать на звание людоеда или разбойника с большой дороги. Тем не менее Френсис осторожно переместился с линии его взгляда и скорчился за кучей битого камня, откуда без риска быть обнаруженным мог наблюдать за происходящим. Встречи между незнакомцами в пустыне, пусть и редкие, были пронизаны взаимным недоверием и сопровождались тайными приготовлениями к любому развитию событий, лишь после которых становилось ясно — мир ли установится между встретившимися или же придется открывать военные действия.
Не чаще чем трижды в год мирянин или просто странник показывались на старой дороге, которая шла мимо аббатства, так как, несмотря на оазис, который позволял аббатству существовать, предоставляя в монастыре подлинный приют странникам, эта дорога была путем из ниоткуда в никуда. Возможно, в давно прошедшие века дорога эта была частью самого короткого пути от Солт-Лейк-Сити до старого Эль-Пасо; к югу от аббатства она пересекала полосу выщербленных плит, которая тянулась на восток и на запад. Перекресток был почти неразличим, и сделало его таковым время, но не человек.
Пилигрим продолжал свой путь, но послушник по-прежнему таился за кучей щебня. Чресла путника были в самом деле препоясаны куском грязной мешковины, что и составляло его одежду, не считая сандалий и шляпы. Прихрамывая, он с упрямой и монотонной настойчивостью продолжал двигаться, опираясь на тяжелый посох. Ритм его шагов говорил, что у этого человека за плечами осталась долгая дорога и столь же длинный путь ждет его впереди. Но прежде чем вступить в пределы старинных развалин, он сбавил шаг и остановился, чтобы оглядеться.
Френсис пригнулся и втянул голову в плечи.
Здесь, среди россыпи холмов щебенки, где когда-то стояли старинные строения, тени не было, но тем не менее некоторые из крупных обломков могли дать определенное облегчение в виде легкой прохлады путешественнику; и прибегнуть к ней перед дорогой по пустыне, куда, по всей видимости, собирался направиться пилигрим, было мудрым решением. Он бегло огляделся в поисках камня подходящих размеров. Брат Френсис заметил, что тот не пытался, схватив камень, стронуть его с места, а вместо этого, стоя на некотором отдалении, достаточно безопасном, и используя камень поменьше как точку опоры, посохом пригвоздил к земле создание, которое, шипя и извиваясь, выползло из-под него. Путник бесстрастно прикончил змею острием посоха и отбросил в сторону ее обвисшую плоть. Избавившись от обитателя щели под камнем, путник обеспечил себе прохладное седалище, перевернув камень. Затем, подтянув свое одеяние, он сел тощими ягодицами на относительно прохладную тыльную сторону камня, скинул сандалии и прижал подошвы к тому месту, где только что лежал камень. Почувствовав, как они охлаждаются, он поерзал пятками по песчаному ложу, улыбнулся беззубым ртом и начал мурлыкать какую-то мелодию. Вскорости он уже вполголоса распевал песенку на диалекте, непонятном послушнику. Изнемогая от своего согбенного положения, брат Френсис не мог даже пошевелиться.
Распевая, пилигрим вынул из узелка ломоть сухого хлеба и кусок сыра. Затем пение прервалось, и он на мгновение привстал, чтобы гнусавым блеющим голосом выкрикнуть на языке, знакомом обитателям этих мест: «Благословен будь Адонай Элохим, Властитель всего сущего, что дарует хлеб всей земле!». Блеяние прекратилось, и он снова приступил к трапезе. Путник в самом деле пришел издалека, подумал брат Френсис, который не имел представления, в каком из соседских королевств правит монарх с таким странным именем и столь несообразными претензиями. Старик совершает столь долгий путь в виде покаяния, рискнул предположить брат Френсис — возможно, к «гробнице» в этом аббатстве, хотя «гробница» еще не была официально признана, а ее «святой» еще не был официально признан подлинным святым. Иного объяснения присутствию старика-путешественника на дороге, которая вела из ниоткуда в никуда, брат Френсис придумать не мог.
Пилигрим был целиком занят своим хлебом с сыром, а послушник оставался недвижим в своем убежище, мучимый сомнениями. Обет молчания, взятый им на время Великого поста, не позволял заговорить со стариком, но если он до того, как странник покинет эти места, оставит свое укрытие за кучей щебня, пилигрим, конечно, его увидит или услышит — а ведь до конца поста никто не должен нарушать его уединения.
Двигаясь медленно и осторожно, брат Френсис громко откашлялся и выпрямился во весь рост.
Оп!
Хлеб и сыр полетели в сторону. Старик схватил свой посох и вскочил.
— Эй ты, ползи ко мне!
Он угрожающе замахнулся посохом на согбенную фигуру, которая выросла из-за кучи каменных россыпей. Брат Френсис заметил, что тонкий конец посоха вооружен наконечником. Послушник вежливо поклонился несколько раз, но пилигрим не обратил внимания на его любезность.
— Стой там, где стоишь! — прохрипел он. — И держись от меня подальше, весельчак. У меня ничего нет для тебя… разве что сыр, и ты можешь его взять. Если ты алкаешь мяса, то у меня есть только хрящи, но без боя я их тебе не отдам. Шаг назад! Назад!
— Подождите… — послушник запнулся. Необходимость проявить милосердие или оказать любезность могли заставить нарушить обет молчания во время Великого поста, когда к тому побуждали обстоятельства, но, нарушив молчание по своему собственному разумению, он слегка волновался. — Я не весельчак, добрый путник, — продолжил он, избрав столь вежливую форму обращения. Отбросив капюшон, он обнажил монашескую прическу и воздел руку с четками: — Понимаете, что это такое?
Еще несколько секунд старик пребывал в позе кота, приготовившегося к схватке, изучая подсмугленное солнцем юношеское лицо послушника. Да, он в самом деле ошибся. Причудливые создания, которые бродят по окраинам пустыни, часто носят капюшоны, маски или бесформенные облачения, чтобы скрыть свое уродство. И среди них есть и такие, чье уродство ограничивается не только телесным обликом: порой, встречая странника, они видят в нем нечто вроде аппетитного куска оленины.
Окинув взглядом брата Френсиса, пилигрим выпрямился.
— А… ты один из тех, — он опустил посох и нахмурился. — Там внизу аббатство Лейбовица? — спросил он, указывая на отдаленную группу строений к югу от них.
Брат Френсис вежливо склонил голову и застыл в такой позе…
— Что ты здесь делаешь в этих развалинах?
Послушник поднял кусок камня, напоминающего мел. Практически было невозможно, чтобы путник мог оказаться грамотным, но послушник решил попробовать. Поскольку вульгарный диалект, на котором объяснялись в этих краях, не обладал ни азбукой, ни орфографией, на большом плоском камне он выцарапал по-латыни: «Покаяние, одиночество и молчание» и ниже написал их на древнеанглийском, лелея слабую надежду, что старик все поймет и оставит ему в удел одинокое бодрствование.
Пилигрим криво усмехнулся, увидев эти слова. Смешок его напоминал мрачное блеяние.
— Хм-м-м… Все еще пишут эти замшелые слова, — сказал он, но если и понял написанное, то ничем не показал этого. Он отложил посох, снова сел на камень, подобрал хлеб и сыр и стал счищать с них песок. Френсис, изнывая от голода, облизал губы и отвел глаза в сторону. Со среды на первой неделе Великого поста он не ел ничего, кроме плодов кактуса и горсти сухого зерна; послушники, готовящиеся посвятить себя Богу, неукоснительно соблюдали правила поста и воздержания.
Заметив смущение своего собеседника, пилигрим, оторвавшись от хлеба с сыром, предложил кусок брату Френсису.
Несмотря на почти полное обезвоживание, поскольку он строго придерживался ежедневной порции из своих запасов воды, рот послушника наполнился густой слюной. Он был не в силах оторвать глаз от руки, протягивающей ему хлеб. Вселенная перевернулась в его глазах, центром ее стал этот обсыпанный песком кусок хлеба с бледным ломтиком сыра. Демон-искуситель скомандовал мышцам его левой ноги сделать шажок вперед. Он же передвинул правую ногу на полметра вперед левой и каким-то образом привел в движение трицепсы и бицепсы руки, которая, выдвинувшись вперед, коснулась руки пилигрима. Пальцами он ощутил пищу; ему показалось, что он уже вкушал ее аромат. Невольная дрожь пробежала по его изможденному телу. Закрыв глаза, он увидел, как на него смотрит владыка аббатства и в руке его извивается бич. И как ни старался послушник вызвать пред своими очами облик Святой Троицы, облик Бога Отца неизменно сливался с обликом аббата, лицо которого, как казалось Френсису, не покидало гневное выражение. А за ним вздымались языки пламени, и сквозь их огненную завесу смотрели глаза святого мученика Лейбовица, который, корчась в смертельной агонии, видел, как его преданный послушник, застигнутый на месте преступления, тянется за куском сыра.
Послушник снова передернулся. «Изыди, сатана!» — прошептал он и поспешно сделал шаг назад, отбросив от себя пищу. Не говоря ни слова, он брызнул на старика святой водой из фляжки, скрытой в рукаве. Но пилигрим, пусть он даже и был исчадием ада, остался невозмутим, что не смогло не отметить выжженное солнцем сознание послушника.
Это внезапное нападение Сил Тьмы и Искушений не дало никаких сверхъестественных результатов, но естественная реакция должна была последовать сама собой. Пилигрим, это воплощение Вельзевула, должен был со взрывом исчезнуть в облаке сернистого дыма, но вместо этого он издал горлом булькающий звук, побагровел и с душераздирающим воплем бросился на Френсиса. Уворачиваясь от занесенного копья, в которое превратился посох, послушник запутался в своей рясе, и ему удалось избежать дырки в спине только потому, что пилигрим забыл свои сандалии. Вялая расслабленность старика тут же сменилась упругой стремительностью. Внезапно почувствовав, как раскаленные камни жгут его голые пятки, он подпрыгнул. Остановившись, он обратил свое внимание на другую цель. И когда брат Френсис посмотрел из-за плеча, ему показалось, что пилигрим вернулся в свою прохладную тень из-за страха перед необходимостью прыгать на цыпочках по раскаленным камням.
Стыдясь запаха сыра, который еще остался на кончиках его пальцев, и сокрушаясь из-за своего необъяснимого бегства, послушник смиренно вернулся к той работе, которую он нашел сам для себя в старых развалинах, пока пилигрим охлаждал обожженные ноги и удовлетворял свой гнев, швыряя попадающиеся ему под руки камни в юношу, едва тот показывался среди куч обломков. Когда рука его наконец устала, он стал не столько бросать камни, сколько пугать Френсиса и, набив рот хлебом с сыром, удовлетворенно бурчал, когда Френсису не удавалось увернуться.
Послушник бродил среди развалин взад и вперед, время от времени притаскивая к определенному месту обломки камней, объемом с его грудную клетку, которые он нес, заключая в тесные объятия. Пилигрим смотрел, как тот выбирал камни, мерил пядью их размеры, выволакивал их из каменных объятий груд гальки и упрямо волок на себе. Протащив камень несколько шагов, он опускал его и садился, положив голову на колени, изо всех сил стараясь одолеть наступающую слабость. С трудом переведя дыхание, он снова поднимал и, перекатывая камень с места на место, доставлял его к намеченному месту. Он продолжал свою работу, пока пилигрим, потеряв к нему интерес, не стал зевать.
Полуденная ярость солнца выжигала и без того высохшую землю, посылая свое проклятие всему, что несло в себе хоть каплю влаги. Но Френсис трудился, невзирая на пекло.
После того как путешественник умял последний кусок хлеба с сыром, перемешанные с песком, он запил их несколькими глотками воды из своего бурдюка, сунул ноги в сандалии, с кряхтением поднялся и побрел сквозь руины к тому месту, где трудился послушник. Заметив приближение старика, брат Френсис поспешил отойти на безопасное расстояние. Пилигрим насмешливо замахнулся на него своей дубинкой-посохом, но, похоже, его больше волновала каменная кладка, возводимая юношей, нежели жажда мести. Он остановился, рассматривая каменные отвалы, разгребаемые послушником.
Здесь, поблизости от восточной границы развалин, брат Френсис выкопал неглубокую яму, используя палку вместо мотыги и свои руки как лопату. В первый день поста он прикрыл ее кучей веток сухого кустарника, и по ночам яма эта служила ему убежищем от волков пустыни. Но по мере того как длилось его отшельничество, он оставлял вокруг своего обиталища все больше следов, и ночные хищники мало-помалу стали все чаще бродить вокруг развалин и порой, когда затухал костер, скрестись у его убежища.
Поначалу Френсис пытался отбить у них охоту к этим вечным поискам, наваливая на свою яму все новые кучи веток и окружая ее тесным валом из наваленных камней. Но в прошлую ночь что-то прыгнуло на кучу веток и выло, разгребая их, пока Френсис, сотрясаясь от страха, лежал под ними; тогда-то он и решил укрепить кладку и, используя нижний ряд камней как основание, возвести настоящую стену. По мере того как она росла, стена все больше клонилась внутрь; своими очертаниями она напоминала овал, и каждый последующий камень Френсис старался класть рядом с соседним так, чтобы удержать стену от обвала. Он надеялся, что, тщательно подбирая обломки, утрамбовывая щели между ними щебенкой и грязью, он сможет возвести что-то вроде крепости. И размах ее полукруглой стены, словно бросающей вызов законам тяготения, уже высился памятником его тщеславия. Брат Френсис жалобно, по-щенячьи застонал, когда пилигрим с любопытством потыкал в стену своим посохом. Обеспокоенный судьбой своего обиталища, брат Френсис придвинулся ближе к пилигриму, исследовавшему его творение. Странник ответил на его стенания взмахом дубинки и кровожадным рычанием. Брат Френсис подобрал полы рясы и присел. Старик хмыкнул.
— Хм! Тебе надо подобрать камень очень непростой формы, чтобы заполнить такую брешь, — сказал он, тыкая посохом в проем в верхнем ряду камней.
Юноша кивнул и отвел глаза в сторону. Он продолжал сидеть на земле, своим молчанием и потупленным взглядом стараясь дать понять старику, что не волен ни разговаривать, ни принимать присутствие другого существа там, где он дал обет одиночества и молчания во время Великого поста. Взяв сухой прутик, он начал писать на песке: Et ne nos inducas in…[1]
— Я ведь не предлагаю тебе обменять эти камни на хлеб, не так ли? — сказал ему старый бродяга.
Брат Френсис бросил на него быстрый взгляд. Вот оно как! Старик умеет читать и, значит, читал Библию. Более того — его реплика говорит о том, что он понимает и импульсивное движение послушника, брызнувшего на него святой водой, и его стремление быть тут одному. Испугавшись, что пилигрим поддразнивает его, брат Френсис снова опустил глаза и застыл в ожидании.
— Хм! Значит, тебя оставили здесь одного, не так ли? Значит, я верно держу путь. Скажи, разрешат ли твои братья в аббатстве немного отдохнуть старику в его тени?
Брат Френсис кивнул.
— Они дадут вам еды и напоят вас, — мягко, повинуясь законам милосердия, сказал он.
Пилигрим снова хмыкнул.
— Раз так, я найду для тебя камень, чтобы заполнить эту брешь. И да пребудет с тобой Господь.
«Но только не ты», — слова протеста умерли, не родившись. Брат Френсис наблюдал, как старик медленно побрел в сторону. Теперь пилигрим бродил меж каменных развалин. Время от времени он останавливался, то присматриваясь к камням, то приподнимая их концом посоха. «Поиск его, конечно, будет бесплоден, — подумал послушник, — ибо он всего лишь повторяет то, чем я занимался с самого утра». Он уже решил, что проще будет перебрать и перестроить часть верхнего ряда, чем искать замковый камень, напоминающий по форме песочные часы, который должен замкнуть проем в кладке. И к тому же терпение старика скоро истощится, и он пойдет своим путем.
А пока брат Френсис отдыхал. Он молился, чтобы ему наконец открылось то, ради чего он предался своему одиночеству: пергамент его души должен предстать в совершенной чистоте, на котором в одиночестве его появятся заветные письмена, что вместят в себя и его безмерное одиночество, и прикосновение перста Божьего, который благословит крохотное человеческое существо и его существование здесь. Малая Книга, которую настоятель Чероки оставил в предыдущее воскресенье, служила ему наставником и поводырем в размышлениях. Она была написана столетия назад и именовалась «Судьба Лейбовица», хотя имелись только смутные догадки, в связи с которыми ее авторство приписывалось самому святому.
— «Parum equidem te diligebam, Domine, juventute mea, quare doleo nimis…»[2]
— Эй! Вот он! — раздался крик откуда-то с холма. Брат Френсис быстро огляделся, увидел, что пилигрима нет в поле зрения, и снова опустил глаза на страницу.
— «Repugnans tibi, ausus sum quaerere quidquid doctius mihi fide, certius spe, aut dulcius caritate visum esset. Quis itaque stultitior me…»[3]
— Эй, мальчик! — снова раздался крик. — Я нашел подходящий камень!
В это время брат Френсис поднял глаза повыше и увидел оконечность посоха, размахивая которым пилигрим подавал сигнал откуда-то из-за куч камня. Вздохнув, послушник вернулся к чтению.
— «O inscrutabilis Scrutator animarum, cui patet omne cor, si me vocaveras, olim a te fugeram. Si autem nunc velis vocare me indignum»[4].
Из-за куч снова разнесся крик, уже с ноткой раздражения:
— Ну смотри, как хочешь. Я отмечу камень и поставлю рядом с ним кучку щебня. Посмотришь, пригодится ли он тебе.
— Спасибо, — выдохнул послушник, сомневаясь, что старик услышит его. Он снова углубился в текст.
— «Libera me, Domine, ab vitiis meis, ut solius tuae voluntatis mihi cupidus sum, et vocationis…»
— Значит, здесь! — крикнул старик. — Он отмечен, и его видно издалека. И, может быть, скоро ты снова обретешь Голос, сынок.
Когда затихли последние отзвуки его голоса, брат Френсис увидел в отдалении пилигрима, который шел по тропе, ведущей к аббатству. Послушник прошептал ему вдогонку благословение и вознес молитву о благополучии его пути.
Одиночество его вернулось к своей первозданности: брат Френсис вернулся от книги к своим отвалам и снова занялся бесплодными поисками подходящего камня, нимало не озаботясь тем, чтобы взглянуть на находку странника. Пока его изглоданное голодом тело напрягалось и мучилось под грузом камней, в голове у него машинально крутилась молитва, которая должна была укрепить его убежденность в своем призвании:
— «Libera me, Domine, ab vitiis meis, ut solius tuae voluntatis mihi cupidus sum, et vocationis tuae conscius si digneris me vocare. Amen»[5].
Стада кучевых облаков на пути к горам, где они должны были пролиться влагой, скользя над безжалостно выжженной пустыней, временами закрывали солнце, и за ними, по блестящей от жара земле, двигались тени, принося недолгий, но столь желанный отдых от испепеляющего солнечного сияния. Когда стремительная тень облака на своем пути покрывала руины, послушник работал с удвоенной энергией, а когда тень исчезала, он отдыхал, пока очередное облако, напоминающее распластанную шкуру, снова не закрывало солнце.
Прошло уже достаточно много времени после встречи, когда брат Френсис обнаружил камень пилигрима. Бродя по окрестностям, он чуть не споткнулся о кучку камней, которую старик соорудил как опознавательный знак. Брат Френсис опустился на четвереньки и воззрился на два знака, недавно выцарапанных на древнем камне:
Знаки были исполнены столь старательно, что брат Френсис сразу же понял, что они изображали собой какие-то символы: но целую минуту вглядываясь в них, он по-прежнему ощущал растерянность. Может быть, то знаки злых сил? Однако этого не могло быть, ведь старик крикнул: «И да пребудет с тобой Господь», — чего силы зла никогда бы не сделали. Послушник высвободил камень из-под обломков и перевернул его. Как только он это сделал, щебень и галька сразу же куда-то исчезли, маленький камешек защелкал, прыгая куда-то вниз по открывшемуся склону. Френсис отскочил в сторону, спасаясь от возможного обвала, но опасность сразу же исчезла. На том месте, откуда он вытащил камень, теперь зияло небольшое черное отверстие.
В таких дырах обычно кто-то обитал.
Но эта была столь плотно закупорена, что туда не проскользнула бы даже мышь, пока Френсис не отвалил камень пилигрима. Тем не менее он нашел веточку и осторожно потыкал ею в дыру. Сопротивления она не встретила. Когда Френсис выпустил ее из рук, веточка скользнула внутрь и исчезла, словно там была большая подземная пещера. Но из нее никто не показывался.
Он снова встал на колени и осторожно принюхался. Не пахло ни зверем, ни серой; взяв горсть щебенки, он бросил ее в отверстие и, приникнув ухом к земле, прислушался. Он услышал, как щебенка ударилась обо что-то в нескольких футах от входа, а затем покатилась дальше вниз, позвякивая при соприкосновении с чем-то металлическим, а затем звуки замерли где-то далеко внизу. Эхо, донесшееся из-под земли, говорило, что там пространство никак не меньше комнаты.
Пошатываясь, брат Френсис поднялся на ноги и огляделся. По-прежнему он был в полном одиночестве, не считая своего вечного спутника — стервятника, который на этот раз, распластавшись в небе, изучал его действия с таким пристальным интересом, что к нему уже летели еще несколько собратьев, плававших где-то на горизонте.
Послушник обогнул кучу обломков, но не нашел и следа второй дыры. Взобравшись на подходящую возвышенность, он прищурился, глядя на тропу. Пилигрим давно исчез из виду. Никого не было и на старой дороге, но далеко отсюда он еле различил брата Альфреда, который спускался по склону пологого холма в поисках топлива. Брат Альфред был глух как пень. Больше в поле зрения никого не было. Френсис не видел причины, которая могла бы ему помешать громким криком воззвать о помощи, но, оценив, что может последовать за этим криком, понял, что это всего лишь испытание его благоразумия. Еще раз внимательно изучив простирающуюся равнину, он спустился по склону. Дыхание, которое потребовалось бы на крики, лучше приберечь для движения.
Он подумал было о том, чтобы положить на место камень пилигрима, закупорив дыру, как раньше, но прилегавшие к нему обломки уже слегка сдвинулись, так что восстановить головоломку не представлялось возможным. Кроме того, проем в верхнем ряду стенки вокруг его убежища оставался незаполненным, и пилигрим был прав: размеры и очертания камня как нельзя лучше подходили на это место. После минутного колебания он поднял камень и потащил его к кладке.
Камень точно лег на место. Толчком он проверил его надежность. Стена стояла как влитая, хотя от толчка пошатнулось несколько камней поодаль. Знаки, набросанные рукой пилигрима, теперь виднелись не так ясно, но их очертания все же можно было легко скопировать. Брат Френсис аккуратно перерисовал их на другой камень, использовав вместо стило заостренный обломок. Когда настоятель Чероки двинется в свой субботний объезд убежищ отшельников, он скажет, что означают эти знаки, по крайней мере несут ли они зло или добро. Страх перед нечестивым заклятьем был забыт, и послушника просто интересовало, что за знаки высятся на каменной кладке над тем местом, где он спит.
В полуденной жаре он продолжал свою работу. Краем сознания помнил о дыре — манящей и в то же время отпугивающей маленькой дыре — и о слабом эхе, которое донеслось из-под земли. Он знал, что окружающие его руины возникли в глубокой древности. Также он знал из преданий, что развалины эти постепенно образовались из чудовищных каменных глыб, и причиной тому были поколения монахов и случайных странников, когда и те и другие рушили эти каменные громады в поисках ржавых кусков металла, впрессованных в колонны и столбы таинственной силой людей того времени, которое было уже почти забыто миром. Стараниями поколений развалины потеряли всякое сходство со зданиями, которые, как говорили предания, когда-то стояли на месте руин, хотя мастер-строитель аббатства гордился своей способностью тут и там видеть следы древних строений. И если бы кто-нибудь взял на себя труд покопаться в камнях, металла здесь было еще достаточно.
Да и само аббатство было возведено из этих камней. Так что предположение, что после нескольких столетий непрерывных каменных работ в развалинах могло остаться что-то интересное, Френсис воспринимал как чистую фантазию. И все же он никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал о подвалах или о подземных помещениях. Мастер-строитель, вспомнил он наконец, вполне определенно говорил, что все здания на этой стороне носят следы торопливого возведения, не имеют заглубленных фундаментов и их несущие конструкции были расположены снаружи.
Закончив работу по укреплению своего убежища, брат Френсис вернулся к дыре и, остановившись, заглянул в нее; зная жизнь обитателей пустыни, он не мог допустить, что место, где можно скрыться от солнца, кто-то уже не освоил. Даже если сейчас в дыре никого нет, до завтрашнего заката кто-нибудь обязательно проберется в нее. С другой стороны, подумал Френсис, если кто-то уже обитает внизу, лучше свести с ним знакомство при свете дня, чем в вечерних сумерках. Вокруг не было никаких следов, кроме его собственных, пилигрима и волчьих.
Наконец решившись, он стал отгребать песок и камни от входа в дыру. После получаса такой работы дыра не увеличилась, но его предположение, что внизу есть помещение, превратилось в уверенность. Два небольших, полуутопленных в песке булыжника, примыкающих к отверстию, казалось, были с огромной силой втиснуты словно в горлышко бутылки. Когда он с громадным трудом отодвинул один камень вправо, второй сам чуть сдвинулся влево, больше он ничего не мог сделать.
Рычаг вырвался у него из рук и исчез во внезапно открывшемся провале. Резкий удар заставил его покачнуться. Камень, сорвавшийся с откоса, поразил его в спину, у него закружилась голова, и, падая, пока тело его не коснулось надежной тверди земли, он был уверен, что свалится в яму. Грохот обвала чуть не оглушил его, но быстро смолк.
Ослепший от пыли, Френсис лежал, хватая ртом воздух и не осмеливаясь шевельнуться — настолько остро чувствовал он боль в спине. Отдышавшись, он засунул руку под свое облачение и дотянулся до того места между лопатками, где, как он предполагал, у него были сломаны все кости. Там болело и жгло. Пальцы его стали влажными от крови. Он дернулся, застонал и остался лежать недвижим.
Мягко прошуршали крылья. Подняв глаза, Френсис успел увидеть, как стервятник плавно приземлился на кучу гальки рядом с ним. Птица еще раз взмахнула крыльями, и Френсису показалось, что она смотрит на него с жалостливым сочувствием. Он быстро повернулся. Целая компания черных гостей с любопытством описывала медленные круги почти над его головой. Они парили, едва не касаясь верхушек холмов. Когда он приподнялся, стервятники взмыли вверх. Забыв о том, что у него, может быть, сломан позвоночник и треснули ребра, послушник, подрагивая, поднялся на ноги. Черная орда разочарованно снялась с места и, поддерживаемая горячими потоками воздуха, темными точками разошлась по небосклону, продолжая свое бодрствование. Столб пыли, который поднялся из провала, постепенно рассеивался под порывами легкого ветерка. Он надеялся, что кто-нибудь увидит его со сторожевой башни аббатства и явится проверить, что случилось. У ног его зияло квадратное отверстие, куда скользнула часть каменной осыпи. Вниз вели ступеньки, но только верхняя из них была свободна от груд обломков, шесть веков покоившихся в ожидании брата Френсиса, вмешательство которого и вызвало наконец грохочущий обвал. Рядом с лестницей на стенке он различил надпись, которую обвал пощадил. Собрав в памяти воспоминания о староанглийском, что был в ходу до Потопа, он с запинками прошептал слова:
ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ УБЕЖИЩЕ
Максимум: 15 человек
Запас провизии рассчитан на 180 дней пребывания одного человека; делится соответственно количеству обитателей. После входа в убежище проверьте, чтобы ЛЮК 1 был тщательно закрыт и запечатан; и на защиту было подано напряжение, достаточное для предупреждения проникновения лица, несущего на себе радиоактивное заражение, чтобы…
Остальное разобрать было невозможно, но Френсису хватило и первого слова. Он никогда не видел слова «Радиация» и надеялся, что никогда не увидит его и впредь. Подробное описание этого чудовища не сохранилось, но до Френсиса дошли легенды. Он перекрестился и отступил от провала. Легенды говорили, что святой Лейбовиц был захвачен Радиацией и находился в ее когтях много месяцев, прежде чем заклятия, сопутствовавшие его Крещению, заставили демонов убраться прочь.
Брат Френсис представлял себе Радиацию чем-то вроде саламандры, ибо, в соответствии с преданиями, она родилась в Огненном Потопе, и чем, как не ею, объясняется существование чудовищ, которых и до сих пор зовут «Дети Радиации»?
Послушник в ужасе посмотрел на надпись. Смысл ее был совершенно ясен. Невольно он нарушил покой убежища (необитаемого, молил он) не одного, а пятнадцати мертвых существ! Он вцепился в сосуд со святой водой.
Глава 2
О, вечный дух, Господи, помилуй нас. От молний и бурь, Господи, помилуй. От разверстой земли, Господи, помилуй. От чумы, мора и войны, Господи, помилуй. От часа ноль, Господи, помилуй. От кобальтовых дождей, Господи, помилуй. От стронциевых дождей, Господи, помилуй. От цезиевых дождей, Господи, помилуй. От проклятия Радиации, Господи, помилуй. От рождения чудовищ, Господи, помилуй. От проклятия выкидышей Господи, помилуй. Вечный им покой, Господи, помилуй. Тебя молим мы, Господи. Склоняемся к твоим стопам, Снизойди к нам. Отпусти нам грехи наши, Снизойди к нам. И дай нам царствие небесное, Тебя молим мы.Обрывки этих строк из литании Всех Святых с каждым выдохом бормотал брат Френсис, осторожно спускаясь по лестнице в древнее Противорадиационное Убежище, вооружившись только святой водой и факелом, наспех сделанным из тлевшей ветки ночного костра. Больше часа он ждал, чтобы пришел кто-нибудь из аббатства, привлеченный столбом пыли. Никто не появился.
Только серьезная болезнь или приказ вернуться в аббатство могли помешать ему выполнить обет своего послушничества; любое другое отступление не могло расцениваться иначе, как отречение от обетов, которые он дал, вступая в ряды монашеского альбертианского ордена Лейбовица. Но брат Френсис предпочел бы смерть на месте. А теперь он стоял перед выбором: то ли еще до захода солнца проникнуть в этот пугающий провал, то ли провести ночь в своем убежище, не считаясь с тем, что под покровом темноты кто-то сможет проникнуть сюда, разбудив его. Волки, эти ночные исчадия ада, доставляли ему немало хлопот, но в конце концов они были существами из плоти и крови. Существа, обладающие не столь зримой субстанцией, он предпочел бы встретить при свете дня, а сейчас он не мог не обратить внимания, что хотя лучи солнца еще освещали провал, оно все более склонялось к закату.
Осыпь, провалившаяся в убежище, образовала холмик у подножия лестницы, между каменными обломками и потолком осталась только узкая щель. Он пролез в нее ногами вперед и понял, что в таком положении ему надо двигаться и дальше из-за крутизны склона. Содрогаясь от мысли, что Неизвестное подстерегает его, он, упираясь в каменные глыбы, прокладывал путь вниз. Когда его факел начинал мигать и гаснуть, он останавливался, давая ему разгореться; во время этих пауз он пытался оценить размеры опасности, подстерегающей его вокруг и внизу. Он почти ничего не видел. Теперь он находился в подземном помещении, почти треть которого была заполнена обломками камней, свалившихся сверху по лестнице. Россыпь их покрывала весь пол, повредив часть предметов обстановки и, скорее всего, похоронив под собой остальные. Перед ним были покосившиеся и мятые, сдвинутые с места металлические ящики, до половины засыпанные камнями. В дальнем конце помещения была открывающаяся наружу металлическая дверь, сейчас плотно запечатанная обвалом. Осыпавшаяся, но все еще хорошо видная, на ней была надпись, нанесенная по трафарету:
ВНУТРЕННИЙ ЛЮК
ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Очевидно, помещение, в котором он находился, можно было считать входной камерой. Но то, что находилось за «Внутренним люком», было запечатано тоннами камня, завалившими дверь. То, что крылось за нею, было в самом деле изолировано, пусть даже где-то и был второй выход.
Убедившись, что во входной камере не кроется никакой опасности, и приблизившись к подножию груды обломков, послушник при свете своего факела вгляделся в металлическую дверь. Под осыпавшимися буквами «Внутренний люк» шрифтом меньшего размера была нанесена надпись, основательно тронутая ржавчиной:
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внутренний люк не может быть закрыт, прежде чем весь персонал будет на своих местах и выполнены все процедуры, предписываемые для обеспечения безопасности техническим руководством СР-В-83А.
После того как люк будет закрыт, давление внутри убежища должно быть поднято до 2 атм., чтобы свести к минимуму приток наружного воздуха. Закрытый, люк впредь может быть открыт системой сервомониторов не раньше, чем будут соблюдены следующие условия:
1. Когда уровень внешней радиации опустится до безопасного предела.
2. Когда откажет система очистки воздуха и воды.
3. Когда кончатся запасы питания.
4. Когда кончатся запасы энергии для силовой установки.
Дальнейшие инструкции см. СР-В-83А».
Брат Френсис был несколько растерян, столкнувшись с таким предупреждением, но он решил все же осмотреть дверь, не прикасаясь к ней.
Брат Френсис заметил, что обломки, которые столетиями лежали во входной камере, темнее и грубее по текстуре, чем россыпь камней и щебня, отбеленных солнцем и ветрами пустыни до того, как попали в провал. Даже беглый взгляд на них свидетельствовал, что внутренний люк был запечатан отнюдь не сегодняшним обвалом, а гораздо раньше — может быть, эти камни были старше даже аббатства. Если полная изоляция противорадиационного убежища скрывала в себе Радиацию, демон, скорее всего, так и не открывал внутреннего люка со времен Огненного Потопа, до того как пришло Упрощение. И уж коль скоро оно сидит за металлической дверью столько столетий, нечего бояться, что оно прорвется сквозь люк до Страстной субботы.
Факел начал чадить и гаснуть. Найдя расплющенную ножку стула, он разжег ее от остатков факела, а затем начал собирать куски разломанной обстановки, размышляя тем временем о смысле древних слов: противорадиационное убежище.
Брат Френсис готов был признать, что его знание до-Потопного английского было далеко от совершенства. Порой монахи помогали друг другу совершенствоваться в этом языке, но он всегда чувствовал, что язык был его слабым местом. Пользуясь латынью или самыми простыми диалектами региона, он видел, что словосочетание «servus puer» означало то же, что и «puer servus», да и в английском «мальчик-раб» означало то же, что и «раб-мальчик». Но на этом сходство кончалось. Он наконец понял, что «кошкин дом» — отнюдь не то же самое, что «дом кошки». Но что значило это словосочетание «Противорадиационное убежище»? Брат Френсис покачал головой. Предупреждение внутреннего люка означало пищу, воду и воздух; демонам ада делать здесь было нечего. Послушнику стало ясно, что тот английский, что был до Потопа, может быть даже сложнее теологических исчислений Ангелологии святого Лесли.
Он укрепил свой чадящий факел в куче камней, откуда он освещал даже самые темные уголки входной камеры. Затем он принялся исследовать то, что осталось после обвала. Руины на поверхности земли не оставили никаких археологических загадок после того, как по ним прошли поколения мусорщиков, но этих подземных развалин не касалась ничья рука, кроме перста неведомого несчастья. Здесь чувствовалось присутствие других времен. Череп, завалившийся между камнями в дальнем темном углу, в оскале которого еще поблескивал золотой зуб, был ясным свидетельством того, что в убежище никогда никто не вторгался. Золотой резец поблескивал, когда пламя вздымалось выше.
Не раз и не два брат Френсис в пустыне натыкался на лохмотья иссушенной кожи, рядом с которыми лежала кучка выбеленных солнцем костей. Он не удивлялся, натыкаясь на них и никогда не испытывал приступов тошноты. Поэтому он и не поразился, впервые увидев череп в углу, но отблеск золота в его ухмылке то и дело бросался ему в глаза, когда он пытался расшатать дверь (закрытую или заваленную) или вытаскивал из-под куч камней мятые ржавые ящики. В них могли оказаться бесценные сокровища, если бы они содержали документы или же одну-другую маленькую книжку, пережившую свирепые пожарища века Упрощения. Когда он пытался открыть один из них, пламя факела почти совсем погасло, но ему показалось, что череп источает слабый собственный свет. В самом этом факте не было ничего особенного, но брат Френсис почувствовал, что здесь, в сумрачном подземелье, это беспокоит его. Собирая обломки дерева, разжигая огонь и возвращаясь к своему занятию, он старался не обращать внимания на ухмылку черепа. Даже не пытаясь проникнуть вглубь, Френсис, прислушиваясь к живущему в нем страху, все отчетливее понимал, что убежище, особенно эти ящики, изобилуют богатыми реликвиями тех времен, которые мир (во всяком случае, большая его часть) постарался забыть.
Его осенило благословение Провидения. Найти часть прошлого, которое избежало и пламени костров, и жадности мусорщиков, было редкой удачей в его дни. Правда, такая находка всегда была связана с риском: в поисках древних сокровищ монастырские землекопы наткнулись на провал в земле, углубились в него и с триумфом вытащили какую-то странную цилиндрическую штуку, а затем, то ли очищая, то ли пытаясь понять предназначение находки, нажали не ту кнопку или повернули не ту ручку — и их земное существование кончилось без благословения Святой Церкви. Всего лишь восемьдесят лет назад преподобный Боэдуллус, не скрывая удовлетворения, прислал письмо своему главе аббатства, в котором сообщал, что маленькая экспедиция отрыла остатки, как он сообщал, «базы межконтинентальных пусковых установок, а также подземные хранилища великолепного горючего». Никто в аббатстве не знал, что означали эти самые «межконтинентальные пусковые установки», но властитель аббатства, который правил в те времена, своим декретом строго-настрого, под страхом изгнания из общины, приказал монастырским исследователям избегать этих «установок». Письмо в аббатство было последним свидетельством существования преподобного Боэдуллуса, его экспедиции, его «пусковых установок» и небольшой деревушки в тех местах. Благодаря пастухам, которые, заметив изменение русла ручья, пошли по нему и обнаружили на месте деревушки прелестное озеро, куда теперь стекали воды окрестных ручьев и откуда пастухи черпали влагу для своих стад в периоды засухи. Путники, которые приходили с той стороны лет десять назад, говорили, что в озере отличная рыбалка, но тем не менее пастухи отказывались есть рыбу из этого озера, потому что, как они считали, в рыбах были души исчезнувших селян и землекопов и, кроме того, в глубинах жил Боэдуллус, огромный сом…
«…Никакие раскопки не могут иметь места иначе, чем с целью обогащения Меморабилии, Достопамятности», — было сказано в декрете властителя аббатства, то есть брат Френсис имел право посетить убежище только в поисках книг и бумаг, избегая прикосновения даже к самым интересным металлическим изделиям. Пыхтя и обливаясь потом над ящиком, брат Френсис краем глаза видел поблескивание золотой коронки. Ящик не сдвигался с места. В отчаянии он пнул его и нетерпеливо повернулся в сторону черепа: «Почему бы тебе для разнообразия не поглазеть на что-нибудь еще?»
Череп продолжал улыбаться. Золотозубые останки, как на подушке, лежали на россыпи камней между куском скалы и ржавым металлическим ящиком. Бросив свое занятие, послушник поднялся на склон осыпи, чтобы хотя бы рассмотреть поближе то, что некогда было человеком. Ясно было, что он скончался на месте, сбитый с ног каменной лавиной и полупогребенный под обвалом. Лишь череп и кости голени остались нетронутыми. Бедренные кости были переломаны, основание черепа раздроблено.
Одним дыханием брат Френсис произнес заупокойную молитву, а затем очень осторожно подняв череп с места, где он покоился, повернул его так, что его ухмылка была обращена к стене. Теперь он мог рассмотреть ржавый ящик.
По форме ящик напоминал сумку и, вне всякого сомнения, был предназначен, чтобы его носили в руках. Он мог служить любой цели, по каменный обвал сильно изуродовал его. Осторожно послушник извлек его из-под осыпи и поднес ближе к огню. Замок, похоже, был сломан, но ржавчина приварила его язычок к корпусу. В ящике что-то загремело, когда брат Френсис потряс его. Конечно, он был далеко не самым подходящим хранилищем для книг или бумаг, но столь же очевидно было и то, что ящик был предназначен для того, чтобы его открывали и закрывали, и мог содержать в себе пару крох информации для Достопамятности. Тем не менее, помня печальную судьбу брата Боэдуллуса и иже с ним, он окропил ящик святой водой, прежде чем приступить к нему, и взял в руки древнюю реликвию настолько благоговейно, насколько это возможно, когда сбиваешь камнем ржавые петли.
Наконец он освободил защелку. Металлические крохи посыпались с крышки, и некоторые из них безвозвратно исчезли меж расселинами камней. Но на дне ящика, в пространстве между перегородками, он что-то нащупал — бумаги! Торопливо вознеся благодарственную молитву, он собрал все металлические осколки, что попались ему на глаза, и, опустив защелку, вскарабкался на осыпь, торопясь к лестнице и затем к клочку неба; ящик он крепко зажал подмышкой.
После тьмы убежища свет ослепил его. Он почти не обратил внимания, что солнце находится в опасной близости к горизонту, и сразу же стал искать плоский камень, на котором можно было бы разложить содержимое ящика без риска потерять что-то в песке.
И уже через минуту, устроившись на обломке скалы, он начал выкладывать из ящика обломки металла и стекла. Большинство из них представляло собой небольшие продолговатые штучки с проволочными усиками по обоим концам. Нечто подобное он уже видел раньше. В маленьком музее аббатства было несколько таких, разных размеров и цветов. Как-то ему довелось увидеть шамана с тех холмов, где жили язычники, с ожерельем из таких вот изделий. Люди с холмов воспринимали их как «часть Божьего тела» — сказочной «Аналитической машины», которую они чтили как мудрейшего из богов. Проглотив одно из своих украшений, шаман приобщался высших знаний. «Непогрешимость», — говорили они. И действительно, для своих соплеменников он возносился на вершины Неоспоримости. Эти простейшие штучки в музее были соединены друг с другом в какую-то беспорядочную массу на днище металлического ящика и назывались «Радиошасси: включать с предохранителем».
На внутренней крышке ящика был прикреплен лист бумаги, со временем клей превратился в порошок, чернила выцвели, а бумага настолько потемнела от пятен ржавчины, что даже каллиграфический почерк с трудом поддавался бы прочтению, а текст этой бумаги был набросан торопливыми каракулями. Опустошая содержимое ящика, брат Френсис с трудом разбирал их. Похоже, что написано было по-английски, по прошло около получаса, прежде чем он понял большую часть послания:
«Карл —
Ты должен захватить самолет для (неразборчиво) через двадцать минут. Ради бога, пусть Эм будет с тобой, пока не станет ясно, что мы вступили в войну. Прошу тебя! Постарайся включить ее в последний список для убежища. Я не мог достать для нее место в нашем самолете. Не говори ей, зачем я послал ей этот ящик с барахлом, но постарайся продержать ее здесь, пока мы не будем знать (неразборчиво) самое худшее и что выхода нет.
И. Э. Л.P.S.
Я запечатал ящик и написал на нем “Совершенно секретно”, просто чтобы Эм не заглянула внутрь. Это единственный ящик, который мне удалось прихватить с собой. Засунь его в мой рундук или сделай с ним что-нибудь».
Записка показалась брату Френсису сплошной чепухой, хотя в этот момент он был так взволнован, что ему было трудно сконцентрироваться на ее содержании. Еще раз усмехнувшись при виде каракулей, он принялся опустошать содержимое отделений ящика, чтобы добраться до бумаг на самом его дне. Перегородки в ящике были укреплены в определенном порядке, в котором их следовало вынимать, но защелки основательно заржавели, так что Френсису пришлось расшатывать их с помощью короткого металлического стержня, обнаруженного в одном из отделений.
Справившись с этой работой, он благоговейно прикоснулся к бумагам: всего несколько сложенных листиков, но и они представляли собой сокровище, ибо избежали гневных костров Упрощения, когда даже священные письмена корчились, темнели и дымом уходили в небо, пока тупая толпа вопила и торжествовала в восторге. Он прикасался к бумагам, как к святыне, укрывая их от порывов ветерка своим облачением, ибо века, прошедшие над ними, сделали их хрупкими и ломкими. Они представляли собой пачку грубых набросков и вычислений. Кроме того, в их содержимое входили несколько написанных от руки записок, два больших сложенных листа и книжечка, озаглавленная «Memo»[6].
Первым делом он изучил записки. Они были написаны той же самой рукой, что набросала письмо, приклеенное к крышке ящика, и почерк был столь же неразборчив, что и в предыдущей записке.
«Принеси домой Эмме, — говорила одна записка, — фунт копченого мяса, банку маринованных патиссонов и шесть пирожков с мясом».
Вторая напоминала:
«Не забудь — захвати форму 1040 для дяди из налогового ведомства».
На очередном листе были только колонки цифр, итог обведен овалом: из него была вычтена другая сумма, переведенная в проценты, и завершались все эти подсчеты словом «проклятье!».
Брат Френсис просмотрел подсчеты, произведенные тем же неприятным корявым почерком, но ошибки в них не нашел, хотя он не имел представления, что выражали эти цифры.
К книжечке с надписью «Для памяти» он прикоснулся с особым почтением, потому что ее название напоминало о «Меморабилии». Прежде чем открыть ее, он перекрестился и пробормотал благословение Тексту. Но содержимое маленькой книжечки вызвало у него разочарование. Он ожидал увидеть печатный текст, а вместо него обнаружил список имен, мест, каких-то цифр и дат. Даты относились к последним годам пятого десятилетия и началу шестого десятилетия двадцатого столетия. Еще одно подтверждение — содержимое убежища относилось к смутным временам века Просвещения. Однако и это было важным открытием.
Большие свернутые листы были туго скатаны, и едва только он попытался развернуть один из них, тот стал рваться на куски; единственное, что Френсис успел увидеть, были слова РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ — и ничего больше. Отложив его до дальнейшей реставрации, он обратился к другому сложенному листу: тот был настолько ветх, что он осмелился только чуть развернуть листы в надежде что-то увидеть, вглядываясь в эту щель.
Похоже, что там был какой-то чертеж, но — он состоял из белых линий на синем поле!
И снова он ощутил дрожь первооткрывателя. Несомненно, это была синька! — а в аббатстве не было ни одного оригинала синьки, не считая нескольких чернильных копий. Оригиналы давным-давно выцвели под воздействием света. Френсис никогда раньше не видел оригиналов, хотя он достаточно насмотрелся на репродукции ручной работы, чтобы понять, что перед ним именно подлинная калька, которая, пусть и выцветшая и покрытая пятнами ржавчины, сохранилась за все эти века, потому что находилась в полной темноте и сухости убежища. Он перевернул документ — и испытал прилив ярости. Какому идиоту попали в руки эти бесценные бумаги? Кто-то разрисовал их абстрактными геометрическими фигурами и рожицами. Что за бессмысленный вандализм!..
Но гнев его быстро испарился. В то время когда калька появилась на свет, она не представляла собой ровно никакой ценности, и виновником ее состояния можно считать владельца ящика. Он прикрыл ее от солнца своей тенью и попытался развернуть листы еще немного. В правом нижнем углу был впечатан прямоугольник, содержание которого составляли простые печатные буквы — имена, цифры, даты, «номер патента», сноски. Скользнув дальше по листу, его глаза наткнулись на название: «СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, Лейбовиц И. Э.».
Он зажмурил глаза и помотал головой, пока не ощутил гул в ушах. Посмотрел снова. Буквы были на месте, он видел их четко и ясно:
СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, Лейбовиц И. Э.
Он снова перевернул лист. Среди геометрических фигур и детских рисунков красными чернилами был ясно отпечатан прямоугольник:
ЧЕРТЕЖ ИСПОЛНИЛИ:
Провер.
Утверд.
Сконструир. И. Э. Лейбовиц
Начерт.
Имя было написано четким женским почерком, а не торопливыми каракулями других бумаг. Он снова посмотрел на инициалы той записки, что была приклеена к крышке: И. Э. Л. — и снова на «СХЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, Лейбовиц И. Э…» Те же самые буквы, что во всех записях.
Это было доказательство, хотя и весьма предположительное, что святого основателя ордена, если его наконец канонизируют, придется называть святой Айзек или святой Эдвард. Кое-кто вплоть до настоящего времени предпочитал обращаться к святому по его инициалам.
— Beate Leibowitz, ora pro me![7] — прошептал брат Френсис. Руки у него тряслись так сильно, что он боялся повредить хрупкий документ.
Он нашел реликвии, принадлежащие самому святому. Конечно, Новый Рим (Нью-Рим) еще не объявил, что Лейбовиц был святым, но сам брат Френсис был настолько неколебимо убежден в этом, что твердо повторил:
— Sancte Leibowitz, ora pro me![8]
Брат Френсис не стал тратить время на глупые логические рассуждения, которые должны были привести к этому выводу, он чувствовал глубокую благодарность к Небесам, которые таким образом благословили его отшельничество. Он понимал, что нашел то, ради чего и был послан в пустыню. Он призван в этот мир, чтобы стать монахом ордена.
Забыв строгое предупреждение аббата, что он не должен ждать от своего отшельничества никаких чудес и тайн, послушник рухнул на колени, вознеся свои благодарения небу и пообещав, что несколько десятков раз переберет в молебствиях четки — за то, что оно послало ему старого пилигрима, указавшего камень, под которым крылся вход в убежище. «Может, скоро ты снова обретешь Голос, сынок», — сказал ему путник. И только сейчас послушник понял, что пилигрим имел в виду тот Голос, что произносится с заглавной буквы.
Ut solius tuae voluntatis mihi cupidus sum, et vocationis tuae conscius, si digneris me vocare…[9]
Дело аббата оценить, что Голос этот говорил об обстоятельствах, а не о причинах и следствиях. И дело Истолкователя Веры оценивать, что, может быть, «Лейбовиц» было не совсем обыкновенной фамилией до времен Огненного Потопа, и что инициалы И. Э. можно столь же легко истолковать как Ихебод Эбенезер, так и Айзек Эдвард. Но для Френсиса существовало только одно истолкование.
Издалека, со стороны аббатства, донеслись три удара колокола, а затем пустыня услышала остальные — всего девять.
«Ангелы господни славят Деву Марию», — привычно откликнулся послушник, в удивлении посмотрев на солнце, которое уже превратилось в пурпурный эллипс, почти касающийся горизонта на западе. А каменная стена вокруг его убежища еще не завершена.
Как только ангелы господни смолкли, он торопливо сложил все бумаги в старый ржавый ящик. Глас Небес отнюдь не означал, что его услышат и трусливые ночные создания, и злобные голодные волки.
К тому времени, когда тьма сгустилась и на небо высыпали звезды, убежище, созданное его руками, пришло к завершению, осталось только, чтобы волки попробовали его на зуб. Они не заставили себя ждать. Френсис услышал завывания, доносившиеся с западной стороны. Он разжег пламя костра, но за пределами освещенного круга было так темно, что он не мог собрать свою ежедневную порцию кроваво-красных плодов кактусов — единственный источник существования, не считая воскресений, когда ему доставалась пара пригоршней сухих зерен, что привозил из аббатства священник, совершавший объезд по местам святых обетов. Но буква закона, относящегося к Великому посту, на практике смягчалась, и все правила, в сущности, сводились к простому голоданию.
Но в этот вечер сосущие муки голода беспокоили Френсиса куда меньше, чем страстное желание поскорее вернуться в монастырь и оповестить о своей находке. Это отнюдь не означало, что он может прервать свой пост ранее назначенного срока; здесь, в пустыне, он должен был провести все отведенное ему время, бодрствуя или проваливаясь в сон, но блюдя свой обет, словно ничего не произошло.
В полудреме, сидя около костра, он смотрел в темноту, где скрывалось противорадиационное убежище, и пытался представить себе башню базилики, что вознесется над этим местом. Мечтания эти доставляли удовольствие, но ему было трудно представить себе, что кто-то в самом деле изберет этот отдаленный уголок пустыни, чтобы основать здесь будущую епархию. Если не базилика, то хотя бы небольшая церковь — обитель святого Лейбовица-Пустынника, окруженная садом за высокими стенами, с ракой святого, и к ней потекут реки пилигримов с препоясанными чреслами из северных краев. «Отец» Френсис из Юты возглавит пилигримов в их шествии по руинам, даже сквозь «Люк Два» в великолепие «Полной изоляции»; вниз, в катакомбы Огненного Потопа, где… где… ну ладно, об этом потом, а пока он отслужит им мессу на каменном алтаре, в котором будут храниться реликвии святого, в чью честь названа церковь, — обрывки мешковины? кусок веревки от пояса? маникюрные ножницы со дна ржавого ящика? — или, может быть, СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. Фантазия его иссякла. Шансов стать священником у брата Френсиса почти не было — так же, как стать миссионером ордена; братья аббатства Лейбовица нуждались лишь в небольшом количестве священников для нужд аббатства и некоторого количества для небольших монашеских общин в других местах.
Кроме того, звание «святого» присваивалось только в официальном порядке, и никто не мог быть официально провозглашен святым, пока не совершил парочку солидных качественных чудес, подтверждающих его святость и придающих канонизации ореол непогрешимости, каковой она и должна быть, хотя монахам ордена Лейбовица официально не запрещалось благоговеть перед своим отцом-основателем и покровителем, исключая упоминание о нем в таковом качестве во время месс и служб. Размеры церкви, созданной его фантазией, уменьшились до придорожной часовни, куда тонкой струйкой текли пилигримы. Новый Рим был занят другими делами — он рассматривал петицию, требующую формального определения в вопросе касательно Божественного дара святой Девственницы, а доминиканцы считали, что Непорочное Зачатие включает в себя не только вечную благодать, но и благословение Матери Божией всему сущему, что проявилось в канун Краха. И так далее. Втянувшись во все эти диспуты, Новый Рим, по всей видимости, оставил дело о канонизации Лейбовица почивать в пыли на полках.
Наконец удовлетворившись в своих мечтаниях лицезрением небольшой раки Благословенного и парой пилигримов, брат Френсис задремал. Когда он очнулся от забытья, на месте костра тлели только рдеющие угли. Что-то странное творилось вокруг него. Один ли он? Проморгавшись, он вгляделся в окружающую темень.
Он увидел, как от тускнеющих углей во тьму отпрыгнул темный силуэт волка.
Вскрикнув, послушник нырнул за укрытие.
Лежа за каменной стеной, под грудой кустарника, он решил, что вопль этот был непреднамеренным нарушением обета молчания. Прижимая к себе металлический ящик и молясь, чтобы дни обета прошли в мире и спокойствии, он услышал, как по камням заскребли когтистые лапы.
Глава 3
— …И тогда, отец мой, я едва не притронулся к хлебу и сыру.
— Но ты не взял их?
— Нет.
— Тогда, значит, ты не совершил греховного деяния.
— Но я жаждал их, я ощущал их вкус у себя во рту.
— Преднамеренно ли ты делал сие?
— Нет.
— Ты пытался избавиться от наваждения?
— Да.
— Значит, в мыслях своих ты не впал в грех обжорства. Почему ж ты каешься?
— Потому что я впал во гнев и окропил его святой водой.
— Ты… что? Почему ты это сделал?
Отец Чероки, подобрав епитрахиль, глядел на грешника, который, повернувшись к нему боком, стоял на коленях под безжалостным солнцем открытой пустыни; он был полон удивления перед тем, каким образом столь юный (и не особенно образованный, насколько он мог понять) послушник, пребывающий в выжженной пустыне, лишенной даже намеков на искушение, мог найти или почти найти возможность впасть в грех. Юноша, почти мальчик, вооруженный лишь четками, кремнем, перочинным ножом и молитвенником, здесь был надежно убережен от всех соблазнов. Отец Чероки был в этом уверен. Но это признание потребовало времени, и он не прерывал грешника. У него снова разыгрался артрит, но, поскольку на маленьком столике, который он обычно брал с собой в объезд, лежало Святое Писание, он мог позволить себе только стоять или, по крайней мере, опуститься на колени рядом с кающимся. Он зажег свечу и поставил ее рядом с маленькой золотой дарохранительницей, но пламя было почти невидимо в слепящем блеске солнца, а легкие порывы ветерка угрожали задуть огонек.
— Но в наши дни для изгнания злых сил не требуется какого-то специального разрешения. Так в чем же ты каешься… в том, что впал в грех гневливости?
— И в этом тоже.
— На кого же ты разгневался? На того старика — или на себя, когда едва не взял хлеба?
— Я… я не знаю.
— Ну-ну, соберись с мыслями, — нетерпеливо сказал отец Чероки. — То ли ты себя винишь, то ли кого-то другого.
— Виню себя.
— В чем? — вздохнул Чероки.
— В том, что в приступе гнева злоупотребил святой водой.
— Злоупотребил? Может, ты думаешь, что здесь было дьявольское наваждение? Ты просто вспылил и брызнул на него? Как чернилами в глаз?
Послушник смутился и замолк, почувствовав сарказм священника. Брату Френсису всегда было трудно каяться. Он никогда не мог найти правильные слова, описывающие его прегрешения, а пытаясь припомнить мотивы, которыми он руководствовался, окончательно терялся.
— Думаю, на мгновение я потерял рассудок, — наконец сказал он.
Чероки открыл рот, думая, было, обсудить такой поворот событий, но затем решил не вдаваться в детали.
— Понимаю. Что еще?
— Были мысли об обжорстве, — незамедлительно ответил Френсис.
Священник вздохнул.
— Думаю, с этим мы уже покончили. Или они посетили тебя еще раз?
— Вчера. Я видел ящерицу, отец мой. На ней были желтые и синие полосочки… и такой великолепный хвостик — размером с ваш палец, и такой упитанный, и я не мог не думать, что если его поджарить, как цыплячью ножку, с коричневой кожицей и сочной мякотью внутри, то…
— Хорошо, — прервал его священник. Лишь легкая тень отвращения мелькнула на его старческом лице. Надо учесть, что мальчишка слишком много времени провел на солнце. — Испытывал ли ты удовольствие от этих мыслей? Пытался ли ты избавиться от искушения?
Френсис покраснел.
— Я… я попытался поймать ее. Но она убежала.
— Значит, не только мысли, но и деяния. В одно и то же время?
— Ну… да, именно так.
— Значит, в мыслях и деяниях ты возжелал мяса во время поста. А теперь постарайся собраться с мыслями. Ты, конечно, заглядывал к себе в душу. Тебе есть еще о чем сказать?
— Еще немного.
Священник моргнул. Ему надо было посетить еще несколько отшельников, его ждало долгое путешествие по жаре верхом, и колени у него ныли и болели.
— Прошу тебя, поскорее, как только можешь, — вздохнул он.
— Однажды я впал в грех похотливости.
— В словах, мыслях или деяниях?
— Ну, я имел дело с суккубом, и она…
— Суккуб? А, ночная дьяволица! Ты спал?
— Да, но…
— Тогда чего ради тебе каяться?
— Потому что потом…
— Что потом? Когда ты проснулся?
— Да. Я продолжал думать о ней. Представлял ее снова и снова с головы до ног.
— Ясно, похотливые мысли. Отпускаю тебе грех твой. Что еще?
Все это было в порядке вещей, и бесконечно, год от году послушник за послушником, монах за монахом каялись ему, и отец Чероки считал, что от брата Френсиса нельзя ожидать ничего иного, как торопливого — раз, два, три — изложения своих прегрешений, без этого нудного копания и заминок. Но чувствовалось, что Френсис с трудом подыскивает слова, чтобы сформулировать мысль. Священник ждал.
— Я чувствую, что обрел свое призвание, отче, но… — Френсис облизал сухие губы и уставился на какую-то мошку на камне.
— Вот как? — бесстрастно сказал Чероки.
— Да, и я думаю… грех ли это, отче, если, обретя в себе призвание, я позволил себе пренебрежительно отнестись к рукописи? То есть я имел в виду…
Чероки моргнул. Рукопись? Призвание? Что он хочет сказать?.. Несколько секунд он вглядывался в серьезное лицо послушника, а затем нахмурился.
— Обменивались ли вы записками с братом Альфредом? — подозрительно спросил он.
— О нет, отче!
— Тогда о какой рукописи ты говоришь?
— Пресвятого Лейбовица.
Чероки помолчал, чтобы собраться с мыслями. Так ли это или нет, есть ли в собрании древних документов аббатства манускрипт, написанный лично основателем ордена? После минутного раздумья он пришел к утвердительному выводу: да, осталось несколько строк, которые бдительно хранятся под замками и запорами.
— Ты кому-нибудь рассказывал о том, что было в аббатстве? До того, как очутился здесь?
— Нет, отче. Все случилось именно здесь, — кивком головы он указал налево. — За тремя холмиками, рядом с высоким кактусом.
— И ты говоришь, что это имело отношение к твоему призванию?
— Д-да, но…
— Конечно, — ехидно сказал Чероки, — и ты НЕ МОГ не сказать о том… что ты получил… получил от блаженного Лейбовица, покойного — о чудо из чудес! — последние шестьсот лет, письменное предложение проповедовать его святые обеты. Но, увы, тебе не понравился его почерк? Прости, но у меня сложилось именно такое впечатление.
— Ну, в общем, что-то такое, отче…
Чероки сплюнул. Встревожившись, брат Френсис вытянул из рукава клочок бумаги и протянул его священнику. Клочок был хрупок от старости и весь в пятнах. Чернила почти выцвели.
«…фунт копченого мяса, — спотыкаясь на незнакомых словах, прочитал Чероки, — банку маринованных патиссонов и шесть пирожков с мясом». Несколько секунд он сверлил взглядом брага Френсиса. — Кто это написал?
Френсис рассказал ему.
Чероки обдумал сказанное.
— Пока ты в таком состоянии, ты не можешь как следует покаяться в грехах. И я не вправе отпускать тебе грехи, когда ты не в себе, — увидев, как Френсис вздрогнул, отец Чероки успокаивающе положил ему руку на плечо. — Не волнуйся, сынок, обо всем этом мы поговорим попозже, когда тебе станет лучше. Тогда и покаешься в грехах. Что же касается настоящего, — он нервно взглянул на сосуд скудельный, содержащий евхаристию. — Мне желательно, чтобы ты собрал свои вещи и тотчас же отправился в аббатство.
— Но, отец мой, я…
— Я приказываю тебе, — бесстрастно сказал священник, — тотчас же отправляться в аббатство.
— Д-да, отче.
— Итак, грехи я тебе не отпускаю, но ты можешь доказать, что раскаялся, если два десятка раз с молитвами переберешь все четки. Угодно ли тебе принять мое благословение?
Послушник кивнул, сдерживая слезы. Священник благословил его, приподнимаясь, торопливо преклонил колени перед дарохранительницей и подвесил ее на цепочке вокруг шеи. Убрав свечу, сложив столик, он приторочил сверток позади седла, торжественно кивнул Френсису на прощанье, взгромоздился на своего мула и пустился завершать свой объезд.
Френсис сел на горячий песок и заплакал.
Было бы куда проще, если бы Френсис мог отвести священника в пещеру и показать ему это древнее укрытие, если бы он мог продемонстрировать ему и металлический ящик со всем его содержимым, и знак, что пилигрим оставил на камне. Но священник сопровождал дарохранительницу, и невозможно было заставить его на четвереньках ползти по подвалу, заваленному камнями, копаться в содержимом старых ящиков и вступать в археологические дискуссии; Френсис знал, что не стоит даже заводить об этом разговор. Посещение Чероки не могло не быть торжественным и официальным, поскольку медальон, который он носил на шее, содержал в себе гостию; будь медальон пуст, он бы и снизошел к разговору. Послушник не мог осуждать Чероки, который пришел к выводу, что Френсис не в своем уме. У него в самом деле кружилась голова от солнца, и он слегка запинался. Не у одного послушника бдение в пустыне кончалось тем, что он возвращался со сдвинутыми мозгами.
Ему не оставалось ничего другого, как, повинуясь приказу, возвратиться в аббатство.
Он побрел к провалу и постоял, вглядываясь в него, словно стараясь еще раз уверить себя, что тот в самом деле существует, затем поднял ящик. К тому времени когда все было упаковано и он был готов двинуться в дорогу, столб пыли, поднявшийся к юго-востоку от него, оповестил, что из ворот аббатства вышел караван с грузом зерна и воды. И прежде чем двинуться в долгий путь домой, брат Френсис решил дождаться его.
Из клубов пыли показались три мула в сопровождении монаха. Передний мул еле тащил ноги под тяжестью брата Финго. Несмотря на опущенный капюшон, брат Френсис сразу же узнал помощника повара по его обвислым плечам и длинным волосатым ногам, которые болтались по обе стороны седла так, что сандалии брата Финго едва не волочились по земле. Вьючные животные, что шли за ними, были нагружены небольшими мешками с зерном и бурдюками с водой.
— Тю-тю-тю-пиг-пиг-пиг! Тю-тю-пиг! — приложив ладони ковшом ко рту, брат Финго, обращаясь к руинам, словно в рог оповещал о своем прибытии, не обращая внимания на Френсиса, уже стоявшего на обочине тропы. — Пиг-пиг-пиг! А, неужто это ты, Френсис! Я спутал тебя с мешком костей! Надо тебя откормить, чтобы волкам было чем полакомиться. Ну-ка, тащи свои воскресные помои! Ну, как она, ноша отшельника? Думаешь, карьеру сделаешь? Имей в виду, тебе причитается один бурдюк и столько же мешков с зерном. И держись подальше от копыт Малиции — у нее течка, и она уж очень резва; недавно лягнула брата Альфреда — кранч! — прямо в колено. Осторожнее! — брат Финго откинул капюшон и захохотал, глядя, как Малиция и послушник выбирали позицию поудобнее. Без сомнения, Финго был безобразнейшим из всех живущих существ, и когда он хохотал, обнажая розовые десны и огромные разноцветные зубы, это вряд ли прибавляло ему обаяния. Он был славный малый, который вряд ли заслуживал названия чудовища: скорее он нес на себе наследственные приметы, которыми обладали все обитатели Миннесоты, откуда был родом, — совершенно лысая голова и странное распределение красящего пигмента: молочно-белая шкура этого долговязого монаха была покрыта светло-коричневыми и шоколадными пятнами. Никогда не покидавший его добродушный юмор компенсировал уродливость, так что через несколько минут после знакомства она переставала бросаться в глаза; а по прошествии времени пятнистость брата Финго казалась столь же нормальной, как и яблоки на крупе мула. Будь он по натуре мрачным и унылым, он был бы столь же страшен, как плохой клоун, который, размалевав себя, изо всех сил тщится быть веселым. На кухне брат Финго пребывал временно, в виде наказания. По профессии он был плотником и обычно работал в столярной мастерской. Но излишне рьяно отстаивая свое право вырезать из дерева статую святого Лейбовица, каким он его видел, брат Финго поссорился с отцом аббатом и был отослан на кухню, где и должен был пребывать, пока не почувствует всю глубину своего падения. Но тем не менее в мастерской продолжала его ждать наполовину готовая фигура святого.
Ухмылка Финго увяла, когда он увидел выражение лица Френсиса, с которым послушник снял зерно и воду со спины кобылицы.
— Ты выглядишь как больная овца, парень, — сказал он послушнику. — В чем дело? Опять отец Чероки распалился?
Брат Френсис покачал головой.
— Не стоит говорить.
— Тогда в чем дело? Может, ты в самом деле заболел?
— Он приказал мне возвращаться в аббатство.
— Что-о-о? — Финго перекинул волосатую ногу через седло и почти сполз на землю. Нависнув, подобно башне, над братом Френсисом, он хлопнул мясистой рукой по его плечу и заглянул ему в лицо. — Он что, завидует тебе?
— Нет. Он думает, что я… — Френсис постучал себя по лбу и пожал плечами.
Финго расхохотался.
— Что правда, то правда, но ведь мы все знаем это. Так чего ради он посылает тебя обратно?
Френсис посмотрел на ящик, стоящий у его ног.
— Я нашел вещи, принадлежащие святому Лейбовицу. Я начал ему рассказывать о них, но он мне не поверил. Он даже не дал мне объяснить. Он…
— Что ты нашел? — скрыв за улыбкой свое недоверие, Финго опустился на колени и открыл ящик, пока Френсис, волнуясь, наблюдал за ним. Потрогав пальцем свернутые трубочкой бумаги на стеллаже ящика и цилиндрики деталей, он тихонько присвистнул. — Так ведь это амулеты, что носят язычники с холмов, не так ли? Они очень древние, Френсиско, они и в самом деле очень древние, — он бросил взгляд на записку, приклеенную к крышке. — А это что за чепуха? — спросил он, прищуриваясь снизу вверх на несчастного послушника.
— Английский, что был до Потопа.
— Я никогда не учил его, если не считать тех псалмов, что мы поем в хоре.
— Это писал святой собственной рукой.
— Вот это? — брат Финго перевел взгляд с записки на брата Френсиса и обратно на записку. Внезапно он покачал головой, захлопнул крышку ящика и встал. Улыбка, застывшая на его лице, теперь казалась искусственной. — Может быть, отец Чероки и прав. Тебе в самом деле лучше отправляться обратно, и пусть брат-медик попотчует тебя своим варевом из измельченных жаб. У тебя лихорадка, братец.
Френсис пожал плечами.
— Может быть.
— Где ты нашел эту штуку?
Послушник показал.
— В той стороне. Я таскал и ворочал камни. Обнаружил провал, а под ним подземелье. Пойди и посмотри сам.
Финго покачал головой.
— У меня долгая дорога впереди.
Френсис поднял ящик и направился к аббатству, но через несколько шагов послушник остановился и повернулся к Финго, возившемуся со своими мулами.
— Брат… не уделишь ли ты мне пару минут?
— Может, и уделю, — ответил Финго. — Но чего ради?
— Просто подойди сюда и взгляни в дырку.
— Зачем?
— Тогда ты сможешь сказать отцу Чероки, что видел ее.
Финго замер с одной ногой, уже закинутой на седло.
— Ха! — сказал он, опуская ногу. — Идет. Но если ее там не будет, я уж тебе скажу…
Френсис подождал, пока долговязая фигура Финго скрылась из виду между холмами гальки и щебня, а затем повернулся и побрел по долгой пыльной тропе к аббатству, пережевывая зерна и запивая их водой из бурдюка. Время от времени он оборачивался. Финго не было видно гораздо больше двух минут. Брат Френсис уже отчаялся дождаться его появления, как со стороны развалин раздался дикий рев. Он повернулся. В отдалении на вершине одного из холмов он увидел фигуру плотника. Финго размахивал руками и яростно кивал головой в знак подтверждения. Френсис махнул ему в ответ и устало побрел своей дорогой.
Две недели полуголодного существования сделали свое дело. После двух-трех миль пути он начал спотыкаться. Когда до аббатства оставалось не больше мили, он потерял сознание прямо посреди дороги. Солнце давно уже миновало зенит, когда отец Чероки, возвращаясь с объезда, заметил его, торопливо спешился и обмыл лицо юноши, пока тот медленно приходил в себя. В это время их нагнал возвращающийся в аббатство караван груженых мулов, и когда они остановились, он выслушал отчет Финго, подтверждающий находку Френсиса. И хотя отец Чероки не был готов признать важность того, что обнаружил брат Френсис, все же священник пожалел о своем нетерпении по отношению к послушнику. Обнаружив ящик, наполовину зарывшийся в дорожную пыль, и бросив беглый взгляд на записку на крышке, пока смущенный Френсис постепенно приходил в себя, отец Чероки понял, что лепетание мальчишки было скорее результатом его романтических представлений, чем размягчения мозгов, как ему вначале показалось. Да, он не был в пещере, он не исследовал достаточно внимательно содержимое ящика, но уже сейчас было совершенно ясно, что у мальчика не было галлюцинаций, а просто он неправильно истолковал совершенно обычные вещи.
— Ты можешь завершить свое покаяние, как только мы вернемся в аббатство, — мягко сказал он, помогая ему влезть на мула позади себя. — Думаю, что могу отпустить тебе грехи, если ты не будешь настаивать, что получил личное послание от святого. А?
Брат Френсис был слишком слаб в этот момент, чтобы упорствовать.
Глава 4
— Ты поступил совершенно правильно, — наконец проворчал аббат.
Минут пять он неторопливо мерил шагами свою келью, а отец Чероки сидел на краешке стула. Нервничая, он смотрел, как наливается гневом широкое крестьянское лицо аббата, изрезанное глубокими морщинами. После того как Чероки, торопясь на вызов своего владыки, вошел в помещение, аббат не проронил ни слова, и Чероки слегка даже подпрыгнул, когда наконец аббат Аркос пробурчал эти слова.
— Ты поступил совершенно правильно, — еще раз сказал аббат. Остановившись в центре кельи и прищурившись, он посмотрел на своего приора, который наконец позволил себе несколько расслабиться. Было около полуночи, и Аркос собирался часок-другой отдохнуть перед заутреней. Растрепанный, с влажной кожей после недавнего купания в бочке с водой, он напоминал Чероки медведя-оборотня, который еще не успел полностью превратиться в человека. На плечи у него была накинута шкура койота, и единственное, что напоминало о его звании, был нагрудный крест, прятавшийся в густой черной растительности на груди, когда аббат поворачивался к столу, крест неизменно вспыхивал в пламени свечи. Мокрые клочья волос спадали на лоб, а его короткая бородка и звериная шкура на плечах напоминали не столько священника, сколько предводителя военного отряда, еще не остывшего от ярости битвы после последней стычки. Отец Чероки, который происходил из баронского рода из Денвера, старался держать себя в рамках формальной вежливости как в поступках, так и в ответах, обращаясь не столько к человеку, сколько к знаку его власти — так повелевали ему обычаи Двора, сложившиеся за много веков его существования. Иными словами, с формальной стороны отец Чероки демонстрировал сердечное волнение перед перстнем и нагрудным крестом, служившими знаками власти аббата, но как личность он его практически не воспринимал. Что было в данный момент довольно затруднительно, поскольку преподобный аббат Аркос, только что омывший свое тело, продолжал шлепать босыми пятками по помещению. Кроме того, обрезая мозоли на ноге, он поранился, и сейчас один палец кровоточил. Чероки старался делать вид, что ничего не замечает, но чувствовал себя далеко не самым лучшим образом.
— Ты понимаешь, о чем я говорю? — нетерпеливо пробурчал Аркос.
Чероки помедлил.
— Имеете ли вы в виду, отче мой, нечто, связанное с тем, что мне приходится выслушивать на исповедях?
— А? Ах это! Ну, ты меня совсем сбил с толку! Я начисто забыл, что ты слушал его исповедь. Ладно, заставь его рассказать тебе все снова так, чтобы ты мог сам говорить — хотя бог знает, какое отношение все это может иметь к аббатству. Нет, не торопись к нему. Я скажу тебе, что делать, и пусть уста твои будут запечатаны намертво. Ты видел эту штуку? — и аббат Аркос кивнул на стол, где было разложено для изучения содержимое ящика, который принес брат Френсис.
Чероки слегка склонил голову.
— Упав, он выронил все на дорогу. Я помогал ему собирать, но не присматривался слишком внимательно.
— Ну а ты знаешь, что он говорит обо всем этом?
Отец Чероки отвел взгляд. Он сделал вид, что не слышал вопроса.
— Ладно, ладно, — пробурчал аббат. — В конце концов, не важно, что он там говорит. Внимательно осмотри-ка все это сам и прикинь, что ты об этом думаешь.
Подойдя, отец Чероки склонился над столом и тщательно, одну за другой, изучил все бумаги, пока аббат, меряя шагами келью, продолжал говорить то ли со священником, то ли с самим собой.
— Этого не может быть! Ты поступил совершенно правильно, вернув его, пока он там не обнаружил чего-нибудь еще. Но, конечно, это еще не самое худшее. Самое худшее — это старик, о котором он болтает. Тут все может окончательно запутаться. Не знаю ничего хуже, чем все эти «чудеса», которые угрожают хлынуть на нас. Да, конечно, кое-что должно быть! То, что может быть установлено как заступничество святого перед тем, как произойти канонизации. Но это уже чересчур! Взять, например, блаженного Чанга — причислен вроде бы к лику святых два столетия тому назад, но до сих пор не канонизирован. А все почему? Его орден слишком истово приступил к делу, вот почему. Часто стоило кому-то избавиться от икоты, это тут же провозглашалось как чудесное исцеление, совершенное святым. А потом он стал появляться в алтаре, мелькать на колокольне, все это смахивало скорее на собрание историй с привидениями, чем на перечень чудес. Два-три случая могут в самом деле представлять интерес, но когда сплошная ерунда — что тогда?
Отец Чероки поднял глаза. Костяшки пальцев, вцепившись в стол, побелели, а лицо, казалось, было обтянуто кожей. Похоже, он ничего не слышал.
— Прошу прощения, отец мой…
— Дело в том, что то же самое может произойти и здесь, вот в чем суть, — сказал аббат, продолжая медленно мерить пространство от стенки до стенки. — В прошлом году был брат Нойон и его волшебная веревка висельника. Ха! А в позапрошлом году, как говорили эти молодые деревенские олухи, брат Смирнов таинственным образом излечился от подагры — но каким образом? — прикоснувшись к реликвиям, которые предположительно принадлежали нашему святому Лейбовицу. А теперь этот Френсис, который встретил пилигрима, — что там на нем было надето? — в подоткнутой рясе и плаще с капюшоном, как раз в тех отрепьях, в которых его потащили на виселицу. А чем он был подпоясан? Ах, веревкой. Какой веревкой? Ах, той самой… — он сделал паузу и посмотрел на Чероки. — По твоему непонимающему взгляду могу предположить, что ничего подобного ты пока не слышал? Нет? Ну так и молчи. Нет, нет, ничего такого Френсис не говорил. Вот что он сказал… — аббат Аркос постарался смягчить привычный для него хриплый голос и изобразить высокий фальцет. — Вот что сказал брат Френсис: «Я встретил маленького старика, и я решил, что он пилигрим, направляющийся к аббатству, потому что он шел этим путем и на нем было одеяние из старой мешковины, подвязанное куском веревки. И он сделал отметку на скале, и отметка выглядела вот так».
Аббат Аркос извлек из недр своей меховой накидки кусок пергамента и ткнул его прямо в лицо Чероки, вынужденного склониться к свету канделябра, снова и без особого успеха стараясь изобразить голос Френсиса: «Не могу представить, что бы это значило. А вы можете?»
Чероки посмотрел на символы и покачал головой.
— А тебя я и не спрашиваю, — пробурчал Аркос уже своим нормальным голосом. — Это сказал Френсис. А я ничего не знаю.
— Собираетесь выяснить?
— Собираюсь. Кому-то надо в этом разобраться. Это «ламет», а это «садх». Ивритские буквы.
— «Садх ламет»?
— Нет. Справа налево. «Ламет садх». «Л» и «С». Будь тут какая-то огласовка, можно было бы что-то прикинуть: лутс, лотс, литс — нечто подобное. И будь тут пара букв между этими двумя, это звучало бы… ну, догадайся, как Л-л-л…
— Лейбо… о нет!
— О да! Брату Френсису это не пришло в голову. Придет в голову кому-то другому. Брат Френсис не обратил внимания на мешковатую рясу и веревочную опояску: а кто-то из его приятелей обратит. И что же будет дальше? Уже сегодня вечером все послушники забурлят, обсуждая прелестную святочную историю, как Френсис встретил самолично святого, и святой прямехонько препроводил нашего парня к тому месту, где лежат все эти штуки, и сказал ему, что он обрел свое предназначение.
Отец Чероки озабоченно сморщил лоб.
— Неужели брат Френсис говорил нечто подобное?
— НЕТ! — заорал Аркос. — Ты что — не слышал? Френсис не говорил ничего подобного. Может, было бы лучше, чтобы он распустил язык, тогда было бы ясно, что мы имеем дело с мошенником и плутом. Но он рассказывает все с простодушием, доходящим до идиотизма, а уж остальные домысливают все прочее. Сам я с ним еще не говорил. Я попросил ректора Меморабилии выслушать его историю.
— Думаю, что мне самому было бы лучше поговорить с братом Френсисом, — пробормотал Чероки.
— Так сделай это! Когда я впервые услышал твой рассказ, мне хотелось поджарить тебя живьем. За то, что ты отослал его, я имею в виду. Оставь ты его в пустыне, ему не пришлось бы распускать вокруг свои фантастические бредни. Но, с другой стороны, останься он, и мы могли бы только предполагать, что еще он бы извлек из того погреба. Так что, думаю, ты поступил правильно, вернув его.
Чероки, который принял свое решение, исходя совсем из других предпосылок, счел молчание лучшей политикой в настоящий момент.
— Повидайся с ним, — пробурчал аббат. — А затем пошли его ко мне.
Стояло сияющее яркое утро понедельника, когда примерно в девять часов брат Френсис робко постучался в дверь кельи аббата. Крепкий сон на соломенной подушке в старой знакомой келье, плюс завтрак, вкус которого он успел забыть, если и не пролились благодетельным волшебным дождем на изможденную плоть, не успокоили мозг, возбужденный непрестанной палящей жарой, но тем не менее относительная роскошь условий, в которые он попал, вернула его мышлению определенную ясность, чтобы он понимал, чего ему стоит страшиться. В сущности, он был уже настолько напуган, что первый стук его в двери аббата был почти не слышен. Сам Френсис не услышал его. Через несколько минут, набравшись смелости, он постучал снова.
— Входи, сын мой, входи же! — услышал он дружелюбный голос, который, как он не без удивления понял через несколько секунд замешательства, принадлежал его владыке.
— Поверни маленькую ручку, сын мой, — сказал тот же самый дружелюбный голос брату Френсису, который, застыв, продолжал стоять на пороге, готовый постучать еще раз.
— Д-д-да, — Френсис осторожно прикоснулся к ручке, поняв, что ему так и так придется открыть эту проклятую дверь.
— Господин мой аббат п-п-посылал за… за мной? — промямлил послушник.
Аббат Аркос облизал губы и неторопливо кивнул.
— М-да, господин твой аббат посылал… за тобой. Входи же и прикрой дверь.
Брат Френсис закрыл двери и, дрожа всем телом, оказался в середине помещения. Аббат Аркос вертел в руках гроздь сцепленных между собой штучек, которые были в старом ящике для инструментов.
— Наверное, так оно и должно быть, — сказал аббат Аркос. — Досточтимый настоятель просит оказать ему честь своим посещением. Особенно после того, как ты был отмечен Провидением и обрел такую известность, а? — и он мягко усмехнулся.
— Хе-хе, — издал осторожный смешок брат Френсис. — О, н-нет, милорд.
— Ты никому еще не рассказывал, какая удача выпала тебе прошлой ночью? Что Провидение избрало именно тебя, чтобы преподнести миру вот ЭТО, — он брезгливым жестом указал на то, что валялось на столе, — этот МУСОРНЫЙ ящик. Я не сомневаюсь, что предыдущий владелец называл его именно так.
Послушник неуверенно переступил с ноги на ногу и попытался выдавить из себя улыбку.
— Тебе семнадцать лет, но ты полный идиот, не так ли?
— Вы совершенно правы, милорд аббат.
— Чем можно извинить твое отношение к религии?
— Мне нет прощения.
— Что? Ах, вот как? Значит, ты считаешь, что недостоин служить ордену?
— О нет! — выдохнул послушник.
— Но тебе нет прощения?
— Нет мне прощения.
— Ты, юный кретин, я хочу, чтобы ты объяснил мне причину своих поступков. Если ты понимаешь, что виноват, то значит, ты готов признать, что никого не встречал в пустыне, что ты просто споткнулся об этот МУСОРНЫЙ ящик, нашел его сам по себе, и, следовательно, все, что я слышал от других, — всего лишь болезненный бред?
— О нет, Дом Аркос!
— Что значит «нет»?
— Я не могу отрицать то, что видел собственными глазами, досточтимый отец.
— Значит, ты в самом деле встретил ангела… или святого… или, может быть, он еще не был святым? — который и направил твой взор?
— Я никогда не говорил, что…
— Значит, так ты каешься за то, что нарушил обет? Значит, это… это, назовем его существом, — говорило с тобой, и ты обрел голос, и написало на камне свои инициалы, и сказало тебе, где ты должен искать, и когда заглянул туда, то нашел вот это? А?
— Да, Дом Аркос.
— Ты понимаешь, что впадаешь в грех омерзительного тщеславия?
— Мое омерзительное тщеславие недостойно вашего прощения, милорд и учитель.
— Считать себя такой величиной, которая недостойна принять прощение, — значит впадать в еще более тяжкий грех тщеславия, — прорычал властитель аббатства.
— Милорд, я не более чем червь ползающий.
— Хорошо. От тебя требуется только одно — отказаться от своих бредней о встрече с пилигримом. Никто, кроме тебя, его не видел, и ты должен понять это. Я понимаю, он постарался внушить тебе, что направляется в эту сторону, так? Он даже сказал, что собирается передохнуть в аббатстве? И он расспрашивал об аббатстве? Да?
Так куда же он исчез, если он вообще существовал? Мимо аббатства никто не проходил. Никто из братьев, бодрствовавших на сторожевой башне, не видел никого, похожего на твоего пилигрима. А? Ну теперь-то ты признаешь, что тебе все это привиделось?
— Не будь двух отметин на камне, которые он… тогда, наверно, я бы мог…
Аббат закрыл глаза и тяжело вздохнул.
— Да, отметины видны… чуть-чуть, — признал он. — Но ты мог их и сам сделать.
— Нет, милорд.
— Готов ты признать, что старик тебе привиделся?
— Нет, милорд.
— Отлично. Ты знаешь, что теперь тебя ждет?
— Да, досточтимый отец.
— Так приготовься.
Трепеща всем телом, послушник поднял рясу и склонился над лавкой. Аббат выдернул из ящика стола гибкий гикоревый прут, попробовал на ладони его упругость и нанес Френсису резкий точный удар по ягодицам.
— Deo gratias[10], — послушно отозвался брат Френсис, издав сдавленный крик.
— Готов ты отказаться от своих слов, сын мой?
— Досточтимый отец, я не могу отрицать…
— Р-Р-РАЗ!
— Deo gratias!
— Р-Р-РАЗ!
— Deo gratias!
Это простое, но выразительное моление он вознес не менее десяти раз, каждый раз благодаря небо, что таким суровым образом он получает урок добродетели. После десятого раза аббат остановился. Брат Френсис сполз с лавки и, переминаясь, поклонился. Из-под плотно сжатых век у него текли слезы.
— Дорогой мой брат Френсис, — сказал аббат Аркос, — уверен ли ты, что видел старика?
— Уверен, — всхлипнул он, сдерживаясь изо всех сил.
Аббат Аркос оценивающе посмотрел на юношу, затем обошел вокруг стола и, хмыкнув, сел. Некоторое время он молча изучал клочок пергамента с буквами.
— Как ты думаешь, кто бы это мог быть? — рассеянно пробормотал аббат Аркос.
Брат Френсис открыл глаза, застилаемые пеленой слез.
— Что ж, ты убедил меня, мальчик, и я тебе не завидую. Тем хуже для тебя.
Френсис промолчал, вознеся про себя тихую молитву, чтобы необходимость убеждать в чем-либо своего суверена возникала не так часто. Повинуясь раздраженному жесту аббата, он привел в порядок свое одеяние.
— Можешь сесть, — сказал аббат, и в его голосе появились добродушные, если не любезные нотки.
Френсис подошел к указанному ему креслу, наклонился, собираясь сесть, но, моргнув, снова приподнялся.
— Если досточтимому отцу аббату все равно…
— Хорошо, можешь стоять. Я долго не задержу тебя. Можешь возвращаться к завершению своего обета, — он помолчал, заметив, как озарилось лицо послушника. — Только не радуйся! — фыркнул он. — На то место ты не вернешься. Тебе предстоит разделить отшельничество с братом Альфредом, и не думай приближаться к развалинам. Более того, я повелеваю тебе ни с кем не беседовать на эту тему, исключая, впрочем, твоего исповедника и меня. Бог знает, сколько неприятностей ты успел уже причинить. Знаешь ли, чему ты положил начало?
Брат Френсис покачал головой.
— Вчера было воскресенье, досточтимый отец, и мне никто не говорил, что я должен молчать, так что во время отдыха я только отвечал на вопросы братьев. Я думаю…
— Ну что ж, твои братья смогут состряпать весьма остроумные объяснения твоим рассказам. Знаешь ли ты, что тебе встретился самолично святой Лейбовиц?
Мгновенная бледность залила лицо брата Френсиса, но он снова отрицательно покачал головой.
— О нет, милорд аббат. Я уверен, что этого не могло быть, благословенный мученик не сделал бы такого.
— Не сделал бы чего?
— Он не стал бы никого преследовать, не стал бы пытаться ударить его посохом с гвоздем на конце.
Стараясь скрыть непроизвольную усмешку, аббат вытер пот. Он сделал вид, что задумался.
— Об этом я и не знал. Так, значит, это он тебя преследовал, не так ли? Думаю, так оно и было. Ты и об этом рассказывал своим друзьям-послушникам? Не так ли, а? Видишь ли, они-то не могут исключить такую возможность, что ты в самом деле встретился со святым. Я сомневаюсь, что найдется так уж много людей, на которых святой не мог бы замахнуться посохом, — он остановился, не в силах удержаться от смеха, увидев выражение лица послушника. — Ладно, сынок, но все же, что ты думаешь о том, кто бы это мог быть?
— Я думаю, что то был пилигрим, направлявшийся к нашим святыням, досточтимый отец.
— Святынь у нас еще нет, и ты не должен употреблять это выражение. И во всяком случае, его не было, точнее, не существовало. Он не входил в ворота нашей обители, разве что все стражники задремали. И к тому же уснул послушник, исполнявший те же обязанности, хотя он клянется, что бодрствовал весь день. Итак, что же ты на это можешь сказать?
— Если досточтимый отец аббат простит меня… я сам был на часах несколько раз.
— И?
— Ну, когда стоит жаркий день, и все в округе недвижимо, кроме стервятников, через несколько часов ты начинаешь следить только за ними.
— Ах вот как! И это в то время, когда ты должен не спускать глаз с дороги!
— И когда ты долго смотришь в небо, на тебя находит какое-то забытье… не спишь, но что-то вроде дремоты.
— Значит, вот чем ты занимаешься, пребывая на страже, — пробурчал аббат.
— Но не всегда. Я имею в виду, досточтимый отец, что я… Брат Дже… я хотел сказать, что брат, которого я пришел сменять, однажды был в таком состоянии. Он даже не знал, что пришло время ему сменяться. Он просто сидел на верхушке башни и с открытым ртом смотрел в небо. Он был в забытье.
— И когда ты придешь в себя от этого отупения, банда язычников из Юты уже ворвется в наши ворота, убьет несколько садовников, разрушит систему орошения, вытопчет наши овощи и разрушит стены, прежде чем мы спохватимся и сможем защитить себя. И нечего так смотреть на меня… ах да, я и забыл… ведь ты же родом из Юты, не так ли? Но, говоря откровенно, я сомневаюсь, чтобы стражник мог пропустить старика — вот в чем дело. Ты уверен, что он был самым обыкновенным стариком — и не больше? Он не был осенен ангельской благодатью? Может, на нем почивала печать святости?
Взор послушника обратился было в размышлениях на потолок, но вернулся к лицезрению своего суверена.
— Разве ангелы или святые отбрасывают тень?
— Ну… я думаю, что нет. Я думаю… хотя откуда мне знать! Он что — отбрасывал тень?
— М-м-м… это была такая маленькая тень, что ее трудно было заметить.
— Что?
— Был почти полдень.
— Болван! Мне-то ты не должен рассказывать, что он собой представлял. Я прекрасно знаю, что это было, раз ты его видел, — и аббат Аркос, подчеркивая каждое слово ударами по столу, сказал: — Я хочу знать… уверен ли ты… уверен ли полностью и безоговорочно, что это был самый обыкновенный старик?!
Весь ход разговора смущал брата Френсиса. Он считал, что во всем происшедшем трудно определить четкую линию, отделяющую естественное от сверхъестественного, скорее речь могла идти о некоей промежуточной, сумеречной зоне. Были явления, которые, вне всякого сомнения, имели отношение к естественному, натуральному миру, и были вещи и явления, которые столь же безоговорочно стоило отнести к миру сверхъестественному, а между этими крайностями была зона сомнения (его собственного), в которой такие простые субстанции, как земля, воздух, вода, огонь или пламя, могли переходить в нечто странное и непонятное, смущая и колебля все вокруг. Для брата Френсиса зона эта включала все, что он мог видеть и наблюдать, но что оставалось непонятным для него. И брат Френсис никогда не мог быть уверенным «полностью и безоговорочно», чего требовал от него аббат, что он в самом деле понимает все, что происходит вокруг. И сведя свои вопросы к этому требованию, аббат Аркос, сам того не желая, заставил пилигрима, которого встретил послушник, стать принадлежностью той самой сумеречной зоны, обрести тот облик, в котором послушник впервые увидел его, — черный штришок без рук и без ног, колеблющийся в жарком зеркале миража на дороге, рука с пищей, разорвавшая покров того мира, который послушник сплел вокруг себя. Если какое-то сверхчеловеческое существо решило бы избрать человеческий облик, как он бы мог проникнуть в его замыслы или заподозрить его в чем-то? Если бы такое существо не пожелало, чтобы его заподозрили в чем-то, неужели оно не позаботилось бы, чтобы отбрасывать тень, оставлять следы, есть хлеб и сыр? Неужели оно не стало бы жевать листок пряностей, плевать в ящерицу и забыло бы изобразить столь естественный для смертного поступок, как надеть сандалии, прежде чем ступать на раскаленный песок? Френсис не был готов оценивать ум или талантливость дьявольского или божественного озарения данного существа, а также уровень его актерских способностей, хотя и понимал, что кем бы оно ни было, ум его, родившийся в небесных высотах или в глубинах ада, будет исключителен.
— Итак, сын мой?
— Милорд аббат, вы же не предполагаете, что он мог быть…
— Я спрашиваю тебя не о предположениях. Я спрашиваю тебя о том, в чем ты должен быть совершенно уверен. Был ли он или не был обыкновенным существом из плоти и крови?
Вопрос испугал брата Френсиса. То, что он яростным выкриком сорвался с губ его суверена, делал вопрос еще более пугающим, хотя он ясно осознавал, что владыка задал его лишь потому, что жаждал обыкновенного ответа. Он жаждал его изо всех сил. Но если он так жаждал его, вопрос должен был нести в себе необыкновенную важность. И если вопрос был так важен для аббата, так тем более важен для брата Френсиса, который не мог позволить себе ошибиться.
— Я… я думаю, что он был существом из плоти и крови, досточтимый отец, но не совсем «обыкновенным». В какой-то мере он был сверхобыкновенным.
— В какой мере? — резко спросил аббат Аркос.
— Например… он мог легко сплюнуть. И, я думаю, он мог читать.
Аббат закрыл глаза и в приступе крайнего раздражения потер себе виски. Насколько проще было бы прямо и откровенно сказать мальчишке, что старик был не кем иным, как старым бродягой, и затем приказать ему не думать о нем вообще. Но мальчишка увидел, как важен для него вырвавшийся вопрос. Как любой достаточно умный правитель, аббат Аркос не приказывал попусту, когда видел возможность неповиновения и отсутствие достаточной силы для приведения в повиновение. Лучше поискать другой путь, чем приказывать впустую. Он задал вопрос, на который у него самого не было ответа, поскольку не видел старика, и таким образом он потерял право вырвать ответ.
— Убирайся, — наконец сказал он, не открывая глаз.
Глава 5
Несколько озадаченный всей этой суматохой в аббатстве, брат Френсис в тот же день вернулся в пустыню, дабы завершить свой обет, хотя его стремление к одиночеству претерпело определенный урон. Он ожидал, что найденные им реликвии будут встречены с восторгом, но пристальный интерес, который все испытывали к старику-страннику, удивил его. Френсис рассказывал о нем просто потому, что тот играл определенную роль во всем, что произошло — неважно, появился ли он там случайно, или же его привела рука Провидения — и в том, как он наткнулся на хранилище и его содержимое. Насколько Френсис мог понять, пилигрим должен был быть лишь небольшой составной частью всего круга событий, в центре которых были реликвии святого. Но его друзья, такие же послушники, проявили куда больше интереса к пилигриму, чем к реликвиям, и даже аббат дал ему понять это, спрашивая не столько о ящике и его содержимом, сколько о старике. Он задавал ему сотни вопросов, на которые Френсис мог отвечать только одно: «Я не заметил», или: «Я не обратил внимания», или: «Может, он так и сказал, но я не помню», а некоторые из вопросов вообще казались ему бессмысленными. Поэтому он то и дело вопрошал себя: «Должен ли я был это заметить? Неужели я настолько глуп и не заметил, что он делал? Но разве я не прислушивался к тому, что он говорил? Неужели я не обратил внимания на что-то важное, прежде чем потерял сознание?».
Погруженный в эти размышления, он брел в темноте, пока едва не наткнулся на волков, бродивших вокруг его нового укрытия, наполняя ночь воем. Он поймал себя на том, что даже в течение дня, который должен быть отведен для молитв и духовных упражнений, не может отделаться от навязчивых мыслей, и решил, когда отец Чероки во время своего следующего воскресного объезда посетит его, покаяться в этих своих прегрешениях.
«Ты не должен позволять, чтобы романтические образы, внушенные другими, мешали тебе; хватит тебе хлопот с твоими собственными, — сказал ему священник, предварительно отчитав за пренебрежение к молитвам и упражнениям. — Задавая тебе все эти вопросы, они исходят не из того, что могло быть правдой; они вопрошают разные небылицы, думая о том, что может потрясти воображение, даже если под этим кроется чистая правда. Но это же смешно! Могу сказать тебе, что досточтимый отец аббат приказал послушникам прекратить беседы на эту тему». И, помолчав, он с сокрушением добавил: «Неужели в старике не было ничего… ничего сверхъестественного?» — и в голосе его едва проскальзывала надежда на несовершившееся чудо.
Удивление не покидало и брата Френсиса. Если даже при этой встрече и промелькнуло нечто сверхъестественное, он не заметил этого. А теперь, придавленный грузом обрушившихся на него вопросов, был не в состоянии ответить, что он вообще видел. Обилие заданных ему вопросов заставило Френсиса прийти к выводу, что его ненаблюдательность заслуживает порицания. Он испытывал благодарность к пилигриму, давшему ему возможность найти убежище. Но он рассматривал все события отнюдь не с точки зрения своих собственных интересов, в соответствии с которыми его стремление заполучить хоть толику свидетельств своей правоты должно было дать понять, что его стремление посвятить все свои дни и труды благу родной обители идет из глубин души. Возможно, все происшедшее с ним имело гораздо большее значение, чем он мог себе представить…
Что ему остается делать? О возвращении домой, в Юту, не может быть и речи. Маленьким ребенком он был продан шаману, который натаскивал его, стараясь сделать из него своего слугу и помощника. Сбежав от шамана, он отрезал себе пути к возвращению, разве что он был готов встретиться с наводящим ужас «справедливым судом» племени. Он похитил собственность шамана (которой был он сам, Френсис). Несмотря на то, что воровство считается в штате Юта профессией, достойной уважения, на пойманного преступника возлагается грех чудовищного преступления, тем более что жертва воровства — маг племени. Не мог он себе представить и возвращения к примитивной жизни среди неграмотных пастухов после обучения в аббатстве.
Что еще? Континент был почти пустынен. Он припомнил карту во всю стену, висящую в библиотеке, на которой лишь кое-где были заштрихованные районы, где была если не цивилизация, то хоть какая-то форма законности, за которой по своим правилам следили суверенные племена, населяющие эти регионы. Остальная часть континента была почти пустынна, отданная во власть людей лесов и долин, которые хотя большей частью и вышли из состояния дикости, но представляли собой простые, слабо организованные сообщества кланов, живших охотой, собиранием плодов, примитивной агрокультурой, уровень рождаемости в которых был едва достаточен, чтобы пополнять число умирающих (не считая рождающихся монстров и уродов). Основное, чем занимались жители континента (кроме нескольких прибрежных районов), были охота, возделывание земли, сражения и колдовство; для любого юноши, решившего сделать карьеру, которая даст ему максимум влияния и здоровья, колдовство и шаманство были самым многообещающим занятием.
Знания, которые Френсис получил в аббатстве, не имели никакой практической ценности в темном и грубом мире повседневности, где о грамотности практически и не слышали, а молодой человек, умеющий читать, не представлял никакого интереса для своего племени, — если только в нем не проявлялись какие-то особые таланты по обработке металла, нырянию в глубину или умению безнаказанно воровать имущество у соседнего племени. Даже в разбросанных тут и там графствах, где существовало какое-то подобие гражданского правопорядка, тот факт, что Френсис умел читать и писать, ничего не значил, если бы ему пришлось влачить существование вне стен Церкви. Правда, иной раз кичливые бароны нанимали одного-другого писца, но случаи эти были настолько редкими, что их не стоило принимать во внимание, тем более что должности эти, как правило, доставались монастырским законникам.
Единственную потребность в писцах и секретарях испытывала сама Церковь, чья тонкая иерархическая сеть была раскидана по всему континенту (порой достигая и самых отдаленных его границ, хотя епископы той стороны практически были самостоятельными правителями, чувствовавшими на себе Святой Взор Церкви лишь в теории и никогда на практике, ибо пространства редко пересекаемого океана отделяли их от Нового Рима надежнее, чем отлучение от Церкви по обвинению в ереси), и ее существование поддерживалось лишь сетью коммуникаций. Порой единственным смыслом существования Церкви, без всякого на то ее желания и намерения, становилась возможность передачи новостей через весь континент — от места к месту. Если на северо-востоке начинала свирепствовать чума, вести об этом быстро доходили до юго-запада, как и слухи и сплетни, что имели своим источником Новый Рим, рассказываемые и перерассказываемые посланцами Церкви.
Если вторжение орд кочевников угрожало с северо-востока какому-нибудь христианскому епископству, в самом скором времени со всех кафедр к югу и западу читалась энциклика, предупреждающая об угрозе и рассылающая апостольское благословение: «Доблестным людям, где бы они ни жили, способным носить оружие, готовым с благочестием в сердце двинуться в дорогу, с тем чтобы присягнуть на верность Нашему излюбленному сыну имярек, законному правителю округи и предоставить себя в его распоряжение на то время, которое он сочтет необходимым на создание войска для защиты христиан от орд язычников, чья безжалостная жестокость известна всем, и кто к Нашей величайшей печали пытает, мучает и убивает тех пастырей, которых Мы Самолично послали им со Словом, чтобы они могли кроткими агнцами войти в Наше Стадо, для паствы которой Мы на Земле являемся Пастухом. Мы никогда не теряем надежду в своих непрестанных молитвах, что этим диким детям тьмы откроется Свет и они войдут в Наше царство в мире и покое (ибо невозможно и помыслить, чтобы мирные странники покинули столь обширные и пустынные земли: о нет, те, кто придут с миром, будут встречены с благоволением, так как они пришли в объятия Зримой Церкви и ее Божественного Основателя, и, если они углубятся в суть Естественного Закона, который вписан в сердца и души всех людей, духом своим они обратятся к Христу, даже не зная доподлинного Его Имени), но пока Мы молимся о мире, углубленно размышляем о внутренней сущности Христианства и увещеваем язычников, Мы должны, опоясавшись мечами, готовиться к защите Северо-Восточных земель, где уже собираются орды язычников и вот-вот вспыхнут стычки с ними, и на каждом из вас, возлюбленные дети мои, кто может носить оружие и в состоянии добраться до Северо-Запада, лежит обязанность присоединиться к силам, собирающимся, дабы защитить свои земли, дома и свои храмы. И Мы провозглашаем и тем самым простираем над вами знак Нашего особого благоволения, Наше Апостольское Благословение».
Френсис быстро подумал, что, если ему не удастся получить посвящение в ордене, он может отправиться на северо-запад. Но хотя он был достаточно силен и ловко управлялся с мечом и копьем, все же он был невысок ростом и легок во плоти, в то время когда язычники, по рассказам, достигали девяти футов роста. Он не мог клятвенно поручиться, что эти слухи соответствуют истине, но не видел и причин, почему они должны оказаться ложными.
И если ему не удастся посвятить себя ордену, он не видел иного смысла в своей жизни — смысла, о котором стоило бы говорить — кроме как умереть в битве.
Его уверенность в правильности своего выбора не поколебалась, хотя он не мог не обратить внимания на сухость легкого поклона, дарованного ему аббатом. Мысли эти навеяли на него тоску, и он не смог побороть искушение, в силу которого отец Чероки за шесть дней до конца поста услышал от Френсиса (или, точнее, от выжженной и обугленной оболочки, в которой еле теплилась душа Френсиса) произнесенные хриплым шепотом несколько коротких слов, заключавших в себе самое лаконичное признание, которое Френсис был в силах сделать. Отец Чероки услышал: «Дайте мне благословение, отец, я съел ящерицу».
Приор Чероки, который в течение долгих лет был исповедником торопливых послушников и так же, как могильщики из преданий, считал, что все суета сует, принял это признание не моргнув глазом и осведомился с прекрасной лаконичностью: «Был ли то день воздержания и была ли она специально приготовлена?».
Одиночество во время святой недели было не так томительно, как прочие недели Великого поста, хотя особенного внимания послушникам и не уделялось, но из-за стен аббатства доносились звуки литургии Страдания Христа, которые до слез трогали бодрствующих отшельников. Дважды они были удостоены причастия, и в среду сам аббат, сопровождаемый Чероки и тринадцатью монахами, посетил их, чтобы дать свое благословение каждому из отшельников. Облачение аббата было скрыто под рясой с капюшоном, и когда он склонял колени, то производил впечатление льва, возлежащего рядом с ягненком, экономными движениями — ни одного лишнего — он омывал ноги тех, кого удостаивал своим посещением, легко целовал их в то время, пока все остальные тянули антифон.
В Святую пятницу крестный ход, воздев над собой задрапированное распятие, делал остановку у обиталища каждого отшельника, где медленно поднималось облачение изображения, дюйм за дюймом, и отшельники приникали к его изножью, пока монахи скандировали:
«Народ мой, что сделаю я для тебя? Чувствуешь ли ты скорбь мою? Все силы души моей отданы во благо твое, ты же распял меня на кресте…»
И наконец наступила Святая суббота.
Изголодавшиеся монахи с нетерпением ждали ее. Френсис стал на тридцать фунтов легче и значительно ослабел. Когда его довели до кельи, он пошатнулся и, не дойдя до лежанки, упал. Братья подняли его, умыли и побрили, умаслили его кожу — а Френсис в блаженном забытье бормотал что-то о бродяге с препоясанными чреслами, время от времени обращаясь к нему как к ангелу или святому, а временами вплетая имя Лейбовица и пытаясь извиняться.
Его собратья, которым аббат строго-настрого запретил говорить на эту тему, просто обменивались многозначительными взглядами или загадочно кивали друг другу.
Известия достигли аббата.
— Доставьте его ко мне, — пробурчал он в раструб переговорной трубки, как только ему стало известно, что Френсис уже может ходить.
— Ты подтверждаешь, что говорил это? — рявкнул аббат.
— Я не помню, чтобы я говорил, милорд аббат, — сказал послушник, не спуская глаз с жезла аббата. — Должно быть, я бредил.
— Допустим, что бредил, — а теперь ты снова будешь говорить то же самое?
— О пилигриме, который показался мне святым? О нет, магистер меус!
— Я хочу услышать, что ты отказываешься от своих слов.
— Я не думаю, что пилигрим в самом деле был святым.
— Почему бы тебе не сказать прямо: он не был!
— Ну, так как мне никогда не доводилось видеть благословенного Лейбовица своими глазами, я не могу…
— Хватит! — приказал аббат. — Более чем достаточно! И пройдет много, очень много времени, прежде чем мне захочется снова увидеть или услышать тебя! Вон! И еще одно — НЕ ПЫТАЙСЯ принести покаяние на исповеди в этом году! Отпущения грехов ты не получишь!
Френсис испытал ощущение, словно его ударили бревном в живот.
Глава 6
История с пилигримом как тема для разговоров продолжала оставаться в аббатстве под запретом, но поскольку к реликвиям и скрытым убежищам все питали неподдельный интерес, узы запрета стали постепенно слабеть у всех — кроме первооткрывателя, который продолжал оставаться под гнетом строжайшего запрета не беседовать на эту тему и желательно как можно меньше думать о ней. Тем не менее время от времени до него доходили слухи, и он знал, что в одной из мастерских аббатства монахи трудились над документами — и над теми, которые он сам нашел, и над бумагами, найденными в древнем письменном столе перед тем, как аббат приказал закрыть убежище.
Закрыть! Новость эта потрясла брата Френсиса. Убежище осталось практически нетронутым. Кроме доставшегося на его долю приключения, он даже не сделал попытки проникнуть в секреты тайного укрытия, не считая его безуспешного старания открыть стол, чем он занимался до того, как увидел ящик. Закрыто! Без малейшей попытки выяснить, что может скрываться за внутренней дверью, на которой была надпись «Люк Два», без стремления поинтересоваться, что таят в себе другие надписи, даже не прикоснувшись ни к костям, ни к камням. Закрыто! Исследования просто были грубо оборваны, даже без попытки найти какой-то предлог.
Тогда поползли слухи.
У Эмили были золотые зубы. У Эмили были золотые зубы. У Эмили были золотые зубы. В сущности, это было чистой правдой. Один из тех мелких исторических фактов, что могут пережить гораздо более важные свидетельства, о которых будут порой вспоминать, но они останутся не зафиксированными, разве что какой-нибудь монастырский историк окажется вынужденным записать: «Ни содержание Меморабилии, ни какой-либо еще не открытый археологический источник не дают нам основания с достоверностью назвать имя обитателя Белого Дворца в середине и конце шестидесятых, хотя Фр. Баркус, без достаточных на то оснований, утверждает, что его имя было…»
И тем не менее в Меморабилии ясно упоминалось, что у Эмили были золотые зубы.
Не стоит удивляться, что господин аббат дал указание тотчас же запечатать укрытие. Вспоминая, как он поднял древний череп и повернул его лицом к стене, брат Френсис внезапно стал бояться кары Небес. Эмили Лейбовиц исчезла с лица земли, едва только ее затопил Огненный Потоп, но только спустя много лет ее овдовевший муж признал, что она мертва.
И сказано было, что Бог, дабы испытать человечество, которое возвысилось в гордости, как во времена Ноя, призвал мудрецов того времени, среди которых был и блаженный Лейбовиц, создать чудовищные машины для войн, которых никогда ранее не существовало на Земле, машины такой мощи, что сравнимы они были лишь с адским пламенем, и что Бог вручил это оружие при помощи волхвов в руки принцев и сказал каждому из принцев: «Мы создали для тебя это оружие лишь потому, что у врагов имеется точно такое же — в надежде, что зная сие, они не осмелятся пустить его в ход. И помни, владыка, что ты должен испугать их так, чтобы они воистину боялись тебя и чтобы никто из них не осмелился дать волю тем страшным вещам, что мы вам вручили».
Но каждый из принцев, пропустивший слова мудрецов мимо ушей, стал думать про себя: «Если я обрушу на них это оружие мгновенно и тайно, я сумею уничтожить их во сне, и не останется никого, кто сможет нанести мне ответный удар, и вся земля достанется мне».
Такова была великая глупость принцев, и за ней последовал Огненный Потоп.
И через несколько недель — а некоторые считают, что даже дней — после того, как адское пламя вырвалось на свободу, все было кончено. Города превратились в лужи стеклообразной массы, окруженные милями и милями каменного крошева. Целые народы исчезли с лица земли, все вокруг было покрыто телами людей и скотины, а оставшиеся живые существа, включая и птиц в воздухе, и все, что летает, и все, что плавает в реках, таилось в траве или водорослях или пряталось в норах; страдая и мучаясь, они ползали по земле, и пока демоны радиоактивности поливали дождями нивы и пашни, мертвая плоть распадалась в гниении, не считая тех, кому удавалось припасть к плодородной земле. Огромные облака гнева и ярости плыли над лесами и полями, и там, где они проходили, иссыхали деревья и опадали почки. Там, где кипела жизнь, ныне простиралась великая сушь, а там, где еще обитали люди, избежавшие немедленной смерти, они болели и умирали от отравленного воздуха, и никто не мог избежать его прикосновения, и многие умерли даже в тех краях, на которые не обрушился удар страшного оружия, ибо и туда проникал отравленный воздух.
По всему миру люди скитались с места на место, и произошло великое смешение языков. Страшные проклятья были обращены и к принцам, и к их слугам, и против тех волхвов, которые создали сие оружие. Годы шли один за другим, но Земля так и не обретала свою первозданную чистоту. Об этом ясно говорилось в Меморабилии.
Путаница языков, смешение остатков многих наций и народов, царящий повсюду страх привели к рождению великой ненависти. И ненависть сказала:
«Да будет побит камнями, четвертован и сожжен каждый, кто сотворил сие. Да обрушится уничтожение на головы тех, кто повинен в сем чудовищном преступлении, и да падут их служители и их мудрецы и советники, да сгорят они в очистительном пламени и исчезнут вместе со всеми их работами, и пусть даже сотрутся и имена их, и память о них. Да уничтожим всех их и научим наших детей тому, что мир воссоздается заново, и пусть им не будет ничего известно о тех деяниях, которые прошли над землей. Да придет к нам великое очищение, и мир возродится заново».
Так оно и произошло: после Потопа, после дождей, чумы, сумасшествия, смешения языков, ярости и гнева — после всего началось кровопускание Очищения, когда остатки человечества разрывали по кускам других, кто тоже остался, убивали правителей, ученых, вождей, инженеров и всех прочих, о ком те, кто вел обезумевшие толпы, говорили, что такой-то заслужил смерть — он способствовал превращению Земли в то, чем она стала сейчас. В глазах этих толп ничто не вызывало большей ненависти, чем человек с признаками учености, сначала потому, что они служили принцам, а затем из-за того, что отказались присоединиться к вакханалии кровопускания и пытались противостоять толпам, окрестив их участников «простаками, жаждущими крови».
Толпы убийц с радостью восприняли это прозвище, с криками подняв его на щит: «Простаки! Да, да! Я простак! А ты простак? Мы возведем город, и мы назовем его Просто Город, потому что к тому времени хитрое отродье, которое все это сделало, будет мертво! Простаки! Вперед! Мы должны показать им! И кто здесь не простак? Тащите подонков, если они кроются здесь!».
Чтобы избежать ярости сброда, провозгласившего себя «простаками», те, которым еще удалось остаться в живых, скрылись под защиту тех святилищ, которые осмелились принять их. Когда они оказались под покровительством святой Церкви, та облачила их в монашеские рясы и попыталась укрыть в отдаленных монастырях и обителях, которые сохранили еще свои стены и могли быть снова возвращены к жизни, потому что толпы не обращали свою ненависть непосредственно на Церковь, не считая тех случаев, когда служители ее обретали мученический венец. Порой святилища служили укрытием, но достаточно часто гибли и они. Монастыри подвергались вторжениям: летописи и священные книги полыхали в пламени, захваченные беженцы все скопом повисали на крюках и виселицах или же сгорали в кострах. С самого своего зарождения Очищение развивалось без плана и целей и превратилось в сотрясающую дух болезнь массовых убийств и разрушений, которая должна была длиться до тех пор, пока не исчез последний след социального устройства. Сумасшествие это перекинулось и на детей, которых учили не столько забывать, сколько ненавидеть, и приливы массовой ярости толп взмывали время от времени, даже когда на свете жило четвертое поколение, появившееся после Потопа. Но теперь уже ярость была направлена не против ученых, которых просто не осталось на свете, а против грамотных и умеющих читать.
Айзек Эдвард Лейбовиц после тщетных поисков своей жены добрался до цистерианцев, в укрытии у которых он и оставался первые после Потопа годы. И прошло лет шесть, когда он решил еще раз отправиться далеко на юго-запад на поиски Эмили или ее могилы. Там он наконец безоговорочно убедился в ее гибели, потому что смерть триумфально прошла по этому краю. И там же в пустыне он принес свой тихий обет. Вернувшись к цистерианцам, он принял пострижение, вступил в их орден и еще через несколько лет стал священником. Собрав вокруг себя несколько человек, он выступил с осторожным предложением. Через несколько лет слухи об этом его замысле просочились в «Рим», который не был Римом в старом смысле слова (потому что и города такого уже не существовало), расползлись во все стороны, снова и снова возвращаясь к своему первоисточнику, — на все это потребовалось меньше двух десятилетий. Через двенадцать лет после рождения своей идеи, отец Айзек Эдвард Лейбовиц получил разрешение от Святого Престола основать новую религиозную общину и назвать ее именем Альберта Великого, наставника святого Томаса и покровителя ученых людей науки. Цели ее, которые сначала вообще не провозглашались, да и потом о них говорилось в неясных размытых выражениях, состояли в том, чтобы сохранить и сберечь человеческую историю для прапраправнуков тех простаков, которые сегодня с таким остервенением уничтожали ее. На первых порах монахи нового ордена облачались в туго подпоясанные лохмотья — своеобразную униформу толп простаков. Члены его были или «собиратели книг» или «вспоминатели» — в соответствии с задачей, которую каждый из них мог исполнять наилучшим образом. Собиратели разыскивали книги в юго-западной пустыне и хранили их в бочонках. Запоминатели укладывали в памяти целые тома истории, священных писаний, литературы и науки, на тот печальный случай, если кто-то из собирателей будет пойман и под пытками будет вынужден указать места хранения бочонков с книгами. Тем временем поиски других членов ордена увенчались успехом, и в трех днях пути от хранилища книг они нашли источник воды, где и начали возводить монастырь. Втайне был создан его проект, который должен был своим существованием спасти хоть небольшие остатки человеческой культуры от остатков человечества, которое жаждало уничтожить и их.
Лейбовиц, сам отправившийся на поиски книг, был схвачен толпой; инженер, ставший ренегатом, которого священник простил от всей души, опознал его и не только как ученого, но и как одного из тех, кто имел отношение к созданию оружия. Оборванный монах в остроконечном капюшоне, он принял мученическую кончину, сначала задушенный петлей палача — но не до смерти и, придя в себя, был зажарен живьем, что вызвало в собравшейся толпе живейшую дискуссию о наилучшем методе казни.
Запоминателей было немного, и пределы их памяти были ограничены.
Некоторые из бочонков и сундуков, хранивших в себе книги, были найдены и сожжены, так же как и собиратели их. И прежде чем безумство пошло на убыль, монастырь трижды подвергался нападению.
К тому времени, когда сумасшествие, охватившее мир, окончательно сошло на нет, из всей обширной истории человеческих знаний в распоряжении ордена оказалось несколько уцелевших бочонков оригинальных книг и жалкое собрание записанных от руки текстов, восстановленных по памяти.
И теперь, после шести столетий тьмы, монахи по-прежнему сохраняли эту Меморабилию, изучали ее, переписывая раз за разом — и терпеливо ждали. Вначале, во времена Лейбовица, существовала надежда — порой она превращалась в уверенность, — что четвертое или пятое поколение почувствует нужду в обретении потерянного наследства. Но монахи тех лет не учли способность человечества создавать новое культурное наследство всего лишь на памяти пары поколений, если старое бывало полностью разрушено, и создав его, устами пророков и законодателей, гениев или маньяков придавать ему самодовлеющую ценность, и с помощью моисеев или гитлеров, высокомерных и тиранических отцов-основателей, культурное наследие нового времени должно было распространиться от восхода до заката, что и произошло. Но эта новая «культура» явилась порождением тьмы, так как определение «простак» означало то же самое, что «гражданин» и «раб». И монахи продолжали ждать. Их совершенно не волновало, что спасенные ими знания бесполезны, что большинство из них не является знаниями в полной мере и столь же непонятны монахам самых разных степеней посвящения, как и неграмотному мальчишке-пастуху с холмов: все знания несли в себе какой-то смысл, хотя предметы, о которых они говорили, давно исчезли. К тому же знания эти представляли собой символические структуры, за переплетениями которых можно было лишь наблюдать. Исследовать путь, по которым системы знаний переплетаются друг с другом, было как минимум знанием-о-знаниях, которое было нужно в ожидании, что когда-нибудь или в какое-нибудь столетие придет Истолкователь — и разрозненные части снова соединятся одна к одной. Поэтому течение времени не имело никакого значения. Меморабилия должна была быть на месте, и они были обязаны ее охранять, а охранять ее они были должны, даже если тьма продлится над миром еще десять столетий или вообще десять тысяч лет, — они, рожденные в самой непроглядной тьме, по-прежнему будут преданными собирателями книг и вспоминателями во имя блаженного Лейбовица, и когда каждый из них уходил за пределы аббатства, то он нес с собой, подчиняясь догматам ордена, как часть своего одеяния, книгу, обычно требник на каждый день, завязанный в тугой пояс.
После того как убежище было закрыто и запечатано, все документы и реликвии из него были мягко и ненавязчиво скрыты аббатом. Закрытые в кабинете Аркоса, они стали недоступны для осмотра и изучения. Для практических целей их словно бы и не существовало. Все, что хранилось, исчезнув, в кабинете аббата, было не самой безопасной темой для разговоров. Об этом только неслышно шептались в коридорах аббатства. Но брат Френсис редко прислушивался к этим шепоткам. Наконец они прекратились, несколько оживившись лишь после того, как посланец из Нового Рима как-то вечером долго шептался о чем-то с аббатом в трапезной. Случайный обрывок их разговора донесся до соседнего стола. После отбытия посланника шорохи шли по аббатству несколько недель, а затем снова прекратились сами собой.
Брат Френсис Джерард из Юты на следующий год вернулся в пустыню, которая встретила его уже знакомым одиночеством. Когда он снова показался в аббатстве, слабый и изможденный, то предстал перед аббатом Аркосом, который потребовал сообщить, были ли у него еще встречи с посланцем Небес.
— О нет, милорд аббат. Днями я не видел ничего, кроме канюков.
— А по ночам? — с подозрением спросил Аркос.
— Только волки, — сказал Френсис, простодушно добавив: — Я так думаю.
Аркос не стал комментировать эти слова, а только нахмурился. Хмурость аббата, как Френсис имел возможность наблюдать, была неоспоримым источником молниеподобной энергии, которая с непостижимой быстротой прорезала пространство, и смысл которой, выражавшийся в отдельных отрывочных словах, понять было невозможно, разве что ее сокрушительные раскаты обычно обрушивались на новичков или послушников. Френсису пришлось на пять секунд застыть, пережидая этот взрыв, пока не настало время для очередного вопроса.
— Ну, а как теперь насчет прошлого года?
Послушник сделал паузу, перебарывая спазм в горле.
— Этот… старик?..
— Этот старик.
— Да, Дом Аркос.
Стараясь, чтобы в его голосе не прозвучало ни малейшей вопросительной интонации, Аркос загремел:
— Просто старик! И ничего больше! Теперь мы в этом уверены.
— Я тоже думал, что это был просто старик.
Отец Аркос устало потянулся за своим жезлом из гикори.
РАЗ!
— Deo gratias!
РАЗ!
— Deo…
Когда Френсис возвращался в свою келью, аббат, выглянув в коридор, крикнул ему вслед:
— Кстати, я хотел бы сказать…
— Да, досточтимый отец?
— В этом году никаких обетов, — равнодушно сказал он и исчез в кабинете.
Глава 7
Брат Френсис провел семь лет в послушничестве, семь лет в пустыне и стал весьма искусен в подражании волчьему вою. К восхищению своих собратьев, он не раз нарушал покой аббатства, изображая со стен его волчий вой. Днем он прислуживал на кухне, полировал каменные полы и продолжал изучать древности в аудиториях.
Как-то в один прекрасный день в аббатство верхом на осле прибыл посланник из семинарии Нового Рима. После долгой беседы с аббатом он изъявил желание увидеть брата Френсиса и не скрыл удивления, увидев, что тот юноша ныне превратился в мужчину, но по-прежнему носит одеяние послушника и моет пол в кухне.
— Мы уже несколько лет изучаем найденные вами документы, — сказал он послушнику. — И многие из нас уверены, что они подлинные.
Френсис опустил голову.
— Мне не позволено говорить на эту тему, отец мой, — сказал он.
— Ах вот оно что, — посланник улыбнулся и протянул ему клочок бумаги, украшенный печатью аббата, на котором рукой его владыки было написано указание «слушать и повиноваться».
— Все в порядке, — торопливо добавил он, заметив, в каком напряжении находится послушник. — Я говорю с тобой неофициально. Некто еще из состава суда позже выслушает твое заявление. Знаешь ли ты или нет, что твои бумаги находятся уже в Новом Риме? Кое-что из них я привез обратно.
Брат Френсис покачал головой. Возможно, он знал меньше, чем кто-либо другой, но всегда был уверен, что его находка вызовет реакцию на самом высоком уровне. Он отметил, что на посланнике была черная ряса ордена доминиканцев, и почувствовал странное смущение, представив «суд», о котором говорил Черный Фриар. Он представлял собой инквизицию, которая выжигала ересь на Тихоокеанском берегу региона, но он не мог себе представить, что этот суд может заинтересоваться реликвиями блаженного. «Это Великий Инквизитор» — сказано в послании. Может, аббат имел в виду «Исследователь». Похоже, что доминиканец обладает мягким юмором, и вроде бы у него нет с собой приспособлений для пыток.
— Мы надеемся, что скоро вновь вернемся к вопросу о канонизации вашего основателя, — объяснил посланец. — Ваш аббат Аркос очень умный и предусмотрительный человек, — он хмыкнул, — поскольку передал реликвию другому ордену для изучения и запечатал убежище в ожидании его тщательного исследования… Словом, ты все понимаешь, не так ли?
— Нет, отец мой. Я предположил, что он посчитал всю эту историю слишком незначительной, чтобы тратить на нее время.
Чернорясый монах рассмеялся.
— Незначительной? Я так не думаю. Но если ваш орден представит свидетельства, реликвии, чудеса и все такое прочее, высокий суд должен будет удостовериться в их источнике. Каждая обитель стремится, чтобы ее основатель был канонизирован. И поэтому ваш аббат с присущей ему мудростью приказал: «Руки прочь от убежища». Я уверен, что все вы были растеряны, но — для вашего же блага и для блага вашего основателя — лучше, чтобы убежище было исследовано в присутствии и других свидетелей.
— Вы собираетесь вскрывать его? — взволнованно спросил Френсис.
— Не я. Но когда высокий суд будет готов, он пришлет наблюдателей. Все, что будет найдено в убежище, должно пребывать в полной нетронутости на тот случай, если другая сторона выразит сомнение в подлинности находок. Конечно, делу крепко повредит, если появятся сомнения в том, что… ну, словом, те вещи, что вы нашли…
— Могу ли я осведомиться, в чем тут дело, отец мой?
— Ну, одним из препятствий, мешающих приобщению блаженного Лейбовица к лику святых, является ранний период его жизни — до того, как он стал монахом и священником. Адвокаты противной стороны пытаются посеять сомнения относительно раннего периода его жизни, до Потопа. Они утверждают, что Лейбовиц никогда по-настоящему не занимался тщательными розысками своих близких — и что его жена была еще жива в момент пострижения. Конечно, это не так уж и важно, порой самые строгие правила позволяют исключения, но и об этом может зайти речь. «Адвокат дьявола» пытался высказать сомнения относительно личности вашего основателя, утверждая, что он создал святой орден и дал обет, не будучи в полной уверенности, что на нем более не лежит ответственность за семью. Возражения не возымели действия, но они могут возникнуть снова. И если те останки, что вы нашли, в самом деле… — он пожал плечами и улыбнулся.
Френсис кивнул.
— Они помогут уточнить дату ее смерти.
— Едва только начались военные действия, как все сразу было кончено. Что же касается моего мнения… ну, относительно той надписи от руки на крышке ящика, то это или в самом деле почерк блаженного, или очень ловкая подделка.
Френсис покраснел.
— О, я не предполагаю, что ты имеешь отношение к подделке, — торопливо добавил доминиканец, заметив краску на лице Френсиса. — Расскажи мне, как все это произошло, как ты нашел это место, я имею в виду. Я хочу знать все, с начала до конца.
— Началось это из-за волков…
Доминиканец принялся делать заметки.
Через несколько дней после того, как посланец покинул монастырь, аббат Аркос послал за Френсисом.
— Ты по-прежнему уверен, что нашел свое призвание именно у нас? — вежливо спросил Аркос.
— Если милорд аббат простит мое невыносимое тщеславие…
— Забудем на минуту о твоем тщеславии. Так да или нет?
— Да, магистер меус.
Аббат кивнул.
— Итак, сын мой. Я вижу, что ты в самом деле убежден в этом. Если ты готов всего себя посвятить нашему делу, то я думаю, что настало время для тебя принести торжественный обет, — замолчав, он уставился в лицо послушника и был разочарован, заметив, что тот продолжал сохранять бесстрастие. — В чем дело? Ты не рад слышать это? Ты не… Что тебя смущает?
Лицо Френсиса продолжало хранить маску вежливого внимания, но постепенно бледнело. Его колени внезапно подогнулись.
Френсис потерял сознание.
Двумя неделями позже послушник Френсис, поставивший рекорд выносливости после жизни в пустыне, расстался со своим званием послушника и, дав обет постоянной бедности, чистоты, послушания, а также специальный обет ордена, получил благословение и пояс аббатства, навечно став профессиональным монахом альбертианского ордена Лейбовица, прикованный цепями своих клятв к подножию Креста и законам ордена. Трижды его вопрошали: «Если Бог призовет тебя в ряды своих Собирателей Книг, согласен ли ты принять смерть, не предав своих собратьев?». И трижды Френсис отвечал: «Да, Господи».
«Тогда поднимись, брат собиратель книг и брат вспоминатель, и прими поцелуй братства».
Брат Френсис покинул кухню, получив не столь черную работу. Он стал подмастерьем копииста у древнего монаха по имени Хорнер и теперь имел все основания считать, что, если дела пойдут хорошо, всю жизнь он проведет в этом помещении, где дни его будут посвящены переписыванию от руки алгебраических текстов и украшению страниц рукописей оливковыми листьями и веселыми херувимами, порхающими по полям таблиц логарифмов.
Брат Хорнер был мягким и добрым стариком, и с первых же дней брат Френсис преисполнился к нему любви.
— Большинство лучше всего работают с определенными копиями, — сказал Хорнер, — если есть свои пристрастия. Большинство копиистов начинают интересоваться теми или иными работами из Меморабилии и с удовольствием уделяют им и дополнительное время. Вот, например, взять брата Сарла, — он с трудом справлялся с работой и делал много ошибок. Мы дали ему возможность час в день заниматься тем проектом, к которому у него лежало сердце. Когда основная работа начинала становиться такой утомительной, что вызывала ошибки, он откладывал ее в сторону и принимался за свою собственную. Я всем разрешаю делать то же самое. Если ты кончишь назначенную тебе работу до конца дня и у тебя не будет чем заняться по собственному выбору, ты должен проводить время в наших теплицах.
— Теплицах?
— Да, и я не имею в виду выращивание растений. Там мы собираем книги для самой разной церковной братии — служебники, Священные Писания, требники и все такое. Многие из них мы рассылаем. И пока у тебя не будет собственных занятий, мы будем направлять тебя заниматься ими, если ты будешь кончать пораньше. И у тебя хватит времени сделать выбор.
— А чем занимался брат Сарл?
Старый монах задумался.
— Сомневаюсь, что ты сможешь понять это. Я не смог. Похоже, что он нашел способ восстанавливать пропущенные слова и фразы в некоторых старых отрывках оригинальных текстов Меморабилии. Порой левая сторона наполовину сгоревшей книги была различима, а правая уничтожена огнем, и от каждой строчки оставалось лишь несколько слов. Он разработал какой-то математический метод поиска недостающего текста. Бывали и у него ошибки, но в определенной степени метод срабатывал. С тех пор как он начал свои попытки, ему удалось восстановить целых четыре страницы.
Френсис бросил взгляд на восьмидесятилетнего и почти слепого брата Сарла.
— И сколько это отняло у него времени? — спросил он.
— Примерно сорок лет, — сказал брат Хорнер. — Конечно, он проводил за своими занятиями только пять часов в неделю, и они требовали хорошего знания математики.
Френсис задумчиво кивнул.
— Если за десять лет удалось восстановить одну страницу, может быть, через несколько столетий…
— Даже меньше, — каркнул брат Сарл, не отрываясь от работы. — По мере того как заполняются строчки, дело идет быстрее. Следующую страницу я заполню через пару лет. А затем, с Божьего соизволения, может быть… — его голос перешел в невнятное бормотание. Френсис заметил, что во время работы брат Сарл говорит сам с собой.
— Располагайся, — сказал брат Хорнер. — Нам всегда нужна помощь в теплицах, но когда тебе захочется, ты можешь сам подобрать себе дело по душе.
Идея, пришедшая к брату Френсису, явилась неожиданной вспышкой.
— А мог бы я использовать время, — выпалил он, — чтобы делать копии с тех чертежей Лейбовица, которые я нашел?
Брат Хорнер не мог скрыть своего сомнения.
— Ну… я не знаю, сын мой. Наш владыка, аббат Аркос, он… э-э-э… он очень чувствительно относится к этой теме. Да этих бумаг может и не быть в Меморабилии. Они в какой-то особой папке.
— Но вы же знаете, брат, что они выцветают. Их вытащили на свет. И доминиканцы так долго держали их в Новом Риме…
— Видишь ли… ну, надеюсь, что ты быстро справишься с этим. И если отец Аркос не будет протестовать… — он с сомнением покачал головой.
— Возможно, я мог бы заняться этим, как своей работой, — торопливо предложил Френсис. — Ведь у нас есть несколько нескопированных чертежей, которые стали такими хрупкими, что рассыпаются. И если я сделаю несколько копий — и тех, и других…
Хорнер застенчиво улыбнулся.
— Ты предлагаешь это лишь для того, чтобы никто не узнал, что ты включил в свою работу и чертежи Лейбовица.
Френсис покраснел.
— И отец Аркос не должен ничего заметить, а? Если он будет навещать нас, не так ли?
Френсис смущенно поежился.
— Хорошо, — сказал Хорнер, слегка прищурившись. — Свое свободное время ты можешь использовать, делая копии любого текста, который существует в единственном числе и находится в плохом состоянии. Если в эту историю окажется замешанным еще кто-то, я постараюсь не заметить…
Брат Френсис провел несколько месяцев, используя остающееся у него время для копирования некоторых старых работ из Меморабилии, прежде чем прикоснулся к бумагам Лейбовица. Если старые рисунки вообще сохранялись, их надо перекопировывать каждые сто или, во всяком случае, двести лет. Выцветали не только оригиналы, но со временем становились почти неразличимыми и новые копии из-за нестойкости чернил. Он не имел ни малейшего представления, почему древние употребляли белые линии на черном фоне, хотя наоборот было бы куда лучше. Когда он набрасывал углем очертания рисунка, сменив и фон на противоположный, даже приблизительный абрис становился куда более реалистичным, чем белое на черном, а ведь древние были несравнимо умнее Френсиса, и если уж они давали себе труд пускать в дело другие чернила, хотя, конечно, белой бумаги у них было вдоволь, у них были на то свои причины. Френсис старался копировать документы предельно близко к оригиналу — хотя выведение тонкой синеватой оболочки вокруг маленьких белых букв было достаточно утомительно и нудно, и на это уходили лишние чернила, из-за чего брат Хорнер порой ворчал.
Он тщательно перерисовал серию старых архитектурных эстампов, а затем чертеж машины, очертания которой были достаточно странны и о назначении которой он даже и не догадывался. Как таинственную абстрактную мандалу, он перенес надпись «СТАТОР НДГ МОД 73-А ПХ 6-П 1800 РПМ 5-ХП ЦЛ-А БЕЛИЧЬЯ ПЕЩЕРА», оставшуюся для него совершенно непонятной, хотя он догадывался, что она не служила местом заключения для белок. Древние часто пускались на хитрости, но как бы там ни было, он старательно копировал каждую черточку в надписи.
Только после того как аббат, который порой проходил через скрипторий, не менее трех раз мог убедиться, как он корпит над синьками (и дважды аббат Аркос остановился, чтобы бросить быстрый взгляд на Френсиса), он набрался смелости обратиться в Меморабилию за чертежами Лейбовица.
Оригиналы документов уже вернулись после реставрации. Не считая того факта, что они были связаны с именем блаженного, к своему разочарованию он увидел, что они ничем не отличались от всех прочих, которые прошли через его руки.
Оттиски Лейбовица представляли еще одну абстракцию, не говорившую ровно ни о чем. Он изучал их до тех пор, пока перед его закрытыми глазами не вставала вся их восхитительная запутанность. Но по сравнению с тем, что он знал раньше, Френсис не уяснил себе ничего нового. Чертежи представляли собой сеть линий, испятнанных отпечатками грязных пальцев, приклеившихся резинок и жевательного табака. Линии были в большинстве своем вертикальные или горизонтальные, и в местах их пересечения были точки или проколы: они пересекались под правильными углами и нигде не обрывались. Все это было настолько бессмысленно, что если долго смотреть на них, они производили отупляющий эффект. Тем не менее он стал работать, перенося на новый лист каждую деталь и не забыв даже о размытом коричневом пятне, которое, как он подумал, могло быть кровью святого мученика, отбросив предположение брата Джериса, что это всего лишь след от огрызка сгнившего яблока.
Брату Джерису, который пришел в скрипторий с Френсисом, казалось, нравилось поддразнивать его по поводу того, чем он занимался.
— Молю тебя, — говорил он, склонившись над плечом Френсиса. — Скажи, какой смысл в словах «Транзисторная система контроля за группой Шесть-Б», многоученый мой брат?
— Совершенно ясно, что это название документа, — несколько смущаясь, сказал Френсис.
— Понятно. Но что он означает?
— Это название диаграммы, которая лежит перед твоими глазами, брат Простак. А что значит имя Джерис?
— Уверен, что ничего особенного, — с насмешливым самоуничижением сказал брат Джерис. — Уж прости мою тупость. Ты очень удачно определяешь название, указывая на животное, названное этим именем, и считаешь, что в нем и выражена его сущность. Но сейчас это явление, эта диаграмма сама по себе что-то выражает, не так ли? Но что она выражает?
— Транзисторную систему контроля за группой Шесть-Б, скорее всего.
Джерис расхохотался.
— До чего ясно! Ну, ты красноречив! Некое явление выражено именем, и это имя выражает явление. Величина может быть выражена через такую же величину, или «порядок величин может быть обратим», но, может, стоит перейти к другим аксиомам? Если утверждение, что «величины, равные одной и той же величине, могут быть выражены одна через другую», справедливо, то нет ли здесь «некоей величины», которая может быть выражена и самой диаграммой и ее названием? Или это замкнутая система?
Френсис покраснел.
— Я думаю, — помолчав, чтобы справиться со смущением, медленно сказал он, — что данная диаграмма выражает скорее некую абстрактную концепцию, чем конкретную величину. Может, древние обладали разработанным методом для графического выражения чистой мысли. Во всяком случае, ясно, что тут не изображен объект, доступный для опознания.
— Да, да, он в самом деле нераспознаваем, — хмыкнув, согласился брат Джерис.
— С другой стороны, чертеж должен изображать какой-то объект, но так как он полностью формализован, то нужна специальная подготовка или же…
— Специальный угол зрения?
— Мое мнение таково, что он представляет собой чистую абстракцию, заключающую в себе, скорее всего, бесценное выражение мыслей блаженного Лейбовица.
— Браво! Итак, о чем же он думал?
— Ну… о «цикличности операций», — сказал Френсис, пустив в ход термин, замеченный им в ряду букв справа внизу.
— Хм-м-м, к какой дисциплине относится это искусство, брат? Каковы его составляющие, особенности, в чем отличие от других?
«Сарказм Джериса становится надоедливым», — подумал Френсис и решил парировать его мягкостью ответа.
— Посмотри на эту колонку цифр и на их заголовок: «Перечисление деталей электронного оборудования». И здесь что-то было, искусство или наука, именуемая Электроника, которая могла иметь отношение и к Науке, и к Искусству.
— Ага! Так что же это такое было — Электроника?
— Об этом тоже было написано, — ответил Френсис, который облазил Меморабилию сверху донизу в надежде найти ключ, при помощи которого суть чертежей станет ему яснее. — Предмет изучения Электроники — суть электрон, — объяснил он.
— Значит, так и написано? Просто поразительно. Я так мало знаю об этих штуках. А что же такое, брат, суть «электрон»?
— Ну, у нас имеется обрывок одного источника, который дает понять, что это «Вход в Ничто».
— Что? Как они могут говорить о «Ничто»? Разве это не «Нечто»?
— Но, может быть, это относится к…
— А! Теперь ты совсем запутался! Ты выяснил, что такое Ничто?
— Еще нет, — признался Френсис.
— На этом и стой, брат! До чего они были умные, эти древние, они знали, как иметь дело с тем, что называется Ничто. Стой на этом, и тебе тоже станет это ясно. Значит, «электрон» где-то внутри. И что нам с ними делать? Положить на алтарь в часовне?
— Ладно, — вздохнул Френсис. — Я не знаю. Но я глубоко верю, что в свое время «электрон» существовал, хотя я не имею представления, как он был устроен и для чего он был нужен.
— До чего трогательно! — хмыкнул иконоборец, возвращаясь к своей работе.
Периодические нападки брата Джериса огорчали Френсиса, но не мешали ему с той же преданностью относиться к своему делу.
Точное воспроизведение каждой черточки, пятна или подтека было невозможным, но аккуратность Френсиса делала его копию практически не отличимой от оригинала; с расстояния уже в два шага и более ее смело можно было демонстрировать в этом качестве, так что оригиналы могли быть спрятаны под замок и опечатаны. Закончив факсимильное воспроизведение, брат Френсис ощутил разочарование. Рисунок был слишком аккуратен. В нем не было ничего, что при первом же взгляде должно было наводить на мысль, что это святая реликвия. Стиль его исполнения был сжатый и сдержанный — может быть, он вполне устраивал самого блаженного, и все же…
Копии реликвии было недостаточно. Святые были скромными людьми, которые прославляли не себя, а Бога, и остальным лишь оставалось передавать их внутреннее сияние при помощи внешних, видимых средств. Даже самой точной копии было мало: ее холодная точность не поражала воображение, а ее внешний вид не имел ничего общего со святым вдохновением блаженного.
«Да восславим», — думал Френсис, работая. Он переписывал страницы псалмов, готовя их к переплету. Он остановился, чтобы найти место в тексте, с которым работал, и понять значение слов — после долгих часов копирования он терял их смысл и просто позволял руке выводить буквы, по которым скользили глаза. Он отметил, что переписывает молитвы Давида о прощении из четвертого псалма «…ибо я знаю свои прегрешения, и грех мой по-прежнему лежит на мне». То была молитва униженного и раздавленного, но стиль, в котором была разрисована страница перед его глазами, отнюдь не напоминал о скромности и униженности. Заглавная «М» была вся инкрустирована золотыми листьями. Арабески сплетенных фиолетовых и золотых нитей заполняли поля страниц, окружая прихотливыми блистательными клубками величественные заглавные буквы в начале каждого абзаца. Брат Френсис копировал лишь основной массив текста, перенося его на новый пергамент, и оставлял место для будущих заглавных букв и широкие поля. Другие мастера заполнят буйством цвета скромные строчки, написанные его рукой, и создадут красочное зрелище. Его учили, как украшать тексты, но он не был настолько искушен, чтобы взять на себя эту работу.
«Да восславится», — он непрестанно думал о тех синьках.
Никому не говоря о пришедшей к нему идее, брат Френсис начал кое-что придумывать. Он раздобыл отличную шкуру ягненка и несколько недель убивал все свободное время, растягивая ее, выглаживая каменными ступами до полного совершенства, пока она не приобрела снежно-белый оттенок, после чего он аккуратно сложил ее и спрятал. В течение нескольких последующих месяцев он использовал каждую минуту, чтобы заглянуть в Меморабилию, снова и снова разыскивая ключ к разгадке тайны чертежей Лейбовица. Ничего, похожего на ключ, найти не удалось, и он по-прежнему не мог понять их значения, но после долгих поисков наткнулся на остаток книги, обрывки которой имели отношение к таким же синькам, намекая на них. Похоже, что это была часть энциклопедии. Информация была краткой, а ряд статей исчез, но несколько раз прочитав оставшиеся, он начал подозревать, что и он, и много копиистов до него лишь впустую тратили и время, и чернила. Эффект, который производило белое на черном, был результатом простейшего процесса копирования. Оригинальные чертежи, с которых производилось копирование, представляли собой черные линии на белом фоне. Он с трудом подавил внезапное желание удариться головой о каменную стену. И затраченные чернила и труд по тщательному копированию — все впустую! Впрочем, брату Хорнеру говорить об этом не стоит. Сердце у него слабое, и поберечь его будет благим делом.
Понимание, что цвет синек не является обязательным для оригиналов древних чертежей, дало толчок к разработке его плана. Копируя святую работу Лейбовица, надо убирать все случайное. Если он сменит цвета, никто не узнает с первого взгляда первоначальный рисунок. К тому, что ему непонятно, он и не притронется, но все, в чем он разобрался, придется менять; так, наборы букв в рамках он симметрично разместит вокруг диаграмм на свитках и щитах. Смысл диаграмм по-прежнему оставался туманным, и он не решился менять их размер и расположение, но так как цвет чертежей уже стал неважным, они должны будут получиться просто великолепно. Он решил некоторые части чертежа изобразить в золоте, но чрезмерное обилие золота может быть воспринято как тщеславие. Асимметрия рисунка должна оставаться нетронутой, и он не думал, что его смысл будет искажен, если он пустит по нему вьющиеся виноградные лозы, полные гроздья на которых несколько скроют асимметрию или же придадут ей более естественный характер. После того как брат Хорнер украсит заглавное «М» листьями, ягодами и ветками и даже, может быть, обовьет его змеей с высунутым жалом, оно будет оставаться той же буквой «М». И брат Френсис не видел оснований, почему он не может подобным же образом обойтись с чертежом.
А в целом, используя завитки на краях, он может изобразить чертеж на большом щите, что будет, конечно, смотреться лучше, чем сухие линии на полях, отграничивающие рисунок от остального поля. Он сделал не меньше дюжины предварительных набросков. На самом верху пергамента он даст изображение Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, а в самом низу — рясу альбертианского ордена, как раз под образом блаженного.
Но, насколько Френсису было известно, подлинного изображения блаженного не существовало. Было несколько предполагаемых портретов, но среди них не было ни одного, который бы точно относился ко времени Очищения. Трудно было представить себе, как он выглядел, хотя предания говорили, что Лейбовиц был скорее высок и сутуловат. Но, может, после того, как откроют убежище…
Как-то в полдень размышления брата Френсиса над набросками были прерваны внезапным ощущением тревоги, что за его спиной кто-то стоит, и на его рабочий стол легла чья-то тень, которая принадлежала…
— НЕТ! ПОЖАЛУЙСТА! СВЯТОЙ ЛЕЙБОВИЦ, СНИЗОЙДИ КО МНЕ! ПОЩАДИ, ВЛАДЫКА!
— Итак, чем мы тут занимаемся? — пробурчал аббат, разглядывая его работу.
— Черчением, милорд аббат.
— Это я вижу. Но чего именно?
— Синьки Лейбовица.
— То, что ты нашел? Но это нечто совсем иное. Почему ты изменил их?
— Это должна быть…
— Громче!
— …раскрашенная копия, — с трудом выдавил из себя брат Френсис.
— Ах, вот как.
Аббат Аркос пожал плечами и удалился.
Через несколько минут брат Хорнер приковылял в скрипторий и удивился, увидев, что Френсис потерял сознание.
Глава 8
К изумлению брата Френсиса, аббат Аркос никак не отреагировал на его интерес к этим реликвиям. С тех пор как доминиканцы согласились заняться сутью дела, аббат как-то расслабился, и так как вопрос о канонизации снова обрел движение в Новом Риме, порой казалось, что он забыл о тех необычных обстоятельствах, которыми сопровождалось бдение в пустыне послушника Френсиса Джерарда, некогда жителя Юты, а ныне обитателя скриптория. Со времени этой истории миновало одиннадцать лет. Слухи, которые ходили среди послушников относительно личности пилигрима, давно стихли. Послушник времен брата Френсиса был совершенно не тот, что сегодня, ибо те, кто приходили в монастырь, и не слышали об этой истории.
Она обошлась брату Френсису в семь лет обета, проведенных среди волков, и до сих пор он не мог поверить, что все в порядке. Когда эти годы всплывали в памяти, ему снились ночи среди волков и лицо аббата Аркоса; Аркос кидал волкам куски мяса, и Френсис знал, что корм этот — он сам, его плоть.
Тем не менее монаху стало ясно, что он может продолжать работу над своим проектом без помех, если не считать брата Джериса, который продолжал его поддразнивать. Френсис принялся за украшение овечьей шкуры. Сложности украшения полей завитками, исключительная тонкость работы с золотом, несмотря на скоротечность, с которой он пришел к своему замыслу, должны были растянуть работу на многие годы; в темном море столетий ничто не имело значения, а жизнь человеческая была лишь легким дымком, исчезающим с первым дуновением ветра. В унылом рутинном порядке дни шли за днями и весны сменялись веснами, затем приходили боли и страдания, завершающиеся «последним прости», которому предшествовала темнота конца — или, скорее, начала. Ибо тогда маленькая дрожащая душа, которая вынесла скуку этих томительных времен, неважно, достойно или нет, обретала себя в мире света, растворяясь в жарком пламени всепонимающих глаз, когда представала перед Всевышним. И тогда Господь говорил: «Иди», или же Господь изрекал: «Уходи», и лишь для этого мгновения имела смысл томительная череда дней.
Брат Сарл, кончив пятую страницу восстановленных математических расчетов, рухнул на свою кафедру и через несколько часов скончался. Ничто не имело значения. Его заметки остались нетронутыми. Через столетие-другое кто-то, возможно, наткнется на них, сочтет интересными и, не исключено, возможно, продолжит его работу. А тем временем братья молились за душу Сарла.
Рядом существовал и брат Финго с его резьбой по дереву. Год или два назад он вернулся в свою плотницкую и получил разрешение время от времени резать и полировать свою полуоконченную скульптуру мученика. Как и Френсису, ему удавалось уделять не больше часа в день, чтобы заниматься излюбленным ремеслом, и работа над резным изображением шла так медленно, что была незаметна даже для тех, кто видел ее лишь раз в несколько месяцев. Френсис же, хоть и часто наблюдал за работой мастера, видел, как он продвигается вперед. Френсис был очарован неиссякаемым радушием Финго, даже понимая, что Финго старается вести себя подобным образом, дабы как-то возместить свое уродство, и был рад проводить несколько свободных минут, если они ему выпадали, наблюдая, как работает Финго.
Плотницкая была полна запахов сосны, кедра, свежих стружек и пота. Найти работы из дерева в аббатстве было не так просто. Кроме фигового дерева и нескольких тутовников, растущих в непосредственной близости от источника, местность вокруг была безлесной. В трех днях пути верхом лежала небольшая рощица, оставшаяся от чащи, и в поисках леса монахи нередко уходили из аббатства на неделю и больше, после чего возвращались с мулами, нагруженными вязанками дерева, из которого делали втулки и затычки, посохи и ступеньки, а порой и стулья. Иногда им удавалось притащить одно-другое бревно, когда нужно было менять подгнившие стропила. При таком недостатке дерева плотник волей-неволей был и резчиком по дереву, и скульптором.
Порой, пока Финго возился с деревянной скульптурой, Френсис сидел на скамеечке в углу мастерской и рисовал, пытаясь запечатлеть на бумаге детали резьбы, которые пока лишь смутно проглядывали в абрисе фигуры. В ней уже проступали неясные очертания лица, но оно было скрыто под щепками и следами резца. В своих рисунках Френсис старался предугадать те черты, которые должны проступить из дерева. Финго посматривал на рисунки и посмеивался. Но работа у него шла. Френсиса не покидало ощущение, что лицо, проступающее из дерева, улыбается усмешкой, которая ему уже знакома. Он набросал ее, и ощущение, что он уже видел это выражение, усилилось. Тем не менее он не мог ни изобразить это лицо, ни назвать имя застенчиво улыбающегося человека.
— В самом деле, неплохо. Совсем неплохо, — оценил Финго его набросок.
Копиист пожал плечами.
— Я не могу отделаться от ощущения, что я его раньше видел.
— Только не здесь, брат. И не при мне.
Френсис заболел, и прошло несколько месяцев, прежде чем он снова посетил мастерскую плотника.
— Лицо я почти закончил, Френсиско, — сказал резчик. Как он теперь тебе нравится?
— Я знаю его! — выдохнул Френсис, увидев глаза в сети морщинок, в которых смешалось странное — и веселое и печальное — выражение, а в углах рта таилась застенчивая улыбка; лицо это было знакомо ему.
— Знаешь? И кто же это? — удивился Финго.
— Это… ну, я не совсем уверен. Я предполагаю, что знаю его. Но…
Финго рассмеялся.
— Ты просто узнаешь свои собственные рисунки, — предложил он объяснение.
Уверенности в этом у Френсиса не было. Но вспомнить, где же он видел это лицо, Френсис так и не мог.
«Хм-м-хм-м», — казалось, говорила ему эта застенчивая улыбка.
Аббата она раздражала. Когда он счел, что работа закончена, то объявил, что никогда не позволит, чтобы она была использована для той цели, для которой предназначалась с самого начала — как образ, который будет стоять в церкви, если канонизация блаженного будет подтверждена. Несколько лет спустя, когда фигура была окончательно завершена, Аркос потребовал поставить ее в коридоре дома для гостей, но позже приказал перенести к себе в кабинет, после того как она испугала гостя из Нового Рима.
Медленно и тщательно брат Френсис превращал овечью шкуру в сияние поразительной красоты. Слух о его работе разнесся по скрипторию, монахи часто собирались вокруг его стола и, глядя на его труд, бормотали в почтительном восхищении.
— На него снизошло вдохновение свыше, — шептал кое-кто, — и вот тому доказательство. Должно быть, сам блаженный встретился ему…
— Не могу понять, почему бы тебе не использовать свое время для более полезных вещей, — хмыкал брат Джерис, сарказм которого поутих после того, как год за годом он сталкивался с терпеливыми ответами брата Френсиса. Скептик использовал свое свободное время, сшивая и украшая абажуры на лампы в церкви, чем привлек внимание аббата, который повысил его в должности, сделав старшим. Не за горами было и дальнейшее возвышение брата Джериса.
Брат Хорнер, дряхлый мастер-копиист, болел. Через несколько недель стало ясно, что возлюбленный брат в монашестве не встанет со смертного ложа. Похоронная месса прозвучала в первые дни Пасхи. Святые останки старого мастера были преданы земле. Пока братство изливало свою печаль в молитвах, Аркос тихой сапой назначил брата Джериса старшим в скриптории.
На следующий день после своего назначения брат Джерис оповестил брата Френсиса — он пришел к выводу, что ему пора бросать свои детские забавы и заниматься делом, подобающим взрослому человеку. Монах послушно свернул свою драгоценную работу, спрятал ее далеко на полку дубового шкафа и в свободное время стал делать абажуры. Он не высказал ни одного слова протеста, но успокаивал себя пониманием того, что в свое время душа дорогого брата Джериса пойдет вслед душе брата Хорнера по той дороге, на которой наше пребывание на грешной земле — лишь краткая остановка, может, это произойдет еще в его молодые годы, и тогда, с Божьего соизволения, Френсис продолжит свою работу.
Провидение, впрочем, проявило себя значительно раньше, без того чтобы призывать брата Джериса к Создателю. В то лето, последовавшее за возвышением брата Джериса, в аббатство из Нового Рима явилась апостолическая процессия с караваном мулов, на которых восседала целая свита клириков, а глава ее представился монсиньором Мальфредо Агуэррой, истолкователем для процедуры канонизации святого Лейбовица. Вместе с ним было несколько доминиканцев. Он явился, чтобы присутствовать при вскрытии убежища и исследования его «Изолированной Среды Обитания». Кроме того, он должен был исследовать доказательства, которые могли появиться в аббатстве, включая — и аббат не мог скрыть своего разочарования — сообщение о появлении блаженного, который, по рассказам путешественников, в свое время явился Френсису Джерарду из Юты.
Монахи тепло встретили адвоката святого; они собрались в помещении, отведенном для приема прелата, которого с любовью и тщанием обслуживали шесть молодых послушников, получивших указание незамедлительно реагировать на каждый каприз гостя, хотя, как выяснилось, монсиньор Агуэрра, к разочарованию поставщиков, почти не выражал никаких желаний. Для него были открыты лучшие вина; Агуэрра вежливо пригубил их, но предпочел молоко. Брат-охотник поймал для пиршественного стола в честь гостя толстую перепелку и фазана, но после разговора о том, как питается фазан («Он клюет зерна, брат?» — «Нет, он пожирает змей, монсиньор»), монсиньор Агуэрра предпочел отпробовать монашескую кашу в общей трапезной. Но поинтересуйся он, какого происхождения были куски мяса, которые встретились ему в пище, он, может быть, предпочел бы натурального фазана. Мальфредо Агуэрра настаивал, чтобы жизнь в аббатстве и в его присутствии шла как обычно. Тем не менее каждый вечер адвоката святого развлекали скрипач и группа клоунов, так что он начинал верить, что «обычная жизнь» в аббатстве должна быть исключительно оживленной, насколько это позволяет бытие монашеской общины. На третий день пребывания Агуэрры аббат пригласил Френсиса. Отношения между монахом и его владыкой были далеки от подлинной близости, но тем не менее носили формально дружелюбный характер с тех пор, как аббат разрешил послушнику принять обет, и ныне брат Френсис больше не содрогался от страха, постучав в двери кабинета и спросив:
— Вы посылали за мной, досточтимый отец?
— Да, посылал, — сказал Аркос и спокойно осведомился: — Скажи мне, думал ли ты о смерти?
— Часто, милорд аббат.
— И ты молился святому Иосифу, чтобы смерть не причинила тебе излишних мучений?
— М-м-м… каждый раз, досточтимый отец.
— Значит, ты не хочешь, чтобы тебе внезапно проломили голову? Чтобы твои кишки натянули струнами скрипки? Чтобы тебя скормили гиенам? Чтобы твои кости похоронили в неосвященной земле? А?
— Н-н-нет, магистер меус.
— Я тоже так думаю, и поэтому тщательно обдумывай свои ответы на вопросы монсиньора Агуэрры.
— Я?..
— Ты. — Аркос потер подбородок и, казалось, погрузился в невеселые размышления. — Мне все совершенно ясно. Дело Лейбовица положено на полку. Бедный наш брат стал жертвой упавшего кирпича. Вот он лежит ничком, моля об отпущении грехов. И обрати внимание, все мы стоим вокруг него. Мы стоим, глядя на беднягу, слыша его предсмертный хрип, и ни у кого не поднимается рука послать ему «последнее прости». И он отправляется прямиком в ад. Без отпущения грехов. Дьявол уносит его у нас из-под носа. Какая жалость, не правда ли?
— Милорд… — еле выдавил из себя Френсис.
— О, не порицай меня. Я и так выбивался из сил, останавливая братьев от желания забить тебя до смерти.
— Когда?
— Надеюсь, что этого вообще не произойдет. Потому что ты в самом деле будешь очень осторожен, не так ли? Относительно того, что ты будешь говорить монсиньору. В противном случае я отдам тебя им на растерзание.
— Да, но…
— Постулатор желает сейчас с тобой увидеться. Прошу тебя не давать воли своему воображению и отвечать за свои слова. И, пожалуйста, поменьше размышляй.
— Надеюсь, что мне это удастся.
— Давай, сынок, давай.
Френсис испытывал страх, когда впервые постучался в двери монсиньора Агуэрры, но быстро убедился, что у страха нет оснований. Высокий член Священной Коллегии был мягким, учтивым стариком, который дипломатично и любезно интересовался жизнью маленького скромного монаха.
После нескольких минут дружелюбного предварительного разговора они перешли к предмету встречи:
— Ну-с, а теперь о твоей встрече с лицом, которое могло быть Благословенным Основателем…
— Но ведь я никогда не говорил, что он был нашим Благословенным Лей…
— Конечно, ты не говорил, сын мой. Конечно, нет. Вот у меня целый рассказ об этом случае — составленный главным образом по слухам, — и я хотел бы, чтобы ты прочел его, а затем подтвердил или же исправил, — он замолчал, вытаскивая свиток из своего баула, и протянул его брату Френсису. — Эта версия основана на рассказах путешественников, — добавил он. — Только ты можешь рассказать, что случилось — из первых рук, — поэтому я хочу, чтобы ты прочел этот текст очень внимательно.
— Конечно, мессир. Но на самом деле все было очень просто…
— Читай! Читай! А потом мы поговорим об этом, ладно?
Объем свитка свидетельствовал о том, что это было отнюдь не «очень просто». Читая его, брат Френсис чувствовал, как в нем росли опасения. Скоро они стали граничить с неподдельным ужасом.
— Ты побледнел, сынок, — сказал высокий чин. — Тебя что-то беспокоит?
— Мессир, такого… такого вообще не было!
— Не было? Но ведь в конце концов можно предположить, что ты можешь быть автором этого сочинения. Иначе откуда все это могло бы появиться? Разве не ты был единственным очевидцем?
Брат Френсис закрыл глаза и потер лоб. Своим собратьям-послушникам он говорил чистую правду. Послушники шепотом обсуждали его историю между собой. Потом при случае рассказали ее какому-то путешественнику. Тот рассказал ее другим странникам. И наконец — случилось вот это! Чудо, что еще аббат Аркос позволил себе говорить на эту тему. О, не стоило вообще говорить о пилигриме!
— Он сказал мне всего лишь несколько слов. Я видел его лишь мельком. Он замахнулся на меня посохом, спросил о дороге к аббатству и сделал знак на камне, под которым я нашел пещеру. И больше я его не видел.
— Галлюцинаций не было?
— Нет, мессир.
— А хора с небес?
— Нет!
— А как насчет ковра из роз, который должен был простираться перед ним, когда он шел?
— Нет, нет. Ничего подобного, мессир, — выдохнул монах.
— Он написал на камне свое имя?
— Бог мне судья, мессир, он сделал всего лишь два этих знака. И я не знал, что они означали.
— Ну, хорошо, — вздохнул истолкователь. — Путешественники вечно преувеличивают в своих россказнях. Но меня интересует, как все это началось. Не можешь ли ты мне рассказать, как все это было на самом деле?
Брат Френсис был очень краток. Казалось, что Агуэрра опечалился. Задумчиво помолчав, он взял толстый свиток, встряхнул его, приводя в порядок, и сунул в пустой ларь.
— Чудо номер семь, — пробормотал он.
Френсис поспешил принести извинения.
Собеседник отвел их.
— Об этом не будем. На самом деле свидетельств у нас хватает. У нас есть несколько случаев мгновенных излечений, когда болезнь отступала по вмешательству блаженного. По сути дела, с ними все просто и ясно, и истории эти подтверждены документально. На таких случаях и основывается канонизация. Но «адвокат дьявола» может распять тебя, и ты это знаешь.
— Я ничего не говорил о…
— Понимаю, понимаю! Все началось из-за убежища. Кстати, сегодня мы его вскрыли.
Френсис оживился.
— Вы… вы нашли что-то новое о святом Лейбовице?
— Пока еще о блаженном Лейбовице, — поправил его монсиньор. — Пока еще нет. Мы открыли внутреннюю камеру. Понадобилось чертовски много времени, пока мы до нее добрались. Внутри обнаружили пятнадцать скелетов и множество удивительных изделий. Артефактов. Видимо, женщина, — кстати, то была в самом деле женщина, чьи останки ты нашел, — выбралась во внешний отсек, ибо внутренний был полон. Возможно, ей удалось бы как-то спастись, если бы рухнувшие стены не закрыли выход из пещеры. Бедные страдальцы были пойманы в ловушку, потому что глыбы заблокировали выход. И бог их знает, почему они не сделали двери, открывающиеся внутрь.
— Женщина в первом отсеке — это в самом деле была Эмили Лейбовиц?
Агуэрра улыбнулся.
— Как мы можем доказать это? Пока я не знаю. Сам я верю, что так оно и было, да — я верю, но, возможно, убедительные доказательства заставят меня расстаться с этой надеждой. Увидим, что нам удастся найти еще. Увидим. У другой стороны есть иные свидетельства, и я не могу предугадывать заключение.
Несмотря на разочарование, которое доставил ему Френсис своим рассказом о встрече с пилигримом, Агуэрра не изменил своему дружелюбному расположению к нему. Прежде чем возвращаться в Новый Рим, он провел десять дней на археологических раскопках и, уезжая, оставил двух своих ассистентов наблюдать за их ходом. В день отъезда он посетил в скриптории брата Френсиса.
— Мне сказали, что ты работаешь над документом для увековечения памяти о тех реликвиях, что ты нашел, — сказал истолкователь. — И если верить тем писаниям, которые мне довелось услышать, я был бы очень признателен, если бы мне удалось его увидеть.
Монах начал было возражать, что его работа не представляет собой ничего особенного, но тем не менее тут же принес пергамент, держа его с таким благоговением, что руки его дрожали, когда он разворачивал свиток. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как брат Джерис с трудом справляется с нервным ознобом.
Монсиньор долго смотрел на его работу.
— Восхитительно! — вырвалось у него наконец. — Какие блистательные цвета! Превосходно, превосходно! Кончай ее, брат мой, кончай ее!
Брат Френсис взглянул на брата Джериса и вопросительно улыбнулся.
Начальник скриптория быстро отвернулся. Затылок у него налился багровой краской. На следующий день Френсис разобрал свои кисточки, краски, растертое золото и приступил к работе.
Глава 9
Через несколько месяцев после отъезда монсиньора Агуэрры в аббатство из Нового Рима прибыл второй караван мулов с полным набором чиновников и вооруженной охраной для защиты от разбойников на больших дорогах, маньяков-мутантов и драконов, о которых ходили упорные слухи. На этот раз экспедицию возглавлял монсиньор Флаут, украшенный маленькими рожками и заметными клыками, который объявил, что в его обязанности входит противостоять канонизации блаженного Лейбовица и что он прибыл расследовать и, возможно, установить меру ответственности, как он намекнул, за некие неправдоподобные истерические слухи, наполняющие аббатство жалобными стенаниями, которые донеслись даже до ворот Нового Рима. Он совершенно ясно дал понять, что не собирается выслушивать разную романтическую чепуху, что, возможно, позволял себе предыдущий визитер.
Аббат вежливо встретил его и предложил железную койку в келье, выходящей на южную сторону, с бесконечными извинениями, что в помещении для гостей недавно были обнаружены следы оспы. Монсиньор проводил время только со своими людьми и питался грибами и травами в общей трапезной, так как в этом году не было ни перепелок, ни фазанов, как сообщили охотники.
На этот раз аббат не счел нужным предупреждать Френсиса, чтобы он не давал воли своему воображению. Пусть делает с ним, что хочет. Существовала небольшая опасность, что «адвокат дьявола» немедленно поверит этой истине, не утруждая себя тщательным расследованием и не заботясь о том, что вкладывает персты в язвы.
— Я знаю, что ты можешь потерять сознание, столкнувшись с воздействием чар, — сказал монсиньор Флаут, когда они остались с братом Френсисом наедине и впившись в него взглядом, в котором, как решил Френсис, светилось воплощенное зло. — Скажи мне, в твоей семье случались у кого-то эпилептические припадки? Были ли нейромутанты?
— Нет, ваше преподобие.
— Я не преподобие, — фыркнул священник. — Итак, теперь мы вытянем из тебя подлинную правду. «Тебе необходимо сделать небольшую хирургическую операцию, — казалось, говорил его тон, — ампутировав лишь то, что необходимо».
— Тебе не приходило в голову, что документы могли подвергнуться искусственному старению? — спросил он.
Брату Френсису это не приходило в голову.
— Ты заметил, что этого имени, Эмили, не встречается среди бумаг, которые ты нашел?
— Но ведь… — он остановился, внезапно ощутив неуверенность.
— Имя, которое там встречается, звучит, как Эм, не так ли? Оно может быть сокращением от Эмили?
— Я… я думаю, что так оно и есть, мессир.
— Но ведь так же это может быть сокращением от Эммы, разве нет?
Френсис молчал.
— Ну?
— О чем вы спрашиваете, мессир?
— Неважно! Только что я доказал тебе, что «Эм» может принадлежать и Эмме, а «Эмма» — это не сокращенное от Эмили. Что ты на это скажешь?
— У меня нет сложившегося мнения на этот счет, но…
— Но что?
— Муж и жена, как правило, не обращают внимания, как они называют друг друга.
— ДА ТЫ НИКАК ДЕРЗИШЬ МНЕ?
— Нет, мессир.
— А теперь говори мне правду! Как ты открыл это убежище, и что это за бредовое пустословие относительно какой-то встречи?
Брат Френсис попытался объяснить. «Адвокат дьявола» периодически прерывал его рассказ ироническим фырканьем и саркастическими замечаниями, а когда монах кончил, яростно вцепился в его рассказ и раздолбал его по кусочкам вдоль и поперек так, что сам Френсис начал сомневаться, в самом ли деле он видел старика или же просто выдумал всю эту историю.
Перекрестный допрос был груб и жесток, но Френсис почувствовал, что он пугает его меньше, чем беседа с аббатом. «Адвокат дьявола» мог лишь расчленить его по частям, и знание того, что операция скоро кончится, помогало переносить терзания. А вот стоя лицом к лицу с аббатом, Френсис знал, что карающий бич может обрушиваться на него снова и снова, ибо Аркос был владыкой его души и тела и неизменным инквизитором до скончания жизни.
Похоже, что монсиньор Флаут счел историю монаха слишком примитивной и разочаровывающе прямолинейной, чтобы обрушить на нее всю мощь своего нападения.
— Ну что ж, брат. Если твоя история такова и ты настаиваешь на ней, я думаю, что возиться с тобой мы больше не будем. Даже если это правда — с чем я не могу согласиться, — она банальна до глупости. Ты понимаешь это?
— Именно об этом я всегда и думал, мессир, — вздохнул брат Френсис, который в течение долгих лет старался отстраниться от всех преувеличений, которыми другие сопровождали появление пилигрима.
— Самое время признать это! — рявкнул Флаут.
— Я всегда говорил, что, по моему мнению, он был, скорее всего, обыкновенным стариком.
Монсиньор Флаут закрыл глаза рукой и тяжело вздохнул. Его опыт общения с такими свидетелями подсказал, что делать ему тут больше нечего.
Перед тем как оставить аббатство, «адвокат дьявола», как и его предшественник, выступавший на стороне святого, изъявил желание посетить скрипториум, где захотел видеть готовящуюся копию синек Лейбовица («Сплошную глупость», как Флаут называл их). На этот раз руки монаха дрожали не от благоговения, а от страха, потому что он снова чувствовал опасность расстаться с делом своей жизни. Монсиньор Флаут молча осмотрел пергамент. Трижды сглотнул. Наконец заставил себя кивнуть.
— Воображение у тебя живое, — признал он. — Но все это нам известно, не так ли? — он помолчал. — Как давно ты над этим работаешь?
— Шесть лет, мессир, — с перерывами.
— Похоже, что тебе еще долго придется трудиться.
Рожки монсиньора Флаута уменьшились примерно на дюйм, а клыки совершенно исчезли. В тот же вечер он отправился в Новый Рим.
Годы неспешно текли один за другим, покрывая морщинками молодые лица и серебря виски. Работа в монастыре шла, как и раньше, а если временами над ним и бушевали штормы, то они неизменно заканчивались песнопениями в честь Божественного Провидения. Медленно, но неустанно каждый день пополнялись страница за страницей рукописей и копий, время от времени епископат требовал клерков и писцов, когда шли заседания трибунала Экклезиаста, а порой за их помощью обращались и мирские власти. Брат Джерис возгордился до того, что решил поставить печатный пресс, но, услышав о его планах, аббат Аркос разрушил их. Не было ни качественной бумаги, ни хороших чернил, ни потребности в дешевых книгах, поскольку мир погряз в неграмотности. Копиисты обходились чернильницами и гусиными перьями.
Во время празднества в честь Пяти Святых Дураков явился посланец из Ватикана с радостными известиями для ордена. Монсиньор Флаут снял все возражения и принес покаяние перед иконой блаженного Лейбовица. Монсиньор Агуэрра выиграл дело: папа дал указание издать декрет, в котором рекомендует канонизацию. Дата формального оповещения об этом событии назначена на грядущий Святой Год и совпадает с созывом Генерального совета церквей, собирающегося с целью снова огласить развернутое заявление относительно веры и морали. Вопрос этот поднимался много раз в истории, но каждое новое столетие заставляло его возникать вновь и вновь, особенно в те темные времена, когда люди только смутно понимали, что такое даже ветер, звезды и дождь. И во время совета основатель альбертианского ордена будет внесен в Святцы.
После этого сообщения аббатство охватило веселье. Дом Аркос, сгорбленный от груза лет и порой выживающий из ума, вызвал к себе брата Френсиса и проскрипел:
— Его святейшество приглашает тебя в Новый Рим на канонизацию. Так что готовься к отъезду.
— Я, милорд?
— Только ты. Брат-фармацевт запрещает мне передвижения, а пока я болен, брат-приор не должен оставлять общину.
— Только больше не теряй сознания, — брюзгливо добавил Дом Аркос. — Тебе оказано куда больше доверия, чем ты заслуживаешь, так как высокий суд признал доказанной дату смерти Эмили Лейбовиц. Но так или иначе его святейшество приглашает тебя. Я думаю, что тебе остается только вознести благодарение Богу…
Брат Френсис пошатнулся.
— Его святейшество…
— Да. Мы посылаем в Ватикан оригиналы чертежей Лейбовица. Что ты думаешь о том, чтобы взять с собой свою работу как дар к престолу Святого Отца?
— Ух, — сказал Френсис.
Аббат приободрил его, благословил, назвал милым простаком и отправил готовить облачение.
Глава 10
Путешествие в Новый Рим занимало самое малое три месяца, а может, и больше, время это зависело от пути, по которому Френсис мог двигаться в безопасности, прежде чем неизбежно столкнется с бандой грабителей, которая отнимет его осла. Путешествовать он должен будет один, без всякого оружия, с собой у него будет только монашеское облачение и чашка для сбора подаяний, не считая реликвий и раскрашенной копии. Он молил, чтобы разбойники не обратили на нее внимания: среди грабителей с большой дороги встречались порой достаточно любезные личности, которые забирали лишь то, что представляло ценность для них, позволяя своим жертвам спасти свою жизнь, тело и личные вещи. Другие были куда менее сговорчивы.
Для предосторожности брат Френсис закрыл черной повязкой правый глаз. Крестьяне часто бывают очень суеверны и стараются унести ноги лишь при намеке, что сейчас увидят дурной глаз. Снаряженный таким образом, он отправился в путь, дабы исполнить повеление его высокопреосвященства папы Льва XXI.
Примерно через два месяца после отъезда из аббатства монах наткнулся на поджидавших его грабителей. Это случилось на густо заросшей горной тропе, пролегавшей далеко от поселений, если не считать поселением Долину рожденных по ошибке, которая лежала в нескольких милях к западу от горы, и где, подобно прокаженным, отрезанная от всего мира, жила колония генетических монстров. Существовало несколько таких колоний, которыми управляли госпитальеры Святой Церкви, но Долины рожденных по ошибке среди них не числилось. Уроды, которым удалось избежать смерти от рук лесных племен, расположились здесь несколько столетий назад. Число их непрестанно пополнялось изуродованными и искалеченными существами, которые бежали от жестокого мира, но некоторые из них могли рожать и давали потомство. Нередко их дети наследовали уродства родителей. Часто они или рождались мертвыми или никогда не могли достичь возмужания. Но бывало, изуродованные гены подвергались рецессии и среди уродов появлялись нормальные дети. Порой случались лишь внешне нормальные, так как плод еще в утробе подвергался каким-то нравственным деформациям, имеющим отношение к душе или морали, в результате чего от человеческого существа оставалось лишь внешнее сходство с ним. Даже Церковь осмелилась выразить точку зрения, что хотя эти существа созданы по внешнему образу и подобию, как и все остальные Божьи дети, души у них звериные, и закон природы гарантирует безнаказанность, если их будут уничтожать как зверей, а не как людей, ибо Бог создал их как наказание за грехи, которые едва не погубили человечество. Несколько теологов, чья вера в ад никогда не покидала их, утверждали, что порой можно прибегнуть к любой форме наказания, которая будет носить временный характер, но для человека взять на себя смелость решать судьбу существа, рожденного от женщины и имеющего божественный облик, — это значит присваивать себе божественные привилегии. Даже полные идиоты, одаренные куда меньше, чем собака, свинья или коза, если они рождены от женщины, имеют бессмертную душу, снова и снова грозно громыхали магистры. После нескольких таких оповещений, которые должны были пресечь убийства детей, из Нового Рима вышла энциклика, гласившая, что несчастные выродки получают имя «Племянников Папы», или, что то же самое, «Детей Папы».
— Пусть это отродье, которое живым появляется на свет у живых родителей, будет обречено на страдания и муки жизни, — сказал предыдущий Лев. — В соответствии с законом природы и Божественным предначертанием любви; и пусть их выкармливают и растят как детей, каковы бы ни были их внешние формы и поведение, ибо так распорядилась сама природа, глухая к Божественному откровению, и среди естественных прав человека есть право родителей способствовать жизни своих потомков, оно не может быть изменено законным образом ни обществом, ни государством, разве что Принцы осмелятся отменить это право. Но даже твари земные так не поступают.
У грабителя, напавшего на брата Френсиса, не было никаких заметных признаков деформаций, но было совершенно очевидно, что он явился из Долины рожденных по ошибке. Когда из кустов на склоне появились две фигуры в остроконечных капюшонах и, насмешливо ухая по-совиному, остановили монаха, издевательски склонившись перед ним, Френсис не мог разобрать с первого взгляда, шесть ли пальцев или больше было на руке, держащей лук: но не было никаких сомнений, что у одной из фигур в рясе два капюшона, хотя он не видел лиц и не мог разобрать, скрывает ли второй капюшон еще одну голову или нет.
Сам грабитель стоял прямо перед ним на дороге. Он был невысок ростом, но тяжел и крепок как бык, с бритой лоснящейся макушкой и с челюстью, словно высеченной из гранита. Широко расставив ноги и скрестив на груди мускулистые руки, он стоял на дороге, наблюдая, как верхом на осле к нему приближается маленькая фигурка. Грабитель, насколько брат Френсис успел разглядеть, был вооружен только своими мускулами и ножом, который он даже не позаботился вынуть из ножен на поясе. Он поманил Френсиса рукой, приглашая двигаться вперед. Когда монах остановился в пятидесяти ярдах от него, один из «Детей Папы» спустил тетиву, и стрела врезалась в дорогу как раз у задних ног осла, отчего животное сделало скачок вперед.
— Слезай, — приказал грабитель.
Осел стоял на тропе. Брат Френсис откинул капюшон, чтобы показать повязку на глазу и дрожащими пальцами прикоснулся к ней. Он начал медленно высвобождать глаз из-под повязки.
Грабитель откинул голову и разразился взрывом грохочущего смеха, который, как подумал Френсис, мог бы исходить из глотки Сатаны. Монах пробормотал формулу изгнания дьявола, но грабителя она не тронула.
— Ваши заклятья, ты, черный мешок с дерьмом, мы уже который год пропускаем мимо ушей, — сказал он. — А теперь слезай.
Брат Френсис улыбнулся, пожал плечами и без всяких слов слез с седла. Грабитель осмотрел осла, потрепал его по холке, заглянул ему в зубы и пощупал копыта.
— Жрать? Жрать? — хрипло крикнула одна из задрапированных фигур на склоне холма.
— Еще нет, — рявкнул грабитель. — Слишком тощий.
Брат Френсис отнюдь не был уверен, что речь идет об осле.
— Добрый день вам, сэр, — любезно сказал монах. — Осла вы можете взять. Пешая прогулка, я думаю, будет способствовать моему здоровью, — он снова улыбнулся и двинулся дальше по дороге.
В тропу у его ног врезалась стрела.
— Прекратите! — прорычал грабитель и обратился к Френсису. — А ну-ка, снимай все с себя. Посмотрим, что у тебя в свертке и в багаже.
Брат Френсис притронулся к чашке для подаяния и сделал жест полного отчаяния, который вызвал еще один взрыв издевательского смеха у грабителя.
— Я уже знаком с этими штуками относительно бедных попрошаек, — сказал он. — Последний, кого я видел с такой чашкой, тащил с собой в сапогах полгеклы золота. Разоблачайся.
Брат Френсис, у которого не было сапог, растерянно снял свои сандалии, но грабитель сделал нетерпеливый жест. Монах распустил пояс, положил его с замотанным содержимым для осмотра и начал раздеваться. Грабитель осмотрел его одеяние, ничего не нашел и швырнул одежду обратно владельцу, пробормотавшему благодарность, ибо ждал, что его оставят голым на тропе.
— Теперь давай-ка посмотрим твое другое барахло.
— В нем только документы, сэр, — запротестовал монах. — Они имеют ценность только для их владельца.
— Открывай.
Брат Френсис безмолвно развязал бечевку и развернул оригиналы синек и разрисованную их копию. Золото росписей и цвета украшений ярко блеснули на солнце, которое пробилось сквозь листву. У грабителя отвалилась челюсть. Он слегка присвистнул.
— Во здорово! Бабы будут рады повесить это у себя на стенке!
Френсис почувствовал приступ тошноты.
— Золото! — крикнул грабитель своим сообщникам в капюшонах, стоявшим на склоне.
— Жрать? Жрать? — послышалось оттуда рычанье.
— Сожрем, не волнуйтесь! — отозвался грабитель, а затем непринужденно объяснил Френсису: — Пару дней просидели здесь и здорово проголодались. Дела плохи. За это время никто не проехал.
Френсис кивнул. Грабитель не скрывал своего восхищения перед блистающим великолепием пергамента.
«Господи, если Ты ниспослал их, чтобы испытать меня, то помоги мне умереть как мужчине, дабы он взял свою добычу лишь из мертвых рук Твоего слуги. Святой Лейбовиц, воззри на эти деяния и молись за меня…»
— Это чего? — спросил грабитель. — Амулет, что ли? — он держал перед собой оба документа, изучая их. — О! Этот как привидение другого. Что за волшебство? — он посмотрел на брата Френсиса подозрительными серыми глазками. — Как оно называется?
— Э-э-э… Транзисторная система контроля за группой Шесть-Б, — запинаясь сказал монах.
Грабитель, который держал документы вверх ногами, тем не менее увидел, что один вариант представляет собой зеркальное отражение другого, что заинтриговало его не меньше, чем золото росписи. Выясняя их сходство, он водил по чертежу коротким и грязным пальцем, оставляя грязные пятна на белоснежных полях разрисованного пергамента. Френсис едва сдерживал слезы.
— Молю! — выдохнул монах. — Золота здесь так мало, что не стоит и говорить о нем. Взвесьте его в своих руках. Оно весит не больше, чем сам пергамент. Вам оно ни к чему. Прошу вас, сэр, возьмите лучше мою одежду. Возьмите осла, пояс. Берите все, что вы хотите, но оставьте мне эту вещь. Для вас она ничего не значит.
Грабитель задумчиво смерил его взглядом. Он видел, как взволнован монах, и смотрел на него, потирая челюсть.
— Я дам тебе обратно и одежду, и осла, и все остальное, кроме вот этого, — ответил он. — А вот амулет я заберу.
— Ради Бога, ради любви к Господу, сэр, тогда убейте меня! — взмолился брат Френсис.
Грабитель хихикнул.
— Посмотрим. Расскажи-ка мне, для чего эта штука.
— Ни для чего. Всего лишь память о давно умершем человеке. О древности. А вторая — только копия.
— Какой тебе в них прок?
Френсис на мгновение прикрыл глаза и попытался представить, как он сможет объяснить, что это такое.
— Вы знакомы с лесными племенами? Вы знаете, как они чтят своих предков?
Серые глазки грабителя вспыхнули мгновенным пламенем гнева.
— А мы презираем наших предков, — рявкнул он. — Да будут прокляты те, кто дал нам жизнь!
— Прокляты, прокляты! — эхом отозвался один из закутанных в саван стрелков из лука.
— Ты знаешь, кто мы? И откуда мы?
Френсис кивнул.
— Я не хотел оскорбить вас. Тот древний, от которого остались эти реликвии, — не наш предок. Он когда-то был нашим учителем. Мы чтим его память. И это всего лишь подарок на память, ничего больше.
— А вот эта, вторая?
— Я сам ее сделал. Прошу вас, сэр, она отняла у меня пятнадцать лет. Вам она ни к чему. Прошу вас — ведь вы же не можете просто так уничтожить пятнадцать лет жизни человека?
— Пятнадцать лет? — грабитель откинул голову и зашелся от хохота. — Ты провел пятнадцать лет вот за этим?
— Но… — Френсис внезапно замолчал. Глаза его не отрывались от коротких пальцев грабителя. Указательным он водил по чертежу.
— И это отняло у тебя пятнадцать лет? Это уродство? — он хлопнул себя по животу и, покатываясь со смеху, продолжал указывать на реликвию. — Ха! Пятнадцать лет! А чем ты еще занимался в это время? Чем? Что толку в этой непонятной писанине? Убить на это пятнадцать лет! Ха-ха! На эту бабскую работу!
Брат Френсис слушал его, погруженный в напряженное молчание. То, что грабитель спутал священную реликвию с ее разукрашенной копией, привело его в такой ужас, что он был не в состоянии говорить.
Все еще смеясь, грабитель взял оба свитка с документами и приготовился разорвать их напополам.
— Иисус, Мария, Иосиф! — вскрикнул монах и рухнул на колени. — Во имя любви к Господу, сэр!
Грабитель швырнул бумагу на землю.
— Ты будешь драться за них! — возбужденно предложил он. — Против моего меча.
— Ладно, — импульсивно согласился Френсис, подумав, что в этой ситуации Небеса могут как-то вмешаться путем, о котором он не подозревает. — О, ГОСПОДИ! ТЫ, КОТОРЫЙ УКРЕПИЛ МОЩЬ ИАКОВА, КОТОРЫЙ СМОГ ОДОЛЕТЬ АНГЕЛА НА СКАЛЕ…
Брат Френсис перекрестился. Они сошлись. Грабитель вытащил нож из футляра на поясе. Они стали ходить по кругу.
Через несколько секунд монах со стоном рухнул на землю, подмятый горой мускулов. В спину ему упирался острый обломок камня.
— Хех-хе! — сказал грабитель, поднимаясь. Засунув нож за пояс, он скрутил документы в свиток.
Сложив перед грудью руки, как для молитвы, брат Френсис подполз к его коленям, на последнем дыхании умоляя его.
— Прошу, возьми же лишь одно, не оба! Прошу!
— Ты можешь их выкупить! — хмыкнул грабитель. — Я выиграл их в честном бою.
— У меня ничего нет, я беден!
— Ясно, но если ты так нуждаешься в них, заплатишь за них золотом. Две геклы золота — таков выкуп. Когда достанешь, приедешь в любое время. Твои вещи будут лежать у меня в хижине. Если они нужны тебе, неси золото.
— Послушай, они важны для других людей, а не для меня. Я везу их к папе. Может быть, они и заплатят тебе. Но дай мне хоть одну, чтобы я мог показать им. Она не имеет никакой ценности.
Посмотрев из-за плеча, грабитель опять рассмеялся.
— Вижу, что ты готов целовать мне ноги, лишь бы получить их.
Брат Френсис кинулся к его ногам и стал страстно целовать сапоги.
Его поступок поразил даже такого, как грабитель. Ногой он отшвырнул его, разделил свою добычу и одну из бумаг с проклятием швырнул Френсису в лицо. Вскарабкавшись на его осла, он направился по склону холма к зарослям. Брат Френсис, подобрав драгоценный документ, поспешил за грабителем, исступленно благодаря его и непрестанно призывая благословения на его голову.
— Пятнадцать лет! — фыркнул грабитель, снова отталкивая Френсиса ногой. — Убирайся! — разукрашенное великолепие пергамента, который он поднял над головой, переливалось на солнце всеми цветами. — Помни — две геклы золота, вот твой выкуп. И скажи своему папе, что я выиграл в честной схватке.
Когда тропа пошла вверх, Френсис остановился. Он перекрестил, благословляя, удаляющиеся спины разбойников и безмолвно помолился Богу за этих бескорыстных грабителей, которые могли сделать такую ошибку из-за своей неграмотности. Он любовно сложил оригинальный чертеж, осторожно спускаясь вниз на тропу. Грабитель на вершине холма гордо показал своим спутникам-мутантам сияющую красками копию.
— Жрать! Жрать! — сказал один из них, поглаживая осла.
— Ехать, ехать, — поправил его грабитель. — Жрать потом.
Но когда брат Френсис оставил далеко за собой это место, глубокая печаль постепенно овладела им. Насмешливый голос по-прежнему звучал в ушах: «Пятнадцать лет! А чем ты еще занимался в это время? Пятнадцать лет! На эту бабскую работу! Хо, хо, хо…»
Да, грабитель сделал ошибку. Но как бы там ни было, ушли пятнадцать лет, и вместе с ними вся любовь, все страсти, которые он вложил в копию.
Заточенный все эти годы в монастыре, Френсис понял, что отвык от того, чем живет внешний мир, с его грубыми привычками, с его бесцеремонностью. Он чувствовал, что сердце его глубоко задето насмешками грабителя. Он вспомнил мягкую иронию брата Джериса. Может, он был прав.
Монах медленно шел по тропе, низко опустив голову, скрытую капюшоном.
По крайней мере у него был оригинал реликвии. По крайней мере.
Глава 11
И час настал. Брат Френсис, воспитанный в привычной для монахов скромности, никогда не чувствовал себя более ничтожным, чем тогда, когда стоял на коленях в величественной базилике, ожидая начала церемонии. Неспешные движения вокруг, буйство красок, звуки, сопровождавшие подготовку к церемонии, уже сами несли в себе нечто возвышенное, и трудно было представить, что, в сущности, ничего еще не происходит. Епископы, монсиньоры, кардиналы, священники, многочисленные клирики в элегантных облачениях, на которых тем не менее лежала печать древности, двигались, входя и выходя, по огромному пространству церкви: их передвижения напоминали работу огромного часового механизма, который никогда не останавливается, не ошибается и всегда движется в одном предписанном направлении. Протодиакон вошел в базилику, и его появление было столь величественно, что Френсис поначалу ошибся, приняв служителя за прелата. Он нес скамеечку для ног, держа ее с таким благоговением, что монах, если бы он уже не стоял на коленях, преклонился бы перед ней. Прислужник, встав на одно колено перед высоким алтарем, перекрестил папский трон и поставил у его подножия новую скамеечку, забрав старую, у которой, кажется, покосилась ножка, затем удалился тем же манером, как и пришел. Брат Френсис восхищался элегантностью и изяществом самых простых движений, которые проходили перед его глазами. Никто не спешил. Никто не семенил и не размахивал руками. Ни одно движение, ни один жест не нарушили достоинство и величие этого древнего храма, в котором застыли неподвижные статуи и висели великие полотна. Даже шепот, казалось, вместе с дыханием разносился эхом в отдаленных апсидах.
Terribilis est locus iste: hic domus Dei est, et porta caeli[11]; и в самом деле, он наводит страх, дом, где пребывает Господь, врата Неба!
Некоторые из статуй, на которые монах осмеливался взглянуть, казались живыми. В нескольких ярдах слева от него стояли полные боевые доспехи. Стальная рукавица держала древко блистающего боевого копья. Все то время пока брат Френсис в благоговении стоял на коленях, на шлеме не шевельнулось ни одно перо из плюмажа. Дюжина таких же закованных в броню рыцарей стояла вдоль стен. И только увидев, как слепень вьется над прорезью шлема, Френсис заподозрил, что оболочка статуй содержит в себе живого человека. Глаз его не замечал ни малейшего движения, но доспехи издали легкий металлический скрип, когда слепень наконец добрался до своей цели. Здесь располагалась папская гвардия, готовая к рыцарским битвам, маленькая личная армия Первого Наместника Божьего.
Капитан гвардии совершал обход своих людей. Только тогда статуя шевельнулась в первый раз. Приветствуя начальство, поднялось забрало. Капитан задумчиво помедлил и, прежде чем проследовать дальше, пустил в ход свой шарф, согнав слепня с бесстрастного лица внутри шлема. Статуя опустила забрало и снова застыла в каменной неподвижности.
Величественный интерьер базилики был тут же заполнен толчеей пилигримов. Толпы были хорошо организованы и заботливо управляемы, но было видно, что они чувствовали себя здесь чужаками. Большинство из людей старались ступать на цыпочках, производя как можно меньше звуков и не привлекая к себе ничьего внимания, чем заметно отличались от клириков Нового Рима.
Внезапно базилика наполнилась бряцаньем оружия — когда стража поднялась и застыла. Появилась еще одна группа закованных в железо статуй; войдя в святилище, они опустились на одно колено, преклоняя перед алтарем древки копий, прежде чем занять свои посты. Двое из них встали рядом с папским троном. Третий опустился на колени с его правой стороны и остался коленопреклоненным, держа в поднятых руках меч святого Петра. И снова все застыло в неподвижности, если не считать пляшущего пламени свечей на алтаре.
Напряженное молчание внезапно разорвали торжественные звуки труб.
Мощь их росла и поднималась, пока всем присутствующим не стало казаться, что медные вопли раздаются у каждого в ушах.
Звуки эти служили не музыке, а благовещению. Начавшись на низких нотах, они росли, пока их мощь не заставила зашевелиться волосы на голове у монаха, и в базилике, как показалось ему, не осталось ничего, кроме заполнивших ее звуков.
А затем наступило мертвое молчание, за которым последовали высокие голоса:
Appropinguat agnis pastor et ovibus pascendis. Genua nunc flectantur omnia. Jussit olim Jesus Petrum pascere gregem Domini. Ecce Petrus Pontifex Maximus. Gaudeat igitur populus Christi, et gratias agat Domino. Nam docebimur a Spiritu sancto. Alleluia, alleluia[12].Толпа заволновалась и медленными волнами стала опускаться на колени, когда уловила движение на высоком престоле, на котором появился хрупкий старец в белом, который жестом руки послал свое благословение людям в золоте и пурпуре, в черном и красном, процессии которых медленно плыли мимо его трона. У маленького монаха, прибывшего из отдаленной обители в далекой пустыне, перехватило горло и пресеклось дыхание. Было невозможно охватить взглядом все, что происходило, настолько ошеломляюще было воздействие вздымающихся волн музыки и двигающихся толп, когда все чувства и эмоции ждали того, что должно скоро свершиться.
Церемония была краткой. Длись она еще немного, напряжение, которое она вызвала, стало бы невыносимым. Монсиньор Мальфредо Агуэрра — личный адвокат святого, как заметил брат Френсис, — приблизился к трону и преклонил перед ним колени. После краткого молчания он возвысил свой голос в молении: «Sancte pater, ab Sapientia summa petimus ut ille Beatus Leibowitz cujus miracula mirati sunt multi…»[13]
Ответ папы Льва должен был торжественно возвестить возлюбленной пастве благочестивое убеждение наместника божьего на земле, что блаженный Лейбовиц в самом деле святой, действовавший к вящей славе церкви.
— Gratissima Nobis causa, fili[14], — прозвучал голос старого человека, оповещающего, что сердце его полно радости возвестить: благословенный мученик ныне пребывает в сонме святых, а также — что все происходит божественным соизволением, и только им едино, sub ducatu sancti Spiritus[15]. Папа рад удовлетворить просьбу Агуэрры и обратился ко всем с просьбой вознести молитвенное благодарение божественному провидению.
И снова громовые раскаты хора наполнили базилику звуками святой литании: «Отец Небесный, Господь наш, смилуйся над нами. Сын твой, Искупитель Грехов Мира, смилуйся над нами. Дух Святой Преосвященный, Господь наш, смилуйся над нами. О, Святая Троица miserere nobis![16] Святая Дева Мария, молись за нас. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis[17]…»
Торжественные звуки литании улетали к своду купола. Френсис взглянул на изображение блаженного Лейбовица, с которого ныне было скинуто покрывало. Фреска изображала его в сугубо героическом виде: блаженный противостоял разъяренной толпе, на лице его была смущенная улыбка, так он улыбался и в работе Финго. «До чего величественно», — подумал Френсис, сливаясь в мыслях со всеми присутствующими в базилике.
По окончании литании монсиньор Мальфредо Агуэрра снова обратился с молением к папе, прося, чтобы имя Айзека Эдварда Лейбовица ныне было официально внесено в Святцы. И снова было обращение к божественному предначертанию, когда папа сказал: Veni, Creator Spiritus[18].
И в третий раз Мальфредо Агуэрра воззвал к папе:
— Surgat ergo Petrus ipse[19]…
И наконец свершилось. Лев Двадцать Первый оповестил о решении Церкви, руководствовавшейся соизволением Духа Святого, что древний и некогда проклинаемый инженер по имени Лейбовиц ныне поистине святой, пребывающий на Небесах, и верующие могут и имеют право в своих молениях обращаться к нему за защитой, и в честь его будет назван соответствующий день.
— Святой Лейбовиц, спаси и сохрани нас, — выдохнул брат Френсис в одном порыве со всеми.
После краткой молитвы хор грянул «Te Deum»[20]. И после мессы в честь нового святого все кончилось.
В сопровождении двух служек в пурпурных одеяниях из внутренних покоев дворца небольшая группка пилигримов проследовала через бесконечные, как им показалось, коридоры и покои, время от времени останавливаясь у резных столов, за которыми восседали чиновники, изучавшие их разрешения, на которых гусиными перьями они ставили свои подписи. А служки вели их все дальше и дальше, к новым чиновникам, звания которых все возрастали по ходу процессии, и их все труднее было запоминать и произносить. Брата Френсиса колотила дрожь. Среди его спутников были два епископа, человек в горностаевой мантии, усыпанной золотом, глава клана лесных племен (недавно обращенный в христианство, но по-прежнему облаченный в плащ из шкуры леопарда и водрузивший на голову оскаленную пасть пантеры, родовой тотем его племени), простак, тащивший на кожаной перчатке сокола с колпачком на глазах (без сомнения, подарок Святому Отцу) и несколько женщин, скорее всего, насколько Френсис мог догадаться, жены и наложницы обращенного вождя клана людей пантеры.
Поднявшихся по «небесной лестнице» пилигримов встретил церемониймейстер в торжественном облачении и ввел их в небольшую прихожую, предшествующую залу для приемов.
— Святой Отец примет их здесь, — тихо сообщил высокопоставленный служка сопровождающему, который держал все их бумаги. Как показалось Френсису, он с некоторым разочарованием оглядел пилигримов и что-то быстро шепнул сопровождающему. Глава племени просиял и поправил свой застывший в немом рычании клыкастый шлем так, что теперь он закрывал и затылок. После краткого совещания относительно расположения визитеров, Его Высокое Елейство, глава служб в покоях папы, голосом столь мягким, что казался почти извиняющимся, стал расставлять по помещению как шахматные фигуры гостей в соответствии с неким тайным протоколом, который мог понять только посвященный.
Папа долго не показывался. Наконец он быстро вошел в комнату — маленький человек в белой сутане, окруженный свитой. Брат Френсис ощутил мгновенный озноб, но припомнил, что Дом Аркос обещал содрать с него кожу живьем, если он потеряет сознание во время аудиенции, и взял себя в руки.
Цепочка пилигримов опустилась на колени. Старик в белом любезно попросил их встать. Брат Френсис наконец обрел в себе смелость поднять глаза. В базилике он видел папу лишь как белое сияние, окруженное радугой красок. Здесь, в зале для аудиенций, брат Френсис, допущенный к лицезрению с близкого расстояния, убедился, что у папы нет и девяти футов роста, как у кочевника из легенд. К удивлению монаха, этот хрупкий старый человек, Отец Королей и Принцев, Строитель Мостов над Миром, Наместник Христа на Земле, выглядел куда менее свирепым, чем Дом Аркос, аббат.
Папа неторопливо двигался вдоль линии пилигримов, приветствуя каждого из них и обняв одного из епископов; с каждым присутствующим он говорил на его собственном диалекте или через переводчика; он рассмеялся, получив сокола в подарок, и обратился к вождю племени лесных людей на его собственном лесном диалекте, милостиво положив ему руку на плечо, отчего закутанный в шкуру пантеры вождь внезапно расплылся от счастья. Папа заметил, что шлем на голове вождя несколько сполз, и остановился водрузить его на место. Вождь раздулся от гордости, обвел глазами комнату, дабы убедиться, все ли лакеи видели его торжество, но в эту минуту они, как на грех, скрылись за деревянными панелями зала.
Папа подошел к брату Френсису.
«Я есмь Петр Понтифик… Всевидящее Око Божье, верховный первосвященник, Лев XXI самолично. Бог един, и так же как он насаждает Принцев по всем странам и королевствам, а затем вырывает их с корнем, уничтожая и отбрасывая, так же он простирает свою охранительную длань над всеми истинно верующими…». И в ту же минуту монах увидел на лице Льва XXI доброту и мягкость, которые дали ему понять, что папа достоин своего титула, который несет с величественностью, большей, чем у всех принцев и королей, хотя сам он называет себя «раб рабов Божьих».
Френсис упал на колени и приник поцелуем к кольцу Святого Рыбаря. Поднявшись, он обнаружил, что сжимает в руках реликвии святого, держа их перед собой, словно стесняясь развернуть. Добродушный взгляд янтарно-желтых глаз понтифика приободрил его. Лев XXI заговорил в присущей ему мягкой манере: прием, который им самим воспринимался как тяжкая ноша, тем не менее порой был необходим, когда он хотел приободрить визитеров не столь диких, как вождь в шкуре пантеры.
— Наше сердце было глубоко опечалено, когда мы услышали о постигшем тебя несчастье, сын мой. Отчет о твоем путешествии достиг нашего слуха. Ты отправился сюда по нашему распоряжению, но в пути натолкнулся на грабителей. Истинно ли то?
— Да, Святой Отец. Но, честное слово, это неважно. То есть… я имею в виду, это было важно, кроме… — Френсис запнулся.
Седой старик добродушно улыбнулся.
— Мы знали, что ты вез нам подарок, но он был украден по пути. Но не беспокойся о нем. Твое присутствие уже является подарком для нас. Давно мы лелеяли надежду на встречу с человеком, который нашел останки Эмилии Лейбовиц. Мы знаем и о твоем труде в аббатстве. Мы всегда испытывали горячую любовь к братству святого Лейбовица. Без ваших трудов беспамятство мира стало бы всеохватывающим. И если Церковь представляет собой Тело Божье, так ваш орден является одним из органов этого тела. Мы в неоплатном долгу перед вашим святым патроном и основателем. И будущие века еще умножат этот долг. Не могу ли я услышать поподробнее о твоем путешествии, сын мой?
Френсис развернул синьку.
— Разбойник был так добр, что оставил мне эту синьку, Святой Отец. Он… он по ошибке взял раскрашенную копию, ее готовую я вез в подарок святому престолу.
— Ты не исправил его ошибку?
Брат Френсис зарделся.
— Я постеснялся признать, Святой Отец…
— Итак, значит, это и есть та оригинальная реликвия, что ты нашел в убежище?
— Да…
Папа смущенно улыбнулся.
— Значит… бандит решил, что твоя работа представляет собой истинное сокровище? Да, порой и грабители обладают вкусом к подлинному искусству, не так ли? Монсиньор Агуэрра рассказывал нам, какое великолепие представляла собой твоя копия. Какая жалость, что она похищена.
— Ничего, Святой Отец. Жаль лишь, что на нее было потеряно пятнадцать лет.
— Потеряно? Почему «потеряно»? Если бы грабителя не ввела в заблуждение красота твоей работы, он бы мог забрать вот это? Разве не так?
Брат Френсис признал, что такая возможность существовала.
Лев Двадцать Первый принял древний чертеж из протянутых дрожащих рук и бережно развернул. Некоторое время он в молчании изучал схему, а потом спросил:
— Скажи нам, понимаешь ли ты символы, которые использовал Лейбовиц? И значение этих… э-э-э, вещей, которые они изображают?
— Нет, Святой Отец, я должен признать свое невежество.
Папа наклонился к нему и шепнул:
— И наше тоже, — хмыкнув, он прикоснулся губами к реликвии, как к алтарной иконе и, свернув чертеж, вручил его своему помощнику. — От всего сердца мы благодарим тебя за эти пятнадцать лет, возлюбленный сын наш, — сказал он брату Френсису. — Эти годы были отданы для того, чтобы спасти оригинал. Не думай о них, как о потерянном времени. Они были посвящены Богу. Когда-нибудь мы выясним значение оригинала и поймем его важность, — старик мигнул — или подмигнул ему? Френсис был почти уверен, что старик подмигнул. — Мы должны поблагодарить тебя.
После мигания или подмигивания папы Френсис стал яснее видеть и комнату и свое окружение. Ему бросилась в глаза дырочка от моли на папской сутане. Да и сама сутана была уже порядком изношена. Ковер в помещении для приемов был местами истерт чуть ли не до дыр. В нескольких местах с потолка обвалилась штукатурка. Но царившее здесь достоинство превышало бедность. Приметы ее Френсис видел лишь несколько секунд. Рассеянность его прошла.
— С тобой мы хотим передать наши самые горячие приветы всем членам вашей общины и ее аббату, — сказал Лев. — И над тобой и над ними мы простираем наше апостольское благословение. Ты увезешь с собой послание об этом, — помолчав, он снова то ли мигнул, то ли подмигнул. — И, конечно, письмо это будет под надежной защитой. Мы скрепим его печатью Noli molestare[21], которая угрожает отлучением от церкви всякого, кто покусится на него.
Брат Френсис пробормотал благодарность за предоставленную защиту против разбойников с большой дороги; он не позволил себе намекнуть, что грабитель может просто не прочесть грозные слова и не понять, какая его ожидает кара.
— Я приложу все силы, Святой Отец, чтобы доставить его.
Лев снова наклонился поближе к нему и шепнул:
— А тебе мы дадим специальный знак нашего благорасположения. Прежде чем ты отбудешь, постарайся увидеться с монсиньором Агуэррой. Мы бы предпочли лично вручить его тебе из своих рук, но, к сожалению, сейчас не подходящий для этого момент. Монсиньор передаст его тебе от нас. И делай с ним что захочешь.
— От всего сердца благодарю вас, Святой Отец.
— А теперь прощай, возлюбленный сын наш.
И понтифик двинулся дальше, разговаривая с каждым из присутствующих, и в завершение торжественно благословил всех. Аудиенция была закончена.
Когда группа пилигримов выходила через портал, монсиньор Агуэрра притронулся к руке Френсиса. Он тепло обнял монаха. Истолкователь так постарел, что Френсис с трудом узнал его, лишь приблизившись вплотную. Да и у Френсиса посеребрились виски, а глаза утопали в сети морщинок, которые появились от долгого всматривания в чертеж Лейбовица. Когда они оказались у «небесной лестницы», монсиньор вручил ему пакет и письмо.
Френсис глянул на адрес на письме и кивнул. На пакете, который был запечатан дипломатической печатью, было написано его имя.
— Это для меня, мессир?
— Да, личный подарок от Святого Отца. Здесь его лучше не открывать. Ну, а теперь скажи, могу ли я сделать что-либо для тебя до того, как ты покинешь Новый Рим? Я был бы рад показать тебе что-нибудь, чего ты еще не видел.
Брат Френсис думал недолго. Путешествие уже изрядно измотало его.
— Я хотел бы еще раз увидеть базилику, мессир, — наконец сказал он.
— Конечно, ты ее увидишь. И это все?
Брат Френсис опять задумался. Они заметно отстали от процессии пилигримов.
— И еще я хотел бы исповедаться, — застенчиво сказал он.
— Ничего нет проще, — хмыкнув, сказал Агуэрра. — Ты же знаешь, что попал в самое подходящее место для этого. Здесь ты можешь получить отпущение любых беспокоящих тебя грехов. Неужто он так тяжек, что требует внимания самого папы?
Френсис покраснел и покачал головой.
— Как насчет главы Высокого Трибунала? Он не только отпустит тебе грехи, если ты раскаешься в них, но и наградит ударом посоха по голове.
— Я имел в виду… я попросил бы вас, монсиньор, — запинаясь, сказал монах.
— Меня? Почему меня? Я никого не представляю. Здесь перед тобой город, полный красных кардинальских шапок, а ты хочешь исповедываться перед Мальфредо Агуэррой.
— Потому, что… потому, что вы защитник нашего патрона, — объяснил монах.
— Да, в самом деле. Почему бы мне и не выслушать твою исповедь? Но я не могу отпустить тебе грехи именем твоего патрона, ты же знаешь. Нам должна помочь в этом деле Святая Троица. Устраивает?
Френсису почти не в чем было каяться, но на сердце его долгое время лежала тревога, ибо он помнил намек Дома Аркоса и страшился того, что находка убежища может послужить помехой канонизации святого. Истолкователь выслушал его, приободрил, дал совет и отпущение грехов в базилике, а затем провел его по этой старинной церкви. Во время церемонии канонизации и последовавшей за тем мессы Френсис был подавлен великолепием здания. Теперь, сопровождаемый пожилым каноником, он обратил внимание и на выщербленную кладку, нуждавшуюся в восстановлении, и на постыдное состояние древних фресок. Снова ему бросились в глаза приметы бедности, скрытые покровом благородства и достоинства. В свои годы Церковь не могла похвастаться отменным здоровьем.
Наконец Френсис получил возможность вскрыть пакет: там был кошель, а в нем — две геклы золота. Он посмотрел на монсиньора Агуэрру. Тот улыбался.
— Ты сказал, что грабитель выиграл у тебя копию в схватке, не так ли? — спросил Агуэрра.
— Да, мессир.
— Что же, если он вынудил тебя к этому, теперь у тебя есть шанс выиграть у него другим образом, согласен? Ты принимаешь этот вызов?
Монах кивнул.
— Тогда, если ты выкупишь свою работу, я не думаю, что мне придется отпускать тебе грехи, — он хлопнул монаха по плечу и благословил. Пора было прощаться.
Маленький хранитель огонька знаний пешком пустился в обратный путь к аббатству. Шли дни за днями, неделя сменяла неделю, но сердце его пело по мере того, как он приближался к месту встречи с грабителями. «Делай с ним что хочешь», — сказал папа, вручая ему золото. И теперь монаху есть что показать в ответ на насмешливый вопрос грабителя. В мыслях его всплыли книги в тихих покоях, ждущие своей очереди, чтобы вернуться к жизни.
Но грабитель не ждал его в том же месте, как Френсис надеялся. На тропе здесь были недавние отпечатки, но вели они в другую сторону, и нигде не было и следа разбойника. Сквозь ветви светило солнце, и на земле качалась тень густой листвы. Лес был не очень густой, но, по крайней мере, в нем можно было укрыться от солнца. Френсис присел недалеко от тропы, решив ждать.
Проснувшийся к полудню филин ухнул где-то в глубине леса. Стервятники пятнышками висели в синеве неба. Лес был мирным и спокойным. Дремотно прислушиваясь к щебетанию воробьев в кустах неподалеку, он вдруг поймал себя на том, что не уверен — явится ли грабитель сегодня или завтра. Но таким долгим было его путешествие, что он был не против отдохнуть денек в лесу, поджидая его. Он сидел, наблюдая за стервятниками, время от времени поглядывая на тропу, в конце которой его ждал далекий дом в пустыне. Грабитель нашел прекрасное место для своей берлоги. Отсюда тропа была видна не меньше чем на милю в обе стороны, в то время как наблюдатель оставался скрытым покровом леса.
В отдалении на тропе показалось какое-то движение.
Френсис прикрыл глаза от солнца и пригляделся. Ниже по дороге было выжженное пространство, где лесной пожар уничтожил несколько акров кустарника, и казалось, что тропа колышется в жарком мареве, которое стояло над выжженной плешью. В самом средоточии пекла виднелась какая-то маленькая черная закорючка. Через некоторое время прояснилось, что у нее была голова. Еще через какое-то время это стало совершенно ясно, но он по-прежнему не мог определить, приближается ли эта фигура к нему. Когда облака на несколько секунд закрыли солнце и зеркало миража перестало слепить его, даже усталым близоруким глазам Френсиса удалось разобрать, что изогнутая закорючка в самом деле была человеком, но на таком расстоянии узнать его было затруднительно. Он поежился. Закорючка показалась ему чем-то знакомой.
Нет, скорее всего, это не он.
Монах перекрестился и, бормоча молитвы, принялся перебирать четки, не отрывая глаз от существа, передвигающегося в жаркой дали.
Он ждал появления грабителя, а на склоне холма, что возвышался над его головой, были в разгаре жаркие споры, велись они шепотом, односложными выражениями и длились уже около часа. Наконец спорщики пришли к соглашению: Двухголовый убедил Одноголового. «Дети Папы» бок о бок осторожно выбрались из-за кустов и распростерлись на склоне холма.
Они были от Френсиса уже в десяти ярдах, когда скрипнула галька под их ногами. На четках монах переходил к третьему повторению «Аве Мария», когда догадался обернуться.
Стрела поразила его точно между глаз.
— Жрать! Жрать! Жрать! — завопили «Дети Папы».
Пожилой странник присел на бревно, валявшееся у тропы, и прикрыл глаза, чтобы они отдохнули от солнца. Сняв плетеную соломенную шляпу, он сунул в рот листик прессованного табака. Позади у него остался долгий путь. Поиск казался бесконечным, но каждый раз, когда он подходил к очередному повороту или спуску тропы, надежда снова оживала в нем. Передохнув, странник нахлобучил шляпу на голову и почесал кустистую бороду, пока, прищурившись, осматривал окрестность. Прямо перед ним на склоне холма стояла рощица, которую не тронуло пламя. Она обещала долгий отдых в приятной тени, но путник продолжал сидеть на солнцепеке, теперь наблюдая за стервятниками. Большая стая их кружилась низко над рощицей. Одна из птиц, решившись, нырнула в гущу деревьев, но почти тут же показалась снова и, отягощенная ношей, тяжело взмахивая крыльями, нашла наконец восходящий поток воздуха, который понес ее вверх. Было видно по темному силуэту поедателя падали, что он с трудом взмахивает крыльями, хотя обычно стервятники просто парили, экономя силы. Теперь же они спешили приземлиться на этот участок земли, словно их снедало нетерпение.
Наблюдая за активностью птиц, странник оставался в том же положении. Возможно, на холме крылись остатки охоты пумы. На вершине холма могли скрываться существа и похуже пумы, которые порой приходили сюда издалека.
Странник продолжал ждать. Наконец стервятники осмелели и скрылись за деревьями. Странник подождал еще минут пять, затем поднялся и захромал вперед по лесной тропинке, перенося вес с искалеченной ноги на посох.
Немного погодя он уже оказался под сенью рощицы. Стервятники трудились над останками человека. Отогнав их взмахом палки, странник склонился над остатками человеческого тела. Немалая часть его уже исчезла. В черепе торчала стрела, вышедшая наконечником у основания затылка. Старик тревожно всмотрелся в заросли кустов. Никого не было видно, но в отдалении от тропы было изобилие следов. Долго оставаться здесь не стоило.
Но так или иначе дело надо было сделать. Странник нашел место, где мягкая земля позволяла копать ее руками и посохом. Пока он копал, разъяренные стервятники описывали низкие круги над верхушками деревьев. Время от времени они устремлялись к земле, потом снова взмывали в воздух. И час, и два они продолжали неустанно кружиться над рощицей.
Одна из птиц наконец села на землю. С независимым видом она подошла к холмику свежей земли, в изголовье которого стоял камень. Разочарованный стервятник снова поднялся в воздух. Стая легла на крыло и кругами поднялась высоко в горячем воздухе, жадно обозревая простирающиеся под ними пространства.
Неподалеку от Долины рожденных по ошибке лежал мертвый кабан. Увидев его, птицы оживились и понеслись вниз, где их ждало пиршество. В далеком горном проходе пума доела остатки добычи и удалилась. Стервятники были благодарны за предоставленную возможность докончить ее трапезу.
Для них подходила пора откладывать яйца и любовно выращивать подрастающее поколение, которому они приносили мертвых змей и куски дохлых собак.
Птенцы росли сильными, они все дальше и выше отлетали от гнезда на крепнущих крыльях, опушенных черными перьями, и земля щедро дарила их своими плодами. Правда, порой им на обед доставались только жабы. Но случалось насыщаться и путником из Нового Рима.
Маршруты их полетов пролегали над равнинами Среднего Запада. Они радовались тому изобилию добра, которое кочевники оставляли валяться на земле, когда их караваны шли к югу.
Стервятники откладывали яйца и любовно выращивали птенцов. Столетия за столетиями земля обильно кормила их. И впереди лежали еще долгие века, когда она будет поставлять им пропитание…
В свое время в районе Красной реки были отменные объедки, но теперь, с окончанием массовых битв, резни и побоищ, здесь стали расти города. Стервятники без большой радости воспринимали их появление, хотя когда города время от времени гибли, им это нравилось. Они покидали Тексаркану и расселялись все дальше на равнинах Запада. Как и у всех живых существ, поколения их не раз сменялись на Земле.
Шел год от рождения Господа нашего 3174-й.
Повсюду были слышны слухи о войне.
FIAT LUX! ДА БУДЕТ СВЕТ!
Глава 12
Маркус Аполло понял, что война неизбежна, когда услышал, как третья жена Ханнегана рассказывала служанке, что дворецкий, которого она так любила за учтивость, с целой шкурой вернулся из шатров клана Бешеного Медведя. Тот факт, что он живым вернулся из расположения кочевников, говорил, что война зреет. И свидетельствовала о сем следующая последовательность событий: миссия эмиссара заключалась в том, чтобы сообщить племенам Долин — цивилизованные государства заключили Соглашение о Биче Небесном, касающееся спорных земель, и впредь будут сурово карать кочевые племена и отдельных разбойников, если они посмеют вторгаться на эти территории. Но ни один человек на Земле не мог бы доставить такую новость Бешеному Медведю и остаться в живых. То есть, пришел к выводу Аполло, ультиматум не был доставлен, и эмиссар Ханнегана отправлялся в Долины с другой, скрытой целью.
Аполло вежливо прокладывал путь, проталкиваясь сквозь группки гостей, его острые глаза искали брата Кларе и старались поймать его взгляд. Стройная фигура Аполло, облаченная в скромную черную сутану, лишь с яркими опоясками по запястьям, которые говорили о его ранге, резко выделялась в головокружительном калейдоскопе красок одежд всех прочих гостей в банкетном зале. Ему не пришлось долго искать своего помощника; увидев, он кивнул ему, подзывая к столу с закусками, который ныне превратился в свалку объедков, грязной посуды и недоеденных бифштексов. Аполло, поболтав ложкой в бокале, отчего со дна поднялся осадок, увидел плавающего в нем мертвого таракана и задумчиво передал кубок брату Кларе, как только тот предстал перед ним.
— Благодарю вас, мессир, — сказал Кларе, не заметив таракана. — Вы хотели видеть меня?
— Сразу же по окончании приема. У меня. Саркал вернулся живым.
— Ох.
— Никогда не слышал более выразительного «ох». Думаю, что ты понимаешь подтекст событий?
— Конечно, мессир. Это значит, что Соглашение было обманом со стороны Ханнегана и он хочет его использовать против…
— Тс-с-с. Потом.
Аполло заметил, что к ним приближаются, и клирик торопливо приник к чаше, которую поторопился опустошить. Интерес его внезапно оказался прикованным лишь к содержимому бокала, и он не увидел стройную фигуру в одеянии водянисто-светлого шелка, которая направлялась к ним от входа. Аполло вежливо улыбнулся и поклонился человеку. Их руки на мгновение сошлись в нескрываемо прохладном приветствии.
— Ну, Тон Таддео, — сказал священник, — ваше присутствие удивляет меня. Я считал, что вы избегаете такие веселые сборища. Что же в нем такого, что оно привлекло внимание столь досточтимого ученого? — с насмешливым удивлением он поднял брови.
— Конечно, вы, — сказал новоприбывший, отвечая на сарказм Аполло, — были единственной причиной моего появления.
— Я? — Аполло умело изобразил неподдельное удивление, но утверждение это, скорее всего, соответствовало истине. Прием по случаю помолвки сводной сестры отнюдь не был таким событием, которое заставило бы Тона Таддео облачиться в пышный наряд, соответствующий его сану, и покинуть уединенные залы Коллегии.
— В сущности, я искал вас весь день. Мне сказали, что вы будете здесь. В противном случае… — он оглядел банкетный зал и с раздражением фыркнул.
Этот звук заставил встрепенуться брата Кларе, он отвел взгляд от чаши для пунша и повернулся, чтобы отвесить поклон Тону.
— Не хотите ли пунша, Тон Таддео? — спросил он, предлагая полный бокал.
Ученый кивком поблагодарил его и осушил чашу.
— Я хотел бы, чтобы вы несколько подробнее поведали мне о документах Лейбовица, о которых мы беседовали, — сказал он Маркусу Аполло. — Я получил из аббатства письмо от человека по имени Корнхоер. Он уверяет меня, что эти рукописи датированы последним годом европейско-американской цивилизации.
Если упоминание об этом факте, в котором он несколько месяцев назад уверял ученого, и вывело Аполло из себя, он ничем не показал этого.
— Да, — сказал он. — Как я и считал, они совершенно аутентичны.
— Если так, то они поражают меня одной тайной, о которой никто не слышал — впрочем, не будем об этом. Корнхоер перечисляет количество документов и текстов, которые, как он утверждает, имеются у него, и описывает их. Если они в самом деле существуют, я должен их увидеть.
— Вот как?
— Да. Если это обман, его необходимо разоблачить, а в противном случае эти данные могут быть бесценными.
Монсиньор нахмурился.
— Уверяю вас, что обмана здесь нет, — твердо сказал он.
— В письме содержится приглашение посетить аббатство и лично посмотреть документы. Они, скорее всего, слышали обо мне.
— Не обязательно, — сказал Аполло, не в силах не использовать подворачивающуюся возможность. — Их не особенно интересует, кто читает их книги, лишь бы читатели мыли руки и не портили имущество.
Ученый вспыхнул. Предположение, что может существовать грамотный человек, который никогда не слышал его имени, не доставило ему удовольствия.
— Но давайте к делу, — непринужденно продолжил Аполло. — Проблем у вас не существует. Приглашение есть, так что отправляйтесь в аббатство и изучайте тексты. Они радушно вас примут.
Предложение это едва не заставило ученого выйти из себя.
— Но путешествие через Долины в то время, когда клан Бешеного Медведя… — Тон Таддео резко замолчал.
— Что вы сказали? — обратился к нему Аполло, лицо его не выражало никакого особого интереса, хотя вены на висках вздулись, когда он выжидательно смотрел на Тона Таддео.
— Только то, что путешествие будет долгим и опасным, а я не могу покинуть Коллегию на полгода. Я хотел бы обсудить возможность послать группу хорошо вооруженных воинов, которые могли бы доставить документы сюда для изучения.
Аполло хмыкнул. У него возникло детское желание пнуть ученого в голень.
— Боюсь, — вежливо сказал он, — что это невозможно. Но в любом случае решение этого вопроса вне моей компетенции, и предполагаю, что не смогу оказаться вам полезным.
— Почему же? — возразил Тон Таддео. — Разве вы не папский нунций при дворе Ханнегана?
— Совершенно верно. Я представляю здесь Новый Рим, но не монашеский орден, а управление аббатством всецело находится в руках его аббата.
— Но если Новый Рим слегка нажмет на него…
Желание пнуть по голени становилось почти непреодолимым.
— Лучше нам несколько позже вернуться к этому разговору, — любезно сказал монсиньор Аполло. — Вечером у меня в кабинете, если вы не против, — полуобернувшись, он вопросительно посмотрел на собеседника, словно говоря: «Ну?».
— Я приду, — резко сказал ученый, отходя.
— Почему вы сразу не сказали ему «нет» — прямо и недвусмысленно? — взорвался Кларе, когда час спустя они оказались наедине в посольских покоях. — В такое время перевозить бесценные реликвии через разбойничьи угодья? Невероятно, мессир!
— Конечно.
— Тогда почему же…
— По двум причинам. Во-первых, Тон Таддео родственник Ханнегана и имеет на него влияние. Мы должны быть любезны с Цезарем и его родней, нравится нам это или нет. Во-вторых, он начал что-то говорить о клане Бешеного Медведя и резко оборвал себя. Я думаю, он знает о том, что должно случиться. Я не собираюсь заниматься вынюхиванием, но если он сам добровольно что-то сообщит, нам ничего не помешает включить его информацию в сообщение, которое ты сам отвезешь в Новый Рим.
— Я? — клирик не мог скрыть своего изумления. — В Новый Рим?.. Но почему…
— Не так громко, — сказал нунций, бросив взгляд на дверь. — Я собираюсь отослать свою оценку сложившейся ситуации его святейшеству, и сделать это надо побыстрее. Но есть некоторые вещи, писать которые не стоит. Если люди Ханнегана перехватят такое сообщение, то, скорее всего, и я и ты поплывем лицом вниз по Красной реке. Если же его перехватят враги Ханнегана, тот, скорее всего, получит основание публично повесить нас как шпионов. Мученичество, конечно, прекрасная вещь, но у нас дела, которые надо успеть сделать.
— И я доставлю в Ватикан ваше устное сообщение? — пробормотал брат Кларе, явно не обрадованный перспективой пересечь враждебные пространства.
— Так оно выходит. Тон Таддео может, подчеркиваю, только может дать нам повод сразу же отправиться в аббатство святого Лейбовица или в Новый Рим, или и туда и туда. На тот случай, если у Двора появятся какие-то подозрения. С ними я уж справлюсь.
— А в чем будет суть сообщения, которое я должен буду передать, мессир?
— Что амбиции Ханнегана объединить весь континент под властью одной династии не столь уж сумасшедшая мечта, как мы предполагали. Что участие в Соглашении о Биче Небесном — только уловка со стороны Ханнегана, он хочет использовать его, хочет втянуть в конфликт с кочевниками обе империи — Денвера и Ларедана. Если силы Ларедана завязнут в бесконечных стычках с Бешеным Медведем, государству Чихуахуа не понадобится большой отваги, чтобы ударить по Ларедо с юга. Кроме того, между ними постоянно тлеет старая вражда. И тогда Ханнеган пройдет победным маршем до Рио-Ларедо. Взяв к ногтю Ларедо, он может уже строить планы, как завоевать республику Миссисипи и Денвер, не опасаясь удара с юга в свой становой хребет.
— Вы считаете, что Ханнеган может пойти на это?
Маркус Аполло принялся было отвечать, но медленно закрыл рот. Подойдя к окну, он посмотрел на залитый солнцем город, беспорядочно раскинувшееся поселение, построенное главным образом из развалин и щебенки прошлых веков. Город с беспорядочным переплетением улиц рос себе и рос на древних руинах — так же как в свое время на его развалинах поднимется другой город.
— Я не знаю, — тихо ответил Аполло. — В эти времена трудно обвинять человека за то, что он хочет собрать под одну руку этот растерзанный континент. Даже такой ценой, как… нет, я не имею в виду… — он тяжело вздохнул. — Во всяком случае, наши интересы лежат не только в области политики. Мы обязаны предупредить Новый Рим о том, что может последовать, ибо в любом случае Церковь может понести урон. И, исполнив свой долг, мы должны будем держаться в стороне от свар и стычек.
— Вы в самом деле так думаете?
— Конечно нет! — вежливо ответил священник.
Тон Таддео Пфардентротт явился в покои Маркуса Аполло в столь ранний час, что его с большим трудом можно было считать наступлением вечера, и его манеры претерпели заметные изменения со времени их встречи на приеме. На губах играла сердечная улыбка, а тон его разговора отличался серьезностью и нервным напряжением. «Этот тип, — подумал Маркус, — пришел потому, что он в чем-то страшно нуждается, и он даже старается быть вежливым в надежде получить это». Может быть, список древних текстов, присланных монахом из аббатства Лейбовица, поразил Тона больше, чем он хочет признать. Нунций был готов к фехтовальной дуэли, но неподдельное восхищение ученого делало его столь легкой жертвой, что Аполло расслабился, отложив готовность к словесной дуэли.
— Сегодня в полдень была встреча всех факультетов Коллегии, — сказал Тон Таддео, когда они присели. — Мы говорили о письме брата Корнхоера и о списке документов, — он помолчал, словно сомневаясь, стоило ли об этом рассказывать. Тусклый свет приближающегося вечера, падавший из большого овального окна слева от него, подчеркивал бледность и напряженность лица Тона Таддео, и его большие серые глаза не отрывались от лица священника, словно он прикидывал, что услышит в ответ.
— Предполагаю, что сообщение было встречено с определенным скептицизмом?
Серые глаза тут же опустились и снова поднялись.
— Должен ли я быть излишне вежливым?
— Пусть вас это не волнует, — хмыкнул Аполло.
— Да, скептицизма было в избытке. «Недоверие» — вот более точное слово. Я сам лично считаю, что если такие бумаги и существуют, то датированы они поддельной датой, которая была нанесена несколькими столетиями позже. Я сомневаюсь, что сегодняшние монахи в аббатстве пошли на такой подлог. Конечно, они искренне верят в ценность документов.
— С вашей стороны очень любезно признать это, — мрачно сказал Аполло.
— Я могу перейти на более вежливый язык, как я вам и предлагал. Хотите?
— Нет. Продолжайте.
Тон соскользнул со стула и перебрался на подоконник. Глядя на желтоватые купы облачков, тянущихся на запад, и мягко постукивая ладонью по оконной раме, он продолжил:
— Эти бумаги… Независимо от того, что мы собираемся в них обнаружить, одна лишь мысль о том, что такие документы по-прежнему в сохранности могут существовать, — одна лишь эта мысль должна заставить нас немедленно приступить к их изучению.
— Очень хорошо, — слегка смутившись, сказал Аполло, — они вас пригласили. Но скажите мне: почему вас так возбуждает мысль о находке этих документов?
Ученый бросил на него быстрый взгляд.
— Вы знакомы с моими работами?
Монсиньор помедлил. Он был с ними знаком, но признание этого факта должно было заставить его высказать и свое беспокойство по поводу того, что имя Тона Таддео с тех пор, как ему едва минуло тридцать, уже упоминалось в одном ряду с именами натурфилософов, которые умерли тысячу и более лет назад. Священник не был готов признать, что молодой ученый давал основания считать его одним из тех редких представителей рода человеческого, одним из тех гениев, что рождаются один-два раза в столетие, и их взгляды меняют всю картину мира. Он откашлялся.
— Должен признать, что добрую долю из них я не читал…
— Неважно, — Пфардентротт отмахнулся от его извинений. — Большинство из них носят чисто абстрактный характер и довольно скучны для законников. Теории электричества. Движение планет. Взаимопритяжение тел. И тому подобные материи. И теперь Корнхоер упоминает такие имена, как Лаплас, Максвелл и Эйнштейн — эти имена что-нибудь значат для вас?
— Немного. В истории они упоминаются как натурфилософы, не так ли? Они существовали незадолго до гибели последней земной цивилизации. И мне кажется, что они упоминались в одном из еретических житий святых, не так ли?
Ученый кивнул.
— Это все, что известно о них и об их работах. Как говорят наши не очень сведущие историки, они были физиками. Их заслугами объясняется стремительный рост евро-американской культуры, как они считают. Историки склонны к банальностям. Я почти не обращаю на них внимания, да и забыл их работы. Но в описании старых документов, присланных Корнхоером, говорится, что там есть старые тексты, относящиеся к физике. Это просто невероятно!
— И вы должны в этом убедиться?
— Мы должны быть убеждены. Но поскольку об этом зашел разговор, я предпочел бы никогда не слышать о них.
— Почему?
Тон Таддео пристально вглядывался в лежащую под ним улицу. Он подозвал священника.
— Подойдите сюда на минутку. И я вам покажу, почему.
Аполло выскользнул из-за стола и подошел к окну, посмотрев вниз на улицу с колеями, полными невысыхающей грязи под стенами дворца, которая, опоясывая и дворец, и пристройки к нему, и строения Коллегии, отграничивала святилище от плебейских лачуг города. Ученый показал на смутно различимую фигуру крестьянина, который в сумерках гнал домой ослика. Ноги путника были обмотаны мешковиной и так облеплены грязью, что он с трудом поднимал их. Он продвигался вперед шаг за шагом, каждый раз приостанавливаясь на секунду, прежде чем поднять ногу. И было видно, что избавиться от грязи было для него непосильной задачей.
— Он не садится на своего осла, — сказал Тон Таддео, — потому что утром ослик таскал зерно. И ему не приходит в голову, что мешки уже пустые. Как он жил утром, так же можно жить и к вечеру.
— Вы его знаете?
— Он проходит и под моими окнами. Каждое утро и каждый вечер. Разве вы не замечали его?
— Здесь тысячи таких, как он.
— Взгляните. Можете ли вы заставить себя поверить, что это человекоподобное существо — прямой потомок тех, кто смог придумать машины, летающие в воздухе, кто высаживался на Луне, использовал себе во благо силы Природы, создавал машины, которые могли говорить и, похоже, начинали думать? Можете ли вы поверить в такое, глядя на этого человека?
Аполло молчал.
— Посмотрите на него! — настаивал ученый. — Хотя нет, уже слишком темно. Вам не удастся увидеть сифилитические пятна у него на шее и провалившуюся переносицу. Поражена нервная система. Вне всякого сомнения, с самого рождения он уже был слабоумным. Безграмотный, суеверный, кровожадный. Он заражает своих детей. А за несколько монет он может убить их. Во всяком случае, когда они подрастут и смогут приносить пользу, он продаст их. Посмотрите на него и скажите — видите ли вы, к чему пришла некогда могучая цивилизация? Что же вы видите?
— Образ Христа, — раздраженно скрипнул зубами монсиньор, удивленный своей внезапной вспышкой гнева. — А что, по вашему мнению, я должен был увидеть?
Ученый нетерпеливо фыркнул.
— Несоответствие. Людей, которых вы видите через свои окна, и тех, которые, как нас уверяют историки, когда-то существовали. Я не могу принять этого. Каким образом столь великая и могучая цивилизация могла разрушить себя до основания?
— Возможно, потому, — сказал Аполло, — что она была велика и могуча лишь в материальном смысле — и ничего больше, — он отошел зажечь свечи, потому что сумерки стремительно и незаметно перешли в ночь. Он чиркал кресалом и огнивом, пока не высек искру, и стал осторожно раздувать трут.
— Возможно, — сказал Тон Таддео, — но я сомневаюсь в этом.
— Вы отрицаете всю историю, как чистый миф? — Наконец от трута занялось пламя.
— Не отрицаю как таковую. Но она вызывает многочисленные вопросы. Кто писал нашу историю?
— Естественно, монашеские ордена. Во время темных столетий не было никого другого, кто мог бы заняться этим, — монсиньор осторожно подрезал фитиль.
— Вот именно! И вы управляли ими. А во время антипапы сколько схизматических орденов фабриковали свои версии событий и распространяли свои сочинения как работы предыдущих веков? Вы не можете этого знать, вы не можете знать этого доподлинно. На этом континенте существовала куда более развитая цивилизация, чем то, что мы сегодня имеем, и отрицать это невозможно. Стоит только взглянуть на груды щебня и на ржавые остатки металла, и вы поймете это. Стоит зарыться в песчаные насыпи, и вы найдете их дороги, выщербленные от времени. Но где свидетельства существования машин, о которых нам рассказывали ваши историки? Где остатки самодвижущихся повозок и летающих машин?
— Переплавлены на плуги и мотыги.
— Если только они существовали.
— Коль скоро вы сомневаетесь в этом, зачем вам утруждать себя изучением документов Лейбовица?
— Потому что сомнение — не отрицание. Сомнение — это движущая сила, и история должна это признать.
Нунций натянуто улыбнулся.
— И чего вы хотите от меня, высокоученый Тон?
Ученый с серьезным видом склонился к нунцию.
— Напишите аббату. Заверьте его, что с документами будут обращаться с величайшей тщательностью, и после того как мы, изучив их, установим их аутентичность, исследуем их содержание, они будут тут же возвращены.
— Чью гарантию вы хотите, чтобы я дал ему — вашу или мою?
— Ханнегана, вашу и мою.
— Я могу дать только гарантию Ханнегана и вашу. У меня нет собственных войск.
Ученый покраснел.
— Скажите, — торопливо добавил нунций, — почему, не считая опасности столкновения с бандитами, вы настаиваете, что должны увидеть их именно здесь, вместо того чтобы отправиться самому в аббатство?
— Самая убедительная причина, которую вы можете изложить аббату, заключается в том, что если документы в самом деле подлинные и если мы их исследуем в аббатстве, подтверждение того будет не очень убедительно для других светских ученых.
— Вы имеете в виду… ваши коллеги решат, что монахи как-то провели вас?
— М-м-м… можно сказать и так. Но, кроме того, важно, что, если они окажутся здесь, их сможет исследовать каждый член Коллегии, достаточно квалифицированный, чтобы сформулировать собственное мнение. И любой достойный Тон из соседних княжеств, посетивший нас, может сам взглянуть на них. Мы не можем отправить всю Коллегию в далекую пустыню на шесть месяцев.
— Я понимаю вашу точку зрения.
— Вы пошлете письмо в аббатство?
— Да.
Тон Таддео не мог скрыть изумления.
— Но это будет ваша просьба, а не моя. И, откровенно говоря, должен предупредить вас, что я не уверен в согласии Дома Пауло, аббата обители.
Тем не менее Тон был удовлетворен. Когда он удалился, нунций подозвал своего помощника.
— Завтра же ты отправляешься в Новый Рим, — сказал он ему.
— По пути заехать в аббатство Лейбовица?
— Завернешь туда на обратном пути. Сообщение для Нового Рима очень спешно.
— Да, мессир.
— А в аббатстве скажешь Дому Пауло, что Шеба ждет прибытия Соломона к ней. С дарами. А потом лучше прикрой уши. Когда он кончит извергаться, спеши обратно, чтобы я мог сказать «нет» Тону Таддео.
Глава 13
В пустыне время течет медленно и неторопливо, и мало чем можно отмерить его ход. Два времени года сменились с тех пор, как Дом Пауло ответил отказом на просьбу, пришедшую из-за Долин, но дело уладилось только две недели назад. Или с ним вообще было покончено? Результаты не принесли Тексаркане облегчения.
На закате аббат прогуливался вдоль стен аббатства, выставив вперед челюсть, напоминая замшелый старый утес, о который должны разбиваться все вихри и ураганы стихии. Его белоснежные волосы, поднятые ветром пустыни, ореолом стояли вокруг головы; ветер рвал на его сутулом теле привычное одеяние, и он выглядел, как бредущий изможденный Иезекииль со странно округлым брюшком. Засунув в рукава свои шишковатые от старости кисти, он время от времени бросал взгляд через пространство на деревеньку Санли Боуиттс, лежащую в отдалении от аббатства. От красных лучей заката по двору протянулись длинные тени, и монахи, которые в это время торопливо пересекали его, с удивлением глядели на старика. Глава паствы к завершению дня впадал в плохое настроение и изрекал странные предсказания. Шепотком ходили слухи, что грядет время, когда обителью будет править новый аббат ордена святого Лейбовица. Шептались, что старик плох, совсем не в себе. Шептались, что, если аббат услышал бы этот шепот, шептуны повисли бы на стенах аббатства. Аббат все слышал, но ему доставляло удовольствие не обращать внимания ни на что. Он прекрасно понимал, что шепот говорил сущую правду.
— Прочти мне снова, — отрывисто сказал он монаху, который безмолвно стоял рядом с ним. Капюшон, закрывавший голову монаха, слегка качнулся в направлении аббата.
— Что именно, Домине? — спросил он.
— Ты знаешь, что.
— Да, милорд, — монах порылся в рукаве. Было видно, что он обвис под тяжестью полбушеля документов и корреспонденции, но через секунду монах нашел то, что требовалось. Привязанная к свитку, болталась табличка, говорившая об авторе и об адресате письма: с приветом к Маркусу Аполло обращался Дом Пауло де Пекос, аббат монастыря Братства Лейбовица, что неподалеку от деревни Санли Боуиттс, юго-западная пустыня, империя Денвер.
— Оно и есть. Итак, читай, — нетерпеливо сказал аббат.
«Взываю к тебе…»
Монах перекрестился и пробормотал привычное благословение Текста, которое произносилось перед зачтением любого текста столь пунктуально, как и молитва перед трапезой. Так как забота о сбережении грамотности, которую надо было пронести сквозь непроглядную тьму столетия, была целью Братства святого Лейбовица, этот маленький ритуал заставлял всегда держать ее в центре внимания.
Покончив с благословением, он поднял свиток так, что пронизанный закатными лучами, он стал почти прозрачным.
Iterum oportet apponere tibi cruce ferendam, amice…[22]
Голос его звучал громко и напевно, пока глаза бежали по строчкам, извлекая слова из причудливой вязи почерка. Слушая, аббат прислонился к парапету, наблюдая, как коршуны кружатся над плоской верхушкой горы Последнего Успокоения.
«Опять возникла необходимость возложить на вас крест, старый мой друг и пастырь близоруких книжных червей, — звучал голос чтеца, — но, возможно, тяжесть креста несет с собой и запах триумфа. Похоже, что Шеба все же явится к Соломону, хотя, скорее всего, объявит его шарлатаном.
«Сим сообщаю Вам, что Тон Таддео Пфардентротт, Мудрейший из Мудрейших, Учитель Учителей, Прекрасный Сын, родившийся вне брака некоего Принца, Божий Дар «Пробуждающегося Поколения» наконец решился нанести Вам визит, потеряв все надежды на получение вашей Меморабилии в его прекрасном королевстве. Он явится в канун Успения, если ему удастся избежать столкновения с группами «бандитов» по пути. Он пускается в путь с дурными предчувствиями и небольшим отрядом вооруженных всадников, что явилось результатом любезности Ханнегана II, чья корпулентная туша ныне нависает надо мной, когда я пишу, и что-то бурчит, глядя на эти черточки, которые Его Высочество указал мне вывести, и в которых Его Высочество попросил меня представить Тона, его кузена, наилучшим образом в надежде, что вы ему окажете подобающий прием. Но так как секретарь Его Высочества возлежит в постели с подагрой, пишу Вам откровенно и прямо.
Первым делом, разрешите оповестить Вас об этом лице, о Тоне Таддео. Примите его с обычной для Вас вежливостью, но особенно ему не доверяйте. Он блестящий ученый, но ему свойственно светское направление интересов, и политически он всецело предан государству. А здесь государство представляет собой Ханнеган. Во-вторых, Тон скорее антиклерикален, как я думаю, — или в крайнем случае, настроен антимонастырски. После его рождения, наделавшего немало хлопот, он воспитывался в монастыре бенедиктинцев и… впрочем, спросите лучше курьера относительно этой темы…»
Монах поднял глаза от текста. Аббат по-прежнему наблюдал за кружением стервятников над Последним Успокоением.
— Ты что-нибудь слышал о его детстве, брат? — спросил Дом Пауло.
Монах кивнул.
— Читай дальше.
Чтение продолжалось, но аббат уже не слушал. Он знал письмо это почти наизусть, но все время чувствовал, что было в нем нечто, что Маркус Аполло тщился сказать между строк, и что ему, Дому Пауло, все никак не удается понять. Маркус старается предупредить его — но о чем? Тон письма был легковесен и даже дерзок, но в нем была какая-то недосказанность, которая вызывала темную тревогу, если он все правильно понимал. Какую опасность мог представлять светский ученый, который хочет уделить время своим занятиям в аббатстве?
По рассказу курьера, который доставил письмо, сам Тон Таддео с детства обучался в монастыре бенедиктинцев, куда его отдали ребенком, чтобы не доставлять сложностей жене его отца. Отцом Тона был дядя Ханнегана, а матерью — служанка во дворце. Графиня, законная жена графа, ничего не имела против того, что граф порой волочился за женщинами, пока одна из них не родила ему сына, о котором он всегда мечтал; и тогда она ударилась в тоску и рыдания. Она рожала ему только дочек, и в народе ходили слухи, что над ней тяготеет заклятье. Она отослала ребенка, выпорола и прогнала служанку и мертвой хваткой вцепилась в графа. Она решила обязательно произвести на свет ребенка мужского пола, чтобы восстановить свою женскую честь; на свет появились еще три дочки. Граф терпеливо ждал пятнадцать лет, и когда она умерла от осложнений при родах (еще одна дочка), он прямиком отправился к бенедиктинцам, признал мальчика и объявил его своим наследником.
Но молодой Таддео Ханнеган-Пфардентротт вырос в суровости и ожесточении. С детства и до отрочества он рос в отдалении от города и дворца, где его двоюродный брат готовился взойти на трон. Если бы его собственная семья продолжала не обращать на него внимания, он бы, возможно, вырос без ощущения отверженности своего положения. Но и его отец, и девушка-служанка, чье чрево выносило его, навещали его достаточно часто, чтобы дать почувствовать — он живой человек из плоти и крови, а не из камня, и постепенно он стал понимать, что лишен той доли любви, для которой был рожден. И когда принц Ханнеган навестил монастырь, чтобы провести год в учебе, он ужасно важничал пред своим незаконнорожденным братом, дав ему понять, что превосходит его по всем статьям, кроме одной — в гибкости ума Таддео далеко обошел его. Юный Таддео возненавидел принца с тихой яростью и за все время учебы старался держаться от него как можно дальше. Пребывание их под одной крышей все поставило на свои места: на следующий год принц оставил монастырь таким же неграмотным, как и прибыл, с головой, свободной от каких бы то ни было мыслей. Тем временем его брат-изгнанник продолжал постигать науки в одиночестве и удостоился высших почестей за успехи, но его победа была ни к чему, так как Ханнеган ее даже и не заметил. Тон Таддео относился ко двору в Тексаркане с откровенным презрением, но с юношеской непоследовательностью охотно вернулся туда, чтобы Двор наконец признал его сыном своего отца, он простил всех, кроме покойной графини, изгнавшей его, и монахов, принявших его во время ссылки.
«Возможно, мысль о нашем монастыре вызовет у него неприятные воспоминания», — подумал аббат. Горькие, спутанные, а может, и воображаемые воспоминания.
«…Новая Грамотность дает противоречивые всходы, — продолжал читать монах. — Потому будь осторожен и наблюдай за симптомами.
Но, с другой стороны, не только Его Высочество, но и соображения справедливости требуют, чтобы я представил его Вам как самого благожелательного человека или как человека, совершенно чуждого злу, не в пример этим образованным и любезным язычникам (каковыми, несмотря ни на что, они сами себя делают). Он будет вести себя подобающим образом, если Вы проявите достаточно твердости, но будьте осторожны, друг мой. Ум у него, как заряженный мушкет, и он может выстрелить в любом направлении. Я не сомневаюсь, что Ваше гостеприимство и Ваша сообразительность позволят успешно решить любую проблему общения с ним».
— Дай-ка мне еще раз посмотреть на печать, — сказал аббат. Монах протянул ему свиток. Дом Педро поднес его ближе к глазам и вгляделся в расплывшиеся буквы надписи внизу пергамента, которые оставила грубо вырезанная деревянная печать.
С ОДОБРЕНИЯ ХАННЕГАНА II, МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ ПРАВИТЕЛЯ ТЕКСАРКАНЫ, ЗАЩИТНИКА ВЕРЫ, ВЕРХОВНОГО ВСАДНИКА ДОЛИН. ПЕЧАТЬ ЕГО: Х
— Интересно, читал ли его высочество письмо, отосланное от его имени? — забеспокоился аббат.
— В таком случае, милорд, разве было бы оно отослано?
— Предполагаю, что нет. Но игривость под носом у Ханнегана, использующая его неграмотность, не свойственна Маркусу Аполло, хотя он старался что-то сказать мне между строк — но, скорее всего, он не мог придумать достаточно надежного способа сообщить мне то, что хотел. Вот эта последняя часть — относительно чаши, которая, как он опасается, будет пронесена мимо. Ясно, его что-то беспокоит, — но что? Нет, на Маркуса это не похоже, совершенно не похоже на него.
После прибытия письма прошло несколько недель; спал в это время Дом Пауло плохо, страдая от приступов застарелого гастрита; порой в своих видениях он то и дело возвращался мыслями к прошлому, и ему казалось, что многое надо было делать по-другому, что позволило бы избежать будущего. «Какого будущего?» — спрашивал он себя. Причин испытывать тревогу вроде не было. Противоречия между монахами и селянами давно сошли на нет. Кочевые племена на севере и востоке не давали никаких поводов для беспокойства. Империя Денвера не собиралась усиливать налоговый пресс для монастырских конгрегаций. В отдалении не бродило никаких отрядов. Оазис по-прежнему в изобилии снабжал водой. Ни среди животных, ни среди людей не было признаков какой-нибудь чумы. На орошаемых полях в этом году уродился отличный урожай. Мир шел к прогрессу, и процент грамотных в соседней деревушке Санли Боуиттс поднялся на невиданную высоту — восемьдесят процентов, за что ее обитатели могли (но не хотели) благодарить лишь монахов ордена Лейбовица.
И все же он чувствовал — что-то грядет. Где-то в дальнем уголке мира таится некая безымянная угроза, из-за которой, казалось ему, однажды не взойдет солнце. Чувство это угнетало его, как рой голодных насекомых, облепивших лицо путника в пустыне. Оно было беспричинным, беспочвенным, бессмысленным, оно крылось в сердце, как обезумевшая от жары гремучая змея, готовая кинуться и на перекати-поле.
Это искушающий его дьявол, с которым он пытается помериться силами, решил аббат, но дьявол, чьи следы невозможно уловить. Дьявол аббата был мал ростом, не более чем по колено, но весил он десять тонн и обладал силой пятисот быков. Не злоба толкала его, как представлялось Дому Пауло, а невозможность поступать по-другому — как не может вести себя иначе бешеная собака. Она рвет мясо до костей, вцепившись в него зубами просто потому, что на ней лежит проклятье безвыходности, которая вызывает неутолимый аппетит. Зло было таковым просто потому, что оно отрицало существование Бога, и отрицание это стало частью его бытия или же того пустого места, которое оно собой представляло. Порой Дому Пауло казалось, что он одолел океан людского бытия, и волны оного искалечили его.
«Что за чепуха, старик! — пробормотал он про себя. — Ты просто устал от жизни, и происходящие в тебе изменения кажутся тебе злом, разве не так? Ибо любые изменения несут с собой беспокойство, смущающее смертный покой на закате жизни. Да, пусть его искушает дьявол, но не отдавай ему больше, чем того заслуживает его проклятое существование. Ведь ты, древнее ископаемое, просто устал от жизни, не так ли?».
Но предчувствие не покидало его.
— Как вы думаете, стервятники уже съели старого Элеазара? — спросил тихий голос рядом с ним.
Сумерки сгущались, и Дом Пауло обернулся. Голос принадлежал отцу Галту, его приору и возможному наследнику. Он стоял с розой в руках и, казалось, был смущен тем, что нарушил покой старого человека.
— Элеазара? Ты имеешь в виду Бенджамина? Что-нибудь слышал о нем?
— Увы, нет, отец аббат, — он смущенно рассмеялся. — Но я видел, как вы смотрели в сторону столовой горы, и решил, что вы думаете об этом, о старом еврее, — он взглянул на гору, верхушка которой имела очертания наковальни, вырисовывающейся серым пятном на фоне неба к западу от аббатства. — Там тянется дымок, и поэтому я предположил, что он еще жив.
— Мы не имеем права предполагать, — резко сказал Дом Пауло. — Я хочу верхом съездить туда и нанести ему визит.
— Вы говорите так, словно собираетесь это сделать сегодня вечером, — хмыкнул Галт.
— Завтра или послезавтра.
— Вам бы лучше поостеречься. Говорят, что он бросает камни со скалы.
— Я не видел его пять лет, — признался аббат. — И мне стыдно. Он в полном одиночестве. Я тоже.
— Если он так одинок, почему же он настаивает на своем желании жить отшельником?
— Чтобы избежать одиночества — но в новом мире.
Молодой священник рассмеялся.
— Наверно, он в самом деле так ощущает его. Отче, но по правде я этого не вижу.
— Когда ты достигнешь моих лет или его, то увидишь.
— Не думаю, что доживу до такого возраста. Он утверждает, что ему несколько тысяч лет.
Аббат задумчиво усмехнулся.
— И знаешь, я не хочу с ним больше спорить. Впервые я встретил его, когда был послушником, лет пятьдесят назад, и он выглядел таким же старым, как и сегодня. Ему, должно быть, больше сотни лет.
— Три тысячи двести девять лет, как он говорит. А порой и больше. Думаю, что он и сам верит в свои слова. Интересный вид сумасшествия.
— Я отнюдь не уверен, чти он сумасшедший, отец. Психика у него нормальная, но с отклонениями. Зачем вы меня искали?
— Три небольших дела. Во-первых, как нам до прибытия Тона Таддео выставить Поэта из королевских покоев для гостей? Он приедет через несколько дней, а Поэт пустил там такие корни…
— Я займусь им. Что еще?
— Вечерня. Вы явитесь в церковь?
— После повечерия. Займись этим сам. Что еще?
— В подвале идет спор — в связи с экспериментами брата Корнхоера.
— Кто и о чем?
— Суть спора достаточно глупа. Брат Корнхоер оспаривает точку зрения брата Амбрустера на vespero mundi expectando[23], говоря, что это та заутреня, которую служили тысячелетиями. Корнхоер передвинул некоторую обстановку, чтобы освободить себе место для экспериментов. Брат Амбрустер завопил: «Проклятье на тебя!», а брат Корнхоер стал орать: «Ради прогресса!», и они снова сцепились друг с другом. Затем они бросились ко мне за разрешением их конфликта. Я стал распекать их, чтобы они умерили свой темперамент. Они смирились и десять минут просили друг у друга прощения. Через шесть часов пол задрожал от воплей брата Амбрустера в библиотеке: «Проклятье!». Я ждал, что последует взрыв, но, оказывается, речь идет об Основном Вопросе.
— Чего ты хочешь от меня, чтобы я сделал? Выгнать их из-за стола?
— Пока не надо, но вы могли бы предупредить их.
— Хорошо. Я справлюсь с этим. Есть что-то еще?
— Это все, — он собрался уходить, но остановился. — Да, кстати, как вы думаете, та хитроумная штука, что придумал брат Корнхоер, будет работать?
— Надеюсь, что нет! — фыркнул аббат.
Отец Галт не мог скрыть удивления.
— Но тогда почему же ему было позволено…
— Потому что сначала мне самому было любопытно. Но его работа вызвала столь много сложностей, и я чувствую свою вину за то, что разрешил ему начать ее.
— Тогда почему бы не остановить его?
— Потому что я надеюсь, что он дойдет до абсурда и без моей помощи. Если его постигнет неудача, то случится это как раз к прибытию Тона Таддео. И у нас будет прекрасный повод заставить брата Корнхоера заняться умерщвлением плоти и принести покаяние, что напомнит ему о его обетах — а то он в самом деле начнет думать, что обратился к Религии главным образом для того, чтобы строить источник электрической субстанции в подвале монастыря.
— Но, отец аббат, если у него получится, вам придется признать, что это в самом деле достижение.
— Мне не придется признавать этого, — вежливо сказал Дом Пауло.
Когда Галт ушел, аббат, подумав некоторое время, решил первым делом взяться за проблему Поэта, отложив на потом проблему «проклятье-против-прогресса». Простейшее решение стоящей перед ним задачи заключалось в том, что Поэта необходимо изгнать из королевских гостевых покоев и лучше всего вообще из аббатства, чтобы его не было ни видно, ни слышно в окрестностях. Но никому еще не удавалось принять «простейшее решение», когда дело касалось этого Поэта.
Аббат оставил парапет и через двор направился к домику для гостей. Двигался он, руководствуясь лишь ощущениями, потому что здание было в полной темноте, не освещенное даже светом звезд, и лишь в нескольких окнах колыхались огоньки свечей. Окна королевских покоев были совершенно темны, но Поэт скорее всего пребывал в состоянии вдохновения и должен был находиться там.
Внутри строения он пошарил по стене в поиске двери справа, нашел ее и постучал. Немедленного ответа не последовало, а раздался слабый блеющий звук, источник которого мог находиться и вне помещения. Он постучал снова и толкнул дверь. Та открылась.
Слабый багровый свет от тлеющих в жаровне углей освещал помещение; в комнате стоял запах несвежей пищи.
— Поэт?
Опять раздались те же невнятные звуки, но на этот раз они были ближе. Аббат подошел к очагу, расшевелил дотлевающие угли и зажег лучину. Оглядевшись, он содрогнулся при виде хаоса, царящего в комнате. Она была пуста. Дом Пауло зажег масляную лампу и отправился исследовать остальное помещение. Его придется тщательно вычистить и окурить дымом (и скорее всего провести тут изгнание дьявола) до прибытия Тона Таддео. Он надеялся, что Поэт уберет здесь, но надежда на это была слабой.
Во второй комнате Дому Пауло показалось, что кто-то наблюдает за ним. Остановившись, он медленно обернулся.
Одинокий зрачок пялился на него из сосуда с водой, стоящего на полке. Аббат успокоенно кивнул ему и вышел.
В третьей комнате он увидел козла. Это была их первая встреча.
Козел стоял у дальней стены большого кабинета, пережевывая ростки брюквы. Похоже, что то был козленок, родом с гор, но у него была совершенно лысая голова, которая в свете лампы казалась голубоватой. Несомненно, он родился уродцем.
— Поэт? — тихо спросил он, глядя на козла, пока рука его искала нагрудный крест.
— Иди сюда, — раздался сонный голос из четвертой комнаты. Дом Пауло облегченно вздохнул. Козел продолжал жевать зелень. Ну и дикие же мысли приходят в голову!
Поэт лежал, распростершись на постели, рядом в пределах досягаемости стояла бутылка вина: когда свет лампы упал на него, он раздраженно прищурил свой здоровый глаз.
— Я спал, — пожаловался Поэт, прилаживая на место черную повязку на глазу и протягивая руку за бутылкой.
— А теперь просыпайся. И немедленно убирайся отсюда. Сегодня же вечером. Вытаскивай свои пожитки в холл, чтобы тут можно было проветрить. Если хочешь, можешь спать в келье у конюхов на нижнем этаже. Утром вернешься и вычистишь все добела.
В этот момент Поэт выглядел как сломанная лилия: порывшись, он что-то нашел под одеялом. Вытащив из-под него сжатый кулак, он задумчиво посмотрел на него.
— Кто раньше пользовался этими покоями? — спросил он.
— Монсиньор Лонджи. Ну и что?
— Интересно, кто притащил сюда полчища клопов? — Поэт открыл кулак, подцепил что-то на ладони, раздавил между ногтями и отшвырнул остатки. — Все они могут достаться Тону Таддео. Мне они не нужны. Как только я тут очутился, они меня живьем съедают. Я и сам собирался уйти отсюда, а теперь, когда вы мне предлагаете мою старую келью, я просто счастлив…
— Я не имел в виду…
— …воспользоваться еще некоторое время вашим гостеприимством. Во всяком случае, пока я не окончу свою книгу.
— Какую книгу? Впрочем, неважно. Вытаскивай отсюда свои пожитки.
— Сейчас?
— Сейчас.
— Отлично. Не думаю, что мог бы выдержать еще одну ночь с этими клопами. — Поэт сполз с постели и приостановился, чтобы сделать глоток.
— Отдай мне вино, — приказал аббат.
— О, конечно. Попробуй. Из прекрасных виноградников.
— Спасибо, потому что оно украдено из монастырских подвалов. Кажется, вино для причастия. Это тебе не приходило в голову?
— Меня в сие не посвящали.
— Удивительно, что ты вообще думаешь об этом, — Дом Пауло взял бутылку.
— Я вообще его не крал. Я…
— Не в вине дело. Откуда ты украл козла?
— Да не крал я его, — взмолился Поэт.
— Он что — возник просто так?
— Это подарок, досточтимейший.
— От кого?
— От дорогого друга, высокочтимейший.
— От какого дорогого друга?
— От моего, сир.
— Что за парадокс? Откуда у тебя здесь…
— От Бенджамина, сир.
Дом Пауло не мог скрыть тени удивления, мелькнувшего на его лице.
— Ты украл его у старого Бенджамина?
Поэт моргнул при этом слове.
— О, прошу вас, — только не крал.
— Тогда что же?
— После того как я сложил сонет в его честь, он настоял, чтобы я взял его в качестве дара.
— Говори правду!
Поэт жалобно сглотнул.
— Я выиграл его в игре в блошки.
— Вижу.
— Это правда! Этот старый колдун ободрал меня до нитки и отказался верить на слово. Мне пришлось поставить мой стеклянный глаз против козла. Но я все отыграл.
— Гони этого козла из аббатства.
— Но это восхитительный образец козла. Молоко его пахнет неземными ароматами и исключительно питательно. В сущности, именно его присутствием объясняется долголетие старого еврея.
— Сколько ему?
— Пять тысяч четыреста восемь лет.
— А я думал, что ему всего три тысячи двести… — Дом Пауло разочарованно замолчал. — Что ты делал на Последнем Успокоении?
— Играл в блошки со старым Бенджамином.
— Я имел в виду… — аббат сдержал себя. — Не важно. А теперь убирайся отсюда. Завтра вернешь козла Бенджамину.
— Но я честно выиграл его.
— Не будем спорить по этому поводу. В таком случае отведи козла в конюшню. Я сам его верну.
— Почему?
— Козлы нам не нужны. И тебе тоже.
— Хех-хе, — лукаво сказал Поэт.
— Что это значит, нечестивец?
— Прибывает Тон Таддео. Прежде чем он уедет, в козле будет большая необходимость. Уж в этом вы можете быть уверены, — и он хмыкнул, восторгаясь собственной проницательностью.
Аббат повернулся к выходу, чувствуя нарастающее раздражение.
— Убирайся же наконец, — с излишним гневом вымолвил он, направляясь разбираться с конфликтом в подвале, где ныне размещалась Меморабилия.
Глава 14
Глубокий, выложенный камнем подвал был выкопан столетия назад, в те времена, когда с севера начали просачиваться кочевники и орды захватили пустыню и большие пространства Долин, огнем и мечом опустошая все, что лежало у них на пути. Меморабилия, малая часть тех знаний, которых аббатству удалось уберечь от забвения, была спрятана в подземном убежище, чтобы спасти бесценные рукописи и от кочевников, и от «крестоносцев мести», созданных схизматическими орденами для борьбы с неверными, но погрязнувших в грабежах и сектантских раздорах. Ни кочевников, ни солдат военного ордена святого Панкраца не интересовали книги аббатства, но кочевники могли сжечь их просто из радостного стремления к всеобщему разрушению, а вооруженные братья-рыцари могли побросать их в костер как «еретические» сочинения, не соответствующие теологическим взглядам их антипапы Виссариона.
Но теперь Темные века, похоже, клонились к закату. Двенадцать столетий огонек знаний тлел в монастырях, и только сейчас он был готов возгореться. Давным-давно, в отдаленные времена, некоторые гордые мыслители утверждали, что ценность знаний не может быть разрушена — идеи не подвержены гибели, а правда бессмертна. Но то было истиной только в определенном, малом смысле, думал аббат, и не носило всеобъемлющего характера. Чтобы быть точным, мир обладал объективным смыслом, которым были слово и образ Создателя, лежащие по ту сторону морали, но главное было в Боге, а не в Человеке, пока тот был подвержен непрестанной цепи перерождений, темным озарением, не понимающим ни речи, ни культуры человеческого общества. Да, Человек является носителем и культуры, и духа, но культура его не бессмертна, и если он погибает от несчастных случаев или от старости, то человеческое представление о смысле жизни и понимание, что такое правда, идут на убыль, оставаясь невидимыми пребывать в объективном логосе Природы и в невысказанном логосе Бога. Правду можно распять на кресте, но она скоро возрождается к жизни.
Меморабилия была полна древних слов, древних формул, древних соображений о смысле бытия, созданных творцами, умершими давным-давно, когда ушли в глубины забвения все существовавшие общества. Мало что из их сочинений ныне можно было понять. Некоторые документы были столь же неясны для восприятия, каким показался бы требник шаману кочевого племени. Другие содержали лишь красивые периоды, выстроенные в определенном порядке, который позволял догадываться о заключенном в них смысле — так же как, попав в розарий, кочевник сделает себе ожерелье из цветов. Первые Братья ордена Лейбовица пытались набросить нечто вроде вуали на тело распятой цивилизации; она, как они пытались изобразить, исчезла, сохраняя облик древнего великолепия, но облик этот с трудом можно было различить; он был неполон и труден для восприятия. Монахи хранили его в нетронутости, и вот ныне он снова представал миру, если мир хотел и был готов вглядеться в него и, исследовав, понять. Меморабилия сама по себе не могла возродить древнюю науку или высокую цивилизацию, ибо культура являлась порождением человеческих племен и сообществ, а не древних толстых томов, но книги могли этому помочь, как надеялся Дом Пауло, — книги могли указать направление и предложить помощь в деле возрождения науки. Так уже было однажды, на что указывал почтенный Боэдуллус в своем «De Vestigiis Antecessarum Civitatum»[24].
И настало время, думал Дом Пауло, напомнить им, кто поддерживал искру знаний, пока весь мир был погружен в сон. Остановившись, он обернулся, ибо на какое-то мгновение ему показалось, что опять слышит испуганное блеяние козла Поэта.
Шум из подвала скоро дошел до его слуха, когда он достиг подземных помещений, где был источник беспорядка. Кто-то колотил железом по камню. Запах пота мешался с ароматом старых книг. Нервная суматоха, не приличествующая ученым, переполняла библиотеку. Послушники носились взад и вперед с инструментами в руках, стояли в группах, изучая разостланные на полу чертежи, передвигали столы и шкафы, ставя на их место какие-то приспособления. Смутившись от внезапно появившегося света лампы, брат Амбрустер, библиотекарь и ректор Меморабилии, стоял, наблюдая за происходящим из дальнего укрытия между шкафами, сжав руки; на лице его была мрачность. Дом Пауло постарался не встретиться с его обвиняющим взглядом.
Брат Корнхоер встретил своего владыку торжествующей улыбкой, полной энтузиазма.
— Ну, отец аббат, скоро мы дадим вам свет, которого не видел никто из живущих.
— Ты поддаешься излишнему тщеславию, брат, — заметил Пауло.
— Тщеславию, Домине? Из-за того, что хочу всего лишь найти применение всему, что мы изучали?
— Я имею в виду ту спешку, с которой вы трудитесь, чтобы успеть поразить прибывающего гостя. Но не обращайте внимания. Дайте-ка мне посмотреть на ваши инженерные чудеса.
Он подошел поближе к склепанному сооружению. Оно не напоминало ничего стоящего, разве что машину для пыток пленников. Шест, служащий стержнем, при помощи шкивов и ремней был соединен с крестовиной. Четыре колеса от вагонеток, разделенные несколькими дюймами, крепились на шесте. Кроме того, здесь было бесчисленное количество медной проволоки, ранее служившей для птичьих клеток, а ныне выпрямленной в кузне соседней деревушки. Колеса могли свободно вращаться, заметил Дом Пауло, так как тормозные устройства пока были в бездействии. Куски железа были обмотаны бесчисленными витками проволоки — «обмотка поля», как назвал их Корнхоер. Дом Пауло торжественно покачал головой.
— Для аббатства это будет величайшее изобретение с тех пор, как сто лет назад мы поставили тут печатный станок, — гордо объявил Корнхоер.
— Но будет ли это работать? — засомневался Дом Пауло.
— Ставлю все свои месячные труды, милорд!
«Ты ставишь куда больше», — подумал священник, по подавил чуть не вырвавшиеся слова.
— Откуда пойдет свет? — спросил он, снова приглядываясь к странному сооружению.
Монах рассмеялся.
— О, у нас есть для этого специальная лампа. То, что вы видите — всего лишь динамо-машина. Она производит электрическую субстанцию, от которой горит лампа.
Грустно кивая головой, Дом Пауло прикинул, какое пространство библиотеки занимает динамо-машина.
— А нельзя ли, — пробормотал он, — извлекать ее, например, из кошачьей шкуры?
— Нет, нет… Электрическая субстанция — это… Вы хотите, чтобы я вам объяснил?
— Лучше не надо. Естественные науки — не мое призвание. Предоставляю заниматься ими вашим более молодым головам, — он поспешно отступил, чтобы его не задело брусом, который торопливо протащили мимо два послушника. — Скажи мне, — произнес он, — если, изучив бумаги Лейбовица, ты понял, как можно сделать такую машину, почему этого не понял никто из твоих предшественников?
Несколько секунд монах молчал.
— Объяснить это нелегко, — наконец сказал он. — В сущности, в тех рукописях, что дошли до нашего времени, нет прямых указаний, как построить динамо. Скорее можно считать, что информация разбросана по самым разным источникам. Имеется лишь ее часть. Об остальном пришлось догадываться. Но для этого нужно было обзавестись некоторыми рабочими теориями — информацией, которой не было у наших предшественников.
— У нас она есть?
— Да, так как… появилось несколько человек, таких как… — теперь голос его был преисполнен глубокого уважения, и он помедлил, прежде чем произнести имя, — как Тон Таддео…
— Ты совершенно уверен в своих словах? — почти мягко спросил аббат.
— Сравнительно недавно некоторые философы стали заниматься новыми физическими теориями. В сущности, то была работа… работа Тона Таддео, — у него в голосе снова появились нотки почтительности, заметил Дом Пауло, — которая и дала необходимые рабочие аксиомы. Например, его работа о Движении Электрической Субстанции и его Теория Конденсаторов…
— Ему, должно быть, будет приятно увидеть, как его мысли воплощаются в жизнь. Не могу ли осведомиться, где сама лампа? Я надеюсь, что она не больше этого динамо?
— Вот она, господин мой, — сказал монах, вынимая из стола небольшой предмет. Казалось, что он представлял собой лишь скобку, поддерживающую пару черных стерженьков и винт для их регулировки. — Это уголь, — объяснил Корнхоер. — Древние называли ее «дуговой лампой». Есть и другие виды ламп, но у нас не было материалов, чтобы сделать их.
— Восхитительно. Откуда же будет идти свет?
— Вот отсюда, — монах показал на пространство между угольками.
— Должно быть, огонек будет очень маленьким, — сказал аббат.
— Но каким ярким! Ярче, как я прикидываю, сотни свечей.
— Не может быть!
— Вы думаете, что он будет резать глаза?
— Я считаю абсурдом… — и, заметив страдальческое выражение на лице брата Корнхоера, аббат торопливо добавил: — Как мы привязаны к восковым свечам и искрам из кошачьей шерсти.
— Порой я задумывался, — застенчиво признался монах, — не использовали ли древние это освещение на алтарях вместо свечей.
— Нет, — сказал аббат. — Совершенно точно, что нет. Это я могу тебе сказать. Так что, прошу тебя, отбрось эту идею как можно скорее и никогда к ней не возвращайся.
— Да, отец аббат.
— А куда ты собираешься подвесить эту штуку?
— Ну… — брат Корнхоер помедлил, обводя внимательным взглядом сумрачное пространство подвального помещения. — Я об этом еще не думал. Я предполагаю, что она может висеть над тем столом, где Тон Таддео… («Почему он помедлил, прежде чем произнести это имя», — раздраженно подумал Дом Пауло)… будет работать.
— Лучше мы спросим об этом брата Амбрустера, — решил аббат и заметил, что монах смутился. — В чем дело? Неужели вы с братом Амбрустером…
На лице Корнхоера появилось извиняющееся выражение.
— Честное слово, отец аббат, я все время старался держать себя в руках. Да, мы обменялись парой слов, но… — он пожал плечами. — Он не хочет что-либо здесь менять. Он продолжает бормотать о колдовстве и тому подобное. Договориться с ним непросто. Он уже почти ослеп из-за того, что ему приходилось читать в полутьме — и все же утверждает, что наши дела — это дьявольские выдумки. И я не знаю, что ему сказать.
Слегка нахмурившись, Дом Пауло пересек помещение, направляясь к тому месту, где продолжал стоять брат Амбрустер, наблюдая за происходящим.
— Наконец ты добился своего, — сказал библиотекарь Корнхоеру. — Когда же ты сделаешь и механического библиотекаря?
— Мы уже нашли указания, брат, что в свое время были такие штуки, — пробурчал изобретатель. — В описании аналитических машин есть ссылки, что…
— Хватит, хватит, — вмешался аббат, а затем обратился к библиотекарю. — Тону Таддео понадобится место для работы. Что ты можешь предложить?
Амбрустер ткнул пальцем на раздел Натуральных Наук.
— Пусть читает на пюпитре, как и все.
— А как насчет того, чтобы он мог заниматься на более открытом пространстве, отец аббат? — торопливо выдвинул Корнхоер встречное предложение.
— За столом ему понадобятся абака, грифельная доска и место для записей. Мы можем отделить его временной ширмой.
— Я считал, что он направляется сюда, дабы ознакомиться с нашими комментариями по Лейбовицу и с более ранними текстами, — с подозрением сказал библиотекарь.
— Этим он и будет заниматься.
— Тогда, если вы дадите ему место в середине, он сможет ходить взад и вперед. Самые редкие книги прикованы цепями и далеко их не унесешь.
— Проблемы в этом нет, — сказал изобретатель. — Просто снять цепи. Они выглядят очень глупо. Еретические культы давно скончались или они почти неизвестны. Уже сто лет никто и не слышал о панкратианском военном ордене.
Амбрустер покрылся краской гнева.
— Обойдемся и без тебя, — рявкнул он. — Цепи останутся на своих местах.
— Но зачем?
— Они не для тех, кто сжигает книги. Теперь нам доставляют беспокойство деревенские. И цепи останутся.
Корнхоер повернулся к аббату и развел руками.
— Вы видите, милорд?
— Он прав, — сказал аббат. — В деревне порой ходят самые разные разговоры. Не забывай, что городской совет отнял у нас школу. Теперь они прибрали к рукам библиотеку в деревне и хотят, чтобы мы им заполнили полки. Лучше всего разными редкими книгами, конечно. И дело не только в этом — в прошлом году воры доставили нам немало хлопот. Брат Амбрустер прав. Самые редкие книги останутся на своих местах, прикованные к столам.
— Хорошо, — вздохнул Корнхоер. — Значит, он будет работать в алькове.
— И где же тогда ты повесишь свою волшебную лампу?
Монах оглядел кубатуру пространства. Оно представляло собой одно из четырнадцати совершенно одинаковых помещений, приспособленных для определенной цели. Над каждым альковом высилась арка, и на железных крюках, вмурованных в ключевой камень каждой, висело тяжелое распятие.
— Если он собирается работать в алькове, — сказал Корнхоер, — мы просто снимем распятие и временно повесим ее здесь. Другого выхода…
— Еретик! — прошипел библиотекарь. — Язычник! Осквернитель! — Амбрустер воздел к небу дрожащие руки. — Господи, помоги мне, а то иначе я растерзаю его своими же руками! Придет ли конец его измышлениям? Забери его прочь! Прочь! — он повернулся к ним спиной, не опуская дрожащих рук.
Дом Пауло и сам недоуменно моргнул, услышав предложение изобретателя, но сейчас он сурово нахмурился, увидев спину брата Амбрустера. Он никогда не ждал от него излишней кротости, которая вообще была чужда натуре Амбрустера, но сварливость строгого монаха уже переходила все границы.
— Повернитесь, пожалуйста, брат Амбрустер.
Библиотекарь повернулся.
— А теперь опустите руки и говорите поспокойнее, когда вы…
— Но, отец аббат, вы же слышали, что он…
— Брат Амбрустер, будьте любезны взять лесенку и снять это распятие.
Краска отхлынула от лица библиотекаря. Потеряв дар речи, он смотрел на Дома Пауло.
— Здесь не церковь, — сказал аббат. — Ничего лучше не придумать. Так что будьте любезны снять распятие. Похоже, что тут самое подходящее место для лампы. Позже мы повесим ее в другое место. Я понимаю, что все происходящее здесь вносит беспокойство в библиотеку и, может быть, плохо влияет на ваше пищеварение, но мы надеемся, что интересы прогресса требуют таких жертв. Если не так, то…
— Вы выкидываете Господа нашего, чтобы освободить место для прогресса!
— Брат Амбрустер!
— Почему бы вам не повесить эту дьявольскую лампочку ему прямо на шею?
Лицо аббата окаменело.
— Я не заставляю вас повиноваться, брат. После вечерни жду вас у себя.
Библиотекарь поник.
— Я принесу лестницу, отец аббат, — прошептал он и поспешил в глубь библиотеки.
Дом Пауло поднял глаза на распятого Христа в проеме арки. «Понимаешь ли Ты меня?» — подумал он.
В животе у него словно лежал камень. Он знал, что позже он даст знать о себе, и оставил помещение, прежде чем кто-либо заметил, как ему плохо. В эти дни он не мог позволить себе, чтобы обитель видела, как такое обыкновенное происшествие потрясает его.
На следующий день все было поставлено на свои места, но во время испытаний Дом Пауло пребывал в своем кабинете. Дважды ему пришлось беседовать с братом Амбрустером с глазу на глаз, а однажды он сделал ему публичный выговор на общем собрании ордена. И все же ему по-своему нравилось отношение библиотекаря к Корнхоеру. Обмякнув, он сидел за своим столом, ожидая новостей из подвальных помещений и не очень беспокоясь, удастся или нет эксперимент. Одну руку он держал спрятанной под рясой и мягко поглаживал живот, словно стараясь успокоить плачущего ребенка.
Опять его грызут спазмы. Они появлялись, когда ему угрожали какие-то неприятности, и исчезали, когда удавалось справиться со всеми сложностями. Но сейчас они прочно гнездились в нем и, похоже, исчезать не собирались.
Он услышал предупреждение, и это знал. Явилось ли оно от ангела, или от демонов, или же из глубин его собственного сознания, в нем ясно звучал призыв остерегаться и себя, и той реальности, которую он еще не видел в лицо.
«И что же дальше?» — подумал аббат, позволив себе беззвучную отрыжку и молча попросив прощения перед статуей святого Лейбовица, стоящей в задрапированной нише в его комнате.
Вокруг носа святого Лейбовица вилась муха. Казалось, что глаза святого, скосившись, следят за мухой, моля аббата прогнать ее. Аббату нравилась эта резная деревянная статуя двадцать шестого века, на лице ее блуждала странная улыбка, необычная для облика святого. В уголках рта улыбка исчезала, и брови Лейбовица были нахмурены, словно он тяжело раздумывал над чем-то, хотя глаза были окружены смешливыми морщинками. Через одно плечо была перекинута петля палача, и, может быть, поэтому выражение лица святого казалось загадочным. Возможно, оно было результатом легкой неправильности слоев древесины, которая требовала от руки резчика внимания к мельчайшим деталям, связанным со структурой древесины. Дом Пауло не был уверен, создавалась ли эта скульптура из живого дерева до того, как мастер приступил к окончательной отделке ее; в те времена терпеливый резчик порой начинал работу с подрастающим деревом и, проведя бесчисленные годы, подрезая, ошкуривая, сгибая и связывая растущие ветви, он, мучая живую древесную плоть, превращал ее в подобие дриады со сложенными или воздетыми руками, перед тем как срезать возмужавший ствол дерева и начать его резать и отделывать. Получающаяся таким образом статуя необычайно стойко сопротивлялась попыткам расколоть или сломать ее, так как большинство линий ее фигуры были созданы естественным путем.
Дом Пауло часто думал, не говорит ли деревянная скульптура Лейбовица, насколько успешно можно сопротивляться столетиям; на мысли эти его наводила столь странная улыбка святого. Эта легкая усмешка когда-нибудь станет причиной твоей гибели, предупреждал он статую… Конечно, святые могут себе позволить подсмеиваться над Небесами, псалмопевец говорит, что и сам Бог может позволить себе похихикать, что решительно не одобрял аббат Малмедди — упокой, Господи, его душу. Этакий велеречивый торжественный осел. Интересно, как ты терпел его? Ведь ты не ханжа. Эта улыбка… о чем она говорит? Мне она нравится, но… Когда-нибудь в это кресло сядет мрачное собакоподобное существо. И заменит тебя каким-нибудь гипсовым Лейбовицем, Долготерпеливым, который не будет коситься на мух. А тебя будут жрать термиты на складе. Чтобы дожить до тех времен, когда Церковь понемногу будет обращаться к искусству, ты должен обладать внешностью, которая может удовлетворить любого невзыскательного простака, и в то же время ты должен скрывать в себе нечто, доступное лишь взгляду проницательного мудреца. Поворот свершается медленно, то и дело разворачиваясь в обратном направлении, когда какой-нибудь новый прелат, обходя свои владения, заглядывает в кладовые и каморки и бормочет: — «А это барахло пора выкинуть». Им обычно нужна лишь сладкая кашица. И когда старая, как им кажется, закисает, нужно новое варево. Если Церковью пять столетий правили священнослужители с плохим вкусом, здравый взгляд воспринимается в такой обстановке, как варево из потрохов, и от него отказываются, место подлинного величия замещается дешевым украшательством.
Аббат стал обмахиваться веером из птичьих перьев, но прохлады это не принесло. Воздух из открытого окна напоминал горячее дыхание горна, источником которого была выжженная пустыня, и к этому еще добавлялось жжение в желудке, который раскаленными когтями разрывали то ли дьявол, то ли гневный ангел. Такая жара заставляет сходить с ума гремучих змей, она разряжается громовыми раскатами в горах, когда собаки бешено рвутся с цепей, а гнев человеческий выжигает все вокруг. Колики все усиливались.
— Поможешь? — громким шепотом обратился он к святому, без лишних слов излагая ему мольбу о прохладной погоде, о встрече с умным собеседником, об озарении, которое прояснит его смутное ощущение надвигающегося несчастья. «Может, из-за сыра, — подумал он. — Он весь оплыл и позеленел. Я должен последить за собой — перейти на легкую диету. Но нет, не в этом дело, — посмотри правде в лицо, Пауло, — не хлеб насущный вызывает у тебя такие ощущения, а то, чем питается твой мозг».
— Но что?
Деревянный святой не давал ему четкого и недвусмысленного ответа. Пустая болтовня. Его мозг лихорадочно связывал воедино отрывки. Пусть работает голова, когда приходят спазмы и мир тяжело наваливается на него. Сколько он весит? Вес у него есть, но ощутить его и измерить невозможно. Что-то неверно в этих подсчетах. В нем жизнь и труд, противопоставленный серебру и злату. Их никогда не удастся уравновесить. Грубо и безжалостно этот груз давит на тебя, и всю жизнь ты борешься с ним, и лишь изредка мелькнет тебе отблеск золота. Слепцы с завязанными глазами, короли пересекают пустыню, надеясь, что им выпадет удача.
— Нет, — пробормотал аббат, прогоняя от себя это видение.
«Да, конечно же», — настаивала деревянная улыбка святого.
Дом Пауло, слегка передернувшись, отвел глаза от его образа. Порой ему казалось, что святой подсмеивается над ним. «Издевается ли он над нами с Небес? — подумал он. — Святой Мэйси из Йорка — помнишь ли его, старик? — скончался от хохота. Это совсем другое. Он умер, смеясь над самим собой. Впрочем, не такое уж другое. УЛП! — снова его раздуло от беззвучной отрыжки. — Вот уж поистине, среда — день поминовения святого Мэйси. Хор благоговейно зайдется от смеха, когда вознесет «Аллилуйю» на мессе в его честь. — Аллилуйя, хо-хо! Аллилуйя, хах-ха!»
— «Святой Мэйси, заступник наш…»
И король явится в подвал взвешивать книги на чашах своих мошеннических весов. Насколько «мошеннических», Пауло? И почему ты считаешь, что Меморабилия совершенно свободна от ерунды? Даже одаренный досточтимый Боэдуллус заметил как-то с горечью, что половину ее собрания надо было бы именовать Сборищем Непостижимого. Здесь были в самом деле драгоценные отрывочные свидетельства мертвых цивилизаций — но сколько из них стали подлинным хламом, заботливо украшенным оливковыми листьями и ангелочками, над которыми трудились сорок поколений монастырских переписчиков, детей темных веков, многие из которых с младенчества жили среди непонимаемых ими посланий, зная лишь то, что их надо затвердить и донести до последующих поколений.
«Я заставил его проделать путь от Тексарканы сквозь опасные места, — подумал Пауло. — А теперь я волнуюсь, что мы ему сможем показать ценного, и это все, что меня волнует».
Нет, не все. Он снова посмотрел на улыбающегося святого. И снова: Vexilla regis inferni prodeunt[25].
«…И вознеслись знамена Владыки ада», — нашептала ему память какие-то искаженные строчки из древней commedia. Они гвоздем засели в мозгу.
Аббат еще крепче сжал кулак. Бросив веер, он втянул воздух сквозь сжатые зубы. Еще раз смотреть на святого ему больше не хотелось. Плоть его терзал огнем безжалостный ангел. Он наклонился над столом. В этом положении его не так жгло раскаленным железом. Тяжелое дыхание смело с поверхности стола налетевшую пыль пустыни. От ее запаха хотелось чихнуть. Розовый свет стал меркнуть в комнате, и ему показалось, что ее заполнили полчища черных комаров. «Я не могу больше бороться, и меня, кажется, сейчас вырвет — но Благословенный Патрон наш и Защитник, я вынужден. Я весь — суть боль. Эрго сум. Господь наш, Христос, прими сей дар».
Он изрыгнул рвотную массу, почувствовав ее соленый вкус, и упал головой на стол.
«Должен ли я выпить сей кубок, что преподносит мне Господь или я могу еще помедлить? Но распятие уже готово. Рано или поздно каждого ждут гвозди, которыми его распнут, и он будет висеть, а если ты попытаешься избежать этого, тебя забьют до смерти бичами, так что иди на крест с достоинством, старик. Если ты можешь не терять достоинства, когда тебя выворачивает, то ты можешь отправляться и на небеса в своем рубище»… — он чувствовал себя бесконечно виноватым.
Он долго ждал. Комары постепенно исчезли, скончавшись, а комната потеряла свои краски и стала сумрачной и серой.
«Ну что ж, Пауло, ты собираешься и дальше истекать кровью или же у тебя хватит сил еще немного подурачить мир?».
Он поборол обморочное состояние и поискал глазами лицо святого. На нем была все такая же легкая улыбка — грустная, всепонимающая, и в ней было что-то еще. Насмешка над палачом? Нет, улыбка для палача. Насмешка над самим сатаной. В первый раз он все отчетливо понял. И в последней земной чаше будет привкус триумфа.
Внезапно его одолела сонливость, лицо святого расплылось, но аббат продолжал улыбаться ему в ответ.
Незадолго до полунощной приор Галт нашел аббата лежащим на столе. Сквозь стиснутые зубы просачивалась струйка крови. Молодой священник быстро пощупал пульс. Дом Пауло сразу же пришел в себя, вытянулся на своем кресле и, словно все еще в полудреме, торжественно объявил: «А я говорю вам, что все это предельно смешно! Полное и абсолютное идиотство! Ничего не может быть более абсурдным!».
— Что абсурдно, Домине?
Аббат потряс головой и несколько раз мигнул.
— Что?
— Я сейчас же пришлю брата Эндрю.
— А? Вот это и есть абсурдно. Иди сюда. Что тебе надо?
— Ничего, отец аббат. Как только я найду брата Эндрю, я сразу же…
— Да перестань ты приставать ко мне с этими медиками! Просто так ты сюда не являешься. Мои двери закрыты. Прикрой их снова, садись и говори, что тебе надо.
— Испытания прошли успешно. Лампы брата Корнхоера, я имею в виду.
— Отлично, расскажи мне об этом. Садись и начинай. Расскажи мне все-все об этом, — он оправил облачение и вытер рот куском мягкой бумаги. Голова у него по-прежнему кружилась, но руки ныне спокойно лежали на животе. Его не очень волновал рассказ приора, как прошли испытания, но он приложил все силы, чтобы казаться внимательным и учтивым. «Попридержать его здесь, пока я не приду в себя настолько, что начну соображать. И не давай ему пойти за медиком — пока на надо, новости могут разнестись: со стариком все кончено. Ты сам решишь, приспело ли время для этого или нет».
Глава 15
Хонган Ос был в сущности простым и мягким человеком. Когда он увидел группу своих воинов, забавляющихся с ларедонскими пленниками, он остановился посмотреть, но когда они привязали троих ларедонцев за лодыжки к лошадям и стали нахлестывать животных, чтобы они рванули с места в галоп, Хонган Ос решил вмешаться. Он приказал выпороть воинов, потому что о Хонгане Осе — Бешеном Медведе — шла слава, как о милостивом вожде племени. И он никогда не позволял мучить лошадей.
— Убивать пленников — это женская работа, — с отвращением пробурчал он, обращаясь к выпоротым преступникам. — Вам придется очиститься от этого позора, и до новолуния убирайтесь из лагеря, потому что вы наказаны на двенадцать дней, — и отвечая на их протестующие стоны: — Вы хотели, чтобы лошади протащили их через лагерь? Эти травоядные — наши гости, и известно, что они легко пугаются при виде крови. Особенно если это кровь таких же, как они. Учтите это.
— Но эти — пожиратели травы с Юга, — возразил воин, указывая на изувеченных пленников. — А наши гости — пожиратели трав с Востока. И разве не существует договора между нами, настоящими людьми, и Востоком, что мы идем войной на Юг?
— Если ты еще раз заикнешься об этом, я вырву твой язык и скормлю его собакам! — предупредил его Бешеный Медведь. — Забудь, что ты это слышал!
— Долго ли будут среди нас эти люди травы, о, Сын Могущества?
— Кто может знать, что думают эти фермеры? — ответил ему вопросом на вопрос Бешеный Медведь. — Их мысли — это не наши мысли. Они говорят, что часть из них отделится, чтобы пройти через Сухие Земли — там, где живут священники поедателей травы и эти в черных одеждах. Остальные останутся тут на переговоры — но это не для ваших ушей. А теперь отправляйтесь, и пусть стыд съедает вас двенадцать дней.
Он повернулся к ним спиной, так что наказанные могли ускользнуть, не чувствуя, что их провожает его взгляд. Дисциплине тут подчинялись все неукоснительно. Клан шумел и гудел. Людям Долин стало известно, что он, Хонган Ос, скрестил руки над огнем договора с посланцем из Тексарканы и что шаман у обоих из них обрезал волосы и состриг ногти, из которых сделал куклу, дабы она предохранила от предательства с каждой из сторон. Стало известно, что заключено соглашение, а каждый договор между людьми и поедателями травы воспринимался племенем как позор. Бешеный Медведь чувствовал тайное презрение со стороны молодых воинов, но иного объяснения, что придет и их час, он им не давал.
Бешеный Медведь и сам был бы не прочь выслушать хороший совет, пусть даже и от пса. Мысли у поедателей травы редко бывали стоящими, но он был поражен посланием короля поедателей травы с Востока, который подчеркивал необходимость сохранения тайны и сожалел об излишнем хвастовстве. Если бы ларедонцам стало известно, что племена получают оружие от Ханнегана, замысел, без сомнения, провалился бы. Бешеный Медведь терялся в размышлениях; он отталкивал его — ибо куда приятнее и мужественнее было бы откровенно сказать врагу, что его ждет, прежде чем приступать к делу, и все же, чем больше он размышлял, тем яснее видел всю мудрость этой идеи. Если даже король пожирателей травы и был малодушным трусом, нельзя было отрицать, что он был умным человеком: Бешеный Медведь еще не решил, какой оценке отдать предпочтение, но признавал, что мысли его были неглупы. Секретность была необходима, хотя порой казалось, что она скорее должна быть присуща женщинам. Если бы племя Бешеного Медведя узнало, что полученное ими оружие появилось не в результате смелого пограничного набега, а является подарком от Ханнегана, ларедонцы могли бы выпытать план от захваченных во время рейда пленников. Так что пусть уж лучше племя ворчит, что позорно заключать с фермерами с Востока мир.
Разговоры шли не о мире. Говорили то, что надо, чувствуя, что впереди ждет хорошая добыча.
Несколько недель назад Бешеный Медведь сам возглавил боевой отряд, отправившийся на Восток; и они вернулись с сотней голов лошадей, четырьмя дюжинами длинных ружей, несколькими бочонками черного пороха, множеством зарядов и одним пленником. Даже воины, сопровождавшие его, не знали, что склад оружия был организован здесь людьми Ханнегана и что пленник на самом деле был пехотным офицером, который в будущем станет советником Бешеного Медведя относительно возможной тактики ларедонцев в будущей войне. Прислушиваться к словам и мыслям поедателей травы было постыдным делом, но знания офицера помогут разобраться в намерениях поедателей травы с Юга. До мыслей Хонгана Оса ему не додуматься.
Совершив эту сделку, Бешеный Медведь вполне обоснованно возгордился. Он не обещал ничего, кроме того, что не вступит в войну с Тексарканой и не будет угонять скот с восточных границ на то время, пока Ханнеган будет снабжать его оружием и припасами. Соглашение о войне против Ларедо молчаливо подразумевалось, но эта идея настолько соответствовала собственным намерениям Бешеного Медведя, что в формальном пакте не было и нужды. Союз с одним из врагов означал, что он может спокойно разделаться с другим противником, а затем при случае отвоевать обильные пастбища, которые в прошлом столетии были захвачены и заселены фермерами.
Когда глава клана верхом добрался до лагеря, спустилась ночь, и над Долинами воцарился стылый холод. Его гость с Востока сидел, закутавшись в одеяло, у костра совета, рядом с тремя стариками, пока привычный круг любопытных детишек время от времени выныривал из темноты и глазел на чужака. Всего сейчас тут было двенадцать чужих, но они разделились на две отдельные группы, которые ехали вроде и вместе, но в то же время не обращали особого внимания друг на друга. Глава одной из групп был скорее всего сумасшедшим. Хотя Бешеный Медведь ничего не имел против помешательства (тем более что шаман оценивал его как наиболее ценное свидетельство присутствия потусторонних сил), он не знал, считают ли фермеры помешательство достоинством для руководителя. Добрую часть своего времени он проводил, копаясь в земле в русле высохших рек, а остальное время загадочно разглядывал содержимое маленькой коробочки. Явно он был колдуном, которому нельзя было доверять.
Прежде чем присоединиться к группе у костра, Бешеный Медведь долго и тщательно примерял свой церемониальный плащ из волчьей шкуры, пока шаман разрисовывал его лоб знаком тотема.
— Берегись! — торжественно провозгласил старый воин, когда глава племени торжественно вступил в круг огня. — Берегись, ибо Могущественный идет среди своих детей. Склони спины, о племя, ибо имя его Бешеный Медведь — имя, сулящее победу, ибо еще в юности он мог загнать медведя и голыми руками душил его, и воистину все Северные земли знали о его свершениях…
Хонган Ос, не обращая внимания на велеречивые восхваления, присел к костру и взял кубок с кровью из рук старой женщины, прислуживавшей костру совета. Кровь была свежей и теплой, ибо ее только что выпустили из освежеванного оленя. Он осушил его, после чего повернулся к человеку с Востока, который с заметным беспокойством следил за возникшей краткой пирушкой.
— Ааааах! — сказал глава племени.
— Ааааах! — подхватили три старика вместе с поедателем травы, который постарался включиться в их хор. Несколько мгновений люди с отвращением смотрели на поедателя травы.
Сумасшедший постарался исправить промах своего товарища.
— Скажи, — сказал он, дождавшись, пока вождь племени сел, — как это получилось, что люди твоего племени не пьют воды? Запрещают ваши боги?
— Кто знает, что пьют боги? — пробурчал Бешеный Медведь. — Сказано же, что вода для коров и фермеров, молоко для детей, а кровь для мужчин. Разве может быть иначе?
Сумасшедший не оскорбился. Пару секунд он не сводил с лица вождя испытующих серых глаз, а затем кивнул на одного из своих спутников.
— Эта «вода для коров» все объясняет, — сказал он. — Здесь постоянно властвует жажда. То небольшое количество воды, которое здесь есть, пастухи сохраняют для скота. Я пытался понять, нет ли здесь религиозного запрета.
Его спутник сделал гримасу и заговорил на тексарканском наречии.
— Воды! Господи, почему мы не можем пить воды, Тон Таддео? Я вижу, что вы слишком со многим соглашаетесь, — он с трудом сплюнул. — Кровь! Бр-р-р! Она застревает у меня в глотке. Почему мы не можем позволить себе маленький глоточек…
— Нет — пока мы не уедем отсюда!
— Но, Тон…
— Нет! — резко ответил ученый, а затем, заметив, что люди племени смотрят на них, снова обратился к языку Долин, заговорив с Бешеным Медведем.
— Мой товарищ говорил, какими мужественными и здоровыми выглядят ваши люди, — сказал он. — Наверно, у вас отличная пища.
— Ха! — рявкнул вождь, а потом, не пытаясь скрыть своего удовольствия, обратился к старухе: — Дай чужеземцу чашу красного.
Спутник Тона Таддео передернулся, но даже не сделал попытки возразить.
— Я хочу, о Вождь, обратиться к твоему величию, — сказал ученый. — Завтра мы продолжим наше путешествие на Запад. Если кто-нибудь из твоих воинов мог бы сопровождать нас, мы сочли бы это за честь.
— Зачем?
Тон Таддео помолчал.
— Затем… ну, как проводники, — остановившись, он внезапно улыбнулся. — Я скажу всю правду. Кое-кому из твоих людей не нравится наше присутствие здесь. Пока нас охраняет твое гостеприимство…
Хонаган Ос откинул голову и зашелся от хохота.
— Они боятся других, мелких племен, — объяснил он старикам. — Они боятся, что, как только выйдут из моего вигвама, тут же попадут в засаду. Они едят траву и боятся сражений.
Ученый слегка покраснел.
— Ничего не бойся, чужеземец! — расхохотался вождь племени. — Тебя будут сопровождать настоящие мужчины.
Тон Таддео с насмешливой благодарностью наклонил голову.
— Скажи нам, — продолжил Бешеный Медведь, — что ты разыскиваешь в Сухих Землях на западе? Новые места для пашен? Так я могу тебе сказать, что ты там ничего не найдешь. Если не считать нескольких колодцев, там ничего не растет, что может прокормить хотя бы корову.
— Мы не ищем новых земель, — ответил гость. — Мы вообще не фермеры, и ты должен это знать. Мы направляемся… — он помедлил. На языке язычников не было выражений, с помощью которых он мог бы объяснить цель своей поездки в аббатство святого Лейбовица, — за тайнами древнего волшебства.
Один из стариков, шаман, насторожил уши.
— Древнее волшебство на Западе? Я не знаю ни одного кудесника из тех мест. Разве что ты имеешь в виду тех, что ходят в черных одеждах?
— Именно их.
— Ха! Что у них за волшебство, на которое стоит смотреть? Мы хватаем их так легко, что это нельзя назвать и настоящим делом — хотя пытки они выдерживают отлично. Какой ворожбе ты хочешь у них научиться?
— Ну, с одной стороны, я согласен с тобой, — сказал Тон Таддео. — Но сказано в одной из рукописей, что в их жилищах скрыты, м-м-м… заклинания большой силы. И если это правда, то, скорее всего, чернорясые даже на знают, как пользоваться ими, но мы надеемся, что обретем их для наших нужд.
— А позволят чернорясые тебе разузнавать их тайны?
Тон Таддео улыбнулся.
— Думаю, что да. Они не могут больше их скрывать. И если мы доберемся до них, мы их получим.
— Смело сказано, — пробурчал Бешеный Медведь. — Бывает, что и среди фермеров бывают смельчаки — хотя они сущие трусы по сравнению с настоящими людьми.
Ученый, который был уже сыт по горло оскорблениями из уст кочевников, предпочел пораньше пойти отдыхать.
Воины, оставшиеся у костра совета вместе с Хонганом Осом, обсуждали грядущую войну, запах которой уже носился в воздухе, но война эта не имела отношения к Тону Таддео. Политические амбиции его тупого кузена были далеки от его собственных интересов — вырвать знания из плена Темных Веков, хотя он не мог не понимать, что порой монаршее благоволение могло и пользу приносить.
Глава 16
Старый отшельник стоял на краю плоской верхушки горы, наблюдая, как через пустыню движется грязноватое пятно. Пожевав губами, отшельник пробормотал про себя несколько слов и, подставляя лицо ветру, тихо хихикнул. Он был выжжен безжалостным солнцем до цвета старого пергамента. Древние морщины его задубели под солнцем, приобретя густо-коричневый цвет, а взлохмаченная борода кое-где у подбородка отливала желтизной. На нем была соломенная шляпа и набедренная повязка из домотканой мешковины, что представляло собой все его одеяние, если не считать сандалий и кожаного бурдюка для воды.
Он наблюдал за столбом пыли до тех пор, пока тот не втянулся в улочки деревни, а затем снова не показался на другом ее конце, направляясь к аббатству по дороге, которая вела мимо столовой горы.
— Ага! — фыркнул отшельник, и глаза его вспыхнули. — Его империя умножается, и он не жаждет мира: он хочет возглавить свое королевство.
Внезапно он двинулся вниз по высохшему руслу ручья, напоминая кота на трех лапах, поскольку опирался на посох, прыгая с камня на камень, он то и дело поскальзывался. Пыль, поднятая его торопливыми движениями, взлетала, подхваченная ветром, высоко в воздух и рассеивалась там.
У подножия горы его встретили густые заросли кустарника мескито, и он присел, решив подождать. Скоро он услышал приближающуюся неторопливую конскую рысь и стал продираться поближе к дороге. Из-за поворота показался пони, покрытый густым слоем пыли. Отшельник выскочил на дорогу и воздел руки.
— Олла-эллай! — крикнул он, кинувшись вперед. Он схватил поводья и встревоженно нахмурился, глядя на человека в седле. Глаза всадника вспыхнули на мгновение.
— Во имя Сына Божьего, что рожден для нас… — но возбуждение уступило место печали. — Это не Он, — раздраженно пробурчал отшельник, обращаясь к небу.
Всадник откинул капюшон и рассмеялся. Отшельник гневно посмотрел на него. Наконец он узнал его.
— А, это ты! — пробурчал он. — А я-то думал, что тебя уж и нет на свете. Что ты тут делаешь?
— Хочу воздать тебе долги, Бенджамин, — сказал Дом Пауло. Он отвязал поводок, и из-под брюха пони на дорогу выскочил козленок с синей головой. Увидев отшельника, он заблеял и натянул поводок. — Ну и… я хотел бы навестить тебя.
— Животное это принадлежит Поэту, — мрачно сказал отшельник. — Он честно выиграл его — хотя скулил и жаловался немилосердно. Верни его обратно владельцу и позволь посоветовать тебе не вмешиваться в то всемирное свинство, что не имеет касательства к тебе. Будь здоров, — повернувшись, он двинулся обратно по ручью.
— Подожди, Бенджамин. Возьми своего козла, а то я отдам его крестьянам. Я не хочу, чтобы он бродил по аббатству и блеял в церкви.
— Это не козел, — возразил ему отшельник. — Это животное, о котором говорили ваши пророки, и он рожден женщиной, чтобы бегать по этой земле. Я предполагаю, что ты собираешься проклясть его и выгнать в пустыню. Тем не менее ты должен обратить внимание, что у него раздвоенные копыта, и он жует жвачку, — он снова было двинулся уходить.
Улыбка аббата исчезла.
— Бенджамин, неужели ты в самом деле уйдешь, даже не попрощавшись со старым другом?
— Привет, — не останавливаясь, с независимым видом сказал старый еврей. Затем он приостановился и глянул из-за плеча. — Тебе не стоит так волноваться, — сказал он. — Пять лет тому назад тебя уже посещали эти тревоги! Ха!
— Так оно и есть! — пробормотал аббат. Спешившись, он подошел к старому еврею. — Бенджамин, Бенджамин, я не мог не прийти…
Отшельник остановился.
— Коль ты уж здесь, Пауло…
Внезапно они рассмеялись и обняли друг друга.
— Ты хорошо сделал, старый ворчун, — сказал отшельник.
— Это я ворчун?
— Ну, и я становлюсь таким же. Последние сто лет нелегко дались мне.
— Я слышал, что ты бросал камни в послушников, которые направлялись в пустыню, чтобы выполнить свои Обеты. Неужели это правда? — он насмешливо посмотрел на отшельника.
— Только гальку.
— Жалкая старая развалина!
— Ну, ну, Пауло. Один из них издалека спутал меня с кем-то и назвал Лейбовицем. Он решил, что я послан сюда, чтобы передать ему какое-то послание, — и мне кажется, что кое-кто из твоих прохвостов тоже так считает. Я не хотел, чтобы они так думали, и поэтому время от времени швырял в них камешки. Ха! С этим родственником у нас не будет ничего общего, потому что у нас нет общей крови, и я не хочу, чтобы нас путали!
Священник изумленно взглянул на него.
— С кем тебя спутали? Со святым Лейбовицем? Ну, Бенджамин! Ты зашел слишком далеко.
Бенджамин повторил сказанное, насмешливо подчеркивая каждое слово:
— Издалека меня спутали с кем-то по имени Лейбовиц, поэтому я и кидал в них камни.
Дом Пауло был совершенно сбит с толку.
— Святой Лейбовиц мертв уже не меньше двенадцати столетий. Как можно… — он оборвал фразу и устало уставился на отшельника. — Слушай, Бенджамин, давай не будем начинать сначала все эти сказки. Ведь ты не жил двенадцать столе…
— Чепуха! — прервал его старый еврей. — Я бы не сказал, что это было двенадцать столетий назад. Прошло только шестьсот лет. Ваш святой давно был мертв, и поэтому вся эта история совершенно нелепа. Конечно, в те времена ваши послушники были куда набожнее, благочестивее и более доверчивы. Я вспоминаю, что его звали Френсис. Бедный парень. Потом мне пришлось его хоронить. Расскажи им там в Новом Риме, где можно найти его останки. Ты можешь обрести его скелет.
Аббат не отрываясь смотрел на старика, пока пробирался сквозь заросли к источнику, ведя на поводу пони и таща за собой козленка. «Френсис? — задумался он. — Да, Френсис. Вероятно, то мог быть досточтимый Френсис Джерард из Юты, тот самый, кому, как рассказывает древняя история, которую знают в деревне, какой-то пилигрим показал, где находится тайное убежище. Но это было еще до появления деревни. Да, прошло в самом деле шесть столетий — а теперь этот старый шут утверждает, что он и был тем пилигримом?». Порой аббат задумывался, откуда Бенджамин так хорошо знает всю историю аббатства, которая и позволяет ему выдумывать подобные истории. Скорее всего, от Поэта.
— Это было в начале моего пути, — продолжил Бенджамин, — поэтому ошибка эта вполне понятна.
— В начале пути?
— Странника.
— Неужели ты думаешь, что я поверю во всю эту чушь?
— Хм-м-м… А вот Поэт верит.
— Еще бы! Поэт никогда в жизни не поверит, что досточтимый Френсис встретил святого. Такая встреча слишком подозрительна. Поэт скорее поверит, что Френсис встретил тебя шесть столетий назад. Совершенно естественное объяснение, не так ли?
Бенджамин утомленно вздохнул. Пауло смотрел, как он подставил под слабую струйку воды грубо вырезанную деревянную чашку, вылил ее в бурдюк и снова наклонился. Легкие струйки, то исчезающие, то вновь пробивающиеся на поверхность, своей неопределенностью напоминали память этого старого еврея. «Но так ли уж смутны его воспоминания? Неужели он всех нас водит за нос?» — подумал священник. Если не считать его заблуждений, что он старше Мафусаила, Бенджамин Элеазар казался вполне здоровым, даже когда бывал предельно утомлен.
— Выпьешь? — спросил отшельник, предлагая чашку.
Аббат подавил внутреннюю дрожь, но принял чашку без возражений и одним глотком осушил мутноватую жидкость.
— Не очень вкусно, не так ли? — сказал Бенджамин, критически оглядывавший его. — Но меня это не волнует, — он потрепал вздувшийся бурдюк. — Для животных.
Аббат слегка хихикнул.
— А ты изменился, — сказал Бенджамин, по-прежнему пристально глядя на него. — Ты высох и стал белым, как сыр.
— Я болен.
— Ты и выглядишь больным. Пошли в мою хижину, если подъем не очень утомил тебя.
— Сейчас я приду в себя. Мне пришлось слегка поволноваться за эти дни, и наш врач сказал, чтобы я отдохнул. Если бы не ожидалось прибытия важных гостей, я бы не обратил на него внимания. Но гость приезжает, и поэтому я в самом деле решил отдохнуть. Прием будет достаточно утомительным.
Они карабкались вверх по руслу ручья, и Бенджамин с улыбкой обернулся на него, покачав взлохмаченной головой.
— Путешествие верхом десять миль через пустыню ты считаешь отдыхом?
— Для меня это в самом деле отдых. И мне хотелось увидеть тебя, Бенджамин.
— А что скажут деревенские? — насмешливо спросил старый еврей. — Они решат, что мы с тобой примирились, и это подорвет репутацию нас обоих.
— Наши репутации никогда не ценились слишком высоко на рыночной площади, не так ли?
— Верно, — признал он и добавил загадочную фразу: — В наше время.
— Ты все еще ждешь, старый еврей?
— Конечно! — фыркнул отшельник.
Аббат почувствовал, что подъем начинает его утомлять. Дважды они останавливались, чтобы передохнуть. К тому времени когда они достигли ровного места, он совершенно выбился из сил и был вынужден опереться на руку отшельника, чтобы прийти в себя. В груди начинало полыхать пламя, предупреждая, что больше он ничего не может себе позволить, но, слава Богу, не было жестоких спазм, терзавших его несколько ранее.
Стайка синеголовых козлов-мутантов, увидев подходившего чужака, скакнула в заросли. Как ни странно, плоская верхушка горы оказалась куда более плодоносной и зеленой, хотя вокруг не было видно источника влаги.
— Вот сюда, Пауло. В мою хижину.
Жилище старого еврея представляло собой одну комнату без окон, с каменными стенами, сложенными из валунов, в которых виднелись широкие щели, дававшие открытый доступ ветру. Крыша представляла собой груду веток (большинство из которых были искривлены), заваленных кучами травы, соломы и прикрытых козлиными шкурами. На большом плоском камне, лежащем у входа, была вырезана надпись на иврите.
Размер надписи и ее явное стремление обратить на себя внимание заставили аббата улыбнуться и спросить у Бенджамина:
— Что тут сказано, Бенджамин? Приносит ли она пользу тут?
— Ха — что тут сказано? Тут сказано — Шатры Раскинем Здесь.
Хмыкнув, священник выразил свое недоверие.
— Ладно, можешь мне не верить. Но если ты не веришь в эти слова, трудно ожидать, что ты поверишь в то, что написано на другой стороне камня.
— Той, что повернута к стене?
— Обычно она так и повернута.
Камень лежал так близко у порога, что между стеной и плоской его поверхностью было всего несколько дюймов свободного пространства. Пауло нагнулся и прищурился, вглядываясь в него. Ему понадобилось для этого некоторое время, но вскоре он смог разобрать надпись на тыльной стороне камня, сделанную маленькими буквами.
— Ты поворачивал камень?
— Поворачивал? Ты думаешь, я сошел с ума? В такие времена?
— А что сказано там?
— Хм-м-м… — пробурчал отшельник, уходя от ответа. — Но трудись дальше, коль скоро ты не можешь все прочитать, что там кроется.
— Мешает стена.
— Она всегда мешала, разве на так?
Священник вздохнул.
— Хорошо, Бенджамин. Я знаю, что там могло быть, поскольку ты решил написать это «у входа и для двери» своего дома. Но только тебе могло прийти в голову повернуть камень.
— Повернуть наружу, — поправил его отшельник. — И так он будет лежать, пока здесь будет раскинутый шатер сынов Израилевых… Но давай, коль скоро ты уж решил отдохнуть, не будем дразнить друг друга. Я налью тебе молока, а ты мне расскажешь о госте, прибытие которого тебя так беспокоит.
— У меня в суме есть немного вина, если ты хочешь, — сказал аббат, с облегчением опускаясь на подстилку из шкур. — Но я предпочел бы не говорить о Тоне Таддео.
— Так это, значит, он…
— Ты слышал о Тоне Таддео? Скажи мне, как ты ухитряешься знать все и всех, не показываясь со своего холма?
— Кто слышит, а кто и видит, — загадочно ответил отшельник.
— Тогда поведай, что ты о нем думаешь?
— Я его не видел. Но мне кажется, что с ним будут связаны муки и страдания. Может, это будут родовые муки — и все же…
— Родовые? Ты в самом деле веришь, что нас ждет новое Возрождение, как кое-кто говорит?
— Хм-м-м…
— Да перестань ты загадочно ухмыляться, старый еврей, и скажи мне свое мнение на этот счет. Оно у тебя обязательно есть. У тебя всегда есть свое мнение. Но почему так трудно добиться твоего доверия? Разве мы не друзья?
— Определенным образом, определенным образом. Но у нас с тобой есть и различия, у тебя и у меня.
— Какое отношение имеют наши различия к Тону Таддео и к Ренессансу, который оба мы хотим увидеть? Тон Таддео — светский ученый, и то, что нас разделяет, его, скорее всего, не интересует.
Бенджамин красноречиво пожал плечами.
— Различия, светский ученый, — эхом отозвался он, щупая слова на вкус, как подгнившие яблоки. — И меня, были времена, называли «светским ученым» некоторые люди, но пришло время, и я был побит за это камнями, сожжен и погребен.
— Ты же никогда… — священник замолчал и сурово нахмурился. Опять это сумасшествие. Бенджамин с подозрением смотрел на него, и в его улыбке стал чувствоваться холодок. «Ныне, — подумал аббат, — он смотрит на меня, словно я был одним из Них. И кем бы ни были эти Они, их стараниями Бенджамин обречен на одиночество. Побит камнями, сожжен и погребен? Или же говоря “Я”, он имел в виду “Мы”, как в формуле “Я, мой народ”?»
— Бенджамин — Я Пауло. Торквемада давно мертв. Я родился семьдесят с лишним лет назад и скоро умру. Я люблю тебя, старик. И когда ты смотришь на меня, мне бы хотелось, чтобы ты видел Пауло из Пеко — и никого иного.
На мгновение Бенджамин дрогнул. Глаза его увлажнились.
— Порой я… я забываю…
— И порой ты забываешь, что Бенджамин — это только Бенджамин, а не Израиль.
— Никогда! — вспыхнув, вскочил отшельник. — За все тридцать два столетия я… — он остановился, плотно сжав губы.
— Но почему? — едва не теряя сознания от благоговейного ужаса шепнул аббат. — Но почему ты в одиночку тащишь через столетия весь груз народа и его прошлого?
В глазах отшельника вспыхнул огонек, предупреждающий, что дальше двигаться не стоит, но он лишь сглотнул хриплый горловой звук и опустил лицо на руки.
— Ты удишь рыбу в темной водице.
— Прости меня.
— Этот груз — он был взвален на меня другими, — он медленно поднял глаза. — Мог ли я отказаться нести его?
Священник с трудом втянул в себя воздух. Долгое время в убежище стояло полное молчание, нарушавшееся только свистом ветра. «Это сумасшествие отмечено печатью божественной благодати!» — подумал Дом Пауло. В те времена еврейская община почти растворилась. Бенджамин, скорее всего, пережил своих детей и каким-то образом стал отверженным. Такой старый израильтянин мог странствовать годами, не встречая никого из своих соплеменников. Возможно, в своем одиночестве на него снизошло тихое убеждение, что он последний, что он один и что он единственный. И, став последним, он отказался быть Бенджамином, чувствуя себя Израилем. И в сердце его ныне живет пятитысячелетняя история, которая стала историей его собственной жизни. Поэтому его «Я» превратилось в «Мы» с заглавной буквы.
«Но ведь и я, — подумал Дом Пауло, — член ордена одиночества, часть паствы, что уходит в бесконечность. Ведь и меня презирает мир. Ведь и я ясно вижу различие между собой, личностью и народом. Для тебя, старый мой друг, когда-то это стало отъединенностью от мира. Ноша, возложенная на тебя другими? И ты принял ее? Сколько она должна была весить? Сколько она весит для меня? Ты подставил свою спину под нее и попытался поднять, ощущая ее груз; я монах христианского ордена и священник его, но и я несу ответственность перед богом за дела и мысли каждого монаха и пастыря, что когда-либо ступали по земле со времен рождения Христа, не говоря уж о своих собственных».
Дрожь прошла по его телу, и так он сидел, покачивая головой.
Нет, нет. Такая ноша переламывает спину. Она слишком тяжела для одного человека, и только Христос мог справиться с ней. Подвергаться поношениям за веру — этого одного достаточно. Но если еще можно выносить эти поношения, то хватит ли сил выносить понимание, что проклятия в твой адрес ни на чем не основаны, что их озлобленная глупость обращена не только к тебе, но и на каждого человека одной с тобой веры или твоего племени, когда слова и поступки каждого из них приписываются тебе? И принимать все это, как Бенджамин пытался делать?
Нет, нет.
И все же вера, которой поклонялся Дом Пауло, говорила, что такая ноша в самом деле лежала на чьих-то плечах, лежала со времен Адама, и возложена она была злым духом, который насмешливо воззвал к Человеку, оповестив его, что за деяния всех и каждого он ныне будет нести ответственность, ноша, тяжесть которой будет переходить из поколения в поколение. И пусть дураки спорят об этом, те дураки, которые с наслаждением и с удовольствием принимают на себя другое наследство — древней славы, побед и триумфов, они полны тщеславного достоинства, с которым гордятся этим наследством «по праву благородного рождения», и никому из них нимало не приходит в голову, что он и пальцем не шевельнул для получения наследства, если не считать того, что ему повезло быть рожденным Человеком. Он возмущенно протестует по поводу унаследованной ноши, которая заставляет его чувствовать себя «виновным и отверженным по праву рождения», и затыкает уши, не желая слышать ни слова из этого приговора. Да, ноша в самом деле тяжела. Его вера гласила, что облегчить ее может лишь Тот, чей образ смотрит на него с креста над алтарем, хотя ощущение непомерной тяжести все равно останется. Но ощущение это можно считать легчайшим ярмом, если сравнить его с грузом тяготеющего проклятия. Он не мог заставить себя поделиться своими мыслями со стариком, ибо тот и так знал, о чем он сейчас думает. Бенджамин алкал встретить Другого. И последний в этом мире старый еврей сидел в одиночестве на вершине горы в ожидании Мессии, неся кару за Израиль, и ждал, и ждал, и…
— Бог да благословит тебя и твою мужественную глупость. Впрочем, ты мудрый дурак.
— Хм-м-м! Мудрый дурак! — скорчил гримасу отшельник. — Ты всегда был специалистом по парадоксам и загадкам, Пауло, не так ли? Если ты не видел противоречий в ситуации, она тебя даже не интересовала, верно? Ты должен был обязательно найти Тройственность в Единстве, жизнь в смерти, мудрость в глупости. В противном случае для тебя все было слишком обыденно.
— Обладать чувством ответственности — это мудрость, Бенджамин. А думать, что сможешь вынести все в одиночку — это глупость.
— Но не сумасшествие?
— Может, чуть-чуть. Но это сумасшествие мужественности.
— Тогда я открою тебе небольшую тайну. Давным-давно мне было известно, что я не смогу вынести эту ношу, пусть даже Он и призвал меня. Не об одном и том же мы говорим с тобой?
Священник пожал плечами.
— Ты можешь называть это ношей избранничества. Я могу называть это ношей Первородной Вины. В любом случае, и то и другое связано с ответственностью, хотя мы можем по-разному оценивать меру ее и яростно спорить, что означают те или иные слова, определяющие предмет, но ведь предмета спора по-настоящему не существует, ибо его может понять лишь мертвое молчание сердца.
Бенджамин хмыкнул.
— Что ж, я рад убедиться, что ты наконец признал это, хотя ранее ты никогда не говорил таких слов.
— Перестань болтать, нечестивец.
— Но ведь и вы всегда извергаете обильные потоки слов, хитроумно защищая свою Троицу, хотя Он никогда не нуждался в такой защите с тех пор, как предстал передо мной Единым и Неразделенным. А?
Священник побагровел, но ничего не сказал.
— Вот оно! — завопил Бенджамин, подпрыгивая на месте. — Наконец я вызвал в тебе желание спорить! Ха! Но не обращай внимания! Сам я пользуюсь всего лишь несколькими словами, и у меня никогда нет уверенности, что мы с Ним имеем в виду одно и то же. Я очень надеюсь, что на тебя проклятие никак не обрушится, ибо получить его от Троицы будет куда болезненнее, чем от Единого.
— Проклятый старый кактус! Мне в самом деле нужно выслушать твое мнение о Тоне Таддео и обо всей этой компании.
— Зачем тебе нужно мнение бедного старого анахорета?
— Потому, Бенджамин Элеазар бар-Иешуа, если все эти годы ожидания появления Того-Кто-Не-Приходит и не дали тебе мудрости, они хотя бы научили тебя проницательности.
Старый еврей закрыл глаза, задрал лицо к небу и хитро улыбнулся.
— Оскорбляй меня, кричи на меня, унижай меня, преследуй меня — но знаешь, что я скажу?
— Ты скажешь: «Хм-м-м!».
— Нет! Я скажу, что Он уже здесь. Мне довелось увидеть мельком его облик.
— Что? Что ты болтаешь? О Тоне Таддео?
— Нет! Не только о нем. Я не собираюсь заниматься пророчествами, пока ты не скажешь мне, что тебя волнует, Пауло.
— Ну, все началось с лампы брата Корнхоера.
— С лампы? Ах да, Поэт упоминал о ней. Он вещал, что из нее ничего не получится.
— Поэт, как обычно, ошибался. Сам я ничего не видел, но мне сказали, что все в порядке.
— Значит, она загорелась? Прекрасно. И что тогда началось?
— И теперь я ломаю себе голову — насколько далеки мы от края пропасти? Или как близко берег? Электрическая субстанция у нас в подвале. Понимаешь ли ты, как много переменилось за последние два столетия?
И пока отшельник латал полог, священник стал рассказывать о своих страхах и опасениях, так они сидели, беседуя, пока лучи опускающегося солнца не стали отбрасывать в пыльном воздухе длинные тени от западной стены аббатства.
— С тех дней, когда погибла последняя цивилизация, Меморабилия была нашей главной заботой, Бенджамин. Мы сохранили ее. Но что нас ждет? Я чувствую себя в положении сапожника, который будет пытаться продавать обувь в деревне, где все тачают ее.
Отшельник улыбнулся.
— Ему может повезти, если он умеет тачать обувь более высокого качества.
— Боюсь, что светские ученые тоже приходят к такому же выводу.
— Тогда брось свое сапожное ремесло, пока ты окончательно не разорился.
— Такая возможность существует, — признал аббат. — Хотя думать о ней не очень приятно. В течение двенадцати столетий мы были островком света в океане тьмы. Хранение наших собраний было бесцельно, но, как мы думали, оно было освящено свыше. В ней была мирская суть наших занятий, но мы всегда были собирателями и запоминателями книг, и невыносимо думать, что труды наши скоро подойдут к концу — скоро в них отпадет необходимость. Я как-то не могу поверить в это.
— И поэтому ты позволил другому «сапожнику» возвести это странное сооружение у себя в подвале?
— Должен признать, что все выглядит именно так…
— Что ты собираешься предпринять, дабы опередить светскую науку? Построить летающую машину? Или возродить к жизни «махина аналитика»? Или, может, вывихнуть всем мозги и удариться в метафизику?
— Ты позоришь меня, старый еврей. Ты же знаешь, что первым делом все мы Христовы монахи, а то, что ты предлагаешь, подходит другим, а не нам.
— Я отнюдь не позорю тебя. Я не вижу ничего неподобающего в том, что Христовы монахи возьмутся строить летающую машину, хотя им больше подобало бы строить молитвенную машину.
— Провалиться бы тебе! Я наложу епитимью на всех монахов ордена за то, что они слишком много болтают с тобой!
Бенджамин ухмыльнулся.
— Симпатии к тебе я не испытываю. Книги, собранные вами, покрыты пылью веков, но они были написаны на заре человечества, детьми мира, и дети же мира возьмут их у тебя, и у тебя нет никакого права мешать им в этом.
— Ага, значит, ты начал пророчествовать!
— Отнюдь. «Скоро взойдет солнце» — разве это пророчество? Нет, это всего лишь признание последовательности событий. Дети мира по-своему тоже логичны — поэтому я и утверждаю, что они извлекут все, что ты можешь им предложить, отстранят тебя от дел, а затем объявят тебя жалкой развалиной. В конце концов они вообще перестанут обращать на тебя внимание. И отвечать за это будешь только ты сам. Теперь ты будешь пожинать плоды своей собственной медлительности.
Говорил он с насмешливым легкомыслием, но его предсказания пугающе совпадали со страхами Дома Пауло. Лицо священника опечалилось.
— Не обращай на меня внимания, — сказал отшельник. — Я не рискую предсказывать ход событий, пока не разберусь в той штуке, что у вас в подвале, или хотя бы не брошу взгляда на этого Тона Таддео, который, кстати, начинает интересовать меня. И если тебе в самом деле нужен мой совет, подожди, пока я в деталях не познакомлюсь с тем, что значит приход новой эры.
— Но ты же не сможешь увидеть лампочку, потому что ты никогда не приходишь в аббатство.
— Потому что вы там омерзительно кормите.
— И ты не встретишь Тона Таддео, потому что он приедет с другой стороны. И если ты хочешь присутствовать при появлении новой эры еще до ее рождения, то с пророчеством о ее рождении ты уже опоздал.
— Чушь. Щупание набухающего чрева будущего может повредить ребенку. Я буду ждать — а затем все услышат от меня пророчество, что оно родилось, и что оно — не то, чего я ждал.
— Забавная у тебя точка зрения! Но чего же ты ждешь?
— Кого-нибудь, кто позвал бы меня.
— Позвал бы?
— Рискни!
— Что за вздор!
— Хм-м-м! Говоря по правде, я не очень верю в то, что Он явится, но мне было сказано ждать и, — он пожал плечами, — я жду, — его глаза сузились до неразличимых щелок, и с внезапной серьезностью он наклонился вперед. — Пауло, возьми с собой Тона Таддео на пешую прогулку к горе.
Аббат с насмешливым ужасом откинулся назад.
— Гонитель послушников! Фигляр от пилигримов! Я пришлю к тебе Поэта — и пусть он расположится у тебя и почит тут навеки. Привести Тона к твоей берлоге! Ты из ума выжил!
Бенджамин снова пожал плечами.
— Отлично. Забудь о моей просьбе. И да не покинет тебя надежда, что, когда придет время, Тон будет на твоей стороне, а не на стороне других.
— Других, Бенджамин?
— Кира, Навуходоносора, Фараона, Цезаря, Ханнегана Второго — нужно ли мне продолжать? Когда рядом с любым из них трутся пять умных человек, они становятся куда опаснее. Это все, что я могу тебе сказать. Это единственный совет, который я дам тебе.
— Ну, Бенджамин, хватит с меня — последние пять лет ты меня так мучил, что…
— Оскорбляй меня, кричи на меня, унижай меня…
— Прекрати. Я ухожу, старик. Уже поздно.
— Вот как? А как твой живот, на котором лежит проклятие, выносит верховую езду?
— Мой желудок?.. — остановившись, чтобы прислушаться к своим ощущениям, Дом Пауло обнаружил, что чувствует себя куда лучше, чем в предшествовавшие недели. — Конечно, там сущая кутерьма, — пожаловался он. — Да и что иное может там быть после того, как послушаешь тебя?
— И то правда…
— Бог тебе в помощь, старик. И после того как брат Корнхоер придумает летающую машину, я пошлю несколько послушников, чтобы они сверху кидали в тебя камни.
Они тепло обнялись. Старый еврей проводил до края плоской площадки на вершине горы и остался стоять тут, закутавшись в молитвенное покрывало, плотная ткань которого так контрастировала с лохмотьями, препоясавшими его чресла; он смотрел, как аббат спускался по тропе, откуда затрусил к аббатству. И Дом Пауло еще долго видел на фоне заходящего солнца его сухопарую фигуру, словно его силуэт, вырисовывающийся на фоне сумеречного неба, посылал молитвы пустыне и небосводу.
«Да вознесутся к твоему престолу, о, Господи, все наши моления, — словно в ответ ему прошептал аббат, добавив: — И пусть он наконец выиграет в блошки у Поэта его искусственный глаз. Аминь».
Глава 17
— Могу сказать тебе совершенно точно: война будет, — промолвил посланец из Нового Рима. Все силы Ларедо нацелены на Долины. Бешеный Медведь разбил свой лагерь. По всему пространству Долин идут стычки всадников, в типичном для кочевников стиле. Но государство Чихуахуа угрожает Ларедо с юга. Поэтому Ханнеган готов послать армию Тексарканы к Рио-Гранде — чтобы помочь «оборонять» границы. Конечно, с полного согласия ларедонцев.
— Король Горальди — слабоумный дурак! — сказал Дом Пауло. — Неужели его не предупреждали, что Ханнеган предаст его?
Посланник улыбнулся.
— Дипломатическая служба Ватикана всегда уважает государственные секреты, если ей доводится узнать их. Менее всего нас можно обвинить в шпионаже. Мы всегда тщательно заботимся о…
— Он предупрежден? — настойчиво переспросил аббат.
— Конечно. Горальди сказал, что папский легат лжет ему, он обвинил Церковь, что та разжигает подозрительность и враждебность между союзниками по Договору святого Бича, стараясь укрепить временную власть папы. И этот идиот даже рассказал Ханнегану о полученном им предупреждении.
Дом Пауло прищурился и свистнул.
— И что сделал Ханнеган?
Посланник помедлил.
— Мне казалось, что я вам говорил: монсиньор Аполло арестован. Ханнеган приказал изъять его дипломатическую переписку. В Новом Риме идут разговоры об отлучении от Церкви всего королевства Тексарканы. Конечно, Ханнеган уже фактически подвергнут отлучению, но большинство тексарканцев это не очень волнует. Как вы, без сомнения, знаете, восемьдесят процентов населения придерживается различных культов, да и среди правящего класса католики составляют незначительное количество.
— Итак, значит, Маркус, — грустно пробормотал аббат. — А что о Тоне Таддео?
— Откровенно говоря, я плохо представляю себе, как он ныне проберется через Долины, не получив пару дыр от мушкетных пуль. Теперь мне ясно, почему он не хотел отправляться в путешествие. Но я ничего не знаю о его планах, отец аббат.
Морщины на лице Дома Пауло искривились гримасой боли.
— Если наш отказ выслать материалы университету приведет к его гибели…
— Не ломайте себе голову над этим, отец аббат. Ханнеган сам позаботится о нем. Я не знаю, как это произойдет, но уверен, что Тон Таддео доберется до вас.
— Мир будет очень опечален, если потеряет его, насколько я слышал. Но скажите мне, почему вас послали к нам, чтобы сообщить планы Ханнегана? Мы принадлежим к империи Денвера, и я не вижу причин, по которым данный регион должен испытывать тревогу.
— Ах, я же вам начал рассказывать. Ханнеган надеется наконец объединить весь континент. Надежно привязав к себе Ларедо, он собирается сокрушить окружение, которое сковывает его. И тогда он двинется на Денвер.
— Но ведь это значит, что линии снабжения у него пройдут через места обитания кочевников. Это же невозможно.
— Страшно трудно, и поэтому следующий его ход неизбежен. Долины представляют собой естественный географический барьер. Если они будут очищены от своих обитателей, Ханнеган может считать свою западную границу совершенно надежной. Но присутствие на этих территориях кочевников делает для всех примыкающих к Долинам стран неизбежным содержание войск на их границах для сдерживания кочевых орд. И единственный путь для подчинения Долин заключается в том, что надо контролировать обе его плодородные полосы, и с запада, и с востока.
— Но даже в этом случае, — удивился аббат, — кочевники…
— У Ханнегана есть для них поистине дьявольский план. Воины Бешеного Медведя могут легко справиться с кавалерией ларедонцев, но вот коровью чуму одолеть они не в состоянии. Племена Долин еще не знают, что когда Ларедо бросит силы, чтобы покарать их за разбойничьи набеги, они погонят с собой несколько сот голов зараженного скота, которые смешаются со стадами кочевников. Это идея Ханнегана. В результате разразится голод, при котором будет легче легкого натравить одно племя на другое. Мы, конечно, не знаем всех деталей, но идея заключается в том, что будет создан легион кочевников под командованием какой-нибудь марионетки, вооруженной Тексарканой, преданной Ханнегану и готовой смерчем пройти на запад вплоть до гор.
— Но зачем? Ведь Ханнеган, конечно, не ожидает, что варвары составят преданное ему войско или будут способны управлять империей после того, как уничтожат ее?
— Нет, милорд. Но кочевые племена будут уничтожены, а Денвер потрясен до основания. Обломки того и другого достанутся Ханнегану.
— И что с ними делать? Особым богатством такая империя отличаться не будет?
— Нет, но со всех сторон она будет в безопасности. Положение у нее будет довольно благоприятное, если она решит двинуться на восток или на северо-восток. Конечно, прежде чем дойдет до этого, планы могут рухнуть. Но в любом случае в недалеком будущем этот район будет подвергаться серьезной опасности. В течение нескольких последних месяцев необходимо будет предпринять определенные шаги, чтобы обезопасить аббатство. У меня есть инструкции обсудить с вами меры, необходимые для спасения Меморабилии.
Дом Пауло почувствовал, что тьма вокруг него начинает сгущаться. После двенадцати столетий тьмы над миром забрезжила слабая надежда — и тут появляется некий неграмотный принц, который хочет раздавить ее своими конными ордами варваров, и…
Он с грохотом ударил кулаком по столу.
— Мы хранили эти книги в своих стенах тысячу лет, — прорычал он, — и будем хранить еще тысячу лет. Аббатство трижды подвергалось осаде во время вторжения Бейрингов и один раз во время виссарионистской ереси. Мы сохраним книги. Мы знаем, как сберечь их.
— Но ныне вам угрожает другая опасность, милорд.
— В чем же она заключается?
— В том, что у вас может на хватить запасов пороха и картечи.
Праздник Успения пришел и закончился, но по-прежнему не было слышно ни слова о делегации из Тексарканы. К священникам аббатства толпами пошли странники, которые являлись в аббатство по обету. Дом Пауло отказывался даже от легкого завтрака, и поползли слухи, что он сам наложил на себя епитимью за то, что, несмотря на опасность, которая угрожала обители с Долин, все же пригласил ученого.
Впередсмотрящие на башнях не покидали своих постов. И сам аббат нередко поднимался на стены, всматриваясь в дали, простиравшиеся от аббатства к востоку.
Незадолго до того, как Вечерняя звезда ознаменовала приход праздника в честь святого Бернарда, один из послушников оповестил, что видел вдали легкий столб пыли, но сгущающаяся тьма не позволила приглядеться. Вскоре отзвучало повечерие и «Славься, Богородица», но в воротах никто так и не появился.
— Может быть, это был лишь их передовой отряд, — предположил Приор Галт.
— Но это могло быть и воображение брата стражника, — возразил Дом Пауло.
— Но если они стали лагерем милях в десяти или около того…
— Тогда мы увидели бы их костер с башни. Ночь сегодня ясная.
— И все же, господин наш, когда поднимется луна, мы могли послать туда всадника…
— О нет. Лучшая возможность быть пристреленным по ошибке. Если это в самом деле они, то всю дорогу они, скорее всего, держат пальцы на курках, особенно по ночам. Можем подождать до рассвета.
Было уже позднее утро, когда с восточной стороны появилась долгожданная группа всадников. Дом Пауло стоял на стене, щуря близорукие глаза и стараясь что-нибудь разглядеть на выжженной равнине. Ветер относил пыль из-под лошадиных копыт к северу. Группа остановилась у стен, и прозвучал звук рога.
— Мне кажется, что их там человек двадцать или тридцать, — пожаловался аббат, протирая утомившиеся глаза. — Неужели их и в самом деле так много?
— Примерно так, — сказал Галт.
— Как мы их всех примем?
— Не думаю, что нам придется заботиться о тех, кто носит на плечах волчьи шкуры, милорд аббат, — твердо сказал молодой священник.
— Волчьи шкуры?
— О кочевниках, милорд.
— Все на стены! Закрыть ворота! Поднять щиты!
— Подождите, там не все кочевники, господин наш.
— А? — Дом Пауло снова повернулся, чтобы вглядеться в прибывших.
Приветственные звуки рога смолкли. Всадники махали руками, и группа разделилась. Большая часть галопом понеслась к востоку. Оставшиеся, посмотрев им вслед, рысью направились к аббатству.
— Их шесть или семь человек, и некоторые в мундирах, — пробормотал аббат, когда всадники приблизились.
— Тон и его сопровождение, как я думаю.
— Но с кочевниками? Хорошо, что я не послал им навстречу всадника прошлой ночью. Что у них общего с кочевниками?
— Возможно, они были у них проводниками, — угрюмо сказал приор Галт.
— Так же как лев может возлежать рядом с ягненком!
Всадники подъехали к воротам. Дом Пауло почувствовал, что у него пересохло во рту.
— Что ж, идемте встречать их, отец, — вздохнул он.
К тому времени когда священники спустились со стен, всадники уже въехали во двор аббатства. Один из них отделился от всех прочих, подъехал поближе и, спешившись, вынул свои бумаги.
— Дом Пауло из Пеко, аббат?
Аббат склонил голову.
— Приветствую тебя. Добро пожаловать во имя святого Лейбовица, Тон Таддео. Добро пожаловать во имя его аббатства, во имя сорока поколений, которые ждали вашего прибытия. Будьте как дома. Мы — ваши слуги.
Слова эти шли из глубин сердца, где много лет ждали этого момента. Услышав в ответ невнятное односложное бормотание. Дом Пауло медленно поднял глаза.
На мгновение их взгляды встретились, и теплота этой минуты мгновенно исчезла. Какие ледяные глаза — холодные и испытующие. Недоверчивые, голодные и гордые. Они изучали его, как смотрят на ветхую древность.
«Эта минута может перебросить мост над пропастью, отделяющей двенадцать столетий», — взмолился про себя Дом Пауло, страстно желая, чтобы через него последний погибший мученик-ученый мог бы подать руку грядущему дню. Пропасть в самом деле существовала, и аббат внезапно почувствовал, что он принадлежит не к этому столетию, а бредет по песчаным берегам Реки Времени в поисках того моста, которого не существует.
— Входите, — вежливо сказал он. — Брат Висклер позаботится о ваших лошадях.
Когда он, убедившись, что гости достойно приняты и размещены в своих помещениях, уединился в своем кабинете, улыбка на лице деревянного святого странно напоминала ему усмешку старого Бенджамина Элеазара, сказавшего: «У детей этого века есть своя логика».
Глава 18
— А теперь настало время Книги Иова, — сказал брат-чтец, всходя на аналой в трапезной.
И когда Сын Божий предстал перед Господом, Сатана тоже оказался обок его.
И Господь сказал ему: «Откуда явился ты, Сатана?».
И Сатана ответил ему, как встарь: «Я обошел вокруг земли, и всюду ступала нога моя».
И Господь сказал ему: «Убедился ты, что принц простой и благородный, слуга мой Имярек, ненавидит зло и преклоняется перед миром и благоденствием?».
И ответ Сатаны гласил: «Не тщетно ли Имярек боится Господа? Ибо ты не благословил его длань силой и не дал ему могущество средь прочих народов. Но шевельни лишь десницей своей, изыми у него то, чем он владеет, дай силу его врагам, и тогда ты увидишь, не будет ли он богохульствовать перед ликом твоим».
И Господь сказал Сатане: «Обозри владения его и уменьши их. И сам ты все увидишь».
И Сатана скрылся с глаз Господних и вернулся в мир.
И теперь принц Имярек не походил уж на святого Иова, ибо когда земли его стали сотрясаться от бед и тревог, и люди его стали терять свои богатства, когда он увидел, что враги его обретают могущество, впал он в великий страх и стала уменьшаться его вера в Бога, и стал он думать про себя: «Я должен уничтожить врагов моих, прежде чем они обрушатся на меня, а я даже не успею взять меч в руки…»
— Вот так оно и было в те дни, — сказал брат-чтец.
Ибо принцы земли нашей ожесточили сердца свои против закона Господа нашего, и гордости их не стало предела. И каждый из них наедине с собой думал, что лучше бы всем им погибнуть, чем подчиниться воле одного из принцев, который будет господствовать над ними. Ибо все они боролись за власть на земле, которая влекла их; обманом и предательством восседали они на тронах своих, но перед угрозой войны они склонялись, трепеща, ибо Господь Бог наш сподобил мудрейших людей знанием того, как разрушить мир дотла, и вложил в руки их оружие архангела, которым был повержен Люцифер, и перед мощью его люди и принцы должны были бояться Бога, склоняясь перед его непостижимым величием. Но они не склонились перед ним.
И Сатана обратился к некоторым принцам, говоря им: «Не опасайся обнажить меч, ибо ученые люди лгут тебе, говоря, что мир будет тем самым разрушен дотла. Не бойся советов слабейших, ибо они трепещут перед тобой и служат врагам твоим, хватая тебя за руку, дабы ты не мог воздеть ее против врагов своих. Ударь первым — и ты будешь править всем и вся».
И принц сей последовал словам Сатаны, и собрал всех мудрецов своих владений и воззвал к ним, чтобы они дали ему совет, каким путем уничтожить ему всех врагов, чтобы не навлечь мор и глад на свое королевство. Но большинство мудрецов сказали; «Господин наш, это невозможно, ибо враги ваши также имеют такой же меч, который мы вручили тебе, и ярость его — суть пламя ада, и стоит лишь дать ему волю, оно испепелит нас».
«Тогда вы должны дать мне другое оружие, которое будет в семь раз горячее пламени ада», — приказал им принц, чья гордость ныне возвысилась выше фараоновых столпов.
И многие из них сказали: «О нет, господин наш, не проси такого у нас, ибо даже дым этого пламени, если мы вручим его тебе, испепелит все сущее».
И принца разгневал этот их ответ, и он решил, что они предают его, и разослал он своих шпионов и соглядатаев среди них, дабы искушать их и подстрекать, после чего мудрецы стали чувствовать страх. Некоторые из них ныне изменили свои слова, дабы гнев владыки не коснулся бы их. Трижды он спрашивал их, и трижды они отвечали ему: «Нет, господин наш, даже твой собственный народ исчезнет, если ты сделаешь то, о чем взываешь к нам». Но один из магов предался образу Иуды Искариота, и свидетельство его было лживо, и предал он своих братьев, солгал он людям и миру, дав им совет не бояться демона краха. И принц последовал за лживостью сего мудреца, чье имя было опаленный, и заставил шпионов своих обвинить многих магов перед ликом всего народа. И преисполнившись ужаса, наименее мудрейший среди магов дал принцу совет, которого тот алкал, сказав: «Оружие может быть пущено в ход, но только не переходи таких-то и таких-то границ, а то все будет уничтожено».
И невиданным пламенем принц стер города врагов своих с лица земли, и три дня и три ночи огромные его катапульты и железные птицы посылали гнев и ярость на врагов его. И над каждым городом вставало солнце, которое палило жарче, чем небесное светило, и города сразу же рассыпались и таяли как воск в пламени факела. И тем самым люди останавливались на улицах, и кожа их занималась дымом, и вспыхивали они, как вязанка хвороста, брошенная на пылающие угли. А когда палящая ярость солнца стихала, города занимались пламенем, и великий гром шел с неба, после чего они рассыпались в прах. Ядовитый дым стлался над всей землей, и земля тлела и светилась по ночам, и проклятие тления этого вызывало язвы по всей коже, и волосы выпадали на теле, и кровь останавливалась в жилах.
И запах большого гниения на земле поднялся до небесного престола. И земля ныне была вся в руинах, как некогда Содом и Гоморра, и даже земля этого принца подверглась разрушению, ибо враги его не стали сдерживать свою жажду мести и наслали огонь на его города, отчего и те превратились в смрад и прах. И запах сей кровавой бойни поразил обоняние Господа. И обратился он к принцу Имярек, сказав ему: «Что за пожарище ты преподносишь мне? Что за запах, который поднимается от зрелища катастрофы. Преподносишь ли ты мне в жертву овец и козлищ или же тельца упитанного преподносишь ты Богу?».
Но принц не ответствовал ему, и Бог сказал: «Ты сына моего преподнес мне в жертву».
И Господь уничтожил его вместе с опаленным, предателем, и мор пошел по земле, и безумие овладело человечеством, которое стало забивать камнями мудрецов совместно с правителями, которым удалось уцелеть.
Но в те времена был человек, именовавшийся Лейбовицем, который в юности своей, подобно святому Августину, возлюбил мудрость мира больше, чем мудрость Господа нашего. Но видя ныне, что великие знания, несмотря на всю благость их, не спасли мир, он принес покаяние свое Господу, плача и рыдая…
Тут аббат резко ударил по столу, и монах, который читал древний текст, немедленно замолчал.
— Это единственный имеющийся у вас вариант текста? — спросил Тон Таддео, натянуто улыбаясь аббату, который находился в другом конце кабинета.
— О, существует несколько его версий. Они отличаются лишь незначительными деталями. Никто доподлинно не знает, какая из наций первой напала, не говоря уж о том, что ныне это и не важно. Текст, который брат-чтец прочитал нам сейчас, был написан через несколько десятилетий после смерти святого Лейбовица — и, возможно, один из первых вариантов — когда стало возможным и безопасным снова записать его. Автор его — молодой монах, который сам не жил во времена разрушения, он получил его из вторых рук от последователей святого Лейбовица, подлинных вспоминателей и собирателей книг, и ему пришлось прибегнуть к библейской мимикрии. Я сомневаюсь, существует ли где-либо хоть один полный и точный отчет о временах Огненного Потопа. С его началом отдельный человек был буквально не в состоянии охватить его целиком.
— В каких краях существовал принц, названный Имярек, и этот человек Опаленный?
Аббат Пауло покачал головой.
— Неизвестен даже автор данного списка. Мы собрали достаточно письменных свидетельств того времени, чтобы убедиться — в то время даже самые незначительные правители имели доступ к этому оружию до начала катастрофы. Ситуация, которую он описывает, существовала у многих народов. И имя этим Опаленным — легион.
— Конечно, и мне доводилось слышать подобные легенды. Было очевидно, что грядет нечто ужасное, — подтвердил Тон, а затем резко продолжил: — Когда я могу приступить к изучению… как вы это называете?
— Меморабилия.
— Вот именно, — он вздохнул и рассеянно улыбнулся изображению святого в углу. — Могу ли я начать завтра?
— Если вам угодно, то можно и сегодня, — сказал аббат. — Вы можете совершенно свободно приходить и уходить, когда вам вздумается.
Своды подвала были освещены дымным светом канделябров, и меж высоких стульев неслышно двигались лишь несколько монахов-ученых в черных рясах. Брат Амбрустер пристально вглядывался в свои записи, которые лежали в лужице света от свечи; он сидел в своей келье у подножия каменной лестницы, да еще одна лампа горела в алькове книг по Моральной Теологии, где согбенная фигура в рясе склонилась над древними манускриптами. Время было после заутрени, когда большинство обитателей аббатства были заняты делами по обители, в кухне, аудиториях, в саду, конюшне; библиотека была почти пуста до послеполуденного времени. Но в это утро здесь было сравнительно много народу.
В тени, скрывавшей новую машину, стояли три монаха. Спрятав руки в широких рукавах ряс, они смотрели на четвертого собрата, который стоял у подножия лестницы и, не отрываясь, смотрел на пятого монаха, взгромоздившегося на ступеньку, чтобы наблюдать за входом на лестничную площадку.
Брат Корнхоер хлопотал вокруг своей машины, как заботливый родитель над своим чадом, и когда он уже не мог больше найти провод, который необходимо было подкрутить, или какую-нибудь деталь, нуждавшуюся в его внимании, он удалялся в альков Натуральной Теологии читать и ждать. Можно было еще дать своей команде последние указания, но он решил соблюдать спокойствие, и если мысли о том, что наступает момент решительного испытания, и посещали его, то лицо монастырского изобретателя оставалось непроницаемым. Поскольку сам аббат предпочел не присутствовать при демонстрации машины, он не ждал ни от кого аплодисментов и сдерживал желание уловить во взгляде Дома Пауло одобрение своих замыслов.
Негромкий шорох с лестницы снова внес волнение в атмосферу подвального помещения, хотя раньше уже было несколько ложных тревог. Никто не сообщал блистательному Тону, что выдающийся изобретатель ждет его визита в подвале. И в самом деле, знай он об этом, все величие этой минуты было бы испорчено. Да и Дом Пауло предупредил их, чтобы они особенно не высовывались. Так что они лишь обменивались безмолвно многозначительными взглядами, пока длилось ожидание.
Время это не прошло даром.
Четвертый монах, стоявший на верху лестницы, торжественно повернувшись, кивнул тому, кто ждал внизу, на площадке.
— In principio Deus[26], — мягко сказал он. Пятый монах повернулся и в свою очередь кивнул третьему у подножия лестницы.
— Caelam et terram creavit[27], — пробормотал он.
— Cum tenebris in superficie profundorum[28], — хором сказали все остальные.
— Ortus est Dei Spiritus supra aquas[29], — отозвался брат Корнхоер. Он поставил книгу обратно на полку, и цепи, приковавшие ее, звякнули.
— Gratias Creatori Spiritui[30], — ответила его команда.
— Dixitque Deus FIAT LUX[31], — командным тоном приказал изобретатель.
Команда, стоявшая на лестнице, поспешила занять свои посты. Четверо монахов принялись раскручивать маховик. Пятый наклонился к динамо. Шестой влез на лестничку у книжных полок и занял место на верхней ступеньке, упираясь головой в свод арки. Чтобы защитить глаза, он натянул на лицо маску из закопченного пергамента, и пока брат Корнхоер, волнуясь, снизу наблюдал за ним, тот проверил конструкцию лампы и винт, которым сближаются угольные стержни.
— Et lux ergo facta est[32], — сказал он, убедившись, что с винтом все в порядке.
— Lucem esse bonam Deus vidit[33], — обратился изобретатель к пятому монаху.
Пятый монах со свечой в руках склонился над шинами, чтобы бросить последний взгляд на щетки.
— Et secrevit lucem a tenebris[34], — наконец сказал он, продолжая изучение.
— Lucem appelavat diem, — хором отозвалась команда, вращавшая динамо, — et tenebris noctes[35], — и дружно ухватилась за рукоятки.
Машина дрогнула, скрипнула и застонала. Монахи, постанывая, все набирали и набирали темп, и маховик начал вращаться, низкое жужжание становилось все выше и выше, превращаясь почти в визг. Наблюдавший за работой динамо внимательно смотрел на вращение спин, которые постепенно слились в неразличимое целое.
— Vespere occaso[36], — начал было он, но приостановился и, облизав два пальца, коснулся ими контактов. Блеснула искра.
— Lucifer! — завопил он, отскакивая, и закончил уже спокойно, — ortuss es primo die[37].
— КОНТАКТ! — сказал брат Корнхоер, когда Дом Пауло, Тон Таддео и его помощник показались на лестнице.
Монах на лестнице одним движением сблизил стержни. Резкое пс-с-с! — и слепящий свет залил подвал сиянием, которого не доводилось видеть уже двенадцать столетий.
Вошедшие остановились на верхней ступеньке. Тон Таддео пробормотал проклятие на своем родном языке. Он сделал шаг назад. Аббат, который не присутствовал при испытаниях и не очень верил в успех этой авантюры, побледнел и прервался на полуслове. Помощник пришел в ужас и кинулся бежать с криком «Пожар!».
Аббат перекрестился.
— Я и не знал! — прошептал он.
Ученый, оправившись от первого шока, обвел взглядом подвал, обратив внимание на маховик, который старательно раскручивали монахи. Взгляд его скользнул вдоль намотанных проводов, заметив монаха на лестнице, оценил и размер колеса динамо и застылость фигуры монаха, стоявшего около него, не отрывая глаз от машины.
— Невероятно, — выдохнул он.
Монах у подножия лестницы, узнав его, склонился в смиренном поклоне. От бело-голубого света в помещении лежали резкие тени, и пламя свечей почти совершенно померкло в потоках света.
— Сияние, как от тысячи свечей, — переведя дыхание, сказал ученый. — Так, должно быть, было у древних — но нет! Немыслимо!
Словно в трансе он стал спускаться по лестнице. Остановившись рядом с братом Корнхоером, он с любопытством присматривался к нему несколько секунд, а затем двинулся дальше. Ни к чему не притрагиваясь, ни о чем не спрашивая, он обошел машину, изучая и динамо, и провода, и саму лампу.
— Это кажется невозможным, но…
Аббат справился со своими эмоциями и тоже спустился вниз.
— Ты что, язык проглотил? — шепнул он брату Корнхоеру. — Поговори с ним. Я… я немного не в себе.
Монах оживился.
— Вам нравится это, милорд аббат?
— Ужасно, — простонал Дом Пауло.
Оживление изобретателя увяло.
— Так потрясти гостя! Его помощник перепугался настолько, что едва не свихнулся. Я чуть не скончался!
— Но зато так светло.
— Провалиться бы тебе! Иди поговори с ним, пока я подумаю, как мне извиняться.
Но ученый уже сам пришел к определенному выводу, поскольку неторопливо подошел к ним. На лице его было напряженное выражение, а движения отличались скованностью.
— Электрическая лампа, — сказал он. — Как вам удалось хранить ее столько столетий! И после этих лет, когда пытались создать теорию… — он слегка хмыкнул, и было видно, что он пытается держать себя в руках, как человек, который стал жертвой потрясающего розыгрыша. — Почему вы все это скрывали? Неужели интересы религии… И что… — полная невозможность выдавить из себя слова заставила его остановиться. Он покачал головой и оглянулся в поисках возможности бегства.
— Вы ошибаетесь, — слабым голосом сказал аббат, хватаясь за руку брата Корнхоера. — Ради любви к Господу, брат, объясните!
Но ни сейчас, ни в любое иное время такой бальзам на раны не мог утешить уязвленную профессиональную гордость.
Глава 19
После инцидента в подвале аббат пользовался каждой возможностью, чтобы загладить свою вину за эту неприятную историю. Тон Таддео не проявлял никаких видимых признаков неприязни и даже принес извинения за свою несдержанность во время инцидента, тем более что потом изобретатель дал ученому подробные объяснения относительно своего замысла и его воплощения. Но извинения эти лишь убедили аббата, что им была допущена грубая ошибка. Заключалась она в том, что Тон оказался в положении горовосходителя, который, вскарабкавшись на «непокоренную» вершину, находит там под камнем записку своего предшественника, о котором ему никто не сообщил. «Должно быть, он испытал сильное потрясение», — думал Дом Пауло, вспоминая, как все происходило.
Если бы Тон не настаивал (с твердостью, которая была рождена, возможно, смущением и замешательством), что свет просто прекрасен и достаточно ярок, чтобы внимательно изучать ветхие от старости документы, которые иначе при свечах невозможно было разобрать, Дом Пауло немедленно бы убрал лампу из подвала. Но Тон Таддео настаивал, что она ему нравится, — только выяснив, что постоянно требуются три послушника, чтобы неустанно крутить динамо, и один, чтобы следить за угольками, он стал настаивать, чтобы лампу убрали, но теперь уж настал черед Дома Пауло убеждать его оставить лампу на прежнем месте.
Вот таким образом ученый начал свои исследования в аббатстве, постоянно беспокоясь о самочувствии трех послушников, которые не разгибали спин от рукоятки динамо, и четвертого, который сидел на верхней ступеньке лестницы, следя за постоянной яркостью источника света — ситуация эта дала Поэту возможность сочинить ехидные вирши о демоне смущения, нарушившем покой аббатства, и только его смирение и покаяние спасло Поэта от гнева аббата.
В течение нескольких дней, пока Тон и его помощник изучали содержание библиотеки как таковой, досье и списки, хранящиеся в монастыре, не углубляясь непосредственно в Меморабилию, пошучивая, что они занимаются пока только створками устрицы, они нашли подлинное жемчужное зерно. Брат Корнхоер обнаружил помощника Тона, стоявшего на коленях у входа в трапезную, и на мгновение ему показалось, что помощник склонился перед образом Девы Марии, висящим у входа в помещение, но звук инструментов, которыми работал помощник, положил конец этой иллюзии. Помощник, вооружившись плотничьим уровнем, измерял впадину в пороге, вытертую за столетия монастырскими сандалиями.
— Мы пытаемся найти способ определения возраста, — ответил он брату Корнхоеру, когда тот задал вопрос. — Похоже, что тут самое подходящее место для отсчета, потому что легко подсчитать, сколько лет служил этот порог. С тех пор как тут лег этот камень, люди переступали через него трижды в день.
Корнхоер не мог не поразиться такой проницательности, их деятельность вызвала у него интерес.
— Архитектурные чертежи аббатства в полном порядке, — сказал он. — По ним совершенно точно можно определить, когда было возведено то или иное здание или пристройка. Почему бы вам не поберечь свое время?
Человек взглянул на него невинными глазами.
— Мой хозяин говорит: «Найол всегда молчит и поэтому никогда не врет».
— Найол?
— Одно из божеств Природы, которому поклоняются люди Ред-Ривер. Конечно, он выражается образно. Неоспоримым авторитетом обладают только объективные свидетельства. Сообщения могут врать, но Природа на это не способна, — увидев выражение лица монаха, он торопливо добавил: — Я не имею в виду, что кто-то сознательно обманывает. Просто таким образом Тон выражает свое убеждение, что все должно быть проверено и перепроверено, чтобы добиться объективности.
— Удивительная история, — пробормотал Корнхоер и склонился, присматриваясь к наброскам на вогнутости пола. — Их размеры отвечают тому, что брат Мажек называет нормальным углом отклонения. Как странно.
— Ничего странного. Возможность того, что шаги будут отклоняться от центральной линии, укладывается в пределы нормальных ошибок.
Корнхоер был захвачен.
— Я позову брата Мажека, — сказал он.
Реакция аббата на то, что гости изучают его помещения, носила куда менее сдержанный характер.
— Что? — рявкнул он на Галта. — Они собираются снимать чертежи наших укреплений?
Приор не мог скрыть удивления.
— Я не слышал об этом. Вы имеете в виду, что Тон Таддео…
— Нет. Те офицеры, что прибыли с ним. Они шаг за шагом все обходят и осматривают.
— Как вы это выяснили?
— Мне сказал Поэт.
— Поэт? Ха!
— К сожалению, на этот раз он сказал правду. Он стащил один из их набросков.
— И он у вас?
— Нет, я был вынужден вернуть его. Но он мне не понравился. Он очень сомнителен.
— Я предполагаю, что Поэт попросил награду за это сообщение?
— Как ни странно, нет. Он сразу же почувствовал неприязнь к Тону. С тех пор как они тут очутились, он ходит кругами и что-то бормочет про себя.
— Поэт всегда бормочет.
— Но не с таким серьезным видом.
— Почему вы решили, что они снимают чертежи?
Пауло мрачно поджал губы.
— Пока мы не убедились в обратном, мы должны исходить из того, что этот интерес носит профессиональный характер. Как цитадель, окруженную стенами, аббатство одолеть невозможно. Ее не взять ни осадой, ни нападением, и поэтому, возможно, она вызывает у них профессиональное восхищение.
Отец Галт внимательно присмотрелся к пустынным пространствам, простирающимся к востоку от монастыря.
— Думая об этом, я прикидываю, что если какая-нибудь армия решит двинуться на запад через Долины, им скорее всего придется где-нибудь здесь оставить гарнизон, прежде чем идти на Денвер, — задумавшись на несколько минут, он встревожился. — А здесь у них готовая крепость!
— Боюсь, что это пришло в голову и им.
— Вы думаете, что они прислали шпионов?
— Нет, нет! Сомневаюсь, что Ханнеган вообще слышал о нас. Но они здесь, и среди них есть офицеры, и так или иначе они ходят, прикидывают, и у них зреют идеи. И теперь уж вполне возможно, что Ханнегану придется услышать о нас.
— Что вы собираетесь делать?
— Еще не знаю.
— Почему бы не поговорить с Тоном Таддео на эту тему?
— Офицеры не входят в число его слуг. Они прибыли сюда как эскорт для его защиты. Что он может сделать?
— Он родственник Ханнегана и пользуется влиянием.
Аббат кивнул.
— Я обдумаю, как поговорить с ним. Первым делом мы понаблюдаем, как будут развиваться события.
На следующий день Тон Таддео продолжал изучение скорлупы устрицы, и с удовлетворением убедившись, что она не принадлежит к числу съедобных, сосредоточил все внимание на жемчужине. Добраться до нее было непросто.
Количество факсимильных копий было тщательно подсчитано. Звенели и побрякивали цепи, говоря о том, что из шкафов изымаются все более и более драгоценные книги. Из опасений, что оригиналы могут быть повреждены или испорчены, было сочтено нецелесообразным предоставлять их на обозрение. Подлинные рукописи, датированные временами Лейбовица, которые были спрятаны в хранилищах без доступа воздуха и хранились под замком в специальных помещениях подвала, где им предстояло находиться вечно, были тем не менее извлечены наружу.
Помощник Тона сделал несколько фунтов заметок. На пятый день движения Тона Таддео стали более быстрыми, а его поведение стало напоминать азарт, с которым голодная охотничья собака берет след дичи.
— Потрясающе! — он колебался между полным восхищением и насмешливым недоверием. — Фрагменты работ физиков двенадцатого столетия! Почти полные уравнения.
Корнхоер выглянул у него из-за плеча.
— Я их видел, — затаив дыхание, сказал он. — Но никак не мог уловить тут ни начал, ни концов. Это что-то важное?
— Я еще не уверен. Математические расчеты великолепны, просто великолепны! Вот посмотри сюда — вот на это выражение — оно просто практически завершено. Эта штука под знаком радикала — она выглядит как производное от двух функций, но на самом деле она представляет собой целый разряд функций.
— Каким образом?
— Если поменять местами индексы, она приобретает расширительный характер, в противном случае оно не может представлять линейный интеграл, как утверждает автор. Просто прекрасно. И посмотри сюда — вот на это простенькое выражение. Но простота его обманчива. Совершенно очевидно, что оно представляет собой не одно, а целую систему уравнений в предельно сжатой форме. Мне потребуется пара дней, чтобы понять, как автор представлял себе их взаимоотношения — не только одна величина по отношению к другой величине, а целой системы по отношению к другой системе. Я еще не знаю, какие сюда включены физические величины, но изысканность математических выражений просто… просто превосходна! И если даже это обман, то он вдохновенен! И если работа эта аутентична, нам неслыханно повезло. Во всяком случае, она имеет огромное значение. Я должен посмотреть — возможно, имеется более ранняя копия ее.
Брат библиотекарь только простонал, когда из недр подвала был извлечен еще один запечатанный сундук, и с него были сорваны печати. Брата Амбрустера отнюдь не потрясло то, что светский ученый всего лишь за пару дней разрешил кучу загадок, которые продолжали оставаться тайнами в течение двенадцати столетий. Для хранителя Меморабилии каждое снятие печатей означало опасение за содержимое своих сундуков, и он не скрывал своего неодобрения к тому, что происходило вокруг. Брат библиотекарь, цель жизни которого состояла в сбережении и сохранении книг, смысл существования видел в том, что книги должны находиться на вечном хранении. Использование их было делом вторичным, и его надо было избегать, поскольку оно угрожало их вечному существованию.
Энтузиазм поисков Тона Таддео рос и ширился с каждым днем, и аббату становилось легче дышать, когда он видел, как таял прежний скептицизм Тона с каждым новым знакомством с фрагментами научных текстов, датировавшихся временами до Потопа. На первых порах Тон не мог четко сформулировать цель своих настойчивых поисков, и направление их смутно представлялось ему самому, но теперь он принимался за работу с непреклонной настойчивостью человека, который следует определенному плану.
— Община очень интересуется вашими работами, — сказал аббат ученому. — Мы бы хотели послушать о них, если вы не против. Конечно, все мы слышали о ваших работах на факультете, но они носят столь специальный характер, что большинству из нас будет трудно разобраться в них. Не будете ли вы столь любезны рассказать нам о них что-нибудь?.. О, лишь в общих чертах, так, чтобы они были понятны и неспециалисту. Обитель уж ворчит на меня за то, что я все не соберусь пригласить вас на беседу, но мне казалось, что вы предпочитаете сначала освоиться. Конечно, если вас это не устраивает…
Ученый уставился на аббата так, словно мерил его череп циркулем по всем шести параметрам. Улыбка его была полна сомнений.
— Вы хотите, чтобы я объяснил суть нашей работы максимально простым языком?
— Что-то вроде этого, если возможно.
— Так оно и бывает, — Тон Таддео рассмеялся. — Неподготовленный человек читает тексты, относящиеся к натуральным наукам, и думает: «Ну почему он не может объяснить все простым языком?». Он не может понять, что материал, который он старается усвоить, и так уж написан максимально упрошенным языком — для этой темы. В сущности, большая часть натурфилософии — просто процесс лингвистического упрощения, попытка изобрести язык, при помощи которого можно было бы передать смысл половины страницы уравнений — для их изложения на «простом» языке потребовалось бы не менее тысячи листов. Я ясно выражаюсь?
— Думаю, что да. Поскольку это так ясно для вас, может быть, вы сможете изложить и нам эти аспекты. Может быть, мое предложение и преждевременно, поскольку вы еще не завершили работы в Меморабилии?
— О нет. Теперь у нас совершенно четкое представление, куда мы идем, и чем мы должны заниматься. Конечно, завершение работ еще потребует определенного времени. Разрозненные куски надо сложить воедино, да еще убедиться, что они из одной и той же головоломки. Мы еще не знаем точно, что у нас получится, но мы совершенно точно знаем, что у нас не получится. Я счастлив, что у нас есть определенные надежды на успех. Я не имею ничего против, чтобы объяснить в общих чертах, но… — он снова повторил свой жест сомнения.
— Что вас смущает?
Тон был слегка растерян.
— Я не совсем представляю себе аудиторию. Я не хотел бы оскорбить ничьих религиозных чувств.
— Но разве это может случиться? Разве предмет нашего разговора — не натуральная философия? Или физические науки?
— Конечно. Но у многих людей представления о мире окрашены религиозными воззрениями… ну, то есть я имею в виду, что…
— Но если тема вашего рассказа — физический мир, как можете вы кого-то оскорбить? Особенно в этой обители. Мы долгое время ждали, когда мир начнет проявлять интерес к самому себе. И, даже боясь показаться излишне хвастливым, я бы сказал, что у нас есть несколько достаточно толковых знатоков — конечно, любителей — в натуральных науках, здесь, у нас, в монастыре. Например, брат Мажек, брат Корнхоер…
— Корнхоер! — Тон прищурился на дуговую лампу и отвернулся, мигая. — Не могу понять!
— Лампу? Но ведь именно вы…
— Нет, нет, не лампу. Она достаточно проста. Просто испытываешь шок, когда впервые видишь ее в деле. Она должна работать. На бумаге, даже учитывая все сложности и неопределенности, все выходило отлично. Но совершить этот непостижимый прыжок от смутных гипотез к работающей модели… — Тон нервно откашлялся. — Я не могу понять самого Корнхоера. Это устройство… — он устремил указательный палец на динамо, — перебросило мостик от двадцати лет предварительных экспериментов, сразу начав с усвоения основных принципов. Корнхоер сразу, без подготовки приступил к делу. Вы верите в чудесные озарения? Я — нет, но тут мы имеем дело именно с таким явлением. Колеса от вагонетки! — он засмеялся. — Что бы он соорудил, будь у него механическая мастерская! Понять не могу, что такому человеку делать в монастыре.
— Может быть, брат Корнхоер сам объяснит вам это, — стараясь сдерживаться, сказал Дом Пауло.
— Да, но… — циркуль взгляда Тона Таддео снова стал ощупывать череп старого священника. — Если вы уверены, что в самом деле никого не оскорбят наши нетрадиционные взгляды, я был бы рад рассказать о нашей работе. Но некоторые мои воззрения могут войти в конфликт с устоявшимися предрас… принятыми мнениями.
— Отлично! Это будет восхитительно.
Договорившись о времени, Дом Пауло почувствовал облегчение. «Непостижимая пропасть между христианским монахом и светским ученым, исследователем Природы, может сузиться после свободного обмена идеями и взглядами», — подумал он. Корнхоер уже несколько сблизил ее берега, разве не так? Побольше контактов, их увеличение, а не уменьшение, скорее всего, станут лучшим средством для смягчения любого напряжения. И постепенно станут рассеиваться густые облака сомнений и недоверия, не так ли? Как только Тон увидит, что его хозяин не такой уж узколобый интеллектуальный реакционер, каким, ему кажется, видит его ученый. Пауло устыдился своих ранних подозрений. «Господи, — взмолился он, — дай мне терпение, вразуми меня».
— Но вы не имеете права забывать об офицерах и об их набросках, — напомнил ему Галт.
Глава 20
С кафедры в трапезной чтец пробубнил оповещение. Отблески свечей колыхались на лицах множества людей в рясах, которые, застыв, стояли у столов, ожидая начала вечерней трапезы. Голос чтеца эхом отдавался под высокими сводами обеденного помещения, потолок которого был скрыт сплетением колышущихся теней, что падали от пламени свечей, расставленных на деревянных столах.
— Досточтимый отец аббат повелел мне сообщить, — взывал чтец, — что правило умеренности на сегодняшний вечер отменяется. У нас, как вы слышали, будут гости. Все верующие могут принять участие в банкете в честь Тона Таддео и его спутников, там будут подавать мясо. Во время трапезы будут разрешены разговоры, если они будут вестись тихо и достойно.
По рядам послушников пробежал сдавленный шепот, в котором чувствовались нотки оживления. Столы были готовы. Пища еще не была подана, но места обычных мисок заняли большие подносы, разжигая аппетит ожиданием празднества. Привычные молочные кружки стояли в буфете, а их место было отдано бокалам для вина. Вдоль столов были разбросаны розы.
Аббат остановился в коридоре, дожидаясь, когда смолкнет голос чтеца. Он взглянул на стол, подготовленный для него, отца Галта, почетного гостя и его сопровождения. «На кухне опять просчитались», — подумал он. На столе стояло восемь приборов. Трое офицеров, Тон, его помощник и два священника составляли в сумме семь человек — хотя на всякий случай отец Галт предупредил брата Корнхоера, что ему, возможно, придется сидеть с ними. Чтец закончил оповещение, и Дом Пауло вошел в зал.
— Flectamus genua[38], — услышал он с кафедры.
Аббат благословил свою паству, и сборище людей в рясах перекрестилось с военным единообразием.
— Levate[39].
Заняв свое место во главе стола, Дом Пауло перевел взгляд на вход в зал. Галт должен был сопровождать всех остальных. Для них предварительно накрыли стол в комнате для гостей, чтобы им не так бросалась в глаза скудость монашеской трапезы.
Когда гости появились, он оглянулся в поисках брата Корнхоера, но монаха с ними не было.
— Для кого восьмое место? — шепотом спросил он у отца Галта, когда все расселись.
Галт непонимающе взглянул на него и пожал плечами.
Ученый занял место по правую руку от аббата, а остальные расселись у торца стола, оставив кресло слева от него пустым. Он еще раз вернулся, чтобы пригласить Корнхоера присоединиться к ним, но чтец снова поднял голос, прежде чем аббат успел встретиться с монахом глазами.
— Oremus[40], — ответил аббат, и множество людей дружно склонило головы.
Пока шло благословение пищи, кто-то неслышно скользнул к месту слева от аббата. Тот нахмурился, но не отвел глаз во время молитвы, чтобы опознать нарушителя.
— …и Святого Духа. Аминь.
— Садитесь, — сказал чтец, сам опускаясь с кафедры.
Аббат сразу же посмотрел на фигуру, выросшую у него с левой стороны.
— Поэт!
Поэт изящно склонил свою украшенную синяками физиономию и улыбнулся.
— Добрый вечер. Сэры, высокоученый Тон, досточтимые гости, — начал разливаться он. — Что нам предложат на ужин? Неужто жареную рыбу и медовые соты в честь столь памятного посещения? Или вы, милорд аббат, наконец зажарили того гуся, что принадлежал старосте деревни?
— Я бы с большим удовольствием зажарил…
— Ха! — ответствовал Поэт и дружелюбно повернулся к ученому. — Сие кулинарное великолепие всегда доставляет нам радость в этой обители, Тон Таддео! Вы должны чаще посещать нас. Я предполагаю, что в гостевой они кормили вас не иначе, чем жареными фазанами и неописуемой говядиной. О позор! Но кому-то везет. Ах… — Поэт потер руки и плотоядно прищурился. — Может быть, и нам удастся вкусить что-нибудь из шедевров отца шеф-повара, а?
— Интересно, — сказал ученый, — что именно?
— Жирненького броненосца с кашей, сваренного в молоке кобылицы. Как правило, его подают по воскресеньям.
— Поэт! — рявкнул аббат, затем он повернулся к Тону. — Прошу прощения за его присутствие. Он явился без приглашения.
Ученый с нескрываемым удовольствием смотрел на Поэта.
— У милорда Ханнегана при дворе тоже есть несколько шутов, — сказал он Пауло. — Я знаком с их остротами. У вас нет необходимости извиняться.
Поэт высвободился из-за стула и склонился перед Тоном в низком поклоне.
— Разрешите мне вместо этого извиниться за аббата. Сир! — с чувством взвыл он.
На мгновение он застыл в поклоне. Все присутствующие ждали, когда он кончит дурачиться. Вместо этого он внезапно пожал плечами, сел и подтащил к себе копченую курицу с тарелки, поставленной перед ним послушником. Оторвав ножку, он с аппетитом вгрызся в нее. Остальные с удивлением наблюдали за ним.
— Думаю, вы правы, не приняв мое извинение за него, — наконец сказал он Тону.
Ученый слегка покраснел.
— Прежде чем я вышвырну тебя вон, червь презренный, — сказал Галт, — я бы хотел, чтобы ты понял всю низость своего поступка.
Поэт покачал головой, продолжая задумчиво жевать.
— Это верно, низость моя неизмерима, — признал он.
«Когда-нибудь Галт придушит его», — подумал Дом Пауло.
Но хотя молодой священник и был заметно раздосадован, он постарался свести весь инцидент ad absurdum[41], чтобы представить вторую сторону идиотом.
— Оставьте его, отче, оставьте его, — торопливо сказал Пауло.
Поэт любезно улыбнулся аббату.
— Все в порядке, милорд, — сказал он. — Больше я не собираюсь извиняться перед вами. Вы принесли мне свои извинения, я вам — свои, и разве это не лучший повод для провозглашения милосердия и торжества доброй воли? Никто не должен извиняться за самого себя — это так унижает. Используя мою систему, каждый получит прощение, и никому не придется извиняться самолично.
Это замечание показалось забавным только офицерам. Обычно лишь ожидания юмора достаточно, чтобы вызвать его иллюзию, и комик может вызвать взрыв хохота лишь жестами и выражением лица, независимо от того, что он говорит. Тон Таддео выдавил из себя сухую усмешку, которая появляется на лице у человека, когда он видит плохое представление с дрессированным животным.
— И посему, — продолжил Поэт, — если вы позволите, чтобы ваш смиренный слуга служил вам, то выступая, например, в качестве вашего адвоката, я мог бы преподнести от вашего имени нижайшие извинения почтеннейшим гостям за наличие у них в постелях клопов. А также клопам за то, что их вынужденно постигла такая судьба.
Побагровев, аббат с трудом подавил желание надавить подошвой сандалии на голую ногу Поэта. Он лишь ткнул его лодыжку, но дурак все не умолкал.
— Я мог бы принимать на свою голову все проклятия в ваш адрес, — сказал тот, поспешно глотая белое мясо. — Система прекрасна еще и тем, что она дает возможность представительствовать и от вашего имени, о высокоученейший ум! Я уверен, что она вас полностью удовлетворит. Я вынужден напомнить вам, что логика и методология должны предшествовать научным знаниям и даже первенствовать над ними. А моя система извинений, которую можно обсуждать и которую можно передавать друг другу, должна иметь для вас особую ценность, Тон Таддео.
— Должна?
— Да. Но какая жалость! Кто-то украл моего синеголового козлика.
— Синеголового козлика?
— Голова у него была лысая, как у Ханнегана, ваша светлость, и синяя, как кончик носа у брата Амбрустера. Я предполагал представить вам это животное, но какой-то негодяй украл его у меня как раз к вашему появлению.
Аббат стиснул зубы и надавил пяткой на пальцы Поэта. Тон Таддео слегка нахмурился, но все же решил разобраться в запутанной паутине намеков Поэта.
— Нам нужен синеголовый козел? — спросил он у своего спутника.
— Настоятельной необходимости в нем я не вижу, сир, — отозвался тот.
— Но он воистину необходим! — воззвал Поэт. — Они говорят, что вы пишете уравнения, которые в один прекрасный день изменят мир. Они говорят, что восходит новый свет. И если будет так светло, то ведь нужно кого-то проклинать за ту тьму, что недавно царствовала здесь.
— Сиречь козла, — Тон Таддео посмотрел на аббата. — Тошнотворная идея. А что он еще умеет делать хорошего?
— Вы сами убедитесь, что он просто болтается без дела. Но давайте поговорим о чем-то более сущест…
— Нет, нет, нет, нет! — возразил Поэт. — Вы неправильно поняли смысл моих слов, ваше сиятельство. Данный козел должен быть возведен в ранг благословенного и получить все причитающиеся ему почести, а не проклятия! Увенчайте его короной, доставшейся от святого Лейбовица, и возблагодарите за воссиявший свет. Затем проклинайте Лейбовица и гоните его в пустыню. Таким образом, вторая корона вам не понадобится. Хватит и той, которой вы уже увенчаны. И которая зовется ответственность.
Враждебность Поэта теперь проявилась совершенно открыто, и он не считал более необходимым скрывать ее под маской шутовства. Тон не спускал с него ледяного взгляда. Пятка аббата опять уперлась в пальцы Поэта, и опять он безжалостно надавил на них.
— И когда армия вашего патрона, — сказал Поэт, — подойдет с осадой к стенам аббатства, козла надо будет вывести во двор и научить его блеять: «Здесь нет никого, никого, кроме меня, и пусть чужеземцы убедятся в этом».
Один из офицеров с гневным возгласом вскочил со стула, и его рука невольно схватилась за эфес сабли. Он потянул ее из ножен, и шесть дюймов стали блеснули грозным предупреждением для Поэта. Тон поднял руку, давая понять, что саблю необходимо опустить обратно в ножны, но с таким же успехом он мог стараться опустить руку каменной статуи.
— Ага! Воины тут не хуже, чем чертежники! — издевательски сказал Поэт, явно давая понять, что смерти он не боится. — Ваши наброски оборонительной системы аббатства выполнены столь художественно…
Офицер пробормотал проклятие, и сабля вылетела из ножен. Но сосед удержал его, прежде чем тот успел сделать выпад. Потрясенные монахи повскакивали со своих мест, и по конгрегации прошел ропот изумления. Поэт откровенно ухмыльнулся.
— …столь художественно, — продолжил он. — Предвижу, что в свое время ваш рисунок подземного туннеля, который ведет за стены, найдет себе место в музее изящных…
Из-под стола раздался глухой звук. Поэт остановился на полуслове, выпустил изо рта косточку, которую он обгладывал и медленно стал бледнеть. Прожевав, он сглотнул и продолжал бледнеть. Рассеянным взглядом он уставился в пространство.
— Раздавишь, — сказал он уголком рта.
— Ты что-то сказал? — спросил аббат, не ослабляя давления.
— Кажется, мне попала косточка в горло, — признался Поэт.
— Ты желаешь выйти?
— Боюсь, что мне придется это сделать.
— Жаль. Увы, мы расстаемся с тобой, — Пауло еще раз как следует придавил его ногу. — Теперь ты можешь идти.
Поэт с шумом перевел дыхание, вытер рот и встал. Осушив свой кубок с вином, он поставил его в центр подноса. Что-то в его движениях заставляло всех присутствующих не отрывать от него глаз. Пальцем он опустил ресницы, склонил голову на сложенную ковшиком ладонь и нажал на глазницу. Глазное яблоко упало ему в ладонь, вызвав у тексарканцев звук удивления, ибо они не подозревали об искусственном глазе у Поэта.
— Внимательно наблюдай за ними, — сказал Поэт своему стеклянному глазу, водружая его на донышко бокала, стоящего как раз напротив Тона Таддео. — Спокойного вам вечера, милорды! — весело попрощался он со всеми и удалился.
Разгневанный офицер еще пробормотал проклятие и сделал попытку вырваться из удерживающих его рук товарищей.
— Отведите его в келью и посидите с ним, пока он не остынет, — сказал им Тон. — И получше смотрите, чтобы он, как лунатик, не стал бродить ночью.
— Я испытал подлинное унижение и оскорбление, — сказал он, когда охранника с мертвенно-бледным лицом увели из-за стола. — Они не являются моими слугами, и я не могу отдавать им приказов. Но я обещаю вам, что он сполна заплатит за все. И если он откажется принести свои извинения и немедленно покинуть обитель не позже, чем завтра к полудню, ему придется обнажить свой меч против меня.
— Только без кровопролития! — взмолился аббат. — Ничего не случилось. Давайте все забудем, — руки у него дрожали, а лицо посерело.
— Он должен будет извиниться и уехать, — настаивал Тон Таддео, — или я прикажу убить его. Не беспокойтесь, он не осмелится выйти против меня, ибо, если он победит, Ханнеган публично посадит его на кол, пока его жену будут насиловать — но не обращайте на это внимания. Он будет ползать перед вами на коленях, а затем исчезнет. Но в любом случае мне очень стыдно, что такая история вообще могла иметь место.
— Я должен был выгнать Поэта сразу же, как он только появился. Он вызвал всю эту сумятицу, и я не мог остановить его. Это была явная провокация.
— Провокация? Это легкомысленное вранье бродячего шута? Хотя Жосард повел себя так, словно обвинение Поэта было правдой.
— Тогда вы в самом деле не знаете, что они готовят сообщение о ценности нашего аббатства как крепости?
Челюсть у ученого отвисла. Не веря своим ушам, он переводил глаза с одного священника на другого.
— Может ли это быть правдой? — наконец спросил он после долгого молчания.
Аббат кивнул.
— И вы разрешили нам остаться.
— У нас нет тайн. Ваши спутники могли изучать тут все, что им заблагорассудится, было бы у них на то желание. Я предпочитаю не спрашивать, зачем им нужна эта информация. Предположения Поэта, разумеется, являются его чистой фантазией.
— Конечно, — еле слышно сказал Тон, не глядя на хозяина.
— И конечно же, у вашего принца нет агрессивных намерений по отношению к этим местам, как намекал Поэт.
— Конечно, нет.
— И если даже они у него есть, я уверен, что у него хватит ума понять — или по крайней мере, умных советников, которые укажут ему, что наше аббатство имеет куда большую ценность как хранилище древней мудрости, а не как крепость.
Тон уловил в голосе священника нотку мольбы, просьбу о милости и сочувствии и, задумавшись над этим, в полном молчании поднялся на ноги.
— Прежде чем я двинусь в обратный путь в коллегиум, мы еще поговорим на эту тему, — тихо пообещал он.
Покров неудачи, опустившийся было на банкет, стал приподниматься, и когда во дворе стали раздаваться песни, исчез окончательно. Настало время для большой лекции ученого, объявленной в Большом Зале. Недоразумению пришел конец, и гостей встретили с неподдельной сердечностью.
Дом Пауло провел Тона к кафедре, за ними следовали Галт и помощник Тона, которые тоже поднялись на возвышение. Вслед за представлением аббата раздались аплодисменты, а последовавшая тишина напомнила внимание, с которым в зале суда выслушивается приговор. Оратором Тон был не очень одаренным, но его суждения вполне устроили монахов.
— Я восхищен тем, что мы нашли здесь, — сказал он им. — Несколько недель тому назад я не верил, просто не мог поверить, что работы, подобные тем, что хранятся в вашей Меморабилии, смогли пережить гибель последней могучей цивилизации. В это по-прежнему трудно поверить, но документы заставили нас убедиться, что все рукописи полностью аутентичны. То, что они сохранились, уже достаточно невероятно, но еще более фантастичным мне лично кажется тот факт, что даже в этом столетии вплоть до сегодняшнего дня они оставались незамеченными. И лишь затем появились люди, способные оценить кроющиеся здесь потенциальные сокровища — и не только я. Это же мог сделать при жизни и Тон Кашлер — даже семьдесят лет назад.
Лица монахов озарились улыбками, когда они услышали столь высокую оценку Меморабилии из уст такого знаменитого ученого, как Тон Таддео. Пауло удивлялся, почему они не слышат легкую нотку возмущения — или ему это только кажется — в речи оратора.
— Знай я о существовании этих работ десять лет назад, — продолжил он, — во многих моих работах по оптике не было бы необходимости.
«Ага, — подумал аббат, — вот оно. Или, по крайней мере, часть его. Он открыл, что некоторые его открытия всего лишь повторение уже найденного, что и вызвало у него горечь. Он, конечно же, должен знать, что ныне удается только снова открывать давно забытые открытия, как бы ни был он одарен, он обречен лишь повторять то, что делали задолго до него другие. И это неизбежно будет повторяться снова и снова, пока мир не достигнет столь же высокого уровня развития, которым он обладал до Огненного Потопа».
Тем не менее не подлежало сомнению, что Тон Таддео был полон и искреннего изумления.
— Мое время пребывания у вас ограничено, — продолжал он. — Лишь из того, что мне довелось увидеть, я пришел к выводу, что двадцать специалистов должны работать у вас несколько десятилетий, чтобы превратить сокровища Меморабилии в понятную всем информацию. Физика, как правило, развивалась путем обдумывания результатов экспериментов, но здесь придется действовать дедуктивными методами. По нескольким кусочкам и обломкам нам приходится догадываться о целом. Порой это кажется невозможным. Например… — он замолчал, раскрыв стопку записей, и быстро пробежал пальцем по одной из них. — Вот цитата, которую я нашел глубоко похороненной. Она представляет собой часть четырехстраничного текста из книги, которая была учебником современной физики и говорит об относительности понятия времени, в зависимости от координат отсчета. Кое-кто из вас мог его видеть…
Насмешливо усмехнувшись, он посмотрел на собравшихся.
— Встречал ли кто-либо ссылки на этот текст?
Море лиц внизу хранило молчание.
— Помнит ли кто-либо этот текст?
Корнхоер и еще двое опасливо подняли руки.
— И известно ли вам, что он значит?
Руки быстро опустились.
Тон хмыкнул.
— Далее следует полторы страницы математических расчетов, которые я не в состоянии понять. Они касаются фундаментальных, если не основополагающих концепций… Они кончаются словом «и тем не менее», но конец страницы исчез в пламени, а вместе с ним и выводы. И все же система доказательств безупречна, а математические формулы даже изящны, так что определенные выводы я могу сделать и сам. Это будут выводы сумасшедшего человека. Они должны начинаться с предположения, которое может прийти в голову только сумасшедшему. Обман? Заблуждение? Если нет, то какое место они должны занимать в общей картине науки древних времен? Какие предпосылки предшествовали их появлению? Что последовало затем и как это можно проверить? Вопросы, на которые я не могу дать ответа. Это всего лишь один пример из множества загадок, которые хранят те бумаги, что вы столь долго храните. То, что касается экспериментов с несуществующей реальностью, — дело ангелологов и теологов, а не физических наук. И все же эти бумаги описывают системы, которые касаются нашего опыта общения с той реальностью. Древние пришли к этим выводам без экспериментальной проверки. Некоторые намеки позволяют так утверждать. Некоторые тексты относятся к элементарному превращению вещества, что, как мы недавно установили, теоретически невозможно, и все же мы видели слова «экспериментально доказано». Но как?
— Возможно, потребуется несколько поколений, чтобы оценить и понять смысл этих сокровищ. К сожалению, они продолжают оставаться здесь, в этом труднодоступном месте, и потребуются немалые усилия ученых, чтобы добраться до них. Я уверен, что вы понимаете: тот уровень, который вы сегодня можете обеспечить в работе с текстами, явно неадекватен, если не сказать недостаточен, с точки зрения остального мира.
Дом Пауло сидел на возвышении за говорившим и, ожидая самого худшего, начал багроветь. Никаких предложений Тон Таддео вроде делать не собирается. Но его замечания не оставляют сомнений насчет того, что, по его мнению, такие реликвии должны находиться в гораздо более компетентных руках, чем монахи ордена святого Лейбовица, и что царящая здесь обстановка представляет собой абсурд. Возможно, чувствуя, что в помещении стало расти напряжение, он перешел к рассказу о своих непосредственных исследованиях, которые включали в себя гораздо более тщательное изучение природы света, чем раньше. Некоторые из сокровищ аббатства оказали ему большую помощь, и скоро он надеется приступить к экспериментам, которые должны подтвердить его теории. После краткой дискуссии о природе рефракции, он сделал паузу и извиняющимся тоном сказал:
— Я надеюсь, что не оскорбил ничьих религиозных чувств, — и вопросительно огляделся. Видя, что обращенные к нему лица полны любопытства, он предложил собранию задавать ему вопросы.
— Я удивляюсь, каким образом вопросы, связанные с преломлением света, могут оскорбить чье-то религиозное чувство, как вы предполагаете?
— Ну… — Тон замялся. — Монсиньор Аполло, которого вы знаете, горячо придерживается этой точки зрения. Он говорит, например, что до Потопа не было никакого преломления света и радуга появилась лишь…
Комната взорвалась от хохота, в котором потонуло окончание реплики. И пока аббат махал на всех руками, призывая к молчанию, Тон Таддео стоял красный как свекла, да и Дом Пауло не без трудности вернул себе прежнее торжественное выражение лица.
— Монсиньор Аполло хороший человек, хороший священнослужитель, но каждый человек порой ставит себя в глупое положение, особенно если начинает заниматься не своими делами. Прошу прощения за свой вопрос.
— Ответ помог мне доказать, — сказал ученый, — что я отнюдь не ищу ссоры.
Больше вопросов не последовало, и Тон перешел к следующей теме: развитие и сегодняшнее положение его коллегиума. Картина, нарисованная им, была воодушевляющей. Коллегия была заполнена абитуриентами, которые мечтали учиться. Коллегия давала образование в той же мере, в какой занималась исследованиями. Среди грамотных мирян явно рос интерес к натурфилософии и науке. Учебное заведение было освобождено от налогов. Явный симптом Возрождения и Ренессанса.
— Я хотел бы упомянуть всего лишь о некоторых исследованиях и поисках, связанных с нашей Коллегией, — продолжал Тон. — Достаточно сказать о трудах Берка по поведению газов. Тон Више Мортуан исследует возможность производства искусственного льда. Тон Фридер Халб изучает практическую возможность передачи посланий по проводам в виде электрических импульсов… — список был длинен, и он произвел на монахов впечатление. Работа шла во многих областях: медицина, астрономия, геология, математика, механика. Некоторые казались схоластическими и оторванными от жизни, но большинство обещало богатый урожай и для науки, и для практики. Но даже исследования Джидени, опирающиеся на бесчисленные попытки Бодака прорваться в глубины ортодоксальной геометрии, вызвали у Коллегии ощущение, что они добираются до сокровенных тайн природы, скрытых от глаз с тех пор, когда человечество тысячу лет назад отказалось от наследственной памяти и обрекло себя на культурную амнезию.
— В добавление хочу сказать, что Тон Махо Мах возглавляет проект, который даст нам дальнейшую информацию о роде человеческом. Так как он основывается главным образом на археологических раскопках, он попросил меня посмотреть, не найдется ли в ваших архивах что-то интересное, после того как я закончу свои собственные изыскания. Все же я не рискнул пускаться в подобные розыски, ибо они влекут за собой опасность вступить в спор с теологами. Но если есть какие-нибудь вопросы…
Молодой монах, который готовился к рукоположению в священники, встал и представился Тону.
— Сир, я хотел бы поинтересоваться, знакомы ли вы с воззрениями святого Августина на данный предмет?
— Я не знаком.
— Епископ и философ четвертого столетия. Он предполагал, что в начале начал Господь создал все сущее в зачаточном состоянии, включая и физиологию человека, а затем, после того как он оплодотворил эту бесформенную материю, она постепенно стала развиваться во все более сложные формы, включая человека. Можете ли вы принять эту гипотезу?
Улыбка Тона была полна снисходительности, хотя он не осмелился открыто назвать эту точку зрения детской.
— Боюсь, что нет, но я должен углубиться в нее, — сказал он тоном, ясно показывающим, что делать этого он не будет.
— Благодарю вас, — сказал монах и неслышно сел обратно.
— Возможно, самые смелые исследования из всех, — продолжалось повествование, — связаны с именем моего друга Тона Эссера Шона. Он пытается синтезировать живую материю. Тон Эссер надеется создать живую протоплазму, используя только шесть основных компонентов. Работа эта может привести… да? У вас есть вопрос?
Монах в третьем ряду, поднявшись, поклонился оратору. Аббат наклонился вперед, чтобы узнать его, и с ужасом увидел, что это брат Амбрустер, библиотекарь.
— Если вы будете настолько любезны по отношению к старому человеку, — прокаркал монах, выстраивая слова в монотонный ряд. — Ваше упоминание об этом Тоне Эссере Шоне… который ограничил себя лишь шестью основными компонентами… очень интересно. Любопытствую… разрешалось ли ему использовать обе руки?
— Я не совсем по… — Тон остановился и нахмурился.
— И могу ли я также поинтересоваться, — продолжал скрипеть сухой голос Амбрустера, — занимался ли он этими выдающимися изысканиями в сидячей, стоячей или задней позиции? Или, может быть, верхом на лошади?
Послушники, не скрываясь, захихикали. Аббат стремительно вскочил на ноги.
— Брат Амбрустер, я вынужден предупредить вас. Вы изгоняетесь из-за общего стола, пока не получите прощения. Можете подождать в часовне Девы.
Библиотекарь снова поклонился и выбрался из-за стола: движения его были смиренными, но глаза сияли торжеством. Аббат смущенным шепотом стал извиняться перед ученым, но встретил на удивление холодный взгляд Тона.
— В заключение, — сказал он, — как я считаю, миру только предстоит увидеть то, что может дать интеллектуальная революция, и о чем я вам кратко рассказал, — горящими глазами он обвел слушателей, и его голос обрел яростный ритм. — Невежество всегда владело нами, было нашим правителем. Со времен падения империи оно недвижимо сидело на троне, правя человечеством. Династия его имеет корни в глубине веков. Его права на царствование не подвергались сомнению, считаясь законными. И сказания прошлых времен подтверждали это. Ничто не могло сместить его с насиженного места.
Но завтра придут к власти новые владыки, новые принцы. Люди, одаренные пониманием, люди науки займут места вокруг тронов, и вселенная откроет перед ними свое могущество. Имя ей будет Истина. Ее империя будет включать в себя всю Землю. Возобновится царство Человека над Землей. Пройдут столетия, и человек поднимется в воздух на металлических птицах. Металлические экипажи помчатся по дорогам из камня, созданным руками человека. Ввысь поднимутся строения в тридцать этажей, появятся суда, которые будут плавать под поверхностью моря, и машины, которые будут вершить все работы.
— Каким образом все это придет? — помолчав, он понизил голос. — Боюсь, что тем же путем, как приходят все изменения. Простите меня, но так оно и будет. Новый мир придет с насилием и бунтами, в огне и крови, ибо ни одно изменение не приходит в мир спокойно.
Тихий шепот прошел над обителью, и он оглядел ее.
— Так будет. И мы не хотим, чтобы так было.
— Но почему?
— Ибо невежество правит миром. И если оно будет низвергнуто с трона, многие претерпят лишения. Многие обогатили себя, поклоняясь этому темному царству. Они составляют его свиту, и во имя его обманывают, и правят, и обогащают себя, умножая его могущество. Они боятся даже грамотности, потому что написанным словом их враги могут найти друг друга и объединиться. Оружие их отточено и готово, и пускают они его в ход с большим мастерством. Когда их интересы подвергнутся опасности, они обрушат на мир угрозу всеобщей бойни, и насилие будет длиться, пока общество, которое ныне существует, не обратится в прах и щебень, и не возникнет новое общество. Я виноват перед вами. Но так я это вижу.
Слова эти снова вызвали смятение собрания. Надежды Дома Пауло рухнули, ибо взгляды ученого обрели форму пророчества. Тон Таддео знал военные амбиции своего монарха. У него был выбор: оправдать их, опровергнуть или же отнестись к ним с вполне понятным сожалением, как к безличному феномену, над которым он не властен, подобному потопу, пожару или урагану.
Не подлежало сомнению, что он принимал их как неизбежность — но стараясь не давать им моральной оценки, да будут кровь, железо и стенания…
Но как такой человек может не думать об этом и избегать ответственности — да с такой легкостью! — взъярился про себя аббат.
И слова сами пришли к нему. ИБО В ДНИ ЭТИ ГОСПОДЬ БОГ НАШ ОБЛЕК СТРАДАНИЕМ МУДРЫХ — ЗНАТЬ, ЧТО МИР НАШ ИДЕТ К РАЗРУШЕНИЮ СВОЕМУ…
Страдания эти усугублялись тем, что они не могли избавиться от размышлений, как спасти мир и какой выбор нужно сделать. И, возможно, наиболее убедительной станет точка зрения Тона Таддео. Умыть руки перед толпой. Вот вам — смотрите. И можете приносить себя в жертву.
Им так и так придется взойти на Голгофу. Принести себя в жертву. И о достоинстве своем думать не придется. Всегда где-то кого-то прибивают гвоздями к кресту и возносят его над толпой, и когда вы опускаете глаза, взвиваются плети…
Наступило внезапное молчание. Ученый кончил говорить.
Прищурившись, аббат обвел глазами зал. Половина присутствующих уже не отрываясь смотрела на входные двери. Поначалу он ничего не смог разглядеть.
— Что там? — шепнул он Галту.
— Старик с бородой… — прошептал Галт. — Он выглядит, как… Нет, этого не может быть…
Поднявшись, Дом Пауло подошел к краю возвышения, откуда ему смутно стали видны очертания фигуры в тени. Он тихо и мягко обратился к ней:
— Бенджамин?
Фигура пошевелилась. Человек плотнее обтянул шарф вокруг худых сгорбленных плеч и, прихрамывая, вышел на свет. Здесь он снова остановился, что-то пробормотал про себя, озираясь, наконец его глаза остановились на ученом, по-прежнему стоящем на кафедре.
Опираясь на кривой посох, древнее привидение прохромало к кафедре. Сначала Тон Таддео не без юмора смотрел на его приближение, но поскольку ни один из присутствующих не шелохнулся и не издал ни звука, он постепенно стал бледнеть, когда сие странное видение приблизилось к нему. Лицо древнего бородатого старца горело пламенем сдержанной страсти, которая была куда сильнее остатка жизненных сил, что давно уже должны были покинуть его бренное тело.
Подойдя ближе к кафедре, он остановился и осмотрел с ног до головы изумленного лектора. Рот его искривился. Он улыбнулся. И протянул ученому дрожащую руку. Тон отступил назад с возгласом отвращения.
Отшельник проявил неожиданное проворство. Стремительно поднявшись на возвышение, он подошел к кафедре и схватил руку ученого.
— Что за сумасшествие…
Растирая руку, Бенджамин с безнадежной печалью посмотрел в глаза ученому.
Лицо его затуманилось. Возбуждение, владевшее им, потухло. Он опустил его руку. Долгий печальный вздох вырвался из его дряхлых легких, по мере того как умирала надежда. И неизменная всепонимающая усмешка старого еврея с горы вернулась на его лицо. Повернувшись к общине, он распростер руки и красноречиво пожал плечами.
— Нет, это по-прежнему не Он, — печально сказал отшельник и захромал прочь.
Остались для завершения вечера лишь небольшие формальности.
Глава 21
Шла десятая неделя пребывания Тона Таддео, когда посланец принес черные известия. Глава правящей династии Ларедо потребовал, чтобы войска Тексарканы были немедленно выведены из его королевства. Той же ночью он был отравлен и скончался, и между Ларедо и Тексарканой было объявлено состояние войны. Она должна была быть короткой. С уверенностью можно было предположить, что кончилась она в тот же день, не успев начаться, и что ныне Ханнеган взял под свой контроль все земли и все население между Ред-Ривер и Рио-Гранде.
На этом новости не кончались.
Ханнеган II, Правитель Божьей Милостью, Вице-король Тексарканы, Защитник Веры и Верховный Всадник Долин, сочтя, что вина монсиньора Маркуса Аполло в предательстве и шпионаже доказана, приказал повесить папского нунция, а затем, не давая ему скончаться, четвертовать и содрать с него кожу, как пример каждому, кто посмеет посягать на могущество государства Высокого Правителя. И тело священника, разорванное на куски, должно быть брошено собакам.
Посланцу вряд ли надо было добавлять, что по папскому повелению, в котором были слабые, но явные намеки на буллу шестнадцатого столетия, призывавшую к свержению таких нечестивых монархов, вся Тексаркана была полностью отлучена от церкви. Впрочем, сообщений о контрмерах, принятых Ханнеганом, пока не было.
В Долинах ларедонские войска с боями пробивали себе путь домой через армады кочевников, ложась костьми на границах их племен, ибо повсеместно встречали вражду родов и кланов.
— Какая трагедия! — сказал Тон Таддео, горестно вскидывая руки. — Я предпочел бы немедленно отправиться в путь.
— Зачем? — спросил Дом Пауло. — Ведь вы же оправдываете действия Ханнегана, не так ли?
Ученый помедлил, а затем отрицательно покачал головой. Оглянувшись, он убедился, что никто не подслушивает их.
— Я лично осуждаю их. Но на людях… — он пожал плечами. — Есть Коллегия, чтобы выносить решение, думать об этом. И если бы речь шла только о моей собственной шее, ну что ж…
— Я понимаю.
— Могу ли я конфиденциально поговорить с вами?
— Конечно.
— Кто-то должен предупредить Новый Рим, что он должен всерьез воспринять угрозу. Ханнеган отнюдь не против того, чтобы распять еще несколько дюжин Маркусов Аполло.
— Тогда несколько новых мучеников вознесутся на Небеса, Новый Рим увидит всю серьезность угроз.
Тон вздохнул.
— Я бы хотел, чтобы вы и дальше продолжали так считать, но я должен повторить свое предложение об отъезде.
— Глупости. Какое бы ни было у вас подданство, ваша гуманность и человечность делают вас желанным гостем.
Но между ними возникла трещина. Ученый держался теперь только в обществе своих соплеменников, редко перекидываясь словами с монахами. Его отношения с братом Корнхоером носили подчеркнуто формальный характер, хотя изобретатель каждый день проводил час-два, ремонтируя и осматривая динамо и лампу и был в курсе работы Тона, которая ныне вершилась с заметной торопливостью. Офицеры редко выходили из домика для гостей.
В окружающей местности чувствовалось, что грядет исход. По Долинам разносились тревожные слухи. В соседней деревушке жители ее вдруг засобирались или в благочестивые путешествия или отбывали в дальние страны. Даже бродяги и нищие исчезли с глаз. Как обычно, торговцы и ремесленники оказались перед неприятным выбором — то ли оставить свое имущество на поток и разграбление, то ли, оставшись, наблюдать, как оно становится добычей грабителей.
Комитет граждан, возглавлявшийся мэром деревушки, посетил аббатство, чтобы узнать, не получат ли они здесь убежище на случай грядущего вторжения.
— Мое последнее решение, — после многочасовой беседы сказал аббат, — таково: мы возьмем всех женщин, детей, инвалидов и стариков — без всяких вопросов. Что же касается мужчин, способных носить оружие, будем решать отдельно в каждом индивидуальном случае и, возможно, от некоторых мы откажемся.
— Почему? — спросил мэр.
— Даже для вас это должно быть очевидно! — резко сказал Дом Пауло. — Мы можем подвергнуться прямому нападению, но пока этого не произошло, у нас есть шанс остаться в стороне. И я не могу позволить, чтобы наша обитель использовалась кем-либо как гарнизон, силами которого может быть произведено контрнападение, если атакована будет только ваша деревня. Так что относительно мужчин, способных носить оружие, мы вынуждены настаивать на обещании — они будут защищать аббатство, подчиняясь только нашим приказам. И в каждом отдельном случае мы будем судить, можно ли верить этому обещанию или нет.
— Это неблагородно, — закричали члены комитета. — Вы подвергаете дискриминации…
— Только тех, к кому мы не испытываем доверия. В чем, собственно, дело? Вы надеетесь скрыть здесь резервные силы? Этого я не разрешу. Вы не имеете права размещать здесь какую-то часть своих сил. Это все.
В таких обстоятельствах комитет не мог отказаться от предложенной помощи. Больше аргументов у них не было. Дом Пауло сказал, что, когда придет время, он выслушает их, ну а сейчас он ясно дал понять, что будет противиться всяким планам деревни, по которым аббатство может быть вовлечено в военные действия. Позже к нему обратились три офицера из Денвера с простой просьбой: своей жизнью они дорожили куда меньше, чем стремлением сохранить верность режиму. Они потребовали от аббата простого ответа. Аббатство было возведено как крепость веры и знаний, и они дали понять, что хотели бы видеть его и в дальнейшем именно таким.
Пустыня стала наполняться путниками, идущими с востока. Торговцы, охотники и пастухи, двигаясь на запад, приносили новости с Долин. Коровья чума полыхала среди стад кочевников, болезнь была неизлечимой. В войсках Ларедо произошел мятеж и раскол после падения правящей династии. Часть из них вернулась на родину, повинуясь приказу, другие же принесли страшную клятву, что они идут маршем на Тексаркану и не остановятся, пока не увидят отрубленную голову Ханнегана или же не погибнут на пути к своей цели. Ослабленные расколом, ларедонские войска постепенно таяли под наскоками воинов Бешеного Медведя, которые жаждали отомстить тем, кто принес им чуму. Ходили слухи, что Ханнеган благородно предложил людям Бешеного Медведя пойти под свою высокую руку, если они дадут клятву вассальной верности его цивилизованным законам, введут его офицеров в свои военные советы и примут христианскую веру. «Подчинись или голодай» — таков был выбор, который Ханнеган предложил кочевникам. Многие предпочли испытать голод, прежде чем дали согласие войти в это купеческое и земледельческое государство. Хонган Ос открыто бросил вызов Югу, Востоку, и обратил его в сторону неба, пообещав, что будет сжигать по одному шаману в день, чтобы наказать племенных богов за то, что они предали его. Он пообещал, что обратится в христианство, если христианские боги помогут ему уничтожить врагов.
Поэт исчез из аббатства как раз в те дни, когда сюда пришла небольшая группа пастухов. Тон Таддео первым заметил отсутствие Поэта в домике для гостей и осведомился о причине отсутствия странствующего виршеплета.
Морщинистое лицо Дома Пауло застыло в удивлении.
— Вы уверены, что его нет? — спросил он. — Он часто проводит несколько дней в деревне или отправляется на гору поспорить с Бенджамином.
— Все его вещи исчезли, — сказал Тон. — Комната его пуста.
Аббат мрачно пожевал губами.
— Если Поэт исчез — это плохая примета. Кстати, если он в самом деле исчез, я попросил бы вас сразу же осмотреть все свои вещи.
Тон задумчиво посмотрел на него.
— Ах вот, значит, где мои сапоги…
— Без сомнения.
— Я выставил их наружу, чтобы их почистили. И они исчезли. В тот самый день, когда он дубасил в мою дверь.
— Дубасил… кто? Поэт?
Тон Таддео хмыкнул.
— Боюсь, я обошелся с ним не совсем вежливо. У меня был его стеклянный глаз. Помните, как вечером он оставил его на столе в трапезной?
— Да.
— И я взял его.
Тон открыл свой кошель, порылся в нем и положил на стол перед аббатом стеклянный глаз Поэта.
— Он знал, что глаз у меня, но я отрицал. Он постоянно спорил со мной по этому поводу, даже стал распускать слухи, что это давно потерянный глаз Байрингского идола и что его необходимо вернуть в музей. Со временем он стал буквально сходить с ума. Конечно, я дал ему понять, что до нашего отъезда он его получит обратно. Как вы думаете — он появится до этого дня?
— Сомневаюсь, — сказал аббат, слегка передернувшись при взгляде на глазное яблоко. — Но если хотите, я поберегу его. Хотя, вполне возможно, что в его поисках он может добраться и до Тексарканы. Он клянется, что этот глаз — его талисман.
— Каким образом?
Дом Пауло улыбнулся.
— Он говорит, что когда использует его, то видит куда лучше.
— Что за чушь! — Тон помолчал, но подумал, что при всей дикости этого утверждения, в нем есть какая-то логика. — Хотя в этом что-то есть. Заставляя работать мышцы орбиты одного глаза, второй глаз тоже начинает лучше видеть. Так он считает?
— Просто он убежден, что без второго глаза он не видит так хорошо. Он клянется, что он ему нужен, чтобы видеть «суть вещей» — хотя в то же время мучается от страшных головных болей. Но никто не знает, когда Поэт говорит правду, выдумывает или занимается аллегориями. И хотя фантазии у него очень неглупы, я сомневаюсь, что он отчетливо видит разницу между действительностью и фантазией.
Тон лукаво улыбнулся.
— На другой день он орал за моими дверями, что эта штука мне нужна больше, чем ему. Это говорит о том, что он считает свой глаз потенциальным фетишем, который может принести пользу любому, кто им владеет.
— Он говорил, что вы нуждаетесь в нем? Ого!
— Вас это смешит?
— Простите. Скорее всего он хотел вас оскорбить. Я предпочитаю не вдаваться в суть его оскорблений, чтобы не иметь к ним никакого отношения.
— О, ерунда. Я заинтересован.
Аббат бросил взгляд на изображение святого Лейбовица в углу кельи.
— Поэт постоянно таким образом использует глазное яблоко, — объяснил он. — Когда ему надо принимать какое-то решение, что-то обдумать или обсудить какую-то точку зрения, он вставляет его в глазницу. И вынимает его, когда сталкивается с тем, что ему не нравится, или же когда ему надо сыграть роль дурачка. Когда искусственный глаз у него на месте, держится он совершенно по-иному. Братья привыкли называть его «совесть Поэта», и он принял эту шутку. Время от времени он пускается в рассуждения, демонстрируя нам, как это удобно — иметь подобную совесть, которую можно перемещать с места на место. Он считает, что им владеют некоторые губительные страсти — хотя они достаточно обыденны, вроде тяги к бутылке вина.
Но, вставляя искусственный глаз, он впадает в раскаяние. Он отбрасывает вино, кусает губы, стонет и плачет, воздевает руки. Но, наконец, искушение снова овладевает им. Схватив бутылку, он наливает себе полную чашку и выпивает ее одним глотком. Совесть снова начинает грызть его, и он пускает чашку через всю комнату. Через небольшое время бутылка вина опять начинает привлекать его плотоядные взоры, он начинает стонать и плакать, борясь с искушением, — аббат хмыкнул, — и зрелище это просто страшно. Наконец, когда силы его на исходе, он вынимает стеклянный глаз. И сразу же расслабляется. Страсти больше не искушают его. Спокойный и надменный, он берет бутылку и со смехом смотрит на окружающих. — Теперь я это сделаю, — говорит он. И когда остальные ждут, что он сейчас выпьет ее, он с дьявольской усмешкой выливает бутылку себе на голову. Видите, насколько удобна ему портативная совесть.
— Поэтому он и считает, что она мне необходима больше, чем ему.
Дом Пауло пожал плечами.
— Он всего лишь взбалмошный Поэт!
Ученый засмеялся и щелчком пустил отполированный сфероид волчком крутиться на поверхности стола. Внезапно он расхохотался.
— Мне это нравится. Думаю, что мне известно, кому это нужно больше, чем Поэту, — накрыв рукой глазное яблоко, он вопросительно взглянул на аббата.
Тот просто пожал плечами.
Тон Таддео опустил стеклянный глаз себе в карман.
— Если он придет и попросит, он его получит. Кстати, должен вам сказать, что моя работа здесь подходит к концу. Через несколько дней мы покинем вас.
— А вас не беспокоит, что в Долинах идут бои?
Глядя в стенку, Тон Таддео нахмурился.
— Мы предполагаем разбить лагерь на отдельном холме примерно в неделе ходу от вас к востоку. И отряд… то есть там нас встретит эскорт.
— Надеюсь, что так оно и будет, — сказал аббат, скрывая за улыбкой толику раздражения, — что ваш эскорт не изменил свою приверженность с той поры, как вы с ним расстались. В наши дни отличить врагов от друзей становится все труднее.
Тон покраснел.
— Особенно, если они являются из Тексарканы, хотели вы сказать?
— Я этого не говорил.
— Давайте будем откровенны друг с другом, отец. Я не могу выступать против принца, который дал мне возможность заниматься моей работой — независимо от того, что я думаю о его политике и о его союзниках. Я должен поддерживать его или, по крайней мере, не мешать ему — ради блага коллегиума. Если его владения расширятся, это может пойти на пользу коллегиуму. И если собрание ученых получит преимущества, ими может воспользоваться все человечество.
— То есть те, кто выживут.
— Это верно… но правда никогда не бывает совершешю полной.
— Нет, нет… двенадцать столетий назад не повезло даже выжившим. Неужели мы снова должны вступить на этот путь?
Тон Таддео пожал плечами.
— Что я могу с этим сделать? — задал он встречный вопрос. — Правит Ханнеган, а не я.
— Но вы обещали, что человек будет владеть природой. Кто будет контролировать использование сил природы? Кому они пойдут на пользу? Чем это кончится? Как вы сможете держать их в узде? Снова могут быть приняты гибельные решения. И если этого не сделаете вы и ваша группа, скоро это сделают другие за вас. Человечество выиграет, говорите вы. За счет чьих страданий? Принца, который едва умеет писать букву своего имени? Или вы в самом деле думаете, что ваш коллегиум сможет остаться в стороне, не удовлетворяя его притязаний, когда он начнет понимать, что вы представляете ценность для него?
Дом Пауло не предполагал, что ему удастся убедить собеседника. Но у него стало тяжело на сердце, когда он увидел, с каким терпеливым равнодушием Тон слушает его: это было стоическое терпение человека, слушающего доводы, которые он уже давно для себя опровергнул.
— На самом деле вы предполагаете, — сказал ученый, — что нам надо еще подождать. Что мы должны разогнать коллегиум или загнать его куда-то в пустыню, каким-то образом — не имея ни золота, ни серебра — выжить, и неким странным образом восстановить экспериментальную и теоретическую науку, никому не говоря о наших деяниях. Ибо мы должны готовить ее для того дня, когда человек в самом деле станет хорошим, чистым, святым и мудрым.
— Я не это имел в виду…
— Да, этого вы не говорили, но это звучало в ваших словах. Замкнуться в кругу науки, отказаться от желания открыть ее миру, не пытаться ничего предпринимать, пока люди в самом деле не станут святыми. Должен сказать, что такой подход не сработает. Вы же поколение за поколением занимались этим в аббатстве.
— Мы никому не отказывали.
— Да, вы никому не отказывали, но, сидя на своих сокровищах, вы вели себя столь незаметным образом, что никто не подозревал об их существовании, и они пребывали у вас втуне.
Глаза старого священника блеснули мгновенной вспышкой гнева.
— Время познакомить вас с нашим основателем, — проворчал он, указывая на деревянную скульптуру в углу кельи. — До того как мир сошел с ума и ему пришлось скрываться в убежище, он был ученым, как и вы. Он основал этот орден для сохранения тех останков, которые еще могли быть спасены из обломков последней цивилизации. Спасены — для чего и для кого? Посмотрите на него, где он стоит — видите его мягкость? Его книги? И миру и сейчас и столетия спустя нужно будет очень мало от вашей науки. Он умер ради нас. Когда они облили его горючим, легенда повествует, что он попросил у мучителей чашку этой жидкости. Они решили, что он ошибся и просит воды, поэтому они, расхохотавшись, дали ему чашу. Он благословил ее — и каким-то образом содержимое чаши после его благословения превратилось в вино — а затем: «Hie est enim callix Sanguinis Mei»[42], и он выпил ее, прежде чем они повесили его и бросили в пламя. Должен ли я зачитывать вам список наших мучеников? Должен ли я перечислять все битвы, которые пришлось нам выдержать, чтобы спасти наши сокровища? Перечислить всех монахов, ослепших в скриптории? И вы говорите, что мы ничего не делали, затаившись в молчании.
— Я не это имел в виду, — сказал ученый, — но в сущности так оно и было. Многие из ваших мотивов близки мне. Но если вы считаете, что вы должны копить мудрость, дожидаясь, пока мир поумнеет, мир никогда не увидит ее.
— Я вижу, что мы не можем преодолеть барьер взаимного непонимания, — мрачно сказал аббат. — Первым делом служить Богу или же первым делом служить Ханнегану — вот перед каким выбором вы стоите.
— Выбора у меня практически нет, — ответил Тон. — Вы хотели бы, чтобы я работал ради Церкви? — и в голосе его ясно чувствовалась нотка горечи.
Глава 22
Была среда, наступившая после Дня Всех Святых. Готовясь к отъезду, в подвале аббатства Тон и его спутники разбирали свои записи и заметки. В их обществе было несколько монахов, и по мере того как приближалось время расставания, все отчетливее чувствовалась окружавшая их атмосфера дружелюбия. Над головами по-прежнему, потрескивая, сияла дуговая лампа, заливая подвал бело-голубым сиянием, которое обеспечивала команда послушников, неустанно трудившихся, вращая динамо. Неопытность новичка, впервые занявшего место на верхней ступеньке лестницы, заставляла лампу время от времени мигать: он заменил своего предшественника, который ныне лежал в лазарете с мокрой тряпкой на глазах.
Тон Таддео отвечал на вопросы о своей работе охотнее, чем раньше, и было видно, что его больше не беспокоят противоречивые точки зрения на вопросы преломления света или претензии Тона Эссера Шона.
— Пока гипотеза кажется бессмысленной, — говорил он, — нужно искать ее подтверждения путем наблюдения тем или иным образом. Я создал некоторые гипотезы с помощью новых — или вернее очень старых — математических изысканий, которые мне удалось обнаружить в вашей Меморабилии. Они, по-моему, предлагают достаточно простое объяснение некоторым оптическим феноменам, но, откровенно говоря, я не думаю, что мне удастся сразу же проверить их. И тут мне может оказать помощь ваш брат Корнхоер, — с улыбкой он кивнул в сторону изобретателя и показал набросок предполагавшегося устройства.
— Что это? — спросил кто-то после паузы краткого удивления.
— Ну… это стопка стеклянных пластин. Солнечный луч, который под определенным углом падает на нее, частично отражается, а частью поглощается. Отраженная часть света будет поляризована. Затем мы ставим эти пластинки таким образом — это идея брата Корнхоера, — который позволяет лучу света падать на вторую пачку пластинок. Она установлена под точно рассчитанным углом так, что отражает почти весь поляризованный свет и почти ничего не поглощает из него. Но если моя гипотеза справедлива, то, включив напряжение в катушке брата Корнхоера, мы должны увидеть внезапную вспышку поглощенной части спектра. И если этого не произойдет, — он пожал плечами, — значит, гипотезу придется отбросить.
— Вместо этого вы можете выбросить катушку, — вежливо предложил брат Корнхоер. — Я не уверен, что она дает достаточно сильное поле.
— А я уверен. У вас есть инстинктивное ощущение конструкции. Мне куда легче создать любую абстрактную теорию, чем придумать, как практически проверить ее. Но у вас есть редкий дар сразу же увидеть воплощение идеи в проводах, линзах, винтах, пока мне остается лишь придумывать абстрактные символы.
— Но я никогда не могу придумать ни одной абстракции, Тон Таддео.
— Мы могли бы составить неплохую команду, брат. Я надеюсь увидеть вас в нашем обществе в коллегиуме, хоть на краткое время. Как вы думаете, аббат разрешит вам отлучку?
— Я не мог даже предположить такую возможность, — пробормотал изобретатель, смутившись.
Тон Таддео повернулся к остальным.
— Я слышал упоминание о «братьях в отпуске». Правда, что некоторые члены вашей общины могут временно быть заняты в каком-то другом месте?
— Только очень немногие, Тон Таддео, — сказал молодой священник. — В прежние времена орден поставлял клерков, писцов и секретарей светским властям, а также к королевскому и церковному Двору. Но это было в те времена, когда в аббатстве царил тяжкий труд и голод. Братья, работавшие на стороне, спасали нас от голода. Но сейчас в этом нет необходимости, и такой практики почти не существует. Конечно, у нас есть несколько братьев, которые учатся сейчас в Новом Риме, но…
— Все-таки! — с внезапным энтузиазмом воскликнул Тон Таддео. — Вы можете обучаться в коллегиуме, брат. Я поговорю с нашим аббатом и…
— Да? — спросил молодой священник.
— Хотя мы с ним кое в чем расходимся, я могу понять его образ мышления. Я думаю, что обмен для взаимной учебы может укрепить наши отношения. Будут и стипендии, и я не сомневаюсь, что ваш аббат найдет им достойное применение.
Брат Корнхоер опустил голову, но ничего не сказал.
— Ну же! — ученый рассмеялся. — Ты, кажется, не очень обрадован приглашением, брат!
— Конечно, оно мне льстит. Но решать это не мне.
— Да, конечно, я понимаю. Но если эта идея тебе не нравится, я не собираюсь говорить о ней с вашим аббатом.
Брат Корнхоер помедлил.
— Я обратился к религии, — наконец сказал он, — чтобы… м-м-м… провести жизнь в молитве. Мы воспринимаем нашу работу тоже как своеобразную молитву. А это, — он показал на динамо, — для меня что-то вроде игры. Хотя, если Дом Пауло решит послать меня…
— Ты поедешь, лишь повинуясь ему, — мрачно сказал ученый. — Я уверен, что мне удастся убедить коллегиум высылать вашему аббатству до ста золотых ханнеганов в год, пока ты будешь с нами. Я… — замолчав, он вгляделся в лица слушателей. — Простите, но неужели я сказал что-то не то?
Ступив на верхние ступеньки лестницы, аббат остановился, увидев группу в подвале. Несколько бледных лиц повернулось в его сторону. Наконец через несколько секунд Тон Таддео тоже заметил его присутствие и вежливо поклонился.
— Мы только что говорили о вас, отец, — сказал он. — И если вы слышали, возможно, я должен объяснить…
Дом Пауло покачал головой.
— В этом нет необходимости.
— Но я хотел бы обсудить…
— Может ли это подождать? Я очень спешу.
— Конечно, — сказал ученый.
— Я сейчас вернусь, — аббат снова поднялся по ступенькам. Во дворе его ждал отец Галт.
— Они уже слышали об этом, господин мой? — мрачно осведомился приор.
— Я не спрашивал, но уверен, что нет, — ответил Дом Пауло. — Они всего лишь ведут разные глупые разговоры там внизу. Что-то о том, чтобы взять с собой в Тексаркану брата Корнхоера.
— Значит, они ничего не слышали. Это точно.
— Да. Где он сейчас?
— В домике для гостей. С ним врач. Он совершенно пьян.
— Многие ли из братьев знают, что он здесь?
— Примерно четверо. Мы приступили к «Аллилуйе», когда он вошел в ворота.
— Скажи этим четверым, чтобы они никому о нем не упоминали. Затем присоединись к нашим гостям в подвале. Мило поболтай с ними — лишь бы они ничего не узнали.
— Но не надо ли нам рассказать им до отъезда, господин мой?
— Конечно. Но пусть они сначала соберутся. Ты знаешь, что это их не остановит от возвращения. Значит, чтобы свести к минимуму сложности, давай обождем до последней минуты. Есть это у тебя с собой?
— Нет, я оставил вместе с бумагами в гостевой.
— Пойду посмотрю. Теперь предупреди братьев и иди к гостям.
— Да, господин мой.
Аббат направился к домику для гостей. Когда он вошел, брат-медик как раз покинул комнату беглеца.
— Он выживет, брат?
— Не могу утверждать, господин мой. Побои, голод, истощение, лихорадка… так что, если Бог даст, — он пожал плечами.
— Могу ли я поговорить с ним?
— Я уверен, что это не имеет смысла. Он ничего не понимает.
Аббат вошел в комнату и мягко прикрыл за собой дверь.
— Брат Кларе?
— Только не надо опять, — выдохнул человек на кровати. — Во имя любви к Господу, только не надо опять… я уже рассказал вам все, что знаю. Я предал его. А теперь дайте мне…
Дом Пауло с жалостью посмотрел на секретаря покойного Маркуса Аполло и опустил глаза на его руки. На месте ногтей писца были гниющие язвы.
Аббат передернулся и подошел к маленькому столику рядом с кроватью: среди небольшого количества разбросанных бумаг и личных вещей он быстро обнаружил коряво написанный документ, который беглец принес с собой с востока.
«ХАННЕГАН ВЕЛИКИЙ, Милостью Божьей Суверен Тексарканы, Император Ларедо, Защитник Веры, Охранитель Законов, Вождь Кочевых Племен и Верховный Всадник Долин — ко ВСЕМ ЕПИСКОПАМ, СВЯЩЕННИКАМ И ПРЕЛАТАМ Церкви нашего наследственного королевства шлет Привет и ОБРАЩАЕТ ИХ ВНИМАНИЕ, ибо таков ЗАКОН:
1. Поскольку некий иностранный принц, он же Бенедикт XXII, епископ Нового Рима, возжелал распространить свою власть, которая не принадлежит ему по праву, над духовенством нашей нации и осмелился, во-первых, подвергнуть Тексаркапскую церковь богоотлучению, а затем отказался отменить свое богопротивное решение, вызвав тем самым духовное смятение и смущение среди всех верующих. Мы, единственный законный правитель Церкви в данном королевстве, действуя в согласии с советом епископов и духовенства, тем самым объявляем Нашему преданному народу, что вышеупомянутый правитель и епископ Бенедикт XXII — суть еретик, симонист, убийца, кровосмеситель и атеист, отлученный от Святой Церкви в Нашем королевстве, империи или протекторатах. Кто служит ему, служит не Нам.
2. Тем самым оповещается, что декрет об отлучении ОТМЕНЯЕТСЯ, АННУЛИРУЕТСЯ И ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НЕ ИМЕЮЩИМ ПОСЛЕДСТВИЙ…»
На остальную часть текста Дом Пауло бросил лишь беглый взгляд. Читать дальше не имело смысла. Бросающиеся в глаза слова ОБРАЩАЕТ ИХ ВНИМАНИЕ говорили о том, что все рукоположенное духовенство Тексарканы должно будет признать над собой высшую власть лица, не рукоположенного к священнодействию, что являло собой преступление против правил и законов, а также принести ему клятву верности, если они хотели и дальше служить Церкви. И воззвание то было подписано не только Верховным Правителем, но и также несколькими епископами, имена которых были незнакомы аббату.
Он бросил документ обратно на стол и снова сел на кровать. Глаза беглеца были открыты, но он всего лишь слепо смотрел в потолок и тяжко дышал.
— Брат Кларе? — мягко обратился он к нему. — Брат…
Тем временем в подвале Тон с горящими глазами сражался с немалым количеством специалистов, которые, пытаясь добиться ясности в запутанном вопросе, посмели вторгнуться в область знаний другого специалиста.
— В сущности да! — ответил он на вопрос послушника. — Мне удалось обнаружить здесь один источник, который, как я думаю, будет представлять интерес для Тона Махо. Конечно, я не историк, но…
— Тон Махо? Не тот ли это, кто попытался исправить Книгу Бытия? — мрачно спросил отец Галт.
— Да, это… — ученый замолчал, столкнувшись с удивленным взглядом Галта.
— Очень хорошо, — хмыкнув, сказал священник. — Многие из нас понимают, что Книга Бытия носит в той или иной мере аллегорический характер. И что же обнаружили?
— Мы нашли один отрывок, относящийся к временам до Потопа, который, по моему мнению, предлагает одну весьма революционную теорию. Если я правильно понял этот отрывок, человек не был создан задолго до конца последней цивилизации.
— Что-о-о? Тогда откуда же взялась цивилизация?
— Только не от человечества. Начало ей положила предшествующая раса, которая была уничтожена Древним Огнем.
— Но Святое Писание описывает тысячелетия, предшествовавшие Древнему Огню!
Тон Таддео многозначительно промолчал.
— Вы утверждаете, — с внезапной ноткой разочарования сказал Галт, — что мы не являемся потомками Адама? И что мы не принадлежим к исторически сложившемуся человечеству?
— Подождите! Я только высказываю предположение, что раса, существовавшая до Потопа, которая называла себя Человечеством, смогла создать жизнь. Незадолго до падения их цивилизации им удалось успешно создать прародителей человечества — «по своему образу и подобию».
— Но если вы полностью отрицаете Апокалипсис, то совершенно незачем вносить такие осложнения, — пожаловался Галт.
Аббат неслышно опустился по ступенькам. Приостановившись на последней, он недоверчиво прислушался.
— Так может показаться, — выдвинул аргументы Тон Таддео, — если вы не примете во внимание, с каким количеством факторов приходится считаться. Вы знаете легенды об Очищении. И мне кажется, что все они обретают смысл, если рассматривать Очищение как бунт созданных слуг против своих создателей, как и предполагает отрывок. Это так же объясняет, почему сегодняшнее человечество стоит настолько ниже своих древних предшественников, почему наши прародители погрузились в варварство, когда их хозяева были уничтожены, почему…
— Боже, смилуйся над сей обителью, — вскричал Дом Пауло, выходя из тени алькова. — Помилуй нас, Господи, ибо не ведаем мы, что творим…
— Предполагаю, что мне это известно, — пробормотал ученый, услышав эти слова.
Старый священник обрушился на гостя, как богиня мщения.
— Значит, мы всего лишь создания тех, кто в свою очередь был создан, не так ли, сир философ? И созданы мы куда более мелкими богами, чем Господь наш, и куда более тупыми, хотя наших прегрешений в сем нет, конечно.
— Это всего лишь предположение, но оно многое объясняет, — упрямо сказал Тон, не желая сдаваться.
— И многое прощает, не так ли? Восстание Человека против своих создателей было, без сомнения, всего лишь оправданным уничтожением тирании, направленным против премудрых сынов Адама.
— Я не говорил…
— Покажите мне, сир философ, столь потрясающее сочинение!
Тон Таддео торопливо уткнулся в свои записки. Свет то и дело мигал и мерк, потому что послушники у динамо непрестанно пытались прислушиваться. Небольшая аудитория была в состоянии ужаса, пока громовое вторжение аббата не нарушило их оцепенелого молчания. Монахи стали шептаться между собой, а кто-то даже осмелился хихикнуть.
— Вот, — сказал Тон Таддео, протягивая Дому Пауло несколько листов заметок.
Аббат бегло просмотрел их и стал читать. Молчание начало становиться томительным.
— Я уверен, что вы разыскали это в отделе, где лежит все то, что сочтено «Не подлежащим классификации», не так ли? — спросил он через несколько секунд.
— Да, но…
Аббат продолжал читать.
— Я, наверно, должен кончать укладываться, — пробормотал ученый, продолжая разбирать бумаги. Монахи нерешительно мялись на месте, и было видно, что им хочется улизнуть отсюда. Корнхоер бродил поодаль.
Удовлетворившись несколькими минутами чтения, аббат резко повернулся и протянул записи своему приору.
— Читай! — хрипло скомандовал он.
— Но что?..
— Обрывок то ли пьесы, то ли диалога, как мне кажется, я уже видел его раньше. Что-то о людях, которые делали искусственных существ, что служили у них рабами. И рабы восстали против своих хозяев. Если бы Тон Таддео читал преосвященного Боэдуллуса «De Inanibus»[43], он бы обнаружил, что тот определял данные тексты, как «возможные сказки или аллегории». Но, скорее всего, Тон меньше всего думал о знакомстве с оценками и мнениями преосвященного Боэдуллуса, поскольку у него есть свои.
— Но что за…
— Читай!
Галт отошел в сторону, держа в руках записки. Пауло снова повернулся к ученому и вежливо, доверительно и темпераментно обратился к нему: «И создал Он их по образу Бога: мужчин и женщин сотворил Он им».
— Мое замечание — всего лишь предположение, — сказал Тон Таддео. — Свобода обсуждений — это необходимая часть…
— «И Господь Бог наш создал Человека и поместил его в рай, полный удовольствий, где и одевал его и кормил его. И…»
— …для развития науки. И если вы будете связывать нас по рукам и ногам слепой ортодоксальностью, нерассуждающими догмами, тогда вам придется…
— «И Бог простер руку свою над ним, сказав: «С каждого дерева в раю пищу свою добывать будешь, но лишь не с древа познания добра и зла…»
— …и в дальнейшем видеть мир в том же темном невежестве и предрассудках, каким он был, когда ваш орден…
— «…не имеешь ты права срывать плодов. Ибо в тот день, когда ты вкусишь плодов его, то познаешь, что такое смерть».
— …начал борьбу против них. И тогда нам не удастся одолеть ни болезни, ни страдания, ни рождения уродов, нам не удастся сделать мир хоть чуточку лучше, чем он был в течение…
— «И змей сказал женщине: Господь знает, что в тот день, когда ты вкусишь плодов с древа познания добра и зла, глаза твои широко откроются, и ты станешь равной Богам, познавшим суть добра и зла».
— …двенадцати столетий, если нам не удастся развивать каждое новое направление исследований и если каждая новая мысль будет объявляться…
— Никогда не было лучше, и никогда не будет лучше. Он будет лишь богаче или беднее, печальнее, но не умнее — и так будет до самого последнего дня его существования.
Ученый беспомощно пожал плечами.
— Вы так думаете? Я понимаю, что вы оскорблены, но вы говорили мне, что… хотя, какой в том смысл? У вас свой собственный взгляд на вещи.
— «Взгляд на вещи», который я вам цитировал, сир философ, — это не взгляд на процесс создания человечества, а взгляд на те искушения, которые ведут к катастрофе. Сумеете ли вы избежать ее? «И змей сказал женщине…»
— Да, да, но свобода дискуссий столь существенна…
— Никто не пытается вас ее лишить. И никто тут не обижен. Но попытка вводить в заблуждение интеллект из-за гордости, тщеславия или из желания скрыться от ответственности — плоды того же самого дерева.
— Вы оспариваете благородство моих мотивов? — темнея, спросил Тон.
— Временами я оспариваю самого себя. Я ни в чем вас не обвиняю, но спросите себя вот о чем: почему вы испытываете удовольствие, выдвигая столь дикие предположения перед столь неподготовленной и робкой аудиторией? Почему вы хотите обязательно унизить прошлое, даже отказывая в гуманности прошлой цивилизации? И говоря, что у вас нет необходимости учиться на их ошибках? Или, возможно, вы так поступаете потому, что вам нетерпима роль вновь открывающего уже известное, а вы хотите чувствовать себя полноправным создателем?
Сквозь стиснутые зубы Тон прошипел проклятие.
— Эти записи должны находиться в руках компетентных людей, — гневно сказал он. — При чем тут ирония?
Свет ярко вспыхнул и погас. Причиной тому была не поломка. Послушники, вращавшие рукоятки, прекратили работать.
— Принесите свечи, — приказал аббат.
Свечи были тут же доставлены.
— Спускайся, — сказал аббат послушнику, сидевшему на лестнице. — И захвати ее с собой. Брат Корнхоер? Брат Корн…
— Он только что ушел в хранилище, господин мой.
— Так позовите его. — Дом Пауло снова повернулся к ученому, протягивая ему документ, который был найден среди вещей брата Кларе. — Прочтите это, если вам хватит света свечей, сир философ!
— Верховный эдикт?
— Прочтите и можете возрадоваться своей возлюбленной свободе.
Брат Корнхоер скользнул в помещение. Он тащил тяжелое распятие, которое убрали из проема арки, чтобы водрузить там лампу. Он протянул крест Дому Пауло.
— Откуда ты узнал, что оно мне нужно?
— Со временем я это понял, господин мой, — он пожал плечами.
Старик поднялся по лестничке и водрузил крест на прежнее место. В пламени свечей тело распятого отливало золотом. Повернувшись, аббат позвал монахов.
— Тот, кто читал в этом алькове, пусть прочтет «К телу Христову».
Когда он спустился с лестницы, Тон Таддео торопливо собирал остатки бумаг, решив подробнее разобраться в них попозже. Он встревоженно посмотрел на священника, но ничего не сказал.
— Прочитали эдикт?
Ученый кивнул.
— Если вам почему-то не повезет и вам придется стать политическим беженцем, то здесь…
Ученый покачал головой.
— Тогда не могу ли я попросить прояснить вашу точку зрения относительно того, что наши собрания должны находиться в компетентных руках?
Тон Таддео опустил глаза.
— Это было сказано сгоряча, отец. Я беру свои слова назад.
— Но вы все равно так думаете. Все время.
Тон не стал отрицать эти слова.
— Я чувствую, что тщетно просить вашего вмешательства в вопрос о нашем существовании — тем более что ваши офицеры доложат вашему кузену, что тут может быть размещен внушительный гарнизон. Но для его же собственного блага скажите ему, что когда алтарь нашей Меморабилии подвергался угрозам, наши предшественники, не медля, обнажали меч в ее защиту, — он помолчал. — Вы уезжаете сегодня или завтра?
— Мне кажется, что лучше сегодня, — тихо сказал Тон Таддео.
— Я прикажу подготовить вам припасы в дорогу, — аббат повернулся уходить, но остановился и мягко добавил: — Когда вы вернетесь, передайте послание вашим коллегам.
— Конечно. Вы напишете его?
— Нет. Просто скажите, что любой, кто захочет заниматься здесь, будет гостеприимно принят, несмотря на наше плохое освещение. Особенно Тон Махо. Или Тон Эссер Шон с его шестью ингредиентами. Люди должны избавляться от заблуждений в поисках путей к правде, я думаю — в конце концов они должны перестать столь жадно лелеять свои заблуждения, хотя они приятны на вкус. И скажи им, сын мой, что когда придет время — а оно всегда приходит, — когда не только священникам, но и философам придется искать убежище, — скажи им, что стены наши по-прежнему толсты.
Он кивнул, отпуская послушников, а затем медленно поднялся в свой кабинет, где остался в одиночестве. Ибо боль уже начинала снова его терзать изнутри, и он знал, что его ждут новые пытки.
«Может быть, со временем хоть немного отпустит», — безнадежно подумал он. Надо было бы встретиться с отцом Галтом и выслушать его исповедь, но он решил, что лучше дождаться, когда уедут гости. Он снова взглянул на эдикт.
Стук в дверь прервал его страдания.
— Придите попозже.
— Боюсь, что позже меня здесь уже не будет, — раздался приглушенный голос из коридора.
— О, Тон Таддео — входите же. — Дом Пауло выпрямился, боль жестоко терзала его, не отпуская ни на минуту, только порой чуть притихая, словно желая убедиться, подчинила ли она его себе.
Войдя, ученый положил пачку бумаг на стол аббата.
— Я думаю, что надежнее всего было бы оставить это здесь, — сказал он.
— Что это такое?
— Наброски ваших укреплений. Те, что делали офицеры. Думаю, что вам лучше всего их немедленно сжечь.
— Почему вы это сделали? — выдохнул Дом Пауло. — После того, что вы говорили внизу…
— Я хочу, чтобы вы меня поняли, — сказал Тон Таддео. — Я вернул бы их в любом случае — для меня это было делом чести, а не только возмещением вашего гостеприимства… впрочем, неважно. Если бы я вернул их вам раньше, офицеры успели бы восстановить их.
Аббат медленно поднялся из-за стола и протянул ученому руку.
Тон Таддео помедлил.
— Я не обещаю, что смогу сказать о вас…
— Я знаю.
— …ибо я думаю, что ваши собрания должны быть открыты миру.
— Так было, так есть и так всегда будет.
Они сердечно пожали руки друг другу, но аббат знал — это не столько заключение мира, сколько символ взаимного уважения между врагами. Может, большего и желать было нельзя.
Но почему все должно было свершаться снова и снова?
Ответ был почти ясен, и уже змеями ползли глухие слухи: поскольку Богу известно, в какой день вкусишь ты плоды сии, следовательно, глаза твои будут открыты, и ты станешь равным Богам. Старый прародитель лжи был умен, говоря лишь половину правды: как ты можешь «знать», что такое зло и что такое добро, пока сам не вкусишь плодов их? Вкуси — и будешь как Бог. Но ни бесконечное могущество, ни бесконечная мудрость не могли даровать благо человеку. Ибо для этого была необходима бесконечная любовь.
Дом Пауло пригласил молодого священника. Ибо подходило время прощания. И скоро должен был прийти новый год.
То был год неслыханного изобилия дождей, отчего семена, долго тосковавшие по влаге, пошли в бурный рост и цветение.
То был год, когда цивилизация коснулась и кочевников с Долин, и даже люди в Ларедо стали шептаться, что, возможно, все делается к лучшему. Рим не был согласен с этим.
То был год, когда было подписано, а затем нарушено временное соглашение между государствами Денвер и Тексарканой. Это был год, когда старый еврей вернулся к своему призванию целителя и странника, год, когда монахи альбертианского ордена святого Лейбовица похоронили старого аббата и избрали нового. То было время светлых надежд на завтрашний день.
То был год, когда король отправился в поход на восток, дабы покорить эти земли и владеть ими.
Глава 23
Лучи солнца палили землю, падая на склон холма, и жара вызывала у Поэта страшную жажду. Наконец он тяжело оторвал от земли голову и попытался осмотреться. Резня кончилась, все вокруг лежали в полном безмолвии, если не считать кавалерийского офицера. Стервятники уже парили в воздухе, готовясь приземлиться.
Вокруг лежали несколько мертвых беженцев, убитая лошадь и умирающий офицер-кавалерист, придавленный телом лошади. Время от времени кавалерист приходил в себя и начинал стонать. Теперь он взывал к матери, а потом начинал стонать, требуя священника. Порой он оплакивал свою лошадь. Его стоны вспугивали стервятников и сердили Поэта, который находился в брезгливом настроении. Одухотворенность была ему чужда. Он никогда не ожидал от мира, что тот будет поступать по отношению к нему с изысканной вежливостью или хотя бы с пониманием, и мир в самом деле редко разочаровывал его, но порой Поэт принимал слишком близко к сердцу его глупость и жестокость. Но никогда еще раньше мир не стрелял Поэту в живот из мушкета. Этого уже он вынести не мог.
Хуже всего, что сейчас ему приходилось проклинать не столько глупость мира, сколько свою собственную. Поэт сам грубо ошибся. Он занимался своими собственными делами и никому не мешал, когда заметил группу беглецов, бежавшую к холму, и почти настигший их отряд всадников. Чтобы избежать неприятностей и не лезть в драку, он спрятался в заросли кустарников, которые росли на краю дороги, оборудовав себе наблюдательный пункт, откуда он мог видеть все, не будучи замеченным. Это была не его драка. Его не интересовали ни политические, ни религиозные взгляды ни беглецов, ни кавалеристов. Если уж бойне суждено свершиться, судьба не могла подобрать более равнодушного ее свидетеля, чем Поэт. Зачем он поддался этому слепому порыву?
Импульс заставил его выскочить из укрытия и схватить офицера, сидевшего в седле, которому он нанес три удара ножом, обычно висевшим у него на поясе, после чего оба они покатились по земле. Он и сам не мог понять, почему он это сделал. Ему ничего не угрожало. Люди этого офицера выстрелили в него прежде, чем он успел встать на ноги. Резня беглецов продолжалась. Оставшихся в живых увели с собой, а мертвые остались лежать, где застигла их судьба.
Он слышал, как бурчит у него в животе. Увы, тщетно — до мушкетной пули ему не добраться. Он совершил эту бесполезную глупость, наконец решил он, потому что увидел, как этот идиот офицер орудовал своей идиотской саблей. Если бы он просто рубанул женщину, сидя в седле, и поскакал дальше, Поэт не обратил бы внимания на его поступок. Но он продолжал рубить ее и резать, и…
Он запретил себе думать об этом. Он думал только о воде.
— О, Господи… о, Господи… — продолжал стонать офицер.
— К следующему разу подточи свою саблю, — проскрипел Поэт.
Но следующего раза не будет больше.
Поэт не мог припомнить, боялся ли он когда-нибудь смерти, но часто подозревал Провидение, что оно подстроит ему грязную каверзу в миг смерти, когда придет его черед умирать. Пришла и ему пора подыхать. Медленно и не очень возвышенно. Порой поэтическое озарение подсказывало ему, что, скорее всего, он должен умереть, разъедаемый вспухшими чумными язвами, трусливо моля о покаянии и прощении, но не получивший его. Ничего не могло быть противнее, чем вот так случайно получить пулю в живот и умирать в полном одиночестве, без свидетелей, которые могли бы слышать его полные сарказма реплики перед смертью. Последнее, что услышали те, кто стрелял в него, был звук «Уф-ф-ф!» — его завещание вечности.
«Уф-ф-ф! — на память тебе, Владыка Небесный».
— Отче? Отче? — стонал офицер.
Через какое-то время Поэт опять собрался с силами и поднял голову от земли. Проморгавшись от грязи в глазах, он посмотрел на офицера. Он был уверен, что офицер тот самый, в которого он вцепился, хотя сейчас лицо его покрывала мертвенная бледность, отливавшая зеленью. Его блеющие стоны, когда он требовал священника, начинали раздражать Поэта. По меньшей мере трое церковников лежали мертвыми среди беглецов, и теперь офицеру уже неважно, к какому они принадлежали вероисповеданию. «Может, и я ему сгожусь», — подумал Поэт.
Он начал медленно подтягивать свое тело по направлению к умирающему кавалеристу. Офицер увидел его приближение и схватился за пистолет. Поэт остановился, он не ждал, что его узнают. Он уже приготовился искать укрытие. Пистолет был направлен в его сторону. Несколько секунд он наблюдал, как тот прыгает в руке офицера, и решил продолжать свое движение. Офицер нажал курок. Пуля врылась в землю в нескольких ярдах от него — повезло.
Когда офицер попытался перезарядить оружие, Поэт вырвал у него пистолет. Казалось, тот был пьян и хотел перекреститься.
— Давай, давай, — сказал Поэт, найдя свой нож.
— Благослови меня, отче, ибо я грешен…
— Ныне те отпущаеши, сын мой, — сказал Поэт и воткнул нож офицеру в горло.
Затем он нашел офицерскую фляжку и немного отпил. Вода согрелась на солнце, но была восхитительна. Он лежал, положив голову на труп лошади, и смотрел, как тень от холма ползла к дороге. Иисусе, как болит! Последнюю историю, что случилась со мной, объяснить не так легко, тем более что у меня нет с собой искусственного глаза. Если тут вообще есть, что объяснять. Он посмотрел на мертвого кавалериста.
— Жарко, как в аду, не так ли? — прошептал он.
Толку от кавалериста было не добиться. Поэт еще раз отпил из фляжки, а потом еще раз. Внезапно кишки его пронзила сильная боль, и несколько секунд он прямо корчился от боли.
Стервятники прохаживались с важным видом, чистили перья и дрались из-за остатков трапезы: они еще не насытились. Несколько дней они ждали из-за волков. Но здесь хватило добра всем. Наконец они принялись за Поэта.
Как обычно, черные стервятники неба, когда пришло время, отложили яйца и принялись любовно выкармливать свою поросль. Они парили высоко над прериями, горами и долинами, выслеживая свою долю от жизни, что было частью существования природы. Их философы неопровержимо свидетельствовали, что Высший Дух Святой создал мир специально для них, стервятников. Они уже много столетий владели им, и аппетит у них был отменный.
И наконец после поколений тьмы пришли поколения света. И назвали они год сей годом от рождения Господа нашего 3781-м — годом его мира и благоволения, как они молили.
FIAT VOLUNTAS TUA! ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!
Глава 24
И снова поднялись к небу блестящие колонны космических кораблей, чем было ознаменовано это столетие, и созданы они были какими-то странными существами, которые ходили на двух ногах и отращивали пучки волос на самых разных участках своего анатомического строения. Они были болтливы, они принадлежали к расе, которая была способна восхищаться своими изобретениями в зеркале и в то же время вполне могла перерезать себе горло перед алтарем племенного бога, такого, например, как божество Ежедневного Бритья. То были существа, которые часто говорили о себе, что их мастерство носит, в сущности, следы божественного вдохновения, но любое интеллигентное существо с Арктура, без сомнения, воспринимало бы их лишь как вдохновенных сочинителей послеобеденных спичей.
И неизбежно последовало, что они декларировали (как не в первый раз), что целью и смыслом их существования является завоевание звезд. И если потребуется, они будут завоевывать их раз за разом и, конечно, по поводу каждого завоевания они будут произносить речи. Но столь же неизбежно явствовало, что раса эта опять падет жертвой старых хворей нового мира, как уже бывало на Земле — под звуки литаний в честь жизни и специальных литургий во имя Человека.
Мы — суть столетий.
Мы — скуловороты, и клич наш победен,
и скоро мы скажем, что головы с плеч ваших снесем.
Скоро мы с песнями в мусор вас уберем, сэр и мадам, а за спинами вашими гимны наши слышны и ритм шагов, что кажется вам странным и страшным.
Левой!
Левой!
Жена-у-него-хороша-но сам-он…
Левой!
Левой!
Левой!
Левой!
Правой!
Левой!
Wir, — как говорилось в старые времена, — marschieren weiter wenn alles in Scherben fallt[44].
Имели мы ваши эолиты и ваши неолиты. Имели мы ваши вавилоны и ваши помпеи, ваших цезарей и все ваши хромированные штучки, которые и не пахнут настоящей жизнью.
Имели мы ваши кровопускания и ваши Хиросимы.
Плевать нам на ад, плевать нам на
Атрофию, Энтропию и
Нам по вкусу похабные шутки о дешевой девчонке по имени Ева и о бродячем торговце, что звался Люцифером.
Мы погребли и ваших мертвых и память о них.
Мы погребем и вас. Ибо мы — суть столетий.
Родившись, вдохни воздуха в грудь, заори под шлепком акушера — и вступай в борьбу с человечеством, ибо в тебе есть часть божества; чувствуй боль, рождай себе подобных, борись и умирай.
(Мертвые, будьте любезны собраться у запасного выхода.)
Рождение и возрождение, снова и снова, это ритуал, кровавые рубища и пронзенные гвоздями руки, дети Мерлина, озаренные слабым светом. И дети Евы, что вечно строят Эдем — и столь же вечно яростно разбрасывают его на куски, потому что что-то не получается — (АХР-Р-Р! АХР-Р-Р! — в бессмысленном гневе рычит идиот среди развалин и щебня. Но, чу! Пусть его крики утонут в звуках хора, орущего «Аллилуйю» на все девяносто децибел).
А теперь послушайте последний гимн Братства святого Лейбовица, как его пели в то столетие, которое поглотило его наименование:
ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН Кирие элейсон ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН Христос элейсон ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН Кирие элейсон, элейсон имас![45]ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН, кодовые слова, которые электрическими вспышками обежали все континенты, которые шептали в залах для заседаний, которые циркулировали в виде кратких меморандумов, на которых стояли слова «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» и которые тщательно оберегали от прессы. Но слова эти вздымались угрожающей волной цунами над плотиной официальной секретности. В плотине было несколько целей, которые бесстрашно заткнул преданный бюрократическому распорядку голландский мальчик, но пальчик его посинел и распух, пока он увертывался от зарядов, которые непрестанно летели в него со страниц прессы.
ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Как ваша светлость прокомментирует сообщение сэра Рише Тона Беркера, что уровень радиации на северо-западном берегу в десять раз превышает нормальный уровень?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я не читал такого заявления.
ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Но если принять его за правду, кто должен отвечать за такой всплеск радиации?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Ваш вопрос построен на предположении. Может быть, сэру Рише довелось открыть большие залежи урановых руд. Нет, вычеркните это. У меня нет комментариев.
ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Считает ли ваша светлость сэра Рише компетентным и знающим ученым?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Он никогда не работал под моим началом.
ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Ответ нас не удовлетворяет.
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Ответ вполне удовлетворительный. Так как он никогда не работал в моем департаменте, я лишен возможности оценивать его компетентность и чувство ответственности. Я не ученый.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Правда ли, что недавно где-то в Тихом океане произошел ядерный взрыв?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Как мадам должно быть хорошо известно, проведение любых атомных испытаний является тяжелым преступлением и актом войны, как гласят существующие международные законы. Мы войну не объявляли. Ответил ли я на ваш вопрос?
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Нет, ваша светлость, не ответили. Я спрашивала не о проведении испытаний. Я спросила, был ли взрыв?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мы отказались от таких взрывов. Если они провели нечто подобное, не предполагает ли мадам, что правительство должно быть проинформировано с их стороны?
(Вежливый смешок).
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: И все же это не ответ на мой…
ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Ваша светлость, делегат Джерулиан обвинил Азиатскую Коалицию, что они вывели в дальний космос запасы водородного оружия, и он утверждает, что наш Исполнительный Совет знает об этом, но ничего не предпринимает. Правда ли это?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Правда, что «Трибуна Оппозиции» в самом деле выдвинула такое смехотворное обвинение, это да.
ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Почему вы считаете обвинение смехотворным? Потому что они еще не вывели в космос ракеты «космос — земля?» Или потому что мы как-то реагируем на ситуацию?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Так или иначе оно смехотворно. Я хотел бы тем не менее напомнить, что производство ядерного оружия, с тех пор как оно было снова открыто, запрещено соответствующим договором. И запрещено повсеместно — и в космосе, и на Земле.
ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Но договор не запрещает выведение на орбиту расщепляющихся материалов, не так ли?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Конечно, нет. Космические средства передвижения все используют ядерную энергию и должны снабжаться ею.
ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: И не существует договора, запрещающего выводить на орбиту и другие материалы, из которых может быть создано ядерное оружие?
МИНИСТР ОБОРОНЫ (раздраженно): Насколько мне известно, положение дел за пределами нашей атмосферы не определяется никакими договорами или парламентскими актами. И я вижу, что космос забит такими предметами, как луна и астероиды, которые сделаны отнюдь не из зеленого сыра.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Считает ли ваша светлость, что ядерное оружие может быть создано и без доставки исходных материалов с Земли?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я так не считаю, о нет. Конечно, теоретически это возможно. Я сказал, что ни один из договоров или законов не ограничивает доставку на орбиту сырья — они имеют отношение только к ядерному оружию.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Как вы могли бы оценить недавний взрыв на Востоке: было ли то подземное испытание, вырвавшееся на поверхность, или ракета «космос — земля» с дефектной боеголовкой?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мадам, ваш вопрос столь неопределенен, что вы вынуждаете меня ответить: «Без комментариев».
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Я всего лишь повторяю сэра Рише и делегата Джерулиана.
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Они вольны пускаться в любые самые дикие рассуждения. У меня такой свободы нет.
ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Рискуя показаться неправильно понятым, хотел бы поинтересоваться мнением вашей светлости относительно погоды.
МИНИСТР ОБОРОНЫ: В Тексаркане довольно тепло, не так ли? Я понимаю, что надвигающиеся пыльные бури с юго-запада доставляют определенное беспокойство. Но некоторые из них мы успеем перехватить.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Одобряете ли вы деятельность Материнства, лорд Рагелл?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я резко выступаю против него, мадам. Оно оказывает зловредное влияние на молодежь, особенно на новобранцев. Военное ведомство имело бы прекрасных солдат, если бы наши бойцы не подвергались разлагающему влиянию Материнства.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Можем ли мы вас процитировать, вашу точку зрения?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Конечно, мадам, но только в моем некрологе — не раньше.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Благодарю вас. Я заблаговременно подготовлю его.
Как и его предшественники, аббат Дом Джетрах Зерчи по натуре не отличался особой созерцательностью, хотя как духовный владыка общины, он должен был способствовать развитию определенных аспектов созерцательного отношения к бытию в пределах его общины и как монах культивировать это качество и в себе. Но Дом Зерчи не преуспевал ни в том ни в другом. Его натура побуждала к действиям даже в мыслях, ум его решительно отказывался занимать позицию созерцательности. Его неутомимость и выдвинула его в лидеры общины, чье право на руководство ею не подвергалось сомнению, и его даже можно было считать более удачливым правителем, нежели его предшественники, хотя его неутомимость легко могла стать обременительной или даже пойти во зло.
Самого Зерчи большую часть времени совершенно не беспокоила собственная суетливость, с которой он хватался за любое дело или вступал в бой с неистребимыми драконами зла. Но сейчас он был серьезно встревожен. И для этого были серьезные основания. Дракон почти одолел святого Георгия.
Драконом этим был Ужасный Самописец, и его ужасающие размеры, проистекающие из достижений электроники, уже заполнили несколько кубических пустот в стене и чуть ли не треть томов, лежащих на столе аббата. Как обычно, новое изобретение работало из рук вон плохо. Слова писались не с заглавной, а со строчной буквы, коверкался их смысл, в пунктуации царил хаос. Только что электрические внутренности исказили титулование суверенного владыки аббатства, который, вызвав ремонтника и тщетно прождав его три дня, с отвращением решил сам взяться за правку текста и получил на руки типичное произведение:
«иСпытание, испЫтание, испытаНие! Испытание испытаНИЕ? проКлятИе! поЧЕму эти суМАсшедшие букВы БУдут Ли они слУШаться? вРемя для ВСех муДрЫх ВспоминаТелей пуСть У них БОлиТ голова от СоБиРателей КНИг. ПРовались ты. МоЖЕТ попроБОваТь поЛАТыни? ЧТО происхоДИт С этОй ПрокляТОЙ штуКой».
Зерчи присел на пол в окружении разбросанного бумажного хлама; он сидел, пытаясь унять дрожь руки, потому что получил удар током, когда пытался сам разобраться во внутренностях и кишках этого мерзкого Самописца. Подрагивающие мускулы напомнили ему, как дергается мышца лягушки под воздействием гальванического тока. Хотя он четко помнил указание, что, прежде чем лезть в машину, ее надо отключить, но не предполагал, что враг рода человеческого, выдумавший эту штуку, будет с такой силой бить током тех, на кого выпало несчастье ею пользоваться. Когда он в поисках обрыва оголял и соединял провода, его стукнуло высоким напряжением из конденсатора, который имел наглость разрядиться через посредство досточтимого отца аббата, и досточтимый аббат, отлетев, сильно ушиб себе локоть о станину. Но Зерчи не имел представления, стал ли он жертвой законов природы конденсаторов или же хитро встроенной ловушки для потребителей. Во всяком случае, его сбило с ног. На полу он очутился не по своей воле. Его уверенность в своем умении разбираться во внутренностях устройства для перевода со многих языков базировалась на том, что однажды он с гордостью извлек из хранилища информации дохлую мышь, устранив загадочную склонность машины к повторению слогов (слослоговгов). В тот раз, обнаружив дохлую мышь и выяснив, что она кое-где перегрызла провода, аббат решил, что Небо благословило его даром исцеления электронных машин. Но выяснилось, что это далеко не так.
— Брат Патрик! — обратился он к приемной и тяжело поднялся на ноги.
— Эй, брат Пат! — снова крикнул он.
Наконец дверь открылась, и секретарь осторожно всунул голову, с опаской глядя на открытые панели стенных шкафов, за которыми виднелась потрясающая путаница проводов; он обвел взглядом замусоренный пол, потом опасливо взглянул на выражение лица своего духовного владыки.
— Снова вызвать ремонтную службу, отец аббат?
— Какой в том смысл? — буркнул Зерчи. — Ты уже вызывал их три раза. И они три раза обещали прибыть. Мы ждали три дня. Мне нужен стенографист. И сейчас же! Желательно христианин. Эта штука, — он раздраженно ткнул рукой по направлению к Омерзительному Самописцу, — проклятый неверный или даже хуже того. От него надо избавиться. Я хочу, чтобы его тут не было.
— АПЛАКА?
— Именно АПЛАКА. Продайте его атеистам. Нет, с нашей стороны это неблагородно. Отдайте мусорщикам. С меня хватит. И зачем только, во имя Небес, аббат Бумус — да почиет его душа в мире — купил эту идиотскую штуку?
— Видите ли, господин мой, они говорили, что вашему предшественнику очень нравились разные штучки и он считал, что очень удобно сразу же писать письма на том языке, которым ты не владеешь.
— Неужто? Ты имеешь в виду, что так должно быть. Это изобретение… послушай, брат, они утверждают, что оно думает. Я сразу же в это не поверил. Мыслит, имеет какие-то принципы, имеет душу. Могут ли детали «думающей машины» — созданной человеком — обладать разумной душой? Ба! С первого же взгляда ясно, что так думать могут только язычники. Но знаешь, что я тебе скажу?
— Отец мой?
— Она не может проявлять такое дьявольское упрямство без преднамеренности! Она должна думать! Она знает, что такое добро и зло, говорю я тебе, и она явно имеет склонность к последнему. И перестань хихикать, слышишь! Тут не до смеха! Такой точки зрения придерживаются не только язычники. Что за душа у нее? Как у растения? У животного? А если у нее разумная душа человека, ангелы нам уже не нужны. Но с чего мы взяли, что этот список уже полон? Растительная, животная, разумная — и что еще? Что там еще, именно там? Вот она, эта штука. И она сшибает с ног. Вытащить ее отсюда… но сначала я хочу дать радиограмму в Рим.
— Взять ли блокнот для записей, досточтимый отче?
— Ты говоришь на западно-аппалачском?
— Нет.
— И я тоже, а кардинал Хоффштратт не понимает юго-западный.
— Тогда почему бы не по-латыни?
— На какой латыни? На вульгарной или современной? Я не доверяю даже своему англо-латинскому, и в таком случае он-то уж точно в нем не разберется, — он нахмурился, глядя на тушу электронного стенографиста.
Брат Патрик нахмурился вместе с ним и, подойдя поближе, стал всматриваться в путаницу сверхминиатюрных компонентов конструкции.
— Мышей больше нет, — заверил его аббат.
— А что значит эта маленькая кнопка?
— Не трогай! — завопил аббат Зерчи, увидев, что его секретарь с любопытством протянул руку к одному из дюжины тумблеров на панели. Контрольное управление скрывалось в небольшой аккуратной коробке, крышку которой аббат снял, несмотря на грозное предупреждение: «ТОЛЬКО В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ».
— Ты не притрагивался к ней? — спросил он, направляясь к Патрику.
— Я вроде бы пошевелил ее немного, но, кажется, она вернулась на свое место.
Зерчи показал ему предупреждение на крышке коробки.
— Ох, — сказал Пат; и они посмотрели друг на друга.
— Она же имеет отношение главным образом к пунктуации, не так ли, досточтимый отец?
— И к ней, и к заглавным буквам, и к некоторым неприличным выражениям.
Полные почтительного молчания, они воззрились на все штучки, дрючки и закорючки.
— Слышал ли ты о преподобном Френсисе из Юты? — наконец спросил его аббат.
— Этого имени я не припомню, господин мой. А в чем дело?
— Просто я надеюсь, что сейчас он молится за нас, хотя не уверен, что он был канонизирован. Слушай, давай-ка немного повернем эту-как-ее.
— Брат Иешуа вроде был каким-то инженером. Я забыл, где именно. Но он был в космосе. Они должны немного разбираться в компьютерах.
— Я уже вызывал его. Он боится притрагиваться. Может, надо вот здесь…
Патрик скользнул в сторону.
— Если вы извините меня, милорд, я…
Зерчи взглянул на своего перепуганного секретаря.
— О, вы, маловерные! — сказал он, не обращая внимания на еще одно указание: «ТОЛЬКО В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ».
— Мне показалось, что кто-то пришел.
— И прежде чем трижды пропоет петух… кстати, ты же трогал эту первую кнопку, не так ли?
Патрик замялся.
— Но крышка была снята, и я…
— Иди, презренный. Прочь, прочь, прежде чем я не решил, что тут твоя вина.
Снова оставшись один, Зерчи поставил вылетающий предохранитель, сел за свой стол и, пробормотав краткую молитву святому Лейбовицу (который в это столетие обрел куда более широкую популярность, как покровитель и святой электриков, чем когда-то в роли основателя Альбертианского ордена святого Лейбовица), щелкнул тумблером. Раздались шипящие и булькающие звуки, но ничего не произошло. Он слышал только легкое пощелкивание реле и гудение микродвигателей, набиравших скорость. Он засопел. Озоном и не пахло. Наконец он открыл глаза. Даже индикаторы на контрольной панели его письменного стола горели как обычно. Вот уж действительно, «ВСКРЫВАТЬ ТОЛЬКО В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ»!
Несколько успокоившись, он нажал клавишу «РАДИОГРАММЫ», повернул селектор на «ЗАПИСЬ С ГОЛОСА», перевел переводчика на «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ-АППАЛАЧСКИЙ», поставил ручку записи в положение «ГОТОВО», пододвинул к себе микрофон и начал диктовать:
«Срочно! Его Высокодосточтимому Преосвященству, сиру Эрику, кардиналу Хоффштратту, Апостолическому Местоблюстителю, Священнослужителю Внеземных Территорий, главе Святой Конгрегации Пропаганды, Ватикан, Новый Рим…
Ваше Досточтимое Преосвященство! Учитывая напряжение, растущее в мире за последнее время, опасения нового международного кризиса, а также сообщения о тайной гонке ядерных вооружений, мы сочли бы большой честью, если бы Ваше Преосвященство сочло возможным дать совет о нынешнем статусе известных планов, поскольку повсюду царит состояние неопределенности. Я хотел бы напомнить о словах в булле папы Селестина Восьмого, да будет благословенна его память, данной по поводу Празднования Святой Девы в год от рождения Господа нашего 2735 и начинающейся со слов… — он сделал паузу, чтобы найти бумагу на своем столе, — «Ab hac planeta novitatis aliquos filios Ecclesiae usque ad planetas solum alienorum iam abisse et numquam redituros esse intelligimus…»[46] Напомню также документ от 3749 года «Quo peregrinatur grex, pastor secum»[47], разрешающий продажу острова и… некоторых средств передвижения. Затем обращусь к «Casus belli nunc remoto»[48] покойного папы Павла от 3756 года и к корреспонденции между Святым Отцом и моим предшественником, которая завершилась указанием в наш адрес приостановить работу над планом «Quo peregrinatur» до той поры, пока Ваше Преосвященство не даст нам указаний относительно его судьбы. Мы продолжаем пребывать в постоянной готовности к продолжению работы над планом «Quo peregrinatur», и, если с вашей стороны будет выражено желание довести его до конца, нам потребуется примерно шесть недель…».
Пока аббат диктовал, этот Отвратительный Самописец всего лишь фиксировал его голос и переводил звучащие слова в фонемы, закодированные на ленте. Закончив диктовать, аббат переключился на «АНАЛИЗ» и нажал на кнопку с надписью «ВЫДАЧА ТЕКСТА». Мигнувшая лампочка просигнализировала о готовности. И машина приступила к работе.
Тем временем Зерчи изучал лежащие перед ним документы.
Прозвучал звонок. Лампа, сигнализировавшая о готовности, мигнула и погасла. Наступило молчание. Бегло бросив встревоженный взгляд на крышку с надписью «ВСКРЫВАТЬ ТОЛЬКО И ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ», аббат закрыл глаза и нажал кнопку с надписью «ТЕКСТ».
Чат-чат-чат-пип-пип… поп-так-поп, — затарахтела автоматическая пишущая машинка, выдавая, как он надеялся, текст радиограммы. Он с надеждой прислушался к стуку клавиш. Четкий ритм их показался ему достаточно убедительным. Он попытался уловить в нем звуки аппалачского диалекта и, послушав некоторое время, пришел к выводу, что тут в самом деле слышен ритм аппалачского языка. Он открыл глаза. Робот-стенографист, примостившийся в другом конце комнаты, был неустанно занят работой. Выйдя из-за стола, он подошел посмотреть, что у него получается. С предельной тщательностью Омерзительный Самописец писал аппалачский вариант его текста:
СРОЧНО — РАДИОГРАММА
Кому: Его Высокодосточтимому Преосвященству, сиру Эрику, кардиналу Хоффштратту, Апостолическому Местоблюстителю, священнослужителю Внеземных Территорий, Ватикан, Новый Рим.
От кого: Дост. Аббат Джетрах Зерчи. Аббатство Святого Лейбовица. Санли Боуиттс, Западн. Территория.
Тема: Об известном плане
Ваше Досточтимое Преосвященство! Учитывая напряжение, растущее в мире за последнее время, опасения нового международного кризиса, а также сообщения о тайной гонке ядерных вооружений, мы сочли бы большой честью…
— Эй, брат Пат!
Он с отвращением выключил машину. О, святой Лейбовиц! Неужели наши труды были ради этого? Он не считал, что эта штука была значительно лучше тщательно очиненного гусиного пера и пузырька чернил.
— Эй, Пат!
Немедленного ответа из приемной не последовало, но через несколько секунд монах с рыжей бородой приоткрыл дверь и, взглянув на развороченный кабинет, покрытый бумагами пол и выражение лица аббата, имел наглость улыбнуться.
— В чем дело, магистер меус? Неужели вам не нравится наша современная техника?
— Откровенно говоря, ни в коем случае! — рявкнул Зерчи. — Эй, Пат!
— Он вышел, милорд.
— Брат Иешуа, не можете ли вы привести в порядок эту штуку? Но как следует.
— Как следует? Нет, не могу.
— Я должен послать радиограмму.
— Плохи дела, отец аббат. Ничего не получится. Они только что изъяли у нас несколько блоков и заперли радиорубку.
— Они?
— Внутренняя служба защиты зоны. Всем частным передатчикам запрещено выходить в эфир.
Зерчи добрался до своего кресла и свалился в него.
— Значит, объявлена тревога. В чем дело?
Иешуа пожал плечами.
— Ходят слухи об ультиматуме. Это все, что я знаю, если не считать данных на счетчике радиации.
— Все растет?
— Все растет.
— Позвони в Спокейн.
К полудню поднялась буря. Ветры бушевали над плоской верхушкой горы и маленьким городком Санли Боуиттс, путали посевы на осушенных полях, засыпая их песчаными наносами. Порывы ветра со стоном и воем били в каменные стены старинного аббатства, в стеклянно-алюминиевые корпуса современной пристройки к нему. Красный овал солнца был затянут грязной пеленой пыли, и пыльные смерчи крутились на гладкой поверхности шестирядного шоссе, отделявшего аббатство от его современной пристройки.
На обочине боковой дороги, которая одним концом примыкала к монастырю и, вливаясь в шоссе, вела от монастыря в город, закутавшись в лохмотья и прислушиваясь к вою ветра, стоял старый бродяга. С южной стороны ветер донес грохот взлетевших ракет. Ракета-перехватчик «земля — космос» была запущена на круговую орбиту со стартовой площадки, расположенной далеко от здешней пустыни. Опершись на посох, старик посмотрел на тускло-красный диск солнца и пробормотал, обращаясь то ли к себе, то ли к солнцу: «Аминь, аминь…»
Во дворе хижины, стоящей неподалеку от дороги, в зарослях сорняков играла группа детей, находящихся под присмотром молчаливой, но всевидящей сгорбленной черной старухи, которая, сидя на крыльце, курила трубку, набитую сухими листьями, время от времени успокаивая то одного, то другого не в меру расшалившегося питомца.
Один из детей заметил старого бродягу, стоящего на краю дороги, и тут же заорал:
— Гляди-ка, гляди-ка! Это старый Лазарь! Тетка говорит, что это тот самый старый Лазарь, что присутствовал при воскрешении Христа! Гляди! Лазарь! Лазарь!
Ребята повисли на покосившейся изгороди. Бродяга мрачно посмотрел на них и пошел вдаль по дороге. К ногам его упал камень.
— Эй, Лазарь…
— Тетка говорит, что когда воскрес Господь Бог, он стоял над ним. Гляди-ка на него! Эй! Все еще ждешь воскрешения господнего? Тетка говорила…
Еще один камень полетел вслед старику, но тот не обернулся. Старуха сонно кивнула головой. Дети вернулись к своим играм. Песчаная буря набирала силу.
Стоя на крыше здания аббатства из стекла и алюминия, расположившегося поодаль от автострады и древнего здания аббатства, монах брал пробы воздуха. С этой целью он использовал всасывающий насос, который втягивал в себя пыльный воздух, и при помощи воздушного компрессора отправлял его этажом ниже. Молодым монаха назвать было уже нельзя, но и к середине своего жизненного пути он еще не подошел. Его короткая рыжая борода встопорщилась, как наэлектризованная, и в ней торчали обрывки паутины и щепки, которые нес с собой ветер; время от времени он раздраженно отряхивал ее, а когда ему пришлось приникнуть к раструбу насоса, он яростно выругался, а потом сокрушенно перекрестился.
Мотор компрессора, кашлянув, смолк. Монах отключил насос, отсоединил его шланг и потащил агрегат к лифту, который спустил его вниз. В кабине лифта по углам лежали полосы пыли.
В лаборатории на верхнем этаже он глянул на контрольную панель компрессора, которая сигнализировала, что все в порядке, закрыл двери, скинул рясу, отряхнул от пыли и, повесив ее на колышек, склонился над всасывающим насосом. Постояв над ним, он направился в небольшую душевую, разместившуюся в дальнем конце лаборатории-мастерской, и на полную мощность включил холодную воду. Подставив под нее голову, он промыл от пыли волосы и бороду. Бодрящий холод освежил его. Отфыркиваясь и отряхиваясь, он бросил взгляд на двери. Возможность появления посетителей была минимальной. Он сбросил с себя все, влез в ванну и испустил вздох облегчения.
Внезапно дверь распахнулась. С подносом, на котором стояла только что распакованная новая лабораторная посуда, вошла сестра Элен. Растерявшись, монах в ванне вскочил на ноги.
— Брат Иешуа! — взвизгнула монашенка. Полдюжины мензурок со звоном полетели на пол.
Монах с шумом плюхнулся обратно в воду, залив полкомнаты. Причитая и вскрикивая, сестра Элен торопливо поставила поднос на верстак и вылетела из помещения. Иешуа выскочил из ванны и, не утруждая себя ни вытиранием, ни вниманием к белью, накинул рясу на голое тело. Когда он подошел к дверям, сестры Элен уже не было в коридоре и, скорее всего, вообще в здании, поскольку она поспешила в женскую обитель, расположенную на краю лужайки. Успокоившись, монах торопливо приступил к работе.
Опустошив содержимое контейнера всасывающего насоса, он высыпал его содержимое в колбу. Надвинув на голову наушники, он направился к лабораторному столу, где поместил колбу с пылью на определенном расстоянии от счетчика радиации, а потом посмотрел на часы и застыл в ожидании.
Счетчик был встроен в компрессор. Он нажал кнопку с надписью «ПОВТОР». Цифры на десятичной шкале скользнули с нуля, и отсчет начался снова. Через минуту он остановил отсчет и записал результат на тыльной стороне ладони. То был почти чистый воздух, отфильтрованный и сжатый, но в нем был какой-то привкус.
К полудню от покинул лабораторию, заперев ее. Спустившись в кабинет этажом ниже, он нанес данные на график, висящий на стене, с изумлением посмотрел, как круто идет вверх кривая и, сев за стол, включил видеофон. Номер он набрал на ощупь потому, что не мог оторваться от лицезрения красноречивой схемы на стене. Зажужжал зуммер, и на осветившемся экране он увидел пустой стул у письменного стола. Через несколько секунд человек уставился в зрачок экрана.
— Аббат Зерчи у аппарата, — пробурчал аббат. — А, брат Иешуа. Я уже собирался звонить вам. Вы уже принимали ванну?
— Да, милорд аббат.
— Наконец вы обрели способность краснеть!
— Обрел.
— Ладно, все равно на экране ничего не видно. Слушайте. На той стороне шоссе, как раз напротив наших ворот, появилась надпись. Вы, конечно, заметили ее? Она гласит: «Опасайтесь Женщины предупреждают Входить запрещается…» и так далее. Вы заметили ее?
— Конечно, милорд.
— Можете ли вы побожиться, что с этой точки зрения надпись не имеет к вам отношения?
— Конечно.
— Позор вам, если вы сомневаетесь в скромности сестер. Не удивлюсь, если узнаю, что вы уже готовите ванну для купания младенцев.
— Кто вам это сказал, милорд? Я только что закончил…
— Да? Ладно, не обращайте внимания. Почему вы вызвали меня?
— Вы хотели, чтобы я позвонил в Спокейн.
— Ах, да. Вы звонили?
— Да, — монах скусил кусочек сухой кожи со своих потрескавшихся от ветра губ и смущенно замолчал. Наступила неловкая пауза. — Я говорил с отцом Леоне. Они это тоже заметили.
— Растущую радиацию?
— Это еще не все, — он снова помолчал. Ему не хотелось продолжать. После того как факт становился известен, он получал право на самостоятельное существование.
— Ну?
— Это связано с сейсмической активностью, что отмечалось несколько дней назад. Информацию принесли верховые ветра, идущие с того направления. Все данные свидетельствуют: на небольшой высоте произошло выпадение радиоактивных осадков после мегатонного взрыва.
— Ох! — Зерчи захлебнулся на вдохе и прикрыл глаза ладонью. — Luciferum ruisse mihi dicis?[49]
— Да, господин мой. Я боюсь, что это было оружие.
— А может, авария на производстве?
— Нет.
Но если это начало войны, нам надо знать. Запрещенные испытания? Нет, вряд ли. В таком случае, они могли бы провести их на другой стороне Луны или, еще лучше, на Марсе, где бы никто их не вычислил.
Иешуа кивнул.
— Значит, что же это могло быть? — продолжил аббат. — Демонстрация? Угроза? Предупредительный выстрел в спину?
— Обо всем этом я и подумал.
— Таким образом, ясно, почему была объявлена тревога. И все же в новостях нет ничего, кроме слухов и отказов как-то прокомментировать происходящее. И мертвое молчание из Азии.
— Но взрыв должен быть замечен с какого-нибудь наблюдательного спутника. Если только — я не хочу допускать такой возможности, но все же — если только кто-то не нашел способ запускать ракету «космос — земля», которая остается незамеченной со спутника, пока не попадает в цель.
— Это возможно?
— Ходили такие разговоры, отец аббат.
— Правительство знает. Правительство должно знать. Кто-то из них знает. И все же мы ничего не слышали. Мы надежно защищены от атмосферы истерии. Так они выражаются? Маньяки! Мир уже пятьдесят лет постоянно находится в состоянии кризиса. Пятьдесят? Что я говорю! Состояние кризиса стало для него неизменным, но последние полстолетия оно уже невыносимо. Но почему, ради любви к Господу нашему? В чем фундаментальная, основная причина постоянного раздражения, в чем суть этого напряжения? В политической философии? В экономике? В росте народонаселения? В разнице культур и верований? Спроси десять экспертов и получишь десять разных ответов. И вот снова появляется Люцифер. Неужели род человеческий поражен неизлечимым безумием, брат? И если мы уже рождаемся сумасшедшими, как можем мы надеяться на милость Неба? Спасаться одной лишь нашей верой? Но нет ли других, столь же… Прости мне, Господь, я не это имел в виду. Слушай, Иешуа…
— Милорд?
— Закрывай свою лавочку и сразу же возвращайся сюда… Эта радиограмма — я должен послать в город брата Пата, чтобы он отправил ее, воспользовавшись регулярной связью. Я хочу, чтобы ты был поблизости, когда придет ответ. Ты знаешь, о чем в нем должна идти речь?
Брат Иешуа покачал головой.
— «Quo peregrinatur grex».
Лицо монаха стала заливать мертвенная бледность.
— Он вступает в действие, господин мой?
— Просто я пытаюсь получить представление, как сегодня обстоят с ним дела. Никому не обмолвись ни словом. Конечно, ты будешь в курсе. Когда справишься с делами, зайди ко мне.
— Конечно.
— Во имя Отца и Сына…
— И Святого Духа.
Экран померк. В комнате было тепло, но Иешуа поежился. Он посмотрел в окно, за которым стоял густой сумрак непрекращающейся песчаной бури. Ее завеса заволакивала все пространство, и он ничего не видел дальше шоссе, по которому слабыми расплывающимися пятнами двигались фары проезжающих колонн грузовиков. Через несколько минут ему показалось, что кто-то стоит у ворот, перекрывающих подъездную дорогу. И хотя фигуру непрестанно освещали фары проезжающих машин, она вырисовывалась лишь смутным силуэтом. Иешуа снова передернулся от зябкого озноба.
Невозможно было ошибиться, приняв этот силуэт за кого-то иного. Это была миссис Грейлс. Никого другого нельзя было бы узнать в условиях такой видимости, но очертания ее сгорбленного и перекошенного левого плеча и характерное движение, с которым она склоняла голову вправо, позволяли безошибочно узнать старую мэм Грейлс. Монах задернул занавес и включил свет. Он не чувствовал отвращения к уродству старой женщины, мир давно уже стал терпим к генетическим несчастьям и проказам генов. У него самого на левой руке был еле заметный шрам, который остался в детстве после ампутации шестого пальца. Но в настоящий момент ему хотелось забыть ту чудовищную память Огненного Потопа, а миссис Грейлс являлась одной из несомненных его наследниц.
Он прикоснулся к глобусу, стоявшему на письменном столе. На вращающейся поверхности перед ним проплыли Тихий океан и Восточная Азия. Где? В каком месте? Он еще раз крутанул глобус, подгоняя его вращение снова и снова, пока мир не предстал перед ним пестрым сплетением континентов и океанов. Делайте ваши ставки, сэры и мадам — но куда? Он резко остановил глобус движением большого пальца. На кон выпала Индия. Возьмите ваш выигрыш, мадам. Гадание было глупым. Он снова раскрутил глобус с такой силой, что задребезжала ось, и «сутки» стали сменять друг друга в мгновение ока. «Обратно, — внезапно подумал он. — Так, чтобы солнце и звездное небо вставали на западе и меркли на востоке. Повернуть время вспять? И где-то обладатель моего имени, мой тезка, говорит: “Остановись, Солнце над Габаоном и ты, Луна, над долиной…” — дешевое утешение, годное лишь в такое время». Он продолжал вращать глобус в другую сторону, словно надеясь этим умилостивить неумолимого Хроноса повернуть бег времени в другую сторону. Треть миллиона оборотов отсчитает достаточное количество дней до начала Огненного Потопа. Еще лучше поставить мотор и вращать до начала Человечества. Он снова остановил глобус движением руки: гадание в самом деле было глупым и диким.
Посидев в кабинете, он побрел «домой», который находился по другую сторону шоссе, в сводчатых залах древнего строения аббатства, в чьих стенах по-прежнему были камни, оставшиеся от праха восемнадцать столетий назад, когда погибла цивилизация. Когда он пересекал дорогу, ему казалось, что он переходит из одной эры в другую. Здесь, в окружении алюминия и стекла, он был инженером, хозяином мастерской и лаборатории, в чьи обязанности входило наблюдать и изучать, ища ответа на вопрос Как, а не Почему. На этой стороне дороги присутствие Люцифера определилось только холодными математическими подсчетами данных, поступающих из счетчика радиации, внезапными вздрагиваниями пера сейсмографа. Но в старом аббатстве он терял свой облик инженера, под его сводами он становился монахом Христовым, собирателем книг и запоминателем в обители святого Лейбовица. Здесь мог звучать только один вопрос:
«Почему, Господи, почему?» Но вопрос уже был задан, и аббат сказал ему: «Приди ко мне».
Иешуа потуже затянул рясу, готовясь исполнить указание своего владыки. Чтобы избежать встречи с миссис Грейлс, он пошел по пешеходной тропке, было не время для любезных разговоров с этим двухголовым существом женского рода.
Глава 25
Плотина секретности дала течь. Несколько неустрашимых голландских мальчиков были отброшены мощной волной прибоя, которая перекинула их из Тексарканы в их поместья, где они могли говорить все что угодно. Остальные остались на своих постах и мужественно старались затыкать все новые и новые щели. Но по мере того, как ветер приносил выпадающие в осадок известные изотопы, на всех углах стали слышны слова, которые вырвались в заголовки газет о ПОВЕРЖЕННОМ ЛЮЦИФЕРЕ.
Министр обороны, блистая аккуратно пригнанным мундиром, продуманным макияжем для телевидения, не обращая внимания на мятежные выкрики, опять предстал перед журналистской братией, и на этот раз его пресс-конференция транслировалась на всю Христианскую Коалицию.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Ваша светлость хранит полное спокойствие черед лицом определенных фактов. Недавно имели место два нарушения международных законов, оба можно квалифицировать как акт объявления войны. Неужели это совершенно не беспокоит министра обороны?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мадам, как вам отлично известно, у нас нет Министерства войны, у нас существует Министерство обороны. И насколько мне известно, произошло только одно нарушение международных законов. Не познакомите ли меня с другим?
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: С каким вы НЕ знакомы — с аварией на Иту-Ван или с предупредительным запуском в дальнюю южную часть Тихого океана?
МИНИСТР ОБОРОНЫ (внезапно посерьезнев): Конечно, мадам не хотела внести смятение в наше собрание, но ваш вопрос заставляет едва не проникнуться доверием к совершенно фальшивым обвинениям, исходящим из Азии, гласящим, что так называемое бедствие на Иту-Ван было результатом испытания нашего оружия, а не их!
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Если это так, я приглашаю вас посадить меня в тюрьму. Основой для вопроса послужил отчет нейтралистов Ближнего Востока. Они считают, что бедствие на Иту-Ван стало результатом испытания оружия азиатского региона, которое проводилось под землей, но вырвалось наружу. В том же отчете утверждается, что испытания на Иту-Ван были замечены с нашего спутника и что немедленно последовала реакция в виде предупредительного запуска ракеты «космос — земля» к юго-востоку от Новой Зеландии. Но поскольку сейчас вы уже признаете сам факт, ответьте, было ли бедствие на Иту-Ван результатом испытания нашего оружия?
МИНИСТР ОБОРОНЫ (с подчеркнутым терпением): Я знаю, насколько журналисты стремятся к объективности. Но предположить, что правительство Его Величества могло добровольно нарушить…
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Его Величество — одиннадцатилетний мальчик, и говорить, что существует его правительство — не только архаичная, но и неблагородная, точнее, дешевая попытка полностью снять с себя ответственность…
ВЕДУЩИЙ: Мадам! Прошу вас, умерьте тон ваше!..
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Внимание, внимание! Если вы, мадам, продолжаете выдвигать столь же фантастическое обвинение, я полностью отрицаю его. Так называемая катастрофа на Иту-Ван — результат испытаний не нашего оружия. К тому же я утверждаю, что мне неизвестно о каких-либо еще недавних ядерных испытаниях.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Благодарю вас.
ВЕДУЩИЙ: Я вижу, что издатель «Тексарканского Звездного Света» что-то хочет сказать.
ИЗДАТЕЛЬ: Спасибо. Я хотел бы спросить: ваша светлость, так что же в самом деле случилось на Иту-Ван?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: В этом районе у нас нет государственных интересов, у нас нет там наблюдателей после того, как во время последнего мирового кризиса были прерваны дипломатические отношения. Так что я могу полагаться только на косвенные доказательства и на довольно сомнительный отчет нейтралистов.
ИЗДАТЕЛЬ: Это понятно.
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Ну что ж, очень хорошо — в таком случае я считаю, что произошел мощный подземный ядерный взрыв, который вышел из-под контроля. Не подлежит сомнению, что проводились какие-то испытания. Было ли это оружие или, как утверждают «нейтралы» некоторых окраинных стран Азии, попытка отвести подземную реку — в любом случае ясно, что это было незаконно, и прилегающие страны готовы обратиться с протестом в Мировой Совет.
ИЗДАТЕЛЬ: Существует ли какая-то опасность войны?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я ее не вижу. Но как вы знаете, у нас есть определенные подразделения в наших вооруженных силах, которые мы предоставим в распоряжение Мирового Совета, чтобы обеспечить выполнение его решений. Но я не хочу предрешать решение Совета.
ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Но Азиатская Коалиция угрожает немедленной всеобщей забастовкой, протестуя против наших установок в космосе, если Совет не примет решения против нас. А что, если Совет будет медлить с решением?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мы не получали никаких ультиматумов. Основная угроза, насколько я понимаю, исходит из растущего внутреннего потребления стран Азии, и они хотят отвлечь внимание от своей ошибки на Иту-Ван.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Верите ли вы сегодня в движение Материнства, лорд Рагелл?
МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я надеюсь, что Материнство верит в меня не больше, чем я верю в него.
ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Я уверена, что вы вполне этого заслуживаете.
Пресс-конференцию, транслировавшуюся спутником, висящим в двадцати двух тысячах миль над поверхностью Земли, смотрело большинство Западного полушария, миллионы людей сидели, приникнув к мерцающим экранам, и наверно, единственный из этих миллионов аббат Зерчи выключил телевизор.
В ожидании Иешуа, стараясь ни о чем не думать, он мерил шагами свой кабинет. Но «не думать» оказалось невозможно.
Послушайте, неужели мы настолько беспомощны? Неужели мы обречены повторять то же самое снова, снова и снова? Неужели нам не остается ничего другого, как только играть роль птицы Феникса, бесконечно встающей из пепла? Ассирия, Вавилон, Египет, Греция, Карфаген, Рим, Империя Карла Великого, Османская империя. Сравнять с землей и посыпать солью. Испания, Франция, Британия, Америка — всех их столетия покрыли пылью забвения. И снова, и снова, и снова.
НЕУЖЕЛИ МЫ ОБРЕЧЕНЫ, ГОСПОДИ, КАЧАТЬСЯ ВМЕСТЕ С МАЯТНИКОМ НАШИХ ВЗБЕСИВШИХСЯ ЧАСОВ, БЕССИЛЬНЫЕ ОСТАНОВИТЬ ЕГО РАЗМАХ?
«И сегодня совершенно ясно, что каждый шаг все ближе подталкивает нас к бездне забвения», — подумал он.
Ощущение отчаяния сразу же исчезло, когда брат Пат принес ему вторую телеграмму. Раскрыв ее, аббат беглым взглядом уловил содержание и хмыкнул.
— Брат Иешуа уже здесь?
— Ждет снаружи, досточтимый отец.
— Пришли его.
— А теперь, брат, — сказал аббат, когда вошел Иешуа, — закрой двери и включи глушитель. И теперь прочти.
Иешуа посмотрел на первую телеграмму.
— Ответ из Нового Рима?
— Пришел утром. Но сначала включи глушитель. Нам надо кое-что обсудить.
Иешуа плотно прикрыл двери и повернул тумблер на стене. Встроенный динамик, пискнув, запротестовал. Когда треск в нем замолк, акустика комнаты приобрела другое качество.
Дом Зерчи движением руки показал ему на стул, и брат Иешуа молча перечел первую телеграмму.
— …вы не должны предпринимать никаких действий в связи с планом «Quo peregrinatur grex», — вслух прочел он.
— Можешь орать во все горло, — сказал аббат, показывая на глушитель. — Что скажешь?
— То, что прочел. Значит, план отменяется?
— Не радуйся. Эта телеграмма пришла утром. А вот эта — к полудню, — аббат протянул ему второе послание.
«ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ЭТОГО ЖЕ ЧИСЛА ОТМЕНЯЕТСЯ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ СВЯТОГО ОТЦА ПЛАН НЕМЕДЛЕННО ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА ЗА ТРИ ДНЯ. ДО ОТБЫТИЯ ДОЖДИТЕСЬ ТЕЛЕГРАФНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. СООБЩИТЕ О ВСЕХ ВАКАНСИЯХ. ОБЕСПЕЧЬТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА. ЭРИК, КАРДИНАЛ ХОФФШТРАТТ, АПОСТ. ВИКАР. ВНЕЗЕМН. ТЕРРИТ…»
Монах побледнел. Положив бланки телеграмм на стол, он откинулся на спинку стула, плотно сжав губы.
— Ты знаешь, что представляет собой план «Quo peregrinatur».
— Я знаю, что он существует, но без подробностей.
— Он родился в виде замысла послать несколько священников в группу колоний на Альфе Центавре. Но ничего не получилось, потому что требовалось епископское благословение для рукоположения священников, и с каждым новым поколением колонистов туда надо было слать новых священников, и так далее и так далее. Вопрос утонул в рассуждениях, будут ли вообще колонии продолжать свое существование, и если да, то смогут ли они обеспечивать себя сами, не прибегая за помощью к Земле и к апостольскому благословению. Ты представляешь, что это значило?
— Посылку как минимум трех епископов, насколько я понимаю.
— Да, и все это выглядело довольно глупо. Колонисты представляли собой небольшую группу. Но во время последнего всемирного кризиса «Quo peregrinatur» стал спасительным планом, который должен был обеспечить существование Церкви на колонизованных планетах, если Землю постигнет ужасная судьба. Мы обзавелись кораблем.
— Межзвездным кораблем?
— Именно так. И у нас есть экипаж, способный управлять им.
— Где?
— Здесь.
— Здесь, в аббатстве? Но кто… — Иешуа остановился. Лицо его посерьезнело. — Но, господин мой, мой опыт в космосе ограничивался только орбитальными полетами, я не был в межзвездных рейсах! До смерти Ненси, когда я пошел к цистерниан…
— Все это мне известно. У нас есть и другие братья с опытом межзвездных полетов. Ты их знаешь. Ты даже слышал шуточки, сколько бывших космолетчиков нашли себе приют в ордене. Конечно, это не случайно! И ты помнишь, как во времена послушничества тебя расспрашивали о твоем космическом опыте?
Иешуа кивнул.
— Ты должен помнить, как тебе задавали вопросы относительно твоего желания снова вернуться в космос, если орден попросит тебя.
— Да.
— Значит, ты не очень удивишься, если тебе придется принять участие в плане «Quo peregrinatur», когда до него дойдет дело.
— Боюсь… боюсь, что именно так, милорд.
— Боишься?
— Точнее, сомневаюсь. Немного и боюсь, потому что я всегда надеялся провести остаток своих дней в ордене.
— Как священнослужитель?
— Ну… этого я еще не решил.
— «Quo peregrinatur» не освобождает тебя от обетов и не предполагает твоего отлучения от ордена.
— Орден тоже снимется с места?
Зерчи улыбнулся.
— И Меморабилия вместе с ним.
— Все ее собрание и… Ах, вы имеете в виду микрофильмы. И куда?
— В колонию на Центавре.
— И как долго нам придется быть в отсутствии?
— Если ты отправишься в путь, ты уже никогда не вернешься обратно.
Монах с трудом перевел дыхание, не спуская невидящего взгляда со второй телеграммы. Он растерянно почесал бороду.
— У меня к тебе есть три вопроса, — сказал аббат. — Не торопись отвечать сразу же, но думай над ними, и думай серьезно. Первый: хочешь ли ты улететь? Второй: есть ли у тебя призвание взять на себя обет священнослужителя? Третий: согласен ли ты возглавить группу? Я не имею в виду «согласен, потому что повинуюсь», я говорю об энтузиазме, о желании ступить на этот путь. Иди и думай. У тебя есть три дня… но, может быть, и меньше.
Изменения, которые пришли с течением времени, почти не коснулись древнего монастыря. Чтобы спасти старые здания от нетерпеливого вторжения архитектурных изысков, новые строения были возведены за пределами его стен, и даже по другую сторону трассы — пусть даже за счет определенных неудобств. Старая трапезная пришла в негодность, потому что над ней непоправимо прохудилась крыша, и теперь, чтобы попасть в новую трапезную, приходилось пересекать дорогу. Неудобство это в какой-то мере скрашивалось виадуком, проложенным под путевым полотном, который позволял пастве беспрепятственно добираться до трапезной.
Трассе этой, которую недавно расширили, было несколько сот лет, и она представляла собой ту самую дорогу, по которой шествовали орды язычников, толпы пилигримов, крестьян, повозки с мулами, кочевники, дикие наездники с Востока, артиллерия, танки, десятитонные грузовики. Поток их то разбухал, то усыхал в зависимости от времени года и окружающих условий. В свое время, давным-давно тут было проложено шесть полос и отдельная полоса для движения автоматического транспорта. Но со временем движение его прекратилось, покрытие растрескалось, и после случайных дождей сквозь трещины пробивалась трава. Бетон покрывался пылью и песком пустыни. Обитатели песчаных пространств выламывали куски бетона для строительства своих жилищ и возведения баррикад. Пустынная дорога пересекала дикие заброшенные местности. Но сейчас здесь снова было шесть полос и полоса для робото-транспорта, как и раньше.
— Судя по освещению, движение оживленное, — сказал аббат, когда они вышли из ворот старого здания. — Давай перебежим. Во время пыльной бури в этом туннеле можно задохнуться. Или ты не успеешь увильнуть от автобуса?
— Двинулись, — согласился брат Иешуа.
Длинные многочленные грузовики, слабо светя фарами, которые не столько освещали дорогу, сколько предупреждали о приближении машин, неуклонно и безостановочно летели мимо них, ревя турбинами и посвистывая шинами. Дисковые антенны прощупывали дорогу впереди, а магнитные щупы не позволяли отклоняться от стальных полос, проложенных по обочинам дороги, которые гнали грузовики по розовой, отсвечивающей от пролитого масла, бетонной дороге. Частицы жизни, несущиеся по экономическим артериям человечества, огромные стальные бегемоты, летящие мимо двух монахов, перебегавших от полосы к полосе. Попасть под колеса одного их этих чудовищ означало, что по тебе промчатся грузовик за грузовиком, пока жертва не превратится в некоторое плоское подобие человеческого тела, впечатанного в бетон, пока машина очистки не обнаружит его и не остановится, чтобы промыть проезжую часть. Чувствительный механизм автопилотов, ведущих машины, был запрограммирован на встречу с металлом, а не на человеческую плоть и кровь.
— Это было ошибкой, — сказал Иешуа, когда они достигли островка безопасности посреди дороги и остановились отдышаться. — Смотрите, кто тут стоит.
Аббат вгляделся и хлопнул себя по лбу.
— Миссис Грейлс! Начисто вылетело из головы: в этот вечер она должна была забрести ко мне. Она продавала помидоры в трапезной у сестер, а потом должна была зайти ко мне.
— К вам? Она была тут и прошлой и позапрошлой ночью. Что ей от вас надо?
— О, ничего особенного. После того как она выторгует у сестер свою цену, она приходит ко мне и возвращает дополнительный доход в виде пожертвования для бедных. Это наш маленький ритуал. То есть не совсем ритуал. Ты сам увидишь.
— Мы должны возвращаться?
— Чепуха. Она сейчас нас увидит. Двинулись.
И они снова нырнули в поток машин.
Двухголовая женщина и ее шестиногая собака, которая охраняла пустую корзинку из-под овощей, ждали у ворот нового строения; женщина нежно ласкала пса. Четыре его лапы были вполне нормальными, а две остальные торчали жалкими отростками по бокам. Одна из голов женщины была столь же бесполезной, как эти лапы у собаки. Она была невелика по размерам, с лицом херувима, но с вечно закрытыми глазами. Совершенно не чувствовалось, что эта голова дышит или что-то понимает. Она лежала, безвольно склонившись на одно плечо, слепая, глухая, немая, напоминая какой-то отросток. Скорее всего, в ней не было мозгов, потому что она никогда не проявляла следов самостоятельного существования. Другое лицо, изборожденное морщинами, говорило о солидном возрасте женщины, а вторая голова сохраняла детское выражение лица, хотя и оно было обветрено и опалено солнцем пустыни.
Когда они появились, старуха сделала книксен, а собака отпрянула с рычанием.
— Добрый вечер, отец Зерчи, — растягивая слова, проговорила она, — самый добрый вам вечер и вам, брат.
— Здравствуйте, миссис Грейлс…
Пес рявкнул, ощетинился и стал переминаться на месте, явно нацеливаясь на лодыжки аббата. Миссис Грейлс незамедлительно стукнула своего питомца по голове корзинкой. Клыки тут же вцепились в плетение корзинки, и собака развернулась к своей хозяйке. Миссис Грейлс оттащила его, вцепившегося в корзинку, в сторону, и, издав приглушенное рычание, пес расположился на обочине дорожки.
— Присцилла несколько возбуждена, — вежливо заметил Зерчи. — Она ждет щенков?
— Прошу простить, ваша честь, — сказала миссис Грейлс, — но это дьявольское отродье никак не может понести! Как-то враг рода человеческого извлек из ее утробы каких-то жалких уродов — и с тех пор она никак не может прийти в себя. Так что я прошу вашу честь простить ее…
— Все в порядке. Доброй вам ночи, миссис Грейлс.
Но им не удалось так легко удалиться. Она схватила аббата за рукав и обнажила в улыбке свой беззубый рот.
— Минуточку, отче, уделите всего лишь минуточку старой помидорнице, если вы сочтете ее достойной…
— О, конечно! Я буду рад…
Иешуа искоса посмотрел на аббата и решил пообщаться с собакой, которая по-прежнему перекрывала ему дорогу. Присцилла смотрела на него с нескрываемым подозрением.
— Вот, отче, вот, — говорила миссис Грейлс. — Вот чуть-чуть для вашего ящика. Вот… — Зерчи отмахивался, но монеты продолжали звенеть. — Нет, нет, вот, берите же, берите, — настаивала она. — Ох, да знаю я, чего вы всегда говорите, но только, черт побери, вовсе я не такая бедная, как вы обо мне думаете. А вы хорошими делами занимаетесь. И если вы не возьмете у меня денежек, то их отберет у меня плохой человек и на дьявольское дело пустит. Вот… я помидорчики свои продала, и цену свою получила, и еды себе на неделю купила и даже красивенькую игрушку для Рашель. Вот.
— Вы очень любезны…
— Гав! — раздался рык со стороны ворот. — Р-р-р-р! Гав! Ав! Ав! Гр-р-р-р-р-ррр! — последовала целая гамма лая, взвизгивания и рычания Присциллы по мере того, как она отступала.
Подошел Иешуа, пряча кисть в рукаве рясы.
— Ты никак ранен, человече?
— Гр-р-р-ав! — сказал монах.
— Ради Всех Святых, что ты с ней сделал?
— Гр-р-ав! — повторил брат Иешуа. — Гав! Гав! Р-р-рр-р-р-р-рр! — и затем объяснил. — Присцилла верит в оборотней. Поэтому и визжала. Но теперь мы можем войти в ворота.
Собаки уже не было, но миссис Грейлс снова схватила аббата за рукав.
— Уделите мне всего лишь еще минуточку, отче, и я вас больше не буду задерживать. Я хотела поговорить с вами о малышке Рашель. Я думаю о ее христианском крещении, и я хотела бы спросить, не окажете ли вы честь…
— Миссис Грейлс, — вежливо прервал он ее, — поговорите об этом со священником вашего прихода. Он занимается такими вещами, а не я. У меня нет прихода, а только аббатство. Поговорите с отцом Зело у святого Михаила. В нашей церкви даже нет купели…
— Купель есть в часовне у сестер и…
— Все это решает отец Зело, а не я. Все должно происходить в вашем собственном приходе. Только в экстренных случаях я бы мог…
— Ой-ой, да знаю я все это, но я уже виделась с отцом Зело. Я пришла с Рашель к нему в храм, а этот глупый человек даже не притронулся к ней.
— Он отказался крестить Рашель?
— Так он и сделал, глупый человек.
— Вы говорите о священнике, миссис Грейлс, и он далеко не глупый человек, насколько я его знаю. У него, должно быть, были свои причины, раз он отказал вам. Если вы не согласны с его решением, то поищем кого-нибудь еще — но только не священника из монастыря. Может быть, стоит поговорить с пастором из прихода святого Мейси…
— Ой, да и там я тоже была… — она начала то, что должно было стать долгим повествованием о ее попытках крестить Рашель. Сначала аббат терпеливо слушал, но когда Иешуа перевел глаза на него, он увидел, что ее пальцы так вцепились в предплечье аббата, что тот морщился от боли, и Иешуа оторвал их свободной рукой.
— Что вы делаете? — прошептал аббат и тут только обратил внимание на выражение лица монаха. Взгляд Иешуа был прикован к старухе, словно та была василиском. Зерчи проследил за его взглядом, но не нашел ничего нового и необычного, чего бы он не видел; вторая ее голова была словно покрыта туманной завесой, но брат Иешуа видел ее достаточно часто, чтобы обращать на нее такое внимание.
— Простите, миссис Грейлс, — снова обретя способность спокойно дышать, прервал ее Зерчи. — Мне в самом деле пора идти. Вот что я вам скажу: поговорю о вас с отцом Зело, но это все, что я смогу сделать. И я уверен, что мы с вами еще увидимся.
— Низко вам кланяюсь и прошу прощения за то, что задержала вас.
— Спокойной ночи, миссис Грейлс.
Миновав ворота, они пошли к трапезной. Иешуа несколько раз хлопнул себя ладонью по голове, словно стараясь привести в норму свихнувшиеся мозги.
— Почему вы так смотрели на нее? — спросил аббат. — Мне кажется, это было невежливо.
— Разве вы не заметили?
— Что не заметил?
— Значит, вы в самом деле не заметили. Ну что ж… пусть так и будет. Но кто такая Рашель? Почему они не хотят крестить ребенка? Рашель — дочка этой женщины?
Аббат мрачно улыбнулся.
— Так считает миссис Грейлс. Но так и не ясно, кем ей приходится Рашель — дочкой, сестрой… или же просто наростом у нее на плечах.
— То есть… Рашель — ее вторая голова?
— Не кричите. Она может вас услышать.
— И она хочет ее крестить?
— И как можно скорее, как мне кажется. Она прямо одержима этой идеей.
Иешуа всплеснул руками.
— И как они собираются решать эту проблему?
— Не знаю и знать не хочу. Благодарение небу, что не мне приходится заниматься такими делами. Будь это элементарный случай с сиамскими близнецами, все было бы просто. Но тут совсем другое. Старожилы говорят, что, когда миссис Грейлс родилась, Рашель у нее не было.
— Фермерские россказни!
— Может быть. Но кое-кто готов подтвердить это под присягой. Сколько душ кроется в этой старой леди со второй головой — с головой, которая «выросла сама по себе»? Когда приходится решать такие вещи, высшие инстанции буквально сходят с ума, сын мой. Что же ты заметил? Почему ты так смотрел на нее, вцепившись мне в руку?
Монах помедлил с ответом.
— Она мне улыбнулась, — наконец сказал он.
— Кто улыбнулся?
— Ее вторая… э-э-э, Рашель. Она улыбалась. Мне казалось, что она вот-вот проснется.
Аббат остановился у входа в трапезную и с любопытством, посмотрел на него.
— Она улыбалась, — совершенно серьезно повторил монах.
— Тебе это показалось.
— Да, милорд.
— Так и смотри на это.
Брат Иешуа устало вздохнул.
— Не могу, — признался он.
Аббат опустил пожертвование старухи в прорезь ящика.
— Зайдем, — сказал он.
Помещение новой трапезной было сконструировано функционально, залито светом бактерицидных ламп, с продуманной акустикой. Исчезли прокопченные стены, высокие светильники, деревянные крюки и связки сыров, подвешенные к стропилам. Если не обращать внимания на распятия и ряд портретов на одной стене, помещение напоминало столовую на промышленном предприятии. Ее атмосфера, как и дух всего аббатства, совершенно изменилась. После веков полуголодного существования, посвященных спасению остатков давно погибшей цивилизации, монахи ныне стали свидетелями взлета новой и могучей цивилизации. Цель существования аббатства была достигнута, и теперь перед ним стояли новые задачи. Чтимое прошлое благоговейно застыло в стеклянных витринах, но уже не имело отношения к настоящему. Ордену пришлось приспосабливаться к временам урана, стали и ревущих ракет, он существовал в грохоте индустрии и под свистящие звуки ракетных двигателей кораблей, взлетающих на завоевание звезд. И орден приспосабливался — хотя бы внешне.
— Придите и вкусите, — провозгласил чтец.
Сообщество людей в рясах недвижимо застыло у своих мест, слушая голос. Пищи на столах еще не было. Он был свободен от приборов. Ужин откладывался. Община, клетками которой были мужчины; организм, чье существование уже насчитывало семьдесят поколений, сегодняшним вечером был сжат напряжением, ожиданием тревоги, поджидавшей их в сумерках, которая может обрушиться на их сплоченное братство, хотя знали о ней лишь немногие. Община существовала подобно телу, она работала и существовала как единое целое и порой, казалось, не догадывалась, что есть общий разум, который руководил всеми и каждым. Может быть, напряжение в общине возникло и из-за того, что неожиданно задерживался ужин и из-за низкого рокота ракет-перехватчиков, где-то в невообразимой дали срывающихся с пусковых установок.
Аббат строго потребовал тишины и движением руки показал своему приору, отцу Лехи, на кафедру. Лицо его, когда он готовился заговорить, было искажено страданием.
— Все мы сожалеем, — сказал он, — что порой новости, доносящиеся из внешнего мира, нарушают благочестивую жизнь нашей обители. Но мы должны также помнить, что собрались здесь, дабы молиться за спасение мира столь же истово, как и заботиться о спасении своей души. И особенно сейчас мир нуждается в молениях за его спасение, — он остановился, посмотрев на Зерчи.
Аббат кивнул.
— Люцифер повержен, — сказал священник, и у него прервалось дыхание. Он стоял, уставясь на кафедру, словно внезапно онемев.
Зерчи поднялся.
— К такому выводу, кстати, пришел брат Иешуа, — вставил он. — Регентский Совет Атлантической Конфедерации не сказал ничего, о чем стоило бы упоминать. Династия не сделала никакого заявления. По сравнению с тем, что мы знали вчера, нам практически ничего не известно. Мировой Совет собрался на чрезвычайную сессию, и поэтому были подняты в ружье силы Гражданской Обороны. Объявлена оборонительная тревога, и она, конечно, имеет к нам отношение, но нас ничего не коснется…
— Благодарю вас, господин мой, — сказал приор, который успел снова обрести голос, пока говорил аббат. — Итак, досточтимый отец аббат повелел мне сделать следующее оповещение в обители.
Во-первых, в течение трех дней мы будем перед заутреней исполнять малую службу нашей Деве Богородице и молить ее о водворении мира.
Во-вторых, подробные инструкции по гражданской обороне в случае нападения из космоса или ракетной атаки разложены на столе у входа. Каждый должен взять одно. Если вы уже читали их, перечитайте снова.
В-третьих, если прозвучит сигнал о нападении, следующие братья должны немедленно явиться во двор Старого аббатства за дальнейшими инструкциями. Если такового сигнала не поступит, те же самые братья должны явиться туда же послезавтра утром после заутрени и вознесения хвалы. Называю их — братья Иешуа, Кристофер, Аугустин, Джеймс, Самуэль…
Монахи слушали молча. Застыв в напряжении, они скрывали свои чувства. Прозвучало двадцать семь имен, но среди них не было ни одного послушника. Несколько из перечисленных были известными учеными, были лаборанты и повар. Воспринимаемые на слух имена казались вынутыми наугад из ящика. Но к тому времени, когда отец Лехи кончил зачитывать список, некоторые из братьев с любопытством смотрели друг на друга.
— Завтра сразу же после заутрени эта группа должна явиться в амбулаторию для тщательного медицинского обследования, — закончил приор. Повернувшись, он вопросительно взглянул на Зерчи: — Господин мой?
— Да, и еще одно, — сказал аббат, поднимаясь на кафедру. — Братья, ни в коем случае нельзя предполагать, что дело идет к войне. Давайте напомним самим себе, что Люцифер присутствует рядом с нами — и в это время тоже — вот уже два столетия. И он прорвался лишь дважды, и каждый раз было меньше мегатонны. Все мы знаем, что может произойти в случае войны. Генетическое проклятие по-прежнему присутствует среди нас с тех пор, когда Человечество в последний раз попыталось уничтожить самое себя. Если обратиться в прошлое, во времена святого Лейбовица, они, может быть, и знали, чем все может завершиться. Или, может быть, знали, но не могли поверить, пока сами не убедились, — как дети, которые знают, для чего предназначен заряженный пистолет, но которым никогда раньше не приходилось нажимать курок. Им еще не доводилось видеть миллионы трупов, они не видели, как выглядят мертворожденные, чудовища, монстры, потерявшие человеческий облик, слепые. Они не сталкивались с человеческими существами, потерявшими разум и убивавшими всех без разбору. И лишь когда они свершили это, они увидели все своими глазами.
А теперь… теперь и принцы, и президенты, и президиумы, теперь они знают все — с неколебимой убежденностью. Они знают потому, что и у них рождаются дети, которые вынуждены до скончания дней своих жить в больницах, ибо они не могут существовать в обществе. Они знают это и посему берегут мир. Не христианский мир, конечно, но все же мир — нарушили его за последние столетия лишь два незначительных военных инцидента. Дети мои, никогда больше они не пойдут на это. Лишь раса, сошедшая с ума, способна на повторение того, что было…
Он прервал свою речь. Кто-то улыбнулся. То была лишь мимолетная усмешка, но в море поднятых к нему серьезных лиц она была видна, как муха в молоке. Дом Зерчи нахмурился. Старик продолжал смущенно и застенчиво улыбаться. Он сидел за столом «для бедных», рядом с тремя другими бродягами, которые забрели в монастырь; старик с всклокоченной бородой, запятнанной желтым у подбородка. На нем был вместо одеяния старый мешок с дырами для головы и рук. Он глядел на Зерчи, продолжая улыбаться. Он выглядел столь же древним, как скала, исхлестанная дождями и ветрами, как самый подходящий кандидат на обряд омовения ног. Зерчи показалось, что пришелец то ли встанет и скажет какие-то слова, обращенные к своим хозяевам, то ли из уст его прозвучат звуки, подобные реву рога Шофара, — но то была всего лишь иллюзия, вызванная усмешкой. Аббат быстро отбросил мысль о том, что где-то раньше видел этого старика.
Возвращаясь на свое место, он приостановился. Бродяга вежливо поклонился хозяину. Зерчи подошел ближе.
— Кто вы, если мне будет позволено осведомиться? Я вас видел раньше?
—
— Что?
— Latzar shemi, — повторил бродяга.
— Я не совсем…
— Зови меня Лазарем, — сказал старик и хмыкнул.
Дом Зерчи покачал головой и отошел. Лазарь? В этих местах существовали россказни старух о появлении… но то были дешевые подделки под мифы. О старике, что присутствовал при воскрешении Христа, рассказывали они, но тот не был христианином. И все же он не мог отделаться от ощущения, что видел этого старика раньше.
— Да придет благословение на хлеб наш насущный, — сказал он, давая начало трапезе.
После молитвы аббат снова взглянул на стол для бродяг. Старик остужал суп, размахивая над ним каким-то подобием соломенной шляпы. Зерчи пожал плечами и в торжественном молчании приступил к еде.
Всенощная, последняя молитва церкви, звучала сегодня особенно торжественно.
Спал Иешуа в эту ночь тревожно и беспокойно. Во сне он снова встретил миссис Грейлс. Тут же присутствовал и хирург, который точил скальпель, приговаривая: «Это образование должно быть устранено прежде, чем оно превратится во зло». Голова Рашель открыла глаза и пыталась заговорить с Иешуа, но он еле слышал ее слабый голос и ничего не понимал.
— Я исключение, — казалось, говорила она. — Это я.
Он ничего не мог сделать, но пытался спасти ее. Но на пути его стояла какая-то прозрачная, упругая, как из резины, стена. Он остановился и попытался прочесть что-то по движению ее губ.
— Я та, что, я та, что…
— Я та, что суть Чистота, — услышал он шепот во сне. Иешуа попытался проломиться сквозь прозрачную упругую стену, чтобы спасти ее от ножа, но было уже слишком поздно, и он увидел потоки крови. Содрогаясь, он пробудился от ночного кошмара и погрузился в молитву, но как только он уснул, снова явилась миссис Грейлс.
Он провел тревожную ночь, ночь, которой владел Люцифер. Это была ночь, когда Атлантика провела атаку на космические пусковые установки Азии.
И, подвергнутый мгновенному возмездию, древний город исчез с лица Земли.
Глава 26
«Говорит ваша служба аварийного оповещения, — сказал динамик, когда на следующий день утром после службы Иешуа зашел в кабинет аббата. — Слушайте последний бюллетень о вражеской ракетной атаке на Тексаркану…»
— Вы посылали за мной, отче?
Зерчи жестом призвал к молчанию и показал на кресло. Лицо священника было бледным и напряженным: серо-стальная маска ледяного самообладания. Иешуа показалось, что за ночь он заметно постарел и даже как бы уменьшился в размерах. В мрачном молчании они слушали голос, который то расплывался и пропадал на четыре секунды, то вновь возникал, когда радиостанции удавалось избавиться от помех вражеских глушилок.
— «…но первым делом сообщение, только что поступившее от Верховного Командования. Королевская семья в безопасности. Повторяю: известно, что королевская семья в безопасности. Сообщается, что Регентский Совет покинул город во время вражеского нападения. За пределами района бедствия нарушений гражданского порядка не отмечено и не ожидается.
— Всемирный Совет Наций издал постановление о прекращении огня, предусматривающее наказание, вплоть до смертной казни, для глав правительств обоих государств. Наказание отсрочено и подлежит исполнению, если последует неподчинение постановлению. Оба правительства сообщили в Совет, что они ознакомлены с текстом постановления, и это дает серьезные основания предполагать близящееся завершение конфликта всего через несколько часов после его начала, ознаменовавшимся превентивным нападением на некоторые незаконные установки, выведенные в космос. Внезапным нападением космические силы Атлантической Конфедерации прошлой ночью разрушили три ракетные базы Азии, скрытые на другой стороне Луны, и полностью уничтожили вражескую космическую станцию, предназначенную для наведения ракет системы «космос — земля». Предполагалось, что вражеские силы развяжут агрессию в космосе. Но варварское нападение на нашу столицу является актом отчаяния, совершенно неприемлемым в…
— СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. Наше правительство только что оповестило о своем благородном намерении заключить перемирие на десять дней, если вражеская сторона даст согласие на немедленную встречу министров иностранных дел и военного командования на Гуаме. Предполагается, что предложение будет принято».
— Всего десять дней, — простонал аббат. — Времени нам не хватит.
— «Тем не менее азиатское радио продолжает настаивать, что термоядерная катастрофа на Иту-Ван, повлекшая за собой восемьдесят тысяч жертв, стала результатом взрыва отклонившейся от цели атлантической ракеты, и разрушение Тексарканы явилось, таким образом, возмездием в виде…»
Резким движением руки аббат отключил передатчик.
— В чем истина? — тихо спросил он. — Чему верить? Или это вообще неважно? Когда на массовые убийства отвечают массовыми же убийствами, на насилие насилием, на ненависть ненавистью, тогда нет больше смысла в выяснении того, чей меч больше залит кровью. Зло плодит только зло. Есть ли какое-то оправдание нашей «полицейской акции» в космосе? Откуда нам знать? Конечно, нет никакого оправдания тому, что сделали они. Мы знаем только то, что нам говорят, и мы пленники этих слов. Их радио должно говорить лишь то, что меньше всего огорчит их правительство, наше сообщает лишь то, что приятно слушать нашей патриотической самоуверенной черни, а это, по какому-то странному совпадению, именно то, что правительство хочет нам сообщить — и в чем же разница? Боже милостивый, да тут должен быть миллион жертв, если они по-настоящему ударили по Тексаркане. У меня ощущение, что я вещаю в пустоту. Жабье дерьмо. Ведьмин гной. Гангрена души. Ты понимаешь меня, брат? И Христос дышит вместе с нами тем же воздухом, пропитанным запахом падали. О, как он кроток, наш Всемогущий Господь! Что за бесконечным чувством юмора он обладает, коль скоро стал одним из нас — распятый на кресте еврейский Шлемиел, как и любой из нас. О, Бог Исаака, Иакова и Бог Каина! Почему они снова делают одно и то же?
— Прости меня, я вне себя, — добавил он, обращаясь не столько к Иешуа, сколько к древней деревянной статуе святого Лейбовица, стоящей в углу его кабинета. Он помолчал и, подойдя поближе, вгляделся в лицо святого. Оно было старым, очень старым и древним. Предшествующие владыки обители приказывали относить его в подвальные хранилища, где он стоял в пыли и мраке, и патина времени легла на дерево, покрыв лицо статуи глубокими морщинами. Но на нем сохранялась его слегка насмешливая улыбка. Именно из-за нее Зерчи вернул статую из забвения.
— Ты видел прошлым вечером того старого бродягу в трапезной? — рассеянно спросил он, по-прежнему не отводя глаз от улыбающегося лица статуи.
— Нет, я не обратил внимания, отче. А в чем дело?
— Не понимаю, в чем дело, но мне кажется, что я смотрю на него, — он провел пальцем по вязанке хвороста, на которой стоял деревянный мученик. «Вот на чем все мы сейчас стоим, — подумал он. — На огромной куче прошлых наших грехов. И часть из них мои. Мои, Адама, Ирода, Иуды, Ханнегана, и снова мои. Всех. И всегда из них вырастает колосс Государства, которое облачает себя в мантию божественного Провидения, пока его не свергает с пьедестала Гром Господень. Почему? Мы кричим, надрываясь, и изо всех сил — и нации и люди должны преклоняться перед Богом. Цезарь должен быть всего лишь блюстителем воли Божьей, а не его полновластным наместником или наследником. “Любой, кто превозносит какой-то народ или государство в любой его форме, или носителя власти… любой, кто ставит символы власти выше общепринятых ценностей бытия и обожествляет их до идолоподобного образа, разрушает и искажает миропорядок, задуманный и созданный Богом…” Откуда это?». Пий Одиннадцатый, без особой уверенности припомнил он — восемнадцать веков назад. Но когда Цезарь обрел намерение разрушить мир, разве он не был обожествлен? И свершил сие тот же самый народ — та же чернь, которая орала на своей кухонной латыни:
«Не хотим иного правителя, кроме Цезаря!», и которая надсмеялась над Ним и оплевала Его. Та же чернь, которая обрекла на муки Лейбовица…
— И снова приходит обожествление цезарей.
— Отче?
— Не обращай внимания. Братья уже собрались во дворе?
— Когда я проходил мимо, там была примерно половина их. Хотите, чтобы я пошел посмотреть?
— Да. И возвращайся. Я должен кое-что сказать тебе перед тем как мы встретимся с ними.
До возвращения Иешуа аббат успел вынуть все бумаги, касающиеся «Quo peregrinatur», из стенного сейфа.
— Прочти и запомни, — сказал он монаху. — Обрати особое внимание на организацию и на процедурные вопросы. Тебе придется изучить все детали, но сделаешь это позже.
Пока Иешуа читал, громко зазвучал сигнал внутренней связи.
— Прошу досточтимого отца Джетраха Зерчи, аббата, — прозвучал металлический голос робота-оператора.
— Говори.
— Сверхсрочное послание от сира Эрика, кардинала Хоффштратта из Нового Рима. Доставлено без помощи курьера. Читать ли его?
— Да, прочти текст. Позже я пошлю кого-нибудь за ним.
— Текст следующий, — сказал робот и перешел на латынь, которой было написано спешное послание.
— Можешь ли прочесть в переводе на юго-западный? — спросил аббат.
Оператор помедлил, но в послании не содержалось ничего неожиданного. Аббат услышал, что план утвержден и что с ним надо поторопиться.
— Последует ли ответ? — спросил робот.
— Ответ следующий: паства и пастырь ее готовы исполнить повеление Святого Престола. Конец. Все.
— Перечитываю текст…
— Хорошо, хорошо, это все. Отключайся.
Иешуа кончил читать бумагу, врученную ему аббатом. Закрыв папку, он медленно поднял на него глаза.
— Готов ли ты принять на себя этот крест? — спросил Зерчи.
— Я… я не уверен, что правильно понял вас… — монах был смертельно бледен.
— Вчера я задал тебе три вопроса. Сегодня я хочу услышать ответы на них.
— Я готов отправляться.
— Остаются еще два, на которые я жду ответов.
— Я не уверен относительно рукоположения в священники, отче.
— Слушай, тебе придется решиться. У тебя есть какой-то опыт космических полетов — чуть больше, чем у остальных. Никто из них не посвящен в сан. Кое-кого из них придется хоть в какой-то мере освободить от технических обязанностей для работы в оранжерее и прочих административных дел. Я говорю тебе, что это не значит расстаться с орденом. Ни в коем случае — ваша группа станет независимым дочерним ответвлением ордена, живущим по несколько иным правилам. Владыка, конечно, будет избираться тайным голосованием всех посвященных — и ты, вне всякого сомнения, самый подходящий кандидат, если дашь согласие на священнослужение. Так ты согласен или нет? Пришло время решать, решать тебе, но времени осталось не так уж много.
— Но досточтимый отец, я не обладаю достаточными знаниями…
— Это не имеет значения. Кроме двадцати семи человек экипажа — все наши люди — будут другие: шесть сестер и двадцать детишек из школы святого Иосифа, пара ученых и три епископа, двое из которых только что рукоположены. Они могут посвящать в сан, а поскольку один из них является прямым посланником Святого Отца, они могут возлагать и сан епископа. Они и посвятят тебя в сан, когда убедятся, что ты готов к этому. Ты знаешь, что вам придется провести в космосе не один год. Но мы хотим знать, готов ли ты взять на себя этот обет, и знать мы хотим, не откладывая.
Брат Иешуа помедлил несколько мгновений, а потом покачал головой:
— Не знаю.
— Полчаса тебе хватит? Может, тебе дать стакан с водой? Ты прямо посерел. Повторяю тебе, сын мой — если ты готов повести за собой паству, решать это надо здесь и сейчас. И ты нужен сейчас. Ну, что ты скажешь?
— Отче, я не… я не уверен…
— Ты боишься накликать беду, не так ли? Готов ли ты взвалить на себя ярмо, сын мой? Или ты уже сломлен? От тебя потребуется быть тем ослом, на котором Он въехал в Иерусалим, но груз может сломать тебе спину, ибо Он взял на себя все грехи мира.
— Не думаю, что смогу.
— Гром и молния на твою голову! Но у тебя есть право ворчать, и это вполне подобает руководителю команды. Слушай, никто из нас не берется утверждать, что он сможет. Но мы прилагаем все усилия, и мы не покладаем рук. Да, старания эти могут погубить тебя — но зачем же ты пришел в обитель, как не за этим? В этом ордене были аббаты, поклонявшиеся и золоту, и холодной суровой стали, и мягкому свинцу, но никто из них не был одарен в полной мере, хотя некоторые из них были более способны, чем другие, а некоторые могли считать себя и святыми. Золото стерлось в пыль, сталь пожухла и рассыпалась, а свинец испарился. Мне повезло иметь дело с ртутью: порой она разлеталась по сторонам, но неизменно вновь собиралась. Но чувствую я, что снова приходит ей пора разлетаться мелкими брызгами, брат, и думаю я, что не имеем мы права дожидаться этого момента. Готов ли ты, сын мой? Готов ли ты сделать попытку?
— Я дрожу, как щенячий хвостик. Я теряюсь в размышлениях, и я растерян, досточтимый отец мой.
— Сталь кричит, когда ее куют, и шипит, когда ее закаливают. Она стонет, когда ей приходится держать на себе груз. И я думаю, даже сталь поддается, сынок. Тебе хватит получаса, чтобы подумать? Стакан воды? Глоток ветра? Пойди поброди немного. Если почувствуешь, что тебя тошнит, не стесняйся вырвать. Если тебе станет страшно, поплачь. Если это тебе что-то даст, помолись. Но явись в церковь перед мессой и скажи нам, к чему пришел монах. Орден разделяется, и та часть из нас, что уйдет в космос, покинет нас навсегда. Готов ли ты стать пастырем тех, кто уйдет от нас или не готов? Иди и думай.
— Я чувствую, что выбора у меня нет.
— Конечно, есть. Тебе надо всего лишь сказать: «Я не чувствую призвания к этому». И тогда будет выбран кто-то другой, вот и все. Но сейчас иди, успокойся и затем приходи к нам в церковь со своим «да» или «нет». Я сейчас пойду туда, — аббат встал и кивнул, прощаясь с ним.
Темнота во дворе обители была почти непроглядной. Ее рассеивал лишь тонкий серебряный лучик света, пробивавшийся из щели дверей храма. Слабое свечение звезд было почти невидно из-за пыльной завесы. На восточной стороне неба не было никаких примет рассвета. Брат Иешуа брел в полном молчании. Наконец он присел на изгиб ограды, за которой росли густые кусты роз. Уткнув подбородок в ладони, он стал подбрасывать камешек носком сандалии. Здание аббатства было погружено в сонную непроглядную темноту. На юге в небе висел тонкий дынеобразный ломтик луны.
Из-за дверей церкви донеслись слабые звуки песнопений, «Да будет воля твоя…» Возвысся всей своей мощью, Господи, и приди спасти нас. Эти слабые дуновения молитв будут вздыматься к небу столь же неизменно, как дыхание жизни. Даже если надежды паствы тщетны…
«Но они не должны догадываться, что их старания тщетны. Или должны? Если Рим на что-то надеется, почему же они готовят к отлету космический корабль? Почему, если они считают, что их моления о мире на земле будут услышаны? Не отчаянием ли продиктованы их действия? Изыди, Сатана», — подумал он. Космический корабль будет движим надеждой. Надеждой на вечную жизнь Человечества, на мир, который придет если не здесь и сейчас, то где-нибудь в другом месте, может быть, на планетах альфы Центавры, или беты Гидры, или в какой-нибудь влачащей свое жалкое существование колонии планеты как-там-ее-название в созвездии Скорпиона. Надежда, а не разочарование поднимет в космос этот корабль. И да пребудет с тобой надежда, которая говорит: «Отряхни прах с ног своих и ступай проповедовать в Содоме и Гоморре». И лишь надежда должна вести тебя, или в противном случае не стоит и отправляться в путь. Надежда не на спасение Земли, а вера в Человека и душу его, которая где-нибудь должна будет обрести себе приют. И поскольку Люцифер ныне царит над миром, нельзя отказываться от старта корабля, и не тебе, праху земному, искушать Господа нашего вопросами.
Неизменная вера вела людей и заставляла их стараться претворить рай земной на Земле, и так они шли от разочарования к разочарованию и…
Кто-то открыл двери аббатства. Монахи тихо покидали свои кельи. Из дверного проема во двор аббатства падала слабая полоса света. Внутренность церкви была в слабом полумраке. Иешуа видел огненные язычки лишь нескольких свечей и красноватый глазок лампады. Он освещал согбенные спины двадцати шести его собратьев, преклонивших колени перед алтарем и застывших в ожидании. Кто-то снова закрыл двери, но все же осталась небольшая щель, сквозь которую продолжал светить красноватый огонек лампады. Пламя в честь преклонения перед божеством, пылающее в молитвах наших, тлеющее не затухая в лампадах. Пламя, самый приятный из четырех составляющих элементов мира и в то же время символ ада. Оно смиренно горит в храме, и в то же время этой ночью оно дотла выжигает города и сокрушительная мощь его опустошает землю. Как странно, что голос Бога раздался из пылающего куста, как странно, что символ Неба стал для человека и знамением ада.
Он снова посмотрел на расплывчатые от пыльной завесы очертания утренних звезд. Да, говорят они. Эдема вам здесь не обрести. И все же здесь были люди, которые алкали странных солнц со странных небес, вдыхали чужой воздух и возделывали чужую почву. Перед ними открывались миры замерзшей экваториальной тундры, душных арктических джунглей, лишь смутно напоминавших Землю, но достаточных для того, чтобы Человек мог жить и здесь, трудясь в поте лица своего. Их была всего лишь горсточка, этих небесных колонистов, несколько колоний человечества, которые в тяжких трудах жили на пределе своих возможностей, лишь изредка получая кое-какую помощь с Земли, а теперь не будет поступать и она, и им предстоит остаться одним в своем невоплощенном Эдеме, который еще меньше напоминает рай земной, который когда-то существовал на их родине. Может быть, к счастью для них. Чем ближе человек подходит к воплощению подлинного рая, тем нетерпеливее он рвется к его окончательному завершению, тем нетерпимее относится к самому себе. Они растили сад радости и наслаждений, и чем пышнее он расцветал во всей своей красе и изобилии, тем стремительнее они опускались, и может быть, для них же лучше будет увидеть, как что-то гибнет в саду, как не идут в рост какие-то деревья и кустарники. Пока нищий мир погружен во тьму, можно верить, что он идет к совершенствованию, можно стремиться к нему. Но когда он начинает сиять богатством и великолепием, его просторы суживаются до размеров угольного ушка, и ты начинаешь мечтать о мире, в который можно верить и к которому стоит стремиться. Да, они готовы снова разрушить его, этот сад земной, цивилизованный и всепонимающий, они снова расчленят его на куски, чтобы Человечество, оказавшись в той же непроглядной мгле, снова обрело надежду.
И все же Меморабилия улетает с ними на корабле! Неужто она проклята?.. Discede, Seductor informis![50] Нет, знания не могут быть отлучены, хотя Человек извратил их, — и он вспомнил пламя, горящее в ночи…
«Почему я должен покидать эту обитель. Господи? — подумал он. — И должен ли я? И как мне решить: отправляться или отказаться? Но ведь все уже решено: вызов этот был брошен давным-давно Egrediamur tellure[51], обет, в верности которому я поклялся, диктует мне, что я должен делать. Итак, я лечу. Но неужели я пройду обряд рукоположения и буду назван священником и даже аббатом, и мне будет вручена забота о душах братьев моих? Будет досточтимый отче настаивать на этом? Но он и не настаивает, он всего лишь утверждает, что знает волю Божью, которая повелевает мне согласиться на это. Но он страшно спешит. Уверен ли он во мне, как во всем остальном? Возлагая на меня эту ношу, он, скорее всего, верит мне больше, чем я сам верю в себя.
Подскажи же мне, судьба, подскажи мне! Судьба всегда казалась мне далеким понятием, но внезапно она угрожающе приблизилась и стоит рядом, вот она, бок о бок со мной. Но, может быть, она и права — вот сейчас, здесь, в эту самую минуту, может быть.
Не достаточно ли того, что он уверен во мне? Нет, этого мало. Я должен сам обрести уверенность. И мне осталось всего лишь полчаса. Сейчас даже меньше. Внемли мне, владыка — прошу тебя, Владыка — я, ничтожная часть твоего выводка из ныне живущих на земле, прошу тебя, прошу дать мне знание, дать какой-то знак, знамение, благословение. У меня нет времени самому решать».
Он начал нервничать. Что-то… что происходит? Он услышал тихий шорох сухих листьев под кустами роз, в гуще которых сидел. Все стихло, снова зашуршало, и что-то скользнуло мимо него. Был ли то ему подан знак Неба? Знамение или, может быть, благословение. Или порыв ветерка?
А может, сверчок. Он услышал всего лишь шорох. Брат Хеган как-то убил гремучую змею прямо во дворе, но… Вот снова что-то скользнуло — легкое подрагивание листьев. Будет ли долгожданным знаком, если что-то ужалит его сзади?
Из церкви снова донеслись звуки молитвенных песнопений:
Reminescentur et convertentur ad Dominum universum fines terrae…[52]
В ночной тьме эти слова звучали странно: во всех краях Земли будут помнить Господа и обращаться к нему…
Шорох внезапно прекратился. Что делается у него за спиной? Господи, звук ведь такой невнятный. В самом деле, я…
Что-то коснулось его кисти. Он с криком вскочил и отпрянул от розария. Схватив валявшийся под ногами камень, он швырнул его в чащу кустов. Оттуда раздался треск громче, чем он ожидал. Он почесал бороду и почувствовал себя полным дураком. Оставалось только ждать. Из кустов ничего не показывалось. Там ничего не шевелилось. Он бросил камешек. Он звякнул где-то в темноте. Иешуа ждал, но в кустах ничего не происходило. Просить о благословении, а потом бросаться камнями, когда оно даруется тебе — о человек, весь ты в этом.
Узкая полоска восхода заставила померкнуть звезды. Скоро ему отправляться к аббату и излагать свое решение. Что он скажет ему?
Брат Иешуа выловил мошку, запутавшуюся в его бороде, и посмотрел в сторону церкви, потому что в эту минуту кто-то подошел к дверям и выглянул из них — не его ли ищут?
Из церкви снова раздались песнопения. Тихие звуки его оповещали об одном хлебе и одной чаше, которую предстояло разделить на всех…
Он остановился в дверях, чтобы еще раз бросить взгляд на заросли розовых кустов. «Не ловушка ли это? — подумал он. — Ведь, посылая мне знак, Ты знал, что я кину в него камнем, не так ли?»
Через мгновение он уже вошел внутрь и вместе со всеми преклонил колени. Его голос влился в общую мольбу; наконец настало время, когда он перестал терзать себя размышлениями, слившись с группой монахов-космонавтов, собравшихся здесь. Annuntiabitur Domino generatio ventura[53]… Здесь, в этом месте, они сообщают Господу, что поколение готово отправиться в путь и что они надеются на справедливость Неба. К людям, которые должны родиться, если будет на то соизволение Господа…
Когда Иешуа почувствовал, что тревоги снова возвращаются, он увидел направляющегося к нему аббата. Брат Иешуа на коленях подполз к нему.
— Hoc officium, Fili tibine imponemus oneri?[54] — прошептал аббат.
— Если я нужен им, — покорно ответил монах, — honorem accipam[55].
Аббат улыбнулся.
— Ты не расслышал меня. Я говорил о «ноше», а не о «чести»[56]. Crucis autem onus si audisti ut honorem, nihilo errasti auribus[57].
— Accipam, — повторил монах.
— Ты уверен в себе?
— Если они изберут меня, я буду уверен.
— Этого достаточно.
Итак, решено. Когда взойдет солнце, будет избран пастырь, который поведет за собой паству.
И месса, которая отзвучала с восходом солнца, была отслужена во имя странствующих и путешествующих.
Получить место на самолете, летящем в Новый Рим, было не так просто. Еще труднее, чем пробиться к самолету. Во время чрезвычайного положения вся гражданская авиация находилась в распоряжении военных властей, и военным оказывалось явное предпочтение. Если бы аббат Зерчи не был уверен, что кое-кто из военно-воздушных маршалов, кардиналов и епископов окажет ему дружеское содействие, скорее всего, двадцать семь странников — собирателей книг в подпоясанных рясах вместе со всем своим имуществом должны были бы отправляться в Новый Рим на своих двоих, не получив разрешения воспользоваться ракетным транспортом. Но около полудня разрешение было гарантировано. Аббат Зерчи успел подняться на борт для «последнего прости» незадолго до старта.
— Вам предстоит продолжить дело нашего ордена, — сказал он им. — Вместе с вами отправляется и Меморабилия. Вместе с вами апостольское благословение и, может быть, — сам престол Петра.
— Нет, нет, — поспешил ответить он на удивленный шепот среди монахов. — Не его святейшество. Я не говорил вам раньше, но если Земля все же подвергнется страшной участи, Коллегия кардиналов — или точнее, то, что останется от нее — соберется на конвент. И колония на Центавре будет объявлена отдельным патриархатом, где патриаршую власть будет осуществлять кардинал, который будет сопровождать вас. И если бич Небесный обрушится на нас, ему придется воспринять наследство Престола Господня. И если даже жизнь на Земле придет к концу — да не допустит этого Господь, — в любом месте, где обитает человек, будет сиять престол Петров. Многие считают, что если на Землю падет проклятие и она опустеет, папство должно будет покончить свое существование. Да минут вас мысли эти, братья и дети мои, хотя вы должны будете подчиняться лишь указаниям вашего патриарха, который дал специальный обет.
Долгие годы вам придется провести в космосе. Корабль станет вашей обителью, вашим монастырем. После того как в колонии на Центавре воцарится патриаршее правление, вам придется возвести обитель братства Божьей кары ордена святого Лейбовица. Но в ваших руках останется и корабль, и Меморабилия. Если цивилизация даст свои ростки на Центавре, вы будете посылать миссии в другие колонии и, может быть, в те колонии, что отпочкуются от первых. И всюду, куда ступит нога Человека, будете вы и ваши последователи. И вместе с вами придет память о четырех тысячах лет, что остались за вами. Кое-кто из вас или те, кто придут после вас, станут нищенствующими монахами и странниками, которые будут рассказывать об истории Земли и учить гимнам в честь Распятого в тех колониях и тех людей, что будут воссоздавать новую культуру. Ибо забвение приходит быстро. Ибо многие со временем могут потерять веру. Учите их и привлекайте в орден тех, кто чувствует призвание служить ему. Дайте им прикоснуться к вечности. Воплощайте для Человека память о Земле и о Начале. Помните и не забывайте нашу Землю. Никогда не забывайте ее, но — никогда не возвращайтесь. — Зерчи говорил тихим и хриплым голосом. — И если вы когда-нибудь вернетесь, вы можете увидеть Архангела с огненным мечом, который стоит на краю Земли. Я чувствую, что так и будет. Отныне и навеки космос ваш дом. Пространства его куда более пустынны, чем наши. Бог да благословит вас — и молитесь за нас.
Он медленно прошел по проходу, останавливаясь около каждого, чтобы благословить и обнять его, и лишь затем покинул самолет. Лайнер вырулил на взлетную дорожку и поднялся в воздух. Аббат смотрел ему вслед, пока его черточка окончательно не исчезла на фоне вечернего солнца. Затем он вернулся в аббатство и к тем, кто остался из его паствы. На борту самолета он говорил так, словно судьба группы брата Иешуа была столь же ясна, как уверенность обитателя монастыря в завтрашней службе, но и он, и они понимали, что Зерчи всего лишь рассказывает, как должны претворяться в жизнь намеченные планы, — им руководила надежда, а не уверенность. Ибо группа брата Иешуа должна была стать лишь первым пробным камнем в долгом и сомнительном предприятии, напоминавшем новый Исход из Египта под ударами бича Божьего, ибо Господь Бог, скорее всего, был уже достаточно утомлен существованием человеческой расы.
Тем, кто остался, выпала более легкая участь. Им предстояло лишь ждать конца и молиться о его отсрочке.
Глава 27
— Размеры района, пораженного выпадением осадков локального ядерного взрыва, продолжают оставаться относительно стабильными, — сказал радиоголос, — и опасности распространения их порывами ветра почти не существует…
— По крайней мере, ничего худшего больше уже произойти не может, — заметил гость аббата. — Во всяком случае, здесь мы в безопасности. Похоже, что так оно и будет, если конференция не провалится.
— Выживем, — хмыкнул Зерчи. — Но давайте послушаем.
— Последняя оценка числа жертв, — продолжал голос, — на девятый день после разрушения столицы достигла двух миллионов восьмисот тысяч погибших. Более половины этого количества — непосредственно жители столицы. Остальная оценка базируется на проценте населения в пригородах, которое должно было неизбежно погибнуть, и на количестве людей в зоне поражения, которые получили критическую дозу радиоактивного поражения. Эксперты предсказывают, что количество жертв может возрасти по мере того, как будут обнаружены новые очаги радиоактивного заражения.
— В соответствии с законом, в течение всего периода чрезвычайного положения наша станция дважды в день передает следующее заявление:
«Постановление 10-ВР-ЗЕ Общественных законов ни в коем случае не разрешает частным лицам проводить эвтаназию по отношению к жертвам радиоактивного заражения. Лица, которые подверглись облучению сверх критического предела, или те, кто считает, что попали под такое облучение, должны обратиться на ближайшую станцию Скорой помощи Зеленой Звезды, где имеются работники магистрата, облеченные властью выписывать повестки на Пункт добровольной смерти любому, кто, как установлено, подвергся закритическому облучению и чьи страдания могут быть прекращены эвтаназией. Любая жертва радиации, которая осмелится распорядиться собственной жизнью в ином порядке, чем это предписано законом, будет сочтена самоубийцей, в силу чего его потомки и наследники будут лишены права наследования и права на получение страхового вспомоществования, которое предоставляется по закону. Более того, любой гражданин, кто окажет содействие в таких противоправных действиях, будет считаться убийцей и может быть привлечен к ответственности за это преступление. Закон о радиации предписывает проводить эвтаназию только в соответствии с законной процедурой. В случае серьезных радиоактивных поражений следует немедленно обращаться на станцию Скорой помощи Зеленой Звезды…».
Резко и грубо, с такой силой, что тумблер вылетел из гнезда, Зерчи отключил передатчик. Поднявшись с места, он подошел к окну и, опершись на подоконник, выглянул во двор, где группа беженцев толпилась вокруг наспех сколоченных деревянных столов. И старая и новая часть аббатства были заполнены людьми всех возрастов и положений, чьи дома оказались в пораженной и испепеленной зоне. Аббату приходилось все время расширять «уединенные» покои монастыря, чтобы дать приют беженцам, и теперь остались незаполненными людьми только спальни, где монахи находили себе приют на ночь. Вывеску на старых воротах пришлось убрать, потому что по всему аббатству кормили, одевали и давали приют женщинам и детям.
Он увидел, как два послушника тащили из непрерывно работающей кухни кипящий котел. Они поставили его на стол и начали разливать суп.
Человек, зашедший к аббату, устало опустился на его место и откашлялся. Аббат повернулся.
— Они считают, что все идет как надо, — проворчал он. — Как и полагается происходить массовому самоубийству, с благословения и при поддержке государства.
— Во всяком случае, — сказал посетитель, — куда лучше, чем предоставить им умирать в мучениях.
— Разве? Лучше для кого? Для мусорщиков, очищающих улицы? Лучше, чтобы ваши живые трупы ползли на центральную распределительную станцию, пока они еще могут ходить? Чтобы они не бросались в глаза? Чтобы вокруг было меньше ужаса? Меньше беспорядков? Несколько миллионов трупов, лежащих тут и там, могут вызвать восстание против тех, кто несет за это ответственность. Такое положение дел кажется вам и правительству наилучшим исходом, не так ли?
— Я ничего не знаю о правительстве, — сказал посетитель, и в голосе его появилась едва заметная жесткая нотка. — Под словом «лучше» я подразумеваю «милосерднее». Я не собираюсь спорить с вами на тему моральной теологии. Если вы считаете, что у вас есть душа, которую Бог может послать в ад, если вы предпочитаете умереть без страданий и мук, можете так думать. Но вы в меньшинстве, и вы это знаете. Я не согласен с вами, но спорить здесь не о чем.
— Простите меня, — сказал аббат Зерчи. — Я не готов обсуждать с вами вопросы моральной теологии. Просто я оцениваю это зрелище массового умерщвления с человеческой точки зрения. Само существование Закона о радиации и подобные же законы в других странах — убедительное свидетельство того, что все правительства прекрасно представляли себе последствия очередной войны, но вместо того, чтобы приложить все усилия для предотвращения этого преступления, они стремились заблаговременно принять меры по устранению его последствий. И разве подтекст, который столь явно виден в этом факте, не имеет для вас значения, доктор?
— Конечно, нет, отче. Лично я пацифист. Но сейчас перед нами предстал мир таковым, какой он есть. И если они не могут договориться о мерах, которые сделают войну бессмысленной, то лучше, чтобы были хоть какие-то законы, имеющие отношение к последствиям войны, чем никаких.
— И да, и нет. Да, если они ведут к предотвращению любого преступления. Нет, если они имеют отношение только к своему собственному преступлению. И тем более нет, если законы, призванные смягчить последствия происшедшего, сами по себе носят преступный характер.
Посетитель пожал плечами.
— Вы имеете в виду эвтаназию? Простите, отче, но я считаю, что есть преступление или нет преступления — это определяют законы общества. Боюсь, что вы со мной не согласитесь. Да, могут быть плохие законы, непродуманные — это правда. Но в данном случае, мне кажется, мы имеем дело с хорошим законом. Если бы я верил, что у меня была душа, и думал бы, что на нас взирает с Небес гневный Бог, я бы с вами согласился.
Аббат Зерчи слегка усмехнулся.
— Вы не обладали душой, доктор. Она есть в вас. Вы обладаете телом, которое служит для нее временным пристанищем.
Посетитель вежливо хмыкнул.
— Семантические игры.
— Верно. Но кто из нас больше играет? Вы уверены в своих словах?
— Давайте не будем ссориться, отче. Я не из Службы милосердия. Я работаю в Отряде оценки поражения. Мы никого не убиваем.
Несколько мгновений аббат Зерчи молча смотрел на него. Гость его был невысокий мускулистый человек с приятным круглым лицом и лысой загорелой макушкой, покрытой веснушками. На нем был зеленый саржевый китель, на коленях лежала фуражка со знаком Зеленой Звезды.
И в самом деле, зачем им ссориться? Этот человек медик, а не палач. В некоторых случаях Зеленая Звезда работает просто великолепно. Порой просто героически. И если кое-где правит бал зло, в чем Зерчи был уверен, это еще не причина, чтобы клеймить их в самом деле достойную работу. Общество в целом принимает их, и их работники пользуются хорошей репутацией. Доктор старается проявлять к нему дружелюбие. Его просьба, в сущности, кажется очень простой. Он не требует и не ведет себя как официальное лицо. И все же аббат медлил, прежде чем сказать «да».
— Работа, которую вы собираетесь здесь проводить… долго ли она продлится?
Доктор покачал головой.
— Я думаю, что не больше двух дней. У нас два передвижных блока. Мы можем загнать их к вам во двор, смонтировать рядом два трейлера и сразу же начать работу. Первым делом мы будем брать явные случаи радиоактивного поражения и раненых. Мы имеем дело только с самыми тяжелыми случаями. Наше дело — проводить клинические исследования. Больные и раненые будут направлены в аварийный лагерь.
— А самые тяжелые получат ли что-то еще в лагере милосердия?
Говоривший нахмурился.
— Только, если они захотят туда отправиться. Никто не может их заставить.
— Но выписывать им разрешение будете вы.
— Да, мне вручено несколько красных билетов. Они у меня сейчас имеются. Вот… — он залез в нагрудный карман и вытащил оттуда красную продолговатую карточку, с проволочной петелькой, которая позволяла прикреплять ее к лацкану или вешать на пояс. Он бросил ее на стол. — Бланк для «критической дозы» — вот он. Читайте. В нем говорится, что предъявитель сего болен, очень болен. А вот… вот и зеленый билет. В нем говорится, что обладатель его здоров и ему не о чем беспокоиться. Внимательнее присмотритесь к красной карточке! «Уровень радиационного заражения». «Анализ крови». «Моча». С одной стороны она напоминает зеленую. С другой стороны зеленая чиста, но вы посмотрите на красную. Четкий текст — прямое извлечение из Общественного закона 10-ВР-ЗЕ. Предписание. Оно должно быть ему зачитано. Ему должны быть растолкованы его права. Что он будет с ними делать — его собственная забота. Итак, если вы не против, чтобы мы раскинули здесь нашу походную лабораторию, мы могли бы…
— Вы просто читаете им этот текст, так? И ничего больше?
Доктор помолчал.
— Если человек не поймет, ему придется объяснить еще раз, — он снова замолчал, стараясь справиться с раздражением. — Боже милостивый, отче, когда вы говорите человеку, что он безнадежен, какие слова вам приходится подбирать? Прочтите ему несколько параграфов закона, покажите, где дверь, и крикните: «Прошу следующего!». Вам предстоит умереть, и посему — будьте здоровы? Конечно же, если в вас остались какие-то человеческие чувства, вы не ведете себя подобным образом!
— Я понимаю. Но я хотел бы знать кое-что еще. Советуете ли вы, как врач, в безнадежных случаях отправляться в лагерь милосердия?
— Я… — врач замолчал и прикрыл глаза. Он опустил голову на руки и слегка передернулся. — Конечно, я так делаю, — наконец сказал он. — Если бы вы видели то, что доводится делать мне, вы бы тоже так поступали. Конечно, я это делаю.
— Здесь вы этого делать не будете.
— Тогда мы будем… — доктор подавил в себе взрыв гнева. Встав, он взялся за фуражку и замолчал. Бросив головной убор на стул, он подошел к окну. Устало поглядел во двор и перевел взгляд на шоссе. Ткнул пальцем в пространство. — Мы расположились на краю дороги. Это в двух милях отсюда. Большинству из них придется идти пешком, — он бросил взгляд на отца Зерчи и задумчиво снова посмотрел во двор. — Посмотрите на них. Они больны, усталы, испуганы, с переломанными костями. И дети тоже. Они измотаны и нуждаются в милосердии. Вы позволили им сползтись сюда с дороги, где они сидели в пыли под солнцем…
— Я не хотел, чтобы это случилось, — сказал аббат. — Слушайте… только что вы рассказали мне, как законы, созданные человеком, дают вам право определять и объяснять критическую дозу радиации. Я не собираюсь спорить с вами. Воздайте за это должное вашему Кесарю, если закон вам это позволяет. Но можете ли вы наконец понять, что я подчиняюсь другому закону, и он запрещает мне позволять вам или кому-либо другому на пространстве, которое находится под моим управлением, вершить то, что Церковь считает злом?
— О, я прекрасно понимаю вас.
— Очень хорошо. Вы должны всего лишь дать мне одно-единственное обещание и можете пользоваться монастырем.
— Какое обещание?
— Просто дать мне слово, что вы никому не будете советовать отправляться в «лагерь милосердия». Ограничьтесь постановкой диагноза. Если вы выявите случаи безнадежного поражения, скажите им то, что вас заставляет закон, успокойте людей, насколько то будет в ваших силах, но не говорите им, что они должны убить себя.
Доктор помедлил.
— Думаю, что могу дать такое обещание из уважения к пациентам, которые придерживаются вашей веры.
Аббат Зерчи опустил глаза.
— Простите, — сказал он наконец, — но этого недостаточно.
— Почему? Остальные не придерживаются ваших взглядов. Если человек не принадлежит к вашей религии, почему вы отказываете ему в разрешении на… — он гневно хмыкнул.
— Вам требуется объяснение?
— Да.
— Потому что, если человек не понимает, что происходит вокруг него, и поступает в соответствии со своим невежеством, вины на нем нет. Но если невежество может извинить отдельного человека, оно не может извинить действия, которые сами по себе являются порочными. Если я разрешу действия только потому, что человек не понимает, насколько они плохи, тогда я приму грех на себя, потому что я-то знаю, что плохо и что хорошо. Это предельно просто.
— Послушайте, отче. Вот они сидят там и смотрят на вас. Кто-то стонет. Кто-то плачет. Кое-кто просто сидит. Все они говорят: «Доктор, что мне делать?» И что я должен им отвечать? Ничего не говорить? Говорить: «Вы должны умереть, и это все». Что бы вы им сказали?
— Молитесь.
— Да, это вы им можете сказать. Поймите же, боль для меня — то зло, которое мне известно. И с ним единственным я могу бороться.
— Тогда Бог поможет вам.
— Антибиотики помогают мне куда больше.
Аббат Зерчи хотел резко ответить врачу и уже подобрал слова, но проглотил реплику. Найдя чистый листок бумаги и ручку, он швырнул их через стол к врачу.
— Просто напишите: «Пока я буду находиться в этом аббатстве, я не буду рекомендовать эвтаназию никому из моих пациентов». И подпишитесь. И тогда вы можете использовать наш двор.
— А если я откажусь?
— Тогда я предполагаю, что им придется тащиться две мили вниз по дороге.
— Это предельно безжалостно…
— Напротив. Я предлагаю вам делать свое дело, как предписывает вам ваш закон, но не преступая закон, которому я подчиняюсь. И придется ли страждущим брести по дороге или нет, зависит только от вас.
Доктор посмотрел на чистый лист бумаги.
— Неужели слова, написанные на бумаге, обладают для вас такой магической силой?
— Я предпочел бы увидеть их.
Врач в молчании нагнулся над столом и набросал требуемый текст. Пробежав его глазами, он расписался резким росчерком пера и выпрямился.
— Хорошо. Вот то, что вы требовали. Неужели вы считаете, что эта бумага стоит больше моего слова?
— Нет. Конечно нет, — аббат сложил бумажку и опустил ее в карман. — Но она лежит у меня, и вы знаете, где она находится, и то, что время от времени я буду вынимать ее и перечитывать. Кстати, будете ли вы держать свое обещание, доктор Корс?
Медик несколько мгновений смотрел на него.
— Буду, — хмыкнув, он повернулся на пятках и вышел.
— Брат Пат! — усталым голосом позвал аббат Зерчи. — Брат Пат, ты здесь?
Его секретарь появился в дверном проеме.
— Да, досточтимый отец?
— Ты слышал?
— Лишь кое-что. Дверь была открыта и, простите, до меня кое-что доносилось. Вы не включили глушилку…
— Ты слышал, как он сказал: «Боль — единственное известное мне зло». Ты слышал эти слова?
Монах торжественно склонил голову.
— И что лишь это общество, единственное, может определять, несут ли те или иные действия зло или нет? Это тоже?
— Да.
— Боже милостивый, как ты позволил этим двум ересям вернуться в мир после всего, что он пережил? Воображение не в силах представить себе царящего здесь ада. «И змей искусил меня…» Брат Пат, тебе лучше уйти, не то я могу впасть в гнев.
— Отче, я…
— Что ты там держишь? Что это — письмо? Отлично, давай его сюда.
Монах протянул письмо и вышел. Зерчи, не раскрывая послание, посмотрел на строчки, оставленные доктором. Скорее всего, все бессмысленно. Но все же этот человек был искренним. И предан делу. Учитывая уровень зарплаты, которую платит ему Зеленая Звезда, он должен быть предан делу, это ясно. Он выглядел невыспавшимся и утомленным. С той минуты, когда взрыв уничтожил город, он живет, скорее всего, только на бензедрине.
Вокруг него сплошное горе, с которым ему приходится неизменно иметь дело, и он не имеет права опускать руки. Он честен — вот что хуже всего. На расстоянии противник кажется воплощением зла, но когда сблизишься с ним, видишь, что он истово предан делу не меньше тебя. Может, сатана был воплощением преданности.
Он вскрыл письмо и прочел его. В нем сообщалось, что брат Иешуа и все остальные отбыли из Нового Рима куда-то на Запад в неопределенном направлении. Письмо также информировало его, что данные о плане «Quo peregrenatur» как-то просочились, и в Ватикан прибыли расследователи, которые задают вопросы о предполагаемом старте незарегистрированного звездного корабля… Ясно, что корабль еще не ушел в космос.
«Они достаточно быстро узнали о «Quo peregrenatur», но, благодарение Небу, они не успеют обнаружить его. И что тогда?» — подумал он.
Ситуация с разрешением была достаточно запутанной. Закон запрещал старт космического корабля без санкции комиссии. Разрешение было трудно получить, и шло оно медленно и неторопливо.
Зерчи был уверен: соответствующая комиссия пришла к заключению, что Церковь нарушает закон. Но соглашение между Церковью и государством к настоящему времени существовало уже полтора столетия, в соответствии с ним Церковь недвусмысленно освобождалась от процедуры получения лицензии, и оно гарантировало Церкви право посылать миссии «на любое космическое поселение или форпост на планете, о которой нет необходимости сообщать в вышеупомянутую комиссию, которая может запретить данное мероприятие лишь в случае экологической опасности или непредусмотренных случаев». Каждое космическое сооружение в солнечной системе было «экологически опасно» и прикрыто ко времени конкордата, но дальнейший текст соглашения подчеркивал право Церкви на владение «собственными космическими кораблями и неограниченным правом передвижения для открытия новых космических установок и водружения форпостов». Конкордат был очень стар. Он был подписан в те дни, когда все повсеместно считали, что старт космического корабля Беркштрана откроет границы космоса для все увеличивающегося роста населения.
Но дела пошли совсем по-другому. Когда первый межзвездный корабль был еще в чертежах, уже стало совершенно ясно, что никто, кроме правительства, не обладает возможностями и средствами для их постройки, что от колоний, которые размещены за пределами солнечной системы, не стоит ждать никакой выгоды в целях «межзвездной торговли». Тем не менее правители Азии послали первый корабль с колонистами. На Западе поднялся всеобщий крик: «Неужели мы позволим “низшим” расам завоевывать звезды?». Расизм вызвал к жизни взрыв космических полетов, в результате которых в космическом пространстве вокруг Центавра расположились колонии черных, желтых, белых и коричневых обитателей. Затем генетики спокойно доказали, что каждая расовая группа настолько мала, что если даже потомки все переженятся между собой, колония в результате внутригруппового скрещивания в пределах одной планеты обречена на вымирание, — и расисты были вынуждены признать межрасовое скрещивание необходимым условием выживания.
Единственным интересом для Церкви в космосе была забота о колонистах, своих детях, которые были оторваны от паствы огромными межзвездными расстояниями. И все же она не пользовалась преимуществами, обусловленными конкордатом, которые давали ей право посылать миссии в космос. Между пунктами конкордата и законами государства существовали определенные противоречия, хотя теоретически законы могли позволить отправку миссий. Противоречия эти никогда не рассматривались в суде, тем более что и тяжб не возникало. Но теперь, если группа брата Иешуа будет засвечена в том, что она готовится к отлету в космос, не получив разрешения, такое дело может возникнуть. Зерчи молился, чтобы группа могла улететь без обращения к суду, потому что такое дело могло затянуться на недели и месяцы. И, конечно же, разразится скандал. Могут последовать обвинения, что Церковь нарушает не только установления Комиссии, но и обет бедности, предоставляя корабль группе церковных чиновников и шайке жуликоватых монахов в то время, когда она могла бы использовать этот корабль на благо бедных беженцев, стремящихся переселиться на новые земли. Извечный конфликт между Марфой и Марией.
Аббат Зерчи внезапно обнаружил, что направление его мыслей заметно изменилось за предыдущие несколько дней. Они прошли в ожидании, что небо вот-вот разверзнется. Но прошло девять дней с того момента, когда Люцифер воцарился в космосе и испепелил город. И если не считать стонов искалеченных и умирающих и груды трупов, девять дней прошли в тишине и молчании. Может быть, жажда мести исчерпала себя и худшего удастся избежать. Он поймал себя на том, что размышляет о вещах и проблемах, которые могут ждать его через неделю или месяц, словно бы в самом деле будут и следующая неделя, и следующий месяц. Но почему бы и нет? Задумавшись над этим, он понял, что надежда еще не окончательно покинула его.
Монах, к полудню вернувшийся из города, сообщил, что лагерь беженцев разбит в парке в двух милях ниже по шоссе.
— Мне кажется, что он организован Зеленой Звездой, отче, — добавил он.
— Господи, — сказал аббат. — А мы тут задыхаемся. Я отправлю к ним три грузовые машины.
Беженцы наполняли монастырский двор невыносимым шумом, который действовал на нервы. Неизменные покой и тишина древнего аббатства были нарушены странными звуками: грубым смехом перешучивавшихся мужчин, плачем детей, звяканьем кастрюль и тарелок, истерическими рыданиями, голосами врачей из Зеленой Звезды: «Эй, Раф, сбегай-ка за клистиром!..» Несколько раз аббат подавлял в себе желание подойти к окну и крикнуть, чтобы было потише.
Когда терпение его подошло к концу, он взял пару очков, старую книгу, четки и поднялся в одну из старых сторожевых башен, толстые стены которой надежно ограждали от шума во дворе. Книгой оказался небольшой томик стихов, в большинстве своем анонимных, излагавших легенды о жизни мифических святых, канонизация которых свершилась только в легендах и сказках Долин, а не соизволением Святого Престола. Не существовало никаких свидетельств, что в самом деле существовала такая мифическая фигура, как Святой Поэт с Волшебным Глазом: сказка повествовала, как одному из первых Ханнеганов был вручен стеклянный глаз неким блестящим физиком, которому он покровительствовал, Зерчи никак не мог вспомнить, кто это был: то ли Эссер Шон, то ли Пфардентротт — и который рассказал, что он принадлежал Поэту, погибшему за веру. Он не уточнял, за какую веру тот погиб — за престол наместника Божьего или за Тексарканскую ересь — но как бы там ни было, Ханнеган оценил рассказ, потому что сделал подставку для глаза в виде небольшой золотой руки, которая, несмотря на все перипетии, происходившие с государством, по-прежнему принадлежала принцам из династии Харг-Ханнеган. Она называлась «Око Праведного Поэта» и до сих пор почиталась как реликвия последователями Тексарканской ереси. Несколько лет назад кем-то была выдвинута совершенно глупая гипотеза, что Святой Поэт — не кто иной, как «непристойный виршеплет», лишь однажды упомянутый в Журналах досточтимого аббата Жерома, но единственным подтверждением этой версии служил лишь тот факт, что Пфардентротт — или то был Эссер Шон? — посетил аббатство во времена правления в нем аббата Жерома, и которое соответствовало времени появления в Журнале упоминания о «непристойном виршеплете», и что стеклянный глаз был преподнесен Ханнегану вскоре после этого посещения. Зерчи подозревал, что книжечка стихов была написана одним из тех светских ученых, которые примерно в это время посещали аббатство для знакомства с Меморабилией, и там один из них познакомился с «непристойным виршеплетом», который, вероятно, и был святым Поэтом сказаний и басен. «Анонимные стихи — подумал Зерчи, — слишком смелы, чтобы быть написанными монахом ордена».
Книга представляла собой и сатирический диалог в стихах между двумя агностиками, которые, прибегая к аргументам из области естественных наук, пытались доказать, что существование Бога не может быть подтверждено в силу тех же естественных причин. В тексте чувствовались следы теологических изысканий святого Лесли, и даже как поэтический диалог между двумя агностиками, один из которых назывался «Поэтом», а другой только «Тоном», по всей видимости, все же доказывал существование Бога, пользуясь эпистомологическим методом, но стихотворец явно был склонен к сатире; ни Поэт, ни Тон не отказывались от своих предрассудков, и наконец оба договорились до того, что «не мыслю, потому что ничего не существует».
Аббат Зерчи наконец устал от стараний понять, является эта книга высокоинтеллектуальной комедией или просто шутовством. С башни он видел шоссе и далекий город, так же как и плоскую вершину горы. Он сфокусировал на ней объективы бинокля и увидел стоявшую на вершине радарную установку, но ничего необычного там не происходило. Опустив бинокль чуть пониже, он разглядел новый лагерь Зеленой Звезды на краю дороги. Там, где был разбит парк, ныне все стояло дыбом. Стояли натянутые палатки. Несколько бригад работало, подтягивая газ и силовые коммуникации. Несколько человек торопливо прибивали какую-то надпись у входа в парк, но они держали ее под таким углом, что он не мог прочесть ее. Эта бурная активность напоминала ему «карнавал» кочевников, когда тот являлся в город. Стояло несколько агрегатов красного цвета. Похоже, что один из них был топкой, а во втором, по всей видимости, должна была подогреваться вода, но он не мог сразу же определить, для чего они в самом деле предназначены. Люди в униформах Зеленой Звезды воздвигали сооружение, которое с первого взгляда напоминало маленькую карусель. На краю дороги стояло не меньше дюжины грузовиков. Некоторые из них были нагружены ручным хламом, другие — палатками, сложенными койками. В кузове одного из них были навалены огнеупорные кирпичи, а в другом горшки и прочая хозяйственная мелочь.
Горшки?
Он повнимательнее присмотрелся к содержимому кузова последней машины и слегка нахмурился. Кузов был забит урнами или вазами, смахивающими друг на друга, проложенными прокладками из соломы. Где-то он видел нечто подобное, но не мог вспомнить, где именно.
Еще один грузовик привез нечто, напоминающее большую «каменную» статую — скорее всего, сделанную из напряженного пластика — и квадратный постамент, на который, по всей видимости, должна быть водружена статуя. Она лежала на спине, зажатая в деревянной раме и заваленная кучей упаковочного материала. Он видел только ее ноги и простертую руку, высовывавшуюся сквозь солому. Статуя была длиннее, чем кузов, в котором ее доставили, и ноги висели за пределами открытого борта. Кто-то привязал на одну пятку красный флажок. Зерчи с удивлением смотрел на все происходящее. Зачем понадобилось отдавать целый грузовик под перевозку статуи, когда не подлежит сомнению, что тут позарез необходимо подвезти припасы?
Он посмотрел на мужчин, которые водружали надпись. Наконец один из них поставил лестницу, чтобы, поднявшись по ней, привести надпись в порядок. Упираясь одним концом столба в выкопанную яму, вывеска стала подниматься, и Зерчи, напрягая зрение, смог наконец прочесть ее:
ЛАГЕРЬ МИЛОСЕРДИЯ НОМЕР 18
ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА
ПРОЕКТ СЛУЖБЫ БЕДСТВИЯ
Он торопливо перевел взгляд на грузовики. Горшки! Наконец он все вспомнил. Как-то он ехал мимо крематория и видел, как сгружали с грузовика, на борту которого были те же фирменные знаки, такие урны. Он снова повел биноклем в поисках грузовика, загруженного огнеупорным кирпичом. Грузовик куда-то сдвинулся с того места, где он его видел. Наконец он обнаружил, что тот уже въехал в лагерь. Кирпичи были разгружены рядом с большим красным агрегатом. Он еще раз присмотрелся к нему. То, что показалось ему с первого взгляда котлом для кипячения воды, теперь предстало горном или печью.
— Сгинь, нечистая сила! — пробормотал он и поспешил к лестнице.
Доктор прикалывал желтую карточку на лацкан пиджака какого-то старика и объяснял ему, что он должен отправиться в лагерь отдыха и найти там сестру, но что с ним будет все хорошо, если он все выполнит, как предписано.
Закусив губу и сложив на груди руки, Зерчи стоял рядом, холодно глядя на врача. Когда старик наконец ушел, Корс устало посмотрел на аббата.
— Да? — он увидел бинокль и снова перевел взгляд на лицо аббата. — Ах, да, — пробурчал он. — Но в конце концов, я ничего не могу с этим поделать, совершенно ничего.
Аббат несколько секунд смотрел на него, потом повернулся и отошел. Вернувшись в свой кабинет, он приказал брату Пату связаться с высшим должностным лицом службы Зеленой Звезды…
— Я хочу потребовать от них, чтобы они покинули нашу обитель.
— Боюсь, что скорее всего мы получим отрицательный ответ.
— Брат Пат, позвони в мастерскую и вызови сюда брата Лаффера.
— Его здесь нет, отче.
— Тогда пусть ко мне явятся плотник и маляр. Кто-нибудь.
Через несколько минут перед аббатом предстали два монаха.
— Я хочу, чтобы вы как можно скорее сделали пять переносных надписей, — сказал он им. — Я хочу, чтобы они были сделаны большими буквами. Они должны быть достаточно большими, чтобы их можно было увидеть издалека, и достаточно легкими, чтобы человек мог несколько часов переносить их с места на место. Справитесь?
— Конечно, милорд. Что должно быть написано?
Аббат Зерчи набросал текст.
— Пусть он будет большим и ярким, — сказал он. — Пусть он так и бросается в глаза. Это все.
Когда они ушли, он снова позвонил брату Пату.
— Брат Пат, пришли ко мне пять хороших, здоровых, молодых послушников, предпочтительно готовых к мученичеству. Предупреди их, что, возможно, их ждет судьба святого Стефана.
«Меня ждет еще более худшая судьба, — подумал он, — когда в Новом Риме услышат об этом».
Глава 28
Вечерня уже отзвучала, но аббат не покинул церковь, продолжая стоять на коленях в вечернем полумраке храма.
Он молился за тех, кто ушел с братом Иешуа — за своих собратьев, которых ждет межзвездный корабль, что должен унести их в космос навстречу такой неопределенности, с которой никогда не встречался человек на Земле. Им нужно, чтобы за них непрестанно молились, никто не нуждается во внимании к себе больше, чем странник среди бед и страданий, которые терзают дух, подвергая сомнениям веру, подрывая убеждения и искушая ум сомнениями. Дома, на Земле, ты можешь прибегнуть со своими сомнениями к учителям и мыслителям, но вне Земли сознание остается наедине с самим собой, разрываясь между Господом нашим и Врагом рода человеческого. «Дай им непоколебимую силу противостояния, — молился он. — Дай им мужество пронести правду нашего ордена».
К полуночи доктор Корс нашел его в церкви и бесшумно остановился рядом. Врач выглядел изможденным, осунувшимся и растерянным.
— Я отказываюсь от своего обещания! — с вызовом сказал он.
Аббат промолчал.
— Вы гордитесь этим? — наконец сказал он.
— Не особенно.
Они подошли к передвижной лаборатории и остановились в луче голубоватого света, падавшего из ее открытой двери. Халат врача был пропитан потом, и он вытирал лоб рукавом. Зерчи смотрел на него с той жалостью, которую всегда чувствовал к заблудшим.
— Конечно, нам придется тут же уезжать, — сказал Корс. — Думаю, что все сказал вам, — он повернулся, собираясь войти в лабораторию.
— Подождите, — сказал священник. — Скажите мне и все остальное.
— Нужно ли? — тон у врача опять стал вызывающим. — Зачем? Чтобы вы могли призывать на наши головы адское пламя? Его и так уж хватает, а тут есть ребенок. Я ничего вам больше не скажу.
— Вы уже сказали. Я знаю, что вы имеете в виду. И ребенка тоже, как я предполагаю?
Корс помедлил.
— Радиоактивное поражение. Обожженная вспышкой плоть. У женщины сломанное бедро. Отец мертв. Пломбы в зубах у женщины сплошь радиоактивны. Ребенок почти светится в темноте. Сразу же после взрыва началась рвота. Тошнота, анемия, множественные разлагающиеся язвы. Слеп на один глаз. Ребенок непрерывно плачет из-за ожогов. Трудно понять, как им удалось пережить шок. Я не могу сделать для них ничего, кроме как передать в команду ЭВКРЕМ (Эвтаназия — кремация).
— Я ее уже видел.
— Тогда вы понимаете, почему я нарушил обещание. Потом мне придется жить, человече! И я не хочу жить, как человек, обрекший эту женщину и ребенка на муки.
— Предпочитаете жить, как их убийца?
— Доводы рассудка на вас не действуют.
— Что вы сказали женщине?
— Что, если вы любите своего ребенка, прекратите его агонию. Не медлите, и пусть на него снизойдет благодетельный сон. Это все. Мы немедленно покидаем вас. Мы уже покончили со случаями радиационного поражения и с самыми тяжелыми случаями у остальных. Их не затруднит пройти пару миль. Случаев с критическими дозами больше нет.
Отойдя, Зерчи остановился и повернул обратно.
— Кончайте, — прохрипел он. — Кончайте и убирайтесь отсюда. И если я снова увижу вас тут… мне страшно подумать, что я могу сделать.
Корс сплюнул.
— Я хочу оставаться тут не больше, чем вам хочется видеть меня. Мы сейчас же отправляемся. Благодарю вас.
В коридоре переполненного дома для гостей он нашел женщину с ребенком, лежащих на кушетке. Оба они плакали, свернувшись калачиком под одеялом. В здании пахло смертью и антисептиками. Она взглянула на неясный силуэт, закрывший свет.
— Отче? — сказала она испуганным голосом.
— Да.
— Нас уже обработали. Видите? Вы видите, что они мне дали?
Он ничего не видел, но слышал шорох разворачиваемой бумаги. Красная карточка. У него не было сил издать хоть звук. Подойдя, аббат склонился над кушеткой, и порывшись в кармане, вытащил четки. Она услышала позвякивание зерен и ухватилась за четки.
— Ты знаешь, что это?
— Конечно, отче.
— Тогда возьми. И используй.
— Спасибо.
— Терпи и молись.
— Я знаю, что я должна делать.
— Не становись соучастницей. Ради любви к Богу, дитя мое, не…
— Доктор сказал…
Она резко замолчала. Он ждал, чтобы она продолжила, но женщина молчала.
— Не становись соучастницей.
Она по-прежнему молчала. Благословив их, он торопливо вышел. Женщина перебирала четки пальцами, которым была знакома их отполированная гладкость, он не мог сказать ей ничего из того, что она уже не знала бы.
Конференция министров иностранных дел на Гуаме только что подошла к концу. Общего политического коммюнике решено было не выпускать, и министры возвращались в свои столицы. Значимость этой конференции и напряжение, с которым весь мир ожидал ее результатов, заставили комментаторов поверить, что конференция не закончена, а только отложена на несколько дней, чтобы министры могли посовещаться со своими правительствами. Предыдущее сообщение, оповещавшее, что конференция была прервана в потоке взаимных жестоких обвинений, было дружно опровергнуто министрами. Первый министр Реколь сделал только одно заявление для прессы: «Я возвращаюсь переговорить с Регентским Советом. Но так как тут стоит прекрасная погода, я, возможно, попозже вернусь сюда порыбачить».
«Период десяти дней ожидания сегодня подходит к концу, но существует всеобщее согласие, что договор о прекращении огня будет продолжен и подвергнут обсуждению. Альтернативой ему служит взаимное уничтожение. Два города стерты с лица земли, но необходимо помнить, что ни одна из сторон не ответила сокрушительным нападением. Правители Азии придерживаются принципа «око за око». Наше правительство настаивает, что взрыв на Иту-Ван не явился результатом взрыва атлантической ракеты. Но для большей части населения обеих столиц это обернулось рукой судьбы и воцарившимся молчанием на их развалинах. Доводилось видеть, как кое-кто размахивает окровавленными одеждами, и слышать отдельные вопли о всеобъемлющей мести. Ярость эта глупа, поскольку преступление уже совершено и умопомешательство по-прежнему правит миром, но ни одна из сторон не хочет тотальной войны. Система обороны находится в боевой готовности. Генеральный штаб издал оповещение, которое можно считать едва ли не призывом, что мы не пойдем на применение самого страшного вида оружия, если и Азия воздержится от его использования. Но далее идет следующий текст: «Если же они все-таки пустят в ход грязное ядерное оружие, мы ответим им так и с такой силой, что в течение тысячелетий в Азии не сможет жить ни одно живое существо».
Странно, но самые обнадеживающие слова прозвучали не с Гуама, а из Ватикана в Новом Риме. После того как конференция на Гуаме подошла к концу, поступило сообщение, что папа Григорий прекратил молиться за мир во всем мире. В базилике прозвучали две специальные мессы: против язычников и «Да помнится» — о временах войны, а затем в сообщении говорилось, что «его святейшество удалился в горы размышлять и молиться о справедливости…».
— «А теперь точка зрения…».
— Выключи! — простонал Зерчи.
Молодой священник, который был рядом с аббатом, выключил приемник и широко раскрытыми глазами посмотрел на него.
— Не могу поверить!
— Во что? Относительно папы? Я тоже. Но я слышал это известие и раньше, и у Нового Рима было вдоволь времени, чтобы опровергнуть его. Они не проронили ни слова.
— Что это может значить?
— Разве тебе не ясно? Дипломатическая служба Ватикана исполняет свои обязанности. Ясно, что они послали сообщение о конференции на Гуаме. Ясно, что оно испугало Святого Отца.
— Какое предупреждение! Что за жест!
— Это не жест, брат мой. Его святейшество не собирается распевать боевые гимны лишь для драматического эффекта. Кроме того, большинство людей будет думать, что он выступает «против язычников» по другую сторону океана, за «справедливость» для нашей стороны. Или, в лучшем случае, для них лично, — закрыв лицо ладонями, он несколько раз энергично провел ими вверх и вниз. — Спать. Зачем спать, отец Лехи? Припоминаете? В течение этих десяти дней я не видел человека, у которого не было бы черных кругов под глазами. Из-за стонов в гостевом доме я едва мог вздремнуть прошлой ночью.
— Люцифер не дремлет, это верно.
— Что вы там высматриваете в окне? — резко сказал Зерчи. — Это совсем другое дело. Все только и смотрят в небо, не отрывая от него глаз, и удивляются. Если это придет, вы и не заметите ничего, пока вас не ослепит вспышка, и тогда вам уж лучше не смотреть. Прекратите. В этом есть что-то болезненное.
Отец Лехи отвернулся от окна.
— Хорошо, достопочтимый отче. Я больше не буду смотреть, хотя, честно говоря, я высматривал стервятников.
— Стервятников?
— Весь день они висели в небе. Десятки стервятников — они так и выписывали круги.
— Где?
— Над лагерем Зеленой Звезды, что ниже по шоссе.
— Еще рано говорить «аминь». Поведение стервятников свидетельствует лишь о здоровом аппетите у них. Ага! Пора и мне выйти глотнуть свежего воздуха.
Во дворе он встретил миссис Грейлс. Она тащила корзинку с помидорами, которую, увидев аббата, поставила на землю.
— Я тут кой-чего принесла вам, отец Зерчи, — сказала она. — Вижу, вывески у входа больше нет, за воротами маются бедные женщины, ну я и решила, что вы не против, если к вам зайдет старая помидорница. Я тут вам помидорчиков принесла, понимаете?
— Спасибо, миссис Грейлс. Объявление снято из-за беженцев, но все в порядке. Относительно помидоров вы должны поговорить с братом Элтоном. Он делает закупки для кухни.
— Да не, я не на продажу, отче. Хи-хи! Я просто так вам их принесла. Ведь вам тут, наверно, со всеми этими бедами еды не хватает. Так что я просто так принесла. Куда мне их положить?
— Аварийные кухни в… нет, оставьте их здесь. Я пошлю кого-нибудь отнести их в гостевой дом.
— Сама их отнесу. Столько тащила, так что отнесу сама, — она нагнулась и подняла корзинку.
— Благодарю вас, миссис Грейлс, — он повернулся, собираясь уходить.
— Подождите, отче! — вскрикнула она. — Уделите мне минутку, ваша честь, всего лишь минутку вашего времени…
Аббат подавил готовый было вырваться стон.
— Простите, миссис Грейлс, но как я вам уже говорил… — он остановился, увидев лицо Рашель. На мгновение ему показалось, что брат Иешуа был прав, когда рассказывал о ней. Но нет, не может быть. — Речь идет о вашей епархии и вашем приходе, и тут я ничего не могу…
— Нет, отче, не об этом! — сказала она. — Я хотела спросить у вас кое о чем другом (Вот! Она в самом деле улыбается! Теперь сомнений в этом не было!) Можете ли вы выслушать мою исповедь, отче? Прошу прощения, что я вам надоедаю, но меня так тяготят мои прегрешения, что я хочу исповедаться перед вами.
Зерчи помедлил.
— А почему не у отца Зело?
— Скажу вам по правде, этот человек чуть не вверг меня в грех. Я всегда хорошо думаю о людях, но вот как-то посмотрела на него и забыла самое себя. Пусть Бог его любит, а я не могу.
— Если он обидел вас, вы должны простить его.
— Так это я делаю, это я и делаю. Но на расстоянии, и порядочном. Должна вам признаться, что он снова может ввергнуть меня во грех, ибо, как только вижу его, кровь так и бросается мне в голову.
Зерчи хмыкнул.
— Хорошо, миссис Грейлс. Я приму вашу исповедь, но предварительно я должен кое-что сделать. Ждите меня в часовне Божьей Матери примерно через полчаса. У первой кабинки. Вас это устроит?
— Да благословит вас Бог, отче! — она радостно кивнула.
И аббат Зерчи мог поклясться, что Рашель повторила ее движение, только еле заметно.
Отбросив эти мысли, он направился к гаражу. Послушник выкатил ему машину. Он сел в нее, набрал на дисплее цель назначения и устало откинулся на спинку сиденья, пока автоматика переключала скорости и разворачивала машину носом к воротам. Проехав ворота, аббат увидел девушку, стоящую на краю дороги. Вместе с ней был ребенок. Зерчи нажал на кнопку «Отмена». Машина остановилась.
— Ждать, — сказал он контрольной системе.
На девушке был гипсовый корсет, который закрывал ей бедра от талии до левого колена. Она опиралась на костыли, которые осторожно переставляла по земле. Как-то она выбралась из домика и прошла через ворота, но чувствовалось, что дальше идти она не в состоянии. Ребенок держался за один из костылей и стоял, глядя на стремительное движение по шоссе.
Зерчи открыл дверцу машины и медленно выкарабкался наружу. Она взглянула на него и быстро отвела взгляд.
— Почему ты поднялась с постели, дитя мое? — выдохнул он. — Тебе нельзя вставать, особенно с таким переломом бедра. И куда ты собираешься?
Она переместила вес тела на другую ногу, и ее лицо искривилось от боли.
— В город, — сказала она. — Это очень важно. Я должна идти.
— Не столь спешно, чтобы кто-то не мог сходить для тебя. Я пошлю брата…
— Нет, отче, нет! Никто другой не может этого сделать, кроме меня. Я должна попасть в город.
Она лгала. Он был уверен, что она врет.
— Что ж, ладно, — сказал он. — Я подвезу тебя. Так и так я туда отправляюсь.
— Нет! Я дойду! Я… — она сделала шаг и вскрикнула от боли. Он успел подхватить ее.
— Даже если святой Христофор будет поддерживать твои костыли, ты не дойдешь до города, дитя мое. Так что лучше иди и возвращайся на свое ложе.
— Говорю вам, что мне нужно добраться до города! — гневно вскрикнула она.
Ребенок, испуганный голосом матери, начал плакать. Она попыталась успокоить его, но потом поникла в отчаянии.
— Хорошо, отче. Вы можете довезти меня до города?
— Тебе вообще нечего там делать.
— Я говорю вам, что мне необходимо!
— Ну что ж, ладно. Давай я подсажу тебя… и ребенка… вот так.
Ребенок уже заходился в истерике, когда священник, подняв, посадил его в машину рядом с матерью. Прижавшись к ней, он продолжал непрестанно всхлипывать. Под кучей влажных лохмотьев, в которые он был закутан, и с опаленной копной волос, трудно было на первый взгляд определить его пол, но аббат Зерчи предположил, что это была девочка.
Он снова дал указания дисплею. Машина дождалась разрыва в движении и, вырулив на трассу, заняла место в среднем ряду. Через две минуты, когда они оказались рядом с лагерем Зеленой Звезды, он направил ее на полосу более медленного движения.
На краю пространства, занятого палатками, в парадных рясах торжественным пикетом стояли пятеро монахов. Время от времени они ходили взад и вперед перед вывеской «Лагерь милосердия», но было видно, что они старались никому не мешать входить и выходить. На их плакатах было броско написано свежей краской:
ОСТАВЬ НАДЕЖДУ
ВСЯК
СЮДА ВХОДЯЩИЙ
Зерчи хотел было остановиться, чтобы поговорить с ними, но с девушкой, сидящей у него в машине, он позволил себе только сбросить скорость, проезжая мимо. В рясах и надвинутых на глаза капюшонах мерная похоронная процессия послушников в самом деле производила желаемый эффект. Сомнительно, что служба Зеленой Звезды испытала серьезные затруднения и поторопилась скорее убраться из монастыря, тем более что в ранние часы небольшая группа скандалистов, как было сообщено в аббатство, стала выкрикивать оскорбления и бросать камни в пикетчиков. На краю дороги стояли два полицейских автомобиля, и за происшедшим наблюдали несколько офицеров с бесстрастными лицами. Так как хулиганы появились совершенно внезапно, и сразу же после них примчались две полицейские машины, как раз чтобы увидеть, как хулиганы пытались вырвать плакаты пикетчиков, аббат не мог отделаться от предположения, что хулиганы появились на сцене, чтобы продемонстрировать, в каких условиях приходится работать Зеленой Звезде. Аббат Зерчи решил пока оставить пикетчиков там, где они пребывали, неся свою службу.
Он глянул на статую, которую уже воздвигли около ворот. Она заставила его недоуменно прищуриться. Он узнал в ней один из тех обобщенных обликов человека, который появился в результате массовых психологических опросов, в ходе которых опрашиваемым давали рисунки и фотографии неизвестных людей и задавали вопросы типа: «Кого бы вы больше всего хотели встретить?», или «Как по вашему мнению, должны были бы выглядеть самые лучшие родители?», или «Встречи с кем вы хотели бы избежать», или «Как должен выглядеть преступник?», а затем, подытожив результаты, компьютеры создали некоторое «усредненное лицо» персонажа, который в наибольшей степени устраивал бы участников массовых опросов.
Статуя, как с ужасом заметил Зерчи, несла в себе заметное сходство с тем изнеженным женственным обликом, в котором посредственные и даже хуже чем посредственные артисты по традиции изображали образ Христа. Тошнотворно-сладостное выражение лица, пустые глаза, жеманно поджатые губы и руки, распростертые в традиционном объятии. Бедра были широки, как у женщины, и даже замечались какие-то намеки на груди, хотя то были всего лишь складки одеяния. «Господь наш, мученик Голгофы, — перевел дыхание аббат Зерчи. — Неужели вся эта чернь воображает, что Ты в самом деле был таким?». Он с трудом представлял себе, что такая статуя могла сказать: «И пусть все страждущие и малые придут ко мне», но совершенно не мог представить этот облик говорящим: «Изыди от меня, проклинаю тебя и обрекаю на вечную муку» или же с бичом в руках, изгоняющим менял из храма «Какие вопросы, — подумал он, — должны были задаваться, если в результате их обобщения родилось некое составное лицо, удовлетворяющее только потребу черни?» Мало кто догадывался, кого на самом деле изображает статуя. Надпись на ее пьедестале гласила «ПОКОЙ». Но, конечно же, в Зеленой Звезде должны были видеть то сходство с традиционно сладеньким Христом, как его изображали бездарные артисты. Но его приволокли лежащим ничком в кузове огромного грузовика с красным флажком, болтающимся на его чудовищной неподвижной пятке, и сходство это трудно было доказать.
Девушка уже держалась одной рукой за дверь, не отводя глаз от системы управления машины. Зерчи мягко перевел указатель на «Скоростную полосу». Машина рванулась вперед. Она отпустила ручку дверей.
— Сегодня много стервятников, — тихо сказал он, выглядывая из окна машины и глядя на небо.
Девушка сидела, не глядя на него, с бесстрастным выражением лица. Несколько секунд он изучал ее.
— Болит, дочь моя?
— Неважно.
— Предоставь все решать небесным силам, дитя.
Она холодно взглянула на него.
— Вы думаете, это может доставить удовольствие Богу?
— Если ты доверишься ему, то да.
— Я никогда не пойму Бога, которому доставляет удовольствие страдание моего ребенка!
Священник моргнул.
— Нет, нет! Боль его не доставляет Богу никакого удовольствия, дитя мое. Когда душа крепнет в вере, надежде и любви, несмотря на телесные страдания, — вот что радует Небеса. Боль — это ужасное испытание. Богу не нравятся испытания, которые терзают плоть, он рад лишь когда дух воспаряет над испытаниями и говорит: «Изыди, Сатана». То же самое и с болью, которая часто лишь искушение поддаться отчаянию, гневу и потере веры…
— Передохните, отче. Я не жалуюсь. Но у меня ребенок. И ребенок не в силах понять ваших проповедей. Хотя она тоже должна страдать. Она должна страдать, но не понимает, почему ей это досталось.
«Что я могу ей сказать на это? — подумал священник. — Снова рассказывать ей, что человек был одарен сверхъестественной нечувствительностью к боли, но потерял ее, когда был изгнан из Эдема? Что каждый ребенок — суть плоть Адама и посему… все это было правдой, но у нее на руках был больной ребенок, да она и сама плохо чувствовала себя и слушать его она не хотела».
— Не делай этого, дочь моя. Просто не делай этого.
— Я подумаю, — холодно ответила она.
— Однажды, когда я был мальчиком, у меня был кот, — неторопливо пробормотал аббат. — Большой серый кот, с плечами, как у бульдога средних размеров, а когда он гневался, то напоминал дьявола во плоти. Словом, настоящий кот. Ты любишь кошек?
— Не очень.
— Любители кошек не разбираются в них. Если ты их знаешь, ты не можешь обожать всех кошек, а та, к которой ты привязан, если ты знаешь их, — как раз та, которая не нравится любителям. Зекки как раз и был таким котом.
— А дальше, конечно, последует мораль? — она с подозрением посмотрела на него.
— Только та, что я убил его.
— Стоп. О чем бы вы ни собирались говорить, пожалуйста, помолчите.
— Его сбил грузовик, переломав ему задние лапы. Он как-то дотащился до дома и заполз под него. Пару раз он издал боевой вопль кота, который одержал верх в схватке, но большую часть времени он просто молча лежал и ждал. «Его надо прикончить, он должен погибнуть», — все говорили мне. Через несколько часов он выполз из-под дома. Стеная о помощи. «Его надо прикончить», — говорили мне. Я не мог этого допустить. Мне говорили, что жестоко заставлять его мучиться. Наконец я сказал, что если этого не миновать, я сам это сделаю. Я взял револьвер, лопату и отнес его на опушку леса. Копая яму, я положил его на землю. Затем я прострелил ему голову. Пуля была малокалиберная. Зекки пару раз дернулся, затем приподнялся и потащился к кустам. Я снова выстрелил в него. Он свалился, и я, решив, что он мертв, потащил его к яме. Не успел я сбросить туда пару лопат земли, Зекки снова приподнялся, выполз из ямы и опять пополз к кустам. Я плакал громче, чем кот. Мне пришлось убить его лопатой. Пустив ее в ход, как тесак, я снова кинул его в яму. И пока я кромсал его, Зекки все время метался и дергался. Потом мне говорили, что то был всего лишь спинальный рефлекс, но я этому не верил. Я знал его. Он хотел добраться до кустов и отлежаться там. Я хотел бы, чтобы Бог дал ему возможность добраться до этих кустов и умереть так, как умирают кошки, если вы им не мешаете и оставляете в одиночестве — с достоинством. Я никогда не чувствовал, что был прав. Зекки был всего лишь кот, но…
— Замолчите! — прошептала она.
— …но даже древние язычники заметили, что Природа не заставляет вас делать ничего, к чему бы она вас не подготовила. И если это справедливо по отношению к кошке, разве не куда более это справедливо по отношению к существу, одаренному умом и волей, — неважно, верите ли вы или нет в предначертания Неба?
— Да замолчите, черт бы вас побрал, замолчите же! — прошипела она.
— Если бы я был несколько более жесток, — сказал священник, — тогда я говорил бы о вас, а не о ребенке. Ребенок, как вы говорите, не может понять, что происходит. И вы, судя по вашим словам, не жалуетесь. И тем не менее…
— Тем не менее вы требуете от меня, чтобы я оставила ее медленно умирать в мучениях и…
— Нет! Я не прошу от вас этого. Как служитель Христа я приказываю вам, обращаясь к Всемогущему Богу, не накладывать руки на вашего ребенка, не приносить ее жизнь в жертву фальшивому богу ложного сострадания. Я не советую вам, а взываю и приказываю во имя Христа-Владыки. Это ясно?
Дом Зерчи никогда ранее не говорил таким тоном, и легкость, с которой слова слетали с его губ, удивила священника. Он продолжал смотреть на нее, и она опустила глаза. Какое-то мгновение ему казалось, что молодая женщина расхохочется ему в лицо. Когда в свое время Святая Церковь давала понять, что она по-прежнему считает свою власть простирающейся над всеми нациями и высшим авторитетом для государства, в те времена люди не могли удержаться от насмешек. Но власть приказа от имени Церкви чувствовалась даже этой раздавленной женщиной с умирающим ребенком на руках. Убеждать ее было жестокостью, и он сожалел, что ему пришлось заниматься этим. Простой и ясный приказ мог бы дать то, чего никак не удается достичь убеждением. Он убедился в этом, видя, как она сразу же ослабела, хотя он приказывал ей самым мягким и спокойным голосом, на который только был способен.
Они въехали в город. Зерчи остановился у почты, у собора святого Михаила, отправить письмо и несколько минут обсуждал с отцом Зело проблемы беженцев, затем заехал взять копию указаний службы гражданской обороны. Каждый раз возвращаясь к машине, он был почти убежден, что не найдет в ней своей спутницы, и каждый раз находил ее на том же месте: держа ребенка на руках, она отсутствующим взглядом смотрела в открывающуюся перед ней бесконечность.
— Не хотите ли сказать мне, дитя мое, куда вы собираетесь направиться? — наконец спросил он.
— Никуда. Я передумала.
Он улыбнулся.
— Но вы так торопились попасть в город.
— Забудьте это, отец мой. Я передумала.
— Отлично. Теперь мы возвращаемся домой. Почему бы вам на несколько дней не поручить заботу о вашем ребенке нашим сестрам?
— Я подумаю об этом.
Машина направилась обратно к аббатству. Когда они приблизились к лагерю Зеленой Звезды, он увидел, как что-то изменилось — и не в лучшую сторону. Пикетчики больше не ходили перед воротами. Собравшись в группу, они что-то говорили и слушали офицера и третьего человека, которого Зерчи не мог узнать. Он перевел машину на полосу замедленного движения. Один из послушников, узнав машину, принялся размахивать своим плакатом. Дом Зерчи не предполагал останавливаться здесь, пока не доставит на место девушку, но один из офицеров вышел на полосу движения, как раз перед ним, и жезлом указал ему на обочину, автопилот отреагировал автоматически и остановил машину. Офицер жестом приказал машине съехать с дороги. Зерчи не мог не повиноваться. Два подошедших офицера полиции остановились, посмотрев на номер машины, и потребовали документы. Один из них с любопытством посмотрел на женщину с ребенком, обратив внимание на красную карточку. Другой махнул на стоящую в неподвижности линию пикета.
— Значит, за всем этим кроетесь вы, не так ли? — он хмыкнул, глядя на аббата. — Что ж, у этого джентльмена в коричневом мундире есть для вас кое-какие новости. И думаю, что вам лучше прислушаться к ним, — мотнув головой, он показал на коренастого судейского чиновника, который торжественно приближался к ним.
Ребенок снова заплакал. Мать утомленно стала утешать его.
— Эта женщина и ребенок плохо чувствуют себя. Прошу вас, дайте нам возможность вернуться в аббатство. А затем я вернусь.
Офицер еще раз взглянул на девушку.
Она не отрывала глаз от лагеря, а затем перевела взгляд на высящуюся над ним статую.
— Я здесь выйду, — безжизненным голосом сказала она.
— Вам здесь будет лучше, — сказал офицер, снова приковываясь взглядом к красной карточке.
— Нет! — Дом Зерчи схватил ее за руку. — Дитя мое, я запрещаю тебе…
Молниеносным движением офицер схватил священника за кисть.
— Отпустите ее! — рявкнул он и продолжил уже мягче: — Мэм, это ваш опекун… или кем он вам приходится?
— Нет.
— В таком случае, какое у вас право запрещать женщине выйти из машины? — потребовал ответа офицер. — Не выводите нас из терпения, мистер, и вам бы лучше…
Не обращая на него внимания, Зерчи быстро стал говорить с молодой женщиной. Она отрицательно покачала головой.
— Тогда ребенок. Отдай мне ребенка, я отвезу ее к сестрам. Я настаиваю…
— Мэм, это ваш ребенок? — спросил офицер.
Девушка уже вышла из машины, но Зерчи продолжал держать ребенка. Девушка кивнула.
— Мой.
— Он задерживает вас как пленницу?
— Нет.
— Что бы вы хотели делать, мэм?
Она помолчала.
— Вернуться в машину, — подсказал ей Зерчи.
— Придержите язык, мистер! — рявкнул офицер. — Леди, что с ребенком?
— Мы обе выходим здесь, — сказала она.
Зерчи, захлопнув дверцу, попытался стронуть машину, но рука офицера нырнула в открытое окно, нажала кнопку «Отмена» и вырвала ключ из гнезда зажигания.
— Попытка похищения? — крикнул ему один из офицеров.
— Возможно, — сказал тот и открыл дверцу. — А теперь убери лапы от ребенка!
— Чтобы ее здесь убили? — спросил аббат. — Вам придется применить силу.
— Фел, зайди-ка с другой стороны.
— Нет!
— А теперь перехвати-ка ему горло дубинкой. Вот так, дави! Все в порядке, леди — вот ваш ребенок. Хотя я вижу, что вы его не удержите, особенно с вашими костылями. Корс? Где Корс? Эй, док!
Аббат Зерчи увидел знакомое лицо, пробивавшееся к нему сквозь окружающую толпу.
— Возьмите ребенка, пока мы держим этого психа, ясно?
Доктор и священник молча поглядели друг на друга, когда ребенка вытащили из машины. Офицер отпустил руки аббата. Один из полицейских, обернувшись, увидел, что окружен послушниками, высоко вздымавшими вверх свои лозунги. Он решил, что плакаты могут быть потенциальным оружием, и рука его потянулась к пистолету.
— Назад! — рявкнул он.
Удивленные послушники повиновались.
— Вылезай!
Аббат вышел из машины и оказался лицом к лицу с толстеньким судейским чиновником. Тот хлопнул его по руке сложенным листом бумаги.
— Вот ордер на ваше задержание, выданный судом. Я должен зачитать его и объяснить вам. Вот вам копия. Офицеры засвидетельствуют, что вы препятствовали вашему задержанию, на что вы не имеете права…
— Давайте его сюда.
— Вот это правильно. Вы будете привлечены к суду по следующему обвинению: «Принимая во внимание, что истец ссылается на серьезное нарушение общественного порядка…»
— Бросьте лозунги вон в ту кучу пепла, — дал указание послушникам Зерчи. — Потом залезайте в машину и ждите, — не обращая внимания на произносимые слова, он, сопровождаемый по пятам судебным исполнителем, продолжавшим монотонно зачитывать текст, подошел к офицеру. — Я арестован?
— Мы подумаем об этом.
— «…и он должен предстать перед судом в назначенный день, дабы дать объяснения по поводу указания…»
— В чем меня обвиняют?
— Если потребуется, мы представим четыре или пять обвинений.
Из ворот показался вернувшийся Корс. Женщину с ребенком уже проводили на территорию лагеря. На озабоченном лице доктора читалась тень вины.
— Послушайте, отче, — сказал он. — Я знаю, как вы ко всему этому относитесь, но…
Кулак аббата Зерчи с размаха врезался в лицо врача. Корс потерял равновесие и тяжело шлепнулся на асфальт шоссе. На лице его было неподдельное изумление. Он несколько раз шмыгнул носом. Внезапно из него потекла кровь. Полицейский заломил руки священнику.
— Подведите его к машине, — сказал один из офицеров.
Автомобиль, к которому его подтащили, был не его собственным, а тяжелым бронированным полицейским лимузином.
— Судье ты не очень понравишься, — мрачно пообещал ему полицейский. — А теперь стой тут и не дрыгайся. Одно движение — и на тебя наденут наручники.
Аббат и полицейский стояли, дожидаясь у лимузина, пока судебный исполнитель, врач и другой офицер полиции совещались на обочине шоссе. Корс прижимал к носу платок.
Беседовали они минут пять. Преисполненный стыда, Зерчи прижался лбом к гладкому металлу и попытался погрузиться в молитву. Его совершенно не интересовало, что они могут с ним сделать. Он думал только о ребенке и о молодой женщине. Он видел, что она уже была готова передумать, и ей был нужен только приказ: «Я, священнослужитель Божий, повелеваю тебе!..», которому она с благодарностью подчинилась бы — если бы только они не заставили его остановиться, где она увидела, как «священнослужитель Божий» стал нарушителем целой кучи законов, сцепившись с «Королевскими автоинспекторами». Никогда еще Царство Божье не казалось ему столь далеким.
— Ну ладно, мистер. Ну и повезло, скажу я вам.
Зерчи взглянул на него.
— Что?
— Доктор Корс отказывается подавать на вас жалобу. Он сказал, что сам разберется. За что вы его ударили?
— Спросите у него.
— Мы спрашивали. Я пытаюсь решить, то ли взять вас с собой, то ли влепить вам штраф. Судейский говорит, что вас в округе хорошо знают. Чем вы занимаетесь?
Зерчи покраснел.
— Так ли это для вас важно? — он притронулся к нагрудному кресту.
— До тех пор пока тип с таким украшением не бьет кого-то по носу, меня это совершенно не интересует. Чем вы занимаетесь?
Зерчи подавил последний приступ гордости.
— Я аббат братства святого Лейбовица в монастыре, расположенном ниже по дороге.
— И это дает вам право нападать на людей?
— Я прошу прощения. Если доктор Корс согласен выслушать меня, я готов извиниться перед ним. Если вы вручите мне повестку в суд, я обязуюсь явиться.
— Фел?
— Тюрьма забита «ди-пи», перемещенными лицами.
— Послушайте, если мы предадим забвению все, что здесь было, обещаете ли держаться подальше от этого места и не подпускать к нему свою команду?
— Да.
— Отлично. Езжайте. Но если вы позволите себе хотя бы сплюнуть, проезжая мимо, этого будет достаточно.
— Благодарю вас.
Когда они двинулись с места, где-то в глубине парка заиграл орган. Обернувшись, Зерчи увидел, как стала вращаться карусель. Офицер помял ладонями свое лицо, хлопнул судейского по спине, и, разойдясь по своим машинам, они тоже уехали. И хотя за спиной его сидели пять послушников, Зерчи чувствовал, что он остался наедине со своим стыдом.
Глава 29
— Убежден, что тебя предупреждали о недопустимости таких вспышек гнева? — допрашивал отец Лехи кающегося грешника.
— Да, отче.
— Ты признаешь, что в определенном смысле у тебя было намерение убить обидчика?
— Намерения убивать у меня не было.
— Ты пытаешься найти себе оправдание? — спросил исповедник.
— Нет, отче. У меня не было намерения причинить вред. Я обвиняю себя в том, что и в мыслях, и в деяниях нарушил пятую заповедь, что согрешил против справедливости и милосердия. И навлек бесчестие и неприятности на мою обитель.
— Ты признаешь, что нарушил обет никогда не прибегать к насилию?
— Да, отче. И глубоко раскаиваюсь в этом.
— Единственное смягчающее обстоятельство заключается в том, что, увидев, как красная волна гнева захлестывает тебя, ты отступил. Часто ли ты позволяешь себе так распускаться?
Допрос продолжался, и владыка аббатства стоял на коленях перед приором, который судьей возвышался над своим учителем.
— Хорошо, — сказал отец Лехи. — Теперь что касается наказания, ты должен дать обет…
Зерчи приехал к часовне через полтора часа, но миссис Грейлс все еще ждала его. Она стояла в исповедальне на коленях у кресла с высокой спинкой и, казалось, дремала. Растерянный и усталый, аббат надеялся, что уже не застанет ее. Он должен был сам принести покаяние, прежде чем сможет выслушать ее. Он преклонил колени перед алтарем и минут двадцать читал покаянные молитвы, которые отец Лехи возложил на него в виде епитимьи, но когда он вернулся в исповедальню, миссис Грейлс по-прежнему была там. Он дважды обратился к ней, прежде чем она услышала и, поднимаясь с колен, слегка споткнулась. Оправившись, она прикоснулась к лицу Рашель, погладив скрюченными пальцами ее сомкнутые ресницы и губы.
— Что-то не в порядке, дочь моя? — спросил он.
Она подняла голову к высоким проемам окон. Взгляд ее блуждал по сводчатому потолку часовни.
— Ох, отче, — прошептала она. — Я чувствую приближение Великого Ужаса. Великий Ужас близок, он совсем рядом с нами. Мне нужно принести покаяние, отче, — и кое-что еще, если будет на то ваша воля.
— Что еще, миссис Грейлс?
Она прошептала еле слышно в сложенные ладони.
— Мне нужно дать Ему отпущение грехов.
Священник отшатнулся.
— Кому? Я не понимаю.
— Отпущение грехов… тому, кто сделал меня такой, какая я есть, — прохныкала она. Но затем губы ее растянулись в медленной улыбке. — Я… я никогда не прощала его…
— Простить Бога? Как ты можешь?… Он же… Он — Справедливость, Он — Любовь. Как ты можешь говорить?
Ее глаза умоляюще обратились к священнику.
— Неужели старая помидорница не может чуть-чуть простить Его за ту Справедливость, что Он даровал ей? Прежде чем я покаюсь перед Ним?
Дом Зерчи сглотнул комок в горле. У ног его простиралась двухголовая тень. Ее очертания напоминали об ужасе той Справедливости, что досталась этой женщине. Он не мог заставить себя обвинить ее в том, что она прибегла к слову «простить». На ее простом языке это означало, что она имеет право простить и справедливость и несправедливость, и Человек имеет право простить Бога, так же как Бог прощает Человека. «Да будет так, и имей с ней сам, Господи, дело», — подумал он, накидывая епитрахиль.
Прежде чем войти в исповедальню, она перекрестилась перед алтарем, и он заметил, что во время крестного знамения пальцы ее прикоснулись и ко лбу Рашель. Опустив тяжелую занавесь, он прошел в свою половину кабинки и шепнул сквозь решетку:
— Чего ты взыскуешь, дочь моя?
— Благословите меня, отче, ибо я грешна…
Говорила она, запинаясь, и то и дело останавливаясь. Он не мог видеть ее в сумраке, который царил за решеткой. Оттуда доносился лишь низкий непрестанный шепот женщины. Все то же, все то же, вечно все то же, и даже двухголовая женщина не может найти путей сопротивления злу, кроме как бессмысленно подражать тому существу, на которого она должна была быть похожа. По-прежнему мучаясь стыдом за свое поведение по отношению к женщине и девочке, доктору и полицейскому, он почувствовал, что ему трудно сосредоточиться. Руки по-прежнему дрожали, пока он слушал исповедь. За решеткой исповедальни было слышно глухое непрерывное бормотание, напоминавшее далекий рокот. Гвозди пронзают ладони и глубоко входят в древесину. Словно воплощение Христа, он почувствовал невыносимую тяжесть той ноши, которую Он в тот же момент перенял на себя… Дело касалось ее сожителя. Темное это было дело, темное и тайное, которое, завернутое в старую газету, было где-то тайно схоронено в ночи. Он плохо понимал, что она ему говорит, чувствуя лишь, как в нем растет ужас.
— Если ты хочешь сказать мне, что повинна в аборте, — прошептал он, — должен сообщить, что отпущение таких грехов дает только епископ, и я не могу…
Он остановился. Издалека донесся слабый раскат грома, и он услышал мерный рокот ракет, идущих к цели.
— Великий Ужас! Великий Ужас! — завопила старуха.
Волосы у него на голове зашевелились.
— Быстрее! Кайся! Возлагаю на тебя десять «Аве, Мария», десять «Отче наш». Позже повторишь исповедь, а пока принесешь покаяние.
Он слышал, как она что-то бормотала с той стороны решетки. Быстро, на одном дыхании он дал ей отпущение грехов: «Ныне отпущаеши во имя Господа нашего Иисуса Христа…».
Прежде чем он завершил формулу отпущения грехов, сквозь толстую ткань занавеси исповедальни проникло сияние. С каждой долей секунды оно слепило все больше и больше, пока внутренность кабинки не озарилась ослепительным полуденным светом. Занавес задымился.
— Ждать! — простонал он. — Ждать, пока все не прекратится!
— Ждать, ждать, ждать, пока все не прекратится, — эхом отозвался странный мягкий голос из-за решетки. Это не был голос миссис Грейлс.
— Миссис Грейлс? Миссис Грейлс?
Она ответила ему еле слышным сонным бормотанием:
— Я никогда не думала… никогда не думала… никогда не любила… любила… — голос угас, но это был не тот голос, который он слышал несколько мгновений назад.
— А теперь бежим — быстрее!
Не оглядываясь, дабы убедиться, что она следует за ним, он выскочил из исповедальни и побежал по проходу нефа к алтарю. Свет чуть померк, но он по-прежнему жаром обжигал кожу. Сколько секунд осталось? Церковь была полна клубов дыма.
Ворвавшись в святилище, он перепрыгнул на верхнюю ступеньку, торопливо перекрестился и подбежал к алтарю. Дрожащими руками он схватил хранилище тела Христова, снова перекрестился перед Престолом и с телом Бога своего выскочил наружу.
За его спиной рухнуло здание.
Когда он пришел в себя, то не увидел ничего, кроме сплошной пыли. От пояса и ниже он был придавлен к земле. Он лежал, уткнувшись лицом в пыль и грязь, пытаясь пошевелиться. Одна рука была свободна, а вторая придавлена тем же грузом, который обрушился на него. В свободной руке он по-прежнему держал дарохранительницу, но она ударилась при падении, и крышка ее слетела, высыпав несколько облаток.
«Он вышвырнут взрывом из церкви», — решил аббат. Лежа на земле, он видел остатки розовых кустов, заваленных обломками камня. На ветке остался один нетронутый бутон — Армянская Оранжевая, заметил он. Листья и почки были опалены.
Высоко в небе был слышен рев моторов, и пыльный сумрак озарился синей вспышкой. Сначала боли он не чувствовал. Он попытался вывернуть шею, чтобы взглянуть на сидящего на нем бегемота, но тут же ощутил резкую боль. Он тихо вскрикнул. Больше смотреть назад он не осмеливался. Пять тонн камня подмяли его под себя. Точнее все, что оставалось от него ниже пояса.
Он начал собирать облатки, торопливо двигая свободной рукой. Каждую из них он заботливо отряхивал от земли. Порывы ветра отбросили несколько частиц тела Христова. «Во всяком случае, Господи, я старался, — подумал он. — Кому нужен этот последний обряд? Кто причастит умирающего? Им придется ползти ко мне, если это потребуется. Но остался ли кто-либо в живых?».
Сквозь чудовищный грохот до него не доносилось ни одного голоса.
Кровь стала заливать ему глаза. Он вытер ее предплечьем, чтобы не касаться облаток окровавленными пальцами. «Это не та кровь, Господи, она моя, а не Твоя».
Большинство разбросанной плоти господней ему удалось собрать в сосуд, но до нескольких облаток он так и не смог дотянуться. Он было напряг тело, но снова потерял сознание.
— ИисусМарияИосиф! На помощь!
Он разобрал, как ему кто-то отвечает, и в реве, идущем с неба, он едва услышал в отдалении трудно различимый голос. То был странный незнакомый мягкий голос, который он слышал в исповедальне, и снова он повторил его слова:
— иисусмарияиосиф на помощь.
— Кто это? — вскрикнул он.
Несколько раз он обращался с призывом, но ничего не услышал. Пыль начала оседать. Он закрыл дарохранительницу крышкой, чтобы пыль не попала на плоть Христову. И какое-то время просто лежал с закрытыми глазами.
Одна из тревог, которая была связана с саном священника, заключалась в том, что ты неизменно должен был следовать советам, которые давал другим. «“Природа не требует ничего из того, что не мог бы вынести сам”. Эти слова стоиков я и должен был бы поведать ей перед тем, как передать ей божьи указания», — подумал он.
Боль почти стихла, но начался яростный зуд в той части тела, которая ему больше не подчинялась. Он попытался почесать ноющее место, но пальцы наткнулись на голую поверхность камня. Несколько мгновений он скреб ее, но потом, содрогнувшись, отвел руку. Зуд сводил его с ума. Разможженные и изуродованные нервные окончания посылали в мозг дурацкие приказы. Он чувствовал унизительность такого положения.
«Итак, доктор Корс, будете ли вы утверждать, что боль — куда более страшное зло по сравнению с зудом?»
Он улыбнулся при этой мысли. Смешок заставил его погрузиться в черное забытье. Выкарабкиваясь из него, он услышал, как кто-то стонет. Внезапно священник понял, что стонет он сам. Зерчи внезапно испугался. Зуд заставлял его испытывать муки агонии, но стон был продиктован неподдельным ужасом, а не болью. От страдания у него даже перехватывало горло. Агония не прекращалась, но он мог терпеть ее. Ужас поднимался к нему из черных безоглядных глубин. Тьма наваливалась на него, терзала, жадно ждала его — огромная темная пасть, разъятая в ожидании его души. С болью он еще мог бороться, но не с этим Темным Ужасом. И стоит только тьме навалиться на него, он уже будет не в состоянии что-то делать.
Устыдившись своих страхов, он попытался обратиться к молитве, но слова ее звучали скорее как извинение, а не как мольба, словно уже отзвучала на земле последняя молитва и умолкли звуки последнего гимна. Страх не отпускал его. За что? Он попытался понять, что случилось. «Ты же видел, как умирают люди, Джет. Ты видел многих на смертном одре. Все очень просто. Они постепенно уходят, а потом небольшая конвульсия — и все кончено. Эта чернильная Тьма — всего лишь провал между «здесь» и «там», непроглядный Стикс между Господом и Человеком. Слушай, Джет, а ты в самом деле веришь, что на том берегу есть Что-то? Тогда почему ты так трясешься?»
Строфа из псалма «День Гнева» всплыла у него в памяти, и он принялся повторять ее: «Что я, нищ и наг, могу поведать? К кому могу припасть я за защитой и опорой, когда в простом человеке еле теплится жизнь?».
Почему «еле теплится жизнь?». Ведь Он же не отнимет от себя простого человека. Тогда почему же тебя бьет дрожь?
«Нет, доктор Корс, зло, с которым вы боретесь, — не страдания, а слепой страх ожидания страданий. И когда вы всецело поймете это, ваше страстное желание дать миру безопасность, чтобы воцарился рай земной, и приведет вас к пониманию “корней зла”, доктор Корс. Уменьшить страдания мира и как можно надежнее обеспечить его спокойствие — вот достойная цель любого общества и правителя. Но этот искаженный, изуродованный мир пришел к другому концу. Ясно, что стремясь к высоким целям, он добился предела страданий и беззащитности мира.
Все беды мира проходят через меня. Прими их на себя, дорогой мой Корс. Нет “всемирного зла”, кроме того, что воплощено в Человеке, — и отец лжи лишь чуть содействует ему. Проклиная всех, проклиная даже Господа. — О, только не меня. Доктор Корс? Единственное зло, ныне оставшееся в мире, заключается в том, что мира больше не существует». Почему его терзает такая боль?
Он снова попытался рассмеяться, но это ничтожное усилие обрушило его в чернильную тьму.
— Я суть Адам и Христос во мне, я суть Человек, я суть Адам и Христос во мне, — громко сказал он. — Знаешь что, Пат?.. они были… были вместе… и лучше быть распятым, но не оставаться в одиночестве… и когда они истекали кровью… они смотрели друг на друга. Потому что… потому что так оно и есть. Потому что Сатана жаждет, чтобы Человек нес в себе свой ад. Я имею в виду, что Сатана жаждет претворить ад в образе Человека. Потому что Адам… И все же Христос… Но я все же… Слушай, Пат…
На этот раз ему потребовалось больше времени, чтобы выкарабкаться из Тьмы, но он должен успеть все растолковать Пату прежде, чем снова свалится туда.
— Слушай, Пат, все потому, что… потому что я должен был сказать о ее ребенке… вот почему. Так я думаю. Я думаю, что Иисус никогда бы не потребовал сделать такую вещь человеку, если бы сам не был готов пойти на такое. Почему я не смог остановить ее, Пат?
Он моргнул несколько раз. Пат исчез. Из рассеивающейся тьмы перед ним снова предстал мир. Как-то ему стало теперь ясно, чего он боялся. Прежде чем Тьма сомкнется над ним навсегда, он еще должен кое-что сделать. «Боже милостивый, позволь мне успеть». Он боялся, что умрет раньше, чем на долю его выпадет столько же страданий, сколько достанется ребенку, который даже не понимает их, ребенку, которого он старался спасти для дальнейших мук — нет, не ради них, а несмотря на них. Он приказывал матери именем Христа. Он не ошибался. Но ныне он боялся скользнуть опять в темноту до того, как примет на себя столько страданий, сколько Бог соизволит ему послать.
Quem patronum rogaturus, Cum vix justus sit securus[58]«Ради ребенка и его матери. Я должен принять то, что будет мне ниспослано».
Решение это, казалось, уменьшило боль. Какое-то время он лежал неподвижно, а потом не без любопытства снова посмотрел на груду камня, завалившую его. Здесь, пожалуй, больше, чем пять тонн. На нем все восемнадцать столетий. Взрыв разрушил гробницы, потому что он заметил среди камней несколько костей. Он с усилием вытянул свободную руку и наконец получил возможность дотянуться до находки. Он положил ее на землю рядом с дарохранительницей. Челюсть черепа исчезла, но сам он был цел, если не считать дырки во лбу, откуда торчали остатки полусгнившего древка. Они напоминали остатки стрелы. Череп был очень древен.
— Брат, — шепнул он, ибо никто, кроме монахов ордена, не находил себе успокоения в этих гробницах.
«Чем ты служила им, Кость? Учила их читать и писать? Помогала им вставать на ноги, несла им слово Христово, помогала восстанавливать культуру? Не забывала ли ты их предупреждать, что Эдем недостижим? Конечно, они это слышали от тебя. Благословляю тебя, Кость, — подумал он и пальцем начертил крест у нее на лбу. — За все свои страдания, ты, брат, заплатил стрелой между глаз. Ибо это больше, чем пять тонн камня и восемнадцать столетий за моей спиной. Я думаю, что за этим стоит два миллиона лет — с тех пор как на земле появился Человек одушевленный».
Он снова услышал голос — тихий, отдающийся эхом голос, который недавно отвечал ему. На этот раз он пел что-то вроде детской песенки: «Ла, ла, ла, ла-ла-ла…».
Хотя это был тот же самый голос, который он слышал в исповедальне, он, конечно же, принадлежал не миссис Грейлс. Она простила Бога и поспешила к себе домой, если успела вовремя выбраться из часовни. «И прошу тебя, Господи, прости ее отступничество. Он не был так уж уверен, что имел дело с отступничеством. Слушай, Старый Череп, а не поведать ли мне это Корсу? Слушайте, дорогой мой Корс, а почему бы вам не простить Бога за допускаемые им страдания? Ведь перед ними и человеческое мужество, и храбрость, и благородство, и самопожертвование — все становится бесполезным. Да и кроме того, в таком случае вы останетесь без работы, Корс, если он прислушается к вам.
Может, об этом мы и забываем, Череп? Бомбы и вспышки гнева и ярости царят в мире, чем все дальше уходим мы от полузабытого рая. И ярость эта направлена против Бога. Слушай, Человече, ты должен отбросить ее — «я хотела бы простить Бога», как она говорила, и пусть это желание простить придет раньше всего, даже раньше любви.
Иначе останутся только бомбы и ненависть. Они не забывают ничего».
Он забылся во сне. Это был настоящий сон, а не уродливое беспамятство Темноты. Пошел дождь, прибивая пыль к земле. Проснувшись и оторвав подбородок от земли, он обнаружил, что не один. С похоронной торжественностью на куче щебня сидели уже трое и смотрели на него. Он пошевелился. Они распростерли черные полотнища крыльев и нервно зашипели. Он бросил в них обломок. Двое взлетели и стали кругами ходить над ним, а третий остался сидеть, переминаясь в странном танце с ноги на ногу и серьезно глядя на него. Сумрачная и уродливая птица, но в ней нет ничего от Другой Тьмы.
— Обед еще не совсем готов, брат мой птица, — раздраженно сказал он. — Тебе придется подождать.
«Много мяса тебе не достанется, — отметил он, — если ты сама раньше не пойдешь на пищу своим собратьям». Оперение ее было сильно опалено вспышкой, один глаз заплыл и не открывался. Птица нахохлилась под дождем, каждая капля которого, как понял аббат, несла в себе смерть.
— ла ла ла ла-ла-ла подожди подожди пока умрет ла…
Снова возник тот же голос. Зерчи испугался, что у него начинаются галлюцинации. Но птица тоже услышала его. Она подняла голову и стала всматриваться в то, что было вне поля зрения Зерчи. Наконец она гневно зашипела и поднялась в воздух.
— Помогите! — слабым голосом крикнул он.
— Помогите, — попугаичьим эхом отозвался странный голос.
Обойдя кучу щебня, перед глазами его показалась двухголовая женщина. Остановившись, она посмотрела вниз на распростертого Зерчи.
— Слава Богу! Миссис Грейлс! Посмотрите, сможете ли вы найти отца Лехи…
— слава богу миссис грейлс посмотрите сможете ли вы…
Он проморгался от крови, заливавшей ему глаза, и внимательно присмотрелся к ней.
— Рашель, — выдохнул он.
— рашель, — ответило существо.
Она опустилась на колени рядом с ним и присела на пятки. Глядя на него холодными зелеными глазами, она улыбнулась невинной улыбкой. Глаза ее были полны тревоги, удивления, любопытства, может, чем-то еще — но было ясно, что она не понимала его страданий. В глазах ее было нечто, от чего он несколько секунд не мог отвести от нее взгляда. Но вдруг он заметил, что голова миссис Грейлс бессильно свесилась на то плечо, с которого улыбалась Рашель. Улыбка ее была полна юной застенчивости, которая взывала к дружбе. Он снова попытался обратиться к ней.
— Послушай, есть тут кто-то еще в живых? Иди и…
Ответ ее был торжественен и мелодичен:
— послушай есть тут кто-то еще в живых… — она смаковала каждое слово. Она отчетливо произносила их. Она улыбалась, слыша их. Ее губы старательно артикулировали, когда голос произносил звуки. То было больше, чем рефлекторное подражание, понял он. Она хотела что-то сообщить. Повторением она старалась поведать: «Я похожа на вас».
Но она только сейчас начала жить.
«И ты совершенно иная», — с благоговейным ужасом подумал Зерчи. Он припомнил, что миссис Грейлс страдала от артрита в обеих ногах, но тело, принадлежавшее ей, присело на пятки с мягкой грацией юности. Более того, морщины на коже старой женщины несколько разгладились, она порозовела, словно ее старая ороговевшая плоть стала омолаживаться. Внезапно он увидел ее руки.
— Вы же ранены!
Зерчи показал на ее руки. Вместо того чтобы посмотреть, куда он показывает, она повторила его жест, глядя на его палец и вытягивая свой, прикоснувшись к его, — для этого она пустила в ход пораненную руку. Крови на ней было немного, но на руке было не меньше дюжины ссадин, и одна из них была довольно глубокая. Он взял ее за палец, чтобы притянуть руку поближе. Он вытащил из разрезов пять кусков битого стекла. То ли она выбила руками окна, то ли, что скорее всего, при взрыве ее засыпало битым стеклом. Только он вытащил дюймовый остроконечный осколок, как пошла кровь. Но когда вытащил остальные, на их месте остались лишь синеватые следы, и раны больше не кровоточили. Это напомнило ему сеанс гипноза, свидетелем которого он однажды был, оценив нечто подобное, как обман и жульничество. Снова взглянув на ее лицо, он почувствовал, как в нем вздымается ужас. Она по-прежнему улыбалась ему, словно извлечение осколков стекла не доставило ей никаких неудобств.
Он перевел взгляд на лицо миссис Грейлс. На нем лежала серая маска смертных мук. Губы были бескровными. Как-то ему стало ясно, что она умирает. Он представил себе, как она съеживается и наконец отпадает от тела, как струп или отрезанная пуповина. Но кто же, в конце концов, Рашель? Или что?
Политые дождем камни по-прежнему сочились сыростью. Смочив палец, он поманил ее, чтобы она наклонилась пониже к нему. Кем бы она ни была, скорее всего, ей досталось столько радиации, что долго она не проживет. Хладным пальцем он начал чертить крест у нее на лбу:
— Ныне крещу тебя… — зашептал он знакомые слова на латыни.
Больше ничего сделать ему не удалось. Она стремительно отпрянула от него. Улыбка застыла на ее лице и исчезла. Казалось, она тщится крикнуть «Нет!». Она отвернулась от него. Вытерев влажный след со лба, она закрыла глаза и позволила рукам безвольно упасть на колени. На лице ее было теперь выражение полного бесстрастия. Было похоже, что, склонив голову, она готовится молиться. Постепенно бесстрастность исчезала, и на лице Рашель снова появилась улыбка. Она росла и ширилась. Когда она открыла глаза и снова взглянула на него, он увидел в них ту же теплоту. Она стала озираться, словно в поисках чего-то.
Взгляд ее упал на дарохранительницу. Прежде чем он успел что-то сделать, Рашель взяла ее.
— Нет! — хрипло выкрикнул он и попытался схватить ее. Она оказалась проворнее его, а усилие стоило ему еще одного обморока. Когда он снова пришел в себя и поднял голову, ему все окружающее предстало словно сквозь пелену тумана. Она по-прежнему стояла перед ним на коленях. Наконец он сумел разобрать, что она взяла золотую чашу в левую руку, а правой осторожно держит большим и указательным пальцами одну облатку. Хотела ли она предложить плоть Христову ему, или же, как это было недавно, ему только померещилось, что он разговаривает с братом Патом?
Он подождал, пока рассеется туманная пелена. На этот раз она все не уходила.
— Господи, — прошептал он, — не покинь меня, и да не падет на меня гнев твой…
Он взял у нее из руки облатку. Она закрыла дарохранительницу крышкой и надежно пристроила ее в более защищенное место, под прикрытием нависшего камня. Она не сделала ни одного продуманного движения, но почтительность, с которой она протянула к нему руку, убедила его, что она чувствует присутствие. Она, которая еще не умела произносить слов и не понимала их, действовала словно по прямому указанию, как ответ на его попытку крестить ее.
Он попытался сфокусировать глаза на лице этого существа, которое одним лишь жестом сказало ему: я не хочу, чтобы ты первым давал мне Причастие, ибо я сама могу дать тебе причастие к Вечной Жизни. Теперь он понял, кем она была, и слабо всхлипнул, не в силах снова взглянуть в спокойные холодные зеленые глаза существа, которое родилось свободным.
— Прими душу мою, Господи, — прошептал он. — Душа моя славит Господа, а дух мой воссоединится со Спасителем, ибо он не позволит остаться в одиночестве творению рук своих… — он хотел, уходя, напоследок научить ее этим словам, ибо был уверен, что в ней есть что-то от Богоматери, которая первая сказала их.
Он задохнулся прежде, чем кончил фразу. Все плавало перед ним как в тумане, он плохо различал, кто находится перед ним. Но холодные пальцы коснулись его лба, и он услышал, как она сказала одно лишь слово:
— Живи.
И она ушла. Он слышал, как ее голос затихал в свежих руинах:
— ла ла ла ла-ла-ла…
И пока он жил, перед ним стояли эти холодные зеленые глаза. Он не задавался вопросом, почему Бог вызвал к жизни это существо с его первозданной невинностью, выросшее на плече миссис Грейлс, и почему Бог одарил ее сверхъестественным ощущением близости Эдема — вручил ей этот дар, который человек все время пытался обрести грубой силой с тех незапамятных времен, когда был изгнан из него. В этих глазах он видел ничем не затуманенную невинность и обещание воскрешения. Один лишь этот взгляд столь щедро одарил его, что он заплакал от благодарности. Затем он опустил лицо во влажную грязь и затих в ожидании.
И ничего более не пришло к нему — ничего, что он мог бы видеть, слышать или чувствовать.
Глава 30
Они пели, поднимая детей на корабль. Они пели старые космические гимны и по одному подсаживали детей на трап, передавая их в руки сестер. Они пели от всей души, чтобы малыши не боялись. Когда горизонт взбух и взорвался, пение прекратилось. Последний ребенок проследовал в корабль.
Когда монахи поднимали трап, горизонт ожил вспышками разрывов. Его залило красное зарево. На чистом безоблачном небе вспухли громады серых туч. Монахи, стоявшие на трапе, из-под руки посмотрели на молнии вспышек. Когда они погасли, монахи вернулись к своему делу.
Образ Люцифера чудовищным грибовидным обликом, встающим из дымных туч, медленно поднимался к небу, как титан, встающий на ноги после веков заточения на земле.
Кто-то сверху отдал приказ. Монахи поспешили наверх. Скоро все были в корабле.
Последний входивший на несколько секунд замешкался у люка. Он остановился в его проеме, сбрасывая свои сандалии.
— Так проходит слава мира, — пробормотал он древнее латинское выражение, глядя на занимающееся зарево. Он пошлепал подошвами сандалий друг о друга, отряхивая с них пыль и прах. Зарево уже занимало треть небосвода. Почесав бороду, он бросил последний взгляд на океан, сделал шаг назад и задраил люк.
Раздался тонкий протяжный свист, сменившийся грохотом, ударил столб пламени, и межзвездный корабль стал подниматься в зенит.
С мерным рокотом буруны били о берег, выбрасывая остатки плавника. За их полосой плавала брошенная летающая лодка. Через несколько минут буруны подхватили ее и выбросили на берег вместе с плавником. Она легла на бок, сломав крыло. В бурунах кружились креветки, и их пожирали мерланги, а за ними охотились акулы, с удовольствием поедавшие мерлангов, и морские просторы были полны жестокой охоты, непрерывной охоты.
Ветер летел над океаном, неся с собой полосы прекрасного белоснежного пепла. Пепел опадал в море, крутясь в вихрях бурунов. Буруны выбрасывали на берег, в залежи плавника, мертвых креветок. В воде качались округлые тела мерлангов. Акулы ушли в далекие глубины в поисках прохладных океанских течений. Они были очень голодны.
Уолтер Миллер, Терри Биссон Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь
Примечание
Этот вымышленный Устав ордена святого Лейбовица представляет собой адаптацию Устава бенедиктинского ордена, обосновавшегося в юго-западной пустыне после падения Великой цивилизации, но не подлежит сомнению, что выдуманный монах из аббатства Лейбовица не всегда соблюдал его столь же истово, как монахи ордена святого Бенедикта.
Разрешение на публикацию любезно предоставлено издательством «Литургическая пресса» из Колледжвилля (Миннесота) с правом цитирования перевода Леонарда Дж. Дойля «Устава для монастырей святого Бенедикта»; авторские права 1948 г. принадлежат ордену святого Бенедикта.
Глава 1
«Слушай, сын мой, наставления своего учителя и да склони ухо к своему сердцу».
Первое предложение Устава.«И тем не менее, кто бы ты ни был, тот, кто спешит к небесной отчизне, исполни, да поможет тебе Христос, тот минимум Устава, что написан нами для начинающих; а затем, по прошествии времени, под Божьим покровительством ты достигнешь высочайших вершин тех доктрин и добродетелей, о которых шла речь выше».
Последнее предложение Устава.Между этими фразами, написанными примерно в 529 году н. э., в Темные Века, лежат безыскусные предписания святого Бенедикта относительно образа жизни в монастырях, которые существовали даже во мраке, оставшемся от Magna Civitas[59].
Пока брат Чернозуб Сент-Джордж, явившийся из самовольной отлучки, сидел, подрагивая, в полутемном коридоре перед залом заседания и ждал, когда трибунал окончательно определит ему меру наказания, он вспоминал, как старший дядя взял его с собой посмотреть на Женщину Дикую Лошадь в ходе племенной церемонии Кочевников равнин, когда дьякон (Полукровка) Коричневый Пони, который в то время прибыл на равнины с дипломатической миссией, пытался с помощью святой воды изгнать владевших ею шаманов и заставить ее дух покинуть зал совета. Незадолго до этого вспыхнул бунт, состоялось покушение на персону молодого дьякона, тогда еще не кардинала, и нападавшие на него шаманы («дьявольские лекари») все скопом были казнены только что окрещенными кочевниками. Чернозубу тогда было всего семь лет, и он не увидел Женщину, но старший дядя настаивал, что она присутствовала в дыме костра, пока не начался шум. Он верил дяде так, как, наверное, не верил отцу. Позже, еще до возвращения домой, он видел ее дважды — один раз, когда она, обнаженная, скакала на неоседланной лошади по гребню хребта, и еще раз — в слабых отсветах костра, когда она в облике Ночной Ведьмы слонялась за оградой поселения. Он отчетливо запомнил, что видел ее. Ныне же его связь с христианством требовала, чтобы, возвращаясь к своим воспоминаниям, он считал их детскими видениями. Одно из самых неправдоподобных обвинений в его адрес гласило, что он спутал ее с Матерью Божьей.
Трибунал продолжался. В холле не было часов, но прошло не менее часа с того времени, когда Чернозуб получил право свидетельствовать в свою защиту, а затем был выставлен из зала заседаний, который на самом деле был трапезной аббатства. Он пытался не думать ни о причине задержки, ни о смысле того факта, что по чистому совпадению слушание возглавлял тот самый дьякон, ныне кардинал (Красный Дьякон), Коричневый Пони, взявший на себя роль amicus curae[60]. Кардинал прибыл в монастырь от папского престола всего неделю назад, и, хотя об этом не оповещалось, было отлично известно, что основная цель его пребывания здесь заключалась в необходимости обсудить с аббатом, кардиналом Джарадом, избрание папы (третье за последние четыре года), которое будет незамедлительно организовано после того, как нынешний папа кончит агонизировать.
Чернозуб так и не смог решить, пойдет ли ему на пользу участие в судилище знаменитого кардинала Полукровки. С той же ясностью, с которой он помнил ночь изгнания злых духов, он помнил и то, что в те дни Коричневый Пони был не особенно расположен к Кочевникам равнин — и к диким, и к усмиренным. Кардинала вырастили сестры матери на территории, завоеванной Тексарком. Ему рассказали, что его мать, Кочевница, была изнасилована тексарским кавалеристом и ребенка она бросила на руки сестер. Но в последние годы кардинал освоил язык Кочевников и потратил много времени и усилий, добиваясь альянса между диким народом равнин и папством в изгнании, нашедшим себе убежище в Валане, что в Скалистых горах. В жилах Чернозуба тоже текла чистая кровь Кочевников, хотя его покойные родители были перемещены в места, где тянулись сельские угодья. У его матери не было кобылы, и посему он не обладал никаким статусом среди диких племен. Его этническое происхождение не давало ему никаких преимуществ в монашеской жизни; собратья терпимо относились к этому его недостатку, если не считать вопросов веры. Но в так называемом цивилизованном мире, лежащем за пределами монастыря, считаться Кочевником было довольно опасно, разве что он обитал на равнинах.
Чернозуб слышал громкие голоса, доносящиеся из трапезной, но не мог разобрать ни слова. Так или иначе, но для него все кончено, не осталось ничего, кроме последней кары, и не подлежало сомнению, что это будет тяжелее всего.
В нескольких шагах от скамейки, сидя на которой, он ждал приговора, была ниша, а рядом стояла статуя святого Лейбовица. Брат Чернозуб сполз со скамейки и направился к статуе помолиться, тем самым нарушив данное ему последнее указание: сидеть здесь, никуда не уходить. Похоже, у него вошло в привычку нарушать обет послушания. «Даже собака будет сидеть на месте», — напомнил ему ехидный внутренний голос.
Sancte Isaac Eduarde, ora pro me![61]
Преклонять колена перед образом предписывалось так близко, что Чернозуб не мог, подняв глаза, увидеть лица святого, поэтому предпочел молиться у его босых ног, стоящих на вязанке хвороста. Но он и так до мельчайших подробностей знал выражение этого старого морщинистого лица. Он помнил, что, когда впервые оказался в аббатстве, его преосвященство Гидо Гранеден, тогдашний аббат, приказал вынести статую из своего кабинета, традиционного места ее обитания, и поместить в коридор, где она ныне и стояла. Предшественник Гранедена совершил кощунство, приказав выкрасить прекрасную старинную деревянную статую в «живые цвета», и Гранеден, который любил статую в ее подлинном виде, не мог вынести ни ее теперешнего обличья с намалеванной жеманной улыбкой, с закатившимися под лоб точками зрачков, ни запахов и звуков, исходивших от реставраторов, работавших in situ[62]. Чернозуб никогда не видел полностью раскрашенную статую, ибо к его прибытию голова и плечи деревянного изображения уже освободились от грубых напластований краски. Временами какой-нибудь небольшой участок обрабатывался фосфорной кислотой, которую стряпали братья фармацевт и уборщик. Как только краска начинала вздуваться, они старательно обдирали ее, стараясь не повредить дерево. Процесс шел очень медленно, и Чернозуб провел в аббатстве не меньше года, когда реставрация подошла к концу; но к тому времени пустое пространство в кабинете аббата было отдано шкафу с папками, так что статуя осталась стоять в коридоре.
Реставрация, по крайней мере по мнению тех, кто помнил первоначальный вид статуи, была еще не завершена. Порой брат-плотник останавливался в коридоре и, неодобрительно хмурясь, принимался зубочисткой прочищать морщинки у глаз или же тонкой шкуркой проглаживать меж пальцами. Он беспокоился, не пострадает ли дерево, с которого сдирают краску, часто протирал его маслом и любовно полировал. Статуя была вырезана примерно шестьсот лет назад, когда Лейбовиц еще не был канонизирован, скульптором по имени Финго, и блаженный являлся ему в видениях. Близкое сходство облика статуи с посмертной маской, которую Финго никогда не видел, явилось доводом в пользу канонизации, поскольку подтверждало реальность видений Финго.
После Святой Девы Лейбовиц являлся любимым святым Чернозуба, но пора было возвращаться. Он перекрестился, встал и с собачьей покорностью поплелся к скамье, на которой ему предстояло «сидеть и не двигаться». Никто не видел его за молитвой, кроме живущего в нем чертенка, который обозвал его лицемером.
Чернозуб отчетливо помнил, как он в первый раз обратился с просьбой освободить его от конечных обетов как монаха ордена святого Лейбовица. Многое произошло в тот год. До него дошли известия о кончине матери. В том году аббат Джарад получил красную шапку от папы в Валане; в том же году Филлипео Харг был коронован как Ханнеган Тексарский Седьмой, корону возложил его дядя Урион, архиепископ имперского города. Но, может, самым главным было то, что шел третий год трудов Чернозуба (порученных самим преосвященным Джарадом) по переводу всех семи томов Liber Originum[63] преподобного Боэдуллуса. Труд старого монастырского автора (являющийся высокоученой, но весьма умозрительной попыткой реконструировать по последующим свидетельствам достаточно правдоподобную версию истории самого темного из столетий — двадцать первого), написанный на причудливой неолатыни, предстояло перевести на самый сложный из временных языков — на родной язык брата Чернозуба, диалект Кузнечиков Кочевников равнин, у которых, до завоевания Ханнеганом II (3174–3175 гг. до н. э.) тех мест, что когда-то именовались Техасом, даже не было приемлемого фонетического алфавита.
Несколько раз, еще перед тем как он молил снять с него тягостные обеты, Чернозуб просил освободить его от этой обязанности, но преосвященный Джарад счел его отношение к обетам образцом упрямства, глупости и неблагодарности. Аббат был одержим идеей превратить скромное собрание книг на языках Кочевников в дар высокой культуры от монастырской Меморабилии христианской цивилизации. Все еще погруженным во мрак невежества племенам, продолжавшим кочевать по северным равнинам, бродячим пастухам однажды откроется свет грамотности, зажженный миссионерами. В недавнем прошлом миссионеров поедали, но они продолжали нести знания, тем более что теперь по договору Священной Кобылы, заключенному между ордами и прилегающими аграрными государствами, их больше не считали съедобной добычей. Поскольку уровень грамотности среди свободных племен Кузнечиков и орд Диких Собак, которые кочевали со своими мохнатыми коровами к северу от реки Нэди-Энн, по-прежнему не превышал пяти процентов, оставалось лишь надеяться, что такая библиотека все же принесет пользу. Это понимал преосвященный аббат, хотя брат Чернозуб, до начала работы полный искреннего желания доставить удовольствие своему настоятелю, объяснил преосвященному Джараду, что три основных диалекта Кочевников различаются только на слух, а не в письменном виде, и если создать некую общую орфографию и упразднить специфические племенные идиомы, перевод можно сделать понятным даже для грамотных бывших Кочевников, подданных Ханнегана VI на юге, где в хижинах, на полях и в конюшнях по-прежнему говорят на диалекте Зайца, а вот ол’заркским языком правящего класса пользуются лишь в усадьбах, в залах судов и в полицейских казармах. Уровень грамотности среди истощенного нового поколения вырос до одной четверти, и когда преосвященный Джарад представил себе, как эти малютки обретают свет знаний, знакомясь с образами великого Боэдуллуса и других выдающихся лиц ордена, отговорить его от этой идеи стало невозможно.
Свое убеждение, что этот проект продиктован тщеславием и пропадет втуне, брат Чернозуб не осмеливался никому высказывать и три года лишь молча сетовал на растрату сил и талантов, которые впустую вкладывал в выполнение этой задачи, с трудом преодолевая интеллектуальное убожество своих трудов. Он надеялся, что аббат не сможет предъявить ему претензии, ибо кроме него в монастыре достаточно хорошо понимали язык Кочевников, чтобы читать на нем, лишь брат Крапивник Сент-Мари и Поющая Корова Сент-Марта, его старые друзья, он знал, что преосвященный Джарад не обратится к ним за помощью. Но преосвященный Джарад заставил его сделать дополнительную копию одной главы и послал ее своему другу в Валану, члену Святой Коллегии, который, как оказалось, безукоризненно говорит на диалекте Зайцев. Приятель аббата получил удовольствие и выразил желание по завершении работы прочесть все семь томов. Этим приятелем оказался не кто иной, как Красный Дьякон, кардинал Коричневый Пони. Аббат призвал переводчика в свой кабинет и зачитал ему хвалебные строки из письма.
— Кардинал Коричневый Пони лично принимал участие в обращении в христианство нескольких известных семей Кочевников. Так что, как видишь… — он замолчал, потому что переводчик начал плакать. — Чернозуб, сын мой, я не понимаю. Ты же теперь образованный человек, ученый. Конечно, монахом ты стал случайно, но я понятия не имел, что тебя так мало волнует все, что ты тут усвоил.
Чернозуб вытер глаза рукавом рясы и попытался возразить, высказав слова благодарности, но пресвященный Джарад продолжил:
— Вспомни, каким ты был, когда явился сюда, сын мой. Всем вам троим было по пятнадцать лет, и ты не знал ни одного слова на цивилизованном языке. Ты не мог написать своего имени. Ты никогда не слышал о Боге, хотя, как выяснилось, был неплохо осведомлен о существовании гоблинов и ночных ведьм. Ты думал, что конец света пролегает к югу от этих мест, не так ли?
— Да, владыка.
— Очень хорошо. А теперь подумай о сотнях, подумай о тысячах юных дикарей, твоих соплеменниках, точно таких, каким ты был тогда. О своих родственниках, о друзьях. И теперь я хочу знать: что может наполнить твою жизнь большим смыслом, дать большее удовлетворение, чем возможность принести своему народу начатки религии, цивилизации и культуры, которые ты усвоил здесь, в аббатстве святого Лейбовица?
— Может, отче аббат забыл, — сказал монах, который к тридцати годам обрел грустное костистое лицо, а из-за скромной застенчивой манеры поведения его свирепые предки никоим образом не узнали бы своего соплеменника. — Я не родился свободным или среди дикарей, как и мои родители. У моей семьи не было лошадей со времен моей прапрабабушки. Мы говорили на языке Кочевников, но трудились на ферме. Настоящие Кочевники называли нас пожирателями травы и плевали в нас.
— Ты не рассказывал этого, явившись сюда! — укоризненно заметил Джарад. — Аббат Гранеден решил, что ты из диких Кочевников.
Чернозуб опустил глаза. Знай аббат Гранеден, кто он такой, отослал бы его домой.
— Значит, настоящие Кочевники плюют на вас? — задумчиво заключил преосвященный Джарад. — В чем же причина? Предполагаю, ты не мечешь бисер перед этими свиньями?
Брат Чернозуб открыл и снова закрыл рот. Он покраснел, напрягся, скрестил руки, положил ногу на ногу, привел их в прежнее положение, закрыл глаза, нахмурился, сделал глубокий вдох и заворчал было сквозь зубы:
— Вовсе не бисер…
Но аббат Джарад прервал его, чтобы предотвратить взрыв эмоций:
— Ты настроен пессимистично относительно этих перемещенных племен. Ты считаешь, что у них в любом случае нет будущего. Я же считаю, что оно есть, и намеченную работу надо делать, ты единственный, кто на это способен. Помнишь обет послушания? Забудь цель трудов своих, если ты не веришь в нее, и обрети цель в самой работе. Ты же помнишь изречение: «Труд — это молитва». Думай о святом Лейбовице, о святом Бенедикте. Подумай о своем призвании.
Чернозуб взял себя в руки.
— Да, мое призвание, — с горечью сказал он. — Как-то я подумал, что призван к молитве… к молитве и созерцанию. Во всяком случае, так мне было сказано, отче аббат.
— Ну а кто же сказал тебе, что монах, погруженный в размышления, не должен трудиться? А?
— Никто. Я не говорю…
— Значит, ты, по всей видимости, должен считать, что усвоение знаний — это самый худший труд для того, кто погружен в созерцание. Не так ли? Ты думаешь, что если будешь скрести каменные полы или выносить дерьмо из уборных, то станешь ближе к Богу, чем переводя достославного Боэдуллуса? Послушай, сын мой, если ученость несовместима с созерцательным образом жизни, чего тогда стоит жизнь святого Лейбовица? Чем бы мы тогда занимались в Юго-Западной пустыне двенадцать с половиной веков? А что же те монахи, которые обрели святость, трудясь в том скриптории, где ты сейчас работаешь?
— Но это не то же самое…
Чернозуб сдался. Он попал в ловушку аббата, и, чтобы выбраться из нее, должен был заставить Джарада признать эту разницу, чего, как он знал, Джарад старательно избегает. Существовал вид «учености», который представлял собой религиозную практику созерцательности, свойственную данному ордену, но не имел ничего общего с головоломным трудом по переводу текстов достославного историка. Он знал, что Джарад имел в виду оригинальную работу, имеющую вид ритуала, по сохранению Меморабилии Лейбовица — фрагментарных, с трудом понимаемых записей о Magna Civitas, Великом государстве. Записей, спасенных от сожжения времен Упрощения самыми первыми последователями Айзека Эдварда Лейбовица, любимого святого Чернозуба после Девственницы. Поздние последователи Лейбовица, дети темного времени, самоотверженно взяли на себя довольно бессмысленный труд по копированию, перекопированию, запоминанию и даже исполнению хором этих загадочных записей. Эта скучная утомительная работа требовала полного и бездумного внимания, при минимуме воображения, с помощью которого копиист мог увидеть какой-то смысл в бессмысленном сплетении линий, отображавших диаграммы и забытые идеи двадцатого столетия. Она требовала полной самоотдачи и погружения в работу, которая сама по себе была молитвой. Когда человек, творя молитву, полностью уходил в нее, какой-то звук, слово, звон монастырского колокола могли заставить его изумленно поднять глаза от копировального стола и увидеть, как таинственно преобразился окружающий мир, который сияет божественным постоянством. И может, тысячи усталых копиистов на цыпочках входили в этот рай через ворота из разрисованного пергамента, но эта работа не имела ничего общего с головоломными стараниями познакомить Кочевников с Боэдуллусом. Тем не менее Чернозуб решил не спорить.
— Я хотел бы вернуться в мир, владыка, — твердо сказал он.
Ответом ему было мертвое молчание. Глаза аббата превратились в блестящие щелки. Чернозуб моргнул и отвел взгляд в сторону. Какое-то насекомое с жужжанием влетело в комнату, описало два круга и приземлилось на шею Джарада; пробежавшись по ней, оно вспорхнуло и с жужжанием вылетело в то же окно.
Из-за приоткрытой двери соседней комнаты доносились приглушенные голоса новичков или послушников, повторявших затверженные ими куски Меморабилии, но тишина от этого не нарушалась.
«…И завихрения магнитного поля, оцениваемые в ходе времени, интенсифицируют вектор плотности потока электричества в сочетании с уже существующим вектором плотности. Но третий закон утверждает, что отклонение вектора плотности потока электричества приводит…» — голос был тихим, мягким, почти женским и тараторил с такой скоростью, словно монах перебирал четки, размышляя над одним из Таинств. Голос был знакомым, но Чернозуб не мог определить его владельца.
Наконец преосвященный Джарад вздохнул и заговорил:
— Нет, брат Чернозуб, ты не можешь снять с себя обеты. Тебе тридцать лет, но что ты представляешь из себя за стенами обители? Четырнадцатилетнего беглеца, не знающего, куда направить стопы. Фу! Да любой простак скрутит тебе шею, как цыпленку. Твои родители скончались, не так ли? И земля, которую они возделывали, им не принадлежала. Так?
— Как я могу получить свободу, отче аббат?
— Упрямец, какой упрямец. Что ты имеешь против Боэдуллуса?
— Ну, с одной стороны, он презрительно относится ко всем Кочевникам…
Чернозуб остановился; ему угрожала опасность попасть в другую ловушку. Ничего он не имел против Боэдуллуса. Ему нравился Боэдуллус. Для святого темных веков Боэдуллус был рассудителен, любознателен, находчив — и нетерпим. Это была нетерпимость цивилизованного человека по отношению к варварам, или владельца плантаций к бродячим погонщикам скота, или же, скажем, Каина к Авелю. Та же самая нетерпимость была и в Джараде. Но дело было не в мягком презрении Боэдуллуса к Кочевникам. Чернозуб ненавидел весь замысел в целом, но по другую сторону стола сидит его учитель, который смотрит на него с болезненной скорбью. В монастыре преосвященный Джарад всегда был для Чернозуба учителем, но сейчас он представлял нечто большее. Кроме кольца аббата он носил красную ермолку. Как его преосвященство кардинал Кендемин, возлюбленный принц Церкви, Джарад мог с тем же правом носить и титул «Победителя во всех спорах».
— Есть ли для меня какой-нибудь способ уйти в мир, милорд? — снова спросил Чернозуб. Джарад подмигнул.
— Нет! Если хочешь, даю тебе три недели, чтобы прочистить мозги. Но больше не задавай таких вопросов. И не пытайся меня шантажировать подобными намеками.
— Не будет никаких намеков, никакого шантажа.
— Вот как? Если я снова откажу тебе, ты перемахнешь через стенку, не так ли?
— Я этого не говорил.
— Отлично! Теперь слушай, сын мой. Исходя из данного тобой обета послушания, ты принес ему в жертву все свои личные желания. Ты обещал повиноваться, а не делать вид, что ты подчиняешься. Твоя работа — это твой крест, понятно? Поэтому благодари Бога и неси его. И возноси молитвы, возноси молитвы!
Поникнув, Чернозуб уставился в пол и медленно покачал головой.
Чувствуя, что одержал победу, преосвященный Джарад продолжил:
— И я больше не хочу слышать подобных вещей, во всяком случае, пока ты не завершишь все семь томов, — он встал. Чернозуб тоже поднялся. Затем, посмеиваясь, словно разговор доставил ему удовольствие, аббат выставил переписчика из кабинета.
В коридоре Чернозуб прошел мимо Поющей Коровы, спешащего на вечерню. Правило молчания было в силе, и никто из них не обронил ни слова. Поющая Корова ухмыльнулся. Оба его спутника, вместе с которыми Чернозуб бежал с пшеничных плантаций, знали, почему он хотел увидеть пресвященного Джарада, и никто не испытывал к нему симпатии, они считали, что ему досталось тепленькое местечко. Поющая Корова работал в новом печатном цехе. Крапивник — на кухне, где числился братом вторым поваром.
Крапивника он увидел тем же вечером в трапезной. Второй Повар стоял у раздаточной линии, большой деревянной ложкой накладывая на поднос порции каши. Каждый из проходивших бормотал: «Deo gratias», — и Крапивник кивал в ответ, словно говоря «Милости просим».
При появлении Чернозуба Крапивник подцепил ложкой большую порцию каши. Чернозуб прижал поднос к груди и движением пальца дал понять, что порция слишком велика, но Крапивник как раз повернулся, чтобы дать необходимые указания поваренку. Когда Чернозуб опустил поднос, Крапивник и вывалил на него всю порцию.
— Забери половину! — прошептал Чернозуб, нарушив молчание. — Голова болит! — Крапивник приложил палец к губам, покачал головой, кивком показал на надпись «Санитарные правила» за раздаточной линией, потом кивнул на указатель у выхода, где уборщик подбирал недоеденное.
Чернозуб опустил поднос на стол. Горстью правой руки он набрал каши, а левой схватил Крапивника за рясу. Залепив ему физиономию комком каши, стал размазывать ее, пока Крапивник не укусил его за большой палец.
Настоятель принес приговор прямо в «камеру» Чернозуба: решением его пресвященства Джарада он освобожден от работы в скриптории на три недели, вместо чего ему придется все это время, вознося молитвы, скрести каменный пол на кухне и в трапезной. И двадцать один день Чернозубу придется смиренно вымаливать прощение у Крапивника, ползая на коленях по мыльному полу. Больше года прошло, прежде чем он снова осмелился поднять вопрос о своей работе, о своем призвании и о своих обетах.
В течение этого года Чернозуб заметил, что община внимательно присматривается к нему. Он чувствовал, что отношение стало меняться. То ли изменилось отношение к нему других, то ли изменения крылись в нем самом, но результатом стало одиночество и отчужденность. В хоре он поперхнулся на словах, говоривших о едином хлебе и едином теле, «где вас много, там и я среди вас». Его приобщенность к пастве, казалось, никому не была нужна. Слова «я хочу уйти» вырвались у него прежде, чем он успел по-настоящему их обдумать; но он не только произнес эти слова, но и позволил другим их услышать. Среди принявших постриг, кто, дав торжественный обет, бесповоротно посвятил себя Богу и правилам ордена, монах, высказывающий сожаление по сему поводу, был аномалией, источником смущения, предвестником событий, достойных сожаления. Кое-кто откровенно избегал его. Другие посматривали на него со странным выражением. Остальные были подчеркнуто любезны.
Новых друзей он нашел среди самых молодых членов паствы, послушников и кандидатов на пострижение, еще не успевших в полной мере принять Устав. Одним из них был Торрильдо, очаровательной внешности юноша, чей первый год пребывания в аббатстве был уже неоднократно отмечен нарушениями. Когда Чернозуб был сослан на кухню и три недели нес груз покаяния, выскребая полы, он обнаружил, что рядом с ним трудится Торрильдо, наказанный за какие-то нарушения, о которых ничего не было известно. Приглушенный голос, читавший Меморабилию в соседней с кабинетом преосвященного Джарада комнате во время той злосчастной беседы, принадлежал Торрильдо. Они разительно отличались друг от друга кругом интересов, происхождением, характером и возрастом, но общее наказание сблизило и позволило сформироваться приятельским отношениям.
Торрильдо был рад, обнаружив, что монах, старше его по возрасту, не относится к числу непогрешимых. Чернозуб, не признаваясь самому себе, что завидует относительной свободе послушника, позволяющей ему покинуть обитель, представил себя на месте Торрильдо и проникся его проблемами. Торрильдо обладал обаянием и многочисленными талантами (что ускользало от внимания многих других послушников). Чернозуб поймал себя на том, что дает ему советы, и даже растерялся, когда Поющая Корова мрачно сообщил, что Торрильдо копирует его манеру поведения и стиль речи. Их отношения стали напоминать союз отца и сына и послужили причиной еще большего отчуждения от принявших постриг монахов, которые откровенно хмурились при виде их отношений. Чернозуб начал осознавать, что ему трудно отделять неодобрение, высказываемое общиной, от укоров собственной совести. Как-то ночью ему приснилось, что он преклоняет колена в часовне, готовый принять причастие. «Пусть Тело Господа нашего Иисуса Христа ведет вас к вечной жизни», — повторял священник каждому, кто принимал причастие; но когда он приблизился, Чернозуб узнал в нем Торрильдо, который, кладя облатку ему на язык, наклонился и прошептал: «И тот, кто преломляет хлеб со мной, предаст меня».
Задыхаясь и давясь кашлем, Чернозуб проснулся, пытаясь выплюнуть живую жабу, устроившуюся у него на языке.
Глава 2
«Первая степень смирения — это безоговорочная покорность. Она — добродетель тех, кто чтит Христа выше всех прочих ценностей, тех, кто, посвятив себя святому служению и, приняв постриг, боясь ада и прославляя вечную жизнь, тех, кто, услышав приказ своего Владыки, воспринимает его как божественное указание и не позволяет себе ни минуты промедления, исполняя его».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 5.Когда брат Чернозуб в лихорадочной спешке завершал перевод одиннадцатой главы седьмого и последнего тома Боэдуллуса, из Валаны (в Свободном Государстве Денвер) в аббатство прибыл посланец с трагической вестью. Папа Линус VI, если не святейший, то умнейший из последних пап, (человек, взявший на себя ответственность за устранение ереси, возникшей после времен завоевания) скончался от сердечной слабости, после того как, стоя по голень в ледяных струях ручья, ловил удочкой форель, одновременно беседуя с делегацией курии, в это время располагавшейся на берегу. Возражая им, он напомнил, что Господь никогда не призывал Петра покончить с рыболовством, даже отряжая его добывать рыбу для людей. Линус тактично указал, что Петр, первохранитель папского престола, сразу же после Воскрешения взял с собой в лодку пятерых апостолов. Затем папа замолчал, побледнел, выронил удочку, схватился за грудь и с силой выдохнул: «Иду ловить рыбу», — после чего рухнул в холодную воду. Уже потом было отмечено, что он процитировал Святое Благовествование от Иоанна (21:3).
Как только поступило послание, аббат начал упаковывать святые регалии. Он оповестил полустанок на папской дороге, что ему понадобится вооруженный эскорт и что отрядил брата Ливеримана, дабы тот держал в готовности упряжку самых быстрых лошадей, чтобы совершить путешествие без задержек. Слезы у аббата мешались с нервной испариной, и он переходил от взрывов скорби к радостному возбуждению от подготовки к дороге. Именно покойный папа сделал его кардиналом, и его впервые ждало участие в выборах папы. Община понимала, какие смешанные чувства его обуревают, и старалась не попадаться ему под ноги.
Аббат вознес хвалу Линусу, назначил заупокойную мессу, и после ужина обратился к монахам, собравшимся в трапезной в последний вечер перед его отбытием.
— Во время моего отсутствия обязанности аббата будет исполнять приор Олшуэн. Обещаете ли вы подчиняться ему с тем же христовым послушанием, с каким подчинялись мне?
Присутствующие ответили согласным шепотом.
— Отказывается ли кто-либо от этого обещания?
Воцарилось молчание, но Чернозуб чувствовал, как многие посматривают на него.
— Мои дорогие дети, нам в этом монастыре не подобает обсуждать дела Священной Коллегии или же политику Церкви и государства, — он сделал паузу, обведя взглядом пятна лиц, в свете лампад обращенных к нему. — Тем не менее вам подобает знать, что мое отсутствие может затянуться. Все вы помните, что результатом ереси стало появление двух конкурентов, соперничающих за право претендовать на папский престол, а также беспрецедентное количество кардиналов. И одно из условий, которое должно было положить конец расколу, заключалось в том, что новый папа, да святится имя его, утвердил избрание всех этих кардиналов, независимо от того, какой претендент предложил его. Но это было сделано, и теперь на континенте существует 618 кардиналов, пусть даже кое-кто из них не имеет епископских регалий, а несколько — вообще даже не священнослужители. Поскольку они примерно в равной мере разделены между Востоком и Западом, не исключено, что будет очень трудно собрать большинство в две трети плюс еще один голос, необходимые для избрания папы. Конклав может затянуться. Я надеюсь, не больше чем на несколько месяцев, но точное время предвидеть невозможно. Опасаюсь, что время от времени странники будут приносить вам слухи и сплетни. Поскольку изгнание папы из Нового Рима, окруженного войсками Тексарка, продолжается, враги Валанского папства надеются на возрождение ереси и распускают разнообразные сплетни. Молю вас, не слушайте их.
Силы государства слабеют. Ханнеган Седьмой — далеко не тот тиран, каковым был Ханнеган Второй, пускавший в ход и предательство, и коровью чуму, когда запускал зараженных домашних животных в их стада, дабы отвоевать империю у Кочевников. Ханнеган Второй посылал свою пехоту далеко на запад, вплоть до Залива привидений, и его кавалерия преследовала бегущих прямо у наших ворот. Он убил представителя папы, а когда папа Бенедикт подверг Тексаркану отлучению, захватил все церкви, семинарии и церковные владения. Он занял земли, прилегающие к Новому Риму, и заставил его святейшество искать политического убежища в убогой, рассыпающейся Денверской империи. Ханнеган Второй собрал достаточно епископов с востока, дабы избрать анти… или, скажу я, соперника папы, который восседает в Новом Риме. Так нам достались шестьдесят пять лет раскола.
Но Ханнеганом Седьмым стал ныне Филлипео Харг. Конечно, он наследник завоевателя, но отличается от него. Его предшественником был хитрый и неграмотный полуварвар. Нынешний владетель вырос и получил образование, чтобы править, а некоторые из его учителей были обучены нами. Так что надейтесь, дети мои, и молитесь. Если достойный Ханнеган поспособствует выбору достойного же папы, они смогут прийти к соглашению и положить конец изгнанию. Молитесь, чтобы избранный нами папа смог вернуться в Новый Рим, свободный от гегемонии Тексарка. Повсеместно люди нескрываемо скорбят об оккупации, но нам не принесет пользы, если в Священной Коллегии начнутся споры, должны ли быть выведены войска Тексарка еще до возвращения папы в свой дом. Такое решение примет сам папа, когда он будет избран.
Молитесь за успех выборов — но не за любого кандидата. Молитесь, чтобы Святой Дух направил наш выбор. Церковь нуждается в мудром и безупречном папе, не в восточном или западном, а в настоящем папе, достойном древнего титула «Слуга слуг Божьих», — понизив голос, пресвященный Джарад добавил: — Молитесь и за меня, братья мои. Я всего лишь старый сельский монах, которому папа Линус, может быть, в минуту слабости, пожаловал красную шапку. Если кто-то в коллегии и стоит ниже меня по рангу, то это, должно быть, женщина… э-э-э… ее преосвященство аббатиса из Н’Орка или же мой юный друг дьякон Коричневый Пони, который продолжает оставаться мирянином. Да помогут мне ваши молитвы не наделать глупостей. Но ведь я не буду агнцем среди волков, не так ли?
Тихие смешки и хихиканье заставили Джарада нахмуриться.
— Дабы доказать, что я не враг империи, я пересеку Залив привидений и двинусь через провинцию. Но я должен перенести срок завтрашней мессы. В любом случае день это будничный, так что перед моим отбытием мы исполним псалом старой мессы «Избавление от ереси».
Он распростер руки, словно обнимая свою паству, размашисто начертил в воздухе большой крест, спустился с кафедры и покинул помещение.
Чернозуб остался в крайнем беспокойстве. Он попросил разрешения поговорить с его преосвященством Джарадом до его отбытия, но ему было отказано. В состоянии, близком к панике, он на рассвете поймал под крытой аркадой настоятеля Олшуэна, направлявшегося к заутрене, и вцепился в рукав его рясы.
— Кто тут? — раздраженно спросил Олшуэн. — Мы опаздываем, — он остановился между тенями, которые отбрасывал единственный факел на колонне. — Ах, это ты, брат Чернозуб. Говори же, что там у тебя?
— Его преосвященство Джарад сказал, что выслушает меня, когда я закончу Боэдуллуса. Я почти все кончил, но он уезжает.
— Сказал, что выслушает тебя? Если ты не будешь говорить тише, он и так тебя услышит. Так что он должен был от тебя услышать?
— О перемене работы. Или об уходе из ордена. А теперь он уезжает на долгие месяцы.
— Этого ты не знаешь. В любом случае, что я могу сделать? И что ты имеешь в виду, говоря, что хочешь оставить орден?
— Можете ли вы до отъезда аббата напомнить ему обо мне?
— Что именно относительно тебя?
— Я не могу так жить дальше.
— Даже не спрашиваю, как именно. Мы опаздываем, — с Чернозубом, спешащим бок о бок с ним, Олшуэн двинулся в сторону церкви. — Если у его преосвященства Джарада будет свободная минута этим утром и если я упомяну, в каком ты возбуждении, поймет ли он, о чем идет речь?
— Я уверен, что поймет! Уверен!
— Напомни, что ты там говорил об уходе из ордена? Впрочем, заутреня ждет. Если хочешь, через день-другой приходи ко мне в кабинет. Или я пришлю за тобой. А теперь успокойся. Он недолго будет в отлучке.
Аббат Джарад после того, как провел мессу об устранении ереси, с кафедры выразил пожелание, чтобы в день, назначенный для открытия конклава, все отслужили обещанную мессу для избрания папы и еще одну такую же мессу в первый же день, когда в аббатство поступят новости из Валаны, возможно будет объявлено об избрании нового папы.
После чего Джарад отбыл в сторону Залива привидений. Две дюжины или более того монахов, включая Чернозуба и Торрильдо, сгрудились у парапета восточной стены, наблюдая за столбом пыли, пока тот не скрылся за горизонтом.
— Дабы доказать, что он не враг империи, его преосвященство Джарад проложил свой путь через провинцию, — угрюмо припомнил Чернозуб слова своего господина. — Но взял с собой вооруженную охрану. Зачем она нужна?
— Это тебя огорчает? — спросил Торрильдо, который куда чаще проникался чувствами Чернозуба, чем улавливал его мысли.
— Будь он врагом империи, Торрильдо, для меня все могло бы сложиться иначе.
— Как?
— Так же, как и для остальных, если бы никто не шел на соглашение. И он еще осмелился говорить мне о бисере перед свиньями…
— Не понимаю тебя, брат.
— Я и не ждал, что поймешь. Если мои двоюродные братья Крапивник и Поющая Корова не понимают, то где уж тебе, — смягчая резкость своих слов, он коснулся руки Торрильдо, лежащей на парапете. — И не стоит тебе беспокоиться.
— А я беспокоюсь. Честное слово, — послушник смотрел на Чернозуба серо-зелеными глазами, которые так напоминали ему мягкий и взыскательный взгляд матери. В облике Торрильдо была какая-то женственность. Смущенный напряженностью этого момента, Чернозуб убрал руку.
— Ну, конечно. Только давай забудем. Как ты усваиваешь те трудные куски Меморабилии?
— Они называются уравнениями Максвелла. Я могу их цитировать сверху вниз и снизу верх, но так и не знаю, что это такое и что они означают.
— Я тоже. Но ты и не должен знать. Хотя вот что я могу тебе сообщить: их смысл пытались понять в течение всего прошлого столетия. Предполагалось, что они оказались среди записок, которые Тон Тадео Пфардентротт привез с собой в Тексарк примерно семьдесят лет назад. Я слышал, что уравнения Максвелла числятся среди самых больших сокровищ Меморабилии.
— Пфардентротт? Не тот ли, кто изобрел телеграф? И динамит.
— Думаю, что тот.
— Но если их смысл уже усвоен, почему я должен их запоминать наизусть?
— Предполагаю, что в силу традиции. Нет, не только. Просто слова прокручиваются в памяти, подобно молитве. Повторяй их достаточно долго, и Бог просветит тебя. Так говорят старцы.
— Если кто-то проник в их смысл, может, и я смогу найти его.
— Скорее всего, он ускользнет от тебя, брат. Но если хочешь, можешь попытаться. Ты можешь прочитать труды брата Корнера, который писал о наследии Пфардентротта, но не думаю, что ты их поймешь.
— Брат… кто?
— Корнер. Он придумал ту старую электрическую машину, что хранится в наших подвалах.
— Которая не работает.
— Она работала, когда он ее сделал, но здесь у нее нет практического применения, и на то есть свои причины. Его аббат так и не разрешил ему научить кого-то, как с ней управляться. Ты когда-нибудь видел электрический свет?
— Нет.
— Как и я, а вот дворец Ханнеганов в Тексарке залит им. Они кое-что раздобыли из университета. Брат Корнер и Пфардентротт стали друзьями, но аббат Джером не одобрял их дружбу. А почему ты не прочел тот плакат, что висит над машиной Корнера?
— Я видел его, но никогда не читал. Чистка машины доставляет массу хлопот. В ней масса щелей и отверстий, куда забивается пыль… — Торрильдо был уборщиком подземных помещений и складским учетчиком. — Ты никогда не рассказывал мне о своей Меморабилии, брат Чернозуб.
— Ну, это в основном религиозные тексты. Не думаю, что они представляют какую-то научную ценность. Называются они «Список бакалейных покупок святого Лейбовица», — он постарался скрыть прилив гордости от мысли, что допущен к Меморабилии Основателя, но Торрильдо ничего не заметил.
— Случилось ли что-то особенное, когда ты впервые увидел их?
— Не скажу ни да, ни нет. Может, я так и не удосужился как следует разобраться в них. Как говаривал сам святой Лейбовиц: «Что увидишь, то и бери, мудрая головка».
— Где это высказывание записано? И что оно означает?
Чернозуб, которому нравились загадочные «Высказывания святого Лейбовица», уже приготовился ответить, как колокол пробил шесть ударов сексты, напоминая о возобновлении правила молчания, которое аббат восстановил в утро своего отъезда. Монахи, стоящие у парапета, начали расходиться.
— Если у тебя будет возможность, загляни ко мне в подвал, — нарушая установление, шепнул Торрильдо.
Кочевники, предки Чернозуба, всегда придавали большое значение экстатическим, религиозным или магическим практикам, это наследство, пусть и доставшееся от язычников, считалось вполне совместимым с традиционными мистическими поисками, которые во время жизни в монастыре казались столь естественными и привлекательными. Но по мере того, как его ощущение приобщенности к жизни общины постепенно тускнело, его все менее связывало формальное поклонение ей. Шествия, процессии, совместное распевание псалмов больше не заставляли его воспарять духом. Даже получение евхаристии Святых Даров во время мессы не трогало сердца. Чернозуб чувствовал, что, несмотря на сомнения относительно обетов, данных ордену, он что-то заметно теряет. Он попытался вернуть себе потерянное, погружаясь в одинокие медитации, с которыми расстался в ходе публичного преклонения.
Время, которое монах проводил в одиночестве в своей келье, было ограничено семью ночными часами, и минимум полтора часа из них полагалось проводить в размышлениях или в сосредоточенных молитвах. Часть этого молитвенного времени было отдано чтению боговдохновенных текстов, что было его ежедневной обязанностью в аббатстве, избавлявшей от хорового пения в предписанные часы, но Чернозубу редко требовалось больше двадцати минут, чтобы покончить со своим требником, и оставшееся время он посвящал обращениям к Иисусу и Деве Марии. Тем не менее во сне его часто посещали цветные видения детских мифов и облик Женщины Дикой Лошади, которую ему довелось увидеть.
Его исповедник и духовный наставник часто недвусмысленно предупреждал Чернозуба, что он не должен всерьез воспринимать якобы сверхъестественные проявления, типа голосов или образов, которые возникают во время сосредоточенной поглощенности, ибо такие вещи обычно являются или делом рук дьявола, или просто ложными побочными следствиями предельной концентрации, которая требуется для медитации или поглощенной молитвы. Когда как-то ночью такие видения в самом деле явились к нему в келью, он списал их на счет жара и лихорадки, поскольку за день до этого действительно заболел и был отпущен из скриптория.
Чернозуб опустился на колени на тонкое дощатое покрытие рядом с лежанкой и, не моргая, уставился на маленькое изображение Непорочного Сердца, висящее на стене. Когда мысли успокоились и упорядочились, он снова обратил внимание на картинку. Цвета были размыты, не хватало многих подробностей, и вряд ли она представляла собой что-то большее, нежели символ. Он вознес молитву без слов и рассуждений, и увидел мысленным взором образ и сердце Девы. От жара у него слегка кружилась голова и когда он опустился на колени, его уста сковала немота.
Временами у него темнело в глазах и начинало учащенно биться сердце. Изображение расплывалось перед глазами, и казалось, что он проваливается в какой-то темный коридор, который ведет в пустоту.
В темноте пространства, перед ним возникло живое сердце, которое пульсировало в такт с его собственным. Оно было совершенным во всех подробностях. Укол в левый желудочек выдавил несколько струек крови. По прошествии времени он перестал испытывать страх и удивление, но продолжал в полной отрешенности смотреть перед собой. Он без слов понимал, что перед ним, не сердце Девы Марии, что не удивляло и не смущало его. Просто он принимал то, что в эти минуты представало перед его глазами.
Стук в дверь вывел его из транса. От резкого возвращения к действительности по коже пошли мурашки.
— Benedicamus domino[64], — помолчав, сказал он.
— Deo gratias, — ответил приглушенный голос из коридора. Это был брат Джонан, созывавший всех к заутрене.
Встав, Чернозуб включился в привычную рутину, но волшебное очарование видения не покидало его ни в этот день, ни в следующий. Что было весьма удивительно, тем более что жар его оставил.
Поскольку настоятель Олшуэн так и не вызвал его даже и на третий день отсутствия преосвященного Джарада, Чернозуб сам разыскал его. Олшуэн был старым приятелем Чернозуба; он считался его учителем и исповедником еще до того, как стал настоятелем, но сейчас появление в дверях кабинета давнего ученика не вызвало у него ни улыбки, ни приветствия.
— Вроде не успел я тебя пригласить повидаться, — сказал Олшуэн. — Ну ладно, садись.
Вернувшись в кресло, Олшуэн облокотился на стол, соединил кончики пальцев и наконец одарил Чернозуба тонкой улыбкой. Он ждал.
Вскинув брови, Чернозуб сел на краешек стула. Он тоже ждал. Приор начал попарно разводить пальцы и, шлепая подушечками, снова сводить их. Чернозуба всегда восхищало это умение. Координация движений у настоятеля была отменной.
— Я пришел спросить…
— Его преосвященство Джарад приказал мне выставить тебя, если ты придешь просить о чем-то большем, чем благословение. Разве что ты справился с Боэдуллусом, но я-то знаю, что пока этого нет. Выставлять тебя я не буду, ибо сам пригласил тебя, — он подчеркивал значимость каждой фразы, делая между ними паузы и пошлепывая подушечками пальцев. Так он вел себя только когда нервничал. — Так чего ты хочешь, сын мой?
— Благословения…
Легко разоружившись, вежливый Олшуэн положил на стол руки, наклонился вперед и облегченно рассмеялся.
— …моей просьбы освободить меня от обетов.
С лица Олшуэна сползла улыбка. Он откинулся на спинку кресла, снова свел кончики пальцев и мягко сказал:
— Чернозуб, сын мой, до чего ты грязное и паршивое отродье Кочевников!
— Вы же, конечно, говорили обо мне с его преосвященством Джарадом, отец настоятель, — Чернозуб рискнул выдавить сокрушенную улыбку.
— Он не сказал ничего из того, что ты хотел бы услышать и произнес несколько слов, которые тебе лучше не слышать. Он посвятил этой теме не менее полминуты и говорил очень быстро. Затем приказал мне выставить тебя и уехал.
Чернозуб встал.
— Прежде чем меня выставят, не будете ли вы столь любезны разъяснить мне, как я могу узнать об этой процедуре?
— О какой процедуре? Освобождения от обетов? — Олшуэн дождался утвердительного кивка Чернозуба и продолжил: — Значит, когда выйдешь за дверь, повернешь направо. Через холл дойдешь до лестницы и спустишься к крытой аркаде. Оттуда прямиком к главному входу, через который выйдешь во двор. По другую его сторону — основные ворота, миновав которые, окажешься на дороге. Как только на нее ступишь, считай, что принадлежишь самому себе. Перед тобой лежит путь к новому будущему, — он не счел необходимым добавить, что Чернозуб будет отлучен от Церкви, что его нигде не будут брать на работу, что он будет лишен права обратиться в церковный суд, будет отлучен от всех таинств, все клирики и благочестивые миряне будут избегать его и он может стать жертвой любого, кто поймет, что он, Чернозуб, не имеет права искать защиты ни в одном суде.
— Конечно, я имел в виду освобождение в соответствии с законом.
— В библиотеке есть книги по каноническому праву.
— Благодарю вас, отец настоятель, — Чернозуб собрался уходить.
— Подожди, — смягчаясь, остановил его настоятель. — Скажи мне, сын мой… если после того, как ты кончишь Боэдуллуса, появится возможность — всего лишь гипотетическая, понимаешь?.. Если в таком случае тебе будет предоставлена возможность выбрать себе работу, что бы ты сказал о других занятиях?
Монах замялся.
— Скорее всего я бы тщательно обдумал эти возможности.
— Сколько тебе еще осталось до конца перевода?
— Десять глав.
Олшуэн вздохнул.
— Присядь-ка снова, — сказал он. Порывшись в бумагах на столе, приор нашел запечатанный конверт. Чернозуб увидел на нем свое имя, начертанное рукой преосвященного Джарада. Настоятель надорвал конверт, развернул вложенную в него записку, медленно пробежал ее глазами и поднял взгляд на Чернозуба. Потом опять сложил пальцы и, как раньше, стал постукивать ими друг о друга.
— Список работ?
— Да… он оставил тебе выбор. Когда ты кончишь «Книгу Начал», можешь приняться за «Следы ранних цивилизаций» того же автора. В том случае, если ты заболел и устал работать над достопочтенным Боэдуллусом.
— Я устал и болен от этой достопочтенности.
— В таком случае ты можешь приняться за перевод Иогена Дюрена «Вечные идеи региональных сект».
— На язык Кочевников?
— Конечно.
— Благодарю вас, отец настоятель.
Миновав холл, Чернозуб вышел к лестнице, проследовал через аркаду, вышел через главный вход во двор и, оставив за собой основные ворота, оказался на дороге. Тут он постоял какое-то время, растерянно разглядывая скупой выжженный пейзаж. Ниже по дороге лежала деревушка Санли Боуиттс, а в нескольких милях за ней вздымалась гора с плоской верхушкой, именовавшаяся Столовой, или Последним Пристанищем. Дальше высились другие горы, к которым вел ряд холмов. Почва была покрыта редкими посадками кактусов и юкки, а в низинках местами росла трава и мескитовые кустарники. Вдалеке паслись антилопы, и он видел, как брат-пастух гонит свою отару через перевал, а его пес, порыкивая, кусает за ляжки отстающих.
Фургон, который тащил понурый мул, остановился, обдав Чернозуба облаком пыли.
— В город собрался, брат? — спросил его медведеобразный кучер, как на насесте восседавший на куче мешков с кормом.
Чернозуб испытывал искушение миновать деревню и вскарабкаться на Последнее Пристанище. Он слышал, что там часто бывают люди, и местные монахи порой отправлялись туда в одиночку (с соответствующего разрешения), чтобы обрести духовное озарение в этих диких местах. Но после краткой паузы покачал головой: «Большое спасибо, добрый простак».
Он вернулся через главные ворота и направился в подвальное помещение. Традиции гласят, что, когда святой Лейбовиц основал орден, тут не было ничего, кроме древнего военного бункера и временного хранилища боеприпасов, которые Святой и его помощники ухитрились так замаскировать, что можно было пройти мимо на расстоянии броска камня и не заметить его существования. Именно здесь в давние времена хранилась первая Меморабилия. По Боэдуллусу, ни одно из жилых строений не появилось в этих местах раньше двадцать первого столетия. Монахи, которые обитали в округе в разрозненных убежищах, появлялись здесь только чтобы отдать на сохранение книги и записи; так длилось, пока ярость Упрощения не стала стихать и опасность, угрожавшая драгоценным книгам и документам со стороны бритоголовых и простаков, не стала сходить на нет. Здесь все еще хранящаяся под землей древняя Меморабилия с комментариями позднейших дней ждала своего предназначения, которое, может быть, уже было недалеко и тихо приближалось.
Глава 3
«Пусть монахи спят, не снимая поясов или опоясанные вервием — но только без ножей под боком, чтобы не порезаться во сне… Молодой братии не дозволено делить ложе друг с другом, их место среди тех, кто постарше».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 22.В каждой нише с книгами висели слишком тусклые для чтения масляные светильники. Чтобы разбираться в названиях книг на полках, нужен был другой источник света, который надо было держать в руке. Обычно, чтобы просмотреть книгу, ее приходилось подносить к окну читальни, но Чернозуб пробегал выжимку труда Дюрена «De Perennibus Sententiis Sectarum Rurum»[65], за который вскорости ему придется приниматься, при свете свечи, которую держал у самых страниц. Вскоре он вернул книгу на полку и пошел к Торрильдо, который горбился над старым электрогенератором Корнера — грудой ржавого металла в темной, неосвещенной нише подвала.
— Давай-ка присядем здесь, где нас никто не увидит, — пробормотал Торрильдо, скрываясь в глубокой тени за агрегатом. — Брат Обол ушел, но я не знаю, куда.
Чернозуб помедлил.
— У меня нет необходимости прятаться. У меня есть причины находиться здесь даже без разрешения.
— Тс-с-с! Ты можешь и не шептать, но все же говори потише. Мне разрешено бывать здесь только чтобы наводить порядок. Хотя сейчас это не так уж и важно.
— Что это за дверь? — Чернозуб кивнул на проход в задней части ниши.
— Просто чулан, полный какого-то барахла. Думаю, запасные части к машине. Идем.
Монах снова замялся. От одного вида машины у него шли мурашки по коже. Она напоминала об особом стуле в часовне, который на самом деле был священной реликвией.
После того как завоевания Ханнегана II сделали возможными путешествия и установление связей в мире, оправляющемся после двенадцати столетий, миновавших с того времени, как Magna Civitas погибло в Огненном Потопе, изобретательство приняло характер эпидемии. Большинство открытий, конечно, представляло собой повторение пройденного, основанного на отдельных сохранившихся записях Великой цивилизации, тем не менее появлялись и новые вещи, хитроумные и необходимые. Город Ханнегана нуждался в эффективном и гуманном методе смертной казни. Так что в 3175 году н. э. рядом со строением в аббатстве святого Лейбовица, где хранился генератор электрического тока, появилась пристройка, в которой город Ханнеган империи Тексарк содержал стул с подведенным к нему электрическим током. Первым преступником, казненным по новому методу, был местный монах. Он совершил преступление, предложив аббату предоставить убежище сыну покойного Тона Тадео Пфардентротта, врагу тексарского государства. Правда, его труды в пределах аббатства Лейбовица привели к многим новым изобретениям, что пошли на пользу империи, включая и стул с электрическим током.
Стул был приведен в действие в первый и последний раз. Ханнеган III водрузил его на платформу в центре площади, куда две упряжки мулов притащили электрический генератор, и сам правитель перерезал ленточку перед пружиной, которая позволяла сработать выключателю. К восторгу толпы, напряжение оказалось слишком низким, и монах, издавая крики, умирал слишком медленно. Использование метода было отложено до появления нового, более мощного генератора. Появились паровые двигатели, но стул так никогда и не был извлечен из хранилища, поскольку последующий Ханнеган нашел куда лучшего палача на этом континенте в лице Вушина, предки которого прибыли сюда с самых разных континентов и который владел топором с такой легкостью и артистичностью, что, даже проведя весь день в отсекновении голов, не испытывал усталости и сохранял спокойствие, позволявшее ему погружаться в глубокую медитацию на два часа перед обедом.
Электрический стул в конечном итоге был разобран и переправлен куда-то через южные равнины, а затем оказался за пределами империи у границ Залива привидений. Стул снова появился в аббатстве Лейбовица, где был помещен в церковь над склепом, где хранились кости монаха, умершего на нем, и регулярно в день его смерти перед стулом кадили, орошали его святой водой и чтили память покойного. Аббатство Лейбовица стало единственным монастырем на континенте, обладавшим своим собственным электрическим стулом. Примерно тридцать лет спустя аббатство унаследовало состарившегося палача Вушина, который, пробившись сквозь песчаную бурю, появился у ворот монастыря, прося воды и убежища. Это случилось всего три года назад.
— Ты собираешься стоять на виду, пока меня не поймают? — нетерпеливо спросил Торрильдо.
Чернозуб вздохнул и вслед за ним протиснулся в темную дыру. Кто-то набросал на полу за машиной кучу истертых матрацев, лохмотья которых пахли плесенью. Но они с удобствами устроились в темноте за агрегатом.
— Никогда не подозревал о существовании этого места, — развеселившись, признал Чернозуб.
— Чернозуб, ты собрался уходить?
Какое-то время монах постарше молчал, раздумывая. Раньше он просто хотел добраться до Последнего Пристанища, принять решение и затем, может быть, вернуться. Словно побуждая к ответу, Торрильдо ощупью нашел его бедро. Чернозуб отвел руку Торрильдо и вздохнул:
— Я только что прочел кусок из книги Дюрена. Это история местных культов и ересей, которые возникали и возвращались в самых разных местах. Бог знает, почему преосвященный Джарад хочет перевести нечто подобное на язык Кочевников. Пока не прочту всю книгу, не могу даже предположить.
— То есть ты не собираешься уходить?
— Как я могу? Я же дал торжественный обет.
Торрильдо сдавленно всхлипнул в темноте.
— А вот я собираюсь убежать.
— Это глупо. В твоем положении нужно только разрешение его преосвященства Джарада, а для послушников оно является пустой формальностью.
— Но его преосвященство Джарад уехал. А я должен уйти немедля! — было слышно, как Торрильдо продолжал всхлипывать. Желая успокоить, Чернозуб обнял его за плечи. Тот прислонился к нему и тихонько заплакал, уткнувшись в ямку между ключицами.
— Так что с тобой делается? — спросил монах постарше.
Торрильдо поднял голову и едва не уткнулся лицом в Чернозуба. Тот видел лишь смутный овал его лица, на котором выделялись красивые глаза.
— Ты в самом деле любишь меня, Чернозуб?
— Конечно, люблю, Торри. Что за вопрос?
— Ты — единственная причина, по которой я торчу тут последние месяцы.
— Не понимаю.
— О, говори, что хочешь, но все ты понимаешь. Да просто не могу я тут больше оставаться. У тебя будут из-за меня неприятности. Я порочен. Я не смогу хранить тебе верность.
— О чем ты говоришь? Какую верность? — Чернозуб беспокойно заерзал на жестком матрасе.
— Ты так умен и в то же время так наивен, — Торрильдо сжал лицо Чернозуба тонкими нежными руками. — Я ухожу. Не хочешь ли поцеловать меня на прощанье? — почувствовав, как Чернозуб дернулся, он уронил руки. — Значит, не хочешь.
— Конечно же, хочу, Торри, — Чернозуб осторожно даровал ему мирный поцелуй, сначала клюнув в правую щеку, а затем…
— Ох-х-х, — простонал юноша и с силой сжал его в страстном объятии.
Чернозуб почувствовал, как к его рту прижимаются чужие губы и язык старается приоткрыть сжатые зубы. Задохнувшись, он отвел голову и откинулся назад. Торри упал на него и запустил руки под подол рясы, скользя ими вверх по ногам. Чернозуб был сначала испуган, а затем пришел в ужас, обнаружив у себя эрекцию, которую воспламененный Торрильдо воспринял с откровенной радостью.
— Торри, нет!
— Ты же знаешь, я всегда хотел быть девушкой…
Дверь в чулан резко распахнулась. Чья-то тощая рука просунула внутрь фонарь, который повис у них над головами. При внезапной вспышке света Чернозуб увидел четыре голые ноги и два возбужденных пениса.
— Содомиты! — завопил старший библиотекарь брат Обол. — Я поймал тебя! Наконец я поймал тебя, нечистое отродье! К настоятелю! — он хотел пнуть голую ляжку Торрильдо, но промахнулся.
Обол тяжело дышал у них над головами. В свое время он был обладателем единственной пары очков в аббатстве, приобретенных для него в Тексарке, но в силу религиозных причин отказался от них. И теперь, схватив Торрильдо за руку, он кричал на Чернозуба, который заполз за машину:
— Элвен! Брат Элвен! Вылезай оттуда, грязный развратник!
Когда Чернозуб бежал вверх по лестнице, он слышал позади шарканье ног. Постояв на площадке и отдышавшись, он неторопливо прошел через читальню во двор. Там он замер на слепящем солнечном свете, растерянно глядя по сторонам. Близорукий старик по ошибке принял его за брата Элвена, послушника, который работал садовником. Чернозуб несколько раз видел Торрильдо в компании Элвена, но ему ничего подобного не приходило в голову. Похоже, он попал в ловушку, которую библиотекарь подстроил для другого. Но ошибка долго не продлится. По другую сторону двора, у всех на виду Элвен ползал на четвереньках, удобряя навозом почву под кустами роз. Отступить с честью не было никакой возможности. Он направился было в скрипторий, но когда настоятель пошлет за ним, он окажется в двусмысленном положении. Чернозуб снова двинулся в сторону своей кельи, но звук бегущих шагов заставил его обернуться. Это был Торрильдо, который несся к главным воротам. Чернозуб остановился, ожидая взрыва страстей, но ничего не произошло.
Он ждал не менее минуты и, вознеся краткую молитву святому Лейбовицу, принял решение вернуться в подвал. У подножия лестницы его встретили тишина и тусклый свет. Чернозуб нашел свечу, которой недавно пользовался, зажег ее и заглянул за машину. Старик-библиотекарь лежал на спине. Обеими руками он держался за голову и корчился на полу. Лоб его был окровавлен. Чернозуб склонился над ним.
— Кто здесь? — проскрежетал старик.
— Чернозуб Сент-Джордж.
— Слава Богу. Брат, я нуждаюсь в помощи.
Обойдя машину, Чернозуб приподнял старика и подтащил его к лестнице.
— Опусти меня. Я слишком тяжел для тебя. Через минуту я приду в себя.
Они передохнули, опираясь о стену. Затем Чернозуб закинул руку библиотекаря себе на шею и помог ему подняться по ступенькам. Обол стонал и кряхтел.
— Там были Элвен и Торрильдо. Эти развратники. Я знал. Я знал, для чего они туда забираются. Только не мог поймать их. До сегодняшнего дня. Понимаешь, там лужа семени. Выплеснулось. За машиной. Они называют это семинаром. Вот. Вот. Куда же они делись? — кряхтя, он моргал, обозревая мир, который расплывался перед ним.
Чернозуб осторожно усадил его на край стола в читальне и заставил лечь. Монахи торопливо повскакали из-за пюпитров и столпились вокруг. Один из них принес кружку с водой и увлажнил лицо старого библиотекаря. Другой рассматривал рану на голове.
— Что с вами случилось, брат? — спросил кто-то.
— Я поймал их. Я наконец поймал их. Брат Торрильдо и брат Элвен снова занимались этим за электрическим идолом. Торрильдо чем-то ударил меня.
— Ударил вас в самом деле Торрильдо, — сказал Чернозуб. — Но Элвена там не было. Там был я, Чернозуб Сент-Джордж.
Повернувшись, он вышел и неторопливо направился в свою келью. Там он лег на спину и, пока за ним не пришли, рассматривал изображение Непорочного Сердца Девы, висящее высоко на стене.
Поскольку переработка компоста не воспринималась как публичное наказание, он предпочел заниматься именно этим, расставшись с карьерой переводчика монашеской точки зрения на историю для Кочевников, слишком гордых, чтобы читать. Самой пахучей частью его обязанностей была вывозка содержимого нужников и транспортировка его на тачке к первому контейнеру для компоста. Там Чернозуб трижды перемешивал его с выполотыми садовыми сорняками, кукурузными листьями, нарубленными кактусами и остатками еды с кухни. Каждый день он переваливал пахучую массу из одного контейнера в соседний, чтобы в ее содержимое проникал воздух, ускоряя разложение. Когда смесь оказывалась в последнем контейнере, она уже крошилась комьями и теряла немалую долю своих ароматов. Он перекладывал ее в чистую тачку и перевозил к огромной куче рядом с садом, откуда удобрение с удовольствием забирали садовники.
На третий день поле разговора с настоятелем брат Элвен покинул стены обители. Чернозуб ожидал облегчения своей участи. Ничего не последовало. Целых три недели он возносил молитвы в виде перекапывания навоза, считая, что каждая вонючая лопата идет на пользу душе бедного, бедного Торрильдо. «И если даже ему предстоит гореть в адском огне, я не хотел этого, Господи», — молился Чернозуб.
Никто не делал ему оскорбительных замечаний и не шарахался от него (после того как он мылся), но стыд публичного наказания заставлял его уединяться. В своем одиночестве, в келье он по ночам отчаянно томился по неописуемой пустоте, в которой, казалось, произойдет слияние с сердцем Девы: сердцем, в котором нет скорби, но которое открыто для печали, забывая о себе ради этого чувства; сердцем, темная пустота которого скрывает любовь, — и так было, пока он не бросал беглый взгляд на другое, истекающее кровью, но все еще бьющееся сердце.
— Говорят, и у дьявола есть те, кто размышляет над ним, — таков был суровый приговор его исповедника по поводу видений Чернозуба и его углубленных практик. — В центре созерцания должен быть наш Господь. Преклонение перед нашей Девой — это восхитительно, но слишком много монахов обращаются к ней, когда им становятся тесны оковы обетов, когда груз послушания становится слишком тяжел. Они называют ее «прибежищем грешников», и она действительно такова! Но есть два пути: путь Господа и путь грешника. Уделяй больше внимания хору, сын мой, и перестань по ночам гоняться за видениями.
Так Чернозуб получил урок: не упоминать о них. Он видел, что при рассказе о видениях исповедник разгневался, ибо как иначе монах, сожалеющий о принесенных им обетах, может получить прощение, как не через раскаяние и покаяние? Такое же отношение, как он видел, было свойственно и настоятелю Олшуэну, который в конце трехнедельной епитимьи вернул его к привычной работе, но в то же время, к предельной досаде Чернозуба, приказал не менее часа в неделю проводить с братом Примирителем и советоваться с ним.
Брат Примиритель, монах по имени Левион, временами помогал брату-хирургу и был хранителем раздела Меморабилии, в котором шла речь о некоторых аспектах древнего искусства врачевания. Он исследовал случаи старческой немощи, судорог и конвульсий, депрессий, галлюцинаций и упрямства. Кроме того, он был назначен на должность экзорциста. Вне всяких сомнений, Олшуэн счел рассказ Чернозуба о происшествии в подвале демонстрацией воинственного неподчинения, что было или грехом, или признаком безумия.
Тем не менее, столкнувшись с неприятием своих взглядов, Чернозуб продолжал испытывать все растущую преданность Деве. Его прежний идеал, святой Лейбовиц, был, по крайней мере, на время отодвинут в сторону, чтобы освободить больше места для Девы. Он избрал для очередной работы труд Дюрена о непреходящих идеях местных сект, в частности и потому, что многие из сельских религий Дюрена особо культивировали образ Девы Марии или же каких-то местных богинь, позаимствовавших у Марии облик Девы со святым Ребенком на руках. Дюрен упоминал даже о Дне Девственницы, который существует у Кочевников. Скоро Чернозуб пожалел о своем выборе, поскольку столкнулся с исключительными трудностями при переводе на язык Кочевников теологических идей, но на первых порах был захвачен одним разделом («Apud Oregonenses»[66]), в котором шла речь об остатках того, что несколько веков назад именовалась Северо-Западной ересью. Описание верований культа, похоже, могло пролить свет на его собственные мистические видения.
«Орегониане, — писал Дюрен, — считают, что Матерь Божья является носительницей утробного Молчания, в котором при начале творения было сказано Слово. Она была темной Бесконечностью, беременной светом и сутью, и когда Бог громоподобно воскликнул «Да будет свет!», Слово и Молчание возникли одновременно. Они считают, что каждое это слово содержит в себе и другое понятие».
Это истолкование напомнило Чернозубу образ погруженного во тьму сердца, в котором бьется другое, живое сердце. Он был глубоко тронут.
«И поклонникам этого культа было невозможно, — написал ниже Дюрен, — избегнуть обвинений со стороны инквизиции, что они делают из Девы четвертое воплощение божественной сути, инкарнацию женской мудрости, присущей Богу».
Поскольку никто в аббатстве не мог читать на языке Кочевников, кроме Крапивника и Поющей Коровы, Чернозуб чувствовал себя в безопасности, позволяя некие вольности в работе над текстом, перевод отчаянно сопротивлялся появлению непонятных терминов в этом примитивном языке. При переводе слова «экулеум» (жеребенок) он мог воспользоваться любым из одиннадцати слов языка Кочевников, обозначавших молодую лошадку, и ни у одного из них не было синонима. Но любая попытка перевести одним словом такие понятия, как «вечность» или «запредельный», могла бы привести читателя в растерянность. Так что теологические термины он оставлял звучать по-латыни, стараясь объяснять их в длинных сносках, которые сам же сочинял. Но как он ни старался представить себя в роли наставника, объясняющего эти понятия отцу или старшему дяде, сноски все равно несли в себе оттенок шутливости, который, как он понимал, придется вымарывать из конечного варианта. Столь легкомысленный подход несколько облегчал работу, которая уже вызывала у него ненависть, но подкреплял убежденность, что все это бессмысленно.
После двухмесячного молчания аббат Джарад из Валаны написал настоятелю и среди всего прочего потребовал, чтобы тот каждую неделю служил обещанную мессу для избрания папы, ибо быстрого конца трудных выборов он пока не видит. Без верховного правителя Церковь впала в хаос и смущение. Городок Валана оказался слишком мал, чтобы с подобающим достоинством принять сотни кардиналов с их секретарями, слугами и помощниками. Кое-кому пришлось устраиваться в амбарах.
О самом конклаве он писал скупо, если не считать слов возмущения в адрес ряда кардиналов, которые уже предпочли отправиться домой, оставив вместо себя специальных выборщиков с врученными им правами голосовать. Это стало позволительным в силу канонического постановления, которое допускало такое поведение со стороны иностранных, а не своих кардиналов, но в течение долгого периода междуцарствия и последние присвоили себе это преимущество. В таких случаях специальные выборщики должны, если возможно, быть членами клира кардинала, титулованного церковью Нового Рима (или Валаны); они были облечены правом голосовать лишь в соответствии со своими убеждениями под руководством Святого Духа, но такие полномочия, как правило, всегда предоставлялись, исходя из уровня преданности и редко отклонялись от пожеланий его кардинала, разве что исход голосования был совершенно ясен и выборщик отдавал свой голос в пользу победителя. Такая практика осложняла поиск компромиссов, поскольку слуга всегда менее гибок и податлив, чем его хозяин. Джарад даже не намекнул, когда он предполагает вернуться. Курьер, который доставил послание, успел основательно напиться в Санли Боуиттс и выразил свое собственное мнение об этой ситуации: то ли все кардиналы, назначив вместо себя выборщиков, на зиму отправятся по домам, оставив выборы в безнадежном тупике, то ли выберут какого-нибудь больного старика, который скончается, так и не решив ни одной из насущных проблем.
Другие новости и сплетни из Валаны просачивались в аббатство из уст путешественников, стражников на папских дорогах и курьеров, которые, случалось, по пути к цели ночевали в аббатстве. Говорилось, что в ходе тридцать восьмого голосования аббат Джарад, кардинал Кендемин получил два голоса — сомнительные слухи, которые вызвали бурю ликования и радости в аббатстве и прилив паники в сердце Чернозуба, которому, если соблюдать все законы, теперь может потребоваться папское разрешение, освобождающее его от всех обетов.
— Ты не обладаешь здравомыслием, — в ходе их еженедельной встречи, пять минут послушав нервное повествование Чернозуба, сказал брат-примиритель. — Ты думаешь, что нога его преосвященства Джарада давит тебе на шею. Ты думаешь, что он никогда не переменит свою точку зрения. Если он вернется домой, так и оставшись аббатом, ты можешь обратиться к папе. Но если он станет папой, неужели ты думаешь, что у него не будет других забот, как только держать ногу на твоей шее? И тебе придется провести всю жизнь, переводя Меморабилию на язык Кочевников. Почему ты считаешь, что его преосвященство Джарад так ненавидит тебя?
— Я не сказал, что он меня ненавидит. Ты приписываешь мне чужие слова.
— Прошу прощения. Он-таки держит тебя под пятой. Отец тоже держал тебя под пятой, ты сам говорил. Я забыл. Это отец тебя ненавидел, да?
— Нет! Я и этого никогда не говорил!
Левион порылся в своих записях. Они сидели в его келье, которая служила и кабинетом: обязанности специального советника отнимали у него не все время.
— Три недели тому назад ты точно сказал: мой отец ненавидел меня. Я записал.
Чернозуб понуро опустился на лежанку Левиона и откинулся к стенке. Внезапно он наклонился вперед, поставил локти на колени и стал ломать пальцы.
— Если я сказал это, — сказал он куда-то в пол, — то имел в виду, что он ненавидел меня только когда бывал пьян. Он терпеть не мог ответственности. Растить меня значило выполнять работу старшего дяди. Кроме того, он злился потому, что мать немного учила меня чтению, — Чернозуб закрыл руками рот, поскольку эти бездумные размышления выдали его.
— Есть две вещи, которых я не могу понять, брат Сент-Джордж. Во-первых, ты, кажется, пришел сюда неграмотным, не так ли? Во-вторых, почему ответственность за твое воспитание надо нести дяде, а не отцу?
— Так принято на равнинах. Брат матери принимает на себя ответственность за ее детей, — Чернозуба охватило желание уйти. Он не сводил глаз с дверей.
— Ах да, у Кочевников же матриархат. Верно?
— Неверно! По материнской линии идет всего лишь наследование. А это не одно и то же.
— Ну, как бы там ни было… Значит, поскольку у твоей матери не было братьев, за дело пришлось браться отцу?
— И снова неверно. У нее было четверо братьев. Мой был самым старшим. Он учил меня танцевать и петь, брал с собой на племенные советы — и это было все. Я не мог стать воином. У матери не было племенных кобыл, не было загонов для случки, и мы считались отщепенцами.
— Племенных кобыл? Какое отношение племенные кобылы имеют к… — оставив вопрос неоконченным, Левион махнул рукой в воздухе, словно отгоняя эхо. — Впрочем, неважно. Обычаи Кочевников. Я так никогда и не смог распутать этот клубок червей. Давай вернемся к нашей проблеме. Ты чувствовал, что отец держит тебя под пятой. Ты говорил, что мать учила тебя читать? Но ты же сказал, что пришел сюда неграмотным. Ты солгал?
Подперев рукой подбородок, Чернозуб смотрел себе на ноги, крутил носками и молчал.
— Все, что ты мне скажешь, останется здесь, в этих четырех стенах, брат.
Помолчав, Чернозуб выпалил:
— Я не умел хорошо читать, не умел свободно говорить на языке Скалистых гор. Крапивник и Поющая Корова вообще не умели читать. Я молчал, чтобы все считали нас настоящими Кочевниками. Если бы аббат Гранеден узнал, что мы родом из поселения, он отослал бы нас обратно.
— Понимаю. Вот почему ты учился куда быстрее, чем Крапивник и Поющая Корова. Твоя мать обучила тебя. А где она сама получила образование?
— То немногое, что она знала, мать усвоила от священника миссии.
Какое-то время Левион молчал, рассматривая своего странного ученика.
— Чья это была идея убежать из поселения и присоединиться к диким Кочевникам?
— Поющей Коровы.
— А когда Кочевники выставили вас, кому пришла в голову идея прийти сюда?
— Мне.
— Скажи мне вот что. Когда умерла твоя мать?
— В позапрошлом году.
— И тогда ты в первый раз сказал его преосвященству Джараду, что хочешь уйти из ордена?
Чернозуб ничего не ответил.
— Это было сразу же после смерти матери, да?
— Одно к другому не имеет никакого отношения, — пробурчал он.
— Неужто? Собираясь сбежать, что ты чувствовал, когда до тебя дошли известия о кончине матери?
Раздался удар колокола. Внезапно улыбнувшись, Чернозуб встал, не в силах скрыть облегчения.
— Ну?
— Конечно, мне было очень грустно. А сейчас я хочу вернуться к работе, брат.
— Конечно. На следующей неделе мы основательнее поговорим на эту тему.
Чернозубу все меньше и меньше нравились эти встречи. Он совершенно не испытывал желания, чтобы брат-примиритель копался у него в душе; похоже, тот считал его желание расстаться с обителью симптомами болезни, если не сумасшествия. Торопясь к свои книгам, он решил, что будет как можно меньше рассказывать Левиону о своих родителях и о детстве.
Поскольку этот человек ровно ничего не знал о жизни Кочевников, беседы с братом Левионом, вместо того чтобы приносить душевное успокоение, лишь усиливали живущую в нем тоску по жизни, которая так и не досталась ему. Чернозуб помнил, как мать обратилась в христианство и отец, который иногда пытался заменить своим авторитет дяди, настоял, что он будет готовить его к обряду посвящения в мужчину, который, как он уже знал в то время, никогда не состоится. Церковь запрещала обряд, после которого подросток становился настоящим убийцей, преданным культу войны. Но он продолжал тайно готовиться и кое-что понял о духе воинов-Кочевников и о той ярости, которая овладевала ими в битвах. И трудно было правдиво ответить на вопрос: на что похожа религия Кочевников? Все, что делали дикие Кочевники, носило религиозную или магическую окраску. Трудно было сказать, где и в чем не чувствовалось присутствие религии. Можно привести список составных частей, которые входят в понятие религии: церемонии, обычаи, законы, магия, медицина, прорицатели, танцы, порой — ритуальные убийства, Пустое Небо и Женщина Дикая Лошадь и назвать перечень религией, но этот список не включает слишком многое из того, что называется повседневной жизнью. Был особый ритуал даже для испражнения.
Склонившись над рабочим столом, Чернозуб еще раз перечел свой любимый абзац из «Вечных идей» Дюрена, помолчал, чтобы припомнить возникающий перед ним образ, а затем набросал примечание к переведенному абзацу:
«Эта концепция Девы, как олицетворения утробного молчания, в котором рождается и звучит Слово, похоже, соотносится с мистическим опытом созерцания, когда живое сердце Иисуса встречается с темным и пустым сердцем Марии».
Он застыл над этим текстом, колеблясь, стоит ли добавлять «Переводчик», и раздумывая, не порвать ли страницу. Но брат-копиист стоял рядом, и стоит Чернозубу уничтожить страницу, он отметит ее стоимость. «Вернусь к ней попозже», — подумал он, потому что в помещении темнеет, и не разрешено пользоваться больше чем одной свечой. Подавив чувство смертного греха, он прибрал свой стол и оставил эту проблему на завтра.
Глава 4
«И да будет покаран любой, кто без разрешения аббата примет решение покинуть пределы обители и отправиться за ее стены, а також что-либо сделает, как бы ни было мало его прегрешение».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 67.Примерно через год после того, как разорвавшееся сердце папы Линуса VI заставило его рухнуть в холодные воды ручья с форелями, в ходе бурного конклава папский престол занял кардинал Олавлано Фортус, восьмидесятилетний старик, обитавший к югу от Брейв-Ривер, звездочет и ученый, поднаторевший в искусстве определения ведьм, человек, ухитрившийся остаться нейтральным в многолетней борьбе Запада с Востоком. Он принял имя папы Алабастера II и прожил достаточно долго, чтобы издать буллу «О бессрочном закреплении»; в соответствии с ней начальный меридиан Земли, от которого отсчитывались все долготы, был передвинут со своего древнего (и до последнего времени неоспоримого) места. Таким образом, теперь линия нулевого меридиана проходила через главный алтарь базилики церкви святого Петра в Новом Риме и должна была неизменно хранить свое положение, что позволяло ей избавиться от воздействия существа, которое Алабастер называл Зеленой Ведьмой. Многие представители курии с обоих побережий протестовали против буллы, ибо в этом столетии, отмеченном быстрым развитием, большие деревянные корабли снова начали бороздить моря; булла Алабастера не только мешала навигации, но и ускорила приближение времени (предполагалось, что оно наступит в четырнадцатом столетии), когда необходимо будет изъять один день из календаря, чтобы согласовать его с небесными расчетами. И Запад, и Восток подозревали наличие в булле каких-то политических мотивов, продиктованных тем фактом, что территория вокруг Нового Рима была занята армиями Ханнегана, так что Алабастер умер от яда спустя несколько месяцев после избрания.
Последующее междуцарствие длилось 211 дней, в течение которых кардиналы продолжали браниться между собой, а жители Валаны кидали камни в кареты кардинальских служителей. Божественное Провидение наконец подвигло конклав избрать кардинала Рупеза де Лонзора, тоже окормлявшего паству к югу от Брейв-Ривер, самого старого и больного участника конклава. В честь святой памяти своего предшественника он взял его имя и стал Алабастером III, но немедленно аннулировал его буллу (также ради бессрочного закрепления), что вернуло нулевой меридиан на его исконное место, ибо ученые из ордена святого Лейбовица заверили его, что Зеленая Ведьма среди колдуний не числится, поскольку так именовалась всего лишь древняя деревушка на далеком острове, которая полностью опустела во время Огненного Потопа. И снова появилось подозрение в политических мотивах. Представители Запада выступили против изменений, и старик умер во сне после того, как откушал зайчатины, отваренной в вине с уксусом и сдобренной тушеным луком и лавровым листом.
Утомленные кардиналы снова собрались в Валане. На этот раз имя аббата Джарада кардинала Кендемина появилось в списке номинантов с самого начала конклава, и он совершенно неожиданно обрел поддержку примерно пятнадцати процентов электората. Лишь затем поползли слухи, что, будучи избранным, преосвященный Джарад произнесет слова «Non accepto»[67], которых не слышали примерно две тысячи лет, с тех пор, как святой Петр, ставший папой Селестином V, уединившись в своей пещере отшельника, тщетно повторял их, пока отчаявшаяся коллегия не выволокла его из пещеры и не усадила на папский престол.
На этот раз конклав опасался всуе, решив, что одному из его членов недостает преданности то ли империи, то ли бюрократии Валаны и ее западных союзников. Называлось имя и Элии Коричневого Пони, ибо Красный Дьякон был профессиональным юристом и дипломатом, искушенным в переговорах, но его относительная молодость, его репутация человека, которым можно манипулировать, и тот факт, что, прежде чем он воссядет на папство, его придется помазать в священники, а потом и в епископы, — все эти соображения перевесили. Только преосвященный Джарад, никогда не отличавшийся верностью суждений о людях, предложил своему другу поддержку, но тот не принял ее.
Единственная телеграфная линия на континенте тянулась от Ханнеган-сити в Тексарке до далекого юго-восточного угла Денверской Республики. Чтобы получить металл для ее сооружения, предыдущий Ханнеган конфисковал в империи все медные монеты, все медные горшки и кастрюли и много церковных колоколов. Линия помогала оберегать завоеванные южные районы от вторжения свободных Кочевников с севера, но теперь она использовалась и для того, чтобы информировать Филлипео Харга о ходе конклава и пересылать инструкции архиепископу Бенефезу и его союзникам в Священной Коллегии. Почти каждый день посланник от Бенефеза скакал к югу и забирал почту на терминале, а второй курьер ехал в другую сторону и там отправлял почту. Никто из кардиналов не имел возможности поддерживать такую связь со своими епархиями.
Но население Валаны снова мрачнело. Единственной индустрией Валаны было обслуживание церковных нужд, и благополучие бюргеров зависело от пребывания в городе изгнанного папы. Молитвы, осуждающие раскол, истово звучали на конклаве, но в местных церквах они не пользовались популярностью. Рабочие ежедневно отскребали стены кафедрального собора, смывая ночные граффити, которые оставляли родственники тех же рабочих.
Прошли и демонстрации. Горожане и жители окрестных деревень собрались, чтобы предложить вниманию неприступных и неумолимых кардиналов своих собственных кандидатов. На улицах часто слышалось имя Амена Спеклберда, святого человека, обитавшего в этих местах, целителя и заклинателя дождей. Он был отлученным от сана священником ордена Святой Девы Пустыни; знал его и епископ Денвера, который заставил его выбирать между отлучением от сана и трибуналом по обвинению в ереси.
Но, движимый Святым Духом, священным ужасом перед разгулом толпы и приближением суровой зимы, конклав наконец избрал самого епископа Денвера, высокочтимого Марионо Скуллите (он не был членом коллегии, но считался человеком, на которого можно было положиться), надеясь, что при нем положение дел не ухудшится. Он принял имя Линуса VII, и это позволяло предполагать, что он вернется к политике того папы, который до злосчастной рыбалки собирался положить конец расколу.
Но сейчас Линус VII медленно умирал от неизвестной болезни, которую никак нельзя было отнести на счет яда (разве что его сестры и племянники, которые служили дегустаторами блюд понтифика, тоже участвовали в заговоре). Проконсультировавшись с папским врачом, кардинал Элиа Коричневый Пони нанял частную карету без церковных гербов и кучера из Кочевников, который не знал ни слова на языке Скалистых гор. «Мне надо попрактиковаться в диалекте Диких Собак», — объяснил кардинал своему помощнику. И, не привлекая внимания, направился в юго-западную пустыню, чтобы посоветоваться с аббатом Джарадом кардиналом Кендемином. Кучер, восседавший на козлах, бегло говорил на нескольких языках, и им было о чем поболтать в дороге.
Брат Чернозуб снова покинул монастырь. Он знал, что должен вернуться, но временами буйное наследие, доставшееся ему от Кочевников, неудержимо овладевало им. На несколько дней он забывал и свои обеты, и здравомыслие — и пускался в бега. Он бежал не столько от плохой еды, жесткой лежанки и долгих занудных часов бдений, сколько от власти своих надменных, всезнающих и всевидящих начальников. На этот раз он, стащив несколько монет со стола настоятеля, купил в деревне хлеба и бурдюк из-под вина. Наполнив его водой, Чернозуб побрел к северу. В первый день он предпочитал держаться в стороне от дорог, чтобы не встретиться с путешественниками, но к закату, опасаясь волков, вернулся к главной дороге и на ночь нашел укрытие в каком-то монашеском убежище. Оно представляло собой замкнутые каменные стенки без крыши, трех шагов в ширину и длину, но все же достаточно высокие, чтобы даже разъяренный волк не мог их перепрыгнуть. Среди разнообразных граффити была надпись по-латыни, которая приветствовала гостей и запрещала им испражняться в пределах стен. Такие убежища вдоль дорог возводили монахи его собственного ордена, но никто не заботился, чтобы содержать их в чистоте. По полу текла струйка воды, отбившаяся от горного источника. Чернозуб разжег костерок и вскипятил в кружке воды, опустив туда для вкуса несколько зерен мескита. Еще до того, как на небе высыпали звезды, он съел несколько сухарей с куском сухой баранины. Голодать он начнет через несколько дней. Дрожа от холода, он устроился спать в углу и к рассвету снова разжег костер.
Двигаясь параллельно дороге — как он ошибочно прикинул по положению солнца, — от которой на рассвете отклонился после того, как заметил группу всадников с длинными ружьями, Чернозуб вышел к каньону, который, насколько он видел, пересечь было невозможно. День пошел на вторую половину, и провести ночь ему было негде. На большой дороге все же было убежище, где он может чувствовать себя в безопасности, по крайней мере, от четвероногих хищников. Здесь они могут его выследить. Задремав в сумерках у тлеющего костра, он все же услышал приближение всадников, вскарабкался по откосу извилистой дороги и, спрятавшись среди скал, стал ждать, пока всадники не появились в поле зрения. Это были солдаты. Стражники папы или из Тексарка? С этого расстояния он не мог определить, кто они такие. Внезапно перепугавшись, он съежился за камнем. Еще маленьким мальчиком его изнасиловали солдаты, и ужас пережитого продолжал преследовать его.
Путников на дороге почти не попадалось, и это мог быть или монах, или конокрад. Сегодня это были воры, которых Чернозуб увидел издалека. До сумерек оставалось не менее полутора часов, но не было ни следа хоть какого-то пути по ту сторону лежавшего перед ним ущелья. Над землей уже сгущалась непроглядная тьма. Он должен двигаться. На этих землях не существовало никаких законов, если не считать закона далекой Церкви. Двинувшись в другую сторону от каньона, он решил взобраться на Последнее Пристанище.
Расположившись на его склоне, Чернозуб, четыре дня тому назад покинувший аббатство, стал свидетелем появления Красного Дьякона. Он не догадывался, что пассажир кареты, в пыльном облаке появившейся с севера и пролетевшей через Санли Боуиттс к аббатству святого Лейбовица, был тем человеком, который в прошлом обрек его на печальное существование, восхитившись его переводом Боэдуллуса, но который еще в большей степени повлияет на его будущее.
Когда запасы воды подошли к концу, он стал искать на Последнем Пристанище следы мифического источника и хижины, в которой некогда обитал пустынник, старый еврей, ушедший из этих мест во времена тексарских завоеваний. Он нашел руины хижины, но не было ни следа ручья или другого источника воды, который вряд ли мог существовать в окружающей пустыне. Другой миф утверждал, что старый еврей был заклинателем дождя и не нуждался в источнике. Чернозуб пришел к выводу, что это было правдой, поскольку на Столовой горе зелени было больше, чем в низине. В этом заключалась какая-то тайна, но он не мог разрешить ее. Почти все время, пока его бурдюк не опустел окончательно, он возносил молитвы Святой Деве или просто сидел на резком ветру, охваченный сокрушением и злостью. Было начало весны и по ночам он едва не замерзал. Мучаясь невыносимым холодом и рыская в поисках воды, он наконец понял, что ему придется возвращаться в монастырь и каяться в своем безумии.
И вот теперь, спустя три дня после того, как карета миновала деревню, он, подрагивая и хлюпая носом, сидел в мрачном холле, ожидая решения своей участи. Время от времени какой-нибудь монах или послушник бесшумно проходил мимо, направляясь в библиотеку или мастерскую, но Чернозуб, ссутулившись, продолжал сидеть на месте, поставив локти на колени и закрыв руками лицо, понимая, что никто даже кивком не признает свое с ним знакомство. Но случилось исключение. Кто-то быстро прошел мимо и остановился у дверей зала заседаний. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Чернозуб поднял глаза и увидел своего бывшего психотерапевта Левиона Примирителя, который смотрел на него сверху вниз. Когда их взгляды встретились, Чернозуб внутренне съежился, но в глазах монаха не было ни презрения, ни жалости. Слегка покачав головой, он вошел в зал, куда, скорее всего, был вызван как свидетель. Предполагалось, что разговоры, которые они вели в келье Левиона, были столь же конфиденциальны, как тайна исповеди. Но Чернозуб уже никому не доверял.
Кардинала Коричневого Пони почти сразу же поставили в известность о несанкционированном отсутствии Чернозуба, ибо вскоре после своего появления он попросил представить ему работу юного монаха, который переводил Боэдуллуса на язык Кочевников, и Джараду пришлось сообщить о растущем неподчинении переводчика. И что хуже всего — восхищаясь переложением Боэдуллуса на язык Кочевников, Коричневый Пони вслух зачитал своему кучеру из Кочевников, чье родовое имя означало Святой Медвежонок, и своему секретарю, старому седобородому священнику и-Лейдену, бегло говорившему на диалекте Диких Собак, несколько отрывков из Дюрена в переводе Чернозуба, и все трое решительно отвергли его.
— Эти теологические идеи совершенно чужды мышлению Кочевников, — объяснил Джараду Коричневый Пони, неожиданно поддержав мнение переводчика и отвергнув точку зрения Джарада. И что еще хуже — когда они перечитывали работу, внимание преосвященного Джарада привлекло примечание к «Вечным идеям», которое Чернозуб и не стер, и не подписал своим именем: «Эта концепция Девы как олицетворения утробного молчания, в котором рождается и звучит слово, соотносится с мистическим опытом…»
Коричневый Пони перевел это обратно на латынь. Свидетели последовавшей сцены не могли припомнить, чтобы когда-либо преосвященный Джарад был в такой ярости.
Страх Чернозуба, сидевшего у двери трапезной, превратился в иррациональный ужас, когда старый послушник Вушин неслышно подошел и уселся рядом с ним на скамье. На церковном наречии с сильным тексарским акцентом (хотя на самом деле он отказывался пользоваться ол’заркским диалектом тексарского), сосед пробормотал несколько слов, которые можно было принять за приветствие, после чего скрутил сигаретку, а для этого требовалось особое разрешение от аббата или настоятеля. Но Вушин был очень странной личностью, не испытывавшей потребности приносить какие-то религиозные обеты, но чей статус как политического беженца из Тексарка и непревзойденное искусство кузнеца позволяли ему уверенно чувствовать себя в стенах монастыря, хотя за спиной у него было зловещее прошлое. Он посещал мессы и соблюдал все предписанные ритуалы, но никогда не подходил к причастию, и никто не мог с уверенностью утверждать, является ли он вообще христианином. Он явился откуда-то с западного побережья, кожа, сейчас покрытая морщинами, носила желтоватый оттенок, и разрез глаз до странности разнился. Те, кто побаивался и не любил его, за спиной называли Вушина брат Топор. В течение шести лет он служил палачом при нынешнем Ханнегане и еще несколько лет — при его предшественнике, после чего впал в немилость при императорском дворе и, спасая свою жизнь, перебрался на Запад.
За три года пребывания в аббатстве он заметно похудел и быстро состарился, но его появление на скамье у зала заседания вызвало беспричинный ужас у обвиняемого, который съежился, сидя рядом. До этой минуты Чернозуб больше всего боялся отлучения — со всеми присущими ему поражениями в гражданских правах и прочими неприятностями. Теперь перед его мысленным взором всплыли острейшие ножи для кухни, топоры и косы, которые Вушин делал для садовников. «Почему, зачем этот профессиональный убийца оказался рядом, когда идет мой процесс?». Для Чернозуба не подлежало сомнению, что Вушина пригласил трибунал — но не как свидетеля. «Я его почти не знаю!» Он всегда пытался понять, осознает ли что-нибудь отрубленная голова, падая в корзинку.
Вушин коснулся его руки. Чернозуб дернулся, задохнувшись, но сосед всего лишь предлагал ему комок чистой хлопковой ваты из своей мастерской.
— Вытри нос.
Чернозуб сразу же осознал, что этот человек предлагает ему вытереть сопли, которые свисали уже до подбородка.
— На Столовой горе по ночам жутко холодно, — сказал брат Топор, давая понять, что он знает о местопребывании беглеца во время его отсутствия. Значит, и все знали.
Чернозуб нерешительно воспользовался его предложением, после чего лишь вежливо кивнул в знак благодарности, словно он соблюдает благоговейное молчание, что в данных обстоятельствах даже для него несло оттенок лицемерия.
Вушин улыбнулся. Осмелев, Чернозуб спросил:
— Вы тут из-за меня?
— Не уверен, но скорее всего нет. Думаю, что уеду отсюда с кардиналом.
Приободрившись и расслабившись, Чернозуб принял прежнее положение. Ему казалось очень странным, что Топор, который говорил на безукоризненном ол’заркском, отказывался общаться на этом языке, хотя, когда он говорил на церковном, акцент выдавал его. Кроме церковного он владел одним из наречий, которыми постоянно пользовались в аббатстве, но когда брат Топор слышал его, то сразу же уходил. Какую пользу, задумался Чернозуб, может принести кардиналу Элии Коричневому Пони или курии палач, который ненавидит своего бывшего хозяина? Неужто Церковь отступила от древнего отказа проливать кровь своих врагов?
Через час прозвонил колокол, сзывающий на ужин. Зал заседаний снова превратился в трапезную и члены трибунала приступили к еде. Когда по коридору бесшумно заструился поток монахов, Вушин встал, дабы присоединиться к ним.
— Ты не ел? — спросил он у обвиняемого. Чернозуб отрицательно покачал головой и остался сидеть. Еще до окончания трапезы в дверях показался Левион и обратился к нему:
— Брат-медик говорит, что ты должен поесть.
— Нет. Меня тошнит.
— Глупый, — сказал Левион. — Глупый и счастливый, — больше для себя, чем для Чернозуба, добавил он, возвращаясь в трапезную.
«Счастливый?» — слово застряло у Чернозуба в мозгу, но он не мог найти ему объяснения.
До него смутно доносились слова благодарственной молитвы — ужин кончился. Монахи столь же бесшумно покинули трапезную, в которой остались только члены трибунала. На этот раз Чернозуб обрел смелость смотреть на них, но никто, даже Крапивник и Поющая Корова, не бросили взгляда в его сторону, проходя мимо. За последним человеком закрылась дверь. Слушание возобновилось.
Вскоре дверь снова открылась. Кто-то вышел и остановился. Подняв глаза, Чернозуб увидел веснушчатое лицо, седеющие рыжеватые волосы и отблеск пурпура. На него смотрели зеленовато-голубые глаза. Задохнувшись, Чернозуб встал и, двигаясь как во сне, собрался преклонить колена. Кардинал Элия Коричневый Пони подхватил его под руку, когда он споткнулся.
— Ваша светлость! — хрипло произнес Чернозуб и снова попытался поклониться.
— Садись. Ты еще не оправился. Я хотел бы минутку поговорить с тобой.
— Конечно, милорд.
Чернозуб остался стоять, но кардинал, сев на скамейку, потянул его за рукав рясы, заставив присесть рядом.
— Насколько я понимаю, у тебя сложности с послушанием.
— Это правда, милорд.
— Всегда ли так было?
— Я… я не уверен, милорд. Думаю, что да, всегда.
— Ты начал с того, что убежал из дому.
— Я думал об этом, милорд. Но, оказавшись здесь, я пытался подчиняться. Сначала.
— Но ты устал от порученной тебе работы.
— Да. Мне нет прощения, но так и есть.
Кардинал перешел на диалект Кузнечиков, в котором чувствовался акцент Зайцев.
— Мне говорили, что ты свободно говоришь и пишешь на нескольких языках.
— Похоже, что неплохо справляюсь с ними, ваша светлость, если не считать, что мне плохо дается древнеанглийский, — на том же наречии ответил он.
— Ты же знаешь, что большинство существующих сегодня языков как минимум наполовину основаны на староанглийском, — сказал кардинал, переходя на язык Скалистых гор. — Только произношение менялось, смешиваясь с испанским, а некоторые видят и примесь монгольского, особенно в наречиях Кочевников. Хотя эти мифы о нашествии заморских орд вызывают у меня сомнения.
Замолчав, кардинал погрузился в раздумья.
— Как тебе кажется, смог бы ты послушно служить кому-то переводчиком? Это не значит, что тебе придется часами корпеть над столом с бумагами, но ты должен переводить письменный текст так же свободно, как и устный.
Чернозуб еще раз вытер лицо ватой Вушина и заплакал. Кардинал не мешал ему тихонько всхлипывать, пока Чернозуб не взял себя в руки. Не это ли имел в виду Левион, когда оборонил слово «счастливый»?
— Например, как тебе кажется — смог бы ты подчиняться мне?
У Чернозуба перехватило горло.
— Что толку в моих обещаниях? Я нарушил все свои обеты, кроме одного.
— И что же это за единственный обет, если ты не откажешься рассказать мне?
— Я никогда не был близок ни с мужчиной, ни с женщиной. Хотя когда я был ребенком… — возмущенное лицо Торрильдо всплыло в памяти при этих словах, но он отверг попытку самообвинения.
Красный Дьякон расхохотался.
— Значит, ты в одиночку нарушаешь обет целомудрия? — но, увидев, как изменилось лицо Чернозуба, торопливо добавил: — Прости мне эту шутку. Я серьезно спрашиваю тебя — хочешь ли ты навсегда покинуть это место?
— Навсегда?
— Ну, по крайней мере, на очень долгое время, какие бы причины ни выдвигал орден, если захочет заполучить тебя обратно и ты сам этого захочешь.
— Мне некуда деваться, милорд. Поэтому я и вернулся со Столовой горы.
— Аббат отпустит тебя вместе со мной в Валану, но ты должен пообещать мне беспрекословное подчинение, а мне придется поверить твоему обещанию. Ты еще не обретешь статус мирянина. Ты будешь моим слугой.
И снова Чернозуб разразился слезами.
— Итак, теперь или никогда, — сказал кардинал.
— Обещаю, — задохнулся Чернозуб. — От всей души обещаю повиноваться вам, милорд.
Коричневый Пони встал.
— Прости — что значит «от всей души»? Тебе не будет позволено решать за себя. В таком случае ты даешь неполноценное обещание. Нет, так не пойдет, — он направился к дверям трапезной.
Рухнув на пол, Чернозуб пополз за ним, хватаясь за подол кардинальской сутаны.
— Клянусь, как перед Богом, — задыхался он. — Пусть Святая Богоматерь отвернется от меня, пусть все святые проклянут меня, если я нарушу обещание. Я обещаю повиноваться вам, милорд. Обещаю!
Кардинал бросил на него презрительный взгляд.
— Хорошо. В таком случае вставай и иди со мной, брат Подхалим. Вот сюда. Дай-ка руку. В эту дверь. Встань лицом к ним, Чернозуб. Итак…
Дрожа, как в лихорадке, Чернозуб вошел в трапезную, сделал несколько шагов к столу аббата, увидел их лица и потерял сознание.
Он пришел в себя от звука голоса, говорившего: «Когда он очнется, дайте ему вот это, отче». Это был брат-хирург.
— Хорошо, идем глянем на других пациентов, — сказал настоятель Олшуэн.
— Я уже очнулся, — произнес Чернозуб, в свете канделябра увидев, что он единственный обитатель палаты на троих.
Брат-хирург вернулся к его постели, пощупал лоб и протянул стакан зеленовато-молочной жидкости.
— Что это?
— Вытяжка из коры ивы, тинктура листьев конопли, маковый сок, алкоголь. Ты не так уж и болен. Завтра, если хочешь, можешь возвратиться в свою келью.
— Нет, — возразил настоятель. — Мы должны привести его в полный порядок, чтобы через три дня он смог двинуться в дорогу. В противном случае мы будем возиться с ним, пока не представится очередная оказия в Валану, — он повернулся к Чернозубу, голос у него был холодным. — Ты останешься здесь. Еду тебе будут приносить. Ты не будешь говорить ни с кем, даже со старшими. Если кто-то из братьев заболеет и ему понадобится одна из этих коек, ты вернешься в свою келью. Когда ты покинешь нас, возьмешь с собой свой требник, четки, туалетные принадлежности, сандалии и одеяло, но обменяешь его у послушника. Ты будешь находиться в полном распоряжении своего благодетеля, кардинала Коричневого Пони, без вмешательства которого ты был бы отлучен от церкви и изгнан из ее лона. Это ясно?
Чернозуб, глядя на человека, который в юности был его учителем и защитником, лишь кивнул.
— Тебе есть еще что сказать нам?
— Я хотел бы исповедаться.
Настоятель нахмурился, готовый отрицательно покачать головой, но потом сказал:
— Подожди, пока медицина не разрешит. Я поговорю с его преосвященством Джарадом.
— Могу ли я в таком случае попросить вашего благословения? — еле слышно произнес Чернозуб.
Олшуэн застыл на месте, полный гневной нерешительности, но затем прошептал: «Благословляю тебя во имя Отца, и Сына и Святого Духа», — начертил в воздухе крест и ушел.
Глава 5
«Но если и этим путем он не излечится, да возьмет аббат нож для отсекновения, в соответствии с апостольским заветом: «Да будет изгнано зло из вашей среды… и пусть оно исчезнет, чтобы одна паршивая овца не портила все стадо».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 28.Под испепеляющими взглядами бывших собратьев Чернозуб наконец покинул свою келью, держа в руках маленький узелок, и через залитый солнцем двор направился к карете Красного Дьякона, уже готовой в дорогу. Помогая кучеру закрепить свои жалкие пожитки на верху кареты, он услышал голос Поющей Коровы, который, скрытый от взгляда, говорил с только что прибывшим послушником, отряженным работать в библиотеке.
— Сначала он пробовал убеждать, и я ним не спорил, — объяснял его бывший товарищ. — Когда таким образом он ничего не добился, то прибегнул к насилию. Когда и насилие не помогло ему выбраться отсюда, то принялся развратничать. Я слышал это от свидетеля. Но ни разврат, ни кражи, ни побеги не помогли ему. Поэтому он стал писать заметки на полях труда достопочтенного Боэдуллуса.
— Без сносок? — сдавленно выдохнул помощник библиотекаря.
— Он достоин презрения, и не более того, — сказал Поющая Корова.
— Да это был не Боэдуллус! — взвыл Чернозуб. — А всего лишь Дюрен!
Пока карета, подпрыгивая на ухабах, двигалась по северной дороге к горному перевалу, Чернозуб сидел вместе с кучером на козлах. Он так ни разу и не оглянулся на аббатство. Вместе с ними был Топор, который порой перенимал управление, пока Медвежонок разминал лошадь кардинала, а порой, когда кардинал садился в седло, устраивался в карете. Оба — и Вушин, и Кочевник — относились к опозоренному монаху с подчеркнутой вежливостью, но он старался свести к минимуму общение и с кардиналом Коричневым Пони, и с его спутниками.
Как-то, когда они уже три дня были в пути, Вушин сказал:
— Ты прячешься от кардинала. Почему ты избегаешь его? Ты знаешь, что он недавно спас твою шею. Аббат скрутил бы ее как цыпленку, но кардинал выручил тебя. Почему ты его боишься?
Чернозуб взялся было отрицать, но внутренний голос остановил его. Вушин был прав. Для него Коричневый Пони олицетворял власть Церкви, которую ранее представлял преосвященный Джарад, и он устал от необходимости снова и снова клясться в покорности, чтобы спасать себя. После слов Вушина он перестал избегать своего спасителя и по утрам обменивался с ним вежливыми приветствиями. Но кардинал, чувствуя, какой он испытывает дискомфорт, во время путешествия большей частью не обращал внимания на его присутствие.
Иногда Вушин и Кочевник для разминки боролись или фехтовали на посохах. Кочевник называл соперника Топором, хотя никто в аббатстве не осмеливался этого делать, и Вушин, казалось, не протестовал против этой клички, особенно, если ей не предшествовало обращение «брат». Несмотря на свой возраст и заметную худобу, Топор неизменно выходил победителем из этих схваток у костра, а Кочевник выглядел таким неуклюжим, что Чернозуб однажды осмелился принять его предложение пофехтовать на посохах. Кочевник оказался не таким уж неуклюжим и, влепив ему раз шесть, оставил Чернозуба под смех кардинала и Вушина сидеть в горячем пепле.
— Пусть Вушин поучит тебя, — сказал кардинал. — В Валане тебе понадобится умение защищаться. Ты жил в монастыре, и ты уязвим. В свою очередь, поможешь ему избавиться от акцента Скалистых гор.
Чернозуб вежливо запротестовал, но кардинал продолжал настаивать. Так начались уроки фехтования и обучения языку.
— Готов к смерти? — весело спрашивал Топор перед началом каждой тренировки, как он всегда осведомлялся у своих клиентов. А затем они какое-то время разговаривали на наречии Скалистых гор.
Но куда спокойнее Чернозуб чувствовал себя в обществе Медвежонка, слуги без ранга и статуса, что и помогло им сблизиться. Его имя на языке Кочевников было Чиир Осле Хонган, а он называл Чернозуба Нимми, чему в языке Кочевников соответствовало понятие «малыш», обозначающее подростка, который еще не прошел обряда посвящения в мужчины. Чернозуб был лишь чуть моложе Медвежонка, но не обижался. «Это правда, — думал он, — я тридцатипятилетний подросток». Об этом и аббат напоминал ему. Что касается мирского опыта, то он еще в детстве мог оказаться в тюрьме. Но боясь неизвестного будущего, он чуть ли не мечтал об этой тюрьме.
Жизнь в монастыре отнюдь не состояла из равных долей молитв, тяжелой работы и униженного ползания на коленях, как он говорил себе. Там он занимался и тем, что ему нравилось. Он любил проникновенные церковные молитвы. Он хорошо пел, вплетая свой голос в общие песнопения, и отсутствие его чистого тенора чувствовалось в тех случаях, когда хор делился на две части, исполняя древние псалмы в виде отдельных строф и ответов на них. В группе, где не было Чернозуба, заметно сказывалось его отсутствие. И три раза, когда аббатство посещали важные гости, Чернозуб по распоряжению аббата пел соло: один раз в церкви и дважды во время ужина. В трапезной он пел песни Кочевников в своей обработке, украшая их фиоритурами, с детства оставшимися в памяти. Он отказывался гордиться своими успехами, но демон тщеславия все же брал верх. Во время пребывания в аббатстве он сделал струнный инструмент, очень напоминавший тот, что когда-то вручил ему отец. Он не стал напоминать о своем происхождении из Кочевников и назвал его, вспомнив царя Давида, ситарой, но произносил это слово как «г’тара». Она была среди того скромного набора вещей, что он прихватил с собой, и, когда Коричневый Пони верхом отъезжал куда-нибудь, пощипывал ее струны. Чернозуб не испытывал желания делать что-либо, из-за чего предстанет смешным в глазах Коричневого Пони, хотя много размышлял о причинах такого нежелания.
Та часть этой территории, которая по праву завоевания вошла в состав тексарской провинции, была плохо исследована, и район между источниками, питавшими Залив привидений и реку Нэди-Энн, а также западными горами считался как бы ничейной землей, где время от времени вспыхивали вялотекущие военные действия между племенами несчастных беженцев Кузнечиков, которые отказывались заниматься возделыванием земли, отщепенцами из числа Кочевников, большую часть которых тоже составляли Кузнечики, и кавалеристами Тексарка — порой они, преследуя рейдеров, присоединялись к воинственным Диким Собакам. Группа кардинала аккуратно обогнула этот район с запада, ибо Коричневый Пони, не вдаваясь в подробные объяснения, сообщил, что горы, особенно у плодородного и орошаемого Мятного хребта, хорошо обороняются изгнанниками с востока, которые не принадлежат к Кочевникам. Действительно, соответствовало истине, что Кочевники с суеверием относились к горам и держались подальше от их вершин. Дорога вилась по вершинам холмов, и ночи были холодными. Но тут, не в пример окружающим пустыням, кишела жизнь. Не говоря уж о порой встречающихся каштанах и дубах, растительность была гуще и выше. Лишенные в это время года листвы, ивы и акации росли по берегам ручьев и родников, а выше по склонам, у границы снегов, высились могучие стволы хвойных деревьев. Здесь, поблескивая льдистыми струйками, бежало множество потоков: одни текли к востоку, а другие превратились в сухие русла, которые забурлят водой, лишь когда с вершин хлынут весенние паводки. Но весеннее таяние снегов только-только начиналось. На сухих землях к востоку влагу сохраняли лишь самые крупные русла, да и те до начала дождей даже дети могли перейти, не замочив колен.
По мере того как, двигаясь к северу, они поднимались все выше, порой они попадали под легкий снегопад. Кочевник, оседлав жеребца, поскакал обследовать боковые тропы. Еще до наступления вечера он вернулся с известием о каких-то вроде брошенных строениях примерно в часе езды от основной трассы. Так что они свернули с папской дороги и, одолев несколько миль по неровной грунтовке, оказались в брошенной деревне. Несколько грязных ребятишек и собака с двумя хвостами разбежались по своим обиталищам. Коричневый Пони вопросительно посмотрел на Чиира Хонгана, который сказал:
— Тут никого не было, когда я недавно проезжал здесь.
— Увидев настоящего Кочевника, они попрятались, — улыбнулся Красный Дьякон.
Навстречу им, оскалив зубы, из хижины вышла женщина с копьем в руке; один глаз у нее был большой и голубой, а другой маленький и красный. Из-за ее спины стремительно вывернулся горбун, вооруженный мушкетом. Чернозуб знал, что под чехлом сиденья кардинал спрятал пистолет, но он к нему не притронулся. Он лишь смотрел на полдюжины обступивших их бледных и болезненных людей.
— Джины! — выдохнул отец и-Лейден, который, прикорнув в карете, только что проснулся. В голосе его не было презрения, но и данный момент это слово произносить не следовало.
По всей видимости, тут обитала небольшая колония генетически изуродованных людей, джинов, беглецов из перенаселенной Долины рожденных по ошибке, которая теперь, когда ее границы были зафиксированы в договоре, называлась народом Уотчитана. По всей стране были разбросаны сообщества таких беглецов, которые вели оборонительные действия против всех чужаков. Горбун вскинул мушкет и взял на прицел сначала Чиира Хонгана, который правил лошадьми, а потом Чернозуба.
— Оба вы спускайтесь. И остальные внутри — вылезайте! — женщина говорила на долинной версии ол’заркского диалекта с собачьим подвыванием, что изобличало ее происхождение. Чернозуб чувствовал, что она опасна, как взвинченная цепная собака, ибо обонял исходивший от нее запах страха.
Все подчинились, кроме Топора, который мгновенно куда-то исчез. Только что он сидел верхом на лошади кардинала. В ответ на призыв женщины из хижины вышла юная светловолосая девушка и обыскала их на предмет оружия. Она была мила и обаятельна, без видимых дефектов, и Чернозуб покраснел, когда нежные руки скользнули по его телу. Она заметила его румянец, усмехнулась ему прямо в лицо и, придвинувшись вплотную, нащупала и стиснула его член, после чего отпрыгнула с его четками в руках. Женщина гневно отозвала ее, но девушка замешкалась, чтобы успеть спрятать четки. Чернозуб был почти уверен, что девушка имела отношение к «привидениям», как и все рожденные в долине джины, что смахивали на нормальных существ.
Он припомнил истории, что среди джинов существуют людоеды, оборотни, маньяки-убийцы. Кое-какие из этих историй представляли собой грязные шутки, и большинство исходило из уст фанатиков. Но пусть даже, слушая эти рассказы, он испытывал стыд, сейчас, перед лицом этих зловещих фигур он не мог забыть, что порой одна или другая из историй оказывалась правдой. Тут все было возможно.
Наконец появился и Коричневый Пони. Он степенно вышел из кареты и величественно надел красную шапку.
— Дети мои, — сказал он окружившим его джинам, — мы церковники из Валаны. У нас нет оружия. Мы ищем укрытия от непогоды и хорошо заплатим вам за кров и стол.
Старуха, похоже, не слушала его.
— Вытащи все барахло изнутри и сверху, — тем же самым тоном приказала она девушке. Кардинал повернулся к ней.
— Вы знаете, кто я, а я знаю, кто вы, — сказал он девушке. — Я Элия Коричневый Пони из Секретариата.
Девушка помотала головой.
— Ты никогда не встречала меня, но, конечно же, знаешь обо мне.
— Я вам не верю, — сказала она.
— Шевелись! — прикрикнула старуха.
Девушка влезла в карету и принялась вышвыривать одежду и прочие вещи, включая ситару Чернозуба. Высунув голову, она спросила:
— А книги?
— Их тоже.
Чернозуб решил, что следующим будет спрятанный в карете пистолет Коричневого Пони, но задумался, почему кардинал настаивал, что девушка должна его знать. Он не придавал своей личности слишком большого значения и не был из числа тех эгоистов, которые считают, что их должны узнавать всюду и везде. Сейчас кардинал пожал плечами и прекратил протестовать. По всей видимости, девушка так и не нашла пистолета. Внезапно со стороны самой большой хижины деревни послышался сдавленный вскрик. Уродливая женщина оглянулась. В дверном проеме появился старик с пятнистой кожей и белыми волосами. За его спиной стоял Вушин, локтем пережимая горло старика. В таком положении Топора почти не было видно. Обогнув деревню и появившись в ней с тыла, он в назидание остальным вздымал короткий меч. Не подлежало сомнению, что в руки к нему попал старейшина деревни, потому что женщина и горбун тут же бросили свое оружие.
— Ты не должна была грабить их, Линура, — прохрипел старик. — Одно дело взять у них оружие, но… — он прервался, когда Вушин потряс его и замахнулся мечом.
Женщина упала на колени. Девушка кинулась бежать. Она вернулась с вилами, нырнула к Коричневому Пони за спину и ткнула в него зубьями.
— Мой отец в обмен на вашего священника! — крикнула она палачу.
— Отведи лезвие, Вушин, — сказал Коричневый Пони и повернулся лицом к девушке. Она легонько ткнула его вилами в живот и предостерегающе оскалила зубы.
— Разве вы не «Дети Папы»? — спросил кардинал, употребив древний эвфемизм, которым называли Рожденных по ошибке. Он повернулся лицом к остальным и широко раскинул руки: — И неужели вы причините вред слугам Христа и вашего папы?
— Стыдно, Линура, стыдно, Эдрия, — прогудел старик. — Если будете действовать таким образом, нас всех убьют или отправят обратно в Уотчитан, — он обратился к девушке: — Эдрия, убери это. Кроме того, позаботься об их лошадях и принеси нам пива. Иди!
Старуха склонила голову.
— Я всего лишь хотела обыскать их багаж — нет ли в нем оружия.
— Спрячь свой клинок, Шин, — повторил кардинал.
— Верни мои четки и мою г’тару, — сказал Чернозуб девушке, которая не обратила на него внимания.
Старик подошел, чтобы поцеловать кольцо Красного Дьякона, но не нашел его и вместо этого поцеловал руку.
— Меня зовут Шард. Это дом нашей семьи. Милости просим остановиться в нем, пока не кончится снег. Еды у нас сейчас, зимой, не так много, но Эдрия, может быть, убьет оленя, — он повернулся к пожилой женщине и вскинул руку, словно собираясь ударить ее. Та передала мушкет девушке и торопливо удалилась.
— У нас есть кукуруза, бобы и монашеский сыр, — сказал Коричневый Пони. — Мы поделимся с вами. Завтра среда, первый день Великого поста, так что мяса нам не надо. Двое из нас могут спать в карете. У нас есть просмоленная парусина, чтобы укрываться от холодного ветра. Мы благодарим вас и будем молиться, чтобы погода позволила нам проследовать дальше.
— Простите, пожалуйста, столь грубый прием, — сказал пятнистый старик. — Нас часто посещают небольшие банды Кочевников, пьяниц или изгоев. Многие из них полны подозрений и боятся флага, — старик показал на желто-зеленое полотнище, что колыхалось над жилищем. На нем были изображены ключи от папского престола и кольцо из семи сплетенных рук, предупреждавшие, что это место находится под папской защитой. Флаг стал официальным символом народа Уотчитана. — Даже те, кого он не пугает, быстро убеждаются, что тут нет ничего ценного, кроме девушки, и оставляют нас в покое, но моя сестра никому не доверяет. Три дня назад нас навестили тексарские агенты, представившиеся священниками. Мы поняли, что их прислали шпионить за нами, и отнеслись к ним с большим подозрением.
— И что случилось?
— Они хотели узнать, сколько таких, как мы, живет в окрестных холмах. Я рассказал им, что есть только одна семья в четверти часа ходьбы верх по тропе. Посоветовал им не ходить туда, потому что мальчик-медведь может быть очень опасен, но они настояли на своем. Через час спустились всего два человека и спешно исчезли.
— Вы серьезно думаете, что Ханнеган может преследовать беглецов из долины, которые обосновались так далеко от империи?
— Мы это знаем. Других убивали ближе к границам провинции. Филлипео Харг использует ненависть людей к джинам. Он считает нас преступниками, потому что мы пробились из долины. И кое-кто из его охранников был убит.
Пока выпрягали лошадей, Чернозуб заметил в стойле рядом с амбаром двух лохматых коров. Они не походили на обыкновенных сельских животных, смахивая на скот Кочевников. Но коровы Кочевников, загнанные в стойла, лягались бы и брыкались, так что он решил, что имеет дело с гибридами. Или с животными-джинами, поскольку джинами были их хозяева. Скот Кочевников, наверное, происходил от нескольких удачных линий. Порой, хотя и редко, появляющиеся монстры, то ли люди, то ли животные, доказывали, что имеют право на жизнь.
Гостеприимство джинов, последовавшее после плохого начала, должно было решительно исправить положение дел. Горбун, явно не принадлежавший к семейству Шарда, исчез. Вскоре Эдрии удалось прикончить олененка. Она внесла в дом чашу с его горячей кровью и предложила ее Чииру Хонгану, который, оцепенев, молча уставился на нее.
Кардинал побагровел от сдерживаемого смеха. Когда Кочевник посмотрел на него, Коричневый Пони прикрыл улыбающийся рот. Хонган фыркнул и взял у девушки чашу с кровью. Что-то проворчав в ее адрес, он грозно нахмурился и опустошил чашу одним глотком. Девушка отступила, словно в изумлении. Красный Дьякон разразился хохотом, и через несколько мгновений все, кроме Эдрии, покатывались со смеху.
— Так ведь Кочевники пьют кровь, правда? — спросила она и, покраснев от всеобщего смеха, пошла свежевать олененка.
— Некоторые пьют, — сказал Медвежонок. — В особых случаях, на церемониях.
После вечерней трапезы, состоявшей из нежной оленины, черного хлеба, бобов и мутноватого домашнего пива, все, собравшись вокруг огня в доме Шарда, снова завязали разговор. Не было только Кочевника; сделав вид, что плохо говорит на ол’заркском, он взял свое скатанное одеяло и пораньше отправился располагаться в карете, так как его поиски подходящего места в доме не увенчались успехом. Вторым ушел Чернозуб, который был только рад устроиться на ночь подальше от палача, от кардинала, от сумасшедшего священника и от всего прочего, включая волнующее присутствие хорошенькой девушки.
Общий разговор велся на ол’заркском, но когда Шард задал вопрос на ориентале, Вушин ответил ему на ломаном церковном. После того, как это случилось в третий раз, Коричневый Пони повернулся к нему и сказал:
— Вушин, говори на языке наших хозяев. Это долинное наречие ол’заркского. Язык народа Уотчитана.
Топор ощетинился и посмотрел на Коричневого Пони, который ответил ему спокойным взглядом.
— Долинное наречие — это язык наших хозяев, — повторил он.
Вушин уставился в пол. В комнате наступило мертвое молчание. Наконец он поднял глаза и на безукоризненном тексаркском сказал:
— Добрый простак, отвечая на твой вопрос, скажу, что по профессии я был моряком и воином. Но в последующие годы я занимался тем, что рубил головы для правителя Тексарка.
— Как же вы так опустились, сир? — спросил тихий женский голос.
Вушин беззлобно посмотрел на спросившую.
— Не опустился и не поднялся, — сказал он на плохом церковном и опять перешел на ее язык: — Смерть — это путь воина, девочка. В ней нет ни чести, ни бесчестия, она сама по себе.
— Но делать это для Ханнегана…
Для Вушина было привычным находиться в расслабленном состоянии, готовым к улыбке, когда в уголках глаз появлялись морщинки. Но сейчас он оцепенел и застыл, как труп. Повернувшись лицом к Эдрии, он неторопливо поднялся и поклонился ей. Чернозуб почувствовал, как кожа на голове пошла мурашками.
Топор посмотрел на Красного Дьякона, словно говоря: «Видите, что вы вынуждаете меня делать!», — и пошел прогуляться в ночи. Это был последний раз, когда старый потрошитель отказался говорить на ол’заркском, но Чернозуб заметил, что, переходя на него, он каждый раз подражал акценту Шарда, называя это долинным наречием. Во время их пребывания здесь он относился к Эдрии с подчеркнутой вежливостью. Без риска ошибиться было видно, что он горько сожалеет о чем-то, но о чем именно, Чернозуб так и не понял.
После двух дней непрерывного, хотя и не густого снегопада, которые они провели в Пустой Аркаде, как ее называл Шард, прошло еще шесть дней, большую часть которых Чиир Хонган провел в скитаниях по округе, проверяя условия на дорогах. Вушин тоже отсутствовал большую часть этого времени, но никому не рассказывал, чем он занимается, разве что кардиналу по секрету. Похоже, что правильнее всего было подождать, пока какой-нибудь кортеж не расчистит близлежащие пути.
На вторую ночь они расселись вокруг огня в доме Шарда. Коричневый Пони старался, не задавая слишком много вопросов, все же выяснить историю семьи. Его искусство вести беседу скоро заставило Шарда пуститься в повествование о приключениях семьи, последовавших после мора и изгнания. Десять лет назад состоялась попытка массового побега. Самое малое двести человек были убиты тексаркскими солдатами, когда они пробирались сквозь лесные заросли и поднимались по руслам потоков вверх, к перевалам. И по крайней мере вдвое больше беглецов ускользнули от тексаркских частей, которые были расквартированы здесь, чтобы защищать народ Уотчитана от захватчиков, и предотвращать побеги джинов. Долина была больше, чем просто долиной; тут существовал небольшой народ, названный по имени тех мест, откуда он был родом до завоевания. Никто не подсчитывал его численность, но Шард прикинул, что всего было около четверти миллиона, что заставило Коричневого Пони вскинуть брови. Принято было считать, что тут обитало порядка пятидесяти тысяч человек.
— Подходы к Уотчитану надежно охранялись людьми Ханнегана, но патрули не могли одновременно остановить такое количество беглецов, — сказал Шард. — Наверно, половина погибших пришлась на долю тексарских солдат, а других линчевали фермеры. Эдрия, конечно, могла скрыться, ибо ее легко принять за нормальную, а не за «привидение». Моя дочь проявила большую смелость, решив остаться с нами. «Привидений» среди нас больше всего боятся и ненавидят. Они могут вступать в брак с нормальными, а потом их проклинают, когда они дают жизнь монстрам.
— Насколько вы тут можете не опасаться туземцев? — поинтересовался Коричневый Пони. — Я считал, что тут страна изгнанников.
— Так было и в каком-то смысле продолжает быть. Ближайший город — в двух днях пути. Они знают, что мы здесь живем. Священник навещает нас каждый месяц, за исключением зимы. Городом правит он на пару с бароном. Тревог он не доставляет. В городе бывает только Эдрия. Конечно, она носит зеленую головную повязку. Мы располагаемся к югу от Денверской Республики, но Церковь тут уважают больше, чем где-либо в империи. Конечно, папская трасса патрулируется. Ясное дело, тут попадаются разбойники, но их интересуют главным образом путешествующие купцы. У нас же нет ничего, что может привлечь грабителей.
— Много ли живет поблизости таких, как вы?
— Вы видели горбуна, Кортуса. Его семья обитает по соседству. Но единственная семья за нами — это та, что с мальчиком-медведем.
— Шард, я глава Секретариата необычных духовных явлений.
Старик с подозрением посмотрел на него.
— Если это в самом деле так, вам не стоит задавать такие вопросы.
Монах почувствовал, что в помещении воцарилось напряжение, граничащее с враждебностью, но никто и ничто не нарушило тишину. Стало ясно, что Шард врал, говоря, что в этом районе обитают и другие джины.
После того как тарелки были вымыты в снегу за домом, Линура вошла и присела рядом, чуть позади своего брата. Затем появилась Эдрия и, скрестив ноги, опустилась на пол рядом с Чернозубом, который беспокойно заерзал, едва не потеряв нить разговора. Он хотел получить назад свои четки. Запах девичьего тела щекотал ему ноздри. Коленки Эдрии блестели в свете огня. Заметив его взгляд, она натянула одеяло на колени, но, прежде чем вернуться к общению, чуть заметно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Помня, как это скромное создание ухватило его за пенис при первой же встрече, Чернозуб толкнул ее.
— Верни четки! — шепнул он.
Хихикнув, она чувствительно толкнула его в бок.
— Я часто интересовался жизнью в долине, — сказал Красный Дьякон.
— Это скорее смерть, а не жизнь, милорд кардинал, — ответил Шард. — Мало из тех, кто обитает здесь, рискуют произвести на свет жизнь. Нормальные роды — это редкость. Большинство умирает. Другие влачат слишком жалкое существование, чтобы хотеть новой жизни. И если тут не будет наплыва людей, Уотчитан скоро опустеет.
— Наплыва? Откуда?
— Вы должны это знать, милорд.
Коричневый Пони кивнул. Многие из членов семей с зарегистрированной родословной тем не менее производили на свет отвратительных отпрысков. Такие семьи, опасаясь испортить свои родословные и отбросив страх перед Церковью, убивали своих изуродованных детей. Но часто появлялись дети, чьи уродства со временем могли быть скрыты от глаз, и, когда они подрастали, их отсылали в долину на попечение благочестивых мирян. Нередко их принимали монахи и монахини. Люди, которые жили неподалеку от Уотчитана, ненавидели и боялись его обитателей, особенно тех, кто производил впечатление почти нормальных. Чернозуб заметил, что все посмотрели на Эдрию.
— Прости, дочь моя, — пробормотал Коричневый Пони, встретившись с ней взглядом.
— Мне не нравится это признавать, — произнес Шард, — но патрули, которые охраняют перевалы, в такой же мере наши тюремщики, как и защитники. Но они ничем не помогли нам, когда пришел голод.
— А Церковь? — спросил Красный Дьякон. — Она так занята своими ересями, что ей не до помощи кому бы то ни было.
— Ну конечно, мы были отрезаны от папской защиты, но архиепископ Тексарка присылал нам кое-какие запасы. Я думаю, что человек он не жестокий, а всего лишь беспомощный.
— Вы и представить себе не можете, насколько беспомощен кардинал архиепископ Бенефез, — вздохнул отец и-Лейден.
Чернозуб бросил на священника быстрый взгляд: ну конечно же, он полон сарказма и на самом деле думает совсем не то, что говорит. Ведь за Бенефезом стоит вся мощь Ханнегана. И и-Лейден говорил на тексаркском как местный уроженец, каковым он и был, хотя его реплики на наречье Диких Собак давали понять, что он долго жил на Высоких равнинах.
— Мои четки! — гневно шепнул Чернозуб. Эдрия подмигнула ему и ухмыльнулась.
— Я спрятала их в амбаре. Завтра получишь.
Выражение, с которым Эдрия посмотрела на него, ясно говорило, что она ждет его визита, и он почувствовал, что неудержимо краснеет. Чернозуб боялся ее. Многие уродства удавалось со временем вылечить, но многие имели генетическое происхождение. Разные исследователи по-разному представляли себе их перечень. Существовали мутации, при которых великолепная физическая красота соседствовала с дефектами мозга, самым заметным симптомом которых являлась неистребимая склонность к преступности, которая давала о себе знать еще в раннем детстве. Чернозуб украдкой посмотрел на девушку, но она перехватила его взгляд и, усмехнувшись, провела кончиком языка по губам. Она, может, и не сумасшедшая, но сущая чертовка. Ему захотелось залезть в карету и устроиться там на ночь, но он постеснялся вставать у всех на глазах. Наконец он вознес молитву, чтобы исчезла эрекция, и пробормотал общее пожелание спокойной ночи. Эдрия последовала за ним на улицу, но он скрылся в туалете, откуда выбрался через заднее окно. Его тут же заметил горбун, который на пару с другим существом потащил его к соседнему зданию с освещенным дверным проемом; горбун хрипло шептал, что кому-то нужно отпущение грехов.
— Но я не священник! — запротестовал Чернозуб. Тщетно. Они втолкнули его в дом соседей Шарда.
Там, втащив Чернозуба внутрь, горбун со спутником отпустили его и встали у дверей, перегородив выход. Монаху оставалось только сесть на предложенный ему стул и ждать развития событий.
В комнате горели камин и фонарь. Тут же находился старик, покрытый морщинами, с взлохмаченной бородой, который сказал, что его зовут Темпус. Он показал на остальных. Среди них была его жена Ирена, чье лицо представляло сплошной шрам. Здесь же находились Улулата и Пустрия, женщины зловещего вида. Горбуна звали Кортус, а его спутника Барло. Все они были единоутробные, или двоюродные, или сводные братья и сестры. Барло страдал ужасной чесоткой, особенно в районе гениталий. Темпус гаркнул на него, чтобы тот перестал мастурбировать, но слова не оказали никакого воздействия на это создание.
Бог в своей неизреченной мудрости даровал Улулате изуродованную ногу, хотя Он, преисполнившись милосердия, одарил ее также божественным обликом и идеальной фигурой. Но такую ногу было невозможно себе представить.
— В этом и есть Бог, — сказал отец. — Он дал ей костыли.
Его же Бог наградил семью пальцами, которые он продемонстрировал монаху, бесполезным третьим глазом и четырьмя яичками с двумя здоровыми пенисами, которые он тут же предъявил. Пустрия была сводной сестрой Улулаты, и верующая мать отлично помнила, от кого та произошла на свет. Пустрия была поражена только слепотой, и мать Ирена испытывала к ней особые чувства, ибо Пустрия никогда не видела ее лица, сплошь покрытого струпьями, чем мать не могла гордиться.
— После нашествия огня и льда нам остался такой Бог, — сказал отец.
В отпущении грехов нуждался Барло, о чем рассказал Темпус в надежде положить конец его мастурбации. Чернозуб объяснил, что он не имеет права кому-либо отпускать грехи, да и в любом случае отпущение грехов не окажет того воздействия, который жаждет увидеть Темпус. Тот оставался неколебим: Чернозуба не опустят, пока он не совершит обряда.
— Но после этого вы тут же отпустите меня? — вопросил он. Темпус серьезно кивнул и перекрестил сердце. Нимми на мгновение прикрыл глаза, пытаясь вспомнить скромный запас латыни.
— Labores semper tecum, — сказал он нежнейшим голосом, который только смог у себя обнаружить. — Igni etiam aqua interdictus tu. Semper cuper capitem tuum feces descendant avium.[68]
— Аминь, — эхом откликнулся Темпус на это проклятие.
Нимми встал и вышел. В данный момент он не испытывал особого стыда или боязни вечных мук за то, что произнес грозную формулу отлучения от церкви с призванием на голову отщепенца вечного дождя из птичьего помета, но вид калеки, который продолжал скрести мошонку, еще долго преследовал его.
Чиир Хонган уже спал. Чернозуб как-то протиснулся мимо Вушина и устроился в карете третьим. Он испытывал облегчение, что все сложилось таким образом и ему удалось сбежать от семейства горбуна. Если уж ему довелось спать в холодной карете, он предпочитает соседство Кочевника. Хотя в эти ночные часы он уже не испытывал страха перед человеком, убившим сотни других людей, брат Топор продолжал присутствовать в его снах. Порой ему снилось, что он сам выступает в роли палача, по указанию Ханнегана отрубая головы огромным мечом, но этой ночью в карете ему привиделось, что он Понтий Пилат, а палач Вушин стоит рядом с ним в роли центуриона Марка, лицом к человеку, считающему, что он принесет Кочевникам царство Божье.
В те дни появление королей Кочевников было обычным делом. Во время своей успешной карьеры на юге Тексаса-Иудеи он распял не одного, а четырех из них. Первое распятие на кресте было самым тяжелым для него, да и грустным. Чернозуб-Пилат чувствовал себя мальчиком, убивающим своего первого оленя. Поскольку претендент на царство был совершенно безобиден, ситуация усугублялась сомнениями со стороны жены. Первого он хотел освободить. Проще было казнить следующего, со всей неуклонностью доказав, что королей назначает Тексарк, а не племенные боги. Он задавал осужденным тот же самый вопрос. Первый не хотел или не мог ответить и просто стоял и смотрел на него. Второй обреченный к распятию был более разговорчив.
— Что есть истина? — спросил Чернозуб.
— Истина — суть всех правдивых слов, — сказал второй король Кочевников. — Ложь — суть всех лживых слов. И если ничего не говорить, то нет ни лжи, ни истины. Я предлагаю вашему величеству свое молчание.
— Распять его, — сказал Пилат, — да понадежнее. И на этот раз без оплошностей. Заведите ему руки и ноги за крест и свяжите. Так, как предписано в учебнике для прокураторов Тексарка. Вам, новичкам, это неясно. А стоит знать, почему. Ладно, я вам объясню, в чем дело.
Приколачивание рук позади креста отвечает техническим принципам и правильной правительственной политике, потому что, когда вы приколачиваете руки спереди, висящая на гвоздях плоть рвется под весом тела, разве что вы еще дополнительно приколотите и предплечья. А вот когда вы заводите руки за верхушку креста и связываете их там, вес висящего тела приходится на поперечину, а гвозди всего лишь удерживают руки на месте. Таким образом, когда приходит время идти домой после работы, вы сможете надежнее перебить ему кости. И делайте это, как полагается в Тексарке, ребята; Тексарк вечен. И на этот раз не тратьте времени, приводя приговор в исполнение.
— Да здравствует Ханнеган! — сказал Марк-Топор.
— Да здравствует Тексарк! Следующий.
После этого Понтий почувствовал себя куда лучше. Готовый проснуться, он понимал, что все это ему снится, но не мешал сну продолжаться. Глупые объяснения того типа относительно истины скорее всего не имели ничего общего с молчанием первого короля Кочевников, но они властно напоминали, что молчание тоже может быть политикой и вызывали у Пилата неприятные воспоминания о насмешливом взгляде первого приговоренного, в котором, казалось, крылись не глубокие философские мысли, а бесконечное, глубоко личное сочувствие: «Я, кто смотрит на тебя, смотрящего на меня, который смотрит на меня…» Его жена Эдрия была испугана этим взглядом. В нем было что-то чувственное и тем самым глубоко оскорбительное по отношению к тем, чьей обязанностью было избавляться от этих отвратительных отбросов.
— Что есть истина? — спросил Пилат у третьего короля Кочевников.
— Она не для твоего рыла, тексаркская свинья!
По поводу этого Чернозуб-Пилат не испытывал никаких сожалений.
Он проснулся, думая об Эдрии и об их предполагаемом любовном свидании на сеновале. Шутка. Подремывая, он сонно вспоминал обсуждение. Брат Гимпус доказывал, что отрешенность от сексуальной страсти есть суть целомудрия и что такая отрешенность возможна и без воздержания. Брат Гимпус был пойман нагим в обществе уродливой вдовы, которая утверждала, что каждую среду платит ему. «Покойся с миром», — прошептал Чернозуб, уткнувшись в подушку.
Глава 6
«Имея в виду потребности самых слабых собратьев, мы тем не менее считаем, что капли вина в день достаточно каждому».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 40.Чиир Хонган еще спал, когда Чернозуб пришел в себя, окончательно проснувшись от топота копыт, остановившихся рядом с каретой. Затем он услышал, как кто-то тихо разговаривает на языке Кузнечиков. Разговор шел о коровах Шарда в стойле рядом с амбаром, но что-то взволновало говоривших и снова раздался стук копыт, сопровождаемый криками Эдрии.
Монах выбрался из-под накидки и выглянул из кареты. В слабом утреннем свете еще кружились редкие хлопья снега. Он увидел трех всадников, явно Кочевников. Двое из них на весу держали за руки отбивающуюся девушку. Шард еще издалека разразился проклятьями в их адрес, а горбун выскочил со своим мушкетом. Чернозуб повернулся, чтобы разбудить Хонгана, но тот уже накидывал на себя волчью шкуру и надевал шлем с небольшими рогами и металлической окантовкой. Обычно он носил его, только когда был в седле. Чернозуб запустил руку глубоко под обшивку и нащупал оружие Красного Дьякона. Девушка не нашла его.
Чиир Хонган выпрыгнул с другой стороны и, обойдя карету, показался перед всадниками, изрыгая проклятья на наречии Диких Собак с Высоких равнин.
— Во имя своры Диких Собак и их матери приказываю вам, безродные ублюдки, отпустить ее и спешиться! — Чернозуб поднял оружие кардинала, но у него неудержимо тряслись руки.
Третий Кочевник, не занятый возней с девушкой, вскинул мушкет, присмотрелся к Медвежонку и бросил оружие. Остальные опустили девушку на землю, и она тут же убежала. Всадники неторопливо спешились, и их предводитель опустился на колени перед подходившим Хонганом.
Теперь он объяснялся на наречии Хонгана.
— Потомок Маленького Медведя, господин наш Дневной Девы, мы и не собирались обижать ее. Мы увидели этих коров и решили, что они наши. Мы всего лишь подурачились с девушкой.
— Всего лишь подурачились, решив слегка изнасиловать ее. Извинитесь — и чтобы ноги вашей тут не было. Сейчас же! Вы знаете, что эти прирученные коровы не принадлежат вам. Вы безродные ублюдки! Ездите на лошадях без клейма. Я слышал, как вы говорили на языке Кузнечиков, так что вы не из этих мест. Никогда впредь не приближайтесь к этим людям; они «Дети Папы», у которого есть договор со свободными племенами.
Посетители немедленно подчинились и исчезли. Весь этот инцидент длился не более пяти минут, но Чернозуб не мог прийти в себя от изумления. Он выкарабкался из кареты. Чиир Осле Хонган стоял, прислонившись к козлам, и рассеянно смотрел вслед всадникам, которые сквозь снежные заносы скакали к главной дороге.
— Они разбойники из Кузнечиков, но они знали тебя! Кто ты? — изумленно спросил Чернозуб. Кочевник улыбнулся ему.
— Мое имя ты знаешь.
— То, которым они называли тебя?
— Господином Дневной Девы? Разве ты никогда не слышал его?
— Конечно, не слышал. Так называется твой род.
— Или порой род дяди.
— Но эти безродные сразу же узнали тебя. Ночью мне снился король Кочевников.
Хонган засмеялся.
— Я не король, Нимми. Пока еще не король. Они не меня узнали. А вот это, — он коснулся металлического орнамента на передней части шлема. — Клан моей матери, — он улыбнулся Чернозубу. — Нимми, меня зовут Святой Сумасшедший из рода Маленького Медведя по материнской линии. Произнеси это на языке Зайцев.
— Чиир Хонненген. Но на Заячьем это означает Сумасшедший Волшебник.
— Только фамилию. Как она звучит?
— Хоннейген? Ханнеган?
— Именно так. Мы двоюродные братья, — насмешливо сказал Кочевник. — Никому не говори и никогда не вспоминай, как это звучит на Заячьем.
Со стороны дома Шарда появился кардинал Коричневый Пони, и Чиир Хонган пошел ему навстречу, чтобы рассказать об инциденте. Чернозуб задумался, не подшучивал ли над ним Кочевник. Он слышал намеки, что правящая династия происходила из Кочевников, но так как Боэдуллус об этом не упоминал, должно быть, корни происхождения крылись в недавних столетиях. По крайней мере, теперь он знал, что по материнской линии Хонган происходит из могущественного рода. Его собственная семья, переселенная на фермы, не имела герба, и он никогда не изучал геральдику равнин. Его интерес к Кочевнику подстегивала и тесная дружба последнего с отцом и-Лейденом, который называл его «медвежьим детенышем». Часто, когда Кочевник правил каретой, священник ехал верхом рядом с ним, и их разговоры носили личный характер. Они были хорошо знакомы еще на равнинах. Из подслушанных отрывков разговоров он сделал вывод, что и-Лейден в прошлом был учителем Кочевника, но ныне без особого приглашения не хочет больше играть эту роль, пусть даже не опасается, что выросший и поумневший ученик рассмеется ему в лицо.
Чернозуб отправился искать свою г’тару и четки в амбаре, который был наполовину скрыт склоном холма. Эдрии не было видно, но он слышал приглушенный звук струн, которые кто-то дергал. Пол в амбаре был каменным, а из-под закрытой задней двери по желобку струился ручеек талой воды, который наполнял корыто у внешней стены. Над дверью высился сеновал. Открыв дверь, он очутился перед выкопанным погребом, заполненным почти пустыми бочками, в которых хранились сморщенные репы, тыквы и немного проросшего картофеля — остатки прошлогоднего урожая. На полках стояли банки с консервированными фруктами — где только они выросли? Кроме того, тут было еще три бочонка, какой-то сельский инвентарь и куча соломы, которой перекладывали овощи. Никого не было видно. Он решил уходить, но едва он тронулся с места, как с сеновала спрыгнула Эдрия, преградив ему дорогу. Взглянув на нее, Нимми сделал шаг назад. Несмотря на погоду, она обошлась лишь короткой кожаной юбкой, ослепительной улыбкой и его четками, которые висели у нее на шее, как ожерелье.
Нимми попятился.
— А г-г-где г’тара?
— На сеновале. Там куда удобнее. Можно зарыться в сено. Пошли туда.
— Тут теплее, чем снаружи.
— Ну и ладно, — она закрыла за собой дверь, оставив их обоих в непроглядной темноте.
— У тебя есть лампа или свечка?
Она засмеялась, и Нимми почувствовал ее руки, скользившие по телу.
— А ты разве не можешь видеть в темноте? Я могу.
— Нет. Прошу тебя… Как ты можешь?
Она отдернула руки.
— Что могу?
— Видеть в темноте.
— Я ведь из джинов, ты знаешь. Кое-кто из нас это умеет. Хотя не по-настоящему. Просто я знаю, где нахожусь. Но я вижу и ореол вокруг тебя. Ты один из нас.
— Из кого — из вас?
— Ты джин с ореолом.
— Я не… — он запнулся, услышав в темноте, как зашуршала ее юбка, потом стук кремня о кресало и увидел вспыхнувшую искру. Искра блеснула еще несколько раз, после чего Эдрия раздула трут и запалила сальный фитиль. Нимми слегка расслабился. Она сняла с полки две глиняные кружки и повернула кран одного из бочонков.
— Давай пропустим по стаканчику вишневого вина.
— В общем-то я не испытываю жажды.
— Да не в жажде дело, глупый. Это для того, чтобы запьянеть.
— Я не испытываю к этому склонности.
Она вручила ему кружку и присела на солому.
— Моя г’тара…
— Ах да, в самом деле. Подожди. Я принесу ее.
Пока Эдрии не было, Нимми, нервничая, сделал глоток вина. Оно было крепким и сладким, пахло смолой, и он тут же расслабился. Эдрия вернулась с его г’тарой, но, когда он потянулся за ней, отвела руку.
— Ты должен сыграть для меня.
Он вздохнул.
— Хорошо. Но только один раз. Что тебе сыграть?
— «Налей мне, брат, еще одну, а потом пойдем ко дну».
Нимми наполнил кружку и протянул ей.
— Да это же название песни, глупый.
— Я ее не знаю.
— Ну просто сыграй что-нибудь, — Эдрия шлепнулась на солому. При свете свечи он видел, что под юбочкой у нее не было никакой одежды. Но что-то показалось ему странным. Он видел девочек в этом виде, только когда был ребенком, но такого не мог припомнить. Он посмотрел на нее, на г’тару, на кружку с вином, которую держал в руке, на свечу. Допив вино, он снова наполнил кружку.
— Сыграй какую-нибудь любовную песню.
Нимми сделал еще один глоток, отставил кружку и начал настраивать струны. Он не знал ни одной любовной песни и поэтому запел начальные строки четвертой эклоги Вергилия, которые сам положил на музыку. Когда он дошел до слов о страданиях Девственницы, Эдрия легонько выдохнула, затушив тем не менее вздохом свечу, стоявшую в шести футах от них. Чернозуб испуганно остановился.
— Налей еще вина и иди сюда.
Нимми услышал, как плеснулось вино в чашках, и только тогда понял, что сам наливает его.
— Выпей, — сказала она.
— Как мне отсюда выбраться?
— Тебе придется найти замочную скважину. А она очень маленькая.
Чернозуб стал шарить около дверей.
— Вот сюда, — Эдрия дернула его за рукав, и он успел отпить вина прежде, чем разлил его, после чего оказался распростертым рядом с ней в темноте.
— Где ключ?
— Прямо здесь, — она схватила то, что стиснула в руках при первой их встрече. Он не испытывал желания сопротивляться.
Они прижались друг к другу, но после неловких стараний он сказал:
— Не входит!
— Знаю. Хирург сделал мне так, что ничего не получится, но все равно приятно, не правда ли?
— Не очень.
Она всхлипнула.
— Я тебе не нравлюсь!
— Нет, нравишься, но все равно не входит.
— Все будет хорошо, — фыркнула она и, шурша соломой, опустилась пониже.
После истории с Торрильдо в подвале Чернозуб уже не испытывал такого изумления. Опьянев, он боялся лишь, что сейчас из чулана с метлами вылетит кардинал Коричневый Пони и заорет: «Ага! Попались!» Но ничего подобного не случилось.
Когда он, расставшись с невинностью, вылез из амбара, улыбающаяся Эдрия (semper virgo[69]), крутя в руках его четки, с сеновала смотрела, как он залезал в карету и устраивался на подстилке. Выражение «противно натуре» продолжало со всей болезненностью напоминать о себе. Никогда еще он не был таким пьяным.
— Черт бы побрал эту ведьму! — прошептал он, проснувшись, но тут же поежился от этих слов. — Ведьма живет во мне! — быстро поправился он. — Помоги мне, святой Айзек Эдуард Лейбовиц! Мой покровитель, я должен был думать, прежде чем заходить в этот амбар. Молись за меня! Я рад, что она украла мои вещи. Это дало мне повод пойти к ней, делая вид, что я разгневан. То, что она стащила, я должен был сам подарить ей. Теперь я это понимаю. Почему я не осознавал этого раньше? Понимал ли я смысл того, чем занимался и с Торрильдо? То был я или живущий во мне дьявол. Святой Лейбовиц, заступись за меня!
Как Чернозуб ни гневался, но он влюбился. Его сексуальность всегда была для него тайной. Он раздумывал над причинами своей глубокой привязанности к Торрильдо, единственного среди всех прочих, которые были его друзьями в аббатстве. В его эротических снах куда чаще появлялись огромные ягодицы, чем огромные груди, но теперь его внезапно потрясла девушка, и у него не оставалось никаких сомнений, что он поражен самой сильной любовью, которую когда-либо испытывал, если не считать любви к сердцу Девы, — кощунственное сравнение, но оно было истиной. Или же в нем сказывалась и похоть?
Несмотря на их свидание в амбаре, в течение последующих дней Эдрия отвечала на его влюбленные взгляды лишь самодовольными ухмылками и отрицательно качала хорошенькой головкой. Чернозуб понимал, что она имела в виду. Она, отмеченная печатью проклятья, не имела права блудить ни с кем вне пределов долины. Наказанием могло быть увечье или смерть. Она воспользовалась представившимся случаем, чтобы соблазнить его. Но то, чем они занимались в амбаре, было всего лишь любовными играми, не противоречащими основным законам этого народа. Конечно, если не говорить о нарушенных обетах Чернозуба. Она это понимала. В завершение она поддразнивала его тем, с какой легкостью она одержала верх над его обетами. Он знал, что все так же привержен им, и если один раз сбился с пути, это не повод, чтобы снова отступить от них. Но без дополнительного хирургического вмешательства Эдрия была не способна к нормальному физическому соитию. Отец сделал это с ней, еще когда она была ребенком, наверное, опасаясь, что кто-то, такой как Кортус или Барло, изнасилует ее. Святая Богоматерь, смилуйся над нами.
Никто не видел их в амбаре, но пульсация чувственности, исходившая от девушки и монаха, стоило им оказаться рядом, не ускользнула от внимания кардинала. Красный Дьякон застал Чернозуба одного, когда тот привязывал узлы к задку кареты, готовясь к отбытию.
— Пришло время поговорить, Нимми. Прости, Чернозуб. Я слышал, как Хонган называет тебя Нимми, и это имя подходит тебе. Как ты хочешь, чтобы тебя называли?
Чернозуб пожал плечами.
— Я расстался со старой жизнью. Столь же легко я могу расстаться и со старым именем. Неважно.
— Хорошо, брат Нимми. Только не расставайся со своим обетом послушания. Напоминаю тебе, что Эдрия — джин. Находясь здесь, очень внимательно контролируй себя. Скажу лишь, что Шард не первым появился здесь как беглец из долины. Это длится годами. Место здесь представляет собой нечто большее, чем то, каким оно кажется, и в Эдрии есть гораздо больше, чем то, что видно на первый взгляд.
— Я начинаю догадываться, милорд.
— Специально ты не захочешь встреч с ней. Если когда-нибудь случайно увидишь Эдрию в Валане, избегай ее, — Красный Дьякон строго смотрел на Чернозуба. — Это не имеет ничего общего с твоим обетом целомудрия, но пусть и он поможет тебе. Там, высоко в холмах, скрывается большая колония джинов, но пусть они не догадываются, что ты знаешь о ней. Они настолько боятся нас, что могут стать опасными.
— Да.
— Есть кое-что еще, Нимми. Чиир Осле Хонган, как ты узнал от этих разбойников, — важная личность среди своего народа, но тебе знать об этом не стоило бы. В Валане об этом не знают. Так что я должен просить тебя о молчании. Есть необходимость хранить тайну. Он посол при мне, прибывший с равнин, но ты никому не должен говорить об этом. Он всего лишь нанятый мной возница.
— Понимаю, милорд.
— Есть и другая проблема — с отцом и-Лейденом. У меня нет необходимости читать у тебя в мозгу, чтобы увидеть, с каким любопытством ты относишься к нему. О нем ты тоже должен молчать. Для этого путешествия он отрастил бороду, чтобы его никто не узнал. Я подсадил его в сорока милях к югу от Валаны и там же высажу, что вызовет у тебя новый прилив любопытства. Даже мой друг преосвященный Джарад не знает, кто он такой. Путешественникам я объясняю, что он просто пассажир, которого я взялся подвезти. Ты знаешь, что я представил его преосвященному Джараду как моего временного секретаря. Но хватит об этом. Ты не должен никому упоминать о нем. Если ты встретишь его в Валане без бороды, не пытайся узнать его. Во всяком случае, его зовут не и-Лейден. Ты будешь хранить полное молчание относительно этих двух людей.
— Я немало попрактиковался в молчании, милорд.
— Ну что ж… Я возлагаю на тебя большие надежды, Чернозуб. Нимми. Пока же тебе остается только держать язык за зубами. В Валане я найду тебе другое применение.
— Я буду рад, милорд. А то я уже много лет чувствую себя никому не нужным.
Коричневый Пони внимательно посмотрел на него.
— Я с удивлением слышу эти слова. Твой аббат рассказывал мне, что ты очень религиозен и склонен к размышлениям. Ты считаешь, что это никому не нужно?
— Вовсе нет, но и я, в свою очередь, могу удивиться оценке аббата. Он был очень сердит на меня.
— Конечно, он сердился, но в какой-то мере и на себя. Нимми, он очень переживал, что заставил тебя делать тот дурацкий перевод Дюрена. Он думал, что это пойдет на пользу.
— Я говорил ему обратное.
— Знаю. Он думал, что ты с головой уйдешь в эту работу. Теперь он проклинает себя, что работа вызвала у тебя такое сопротивление. Он хороший человек и искренно сокрушается, что орден потерял тебя. Я знаю, как ты был унижен в конце своего пребывания, но прости его, если можешь.
— Я могу, но он-то меня не простит. Я не был даже допущен к исповеди.
— Кем не допущен? Преосвященным Джарадом?
— Настоятель сказал, что спросит у аббата. Наверное, он так и сделал.
— И значит, никто так и не принял у тебя исповеди? Если ты не в силах дождаться, пока мы доберемся до Валаны, отец и-Лейден может исповедать тебя. Могу себе представить, как ты сейчас в этом нуждаешься.
Чернозуб покраснел, предположив, что последняя реплика имела в виду Эдрию. Конечно же, имела!
В конце этого же дня он подошел к старому белобородому священнику, но тот покачал головой.
— Его светлость кое-что забыл. Я не имею права даже читать мессу. Ты видел меня за этим занятием, но я не причащал и не принимал исповеди. Я могу читать мессу про себя, но если я больше никого не привлекаю к ней, это мой единственный грех.
На старческом лице появилось напряженное и грустное выражение, словно он вел войну с самим собой. Чернозуб и раньше видел такое выражение и поежился. Отец и-Лейден просто слегка тронулся.
«Странные спутники для путешествия», — подумал он. Священник, отлученный от церкви, моряк-палач-воин, дикий Кочевник аристократического происхождения, изгнанный монах и кардинал, у которого всего лишь сан дьякона. Коричневый Пони, Чернозуб, Хонган — в жилах у всех текла кровь Кочевников, а и-Лейден, конечно же, жил среди них. Святой Сумасшедший, чья семья со стороны матери носило имя Маленького Медведя, и и-Лейден явно были старыми друзьями и часто говорили о семьях Кочевников, которые оба знали. Только палач не имел никакого отношения к людям равнин. Чернозуб был удивлен куда больше, чем когда узнал о намерениях Красного Дьякона. Кардинал, как он понял, был главой Секретариата необычных духовных явлений, непонятного маленького отделения курии, которую, как он сам слышал, кто-то называл «бюро обычных интриг».
После двух дней не особенно обильного снегопада небо прояснилось. Появилось яркое солнце, и с юга подул бриз. Через три дня оттепель вступила в свои права. Чиир Хонган исчез на полдня и вернулся с сообщением, что дорога стала вполне проходимой, хотя в нескольких местах им еще придется преодолевать снежные заносы. Коричневый Пони выдал Шарду приличный набор монет из папских сумм, и путешественники двинулись из деревушки. Только дети, Шард и Темпус смотрели им вслед. Монах тщетно искал глазами Эдрию. Он не сомневался, она злилась из-за его растрепанных чувств и из-за того, что он избегал ее. Он же хотел дать ей знать, что осуждает только самого себя, но не получалось. Она исчезла с концами.
Когда они расстались с Пустой Аркадой, то все еще были ближе к аббатству Лейбовица, чем к Валане, но по мере того как улучшалось состояние дороги, они все быстрее продвигались вперед. Через несколько дней, поднимаясь к высокому перевалу, все почувствовали, что стало труднее дышать. После трагической гибели Magna Civitas что-то случилось с атмосферой Земли. Глядя снизу вверх и не пытаясь подняться, они видели на горных склонах, значительно выше линии растительности, руины древних зданий. В свое время дышать тут было куда легче. И конечно, изменилась и сама Земля, изуродованная войнами, которые давным-давно положили конец существовавшему миру. Рос новый мир, но далеко не так быстро, как это умел старый. Богатые запасы ископаемых были разработаны и исчерпаны. Старые города были перекопаны в поисках железа. Горючего всегда было в самый обрез. Ханнегану пришлось ограбить свой народ ради меди. Живые создания были уничтожены или изменились. Волки пустыни и волки равнин стали двумя разными породами, даже для тех Кочевников, которые носили «волчьи шкуры», но называли себя «орда Диких Собак». В мире теперь было куда меньше лесов и куда больше травы, но даже в архивах аббатства Лейбовица трудно было найти записи о состоянии биологии до Огненного Потопа и наступившего затем великого обледенения. Проклятие, произнесенное Богом в Книге Бытия, снова обрело свою силу: и да погибнет Земля и Человек!
На двадцатый вечер их путешествия Святой Сумасшедший увидел Ночную Ведьму. Они разбили лагерь пораньше, и в конце дня Хонган выехал вперед, чтобы разведать состояние перевалов; вернулся он после заката, весь пепельного цвета и бормоча что-то невнятное.
— Я посмотрел наверх и увидел, как она стоит на скале, на фоне первых звезд. До чего уродлива! Никогда не видел такой огромной и такой уродливой женщины. Вокруг нее была какая-то пелена черного света, и я видел, как сквозь нее пробивался свет звезд. Солнце уже опустилось за гору, но небо было еще ясным. Она что-то завопила в мою сторону, издав то ли вопль, то ли рыдание. Как кугуар.
— Может, это и был кугуар, — сказал Коричневый Пони. — Тут от разреженного воздуха кружится голова.
— Кугуар? Нет-нет, лошадь. Ведьма стояла там. И вдруг превратилась в черную лошадь и умчалась галопом. Прямо в небо!
Коричневый Пони молчал, занявшись своей тарелкой с бобами. Чернозуб, рассматривая Хонгана, пришел к выводу, что при всем его возбужденном состоянии он искренен. Он уже знал, что пусть даже Кочевник считает себя христианином, но крещение не освободило его от власти древних мифов.
Наконец заговорил отец и-Лейден:
— Если ты видел Ночную Ведьму, о чьей же кончине она возвещает?
— О кончине папы, — не без юмора произнес Красный Дьякон.
— Или моего отца, — тихо сказал Кочевник.
— Боже упаси, — бросил кардинал. — Двоюродный дед Сломанная Нога должен быть избран владыкой трех орд и станет наследником славы рода Хонгана Оса, — он бросил быстрый взгляд на Чернозуба. — И это ты обязан забыть, Нимми.
— Повинуюсь, милорд.
Для Чернозуба все встало на свои места. После войны, в которой семьдесят лет назад военачальник Хонган Ос вел свой народ в бой против Ханнегана Завоевателя и в конечном итоге был принесен в жертву своими же шаманами, титула владыки трех орд больше не существовало. Орда Зайцев полностью покорилась, так же, как и несколько других племен (включая и племя Чернозуба) из орды Кузнечиков, и их потомки осели мелкими фермерами в пределах империи, или на землях Свободного Государства Денвер. Без участия выборщиков из орды Зайцев нечего было и говорить о создании военных и церковных институций королевства. Династия Ханнеганов противостояла таким намерениям. Чернозуб вспомнил о своих бредовых снах, как он в роли Пилата распинает королей Кочевников. Наследственность, доставшаяся ему от Кочевников, заставляла верить в вещий смысл этих снов.
Теперь завоеванные народы, среди которых во времена детства Чернозуба свободные Кочевники вызывали лишь презрение, готовились восстать. Чиир Осле Хонган был родственником Хонгана Оса и по материнской линии мог претендовать на корону. Коричневый Пони был связан с политикой Кочевников (или вмешался в нее) в той же мере, как и с их религией, ибо выборщиками могли быть только те, кто имел отношение к шаманам. И теперь ему пришла в голову мысль, что кардинал, священнослужитель высшего ранга и представители королевской семьи Кочевников, связанные с ордой Диких Собак, должно быть, на пути в аббатство Лейбовица останавливались для совещания с шаманами Зайцев. Обрывки подслушанных во время путешествия разговоров подтверждали эту идею.
Ему было приказано молчать, и он подчинится. Но он не мог считать, что это дело не имеет к нему никакого отношения — это значило повернуться спиной и к покойным родителям, и к своему происхождению. Он был благодарен, что Чиир Хонган по-доброму относился к нему. Придет день, когда он сможет гордиться своим происхождением, если только гордость — не один из смертных грехов, запрещенный верой. Если только две северные орды, Дикие Собаки и несколько непокоренных племен Кузнечиков, перестанут с презрением относиться к завоеванным племенам — к Кузнечикам и Зайцам, он сможет высоко держать голову. Но он понимал, что, прежде чем все это случится, и орде Зайцев, и изгнанникам его крови еще придется отстаивать свои права. Он знал, что будет счастлив помочь им.
Ее Чернозуб увидел на следующее утро — юную девочку, напоминавшую Эдрию, но заметно уступавшую ей в красоте. Обнаженная, она стояла под скальным выступом, танцуя в струях небольшого водопадика из-под тающего ледника. Находясь на расстоянии броска камня, она глянула на Чернозуба, который остановился как вкопанный. По коже головы у него побежали мурашки. Взгляд ее переместился на Святого Сумасшедшего, который, не видя ее, ехал на жеребце кардинала. Она следила за ним, пока с уступа не свалился ком подтаявшего снега, который заставил ее отпрянуть и скрыться из виду. Через несколько секунд из-за уступа галопом вылетела небольшая белая кобылка и скрылась за густой стеной заснеженных елей.
Потом, когда Кочевник остановился, чтобы оглядеться, Чернозуб подошел к нему.
— Сегодня утром я сам видел ее. Дневную Деву.
— Она была молодой? — спросил Чиир Хонган.
— Очень молодой и красивой.
— Кем бы он ни был вчера, сегодня он мертв, — сказал воин. — Ей нужен новый муж.
— Она смотрела на тебя. Или же на лошадь кардинала.
Хонган нахмурился, покачал головой и засмеялся.
— На лошадь. Говорят, что в отсутствие владыки орд ей приходится совокупляться с жеребцами. Дело в разреженном воздухе, Нимми. Он действует на всех нас.
Чернозуб продолжал брести себе, пока его и стоящего в ожидании Кочевника не нагнала карета. В нем была какая-то умиротворенность, и та же самая лошадь вернулась с другим всадником.
— Почему ты не устроился рядом с Топором? — спросил кардинал, в первый раз называя Вушина этим именем.
— Потому что я был слишком возбужден, ваша светлость, и, кроме того, мне хотелось пройтись, — Чернозуб курил какую-то сильную смесь, что Кочевник привез из Небраски, и, расслабившись больше обычного, выказал не свойственную ему болтливость. Кроме того, он больше не чувствовал страха перед Коричневым Пони, и этот человек начал ему нравиться.
— Что это я слышал о тебе, Нимми, и о Женщине Дикой Лошади? Ты так часто меняешь религию?
— Я надеюсь, милорд, что религия, которой я придерживаюсь сегодня, всегда будет слегка улучшаться с помощью завтрашней религии, и видение девушки под ледяным водопадом соответствует моей сегодняшней религии, хотя завтра я могу задаться вопросом, было ли то видение реальностью. Но могу ли я предположить, что она имела отношение к Хонгану?
Коричневый Пони рассмеялся.
— Значит, ты понимаешь, что на этой высоте религия и реальность могут или не могут иметь отношение друг к другу?
— На этой высоте? И да и нет, милорд.
— Дай мне знать, если она снова появится, — небрежно бросил Коричневый Пони и зарысил вперед.
Это было время видений. Чернозуб слышал о чудесах в горах, о магии в долинах и о колесницах в небе. Дева одновременно появлялась перед маленькими группами своих почитателей в трех разных местах континента. Более того, то, что ее облик говорил на западе, на востоке ее же голос подвергал серьезному сомнению. Словно она спорила сама с собой. Может, это и было наилучшим доказательством ее божественности, ибо противоположные взгляды всегда примиряются в божественной сути. Ночная Ведьма и Дневная Девственница были разными аспектами одного существа. У него была и третья ипостась. Когда наступали соответствующие времена, она становилась Стервятником Войны, кружащим над полем битвы, где собирала свою добычу.
«Это все разреженный воздух», — сказал себе Чернозуб. Но почему тут не может быть Женщины Дикой Лошади? Ребенком он видел, как она мчится на неоседланной лошади. Этим утром он видел ее стоящей под водопадом, и она была той же самой юной женщиной. Женщины орд владели племенными кобылами, которых передавали своим дочерям. Женщины-Кочевницы отлично знали искусство разведения лошадей. Никто из воинов не использовал в битвах кобыл. Оседлать кобылу, готовясь к схватке, значило дать понять, что ты к ней не готов. Так что жеребец кардинала Коричневого Пони — это и верховая лошадь, и утверждение его как воина. Никто не имеет права пользоваться дикими лошадьми, кроме ее соплеменников, ибо они с ней одной крови. Она — естественное выражение культуры Кочевников в мире, в котором им приходится обитать, но признать это — не значит утверждать, что ее не существует в реальности. Христианство пользуется такими же проекциями. Так много воплощений Девы! А она — непререкаемый арбитр на пространствах равнин. И выбирая себе мужа, она выбирает короля. Чернозуб развеселился, представив себе, что она выбирает и папу.
Уход из аббатства не столько дал Чернозубу право думать о себе — ему это всегда было свойственно, сколько избавил от чувства вины по этому поводу. Исполнение религиозных предписаний не могло не страдать и из-за путешествия, и в силу его греховности, но он старался так часто, как только представлялась возможность, не меньше часа повторять про себя «Список бакалейных покупок Лейбовица» — ехал ли он верхом или отходил ко сну по ночам: «Принести домой для Эммы банку тунца и шесть булочек». Аминь. Коротко и ясно. Этот текст не позволял возвращаться в мыслях к Эдрии. Он откровенно отдавал ему предпочтение перед уравнениями Максвелла из Меморабилии, которые так смущали Торрильдо и, возможно, были причиной его несообразного поведения.
Но и его гнев на самого себя из-за Эдрии, и его чувства — все искало выхода. Когда этим вечером они остановились на ночевку, Топор, как всегда, спросил: «Готов ли ты к смерти?». Чернозуб, не утруждаясь отрицанием, тут же лягнул Топора в промежность. Палач успел отклониться, и удар пришелся по бедру вскользь. Вушин с удовольствием расхохотался.
— Сегодня вечером ты очень злой, — сказал он и позволил Чернозубу еще трижды напасть на него, лишь после чего швырнул его лицом вниз в тающий снег. То был первый раз, когда ученик смог коснуться своего учителя, и Вушин, помогая ему подняться на ноги, обнял его. — На этот раз ты в самом деле готов умереть, да?
Это была вторая ночь. Спускаясь и забирая к северу, они наращивали скорость движения. На четвертую ночь их на рысях догнал курьер в сопровождении стражника. Размахивая фонарем, он доставил новости кардиналу Элии Коричневому Пони: папа скончался. Посланник с солдатом остановились передохнуть в их обществе, после чего продолжили путь к югу, неся сообщения аббату Джараду и другим кардиналам у Брейв-Ривер. Множество таких посланников разлетелось из Валаны по всем дорогам с таким же сообщением для всех священнослужителей — епископов, священников, дьяконов, аббатов и аббатис, их племянников и закадычных друзей по всему континенту. А тем временем Валана готовилась к очередному конклаву.
Этой же ночью кардинал сел совещаться с Кочевником и капелланом, а Чернозуб и Топор отошли подальше от костра. На другой день они с наслаждением попользовались публичной баней в Побии, первом настоящем городе по пути. Отец и-Лейден сбрил бороду и теперь ничем не отличался от них, хотя позже Чернозуб увидел его в обществе пышноволосого человека в одежде и с оружием Кочевников, но чья манера поведения отличалась от принятой на равнинах. Когда они покинули Побию, Святой Сумасшедший верхом направился на восток в сторону равнин. Через полчаса за ним направился и и-Лейден, сопровождаемый молодым светловолосым воином, похожим на горожанина.
Коричневый Пони нанял местного кучера и двинулся в Валану со своими новыми слугами — настоящим палачом и сомнительным монахом.
Чернозуб долго лелеял вопрос, на который у него не было ответа. Терзаясь чувством вины из-за встречи с Эдрией, он мялся, но наконец задал его:
— Милорд, когда там, в Пустой Аркаде, они хотели нас ограбить, почему вы решили, что девушка узнает вас?
Коричневый Пони нахмурился было, но потом спокойно ответил:
— Моя контора ведет кое-какие дела с группами вооруженных джинов в этом районе. Я предположил, что они входят в одну из таких групп. Как выяснилось, я ошибся.
Но Чернозуб продолжал испытывать любопытство. Вушин и Хонган время от времени исследовали окружающую местность, но делились своими открытиями только с кардиналом. Он решил задать вопросы Топору.
В первой половине дня они миновали грязноватые улицы, заполненные собаками и детишками, какой-то деревушки с кирпичными и каменными домами; из печных труб на бревенчатых крышах тянулись дымки. Доносились звон кузнечного молота и голоса женщин, отчаянно торгующихся из-за цен на картошку и козье мясо. Все эти деревни, появившиеся во время ереси и изгнания, ныне стали предместьями Валаны, обступая ее со всех сторон, и теперь, расположившись у подножья гор, далекие вершины которых Чернозуб видел в детстве, дали пристанище торговым сделкам и нарождающейся промышленности. Но они стояли слишком близко к предгорьям, чтобы можно было увидеть их пики. Лишь на западе тянулся мощный горный массив. Все здесь было новым и уже грязным и удивляло монаха, который хотя и провел первые пятнадцать лет жизни всего в двух днях пути верхом от этих мест, но никогда не был в городе. А город все плотнее обступал их по мере того, как карета кардинала въезжала в густо населенную часть, где сгрудилось большинство зданий, своими двумя и даже тремя этажами напоминавшими аббатство. Над всем этим скопищем строений господствовал нависающий укрепленный холм, чьи стены включали в себя Святой Престол; над ними вздымались шпили кафедрального собора святого Джона-в-изгнании, где наместник Христа на земле служил мессу в честь Святого Отца. Чернозуб, преисполнившись изумления, едва услышал слова кардинала, который, повернувшись, обратился к нему.
— Прошу прощения, милорд?
— Ты знаешь, что площадь перед святым Джоном вымощена булыжником, который через все равнины доставили из Нового Рима?
— Я слышал, милорд, что площадь перед собором — это территория Нового Рима. Но неужели все эти камни…
— Ну не все, но собор святого Джона-в-изгнании в самом деле стоит на земле Нового Рима. Доставленной сюда. Вот почему местные уроженцы утверждают, что возвращаться нет никакой необходимости. Они всем напоминают, что и сам Новый Рим возведен на доставленной земле.
— Из-за моря?
— Так гласит история.
— У достопочтенного Боэдуллуса другое мнение.
— Да, знаю. Это теория возникновения раскола во времена катастрофы. Кто знает? Как получилось, что латинский язык после веков полного забвения снова вошел в употребление?
— По Боэдуллусу, милорд, это случилось во времена Упрощения. Сжигатели книг не уничтожали религиозные труды. И одним из способов спасения драгоценных материалов от простаков был перевод их на латынь, когда им придавался вид Библии, пусть даже это были обыкновенные учебники. Латынь годилась и как секретный язык…
— А вот это здание перед нами — Секретариат, — прервал его кардинал. — Именно там ты и, может быть, Вушин будете время от времени работать. Но первым делом найдем пристанище вам обоим.
Наклонившись вперед, он бросил несколько слов вознице. Через несколько минут они свернули с мощеной мостовой в грязную боковую улочку, над которой нависали ветки с набухающими почками. Вскоре должна была начаться Страстная неделя, и подходило время выборов папы.
Глава 7
«Священное число семь наполнится для нас смыслом, если мы будем нести службу и во время самых ранних утренних молитв, и в заутрене, и трижды в день, и когда взойдет Веспер, и на вечере. Ибо об этих часах дня сказано: «Семь раз на дню возношу я Ему молитву». Для нас тот же самый пророк сказал о ночных службах: «И в середине ночи я поднимаюсь, чтобы прославлять Его». Пусть мы и впредь будем возносить благодарственные молитвы нашему Создателю «в знак преклонения перед его справедливостью» в эти часы… и да будем вставать по ночам, дабы прославлять Его».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 16.Дыхание теплого ветра чинук с гор растапливало снег, и он исчезал на глазах. Держа путь к северо-востоку, Чиир Хонган огибал бедные сельские поселения, тянувшиеся вдоль русла Кенсау. В Побии он вооружился тяжелым арбалетом и колчаном со стрелами. Кардинал вручил ему свой двуствольный револьвер и купил у кочевых торговцев неподкованного жеребца, но Чиир Хонган хотел избежать возможных неприятностей при встречах с соплеменниками Чернозуба, которые в это время года обрабатывали орошаемые земли под посадки картофеля, кукурузы, пшеницы и подсолнечника; возделывая угодья крупных землевладельцев, среди которых был и архиепископ Денвера, они жили в укрепленных убежищах из камня, обложенного дерном. По ошибке они могли принять его за разбойника из числа Кочевников, что и случилось с ними при посещении деревушки джинов. Земли тут были бедные, но неустанными трудами их заставляли плодоносить. Подходило время посадок, и на полях было полно людей и тяглового скота, так что он, забираясь повыше, избегал протоптанных дорог, но оставлял за собой приметы, по которым отец Омброз и-Лейден и перебежчик из Тексарка легко могли бы найти его.
Агенты Тексарка постоянно курсировали вперед и назад от телеграфной станции к юго-востоку от Побии, и посему Хонган путешествовал в одиночку, пока не забрался в глубь коровьих пастбищ Диких Собак, где и остановился, поджидая остальных. Когда он услышал, как с севера приближаются всадники, то, отвернув от проложенной тропы, скрылся вместе с конем в глубокой промоине. Там он и замер в ожидании. Когда голоса смолкли вдали, он, оставив коня, вылез из промоины и стал внимательно прислушиваться к ветру с юго-запада. Припав ухом к земле, он поднялся и заполз в пространство между двумя валунами, где его можно было заметить только с тропы, тянувшейся прямо под его укрытием. Издалека доносились голоса.
— Ясно, что этим путем прошли три лошади.
— Но не обязательно все вместе. И подкована была только одна.
— Она могла принадлежать капитану Лойте.
— Никогда не называй этого предателя капитаном! Он продал и честь, и звание ради дырки меж ног шпионки Кочевников.
Говорившие пользовались ол’заркским. Хонган вложил стрелу в желобок арбалета и натянул тетиву. Первый всадник рухнул с седла, когда стрела пробила ему горло. Хонган прыгнул вперед и выстрелом успел сшибить с седла второго всадника, вскидывавшего мушкет. Разрядив второй ствол, он обменялся пулями с третьим всадником, но оба стрелка промахнулись. Оставшийся в живых развернулся и ускакал. Военные действия между Кочевниками и империей длились не менее семидесяти лет, но таких открытых стычек было немного, и завязывались они только тогда, когда имперские силы вторгались на эти земли.
Святой Сумасшедший перезарядил пистолет и завершил дело, прикончив раненого, после чего, сев в седло, поймал двух лошадей, оставшихся без хозяев. Обыскав седельные сумки, он нашел доказательства, в которых нуждался: всадники были агентами. Отпустив лошадей, он вернулся к трупам и обшарил их карманы в поисках документов. Гневаясь на самого себя, он посмотрел на следы лошади перебежчика. Зная, куда они направлялись, он не заметил их, потому что не искал.
Снова сев в седло и чувствуя теплый ветер, все так же дующий ему в спину, он поскакал за священником и его гостем. Его собственная война с Тексарком началась давным-давно и никогда не кончится. Он поклялся продолжать ее именем своего предка Дикого Медведя и призвал в свидетели Пустое Небо и Святую Деву. Он ехал по следам весь день и добрую часть вечера в глубоких сумерках. Луна вышла только ближе к утру. Ел он урывками и, не разводя костра, приготовился провести ночь, слушая уханье сов и завывание диких собак, которых простаки называли волками и страшно боялись. Стреножив лошадь и развернув на ночь одеяло, Хонган, держась на расстоянии пяти или шести футов от места ночевки, неторопливо обошел защитный круг, каждые несколько шагов метя его струйкой мочи. Место ночевки будет в безопасности, поскольку в таких случаях животные обычно не досаждают спящему человеку, разве что чувствуют запах крови или болезни. Только раз в течение ночи он почувствовал, что к нему подбираются мародеры. Выпроставшись из-под одеяла, он вскочил на ноги и издевательски рявкнул. Раздался хор разочарованных воплей, и при свете звезд вниз по склону холма прыснули несколько темных теней. Сон покинул его, и остаток ночи он пролежал в грустных мыслях о мертвецах, которых этим днем оставил по себе.
Свою первую жертву, тексарского пограничника, Чиир Хонган убил в двенадцать лет. Омброз дал мальчишке отпущение грехов, как отпускал их всем солдатам на войне. Тем более что пограничник в военной форме был застигнут на той стороне реки, где не имел права находиться, и при нем не было флага путешественника, как требовал договор Священной Кобылы. Поскольку тут были замешаны Дикие Собаки — а священник гордился приобщенностью к ним, — после Священной Кобылы ни одна светская власть, включая Тексарк, не подписывала больше никаких договоров, и война с Тексарком никогда не переходила к миру, а всего лишь стихала, пока практически не прекратилась в силу того, что единственная граница, вдоль которой Дикие Собаки стояли лицом к лицу с империей, тянулась по реке Нэди-Энн, за которой к югу лежали оккупированные земли страны Зайцев. Может, и наступит время, когда тут снова разразятся бои, но не раньше, чем в войну вступят и Зайцы. К востоку, в стране высоких трав, Кузнечики, когда им это удавалось, расправлялись с врагами, но помощи у Диких Собак не просили, поскольку владыки трех орд не существовало.
Омброз легко отпустил ему грех столь раннего убийства, но посулил Хонгану адские муки, если он и дальше будет придерживаться древнего обычая. Мальчишка отрезал мочку уха убитого кавалериста и съел ее, дабы почтить убитого врага, чего, как объяснил ему дядя, требует дух Медведя. Священник называл это как-то по-другому. Он заставил мальчишку не менее часа в день размышлять над своими прегрешениями, лишь после чего он получит право на причастие, и снова прочитал ему часть катехизиса, дабы принять у него покаяние. Все это Хонган вспоминал с улыбкой. Он никогда не рассказывал священнику, что, поедая мочку, плакал от жалости к своей жертве. Что же до тех, кого он убил сегодня, то он сомневался, чтобы Вушин мог что-то внушить ему. Разве что-то о пустоте. Топор потерпел поражение, пытаясь как-то соотнести его с Пустым Небом Кочевников. Он говорил что-то о пустоте, из которой возник человек. Или христианство что-то тут путает? Ведь есть столько точек зрения на любую вещь. Столетие назад, во времена его прапрадедов, была только одна. Хонган подумал, что она немного смахивала на точку зрения Вушина, но в ней было больше чувств и образности. Правильный путь, его собственный путь, для Хонгана пока еще не был ясен.
Перед рассветом он стряхнул иней с одеял и при слабом свете стареющего месяца двинулся верхами на восток. Зная путь, который избрал священник, он не видел необходимости сверяться со следами и через два часа нашел их. Омброз раздувал тлеющий костерок из кизяка, у которого они на восходе солнца пили горячий чай, накоротке перекусывая. Капеллан поприветствовал его, а перебежчик, с которым он еще не был знаком, выжидающе поднялся, но Кочевник направился прямиком к их прихрамывающим лошадям. Погладив одну из них, он несколькими словами успокоил ее, после чего, придерживая животное за уздечку, поднял переднее копыто и осмотрел его. Затем повернулся лицом к ним.
— Отче, вы привели к нам шпиона.
— О чем ты говоришь, сын мой? Это капитан Эссит Лойте, о котором говорил кардинал Коричневый Пони. Он женат на внучке Ветока Энара из твоего же рода.
— Пусть он женат на внучке хоть самого дьявола. Меня это не волнует. Он специально ехал на подкованной лошади, чтобы навести их на наш след.
Священник бросил взгляд на офицера и нахмурился, а затем, поднявшись, посмотрел на запад.
— Не волнуйтесь, отче. Двух из них я убил, а третий сбежал. Вот их документы, — повернувшись лицом к Лойте, он вынул пистолет.
Тот сплюнул в огонь и сказал:
— Ты мог бы осмотреть лошадь со всех сторон. Но спасибо, что ты прикончил моих убийц.
Хонган прицелился ему в живот.
— Твой убийца здесь.
— Стой, медвежий детеныш! — гаркнул священник. — Делай, как он сказал. Посмотри на тавро!
Хонган неохотно опустил ствол и снова осмотрел лошадь чужака.
— Одна из кобыл бабушки Веток, — удивился он. — И ты подковывал ее в Побии? Полный идиот!
— Если они собирались убить меня, чего ради мне было оставлять следы по себе? — начал объяснять Эссит Лойте, но Хонган, не обращая на него внимания, вытащил из сумки инструменты и принялся отдирать подкову с копыта. — Дайте-ка место, — сказал он Омброзу.
Скоро гвозди были выдернуты и работа завершилась. Он кинул подковы в седельную сумку.
— Придется показать их твоей теще, — сказал он.
— Я не имел в виду…
— Медвежонок, он знает тактику тексаркской кавалерии и их военные планы. Они искали его, чтобы убить.
— Но теперь он для нас бесполезен, поскольку они о нем знают.
— По следам единственной подкованной лошади? Да это мог быть кто угодно. Церковник. Торговец.
— Предатель, вы хотите сказать? До того, как умереть, они в разговоре называли его имя.
— Теперь с этим покончено. Следы кончаются здесь. Лойте прав. Они искали его, чтобы убить. Значит, они думают, что Лойте пригодится нам, пусть даже ты не согласен, — он повернулся к молодому офицеру: — Почему ты взялся поставить подковы?
— Прежде чем отправиться в горы, я переговорил с конюхом в Побии, и он мне это посоветовал. Я всегда езжу на подкованных. Это же кавалерия…
— След здесь кончается, — повторил священник. — Медвежонок, тут не о чем беспокоиться.
— По седлам! — сказал Кочевник и показал на горизонт. — Посмотрите на эту пыль. Прямо к востоку от нас лежит путь миграции. Оттуда стада идут на север. Мы подождем здесь, пока гурты не подойдут поближе. Затем мы несколько часов будем ехать перед ними, и наши следы исчезнут.
— В таком случае, — запротестовал Лойте, — с темнотой мы не доберемся до дома.
— До дома? — фыркнул Хонган.
— До вигвама его жены и ее бабушки, — строго сказал Омброз. — Но я согласен. Сделаем, как ты говоришь.
Лишь во второй половине дня Святой Сумасшедший удостоверился, что стада шерстистых коров Кочевников, которые в облаках пыли следовали за ними, надежно скрыли их следы. Лишь тогда они сменили направление, свернули с пути, которыми шли гурты, и взяли курс на северо-восток.
Омброз по-прежнему старался добиться мира между своими спутниками.
— Если план кардинала увенчается успехом, — сказал он, — Ханнегану придется прекратить вторжения на земли Диких Собак и Кузнечиков. По крайней мере, на много лет. А к тому времени орды, объединенные под властью единого короля, обретут силы.
Какое-то время Хонган молчал. Оба они знали, что земли Кузнечиков, прерии, заросшие высокой травой, что лежали к востоку, при любом вторжении примут на себя главный удар. Те из соплеменников Чернозуба, которые продолжали вести тут пастушеский образ жизни, стали самыми воинственными племенами, потому что у них не было иного выхода. Они противостояли и армиям Ханнегана, и медленному напору фермеров с пахотной окраины земель на востоке. И все же Дикие Собаки были ближе к Церкви в Валане и к возможным союзникам за горами. Трения, существовавшие между ордами, усугублялись Кочевниками-отщепенцами, отторгнутыми от системы наследования по материнской линии и привлекавшими юных беглецов из завоеванных земель Зайцев к югу от Нэди-Энн.
— Есть более насущная проблема, чем расплата, — наконец ответил священнику Хонган.
— Об этом можешь не беспокоиться, — вступил в разговор офицер. — У его светлости достаточно богатств.
— Да, коров у Полукровки хватает, — ехидно заметил Хонган.
— Есть и другие виды богатства, кроме коров, — сказал капитан Лойте. — Но в любом случае как ты смеешь называть его полукровкой? Разве ты не христианин?
Священник засмеялся.
— Спокойнее, Лойте, сын мой. Медвежий детеныш, так сказать, всего лишь проверяет на тебе принятую у него в племени манеру разговора. И кроме того, как иначе может звучать титул «его преосвященство господин кардинал Элия Коричневый Пони, дьякон собора святого Мейси» в устах потомка двоюродного прадедушки Сломанной Ноги, владыки трех орд?
— А вот мой отец ничем не владеет, — буркнул Хонган, не в силах расстаться с мрачностью.
— Видишь, каким он становится упрямым, приближаясь к дому, — сказал Омброз.
— Он не только ничем не владеет, — продолжил Хонган, — но и я всего лишь его сын, а не племянник.
— Ты же знаешь, что это не имеет никакого значения, — ответил священник. — Ни по материнской линии, ни по какой другой ты не мог наследовать ему. Но старухи положили на тебя глаз, Святой Сумасшедший. Когда старухи искали, кто станет Ксесачем дри Вордаром, им нужен был вождь-волшебник, маг, а не просто чей-то сын или племянник.
— Мне не нравятся эти разговоры, наставник, — отрезал Хонган. — Я люблю и уважаю своего отца. Разговор о наследстве — это разговор о смерти. И после Дикого Медведя не было Ксесача Вордара. Прошло семьдесят лет, и кто знает, о чем думают эти современные женщины.
При слове «современные» Омброз хмыкнул.
— За плечами у двоюродного деда Сломанной Ноги долгая жизнь, — сказал бывший тексарский офицер. — Я видел его всего три месяца назад, когда он приезжал навестить моего шурина.
— Перебежчик, оказывается, разбирается и в медицине, — сказал Кочевник.
Офицер бросил на него взгляд, полный ненависти.
— А не с тем ли Волшебным Психом, отче, мы имеем дело, который утверждал, что видел Ночную Ведьму?
— Черт бы тебя побрал, старый священник! Кто тебя тянул за язык? Зачем ты рассказал об этом ему?
Отец Омброз бросил на обоих быстрый взгляд.
— Перестаньте заводиться, вы, оба! Или отдайте мне ваше оружие, спешивайтесь и деритесь. Здесь и сейчас!
— Божий суд? — хмыкнул Хонган. — Да, Чернозуб рассказывал мне, что Церковь прибегала к нему. Почему ты не научил меня и этому, отец? Ты обходил молчанием ту часть катехизиса, где шла речь о великих военачальниках, а сейчас ты предлагаешь нам выяснить Божью истину в кулачной драке? Но мне она не нужна. Я просто хотел узнать у нашего тексарского советника, каким еще добром, кроме коров, располагает Полукровка? Если он утверждает, что таковое у него имеется.
— Черт бы побрал твой язык! — буркнул офицер и с силой уперся в левое стремя, заставив лошадь остановиться.
Чиир Хонган несколько секунд не сводил с него взгляда, потом пожал плечами и спешился.
— Я должен предупредить, капитан, что твой соперник изучал боевое искусство с опытным наставником, бывшим палачом Ханнегана. Ты мог знать его.
— Ты имеешь в виду того желтокожего джина? Ву Шина? Слушай, если вы боитесь предательства, опасайтесь его. Я не удивлюсь, если узнаю, что Филлипео Харг подослал его, дабы убить кардинала. Ты же знаешь, у него есть наемные убийцы. И все они умеют носить любые маски.
— Ты, горожанин! Топор не джин, — сказал Кочевник, в устах которого слово «горожанин» звучало как оскорбление. — Там, откуда он пришел, джином считался бы ты. И он ненавидит Филлипео Харга почти так же, как я его ненавижу, городской мальчик.
— Медвежонок, зачем ты так ведешь себя? Капитан Лойте на нашей стороне. Свое дело он знает. Не будь ослиной задницей, сын мой.
— Ладно. Только скажи этому ублюдку, чтобы он перестал покровительственно относиться ко мне, — Хонган стал влезать в седло. Лойте, так и не успокоившись, вытянул его по спине хлыстом.
Хонган развернулся, схватил его за запястье, когда тот был готов нанести ему второй удар, и острым носком сапога врезал капитану в живот.
Удар мог оказаться смертельным: несколько минут капитан находился в полубессознательном состоянии. Но священник наконец привел его в чувство и настоял, чтобы ночь они провели здесь, дабы Лойте мог оправиться. Разгневанный капеллан долго молился, прося милости Бога, чтобы тот дал им время раскаяться. Хонган сонно ворчал на него. Лойте постанывал и богохульствовал. Утром следующего дня Чиир Хонган вытащил офицера из-под одеяла, схватил его за отвороты мундира и рывком поставил на ноги.
— А теперь слушай меня, собачье отродье. Если ты капитан нашей армии, то я твой полковник. Будешь говорить мне «господин» и отдавать честь.
Он оттолкнул бывшего пограничника. Тот, вскрикнув от боли и снова схватившись за живот, сел на задницу.
— Нет, это ты меня послушай! — Омброз схватил бывшего воспитанника за руку и оттащил его подальше. — Никогда не видел тебя таким жестоким! В чем дело? Одно дело утверждать свое старшинство, но ты же мог все кишки ему порвать. Из-за плохого характера ты мог на всю жизнь обзавестись врагом.
— Нет, не мог. Он уже враг — для всех. Предавший свое племя ни для кого не может быть другом. Он таков, каков он есть, и должен знать свое место.
— Ты не имеешь права так поступать. В глазах Бога он такой же, как и ты.
— В глазах Бога — конечно. Но меня волнует его место в боевых порядках под командой предводителя, и он должен знать, что его место в самом низу. Ему нельзя доверять.
— Ты уверен в этом в силу своего глубокого знания человеческих характеров, — с иронией сказал Омброз. — Ты разбираешься в них лучше, чем кардинал, который безоговорочно рекомендовал его нашему вниманию. Я поверил ему, когда он сказал что агенты должны были не только выследить его, но и убить. И в любом случае он будет жить в клане Ветока, поедет он туда с нами или нет. Они приняли его. И он провел с ними зиму.
— Ты когда-нибудь видел, чтобы я с кем-то ссорился?
— Нет, Святой Сумасшедший. И я надеюсь, что ты не прав относительно него. Он знает слишком много о нас, чтобы мы могли с ним расстаться.
— Нет никакой опасности. Ему некуда деться. Что бы ни сказал почтенный кардинал, мы оставим его с соплеменниками жены. Но я по-прежнему хочу выяснить, откуда он знает, что Коричневый Пони сможет найти свою часть стоимости оружия, что он обещал. И откуда поступит оружие?
— Медвежонок, Элия много работал для папы Линуса, и тот хорошо вознаградил его. Я знаю, что у Элии поместья на западном побережье и в Орегоне, но нам не понадобится пускать в ход его средства. Доверься ему. Если ты уплатишь торговцам шестьсот коров, кардинал найдет кого-то, кто выложит остальные две трети цены. У Тексарка, как у самого могущественного государства на континенте, много врагов и мало союзников. Многие из его противников будут только рады вооружить орды. А ты проявляешь неблагодарность.
— Ни в коем случае. Мне нравится Коричневый Пони. Я знаю, что главное в нем не его богатство, а влияние, которым он обладает. И я полностью доверяю ему, всем его замыслам. Но это не значит, что я доверяю результатам его замыслов. Очень хорошо, если он богат. Но откуда об этом знает Лойте?
— Скорее всего он не знает. Просто он свысока относится к тебе. И Кочевники, и горожане — все чувствуют превосходство друг перед другом. Оседлые и кочевые — история их противостояния стара, как Книга Бытия. Но что касается денег, к западу от разделительной линии есть государства, которые хотят, чтобы империя Ханнегана оставалась на месте или же продвигалась к востоку. Повсюду ходят разговоры о намерениях Ханнегана объединить континент под своей властью, и посольства исправно сообщают домой эти слухи. Одно-другое из них сможет дать тебе оружие просто даром.
— Шестьсот коров — это не даром.
— Это почти ничего. Кардинал Коричневый Пони сообщил мне настоящую цену сделки — более шести тысяч коров.
— Если только мы вообще получим оружие. Если только торговцы не подсунут нам бракованный хлам.
— Почему у тебя такое плохое настроение? Я так и жду, что ты обзовешь Лойте травоядным.
Хонган засмеялся.
— В доме моей матери это слово все еще в ходу. Так что в его стенах я могу обзывать капитана.
— Понимаешь, как политик, ты переполнен уродливыми представлениями. И перенять их от меня ты не мог.
— Но так вышло!
— Нет, этого не могло быть!
— Никак, и ты собираешься меня высечь, наставник?
— Я это делал.
— Когда мне было десять лет, а ты был моложе. Ты учил меня не обижать священников, но ты не… — Кочевник запнулся. Увидев, как изменилось лицо Омброза, он сокрушенно покачал головой и пошел к своей лошади.
Остановившись на вторую ночевку под звездами, они встретили посланника из племени Диких Собак. Тот скакал на юг, неся с собой плохие вести: Двоюродный дед Сломанная Нога перенес удар, у него отнялась и левая нога, и он уже стал складывать погребальную песню. Посему бабушки и шаманы поступили очень мудро, начав обсуждать других кандидатов на древний пост Ксесача дри Вордара.
На следующий день они прибыли к вигвамам клана бабушки Веток Энар. Старуха была слаба и маялась недугами, так что приветствовали гостей жена Лойте Потеар Веток со своей бабушкой. Муж, спешившись, обнял ее, но она оттолкнула его; ему еще предстояло «рассказать о наших лошадях» (принятый у Кочевников эвфемизм), то есть поведать женщинам своей новой семьи, как он справляется с обязанностями конюха, и этот искус еще не подошел к концу. Она поклонилась отцу Омброзу и Чииру Хонгану и пригласила их в вигвам своей бабушки. Из вежливости они последовали за ней, хотя оба спешили поскорее добраться до семьи Хонгана.
— Чиир, ты слышал плохие новости? — спросила любимая внучка. — Надеюсь, не мне придется их излагать тебе.
— Мы встретили курьера. Я знаю об отце, — он вручил ей кожаный кисет с подковами. — Муж все объяснит тебе. Но позже.
Она с интересом посмотрела на кисет и оставила его около входа — впустив их в вигвам, она уже не откидывала клапан.
Старуха сидела в кожаном плетеном гамаке, подвешенном меж двух столбов, надежно вкопанных в утоптанный земляной пол. Она попыталась приподняться, но Хонган движением руки усадил ее обратно. Тем не менее она выразила уважение к Хонгану и Омброзу, сделав кокай, то есть, постучав по лбу костяшками пальцев, она склонила голову, приложив к ней кисти рук, обращенные ладонями к гостям. Такая вежливость могла показаться чрезмерной, но Эссит Лойте ее не удостоился. Она не обратила внимания на своего зятя; но было ли это общепринятым отношением к конюху («пусть учится ходить за нашими лошадьми») или же неприкрытым презрением, сказать было трудно.
— Меня очень огорчает, как глупо Ночная Ведьма обошлась с твоим отцом, Хонган Осле Чиир, — многозначительно произнесла она.
Омброз заметил, что в ее присутствии Хонгану действительно было не по себе. Отнести состояние Сломанной Ноги к проискам Ночной Ведьмы, да еще назвать их глупыми означало, что эти женщины Виджуса выбрали его на пост Ксесача Вордара, а то, как она произнесла его имя, поставив на последнее место обозначение рода матери, значило, что, какая бы тому ни была причина, титул сына Сломанной Ноги в ее глазах вырос.
Но Хонган Осле было уменьшительным от исторического именования Хонган Оса — вождя, который проиграл войну и отдал Ханнегану II половину своего народа.
— Выпьешь ли ты крови с нами сегодня вечером? — спросила старая женщина. — Мы празднуем рождение двух жеребят от лучшей кобылы Потеар. Оба малыша здоровы — редкое и прекрасное событие.
— Поблагодари Деву от нашего имени, бабушка, — сказал отец Омброз. — Мы приносим извинения за спешку, но Сломанная Нога нуждается в нас.
— Да, он захочет увидеть своего сына, а от тебя принять последнее помазание. Отправляйтесь с Христом и Богородицей.
Двое верхами отправились в путь, оставив Эссита Лойте со своей молодой женой и ее родственниками.
— Капитану все еще придется многому научиться относительно лошадей клана Веток, — кисло сказал Омброз, когда их уже никто не мог услышать.
Хонган засмеялся.
— Он незамедлительно многое поймет, когда Потеар покажет старухе подковы.
Горы уже были готовы показаться из пыльной завесы на западе, когда Святой Сумасшедший неожиданно сообщил, что Сломанная Нога из-за своей болезни стал слишком раздражительным и что его старая жена сочла необходимым назначить другого главу семьи.
— Откуда ты это знаешь? — насмешливо спросил священник. — Было видение?
— Вот оно, — показал Хонган на восток. Осторожно вскарабкавшись на седло, он во весь рост встал на спине лошади.
— Мои старые глаза не видят ничего, кроме пустоты. Что там такое?
— Там кто-то есть. Думаю, мой дядя. Он в нескольких милях отсюда. Машет руками и танцует. У него какое-то сообщение. Они увидели пыль, которую мы поднимаем.
— Ну да, это знаковый язык Кочевников. Мне стоило выучить его, когда я был моложе. Он всегда восхищал меня.
— Он дает нам преимущество перед тексарскими вояками.
Когда на горизонте показались вигвамы клана Маленького Медведя, перед ними появился всадник, вынырнувший из облачка пыли. Это был Красный Гриф, брат жены Сломанной Ноги, формальный глава клана, который тем не менее должен был существовать, ибо она выразила такое желание. И теперь во время болезни мужа брат выполнял возложенные на него обязанности. Он был худым и серьезным человеком, примерно шестидесяти лет от роду, с синевато-багровыми пятнами на коже, из-за которых его могли в любом месте, кроме Кочевников, принять за джина; но среди Кочевников такие косметические дефекты пользовались большим уважением, как отметины Пустого Неба. Он с серьезным видом рассказал о состоянии Сломанной Ноги — все еще недвижим, но по крайней мере хуже ему не стало.
— Часть наших гуртовщиков уже вернулась с юга, — сказал Красный Гриф Омброзу, — включая людей духа Медведя. Они сейчас с ним, отец. Но, конечно, он хочет видеть вас.
Омброз начал ему рассказывать о папе, но оказалось, Красный Гриф уже все знал. Даже об отъезде кардинала Коричневого Пони из Валаны — его секретариат постоянно посылал и получал послания от людей с равнин. Когда они въехали в поселение Маленького Медведя, то, приветствуя их, навстречу высыпали дети и молодые женщины; Хонган и священник обнимали их.
— Вы останетесь у нас после того, как повидаетесь с отцом? — спросила мать. — Или должны скакать в страну Кузнечиков?
Хонган замялся. Он ей еще ни о чем не рассказывал.
— Я думаю, Кухали развелась со мной, — он глянул на Омброза, который венчал их, но тот отвел глаза в сторону. — Она сказала, что если захочет меня, то пошлет за мной. Но даже в этом случае я не пойду к ней.
Выражение лица матери смягчилось.
— Тебя осуждают за то, что нет дочек?
— Может быть. И за столь долгое отсутствие. Жалуются ее братья. Я слишком мало делал для семьи. Они говорят, что я слишком привязан к тебе. Ты же знаешь, как это называется.
— Я боялась, что так и будет, когда ты женился на девушке из Кузнечиков. Гуртовщики рассказывали, что этой зимой им снова пришлось драться с гуртовщиками Кузнечиков из-за пастбищ.
— Есть убитые?
— У наших только раненые. Как у них, я не знаю. В ход пошли и пули, и стрелы. А теперь иди повидайся с отцом.
Шаман рода Маленького Медведя оставил вигвам, в котором отец Омброз готовился к последнему помазанию старейшего из своих новообращенных. Священник знал, они смущены тем, что некоторые из их обрядов не соответствуют религии, которую он им проповедовал, ибо они приняли крещение лишь потому, что так захотел Сломанная Нога. Когда старик умрет, их смущение (и зависть?) может превратиться во враждебность. Но весь род знал, что, когда он, Омброз, был поставлен перед необходимостью выбирать между ними и своим орденом и высший иерарх ордена, назначенный архиепископом Бенефезом — то есть Филлипео Харгом, — отозвал его обратно в Новый Рим, он отказался подчиниться. Он был изгнан из ордена и подвергнут отлучению, но не обратил внимания на эти кары. Тем не менее они уязвляли его больше, чем он хотел признать. Он знал, что женщины встанут на его сторону в любой ссоре с шаманами духа Медведя, но хотел избежать такого развития событий. Пока они тоже не выказывали таких намерений. Под влиянием его проповедей многие из семей Кочевников стали христианами, а он же за эти годы стал чувствовать себя скорее Кочевником.
Омброз был не первым миссионером ордена святого Игнация, который стал свидетелем, как его любимый ученик, которого он учил думать, начинал и думать, и вести себя отнюдь не так, как предполагал его духовный наставник. И этой ночью он лишь тяжело вздыхал, глядя, как Чиир Хонган вместе с шаманами в тусклом дымном свете костра из сушеного навоза, разведенного у вигвама Сломанной Ноги, танцует пляску умирающего.
Барабаны, казалось, глухо выговаривали: «Горе идет, горе идет, мать-горе идет…»
Танец должен был умиротворить Черный Ветер, грозного противника Пустого Неба и отогнать Ночную Ведьму. Какое-то время Омброз бродил по поселению, присаживаясь к таким же кострам и разговаривая со старыми «прихожанами». Малая часть из них стала истинными христианами, но многие из тех, кого он крестил, продолжали считать его одним из шаманов. Среди некрещеных по-прежнему пользовался вниманием голос его мудрости, когда он поднимал его в совете.
До завоевания всех этих деревень не существовало. Но со временем равнины все больше и больше заполнялись подобиями вигвамов, которые, как и жилища фермеров, возводили из камня и глины и ставили рядом с источниками и колодцами. Здесь оставались на зиму старики и дети, пока гуртовщики перегоняли стада своих лохматых коров на лучшие пастбища, примеряясь к временам года и спасаясь от завывающих снежных буранов, которые всю зиму бушевали на равнинах, от Арктики через земли Великой Кобылы и до завоеванной провинции, худшая часть земель которой принадлежала орде Зайца. В давние времена Зайцы жили в лесистой местности, лиственные заросли которой уходили к юго-востоку; земли эти ныне вошли в состав Тексаркской Империи. И теперь эти пастбища, до которых зимой лишь изредка доносились ледяные ветра, Зайцы сдавали в аренду Кузнечикам и Диким Собакам, получая за это хорошую плату коровами и лошадьми. Вследствие такого положения дел народ Зайцев менее всего был склонен к миграции даже перед началом войны; лишь малая часть его после завоевания перебралась на юг, где в районах со скудными землями и сформировалась диаспора Зайцев по соседству с обедневшими семьями бывших Кузнечиков, которые, как семья Чернозуба, минуя скудные пастбища Диких Собак, переместились поближе к горам.
От гула барабанов было никуда не деться. И теперь, казалось, они выговаривали: «Свобода идет, свобода идет, дева-свобода идет…»
Побывав почти в каждой хижине, отец Омброз вернулся к вигваму Сломанной Ноги. Какое-то время он постоял у костра, наблюдая за танцем, а потом, уловив ритм, и сам присоединился к танцующим, что вызвало вопль радости у его Медвежонка.
Глава 8
«Пятая ступень покорности заключается в том, что он не скрывает от своего аббата ни одну из мыслей, внушенных дьяволом, которые проникли в самое сердце, ни один из тайных грехов, а смиренно кается в них».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 67.Секретариат необычных духовных явлений располагался в одном из немногих зданий, сохранившихся около центра еще с тех времен, когда папа не обитал на западе. Двухэтажное каменное здание с подвалом когда-то было военной казармой для двух десятков часовых; стояло оно на засаженном елями акре земли в пятнадцати минутах ходьбы от собора святого Джона-в-изгнании.
Хотя монах и старый воин провели первую ночь, ежась под одеялами на лежанках в подвале Секретариата, на другой же день они вместе с тремя семинаристами — Аберлоттом, Джасисом и Крумли — обосновались в небольшом домике, который Коричневый Пони нашел для них у западной границы города. При первой же встрече он уломал семинаристов тем, что тут же выложил за своих слуг половину арендной платы, пообещал, что они возьмут на себя часть забот по дому и ни в коем случае не будут помыкать юными студентами, один из которых — Джасис — был болен. Аберлотт, коренастый добродушный весельчак родом с северо-запада, сразу же понравился Чернозубу. Крумли был длиннолицым уроженцем Востока. На первый взгляд он казался мрачноватым, но потом выяснилось, что он способен с незаурядным умением парировать хитроумные шуточки Аберлотта. Характер Джасиса в силу его недомогания определить было трудно, но Аберлотт называл его фанатиком учебы, которая должна была дать ему сан; неприязни к нему он не испытывал, хотя парнишка был родом из Ханнеган-сити.
Их дом примыкал к пивоварне, через которую струился ручей, вытекая на свободу за домом. Стекал он со склона холма и летом нес с собой чистую ледниковую воду, а теперь вздулся от влаги тающих снегов. Крыло их здания и остальные строения поблизости были на уровне воды в ручье, и во время сильных дождей он уносил с собой все нечистоты. Чернозуб видел, как дети пили прямо из ручья, и думал, не вода ли является причиной недомогания Джасиса, слыша, как он кряхтит и стонет в туалете. Чернозуб и Вушин, которые делили комнатку в задней части дома, приходили и уходили через черный ход, хотя имели право пользоваться общей кухней и местом для занятий. Все было обговорено. Но до начала работы в Секретариате у новичков было несколько дней познакомиться с городом.
Валана произвела на них впечатление довольно грязного поселения, если не считать некоторых районов, заселенных представителями власти и богатства — дворники тут работали не покладая рук, а вода поступала по акведуку. Валана стремительно разрослась вокруг древней крепости на вершине холма, которая несколько столетий назад служила горцам центром обороны от набегов диких Кочевников. Кроме вознесшейся над городом старинной крепости, что сейчас находилась в пределах Нового Ватикана, на который при полуденном солнце падали тени шпилей и колоколен собора святого Джона-в-изгнании, сам город не был окружен стенами. До того, как сюда перебралось изгнанное папство, город представлял собой что-то вроде скромного королевства, к которому прилегали общины густонаселенного района, где купцы предлагали шахтерам шкуры за серебро, покупали у Кочевников кожи и мясо, а у фермеров кукурузу и пшеницу. Когда сюда из Нового Рима перебрался папа, здесь жили два кузнеца, ювелир по серебру, мастер, ковавший наконечники для стрел, мельник и гончар, три купца, доктор и оружейник. С тех пор количество предприятий тут возросло вчетверо, и в Валане во множестве обитали врачи, законники и банкиры. Валана контролировала полдюжины мэрий в регионе, где обретали приют новые предприятия. Экономика развивалась сама по себе, но с появлением тут главы Церкви бурно пошла в рост. Только одно здание из пяти было возведено до изгнания. Среди них было и здание Секретариата, которое, закрытое стеной елей, почти не было заметно с дороги.
Чернозуб сразу же отправился на работу в Секретариат. Там он заменил добровольца-переводчика, который говорил на языке Кочевников лучше, чем на наречии Скалистых гор, и который, как выяснилось, был христианином из Диких Собак, двоюродным братом Чиира Хонгана; тот был рад освободиться от своих обязанностей и вернуться к своей семье на равнинах. Вместе с уборщиком в агентстве было семнадцать работников, не считая курьеров. Прибывая и убывая, они поддерживали связь между Коричневым Пони и его многочисленными корреспондентами по всему континенту, часть которых были тайными, а часть — официальными. Тут были пять переводчиков-секретарей, включая Чернозуба, три переписчика, три человека в приемной, которые считались еще и охранниками, и еще пятеро других, работавших в части здания, отделенной от всех остальных, куда снаружи можно было попасть лишь через обычно запертые железные ворота, а изнутри — только по коридору, что вел в личный кабинет кардинала. Чернозуб быстро понял, что все задачи Секретариата ясны только кардиналу, а работники в максимальной степени изолированы друг от друга.
От своего предшественника-Кочевника Чернозуб унаследовал кабинетик, примыкавший непосредственно к кабинету Коричневого Пони, потому что прежний обитатель нуждался в более тщательном контроле, чем остальные. Какую бы секретность кардинал ни соблюдал в общении со своими работниками, он был вынужден поддерживать доверительные контакты с монахиней сестрой Юлианой из Государственного Секретариата. Она была приставлена контролировать те «необычные явления», которые могли сказаться на официальных дипломатических отношениях Валанского папства. Похоже, она обладала правом вето и относилась к Чернозубу, да и к Коричневому Пони с неприкрытой подозрительностью, демонстрируя свое превосходство и давая понять, что хозяйка тут она. Тем не менее, по всей видимости, и ей не удавалось выяснить, что происходит в изолированной части здания, куда доступ монахине был запрещен.
Город был запружен кардиналами, которые съезжались на готовящийся конклав. Едва найдя себе квартиру, они тут же меняли красные одеяния на пурпурные или траурные в знак скорби по скончавшемуся папе. Но пурпур был и знаком покаяния, подходящим для Великого поста, который уже приближался. После того как время траура подойдет к концу, этот цвет сменится на шафрановый. И впредь до избрания папы никто не облачится в красные кардинальские цвета.
Одним из первых в город прибыл кардинал из едва ли не самой отдаленной епархии христианского мира. Откровенно говоря, он пересекал море для участия не в этом, а в предыдущем конклаве, который избрал епископа Денверского, ныне покойного. Его звали кардинал Ри, архиепископ Хонга, и он пересек Тихий океан с женой и двумя симпатичными молодыми женщинами, о которых ходили слухи, что они его наложницы. Местное Общество чистоты встретило его с ужасом, но кардинал Хью Чемберлен и бывший государственный секретарь Хилан Блез предупредили полицию, чтобы эта публика оставила в покое странного зарубежного кардинала, о существовании епархии которого никто не догадывался несколько столетий, пока всего тридцать лет назад путешественники случайно не обнаружили христианские общины, расположенные на островах далеко к западу. Папа Линус был так обрадован существованием азиатских христиан, что тут же произвел епископа Ри в кардиналы, даже не позаботясь ознакомиться с традициями этой церкви. Топор тоже был обрадован, услышав о кардинале Ри, — хотя в силу совсем других причин — и тут же договорился о встрече с кем-то из его сотрудников. Вернувшись, он сообщил, что для него не составило никаких трудов общаться с ними на своем родном языке, ибо оба наречия сходны, как два диалекта некоего древнего языка. На него также произвело сильное впечатление современное оружие стражников Ри; когда Топор рассказывал Коричневому Пони об этом оружии, тот как раз собирался нанести визит кардиналу Ри. Он попросил, чтобы это оружие было скрыто из виду, ибо по всеобщему соглашению охрана должна была быть вооружена только кавалерийскими револьверами.
Вушин поторопился объяснить Чернозубу, что те две наложницы по сути дела являются номинальными, сверхсвященными женами и Ри содержит их при себе, ибо на его родных островах они полагаются человеку его ранга. Тем не менее, по рассказам сотрудников, временами они спят все вместе. И пока кардиналы, входящие в Общество, будут с ужасом воспринимать их, вряд ли найдется участник конклава, который не поделится этим отношением с коллегами. Кардинал Ри очень богат, но он взял с собой лишь такую долю состояния, которую во время путешествия способны защищать шестеро стражников, и он нуждается в кредитах, дабы обеспечить свой семье подобающие удобства. Многие купцы в Валане уже предложили ему кредит после того, как Коричневый Пони устно поручился за него (но отказался заверить своей подписью его расписки).
Кардинал Сорели Науйотт из Орегона, сам кандидат в папы, очень тепло встретил азиатского прелата, а кардинал Эммери Булдирк, аббатисса из Н’Орка, немедленно подружилась со сверхсвященными женами Ри и предложила им пользоваться гостеприимством снятых ею апартаментов. Ри разрешил без особой охоты — лишь после того, как ему рассказали об отношении города к его дополнительным женщинам. Хотя, поскольку ему нездоровилось — личный врач кардинала упомянул о дыхании дракона с гор, — он не испытывал необходимости в своих дамах. Среди кардиналов, конечно, имелись и другие женатые, но большинство из них были мирянами или дьяконами, да и те оставили своих жен дома.
Как ни странно, самый влиятельный прелат на континенте, кардинал Урион Бенефез, архиепископ Тексарка, запаздывал на конклав. От него пришло телеграфное сообщение, что он хотел бы провести пасхальную мессу в своем кафедральном соборе в присутствии своей паствы и Ханнегана.
Коричневый Пони и его новые помощники обитали в Валане уже неделю, когда Чернозуб решил исповедаться. Кардинал, всегда благодушно относившийся к личным проблемам маленького монаха, одинокого в этом чужом городе, организовал ему встречу со священником, с которым хотел свести Нимми.
Преподобный Амен Спеклберд, O.D.D. (Ordo Dominae Desertarum[70]), в одиночестве обитал в пещере, вырытой в склоне холма. Какой-то каменотес, вооружившись инструментами, вырубил нишу, спрямил проход в нее, углубил, после чего заполнил провал за жилым помещением смесью гальки и известкового раствора и, кроме того, выложил две короткие каменные стенки, которые выдавались из склона холма. Отец Спеклберд частично заново отрыл провал в том месте, где пещера сужалась. (Как он объяснил, это позволяло горным духам приходить и уходить через его кухню.) Над стенками высилась сводчатая крыша, тоже из камня, так что видимая часть жилища напомнила Чернозубу вигвам Кочевников, наполовину утопленный в горе. Чернозуб узнал, что лет десять или около того назад пещера принадлежала преуспевающему владельцу портняжной мастерской церковного облачения, который сделал из нее хранилище припасов, но когда епископ Денверский заставил старого священника уйти в отставку, Коричневый Пони приобрел пещеру для отца Спеклберда. Достаточно странно, но когда на недавней памяти епископ Скуллите стал Линусом VII, он несколько раз приглашал отца Спеклберда в свои личные апартаменты. И если слухи были верны, то Чернозубу предстояло исповедоваться личному исповеднику покойного папы. Другой слух, исходивший от горничной папских покоев, гласил, что на смертном ложе Линус VII назвал старика кардиналом in pectore[71], передав решение этого вопроса очередной консистории, но, конечно, никто не принял во внимание россказни служанки.
Монах остановился в тени под деревьями. Ему надо было успокоиться, прежде чем пересечь дорожку и постучаться в двери из массивных сосновых досок. Из каминной трубы поднимался дымок. Если не считать огня в очаге, который и был его источником, в помещении должна была стоять темнота, ибо в нем имелись лишь два небольших оконца, прорубленных на самом верху стены. Покидая свой дом и готовясь к искренней исповеди, Нимми привел себя в соответствующее расположение духа. Но оказавшись рядом с пещерой, он испытывал какой-то страх.
Он покинул аббатство Лейбовица, так и не получив отпущения грехов и маясь чувством вины; более того, по пути в Валану он совершил деяния, о которых ему не хотелось даже вспоминать, и теперь он содрогался от мысли, что ему придется исповедоваться чужому человеку — никогда раньше он этого не делал. Епитимью всегда накладывал на него священник ордена, и обычно происходило это раз в неделю. За неделю случалось так мало прегрешений, что их без труда мог припомнить даже такой неуправляемый монах, как Чернозуб Сент-Джордж. Обычно он шепотом сообщал своему привычному исповеднику какие-то порочащие его факты и покорно выслушивал накладываемое на него наказание — например, несколько десятков раз, перебирая четки, прочесть молитву или же, что было несколько хуже, принести публичное покаяние перед братьями. Или же нанести себе три или пять ударов плетью, что было не особенно больно, за такие единичные грехи, как нарушение обета чистоты, порочные мысли или же недостаток благочестия. После таких наказаний он чувствовал себя очищенным, готовым принять святое причастие за мессой.
Но сейчас он вот уже несколько недель грешил не переставая — часто пренебрегал молитвами, нарушал обеты и втайне не подчинялся своему благодетелю-кардиналу. Правда, именно кардиналу он признался, что боится исповедоваться незнакомцу; это случилось, когда кардинал предложил ему в исповедники и-Лейдена, а тот отказался. И снова именно кардинал посоветовал ему по прибытии в Валану предстать перед поистине святым человеком — не кем иным, как самим Аменом Спеклбердом, чье имя было раз-другой упомянуто на предыдущем конклаве как одного из кандидатов в папы! Но сейчас Чернозубу хотелось, чтобы Коричневый Пони не имел понятия о его проблемах. Ему было бы куда легче исповедаться в грехах неизвестному священнику, чье лицо скрыто за решеткой исповедальни в семинарской часовне, чем каяться перед святым человеком, и чем ближе подходило время назначенной встречи, тем больше ему хотелось просто улизнуть. Но отец Спеклберд, как принято, спросит, как давно он исповедовался в последний раз, и поймет, что Чернозуб обманывал его. Раздумывая, что ему делать, он представил, как семинарский священник, выслушав его, будет настолько перепуган, что откажется отпускать ему грехи, и придется рассказывать отцу Спеклберду и об этом тоже. Даже вне стен аббатства считаться католиком было очень непросто для простого бывшего Кочевника, который, живя в уединении, так мало знал об окружающем мире.
Внезапно дверь из сосновых досок растворилась, и появившийся на пороге пожилой чернокожий человек с копной седых волос и густыми белыми бровями направился прямиком к нему. Борода у него тоже была седой и неровно подстриженной, словно он подбривал ее раз в месяц или кромсал ножницами. На нем была поношенная, но чистая серая сутана и сандалии, которые, казалось, были сплетены из соломы. Он был худ, напоминая едва ли не скелет, обтянутый тугими веревками мышц; у него были впалые щеки и впалый живот, зримо говорившие о долгих неделях поста. Он заметно прихрамывал, опираясь на короткий массивный посох, вполне способный служить дубинкой. Появившись в дверях, он устремил взгляд на затаившегося в тени Чернозуба и направился прямо к нему. На губах у него плавала легкая улыбка, а взгляд ярких серо-голубых глаз был устремлен на маленькую застенчивую фигуру, склонившуюся перед ним.
— Дьякон Коричневый Пони кое-что рассказывал мне о тебе, сынок. Могу ли я называть тебя Нимми? Вроде ты добровольно оставил монастырь. Почему?
— Ну, я начал чувствовать, будто влачу на себе вериги и оковы, отче. И в конце концов меня выставили.
Амен Спеклберд взял Чернозуба за руку и повел по дорожке к своему убежищу.
— Но ведь теперь ты расстался со своими кандалами и веригами, не так ли?
Они оказались в помещении, голые каменные стены которого напомнили монаху аббатство Лейбовица. В одном конце помещения горел камин, а в другом стоял небольшой скромный алтарь.
Чернозуб задумался над последним вопросом священника.
— Нет. Что бы ни было, но они давят еще сильнее, отче.
— А кто давит на них? Кто с самого начала сковал тебя? Аббат? Братия? Святая Церковь?
— Конечно же, нет. Отец мой! Я знаю, что это дело моих рук.
— Вот оно, — тихо произнес Спеклберд. — И теперь ты хочешь понять, как освободиться от них?
— «И познаем мы истину и… — Чернозуб пожал плечами. — И она сделает нас свободными».
— Ясно. И какую же истину ты уже познал?
— Истина осязаема, и она почиет среди нас. И лишь ей одной мы должны хранить верность.
— Лишь ей одной? Нимми, Иисус был принесен в жертву во искупление наших грехов. Мы приносим ему жертвы перед алтарем, мы приносим ему себя. И все же ты хочешь хранить ему верность? — Спеклберд засмеялся, и в руках у него оказалась епитрахиль. — Готов ли ты покаяться в грехах своих?
Чернозуб замялся.
— А не можем ли мы сначала немного поговорить?
— Конечно, но о чем ты хотел бы побеседовать?
Чернозуб ухватился за это предложение. Все что угодно, лишь бы оттянуть неизбежный момент.
— Я не понял, что вы имели в виду, говоря о жертвоприношении.
— Принести в жертву Иисуса означает, конечно, отказаться от него.
Монах вздрогнул.
— Но я готов отдать все ради Иисуса!
— Ах вот как! Наверное, все, кроме Иисуса, добрый простак?
— Если я откажусь от Иисуса, у меня больше ничего не останется!
— Ты ведешь речь о полной и совершенной бедности — но за одним исключением: чтобы у тебя ничего не осталось, ты должен отказаться и от нее тоже, Нимми.
Чернозуб окончательно растерялся: «Как служитель Христа может говорить такое?».
Спеклберд показал на свой рот и насмешливо пошевелил челюстью, призывая к молчанию. Затем беззлобно шлепнул монаха по щеке.
— Проснись! — сказал он.
Чернозуб опустился на жесткую скамью. Он перебирал в памяти какие-то цитаты, пытаясь сказать старику нужную мысль, а тот откровенно подсмеивался над ним.
— А ты богат, — сказал Спеклберд. — Твои оковы и вериги — это и есть твое богатство.
— У меня нет ничего, кроме рясы, прикрывающей спину; г’тару, которую я сам сделал, у меня похитили, — не скрывая возмущения, запротестовал монах. — Сейчас у меня нет даже четок. Тоже украдены. Я ем за чужим столом и сплю в чужой квартире. У меня нет даже ночного горшка. Я дал Христу обет бедности. И не знаю, как его можно нарушить. Все остальные я уже нарушил.
— И ты гордишься, что не нарушил этот обет?
— Да! То есть нет! Ну да, понимаю, я богат обилием гордости, не так ли?
Теперь Амен Спеклберд сидел напротив него. В слабом свете пламени очага они смотрели друг на друга. Взгляд старика был по-детски добрым и открытым, в нем читались любопытство и ожидание. Он неожиданно громко щелкнул пальцами. Чернозуб не вздрогнул, но теперь и его взгляд изменился — в нем появилась настороженность, и он отвел глаза в сторону. Спеклберд продолжал молча наблюдать за ним.
Все еще стараясь потянуть время, Чернозуб быстро заговорил. Он рассказывал о жизни в аббатстве Лейбовица; о грехах как таковых он не упоминал, а повествовал о причинах, вызывавших у него приступы раздражения, о тех, кого он любил и с кем дружил, о своей преданности основателю ордена и Богоматери, о своих обетах и о том, как он нарушил их, о владевшей им в аббатстве тоске по дому, из-за чего он так стремился покинуть его. Порой он замолкал, надеясь, что отшельник, выслушав его историю, даст ему какой-то совет, но старый священнослужитель Девы Пустыни лишь время от времени кивал в знак понимания. Почувствовав, что невольно старается вызвать к себе жалость, Чернозуб смутился и осекся. Воцарилось долгое молчание.
Помолчав, Спеклберд мягко обратился к нему:
— Нимми, единственная нелегкая вещь в следовании Христу заключается в том, что ты должен отринуть все ценности, даже те, ради которых ты и следуешь Христу. Но отринуть их не значит предать или продать их. Чтобы стать поистине нищим духом, откажись от любви и ненависти, от своих достоинств и пороков, от своих прав и привилегий. Ты полон желания стать — или не стать — монахом Христа. Избавься от своего желания. Ты не увидишь тропу, если станешь думать, куда она ведет. А вот освободившись от всех ценностей и добродетелей, ты увидишь ее ясно, как при свете дня. Но стоит тебе только обрести хоть самое маленькое желание, например, желание стать безгрешным, или сменить износившуюся рясу, как путь исчезнет. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что вериги и оковы, которые ты влачишь, — твое самое ценное достояние, Нимми? Твои склонности или их отсутствие? Добро или зло? Красота или уродство? Боль или наслаждение? Вот ценности, которые на самом деле лежат на тебе таким тяжелым грузом. Это они заставляют тебя останавливаться и размышлять — и вот тогда ты теряешь путь к Господу.
Чернозуб терпеливо слушал, сначала испытывая восхищение, но потом, чувствуя, что впадает в растерянность, постарался взять себя в руки. Старик подвергает сомнению все, что он знал и во что верил относительно религии. Не из-за этой ли манеры разговора епископ заставил Амена Спеклберда уйти в отставку?
— Дьявол! — тихо произнес монах.
Если Спеклберд и слышал это обвинение, он не подал виду.
— Дьявол? Отшвырни его, утопи в яме с нечистотами, а я засыплю ее негашеной известью.
— Иисусе!
— Его тоже, о да, в ту же канаву с этим извращением! Если ты считаешь, что он обогащает тебя.
Чернозуб задохнулся.
— Иисуса? За кем же мне тогда следовать? И зачем? Ваши слова — это богохульство.
— Знаешь, Нимми, это очень благородно — перенять крест Христа и тащить его на себе, но если ты будешь думать, что таким путем что-то обретешь, то лучше продай крест и разбогатей. Дорога не имеет цели. Просто следуй по ней.
— Ничего не желая?
— Sine cupidine.[72]
— Но тогда зачем…
— Твое стремление получить ответ на этот вопрос — это и есть твои оковы и вериги.
— Я не понимаю.
— Отлично. Просто запомни, Нимми, но не пытайся понять. Это уничтожит тебя.
У Чернозуба все плыло перед глазами. Может, у старика что-то не в порядке с головой?
Амен Спеклберд добродушно хмыкнул.
— А теперь приступим к твоей исповеди, если ты все еще хочешь, чтобы я выслушал ее.
После исповеди, которую он хотел забыть как можно скорее, Чернозуб сразу же отправился домой, где стоял запах недавней рвоты. Кто-то уже успел вымыть пол рядом с кроватью Джасиса, на которой он, испуская стоны, лежал. Джасис заметно похудел. Один раз он открыл глаза и невидящим взглядом уставился на монаха, который спросил, не позвать ли врача.
— Он уже приходил утром, — прохрипел Джасис. — Без толку.
Чернозуб положил ему на голову холодное влажное полотенце и вернулся в Секретариат, где проводил все дни до позднего вечера, переводя послания кардинала, отправляемые на равнины и получаемые оттуда. Он очень быстро усвоил тонкости политики Кочевников и понял, кто считается наиболее значительными людьми в ордах. Он узнал, что Чиир Хонган вернулся к стадам и вигвамам своей бабушки из рода Маленького Медведя, что дядю Сломанную Ногу свалила неожиданная болезнь и что антихристианская группа из рода духа Медведя, в которую входили и женщины Виджуса племени Кузнечиков, часть которых опасалась кандидатуры Хонгана, внезапно назвала имя некоего Халтора Брама. Убийца, чья доблесть не подвергалась сомнению, с их точки зрения был наиболее подходящим военным вождем, под рукой которого объединятся все три орды. Брам заинтересовал Чернозуба исключительно потому, что он был из Кузнечиков, и значит, они могли состоять в отдаленном родстве. Сторонники Брама переводили его имя как Добрый Свет, но на языке Кузнечиков Халтор Брам означало «солнечный ожог». Монах также выяснил, что его хозяин не так уж огорчен подобным развитием событий, ибо Брам был настолько дик и неукротим, что в сравнении с ним темперамент Хонгана был сама мягкость, и, хотя кардинал был обеспокоен болезнью отца Хонгана, он считал, что большинство бабушек никогда не предложат высший пост и звание жениха Фуджой Гоу такому сорвиголове, особенно после Сумасшедшего Медведя, чье безрассудное руководство во времена Ханнегана II стоило Кузнечикам потерянных южных земель и немалого количество людей и коров. Не меньше пострадали во время завоевания и Дикие Собаки с Высоких равнин.
Коричневый Пони всегда оставлял примечания в помощь монаху, дабы он не допустил политических погрешностей в переводе, когда неправильный подбор слов может оскорбить какую-то группу или выдать замыслы, если корреспонденция попадет не и те руки. Кардинал получал писем куда больше, чем отправлял, и они были куда длиннее, так что Чернозубу оставалось лишь удивляться, убеждаясь, сколько у кардинала грамотных союзников на равнинах. Он знал, или ему рассказали, что грамотных среди Кочевников не больше пяти процентов. Теперь он осознавал, что писавшие большей частью принадлежали к христианским меньшинствам в ордах и многие из них входили во влиятельные семейства. Коричневый Пони явно старался сблизить эти три группы между собой. С помощью кое-кого из женщин Виджуса он даже брал на себя роль свата, укрепляя союзы между Дикими Собаками, Зайцами и Кузнечиками.
Чернозуб подозревал, что неудачный брак Чиира Хонгана с девушкой из племени Кузнечиков тоже был результатом таких стараний. Он занимался этим еще во времена папы Линуса VI, и последующие понтифики также благословляли его. Просматривая досье, он то и дело нечаянно натыкался на материалы от тех женщин, которые имели к кардиналу личное отношение. Годами они и их друзья искали среди Диких Собак хоть какие-то следы матери Коричневого Пони или тех людей, которые помнили ее. Информация была обобщена Омброзом и-Лейденом: «С помощью семьи Медвежонка я завершил расследование и могу прийти к единственному выводу, ваша светлость: среди Диких Собак нет и никогда не было по материнской линии имени «Коричневый Пони». Если родственники вашей матери и присутствуют среди нас, то они не пользуются этим именем. Сестры, которые рассказывали вам эту историю, очевидно, были не в курсе дела. Может, имя принадлежит Кузнечикам или Зайцам, или, возможно, мы имеем дело с выдуманным именем. Сожалею, что не мог оказать вам содействие».
Смутившись, монах вернул папку на прежнее место, не дочитав ее содержимое, и никогда не упоминал о ней Коричневому Пони.
Чернозуб был искренне благодарен своему хозяину, который доверял ему в такой степени, что позволял читать такие материалы, пусть даже он случайно наткнулся на них, но он также видел, что часть посланий, поступавших с равнин и уходивших туда же, были зашифрованы; как правило, они были адресованы лично Коричневому Пони. Чувствовалось, что какая-то опасность угрожает и самому Коричневому Пони, и репутации Секретариата, но в открытой почте Чернозуб не встречал никаких намеков на существо интриги. Он не имел возможности знакомиться с корреспонденцией кардинала, которой тот обменивался с Орегоном и западным побережьем, но она, конечно, была написана не на языке Кочевников. Противостояние технологических цивилизаций дальнего Запада и Тексарка насчитывало без малого сотню лет, но их разделяли расстояние и горные хребты, что не позволяло соперничать.
Наблюдая, как его хозяин сосредоточенно изучает корреспонденцию, монах подумал: «Почему кардинала практически никогда не упоминают как кандидата на папство?»
И тут он неожиданно повернулся к нему.
— Нимми, ты все время посматриваешь на меня краем глаза, я устал быть объектом твоего внимания или адресатом твоих невысказанных вопросов. Что ты хочешь знать обо мне?
— Ничего, милорд! Мне не подобает…
— Не подобает врать своему патрону. Можешь задать мне вопрос, конечно, самый неуместный.
Помолчав, Чернозуб выдавил:
— Как получилось, что вы не священник, милорд?
— Да, это может быть первым вопросом. Объяснись с недавним монахом, Элия Коричневый Пони, расскажи ему, что когда-то был женат и, когда папа Линус собрался посвятить тебя в священники, прежде чем сделать кардиналом, ты отказался, сказав, что Серина, может, еще жива, хотя ты знал, что она мертва. Она была похищена разбойниками из числа Кочевников, такими, как те, с кем мы встретились в Пустой Аркаде. Похищенных женщин они не оставляют надолго в живых. Вот, Чернозуб, ты и всколыхнул волну. Хочешь поднять весь океан?
— Мне стыдно, что я осмелился спросить.
— Не унижайся. Дело в том, что мое призвание — быть юристом, а не священником. Есть много священников, которые предпочли бы быть юристами. Мне довелось попрактиковаться в законах и участвовать в диспутах. Не знаю, почему я счел это своим призванием. Применять законы и спорить в диспутах — это то, что я умею хорошо делать. Плюс политика и ее противоречия. В любом случае, я бы не был хорошим священником. У меня нет ни склонности, ни умиления перед этим призванием. Я могу куда лучше служить Церкви в качестве пастушьей собаки, вступая в драку ради стада или покусывая за пятки отстающих, собирая гурт воедино. Нет ни одного шанса, что Серина осталась жива. Я по-своему любил ее, но так и не принес ей счастья. И будь она сейчас жива, она бы не вернулась ко мне. Но я не могу доказать, что она мертва.
— У вас не было детей?
— Сын. Он учится в семинарии святого Мейси в Новом Риме.
— И вы кардинал-дьякон… — поперхнувшись, Чернозуб невольно прикрыл рукой рот.
Коричневый Пони рассмеялся.
— Дьякон церкви святого Мейси в Новом Риме? Да. Использование родственных связей? Меня назначил папа Линус. Не спрашивая меня? Конечно же, он задавал мне вопросы. О чем еще ты хотел бы знать?
— Простите, что я позволил себе полюбопытствовать.
— Можешь не извиняться. С интересом смотреть мне в спину — это не значит любопытствовать. Ты хороший парень, Нимми. Ты знаешь свое место и работаешь, не разгибая спины. Я наполовину увеличиваю тебе жалованье.
— Пятьдесят процентов… — Чернозуб остановился.
— …От ничего так и останутся ничем. Ладно, можешь соответственно увеличить текущие расходы, а я скажу Джардону, чтобы он оплачивал их. А теперь займись отправкой этих писем на Восток. Я предельно занят, выясняя, кто приехал на конклав и как они будут голосовать. На другие дела у меня нет времени.
Когда он не работал, монах впадал в состояние, близкое к отчаянию. И дело было не в том, что его терзал ужасный грех из-за Эдрии, а в том, что он вел себя совершенно безалаберно. Он был готов посвятить Господу Богу каждый день своей жизни, но если бы Бог был у него в сердце, он бы никогда не оказался на сеновале вместе с ней. И не важно, что их занятия не завершатся рождением ребенка. То есть это вообще не было бы грехом, если бы он не посвятил себя Богу, а любовь к ней означает, что Богу достанется меньше любви. Не так ли? Он презирал не столько само действие, сколько слабость своего характера. «Но неужели я пошел в монастырь лишь для того, чтобы добиться моральной безупречности? Нет, конечно же, нет. Тогда для чего?»
Конечной целью монаха было установить прямую связь с Божественным провидением. Но ставить ее перед собой означало потерять ее. Его задачей было избавиться от своего эго, с помощью ритуальных молитв и медитаций окончательно похоронить сознание, в каком бы растерзанном состоянии оно ни было, и обрести опыт общения с живой бесформенностью и пустотой, в которой только и может зародиться Бог, если Ему заблагорассудится явиться. Экхарт говорил об этом еще две тысячи лет назад: «Бог в душе дает рождение Своему Сыну». Только добившись полной внутренней пустоты, можно ожидать, что Христос проснется в монахе и они окажутся лицом к лицу. Но для Чернозуба в душе бодрствовал кто-то еще, и он чувствовал себя очень одиноким из-за этого.
Глава 9
«Третья ступень покорности значит, что ради любви к Богу лицо полностью подчиняется своему Владыке, подражая Господу, о котором апостол сказал: «Он покорен даже в смерти».
Устав Ордена св. Бенедикта, глава 7.Обрадовавшись прибавке средств на текущие расходы, Чернозуб решил сразу же, как только толпа гостей покинет город после избрания папы, поменять местожительство, но шло время, а он продолжал жить вместе со студентами. По указанию кардинала Вушин должен был через несколько дней съехать отсюда.
Когда во вторник на страстной неделе монах вернулся домой после работы, то стоило ему показаться в дверях, как Аберлотт крикнул «Лови!» и что-то кинул ему. Чернозуб попытался схватить, промахнулся, и когда предмет шлепнулся о стену, нагнулся поднять его — да так и застыл в полуприседе.
— В чем дело? — спросил студент. — Это не твое? А она сказала, что это принадлежит тебе.
Подняв предмет, Чернозуб повернулся и уставился на Аберлотта.
— Она? — выдохнул монах.
— Монахиня. Господи, да в чем дело? Ты стал белый как снег.
— Монахиня?
— Еще бы. Думаю, чуть ли не из самого строгого ордена. Коричневое одеяние, белые сандалии, словно она босиком. Так это не твои четки? Она сказала, что ты их оставил в карете кардинала.
— Она была джином?
— Джином? Насколько я заметил, нет. Наголовной повязки у нее, конечно, нет, при обете безбрачия ее не требуется. Кроме лица, рук и ног рассмотреть ее не удалось. Пожалуй, если подумать, она довольно хорошенькая. Сомневаюсь, чтобы она была джином. А ты ждал именно джина?
Сев на постель, Чернозуб уставился на бусины четок и маленькое распятие. Серебро бус и распятия было тщательно почищено и отполировано и бусины были ярче, чем он их помнил.
— Она говорила что-нибудь еще?
— Насколько я припоминаю, нет. Мы немного поговорили о конклаве. Вроде я пытался пофлиртовать. Она была очень мила, но сдержанна. Ах да, она спрашивала, где ты, но как-то рассеянно. Это все.
— Что ты ей рассказывал?
— Я сказал, что в это время ты обычно в Секретариате. Хотя не думаю, что она специально искала тебя. Ушла она в другом направлении. Думаю, просто хотела вернуть четки. Интересно, что ей было нужно в карете кардинала?
— Ограбить ее, — прошептал он.
— Что ты сказал?
Чернозуб прилег на койку и закрыл глаза. После долгого молчания он сказал:
— Спасибо, Аберлотт.
— Не стоит благодарности, — и студент вернулся к чтению.
Может, монахиня в самом деле была настоящей. Эдрия передала ей четки, вот и все. Женщина-джин вполне может сойти за монахиню, тем более без наголовной повязки, но по законам Денверской Республики, как, впрочем, и всюду, сознательно выдавать себя за члена религиозного ордена, скрывая свое происхождение, было преступлением. Людей с генетическими нарушениями преследовали почти повсеместно. Их защищали только законы Церкви — но и они не простирались настолько, чтобы разрешать подделку под религиозное обличье. И если Церковь еще могла протестовать против дискриминационного законодательства светских властей, она никогда не осмелилась бы решительно выступить против евгенических законов, запрещавших смешанные браки между здоровыми людьми и «Детьми Папы». Не сопротивлялась она и введению законов, определявших право граждан на деторождение степенью родственной близости к кому-то из уже известных уродов. В светских судах могли быть использованы как свидетельства церковные данные о крещении, ибо, выдавая документы о крещении, священники были обязаны ознакомиться с родословной родителей. Прежде чем пара получала от светских властей лицензию на право вступления в брак, и он и она должны были в обнаженном виде пройти медицинское освидетельствование в магистрате. Кочевники, естественно, руководствовались своими правилами, но и они достаточно нетерпимо относились к деформациям, дурной наследственности и т. п. Неполноценных детей они просто убивали сразу же после рождения.
Перебирая четки, он решил, что Эдрия вручила их монахине, совершавшей религиозное паломничество. Он устыдился приступа страха и надежды, которые охватили его, когда он нагнулся подобрать четки. Конечно, это не могла не быть монахиня. То, как полиция отнеслась бы к джину, притворившемуся гражданином, не шло ни в какое сравнение с реакцией толпы, попадись она им в руки. Эдрия не смогла бы так старательно почистить и отполировать бусины и распятие. Если бы она успела передать четки пораньше, он бы избежал этого ужасного признания во время исповеди, что обменял их на секс — Спеклберд подвел его к этой мысли. Но почему она вообще вернула их, пусть и через посредника?
— Какого цвета были у нее волосы? — спросил он Аберлотта, который погрузился в учебник.
— Чьи волосы?
— Монахини.
— Какой мо…? Ах да! Они были скрыты шапочкой, — он задумался. — Кажется, светлые. Она была очень симпатичной.
Чернозуб смущенно замялся. Этого было мало. В Валане десятки блондинок. Но хотя смесь разных кровей на континенте привело к появлению разных оттенков коричневой кожи, чисто белая и чисто черная были редкостью, так же, как рыжие или светлые волосы.
Поднявшись, он вышел на воздух. На улице никого не было, кроме старика и двух детишек. Сегодня от протоки за домом особенно сильно несло гнилью. Недавно заболели несколько человек по соседству, наверно, от воды или ее испарений. Он решил пройтись верх по холму, в другую сторону от Секретариата.
Гулял он не менее часа. Домов на протяжении пути попадалось все меньше и меньше. Наконец он вышел к караулу у городской ограды. За ней тянулся только лес с редкими убежищами отшельников, включая и обиталище Спеклберда. Он остановился поговорить с часовым.
— Как давно вы стоите на посту, капрал?
Молодой офицер посмотрел на солнце, склоняющееся к горизонту на западе.
— Примерно часа четыре. А что?
— Проходила ли мимо вас молодая монахиня? В коричневом одеянии, белом чепчике…
Часовой тут же глянул в сторону леса, несколько мгновений рассматривал Чернозуба, после чего гнусно захихикал:
— Вот уж нет! Да и чего ей тут бродить в одиночку…
Разозлившись на его плотоядное хихиканье, монах повернулся и побрел обратно к дому. Гнев снова уступил место страху. Он понимал, что теперь опасается за Эдрию, но скорее всего она уже в безопасности у себя дома, в Полых Аркадах. Монахиня — это всего лишь монахиня. И если у монашек выше по склону холма есть небольшой монастырь, будет ли часовой настырно интересоваться, куда она идет?
Этой ночью ему снилось, что на нем зеленая наголовная повязка и он убегает от толпы, которая хочет его кастрировать за возлежание с Торрильдо, а у того груди такие же большие, как у Эдрии… или это у Эдрии такой же большой пенис, как у Торрильдо? Он был загнан в амбар Шарда, где теперь стоял старый генератор брата Корнера и электрический стул из часовни. Кто-то вопил. Грубые руки уже привязывали его к стулу, когда кто-то встряхнул его, и Чернозуб проснулся. Грубые руки принадлежали Вушину.
— Перестань орать, — сказал Топор. — Ты всех перебудишь.
— Уже разбудил, — сонно пробормотал Аберлотт из соседней комнаты. Крумли выругался и взбил подушку. Джасис продолжал стонать и похрапывать.
Когда остальные обитатели дома снова погрузились в сон, Чернозуб засунул руку под жесткую подушку и нащупал четки. Сжав распятие, он начал шептать символ веры, но остановился. Как бы четки ни блестели полировкой, ему казалось, что они подверглись осквернению. Во время исповеди он пытался обвинить Эдрию в их краже, но отец Спеклберд вынудил его признать, что он просто забыл взять у нее четки после того, как испытал столь приятный, но греховный секс на сеновале.
— Не пытайся искать слова. Ты отдал четки в обмен на минет, — мрачно сказал старик, — нарушив обет целомудрия. А теперь продолжай. Что еще ты сотворил?
Чернозуб все еще нес груз наказания, которое наложил на него отец Спеклберд. («Ты должен составить список, куда внесешь все свои достоинства, сын мой»). Сначала он подумал, что наказание не несет в себе ничего особенного и что перечень будет довольно коротким. Но чем дольше он трудился над ним, тем яснее понимал, что все его добродетели сосуществуют рядом с грехами, да и не слишком отличаются от них. Лучше уж ничем не обладать, чем признаться в такой духовной нищете.
С тех пор как стали прибывать гости, состояние города оставляло желать лучшего. С горных склонов доносилось зловонное дыхание чинука и, дыша им, заболевали дети и старики. Продуктов не хватало, особенно пшеницы, а низкосортная рожь шла по очень высокой цене. Гостиницы были набиты под завязку, переполненная канализация выплескивала свое содержимое на улицы, и ручейки его текли по обочинам. Кардиналы еще не собрали кворума, но среди тех, кто уже прибыл, несколько человек заболело. В первую очередь вина возлагалась на воду. Так бывает каждый раз, утверждали гости; только местные жители могут без опаски пить ее. Но на этот раз ситуация была куда хуже, чем раньше. Болезни поразили и местное население. Симптомы были самые разные. Рвота и жар, как у Джасиса. Другие мучились головокружениями, головными болями, депрессиями, маниями или впадали в панику. Один врач утверждал, что распространяются два заболевания. Только богатые жители Валаны, казалось, обладают иммунитетом, но выяснилось, что иммунитет не имел отношения к богатству; прибывающие кардиналы были далеко не бедными, но у многих из них уже стали проявляться симптомы заболевания. Раздавались настойчивые требования скорее открыть конклав и, если возможно, не мешкая, завершить его. Местные жители возлагали вину на скученность, причиной которой были визитеры. Другие ссылались на Божий гнев, который можно будет смягчить только быстрым избранием папы.
В этом месяце состоялись демонстрации и волнения жителей Валаны, раздраженных из-за болезней и нетерпеливого ожидания результата затянувшегося конклава. В вербное воскресенье толпа, принявшая вид религиозного шествия, двинулась от колледжа Святого Престола к бывшей крепости на вершине холма. Когда она приблизилась к собору святого Джона-в-Изгнании, ее характер изменился. Над головами взмыли новые стяги, и шествие превратилось в политическую демонстрацию, чьей полусерьезной целью было оказание широкой поддержки со стороны студентов семинарии Святого Престола Амену Спеклберду, как кандидату на тиару и на трон святого Петра. Услышав об этом, отец Спеклберд не стал ждать вызова к нынешнему епископу Денвера, а торопливо добрался до города, где осудил это мероприятие и сурово распек студентов. Главари движения были арестованы светской полицией — но Спеклберд был вынужден осудить и ее действия.
На следующий день студенты светского колледжа устроили пародию на состоявшуюся демонстрацию, организовав свое шествие в поддержку кандидатуры троеженца кардинала Ри из Хонга. Топор, который обзавелся друзьями среди шести стражников Ри и узнал от них немало подробностей о жизни за западным океаном, испытал истинное удовольствие. И снова главари были арестованы, но тюрьма и так была переполнена пьяными фермерами, Кочевниками и карманными воришками, которые явились промышлять в растущих толпах жалобщиков и лоббистов, неизменно сопровождавших каждый конклав. Лидерам студентов слегка всыпали, а остальных отпустили под надзор. Кое-кому достались и церковные кары за попытку повлиять на ход выборов.
Во вторник на Страстной неделе глава Священной Коллегии появился на балконе собора святого Джона-в-изгнании и пообещал возбужденной и гудящей толпе, что конклав начнется сразу же, как только в наличии окажутся 398 кардиналов. «Скорее всего, дней через десять», — добавил он. После кончины папы Линуса VI за ним последовали в могилу еще двадцать два кардинала, и три последовавших папы объявили мораторий на присуждение красных шапок; но в любом случае по существующим законам для выборов требовалось две трети кардиналов плюс еще один, исключая тех, чей сан еще требовал документального подтверждения. Но даже когда появятся необходимые 398 кардиналов, для избрания папы необходимо единодушное голосование, так что обещание было пустым сотрясением воздуха, и толпа это знала. Никакого серьезного голосования не произойдет, пока в Валане не соберутся все иерархи, кроме больных, выживших из ума и паралитиков.
Голоса подсчитывают заранее, и букмекеры Валаны уже начали принимать ставки, даже на тех, кто был отлучен от церкви. Явных фаворитов не имелось, но можно было поставить два алабастера на кардинала Голопеза Оньйо из Олд-Мехико в надежде выиграть три, а фаны Уриона Бенефеза могли выиграть три, поставив один. Такое же мнение, как об Урионе, существовало и по отношению к кардиналу Отто э’Нотто из дельты Грейт-Ривер и высокоуважаемому епископу-миссионеру Чунтару Хадале из Долины рожденных по ошибке, ныне именуемой Народом Уотчитана. На Науйотта из Орегона ставили десять к одному, потому что на его территории вечно возникали какие-то религиозные проблемы. Аббат Джарад Кендемин шел пятнадцать к одному, поскольку он, скорее всего, откажется. И только бедный портье или наивная домохозяйка могли надеяться разбогатеть, делая немыслимую по своей глупости ставку на кардинала Элию Коричневый Пони или на Амена Спеклберда.
В отсутствие увенчанного тиарой понтифика Страстная неделя праздновалась со всей возможной помпезностью. На службах, которые проводили присутствующие кардиналы, присутствовала масса народа; состоялось множество религиозных шествий. Но эти пышные зрелища не отвлекали здравомыслящий народ от желания иметь папу, западного папу — и поскорее. В массе своей народный гнев был обращен против отсутствующего кардинала архиепископа Тексарского, который сознательно оттягивал свое появление, хотя армада заблаговременно прибывших юристов, слуг и доверенных лиц-конклавистов уже старательно готовила его выход на сцену, который, без сомнения, состоится в самый подходящий момент.
Предварительная встреча выборщиков, их помощников и доверенных лиц, юристов, других прелатов, дипломатов, глав религиозных орденов и знаменитых ученых, среди которых были теологи, историки и политологи, была назначена на четверг Страстной недели. Объявленной темой встречи было изменение отношений между Церковью и светской властью в первой половине тридцать третьего столетия. Неформальный и не религиозный характер этой встречи подчеркивался тем, что, хотя она пройдет в большом зале семинарии Святого Престола, на нее будут допущены и некоторые категории наблюдателей из числа лиц, не участвующих во встрече.
— Ты пойдешь посмотреть на эту драчку, Чернозуб? — спросил Аберлотт, натягивая студенческую форму.
— Кто же будет там драться? — спросил монах.
— Ну хотя бы Бенефез, который выступит против любого, кто бросит ему вызов. Кто знает, ведь и твой хозяин может подобрать перчатку, брошенную ему с Запада.
Джасис повернулся на своей лежанке и застонал.
— Кардинал Коричневый Пони не станет вступать в драку, а архиепископа Тексаркского еще нет в городе.
— Да все его сотрудники уже здесь. И тринадцать кардиналов из империи. Он готовится сделать свой ход, это точно.
Джасис опять застонал во сне и изрыгнул проклятие.
— Стоит упомянуть Бенефеза, и Джасис просто сходит с ума, — Аберлотт кивнул в сторону спящего, который продолжал мучиться лихорадкой. — Или, может, он ненавидит Ханнегана.
— Ты считаешь, что будут ссоры?
— Знаю. Начать с того, что там будет генерал Ордена святого Игнация отец Корвани, — это имя окончательно разбудило Джасиса, и он начал богохульствовать более отчетливо.
Чернозуб потянулся за своей рясой.
— Я знаю священника из ордена Корвани, который однажды не подчинился ему.
— И он остался священником?
— «Навечно, по повелению Мельхиседека», как они говорят. Но он был отлучен. И не мог принять мою исповедь.
— Как его зовут?
Помедлив, Чернозуб отрицательно покачал головой, жалея, что вообще завел этот разговор. Работая переводчиком в Секретариате, он узнал, что отец и-Лейден, с которым вместе он ехал до Побии и отец Омброз, наставник и капеллан клана Маленького Медведя — одно и то же лицо.
— Я его с кем-то спутал, — сказал он. — И должно быть, забыл имя.
— Ну так ты идешь?
— Сейчас, только оденусь.
Аудитория вмещала в себя порядка двух тысяч человек. Четверть мест впереди была отгорожена для кардиналов и их свиты, но когда колокол кампуса пробил три часа, половина мест еще были пусты. Еще четверть была зарезервирована для ближайших помощников кардиналов, священников и писцов — им полагалось делать заметки, а в остальное время маяться бездельем. Половина из оставшихся мест была открыта для прелатов меньшего ранга, преподавателей, священников, монахов и студентов — именно в таком порядке предпочтения. Предложение было явно выше спроса. Чернозуб с Аберлоттом, которые пришли пораньше, заняли места сразу же за кардинальской челядью и никто не попросил их пересесть подальше. На сцену вышло несколько человек. Чернозуб узнал главу семинарии и человека в белой тунике и наплечнике с черным капюшоном, известного доминиканца, который, скорее всего, был главой Ордена с западного побережья. Внезапно Чернозуб сполз пониже на сиденьи. Из-за кулис вышел аббат Джарад кардинал Кендемин и занял место недалеко от доминиканца. Они радостно раскланялись друг с другом, обменялись поцелуями и, перегибаясь через пустое место, разделявшее их, шепотом начали оживленный обмен мнениями.
— Что случилось? — спросил Аберлотт, глянув сверху вниз на Чернозуба, который едва ли не лежал на полу.
Когда где-то над головой пробило четверть часа, Риотт с напряженным лицом встал и произнес: «Итак, мы начинаем». Несколько человек по соседству вскочили на ноги. Чернозуб придержал Аберлотта за рукав: «Сиди, клоун». Человеком, который вышел на подиум, был президент колледжа. Он коротко поприветствовал собравшихся, затем предложил кардиналам собрать своих слуг вокруг себя, так что часть аудитории переместилась вперед, занимая пустые места. Аберлотт перекрыл своим массивным корпусом место слева от себя и сказал человеку, который на него нацелился, что оно уже занято, а когда в аудитории воцарилась тишина, он повернулся подозвать Вушина, стоявшего у задних рядов, но Топор отрицательно покачал головой. Его присутствие означало, что кардинал Коричневый Пони где-то поблизости. Старый воин стал личным телохранителем Красного Дьякона и скоро должен был перебраться в крыло для прислуги в доме кардинала.
Первым оратором был доминиканец, представленный как Дом Фридейн Гониан, аббат Гомара, генеральный директор ордена проповедников в Орегоне.
— Ты суть Петр, — для начала объявил он, а затем произнес проповедь, которая началась с волнующих призывов к единству, но вскоре перешла к проклятьям на головы изгнанных отщепенцев и на тех, кто вернулся, но продолжает вещать о мирских благах. Позже, днем, его видели в рясе, заляпанной пятнами грязи, которой его забросали из окна второго этажа дома в торговом квартале.
Следующим президент представил генерала ордена святого Игнация в Новом Риме отца Корвани, который явно перевалил на седьмой десяток, но продолжал оставаться стройным и привлекательным. Его элегантная карета и обаяние личности, как ни странно, напомнили Чернозубу хозяина. Как и у Коричневого Пони, на лице Корвани постоянно гостила искренняя улыбка; ее исчезновение производило потрясающее воздействие. Он лишь несколькими словами поприветствовал их светлости и перестал улыбаться.
— Вне всякого сомнения, тут произошла ошибка, — сказал он. — Прошу потерпеть меня еще несколько секунд, — оставив кафедру, он спустился по ступенькам, ведущим в зал и смело взял за руку ее светлость кардинала Балдирк, аббатиссу Н’Орка. — Прошу вас, — сказал он. — Для вас есть место на подиуме.
Разинув рот, Балдирк позволила препроводить себя на сцену. Среди кардиналов раздался ропот удивления и даже несколько приглушенных возгласов возмущения, ибо Корвани не был даже членом Священной Коллегии. Президент не мог скрыть выражения крайнего изумления на лице.
— Видишь? Ну, что я тебе говорил? — прошептал Аберлотт монаху. — Бьюсь об заклад, что это место предназначалось кардиналу Ри.
Аббатисса расположилась между Джарадом и доминиканцем, что не доставило удовольствия никому из них, но в любом случае Корвани обрел репутацию самого либерального и галантного из всех прелатов. Он снова просиял улыбкой и представил аудитории своего ученого собрата, члена его же ордена святого Игнация, который выступит вместо него. Им оказался Урик Тон Йордин, который был священнослужителем и в то же время профессором истории светского университета Тексарка. Он был высоким, седым человеком в очках пятидесяти с лишним лет и, как выяснилось, еще и членом передовой группы архиепископа Бенефеза. Его манера разговора подобала скорее лекционному залу, чем кафедре.
— Вот что остается непонятным среди частых причин возникновения ереси в Церкви, — сказал он. — Континент был естественным образом разделен силами природы. Всегда существовали две церкви, если позволено так выразиться, достопочтенные господа: одна на Западе, другая на Востоке. Пока папа обитал в Новом Риме, что стоял на Грейт-Ривер, он находился в таком отдалении от этого региона, так далеко от Запада, словно Новый Рим располагался в Атлантике. С тех пор как папство обосновалось у подножия этих гор, западная Церковь обрела великое исцеление, ибо ее проблемы стали ближе и понятнее. И после событий в Орегоне это должно быть вам совершенно ясно.
Чернозуб видел, как два западных епископа, сблизив головы, стали перешептываться. Странно было слышать, как один из присных Уриона Бенефеза начал с того, что признал истинность тех доводов, которые западники пускали в ход для поддержки папства в Валане. Но такой подход первым делом успокоил их.
— Понимание проблем, беспокоящих Запад, — продолжил Тон Йордин, — пришло, когда мы наконец проделали путь, который до установления мира в провинции выпадал на долю наших посланников. В начале этого тысячелетия человек, необдуманно решивший в одиночку путешествовать из Нового Рима на запад, проделывал следующий путь: к югу по лесным дорогам, огибая Долину рожденных по ошибке, затем к Заливу и параллельно побережью — к Брейв-Ривер. Перебравшись через реку, он должен был выбраться на королевскую дорогу, которая, охраняемая королевскими солдатами, через пустыню вела на запад; оказавшись в пределах дальнего Запада, он снова поворачивал на север. Одинокий путешественник, направлявшийся на восток, петлял точно так же. Почему? — он вскинул над головой пачку бумаг. — В прошлом месяце я получил копии документов, составленных сто сорок восемь лет назад. Они повествуют, как в те времена силами воинских частей Папской Гвардии осуществлялось сопровождение папских легатов и других посланников, которые ехали самой прямой дорогой через Высокие равнины. Не беспокойтесь. Я не собираюсь их вам зачитывать, хотя любой, кто захочет ознакомиться с ними, получит такую возможность. По этим правилам эскорт состоял из сорока тяжело вооруженных всадников под командой капитана и отряда из двадцати лучников, легко вооруженных мечами и алебардами. Регулярное патрулирование осуществлялось лишь вдоль некоторых дорог, доступных для передвижения, но не вдоль рек и не на бродах. Когда партия была готова двинуться в путь, ее отправка задерживалась, пока один человек, капитан, не принимал решения сниматься с места. И вы догадываетесь, почему? В те времена порой встречались настолько тупоголовые личности, что они пускались в дорогу в одиночку или в составе маленьких вооруженных групп. С таким же успехом можно было выходить в море на гребной лодке. И если бы даже безбрежный океан травянистых прерий, который первым лежал на пути к западу, а затем пустыни и солончаки, преграждавшие путь к горам, — если бы даже все эти пространства были бы совершенно необитаемыми, то и тогда путешествие было бы достаточно опасным. Весь континент разделен естественным образом, достопочтенные лорды, силами природы. И сегодня на открытых долинах бушуют жестокие ветры и ураганы, свирепствуют морозы. Там нет ничего, кроме земли, неба, травы и ветров. Там негде укрыться. Куда бы человек ни смотрел, он со всех сторон окружен далеким горизонтом, и лишь колышатся под ветром волны огромного океана травы. В давние времена по этим травянистым землях бродили лишь жестокие пастушеские племена, выпасавшие стада своих диких мохнатых коров. Они грабили путников и с наслаждением подвергали их пыткам; они живьем снимали кожу с посланников, свежевали их и поедали внутренности несчастных. Или обращали их в рабство. И должен добавить, что те из вас, которые по пути сюда только что пересекли равнины — при всем сочувствии к трудностям, которые вам пришлось перенести по пути — вы видели лишь потомков этих каннибалов. И если вы не столкнулись с бандой разбойников, вас никто не подвергал унижениям. Но их предшественники и были причиной столь экстраординарных правил, которые я держу в руках. Эти пастухи остались столь же дикими и жестокими, но они позволяют вам беспрепятственно путешествовать. И пусть даже Западная Церковь, как мы все признаем, хранит верность истинному наместнику Христа на земле, который по традиции обитает к востоку от равнин, в вопросах веры, морали и учений она всегда придерживалась независимых воззрений, что мы знаем из истории жителей Орегона. Если вы сомневаетесь, отсылаю вас к трудам Дюрена.
Чернозуб бросил быстрый взгляд на аббата Джарада, о чем тут же пожалел. Его бывший правитель смотрел на него с легкой торжествующей улыбкой. Несколько кардиналов рядом с ним перешептывались.
Аберлотт заметил беспокойство Чернозуба и, повернувшись к нему, прошептал:
— Нимми, ты знал, что орегонцы употребляли хлеб из листьев на пасхальной мессе?
— Нет, не знал, — прошептал Чернозуб в ответ. — И Дюрен не знал. А теперь помолчи.
— Ну да. И вместо слов «Прими плоть агнца Божьего», когда преподносят причастие, он говорил: «Прими плоть Его, которая выросла».
Чернозуб лягнул его в лодыжку, и Аберлотт изобразил губами букву О.
— Папа испытывал необходимость поддерживать постоянную связь со своей паствой и своими епископами, но в те дни сообщение между Востоком и Западом было очень затруднено, — продолжал профессор. — Но теперь на Высоких равнинах и Прерии мы обрели относительное спокойствие, если не считать бродячих разбойничьих банд. На Юге уже на вашем достопочтенном веку человек обрел возможность путешествовать в одиночку или в небольшой невооруженной компании, в чем убедилась часть из вас, прибывших с юго-востока. Добираясь сюда в предгорья от Грейт-Ривер, вы испытали не больше опасностей, чем могли бы встретить на дорогах своей епархии. Почему? Потому что южные орды умиротворены, провинция надежно управляется, а ее Север, если не умиротворен, то по крайней мере предупрежден, что попытки грабежей, насилий и убийств нас, «травоядных», повлекут за собой незамедлительное возмездие. Восстановлены связь и возможности путешествовать, и предполагаемых преимуществ, которыми здесь на Западе, обладает папство, в изгнании больше не существует.
Аббат Джарад поднялся, но оратор, похоже, сначала не заметил его.
— Я не военный человек, — продолжал профессор, — но… — он замолчал, потому что аудитория смотрела в правую от него сторону и, обернувшись, он увидел стоящего Джарада. — Да? Ваше преосвященство?
— Может, преимущества изгнания в самом деле воображаемые, как вы говорите. Я молюсь о возвращении в Новый Рим на приемлемых условиях, ибо изгнание — это скандал, и скандал нетерпимый. Но я должен напомнить ученому оратору, что Договор Священной Кобылы предшествовал завоеванию, что военные правила, которые цитировал оратор, предшествовали договору и что Церковь выступила посредником при обсуждении условий, мирного договора и что, хотя пересечение Высоких равнин всегда было связано с опасностью, посланники Церкви путешествовали по ним в течение без малого столетия, не получая никакой помощи от военных сил Тексарка, — слыша со всех сторон одобрительный шепот, Джарад, раскрасневшись, сел. Ничего не последовало.
— Благодарю вас. Как я уже упоминал, я не военный человек, но мне объяснили, что задача военных сил Тексарка, которые выполняют свои функции рядом с Новым Римом, не имеет ничего общего ни с Новым Римом, ни с папством. Они находятся там, не имея ни малейших намерений провоцировать или унижать папу. Ханнеган вместе со всей страной был искренне изумлен, когда папа перебрался в Валану. Войска были посланы отнюдь не для того, чтобы держать в осаде Святой Город, а для защиты фермерских поселений в лесах между Грейт-Ривер и безлесной прерией. Восточная орда, которую называют Кузнечики, угрожала поселениям с севера и с запада. Войска находятся там лишь в качестве миротворческих сил, в чем сейчас убедилось большинство жителей Нового Рима. Пастухи нападали на фермы, угоняли скот и похищали мальчиков. Вы знаете, что у Кочевников рождается больше девочек, чем мальчиков. Что-то, связанное с наследственностью, как мне объяснили…
— Как бы там ни было, папству в Новом Риме ничего не угрожает, оно будет находиться под защитой…
— Минутку! — раздался в зале громкий и ясный голос кардинала Коричневого Пони. Чернозуб, как и многие, обернулся, но никого не увидел в зале. — Минутку, если мне будет позволено.
Все взгляды устремились наверх. Коричневый Пони стоял на хорах; по одну сторону от него сидел Топор, а по другую — Преподобный Амен Спеклберд. Чернозубу и Аберлотту не удалось попасть на галерею, но, очевидно, потом охрана открыла доступ на нее, чтобы опоздавшие не пробирались по проходу зала, мешая ораторам.
— Я — потомок этих каннибалов, как вы назвали их. Как мне рассказали сестры матери, вырастившие меня, ее семейное имя было «Коричневый Пони». Я никогда не видел ее, но, по слонам сестер, мы относились к Диким Собакам, а она была юной вдовой. Ее муж из племени Кузнечиков бежал из тексаркской тюрьмы, но был убит тексаркской пулей. Когда она направлялась на юг, чтобы навестить родственников покойного мужа, ее изнасиловали эти ваши тексаркские миротворцы. И я — дитя этого насилия. Сестры, вырастившие меня в вашей провинции, позволили мне носить имя, которое она передала им.
Чернозуб поднял на Вушина широко открытые глаза и увидел, что старый воин удивлен так же, как и он сам. Никто из них в разговорах никогда не упоминал о происхождении кардинала, считая эту тему закрытой для обсуждения. И теперь Красный Дьякон оповестил о своем загадочном происхождении на весь мир, хотя многие уже давно перешептывались о его постыдной тайне. Но сам Чернозуб не знал об этом практически ничего, ибо он видел лишь то досье в Секретариате.
— И здесь же присутствует мой секретарь, — продолжил Коричневый Пони, глядя вниз на Чернозуба. — Его предками были Кузнечики, бежавшие от ваших тексаркских миротворцев. Когда Ханнеган запустил к ним зараженных животных, они потеряли весь свой скот. Его родители, лишенные лошадей, умерли, возделывая чужую землю. От него я кое-что узнал о Кузнечиках и об их истории. Столетиями они пасли свои стада на землях, о которых вы упоминали. Знаю, что на старых картах этот район назывался Това. Там мало деревьев и в то же время почвы достаточно плодородные, чтобы фермеры зарились на них. В редких лесах к северу и к югу от этого региона Кузнечики всегда запасались деревом для столбов, стоек, стрел и копий. И если сейчас на этих землях обитают фермеры, то они осели на них после бойни, устроенной Ханнеганом. Вы описали тексаркские силы как защитников. Вы хотите, чтобы папа вернулся в Новый Рим, оказавшись среди них. Я тоже хочу, чтобы папа вернулся в Новый Рим и, оказавшись среди своих врагов, к которым вы причисляете и себя, испытал всю ненависть своих защитников. Вы посланы сюда, чтобы отвести нападки на вашего хозяина. И теперь архиепископ Тексарка, который, как мы все хорошо знаем, и послал вас, должен или подписаться под вашими воззрениями или опровергнуть ваши обвинения в адрес обитателей равнин.
Наступило потрясенное молчание, за которым последовал короткий взрыв аплодисментов и одобрительных возгласов со стороны двух западников. Генерал Ордена отец Корвани со зловещим видом снова согнал с лица обаятельную улыбку и поднялся на ноги. Аплодисменты тут же стихли. Коричневый Пони, улыбаясь, сел. Кардиналы, не оборачиваясь, из-за плеча посматривали на него. У Джарада, сидевшего на сцене, отвисла челюсть. Коричневый Пони пользовался репутацией неизменно корректного дипломата, миротворца, который редко безоговорочно принимал чью-то сторону. Говорил он спокойным тоном, но фактически он объявил войну, и этот его поступок был заранее обдуман.
Но еще до того, как Корвани подал голос, пылая гневом, вскочил архиепископ из дельты Грейт-Ривер, которая сейчас была частью Тексаркской Империи; раздувая щеки и отдуваясь, он кинулся защищать тезис оратора о благотворной защитной роли прошлых Ханнеганов на Среднем Западе и осуждать тех, кто мешает ходу обсуждения. Ткнув пальцем в сторону балкона, он перешел на личность Коричневого Пони, но глава Священной Коллегии, встав, рявкнул:
— Спокойствие во имя Господа! Спокойствие во имя Господа!
Семинар закипел жаркими словесными схватками, и мало кто обратил внимание на студента, который появился в центральном проходе. Он слегка подволакивал ногу. Аберлотт внезапно схватил Чернозуба за руку и показал на него. По проходу шел Джасис, растрепанный и небритый, с лицом, покрытом красными пятнами. Остановившись как раз посредине секции, отведенной кардиналам, он что-то вытащил из-под наполовину расстегнутой сутаны, хрипло выкрикнул имя Йордина и выругался. Затем раздался грохот и поднялся столб дыма. Тон Йордин прижал руки к груди и посмотрел на них, но крови на нем не было. Вместо этого человек, сидевший под подиумом, свалился со стула. На полу, обливаясь кровью, лежал ни кто иной, как генерал ордена святого Игнация. Стоя в проходе, покушавшийся вскинул дулом кверху тексаркский кавалерийский револьвер, снова заорал на Тона Йордина, выпалил из второго ствола в потолок и рухнул в проходе. Зал, заходясь криками, вскочил на ноги.
— Убийца! Тексаркский убийца! Агенты Ханнегана!
Чернозуб оглянулся в поисках источника этих истошных криков, но увидел лишь, как во взбудораженной толпе мелькают кулаки.
Люди столпились над упавшим студентом; со сцены доносились призывы найти врача. Едва только Аберлотт и Чернозуб выбрались из здания, их тут же задержала полиция.
Они выдержали восемь часов допросов в казармах тексаркской полиции, но кардинал Коричневый Пони быстро пришел на помощь и им удалось избежать жестокого обращения. Полиция узнала в колледже, что Джасис был родом из Тексарка, где посещал в университете лекции Тона Йордина, провалил экзамены и перевелся сюда в колледж Святого Престола. Врач доложил, что он и сейчас находится в беспамятстве из-за сильного жара и лихорадки. Полиция отпустила Чернозуба и Аберлотта сразу же после полуночи; они добирались домой при свете пасхальной Луны. Этой же ночью Джасис умер в тюрьме.
Пока город спал, преподобный Урик Тон Йордин отправил в путь всадника, который галопом полетел к телеграфному терминалу у последней заставы на дороге в провинцию. Послание, которое он вез, было адресовано кардиналу Уриону Бенефезу и вместе с копией Императору должно было оказаться в Ханнеган-сити к рассвету дня Страстной пятницы. Текст гласил:
«ОТЕЦ КОРВАНИ БЫЛ УБИТ СЕГОДНЯ СТУДЕНТОМ, СОСЕДОМ ПО КОМНАТЕ СЕКРЕТАРЯ-КОЧЕВНИКА КОРИЧНЕВОГО ПОНИ. СЕКРЕТАРЬ БЫЛ ДОПРОШЕН И ОТПУЩЕН ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КОРИЧНЕВОГО ПОНИ. УБИЙЦА УМЕР В ПОЛИЦЕЙСКОЙ КАМЕРЕ. ПОДРОБНОСТИ СЛЕДУЮТ. ОЖИДАЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ИНСТРУКЦИЙ. ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУГА ВО ХРИСТЕ ЙОРДИН».
Глава 10
«Да осознает человек, что Бог непрестанно смотрит на него с небес, что все его действия доступны божественному взору и Ангелы постоянно сообщают Богу о них».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 7.17 апреля 3244 года Чернозуб проснулся в Валане еще до рассвета и лежал, глядя на полную луну, висящую над горами, после чего встал, почистил зубы золой и кипяченой водой, облегчился в туалете за домом, оделся, и то короткое время, что оставалось до восхода солнца, провел в молитве. Ничего не поев, поскольку ему предстояло получить причастие, он покинул дом. Подрагивая от утреннего холодка, он направлялся к мессе, когда почувствовал, что за ним кто-то следит. Повернувшись, Чернозуб увидел в броске камня от себя лишь мужчину, говорившего с кем-то в открытом окне, и другого, двигавшегося в противоположном направлении. Тот, кто был в окне, оставался неразличимым. А говоривший перед окном мужчина был тем самым, кого Чернозуб видел просящим подаяние на этой же улице за день до того, как Джасис застрелил Корвани. Скорее всего, он живет где-то по соседству. Чувство, что за ним следят, объясняется застенчивостью, решил монах. Стояло пасхальное утро, и он продолжал идти по направлению к собору святого Джона-в-изгнании.
В присутствии сотен кардиналов месса Вознесения в папском соборе была ярким зрелищем даже без папы. Чернозуб пришел пораньше, чтобы найти место, где можно преклонить колена, и большая часть припозднившихся толпилась у нефа и вне пределов собора. Выйти из него после мессы было сложнее, чем попасть внутрь, ибо многие из стоявших продолжали переговариваться со знакомыми, преграждая путь. Для покушения лучшей ситуации было не придумать. Между двумя молящимися, которые тут же изумленно отпрянули, мелькнула рука с кинжалом, и Чернозуб почувствовал, как острие врезалось ему в бок. Зажав рукой рану, Чернозуб повернулся лицом к нападавшему. Это был тот человек, который стоял, разговаривая, у открытого окна. Нищий. Когда от него все отпрянули, он оглянулся. Рядом стояли трое таких же, как он, типа, грязные и в лохмотьях; у двух были ножи, а у третьего цепь. Они стали пробиваться сквозь толпу к высокой лестнице собора, но жертвы их грубости с неожиданной ловкостью спустили их к самому подножию. Кто-то закричал, призывая полицию, другие звали папскую гвардию. Первый нападавший, нищий, вторым ударом располосовал монаху лицо и явно собирался прикончить его, как звук полицейского рожка заставил всю троицу броситься в бегство.
Раны промыли и перевязали в полицейском участке, где раненого подверг допросу какой-то взвинченный лейтенант, настаивавший на том, что он, Джасис, Аберлотт и Крумли были заговорщиками, действовавшими в рамках какого-то большого замысла. Отношения Чернозуба с кардиналом надежно оберегали его, и, положась на них, он мог не опасаться насилия. Он сообщил лейтенанту то, что считал нужным сказать, и пропустил мимо ушей то, что тот хотел узнать, поскольку полицейский исходил из неверных предположений.
— Никто из обычных хулиганов не будет грабить бедного монаха.
— Они собирались не ограбить меня, а убить.
— Вот уж точно! Но зачем? У них должны были быть какие-то причины так ненавидеть вас.
— Да, они смахивали на обычных хулиганов, и у них не было причин ненавидеть меня, так что их, должно быть, наняли.
— Но кто, по вашему мнению? — спросил офицер.
— Какой-то идиот, который решил, что Джасис планировал убийство отца Корвани, а я имел к этому отношение.
Лейтенант, который, по всей видимости, придерживался такой же точки зрения, мрачно посмотрел на него и на несколько минут оставил комнату. Чернозуб вознес молитву святому Лейбовицу. Когда лейтенант вернулся, поведение его изменилось.
— Чтобы не повторилась еще одна попытка покушения, все время будьте настороже. Держитесь рядом с теми, кого вы знаете. По ночам не выходите из дому. Держитесь подальше от толпы, какая собралась сегодня утром. Когда выйдете из моего участка, сядьте на скамейку. Скоро прибудет ваш хозяин.
— Его светлость? Из-за меня?
— Из-за себя. На него тоже покушались. Да вот, его человек все расскажет.
Из соседней комнаты для допросов вышел Вушин. Присев рядом с Чернозубом, он коротко рассказал ему, как на Коричневого Пони напали двое незнакомцев с огнестрельным оружием. Коричневый Пони не пострадал, а нападавшие погибли. Полиция нашла на месте преступления обезглавленный труп и отрубленную руку, все еще сжимавшую револьвер. Безрукого убийцу обнаружили на соседней улице, где он истек кровью. Если перед смертью он в чем-то и признался полицейскому, который нашел его, то полиция держала это при себе. Спрашивать, отчего те погибли, не было необходимости. Полицейский принес Вушину его мечи. Те были протерты, но кое-где еще оставались следы засохшей крови. Топор нахмурился, но без возражений вложил их в ножны. Скоро появился Коричневый Пони, и после того, как он осмотрел раны Чернозуба, все они направились в Секретариат; двое вооруженных охранников сопровождали их на почтительном расстоянии.
— Ты прикидывал, что все это может означать, Нимми?
— Кто-то ошибочно решил, что я имею отношение к Джасису. Но вы, милорд?
— Та же ошибка. Для Ханнегана политически важно, чтобы джины, Кочевники и горожане испытывали друг к другу взаимную неприязнь и страх. Такая разъединенность позволяла бы легче управлять ими. Известно ли тебе, Нимми: Джасис был «привидением»?
— Скрытым джином? О нет, милорд! В это невозможно поверить. Я видел его раздетым.
— Состоялось вскрытие, и нашли какие-то приметы. Об этом не оповещали. Погрома не было уже несколько десятилетий, и мы не хотим, чтобы он начался. Немедленно перенеси свои вещи. Пока толпа не покинет город, ты будешь жить в подвальном помещении Секретариата. На тот случай, если они предпримут еще одну попытку. Мы так никогда и не узнаем, кто нанял этих людей, но они явно были любителями.
— Наняли их здесь, — добавил монах. — Одного из них я видел раньше.
— Да, но телеграф сделал нас предместьем Тексарка, и слова теперь путешествуют быстрее, чем Солнце огибает Землю. К счастью, конклав должен начаться в середине недели. Когда тут появится Бенефез или даже тот, кто заменит Корвани, они возьмут команду над своими людьми. Не думаю, что убийц нанимал кардинал Бенефез.
— Это мог сделать его племянник, — буркнул монах.
— Он бы нанял профессионалов, Нимми, а не любителей, — сказал Вушин.
Когда они пришли в Секретариат — большое, но низкое здание, скрытое за деревьями, Чернозуб убедился, что три комнаты в подвале обставлены мебелью и готовы к приему случайных курьеров или политических беженцев. Одну из них занимал Топор. Чернозуб расположился в комнате рядом с выходом во двор, где стоял туалет, но Топор сразу же предупредил его:
— По ночам пользуйся ведром с крышкой. И в темноте без меня никогда не выходи на улицу.
Но ко времени, когда в среду на Пасхальной неделе собралось требуемое количество кардиналов и когда люди оправились от потрясения, вызванного безумным поступком Джасиса, пусть даже кое-кто, обнажившись, носился по улицам или, рыдая, лежал в постели, никаких нападений не происходило, и конклав сделал попытку начать работу. Первым делом кардиналы собрались в кафедральном соборе, где совместно отслужили мессу, после чего их процессия, покинув здание, через площадь направилась во дворец, где и должно было состояться избрание папы. В одном конце огромного тронного зала был сооружен алтарь, а сам дворец был временно освящен.
Своими конклавистами кардинал Коричневый Пони избрал брата Чернозуба Сент-Джорджа и сестру Юлиану из общины Успения; правило, что они должны были принадлежать к общине святого Мейси, вступало в силу лишь при отсутствии кардинала, а покидать конклав он не собирался. Нимми понял, что предпочтение, отданное сестре Юлиане, было ловким дипломатическим ходом, но несказанно поразился, узнав о своем избрании — пока не увидел, что Коричневый Пони часто беседует с Джарадом, одним из конклавистов которого оказался брат Поющая Корова. Нимми стало слегка не по себе. Может, политики из Кочевников при выборе папы будут руководствоваться указаниями Святого Духа. Почему бы и нет? Но он опасался встречи лицом к лицу с Поющей Коровой или с аббатом.
Но не успел конклав начаться, как смертельно заболел кардинал из Юты. Он выпал из числа участников конклава, и отсутствие кворума стало предлогом для его отсрочки. Чернозуб вернулся в свое новое жилище в подвале. Полиция продолжала охранять здание, но никаких попыток нападения на него не было.
За три последующих дня из дальней северо-восточной провинции прибыли еще семь клириков, и кардинал, председательствующий на конклаве, разрешил его продолжить. С телеграфной станции поступило сообщение, что архиепископ Тексаркский явится в течение десяти дней. Как только конклав возобновил свою работу, кардинал Коричневый Пони, взяв в союзники одного из конклавистов Бенефеза как доказательство своего беспристрастия, внес правило, по которому приставы могут арестовать любого кардинала-выборщика, если тот без разрешения конклава сделает попытку покинуть город или даже само здание выборов. Кардиналы, опасающиеся эпидемии, выступили с горячим протестом, но Коричневый Пони, отвечая им, сурово указал, что люди на улицах, которые подвергаются такой же опасности, полны гнева, и намекнул, какая судьба может ждать кардиналов-выборщиков, если опять не будет кворума. Закон прошел подавляющим большинством и был отослан в правительство Валаны с просьбой об оказании поддержки людскими резервами. Просьба была одобрена, и попытка кардиналов покинуть Валану теперь будет считаться преступлением. Таким образом, процесс поиска кандидата, устраивающего и Святого Духа, и различные земные власти, начался еще до появления самого влиятельного из земных владык его светлости кардинала архиепископа Уриона Бенефеза.
Но положение в городе продолжало ухудшаться.
Древний обычай сжигания бюллетеней с примесью сырой соломы или без оной, когда из каминной трубы шел белый или черный дым, продолжал соблюдаться, но правила избрания папы изменились в связи с требованиями времени. Теоретически епископ Рима должен был избираться церковниками в Риме. Их запирали в здании на ключ (con clave), пока две трети выборщиков не приходили к согласию. В течение тысячелетий каждый новый кардинал, где бы он ни обитал, считал себя частью Римской церкви, забота о которой была вверена его попечению, и имя его становилось частью титула: Элия, кардинал Коричневый Пони, декан святого Мейси в Новом Риме. Теперь же кардиналов стало больше, чем церквей в Новом Риме и Валане вместе взятых.
Время от времени группы недовольных шествовали по городу и, собираясь на площади перед собором святого Джона, скандировали лозунги. На пятый день конклава в двери дворца стали бросать камни, и папская гвардия, все еще носящая траур по покойному папе, была послана навести порядок. Не желая проливать кровь, вели они себя сдержанно, и вскоре население их разоружило. Гражданская полиция, не имеющая огнестрельного оружия, была не в силах контролировать поведение толпы. Люди собирались и расходились, как им нравится. Преисполнившись страха, кардиналы решили покончить с голосованием за три дня. Когда шло голосование, толпы отхлынули, хотя на площади продолжали оставаться люди, ждущие появления белого дыма.
Кое-кто из кардиналов, заболев, попытался оставить город, но был пойман и силой водворен обратно во дворец, одно из помещений которого, примыкающее к большому залу конклава, было превращено в больничную палату. Лежащий в постели выборщик может проголосовать; его помощник-конклавист приносил бюллетень к алтарю и, прежде чем опустить в чашу, вздымал его над головой, дабы все видели, что в нем нет никаких вычеркиваний. Тем не менее, пока шли первые, робкие и нерешительные туры, горожане на площади запечатали огромные, бронзовые двойные двери дворца, соорудив перед ними деревянный эшафот. Кузнец намертво закрепил эшафот на месте, загнав молотом длинные свинцовые штыри в дыры, просверленные в гранитной стене дворца. Другие в это время заколачивали окна. На шестой день заключения какой-то человек с кувалдой и ломом залез на крышу дворца и выломал несколько черепиц, а другой — топором прорубил дыру в крыше, свободной от покрытия. На крышу со смехом и шутками подняли ведра с дерьмом и под всеобщее ликованье вылили их в дыру. Женщинам из благотворительного общества Алтаря Валаны пришлось отказаться от экстренной доставки пищи, поскольку кухня была закрыта бунтовщиками. Отключили и воду во дворце.
Кардинал, обладавший самым громким голосом, взобрался к выбитому окну и провозгласил толпе анафему, угрожая отлучением от церкви всем, кто через пять минут останется на площади. Толпа веселилась и аплодировала, словно выслушала хорошие новости. Строго говоря, из-за шума и гама вообще ничего не было слышно.
Во второй половине дня кардинал, страдавший несварением желудка, завопил, что уборные полны до краев и скоро их содержимое потечет наружу, ибо служащих дворца, оставшихся снаружи, не пускают опустошить их. Все просьбы о свечах или масляных лампах отвергались. Несмотря на курение ладана и фимиама, дворец начал благоухать, как местная тюрьма. Конклав был в полной мере «под ключом», плюс заколочен досками. Для кардиналов еще хватало спальных мест, но их конклавистам пришлось устраиваться на полу.
Чернозуб сидел, прислонившись к стене. Он был обеспокоен куда меньше, чем предполагал его хозяин, и сейчас, стараясь не поддаваться страху, смотрел, слушал и обонял все происходящее. Работая с Коричневым Пони, он обрел немалый запас самообладания. Кроме того, во всех ситуациях его не покидала мысль, что он готов вступить в схватку с нападающим, и это знание позволяло расслабиться. Чернозуб понимал, что он остался точно таким же, но просто обрел новое измерение. И при этой мысли он чувствовал себя куда более искушенным в земных делах.
Коричневый Пони жестом подозвал его.
— Переговори с максимальным количеством конклавистов. Сколько получится. Постарайся выяснить, что они думают о кардинале Науйотте и аббате Джараде, особенно о первом.
— Да, милорд, — Чернозуб посмотрел в ту сторону, откуда раздался особенно громкий треск выбитого окна.
— Я был на четырех конклавах и никогда не видел ничего подобного, — сказал Коричневый Пони, посылая его с заданием примерно прикинуть распределение голосов. — Болезни влекут за собой сумасшествие.
Чернозуб начал переходить от кардинала к кардиналу. Он не обращался напрямую к ним, а консультировался с помощниками прелатов. Наконец он наткнулся на аббата Джарада. Уверенность, которая помогала ему в полиции, внезапно покинула его. Рядом с аббатом стоял его конклавист брат Поющая Корова, Чернозуб опустился на колени и поцеловал кольцо аббата. Джарад, улыбнувшись, мягко поднял его с колен, но не заключил в объятия и обратился к нему лишь по имени, не добавляя «брат».
— Ты хотел видеть меня, сын мой?
— Владыка, мой господин попросил меня спросить совета относительно возможной номинации кардинала Сорели Науйотта.
— У меня или у кого-то другого?
— У всех, владыка.
— Передай ему, что если Святой Дух не протестует, то я «за», — он улыбнулся Чернозубу и снова отвернулся от него.
— А что относительно кардинала Кендемина?
— И Святой Дух, и я против. Это все?
— Не совсем.
— Вот и я боюсь, что нет.
— Я хотел бы попросить аббата благословить мой уход из ордена.
Джарад смотрел на него, словно издалека.
— Помнишь ли ты, что я был тем священнослужителем, который рукоположил тебя?
— Конечно.
Джарад сложил ладони, уставился в темное пространство над головой и обратился к Богу: «Было ли известно, что кто-то хочет отказаться от Святых Даров?»
— Никогда, — сказал кардинал Коричневый Пони, присоединяясь к ним. — Что, у нас тут какие-то проблемы?
— Ровно никаких! — воскликнул Джарад, хлопая его по плечу.
— И у тебя тоже, Нимми?
— Да, у меня есть проблема. Как и когда я смогу вернуть себе мирской статус?
— Это в какой-то мере зависит от нашего аббата.
— А если я не получу от него отпущения, то от папы? — Чернозуб перевел взгляд на Джарада, отметив, что тот полон гнева, но старается держать себя в руках; губы его еле заметно шевелились в молитве, пока он, тяжело дыша, слушал Коричневого Пони.
— В конечном итоге — да, от папы, но если аббат дает разрешение, то от папы ты получаешь его автоматически, — Коричневый Пони вопросительно посмотрел на Джарада. Тот пожал плечами.
— И столь же автоматически отказывает, если отказал аббат?
— Нет, — сказал Красный Дьякон, — возможно, папа захочет поговорить лично с тобой. В твоем случае я уверен, что захочет.
Джарад повернулся к Чернозубу.
— Вроде я должен тебе исповедь? Хочешь поговорить со мной на эту тему? Когда все кончится, приходи ко мне.
— Благодарю вас, владыка!
Когда Чернозуб отошел в сторону, Коричневый Пони последовал за ним.
— Ты просто хочешь стать мирянином или ищешь предлог для ссоры с аббатом? Если ты окончательно не выведешь его из себя, он даст тебе отпущение. Предоставь событиям идти своим чередом, Нимми. Ты не доставляешь ему радости. И не ухудшай положение дел.
Монах оставил место, где они стояли в уединении. Уверенность покидала его, как вода утекает меж пальцев. Он покинул аббатство. Он нуждался в благословении Джарада или хоть в мельчайшем доказательстве, что тот даровал ему прощение. Он продолжал интересоваться распределением голосов, хотя понимал, что на самом деле Коричневый Пони хотел распространить известие, что он поддерживает Сорели Науйотта. Обман, подумал Нимми. А может, и нет. Северо-западу, наверно, будет лучше, если папство расположится за равнинами. Новый Рим будет меньше вмешиваться в дела Северо-Западной Церкви, чем Валана. Науйотт склоняется к немедленному возвращению, несмотря на враждебность кардинала Бенефеза к независимости северо-запада в вопросах литургии и католического учения. Коричневый Пони сбивает со следа, чтобы гончие собаки вместо политики занялись теологией… если Чернозуб правильно понял намеки своего господина. Но с другой стороны, Сорели Науйотт, может, оказался бы и не так плох на этом высоком посту.
Снаружи непрестанно доносились выкрики: «Выбрать папу! Выбрать папу!». Порой слышалось: «Выбрать Амена! Выбрать Амена!». На площади ходили слухи, что отец Спеклберд оставил свою пещеру, поднялся в горы, и комитет граждан ищет его следы. Чернозуб, вцепившись в свой требник, вознес молитву святому Лейбовицу, но в таком хаосе он не мог сосредоточенно молиться, что, похоже, было под силу только аббату Джараду.
Он испытывал острое чувство голода.
Кардинал Хью Чемберлен и Хилан Блез попытались подбодрить кардиналов совместным исполнением псалма «Veni Creator Spiritus»[73], но за грохотом взламываемой крыши, стуком молотков в двери и окна, плесков помоев, льющихся на пол, и гулом испуганных разговоров сотен выборщиков и их свиты звуков гимна почти не было слышно.
Через два часа, возможно, в ответ на призыв к Святому Духу кто-то через дырку в крыше запустил во дворец живую птицу и прикрыл отверстие, чтобы она не вылетела. Под сводами зала, в ужасе махая крыльями, носился не голубь, а стервятник, который наконец взгромоздился на гигантское распятие, свисавшее на цепях со стропил между нефом и алтарем. Несколько кардиналов запричитали, что это предупреждение Господа, аминь.
Коричневый Пони взобрался на временный алтарь и заорал:
— Тишина! Во имя Господа, помолчите!
Внимание присутствующих могло привлечь единственно осквернение алтаря, и наконец воцарилось молчание.
— То, что вы видите и слышите, в самом деле Божья кара на наши головы! И теперь конгрегация должна пригласить отца Амена для обращения к нам. Он должен быть одним из нас. Мы выслушаем его, и выслушаем немедля. Что скажете?
— Слезай оттуда, Элия! — заорал аббат Джарад.
— Нет — пока вы не проголосуете!
Среди кардиналов пронеслись разрозненные шепотки, раздалось несколько возмущенных выкриков, но после того как дал о себе знать приглушенный рев за стенами, внезапно наступила тишина. Толпа выделила из своей среды несколько информаторов, которые подслушивали у разбитых окон.
— Тихо! Пусть сначала проголосуют те, кто против. Так будет легче подсчитывать. Итак, те, кто не хочет выслушать отца Амена, поднимите руки!
Тыкая пальцем в разные стороны и считая вслух, Коричневый Пони произнес «Семнадцать!» и замолчал.
— Амен Спеклберд будет говорить с нами, — он кивнул и спустился с алтаря.
Из проломанного окна над хорами смотрело чье-то лицо. Это был местный полицейский. Кардинал Хью Чемберлен и Коричневый Пони исчезли за дверями и скоро оказались на хорах, разговаривая с офицером. Он выкрикивал их слова толпе. Дыра на крыше была приоткрыта, чтобы выпустить стервятника, но испуганная птица не обратила на нее внимания и продолжала сидеть на распятии, как раз над буквами INRI. Толпа у дворца восторженно взревела.
Вскоре часть окон была освобождена, но двери остались в прежнем состоянии. Через два часа уборные были прочищены. Через дыру в крыше были спущены корзины ржаного хлеба со шпеком, и возобновилась подача воды. Тем не менее все завопили, когда стервятник внезапно снялся с распятия и слетел на пол, привлеченный зловонием кучи мусора в углу. Трое служек, которым наконец позволили проникнуть во дворец через чердачное окно, выгнали птицу и стали вытирать лужи помоев на полу. Хаос пошел на убыль, порядок восстановился, и единственными звуками во дворце остались иканье, вздохи, стоны и кашель больных, бормотание и перешептывание, которые бродили по большому залу, временно превращенному в святилище. В зале стояли сумерки, потому что день клонился к закату. Слуги начали разжигать свечи, но только несколько кардиналов были на ногах. Ржаной хлеб и немало воды было использовано, но впереди ждала ночь, полная голода, жажды и страха.
Чернозуб подслушал разговор тексаркского конклависта с одной из служанок аббатиссы.
— Всем известно, что кардинал Коричневый Пони бросил перчатку. Этой весной он поехал в аббатство Лейбовица, где нанял себе секретаря и телохранителя. А кто этот его новый телохранитель? Беглый тексаркский преступник, бывший палач Вушин, приговоренный к смерти за государственную измену. И кто его секретарь? Беженец из орды Кузнечиков, ненавидящий Тексарк и презирающий имперскую цивилизацию. Но в аббатстве он получил образование и был дружен с убийцей Корвани. Кардинал, встав, попытался опровергнуть нашего ученого Тона Йордина и в то же время оскорбил кардинала Бенефеза и прочих — словом, объявил войну церкви Тексарка. А теперь он хочет, чтобы засевший в горах отшельник, который почти не знает латыни и которого Новый Рим перепугает до смерти, стал новым епископом Рима. А тот снова исчез. Он постоянно скрывается, и кардинал Коричневый Пони в курсе дела. Впрочем, наша аббатисса может из уважения к Амену Спеклберду проголосовать и за него. Если кардинал Коричневый Пони окажет ему поддержку, он будет воздерживаться от своих глупостей, в чем я уверена.
Тем не менее необходимые двадцать голосов были без большого шума собраны, и Амен Спеклберд, даже не успев выступить перед церковниками, стал кандидатом в папы.
Глава 11
«И поскольку дух молчания столь важен, разрешение говорить редко бывает даровано и лучшим ученикам, пусть даже они хотят вести благостный, поучительный, святой разговор».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 6.У Амена Спеклберда не было сил сопротивляться толпе, которая, как он ни упирался, к середине утра притащила его к папскому дворцу. И наконец, чтобы умиротворить и народ, и конклав, старый чернокожий отшельник согласился обратиться к кардиналам. Для этой цели умирающий кардинал Ри назначил старика своим специальным сотрудником на конклаве, ибо статус Спеклберда как кардинала in pectore, которым его наградил покойный папа, бывший его преследователь, многим казался сомнительным.
Через выбитое окно его провели на балкон, а через дыру в крыше спустили дополнительные корзинки с черствым хлебом и фляги с водой.
В зале присутствовало много писцов. Они были обязаны записывать все выступления на конклаве, которые предполагалось потом или издать, или изъять по желанию оратора, но те немногие, которые в самом деле выслушали его нескончаемую проповедь, потом клялись, что часть писцов просто спала и никто из них не удосужился точно записать всю речь. Но на первых порах выборщики слушали ее с неподдельным любопытством.
Старики в сельской местности рассказывали об Амене Спеклберде странные истории. Кое-кто говорил, что он бесшумно бродит по горам, в лунном свете меряет шагами тропинки и разговаривает с антилопами, духами гор, призывая к ним Христа. Другие видели его летящим в утреннем свете над вершинами деревьев; говорят, что в провале своей пещеры он содержит змей, хранит мумию какого-то старого еврея и там живет девушка-джин, которая умеет делать чудеса. Порой он посещал фермы местных поселенцев и вызывал для них дожди. Его мощь и сила не бросались в глаза. Он наложил заклятье на папу Линуса VII, гласила очередная история, который, будучи епископом Денверским, вынудил его уйти в отставку, и заклятье это заставило папу несколько раз во время его долгой болезни призывать Амена во дворец — то ли для того, чтобы снять заклятье, то ли чтобы справиться с болезнью, причина которой ставила врачей в тупик. (Чернозуб был свидетелем, как он превращался в кошку и обратно, но он первым был готов признать, что, хотя очки помогают видеть на расстоянии, причина, по которой он не носит их, заключается не в бедности, а в опасении, что таким образом он потеряет пронзительную ясность мистических озарений, с которой порой видит людей и предметы.)
Пещеру Амена посещали и еретики, и святые. Дети атеистов часто бросали камни в его двери и выкрикивали оскорбления, но тем не менее не подлежит сомнению, что кардинал Коричневый Пони часто навещал его, и Амен Спеклберд был исповедником многих видных грешников города. Беременные женщины приходили, чтобы он благословил их плод, и за небольшие приношения он мог посоветоваться с горными духами, отвечавшими за погоду даже на западных равнинах; призывая их именами святых, он консультировался с ними относительно лучшего времени для начала пахоты, уборки урожая или случки овец.
Но теперь этот старый чернокожий человек с разлохмаченной конной белоснежных волос говорил с кардиналами конклава, и его манера разговора была точно такой, с какой Чернозуб познакомился, когда каялся перед ним. Старый исповедник, который с предельным тактом выслушивал грешников, был куда менее тактичен, заставляя их ломать головы над парадоксами или мучая правилами грамматики.
Он раскинул свои длинные тощие руки, словно обнимая аудиторию.
— Отцы Церкви, почтенные лорды, перед вами стоит простой человек, у которого нет ровно никаких званий и который среди вас чувствует себя шпионом в стане врага. И проповедь эта адресована главным образом ему.
— Укажи его, отче! — встав, воззвал архиепископ Аппалачский. — Позовите приставов!
— Он истинно здесь, и на него не надо указывать, — сказал Спеклберд, взмахом руки останавливая торопыг. — Садитесь, пожалуйста. Он среди нас с самого начала и всегда здесь будет. Ведь он шпионит для Иисуса. На конклаве, во вражеском лагере.
Раздался приглушенный ропот относительно Святого Духа и апостольской преемственности, но быстро стих.
— Сидящий шпионом среди нас простак — это совесть. Совесть, у которой нет званий и постов. Она не делится на совесть кардинала и совесть нищего. Ею обладает и нагой мужчина, и нагая женщина.
Аббатисса Н’Орка вспыхнула, но Спеклберд не смотрел на нее.
— И в нем, и в ней — Отец дает рождение своему Сыну. Вот об этом голом простаке я и говорю, какое бы положение он ни занимал. Конторы спорят друг с другом. Звания ссорятся со званиями. Местные спорят с другими местными. Нужен ли простаку один-единственный папа, всеобщий папа? Освободите его от всех званий, от его конторы, от места происхождения и просите, чтобы Бог осенил вас, — выберите простого и чистого человека.
После этого толкового и умного начала он пустился во все тяжкие. Сначала завел речь главным образом о возвращении папства в Новый Рим, ибо это было основной темой, пусть и не близкой его сердцу. И к полному удивлению его сторонников из Валаны и толпы на улице, он с самого начала ясно дал понять, что безоговорочно поддерживает восстановление папства в Новом Риме, на его древнем престоле. Даже его друг Коричневый Пони был искренне удивлен этим откровением.
Пусть даже кардиналов из Денверской Республики вполне устраивало постоянство изгнания, но и они были неподдельно потрясены. Они избегали называть изгнание Изгнанием и внесли предложение переименовать Валану в Рим. Мотивы их предложения были весомо обоснованы, однако они согласились с голосом улицы, что конец изгнания станет концом Валаны. Но фракция Валаны на конклаве составляла лишь незначительное меньшинство. Все без исключения хотели, чтобы папство вернулось в Новый Рим. Резкое разделение мнений касалось лишь обстоятельств возвращения; оно требовало полной демилитаризации окружающего района империи.
Конклав зашел в тупик.
По большому счету дальний Восток и Запад выступали против срединной части. В нее входил Тексарк и его вассальные государства вдоль Грейт-Ривер. Среди выборщиков были и одиночки, для которых валанское изгнание не играло большой роли. Примером тому была кардинал Эммери Булдирк. Обитавшая в дальнем северо-восточном углу, на двух предыдущих конклавах она голосовала вместе с Западом, но теперь явно склонялась к Бенефезу в надежде, что он, может быть, смягчит свою позицию относительно рукоположения женщин в духовный сан. Тем не менее отсутствие Бенефеза мешало его конклавистам определиться со своей позицией, так что голос женщины не имел значения. Кардинал Коричневый Пони пустил в ход все свое обаяние, чтобы переубедить ее, а она тем же способом старалась перетащить его на сторону женщин.
Чернозуб набрасывал заметки лишь время от времени, но старик и не думал останавливаться. Перевирая, он цитировал Священное Писание, задыхался, теряя запал, снова прибегал к авторитету Библии. Он извинялся за свою немощь. Он вспоминал свое детство на северо-западе. Рассказывал, как идет работа на гумне. Упоминал мудрость бездумного Бога. Одно его высказывание было аккуратно записано и позже использовалось против него: «Все эти разговоры о Церкви, о государстве и о причинах раскола напоминают мне одну историю. Когда священники спросили Иисуса, должны ли они платить подать тогдашнему Ханнегану, Иисус взял у них монету и спросил, кто на ней изображен. “Ханнеган”, — сказали они. “Отдайте Ханнегану то, что принадлежит ему, а Богу — Богово”. Затем он положил монету к себе в карман и улыбнулся. Когда священник попросил монету обратно, Иисус спросил: “А кому, по-вашему, принадлежит Ханнеган?” Поскольку ответа не последовало, он напомнил им: “Вся твердь земная со всем, что на ней есть, Отца моего, и весь мир, и все, что на нем обитает”. Конечно, можно сказать и по-другому: даже у лис есть свои норы, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Так что он отдал священнику монету и провел эту ночь под одним из мостов Ханнегана, вместе с Петром и Иудой. А священник вернулся домой, уплатил налоги и избежал обвинения».
Потом Спеклберд пустился в пространные рассуждения на тему Нового Рима и Валаны.
— Почему, можете вы спросить, Иуде, Петру и Иисусу пришлось спать под мостом, — издалека подошел он к ней. — Понимаете, у Иуды была веская причина: кто-то украл его лошадь, и он слишком устал, чтобы добираться до гостиницы. Не менее веская причина была и у Петра: у него не было денег, чтобы уплатить за постой. У Иисуса не было никакой причины оставаться под мостом, ровно никакой. Иисус был свободен в выборе места для ночлега. Вот это и есть свобода. Вот это и есть причина. Вот это и есть предмет для размышлений.
Очередное искажение Священного Писания, которое в будущем могло быть использовано против него, звучало следующим образом:
— Что пользы человеку в том, если, приобретая даже весь мир, он теряет свою душу? Я уже говорил о мире и о том, кому он принадлежит, но кто-то может спросить: а что представляет собой его душа, которую он может потерять? Душа, существует ли она или нет, — это место обитания страданий. Когда Иисус появился на свет, он посмотрел на него и сказал матери: «С начала и до конца я есмь единственный, обреченный на страдания». Поведал мне это кардинал Ри, конклавистом которого я являюсь. И вот вам первый факт религии: «Я есмь» означает «Я страдаю». Почему я должен страдать? Неужто это Бог мстит своему сыну? Нет, страдаю я оттого, что сам я, душа моя продолжают цепляться за этот мир в надежде овладеть им, но у мира острые зубы. И шипы. Вот и второй факт религии. Мир, кроме того, скользкий и увертливый. Стоит мне подумать, что наконец-то я ухватил его, он вгоняет в меня шип и выскальзывает из рук, или часть его умирает во мне, оставляя по себе чувство скорби и потери — все это следствие греховного вожделения. Но есть способ прекратить цепляться за этот ускользающий мир, способ положить конец страданиям и чрезмерным желаниям. Это уже третий факт религии. Почтенные отцы, его можно назвать «Крестным путем». Он ведет на Голгофу. А того среди вас, кто предназначен стать папой, — в Новый Рим, — возвращение к теме было грубым и резким: — Это элементарно. Четвертый простейший факт религии может быть назван «Остановки на Крестном пути», — Спеклберд показал на настенные росписи. — Это, достопочтенные владыки, и есть то, что я говорю о Новом Риме: там кончается Крестный путь. Последняя остановка. Папа должен вернуться в Новый Рим, который станет для него Голгофой и где его распнут. Ханнегану достанется монета его подати, принадлежащая Богу, если вы правильно поняли иронию Господа, а Петру — его распятие. Когда в последнем столетии Бенедикт покидал Новый Рим, перед ним возник Иисус и спросил: «Quo vadis?»[74], но Бенедикт по ошибке принял его за Кочевника и, не оборачиваясь, бросил: «В Валану». Это я слышал от одного из вас.
Он улыбнулся участникам конклава из Тексарка, выражение лиц которых во время речи менялось от начальной враждебности до изумления, от возмущения до сдержанного одобрения, ибо, хотя предпосылки, от которых оратор пришел к своим выводам, отнюдь не льстили их монарху, а его теология была просто возмутительной, выводы он сделал такие же, как и они. Без всякого давления со стороны имперских владык Тексарка, без всяких уступок папство должно вернуться домой.
Как правило, молчаливый и сдержанный, этот непонятный человек говорил весь день, а когда к вечеру зажгли лампады, продолжал говорить при их свете. Один раз, когда Чернозуб впал в забытье, приходя в себя, он увидел, как кугуар в драной рясе снова обрел облик старика с темно-коричневой кожей и копной белых волос.
Амен Спеклберд произнес речь, которая, по мнению ее самых суровых критиков, стала знаменитой в истории Церкви. Так же, как точные, а также искаженные цитаты, зафиксированные писцами.
Амен об Изгнании и о его последствиях:
— Плодом дерева, достопочтенные господа, стала склонность к размышлениям. И из него проистекли понятия добра и зла. Дьявол — это задумчивое животное с раздвоенными копытами. Змееобразный Сатана пожирает души, он дал женщине искусство размышления, которому она научила мужчину. Что бы вы ни делали, не погружайтесь в раздумья. Помазанный никогда не размышляет. От могилы он прямиком направляется в ад — но случается, возносится на небо, если достоин его. Но уж если вам доведется размышлять и этот грех постигнет вас из-за блуда, ярости или алчности, никогда не стыдитесь своей вины. Стыд — это не что иное, как гордость, а гордость — этот тот же стыд. Ваша гордость — это ваш стыд, а ваш стыд — та же гордость. Просто они смотрят в разные стороны, стыд и гордость, ибо когда они глядят друг другу в глаза, стыд и гордость, оба они умирают. Умирают под смех человека, который по глупости хранил их в сердце, хранил отъединенными друг от друга. Когда он поймет, что стыд — это гордость, а гордость суть стыд, он освободится от них, освободится навсегда и от одного греха, и от другого. Тем не менее вина не относится к понятию чувства.
Когда вы понимаете, что согрешили, и раскаиваетесь в грехе, не испытывайте желания стать безгрешным. Вместо этого желайте, чтобы Бог в своей неизреченной мудрости обратил ваш грех в добродетель, ибо грех ваш есмь часть Его, о чем гласит история творения мира. И старание отвергнуть грех есть сопротивление Его воле.
Амен об истине:
— Истина, почтенные лорды, — это размытое и непонятное, еле различимое слово в Его мире.
Амен, повторяясь, упомянул о месте человека в Божьем мире:
— Неужто вы не знаете, что Иисус Христос одинок во вселенной и не имеет друзей? Неужели вы не знаете, что земля во всей своей полноте принадлежит Творцу? И что же это значит, почтенные лорды, кроме того, что и у лисы есть своя нора, а Сыну Человеческому негде преклонить голову? И ему часто приходится спать под мостами. Что есть Бог, которого вы пытаетесь мысленно представить себе, и что есть Сын Божий, перед которым вы предстаете? Он, кто столь близок к Богу, несет в себе опасность. От него исходит такое озарение, что за ним может последовать слепота. Это сияние слишком ярко для ваших глаз, и вы никогда больше не увидите Бога.
Амен, полный возбуждения, — о мужчинах, женщинах и о Троице:
— Бог живет в каждом из своих сыновей или дочерей, — он кивнул в сторону аббатиссы-кардинала. — Вы знаете, что трон его жарче, чем адское пламя. Даже дьявол не мог бы усидеть на нем. Но вы можете. И я могу. Ибо мы покоимся на Его коленях и знаем, что такое Божественность — изнутри. Бог — это само солнце и даже больше оного, и я сам больше самого себя. И Иисус — это я. И Святой Дух — это я. И Дева, о Господи, — это тоже я. Как затруднительно говорить о Боге в третьем лице!
В продолжение своих слов он широко раскинул руки, как бы в объятии, и Чернозуб опознал в этом жесте один из догматов старой северо-западной ереси, но большая часть аудитории была в таком сонном состоянии, что была не в силах определить его.
— А откуда взялись Троица и Дева? Невыразимая Божественная сущность зевнула — и они возникли. Дева — это утробное молчание, в которой прозвучало Слово, произнесенное Отцом через порожденное им Святое Дыхание, и в начале возникла плоть из ее плоти. До творения Бог не был Богом. Тем не менее утверждения эти ложны, почтенные господа. Упоминания эти — ложь. Божественность? Называть ее или даже представлять себе — это значит полностью не понимать то, что в ней заключено. И тем не менее мы стремимся к единению с этой конечной Божественной сущностью. В этом единении душа предстает стеклом или каплей воды, сливающейся с огромным океаном. Ее индивидуальность растворяется, подобно стакану воды, в индивидуальности океана. Но ничего не исчезает. И не возникает. Все возвращается к себе.
И опасение страха смерти суть грех, — словно по размышлении добавил он.
Брат Чернозуб давно понял, что аудитория была сразу же захвачена его благочестивым возбуждением, и перестал вслушиваться в слова. Этот человек был для него неповторим. Он мог быть самим собой перед толпой, которая подчинялась силе его духа. Но после нескольких часов его вещания кардиналы стали поворачиваться друг к другу и даже вставать и бесшумно выскальзывать из тронного зала, чтобы пошептаться.
И уже наступало следующее утро, когда Спеклберд наконец благословил своих невнимательных слушателей и сел. Он говорил всю ночь. Это было первое из последовавших чудес папы. Он говорил семнадцать часов, не взяв в руки стакана воды и не охрипнув. Он говорил с ними, перебарывая усталость. Только его друг кардинал Коричневый Пони смог произнести «Аминь!», когда лучи утреннего солнца пробились сквозь окна с восточной стороны, — но только потому, что мало кто дослушал до конца, а среди них была лишь горсточка внимательных слушателей. Многие спали. Другие читали требник, обсуждали политически важные проблемы, бродя из зала в зал; сидящие епископы с невинным, как у девушки по утрам, видом перешептывались и пересмеивались с соседями. Когда в завершение речи Коричневый Пони сказал «Аминь», Спеклберд снова поднялся и переспросил: «Да?» — и тут стали подниматься внимательные слушатели, с таким глубоким чувством говоря «Аминь!», что и остальные поддались ему, и в зале раздался хор виноватых и смущенных голосов.
Вот как все это на самом деле выглядело. Речь еще не стала знаменитой. Как и у многих великих ораторов в человеческой истории, выступление Спеклберда скорее смутило конклав, который, несмотря на столь странную проповедь, в конечном итоге, отчаявшись, выбрал его. И лишь значительно позже его слова обрели вторую жизнь, когда люди, задумчиво перечитывая отдельные записанные куски и обрывочные заметки, то поносили его за гнусную ересь, то воспринимали их как результат Божественного вдохновения, новые откровения. Но для Коричневого Пони и всех, кто хорошо знал отшельника, словоизвержение Амена Спеклберда было подобно щебетанию птиц, которые на любом языке произносят предельно простые слова типа «Боб Уайт» или «Пасха». И каждый слушатель вкладывает в них свой смысл.
Они избрали старика этим же утром, еще до того, как толпа снова принялась швырять камни в двери дворца. Кардинал Ри лежал покойником на своем ложе. Отто э’Нотто спятил и шатался, подобно лунатику. Из всех коридоров и закоулков дворца несло рвотой и испражнениями. Более двадцати пяти кардиналов свалились, сраженные болезнями. К полудню они единогласно избрали Амена.
К удивлению многих, в том числе и Чернозуба, старик сразу же произнес «Accepto»[75] и, выбирая титулование папы, к неудовольствию многих назвал себя своим собственным именем. Папа Амен. Он нарушил едва ли не самую древнюю традицию.
Конечно, избранию предшествовали кое-какие слабые протесты.
— Он сказал, что помазанники прямиком шествуют в ад! — жаловался аббату кардинал с юго-востока.
— Из могилы они снисходят в ад, — уточнил Джарад. — И если на третий день восстают из мертвых, то возносятся на небо. Вполне ортодоксальная точка зрения.
— Чтобы с ним это случилось! И слова Бога он называл отвратительными.
— Оговорка, — объяснил Коричневый Пони. — Он имел в виду — восхитительные.
— «Неясные и отвратительные» — вот что он сказал. Атрибуты зла. А змея — самое невинное животное. Именование Бога — Сатана?
— Бросьте, бросьте! — сказал аббат. — Думаю, вы не расслышали его. Versum subtile atque infandum[76]. Это означает, что слова хорошо подобраны, но в них трудно разобраться. Даже изящны, но непроизносимы. Истина столь неуловима, что ее трудно выразить словами. Это молчание Христа. И когда мы говорим об этом, то возводим руки к небу.
В конечном итоге конклав пришел к единодушному решению. Если и есть человек, который может вернуться в Новый Рим главой Церкви, взять на себя роль первосвященника Петра, ничего не боясь и не идя ни на какие компромиссы, этим человеком в самом деле может быть только Амен (кардинал in pectore папы Линуса VII, во что многие уже были склонны верить) Спеклберд. Но в том, как конклав наконец избрал его, сказывались и компромиссы, и страх; даже конклависты кардинала Бенефеза получили право голосовать, что было противозаконно, так как в силу своего отсутствия он не смог лично дать им указания. И к последовавшему огорчению они голосовали за худого отшельника с возбужденным взглядом.
— Gaudium magnum do vobis. Habemus Papam. Sancte Spiritu violente, Amen Cardinal Specllebird.[77]
Рев толпы покрыл окончание завершающей фразы, и конклав продолжил свою работу. Теперь кардиналы, представая перед новым папой, целовали его туфлю, а он обнимал их уже как наследник ключей святого Петра, как наследник — если Коричневый Пони в роли юриста оказался прав — обоих мечей святого Петра, что означало и духовную, и земную власть, причем последняя подчинялась первой. Коричневый Пони, выступая как юрист, знающий об истории канонических законов и установлений папства больше, чем кто-либо иной за пределами аббатства Лейбовица, к разочарования прислужников отсутствовавшего архиепископа Тексаркского во время конклава небрежно поведал его участникам о древней «теории двух мечей». Он процитировал слова из древней буллы: «Итак, всякий, претендующий на спасение, должен быть вассалом римского понтифика». По словам Коричневого Пони, этот декрет никогда не был особенно известен — он предназначался главным образом для монархов, обыкновенных и из Кочевников, а также Ханнеганов и Цезарей, но он требовал проверки несгибаемости в вопросах веры и подкреплялся угрозой такого наказания, как потеря надежды на спасение. И если еще недавно выборщики, близкие Тексарку, боялись увидеть Коричневого Пони в роли папы, то теперь их опасения уступили место страху перед ним, как перед серым кардиналом. Всем было хорошо известно, что кардинал был покровителем отшельника, поддерживал с ним дружбу и пытался восстановить его репутацию в глазах папы Линуса VII. Казалось, что это были совершенно безобидные отношения между богатым и благородным церковником и скромным святым отшельником. С циничной точки зрения, если кто-то из них оступался, то всегда мог рассчитывать на поддержку другого. Но Коричневый Пони и Спеклберд, хотя и придерживались диаметрально противоположных воззрений, по всей видимости, были искренне привязаны друг к другу. И теперь их дружба стала предметом всеобщего беспокойства.
На первых порах на улицах воцарилось ликование, но затем люди разъярились, узнав, что их кумир изменил свою первоначальную позицию, которая гласила, что истинный Рим будет там, где решил обитать папа. Очередным потрясением для города стало решение об отлучении его, которое папа Амен наложил на город, пока подстрекатели насильственных действий против конклава не предстанут перед ним. Три дня город кипел негодованием. Из-за отлучения были запрещены мессы, нельзя было приносить исповеди, и лишь умирающим дозволялось получить последнее отпущение. Город был возмущен. Все знали, что за решением об отлучении стоит кардинал Коричневый Пони. Но на четвертый день насильники со связанными руками предстали перед папой. Он приказал снять с них путы, выслушал покаянные признания и даровал им отпущение грехов — на том условии, что они под присмотром кардинала, надзирающего за тюрьмами, исправят все повреждения, нанесенные зданию, а также по решению судьи-арбитра возместят ущерб, причиненный другим людям. Успокоив таким образом город, новоизбранный папа вновь созвал конклав и оповестил о своем окончательном избрании при отсутствии у дворца возмущенных толп. Это тоже приписывалось влиянию Коричневого Пони. Выступать могли только против желания папы поскорее покинуть Валану; но таких голосов не было, и лишь двое воздержались.
Спеклберд в самом деле как-то обмолвился, что Рим — там, где обитает папа, но его слова, что папа считается папой, где бы он ни жил, не имели ничего общего с убеждением, что он должен жить в Валане. Спеклберд никогда не говорил, что, став епископом Нового Рима, именно так он и поступит, поскольку стал папой лишь в силу своих личных достоинств. Священнослужители, сообщавшие и распространявшие сведения из папского окружения, которые прибивались к дверям и стенам всех церквей в Валане и в округе, убеждали, что нет оснований бояться возвращения Амена Спеклберда в Новый Рим, ибо здесь его дом и, пока он остается властителем душ, весь остаток жизни он при каждом удобном случае будет возвращаться в Валану и постоянно утверждать здесь те церковные институции, которые сейчас находятся в Новом Риме — например, орден святого Игнация, — чтобы освободить их из-под имперского влияния. Тем не менее раздосадованные бюргеры, по всей видимости, собирались противостоять отъезду папы Амена из Валаны, пока тут не появится кардинал Урион Бенефез и не засвидетельствует свое почтение его святейшеству.
К тому времени все присутствующие выборщики, кардиналы Священной Коллегии, уже успели припасть поцелуем к кольцу на руке папы и были удостоены объятия его святейшества папы Амена. Лишь небольшая горсточка отказалась от коленопреклонения, утверждая, что выборы состоялись под давлением и посему считаются недействительными. Ни для кого не было секретом, что в эту группу входили неприкрытые сторонники Тексарка, и поэтому их отношение не было неожиданностью.
К полудню дня выборов карета достопочтенного лорда кардинала Уриона Бенефеза, архиепископа Тексарка, сопровождаемая кавалерийским эскортом, въехала в пределы притихшего города. Чернозуб уловил отблеск ярости на полном лице архиепископа, когда тот узнал об исходе избрания папы и услышал град оскорблений, которые Бенефез обрушил на головы своих конклавистов за их голосование, но мысли об этой ярости и о ее возможных последствиях тут же вылетели у него из головы. Ибо на площади у дворца стояла босоногая девушка в коричневом монашеском одеянии. Это была Эдрия, которая с откровенным изумлением смотрела на него.
Он было сделал шаг к ней, но тут же в памяти всплыл голос Коричневого Пони: «Не стремись так настойчиво снова увидеться с ней. Если ты когда-нибудь встретишь ее в Валане, избегай ее». Он остановился. Но Эдрия и сама повернулась и исчезла в толпе.
Глава 12
«Безделье — враг души. Посему часть времени братия должна быть занята ручным трудом, а отведенные часы посвящать чтению священных текстов».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 48.Как только Элия Коричневый Пони узнал, что его старый друг-недоброжелатель Урион Бенефез прибыл в город, он сразу же стал искать возможности уклониться от личного участия в церемонии встречи Бенефеза с папой. Найдя подходящий момент, он настоял, чтобы Чернозуб сопутствовал ему при визите к архиепископу имперской столицы, но монах не мог догадаться, для какой цели он там нужен. Когда они направлялись по адресу, который Бенефез выбрал для своей резиденции, Чернозуб признался, что видел Эдрию. Голос его дрожал, а кардинал перестал улыбаться и пристально посмотрел на него.
— Я же велел тебе избегать ее!
— Я не нарушил ваше повеление, милорд… — но живущий в нем демон что-то тихо добавил.
На лицо Коричневого Пони вернулась легкая улыбка.
— Знаю. Это она уклонилась от встречи с тобой. Я говорил с ней.
— Где?
— В офисе, когда тебя не было. Я попросил охрану доставить ее ко мне в следующий раз, когда она привезет серебро из колонии. Помнишь, когда мы были в Пустой Аркаде, я рассказывал тебе о группе джинов, обосновавшихся в Мятных горах? Они называют это место Новым Иерусалимом. И там есть старые серебряные копи, которые они продолжают разрабатывать. Она бывает в городе примерно раз в месяц, чтобы обменять серебро на деньги. Контактирует она только с тайным крылом заговорщиков, которые держат меня в курсе дела. Вот почему она не знала меня раньше, хотя я и был очень удивлен. Мы храним их тайны. Кроме всего прочего, они боятся за свои серебряные копи. Ты видел папский флаг над домом Шарда.
Я расскажу тебе, Нимми, как наш визит выглядел с их точки зрения. Они живут на самом краю земель, где нет никаких законов. Выяснилось, что последняя группа церковников, которая останавливалась в Пустой Аркаде, состояла из агентов Тексарка, и они очень подозрительно отнеслись к семье Шарда. Один из них проскользнул мимо их дома, поднялся по скальной расщелине и слишком много увидел, так что стражники бесшумно убили его и спрятали тело. Когда двое остальных выяснили, что он пропал, то решили отправиться на его поиски. Шард сказал, что есть опасность нападения медведя. Стражникам пришлось бы убить их обоих. Поэтому Эдрия отправилась на розыски и вернулась с куском оторванной руки, на которой были следы клыков и когтей. Так что они прочли над ней молитву, захоронили и вернулись на юг тем же путем, каким и появились. Но до отъезда они дали Шарду знать, что работают на Тексарк и что всем джинам предстоит вернуться к народу Уотчитаха. И сразу же после отъезда этих липовых тексаркских священников к дому Шарда являются кардинал без епископского кольца на руке, монах, который играет на г’таре, Кочевник в каком-то странном шлеме и палач, который, признается, что служил у Ханнегана. Более того, если кардинал в самом деле тот, за кого он себя выдает, он должен был бы знать о предыдущих гостях, но он не в курсе дела.
— Они скрывают лишь серебряные копи?
— Не совсем. Девяносто процентов джинов в Новом Иерусалиме — «привидения», вполне способные сойти за нормального человека. Как Эдрия. Они начали уходить в эти горы несколько поколений назад. Для встречи они выдвигают уродов и называют их козлами отпущения. Теперь что касается Эдрии… — замолчав, Коричневый Пони бросил взгляд на монаха. — Она просила передать свое сожаление.
— О чем?
— Ну, наверное, из-за того, что скрылась от тебя на площади. Предполагаю, и из-за того, что у себя дома поддразнивала тебя. Что ты к ней испытываешь?
Нимми попытался найти какие-то слова, но ничего не получилось.
— Ясно. Секретариат не имеет права поддерживать зримые контакты с кем-либо из Нового Иерусалима. Это тебе понятно?
— Нет, милорд.
— Они преследуют довольно спорные цели. Так же, как и кое-кто из нас. Они беженцы, и над ними висит обвинение в убийстве тексаркских стражников, когда они убегали от народа Уотчитаха. Они боятся рейда имперских сил из провинции. Держись подальше и от этой темы, и от нее. Она несет с собой беду.
«Мне ли этого не знать!» — скорбно подумал Чернозуб.
— Больше мы не будем принимать ее как их агента, — резко добавил кардинал. — Этому необходимо положить конец.
Кареты из Тексарка все еще стояли, загруженные багажом, и все приехавшие, военные и гражданские, толпились вокруг, словно ожидая приказов. Старший вежливо преградил кардиналу путь и осведомился о его имени и цели появления.
— Просто передайте ему, что здесь Красный Дьякон.
— Могу ли я осведомиться о намерениях…
— Скажите, что я явился выяснить, почему он пытался натравить убийц на меня и на моего секретаря.
Помотав головой, начальник стражи скрылся за дверью, неся с собой послание. Через полминуты в дверях появился недавний оратор Урик Тон Йордин, белый как снег, с ужасом посмотрел на гостей и исчез в доме. Кардинал глянул на Чернозуба и улыбнулся. Нимми наконец понял, с какой целью он здесь.
Коричневого Пони пригласили войти. Чернозуб присел у приоткрытых дверей. Архиепископ Тексарка даже не успел сменить дорожную одежду. Дядя Ханнегана разъяренно мерил шагами помещение.
— Элия, как ты смеешь, пусть даже в шутку, обвинять меня перед слугами и гостями? — заорал он.
— Меня не предупредили, что у тебя посетитель, — услышал монах, как соврал его хозяин. — Похоже, что этот дурак перепугался. Приношу свои извинения, Урион.
— Ну да, Йордин дурак. Когда он сообщил нам об убийце Корвина, то связал все происшедшее с тобой и с одним из твоих людей. Мне очень прискорбно, что кто-то пытался убить тебя, Элия, но я отвергаю твои инсинуации. Как ты, без сомнения, отвергаешь намеки Йордина.
— Я еще раз прошу прощения, ваша светлость. Мне приходит в голову мысль: а не стоит ли за этим сам Йордин? Но пусть эти раны затянутся. А теперь, Урион, готов ли ты сам залечить раны, нанесенные Церкви, тем, что отдашь дань уважения его святейшеству? Я знаю, что ты должен чувствовать, и, когда выборы носили такой странный характер, твои чувства были оправданны. Но прояви благородство! Новый папа хочет без всяких условий и требований вернуться домой, в Новый Рим, где он так нужен империи. Ты получил то, чего хотел, — при этих словах у Коричневого Пони так отчетливо перехватило дыхание, что Чернозубу показалось, будто сейчас он услышит продолжение фразы: «кроме тиары». Но его не последовало. — И он не выдвигает требования об отводе тексаркских войск, Урион.
Последовало долгое молчание.
— Я должен посоветоваться со многими кардиналами, Элия. Благодарю за совет, — сказал наконец толстяк. — Мне не понравилось то, что я слышал, но давай не будем враждовать.
— Что именно ты слышал?
— Что ты взбудоражил город и что твои люди организовывали бунты. Или же их провоцировал… м-м-м, сам отшельник.
— Тебе солгали. Люди чуть ли не силком притащили этого отшельника на конклав. Поговори с Джарадом, поговори с Блезом. А затем побеседуй с его святейшеством, этим отшельником, — ради любви к Церкви. Любви, которую мы оба разделяем.
— О да, Элия, я знаю, что ты любишь Церковь. И думаю, что же еще ты можешь любить. Посмотрим, посмотрим…
Выходя, Коричневый Пони застал Чернозуба в прихожей, окруженным тремя раздраженными выборщиками, которые прибыли в Валану как союзники Тексарка. Тем не менее один из них уже преклонил колена у ног папы Амена и был обнят его святейшеством. Коричневый Пони обменялся с ними несколькими репликами о погоде и торопливо вышел.
— Почему вы хотели, чтобы я вас сопровождал, милорд? — с невинным видом спросил Чернозуб.
— Конечно же, потому, что я знал о присутствии Йордина здесь. Я хотел, чтобы он перепугался, решив, что мы пришли обвинять его. Откровенно говоря, я хотел, чтобы у него были неприятности с архиепископом.
— Вы думаете, именно он нанял тех людей?
— Если и нет, он знает, кто нанял, и понимает, что это было ошибкой. Думаю, сейчас мы в безопасности. Просто убедились, насколько они могут быть опасны. А теперь, после самого худшего конклава, который только мне доводилось видеть, мы нуждаемся в отдыхе. На два или три дня.
Когда Чернозуб покидал Секретариат, охранник у входа протянул ему два письма. Одно оказалось запиской от Эдрии. Он бросил взгляд на стражника, глядевшего на него с таким выражением, что оно вынудило Чернозуба спросить:
— Это письмо было вручено тебе лично?
— Его передала молодая сестра в коричневом облачении, брат Сент-Джордж. Может, это огорчит ваше преподобие, но я не спросил ее имени, потому что сама она промолчала, а я не хотел мешать…
— Чему мешать?
— Ее молчанию.
Нимми удивленно посмотрел на него. Стражник был массивным человеком солидных лет и смахивал на отставного солдата. Его звали Элкин.
— Ты был в монастыре, не так ли?
— В юности я провел три года в вашем аббатстве, брат, в то же самое время, что и кардинал. Конечно, в то время он не был ни кардиналом, ни даже дьяконом. А я еще не был солдатом. Но мы покинули аббатство в одно и то же время. Он оказался здесь, чтобы учиться, а я, чтобы… — он пожал плечами.
— Найти свое призвание или нет, — закончил за него Нимми и решил обдумать эту интересную информацию попозже. — Относительно той молчаливой сестры. Она тут часто бывает?
Выражение лица стражника ясно сказало, что да, часто, но, спохватившись, он ответил:
— О таких вещах вы должны спрашивать у его преосвященства, брат Сент-Джордж.
— Конечно. Благодарю тебя, — он повернулся, собираясь уходить.
Другое письмо содержало записку от аббата Джарада, в которой он просил прощения, что не мог встретиться с ним, как обещал. «Я написал его святейшеству о тебе, сын мой, и можешь быть уверен, что я буду писать лишь то, что может пойти на пользу твоим благим намерениям».
Ясно. Что бы это ни означало.
В записке от Эдрии говорилось: «Я спрячу твою г’тару в щели скального выступа под водопадом на холме, рядом со старым жилищем папы». Чернозуб сразу же направился в ту сторону. Он не мог понять, почему она не оставила г’тару у стражника вместе с запиской.
До водопада надо было идти вверх не менее пяти миль, и у него закружилась голова. Добравшись до места, он увидел, что из затона под водопадом пьет белая лошадь, и на мгновение оцепенел, но затем увидел, что это скорее мерин, а не кобыла, и что на нем уздечка, но нет седла; увидев его, лошадь фыркнула и рысью скрылась из вида за поворотом тропы. Водопад был немногим обильнее обыкновенного душа; струйки его подрагивали на ветру, от чего временами в них вспыхивала радуга. Чернозуб обошел пруд, опасаясь и в то же время надеясь встретить Эдрию за водопадом. Г’тара была на месте, как и обещалось. Она слегка отсырела от влажного тумана, висящего над водопадом, что заставило его раздраженно буркнуть и протереть ее полой рясы. Зачем она заставила его проделать столь длинный путь?
Снова огибая пруд, он смотрел на отпечатки копыт на песке. И затем остановился. Следы копыт частично перекрывали отпечатки ступней, который были меньше, чем у него. Несколько мгновений он старался перебороть себя, но затем пошел по тропе. Следы привели в лесистую лощинку, а затем к уступу песчаного берега, что нависал над вздувшимся ручьем. Чтобы продвигаться, Чернозубу пришлось низко нагнуться, а потом ползти. Здесь он и нашел ее. Он слышал об этом месте, но никогда его не видел. Говорят, что эта маленькая пещерка под уступом берега была домом Амена Спеклберда, пока Коричневый Пони не купил ему переоборудованную пещеру ближе к городу.
Лучи солнца пробивались сквозь листву, отбрасывая легкие тени на камни и на нагие бедра Эдрии, которая, сбросив рясу, осталась лишь в кожаной юбочке; выше талии на ней был лифчик. Почти голая, она сидела на голом песке. Чернозуб полз по тропе на четвереньках и, наткнувшись на ее голые ноги, не мог отвести от них глаз. Увидев его, она засмеялась и отбросила револьвер, который держала на коленях.
— Можешь полюбоваться и остальными моими прелестями, — она подняла юбочку и, разведя ноги, позволила солнечному лучу упасть ей в промежность, после чего быстро снова свела бедра. Он и раньше, в амбаре, смутно видел это зрелище. Отверстие в зашитой вагине было крохотным, как дырочка от гвоздя, но клитор у нее достигал величины большого пальца Чернозуба. Может, потому, что он испытывал к ней любовь, вид ее промежности не оттолкнул его, а скорее смутил, и она увидела, что ее тело вызвало у него не неприязнь, а печаль и любопытство, смешанные со смущением. Она лукаво улыбнулась и погладила его по руке.
Чернозуб сел на мягкий песок рядом с ней.
— Почему ты дразнишь меня? — задумчиво спросил он.
— Сейчас или тогда, дома?
— И сейчас, и тогда.
— Прости. Как-то у нас очутился беглый монах из вашего ордена. Я ему совершенно не нравилась. Он был влюблен в другого монаха. И я подумала, что ты такой же, как он. И что в тебе есть провал.
— Провал?
— Между тем, что ты есть, и тем, каким ты стараешься предстать. Не забывай, я джин. И я вижу такие провалы. Кое-кто называет меня ведьмой, даже отец, когда злится.
— И что же ты увидела в этом провале?
— Я знала, что ты не беглец, как тот, другой, но что-то в тебе было не то. Что-то ненастоящее. Я даже подумала, не пленник ли ты кардинала.
Нимми подавил смешок.
— Что-то вроде. Я был в немилости.
— Ты и сейчас в немилости?
— Стоит кардиналу узнать, что я с тобой виделся, меня тут же постигнет эта участь.
— Знаю. Он приказал мне держаться подальше от города. Поэтому я и не осталась рядом с водопадом, чтобы ты мог вернуться тем же путем.
— Ты проложила для меня след.
— Ты мог и не идти по нему.
— А я вот пошел, — Нимми осуждающе посмотрел на нее.
— Иди сюда. Нас тут не будет видно, — Эдрия перевернулась на живот и, прихватив с собой револьвер, подползла ко входу в пещерку. Нимми последовал за ней. Под потолком, прямо над головой тянулась полка, не позволявшая выпрямиться во весь рост, и в слабом свете, идущем от входа, он увидел тюфяк на полу, седло, низкий столик со свечкой и несколько деревянных ящиков.
— Да ты же живешь здесь!
— Только последние три дня. Твой хозяин приказал сестрам выставить меня. Это мое последнее путешествие в Валану. В Секретариате меня больше не будут принимать. Нашим людям придется обращаться к кому-то еще. Домой я вернусь одна. Там снаружи пасется моя лошадь, которую ты видел.
— Но почему? Его светлость сказал мне, что вы продаете серебро за бумажные деньги, но…
— Бумажные деньги? — засмеялась она. — Да, это правда. Не вся правда, но тем не менее… Он не хотел, чтобы я и дальше занималась этим — из-за нас с тобой и из-за Джасиса. Джасис был одним из нас. И теперь ваш кардинал считает, что мы внедрили к вам шпиона. Может, он и прав, но я этим не занималась.
— Где ты раздобыла револьвер?
— Стащила из одного ящика нашего груза.
— Груза?
— Конечно. Который Секретариат отправляет в Новый Иерусалим.
Нимми не верил своим ушам.
— Мы снабжаем вас оружием?
— Не снабжаете. Продаете часть его, поскольку мы собираем для Секретариата его собственный арсенал. А ты что, не знал? Нас куда больше, чем ты думаешь, мы почти народ. В горах легко обороняться.
— Сомневаюсь, что мне стоило приходить сюда, — встревоженно сказал Нимми и подался к выходу. Эдрия схватила его за руку.
— Больше мы об этом говорить не будем. Я думала, что ты знаешь, — рука ее ласкающим движением скользнула в рукав его рясы и поползла наверх. — Ты милый и пушистый.
Нимми снова сел. Револьвер лежал на одном из ящиков. Он взял его.
— Осторожнее, он заряжен. Я боюсь оставаться тут одна. Это самая маленькая модель, но может стрелять пять раз подряд. Давай я покажу тебе, — она взяла у него оружие, что-то с ним сделала, и пять блестящих медных предметов один за другим упали из револьвера ей на колени.
— Если это пули, то где же порох?
Она протянула ему один из предметов.
— Свинцовая часть — это пуля. В медной содержится порох. А теперь смотри, — раздался щелчок, и часть револьвера повернулась под небольшим углом. Эдрия потянула спусковой крючок и револьвер снова щелкнул, сделав еще один поворот. — Видишь? И так он стреляет пять раз. Его легко перезаряжать, — нажимая на спусковой крючок, она стала вращать барабан и вставлять патроны в свои гнезда.
— А как ты снаряжаешь патроны?
— В полевых условиях в этом нет необходимости. Просто имеешь с собой запасные патроны. Если у тебя есть гильзы, можешь их снаряжать дома на специальном прессе.
— Никогда не видел ничего подобного.
— Как и тексаркская кавалерия, оружие поступило с западного побережья. Думаю, что сконструировали его в стране кардинала Ри, но, наверное, скопировали с древних образцов, — Эдрия отложила револьвер и внезапно обняла Чернозуба. — Мне больше не доведется увидеть тебя. Давай займемся любовью — как у нас получится.
Придя в себя от неожиданности, он делал все что мог, дабы доставить ей наслаждение. Тесно прижавшись друг к другу, они лежали на матрасе и целовались. Господи, как она прекрасна, понял Чернозуб в слабом свете, идущем от входа. Первородный дух оплодотворил Землю, и Земля произвела ее на свет — с золотыми, как юные кукурузные початки, волосами и со смехом, как дуновение ветра. О, Пресвятая Дева, тебя зовут Эдрия, и я люблю тебя.
— Фуджис Гоу!
— Что? — с улыбкой прошептала она, извиваясь под ним от наслаждения.
— Фуджис Гоу. Это одно из имен…
— Что?
Чернозуб молчал, наблюдая, как ее фиалковые глаза ищут его взгляд.
— Оно непроизносимо? — догадалась она.
— Это — почти — ты… — простонал он в судороге подступающего оргазма.
— Ох, дай мне принять тебя. Как раньше! — опустив руку, она перехватила его семяизвержение.
К своему несказанному удивлению, он тем не менее тут же оказался способен к новому соитию. Она втирала в себя его сперму, втирала ее в крохотное, как след от птичьего клюва, отверстие.
— Что ты делаешь? — задохнулся Нимми.
— Стараюсь забеременеть, — все еще улыбаясь, сказала Эдрия. — Как в прошлый раз. Но когда мы делали это, я уже запоздала со своим периодом.
Пораженный, он сел. В амбаре у Шарда было темно, как в угольной яме, и он был слишком пьян, дабы понимать, что происходило, он скорее чувствовал, чем видел, несмотря на признание, которое во время исповеди сделал старому отшельнику.
— Нимми, ты побелел, как простыня.
— Но почему…
— Шард позвал хирурга, и тот зашил меня. Он не хочет расшивать меня, а он мой отец, и я люблю его и не могу ослушаться его, но когда оттуда придется выходить ребенку, он мне все порвет, если Шард не позовет хирурга, который и разрежет мне…
— О Господи! — Чернозуб повернулся на бок и закрыл лицо ладонями.
— Нимми, пожалуйста, не плачь, — она держала его за плечи, чтобы он не сотрясался в рыданиях. — Ну прошу!.. Я вовсе не хотела огорчать тебя. Я хочу иметь от тебя ребенка. От тебя!
У Нимми кружилась голова, его мутило. Казалось, он лишь на несколько секунд провалился в темноту, но когда он пришел в себя и вышел из пещеры, ни Эдрии, ни белого мерина уже не было видно. Он в одиночестве стоял у маленькой пещерки. Она написала на песке: «Прощай, Нимми. Ты настоящий монах».
Тем не менее по пути домой с гор он снова увидел ее в городе. Идя по улице, он оглянулся из-за плеча на фырканье лошади и увидел, что Эдрия неторопливо нагоняет его. Она быстро помотала головой, не глядя на него. Он кивнул в знак понимания и продолжал идти. Эдрия приостанавливалась, пересекая город, прежде чем сумела выбраться на главную дорогу, ведущую к дому. Чернозуб, на котором была ряса послушника аббатства Лейбовица, повернул за угол и чуть не налетел на человека в такой же рясе. Грудь незнакомца была обтянута перевязью из кожи и дерева, он держал у рта губную гармонику. Подоткнув рясу, он подпрыгивал в такт быстрому, но узнаваемому ритму Salve Regina[78]; стоявшая на земле чаша с несколькими монетками намекала о подаянии. Чернозуб подавил спазм в горле, узнав незнакомца, и постарался пройти мимо незамеченным. Ибо этот уличный музыкант в знакомой рясе послушника был не кто иной, как Торрильдо, валявший дурака ради заработка. Чернозуб сделал не больше шести шагов, когда музыка и шлепанье подола рясы внезапно смолкли и наступила такая тишина, что он слышал топот копыт лошади своей возлюбленной, которая тоже миновала уличного попрошайку.
— Эй, Чернозуб! Мой дорогой! — позвал Торрильдо.
Чернозуб прибавил шагу. За спиной он слышал, как Эдрия остановив лошадь, обменялась любезностями с Торрильдо, которого, по всей видимости, встречала и раньше.
— Ах, значит, это был он! — убегая, услышал он ее слова.
Звуки доносились из часовни — звонкие удары бича, сопровождаемые стонами. Они повторялись каждые две или три секунды. Его преосвященство кардинал Коричневый Пони остановился, прислушиваясь, после чего зашел внутрь. Наконец после трех дней самовольного отсутствия объявился его секретарь по делам Кочевников. Чернозуб коленопреклоненным стоял перед алтарем Девы в маленькой часовенке Секретариата, бичуя себя ременной плеткой.
— Прекрати, — тихо сказал кардинал, но звуки продолжались. Свист, удар, стон. Свист, удар, стон. Пауза. Глава Секретариата громко откашлялся.
— Нимми, прекрати это!
Убедившись, что на него не обращают внимания, он повернулся и в сопровождении Топора направился в свой кабинет.
— Как только сможешь, сразу же явись ко мне, — бросил он из-за плеча в сторону продолжающегося бичевания. — Завтра с самого утра нас ждет аудиенция у его святейшества. Относительно твоего прошения.
Аудиенция прошла не лучшим образом. По пути в папский дворец Чернозуб, у которого болела спина, а душу раздирало чувство вины, не обмолвился ни словом со своим хозяином; тот тоже молчал. Между ними возникло отчуждение, с которым монах никогда раньше не сталкивался. Коричневый Пони, по всей видимости, знал, что Чернозуб не послушался запрета и все же виделся с Эдрией, но, скорее всего, он лишь подозревал, что она рассказала Чернозубу о контрабандной доставке оружия. Если бы они стали говорить во время этой прогулки, могли бы возникнуть взаимные обвинения, и Нимми был благодарен кардиналу за это напряженное молчание.
Папа, который, похоже, пока так и не привык к своей белой сутане, встретил их тепло и без излишних формальностей. Когда Чернозуб преклонил колена, целуя кольцо папы, Амен кивнул кардиналу, который тут же исчез, оставив удивленного монаха наедине с верховным понтификом.
— Можешь встать, Нимми. Давай где-нибудь присядем.
Чернозуб двигался как во сне. Ему казалось, что он снова очутился в роли кающегося грешника в доме-пещере Спеклберда. Краем глаза он видел, как Спеклберд превращается в кугуара.
— Похоже, что между нами обитает божественное создание, — добродушно улыбнулся папа.
— Божественному созданию полагается молчать, — услышал Нимми свой голос, и до него донесся довольный смешок кугуара. Создание было в игривом настроении.
— Если ты не возражаешь, тебе придется еще какое-то время работать с кардиналом Коричневым Пони, — сказал кугуар, возвращаясь к облику старого чернокожего с облаком белых волос.
— Я удивлен, что он по-прежнему хочет видеть меня рядом, — снова услышал Нимми свой голос.
— Почему, по-твоему, среди всех переводчиков он выбрал именно тебя в личные секретари?
— Я и сам этому удивлялся, Святой Отец. Я могу лишь предположить, что он испытывает склонность к соплеменникам своей неизвестной матери и старается почаще общаться с ними. Во мне течет их кровь.
— То есть этническое покровительство? Ты в самом деле так думаешь?
— В противном случае приходится предположить, что он увидел во мне какие-то особые достоинства и таланты, продуманно оценив которые, он и выбрал меня, несмотря на мою непокорность. Но я не могу, Святой Отец, считать, что так оно и было. В любом случае он увидел во мне то, чем я не обладаю.
— Иными словами, ты просто бедный грешник, который глубоко любит Бога, но не может ему предложить ничего из своих талантов.
Чернозуб поежился. Он бессознательно скрылся за маской униженности, но кугуар в лице Спеклберда-Петра поднес к нему зеркало и заставил посмотреться в него. Оправившись после секундного замешательства, Чернозуб ответил на этот сарказм:
— Ладно, давайте признаем, что я гениальный знаток языков Кочевников, что это я лично изобрел для них новый алфавит, который, как мне говорили, употребляют даже в покоях Святого Престола. И не только. Я умею обороняться, понял многое из тех дел, что мой хозяин имеет с Кочевниками и куда мы держим путь. Так что его выбор был довольно обоснованным. Кроме того, я научился убивать людей.
— Ты должен уклоняться от жестокого насилия, сын мой, — сказал старый горный лев.
— А также не желать осляти ближнего своего,
Святой Отец. Папа от души рассмеялся.
— Порой ты просыпаешься, Нимми. Я вижу, что у тебя в самом деле есть склонность к размышлениям.
Вздохнув, Чернозуб опустил голову.
— Я могу вернуться в стан мирян и по-прежнему работать для кардинала, Святой Отец. Для того, чтобы мыслить, мне не обязательно быть монахом.
— В твоем случае я думаю, что это не так, — возразил Спеклберд. — Кардинал Коричневый Пони выбрал тебя потому, что ты монах, Нимми, настоящий монах со склонностью к размышлениям. Как ты думаешь, почему он, богатый и влиятельный человек, подружился со мной, нищим отшельником, спящим на изодранном тюфяке, многократно осужденным священником, лишенным прихода, которому несколько лет запрещалось даже подходить к алтарю в валанских церквях? Твой хозяин хотел получше разобраться в таких людях, как мы с тобой, Нимми. В нас он видит надежду, ибо улавливает, что мы другие, и понимание этого вызывает в нем не презрение, а любопытство. Если ты на самом деле не религиозен, то почему он выбрал тебя? Ведь о делах Секретариата знают меньше тебя разве что три человека. Я понимаю его. Он старается уяснить, что это такое — познать Бога.
— Поскольку вы непогрешимы, я сдаюсь. В противном случае я бы сказал, что он сделал ошибку, поскольку я считаюсь — вернее, считался — очень плохим монахом.
— Ты взвалил на себя кучу ослиного дерьма. Если ты так считаешь, то твое дело каяться, а не судить. Это не твое дело.
— Я влюблен в «привидение», в девушку-джина, Святой Отец.
— Поэтому ты и хочешь стать мирянином?
— На первых порах хотел не из-за этого, — Чернозуб вздохнул. — Но теперь, может быть, частично и поэтому.
— Может быть?
— Ибо она тоже называет меня монахом. Все считают, что я монах. Все, кроме меня.
— Умная девушка. Если ты полюбил ее, ищи в ней Бога. Не позволяй, чтобы эта любовь умалила твою любовь к Богу. Страсть — это другая сторона сострадания, а не ее отрицание. Ты должен обладать даром видеть и любить Бога в любом из его творений, включая и отторгнутую девушку. Но помни, что ты монах общины святого Лейбовица. Любовь — это не грех.
— Но он есть в увенчании ее.
— Для тебя. И лишь тебе судить, так ли это.
— Как беглецу, который в пятнадцать лет сорвался с места.
— Твои торжественные обеты были даны много позже, брат Сент-Джордж!
— Но я по-прежнему отринут миром, в который могу вступить, лишь отказавшись от своих обетов. Лишь вы можете дать мне отпущение, Святой Отец.
— Ты так много понял о мире в последнее время?
— Я полон любви.
Папа Амен рассмеялся.
— Любить Бога через его творения — это замечательно. Если бы ты только знал, что творишь… А теперь позволь напомнить тебе кое о чем. Я говорил с аббатом Джарадом, и он заставил меня вспомнить, что первоначально орден святого Лейбовица был орденом отшельников. У тебя есть возможность, живя вне монастыря, оставаться в рядах ордена. Ты можешь жить по древним правилам святого Лейбовица, как он изначально установил их. Конечно, лишь после того, как твой нынешний хозяин отпустит тебя. Я прошу тебя обдумать такую возможность и отложить свое намерение вернуться в мир, пока ты окончательно не решишь, что делать.
Чернозуб набрал полную грудь воздуха. Он смотрел на чернокожего старика. Кугуар исчез. Чернозуб склонил голову в знак послушания, но вопрос оставался. «А что, если она действительно забеременела?» — думал он, с пустой головой покидая аудиенцию. Ну, не совсем с пустой: бедный монах удостоился разговора с папой. Он обогатился, обогатился…
Остальные работники Секретариата коротко рассказали ему о событиях, происшедших за время его пятидневного отсутствия. Валана продолжала бурлить. Давление внешнего насилия и ржа внутренней трусости запятнали конклав 3244 года, это был вынужден признать даже новый папа, который удивил всех, пригрозив измученной Валане отлучением от церкви. Стражник Элкин привел Чернозубу имена главарей, которых заставили устранять последствия повреждений, нанесенных дворцу.
— Эти семнадцать бандитов преклонили колена перед папой Аменом, их героем. Он вынудил их пообещать, что они все исправят. Затем он наложил на них епитимью в виде молитв и поста, после чего даровал им отпущение грехов.
— Но это никоим образом не удовлетворит сторонников Бенефеза, — предположил Чернозуб.
Элкин кивнул.
Немедленно стало ясно, что избрание на папский престол эксцентричного религиозного аскета сомнительной ортодоксии, которое сочеталось с религиозной импульсивностью, вызвало нервное содрогание от побережья до побережья. Оно потрясло все иерархические структуры и институции власти, явившись результатом то ли неожиданного снисхождения Святого Духа на конклав, то ли делом рук дьявола и Красного Дьякона.
Архиепископу Тексаркскому пришлось опросить около 170 кардиналов, участвовавших в избрании нового папы, прежде чем он нашел достаточное количество иерархов, готовых подтвердить, что они отдали свои голоса за Амена Спеклберда, подчиняясь давлению. Он оставался в городе всего лишь три дня и, сославшись на недомогание, так и не принес новому папе дань уважения. Он отбыл в сопровождении своей охраны и нескольких еще не заболевших кардиналов с Востока, которые были полны желания покинуть несчастный город. Несколько членов его фракции объявили, что Святой Престол продолжает оставаться свободным, поскольку избрание носило насильственный характер. Они призвали старика признать выборы недействительными, созвать в Новом Риме новый конклав и сойти с престола, который он незаконно занимает. Коричневый Пони и другие использовали ситуацию, чтобы объявить избрание состоявшимся, и под угрозой церковных санкций потребовали от членов фракции признать его святейшество. Только один из ее членов изменил свою точку зрения, а остальные, оставив Валану, разъехались по домам. Было ясно, что старые раны ересей и раскола снова воспалились.
По своему завещанию, составленному на месте, кардинал Ри передал своих слуг кардиналу Коричневому Пони, чем настолько смутил его, что он предпочел разделить сей дар с его святейшеством папой, которому архиепископ Хонга оставил свою жену и юных наложниц. Нотариус, составлявший завещание, гневно возмущался, когда у него осведомлялись, не произошло ли путаницы с двумя последними дарами, не Коричневый ли Пони должен был получить женщин. Красный Дьякон поддержал его гневную реакцию, засвидетельствовав, что кардинал Ри перед смертью попросил его позаботиться о его слугах. Он счел совершенно естественным, что Ри выразил намерение вручить судьбу своих возлюбленных созданий в руки не кого иного, как слуги слуг Божьих, папы Амена Спеклберда. Поскольку слуги кардинала Ри были счастливы обрести нового хозяина, Коричневый Пони решил всех, кроме одного, освободить от статуса рабов и заключить с ними контракт на пять лет, который будет возобновляться только по взаимному желанию. Папа гарантировал Секретариату увеличение фондов для оплаты работы этих слуг. Среди них были шесть опытных воинов, двое личных прислужников и исповедник Ри. Этого священника он предоставил в распоряжение святого престола, который выразил пожелание, чтобы бывший капеллан одновременно вел курсы восточных ритуалов и обучал принятым в его земле языкам.
Что же до унаследованных папой трех женщин, то Амен передал им золото, доставшееся ему от прелата, вместе со свободой и предложил им на выбор школу, монастырь или брачного маклера.
Со своей стороны Вушин был только рад получить под командование отряд хорошо обученных бойцов, которые придерживались иных, нежели его собственные, военных обычаев. Топор стал говорить на языке Скалистых гор, как местный уроженец, и одного этого факта было достаточно, чтобы вручить ему руководство частной армией Коричневого Пони, но тем не менее он заставил своих подчиненных формальным образом избрать его, после чего они принесли клятву на верность ему и их общему хозяину кардиналу-секретарю. Чернозубу было интересно, знает ли Коричневый Пони, что, как Топор однажды рассказывал ему, каждый из его подчиненных готов убить любого, на кого укажет хозяин, — даже папу, даже самого себя. Когда Вушин сравнивал этих бойцов с убийцами Ханнегана, было видно, какое он испытывает презрение даже к этим профессионалам.
В Валане было слишком много поводов для волнений, дабы кто-то задавался вопросами, чего это ради Секретариату надо оплачивать услуги шести профессиональных убийц, хотя Чернозуб сам ломал голову над этими вещами, еще когда, оставив аббатство Лейбовица, он вместе с Топором оказался под покровительством Коричневого Пони. Он чувствовал, что посвящен далеко не во все замыслы кардинала, которые имели отношение к его обязанностям. И теперь, после того, как увидел оружие Эдрии, он осознавал это с особой ясностью. Целый отдел работы Секретариата был закрыт для него. Он был не в курсе многих дел Секретариата, они проходили мимо его глаз. Он старался не проявлять заинтересованности. Когда он временно делил приемную Коричневого Пони с двумя другими секретарями, они видели, как самое малое раз в день кто-то из обитателей закрытого крыла здания появлялся с папкой, полной документов, сразу же проходил в личное святилище Коричневого Пони и выходил без папки, которая никогда не появлялась в приемной. У себя кардинал не держал никаких досье, но у него был камин для сжигания бумаг. Два остальных секретаря придерживались между собой того мнения, что в закрытом крыле здания занимаются разведывательными операциями, с чем Чернозуб не мог не согласиться. Но об оружии он не обмолвился им ни словом.
Глава 13
«Аббату следует проверять размеры одеяний, дабы они не были слишком коротки для тех, кому подобает носить их, а приходились в самый раз».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 55.Чернозубу казалось, что в то время, когда и папству в Валане, и всей Восточной Церкви угрожали неприятности, его хозяин чрезмерно увлекся политиками Кочевников. Хотя он мог постоянно обмениваться корреспонденцией с восточными кардиналами, принимавшими участие в избрании папы Амена, он вместо этого пригласил Халтора Брама из Кузнечиков явиться в сопровождении всей своей охраны в Валану и подготовиться к встрече с папой. Цель этого визита не подлежала сомнению. В адрес кардинала звучали обвинения, что он покровительствует Чииру Осле Хонгану из орды Диких Собак в ущерб военному предводителю Кузнечиков. Чтобы нейтрализовать их, Коричневый Пони и пригласил первым, до Хонгана, Халтора Брама встретиться с папой. И сразу же покинул понтифика, чтобы в сопровождении лишь незаметного полицейского, оставив дома своих свирепых телохранителей, выехать на равнины встречать военного предводителя Кузнечиков, хотя в эти непростые времена папа нуждался в его присутствии. Восхищение Чернозуба отвагой хозяина лишь усилилось, хотя в нем продолжали жить подозрения, замешанные на немалой доле фантазии, — в самом ли деле он так предан папе, тем более что Чернозуб знал об оружии, поставляемым Рожденным по ошибке.
«Таков мир, святой Айзек Эдвард Лейбовиц, который я покинул как твой монах. И где же я сейчас оказался?»
Вместе с Вушином монах пораньше отправился на то место, где кардинал предписал встречать его после возвращения с равнин. Здесь он увидел стоящего на улице посланника из Нового Иерусалима, заменившего Эдрию. Поскольку теперь Чернозуб знал (официально — от кардинала и напрямую от Эдрии) о контактах между Новым Иерусалимом и тайным отделом Секретариата, он и Топор были представлены Уладу, прибывшему из колонии. Чернозуб догадывался, что все «привидения» обладают нормальным внешним видом. На расстоянии Улад и выглядел таковым, если рядом с ним для сравнения никого не было. Но когда он оказывался в толпе, рядом с другими, то было видно, что он на треть выше любого из своих соседей, а весил он как два с половиной человека. Трижды Чернозуб видел, как гигант, чьи руки казались непропорционально тонкими, ловко запускал их в карманы прохожих, пока, наконец, не пересек улицу и не предупредил его:
— Если ты и дальше будешь этим заниматься, я доложу.
Улад сдавил ему голову длинной тонкой рукой и с такой силой надавил большим пальцем на висок, что он чуть не потерял сознание от боли. За спиной Улада возник Вушин и что-то сделал с его коленом, отчего гигант отпустил монаха и, схватившись за ногу, с воплем рухнул на мостовую. Стоя над ним, Топор прижал мечом его нос, сплющив его.
— Если ты и дальше будешь этим заниматься, я убью тебя.
— Я не узнал вас сначала, — взвыл великан, и контральто его голоса удивило хрупкого пожилого воина.
— Тебе нравится твоя работа? — спросил Топор.
— Да, это хорошо, когда можешь бывать в городе.
— Твой народ знает, что ты вор? — приходя в себя, спросил монах.
— Это часть моей легенды. Здесь меня знают. Ничего страшного, если и арестуют. В полиции меня тоже знают. Они думают, что я местный, и я действительно часто здесь бываю. Иногда меня на пару дней сажают под замок, а бывает, я работаю на них. Я приезжал сюда как охранник Эдрии. Здесь мы встречались, а потом отправлялись домой.
— Известно ли это его светлости?
— Мне велено встретить его здесь. Он прибудет в экипаже Кузнечиков. Терпеть не могу Кочевников. Для меня ты смахиваешь на Кочевника и небось считаешь меня «привидением».
Нимми встретил его неприязненный взгляд.
— Ты когда-нибудь видел, чтобы Кочевник носил монашеское одеяние? — ухмыльнулся он. — А ты в самом деле «привидение»? — он почувствовал, как Вушин предупреждающе коснулся его руки, но уже было слишком поздно.
Улад зарычал и выхватил нож. Сталь, лязгнув, встретилась со сталью, клинки сошлись, и лезвие короткого меча распороло предплечье великана; все это свершилось как бы одним движением: выхваченный кинжал — рана — кинжал падает на землю, сопровождаемый струей крови. На какое-то мгновение все застыли, после чего Вушин кинул меч в ножны и сказал:
— Сделай что-нибудь с рукой. Рана неглубокая.
— Я думаю, он хотел заколоть меня, Топор.
— Думаешь? — хмыкнул Топор. — Ну-ну! Кардинал предупреждал меня относительно Улада. Ему крепко не повезло с заместителем Эдрии. У этого типа есть привычка мгновенно впадать в неистовство. Но он только на время. В Новом Иерусалиме разозлились, что он счел Эдрию персоной нон грата, и специально подсунули нам Улада. Уж очень они самонадеянны.
— Почему бы его не посадить за решетку?
— Ну, во-первых, кардинал хочет, чтобы Улад встретил того Кочевника, с которым явится, а во-вторых, он могучий воин и занимает высокий пост в маленькой армии, которая, предполагается, будет на нашей стороне.
— Ради Бога, на нашей стороне против кого? Он один и нас двое — мы составляем троицу? Что значит «на нашей стороне»?
— На стороне нашего хозяина! — глянув на Чернозуба, рявкнул Вушин. — То-то я сомневаюсь в твоей верности, брат Сент-Джордж. И будь уверен, что я перережу тебе горло, если ты предашь его!
— Прошу тебя! Это же я, Чернозуб. Я просто пытаюсь понять, как он думает.
— Это не твое дело. Сиди на своем месте.
— Не ты ли объяснишь мне мое место и будешь удерживать меня на нем? Это что-то новое.
— Объяснять его тебе я не собираюсь. И не хочу ловить тебя, когда ты сорвешься с него.
Да, это было новое — и настоящее. В первый раз Чернозуб по-настоящему ощутил опасность, исходящую от старого воина. Коричневый Пони, должно быть, разгневался куда больше, чем ему казалось. В аббатстве его страх перед Вушином исходил из взвинченной возбудимости. Но позже он уяснил, что Вушин живет лишь для того, чтобы исполнять пожелания своего хозяина, защищать его личность и благосостояние; для Вушина это было высшими ценностями. Чернозуб, совершенно иначе понимая понятие верности, случалось, не слушался хозяина. Вушин знал это, по крайней мере догадывался, ибо монах слишком долго отсутствовал. И между ними уже не существовало прежних отношений, хотя Вушин только что спас его от кинжала Улада. Эдрия все изменила в его жизни.
Едва только Улад вернулся с перевязанной рукой, с восточной стороны появилась карета, влекомая четырьмя прекрасными серыми жеребцами, и остановилась у «Оленьего дома». Знаменосец с традиционным тотемом Кузнечиков спешился и с торжественным штандартом в руках застыл перед рестораном.
«И первыми взвились знамена владыки ада», — мрачно процитировал Чернозуб древнего поэта.
Потом Нимми узнал, что, когда Коричневый Пони встретил Халтора Брама, тот в сопровождении шестнадцати вооруженных до зубов всадников ехал в королевской карете (скорее всего восточного производства, похищенной во время набега в восточные леса), а князь церкви, оставив дома своих внушительных телохранителей, предстал перед ним в сопровождении лишь скромного полицейского из Валаны. Брам явно смутился, увидев, что одинокий церковник — это тот, кто пригласил его, и незамедлительно отослал домой всю охрану, кроме двух стражников. Таким образом, Коричневый Пони вернулся в карете, которую делил с удивленным, но все еще настороженным военным вождем. Когда прибывшие остановились, гигант Улад подошел к карете и представился кардиналу, который, нахмурившись, бросил несколько слов и жестом отослал его.
— Первым он пригласит тебя, — сказал великан Чернозубу и повернулся к Вушину: — А ты будешь охранять вход, — Улад был явно взвинчен. — Когда Кочевники приезжают в город, их надо тут же сажать в тюрьму.
— Так как же они будут заниматься делами?
— Их единственное дело — это воровать.
— Понимаю. Для тебя это увлечение, а для них — дело.
Улад что-то проворчал про себя, а Вушин подтолкнул монаха.
Рядом с возницей сидел Кочевник с длинным ружьем и недобро сжатым ртом. Два вооруженных всадника несли охрану. Полицейский и возница слезли с козел и теперь помогали прелату и другому Кочевнику выйти из кареты. Второй Кочевник был ярче первого. Улад был явно разочарован, видя Кочевников не за решеткой. Трое из них вместе с полицейским остались у кареты, а разодетый Кочевник вместе с прелатом отправились поесть.
После путешествия по равнинам карета была вся в пыли, но видно было, что, богато разукрашенная, она вышла из рук хорошего мастера. Лошади, пусть и уставшие, были элегантными и чистых кровей; упряжка их стоила не меньше тысячи. Дверца кареты была расписана синим с золотом, а из-под слоя дорожной пыли просвечивал красный крест. Кто-то сказал о кресте. Они стояли в центре группки людей, но любой, кто проходил мимо или выходил из гостиницы, обращал внимание на Кочевников, на полицию, на эффектную карету и на прибывшую с ней энергичную команду, после чего присоединялся к зевакам, компания которых уже превращалась в толпу. Чернозуб опасливо посмотрел на Улада.
— Говорю тебе, что это не может быть секретариатской, — сказал бакалейщик из соседних дверей. — Ни у них, ни у церковников нет оружия.
— А как насчет девиза? — спросила женщина рядом с ним. — Он же на латыни, не так ли? — и когда бакалейщик пожал плечами, она обратилась к монаху, который, выйдя из гостиницы, шел мимо кареты: — Разве это не латинский, отче?
— Строго говоря, нет.
— Но ведь это не язык Кочевников!
— Нет, это доподлинно церковный. Английский.
— И что на нем сказано?
— Я кончил школу двадцать лет назад, — сказал клирик. Он двинулся было дальше, но остановился, чтобы добавить: — Хотя тут говорится что-то об огне. И поскольку в ней прибыл кардинал Коричневый Пони, вам лучше уйти.
— Это вы уходите, отец! А я тут живу.
— Может, папа решил создать свою собственную пожарную службу, — сказал студент колледжа Святого Престола. Он повернулся, и тут выяснилось, что это Аберлотт.
Ясность внес Чернозуб.
— Девиз гласит: «Разжигайте огни», — сказал он. — Это геральдический девиз военачальников Кузнечиков. Увидимся потом, — сказал он бывшему соседу по комнате и, покинув собравшихся, пошел постоять около окна.
В таверне кардинал делил трапезу с представителями Кочевников. Им подали жареного цыпленка, запеченного с травами, и местное пиво. Голодным обитателям равнин хватило такта не сетовать на малое количество мяса, но они начисто вымели всю зелень. Брам продолжал бесконечный монолог, начатый им еще в дороге, но кардинал увидел в окне своего секретаря и позвал его в дом. Войдя, Чернозуб увидел, что его хозяин буквально загнан в угол напористым военачальником, который не выбирал выражений в теологическом споре.
— Отец Матери Божьей в то же время ее сын и ее любовник, — говорил Кочевник. Он прищурился, глядя в окно, и сделал вид, что не замечает, как кардинал наблюдает за ним. — Так объясняют наши Виджусы.
Кардинал, отрезав очередной кусок цыпленка, старательно прожевал его, после чего поднял глаза на Брама.
— Ты слышал, что я говорил? — спросил тот.
— Нет, — соврал Коричневый Пони. — Скажи снова, — его диалект Кузнечиков был безупречен, но порой он поглядывал на Чернозуба, словно ища поддержки.
— Отец Матери Божьей в то же время ее сын и ее любовник. Вот так считается у Кузнечиков среди сторонников духа Медведя.
— Ясно, — Коричневый Пони обмакнул цыпленка в соус и оторвал очередной кусок.
Халтор Брам откровенно и неприкрыто старался вызвать у него неприязнь к себе. Он выпрямился и свел брови.
— Ясно! Это означает, что ты согласен?
— Ясно означает, что я услышал твои слова, вождь. Я юрист, а не богослов. Возьми цыпленка.
— Он пригласил вас на цыпленка, — сказал монах, уточняя фразу на языке Диких Собак.
— Если ты юрист, то почему бы тебе не арестовать меня?
— Потому что я юрист не от богословия, а если я тебя арестую, то ты уже никому не принесешь никакой пользы, — он посмотрел на Чернозуба, который согласно кивнул. Ему лишь от случая к случаю приходилось уточнять сказанное.
— Ты папский законник.
— Именно так. Белое мясо суховато. Попробуй темное.
— Иисус — любовник Марии.
Кардинал Коричневый Пони с отвращением вздохнул, постукивая по столу косточкой от куриной ножки.
— Почему тебе так хочется завязать ссору со мной? Разве я говорил что-то непристойное о Пустом Небе или о вашей Женщине Дикой Лошади?
— Один раз было. На священном костре совета. Поэтому я и разговариваю с тобой таким образом. Ты стараешься отвести разговор от нее, а ваша христианская марионетка обихаживает ее священников.
Коричневый Пони вздохнул.
— Значит, я не искупил свою вину? Сановташ Ан не является ничьей марионеткой. Что же до меня, то вел я себя глупо. Теперь я это понимаю и весьма сожалею. Но это случилось в сельских угодьях, а не на восточных равнинах.
— Не имеет значения. Это племя в прошлом принадлежало к Кузнечикам. И ты должен загладить святотатство.
— Каким образом?
— Мы это обсуждали. Ты должен появиться перед ней.
— Где? На тех землях?
— Нет. Она обитает в Пупке Мира, в самой сердцевине ее: там загон для случки ее диких коней. Там пылает ее смертный костер, называемый Мелдаун.
— Я слышал об этом. Не то ли это место, где Сумасшедший Медведь перед завоеванием стал владыкой трех орд?
— То самое. Любой претендующий на священное родство должен быть избран ею. В этом самом месте. И после избрания он должен в полнолуние провести там ночь. Скоро снова взойдет полная Луна. И будет избран новый Ксесач дри Вордар. Один из нас троих. Там же мы подвергаем испытанию людей, обвиненных в преступлениях, и там все встает на свои места. Многие не выходят живыми. Многие — больными, потеряв все волосы. И лишь некоторые сохраняют силу и здоровье. В глазах нашего Виджуса и нашего духа Медведя ты совершил преступление, Коричневый Пони.
— И если я подчинюсь этому порядку…
— То тогда, если выживешь, будет союз. И мир с Дикими Собаками.
— Не зависимо от того, кого выберут государем?
Брам удивленно затряс головой.
— Ксесачем дри Вордаром, — уточнил Чернозуб.
— Можешь не сомневаться. Старухи знают лучше. И Хонгин Фуджис Вурн.
Кардинал обратился к Нимми на языке Скалистых гор:
— Объясни вождю подробно и вежливо, что его святейшество является верховным священником всего христианского мира и что дипломатический иммунитет, которым он наделил меня, не избавляет от ответственности за столь серьезное преступление. Так что пусть он выбирает слова в разговоре с папой.
Халтор Брам был могущественным вождем Кочевников, масштаба Чиира Хонгана, но податливее. Он понимал лишь несколько слов, диктуемых ему языком тела. Главной интонацией для него была сила, сила, готовая обрушиться на собеседника — то ли чтобы прижать его к сердцу, то ли чтобы убить. Видно было, как у него напряглись все мускулы.
Нервничая, Чернозуб передал ему слова Коричневого Пони.
Несколько мгновений военачальник смотрел на него. Язык тела говорил ему: «Убей посланника», — но он повернулся к кардиналу и вежливо кивнул. В это мгновение в дверях возник Улад и, неся свою гору мышц, направился к ним, к столу. Когда Улад показал на Чернозуба, Коричневый Пони отослал его кивком. Монах интуитивно догадался, что Улад хочет поговорить на тему, которая не предназначена для его ушей, хотя Коричневый Пони настоятельно нуждался бы в переводчике, ибо огромный джин говорил только на долинном ол’заркском и немного на наречии Скалистых гор. Может быть, Улад явился, чтобы поговорить об оружии для вождей Кузнечиков, и обязанности переводчика для обоих собеседников придется взять на себя Коричневому Пони. Временно отстраненный от работы, Чернозуб направился домой в компании Аберлотта, которого после выборов он не видел.
— Послушай, носятся слухи, что близится раскол, а может быть, и война. Что скажешь?
— Одно из двух. Или раскол, или война. Что ты имеешь против войны? И почему спрашиваешь именно меня?
— Ты работаешь у секретаря.
— Который скорее всего и сам не смог бы ответить на твои вопросы. Почему бы тебе не поинтересоваться у женщин Виджуса?
— Я никого из них не знаю. А ты?
— Пока еще не познакомился.
— А когда? Я слышал, твой кардинал подумывает направиться в страну Кочевников.
Чернозуб с подозрением посмотрел на Аберлотта. Похоже, что все окружающие знают о намерениях хозяина куда больше, чем он.
— Откуда ты это слышал?
— От человека, который вышел из гостиницы как раз перед тобой.
Чернозуб встревожился. Коричневый Пони был настолько беззаботен, что его разговор с Халтором Брамом мог подслушать любой понимающий язык Кочевников. Но из-за их стола в поле зрения никого не было видно.
— Секрета больше не существует? — помолчав, спросил Аберлотт.
— Не знаю. Почему-то чувствую, что меня рано или поздно уволят.
— Кардинал? За что?
— Помнишь, кто вернул мне четки?
Чернозуб не обмолвился больше ни словом, но приятель глянул ему в лицо, увидел жаркий румянец и не стал задавать вопросов на эту тему. Отвернувшись, он прикрыл рукой улыбку и спросил:
— Так что с тобой будет, Нимми?
— Не знаю. Мне надо рассчитаться с большими долгами. А почему ты, черт возьми, не на занятиях?
— Летом их нету. Я хочу попутешествовать.
— Куда ты собираешься отправиться?
— Куда конь вывезет. Понимаешь, возьму и брошу уздечку. Останется только пришпоривать кобылу, если она слишком часто будет останавливаться, чтобы пощипать травку.
— Полоумный, подбери толковую лошадь и не теряйся, а то она привезет тебя к месту своего рождения, — Чернозуб махнул рукой на восток, где лежали плоские равнины. Аберлотт засмеялся и дальше пошел один.
Это случилось за два дня до аудиенции, назначенной Халтору Браму его святейшеством. Во время отсутствия в курии кардинала Коричневого Пони папа объявил дату своего возвращения в Новый Рим. Если глава Секретариата и был обижен, что его отстранили от процесса принятия такого решения, у него по крайней мере было алиби на тот случай, если решение окажется неверным. Папа хотел как можно раньше двинуться в путь. С Тексарком на эту тему он не связывался. Папа использовал беседу с Халтором Брамом, чтобы послать свое апостольское благословение племенам Виджус и духа Медведя орды Кузнечиков и попросить разрешения пересечь земли Кузнечиков на пути в Новый Рим. Военачальник благородно пообещал, что, как только кортеж папы покинет пределы территории Диких Собак, сопровождать его будет сотня вооруженных воинов. Молча выслушав все это, Коричневый Пони недвусмысленно дал понять, что сопровождать экспедицию он не будет, поскольку его ждут спешные дела и на равнинах, и в самом Тексарке.
— Я хочу сделать тебя апостольским викарием в трех ордах, — на другой день сказал Красному Дьякону старый негр, верховный понтифик.
Чернозуб заметил, что у Коричневого Пони неподдельно перехватило дыхание, а несколько присутствующих членов курии обменялись испуганными взглядами. Наступило долгое молчание, ибо только что произнесенные слова папы обозначали полное смятение мозгов. Первая мысль была такова: сделать территорию всех трех орд апостольским викариатом означало фактически отказ от признания орды Кузнечиков составной частью Тексаркского епископата. Это означало, что власти архиепископа в провинции будет положен конец и ему останется или отозвать всех своих миссионеров, или позволить им подчиниться новой власти. Вторая мысль: кто бы ни получил это назначение, Бенефез придет в ярость. Но Коричневый Пони? И третья мысль: до того, как Коричневый Пони будет назначен апостольским викарием, он должен быть посвящен в духовный сан и рукоположен в епископы заброшенной древней епархии. Чернозуб припомнил собственные слова кардинала: я призван быть юристом, а не священником и быть по сему.
— Ну, Элия? Возьмешься?
— Святой Отец, не думаю, что у меня есть к этому призвание.
— Мы призываем тебя. И именно сейчас, — Чернозуб в первый раз услышал, как Амен употребляет торжественное папское местоимение «мы».
Не теряя высокого достоинства, Коричневый Пони распростерся перед папой, но так и не произнес ни слова. Он оставался в таком положении, пока папа не истолковал его молчание как знак согласия, хотя оно показалось Чернозубу всего лишь подчинением папской воле.
— Встань, Элия. На следующей неделе ты будешь посвящен в духовный сан и рукоположен к своему служению. Если мы сделаем это достаточно тихо, ты сможешь отправиться на равнины еще до того, как Бенефез обо всем услышит.
Позже, исполняя повеление кардинала, Чернозуб еще до того как Халтор Брам покинул город, растолковал ему ситуацию.
— Он будет представителем папы во всех ордах и управлять всеми церквами и миссиями к югу и к северу от Нэди-Энн. Тем не менее, пока об этом не будет объявлено, вам не стоит говорить с ним на эту тему.
Военачальник покачал головой.
— Кузнечики его не примут, — проворчал он, комментируя назначение, — пока твой хозяин не помирится с Фуджис Вурн, как он обещал. И с духом Медведя надо посоветоваться.
— Похоже, — сказал Коричневый Пони, когда Чернозуб передал ему этот разговор, — что с тех пор, как я сделал ошибку, опровергнув речь Йордина, меня то и дело подстерегают неприятные сюрпризы, и далеко не все из них от моих врагов. Разве ты не удивлен, Нимми?
— Не совсем, ибо один из неприятных сюрпризов преподнес вам я, — с этих слов он хотел начать свои извинения, но кардинал просто с интересом посмотрел на него.
Отношение монаха к Коричневому Пони было несколько омрачено подозрениями — но не настолько, чтобы он сомневался, будто поступок его друга папы Амена Спеклберда явился для кардинала неожиданностью. Может, так были способны поступить кардинал Сорели Науйотт или Хилан Блез, которые в отсутствие Коричневого Пони постарались бы убедить Амена, что всю территорию Кочевников необходимо превратить в апостольский викариат, который будет управляться подобно епархии, и его епископ будет нести ответственность непосредственно перед папой, что окончательно положит конец архиепископу Тексаркскому, который фактически управлял завоеванной провинцией. Церковь управляла этой провинцией посредством викариев, назначаемых лично кардиналом Урионом Бенефезом, но ни в коей мере не входила в состав Тексаркского епископата. Большая часть ее управителей были военными капелланами. Но создать викариат, подчиняющийся папе, означало вывести из-под власти Бенефеза огромную территорию трех орд и лишить его доходов, половину которых получали его племянники. Неужто старый святой отшельник мог сам родить такую идею, если бы рядом с ним не соседствовала зловещая сила? Чернозуб прикинул, что в ее лице вполне мог выступать и Святой Дух. Как говаривал святой Лейбовиц, старик был «независим, как свинья на льду». Идея была настолько бредовой, что в равной степени могла исходить и от Господа Бога, и от самого Спеклберда. Или, как сказал бы Урион Бенефез, от дьявола или от Коричневого Пони. И тот несомненный факт, что Красный Дьякон за сутки стал архиепископом, подтверждал эту мысль в глазах тех, кто давал себе труд задуматься, что его возвышение стало результатом заговора, хитро продуманного сумасшедшим старым обладателем папского престола, который воссел на него, еще не будучи законным образом избранным.
Рукоположение Элии Коричневого Пони в священники и помазание его в епископы Палермо произошло в ходе тайной церемонии, на которой никто не присутствовал, кроме ее непосредственных участников. Но в глазах Чернозуба его хозяин не изменил манеру одеваться или носить епископское кольцо — пока не пришла пора оставить город ради равнин, что произошло несколько ранее отъезда самого папы в Новый Рим. Не подлежало сомнению, что для Филлипео Харга и Уриона Бенефеза будут оставаться неизвестными и новый титул Коричневого Пони, и круг его обязанностей, пока Кочевники всех трех орд не признают его духовным лидером всех христиан равнин и он окончательно не утвердится в провинции.
— Вне всяких сомнений они об этом услышат, Нимми, — сказал Чернозубу кардинал. — Но официально сообщить им может только папа, когда сочтет себя готовым к этому. А теперь у меня есть для тебя новое задание. Ты разыщешь своего предшественника, который какое-то время занимал этот кабинет. Я собираюсь навестить сначала Чиира Хонгана, а потом Халтора Брама. Ты же доставишь мое письменное послание Диону, мэру Нового Иерусалима; в нем кроме всего прочего я представляю тебя. Расскажешь им, что со временем в Секретариате будет работать кардинал Сорели Науйотт. Что Улад совершенно вышел из-под контроля и его необходимо заменить. Если они будут настаивать, требуя объяснений, почему я отказался иметь дела с Эдрией, думаю, тебе придется сказать им, что она вступила в слишком интимные отношения со служителем церкви.
— Я стыжусь, милорд…
— Никак хочешь покаяться? Не обращай внимания. Приложи все усилия, чтобы смягчить их. Выучи все, что тебе необходимо, о Новом Иерусалиме. Пусть Вушин по пути введет тебя в курс дела. В настоящее время все это довольно секретно, но покров тайны спадает с каждым днем. Ты можешь согласиться или отказаться работать в Секретариате у кардинала Науйотта. При желании можешь докладывать лично ему. Если ты ему не пригодишься, он скажет, где можно найти меня, или же ты сможешь вернуться к своей подружке в Пустой Аркаде, или же обосноваться в колонии. Можешь попросить, чтобы тебя взяли обратно в аббатство, или же стать отшельником. И я не хочу видеть тебя раньше, чем ты справишься с этим заданием.
Глава 14
«Те, кого отсылают в дорогу, не должны пропускать назначенного часа. Они должны как можно раньше прибыть в назначенное место и не забывать о цели своего служения».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 50.Западная дорога, что тянулась из Валаны в Новый Иерусалим, была еле заметна, и колесным экипажам передвигаться по ней было куда труднее, чем по папской дороге на восток, по которой Чернозуб с Вушином сопровождали кардинала ранней весной. У них было четыре фургона, которые тащила вереница мулов, но колеса то и дело застревали в глубоких колеях, размытых поздними летними дождями, и приходилось помогать животным. Дожди выпадали не так уж часто, но когда приходило их время, низины в пустыне заполнялись ревущими потоками воды. На восток можно было бы ехать и легче, и быстрее, если у путешественников не было причины избегать встреч с другими путниками. Причина именовалась «безопасность». Когда они пересекали очередной поток, один из прикрытых ящиков вывалился из фургона и раскрылся. Чернозуб видел, как Вушин и стражники Ри кинулись вытаскивать ружья из мелкой воды, то и дело украдкой оглядываясь, словно в можжевельнике прятались шпионы. Позже он волей-неволей выяснил, что груз содержит револьверы и боеприпасы. Когда он спросил о них, Элкин объяснил, что запас их сравнительно невелик. Выяснилось, что для секретаря и охранника Секретариата эта экспедиция была главным делом, и он намекнул Нимми, что явился из закрытого крыла здания. Группа состояла из нескольких возниц, Вушина, Аберлотта, Улада и шести воинов покойного кардинала Ри, которые отлично умели сражаться и без оружия. При свете костра они проводили схватки между собой и с Вушином, которому приходилось прилагать немалые старания, чтобы сохранять первенство среди них, хотя соперники и были моложе его лет на тридцать. Между собой они говорили на своем языке, и Вушин лишь посмеивался над ними. «Топор, напомни им, пожалуйста, — взывал Чернозуб, — что им лучше осваивать горный или церковный».
Топор ворчал на них, и они, запинаясь, пытались продолжать разговор на церковном. Нимми внезапно понял, что они говорят о нем, поскольку он был исключением из принятых тут правил, как они их понимали, — монах не хочет или не может участвовать в схватках. Хотя они были христианами и несли на себе обеты, по крайней мере у одного из них дома осталась жена. Когда Вушин все это растолковал Чернозубу, тот удивился.
На первых порах воины Ри оставались для него загадкой. Вушин старательно занимался с ними, и, похоже, они достаточно хорошо понимали друг друга, тем более если разговор сопровождался выразительной жестикуляцией. На третий день Чернозуб осмелился снова напомнить Вушину, что его задача — научить церковному желтую гвардию, как их стали называть в Валане. Вушин уставился на него и тут же не без смущения объяснил, что люди кардинала Ри пытаются обратить его в христианство.
Монах недоверчиво посмотрел на него.
Увидев выражение его лица, Топор рассмеялся.
— Сомневаюсь, что ты хотел бы услышать их аргументы на церковном. Неужто забыл, что они люди кардинала Ри?
— Я предполагал, что они христиане, и слышал, как они исполняют псалмы, но…
— Но не предполагал, что солдаты могут быть настолько религиозны?
Нимми задумался. В памяти у него всплыли и жутковатый вид воинов, о которых шла речь, и действия насильников из его детства.
— Наверно, я был предубежден, Топор. Солдаты, которых я встречал, часто были богобоязненными, но, кроме вас, я не видел никого, кто был бы столь возвышен духовно.
— Наверное, кроме меня? А я духовно возвышен, Нимми?
— Ты можешь смеяться, но я так думаю. Ведь на самом деле я знаю о тебе лишь то, что ты позволил мне узнать. Разве не так, Топор?
— Видишь ли, там, откуда они родом, все монахи, даже христианские, придерживаются традиций боя без оружия.
— Но теперь-то они не безоружны! И ты говоришь, что они монахи?
— Да, думаю, можешь считать их монахами. Что же до оружия, то Ри освободил их от этого обета, а наш хозяин расширил его разрешение. Орден, к которому они принадлежат, — азиатский, но тут это неизвестно. Когда кардинал Коричневый Пони и папа поймут, что они несут на себе религиозные обеты, то эти воины потеряют свободу, пока Церковь не решит, что с ними делать. Они не спешат возвращаться домой, но их обеты сходны с вашими. Они хотят быть свободными, создать свою общину, но боятся попросить об этом. Вот почему они хотят и стараются как можно скорее обучиться церковному. Тебе нет смысла ворчать на нас из-за языка. Я предложил кардиналу, чтобы они на какое-то время остались в аббатстве Лейбовица. Там они могут носить свои одежды и учить ваши литургии. Примут ли их?
— Я не могу говорить за аббата Джарада кардинала Кендемина, — Чернозуб подавил горечь и продолжил: — Ты читал Устав ордена святого Бенедикта, Топор. Братия из аббатства Лейбовица до сих пор чтит большинство его правил, что означает — они должны проявлять гостеприимство по отношению к любому, кто придет к ним, как если бы путник был Христом, скитающимся по пустыне. Но я не предполагал, что люди Ри воспользуются этим правилом.
— Конечно, ты не хотел бы, чтобы аббат понял, что они оказались в обители по твоему совету, хотя на самом деле ты не давал его, — мрачно сказал Вушин. — Но ты прав, считая, что им нужно учить церковный. Я нажму на них. Если они окажутся в аббатстве Лейбовица, то не по твоему совету, а в силу пожелания кардинала, которое он уже высказал.
— Хорошо. В свою очередь, я все забуду, хотя мне бы хотелось узнать об их ордене.
— Они знают, что я немного обучал тебя искусству боя, и им хотелось выяснить, разрешено ли другим монахам твоего ордена осваивать бой без оружия или же это противоречит правилам.
— Коль скоро это просто упражнения или служит целям укрепления тела, то к правилам это отношения не имеет. Порой вне стен обители мы играли в мяч, особенно те из нас, чья работа не включала в себя физические нагрузки, — Чернозуб засмеялся. — Только представить себе: аббат Джарад дает разрешение на подготовку бойцов!
— Знаю. Это очень плохо. Их орден обладает интереснейшими традициями. Если они останутся здесь, то захотят жить своей общиной или влиться в какую-нибудь другую.
Позже Вушин признался Чернозубу:
— Знаешь, Нимми, мои соотечественники на побережье несколько поколений назад бежали от азиатских христиан. В своей стране кардинал Ри — это сверх-Бенефез. Те христиане были завоевателями. Мой народ проиграл, и его швырнули в океан.
Нимми воззрился на палача так, словно видел его в первый раз.
— Мой тоже проиграл, — сказал он. — Так что мы должны быть братьями по духу.
Жесткий взгляд Топора дал понять, что такое приглашение к близости слишком преждевременно. Развернув коня, Топор направился в хвост каравана, к охране и фургону. И снова Нимми понял, что с тех пор, как он не подчинился кардиналу, Топор не в полной мере доверяет ему.
Вушин снова как-то отстранился от него, но Нимми понимал, что причина отчуждения лежит в нем самом. Новость, которую Вушин, может, смеха ради сообщил ему, что желтая гвардия хочет обратить его в свою разновидность христианства, расстроила и смутила его. Чего ради ему и его собратьям-монахам игнорировать религию Вушина, если у него есть таковая? Топор посещал мессу по привычке, но никогда не ходил к исповеди. Его преданность и верность носили религиозный характер; точно так же он относился и к смерти. Он мог бы быть хорошим монахом, думал Нимми. Но альбертианский орден святого Лейбовица никогда не был склонен к обращению язычников. Потому, что это было против правил. Монахи были свободны в своих ответах на религиозные вопросы гостей, но Топор никогда ни о чем не спрашивал. А теперь эти странные люди хотят вовлечь его в свое религиозное братство. И орден Лейбовица упустил шанс обзавестись кроме электрического стула еще и монахом — воином и палачом.
Новые друзья Вушина из желтой гвардии знали о тех годах, что он провел как палач Ханнегана, Филлипео Харга и его предшественника. Нимми слышал их разговоры, хотя понимал в них очень немного (разве что когда они переходили на церковный), и мог сделать вывод, что иностранцы были полны симпатии к нему; он видел, что после этих разговоров Топор уходил раздраженный, в то же время испытывая облегчение. Нимми казалось, что Вушин после своей давней работы несет на себе груз почти всех грехов христианства и воины этими разговорами старались отвлечь его. Видно было, что Топору, как и Чернозубу, не хватает присутствия кардинала; монах прикидывал, кто сейчас, после покушения, служит при нем телохранителем. После того как люди Ри хоть немного овладеют языком Скалистых гор, их новый апостольский викарий привлечет воинов для работы в тайном отделе Секретариата, но пока все они были здесь — далеко от нового хозяина, такие же растерянные, как и сам Нимми.
Монах попытался снова найти утешение в религии, по крайней мере на время путешествия, но усилия постепенно сходили на нет, из-за чего он впал в такое раздражительное состояние, что на целых три дня бросил молиться, медитировать или читать требник. Измученный жарой, он постоянно видел перед собой Джарада, Коричневого Пони, Эдрию, Святого Сумасшедшего или даже папу. Он постоянно вел с ними воображаемые диалоги, пока они не теряли всякий смысл. Особенно с Эдрией. Они были полны эгоцентричности, потакания слабостям и тщеславия. Поскольку Чернозуб так и не смог обрести внутреннего спокойствия, он наконец обратил внимание на окружающий мир и, стараясь чем-то занять себя, стал вести разговоры даже с Аберлоттом.
В группе путешественников царила почти военная дисциплина с лейтенантами Вушином и Уладом под руководством Элкина. На пути, который они избрали, могли подстерегать опасности и от агентов Тексарка, и от безродных Кочевников; на этих выжженных землях могли встретиться отщепенцы тех и других, и всегда существовала возможность враждебной стычки. Местность была более суровой, чем та, которую Чернозуб увидел во время первого путешествия в Валану. Тут отсутствовали проложенные дороги; четко обозначались лишь перевалы на горных участках. Группа имела при себе разрешенное договорами оружие, если не считать того, что тащили на себе мулы и ехало в фургоне, но они никого не встретили, если не считать сморщенного старика, который, бредя за ними от Валаны, в сумерках присоединился к ним. Появление старика стало поводом для возражений со стороны тех, кто отвечал за секретность и безопасность, но старик казался буквально полумертвым, да и в любом случае он направлялся в Новый Иерусалим. Улад утверждал, что видел его раньше.
— Он был в Новом Иерусалиме, — говорил гигант. — Магистр Дион как-то нанимал его, так что он о нас знает.
— Нанимал его? Для чего?
— Он может вызывать дождь и берет за это серебром.
— И получалось?
— Дождило, но не сильно. Дион уплатил ему, но немного.
— Значит, город он знает, — задумался Элкин. — Но знает ли он о нашем багаже? Нас он уже видел, так что может ехать с нами. Если будет вести себя как подобает, пусть считается гостем. Попытается отвалить, будет пленником, пока мы не доберемся до цели.
Тем не менее сначала старик отказался присоединиться к ним, и его пришлось бы арестовать и привязать к одному из фургонов, если бы он не передумал после того, как узнал в Чернозубе монаха аббатства святого Лейбовица, что не на шутку развеселило его. Он поддразнивал монаха тем, что тот не носит рясы, а вот с четками на поясе не расстался. Нимми старался избегать общения со стариком, который, по всей видимости, знал об аббатстве больше, чем ему полагалось бы. Пожилой странник после нескольких попыток завязать разговор пожал плечами в ответ на сдержанность монаха, наверное, отнеся ее на счет религиозного обета хранить молчание, но, как бы практикуясь, продолжал кидать в его сторону реплики.
Себя он называл пилигримом, но не христианином. На нем были драные льняные лохмотья с шерстяными вставками, а свои пожитки он таскал в узле, привязанном к посоху. Голову старик оберегал от солнца, прикрывая ее шапочкой с замысловатой вышивкой, которую называл ермолкой. Ощетиненный и недоверчивый на первых порах, он, как выяснилось, был довольно безобиден и к концу первого дня стал весьма разговорчив. Нимми не мог представить, что враги Коричневого Пони послали шпионить за ним такую развалину. Элкин был склонен с ним согласиться. И, посадив его поначалу на мула, он, когда старик стал жаловаться, что седло натерло ему задницу, пересадил его в фургон, не беспокоясь, что старик устроился на ящике с оружием.
Старик рассказал, что он еврей, и кроме всего прочего зарабатывал шитьем палаток. По всей видимости, он был одним из тех бродяг, кто предлагает свои услуги как заклинателя дождя в засушливых местах. Старый еврей обладал кое-какими полезными навыками и некоторыми источниками дохода. За пятнадцать монет он мог вырвать зуб; за восемь — соскрести налет с зубов и прочистить их тальком. О прочистке зубного канала надо было договариваться. Он представлялся заклинателем дождя, и если дожди не выпадали в течение недели, он не получал ничего, кроме платы за жилье и пропитания; если же дождь проливался, он получал столько, сколько, по его мнению, могли отстегнуть заказчики. Он давал советы по любому поводу каждому, кто имел желание слушать его, а порой просто навязывал их.
Чернозуб надеялся, что это путешествие даст ему возможность побыть в тишине и в одиночестве. Но старый еврей лишил его этой надежды, задавая кучу вопросов об аббате Джероме, который, насколько Нимми мог припомнить, умер лет семьдесят тому назад, будучи в солидном возрасте, и тем не менее старик утверждал, что он, Бенджамин, был другом Джерома.
— Вам должно быть не меньше ста лет, — скептически заметил Нимми. — Или еще больше.
— Хм! А почему бы и нет?
Ходили слухи, что долгожителями отличается Долина рожденных по ошибке, но старый пилигрим не походил на ее обитателя. Он признался, что принадлежит к тайному народу, обитающему в Мятных горах, которые ему было позволено в очередной раз покинуть, но назад он так и не вернулся. Магистр Дион должен был знать, откуда он родом. Но если он был из «привидений», это должен был знать Улад. Тем не менее тот относился к старику как к посмешищу, по крайней мере в роли заклинателя дождя. То, что Мятные горы были прибежищем для Рожденных по ошибке, было хорошо известно Церкви, но природа колонии как народа «привидений» была затушевана тем фактом, что такие уроды, как Шард и его семья, обитавшие в предгорьях, не считались полноправными гражданами; хорошо вооруженные силы центральной колонии защищали их от отщепенцев, бродячих Кочевников и агентов Тексарка. Бродяги, как правило, обходили этот район и держались в стороне от Долины рожденных по ошибке. Тех же, кто пытался попасть в нее, убивали или прогоняли.
— И что за дела у монаха святого Лейбовица в этом Новом Вавилоне? — спросил старик. — Особенно у отлученного монаха?
— Кто тебе это сказал? — Нимми пристально посмотрел на него, удивленный тем, что сплетни дошли и до ушей этого прирожденного бродяги. Кто в группе знал о его статусе? Ну ладно, все они знали — Вушин, Элкин, Аберлотт, словом, все. Тем не менее он был смущен и растерян, что его личная жизнь доступна посторонним взглядам.
— Я всего лишь должен доставить общине послание кардинала. Почему ты называешь ее Новым Вавилоном?
— Таков ее титул, и они сами ее так называют.
— Откуда ты держишь путь в Новый Вавилон?
— Из Валаны. Так же как и ты.
— А что ты делал в Валане? Молил о ниспослании дождя?
— Я пришел навестить своего старого друга Амена Спеклберда, но меня к нему не пропустили, да и кроме того, он не Тот.
— Тогда кто же он?
Старый еврей пожал плечами.
— Кто знает? — это было все, что он сказал.
Во время перехода к Мятным горам великан Улад, которого Чернозуб на первых порах считал опасным и жестоким животным и психопатом, оказался игривым ребенком. Уродливые стороны его характера произрастали из инстинктивного недоверия ко всем людям, если не считать джинов, но во время долгого пути к югу это недоверие постепенно таяло.
Нимми лишь раз вышел из себя во время путешествия — но не из-за старого пилигрима. Слава Богу, причиной явился Аберлотт. Но затем он еще раз взбеленился — на этот раз из-за отсутствующего аббата Джарада кардинала Кендемина, и выглядело это как бред наяву. Он с наслаждением представлял себе, как сжимает горло аббата, как большими пальцами сдавливает ему кадык, хотя сразу же, как только старикашка потерял сознание, перестал душить его. Зло может быть привлекательным, и весьма. Это он знал. Но как трудно признаться исповеднику в том, какое наслаждение может приносить грех; священник разгневается и наложит на него наказание, которое поможет избавиться от испорченной натуры, что продолжает жить в нем. Он чувствовал, что окружающая реальность расплывается перед ним, и Вушин поймал Нимми на том, что, покачиваясь в седле, он бормочет богохульства. Он чуть не вылетел из седла, когда Топор ударил его по спине, чтобы привести в чувство. За последние несколько месяцев с ним произошло столько событий, но они казались ему нереальными, порой он думал, будто сходит с ума. Когда он должен был молиться, Нимми просто грезил наяву, а потом сквозь зубы проклинал себя.
— Займись делом, брат, — посоветовал ему Топор.
Найти себе занятие было нетрудно. Каждодневно нужно было разбивать и сворачивать лагерь, а это требовало и времени, и трудов. Когда день складывался идеальным образом, он включал в себя одиннадцать часов пути по безжалостно выжженным пространствам, а остальные тринадцать уходили на то, чтобы упаковать груз, распаковать его, на выслеживание животных, охоту, стряпню, еду, стирку и штопание одежды, ремонт снаряжения и, наконец, на сон. В лучшем случае удавалось быть в пути не больше одиннадцати часов. Чаще всего дорога занимала часов десять.
На седьмой день Улад, Вушин и Элкин, посовещавшись, пришли к выводу, что караван с его ценным грузом будет под надежной охраной и без Чернозуба, Аберлотта и Элкина, которые, покинув караван, смогут оказаться в Новом Иерусалиме вдвое быстрее. Вушин и воины Ри останутся при погонщиках мулов, чтобы отбить нападение любых обитателей пустыни. Под вопросом оставалась безопасность передовой партии, но Улад и Элкин были солдатами, да и Чернозуб прошел у Вушина науку боевого искусства.
С ними было позволено отправиться старому еврею и Аберлотту, ибо от них все равно не было бы никакого толка, случись защищать караван от вражеского нападения. Аберлотт счел мрачное настроение Чернозуба за признак подступающего сумасшествия.
— Похоже, у тебя крыша едет, — проснувшись, сказал студент в первое же утро. — Ты всю ночь разговаривал, хотя днем ты ни с кем и словом не обмолвишься.
— Что я говорил?
— О девушке с очень маленькой дырочкой.
— О какой девушке?
— С очень маленькой дырочкой. Ты называл ее окном во вселенную. Нимми, ты явно сходишь с ума.
— Дырочку? А может, это я тебя называл ослиной задницей? — но, увидев, что Аберлотт совершенно серьезен, добавил: — Мне что-то приснилось. Но может, я и в самом деле слегка рехнулся. У меня ничего не получается. Наверное, мне нужен человек, который подскажет, что делать. Без наставника, без аббата или кардинала я не знаю, как справляться…
— Или тебе нужен папа? Как-то во сне ты вспомнил Амена Спеклберда.
Наконец передовой отряд добрался до западных склонов Мятных гор. Элкин был убежден, что они на три дня опередили остальных, которые сопровождали вьючных мулов и фургоны. Здесь склоны были покруче, чем с восточной стороны хребта, почти неподъемны, но едва они собрались штурмовать их, как в нескольких шагах перед ними на землю обрушился град стрел и камней. Они сразу же остановились. На вершине скалы появились три карлика с луками и один с мушкетом, которые сверху смотрели на них, залитых лучами полуденного солнца. Покрыв их ругательствами, Улад сообщил, кто он такой и с какой целью они тут оказались. Уродцы исчезли.
— Проход козлов отпущения, — осклабился старый еврей. — Им бы лучше унести ноги и вернуться домой в долину.
— Может быть. В долине есть люди, которые верят, что Христос вернется в облике одного из них, — сообщил Улад, когда они ступили на крутую каменистую тропу.
— Ты хочешь сказать, что он родится как один из них? — спросил Чернозуб.
— Да.
— Но предполагается, что это будет совершенно не так, — сказал Аберлотт. — Его увидят снисходящим с облака.
— Но прежде чем его увидят, ему предстоит родиться.
— Говорится вовсе не так.
— По-другому?
Чернозуб продолжал хранить молчание. Старый еврей презрительно хмыкнул.
Когда они выбрались на небольшое плато, Элкин спросил Улада, сколько времени, по его мнению, займет путь до центра общины.
— Самое малое часов восемь, — сказал гигант.
С северной обочины дороги, которая от плато вела в горы, уходило вниз глубокое ущелье, а с юга до самого подножия Столовой горы тянулось несколько акров зарослей. Начали сгущаться сумерки, и Элкин принял решение разбить тут лагерь, хотя Улад сначала возражал, говоря, что из леса к ним могут подкрасться и вообще тут полно кугуаров. Проголосовали, и великану пришлось уступить.
— Хотя бы держитесь подальше от зарослей, — продолжал он стоять на своем.
Ночь прошла тихо и спокойно, хотя каждому по очереди приходилось подниматься, чтобы поддерживать костер. Их не посещали ни кугуары, ни «привидения». Чернозубу выпала последняя вахта, и к ее окончанию небо стало светлеть.
Прежде чем будить остальных, он спустился в лесистую расщелину, чтобы набрать ведерко воды. Миновав деревья, он оказался на пляже, который был своеобразным кладбищем, россыпью костей. Рядом с родником тянулась полоска песка десяти шагов в ширину, которую каждую весну посещали выдры, а в песке валялось множество мелких человеческих костей, вымытых из земли бегущим сверху потоком. В Новом Иерусалиме появлялся на свет свой процент монстров, и утверждения, что таких детей возвращают народу Уотчитаха, были ложью. Далеко не все косточки принадлежали новорожденным. Полузасыпанный песком череп принадлежал пятилетнему ребенку. Убитые дети, жуткое наследие Великой цивилизации. На равнинах встречались такие места. Нимми не был потрясен, но решил, что воду он тут набирать не будет. В канистрах еще хватало питьевой воды. С омовением и бритьем они могут и подождать.
На полпути вверх по склону он чуть не столкнулся с кем-то, кто стремительно спускался вниз. Улад притормозил, обдав Чернозуба фонтаном песка и гравия.
— Что ты здесь делаешь? — строго спросил он.
— Как выяснилось, ничего, — Нимми показал пустое ведро. Улад схватил его за руку.
— Два года назад тут была эпидемия, — сказал он. — И умерло много детей.
— Понимаю, — спокойно сказал Нимми, стараясь высвободить руку из его хватки. Улад отпустил его. Нимми понял, что общины по всему континенту каждые несколько лет приносят жертвы таким эпидемиям. Часто все их жертвы отходят в мир иной в течение одной недели, и подавляющее большинство их составляют изуродованные дети или еще хуже. Когда позже Нимми рассказал об этом старому еврею, тот назвал эпидемическое заболевание «закланием пасхальных агнцев джинов».
— А ты так убедительно рассказывал о Новом Иерусалиме и о его политике возвращения уродов в долину, — сказал Аберлотт.
Чернозуб пожал плечами. Все, что он знал о Новом Иерусалиме, он слышал от Эдрии. Останки детей, принесенные ручьем со стороны деревни, были скорее правилом, а не исключением. Так оно и было. Разве что Новый Иерусалим станет исключением.
Подъем в гору заставил путешественников преодолеть длинный U-образный поворот, что тянулся по склону долины или же горы, откуда была видна дорога, по которой караван мулов должен был подойти к перевалу. На горных склонах росли высокие сосны. Скоро им стали попадаться на глаза признаки пребывания тут человека, но люди, что встречались им, казались совершенно нормальными. Несколько семей уродцев жили на краю раскинувшейся колонии — так же, как на восточных склонах того же хребта обитали Шард и Темпус. Порой попадались настоящие фермы, хотя земли, на которых их встречали стражники, трудно было назвать плодородными. За горные пики цеплялись дождевые облака и снежные тучи, и после весеннего таяния снегов с них текли нескончаемые потоки. На перевалах и в долинах вдоль ручьев и рек росли яблони, груши и сливы. Лето перевалило на вторую половину, принеся с собой богатый урожай, и торговцы предлагали свою продукцию вразнос с тележек, запряженных осликами, которые они ставили в городских центрах. С шестов свисали целые туши коров, баранов и оленей; по требованию покупательниц от них отрезали цельные куски мяса. В конце дня из шахт поднимались и расходились по домам мужчины с темными от угольной пыли и пороховых газов лицами.
Так называемый капитолий был трехэтажным зданием из каменных глыб, скрепленных известковым раствором, на нижнем этаже которого располагались кухня и обеденный зал, разделенный на две половины: большая предназначалась для грязных шахтеров, а меньшая — для правительственных служащих и гостей. Нимми объяснили, что второй этаж отведен под резиденцию мэра Диона и зал для совещаний, где еженедельно собиралась небольшая группа законодателей, чтобы принять или отвергнуть административные решения. В центре города стояло не больше дюжины зданий, а жилые дома и амбары — большей частью бревенчатые сооружения на каменных фундаментах — были рассыпаны среди гор.
Восприятие Чернозубом этих мест было окрашено рассказами Эдрии, но встреча с детскими кладбищем вызвала у него подозрения. Он испытал облегчение, когда Улад, уехавший вперед к центру города, вернулся и сказал, что мэр Дион направился в другую часть горного массива и до завтра не вернется. Встреча Аберлотта с семьей Джасиса тоже была отложена на завтра.
Ему вместе с Чернозубом, Элкином и старым евреем придется расположиться на ночлег в гостевом доме, где уже был один постоялец, прибывший из-за пределов колонии; он с широкой улыбкой вышел им навстречу. Чернозуб, задохнувшись от изумления, преклонил колена и поцеловал кольцо кардинала Чунтара Хадалы, апостольского викария народа Уотчитаха.
— А где же кардинал Коричневый Пони? — спросил епископ Рожденных по ошибке.
— Когда я видел его в последний раз, с ним было все в порядке, ваше преосвященство. Предполагаю, он на равнинах вместе с Чиир Хонганом и другими вождями Кочевников.
— Да, я знал о его планах. Предполагаю, вы удивлены, встретив меня здесь?
— Мне стоило бы догадаться, что у вас особые отношения с Новым Иерусалимом, который как колония был изъят из вашей епархии.
— Из викариата, — поправил его Хадала. — Вы прибыли как раз вовремя, чтобы успеть разложить вещи и умыться перед обедом. Там и встретимся.
Вслед за Уладом путешественники разошлись по отведенным им местам. Встреча с Хадалой снова разбудила в Нимми чувство стыда за то, что не подчинялся своему кардиналу, но он противопоставил ему свои недавние подозрения в адрес Коричневого Пони, что тот или собирается свергнуть папу Спеклберда, или изменил ему и если не стоит во главе заговора, то с самого начала поддерживал его. План, по всей видимости, заключался в том, чтобы обеспечить валанскую Церковь некоей военной силой, не зависимой от Кочевников, которые с ней в союзе. Чернозуб счел, что план не таит в себе ничего особо коварного, если не считать, что он был скрыт от папы. Неужели Амен Спеклберд обязательно осудил бы тот факт, что Церковь обзавелась оружием? Вполне возможно, прикинул Нимми. Должен ли он ему сообщить? Он попытался представить, каким образом выяснить, посвящен ли кардинал Чунтар Хадала в эту тайну, но решил, что будет лишь внимательно наблюдать за ним, когда прибудут с оружием Топор и его желтокожие гвардейцы.
Тем не менее вечером, в преддверии обеда, кардинал пригласил Улада и Элкина за стол, который стоял по другую сторону помещения, где обедали Чернозуб, Аберлотт и старый еврей в компании чиновников из офиса мэра Диона. Наблюдать за кардиналом было бы просто потерей времени. Ему было достаточно убедиться, что во время обеда он советовался с Уладом о деятельности Секретариата и его секретных агентов. Он решил отдать должное оленине с картошкой и свежим фруктам и в то же время, слушая болтовню Аберлотта с чиновниками, узнать побольше о колонии. Кое-что ему стало понятно. Они рассказывали, как за счет иммиграции из долины рос Новый Иерусалим.
Уотчит-Ол’заркиа, как назывался горный район к северу от Тексарка, который превратился в гетто для выходцев из Долины рожденных по ошибке, был окружен пограничной стражей Церкви и государства, но по ночам граница становилось прозрачной для пеших беглецов и гонимых «привидений». Это было известно всем. Некоторые побеги были всего лишь бравадой, и после нескольких дней или недель пребывания за границей беглецы возвращались к своим домам, конечно, как правило, обогатившись. Мужчины оставляли свои жилища в горах, чтобы воровать или найти в городе временную работу. Женщины уходили по тем же причинам, но не только — иногда им удавалось забеременеть от сельских ребят со здоровыми, как они надеялись, генами. Тем не менее часть беглецов так и не возвращалась, и пока на востоке росли маленькие колонии «привидений», уединенное положение Нового Иерусалима в Мятных горах, его ресурсы и природная оборонительная система превращали его в самое большое скопище генетически сомнительных личностей вне пределов долины; сюда тянулся неиссякающий поток беглецов, которых привлекало это надежное убежище. Особенно велик был наплыв в годы после Завоевания, население стремительно росло, ибо после того, как империя подавила орду Зайцев, она перестала представлять угрозу для путешественников через провинцию; оставалось лишь избегать встреч с тексаркскими форпостами и местной милицией.
— Мы можем обороняться в наших горах, — после обеда объяснял старший клерк, провожая Чернозуба, — но против Тексарка у нас нет наступательного оружия, кроме террора. «Привидения» хороши для внедрения. По всему Тексарку у нас есть свои люди — и в Церкви, и в армии. Они есть и в Валане, и в Новом Риме. Если наши люди в Уотчитахе будут подвергаться гонениям, мы ответим террором.
Промолчав, Нимми огляделся. Никто за ними не наблюдал, никто не подслушивал, и вне пределов обеденного зала чиновник стал куда более разговорчив.
— Это ваши люди пытались убить кардинала и меня? — спросил монах.
Чиновник вздохнул.
— Не уверен. Приказ исходил не отсюда. Наши люди, конечно, будут все отрицать. Даже умные и расчетливые люди, когда им приходится жить по легенде, порой сходят с ума.
— До того, как Джасис поступил в университет, он собирался стать священником. У нас есть и другие. Террор вполне возможен.
Когда придет время, мы пустим его в ход, хотя, насколько я знаю, Церковь, включая и нашего друга Коричневого Пони, нас осудит. Но о его планах я знаю не больше вас. Наверно, кардинал Хадала в курсе дела, но, похоже, долгосрочных планов не имеется. Я смотрел, как магистр Дион играл в шахматы с вашим кардиналом, когда побывал в Валане. Проиграл он столько же партий, сколько и выиграл. Он рассчитывает на несколько ходов вперед, но в шахматах не может быть долгосрочной стратегии. Он собирает тут оружие для нас и для других. Нам не дано знать, кто эти другие, но предполагаю, что это могут быть Кочевники. Он заключает союзы со всеми народами, которые боятся Тексарка. У него есть союзники к востоку от Грейт-Ривер и к югу от Брейв-Ривер. Он мне напоминает человека, для которого все эти пространства — шахматная доска. Пока он не берет никаких фигур. Он копит силы.
Нимми с удивлением слушал откровения чиновника. Может, Коричневый Пони и не пользуется тут такими симпатиями, как ему казалось. У колонии свои планы, а у Коричневого Пони — свои. Монах сменил тему разговора:
— Можете ли вы сообщить мне, где обитают ваши бывшие агенты в Валане?
— Кто вас интересует?
— Ее зовут Эдрия, дочь Шарда.
Чиновник открыл рот и, щелкнув челюстями, закрыл его. Нахмурившись, посмотрел на Чернозуба и с запинкой ответил:
— Должно быть, я слишком разболтался. Вот вы и пришли. Теперь мне надо идти, — развернувшись на пятках, он заторопился к каменному зданию.
Ночью Чернозубу приснилось, что он вернулся в монастырь. Никто не смотрел на него, никто с ним не заговаривал, и он подумал, не является ли такое отношение частью его отлучения. Но отчужденность — это было не то слово. Слегка склонив голову, он стоял в ожидании прямо на пути настоятеля Олшуэна. Когда в поле зрения возникли его сандалии, он отступил в сторону, чтобы избежать столкновения. Олшуэн должен был сойтись с ним нос к носу. Или пройти сквозь него, будь он призраком. Чернозуб пошел к кладбищу и остановился у открытой могилы.
Это была та же самая могила и на том же месте, где он оставил ее ранней весной. В монастыре святого Лейбовица в пустыне всегда была отрыта могила, пусть даже никто не болел. И после святого брата Мулестара никто не умер. Но могила продолжала ждать очередного обитателя. Края ямы были со всех сторон прикрыты тростниковыми циновками, спущенными вниз, так что капли дождя скользили по стеблям и падали в яму, а не размывали края.
При необходимости монахи с лопатами спускались в яму и выкидывали лишнюю землю, которая попадала в могилу после очередной чистки. Каждый год братия не менее семи раз покаянной процессией посещала могилу. Какое-то время они стояли вокруг могилы, глядя в ее зев, пока солнце, склонявшееся к западу, не начинало отбрасывать длинные тени на ее желтоватые глинистые стенки. Яма заставляла думать о душе, которая была средоточием всего сущего. Чернозуб не любил ни эту яму, ни церемонии медитации вокруг нее, хотя часть братии весь остаток дня не могла думать ни о чем другом.
Сейчас циновки отсырели. Насколько он видел, могила потеряла свой облик. Ему показалось, что вместо соломы он видит перед собой растительность на лобке, да и отверстие было не могилой. Он покачал головой и, не расставаясь с мыслями об Эдрии, отправился искать аббата, дабы поведать ему, что могила стала влагалищем, но тут он услышал крик ребенка. Малыш был в яме, и он вернулся посмотреть, что там такое. Ребенок был без рук и покрыт клочками шерсти: явно Рожденный по ошибке. Джин. Его собственный сын?
Он услышал свой сдавленный крик и почувствовал резкий удар по затылку. Придя в себя после забытья, он увидел, что рядом с ним сидит Аберлотт. Студент был обеспокоен душевным и физическим состоянием Чернозуба, в которое тот впал после отъезда из Валаны. Его дневные фантазии стали обретать характер ночных кошмаров.
— У меня за спиной дьявол, — сказал Нимми.
Ощущение мира как странного и непонятного места снова вернулось к Чернозубу, когда он встретил Кочевника Онму Куна, который на другой день вернулся с мэром Дионом и его спутниками. Лишь когда он заговорил на ол’заркском, Нимми по акценту понял, что он из Кочевников. Он принадлежал к Зайцам, что было ясно по покрою и ткани одежды, но форме ног, которые не были кривыми из-за жизни в седле, по цвету кожи, не выдубленной солнцем. Из-за скудной пищи нынешнее поколение Зайцев-Кочевников было ниже ростом, чем их предки и сегодняшние дикие Кочевники. Ясно было, что Кун выступал в роли неофициального представителя своей орды перед малым советом Нового Иерусалима, который, вне всякого сомнения, был арсеналом для всех детей Пустого Неба и Женщины Дикой Лошади. Подойдя, Нимми обратился к Куну на южном диалекте языка Кочевников. Кун расплылся в широкой улыбке; они обменялись любезностями и рассказали друг другу пару лирических историй. Они обсудили встречу на равнинах людей Виджуса и Медвежьего духа из всех орд, и Нимми удивил и обрадовал его сообщением, что кардинал Коричневый Пони — ныне апостольский викарий равнин, включая и юг; под его властью и священнослужители Тексарка. Но когда монах спросил Онму Куна, что привело его в Новый Иерусалим, ему грубовато посоветовали заниматься своими собственными делами. На его извинения Кочевник ответил лишь пожатием плеч.
— Может, твое положение бывшего секретаря кардинала и дает тебе право задавать вопросы, но ответить на них я не могу, — чтобы смягчить отказ, он отпустил пошлую шуточку Зайцев о женщине Виджуса, епископе Тексарка и о долгожданной эрекции.
Аберлотт отправился на встречу с семьей Джасиса, и больше в Новом Иерусалиме Чернозуб его не встречал. Никто не говорил с ним об Эдрии, никто даже не признавался, что знаком с ней. Что же до мэра, то он не давал о себе знать вплоть до того дня, когда прибыла группа воинов с мулами, фургонами и оружием и Элкин передал груз магистрату. Каждую ночь монаху снились какие-то дикие сны о светловолосой и синеглазой девочке-постреленке, в воротца которой он никак не мог войти. Эти сны пугали его.
Сны также подготовили его к первой встрече с мэром Дионом, который сразу же перешел к сути дела.
— Мы знаем, с какой целью вы здесь, брат Сент-Джордж, — вежливо сказал он. — Мы сочли оскорблением, когда секретарь отказался иметь дело с агентами, которых мы назначали. Мы подозревали, что убийство нашего Джасиса тоже было результатом предательства. Но Эдрия, дочь Шарда, убедила нас, что мы ошибаемся. Она взяла на себя всю ответственность. Вам нет необходимости объясняться или извиняться. Впредь контакты с Секретариатом будет поддерживать наш новый представитель. Сегодня, попозже, вы встретитесь с ним. Есть ли еще какие-то сообщения для нас?
Несколько секунд Чернозуб продолжал смотреть себе под ноги, а затем, подняв голову, встретил взгляд серых глаз Диона.
— Я могу принести извинения только за себя, магистр. Эдрия не сделала ошибок. Ошибался я. Даже кардинал это знает. Эдрия ни в чем не виновата. Где она и могу ли я с ней увидеться?
Серые глаза внимательно рассматривали его. Наконец магистр сказал:
— Должен сообщить вам, что Эдрия, дочь Шарда, скончалась, — он бросил на монаха быстрый взгляд и подозвал охранника: — Эй, ты! Поддержи его! Дай монаху бренди, — обратился он к другому. — Персикового, самого крепкого.
Чернозуб закрыл лицо руками.
— Как она умерла? — после долгого молчания выдавил он.
— У нее случились преждевременные роды. Что-то пошло не так. Вы же знаете, они живут далеко отсюда на папской дороге, и, когда наш врач успел к ней, она уже потеряла слишком много крови. Так мне рассказывали.
Магистр, видя, в каком Чернозуб горе, бесшумно покинул комнату, успев шепнуть Элкину:
— Завтра снова встретимся.
Когда он покончил со всеми делами и его обязанности как эмиссара подошли к концу, Чернозуб исповедался в местной церкви и постился три дня, проведя их в непрестанных молитвах о своей любви и о своем потерянном ребенке. Лелеять тоску было столь же плохо, как лелеять что-либо другое: похоть, торжество или, как говаривал Спеклберд, так же плохо, как носиться с любовью к Христу. Несколько дней Чернозуб провел в городской библиотеке. Когда горе захватило его с головой, он приостановил знакомство с историей колонии и погрузился в изучение своего горя. С силой сжав диафрагму, он продолжил чтение частной корреспонденции, которой первые колонисты обменивались со своими родственниками из народа Уотчитаха. Он искал какие-то сведения, которые могли бы ему рассказать о семье Шарда, о его предках. По всей видимости, они были из поздних поселенцев, как оно и должно было быть, и, ощетинившись оружием, окруженные корявой первой линией своей обороны, они не испытывали никакого исторического интереса к симпатичным обитателям этих гор. Почему уродливые илоты, которые козлами отпущения перекрывали проходы, не восстали против хорошо вооруженных «привидений-спартанцев?» Может, потому, что спартанцы были родственниками таких, как Шард, а Шард гордился своей Эдрией. Сегрегация тут существовала, но репрессий не наблюдалось. Нежелательным фактором тут были лишь уродливые гены. Чернозуб выяснил, что наказанием за сексуальные контакты между гражданами Республики Новый Иерусалим и уродами была казнь данного гражданина и его отпрысков, ежели таковые имелись. Среди жителей Нового Иерусалима были те, кто обладал особыми талантами. Браки заключались по контракту между семьями и утверждались магистратом. Людей случали подобно животным, но, как явствовало из записанных исторических хроник, случали не только рабов, но и таким же образом, подобно животным, сводили своих сыновей и дочерей. Единственной новинкой были критерии, по которым оценивался генетический потенциал таких союзов, хотя исторические свахи обычно интересовались лишь состоянием здоровья. Нимми смутно догадывался, что критерии эти не сильно отличались от тех, которые предпочитал правитель Тексарка. Но здесь ты рос здоровым человеком, со своими способностями, или же отправлялся на детское кладбище, подобное тому, на которое они наткнулись тем утром у подножия гор. Может, кто-то из городских детей-уродцев и возвращался к народу Уотчитаха, как рассказывала Эдрия, но возвращение в долину было долгим и опасным путешествием.
Основательно поразмышляв над своим сомнительным будущим, Чернозуб решил, что, окончательно завершив свою не столь уж важную миссию, он вернется в мир через аббатство Лейбовица, поскольку туда хотели направиться желтые монастырские воины, а Вушину было приказано возвращаться в Валану. У Нимми же были свои причины стать гидом при воинах. Во-первых, он подозревал, что Коричневый Пони послал его сюда, чтобы отделаться от него, и он больше не доверял кардиналам Коричневому Пони, Науйотту и Хадале. Он хотел держаться подальше от всех заговоров, от тайн, в которые не был посвящен папа Амен. И его совесть, и его взаимоотношения с Богом нуждались в серьезном ремонте. Он хотел исповедаться перед Джарадом, который пообещал принять у него исповедь. Выставить его не выставят, но он понимал, что, если останется дольше необходимого времени, рады ему тут не будут. Оставалось надеяться, что за просителя его не примут, хотя не исключено, Джарад постарается, дабы он себя чувствовал именно в такой роли.
Когда Чернозуб и отряд воинов увязывали вьюки и седлали коней, готовясь в дорогу, к ним присоединился Онму Кун с фургоном, явно груженным оружием.
— Ты не можешь притащить это добро в аббатство, — сказал ему Нимми.
— Кто говорит, что я еду в аббатство? — возразил Кочевник-Заяц, направляясь к востоку вместе с группой всадников. Старый еврей, именовавший себя Бенджамином, последовал было за ними по пятам, но передумал. — Скажите аббату, что еще до зимы я навещу его.
Нимми пообещал передать его слова.
Ему ужасно хотелось, несмотря на слова мэра, по пути с гор навестить Пустую Аркаду, но как только Шард увидел их, он схватился за револьвер. Охранники сделали предупредительные выстрелы над головой Шарда; один из них перетянул плеткой круп мула, на котором сидел Нимми, и заорал, показывая, в какую сторону отступать. Они галопом пронеслись мимо усадьбы Шарда к дороге, которая вела на восток, к папской трассе. Нимми не смог даже поплакать на могиле Эдрии.
Как только они выбрались на папскую дорогу, Заяц-Кочевник попрощался с Чернозубом и сообщил, что решил оставить проложенную дорогу и напрямую пробираться на юго-восток. Он окажется в необитаемых землях, где граница имперской провинции оставалась предметом споров.
— Тебя не волнуют тексаркские агенты? — спросил Нимми.
— Со своими заказчиками я встречусь уже сегодня вечером, — с ухмылкой сказал Онму Кун. — Они направятся домой, а я вернусь в Новый Иерусалим.
Выяснив, как на языке жестов у Зайцев выглядит знак мира, они расстались. Нимми решил, что Кун всего лишь контрабандист оружия, снабжающий своих загнанных соплеменников. Но он видел оружие в фургоне и заметил, что оно не самых последних образцов — мера предосторожности, чтобы его не изъяли имперские власти.
По пути в аббатство старший воин желтой гвардии, которого звали Джинг-Ю-Ван, дотошно расспрашивал Чернозуба об ордене Лейбовица и рассказывал о своем ордене.
— Орден меча святого Петра придерживается двух традиций. Одна чисто христианская. Наш символ веры не слишком отличается от вашего. Наши канонические молитвы не повторяют ваши слово в слово, но очень похожи. Мы реже прибегаем к псалмам, больше уделяем внимания молчаливой медитации. В нашей стране люди предполагают, что мы будем делать то же, чем всегда занимаются нехристианские монахи. Вне часовни мы работаем на полях и просим подаяния, только когда путешествуем. Мы храним традиции боя без оружия, ибо так всегда поступали монахи тантры. Это необходимость. В нашей истории, если жертва грабежа оказывалась без оружия, то ее считали беспечной и, кроме того, полиции за поимку грабителей полагалось платить. Безоружный монах должен был уметь отразить любое нападение, пуская в ход только кулаки и ноги.
— Но сейчас вы носите при себе оружие.
— Когда обязанности странствующего монаха этого требуют, правила меняются. Когда господин умер, мы договорились, что откажемся от оружия, но наш господин на грани войны.
Чернозубу потребовалось несколько секунд, по истечении которых он понял, что второй господин, о котором шла речь, это кардинал Коричневый Пони.
— Почему вы считаете, что он на грани войны? — спросил Нимми.
Собеседник замолчал, насторожившись.
— В определенном смысле мы всегда на войне, — сказал он, решительно меняя тему разговора. Нимми не стал продолжать его.
Не так давно ему приснилась открытая могила в аббатстве, и, обменявшись приветственными кивками с привратником, который, не нарушая обета молчания, показал им дорогу к ней, они первым делом направились к могиле. К удивлению Нимми, открытая яма была перенесена. Старая была недавно засыпана, и свежий деревянный крест сообщил, чьим обиталищем она стала: «Hic jacet Jaradus Cardinalis Kendemin, Abbas»[79]. Дата смерти гласила, что он скончался две недели назад.
— Брат Сент-Джордж, — окликнул его знакомый голос.
Обернувшись, он увидел приближающегося настоятеля Олшуэна, который с удивлением воззрился на желтую гвардию, обвешанную мечами. Настоятель был в траурном одеянии. Да и весь монастырь был погружен в траур. Чернозуб, направившись в часовню, вознес молитвы, тщетно каясь в своих ошибках, но он понимал, что все это — лишь притворство. Спустя какое-то время он, преодолевая растущий страх, пошел искать настоятеля, чтобы посоветоваться с ним.
Случилось обильное внутреннее кровоизлияние. В среду утром отслужив мессу и благословив хлеб и вино, аббат Джарад повернулся к хору своей общины и едва только стал произносить «Агнцу Божьему», как побледнел, издал сдавленный вопль и с грохотом рухнул на ступени алтаря, уронив на каменный пол чашу и дароносицу.
— И кровь и плоть вернулись в землю, — сказал брат Крапивник.
Кардинал Кендемин, аббат обители святого Лейбовица, умер, так и не приходя в сознание.
Глава 15
«И пусть аббат не сомневается, что ответственность за любую потерю дохода от овец, которую обнаружит домоправитель, будет возложена на пастуха».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 2.К тому времени, когда весть о кончине аббата Джарада была с тексаркской телеграфной станции доставлена в Валану, а Святой Престол вместе с большинством членов курии двинулись в направлении Нового Рима, кардинал Коричневый Пони ехал дальним северным путем к священному месту встречи с шаманами Виджуса и духа Медведя. Первым делом сообщение, конечно, было доставлено Священной конгрегации по делам религии. Кардинал, председательствующий в ней, отправился вместе с папой. Его викарий тут же сообщил в духовный и государственный Секретариат. Кардинал Науйотт был одним из немногих, кто остался в Валане, и он тут же послал курьеров вдогонку Коричневому Пони и папе, но, проведя в пути несколько дней, они так и не смогли найти следы в безбрежной травянистой прерии. Пошли Науйотт сообщение при помощи языка жестов Кочевников, оно прибыло бы на место раньше того, кому было адресовано, но вместе с кабинетом Коричневого Пони он не унаследовал систему связи, принятую у Кочевников, и курьерам пришлось скитаться по прерии.
6 сентября 3244 года выпало на вторник. Пять дней тому назад луна вошла в первую четверть и к заходу солнца заметно раздалась. Дозорные Диких Собак, которые стояли на границах поселения Пупка Мира, наконец увидели на горизонте еле заметные клубы пыли. Одинокий всадник размахивал руками, сообщая понятие «церковь». Он повторял его, пока не убедился, что его заметили и опознали в нем ожидаемого гостя из Валаны. Но почему он один?
Отец Омброз был удивлен, поскольку предполагал, что кардинала будет сопровождать его молодой секретарь и хотя бы один из знакомых телохранителей. Он немедленно послал за Оксшо, своим юным послушником, недавним студентом и воином, дальним родственником Чиир Хонгана, который вот уже три года помогал священнику проводить мессы.
— Я не могу выехать навстречу ему, потому что готовлюсь к похоронам, — объяснил он молодому человеку. — Я хочу, чтобы ты остановил его до того, как он приблизится, и предупредил о новостях. Относись к нему так, как относился бы к старшему дяде, с предельным уважением. Но тебе придется сообщить то, что ему не хотелось бы услышать. Быстрее, пока он не приблизился к стоянке. Старайся держаться в низинках или за холмиками. Не забудь передать сведения о его матери, не важно, правда это или нет.
— Можете быть спокойны, отец, — сказал Оксшо и немедленно галопом вылетел из лагеря.
Юноша был удивлен не меньше своего наставника, увидев, что новый апостольский викарий прибыл в одиночку, со свернутым одеялом в тороках и с мушкетом; на нем была только заметная издалека красная кардинальская шапка, которая позволяла его отличать от других путников, пересекающих земли Кочевников. Молодой послушник должен был так много сказать кардиналу, что, едва только обменявшись с ним приветствиями, он сразу же приступил к рассказу. Не отрывая глаз от апостольского кольца Коричневого Пони, он, поцеловав его, начал излагать новости, имеющие отношение к Диким Собакам. Сначала ему было как-то не по себе, и он избегал заинтересованного взгляда кардинала.
— Отец Медвежонка умер прошлой ночью. Вождь мертв. Кобыла снова овдовела. Похороны сегодня вечером. Это была ритуальная смерть, — он вскинул глаза на Коричневого Пони, дабы убедиться, что он понял смысл слова «ритуальная» в этом контексте. Кардинал слегка поморщился, давая понять, что все понял. — Но между людьми духа Медведя и женщинами Виджуса идут большие споры. Праздник убоя должен был состояться в пятницу, в полнолуние.
— Должен был состояться? Что это значит?
— Они его отложили. Он длится несколько дней и был готов начаться. Никогда раньше не было слышно, чтобы откладывали такое святое торжество, но и самому дяде… э-э-э… не стоило умирать, когда готовится забой скота. Вы же знаете, что… э-э-э… это большой праздник. Похороны пройдут сегодня вечером. Многое случилось, милорд. Здесь представитель тексаркской Церкви. Монсеньор Сануал. Он наблюдатель от Бенефеза и, кроме того, говорит от его имени. Именем архиепископа он приказал отцу Омброзу вернуться в его орден в Новом Риме…
Коричневый Пони рассмеялся.
— Могу себе представить, что ответил наш добрый отче. Как его новый апостольский викарий, я приказываю ему остаться. Мне очень жаль, что двоюродный дядя Сломанная Нога умер. Твой наставник, конечно, дал ему последнее помазание?
Ученик Омброза смотрел на него несколько мгновений, словно не поняв его слов и вспоминая перечень того, что должен сообщить.
— Наш лорд Чиир Хонган думает, что нашел вашу мать. Он просил сообщить вам, что она на пути сюда. Но он не уверен. Есть и многое другое. Мягкий Свет, вождь Кузнечиков, будет рад увидеть, как вы проведете ночь в загоне для случки этой дьявольской женщины, что, скорее всего, вам дорого достанется. Он ведет себя так надменно, что никак не может договориться с Виджусами.
— Я могу неплохо провести ночь и там, как бы Халтор Брам к этому ни относился.
Молодой Кочевник, похоже, обеспокоился.
— Там ужасное место, милорд. Многие там погибли.
— Человеку так и так приходится умирать.
— Она убивает любого, кто ей не понравится.
— Разве ты не христианин?
— Да, но она-то — нет!
— Может, я смогу обратить ее.
Оксшо оцепенел от ужаса.
— Хонгин Фуджис Вурн…
Коричневый Пони прервал его.
— Конечно, я не буду даже пытаться. Но как иначе я могу доказать свое право властвовать над вашими церквами? Если монсеньор Сануал захочет, он может присоединиться ко мне.
Юный Кочевник хихикнул.
— Думаю, он обмочит свою сутану.
— Скажи мне, почему Святой Сумасшедший думает, что моя мать жива?
— Я знаю лишь то, что мне сказал отец Омброз… что сестры, которые вырастили вас, говорили только на диалекте Зайцев и неправильно перевели ее семейное имя.
— Так что я, может быть, и не «Коричневый Пони».
— У Диких Собак есть семейное имя, которое означает «гнедой жеребенок». Но на языке Зайцев… — он пожал плечами.
— Что ты знаешь о ней?
— Только слухи, милорд. Что в ней течет королевская кровь, но ее небольшой род не был ни богатым, ни знаменитым. Она в таком возрасте, что вполне могла бы быть вашей матерью, но никогда не была замужем. Как с мужем она живет с другой женщиной и, как говорят, ненавидит мужчин. Наверное, я не должен был нам это рассказывать. Но для нас все это так странно…
Омброз встретил их на краю лагеря; его бритая голова блестела на солнце. Он был весь испятнан шрамами там, где ему вырезали жировики. Глядя на него, кардинал вспомнил, что его имя на языке Диких Собак звучит как «бритая борода», хотя священник клялся, что пользуется бритвой лишь чтобы отличаться от типичных шаманов. Когда кардинал сообщил ему, что Амен Спеклберд отменил его отлучение от ордена святого Игнация и назначил его отцом-генералом ордена, Омброз грустно засмеялся.
— Для Нового Рима это значит не больше, чем ваше недавнее назначение, милорд.
— Да, но папа должен будет подтвердить все твои права и прерогативы. Никто не будет сомневаться в законности его выбора. В любом случае он обязан вести себя как папа.
— Я это понимаю, но орден все равно пропустит мимо ушей мое восстановление. Что у вас, ваша светлость?
— В любом случае я хочу назначить тебя настоятелем церкви в моем викариате.
Омброз снова засмеялся.
— Моя церковь в моих седельных вьюках. Ваш курьер вместе с моей почтой доставил облатки и вино.
— Пусть она даже в седельных вьюках, но и бродячая церковь нуждается в имени.
— Оно у нее есть. Наша Дева Пустыни.
Коричневый Пони улыбнулся.
— Как и старый орден папы? Ordo Dominae Desertarum. А ты уверен, что не станешь счастлив, сменив орден?
— Если его святейшество так считает… Орден святого Игнация был настроен против папы в изгнании, и они не собираются признавать пану Амена. Я в их списке врагов Божьих. Так неужели его святейшество разрешит…
— Почему бы и нет? Он согласится, — кардинал посмотрел на собравшуюся толпу. — А что тут происходит? Где Святой Сумасшедший?
— Он скорбит. Как известно, ваша светлость явилась как раз к похоронам его отца.
— Но его кончина не была неожиданной, не так ли?
— Да, она была даже запланирована.
— Снова человеческие жертвоприношения?
— Да, это было ритуальное убийство, но в данном случае я бы предпочел воспринимать его как эвтаназию. Конечно, у католиков она продолжает оставаться под запретом.
— Чиир Хонган дал на это согласие?
— Нет, шаманы духа Медведя отвели его. По причине его религии.
— Которую разделял и его отец.
— Сломанная Нога выжил из ума. Он уже ничего не понимал.
— Но они же не собираются…
— Почтить его? Боюсь, что так и будет. Сегодня вечером.
— Приехать бы мне на день позже…
— Я удивлен, что вы явились в одиночку! Где брат Чернозуб? Где Вушин и желтая гвардия?
— В Новом Иерусалиме.
— А оружие?
— При них. Вам надо знать, что папа пересекает равнины к югу от нас. Может, сейчас он устраивается на ночевку.
— Знаю. Надеюсь, что они его пропустят. Ваша светлость, тут легат из Тексарка. От Бенефеза. Я скажу, что вы только что прибыли.
— Ваш молодой человек уже ввел меня в курс дела. Кто такой монсеньор Сануал и что ему надо?
— Он здесь лишь для того, чтобы встретиться с Виджусами, с людьми духа Медведя и с вождями. Бенефез никогда раньше не снисходил до них. Интересно, неужели он будет настолько глуп, что попытается обращать их? Рискну предположить, что, если он решит побывать на сборищах во владениях Кузнечиков, их вождь убьет его как шпиона. Но он гость осиротевшей семьи Чиир Хонгана. Я посоветовал Медвежонку сыграть перед ним роль хозяина, ибо в противном случае он найдет пристанище у Зайцев.
— И в таком случае предстанет их защитником или союзником. Очень хорошо, друг мой. Это сработает куда лучше, чем можно себе представить.
— Нет, я знал, что все церкви Зайцев в провинции будут обязаны подчиняться вам. Если вы сможете одержать над ними верх.
— Я не могу перенять силой ни церкви, ни их настоятелей, но, может, я смогу уговорить их конгрегацию — с помощью священников, верных папе. Конечно, они должны владеть языком Зайцев.
— В провинции таких уже немало, милорд, и они хотят хранить верность Святому Отцу, пусть даже они слушали поучения архиепископа Тексаркского. Священники, владеющие языком Кочевников, в большинстве своем сами обращенные Кочевники. Они принимают религию, которой придерживался дядя правителя, но не самого правителя и его дядю.
— Я рад слышать подтверждение того, что, с моей точки зрения, является истиной.
— Кроме того, я знаю об угрозах в ваш адрес со стороны Халтора Брама. Мол, он заставит вас искупить вину перед Женщиной Дикой Кобылой, вынудив провести ночь в Пупке Мира, как они называют это место. Халтора Брама никогда не назовут претендентом на самый высокий пост, и он не может заставить вас. Тем не менее у нас с Медвежонком появился план. Могу ли я изложить его? Или позже?
— Будь добр, потом. Ведь за нами наблюдают, не так ли?
— Да, но если мы будем разговаривать серьезно и напряженно, это будет ошибкой. Пусть видят, как мы смеемся. Давайте-ка я провожу вас к главной бабушке и ее родне. Или вы хотите сначала отдохнуть?
— Не отказался бы. И помыться, если возможно.
Кардинал поспал несколько часов. Когда он проснулся, было уже темно и во мраке лишь помаргивали многочисленные костры. Кочевники уже собрались отмечать королевские похороны; они пели и танцевали. Даже под пологом шатра кардинал ощутил запах священного жаркого. Когда он вышел к кострам, рядом с ним тут же оказался Оксшо, который, показав пальцем, сказал:
— Ваш отец Омброз вон там.
— Мой? — Коричневый Пони посмотрел на него с интересом. — Святой Сумасшедший рассказывал мне, что ты крещен. Разве он не твой настоятель?
Смутившись, воин пожал плечами.
— Иногда… но он бреется.
— Что отличает его. И избавляет от воротничка задом наперед.
— Люди духа Медведя не бреются, но иногда, вот как сейчас, он ведет себя как один из них. Я люблю его, как и все мы, но иногда я его не понимаю. Вы хотите сейчас поговорить с ним?
— Стоило бы, но подожду, чтобы не прерывать его… м-м-м… трапезу. Мне кажется, что он крепко под кайфом — если ты понимаешь это слово.
— Он вместе с другими курил кенеб из Небраски.
Коричневый Пони подошел к костру. Старый священник игнацианского ордена, которого Амен хотел сделать его отцом-генералом, скинув рясу, сидел на куче сухих коровьих шкур и здоровыми передними зубами раздирал хорошо прожаренный кусок человеческой кисти. С приближением Коричневого Пони он кинул в чашу обглоданное запястье и без смущения, в упор посмотрел на кардинала. Оксшо держался сзади. Коричневый Пони видел, что Омброз не пьян, но находится в предельно возбужденном состоянии, поскольку употребил немалое количество священного напитка Кочевников. Кардиналу показалось, что после участия в ритуале племени священник разительно изменился, но Омброз тепло улыбнулся ему. Коричневый Пони встретил его улыбку далеким, словно с расстояния в тысячу миль, взглядом. «Я совершенно не знаю этого человека, своего старого друга».
Омброз первым нарушил молчание:
— Старый вождь завещал мне свою правую руку — это честь! — и я не мог оскорбить его отказом.
Апостольский викарий молчал, продолжая смотреть на него.
— Порой, — сказал Омброз, снова беря жилистую кисть Сломанной Ноги, — я беру кусок хлеба и освящаю его как истинную плоть Христа. А порой беру истинную плоть Христову и освящаю ее как кусок хлеба. Понимаете?
— Ах-х-х! — удивленно выдохнул Оксшо. Коричневый Пони с интересом посмотрел на него. Оксшо сдержанно улыбнулся, словно внезапно что-то понял.
Кардинал, который, казалось, продолжал пребывать за тысячу миль отсюда, сказал:
— Вы в самом деле хотите вернуться в старый орден папы, отче?
У Омброза и-Лейдена еще хватило сил понять сарказм этих слов.
— Передайте его святейшеству, — сказал он, — что болезни вынуждают меня остаться там, где я нахожусь, милорд. Я не могу вернуться в свой орден, я слишком стар для перемен.
— Очень хорошо. Так я ему и скажу, — и, развернувшись, Коричневый Пони отошел. Прежде чем последовать за ним, Оксшо, помявшись, погладил старого священника по плечу. Омброз улыбнулся юноше и вернулся к ритуальному пиршеству. Оксшо нагнал Коричневого Пони.
— Для ордена святого Игнация это уже чересчур, — сказал кардинал.
— Вас разочаровало, что теперь он один из нас? — спросил воин.
— Нет. Просто я скорблю по Омброзу и-Лейдену. По человеку.
— Потому что он сам стал Кочевником?
— Нет. Но вне Церкви нет спасения души, — пробормотал кардинал, цитируя древнее утверждение. Ответ, похоже, удивил Оксшо; он слышал о кардинале от Омброза, который восхищался им и говорил, что ему свойственна свобода мысли. Это была странная оценка для такого человека. Но теперь он стал не только священником, но и епископом.
— Милорд, кто сказал о тех, которые стоят вне Церкви?
— Ну как же! Папа. Да и законы говорят о том же, Оксшо.
— А разве не Бог это решает?
— Отец Омброз — просвещенный человек, — сказал Святой Сумасшедший, который нагнал их. Кардинал и Оксшо как-то странно посмотрели на него, ожидая, что Хонган продолжит, но он всего лишь зевнул и потряс головой. — Пришла женщина, которая может быть вашей матерью, милорд.
Посмотрев на луну, Коричневый Пони заговорил о другом:
— Сегодня вечером папа решил прогуляться. Он всегда гуляет при полной луне и воспевает Деву, ее сестру. Папа собирается отдать Церковь во власть бедняков, если мы с Науйоттом позволим ему. Господи, что же нам делать?
— Ваша светлость, хотите ли вы встретиться с этой женщиной? Она королевской крови и какая-то моя дальняя родственница. Значит, и вы мой родственник, — Святой Сумасшедший невесело усмехнулся. — Ее семейное имя Урдон Го, а не Авдек Голе, — сказал он, убедившись, что кардинал предпочитает молчать. — Не «коричневый пони», а «гнедой жеребенок».
— Оксшо рассказал мне. Но, Господи… — с осунувшимся лицом прошептал Коричневый Пони, — после всех этих лет… Сестры, конечно, говорили на языке Зайцев.
— Ваша мать, если это в самом деле она, находится здесь. Вон та старая женщина, которая сидит на одеялах у входа в вигвам. Я бы на вашем месте был очень осторожен. Она может быть свирепа, как Нуншан.
— Конечно. Спасибо, — Коричневый Пони быстро направился к ней, но остановился в нескольких шагах. Зрачки женщины были белыми от пленки катаракты. Но она услышала его приближение и повернула в его сторону сморщенную маску лица.
— Ты родом из Тексарка? — с подозрением спросила она.
— Только наполовину, — ответил он на языке Диких Собак. — Только наполовину, мать, — такое обращение было всего лишь вежливостью; она и не собиралась воспринимать это слово в буквальном смысле.
Но она встала. И плюнула ему в лицо и на сутану. Она жевала пучок каких-то трав. Может, она промахнулась. Ведь она была практически слепой. В самом ли деле ее жест был случайностью? Ведь его предупреждали.
Неужели ей не рассказали о нем?
Кардинал сделал шаг назад. Плохо. Он не мог рассказать ей, что мужчина, который стоит перед ее незрячими глазами, — это плод насилия и он, нежеланным созрев меж ее бедер, появился на свет рыжеволосым. Он понимал, что она не хочет знать его. Она была простой, но ожесточившейся женщиной. Ее семья, пусть и несла в себе королевскую кровь, была небогата. Но теперь, когда Чиир Хонгану и другим вождям стало известно, что он ее сын, до нее дошло известие о его пребывании здесь, если она этого раньше не знала. Конечно, она ждала встречи. В такой ситуации ему не оставалось ничего другого, кроме как сказать вождям Кочевников, что она позвала его и ему пришлось предстать перед ней. Как ни было ему тяжело, он был рад, что увидел ее; он был рад, думая, что доподлинно она ничего не знала.
— Прошу вас, ваша светлость! — голос, встретивший его в дверном проеме вигвама, принадлежал монсеньору Сануалу, легату архиепископа Тексаркского. Полный круглолицый дипломат был расстроен. — Заходите, ваша светлость, прошу вас, заходите.
Сегодня днем Сануал сделал вид, что не узнал его. Коричневый Пони молча принял его предложение и, войдя, согнулся, чтобы очутиться в круге света от лампады; в помещении густо пахло землей и вином для причастия. Вином несло и от Сануала, когда он пожал руку кардинала.
— Они пожирают старого вождя! Я думал, что сегодня вечером вы не выйдете за порог!
— И пропущу такое представление? — Коричневый Пони осторожно высвободил руку из пальцев Сануала. — Посланник архиепископа может, если на то будет его желание, сидеть у себя. Посланник папы — не может.
Сануал отпрянул. Оба они знали, что находятся тут в роли соперников, дабы заручиться расположением диких племен по отношению к тому главе христианства, который может вскоре объединить все три орды.
— Вы можете делать все, что вам угодно! — сказал Сануал. — Но если бы его святейшество знал…
— Оцените ситуацию следующим образом. Моя мать была из Кочевников. Скончавшийся вождь — мой дальний родственник. Как и новый вождь. Конечно, тоже дальний. И я не собираюсь отвергать последний обряд своего народа. А теперь — для чего вы хотели меня видеть?
— Значит, вот оно что. Ваши родственные отношения… — Сануал хихикнул. — Омброз рассказал мне, что вас пригласили участвовать в этом королевском ритуале!
— Я только что видел Омброза. Он мне об этом ничего не сказал. Кроме того, вы всегда относитесь к людям высокомерно. Так что я не верю вам, отче. Вы были пьяны.
— Да он прямо кричал при разговоре со мной! И этот его лающий смех! Конечно, он выжил из ума и совершенно рехнулся, но я ему верю. Это все так, не правда ли?
— Мне всего лишь сообщили об этом как родственнику королевской семьи по материнской линии. Меня попросили оказать честь своим присутствием на церемонии. Лично оказать честь, что не имеет ничего общего ни с моим постом, ни с моей миссией.
— Тогда ради уважения к Господу, ваша светлость, когда придет время, снимите облачение вашего высокого звания.
— Вы прибыли сюда, чтобы выразить неодобрение Тексарка языческим ритуалом Кочевников или чтобы почтить своим присутствием инаугурацию христианского вождя?
— Надеюсь, что и для того, и для другого, но я бы не хотел, чтобы вами владели злые силы. В этом мы должны быть едины. Ради любви к Богу, кардинал, где-то должен быть конец терпимости.
— До недавнего времени я никогда не был священнослужителем, отче. Я всего лишь юрист, которому мой покойный владыка папа Линус Шестой вручил красную шапку, а папа Амен возвел меня в епископы. Изысканные теологические споры не входят в мой репертуар.
— Каннибализм — это предмет изысканных теологических споров, ваша светлость?
— Я учту ваши возражения, мессир. Я сообщу о них в своем отчете папе, как, не сомневаюсь, вы доложите о моем поведении своему архиепископу. Это все, ради чего вы хотели меня видеть?
— Не совсем. Ходят слухи, что вас послали для установления сомнительной епископской власти над церквами территории, где мы ведем миссионерскую работу. Это правда?
— Ваша миссионерская территория не является таковой, и у вас тут нет никаких прав, кроме права завоевания, а никаких прав завоевания в природе не существует, если только речь не идет о справедливой оборонительной войне. Папа Амен назначил меня апостольским викарием трех орд, если вы это имеете в виду, и я не имею ничего общего с вашими хозяевами, ни с кем из них.
— Проклятье! Да папы не существует! Мы ни в чем не можем найти общего языка! Хотя бы из уважения к приличиям. Хотя бы ради спасения Церкви от раскола! — Сануал повернулся к нему спиной.
Коричневый Пони сразу же покинул его шатер. Пройдя мимо главного костра, он краем глаза глянул на оргию и ушел к себе.
Но этой же ночью к нему явилась слепая старая женщина и попыталась убить его во сне. Оксшо мгновенно выпростался из спального мешка, одним прыжком оказался рядом, вырвал у нее нож и вытолкал из шатра.
— Она не может быть вашей матерью, — сказал он, вернувшись.
— Она моя мать. Только что она это доказала.
Остаток ночи кардинал Коричневый Пони провел, глядя на мерцание звезд в затянутом дымом отверстии в верхней части вигвама. Он вспоминал Серину, свою жену. Он думал о сестрах, вырастивших его, о Церкви и о Деве, а также о Хонгин Фуджис Вурн, которая обитала в священной яме. Теперь он знал, что воистину должен всей душой принять порядок поклонения Женщине Дикой Лошади и ее древним огням. Если в глазах этого народа он хочет стать высшим христианским шаманом, он должен стать в полной мере Кочевником. Как отец Омброз. В памяти у него всплыли его пьяные слова: «Порой я беру кусок хлеба и освящаю его как истинную плоть Христову. А порой я беру истинную плоть Христа и освящаю ее…»
Иногда его слова звучат как сказанные Аменом Спеклбердом.
Луна уже почти исчезла с небосвода, когда в дверном проеме возникла чья-то густая тень. Только бы не снова его мать! Оксшо похрапывал. Но это был Святой Сумасшедший, который тихонько окликнул кардинала:
— Быстрее одевайтесь, милорд. Я хочу показать вам провал.
Коричневый Пони подчинился, но, когда они вышли, спросил:
— А не лучше было бы посмотреть на него днем?
— Нет. Если вам предстоит выдержать испытание, то оно состоится ночью. Даже полная луна мешает воздействию ядовитого дыма.
Они оседлали двух коней, которых привел с собой Хонган, и тихонько выехали из лагеря. Оранжевый диск луны только что коснулся горизонта, и вокруг стояла темнота, но кони знали дорогу. Край кратера был примерно в получасе езды от стоянки, Сонный часовой встрепенулся, когда они выезжали, но узнал своего вождя, когда тот что-то буркнул, и снова сел.
Когда всадники оказались у края провала, луна окончательно закатилась, и на востоке лишь чуть затлела полоска рассвета. Провал предстал озером сплошной темноты, и, спешившись, они осторожно подошли к нему. Святой Сумасшедший схватил кардинала за руку.
— Проклятье! — вырвалось у него.
— В чем дело?
— Языки огня появляются и исчезают. Вечером я их не видел.
— Я даже не знаю, куда смотреть.
— Поднимите голову к небу. Найдите самую яркую звезду в созвездии Вора и от нее смотрите прямо вниз. Недалеко от центра увидите маленькое красное пятно.
— Вор — это созвездие Кочевников.
Хонган показал на него. Коричневый Пони проследил за направлением его руки.
— Думаю, это наш Персей. А звезда называется Мирфак.
Сев у края кратера, они погрузились в молчание. Единственными звуками, нарушавшими мертвую тишину, были шуршание ветра и далекое завывание койотов. Чиир Хонган выругался сквозь зубы.
— Так ли это важно? — спросил кардинал. — Разве ты не можешь показать все это днем? — он посмотрел на восток, где заметно светлело небо.
— Важно. Вы должны увидеть, откуда идет свечение. Вы должны определить направление ветра и прятаться от него. Бывают ночи, когда клубы дыма можно увидеть столь же ясно, как и дыры в земле, откуда они выходят.
— Но разве не лучше иметь дело с… не очень активным огнем?
— Да, но весь провал чем-то отравлен. Единственная чахлая растительность — на подветренной стороне. Вы должны держаться поближе к растениям, особенно когда ветер меняет направление. Через несколько минут вы увидите, о чем я веду речь.
Их бдение длилось, пока на холм не упали лучи солнца. Кратер казался совершенно безжизненным, если не считать редких клочков зелени у подножия скалы. В эту секунду ветер сменил направление.
На следующий день главы кланов духа Медведя и Виджуса собрались, чтобы обсудить желание Коричневого Пони отдать дань уважения Хонгин Фуджис Вурн в Пупке Мира, представ перед скрытым огнем Мелдауна. Самому кардиналу не было дозволено присутствовать на совете, но Чиир Хонган дважды покидал его, чтобы задать вопросы.
Первый был таков: «Относишься ли ты к Великой Кобыле с тем же уважением, как к Святой Деве?»
— Да, если могу обратить к ней привычные для себя молитвы.
Через час поступил второй вопрос: «Ты понимаешь, что если она отвергнет тебя, твою власть не признает никто из Кочевников-христиан во всех ордах? Откажешься ли ты от поста, которым наделил тебя папа?»
— Если я проживу достаточно долго, чтобы отказаться, то да.
Хонган сурово посмотрел на него и вернулся на совещание. Когда оно кончилось, вождь Диких Собак оповестил, что кардинал проведет в кратере ночь на четверг. В пятницу дань уважения Женщине Дикой Лошади отдаст Святой Сумасшедший, вождь Диких Собак, а в субботу — Мягкий Свет, вождь Кузнечиков. От него поступила жалоба, что из всех трех только Хонгану достанется полная луна от заката до рассвета, на что Святой Сумасшедший с глазу на глаз ответил ему: «Если ты знаком с провалом, то не будешь спотыкаться и в темноте. Луна — не твой друг. Ты не сможешь увидеть адский огонь в ярком лунном свете и, как ты знаешь, порой ты и в темноте его не видишь. Луна может скрыться в облаках. Потрать день, чтобы изучить ее провал со всех точек зрения. Когда переменится ветер, тебе придется сниматься с места».
Следующую ночь он провел в кратере. Оксшо довел его до места спуска. Почти полная луна висела в восточной части неба. Он прихватил с собой одеяло, но отказался от подстилки. Сон несет с собой опасность, а к полуночи тут похолодает.
— Наставник советовал мне провести ночь на вершине утеса и жечь костер, — сказал ему юный воин. — Когда ветер менялся, я бы поднимал факел. Посматривайте на него. Там внизу бывает трудно переносить даже легкий бриз.
— Это разрешено?
Оксшо помолчал.
— Пока все не заснут, я бы не торопился, а на скалу влез бы так, чтобы меня никто не видел. Может возражать только Брам. Бог и Кобыла за вас, милорд.
Порывы ветра, которые срывались с краев кратера, несли с собой пыль, туманной дымкой затягивавшую звезды, но это была пыль прерий, а не вулканическая. Он нашел себе местечко среди редких клочков растительности, которого не достигала пыль из дьявольского кратера. Он все еще был погружен в глубокую печаль из-за встречи со злобной женщиной, чье чрево выносило его против ее желания. До того, как его усыновили сестры, он продолжал оставаться сыном насилия и ненависти, но воспоминания о сестрах были окрашены неприязнью к ним, кроме сестры Магдалены («Крик над рекой»), происходившей из Кочевников, из Зайцев, которая рассказывала ему разные истории и особо заботилась о его образовании. Серина, на которой он женился, напоминала ему Магдалену. Теперь обе были мертвы. Когда он пересекал территорию Зайцев, чтобы посетить кое-какие церкви, собирался ли он навестить сиротский приют? Что заставляет его думать об этом — ностальгия или отвращение? Лучше выкинуть из головы эти мысли, решил он. Никакие эмоции не должны мешать его церковным и политическим замыслам.
Спустя какое-то время кардинал стал молиться. Сначала он перебирал четки, вглядываясь в темное пятно под залитым лунным светом скальным навесом — там лежал вход в Ее пещеру. Он тихо и спокойно разговаривал с темнотой, но на лице едким ожогом кислоты горел плевок, отпущенный ему настоящей матерью. Теперь он говорил с другой матерью, имеющей мириады имен: Regina Mundi, Domina Rerum, Mater Dei[80], Хонгин Фуджис Вурн и даже Стервятник Войны. Ее появление всегда было связано с каким-то местом: Вифлеем, Лурд, Гваделупа и вот теперь здесь, в Пупке Мира.
— Я родился на южной оконечности твоих владений, Мать, и я знаю твои пути. Даже здесь, где люди служат тем, кто захватил твои земли, я прозреваю их. Мириам, матерь Иисуса, молись за меня.
Когда облака затянули луну, уже стоящую в зените, Оксшо вскинул факел. Наконец кардинал увидел какое-то странное сияние, окружающее провал в центре кратера и отошел на сто шагов.
— Смилуйся, Господи. Кирие элейсон.[81]
К счастью, ветер снова подул ему в спину.
— Моя мать была родом из племени Диких Собак, Святая Богоматерь; отец мой сотворил зло с ней и с твоим народом. Да будет он мертвым, так же, как сейчас она мертва для меня. И не позволь мне найти его, ибо он падет от моей руки. Давным-давно, еще до того, как я понял, что она мертва для меня, дух ее призывал меня сюда. Я не сделал того, чего она хотела. Я оставил свой народ. Я принял ту религию, которой меня учили сестры. Но наконец я предстал перед тобой, Мать.
Этой ночью ветер то и дело менял направление. Кардинал продолжал переходить с места на место.
— Смилуйся, Господи. Да святится имя Твое.
Он снова переместился, чтобы ветер дул ему в спину. Путь он находил ощупью, руководствуясь редкими вспышками факела, но продолжал тихо разговаривать, обращаясь к провалу.
— У меня рыжие волосы. И он был рыжим, как она им рассказывала. Сестрам, которые приняли ее. Они вырастили меня. Мириам, матерь Божья, молись за меня. Если он еще жив, я убью его. Молись за меня, Женщина Дикой Лошади. Кирие элейсон.
Лишь раз за ночь он увидел ее: черный силуэт женской фигуры на фоне зарева, вырывающегося из провала. Руки ее были воздеты подобно крыльям. Нуншан? Нет, то была фигура молодой женщины, а Ночная Ведьма была старухой. Из-за рук-крыльев она могла быть Барреганом, Стервятником Войны. Но когда он остановился, женщина исчезла.
Амен Спеклберд, говоря о ней, считал ее четвертой участницей Святой Троицы, и эти его воззрения были одной из причин, по которой сподвижники Бенефеза отказывались его признавать. Папа, который позволяет себе еретические высказывания, — это не папа. Но он и не был папой, когда говорил это. Продолжает ли он так считать? Нет. Коричневый Пони был неподдельно удивлен, когда увидел, с какой легкостью старик вошел в роль папы. Сомневающийся назвал бы это лицемерием. А верующий — творением Святого Духа, оберегающего престол от ошибок.
«Интересно, сколько пап попало в ад?» — подумал он. Данте назвал лишь нескольких из них, но перечень еще не завершен. Последний перед Огненным Потопом папа, конечно же, был одним из них. И с этой мыслью Коричневый Пони погрузился в дремоту, ибо луна зашла за край кратера. Небо прояснилось, и он услышал крики Оксшо, будившего его. Ветер окончательно сменил направление. Он подхватил одеяло и поспешил к тропке, ведущей наверх. К добру или к худу, но испытание завершилось.
— Если в течение недели ты заболеешь, то умрешь — таков был первый деловой прогноз Виджусов, которые разговаривали с ним. — Если не умрешь в ближайшее время, то жизнь твоя укоротится. Тебя предупреждали?
— Конечно, бабушка.
Она расспрашивала его обо всех подробностях. Он рассказал, что видел на фоне адского пламени женщину со вскинутыми руками. Она уставилась на него и после долгого молчания спросила:
— Ты знал о Стервятнике Войны?
— Я слышал о Баррегане.
— Стервятник Войны отливает красным на фоне неба.
— Она не была на фоне неба.
Старуха кивнула, положив конец разговору. Свое мнение она принесла в круг совета. В конце дня Чиир Хонган пришел с сообщением, что дух Медведя условно принял его, как христианского шамана. При условии, что в ближайшее время он не заболеет.
У Коричневого Пони не было особых поводов для радости. Из Валаны прибыл курьер с сообщением, что Джарад, кардинал Кендемин, аббат обители святого Лейбовица, предстал перед Высшим Судией. Пришло также сообщение, что папа и его спутники разбили лагерь в необитаемой местности между владениями Диких Собак и Кузнечиков. Святой Сумасшедший великодушно предложил уступить время, назначенное ему для встречи с Хонгин Фуджис Вурн, Мягкому Свету, чтобы Халтор Брам с сопровождающими его воинами в субботу утром выехал навстречу Амену Спеклберду и проводил его к границе империи.
Коричневый Пони решил вместе с ними ехать на юг. Халтор Брам, только что оправившийся после встречи с Кобылой, не возражал.
Ранним субботним утром, за час до расставания, кардинал Коричневый Пони получил от отца Омброза хлеб, вино, молитвенник и складной алтарь. Он хотел провести высокую папскую мессу, что было бы хорошо с точки зрения политики и к тому же зрелищно, но пел он не очень хорошо и со времени своего рукоположения провел не больше десятка месс. Монсеньор Сануал решительно отклонил предложение совместно провести мессу, в которой он будет или равноправным участником, или псаломщиком. Красный Дьякон посмотрел на Омброза.
— Примешь ли ты сначала мою исповедь? — спросил старый монах игнацианского ордена.
— У тебя за последнее время накопилось то, в чем ты хотел бы исповедаться?
Омброз понял его намек и досадливо покачал головой. Вместо этого он позвал Оксшо, своего алтарника. Они созвали христиан и пригласили всех Виджусов и людей духа Медведя, которые хотели бы поприсутствовать на мессе. Здесь, в бескрайней прерии, затянутой легким дымком от костров из сухого конского навоза, апостольский викарий трех орд отслужил простую мессу в присутствии диких Кочевников, которые кольцом обступили алтарь, держась на почтительном расстоянии. За причастием, скорее всего, пришло больше людей, чем было христиан в поселении, но кардинал никому не задавал вопросов.
Те, которых удивил пресный вкус тела Христова, скорее всего, были языческими шаманами. Ни Сануал, ни Омброз не явились получить причастие. После слов «Ite messa est»[82] в толпе началось ликование, но Коричневый Пони не мог понять, кто был его инициатором. Не подлежало сомнению, что народ признал в нем верховного христианского шамана.
Монсеньор Сануал снова напился. Когда они уезжали верхами, он вышел проводить их и крикнул кардиналу, что он едет к неудачнику, что ложный папа никогда не войдет в Новый Рим и что ему еще придется пожалеть об истинной Церкви.
— Спасибо за благословение, мессир, — ответил кардинал.
Халтор Брам еще не был готов стать другом друзей своих соперников, но он провел в кратере плохую ночь на пятницу и знал, что его рассказ перед советом духа Медведя был принят не лучшим образом. Откровенно говоря, Виджусы уже высказались против него. Но он сказал своим воинам, что, поскольку Святого Сумасшедшего ждет в Пупке Мира еще более скверная ночь на субботу, титул Ксесача дри Вордара достанется вождю Кузнечиков. И в конечном итоге будет восстановлено древнее звание, которое объединит все три орды.
Он заметил, что кардинал Коричневый Пони слышал его слова, и грубовато осведомился, что он вынес из встречи с Кобылой.
— Мог бы ты на следующую ночь стать ее жеребцом? — поинтересовался он. — Да ты вообще видел ее?
Кардинал помолчал.
— Не уверен в том, что я видел. Несколько часов вглядываешься в темноту, начинаешь вроде что-то видеть, но там ничего нет.
— А что там было?
— Вроде какая-то женщина между мной и слабым свечением. Не могу описать ее. Она стояла лицом ко мне, вскинув руки. А затем она исчезла.
— Как Стервятник Войны?
— Мне сказали, что именно ее я и видел. Я этого никогда не говорил.
Брам кивнул.
— Если бы я ее видел, то уже сегодня был Ксесачем дри Вордаром. Но вскоре мне придется умереть.
— Ты болен?
— Ты видел Стервятника Войны. Это твое будущее. А мне сказали, что я видел свое, — Брам засмеялся и отъехал. Позже один из его воинов рассказал кардиналу, как Виджусы пришли к выводу, что вождь Кузнечиков видел в кратере Ночную Ведьму, хотя, по его мнению, они поторопились с выводами, дабы сыграть на руку Святому Сумасшедшему, предполагая, что он живым вернется из кратера; кроме того, он лично не верит, что, побывав в кратере, Брам погибнет.
Воинами владело веселое игривое настроение. Брам пообещал им, что Церковь хорошо заплатит за сопровождение. Коричневому Пони каждый раз, как он слышал эти обещания, становилось не по себе. Он лично не говорил с предводителем Кузнечиков о деньгах. Может, это обещание тот получил от кого-то из членов курии или же от самого папы Спеклберда.
Он смотрел, как воины дурачились, под сентябрьским солнцем носясь по прерии. Один из них влез на конскую спину. Другой привстал на стременах и так близко притерся к первому всаднику, что тот должен был или шлепнуться в седло, или полететь кувырком. Все покатились со смеху. Один из наездников на скаку сполз набок, пролез под брюхом коня и поднялся в седло с другой стороны. Он проделал это три раза, и у жеребца возникла эрекция. Всадник стал было пролезать в четвертый раз, увидел ее и торопливо вскарабкался обратно. Кто-то, насмехаясь, выкрикнул в его адрес веселое оскорбление, и через несколько секунд, спешившись, соперники вступили в схватку на ножах. Подскакав, Халтор Брам несколько секунд смотрел на этот смертельный танец, после чего надвинул на лоб высокий кожаный шлем с крестом его бабушки и эмблемой военачальника.
Брызнула кровь. Рана была неглубока, но вслед за ней последовал приказ бросить оружие.
— Пускайте в ход руки и ноги, — рявкнул Халтор Брам, — или немедленно прекращайте! Всем слушать меня! Никаких смертоубийств между собой! Если у тебя есть обида на товарища, придержи ее до возвращения военного отряда домой.
— Почему он говорит о военном отряде? — спросил Коричневый Пони того, кто ехал рядом с ним. — Это ведь всего лишь почетный эскорт.
— Кузнечики всегда на войне, — сообщил всадник и пришпорил коня, чтобы отдалиться от этого фермера, христианина в красной шапке.
Глава 16
«Аббату надлежит часто осматривать постели братии, дабы искать там какие-то личные предметы. И если на ложе будет найдено нечто, полученное не от аббата, то ослушник подлежит самому серьезному наказанию».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 55.«Да тут целый эскадрон», — подумал командир полицейской стражи. Тридцать семь кардиналов ехали верхами рядом с папой, а еще двадцать четыре сопровождали фургоны, которые тащили по травянистому бездорожью прерии упряжки мулов. Сопровождали караван тридцать денверских полицейских и тридцать воинов из Диких Собак, хотя эти силы должны будут повернуть назад, когда кавалькада выйдет к границам Кузнечиков и встретится со всадниками Халтора Брама.
Когда они оказались рядом с границей, то разбили лагерь и стали ждать воинов Кузнечиков.
Амен Спеклберд ждал с большим терпением, чем остальные. Его шатер, раскинутый охраной из Диких Собак, был достаточно вместителен, и папа настоял, чтобы кардиналы каждый день вместе с ним возносили хвалу Господу, отправляли мессу и вечерню и все вместе читали канонические молитвы. Большинство из них привыкли лишь проборматывать первые строчки каждого псалма; они называли это молением по требнику.
Лагерь странствующей курии окружили любопытные женщины и дети из племен Кузнечиков и Диких Собак, чьи стада и загоны располагались неподалеку, но стража держала их на расстоянии, чтобы не было мелкого воровства. Все, кроме, может быть, охраны, испытали облегчение, когда на гребне холма показались всадники Кузнечиков. Теперь они не гарцевали и не ссорились, а двигались в типичном для Кузнечиков боевом порядке: передовая линия то выбрасывала вперед группы всадников, то втягивала их обратно, и врагу было трудно определить, как и когда начнется битва. Разведчики Диких Собак, кинувшись к своим копьям и мечам, седлали коней, но Халтор Брам приказал своим остановиться и крикнул: «Мы с миром! Во имя Фуджис Гоу!»
На глазах курии кардинал Коричневый Пони оставил их зловещие ряды и поскакал вперед. Амен Спеклберд выехал ему навстречу и, когда кардинал, спешившись, опустился перед ним на колени, чтобы поцеловать кольцо папы, поднял его.
— Мы слышали, Элия, что Джарад предстал перед Христом и еще не воскрес.
Упомянуто о горестном событии было довольно своеобразно, но кардинал ответил:
— Я знал, что вы первым делом упомянете об этом, Святой Отец. Если вы извините мое отсутствие, я хотел бы сразу же поехать в аббатство Лейбовица и принять участие в его погребении.
Старый черный кугуар выразил удивление.
— А я-то думал, что ты направился к югу от Нэди-Энн навестить свои церкви в провинции.
— И это тоже, Святой Отец. Но тексаркские силы так и ждут, что я пересеку Нэди-Энн, а не Залив Привидений. Если я въеду с запада, то меня не смогут арестовать. Мне потребуется лишь день-два, чтобы отдать дань уважения аббату.
— Мы отлучим от церкви любого в провинции, кто посмеет коснуться тебя хоть пальцем. Я оповещу об этом письменно. Тебе будет предписано ехать в аббатство Лейбовица, а затем на восток — в страну Кузнечиков.
— Благодарю вас. Затем я хотел бы оказаться в Ханнеган-сити, Святой Отец.
— Ты направишься туда моим легатом. И на воске твоего назначения будет оттиснуто мое кольцо. Бумаги с курьером прибудут в аббатство.
— Прошу прощения, но, может быть, они не произведут впечатления на архиепископа или его племянника.
— Чтобы стать мучеником, Элия, тебе не требуется мое разрешение.
— Неужто я в нем нуждаюсь?
Улыбнувшись, Амен сменил тему.
— Как себя чувствуют наши друзья среди Виджусов и людей духа Медведя? Как поживает их пещера? Ты провел там ночь?
— В кратере, Святой Отец. Откровенно говоря, я думаю, что его репутация сильно преувеличена мифами и историями. Несколько столетий назад это место могло быть довольно опасным, но, если не считать, что Святой Сумасшедший слегка прихворнул, изощренность дьявола притупилась, — он произнес эти слова за три недели до того, как в аббатстве Лейбовица его свалили приступы тошноты и забытья.
Расставшись с папой и его курией, он отправился поблагодарить Халтора Брама за любезность. Брам пожаловался, что никаких денег так и не поступило. Кардинал, не выкручиваясь, сказал, что не имеет представления о сути проблемы, предоставив ее решать усталым прелатам из окружения папы.
Последние слова папы Амена были таковы:
— Позаботься об аббатстве Лейбовица, Элия. Скажи им, чтобы они выбрали нового аббата, и утверди его от моего имени. Если позже возникнут какие-то вопросы, присутствующий здесь кардинал Оньйо засвидетельствует, что я дал тебе эти указания.
Они наскоро обнялись. Обернувшись, кардинал посмотрел на эскорт Кузнечиков. Воины Диких Собак и полиция Валаны широко расступились перед ними. Дикие Собаки, уже сидевшие в седлах, поскакали на северо-запад, а полицейские еще немного помедлили.
Много позже историки выскажут предположение, что война, уничтожившая папство, началась, когда Амен Спеклберд принял услуги девяноста девяти воинов, которых набрал Халтор Брам, разлучив с семьями. Халтор Брам, который подготовил, вымуштровал и обучил их, но не уплатил, ибо вождь Кузнечиков разозлился на кардинала Коричневого Пони и перенес свое раздражение на его владыку. После того как папский казначей сказал им, что золота в караване нет, командир полицейских сил объяснил папе ситуацию.
Валанское папство подписало контракт с несколькими семьями Диких Собак и Кузнечиков, что будет обеспечивать свежими лошадьми курьеров Церкви на пересадочных станциях, так что путешествие через равнины от Денверской Республики до самых отдаленных ферм на востоке будет занимать меньше десяти дней. Некие предприимчивые семьи из Диких Собак и Кузнечиков, взявшись доставлять почту через равнины, организовали для Церкви службу доставки — но не для депеш ханнеганского телеграфа. Члены этих семей обладали определенным иммунитетом против писаных и неписаных законов, действовавших в ордах. Утверждать, что пошел в рост новый класс Кочевников-предпринимателей, было бы слишком рано, но кое-кто из бабушек уже стал испытывать раздражение против богачей, которые предоставляли услуги врагу — цивилизации. Кочевники всегда занимались диким беспривязным скотоводством, следуя за своими стадами, но чем больше добра было в каком-то поселении, тем труднее ему было сниматься с места. Но по условиям контракта, составленного Брамом, предполагалось, что оплата последует немедленно.
«Пообещай им, что расплатимся попозже», — это было все, что мог сказать папа Амен.
После этого обещания Браму папа и курия двинулись на восток в сопровождении дьявольски разозленных всадников. Из-за того, что пожилой человек чувствовал крайнюю усталость, путешествие вместо двух дней заняло четыре. Папа был рад, что ему представилась возможность поболтать с простыми людьми, и при каждом удобном случае беседовал с членами эскорта из Кузнечиков.
— Наши племена полны гнева, — сказал ему один из них. — Мы злы потому, что Дикие Собаки позволили церковнику гостить на священном собрании орд. И не только кардиналу Коричневому Пони, но и посланнику от архиепископа Бенефеза. И Коричневый Пони поддержал Осле Чиир Хонгана против Халтора Брама.
Папа записал вежливый вариант имени Святого Сумасшедшего. Злятся они или нет, но он понимал политические пожелания бабушек и учитывал их благосклонность к вождю Диких Собак, который должен законным образом управлять ситуацией с выборами на равнинах. Но неприязнь к Коричневому Пони распространилась и на его владыку, на папу, и эту неприятность надо было предвидеть. Амен попытался заверить Халтора Брама, что его людям все будет выплачено, но список претензий на этом не завершился.
— Кроме того, Дикие Собаки предоставили монсеньору Сануалу кров и пищу.
— Я предполагал, что представитель Бенефеза остановится у делегации Зайцев, — заметил Спеклберд.
— Ну да, он этого хотел. Среди делегатов духа Медведя были и христианские священники. Делегаты от Зайцев опасаются, что их примут за марионеток тексаркской церкви.
— Церковь едина, сын мой.
Так вот и длилось путешествие.
В соответствии с договором Священной Кобылы любой фермер или солдат империи, который при оружии появится на территории Кузнечиков, может подвергнуться нападению, а любой вооруженный Кочевник, который окажется на расстоянии мушкетного выстрела от границ империи, может быть застрелен. Поэтому, когда папа со спутниками перевалили через холм, с которого открывался вид на пограничную заставу, Халтор Брам и его люди остановились. Воины по-прежнему ворчали на вождя из-за отсутствия денег, но тот думал о стычке, которая может произойти при пересечении границы.
— Так или иначе, но всем вам заплатят, — наконец сказ он. — И может, скорее, чем вы думаете.
Когда процессия прелатов оказалась около ворот, Амен Спеклберд вышел из кареты и стряхнул со своей белой сутаны пыль равнин. Он подошел к офицеру, который, скрестив на груди руки, застыл посреди дороги. Рядом с ним стояли два солдата с двуствольными ружьями, скорее всего, заряженными картечью.
— По приказу Ханнегана, — объявил офицер, — у вас нет права пройти. Если попытаетесь, вас арестуют.
— Не преграждай путь, сын мой. Смирись с Божьим повелением.
— Покажите мне его повеление.
— Подними правую ногу и посмотри.
Подчинившись, офицер покраснел.
— Я вижу тень от ноги, — сказал он, не обращая внимания на отпечаток ступни в кучке конского навоза.
— Его повеление уже дано, — сказал Спеклберд. — Как плохо.
— Черт бы вас побрал! Вот это и называется вашей мудростью, да? Прошу прощения, но меня от нее с души воротит, ваше… э-э-э… святейшество. Не думаю, что она понравилась бы и лорду-мэру. Почему бы вам на чистом ол’заркском не сказать что-то новенькое?
Амен улыбнулся ему и, прищурившись, показал на солнце. Полковник моргнул, но смотреть не стал и сказал:
— Хороший ход, старик. Есть классные обманы и есть дешевка. Ты в этом деле знаешь толк, не так ли?
— Никогда таким образом не думал об этом, сын мой, но мой сан налагает определенные обязанности. Понимаешь?
— Вот уж не знаю — то ли плюнуть на тебя, то ли встать на колени, старый дурак. Так что расслабься и езжай домой.
— Полковник, почему вы загоняете себя в ловушку дуализма?
— Что такое дуализм?
— То ли плюнуть на Бога, то ли преклонить перед ним колена.
— У меня приказ, полученный лично от Ханнегана. Залезай в свою карету, разворачивайся и возвращайся в Валану — или окажешься в Ханнеган-сити перед судом по обвинению в ереси. Произнеси еще хоть слово, и я засвидетельствую все, что тут было сказано.
— Благославляю тебя, сын мой, и спасибо.
Полковник фыркнул, бросил несколько слов капитану, стоящему поодаль, сел в седло и, отдуваясь, отъехал. Капитан поднес к худому черному лицу папы кавалерийский револьвер. Двое кардиналов подхватили папу под руки, третий уперся ему в спину, и они повлекли его обратно.
Таким образом для епископа Нового Рима дорога в Новый Рим была перекрыта.
Вооруженные Кузнечики разъехались, освобождая дорогу, но не сделали никакой попытки сопровождать караван папы в обратный путь, даже когда кардинал Оньйо Голопез кивнул Браму. Нахмурившись, тот отрицательно покачал головой. Его отряд стоял, наблюдая за уезжающими, пока те не превратились в пыльное пятнышко на горизонте. Уставшие спутники Амена (в них входила добрая часть Священной Коллегии) двинулись в долгий обратный путь. Издалека до них донеслись слабые отзвуки криков и стрельба, но прелаты ничего не могли сделать, а папа Амен был слегка туговат на ухо. Путь их лежал от лесов на востоке, через заросли кустарников и высокой травы, по прериям. Они шли жаркими днями и зябкими ночами (когда тянуло холодком ил близлежащей пустыни, часть которой была наконец обводнена) и наконец перевалили через горный хребет. По пути они пользовались подаяниями Кочевников и наконец встретились с делегацией, которая выехала им навстречу со стороны провала.
Чиир Осле Хонган заключил брак с Фуджис Гоу. Новый Ксесач дри Вордар, владыка трех орд, чьей женой стала Дневная Дева, преклонив колена, поцеловал кольцо папы и именем Бога и его Пресвятой Матери поклялся в вечной верности его святейшеству.
Прежде чем расстаться, кардинал Оньйо Голопез отозвал в сторону Святого Сумасшедшего и рассказал, что сделал Халтор Брам после того, как их развернула пограничная стража.
— Они отказались возвращаться с нами, и я слышал крики и стрельбу. Не уверен, но думаю, что там произошла схватка.
Владыка трех орд, сидевший на своем жеребце, нахмурился.
— Если он сделал то, чего я опасаюсь, то ответит своей головой.
— Папа ничего не знает, — сообщил Оньйо.
— Я немедленно пошлю разобраться, что там произошло, — Святой Сумасшедший резко и коротко отдал приказ адъютанту и вместе с сопровождающими двинулся обратно. Адъютант поскакал на восток.
Там было в чем разбираться. В тот день на границе эскорт Кузнечиков, стоявший в полумиле от ворот, где происходили все эти события, наконец пришел в движение. Как только пыль от папской кавалькады растаяла за холмами, военачальник Халтор Брам приказал своим девяноста девяти отборным воинам силой оружия открыть путь на Новый Рим. Зайдя с юга, они перерезали дорогу на Ханнеган-сити, по которой направлялся домой полковник, отказавший папе в проезде. Он стал первым среди многих, погибших в этот день.
Затем нападавшие повернули на север. Взять дорогу на Новый Рим удалось без труда — но только на время. Эти кентавры, рожденные-в-седле, вдребезги разнесли отряд легкой тексаркской кавалерии, оставив за собой валяющимися на земле трупы людей и лошадей, утыканные стрелами и пронзенные копьями. Неуклюжее огнестрельное оружие уступило точным и стремительным стрелам. Многие Кузнечики пускали в ход снятые с убитых револьверы, но только в качестве запасного оружия. Лошади Кочевников были быстрее и мощнее, и несшиеся на них бойцы перед неподготовленными солдатами предстали воистину всадниками Апокалипсиса — девяносто девять неукротимых воинов во главе с предводителем демонического облика. Они остались без денег, ибо никто из них не посмел покуситься на папскую казну. Они в куски порубили солдат, убили 146 фермеров, изнасиловали их жен, дочерей, сестер, матерей, сыновей — а затем пробились обратно к границе, разметав свежие, но необученные подкрепления — да, пробились все тридцать три оставшихся в живых, пьяные от избытка адреналина и измотанные усталостью, во главе со своим вождем, раненым в ногу, который возвращался погруженным в раздумья. Но седельные вьюки раздувались от добра, возвращаясь на равнины, они везли с собой неплохую добычу. Теперь с ними расплатились.
Набег обернулся чертовски богатой добычей для тех, кто остался в живых; они вернулись к ждущим их благодарным женам, чьи сердца и чрева трепетали от тревоги и надежды, но переработавшиеся члены мужчин были вялы и неподвижны! И ночами от воинов потребовались незаурядные усилия, дабы убедить жен, что они вернулись с поля битвы полные похотливых желаний насладиться их сексуальными прелестями, но многие сослались на усталость после сражений и заснули в одиночестве.
Но что касается войны, можно было, не сомневаясь, поставить два против одного, что ты погибнешь прежде, чем дорвешься до возможности грабить, насиловать и сжигать амбары, полные свежей соломы.
И этой поздней сентябрьской ночью в поселении, где обитал клан матери вождя, раздавались крики радости и лились слезы горя. Боевые кличи почти не были слышны за женскими рыданиями.
На стяге Халтора Брама красовался королевский девиз. Никто не сомневался, что он был пощечиной новому властителю всех орд, чьи посланники побывали тут всего два дня назад. На следующее утро после праздника возвращения несколько новых вдов принесли свои жалобы женщинам Виджуса и духа Медведя. Брам был приглашен на совет. Он молча выслушал обвинения в свой адрес и не сделал попытки оправдаться.
Слухи о вторжении докатились до высоких стен Нового Рима, и оно было признано дьявольским попущением, ибо набег нарушил договор Священной Кобылы и возобновил состояние войны между Кузнечиками и Тексарком. Но все пришли в радостное возбуждение — кроме погибших, изнасилованных и искалеченных. «Таков бог войны!» — мог бы сказать старый Темпус.
Телеграф принес в Валану новость о набеге Халтора Брама задолго до появления в городе папы, который понятия не имел о событиях, происходивших в нескольких милях за его спиной, если не считать исчезнувшего эскорта Кочевников и слабых криков со стрельбой. По прибытии его встретили обвинения со стороны Тексарка, что или он лично, или государственный Секретариат организовали это нападение Кочевников.
Таким образом, так несчастливо начавшийся понтификат папы Амена Спеклберда за это время произвел на свет важных законодательных актов больше, чем любой понтифик после раскола, состоявшегося в прошлом столетии. Это не вызвало удивления. В составе курии практически отсутствовали союзники Тексарка, и это означало, что курия без труда добьется единодушного решения по поводу представления папе новых советников, которых, поскольку Элия Коричневый Пони где-то в пути, возглавит Сорели Науйотт. По многим вопросам он мыслил точно так же, как и Коричневый Пони. Тем не менее Амен Спеклберд далеко не во всем был согласен с курией. Он заговорил даже об отречении, но первым делом надо было заняться законодательством.
В булле, поименованной «Unica ex Adam Orta Progenies»[83] после вступительных слов папа снова подтвердил, что каждое человеческое создание, от кого бы оно ни происходило, должно восприниматься как человек и что по законам Церкви и людским установлениям Рожденные по ошибке не должны быть лишены равных прав. Это же относится и к «Детям Папы», которым законом отведено специальное место для проживания, такое, как долина. Он специально подчеркнул, что законом запрещается использование их рабского труда в лесных лагерях Ол’зарка.
В булле не было ничего нового, если не считать, что папа отверг практику предоставления Церкви семейных родословных или свидетельств о крещении, пусть даже во многих государствах отсутствие таких документов считалось предосудительным; любой чужак может утверждать, что не имеет отношения к «привидениям» и сойти за нормального. «Те правители, которые с политическими целями эксплуатируют страх людей перед теми, кто обладает наследственными деформациями, которые грешат против них, издавая неправедные законы и побуждая толпу к насилию, должны нести ответственность за эти преступления. Ipso facto[84] наши предшественники отлучали от церкви всех, кто, да простит их Господь, совершали насилие против так называемых Детей Папы, и настоящей буллой мы это подтверждаем». Булла завершалась перечнем карательных мер, которые будут применены за нарушение ее духа и буквы, пусть даже нарушения эти будут совершаться под прикрытием закона. Булла была изложена юридическим языком, но смысл ее, несомненно, исходил от Амена Спеклберда.
Не прибегая к помощи курии, он произвел на свет «Motu Proprio»[85] (сочинено только и исключительно папой). Написан текст был его тонким каллиграфическим почерком, и в нем выражалось сожаление, что в литургических службах лишь от случаю к случаю воздается должное Теотокос (Матери Божьей). Он не счел нужным упоминать, где, в каких областях духовных владений Церкви нужны такие реформы. Епископам патриархальных сообществ предписывалось искоренять матриархат на северо-западе, что Амен Спеклберд косвенно поддержал в своей речи перед конклавом накануне (это особенно подчеркивалось его сторонниками) избрания на папство и что неизменно присутствовало в его официальных выступлениях. Тем не менее в «Motu Proprio» отсутствовали четкие дефиниции и перечень карательных мер, которые подтверждали бы неизменность утверждений любого папы. Для большинства его громогласных критиков последняя булла была предметом удивления и воспринималась как дань поэтического уважения к Всеобщей Матери.
Папа дал указание пересмотреть закон, регламентирующий отставку папы, каковое событие случилось лишь раз за тысячелетие. Он объявил, что решение об отставке должно исходить от человека как такового, а не от папы. Человек, который исполняет обязанности папы, должен покинуть престол, снять все свое облачение и объявить, что престол свободен, произнеся слова: «Папы больше нет!», — после чего уйти, ибо Святой Дух покинул его. Его не должно ни превозносить за уход, ни осуждать. Он должен иметь право и передумать. Спеклберд настаивал, чтобы это изменение было внесено в существующий закон, а кардинал Хилан Блез пытался уговорить остальных. Он положил конец спорам, пустив в ход древний довод, что отставка папы невозможна.
— Он готовится к своему собственному уходу, — сказал Науйотт, но тем не менее поддержал закон.
Мягкий Свет был отмечен смертью. Печать ее лежала на нем с той минуты, когда Виджусы объяснили ему, что он увидел в кратере Ночную Ведьму. Он предсказал свою смерть в разговоре с кардиналом Коричневым Пони. Через две недели после пребывания в Пупке Мира он заболел. Когда шаманы Диких Собак явились посоветоваться со своими соратниками из Кузнечиков, он уже знал, каким будет решение. Он предложил, что добровольно расстанется с жизнью, принеся себя в жертву, — но на том условии, что младший брат Элтур Брам (Дьявольский Свет) займет его место военного предводителя Кузнечиков. В таком случае он покончит с собой. Совещались и Виджусы обеих орд, и бабушки. Элтур был достаточно известным воином, но он не участвовал в последнем набеге; его знали как спокойного человека, не в пример своему вспыльчивому брату. Бабушки, в свою очередь, опрашивали сыновей и племянников, есть ли у них желание следовать за Элтуром. В лагере Кузнечиков возбуждение битвы уже сошло на нет, и даже те тридцать три воина, что живыми вернулись из набега, понимали, что Халтор Брам совершил акт государственной измены против Ксесача дри Вордара. Им было приказано очиститься ритуальным семидневным постом, и они не понесли больше никаких наказаний, ибо подчинялись приказам своего командира.
Было принято решение, что Халтор Брам не будет удостоен чести торжественных похорон, которыми Дикие Собаки проводили Сломанную Ногу. Многие бабушки гневались на него из-за тяжелых потерь. Одна из них сказала: «В моем загоне есть дикий жеребец, которого я готова выпустить».
Все посмотрели на нее, и тут же было решено, какой смертью погибнет Халтор Брам.
Чтобы избежать слишком частого скрещивания кровей, Виджусы иногда сводили своих кобыл с дикими жеребцами. Мужчинам было запрещено к ним даже подходить. Виджусы по-своему обращались с дикими жеребцами. Порой приручение требовало нескольких недель, а случалось, и месяцев. Женщина постепенно приучала табун к себе, подходя к нему с наветренной стороны.
Каждый раз она шаг за шагом подходила все ближе, пока жеребец, возглавлявший табун, наконец не обращал на нее внимания. Тогда она спокойно и неторопливо уходила. Лошади начинали воспринимать ее как часть окружающей местности. Наступал день, когда мужчина ее семьи приносил из ее стада кувшин мочи кобылы, у которой была течка. Она выливала ее на себя и, как обычно, подходила к табуну. Когда жеребец чувствовал этот запах и начинал приближаться к ней, она снова отходила. Это повторялось раз за разом, с запахами и без запахов, пока женщина не получала возможность свободно ходить меж пасущимися мустангами. Наконец выбрав себе животное, она начинала тихонько подкармливать его, а накинув петлю на шею, успокаивала и оглаживала, после чего, заманивая, вела к кобыле и давала покрыть ее. Затем жеребца выпускали. Таким образом они оберегали свои табуны от близкородственного скрещивания, но к диким жеребцам всегда относились с уважением. Пусть женщина соблазняла его, коня никогда не седлали и не пытались укрощать. Единственной проблемой оставалось то, что жеребец, который теперь не боялся людей, мог быть пойман кем-то из безродных.
Чтобы вернуть такого жеребца в прежнее дикое и всегда настороженное состояние, было принято решение принести в жертву Хозяину всех диких лошадей бывшего военачальника Кузнечиков. На длинной веревке его привяжут к дикому жеребцу, и, выпущенный на волю, он размечет по прерии труп клятвопреступника.
Глава 17
«И кто бы ни пришел, страждущий и болящий, должно ему оказать всяческую заботу, как если бы предстал сам Христос, ибо Им сказано: “Я пред тобой и ты прими меня”».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 36.Хотя избрание на пост аббата Абика Олшуэна, которое состоялось после приличествующего случаю траура, было принято всеми, до выборов он воздерживался объявлять младшим братьям свои решения и пользовался лишь своим привычным авторитетом настоятеля. Чернозубу и желтой гвардии он отвел помещения для гостей и пригласил их принять участие в монастырских работах, которые занимали от четырех до пяти часов в день. Он посоветовал Нимми присоединиться к литургическому хору монахов, но дал понять, что причастие он получит лишь после особого разрешения от исповедника, имея в виду себя.
Когда Чернозуб рассказал ему, что иностранные стражники не только христиане, но и несут на себе религиозные обеты, Олшуэн растерялся. Он пригласил для совета Левиона Примирителя и в присутствии Чернозуба долго обсуждал статус иностранцев. Левион и Олшуэн чувствовали себя как-то не по себе из-за того, что очутились в компании профессиональных убийц, возложивших на себя религиозные обеты, да и Нимми на самом деле знал очень мало об их символе веры и об обычаях. Правда, он знал и напомнил Олшуэну, что много веков назад монахи святого Лейбовица защищали обитель силой оружия, свидетелями чего остались стены парапета и ржавое оружие, запертое в подвальном хранилище, ключ от которого был только у Олшуэна.
Чернозуб отвлекся, рассматривая облачение Левиона. Монах стал священником. Хотя Чернозуб не испытывал к нему неприязни, он подумал, что, если Примиритель станет его исповедником, это будет еще одним болезненным напоминанием о его личном аде. Мало того, что он находится в присутствии этой пары. После ухода из аббатства Чернозуб, по большому счету, не изменился, но какая-то не очень значительная перемена с ним произошла. После его служения кардиналу Коричневому Пони, после того как он под руководством Топора изучал воинское искусство, он уже стал меньше бояться таких людей, как его собеседники. Его потрясло открытие, что готовность к убийству может служить хорошим успокаивающим средством — даже для тех, кого он любил и уважал.
— Почему бы вам не поговорить с ними, а не со мной? — спросил он у отца Левиона.
— Я пытался, брат Сент-Джордж. Но с трудом понимаю их. Не мог бы ты…
Не испытывая желания брать на себя роль переводчика, Нимми отрицательно покачал головой.
— Они учат церковный, отче. И с вашей стороны будет очень любезно помочь им общаться. Уверен, что вы справитесь гораздо лучше, чем я.
Потом он с трудом подавил искушение впасть в грех самодовольства. Чужих христиан вскоре пригласили принять участие в общей молитве братии; тем не менее от дарования причастия им было решено воздержаться, пока с помощью катехизиса и исповедников не будет выяснено, понимают ли они ту форму католицизма, которой придерживаются на континенте. Олшуэн пока не был утвержден аббатом и опасался, что Валана выразит неодобрение, поскольку почти ничего не знал ни о папе Амене Спеклберде, ни о желтокожих воителях покойного кардинала Ри.
Он поставил Нимми мыть посуду и отскребать каменные полы на кухне. Заблудший монах не пользовался уважением своих бывших товарищей и избегал участия в их псалмопениях. Чувствовалось, что аббат Джарад обмолвился всего лишь парой слов или вообще ничего не рассказал о его работе у кардинала Коричневого Пони; в курсе дела был лишь Олшуэн, но его это не беспокоило. Если даже брат Поющая Корова и рассказал, что Чернозуб был одним из конклавистов Коричневого Пони, когда избирали папу Амена, это никого не заинтересовало. Аббатство было занято своими делами: возносить молитвы и сохранять наследие. Интерес к окружающему миру был сознательно сведен к минимуму. Нимми был только благодарен, что никто не ухмылялся ему в лицо и никто не обсуждал его в полный голос, чтобы он мог это услышать.
В этом году аббатство Лейбовица посещало много гостей, а в гостевом доме было только двенадцать обставленных келий.
Возвращаясь с вечери, Чернозуб заметил, что в келье, которая, как он думал, еще утром пустовала, горит лампада. Глянув в глазок, он застыл на месте. На постели, опираясь на подушки, лежал бледный и осунувшийся кардинал Элия Коричневый Пони. Чернозуб прижался лбом к решетке, чтобы лучше рассмотреть занемогшего кардинала, своего наставника — сейчас и в будущем.
— Это ты, Нимми? А я все думал, где ты прячешься. Входи, входи.
— Мне никто не рассказал, что вы здесь, милорд, — Чернозуб опустился на колени и припал губами к кольцу Коричневого Пони. Кардинал вздрогнул, и Нимми решил ограничиться только поцелуем.
Два дня спустя в аббатство явился Онму Кун. Нимми подумал, что это странное совпадение, но тут же убедился, что Заяц-изгой, даже не навестив настоятеля, прямиком направился к больному кардиналу. Они проговорили несколько часов, и Нимми принес им с кухни обед. Онму по отношению к нему держался дружелюбно, но как только он вошел, разговор прервался и не возобновлялся, пока Нимми не покинул келью. Контрабандист снова держал путь из провинции в Новый Иерусалим, но оставался в монастыре, пока Коричневый Пони не был готов покинуть его — и еще немного.
С самого начала не было никаких сомнений, что настоятель Олшуэн будет избран аббатом, духовным наставником и правителем ордена святого Лейбовица, но Коричневый Пони заставил его поволноваться по поводу утверждения на этом посту, каковое право было даровано ему папой, — и он недвусмысленно довел до сведения Олшуэна, что восстановление кардинальского здоровья должно быть первейшей заботой аббатства.
С течением времени Красный Дьякон оправился от приступов тошноты и усталости. Но у него не было аппетита. Приступы рвоты после кухонной стряпни обычно кончались лишь рвотными спазмами. Вставая с постели, он испытывал головокружение. Чернозуб попросил, чтобы его освободили от обязанности мыть кухонные полы, дабы он мог снова справиться с трудами достопочтенного Боэдуллуса, ибо этот уважаемый автор писал о Мелдауне, о провале в кратере, и порой такого рода заболевания были результатом воздействия излучения. Он даже выписал рецепт особым образом приготовленного жаркого, которое, по мнению древних обитателей равнин, помогает при лечении.
Сначала настоятель Олшуэн отказался отпустить Чернозуба с кухни, ибо брат-медик не хотел видеть рядом с собой помощников. Но когда Коричневый Пони узнал, что настоятель поручил ему самую черную работу, он пригласил Олшуэна в свою больничную палату и во всей красе продемонстрировал ему, что значит плохое настроение. Кардинал даже задался вопросом, стоит ли утверждать избрание Олшуэна, если он так настойчиво повторяет ошибку Джарада.
— Какую именно ошибку, ваша светлость?
— Давить на Нимми, проклятый идиот!
— Ну как же, все мы занимаемся черной работой, и я полагал… — он запнулся, увидев, что Красный Дьякон готов взорваться.
Брат Чернозуб был освобожден от обязанностей по кухне и поступил в распоряжение кардинала.
Нимми снова перечел Боэдуллуса и проконсультировался с братом-медиком и поварами. Кардинал не стал возражать против строгой диеты, составленной консультантами. Дважды в день он съедал яблоко, в котором трое суток находились загнанные в него гвозди. На приготовление пресловутого жаркого шли исключительно потроха. «Даже собака этого есть не будет», — брюзжал повар. В чем и ошибался, ибо пастушьи собаки, если им позволяли, съедали животное целиком, кроме рогов и копыт. К блюду добавляли дикий лук и молотый черный перец. Дикий пахучий лук рос только по берегам рек, и рядом с аббатством его не водилось. Повар пользовался только огородным луком, и хотя пастухи на выпасе нашли несколько стрелок дикого, на замену годился и красный перец; предполагалось, что лечебный эффект окажет главным образом сочетание хорошо нарубленных и перемешанных языка, печени, сердца, мозгов, поджелудочной железы, почек и рубца. Их полагалось готовить на сковороде, спрыскивая красным вином или уксусом. Для настоящего блюда требовался не барашек, а молодой теленок, но ни одна из молочных коров аббатства в этом году не отелилась. И поскольку еженедельно в жертву здоровью шли две молодые овцы, монахам было разрешено и даже предписывалось есть баранину, хотя диета аббатства Лейбовица обычно не включала в себя говядину и баранину. Самые религиозные из братьев предпочитали поститься, когда его подавали на стол, но большинство послушников, не испытывая угрызений совести, ели мясо с подливкой из чеснока и перца.
На второй неделе аппетит у кардинала улучшился.
— Ты знаешь, Нимми, это жаркое в самом деле вкусная штука. Спроси повара, что он туда кладет, ладно?
— Сомневаюсь, что вам в самом деле стоит это знать, милорд.
— Нет? А почему в яблоках какие-то дырки со ржавчиной? И почему меня все время кормят тыквенным семенем?
— В яблоки загоняют гвозди. Достопочтенный Боэдуллус считает, что это хорошо действует на кровь. Сейчас октябрь, время спелых тыкв.
— Но почему только семена? Опять по Боэдуллусу, да? Ведь ты к нему писал примечания, не так ли? Но только не о тыквенных семечках.
— Мне никогда не искупить свою вину.
— Не переживай. Меня это не волнует. Расскажи о своем пребывании в Новом Иерусалиме.
— Она мертва, милорд.
— Эдрия? Мне очень грустно это слышать. Она была талантливой молодой особой. Конечно, наделала кучу ошибок. Ты сможешь оправиться от ее потери?
— Я никогда не забуду ее.
— Ты хоть что-то понял?
— Да.
— Тебе предоставляется выбор: или отправиться со мной на восток или же остаться здесь со своим орденом.
— Я еду с вами, милорд. И спасибо вам. Это место заставляло меня грешить. И слишком часто я впадал в неправедный гнев.
— Побереги свои благодарности. Вполне возможно, нас ждут опасности. И холода. Прежде чем мы доберемся до Ханнеган-сити, наступит зима. Как ты думаешь, сможешь ли уговорить кого-нибудь из людей кардинала Ри отправиться с нами в дорогу?
— Уговорить? Не понимаю. Они считают вас своим хозяином и даже владельцем.
— Знаю. Поэтому я и не хочу им ничего говорить, пока они не расстанутся с этой мыслью.
Нимми без труда отобрал телохранителя для кардинала. Ехать хотели все.
— Мы не можем себе этого позволить, — объяснил он. — Нам придется путешествовать с поддельными документами. Кто бы из вас ни пустился в путь, ему придется облачиться в сутану и прятать оружие во вьюках.
По словам Вушина, лучшим бойцом среди них был Кум-До, но все же он выбрал Ве-Геха, самого маленького из воинов, чья кожа имела светло-коричневый оттенок. Лишь разрез глаз отличал его от местных.
Когда появились документы с кардинальской печатью и письмо от папы, Коричневый Пони был уже готов, покинув монастырь, отправиться на восток, в провинцию, а оттуда в Ханнеган-сити. В письме почти ничего не сообщалось о набеге Халтора — кроме того, что он имел место и ответственность возложена на папу. В ответ кардинал набросал лишь несколько слов, в которых выразил надежду, что папе не придет в голову отказаться от папства, пока он, Коричневый Пони, не вернется из Имперского суда. Послание было отправлено в Санли Боуиттс вместе с почтой аббатства, откуда его каждые десять дней забирал курьер.
После чего трое мужчин в монашеских одеяниях двинулись в сторону провинции.
Вскоре после их отъезда в аббатстве Лейбовица появились еще двое путешественников. Одним из них был старый еврей, направлявшийся к горе Последнее Пристанище. С собой он вел двух синеголовых козочек; у каждой было полное вымя и раздавшиеся бока. Сопровождала его молодая женщина со светлыми волосами, беременность которой была чуть менее заметна, чем у козочек. Из всего набора гостеприимства старому еврею понадобились лишь глоток воды, несколько сухарей и кусок холодной баранины. Девушка, избежав гнева своей семьи, хотела найти отца своего будущего ребенка.
— Они уехали два дня назад, — сообщил Олшуэн. — Он сказал кардиналу, что вас нет в живых.
— Он думает, что я скончалась, но кардиналу-то лучше известно…
Аббат лишь скрипнул зубами но, пересилив себя, предложил воспользоваться гостеприимством аббатства, хотя постоялый двор был наполовину забит иностранными воинами, вместе с которыми жил и контрабандист оружия; отдельного помещения для женщин не имелось, а монах, которого она искала, уехал.
— Вы можете остановиться в келье, которая будет закрываться на ключ, — сказал он ей, — и пользоваться ночным горшком. Так вы будете в безопасности.
— У кого ключ?
Олшуэн задумался. А что, если она будет выбираться по ночам и соблазнять мужчин и вообще бродить по монастырю?
— Он будет при мне, — наконец сказал он.
— И вы будете меня закрывать? — задрав голову, женщина посмотрела на трех монахов, которые с любопытством глазели на нее из-за парапета стены. Лукаво улыбнувшись, она подняла до пояса подол кожаной юбочки. Под ней ничего не было. Выставленным животом, под которым курчавились светлые волосы, она толкнула ужаснувшегося аббата, опустила юбку, развернулась на пятках и, зазывно покачивая бедрами, пошла в сторону Санли Боуиттс. Кто-то захихикал. Аббат посмотрел в сторону парапета, но троица монахов уже исчезла. Вскоре ее нагнал мужчина на повозке с овечьим навозом и предложил подвезти. Через несколько минут он подсадил и старого еврея, который привязал своих козочек к задку повозки.
«Чернозуб, Чернозуб», — с отвращением бормотал Олшуэн. Вернувшись в часовню, он опустился на колени, но, прежде чем приступить к молитвам, проверил у себя пульс. Монах, который начинает молиться, не успокоив сердце и ум, плохо выполняет свои обязанности. С колотящимся сердцем он быстро пробормотал «Отче наш» и вернулся к себе.
Путешествие от аббатства Лейбовица до восточных границ территории Кузнечиков заняло почти два месяца. Онму Кун снабдил кардинала списком церквей, настоятели которых и паства состояли главным образом из потомков Кочевников; им Кун и продавал оружие. Некоторые из них входили в число корреспондентов Секретариата. Пока путешественники посещали только такие приходы, они чувствовали себя в безопасности. Но кардинал выразил желание заглянуть в поселения, тянувшиеся вдоль телеграфной линии, чтобы он мог узнать новости из Валаны и Ханнеган-сити. Они забрались далеко на север, чтобы миновать заставы империи и перебраться через Залив привидений, не заставляя лошадей пускаться вплавь. Дальше они шли по карте, от церкви к церкви, от поселения к поселению. Они двигались на север, уходя от плодородных холмистых мест, и их окружали мрачные сухие земли.
В одном из таких поселений, в старом Желтом городе, Коричневый Пони узнал, какие последствия повлекла за собой война, которую против Ксесача дри Вордара развязал Халтор Брам, и какая его постигла ритуальная смерть. Он никогда не встречался с Элтуром Брамом (Дьявольским Светом), близнецом Халтора, моложе его на два часа. Священник Зайцев по имени Наступи-на-Змею, который знал эту семью, рассказал кардиналу, что Элтур не такой заводной, не такой импульсивный, как его брат-близнец, которого он обожал, но куда хитрее его. То, что старухи избрали его, удивило Наступи-на-Змею, который сказал, что Элтур обязательно отомстит за брата.
Филлипео Харг потребовал от Кузнечиков выдать всех вооруженных преступников, участвовавших в набеге; кроме того, он решил забрать не меньше пятидесяти детишек, которые будут при нем заложниками, оберегающими от будущих набегов, еще половину имущества орды в виде коров и лошадей. В противном случае, сообщил он, Кузнечики будут сметены войной. Но пока имперским силам не хватало снаряжения, чтобы пехота могла окапываться на равнинах, хотя Тексарк занимался этим вопросом. Пока Филлипео мог только посылать кавалерийские отряды, чтобы грабить поселения и уничтожать их жителей. Когда у него появятся силы для захвата и удержания территорий, он будет окончательно готов к войне. Если падут оккупированные земли Кузнечиков, то ничто не удержит его от дальнейшего продвижения империи на запад. Если бы тексаркские солдаты потеряли шестьдесят шесть бойцов из девяноста девяти участников боя, у них не было бы повода для торжества. «Так могут вести себя только грязные язычники», — кисло сказал священник. В обозримом будущем война против Кузнечиков должна будет носить странный и непостоянный характер. Но она будет жестокой.
Провинцией к югу от Нэди-Энн управлял проконсул, в распоряжении которого были полицейские силы. Их давней и главной обязанностью была защита имущества богатых поселенцев от алчности бедняков-Зайцев. Чернозуб вспомнил об оружии, которое Онму Кун ввозил на эти земли. Пусть даже часть его попадала в руки Тексарка, в арсенале Нового Иерусалима хранилось далеко не самое современное оружие, и он сомневался, что Зайцы способны на революцию, хотя в Желтом городе он слышал разговоры о бандитах из этой орды, безродных изгнанниках, обитавших в гористой местности далеко к югу. «Бандит» был термином тексаркской политики.
Единственным фактом, устраивавшем Филлипео Харга, было то, что владыка трех орд Святой Сумасшедший, Медвежонок, властно удерживал нового вождя Кузнечиков от вооруженных стычек. Единственным допускавшимся видом боевых действий были контратаки. Вопрос, был ли Дьявольский Свет предан своему владыке, вождю вождей, больше, чем его брат, оставался открытым. Сообщение о набеге Брама вызвало в провинции и радостное возбуждение, и ярость со стороны старух Кузнечиков из-за его ритуальной гибели.
Все это Коричневый Пони узнал от священника Зайцев в Желтом городе, рядом с которым располагался любопытный кратер, почти такой же большой, как Мелдаун, но в нем обитала живность. Наступи-на-Змею порой общался с Кочевником из Кузнечиков, который со своей семьей обитал неподалеку; жена у него была из Зайцев. Новости доставил ее муж, почерпнувший их у своей родни в орде, а точнее, у человека, живушего у Нэди-Энн, который видел сигнальщиков Кузнечиков и Диких Собак на холмах за рекой. Сигналы носили ритмичный характер, и в их передаче участвовало все тело, а порой их изображали взнузданные кони; они были настолько выразительны, что их можно было увидеть и все понять даже на большом расстоянии. Новостям с земель Кузнечиков потребовалось всего лишь несколько дней, чтобы добраться до Желтого города.
Хозяин, принимавший Коричневого Пони, отец Наступи-на-Змею, поддерживал отношения не только с Кузнечиком, но и с тексаркским сержантом, который узнавал все официальные сообщения на соседней телеграфной станции и, по всей видимости, сам решал, какое из них имеет смысл.
— Как вы можете доверять этому сержанту? — удивился кардинал.
— Его подружка — одна из моих прихожанок, и она каждое воскресенье приводит его в мою церковь. Я доверяю ей — потому, что она любит его меньше, чем он ее. Он слишком прост, чтобы хитрить. Но я ни в коем случае не собираюсь доверять ему всегда и во всем.
— Вы можете каким-либо образом отправить сообщение папе в Валану?
— Нет… — сказал было Наступи-на-Змею, но замялся. — Такая попытка может оказаться довольно опасной.
— Мне нужно рискнуть.
— В опасности может оказаться член паствы.
— Та девушка?
— Да. И сержант, и я сам.
— Но вы знаете способ, как этого добиться?
— Она один раз послала сообщение своим родственникам на Западе. Зашифровала текст, а ее дружок тихонько подсунул его в передачу.
— Может ли она повторить этот номер?
— Сегодня вечером не давите на меня, — сварливо ответил отец Наступи-на-Змею. — Посмотрим, что получится.
— Необходимо убедить папу, чтобы он не вздумал подавать в отставку.
— И послание от вашей светлости сможет убедить его?
— Этого я обещать не могу.
— Я тоже ничего не обещаю. Но попробую с ней поговорить.
Через три дня текст отправился в дорогу. Хотя в нем было сказано всего лишь «Ничего не предпринимайте, пока я не повидаюсь с Филлипео Харгом», это сообщение было утоплено в нескольких сотнях слов послания школьницы, и Коричневый Пони не имел представления, ни как будет определен адресат, ни как он получит этот текст.
«Лучше хоть так, чем никак» — это было все, что он сказал.
Он не торопился покидать Желтый город, ибо после того, как дорога привела их к Нэди-Энн, через которую на север шли сообщения о событиях на равнинах, именно здесь он мог быть в курсе дел. Отец Наступи-на-Змею разбирался, каким образом происходило взаимодействие между цивилизацией и сообществами Кочевников на великих прериях. Он родился во время завоевания и еще помнил, как его отец ушел к мятежникам в южных холмах.
Когда отец погиб, он, как и Коричневый Пони, только поколением раньше, очутился на попечении монахинь, которые учили его. Позже, уже юношей, он отправился на север вместе с приятелем из Диких Собак, но, поскольку не обнаружил в себе талантов ни воина, ни пастуха, так и не нашел семьи, которая была бы согласна усыновить его. Он было решил присоединиться к банде изгоев, но монахини внушили ему понятие греха, и посему он вернулся в провинцию и стал священником.
Он не скрывал радости оттого, что его духовным руководителем вместо Бенефеза стал кардинал Коричневый Пони, и был доволен, что представление о греховности не вынуждало запрещать прихожанам тайком получать оружие у Онму Куна. Он даже пообещал, что поспособствует организации подпольной местной милиции из тех прихожан, которые, как он знал, хранят верность и Церкви, и наследию своих предков-Кочевников.
Скорее всего, он знал о культуре Кочевников больше, чем Коричневый Пони и Чернозуб, но ему минуло семьдесят пять лет и он на многое смотрел с другой точки зрения, более глобальной, не столь пронизанной страстной преданностью наследию Зайцев.
Отец Наступи-на-Змею был куда лучше осведомлен о ситуации среди Кочевников, чем могли предполагать трое его гостей. Хотя многое отрывками все же доходило до них. Но семидесятипятилетний пастырь свел их воедино во всеобъемлющую картину. Его очень обеспокоил рейд Халтора Брама, и не только с моральной точки зрения, что было бы естественно для него, как для священника.
Покойный военачальник был далеко не дурак. Он знал, что его ждет неминуемая гибель, которую ему напророчили Виджусы после бдения в кратере. По словам этого священника, налет был не чем иным, как посланием Коричневому Пони, который сейчас обитал в домике сельского священника, Коричневому Пони, в котором Брам опознал властную фигуру валанской церкви.
Кардинал лишь покачал головой, ибо эта идея явно не доставила ему удовольствия, но Нимми заметил, что он не стал спорить.
— Кузнечики вечно воюют, — вместо возражений пробормотал он.
— Что вы имеете в виду?
— Именно это сказал мне один из его воинов, когда мы ехали на юг от Мелдауна на встречу с папой.
Наступи-на-Змею настаивал, что Брам мог бы привести свою армию к воротам Рима, чтобы показать кардиналу (и, конечно, папе), что главный удар в любой войне предстоит нанести Кузнечикам, а не Диким Собакам, и что валанское папство лишь попусту теряет время и энергию, обхаживая Чиир Осле Хонгана. «Успех» набега, кроме того, должен был продемонстрировать Филлипео Харгу, что открытый ему запад скорее воображаемый, чем реальный, ибо на самом деле преимущество на его пространствах принадлежит Кузнечикам. Слушая этого провинциального настоятеля, Чернозуб начал испытывать восхищение отвагой покойного вождя Кузнечиков, его неуклонным следованием к своей цели, пусть даже он и был одержим убийственными наклонностями. Нимми снова подумал, не мог ли Брам быть его дальним родственником.
Наступи-на-Змею подвел итоги военной, культурной и исторической ситуации, как он ее понимал.
Одно из объяснений, почему всадники Кочевников одерживали верх над тексаркской кавалерией, заключалось в том, что они, как все знали, с младенчества росли в седле. Было общим местом, что племя, которое раньше не видело лошадей, впервые сталкиваясь с незнакомыми всадниками, воспринимало их как нечто целое, как некое странное животное. Лишь затем они видели, что это странное создание разделялось на две части. Но если чужие воины принадлежали к Кочевникам равнин, то правильным было первое впечатление. У Кочевников всадник и лошадь представляли собой единое целое. И в трудах, и в бою человека на лошади называли не по его имени, а по имени коня, а в случаях вежливого обращения к кличке коня прибавляли имя той, кто случал кобылу, — часто ею была мать жены. Ведь мужчина всего лишь управлял лошадью — сражаясь или загоняя коров.
Среди подробностей быта, которые первым делом бросались в глаза на стоянках Кочевников, временных или постоянных, было обилие женщин; их было куда больше, чем мужчин, если только не считать праздников, на которые и воины и пастухи съезжались с пастбищ, где жили со своими полудикими стадами. Пастухи появлялись почти незнакомцами в своих стоянках или поселениях, где обитали только старики, дети и калеки, порой помогавшие женщинам. По крайней мере, дети приобщались к работе. Ребята постарше становились погонщиками. Малыши висели на оградах загонов и пытались ездить верхом на старых кобылах. Пожилые давали понять, что их былые славные деяния позволяют им отдыхать и бездельничать, пока дети и женщины готовят, убирают, моют, носят воду, чинят одежду, лепят глиняную посуду и ухаживают за лошадьми. Порой женщины Виджуса пускали в ход свою сверхъестественную силу, чтобы заставить работать какого-нибудь отставного старого вояку — правда, эти обязанности не должны были унижать его, но ветераны все как на подбор были ленивы. Порой они оживлялись, предлагая свои услуги целителей, когда кто-то из молодых получал травмы в жестокой схватке.
Обычный пастух-воин, обитавший к северу от Нэди-Энн, был, как правило, неграмотен и говорил только на диалекте своей орды, но его мать или бабушка, которые происходили из Виджусов, случалось, умели читать и даже учили младшее потомство. Пусть даже он не умел писать и не знал второго языка, — средний Кочевник уже куда лучше, чем прапрадядя, представлял себе величину окружающего мира. Он знал, что земля не кончается за горами, что к востоку от Грейт-Ривер тоже живут люди и что на этой стороне реки обитают опасные и презираемые травоядные человеческие существа. Он даже подозревал, что провал для случки Женщины Дикой Лошади на самом деле вовсе не Пупок Мира, и что такой же загон для случки его бабушки, если такой у нее имелся, вовсе не обязательно несет смерть мужчине, отважившемуся войти в него, хотя на всякий случай лучше держаться от него подальше. Он не так строго придерживался обычаев Кочевников, как его пожилые дяди. Он пользовался инструментами горожан, носил такую же, как у них, одежду, пил напитки горожан и часто ел бобы и кукурузу горожан, если не выращивал свои злаки, хмыкнув, заметил Наступи-на-Змею.
Земля создана, чтобы на ней росла трава, чтобы паслись коровы и антилопы, прыгали зайцы, носились койоты и лошади, а также обитали люди, дикие собаки, разные виды кошек и стервятников. Иерархия животных на равнинах определялась тремя главными фигурами в этом мире, где все охотились за всеми: люди, лошади и собаки. А также женщины, кобылы и суки. Жить обитателям равнин было куда проще, чем тем, кто выращивал кукурузу и бобы. Можно было испытывать сочувствие к фермерам, как порой жалеешь свою добычу, ибо Кочевник видел, что фермеры служат добычей для всех остальных хищников: солдат, полиции, священников и сборщиков налогов. Они были привязаны к одному-единственному клочку земли, в то время как Кочевникам принадлежал весь мир под Пустым Небом. Так еще с древних времен Кочевники называли сами себя: Племянники Пустого Неба. Пустое Небо, конечно, было личностью, и в то же время оно было просто-посмотри-наверх: безбрежным небом. Нигде, кроме как на равнинах, встав на спину коня, человек не мог охватить взглядом всю протяженность земли, разве что с вершины мачты на шхуне, но Кочевник сомневался в существовании океанов. Правда, он знал, что вещи могут существовать в разном обличье, и если его окружал океан полувыжженной травы, то он, естественно, мог представить себе и океан воды. Но не все, что он с легкостью мог себе представить, существовало в действительности. После того, как его двоюродные деды потерпели поражение от солдат Ханнегана Второго, после того, как Ханнеган напустил мор на их стада, этот новый Кочевник стал скептиком. Он верил далеко не во все, что ему внушали деды или женщины Виджуса (разве что он сам готовился вступить в ряды духа Медведя), и весьма скептически относился к их магическим способностям. В орде Диких Собак не так уж редко случалось, что, заболев, Кочевник ехал в город к врачу или искал доктора с иными взглядами, особенно когда дело касалось хирургии. Обычно так вели себя больные из числа молодых, но случалось, что и пациента постарше его юные отпрыски чуть ли не силой волокли в горы к врачу. Немало мужчин духа Медведя часть времени работали в больницах Церкви или империи, усваивая все, что они успевали, из этого иного искусства врачевания. Они усваивали, что надо мыть руки. Они знали, какие уворованные лекарства пригодятся дома.
Существовали мифы, как после древней катастрофы появилась эта заросшая травой земля и как она дала жизнь настоящим Людям.
В первобытные времена господства великой смерти были лишь огонь и лед. Мало кто из животных и еще меньше людей спаслись от ужасной смерти. Затем после первобытных времен наступили Древние времена. Тогда люди, собаки и кони договорились и вступили в заговор, чтобы управлять стадами диких мохнатых коров, которые сами по себе бродили по равнинам, этой святой земле Пустого Неба и Священной Кобылы. Этот союз людей-лошадей-собак-вещей управлял мохнатыми стадами к их же благу, пусть обычно скот и сопротивлялся, уводя их в те места, где, как известно, росла зеленая и сочная трава. В обмен на свое мясо, кости и кожу коровы тоже кое-что получали; союз людей, лошадей и собак защищал их от волков и огромных кошек, но, свободно бродя по прериям, он продолжали оставаться добычей этого хищного союза — всадники убивали их, и лошадь продолжала оставаться высшим животным.
«Сегодня стада чаще всего не совершают длинных переходов», — сказал Наступи-на-Змею. Повсюду на границах равнин выросли изгороди. Некоторые племена предпринимали попытки весь год оставаться на одном месте, возводили постоянные жилища, по осени отбраковывали скот (теперь разводят даже овец), выращивали племенных производителей, резали отобранных в пищу, съедали их сразу же или готовили мясо на зиму и, наконец, продавали или меняли у фермеров излишки скота на зерно. А некоторые растили свиней, хотя настоящие Люди относились к ним с отвращением.
Орды сначала воспринимали Кочевников, живущих за изгородями, как отщепенцев, презренных бывших Кочевников, которые стали возделывать землю подобно семье Чернозуба — если не считать, что родные Чернозуба пахали чужие угодья. Но старухи Высоких равнин, эти тощие высохшие бабушки с жилистыми кулаками и насмешливыми глазами, наделенные силами Виджуса, не оставляли в покое тех, кто жил за изгородями, они нашептывали предупреждения мужьям, братьям, сыновьям и отцам, пугая их Ночной Ведьмой, которая из своих темных глубин призывала к себе тех вождей, кто покушался на ее владения, или уродовала тех, кто оказывался рядом с ней. И дело было не только в этом. Если оседлые пастухи враждовали с кочевыми, то они могли быть союзниками только фермеров и Тексарка.
Когда людям стала попадаться на глаза Ведьма, опасливые вожди, нервничая, принялись утверждать, что Кочевников, которые осели за изгородями, нельзя ни грабить, ни убивать; если возможно, надо их как-то уговорить вернуться к нормальной кочевой жизни. Тем не менее такая терпимость была свойственна лишь обитателям пастбищ, примыкавших к оградам. На равнинах было несколько семей, которые рискнули огородить для себя несколько спорных участков, расположенных вдали от района изгородей. Вожди орд послали вооруженных людей снести эти изгороди. Непослушных заставили сделать выбор: или вернуться к привычной жизни, или оставить общинные земли. Те, кто по дурости остался на месте, были убиты разбойниками, которые решили было, что спасают свои племена от бед и кровопролития. Сами же орды, конечно, поддержали Церковь, осудившую этих жестоких убийц-выродков. Все изменилось во времена Хонгана Оса, когда Ханнеган Второй сделал коровью чуму оружием войны, запустив в племенные стада зараженных коров.
Старейшинам было ясно ждущее их будущее. Нетрудно было предвидеть, что открытые пространства равнин будут уменьшаться, а обитающие на них люди и стада или исчезнут, или изменят образ жизни. За три поколения после Завоевания изменения происходили непрестанно, и самой характерной отличительной чертой сегодняшней популяции была молодость. Плодовитые женщины, становившиеся матерями и бабушками, за очень короткое время удвоили население равнин. Каждый Кочевник-воин был убежден, что способность его женщины быстро производить на свет детей, среди которых нередки были близнецы и даже тройни, в полной мере отвечает потребностям его народа. Как бы там ни было, в последнее время Великие равнины продолжали уменьшаться, а их население росло. Разве это не могло быть основной причиной войны? Это обычно случается, когда мужчины со своими женщинами и детьми оседают на одном месте, занимаются сексом и рожают детей — и их становится слишком много для привычного порядка вещей. Первыми нарушителями процесса становились банды подростков, а поскольку они стали доставлять слишком много хлопот окружающим, возникла необходимость поставить их под команду старших и дать им возможность совершать жестокости по отношению к тем, кто не угодил вождю. По мнению Кочевников, причиной войны стала запашка земель. Когда фермеры стали убивать пастухов, это, как говорили христиане, было равносильно убийству Авеля Каином.
В племенах бурлили беспокойство и гнев. Но им пришлось смириться; даже самые непокорные из них пользовались инструментами и оружием, которые производились в городах и поселениях на востоке и в горах. Кочевники доставляли к пунктам обмена мясо, кожи, поделки, волчьи шкуры, медвежий жир и пони на продажу, а затем возвращались на земли предков, ведя с собой караваны мулов, груженных инструментами, порохом, мушкетными пулями, тканями, бобами и огромным количеством очищенного спирта, чтобы по крайней мере старшие могли опохмелиться. Они пели старые песни и танцевали древние танцы, они чтили Дикий народ и в соответствии с временем года перевозили свои жилища, перемещаясь вслед за стадами. У каждой орды были свои священные пути и священные места стоянок. Они шли по бескрайним прериям, руководствуясь и приметами на земле, и указаниями звездного неба. Небосвод подсказывал им, что пора уходить на юг. То была середина тридцать третьего столетия, Полярис описывал куда больший круг на северном небе, чем это было во времена Лейбовица, и орды, свершая свой путь, называли себя людьми Полярной звезды. Когда же они останавливались на лето, то становились людьми Пустого Неба и Дневной Девы. А когда зимними месяцами они жались друг к другу, то были сыновьями Волка и Ведьмы.
Чернозуб во всех подробностях знал эти традиции, хотя никогда не жил по ним. Но все меняется. Если мальчиком он не замечал изменений, то сейчас видел их воочию. На равнинах властные силы, руководившие пастухами-воинами, вышли из-под контроля, и старух это беспокоило. Люди избирали себе вождей, не прибегая к положенным советам с бабушками, с женщинами-Виджусами и с мужчинами духа Медведя. Война угрожала лошадям и священным кровным связям; она убивала внуков. Женщины, как правило, выступали против любой войны, если только речь не шла о поимке конокрадов из другого племени.
Когда Пустое Небо погибал в присутствии Семнадцати Сумасшедших Воинов, он пообещал, что в свое время, когда возникнет необходимость, вернется из царства мертвых, если каждый из семнадцати произнесет его магическое имя из семнадцати слогов. Это было частью его последнего желания и завещания — пусть эти священники-воины, истово служившие ему в битвах, выучат это имя и каждый будет знать свой тайный слог, который прозвучит лишь раз: если произнести его дважды, то онемеет язык. Умирая, мужчина мог передать свой слог только старшему сыну, а если тот был не достоин такого дара, то любому, выбранному шаманами духа Медведя. Пустое Небо обещал вернуться, как только будет правильно произнесено его имя, но для этого каждый должен был выговорить свой слог, подчиняясь безукоризненному порядку.
Каков он был, этот порядок?
Когда подходило время, все собирались, и если большинство не спорило, кому принадлежали первый и последний слоги, никто не мог разобраться, в каком порядке надлежало стоять остальным; например, был копейщик, который утверждал, что Пустое Небо пообщалось самое малое с десятью перед ним и их было никак не больше двенадцати. Неминуемая судьба постигла скептика, который, унаследовав слог от отца, громко произнес его, а когда попытался сказать его снова, тут же онемел. Остальные слышали, как он пытался выговорить слог, но теперь появились сомнения. Появится ли нужный результат, если слоги будут произнесены в правильном порядке, но не теми, кому они первоначально принадлежали? И если человек произнес свой слог, сможет ли он снова вымолвить этот сиротливый звук или молчание немоты перехватит ему горло? Но примерно столетие назад настал день, когда все, кроме безголосого скептика, сошлись воедино и решили призвать Пустое Небо, ибо времена становились для людей все хуже.
Когда люди один за другим произнесли слоги, не произошло ничего существенного. Они решили, что их постигла неудача, но тут из-под полога соседнего вигвама раздался крик новорожденного. Ребенок был сыном матери королевской крови, и гордая мать решила назвать его Пустое Небо, хотя, когда ему пришло время становиться мужчиной, он был назван Хонганом Осом, Сумасшедшим Медведем, а став взрослым, обрел титул Ксесача дри Вордара, который повел орды навстречу страшному поражению. Да, священное имя было произнесено неправильно.
Искусство рассказчика, которым был наделен Наступи-на-Змею, восхитило всех. Тем не менее пора было сниматься с места. Предстояло пересечь рукав Ред-Ривер на юго-востоке, а затем быстро преодолеть путь до Ханнеган-сити.
Миновав дорожный знак, путешественники въехали в предместье и остановились на краю Желтого кратера. В центре его было небольшое озерцо, и плодородная почва по берегам его кустилась зеленью. На травке паслись две дикие лошади, а кто-то удил рыбу.
— Мне говорили, — сказал Коричневый Пони, — что до Завоевания тут у Зайцев был загон для случки.
— Как Мелдаун? — спросил Чернозуб.
— Нет, ничего общего с загоном Женщины Дикой Лошади.
— Я вижу впереди каменный знак. Это место как-то называется.
— Как именно?
— «Озеро покоя и счастья», — прочел Чернозуб и посмотрел на Коричневого Пони, который осматривал другую сторону знака. — Там что-то говорится, милорд?
— «Тут был Боэдуллус».
— Что-о-о? — Нимми посмотрел сам. — Краска! Свежая краска. Да это же шутка. Так и должно быть. Или же… — он помолчал. — Вы знаете, милорд, что достопочтенный Боэдуллус погиб при взрыве на археологических раскопках? И есть легенда, что в озере, которое после взрыва появилось в кратере, позднее обосновался огромный сом по имени Боэдуллус.
— За этой шуткой кроется некая теория. Должно быть, шуточки поклонников Лейбовица. Кто за пределами твоего ордена знает о достопочтенном Боэдуллусе?
— Практически никто, милорд, разве что Кочевники читали мой перевод.
— Насколько я вспоминаю, он подписан инициалами БРТ. Жутко не хочется терять время на возвращение к отцу Наступи-на-Змею и просить у него истолкования.
— Давайте лучше спросим вот у этого фермера-Зайца, — предложил Нимми, заметив человека, который на муле ехал по дороге. Фермер от души расхохотался.
— Мой двоюродный прапрадед выловил этого старого Боэдуллуса примерно сто лет тому назад. Накормил им всю деревню. А тот, кто намалевал эти буквы, никого не смог обмануть. Хотя на нем была точно такая же ряса, как и на вас.
Коричневый Пони и Чернозуб переглянулись. Никто в аббатстве даже и не заикнулся им о монахе ордена, который недавно отправился в провинцию.
— Ну, по крайней мере, хоть один фермер из Зайцев умеет читать, — уже потом заметил Коричневый Пони.
— Вы же знаете, что в Желтом городе есть небольшая воскресная школа.
— Не сомневаюсь, в провинции много Кочевников, которые умеют читать, но не знают, как держаться в седле, особенно в бою.
— Как быстро они могут научиться стрелять и держаться в строю? — спросил обычно молчаливый Ве-Гех.
И монах и прелат задумались над вопросом, но никто из них не дал ответа.
Они пересекли Ред-Ривер и через прерии направились на восток. Всего они останавливались в двадцати трех церквах и убедились в преданности семнадцати священников из Зайцев, но много ночей им пришлось располагаться на ночлег в фермерских амбарах или искать себе пристанища на берегах ручьев. Дважды они снимали комнаты у тексаркских землевладельцев, но те задавали слишком много вопросов. Кардиналу не нравилось врать относительно своих целей и намерений, хотя за время путешествия уже начала подступать холодная зима; к январю в этих местах начинали лить ледяные дожди. Здоровье кардинала все еще оставляло желать лучшего. Похоже, он начинал верить в справедливость предсказаний Виджусов, что в результате обряда жизнь у него укоротится. Чернозуб постоянно скармливал ему яблоки, в которых несколько дней торчали гвозди, но кардинал заметно терял свои рыжеватые с сединой волосы и присущую ему энергию. Таково было проклятие Мелдауна.
Глава 18
«Четвертый тип монахов именуют Неприкаянными. Они проводят жизнь в скитаниях и бродяжничестве, останавливаясь гостями в разных монастырях, но нигде не проводят больше четырех дней… И лучше промолчать, чем рассказывать о безобразном поведении таких людей».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 1.Они подъехали к границе Ханнеган-сити в начале вечера, кардинал решил снять комнаты и переночевать в гостинице вне пределов города. Таким образом им предоставлялась возможность узнать последние новости от хозяина гостиницы или от путешественников, и, конечно, они могли прочитать правительственные бюллетени на доске объявлений, из которых можно узнать о реакции чиновников на эти же новости. Нужно было сменить монашеское облачение на черно-красную одежду. В любом случае Ве-Геху необходимо было обзавестись новой одеждой, при которой он мог носить оружие как телохранитель кардинала. Чернозуб нуждался лишь в ванне и смене одежды. Во время путешествия все обросли бородами, но побриться решил только Ве-Гех. Бакенбарды у него были редковатыми, и с ними он явно выглядел чужаком. Борода Коричневого Пони отливала рыжиной больше, чем его редеющие волосы. Щетина на лице Чернозуба была пробита сединой, и в отличие от волос на голове нуждалась в прикосновении лезвия. Ве-Гех коротким мечом пробрил ему тонзуру на макушке; клинок он держал обеими руками, осторожно сбривая намыленные волосы. Чернозуб пожаловался, что фехтовальщик слишком наваливается на него.
— Только чтобы ты сидел спокойно. Если хочешь, я могу побрить тебя и в стоячем положении, — сказал Ве-Гех намыленному монаху. Чернозуб с преувеличенным испугом посмотрел на него. Ве-Гех занес меч над его правым плечом, словно собираясь одним круговым движением снять с него скальп.
— Перестань хвастаться. Если надо, можешь наваливаться, — он был удивлен, потому что Ве-Гех в первый раз позволил себе пошутить, пусть даже шуточка была довольно зловещей, но он вообще считанное число раз нарушал молчание. В стране Зайцев у него лишь однажды возникла необходимость обнажить свой длинный меч и извлечь револьвер Коричневого Пони — когда группа молодых хулиганов решила поживиться за счет трех безобидных странствующих монахов. И Нимми, и кардиналу не хватало Вушина. Чернозубу пришло в голову, что, даже не упоминая об этом, они все равно относятся к Ве-Геху как к сомнительной замене Топора, за чью голову в этих местах была назначена награда. Но Ве-Гех не хотел быть ничьей заменой. В другое время Чернозуб подружился бы с ним.
В первой половине холодного солнечного дня они стояли на ступенях кафедрального собора святого Михаила, Ангела Войны, разговаривая с его кардиналом-архиепископом. За спиной архиепископа, слева от него, стоял молодой привлекательный послушник в длинном стихаре с шитьем и вязанными обшлагами. Едва увидев Чернозуба, Торрильдо расплылся в счастливой улыбке, но убедившись, что неправильно истолковал реакцию Чернозуба, уставился в землю и не поднимал глаз. Чернозуб был не столько шокирован тем фактом, что Бенефез приблизил к себе смазливого беглеца, сколько удивлен внезапным осознанием, что буквы БРТ под намалеванными словами «Тут был Боэдуллус» у Желтого кратера означали «Брат Торрильдо» — тот и в самом деле из Валаны направился в Ханнеган-сити.
Ве-Геху было явно не по себе, поскольку Бенефез продолжал внимательно смотреть на него, пока наконец не спросил:
— Молодой человек, где я раньше мог вас видеть?
За него ответил Коричневый Пони:
— В Валане, Урион. Ве-Гех был среди людей кардинала Ри. Теперь он со мной.
— Ах да, их было пятеро или шестеро, не так ли? А где остальные?
Коричневый Пони покачал головой и пожал плечами.
— Я в дороге уже два месяца.
«Уклонение от ответа весьма напоминает ложь», — отметил Чернозуб.
— Конечно, — сказал Бенефез, возвращаясь к первоначальному разговору. — Элия… м-м-м… ваше преосвященство, что касается канонического права, то я в свое время тоже изучал его. До Огненного Потопа лишь двое пап подали в отставку. Один из них был, так сказать, великим грешником, а другой — великим святым. Первый продал папство, а последний в священном ужасе отказался от него. Но вопрос заключается в том, были ли они законными папами. И может ли подлинный папа отказаться от престола, Я думаю, что нет. Если он изъявляет желание уйти в отставку, то в таком случае Святой Дух никогда не избрал бы его. Может, я противоречу мнению большинства, но такова моя точка зрения. Современный ему поэт определил его в ад, но он был злым поэтом. Я думаю, что старик в самом деле несет ореол святости, но, главное, я сомневаюсь в законности его избрания. Будь он папой, он бы не мог и не хотел уходить в отставку и даже не заводил бы об этом разговоров.
— Мы говорим о Сан-Пьетро из Монт Мурроне или о папе Амене Спеклберде? — спросил Коричневый Пони.
— Разве они не похожи друг на друга?
— Нет, Урион, не похожи, — он помолчал. — Ну как бы тебе объяснить… Амена Спеклберда я знаю лично. О Сан-Пьетро лишь прочел в книге из аббатства Лейбовица. Сочинитель считал, что он унизил святое звание.
— Разве это описание не относится к Амену Спеклберду? С каким бы уважением к нему ни относиться.
Коричневый Пони продолжал молчать. Похоже, он открыт со всех сторон. Чернозуб попытался вспомнить слова Вушина, оценивавшего такую позицию. «Хаппу бираки», — подумал он. В бою это означает смертельно опасное предложение идиоту ринуться вперед очертя голову.
Коричневый Пони все же закрылся.
— В таком случае этот святой клоун, папа Амен, его святейшество, склонен никоим образом не наказывать тебя за прошлое отлучение от церкви, которому ты подверг его, crimine ipso laesae majestatis facto[86], а также за любой акт неподчинения, который ты можешь позволить себе в мыслях, словах или деяниях. И я здесь, чтобы объявить тебе об этом.
Чернозуб заметил, что пурпурный цвет лица Бенефеза происходит не только оттого, что на него ложится отсвет сутаны (сегодня был день поминовения мертвых). Тем не менее архиепископ не взорвался, а промурлыкал:
— До чего великодушно с его стороны, Элия. Он так великодушен, что, ручаюсь, наложит на меня наказание, заставив поцеловать его кольцо.
— Сомневаюсь, что он тебе это позволит, Урион. Он честный человек. И пока нет соответствующих условий, не последует никаких наказаний — разве что я уговорю его.
— Ты?
— В данном случае папа наделил меня неограниченными полномочиями. Да, я.
— Ты!
— И я без всяких условий освобождаю тебя, Урион, от всех обязательств. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Чернозуб заметил, что правая рука архиепископа дернулась, слово тот желал в зеркальном отражении повторить крестное знамение, которое наложил на него Коричневый Пони, но этот жест был всего лишь данью привычке.
— Твои верительные грамоты столь же хороши, как и твоя латынь, Элия. Отправляйся домой и перестань, как овод, докучать мне.
— Кроме того, я наделен полномочиями предложить тебе контроль над теми церквами в провинции, большую часть прихожан которых составляют солдаты или поселенцы, разговаривающие на ол’заркском языке как на родном.
— Понимаю. То есть это не вопрос географии.
— География — это границы и изгороди. Для Кочевников они не имеют большого значения.
— Да, недавно мы в этом убедились на западе от Нового Рима. Человеческая жизнь тоже не имеет для них значения, и они поедают плоть людей.
— Только тех, кого чтут. Это похоронный обряд или же дань уважения погибшему смелому врагу.
— Ты защищаешь происки дьявола!
— Нет, я просто описываю их.
Издалека донеслись крики «Дорогу! Дорогу!», и кардинал Бенефез посмотрел, что делается на улице.
— Скорее всего, это едет мой племянник, — сообщил он Коричневому Пони. — Не хочешь ли войти внутрь?
— Ты спрашиваешь, не хочу ли я спрятаться? Нет, Урион, спасибо. Я должен увидеться с ним, чтобы вручить вот это, — он показал Бенефезу запечатанные бумаги, полученные им в аббатстве, куда они пришли из Валаны. — До того как он нас увидит и остановится, я должен оказаться во дворце и попросить аудиенции.
Император, как обычно, спешил и приказал вознице пустить в ход бич. Он добродушно кивал своим подданным на улицах, которые кланялись или приседали в реверансах, когда мимо пролетала императорская карета; ей предшествовали два вооруженных всадника, чьи мундиры были куда элегантнее, чем у их властителя. Филлипео хотел, чтобы его воспринимали как человека скромных привычек, великодушного по отношению к подданным и всецело преданного экономическим интересам империи. На людях он давал понять, что разительно отличается от своих свирепых предшественников, и сократил список преступлений, за которые полагалась смертная казнь. Собственную жестокость он тщательно скрывал. Несколько раз в особых случаях он брался приводить в исполнение особо жестокие наказания, но знали об этом всего несколько человек. Одним из них был Вушин, и Ханнеган лично восторгался мастерством, с которым тот обезглавливал преступников, но излишняя осведомленность Вушина привела к тому, что император потерял своего лучшего палача. Умение заменившего его парня, который практиковался на своем бывшем наставнике, вызывало лишь отвращение. И Харг позволил уйти такому мастеру! Это была одна из немногих его ошибок в оценке людей.
Филлипео Харг был Ханнеганом лишь по матери, и кое-кто считал, что такого рода наследование трона носит в высшей степени забавный характер, ибо цивилизация Тексарка всеми силами старалась обрести мужественные, мужские, патриархальные черты, что по своей сути было реакцией на общество матриархата равнин. Первоначальный Ханнеган (или Хонган на диалекте Зайцев), завоевавший город, был главарем шайки Кочевников-отщепенцев, и он с помощью силы сел в кресло мэра этого небольшого торгового городка Тексарка. К выражению «отщепенцы» прибегали главным образом фермеры; Кочевники, которые не столько боялись, сколько презирали их, называли их «безродными» — выражение, применявшееся по отношению к тем бродягам прерий, которые избегали семейных уз то ли из-за неприязни к ним, то ли из-за того, что ни одна женщина в орде не выказала к ним интереса. Эти люди образовывали гомосексуальные (не обязательно в эротическом смысле) вооруженные банды, силой захватывали женщин, когда испытывали в них потребность и предоставлялась такая возможность, после чего держали их при себе как служанок.
По мнению оседлых, изгоем был каждый кочевой, но с точки зрения Кочевников безродные так заметно отклонились от норм культуры Кочевников, что на равнинах их поносили куда больше, чем фермеров, осевших вдоль восточных границ, которых они временами грабили. Как часто бывает, совершенно чужих врагов презирают куда меньше, чем непутевого собрата. Те безродные, которые и завоевали Тексарк, были вытолкнуты в него правоверными Кочевниками-ортодоксами из разных орд. Сонное торговое поселение и окружающие его фермеры почувствовали приток свежей крови и новых идей; Тексарк начал расти и укрепляться. Он был расположен в таком месте, где, с какого бока ни подойди, чтобы расти, надо было или продолжать завоевания, или гибнуть. Так или иначе через пять поколений превращение варваров-отщепенцев в цивилизованных аристократов было практически завершено, и Филлипео считался популярным правителем повсюду, если не считать завоеванных территорий.
Сам город Тексарк, или Тексаркана, как совершенно неуместно по-латыни называла его Церковь, был уже расположен не на месте ныне исчезнувшего городка под тем же названием. Поименованный ныне Ханнеган-сити, он лежал на Ред-Ривер и расширялся в пространстве с неопределенными границами между лесами и прерией; там, где между ними был небольшой торговый центр, тянулись засеянные поля и безлесные пустоши. Относительно мирные Зайцы являлись сюда менять коров, лошадей и шкуры на дерево, металл, спирт, медицинские травы, кузнечные изделия и разные безделушки, которые могли привлечь внимание Кочевников. Среди купцов встречались и сводники, которые пользовались сексуальным голодом безродных и по сути продавали им или же сдавали в аренду невест. Так было положено начало всему. Когда цены на новобрачных слишком взлетали, бандиты убивали купцов, забирали все, что им было надо, и на том успокаивались. Они сами, а не захваченные ими жены, разводили и растили коней, а также обзаводились разного рода собственностью. В течение одного поколения образ жизни встал с ног на голову.
Сам Филлипео Харг изучал историю местных семейств, которая была не слишком хорошо известна обитателям его владений. Он испытывал личный интерес к писаниям историков коллегии, превратившейся в процветающий университет, и те из исследователей, которые хотели получить монаршее благоволение и быть избранными на второй срок, писали так, чтобы доставить монарху удовольствие. Те же, кто писал по-другому, редко публиковались и, мягко говоря, отнюдь не благоденствовали.
Проезжая мимо церкви своего дяди, монарх неожиданно дал сигнал кучеру сбавить ход. Он показал на группу священнослужителей, среди которых был и его дядя Урион, стоявших на ступенях собора под утренним солнцем. Чувствовалось, что кардинал Бенефез горячо спорит с человеком в красной шапочке, стоявшим спиной к карете.
— Что это за человек? — резко спросил Филлипео.
— Какой именно, ваше императорское величество?
Кардинал, стоявший спиной к карете, вдруг оглянулся через плечо. Властитель отшатнулся от окна и стукнул в стенку, чтобы кучер прибавил скорость. Рядом со вторым кардиналом стояли человек в рясе альбертианского ордена Лейбовица и другой, вооруженный — скорее всего телохранитель. Филлипео показалось, что он знает, кто они такие. Вооруженный обладал слишком странной внешностью, чтобы быть секретарем кардинала. И похоже, дядя Урион обзавелся очередным послушником-красавчиком.
— Езжай, езжай.
Посланник промышленников уже явился в военный колледж, куда императорская карета доставила своего царственного пассажира и его курьеров, но и он, и дежурные офицеры еще не были готовы к показу. Испытывая раздражение из-за задержки, но полный твердого намерения с толком использовать каждую свободную минуту, Филлипео приказал незамедлительно собрать всех членов штаба, чтобы обсудить долгосрочную стратегию на равнинах. Офицеры забеспокоились, что монарх на этом сомнительном основании устроит им проверку, к которой они не успели подготовиться, ибо Филлипео обожал ставить их в такие двусмысленные ситуации. В практических вопросах он как-то разбирался, что помогало ему делать из них идиотов. Поскольку командующие пехотными частями и инженерным корпусом были в городе на маневрах, их заместители гурьбой вывалились из своих кабинетов и заторопились в конференц-зал.
Адмирал и’Фондолаи присутствовал лично, так же, как генерал Голдэм, начальник штаба, и генерал-майор кавалерии Алвассон; пехота и саперы были представлены полковниками Холофотом и Блиндерманом. В своей шутливой манере, хотя шутить он не собирался, Филлипео в коридоре поймал за шиворот полковника Поттскара, когда капеллан игнацианского ордена возвращался после мессы, и затащил его в зал.
— Здесь кое-кому понадобятся ваши услуги, отче, — сказал монарх удивленному Поттскару. — Может, даже мне. Известно ли вам, что кардинал Коричневый Пони и его секретарь-монах, возмутитель спокойствия, находятся в городе?
Капеллан-полковник кивнул.
— Едва выйдя из церкви, я сразу же услышал об этом. Но в данный момент он должен просить аудиенции у вашей чести, разве нет?
— Нет! Мне об этом никто не докладывал.
— Не сомневаюсь, что он так и поступит, но, конечно же, первым делом он должен был повидаться с архиепископом.
— Господи, первым делом я должен был его арестовать. Если бы Урион знал о его появлении, он бы меня предупредил. Что тут вообще происходит, черт возьми?
— Могу только предположить, ваша честь, что причина появления этого человека — тот, кого он именует папой.
— Ха! Человека, который послал орду Кузнечиков перерезать дорогу в Новый Рим! Господи, было перебито две трети этих Кочевников, а мы как ни в чем не бывало отправляем обратно в Валану сборище этих подонков из курии с их Спеклбердом. Но они оставили после себя горы трупов, массу изнасилованных женщин и сгоревших зданий. О таких жестокостях не было слышно со времен завоеваний Ханнегана Второго. А теперь у нас неприятности по всей границе с Кузнечиками — и все из-за него!
— Из-за кого, из-за Коричневого Пони? Сир, вас неправильно проинформировали. В то время его даже не было при так называемой курии. Вместе с монсеньором Сануалом он был на выборах у Кочевников. Сануал сам мне это рассказывал. Коричневый Пони его просто потряс. Он сказал, что этот человек — неприкрытый язычник. Но хотя он направился на юг с Кузнечиками, которые двигались на встречу с папой, он не присоединился к остальным, а продолжил свой путь к югу. Ваша честь, по словам одного из моих капелланов, который оказался на месте конфликта, этот… э-э-э… сомнительный папа, когда охрана отказалась пропустить его через границу, вместе со всей свитой повернулся к ней спиной. Священник говорит, что эскорт Кочевников бросился в атаку только после того, как он расстался с кардиналами из Валаны. Правда, не ясно — может, они действовали в соответствии с указаниями из Валаны. Я знаю, что архиепископ получил послание от этого сумасшедшего Спеклберда. Может, в нем и говорилось о прибытии Коричневого Пони.
— Могу только удивляться, что стража позволила ему пересечь границу!
— Сомневаюсь, что он пересекал ее в зоне конфликта, сир. Скорее всего, он прибыл через провинцию.
— Рискну предположить, что по пути из аббатства Лейбовица, поскольку при нем был их монах. Я хочу, чтобы вы, не теряя ни минуты, послали одного из своих капелланов, дабы доставить ко мне Коричневого Пони. Пошлите за ним военную полицию. И пусть он не вздумает отказаться! Прихватите и монаха.
Капеллан-полковник торопливо вышел. Ханнеган с интересом посмотрел на адмирала и’Фондолаи.
— Не припоминаю, чтобы я вас сюда приглашал. Неужели, чтобы справиться с Кочевниками равнин, нам нужен и военно-морской флот? — спросил он. — Нет, дело не в том, что вас тут якобы не желают видеть…
— Это я попросил адмирала поприсутствовать, — объяснил генерал Голдэм. — От кардинала, который умер во время конклава, Коричневый Пони унаследовал шесть иностранных воинов, и Карпи кое-что знает и об их расе, и о народе. Ему это надо было знать.
Адмирал нахмурился. Карпио Грабитель — таково было его прозвище, когда он пиратствовал и со времен древности стал вторым человеком, обогнувшим земной шар, но он терпеть не мог, когда его называли Карпи, особенно в присутствии Ханнегана.
Все разместились в зале заседаний. Первым делом император осведомился о статусе вооруженных сил, охраняющих новые сельские угодья и о том, были ли там встречи с Кузнечиками. Получив разъяснение, что пока войска только обороняются, отбрасывая их, Филлипео приказал, чтобы тексаркские войска до его указания не проводили никаких карательных рейдов.
— Будь я на месте военачальника Кузнечиков, — заявил он, — я бы заключил союз с Дикими Собаками, чтобы захватить провинцию. В нескольких местах перерезал бы телеграфную линию. Дикие Собаки могли разрезать провинцию надвое, а Кузнечики в это время нанесли бы удар по Тексарку. Каково ваше мнение?
В зал вошел капеллан-полковник Поттскар и кивнул Филлипео.
Заговорил полковник Холофот:
— Ворваться они смогут, но удержаться не в состоянии. Такое вторжение будет не чем иным, как мощным кавалерийским набегом. Наши форты останутся в безопасности. Они могут перебить поселенцев и колонистов из Зайцев, но быстро потеряют все силы и будут отброшены, как и случилось с этим налетом Кузнечиков.
Генерал Голдэм спокойно посмотрел на своего правителя и отрицательно покачал головой.
— Ваш сценарий неправдоподобен, сир. Когда они после войны начнут вставать на зимние квартиры, то станут уязвимы. Если они хотят ударить на Юг, то не могут не понимать, что наша кавалерия нанесет удар по Северу, где стоят поселения их семей, которые защищены очень слабо. Поскольку орды очень мобильны, они всегда успеют отойти, что истощит силы преследователей. Они стали обзаводиться собственностью, что тоже является их слабым местом. У них нет пехоты, чтобы захватывать или удерживать местность.
— Предположим, что Кузнечики восстанут и присоединятся к захватчикам?
— Мы их разоружили, — сказал инженер-полковник Холофот. — Чем они будут сражаться? Вилами?
— Нет, но они могут снабжать силы вторжения пищей, водой, крышей и убежищами, — сказал генерал. — Вопрос заключается в следующем: пойдут ли они на это? У Зайцев сохранилась не лучшая память о северянах, ибо дикие орды относились к ним с презрением. Откровенно говоря, меня совершенно не волнуют рассуждения, кого они ненавидят больше — нас или северян. Но если даже принять во внимание поддержку Зайцев, полковник Холофот прав. Массовый кавалерийский набег истощит силы еще на юге, открыв северное подбрюшье. С их стороны было бы куда разумнее ударить по фермам к северу от долины, к северу от… м-м-м… от народа Уотчитаха, а к такому развитию событий мы пока не готовы. Но подготовимся быстро, и через два года вся граница будет укреплена. Уцелевшие фермеры теперь хорошо вооружены и после налета испытывают жгучую ненависть к Кочевникам. У нас есть войска, чтобы поддержать их, но не для преждевременного наступления, ибо на севере у нас те же проблемы, что у них на юге.
— То есть?
— Мы можем нападать и убивать их, но у нас не хватает людей и тыловых запасов, чтобы оккупировать территорию Кузнечиков. В противном случае мы, конечно, ослабим наши силы в провинции.
Филлипео задумался.
— Интересно, — сказал он, — почему эти фермы на восточном рубеже, где часто идут дожди, не так плодородны, как земли беженцев у подножия Скалистых гор, где, как говорят, едва ли не пустыня?
Наступило краткое молчание. Слова Ханнегана, похоже, не имели никакого отношения к Кочевникам как к военной проблеме.
— Сир, этот вопрос вне моей компетенции, — сказал генерал. — Но, может, он имеет отношение к дисциплине. Как вы знаете, наши фермеры — свободные крестьяне, и они работают главным образом на самих себя. Говоря «плодородные», вы имеете в виду то, что они продают свои урожаи. Бывшие Кочевники — арендаторы, они работают на землевладельцев, особенно на епископа Денвера. То есть они вынуждены трудиться и поэтому выращивают несколько урожаев.
— Я думаю, это не объяснение, — сказал капеллан-полковник Поттскар. — И не совсем соответствует истине. Бывшие Кочевники научились у горцев, которые столетиями обрабатывают неорошаемые земли. Что же до дождей, то к северу от Валаны есть монастырь, обитатели которого, ожидая прихода Господа, ведут запись всех небесных явлений. Одно из них, отмечаемых ими, — это дожди, ибо они возносят молитвы о даровании хорошей погоды. Они говорят, что на западных склонах гор дожди теперь выпадают вдвое чаще, чем восемьсот лет назад. В этом и только в этом заключается ваше чудо ферм бывших Кочевников. Конечно, монахи считают, что эти чудеса — дело их рук, результат восьмисот лет молитв. Но ирригационная система куда лучше, чем в древние времена, считать это чудом или нет.
— Но разве их достижения не касаются всех равнин? — спросил монарх.
— Их рекорды носят чисто местный характер. Впрочем, не могу утверждать. Тон Грейкол утверждает, что на опушках наших лесов, там, где прерия поворачивает к востоку, не так много старых деревьев. Это позволяет выдвинуть предположение, что за несколько столетий границы наших лесов медленно перемещаются к западу, но никто не может уверенно утверждать это. Возможно, Кочевники рубили старые деревья на дрова.
— Что ж, — сказал генерал Голдэм, — если природа наступает на них и с запада, и с востока, им в любом случае придется расстаться со своими драгоценными пустынями. Мы же всего лишь помогаем природе изгнать их.
— Изгнать? Я больше не хочу слышать это слово, генерал, — резко бросил Филлипео Харг. — Наши цели — умиротворение и сдерживание, а не уничтожение. На юге мы этого добились. Население Зайцев стабильно.
— Если не считать, что их молодежь продолжает вливаться в банды отщепенцев.
— Северные Кочевники перебили большинство из них. Так или иначе, но обеспечить безопасность пространства между лесами и западными горами можно только путем колонизации ее.
— Каким образом, сир? Если не считать земель вдоль восточной границы, почва там бедная, воды мало и погода ужасная. Кто может и кто захочет там жить, кроме диких пастухов?
— Приручить пастухов и их стада, — сказал Филлипео Харг. — Огородить фермы. Как на юге. Кое-где в тех местах на ограды идет желтое дерево. Если высаживать стволы не далее чем в футе друг от друга и правильно подрезать, то из них получаются достаточно плотные и колючие живые изгороди для коров. Может, воды для сельского хозяйства и не хватает, но можно рыть колодцы и устраивать запруды на ручьях. Ближе к северу, где так холодно, что желтое дерево не приживается, некоторые участки можно обнести заборами. На востоке у нас много лесов. Поселенцам можно доставлять строевой лес, за который они будут расплачиваться мясом и шкурами. Да и вообще я не уверен, что там невозможно вести сельское хозяйство. В университете изучают эту проблему. Пока цивилизованный человек не сможет жить на равнинах, они будут оставаться для нас препятствием. Папа может жить где угодно, хоть на Луне, но пока объединить континент не удается.
— Но кто, черт побери, захочет там жить?
Ханнеган Харг задумался.
— Зайцы обосновались на юге. Вот почему я не хочу поддерживать разговоры об уничтожении.
— Но в любом случае они всегда были полуоседлыми, сир. Дикие Собаки и Кузнечики предпочтут погибнуть в бою, но не уступить. Возделывать землю или заниматься скотоводством — это тяжелая работа. Для Кочевника постоянная работа равносильна рабству.
— Когда бывшие Кочевники расстались со своими лошадьми, работать они научились. Вы просто стараетесь предугадать их выбор. А мы не должны давать им право выбора. Нет никакой необходимости колонизировать равнины, если мы можем приобщить к цивилизации дикие племена. Я хочу, чтобы Урион отправил миссию к северным племенам.
— Кардинал Урион послал к ним монсеньора Санузла, но тот вернулся с пустыми руками и, как я думаю, с пустой головой. Те христиане, что обитают среди них, уже связаны с Валаной, сир, и ходят слухи, что валанский папа хочет изъять церкви Зайцев из-под юрисдикции нашего архиепископа, — сказал капеллан.
— Не существует папы в Валане, и пока есть папа в Новом Риме, ни с кем иным они не связаны. И Урион надеется, что станет следующим папой. А если нет, посмотрим, сможет ли Урион или какой-то антипапа предложить им более надежное спасение. Особенно Кузнечикам, после того как мы покараем их. Время для перемен созрело. Папство готово упасть нам в руки. Новый владыка орд принадлежит к Диким Собакам, а не к Кузнечикам. Мы должны оказывать влияние на тех и на других.
— Прошу понять, — после паузы продолжил Ханнеган, — и прошу вас высказать свое мнение: что произойдет, если мы сделаем то или сделаем это, пусть даже я никогда не пойду на какие-то действия. Дабы показать вам, что я имею в виду, я попросил генерала Голдэма высказать свое мнение: что может произойти, если мы начнем войну просто, чтобы стереть с лица земли Кочевников северных равнин, — он помолчал и обратился к Голдэму:
— Итак, генерал?
— Сир, я не могу даже предположить в реальности…
— Очень хорошо. Насколько я понимаю, вы издаете воинственные звуки лишь для того, чтобы прочистить свою генеральскую глотку, но тем не менее берегитесь. Ответьте на мой вопрос: что произойдет, если мы решим полностью избавиться от Кузнечиков и Диких Собак?
Генерал побагровел и, помолчав несколько секунд, ответил:
— Я думаю, мы можем потерпеть поражение. У нас слишком растянутые линии. Мы заняли и поставили под полицейский контроль земли Зайцев за Нэди-Энн. Если мы попытаемся нанести решительный удар по Кузнечикам, нам придется отойти назад, чтобы фургоны могли снабжать наши части.
— Кочевники могут жить, питаясь падалью и саранчой. Почему вы этого не можете?
— Я-то могу, но воевать без пороха и пуль не получится.
— Убедительно. Наконец-то ваша военная глотка произнесла что-то стоящее. Тем не менее заставьте их снова поработать и организуйте специальный штурмовой батальон. Я хочу, чтобы к боям с Кочевниками готовили выходцев из них же. Я хочу, чтобы в состав батальона входили самые сильные, самые крутые, самые неумолимые солдаты из всех, кого вы можете найти. И к тому же добровольцы. Приучите их жить на этих землях, освойте язык Кочевников, изучите их систему сигналов.
— В чем будет заключаться основная миссия батальона, сир? Конечно, не в том, чтобы удерживать территорию.
— Конечно, нет. Задача будет заключаться в том, чтобы неожиданно нападать, убивать, разрушать — и исчезать. Проводить карательные рейды, если будут и другие нападения на сельские угодья. Что же до оружия, не сомневайтесь, что из университета они получат новые биологические средства. В случае необходимости обращайтесь к Тону Хилберту.
Голдэм посмотрел на Карпио, мрачно поджал губы и поморщился. Он не считал, что биологическое оружие определит будущее военных действий, и надеялся, что Карпи поддержит его; но адмирал пиратов лишь пожал плечами.
Филлипео повернулся к капеллану:
— Полковник Поттскар, предположите, что у моего дяди-архиепископа есть неограниченные средства на перестройку орды Кузнечиков. Что произойдет?
— Поскольку он не тратит их на молодежь, то просто кидает на ветер, посылая таких людей, как монсеньор Сануал.
Похоже, правитель подавил смешок.
— Каким образом он может тратить средства на молодежь? Заниматься благотворительностью?
— Конечно. Мне достаточно припомнить, как он на прошлой неделе принял беглеца из аббатства Лейбовица. Он назначил молодого брата Торрильдо своим помощником и псаломщиком. Он всегда старается помогать молодым людям.
— Я знаком с этой привычкой моего дяди, капеллан-полковник Поттскар. Но вот в чем заключается мой вопрос: считаете ли вы мудрым и продуманным вложением средств расходование денег на обращение Кочевников в христианство?
— Нет.
— Почему?
— Потому что Кочевников можно крестить, наделить деньгами, но они не будут обращать внимания на священников и продолжат свой привычный образ жизни.
— Именно так. Что ж, заглянем на склады! Давайте ознакомимся с плодами трудов оружейников, джентльмены.
— Минутку, сир, — сказал Голдэм. — Мне кажется, Кар… э-э-э… адмирал хочет сначала что-то сказать.
— Смелее, Карпи, — бросил Ханнеган. Адмирал слегка вздрогнул, но сказал:
— Оружие, которое иностранные воины привезли с собой, вскоре после встречи с Коричневым Пони исчезло.
— Откуда ты это знаешь? И если это правда, что это должно значить?
— Я слышал это от Эссита Лойте, сир. Там, где он живет, оружие превосходит наше, и производится оно на западном побережье, — он вынул из кармана маленький револьвер, который тут же выхватил у него из рук один из телохранителей Филлипео. Охранник, похоже, решил, что револьвер заряжен. Адмирал заверил его, что ничего подобного.
— Где ты достал эту штуку? — спросил Филлипео.
— Отсюда примерно пять тысяч восемьсот морских миль, сир. Как я предполагаю, если идти по большому кругу, держа курс на северо-запад. Или шесть тысяч триста миль, если идти по компасу прямо на запад. Это насколько я могу прикинуть, не имея перед собой карты.
— За океаном? А не у нас на западном побережье?
— Нет, но теперь они организовали производство и у нас, на западе.
— Покажи мне, как оно работает, адмирал, — сказал Филлипео.
Карпио Грабитель вынул из кармана пять гильз, зарядил револьвер, подошел к ближайшему окну, прицелился в небо, и барабанные перепонки присутствующих чуть не лопнули от грохота пяти выстрелов, которые он произвел, оттягивая курок ребром ладони.
Филлипео побледнел.
— Господи! И такие вещи складируются в Мятных горах?
— Не могу знать, сир. Но тот специальный батальон, который Голди организует по вашему указанию, должен обладать достаточной огневой мощью.
— Дай-ка мне эту штуку. Пусть с ней ознакомятся оружейники.
Адмирал с видимой неохотой расстался с револьвером. По словам представителя оружейников, прототип такого оружия уже существовал в чертежах и мог быть запущен в производство через два года, но они обеспокоились, убедившись, что такое оружие уже производится.
— Если оно будет у вас на руках, сможете ли вы ускорить его выпуск?
— Очень может быть, сир.
Карпио Грабитель снова вздрогнул.
— До того как ты оставишь город, я верну его тебе, — сказал Филлипео и, взглянув на выражение лица адмирала, добавил: — Конечно, когда в нем отпадет необходимость, тебе придется отослать его обратно владельцу.
— Само собой, сир.
Беседа Коричневого Пони с его императорским величеством Филлипео Харгом, правящим Ханнеганом VII, состоялась в ратуше, иначе именуемой императорским дворцом, в четверг, 5 января, опровергая тем самым ложные слухи, курсирующие среди Зайцев в провинции, что, когда стоит полнолуние, Филлипео Харг на три дня наглухо запирается в своих личных апартаментах и никого не желает видеть. Этот четверг выпал на полнолуние, но когда Харг сломал печать послания от папы Амена, монарх впал в такую ярость, что Чернозубу захотелось, чтобы эти слухи были правдой. Его вместе с Ве-Гехом оставили сидеть на скамье в коридоре перед тронным залом, и до них доносились лишь приглушенные вопли, в которых они не могли разобрать ни слова. Издавал крики не кардинал.
Наконец в ратуше появился священник, пояс которого свидетельствовал о его титуле монсеньора, и обратился к страже. Один из них, щелкнув каблуками, распахнул двери и крикнул:
— Монсеньор Сануал по повелению господина правителя! — после чего втолкнул его внутрь и прикрыл двери. Наступило временное затишье.
Чернозуб никогда раньше не видел Сануала, но достаточно слышал о нем и от своего хозяина, и от отца Наступи-на-Змею, чтобы понимать: свидетельствовать он будет явно не в пользу кардинала и поведением Коричневого Пони в похоронной церемонии на равнине и его участием в обряде общения с Женщиной Дикой Лошадью может заняться суд. Он обменялся взглядами с Ве-Гехом и убедился, что оба они в равной мере обеспокоены.
Охранник, который провел Сануала внутрь, открыл дверь и обратился ко второму стражнику:
— Задержи их, — и снова прикрыл дверь за собой.
Задержать их охранник не мог никоим образом, но взял на мушку Ве-Геха и приказал ему снять и отложить меч. Но через две секунды охранник уже лежал на спине и острие меча упиралось ему в горло.
— Забрать у него оружие, брат? — это было предложение, а не команда.
— Нет, — сказал Чернозуб. — Это была ошибка, Ве-Гех. Не забывай о кардинале.
Ве-Гех посмотрел на дверь. Затем пнул опрокинутого стражника в живот. Вышибив из него дух, он схватил револьвер и влетел в дверь. Нимми успел заметить на троне удивленного монарха. Коричневого Пони поставили на колени, и охранник держал револьвер у его виска. Ве-Гех прицелился в Филлипео Харга и гаркнул:
— Отпусти моего хозяина!
Нимми отпрянул от дверей, ибо по бокам правителя выросло еще двое охранников со вскинутыми мушкетами. С трудом переводя дыхание, мимо проковылял стражник, сбитый с ног Ве-Гехом, и Нимми уступил ему дорогу.
Отчетливо прогремели три выстрела, и в тишине прозвучал голос Филлипео:
— Уберите этих двух из здания.
Чернозуб снова заглянул внутрь. Ве-Гех лежал в расплывающейся луже крови. Лежал ничком и один из мушкетеров, а в руке у правителя был револьвер. Он походил на тот, который Эдриа показывала Чернозубу в пещере. Предположить, кто же убил Ве-Геха, было невозможно. Все оружие было нацелено на его тело. Заметив стоящего в дверях бледного как смерть Нимми, Ханнеган снова вскинул револьвер, монах отпрянул в сторону, но не попытался убежать. Испуганный и униженный кардинал Коричневый Пони продолжал стоять на коленях.
Одна из тюрем в Ханнеган-сити была частью общественного зоопарка, где самых важных заключенных выставляли напоказ в клетках, какие использовались для содержания кугуаров, трех волков и обезьян. По пути они миновали открытый участок, обнесенный массивным забором, на котором красовалась вывеска: «Camelus dromedarius, Africa[87], доставлен адмиралом и’Фондолаи».
— Стражник, кто это такие? — спросил Коричневый Пони.
— Там написано, — фыркнул тюремщик. — И не останавливайтесь. Нечего таращиться.
— Они же ручные!
— До чего остроумно. А как иначе ребята могли бы ездить на них, а?
— Их можно как-то использовать?
— Они могут куда дольше, чем лошади, обходиться без воды. Адмирал, который привез их, сказал, что они использовались во время войны в пустыне.
— Есть тут и другие экземпляры?
— Насколько я знаю, нет, но скоро появятся, — конвоир показал на самку с большим животом. — Насколько я знаю, на континенте это единственные верблюды. Адмирал привез их в трюме огромной шхуны. А теперь пошевеливайтесь!
Пленников провели мимо клеток с мелкой живностью, а потом вдоль ряда клеток с людьми. На каждой висела табличка с именем ее обитателя. Тут содержались главным образом убийцы: Homo sicarius, Homo matricidus, двое Homo seditiosi[88] и один педофил-насильник. Все они дружно захихикали, наблюдая, как двоих священнослужителей запирают в третью слева клетку. Тюремщик снял обертку с таблички и повесил над дверцей клетки — ее не видно, и до нее не дотянуться. Человек в клетке по другую сторону коридора без крыши посмотрел на нее, пошептался с обитателем соседней клетки и замолчал, изумленно глядя на них. На его собственной клетке было написано не «Homo», а «Cryllus», то есть «Кузнечик», а его преступления относились к разряду военных. В его насмешках чувствовался грубоватый акцент Кочевников, и поэтому, когда тюремщик отошел, Чернозуб заговорил с ним на родном языке.
— Что там написано на нашей табличке? — спросил он. Человек не ответил. Он и Коричневый Пони не отводили глаз друг от друга.
— Я тебя знаю, — сказал кардинал на языке Диких Собак. — Ты был с Халтором Брамом.
Кочевник кивнул.
— Да, — пустил он в ход свой диалект. — Мы сопровождали вас на юг на встречу с вашим папой. И ты еще спросил меня, почему Брам называет нас «военная команда». Теперь ты знаешь. К моему большому стыду, я оказался единственным пленником. Но Пфорфт говорит, что вы пытались убить Ханнегана.
— Это все, что написано на табличке? — спросил Нимми. Видно было, что Кочевник не умеет читать. Он снова переговорил с тем, кого звали Пфорфтом, и покачал головой:
— Не знаю, что значат все эти слова.
Пфорфт, осужденный за педерастию, сам обратился к ним:
— Там говорится о ереси, о симонии[89], о преступном покушении на его величество, о попытке цареубийства.
К счастью, день клонился к вечеру, и зоопарк закрывался. Хотя все остальные заключенные были в тюремной одежде, ни кардинала, ни его секретаря не снабдили ею. Каждый из них получил по три одеяла, которые должны были спасать от январского холода. С южной стороны клетка была открыта всем ветрам. По крайней мере хоть часть дня к ним будет заглядывать солнце.
Кардинал все еще так до конца и не оправился от проклятия Мелдоуна.
— Похоже, у моей Девы-Стервятника и дыхание было как у стервятника, — с некоей истерической веселостью сказал он Чернозубу. — Когда урионовский Ангел Войны сцепится с моими Стервятником Войны, на кого ты поставишь?
— Милорд, разве не говорится в старой молитве: «Святой Михаил Архангел, и да избавь нас от сражения»?
— Нет, не так, брат-монах. «И да защити нас в сражении», но «и да избавь от дьявольских силков». Что ты и сам хорошо знаешь. Но на какую молитву, по-твоему, будет дан ответ?
— Ни на какую. Если я правильно помню мифы Кочевников, ваша Баррегун, как вы ее зовете, всегда скорбит, поедая павших воинов, детей своей сестры Дневной Девы. Она не хочет войн.
— Ты прав. Даже остря мечи для войны, мы должны молиться о мире. Конечно, ты прав, Нимми, ты всегда прав.
Нимми понурил голову и нахмурился. Но в голосе Коричневого Пони не было сарказма. Чтобы их не поняли другие заключенные, они говорили на новой латыни, и речь кардинала была чужда двусмысленности.
— Именно это я и хочу сказать. Ты был прав, оставляя аббатство, хотя ты монах Лейбовица. Ты был прав, влюбившись в такую девушку, как Эдрия. Ты был прав, не оправдывая меня, когда я импортировал и продавал оружие с западного побережья, не сообщая об этом его святейшеству, — Чернозуб удивленно посмотрел на него.
Коричневый Пони заметил этот взгляд и продолжил:
— В письме, которое я до сих пор храню в Валане, папа Линус Шестой, наделивший красными шапками твоего покойного аббата и меня, был тем человеком, который поставил передо мной эту цель. Линус сказал, чтобы я его никому не показывал, пока меня не вычислят, да и потом только папе. Откровенно говоря, Нимми, я едва ли не мечтал, чтобы меня засекли.
— Вот как, — Чернозуб задумался. Это было совершенно верно: Коричневый Пони был подчеркнуто неосторожен. Даже Аберлотт Болтун знал о его деятельности. Но, наверное, он предпочитал, чтобы его поймал Амен Спеклберд. Внезапно кардинал предстал не таким уж грешником, а скорее усталым, сутулым человеком с беспокойной совестью.
К счастью, в часы посещений, когда дети могли плевать на них сквозь прутья решетки, людей-животных, к развлечению толпы, кормили сырым мясом и неочищенным картофелем. И никто не обращал на них внимания, когда они ели на завтрак кукурузную кашу. Нимми припомнил из Боэдуллуса, что сырое мясо или, что еще лучше, свежая кровь, которую порой пьют Кочевники, «хорошо влияют на собственную кровь пациента», и он убеждал кардинала поесть немного сырого мяса. Нимми и сам не отказался бы от мяса, будь оно свежим, но порой тюремная кормежка смахивала на мясо дохлых койотов, а от сырой картошки у них обоих начинались желудочные колики. Правительство Филлипео поставляло достаточно каши, чтобы выставленные в зоосаде экземпляры не казались отощавшими. Во время их пребывания в тюрьме троих заключенных перевели из камер смертников в блок, где производятся казни. От коллег по заключению они узнали, что Вушина теперь заменила машина-секатор, а не другой электрический стул. Электрическое динамо, вещь дорогая, теперь использовалось более продуктивно, чем для поджаривания преступников.
Фаза Луны сменилась, и теперь она шла в рост. Один из припозднившихся дневных посетителей в сутане, отороченной кружевами, остановившись, уставился на пленников.
— Торрильдо!
Бывший собрат подмигнул Нимми, но продолжал молчать.
— Что тебе нужно, человече? — рявкнул Коричневый Пони.
— Мой владыка архиепископ интересуется, не желаете ли вы, чтобы вам принесли сюда причастие?
— Я бы предпочел хлеб и вино, с которыми сам отслужил бы мессу.
— Я спрошу, — сказал Торрильдо и удалился.
— Выясни, знает ли папа, что мы в тюрьме! — крикнул Чернозуб ему вслед.
— Нимми! — прошипел кардинал. Но Торрильдо остановился.
— Знает, — не оборачиваясь, бросил он, и двинулся дальше.
— Проклятье! Все кончено, — Коричневый Пони был разгневан и подавлен.
Чернозуб решил оставить его в покое. Завернувшись в одеяло, чтобы защититься от ледяного ветра, он погрузился в дремоту.
Торрильдо вернулся через три дня. На этот раз подмигнул ему Чернозуб. Торрильдо покраснел.
— Никогда раньше не видел, чтобы можно было подмигивать с сарказмом, — сказал он.
— Как насчет хлеба и вина? — спросил кардинал.
— У вашей светлости не будет времени отслужить мессу, — из рукава Торрильдо вынул письмо, а из кармана — ключ. — Когда вы прочитаете это письмо и пообещаете подчиняться изложенным в нем указаниям, я выпущу вас.
Коричневый Пони взял послание и стал читать его, передавая Чернозубу листок за листком.
— Проклятье! Все кончено, — повторил кардинал, снова впадая в уныние, но на этот раз без гнева.
— Я думал, у каждого кардинала есть церковь в Новом Риме, — заметил Нимми, прочитав первые строчки.
— В Новом Риме есть церковь святого Михаила, — сказал ему Коричневый Пони. — И это церковь Уриона, но здесь он не считается Ангелом Войны.
Пока Торрильдо маялся ожиданием, нетерпеливо подбрасывая ключи на ладони, пленники молча читали письмо. Его первая страница гласила следующее:
«Его Преосвященству кардиналу Элии Коричневому Пони, дьякону святого Мейси от кардинала Уриона Бенефеза, архиепископа церкви святого Михаила Архангела.
Поскольку сомнительный папа, некий Амен Спеклберд, выразил намерение отказаться от папства, признав, что он никогда не был настоящим папой, Его Императорская Милость, правитель Тексарка с удовольствием сообщает, что прощает все ваши преступления, кроме попытки цареубийства, за которое вы и ваш слуга Чернозуб Сент-Джордж приговорены к смертной казни с отсрочкой приведения приговора в исполнение. Вы изгоняетесь из империи как персона нон грата. Поставив свою подпись в нижеуказанном месте, вы тем самым признаете справедливость выдвинутых против вас обвинений, что Его Милость принимает, а также выражаете согласие, чтобы вас как можно скорее под эскортом препроводили к перевалочному пункту по вашему выбору у Залива привидений; кроме того, вы даете обещание никогда не возвращаться в империю, кроме как по приказу правящего понтифика, Генерального совета или конклава — и лишь с целью прямого следования от пункта пересечения границы в Новый Рим или из него».
Под данным текстом было оставлено место для подписей, свидетельствующих, что их авторы не оспаривают выдвинутые обвинения, а также выражают согласие с бессрочным изгнанием.
Остальные страницы были в той или иной мере посвящены личному обращению Бенефеза к Коричневому Пони и другим кардиналам Валаны с просьбой признать Новый Рим единственным достойным местом созыва конклава для избрания папы.
Кончив читать, Коричневый Пони посмотрел на Торрильдо. Псаломщик через решетку протянул ему металлическую ручку и флакон чернил. Заключенные торопливо расписались, и в замке повернулся ключ.
Их возвращение к Заливу привидений в карете, которая стремительно, почти без остановок неслась к западу по главной военной трассе, заняло менее десяти дней. Прежде чем они оставили пределы провинции, охрана позволила Коричневому Пони купить двух лошадей у фермера-Зайца. Опять стояло полнолуние, что позволяло им порой ехать и по ночам. Когда они наконец прибыли в аббатство Лейбовица, восторженный аббат Олшуэн, опустившись на колени, поцеловал кардинальское кольцо и сообщил, что он, Коричневый Пони, ныне избран папой. Решение это принял разгневанный конклав валанских кардиналов, перед своей отставкой созванный папой Аменом. И кардиналы со всей серьезностью ждут его согласия.
— Кто доставил это идиотское послание? — строго вопросил Коричневый Пони.
— Господи, это был наш старый гость, который вместе с вами отправился в Новый Рим. А именно Вушин. Кардинал Науйотт прислал его с письмом от курии — оно в моем кабинете, — а также с устным посланием от Сорли.
— Что за устное послание?
— Что он был против созыва конклава, но надеется, что вы в любом случае признаете результат выборов.
— Он знает, что выборы незаконны, — немедленно прокомментировал Красный Дьякон. — Конечно, я не признаю их.
— Вас ждут более неотложные проблемы, — сказал Олшуэн, оправившись от неожиданного появления кардинала.
— Какие именно, почтенный Абик?
— Вы сообщили брату Сент-Джорджу о его молодой даме? Она искала его, когда вы были в отлучке. Он думал, что она скончалась. Она сказала, вам известно, что она жива.
Коричневый Пони внезапно занервничал.
— Мы поговорим об этом. Давайте пройдем в ваш кабинет. Мне нужно ознакомиться с письмом от курии.
Глава 19
«И пусть все гости будут приняты подобно Христу, ибо Он это произнес: «Я пришел гостем и примите меня».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 53.Они прибыли в аббатство Лейбовица во второй половине дня Страстной среды, когда все отдыхали. Желтогвардейцы, проведя несколько схваток по кикбоксингу с послушниками и даже с опытными братьями Крапивником и Поющей Коровой, лениво возились друг с другом. Чернозуб заметил, что по сравнению с Вушином стиль боя в некоторых аспектах изменился — хотя Топор никогда не признавал, что обладает каким-то «стилем». Тем не менее старшина Джинг, которому доводилось фехтовать с Вушином, называл его «путем бездомного меча» и «стилем без стиля».
Первым делом Коричневый Пони отправился совещаться с аббатом Олшуэном.
Чернозубу придется сообщить желтой гвардии плохие новости. Но сначала он решил устроиться в гостевой келье.
— Ты все еще здесь! — воскликнул он, входя.
— Нет-нет, — сказал Онму Кун, контрабандно доставлявший Зайцам оружие. — Второй раз я вернулся после вашего отъезда, — он основательно налился вином, и его обуревало желание поговорить. — Ты знаешь, что Виджусы и духи Медведя у Зайцев выбрали меня вождем?
Нимми усомнился в его словах, и не придал им значения. Глядя на разбросанное военное снаряжение, Нимми понял, что товарищи погибшего Ве-Геха, продолжая много и тяжело работать в аббатстве, участвуя в литургиях, обучая послушников бою без оружия, все еще живут в гостевом отсеке вместе с Онму Куном. Он понял, что Олшуэн, не получив разрешения сверху, не собирается давать им статус послушников.
Вернувшись после разминки во дворе, они встретили его улыбками и рукопожатиями, но Онму, разражаясь смехом, продолжал болтать о своих приключениях в провинции, и воины вежливо слушали его. Только их взгляды спрашивали: «Где Ве-Гех? Что с ним?» — но им приходилось ждать, когда контрабандист заткнется.
Тот факт, что Коричневый Пони умело обихаживал церкви в провинции, облегчил Онму Куну продажу оружия, сказал контрабандист, ему достаточно было спросить священника, видел ли он кардинала Коричневого Пони, когда тот направлялся в Ханнеган-сити. Если священник отвечал, что нет, Онму Кун торопливо убирался восвояси. Если же при встрече настоятель проявлял хоть толику энтузиазма, это говорило, что тут существует группа партизан, которым нужно оружие. У одного из них существовала благотворительная организация, которая называла себя Рыцарями Пустого Неба. Он снабдил их не только оружием пехоты, но и специально съездил, чтобы притащить им три пушки, которые стреляли или ядрами размерами с персик, или крупной картечью, что вряд ли было нужно для благотворительности. По словам «вождя» Онму, Рыцари смазали каждую пушку маслом, заколотили их в надежные ящики и, вырыв могилу на церковном дворе, ночью захоронили их.
Чернозуб что-то вежливо бормотал в ответ, но наконец повернулся спиной к подвыпившему контрабандисту и оказался лицом к лицу с пятью воинами, которые выжидающе смотрели на него темными глазами с косым разрезом. Его угнетало чувство стыда, что он не смог облегчить пребывание иностранцев в этой чужой для них земле, но Нимми не мог найти лучшего объяснения, что он не Вушин.
— Брат Ве-Гех был убит, когда защищал своего суверена, — сообщил он, повысив голос, чтобы заглушить Онму. — Я слышал, но не видел, как это случилось. Раздались три выстрела. Когда я заглянул в дверь, он уже лежал ничком и вокруг стояли четыре человека, держа его на прицеле. Он сжимал оружие, вырванное у одного из охранников. Если он и стрелял, то, должно быть, промахнулся. Мне очень жаль. Была ли то ошибка или нет, но он доблестно выполнил свой долг до конца. Он был куда лучшим монахом, чем я.
— Это было ошибкой? — спросил Джинг-Ю-Ван, старший среди них.
— Кто были эти четверо? — захотел узнать Гай-Си.
— Получил ли он последнее помазание? — спросил Вусо-Ло. — Достойно ли его похоронили?
— Можем ли мы попросить аббата Олшуэна отслужить по нему мессу?
Нимми попытался ответить на часть этих вопросов и извинился, что не может ответить на остальные. Он завершил разговор обещанием, что поговорит с Олшуэном относительно заупокойной мессы для благоденствия души Ве-Геха, и сразу же направился в кабинет аббата.
Дверь была открыта. Коричневый Пони, обращаясь к аббату, сидел за его столом, а Олшуэн расположился в кресле.
— Позор, что монополия на услуги телеграфа принадлежит Ханнегану, — посетовал кардинал, кончая писать письмо, которое, в чем Нимми не сомневался, было адресовано курии в Валане. Он повернулся боком к столу, чтобы взглянуть на аббата, и, увидев в дверях Нимми, кивнул ему, после чего продолжил: — У Церкви есть деньги, чтобы нанять техников Филлипео. Мы можем протянуть линию отсюда до Валаны и, может быть, от Валаны к Орегонии.
— Да, денег достаточно, — сказал аббат. — Но вот как быть с медью? Я слышал, что Ханнегану пришлось конфисковать все мелкие деньги, горшки, кастрюли и церковные колокола. Медь можно купить. Только кто ее продаст?
— Мне говорили, что серебро проводит электрическую субстанцию еще лучше, чем медь. Сомневаюсь, что это практично, но источник серебра у нас имеется.
— Да? Где же?
Коричневый Пони сменил тему разговора. Он протянул Олшуэну письмо и спросил:
— Что вы об этом думаете? Входи, Нимми, входи. Взяв письмо, аббат стал читать его, держа лист так, чтобы Чернозуб при желании тоже мог ознакомиться с ним:
«Кардиналу Сорели Науйотту, Секретариат необычных духовных явлений, от кардинала Элии Коричневого Пони, апостольского викария всех орд.
Non accepto![90]
Вы знаете, что без оповещения всех кардиналов континента созвать конклав невозможно. Курия должна была рекомендовать Его Святейшеству уточнить законы и об отставке, и о созыве конклава, и я не могу поверить, что он сочтет законным конклав, который курия все же созовет. И вы знаете это, и я знаю. Хотя, должно быть, мы представляем меньшинство среди членов разгневанной Священной Коллегии.
Мое пребывание в заключении у Ханнегана вынудило Его Святейшество подать в отставку. Но сейчас я на свободе и молю Бога, чтобы Папа пересмотрел свои взгляды. Теперь он не связан с решениями, принятыми под давлением шантажа; пусть он отменит свою отставку, сообщив, что она была вынужденной. Если же он откажется, то в таком случае он должен собрать в Валане всех кардиналов (включая и меня — я нахожусь тут, в аббатстве), дабы избрать того, кто в строгом соответствии с существующими законоположениями унаследует престол святого Петра.
Однако я ценю иронию избрания в Папы человека, которого Ханнеган только что выпустил из-за решетки. Он заключил своеобразную торговую сделку. И тем не менее я снова говорю «Non accepto», и вы, Сорели, знаете, что я не могу поступить иначе.
Я жду указаний от своего суверена-понтифика, Папы Амена, и когда они появятся, я буду вам весьма признателен, если сможете послать сюда с ними Вушина».
— Вы спрашиваете, что я об этом думаю? Откуда мне знать? — затряс головой Олшуэн. — Во имя Господа, милорд, я всего лишь монах обители Лейбовица. Я не аббат Джарад. Здесь мое единственное призвание, здесь мой Бог, и хотя я слуга Святой Матери Церкви…
— Ох, перестаньте. Стоп, стоп, прошу вас! Простите, что показал вам письмо. Джарад отказывался от красной шапки, но Линус Седьмой настоял. Я это знаю, и, скорее всего, вы тоже.
— Я пытаюсь припомнить, милорд, отказывался ли когда-нибудь здешний аббат от требований своего папы?
— Может, и нет. Но что вы скажете, если Амен Спеклберд сделает вас кардиналом?
Олшуэн замялся, прежде чем ответить:
— Да. Пусть даже от него, — ясно было, что и те, кто знал его лишь по слухам, испытывали симпатию к старому священнику, отшельнику и чудотворцу, который стал папой. Но среди тех, кто преклонялся перед властью, похоже, только Коричневый Пони испытывал к нему глубокую привязанность.
Нимми передал просьбу людей Джинг-Ю-Вана почтить память их погибшего собрата, и Олшуэн пообещал отслужить мессу. На следующее утро Коричневый Пони послал Чернозуба с письмом и достаточным количеством золота в Санли Боуиттс, чтобы нанять курьера с двумя Лошадьми, который быстро доставит послание в Валану. Посланник пообещал, что будет мчаться от рассвета до заката и даже по ночам, если хватит луны. В Валане, если его не заменит Вушин, он будет ждать ответа.
Возвращаясь в аббатство, Чернозуб встретил Гай-Си, который верхом ехал в деревню. Обменявшись приветствиями, они остановились. Нимми спросил, что у него за дела в местечке.
— После того как ты уехал, — сказал Гай-Си, — кардинал решил послать другое письмо. Оно при мне.
— Еще одно письмо в Валану?
— Нет. В Новый Иерусалим, — сообразив, что проболтался, он нахмурился. — У тебя есть право задавать такие вопросы?
— Наверное, нет. Но я попытаюсь все забыть.
Они разъехались в разных направлениях. Нимми хорошо знал, что именно кардинал должен был сообщить мэру Диону. Каким-то образом то маленькое оружие с западного побережья попало в руки Филлипео Харга. И хозяин, и слуги видели его. Похоже, что единственным объяснением происшедшего служило обилие агентов Ханнегана в Новом Иерусалиме. Но он мог бы не смущать Гай-Си, который проговорился ему о месте назначения письма, а напрямую спросить у Коричневого Пони.
Если в октябре Нимми встретил в монастыре недружелюбие, то к началу марта оно превратилось в откровенную неприязнь. Помазанные священнослужители снова подчеркнуто избегали его. С другой стороны, для некоторых послушников общение с ним казалось куда более интересным, чем раньше. Он пытался понять, что, собственно, произошло с того времени, но бормотание о «неожиданных гостях» было единственным невнятным ответом, который он получал на свои вопросы.
Трое послушников, которые оказались в приемной аббата, подслушали громкую ссору между ним и кардиналом Коричневым Пони — «папой Коричневым Пони», как назвал его один из них — и рассказали о ней Нимми. Мало что можно было понять из этих криков, но они не сомневались, что речь шла о Чернозубе.
Чернозуб решил спросить напрямую у кардинала, но, увидев, как тот, стоя на коленях, молится у алтаря Святой Девы, просто опустился рядом и застыл в ожидании. Наконец Красный Дьякон осенил себя крестным знамением и встал. Монах подождал несколько секунд и последовал его примеру. Коричневый Пони направился к дверям. Нимми заторопился вслед за ним. Услышав его шаги, Красный Дьякон обернулся.
— Тебе что-то надо, брат Сент-Джордж?
— Только узнать, что происходит.
Выйдя из часовни, они остановились.
— Я знал, что она могла остаться в живых. Но не хотел вселять в тебя ложные надежды. Поднимись на Столовую гору. Там, может, еще живет человек, который последним видел ее, — кардинал пошел дальше.
— Она? Кто? — крикнул Нимми ему вслед.
Коричневый Пони, не отвечая, из-за плеча посмотрел на него.
— Эдрия?
— Иди к горе. Я скажу аббату, что послал тебя. Он хотел сам послать тебя. Но я возьму ответственность на себя. Я отпускаю тебя.
Бледный как привидение, Нимми помчался на кухню, чтобы взять в дорогу сухарей и воды. От повара, который был в веселом расположении духа, он получил горсть сухарей, немного сыра и мех со смесью воды и вина. В гостиничке он сделал скатку из одеяла. Сегодня уходить было слишком поздно. Он лег спать и ушел еще до рассвета, когда братию созывали на заутреню.
На Последнее Пристанище вел долгий подъем, и первое, что Чернозубу бросилось в глаза, когда он начал привычное восхождение, была свежая могила с двумя веточками, связанными в виде креста. Он не знал о ее происхождении. Он медленно карабкался наверх. Из-за далеких горных хребтов вынырнуло солнце. Он направился прямо к убогому убежищу, которое нашел в прошлом году, и увидел, что оно перестроено, но поблизости никого не было видно. Ему почему-то не хотелось открывать дверь. Крикнув несколько раз и не получив ответа, он сел на скатанное одеяло и стал ждать. День сменился сумерками, в которых было трудно читать псалмы вечерни, так что он начал перебирать четки, вспоминая то святые тайны, то прелестного эльфа, стащившего у него четки. В памяти всплыла могила у подножия Столовой горы. Он досадливо помотал головой и стал размышлять о пятом святом таинстве, как Матерь Божья была вознесена на небеса своим Сыном после Успения. Но, по Амену Спеклберду, не было ни «до» ни «после», ибо коронация Святой Девы была событием, принадлежащем к вечности. Лицо Богородицы обрело черты Эдрии, и последние десять молитв Чернозуб пробормотал с предельной быстротой. Когда он поднял глаза, то увидел, что на фоне сумеречного неба над ним вырос силуэт тощего человека с вознесенной над головой дубинкой.
— Сидеть! — гаркнул он. — Кто ты? Что ты здесь делаешь?
— Я брат Чернозуб Сент-Джордж, и меня послал мой наставник кардинал Коричневый Пони.
— О, теперь я тебя вспомнил, — сказал старый еврей и, прищурившись, воззрился на заходящее солнце. — Ты задавал слишком много вопросов по пути в Новый Иерусалим.
— Так ты вызвал для них дождь?
— Опять вопросы. Твой хозяин отправил тебя с посланием? Для меня?
— Нет, он отправил меня с вопросом. Что ты можешь рассказать мне об Эдрии? Ты ее видел. Куда она ушла?
Несколько секунд старый еврей молчал.
— Мне довелось оказать ей помощь, когда она удрала от отца. После того как ее выставили из аббатства, она пришла сюда вместе со мной. При ней были и ее дети. Она ушла.
— Дети!
— Двое мальчиков. Хотя они не были близнецами. Она оставила их со мной, поскольку положение было не из лучших. Ее отец убил бы их. Ей было некуда идти, кроме как домой. Она знала слишком много о делах в Новом Иерусалиме и боялась, что ее поймают, если она направится на восток в долину. Так рисковать она не могла.
— Где дети?
— Молоко моей козы не устраивало их. Я отнес их в Санли Боуиттс и оставил там у женщины, которая пообещала заботиться о малышах, пока за ними не придут.
— Кто?
— Хм-м-м… Откуда мне знать? Кто-то из долины. А может, и ты.
— Эдрия говорила тебе, что я их отец?
— Она весьма разговорчивая молодая особа. Она пробыла здесь… м-м-м… семь или восемь недель. Постоянно пела или болтала. Пения ее мне не хватает, а вот без разговоров я бы обошелся, — порывшись в своем мешке, он протянул Чернозубу кремень и кресало. — Вон там, в тени, очаг. Запали трут. Растопка есть.
— Роды были тяжелыми?
— Очень тяжелыми. Мне пришлось делать разрез. Она потеряла много крови.
— Разрез? Ты врач?
— Я на все руки мастер.
Нимми наконец разжег огонь. Следуя указаниям старого отшельника, он нашел в хижине коробку с сухими крошками, кинул две горсти их в котелок с ручкой и добавил воды из большого кувшина у дверей.
— Повесь на треножник. И помешивай чистой палочкой.
— Что это такое?
— Пища, святой отец.
— Не называй меня так. Я не священник!
— Я разве сказал, что ты им был? Хотя тебя можно называть «отче». Хочешь, буду называть тебя папочкой.
Нимми покраснел.
— Почему бы тебе не называть меня просто Нимми?
— Так тебя называют в аббатстве?
— Нет. Так ко мне обращается мой господин.
— Он в аббатстве?
— Да.
— Так это он внушил тебе, что она мертва, не так ли?
— Он сказал, что не уверен и не хочет будить во мне напрасные надежды. Думаю, я могу ему верить.
— Ха! — старый еврей захихикал.
Нимми помешивал варево, пока оно не загустело. Старый отшельник вытащил металлические тарелки, ложки и кружки. Из скатки Нимми достал свои сухари и наполнил чашки разведенным вином. Они уселись на скамью из плоской каменной плиты, которая опиралась на вкопанные в землю корявые ножки, и принялись есть при свете очага.
Перекрестившись, Нимми благословил хлеб насущный. Старый еврей певуче произнес над чашкой несколько слов молитвы на незнакомом языке, который, как Нимми подумал скорее всего был ивритом.
Каша, как объяснил ему Бенджамин, состояла из молотых бобов, которые он принес из Санли Боуиттс. В этом году, только попозже, он посадит и вырастит собственные. Раньше у него тут были козы, и он пробует снова обзавестись своим стадом. Он говорил о прошедших временах так, словно лично присутствовал в них. Несколько раз он упомянул аббата Джерома, будто тот продолжал править аббатством; он вспоминал завоевания Ханнегана Второго так, словно они все еще продолжались. Для него все века сосуществовали с его личным «теперь».
Ночь Нимми провел в хижине старика. И снова во сне перед ним предстала открытая могила в аббатстве; на этот раз в ней лежал ребенок. Он очнулся от сна в полном удивлении: ведь он знает, что там погребен Джарад Кендемин. Утром он рискнул спросить Бенджамина о свежей могиле у подножия Столовой горы. Отшельник сказал было, что ничего не знает об этом, но вдруг заметил, что Нимми слушает его с недоверием.
— Если ты считаешь, что я ее там похоронил, то иди и попробуй ее выкопать.
— Я верю тебе.
Уходить Нимми не спешил. Он был крепко зол на кардинала и хотел избавиться от этого чувства или хотя бы попытаться меньше верить ему. Кардинал утаивал от него правду, и Чернозуб не мог припомнить, чем заслужил такое отношение. Из слов старика он понял, что Эдрия считала, будто он врал ей. Но она не слышала, что он на самом деле рассказывал Чернозубу.
Он оставался у отшельника еще сутки. Небо было затянуто тучами, и подул холодный ветер. И мех, и кувшин отшельника опустели.
— Откуда ты здесь берешь воду?
Бенджамин посмотрел на Чернозуба и, небрежно показав пальцем на небо, продолжил доить козу.
Прошло двадцать секунд. В лицо монаху ударили тяжелые холодные капли дождя. Через несколько секунд из туч хлынул ливень. Больше Нимми вопросов не задавал.
Старый отшельник пожаловался, что Нимми ест больше, чем принес с собой. И на рассвете третьего дня Чернозуб ушел. Когда по тропе, ведущей вниз, мимо него с шуршанием покатился гравий, Нимми поднял глаза. Старый еврей, вооружившись лопатой, спешил за ним. Как во сне, перед мысленным взором Нимми на миг снова явилась открытая могила. И вот на третий день она наяву предстала перед ним…
Но могила не была открытой. Мало того, они нашли у подножия горы две могилы. Видно было, что одна появилась только вчера. Старый еврей оперся на лопату и, прищурившись, посмотрел на Нимми.
— Нет, копать я не буду, — сказал монах. — Спасибо тебе и прощай, — и, не оглядываясь, торопливо зашагал в сторону Санли Боуиттс.
Бенджамин назвал ему имя старой женщины. Он без труда нашел ее старый глинобитный домишко. Во дворе играли ребятишки. Чернозуб сосчитал их — семеро. Внезапно он понял, что пришел к «сиротскому приюту», который аббатство обычно поддерживало в городке. Женщина встретила его сурово. Похоже, она знала, кто он такой и почему тут очутился, но считала его подлецом и негодяем.
— Почему ты не пришел за ними десять дней назад? Их забрали, чтобы усыновить.
— Кто?
— Трое сестер.
— Откуда они взялись?
— Не имею права это говорить.
Когда же Чернозуб вспылил, она обозвала его подонком, распутником и фальшивым монахом. И, приказав ему немедленно убираться, удалилась в свою глинобитную хижину.
— Куда их мать делась? — закричал он ей вслед, но не получил ответа. В мрачном настроении Чернозуб вернулся в аббатство.
Стрельба началась на следующий день, когда монахи собрались в трапезной обители на завтрак. Когда донеслось первое отдаленное «Бум!», отец Левион, ныне настоятель, стоял на стене у парапета. Сегодня он совсем ничего не ел. Здесь он часто молился, обращаясь к безбрежной пустыне, уходящей далеко за горизонт, и преклоняясь перед величием Бога, создавшего ее. Первый выстрел практически не отвлек его от молитвы — он лишь взглянул на открытое пространство в поисках дымного следа. После второго «Бум!» из трапезной вылетел Онму Кун и кинулся во двор. Увидев на стене Левиона, он торопливо взбежал по лестнице и присоединился к нему.
— Откуда? — задыхаясь, спросил он.
— Не знаю. Я ничего не видел.
«Бум!» Интервал между выстрелами составлял примерно полторы минуты.
— Похоже, что звук доносится откуда-то оттуда, — сказал Левион, указывая в долину.
— При боковом ветре так и должно казаться, — ответил Онму Кун, не сводя глаз с Последнего Пристанища.
После четвертого «Бум!» он ткнул пальцем в сторону Столовой горы. И действительно, оттуда поднимался тонкий столб порохового дыма.
Пятый «Бум!» поднял столб пыли примерно в двухстах шагах от аббатства.
— Проклятье! — заорал контрабандист. — Он целится в нас!
Шестой «Бум!» — ядро упало посреди дороги перед аббатством, описав дугу, влетело в открытые ворота, срикошетило от каменной балюстрады вокруг розария и, подпрыгивая, улетело в монастырь, прямо в трапезную. Оттуда раздались крики, и монахи кинулись вон из здания.
— Укрывайтесь! — завопил Заяц. — У него еще осталось два ядра!
Но выстрелов больше не последовало. Монахи, сидевшие за своим постным завтраком, были крепко перепуганы. Впрочем, повреждения претерпела лишь кухня. Во время обстрела Онму дал понять, что знает слишком много. Было найдено ядро, и, хотя оно деформировалось и сплющилось, на нем удалось обнаружить несколько выцарапанных букв на иврите. Над ними собрались специалисты. Та часть надписи, которую удалось разобрать, гласила: «…Да принесет хлеб насущный весна на Земле». То было благословение пище.
— Имеется в виду попадание в цель, — сказал переводчик.
В кабинете аббата было немедленно собрано совещание. Был приглашен и Чернозуб, назначенный истолкователем, поскольку он знал Онму Куна не хуже прочих, но лучше всех говорил на его диалекте.
Его нашли в гостиничке.
— По какому праву ты тут пребываешь, добрый человек? — спросил он у Онму Куна.
— Я был приглашен, — сказал Заяц.
— Кем?
— Аббатом Олшуэном, кем же еще?
— По настоянию кардинала?
— Наверное.
— Аббат знает, чем ты занимаешься?
— Понятия не имею. Но если даже и знает, я не могу и не хочу таскать сюда свой товар. И никогда этого не делал.
— Значит, ты закопал их в пустыне и оставил до тех пор, пока снова не отправишься в дорогу. И ты их откопал.
— На этот раз откопал их старик. Мне не повезло. Я думал, он никогда не спускается вниз и у него никогда не бывает гостей. Я в первый раз использовал это место. Мне и в голову не могло прийти, что он осквернит могилу.
— Он слегка не в себе, но далеко не дурак. Он понял, что это не могила. Так что он выкопал твою пушку и наградил нас посланием из нее.
— Должно быть, он забил самый большой заряд, чтобы покрыть такое расстояние. И целился под углом в сорок градусов.
— Стрелял примерно на пятьсот футов выше нас.
— Он пытался убить кого-то?
— Старый Бенджамин? Нет. Он рассказал аббатству о тебе и о твоих делах.
— Я лучше уеду.
— Что было во второй могиле?
— Ружья.
— Если ты собираешься потребовать обратно свой товар, кто-то отправится с тобой. Нас тут шестеро. И любой из нас справится с тобой.
— Даже ты? — расхохотался Заяц.
Чернозуб так ему врезал, что тот отлетел в угол. Задохнувшись, Онму посмотрел на него удивленно, но без гнева.
— Почему ты это сделал, брат Сент-Джордж?
— Чтобы показать тебе: если ты собираешься поссориться со стариком из-за своих пушек, тебя не ждет ничего хорошего.
— Но они же мои! Они для Кузнечиков, а я вождь.
— Ты знаешь, что это вранье. Ты сам мне рассказывал, что работаешь на комиссионных.
— Конечно, если я продаю их. А если теряю, то они мои.
— Не понимаю.
— Я должен расплатиться за них. Кому, ты думаешь, они принадлежат? Кардиналу Коричневому Пони?
— Не знаю, но сомневаюсь. Может, мэру Диону. Но кто бы их ни продавал, ты всего лишь посредник.
— Я еще и вождь! Конечно, тайный.
Онму Кун исчез из аббатства этой же ночью и никогда больше не возвращался. Принадлежность к королевскому племени была непременной предпосылкой для избрания на пост вождя, и Нимми сомневался, что хоть один Кочевник к северу от Нэди-Энн признает его претензии. Гай-Си, оседлав лошадь аббата, галопом помчался к Последнему Пристанищу, чтобы защитить старого еврея и, если удастся, выторговать у него оружие. Он вернулся на другой день, таща с собой одну пушку и рассказал о двух пустых могилах, уточнив, что вторую могилу Бенджамин не раскапывал. По всей видимости, Онму Кун выкопал свои ружья и исчез восвояси. Таким образом аббатство Лейбовица обзавелось современным орудием, правда, без боеприпасов. Абик Олшуэн запер его в подвале вместе с ржавым оружием прошлых веков.
Послушники доложили, что между кардиналом и аббатом произошло еще одно громкое выяснение отношений за закрытыми дверьми. На этот раз речь шла об оружии. Коричневый Пони был разгневан и подавлен; он рассказал Чернозубу, что, по мнению Олшуэна, гостеприимством аббатства злоупотребляют.
— Теперь он знает, что Зайцы вооружаются, — сообщил он Нимми. — И боится за судьбу монастыря — если Ханнеган заподозрит, что монахи имеют к этому отношение. Он хочет, чтобы люди Джинга покинули обитель.
— Но они ни в чем не замешаны!
— Да, но мысль о монахах-воинах противоречит идее христианства, как ее понимает почтенный Абик. Для него ситуация скандальна. И вскоре нам придется уходить отсюда.
— Неужели старухи Зайцев в самом деле избрали Онму Куна вождем, как он утверждает?
— В стране Зайцев все покрыто тайной, Нимми. Для них важна не столько законность, сколько практичность. Если люди в битве следуют за каким-то человеком, значит, он вождь. А если нет, значит, нет, что бы там ни говорили Виджусы.
Как раз к середине великопостных дней посыльный из Ханнеган-сити доставил сообщение, адресованное всем епископам.
Подписано оно было Урионом Бенефезом и семью другими кардиналами. В нем говорилось, что через шесть недель после пасхи в Новом Риме будет созван Генеральный совет Церкви, на котором должны присутствовать все епископы и аббаты, способные совершить путешествие. Цель совета — обсудить новое законодательство о конклавах.
— Только суверенный понтифик имеет право созывать Генеральный совет, — сказал Коричневый Пони и отказался поставить свою подпись. Олшуэн тоже отказался. Посыльный пожал плечами и уехал.
Вушин прибыл на следующий день. Его тепло встретили Коричневый Пони, Чернозуб и желтая гвардия, но доставленное им сообщение носило несколько странный характер. Как и предполагалось, конклав собирается в Валане. По всей видимости, курия знала о предполагаемом созыве Генерального совета. Сообщение было выдержано в гневных тонах, а последний абзац угрожал отлучением от церкви любому кардиналу, который прибудет на это ублюдочное сборище в Новом Риме, «где раскольники и еретики попытаются возвести на Святой Апостольский Престол известного содомита». Документ был подписан Аменом, Episcopus Romae, servus servorum Dei[91], но Коричневый Пони усомнился в подлинности подписи и в языке послания, которые принадлежали явно не Спеклберду.
— Дела становятся хуже некуда, — сказал Красный Дьякон. — Мы должны уезжать как можно скорее.
Глава 20
«Мы считаем, что для ежедневного обеда, проходит ли он в шестом или девятом часу, на каждом столе достаточно двух блюд, что учитывает и потребности больных; если же некто по какой-то причине не может есть, да оставит он свою трапезу остальным».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 39.Весь этот год Чернозубу казалось, что он постоянно в дороге. На этот раз у них не было кареты до Валаны. Восемь человек с шестнадцатью лошадьми скакали по папской дороге на север. В нескольких милях от проселочной дороги, что вела к жилищу Шарда и в горы к Новому Иерусалиму, кардинал Коричневый Пони остановился, подозвал к себе Вушина с Чернозубом и объявил, что придется обогнуть весь этот район.
Чернозуб запротестовал.
— Милорд, единственный, из-за которого нужно ехать в объезд, — это я. Я могу, прикрываясь зарослями, двинуться на восток, проехать несколько миль на север и еще до темноты встретить вас на дороге.
— Нет, — сказал кардинал. — Я не хочу, чтобы видели хоть одного из нас. Вушин, направь человека к страже уродцев с посланием для магистра Диона. На самом деле оно не столько для мэра, сколько для Шарда, но тот подчиняется только приказам Диона.
— Почему бы не послать меня? — спросил Топор.
— Нет. Шард тебя помнит.
— Он помнит всех нас, — сказал Нимми. — Когда прошлой осенью мы ехали в аббатство, он выскочил с ружьем и стал стрелять.
Топор отъехал посоветоваться с монахами-воинами. Вернувшись, он сказал:
— Предлагаю Гай-Си. Он маленький, попасть в него трудно, и, кроме того, у него самая быстрая лошадь. Если он не сможет найти объездной путь, то подождет до темноты — и галопом прямиком в Проход козлов отпущения. Скоро выйдет луна.
Коричневый Пони кивнул и, подозвав к себе Гай-Си, проинструктировал его, что тот должен избегать всяких контактов с семьями, охраняющими проход.
— Диону передай следующее: «На востоке открой ворота для Диких Собак и Кузнечиков. На западе шли подарки курии». Повтори, пожалуйста.
— «На востоке открой ворота для Диких Собак и Кузнечиков. На западе шли подарки курии».
— Отлично. Затем напомни ему, что именно мы с Нимми видели в руках у Ханнегана. Из аббатства я послал ему сообщение об этом. Если он получил его, то будет знать, что нужно делать. В завершение он снабдит тебя основательно груженным вьючным мулом. Покидай Новый Иерусалим с западной стороны и как можно скорее добирайся до Валаны.
Гай-Си спешился, отдал поклон кардиналу и уселся на обочине дороги.
— Он будет ждать до темноты, — сказал Топор. — Я тоже думаю, что так безопаснее.
Коричневый Пони посмотрел на Чернозуба.
— Почему ты так разочарован? — спросил он.
— Ничего особенного, милорд.
— Ты надеялся как-то выяснить, не находится ли Эдрия в доме своего отца?
— Я понимаю, что это бессмысленно. И опасно.
— Не переживай. Гай-Си может спросить у мэра о ней.
— И получит такой же правдивый ответ, какой я услышал от вас?
Коричневый Пони пожал плечами.
— Я не могу диктовать Диону, что ему говорить или делать, разве что речь идет о моем имуществе.
В первый раз кардинал упомянул о принадлежащем ему арсенале, но не это волновало Чернозуба.
— Милорд, мне бы хотелось, чтобы Гай-Си не упоминал об Эдрии при Дионе.
— Почему?
— Потому что, когда Гай-Си расскажет ему об оружии, которое мы видели в руках у Филлипео, он начнет думать о шпионах и предателях. А Эдрия как раз в это время убежала из дому. Мы знаем, куда она направилась, но мэр может этому не поверить.
Кардинал опустил глаза на сидящего Гай-Си.
— Слышал ли и понял ли ты это?
— Да, милорд кардинал. Я буду молчать.
— Увидимся в Валане. А теперь отъезжай на милю назад, где начинается сосняк.
Через три дня, вечером понедельника, 3 апреля, они разбили лагерь в полумиле к востоку от папской трассы. Стояла пасхальная ночь, полнолуние Святой недели, но солнце еще не село, и поскольку запасы пищи подходили к концу, Нимми отправился на поиски съедобных корешков и зелени, которая уже должна была пойти в рост, а Вушин, прихватив единственное имевшееся у них огнестрельное оружие, пошел поохотиться на какую-нибудь мелкую живность; воины кардинала собирали хворост и разводили огонь. Сам же Коричневый Пони, предельно утомленный долгой дорогой, маясь надоедливым кашлем, завернулся в одеяла и, положив голову на седло, еще до темноты погрузился в сон.
На берегу полузамерзшего ручья Чернозуб выкопал несколько прошлогодних клубней дикого лука; толку в них было немного, разве что пустить их на приправу, если Топор вернется с добычей. Конечно, стоял постный день, но, с другой стороны, они были в ситуации крайней необходимости, особенно кардинал, который так и не смог полностью оправиться после пребывания в кратере. Уходя от стоянки, Нимми старался определиться, глядя на закат, по первым высыпавшим звездам и, наконец, по далекому мерцанию лагерного костра. Он нашел юкку и, расковыряв острой палкой неподатливую землю, извлек несколько тощих клубней.
До него донеслось эхо двух выстрелов, и он решил, что это Вушин пустил в ход оружие, но за ними последовал третий — слишком быстро, чтобы Топор успел перезарядить стволы. По берегу ручья у подножия холма галопом промчалась лошадь, и Чернозуб успел рассмотреть всадника. Это был Кочевник. Со стороны лагеря послышались крики, сопровождаемые еще одним выстрелом, но Чернозуб сумел разобрать только голоса Джинга и Вусо-Ло, что-то кричавших на своем родном языке. Лишь когда он услышал, как Топор на плохом, но понятном наречии Диких Собак выкрикнул страшную угрозу и ему слабым эхом ответил голос кардинала, он понял, что опасность в самом деле реальна и в ход пошла сила.
Нимми стал бесшумно подбираться к костру. Двое разбойников из Кочевников сидели на земле со связанными за спиной руками. Их окружала охрана Коричневого Пони. Сам кардинал сидел на скатке из одеял. К можжевельнику была привязана странная маленькая лошадка; прислоненные к стволу, стояли два чужих мушкета.
— Нимми, где ты?
Это был голос Коричневого Пони. Чернозуб ринулся к костру и бросил рядом с телом мертвой Дикой Собаки юкку и клубни дикого лука, от запаха которого кардинал поморщился.
Вушин рассказал, что тут произошло. Трое безродных ублюдков с единственной на троих лошадью попытались украсть у кардинала двух лошадей. Одному повезло, но остальные, которые собирались ограбить Коричневого Пони, к своему удивлению, напоролись на Топора и остальных, которые слышали, как приближаются грабители.
Грязный с головы до ног Кочевник в ужасе смотрел на странных воинов с их длинными мечами.
— Нимми, объясни-ка им, в каком они положении, — подмигнув, сказал Топор.
Обтерев грязный корень подолом рясы, Чернозуб подошел и остановился рядом со своим сувереном. Показав на одного из грабителей, он сказал на безукоризненном языке Кузнечиков:
— Я вас знаю. Вы шныряете в этих местах. А теперь вы напали на апостольского викария всех орд, к кому даже великий Ксесач дри Вордар, Хонган Ос, приходит за советом, не говоря уж о вожде Кузнечиков Элтуре Браме. Ваш приятель-бандит только что украл лошадь у верховного шамана всего христианского мира, следующего предводителя и великого дяди Святой Римско-католической церкви. Кроме того, он избран и Стервятником Войны, и Виджусы оповестили всех об этом.
— Не перестарайся, Нимми, — сказал кардинал на церковном.
— Лошадь за лошадь! — осмелился подать голос один из двоих. — Бери этого коня, великий человек. И мы квиты.
Не обращая на него внимания, Нимми продолжал обращаться к человеку, которого опознал:
— Эй, ты! Сам Святой Сумасшедший, ныне владыка всех орд, остановил тебя, когда ты в прошлом году пытался изнасиловать Эдрию рядом с домом Шарда, который недалеко отсюда!
Разбойник пожал плечами, но было видно, что он сразу как-то обмяк.
Поднявшись со скатки, Коричневый Пони решил осмотреть уставшего мустанга. Обойдя коренастую кобылку, он всмотрелся ей в морду и строго сказал Диким Собакам:
— Она принадлежит Хонгин Фуджис Вурн. Вы осмелились украсть кобылу, принадлежащую Женщине Дикой Лошади! Властитель Осле Хонган Чиир прикажет разрубить вас на куски и скормить псам. Вушин, освободи животное!
Топор дважды пустил в ход меч: в первый раз — чтобы разрезать ее путы, а второй — чтобы плашмя шлепнуть кобылку по крупу. Мустанг фыркнул, взбрыкнул и умчался в ночь. Поскольку Гай-Си не взял запасную лошадь, чтобы миновать Проход козлов отпущения, у них не было недостатка в лошадях, но ни Коричневый Пони, ни его помощники не считали, что на этом дело завершено.
— Кто ваш хозяин? — спросил кардинал.
— Его зовут Седлать Всех.
— Далеко ли отсюда его лагерь?
— Примерно в дне пути, великий человек.
— Сколько человек в вашей банде?
Казалось, несколько минут разбойник мысленно загибал пальцы, подсчитывая.
— Думаю, тридцать семь.
— Женщины? Дети?
— Вчера было пять пленниц. Сегодня, может, больше, а может, и меньше.
— Сколько таких шаек, как ваша?
— Не знаю. Порой мы встречаем тех, кто не относится к нашему роду. Иногда с ними воюем, иногда вместе идем в налет. На границах Диких Собак и к югу от Нэди-Энн много холостяков.
— Вы воюете с фермерами или грабите их?
— Это было бы не очень умно.
— Но случается?
— Иногда.
— Хотели бы вы, чтобы вам платили за защиту фермеров?
Пленники посмотрели друг на друга и смущенно заерзали. Коричневый Пони уточнил:
— Между Кузнечиками и ханнегановскими фермерами идет война.
— Мы знаем, но воюем и с теми, и с другими.
— Предположим, что Кузнечики примут вас как союзников…
— Они этого никогда не сделают, великий человек.
— Монах объяснил вам, что я христианский шаман всех орд?
— Мы не знаем, что это значит.
— Это значит, — вмешался Чернозуб, — что слово его светлости имеет силу во всех трех ордах.
— Будете ли вы воевать против Ханнегана под водительством Дьявольского Света?
— Это невозможно.
— А под рукой вождя Кузнечиков?
Эта мысль заставила связанных разбойников разразиться смехом.
— Пусть эти трусы убираются, — приказал Коричневый Пони. — Вы щенки, которые умеют только скулить. Идите и скажите своему Седлать Всех, что если он не трус, пусть явится ко мне в Валану и приведет с собой коня, которого вы украли. В противном случае вас погонят к югу от Нэди-Энн и к востоку от Залива привидений. Ханнеган будет знать, что с вами делать. А теперь идите.
Пасха наступила еще до того, как они добрались до Валаны. Коричневый Пони отслужил мессу Вознесения в церквушке у дороги. Помогал ему священник странствующей миссии, который был настолько перепуган высоким рангом Коричневого Пони, что все время запинался во время литургии.
Через несколько дней всадник, примчавшийся из Побии, где они провели ночь, доставил в Валану весть об их прибытии, и кардинал Сорели Науйотт вместе с Элкином, охранником Секретариата, дождались путешественников в таверне «Олений дом», где в прошлом году кардинал познакомился с Мягким Светом. День уже клонился к закату, так что они заказали обед. Два прелата со своими помощниками сели за один стол, а Вушин и желтая гвардия расположились за соседним. Сорели Науйотт тараторил без умолку, и ему было что рассказать.
Прежде чем объявить о своей отставке, которую Науйотт, как и Коричневый Пони, считал подлежащей отмене (или забвению), папа Амен порвал с недавней традицией и назначил новых кардиналов, сразу сорок девять человек, и кроме того, выразил намерение совершить абсолютно беспрецедентное действие, лишив кардинальства сорок девять других клириков. Это поразило Коричневого Пони, но в такой ситуации созыв конклава стал если и незаконным, то понятным.
Амен Спеклберд, который настаивал, чтобы его отставка была, как полагается, принята курией, вернулся в свое бывшее обиталище, в старое строение, которое, казалось, вырастало из склона холма и в свое время было хранилищем овощей, а еще до этого — пещерой, глубины которой так и остались неисследованными, но старик не позволил их замуровать, чтобы «горные духи могли приходить и уходить». Сюда к нему являлись советоваться кардиналы курии, осуждали его и просили не уходить.
Были и новости из Тексарка. Хотя туда по телеграфу поступил так называемый текст об отречении папы Амена, подлинный (и подписанный им) экземпляр документа, если он вообще существовал, не был обнаружен ни в Валане, ни в ином месте. Некий предприимчивый подделыватель документов в столице империи продал архиепископу Тексарка убедительную подделку оригинала за десять тысяч пиосов — после того как полицейские эксперты заверили, что почерк в самом деле принадлежит Амену-антипапе. Но позже другой эксперт доказал, что текст содержит вопиющие ошибки такого рода, какие часто случаются у операторов на телеграфе при приеме сообщений, включая несколько чисто операторских отметок типа ППС, что значит «Перерыв, продолжение следует». Жулик удрал в страну Зайцев, и больше его никто не видел.
— Как я говорил, папа отказывается жить во дворце, — сказал Науйотт, — и вернулся в свой старый дом. Пасхальную мессу он провел там же, у себя дома, а не в соборе Джона-в-изгнании. Он примет любого, кто явится к нему, и с юмором отнесется, если ему выкажут пренебрежение. Он подписал пустые бланки булл, наверное, несколько дюжин. И почти все заверил восковым оттиском своей печати. Не знаю, всегда ли он предварительно читал их. В самом ли деле он назначил всех этих новых кардиналов или это было сделано за него? Я хотел бы это выяснить, но не могу. Он узнал об оружии в Секретариате и решил, что я несу за него ответственность.
— Я могу признаться ему…
— Нет, не делай этого. Теперь ответственность лежит на мне. Он ведет себя как человек, который расстался со своей ношей, если не со святостью, но только не со своим чувством юмора. Он все время вспоминает тебя, Элия, и будет очень рад твоему возвращению. Завтра ты должен с ним повидаться. Вместе с братом Чернозубом.
— Конечно. Но о чем у нас пойдет разговор, если не об оружии?
— Именно он назвал тебя как одного из претендентов на папский престол. И наверное, это будет единственной темой вашего разговора: он будет уговаривать тебя принять титул понтифика.
— Мне придется сразу же все выяснить.
— Попытайся. Но, кроме новых кардиналов, город заполонен членами Коллегии. Некоторые, те, что с Востока, прихватили с собой офицеров и послов, которых ты приглашал. Они считаются телохранителями.
— Они прибыли по тому приглашению, что и я получил? Кто писал эту ахинею?
— Достопочтенный кардинал Хойдок.
— Я его знаю?
— Нет. Он один из новеньких. Из Тексарка. Бенефез отлучил его от церкви за поддержку Амена, поэтому папа произвел его в кардиналы. Он не священник, а юрист, специалист по гражданскому праву.
— Как сюда добрались восточники? — спросил Коричневый Пони.
— В основном через земли Айовы. Похоже, тамошние фермеры поддерживают с Кузнечиками хорошие отношения. Они торгуют друг с другом. Мало кто из тексаркских патрулей забирается на север от Реки страданий, а там они не могли задержать кардинала, пусть даже и знали, что он направляется на конклав.
— Река страданий?
— По-старому она называлась Миссури[92], милорд, — вмешался Нимми.
— «Страдание» более соответствует нынешним временам, — сказал Сорели. — До оккупации сельских земель там пролегал самый простой путь в Новый Рим.
— Ну конечно же. Что-то память у меня стала сдавать. Завтра первым делом я должен послать гонца к Святому Сумасшедшему и Плывущему Лосю с приглашением на конференцию, а также вооруженную группу в Новый Иерусалим за дополнительной партией оружия.
— Плывущий Лось?
— Это вождь Элтур Брам, брат Халтора. Глава Кузнечиков.
Им принесли обед. На этот раз он состоял из мяса с хорошим красным вином. После долгого путешествия на скудном постном рационе все основательно проголодались. Нимми рассеянно подумал, стоит ли докладывать на исповеди, что в дни воздержания он позволил себе жареный на угольях кусок дикой собаки, хотя кардинал ввиду крайней ситуации позволил это нарушение.
— Кстати, как дела в Тексарке? — спросил Науйотт.
— Провинция бурлит недовольством. И конечно, то и дело вспыхивают спорадические стычки с Кузнечиками. В самом Ханнеган-сити мало что изменилось, если не считать, что туда привезли каких-то экзотических животных из Африки, способных к военным действиям в пустыне. И еще: они знают о нашем оружии.
— И то и другое плохо.
— Есть кое-что другое, — Коричневый Пони протянул руку к соседнему столу и хлопнул Вушина по плечу. — Топор, кажется, я забыл тебе сказать о некоем небольшом изменении.
— Милорд?
Коричневый Пони посмотрел на Чернозуба.
— Скажи ему.
— Его императорское величество заменил тебя механическим устройством для отрубания голов, Топор.
Вушин пожал плечами.
— Когда человек равнодушно отрубает головы, он сам становится механическим устройством. Так что ничего не изменилось.
Остальные воины стали неодобрительно переговариваться между собой, но в конце концов признали правоту Вушина.
— Потрясающая личность, — с дрожью в голосе сказал Сорели, когда Вушин отвернулся.
— Без страха и упрека, — громко пробормотал Коричневый Пони.
В последний раз они видели Гай-Сина четыре недели назад и уже стали опасаться, что его пристрелили в Проходе козлов отпущения, как он появился — в сопровождении вьючного мула, тяжело груженного не только «подарками от курии», как просил Коричневый Пони, но и от мэра Диона; прибыл еще и Улад, а также целая бригада легкой кавалерии, обвешанная новым превосходным оружием — восемь тяжелых фургонов. Тайна Нового Иерусалима перестала быть таковой. Коричневый Пони не выказал удивления, и Нимми понял, что послание к Диону было закодировано.
Валана никак не могла принять и обилие кардиналов, и целую бригаду легкой кавалерии, о которой среди горожан стремительно распространились пугающие слухи, что все эти вооруженные люди принадлежат к «привидениям». Но мэр Дион и не собирался брать на себя эти обременительные обязанности. На холме за пределами города его силы тут же стали возводить укрепленный лагерь. Как только фургоны были разгружены, они вернулись в Новый Иерусалим за очередным грузом. Предполагалось, что регулярные конвои будут снабжать их пищей, боеприпасами и всем остальным, необходимым для военного образа жизни. На первых порах расположились они в палатках, но уже через четыре дня были возведены постоянные бревенчатые строения с подвалами, где хранилось оружие и набивались медные гильзы. Машина для набивки были простой, портативной и могла следовать за войсками.
В поисках сведений об Эдрии, Нимми добрался до ворот нового форта в надежде поговорить с магистром, который сейчас исполнял роль главнокомандующего. Ему было вежливо предложено подождать, и, когда охранник направился в сторону арсенала, он разговорился с другим дежурным.
Чернозуб заметил, что их ружья конструктивно напоминают те самые револьверы: у них были такие же вращающиеся барабаны, но не с пятью гнездами, а с шестью. Охранник показал ему, что патроны имеют тот же самый калибр, что и револьверные, и на них идет та же медь; разнились только вес пули и количество пороха. Револьверными патронами можно было заряжать ружья, пусть даже били они на меньшее расстояние, а вот снаряжать револьверы патронами с мощным зарядом было довольно опасно. Поскольку меди не хватало, неукоснительно полагалось собирать гильзы, даже в бою.
Через три часа ожидания охранник вернулся. Нимми выслушал вежливые извинения от магистра Диона и ушел несолоно хлебавши. Он вернулся в частный дом Красного Дьякона, расположенный за чертой города, где их всех определили на временное жительство.
Коричневый Пони получил список новых кардиналов, рукоположенных папой Аменом во время их отсутствия. Чтобы Чернозуб был в курсе дела, он вручил ему копию списка вместе с двумя экземплярами отчета об уже прибывших кардиналах; в папском дворце их регистрировал чиновник государственного Секретариата, после междуцарствия опять порученного заботам кардинала Хилана Блеза. Кардинал велел Нимми вывесить одну копию на площади Джона-в-изгнании, а затем немедленно арендовать время в городском эфире и громогласно зачитать вторую копию, чтобы ее слышали на всех перекрестках Валаны.
Покончив с этими заботами, Нимми вернулся в старое жилище, где его не без мрачности приветствовал Аберлотт, которого угораздило влюбиться в младшую сестру покойного Джасиса.
— Сдается мне, — с непривычной для него серьезностью сказал Аберлотт, — что эти люди в своих горах так же нетерпимы к чужакам, как чужаки к «привидениям». По сути дела, они глядят на нас свысока.
— Эдрия никогда так себя не вела.
— Знаю. Она под арестом.
— О Господи! Ты ее видел?
— Нет. Мне не разрешили.
— В чем ее обвиняют?
— Несколько месяцев назад она ушла без разрешения. Это все, что я знаю.
С помощью своего кардинала Чернозуб добился встречи с магистром Дионом. Тот вежливо выслушал рассказ Нимми о том, как Эдрия добралась до аббатства Лейбовица, а оттуда до Последнего Пристанища, где и родила.
— После чего вернулась домой к отцу, — закончил он. — Это все, что она сделала.
— А отец избил ее и доставил ко мне. Мы не можем позволить, чтобы люди уходили без разрешения.
— Но ей всегда было позволено посещать Валану!
— Нет, она подчинялась приказам.
— Но отец Эдрии мог убить ее детей.
— Детей?
— Близнецов, как рассказал старый Бенджамин.
— Все, что, как ты думаешь, тебе известно, пришло лишь в виде слухов. Я учту твои слова, но какое-то время она останется в заключении. Считай, что таким образом ее оберегают от ее же собственной семьи. Тебе никогда больше не доведется увидеть ее. Ни ты, ни твой кардинал не получат от меня разрешения.
Злясь и на Коричневого Пони, и на мэра, Чернозуб покинул лагерь. По пути домой он решил было зайти в жилище Амена Спеклберда на склоне холма и попросить его вмешательства, но у дверей толпилась очередь человек в сорок, среди которых было много кардиналов, да и сам Красный Дьякон стоял десятым по порядку. Так что Чернозуб постарался не попасть ему на глаза и вместо этого зашел в ближайшую церковь, где в молитвах излил свой гнев.
В первый майский день (обычно он считался у Кочевников святым), откликнувшись на приглашение Коричневого Пони присутствовать на военном совете, Чиир Хонган, его сводный племянник Оксшо, отец Омброз и Дьявольский Свет с одним из своих лейтенантов бок о бок въехали в город. Коричневый Пони был удивлен, узнав, что Оксшо, несмотря на свою молодость, был избран вождем Диких Собак после того, как Святой Сумасшедший принял на себя пост судьи и владыки всех трех орд. Руководители Диких Собак, склонив головы, поцеловали кардинальское кольцо. Элтур Дьявольский Свет воздержался, но отдал воинскую честь, принятую у Кочевников.
На следующий день с юга прибыл Онму Кун, совершенно трезвый, в кожаном шлеме с эмблемой его рода. Он представился как вождь Кузнечиков. Зная о репутации Онму, все остальные потребовали документального подтверждения его слов. Он представил свиток из мягкой оленьей шкуры, на которой Виджусы бисером вышили человекоподобную фигуру с заячьими ушами. Из седельной сумки он извлек крест из перьев стервятника, что также был сделан Виджусами, — освященный талисман, который вождь водружает себе на шлем только в битве. После краткой дискуссии, в ходе которой многие с сомнением качали головами, его верительные грамоты все же были приняты. Коричневый Пони, который хотел оказать честь им всем, посоветовавшись с другими членами курии, разместил руководителей Кочевников в папском дворце, поскольку папа удалился в свою пещеру на склоне холма и не хотел возвращаться.
Военный совет был назначен на четверг, 4-го числа, в Секретариате; приглашение присутствовать было послано командиру Диону и его старшим офицерам. В ночь на третье город был переполошен суматохой. Улицы, залитые лунным светом, были разбужены топотом копыт, который смолк у дома Коричневого Пони, но тут же сменился грохотом ударов в парадные двери. Вушин и Вусо-Ло сразу выскочили из столовой проверить, что это за гость, после чего позвали Чернозуба.
Нимми всмотрелся в глазок, в который падал лунный свет. Перед ним предстали триста фунтов сплошных мускулов, увенчанных копной черных волос; человек стоял, скрестив на груди руки и блистая гневным взглядом. На ломаном языке Кузнечиков он изрыгал оскорбления и требовал подать ему «того христианского шамана, который хвастался моим людям, что обручился со Стервятником, и обзывал меня трусом».
Чернозуб с трудом сглотнул комок в горле и вернулся к обеденному столу.
— Похоже, что у дверей стоит какой-то безродный и хочет говорить с вашей светлостью.
— Кто такой?
— Вроде тот, кого они называли Седлать Всех. Помните разбойников, которых вы отпустили? Они рассказывали о своем предводителе…
Кардинал вытер с губ подливку, встал и пошел к дверям.
— Где моя лошадь? — строго осведомился он у набычившегося разбойника.
— Привязана за воротами, паршивый пожиратель травы.
— Тогда заходи. Поешь с нами мяса, паршивый вор.
Человек вошел в окружении настороженных воинов с обнаженными короткими мечами. Поскольку от него шел удушливый запах, кардинал посадил его в дальнем конце стола. Большинство уже покончило с едой. Слуга поставил перед гостем доставленные из кухни несколько ломтей говядины с горячей жареной картошкой и луковой подливкой. В это время года было слишком рано для появления того, что Кочевники зовут «травой», но все же он высказал несколько претензий относительно приправы и отсутствия «потрошков», которые стоило бы подать к говядине. Нимми знал, что обычно Кочевники съедают целиком буквально все животное, кроме шкуры, рогов, копыт и костей. Такой рацион был основой предписаний Боэдуллуса как средства против лучевой болезни. Разбойник ел руками, заворачивая картошку в ломти говядины.
— Спасибо, что вернул мою лошадь, — заговорил кардинал. — Но знаешь ли ты, что сегодня в городе находятся вожди всех орд и даже Ксесач дри Вордар?
Седлать Всех прекратил есть и уставился на него.
— Меня сюда пригласил ты. Они враги. Ты хотел, чтобы меня убили?
— Нет. Все, что я хотел, — это вернуть свою лошадь.
— Ты рассказывал моим людям о том, что они могут воевать на стороне фермеров. За деньги.
— Я задавал им вопросы.
— Какие фермеры твои враги? Те, что тут рядом?
— Нет, они под защитой епископа Денвера.
Тут пришлось вмешаться Чернозубу.
— Его светлость пытается говорить на понятном тебе языке, но он имеет в виду сторонников Ханнегана, а еще конкретнее — вооруженные силы Тексарка. Он не имеет в виду мирных людей, которые обрабатывают почву и растят урожай. Многие из них, включая и мою семью, бывшие Кочевники.
— Спасибо, Нимми, — с легким раздражением сказал Коричневый Пони и снова обратился к Седлать Всех: — Если согласишься, сколько бойцов ты сможешь выставить?
По всей видимости, Седлать Всех погрузился в какие-то расчеты.
— Зависит от платы. Если золотом, то немного. Нам нужны хорошие кони. Две семьи погибли, когда мы объезжали диких. Предложи по два хороших коня и по бабе на человека — и ты получишь маленькую армию.
— Лошади будут, а вот женщины — нет. Что значит маленькая армия?
— Может, человек четыреста. Но Кузнечики воюют против фермеров на востоке. Мы не можем драться рядом с ними.
— Понимаю. Как насчет Зайцев?
Вдруг Седлать Всех преисполнился подозрений.
— Червивая Морда рассказывал, что ты, мол, угрожал загнать нас на юг к Нэди-Энн, на земли Тексарка.
— Гай-Си, принеси одно из новых ружей.
Маленький воин вышел в соседнюю комнату и вернулся с одним из ружей, доставленных с западного побережья.
— Заряди его, выйди наружу и покажи ему, что это такое.
Коричневый Пони и Чернозуб остались сидеть в столовой, где слуга убирал со стола после еды. За несколько секунд прозвучало несколько громких выстрелов, сопровождаемых испуганным ржаньем и топотом копыт по мостовой.
Вушин вернулся вместе с разбойником, который, держа разряженное ружье, изумленно разглядывал его.
— Прошу прощения. Ваша лошадь сорвалась и убежала, — сказал Топор.
— Когда ее найдут, отдай ее главарю разбойников. Вместе с ружьем.
Гороподобный гость изумленно уставился на Коричневого Пони.
— Я тебе ничего не обещаю!
— Вижу. А пообещал бы — никаких бы подарков не получил.
— Никаких обещаний!
— Ладно. Я хочу лишь, чтобы ты провел тут ночь и большую часть завтрашнего дня. На завтрашней встрече побывать ты не сможешь, ибо я боюсь, что кто-нибудь из ее участников убьет тебя. По пути в город видел ли ты крепость на холме?
— Да. Она новая.
— Завтра вечером ты отправишься в форт и поговоришь с магистром Дионом и с Зайцем Онму Куном. Все, кого ты наймешь, будут под их командой, как и под твоей, и на юг к Нэди-Энн вас не погонят. Ты появишься там хорошо вооруженным и вместе с другими силами.
— Я подумаю.
Кардинал оглянулся.
— Топор, позаботься, чтобы он принял ванну, подстриги ему волосы и бороду и одень как горца. Он останется тут, пока завтра не взойдет луна.
Седлать Всех гневно рявкнул и стал приподниматься, но шесть мечей, наполовину вынутых из ножен, произвели успокаивающее воздействие. Он позволил увести себя.
Коричневый Пони вопросительно посмотрел на Чернозуба.
— Милорд, эти люди живут убийствами и грабежами.
— Но такова война, разве нет?
Этой ночью Нимми сосредоточенно молился о пришествии мира, но опасался, что Дева его не слышит. Если его кардинала изберут папой, он поставит Девственницу главнокомандующей над ордами.
Глава 21
«Какое бы важное дело ни предстояло сделать в монастыре, да созовет аббат всю общину и изложит ей суть предстоящего труда… Причина, по которой мы утверждаем, что необходимо всех созвать на совет, в том, что Господь нередко открывает свою мудрость самым юным».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 3.Этой ночью Нимми спал хуже некуда: дважды просыпался от кошмаров и молился перед распятием. Однажды к нему явился посетитель. Лунный свет из окна падал на белые простыни, и он увидел в дверях темную фигуру. По массивным очертаниям он понял, что это может быть только Седлать Всех. Он вскочил на ноги, готовясь дорого продать свою жизнь, если разбойник вздумает покуситься на нее. Но туша всего лишь что-то буркнула и пошевелилась. Через несколько секунд из коридора за его спиной вынырнула другая фигура. Скорее всего это был кто-то из желтокожих воинов, следивший за ним. А может, Седлать Всех всего лишь бродил в поисках нужника, чтобы помочиться.
Нимми вернулся в постель. Он с содроганием ждал наступления дня, потому что предвидел развитие событий и знал, как Коричневый Пони управляет ими. Нет, в распоряжении Красного Дьякона отнюдь не было карты будущего, но он неудержимо шел к своей цели; что бы ни случалось, он все рассматривал с одной точки зрения: насколько это может быть полезно его замыслам. Нимми был не против разрушения империи или уменьшения ее влияния и восстановления былой мощи папства в Новом Риме. То была конечная цель Коричневого Пони. Часть его деяний носила законный характер. Например, такое, как война; он не сомневался в правоте древнего учения. Но Лейбовиц был мирным человеком — разве не так? Пусть даже ему досталась военная юность.
А Чернозуб всегда был верным последователем святого, хотя далеко не самым достойным членом ордена, которым управляли такие аббаты, как Джарад и Олшуэн. Он отказался от мира, так же как от него отказались аббаты и братия, но теперь он пребывает в средоточии мирских событий, и отрешение от мира кажется бессмысленным. Большую часть ночи он лежал без сна, вспоминая свою преданность Лейбовицу и Святой Деве. Когда он наконец провалился в краткий сон, ему приснилась Эдрия, и он проснулся с эрекцией, борясь с желанием заняться мастурбацией — уже рассвело и по коридору ходили люди.
Без большого желания он отправился сопровождать кардинала на совещание во дворец, где собрались вожди орд и руководство Нового Иерусалима. Это, без сомнения, могло стать началом конца. Шеф заметил его неохоту и сказал:
— Прости, Нимми, но ты мне понадобишься. И Кузнечикам тоже.
Присутствовали всего четыре члена Священной Коллегии: Сорели Науйотт, Чунтар Хадала, Элия Коричневый Пони и новый кардинал, некий вождь Хоукен Иррикава, о котором говорили, что он король лесного народа, обитающего на северо-востоке, и у кого на красной кардинальской шапке красовалось перо. Он утверждал, что превосходит по званию всех князей Церкви, кроме папы. Кроме четырех кардиналов присутствовали несколько военных разных национальностей, представлявших народы и к востоку от Грейт-Ривер и к западу от континентальной разделительной линии; они прибыли в город совместно со своими избранными кардиналами. Состоялась перекличка, пересчет по головам и всеобщее взаимное представление. Мэр Дион явно не избавился от раздражения по поводу прошения Нимми за Эдрию и при первой встрече сделал вид, что не замечает его и Вушина.
Коричневый Пони повернулся к Элтуру Браму, подмигнул и сказал:
— Не будете ли вы столь любезны дать командирам отчет о всех битвах, которые состоялись между Кузнечиками и Тексарком после смерти вашего брата?
Вождь смущенно усмехнулся и начал рассказывать. Через полминуты Дион поднял руку.
— Что он говорит?
— Большую часть я понимаю, — сказал кардинал, — но я достаточно прилично владею только языком Зайцев и свободно — наречием Диких Собак. Язык Кузнечиков — родной для брата Чернозуба.
Дион посмотрел на Нимми и кивнул.
— А Вушин, который командует желтой гвардией, владеет очень эффективными приемами боя без оружия.
Мэр уступил, но как бы подчеркивая свое неучастие в происходящем, отправил Улада и других своих офицеров на скамейку за дверью. Чернозуб переводил рассказ Дьявольского Света о недавних стычках между его воинами и тексаркской кавалерией, эти военные действия, в которых было мало раненых и еще меньше убитых, носили вялый характер. Ибо согласно приказам Святого Сумасшедшего силы Кузнечиков не имели права совершать дальние рейды на защищаемые сельские угодья. Брам не без иронии заметил, что незащищенные угодья к северу от Реки страданий не подвергались набегам, ибо торговля между фермерами и Кочевниками ведется уже много лет.
У большинства принципалов были свои переводчики, которые переводили разнообразные диалекты на церковный, и поэтому совещание шло медленно. В центре внимания постоянно находилась карта части континента между Скалистыми горами и Аппалачами. Чтение карты было проблемой для всех Кочевников, кроме Святого Сумасшедшего, но отец Омброз старался помочь им, разъясняя разницу между Землей и ее изображением на бумаге.
Нимми поймал себя на том, что стал ушами и голосом вождя Кузнечиков, и вскоре позволил себе упрекнуть даже Коричневого Пони и Диона в том, что они, не дожидаясь перевода, переговариваются между собой на церковном или на долинном диалекте ол’заркского. Даже Онму Кун владел тремя языками, а Дьявольский Свет если и понимал еще какое-то наречие кроме языка Кочевников, то не признавался в этом; тем не менее Нимми заметил, что вождь хмурился, когда монах переводил слова «Красная Борода» как «ваша светлость». Сам же его светлость, хотя немного и понимал Кузнечика, хранил невозмутимое выражение лица. Брам не признавал никаких обращенных к нему просьб и тем более приказов, если они исходили не от Хонгана Осле Чиира. Он считался только с Ксесачем дри Вордаром. Его вежливость всего лишь скрывала врожденное высокомерие.
Нимми не мог не восхищаться главой Кузнечиков. Правда, его реакция была сродни восхищению, которое человек испытывает перед медведем гризли или ягуаром, но ведь не исключено, что он может быть дальним родственником Дьявольского Света. Вождь не был ни груб, ни надменен по отношению к монаху, хотя знал, что предки Чернозуба сбежали из орды, чтобы возделывать земли, принадлежащие архиепископу Денвера.
На минуту отвлекшись, Чернозуб заметил, что Святой Сумасшедший, подняв голову, смотрит на одно из окон под крышей.
Монах проследил за его взглядом. Это было то окно на хорах, через которое в здание на последний конклав доставили Амена Спеклберда. Окно было открыто. А в нем подавали знаки полицейский и юный вождь Оксшо, отсутствие которого вызвало подозрение по крайней мере у Чернозуба. Владыка орд поднялся.
— Милорд кардинал, ваша светлость, примите мои извинения, но я должен выяснить, что им надо, — он показал наверх. Коричневый Пони посмотрел в сторону окна, кивнул и сказал:
— Во время вашего отсутствия мы займемся вопросами, которые не имеют отношения к вашим владениям. Если там что-то неладно, пожалуйста, дайте нам знать.
Чиир Хонган (Чернозуб пытался припомнить, как звучит почтительное обращение к нему во время разговора, но то и дело забывал его) вернулся через четверть часа. В это время речь большей частью шла о поставках военного снаряжения с западного побережья. Лицо владыки было мрачным как грозовая туча.
— Тексаркский шпион подслушивал каждое сказанное здесь слово, — проворчал он, глядя на Коричневого Пони.
— Вы его поймали там, наверху?
— Да. Там был наш вождь Оксшо.
— Вы уверены, что шпион из Тексарка?
— Конечно. Я его знаю. Как и ваша светлость, — Чиир Хонган сделал паузу, продолжая пристально глядеть на Коричневого Пони. — Он является — или являлся — мужем Потеар Веток. Он ваш тексаркский специалист по тактике кавалерии. Помните, вы прислали его к нам? Я всегда его подозревал.
Сидевший поодаль отец Омброз уронил голову на руки.
— Эссит Лойте! — простонал он. Коричневый Пони смертельно побледнел.
— Он арестован?
— О да, милорд. Оксшо скрутил его и взнуздал.
Нимми вздрогнул. Он знал, что такое «взнуздал» в устах Святого Сумасшедшего. В щеках пленника протыкали дырки и сквозь них продевали веревку или уздечку.
— Доставить ли его вам сюда для допроса? Я разрежу узду, так что он сможет ворочать языком.
— Нет, посадите его в местную тюрьму. И когда я уеду отсюда, он отправится со мной, живой или мертвый.
Поднявшись на ноги, Коричневый Пони повернулся лицом к разгневанному вождю Кочевников.
— Я сделал ошибку, доверившись ему, — сказал он. — Вы правы, требуя передать его в ваши руки. Но, владыка Хонган Осле Чиир, как ваш апостольский викарий, я во имя Господа запрещаю вам убивать его.
Они продолжали смотреть друг на друга. Кочевник еле заметно кивнул. Кардинал сел.
Хонган снова вышел. На этот раз он отсутствовал около часа. Вернувшись, он предстал перед Коричневым Пони.
— Он в тюрьме?
— Большей частью, — сказал Ксесач дри Вордар. — А остальное здесь, — и он вывалил на стол перед своим апостольским викарием груду кровавых ошметков. Нимми увидел руку, два уха, кончик носа, а вот это, скорее всего, член капитана.
Сидевший рядом с Чернозубом Дьявольский Свет вскочил на ноги, издав оглушительный боевой клич Кузнечиков, что означало одобрение. Коричневый Пони отвернулся. Его вырвало.
— Вы велели не убивать его, — вкрадчиво напомнил Хонган.
Встреча была прервана — слуги убирали со стола и мыли пол. Когда все было приведено в порядок, Оксшо присоединился к остальным двум вождям; они сидели все вместе со своим властителем Хонганом и переводчиком Элтура. Нимми оказался в окружении четырех Кочевников, и ему показалось, что остальные расселись не так, как раньше. Все места рядом с Кочевниками оказались свободными.
Магистр поначалу возражал против плана Коричневого Пони, который предоставлял преимущества Кочевникам; он хотел объединить силы Диких Собак и Кузнечиков и пересечь равнины к северу от Нэди-Энн, после чего соединиться с войсками уродцев, способных носить оружие, народа Уотчитаха, и ударить по Ханнеган-сити с севера. Кардинал Чунтар Хадала, апостольский викарий долины, знал, на что они способны, если им дать оружие, и поддержал план Диона, предусматривающий создание объединенной армии «привидений» с Мятных гор и их родственников-уродцев из Ол’зарка. В основе его согласия лежало ожидание, что командующий «привидениями» приведет сюда, в Валану, свою бригаду легкой кавалерии.
Тем не менее Коричневый Пони был против. Ознакомившись с провинцией, он предвидел, что война развернется на три фронта. Тут присутствовали офицеры из четырех государств в районе Аппалачей, которые готовились к вторжению на территории марионеточных союзников Тексарка на восточном берегу Грейт-Ривер. Их целью было не столько завоевание этих земель, сколько желание заставить Филлипео послать силы для защиты своих марионеток на восточном берегу Грейт-Ривер, дабы не потерять контроль над рекой. План включал в себя налеты, рейды, набеги с последующими отступлениями, чтобы Филлипео не мог оттянуть силы к Ханнеган-сити, пока тот не окажется под прямой угрозой штурма. Присутствовал и командующий вооруженными силами Королевства Теннесси, и он изложил планы, согласованные с восточными государствами, в которых примет участие и Хоукен Иррикава.
Большинство Кочевников эти планы устроили. Владыка Хонган Осле Чиир предложил, чтобы вождь Кузнечиков заключил временное перемирие с силами Филлипео — до начала наступления государств восточного берега.
— В таком случае ему будет довольно сложно переправить войска на другой берег реки.
Дьявольский Свет улыбнулся своему предводителю: его улыбка ясно говорила, что если перемирие и будет заключено, он при первой же возможности его нарушит.
По этому плану задача армий Нового Иерусалима заключалась в объединении с партизанскими силами Онму Куна, которые в данный момент были рассредоточены в гористой местности провинции. Маленькими группами партизаны должны были просочиться в спорный район, лежавший в нескольких днях пути к западу от Желтого города; на первых порах им предстояло держаться поодаль от узкой и хорошо охраняемой полосы отчуждения телеграфа, которая вела к последней станции перед Валаной. Взяв указку, Кун обвел на карте район, где и Нэди-Энн, и истоки Залива привидений были всего лишь ручьями, если не считать небольших озер, в которые с древних рассыпавшихся дамб лились водопадики. К востоку от папской дороги лежала страна отщепенцев, и Чернозуб начал понимать, почему его господин хотел видеть в числе своих союзников и Седлать Всех, хотя об этой возможности он не обмолвился ни словом. Северные орды будут возражать против присутствия безродных, но, прикрытые Тексарком, Зайцы почти не страдали от налетов этих банд.
Когда силы Куна, Диона и, может, разбойников объединятся под единым командованием, переоснащение Зайцев оружием с западного побережья, которое Куну раньше не разрешалось доставлять сюда, пойдет быстрыми темпами. Предполагалось, что телеграф будет полностью разрушен и сняты провода, ведущие в Новый Иерусалим. Местное ополчение из Зайцев, которое втайне вооружалось, пусть и старым оружием, поднимет восстание, когда армии Куна и Диона двинутся на восток в междуречье Ред-Ривер и Нэди-Энн. Поскольку силы Тексарка будут задействованы в провинции и за Грейт-Ривер, объединенные силы Диких Собак и Кузнечиков атакуют с запада, надеясь, что к ним присоединятся все здоровые уродцы народа Уотчитаха, после чего они предпримут совместное наступление.
Наконец убедили и магистра Диона. Он настаивал, что Валана должна создать и свое ополчение, а также занять форт, который возвели его люди, где горожане будут искать убежища на случай налета «тайных врагов или разбойников»; ополчение же будет использоваться в помощь полиции при розыске нелояльных граждан, особенно тех, кто родом из Тексарка. Он представил одного из своих военных адъютантов, майора Элсуича Дж. Гливера, коротконогого пузатого человека с красным лицом и большими усами, как самого подходящего кандидата на роль командира ополчения. Чернозуб ожидал, что его хозяин возразит против этого назначения, но Коричневый Пони промолчал. Нарушил молчание кардинал Чунтар Хадала, который, подмигнув, сказал Коричневому Пони:
— Для вас, кардинал, я не буду спускать глаз с майора. Из форта я ни ногой.
Никто не поинтересовался возможной реакцией Валаны, которой придется иметь дело и с изгоями, и с «привидениями».
Когда совещание наконец подошло к концу, окончательно стемнело. Коричневый Пони предупредил Кочевников, что дворец, в котором они расположились, завтра понадобится для конклава, попросил их сложить свои вещи и на ночь перебраться к нему.
— Чернозуб покажет вам дорогу, — затем он подозвал монаха и шепнул ему: — Постарайся, чтобы они добрались лишь к восходу луны. Я хочу в частном порядке переговорить с Дионом и подготовить его к встрече с главарем разбойников.
Нимми кивнул. Он повел вождей и Святого Сумасшедшего в «Олений дом», где их ждал ужин за счет кардинала. Когда они явились в дом, Седлать Всех уже ушел, скорее всего, на встречу с Дионом. Хозяина они поприветствовали с предельной сдержанностью, ибо продолжали злиться из-за шпиона, и сразу же разошлись по своим комнатам.
Еды на обеденном столе не было, но Коричневый Пони предложил Чернозубу разделить с ним стакан вина и спросил, что тот думает о событиях прошедшего дня.
— Мне показалось, что теперь я на службе у орд, а не у вас, милорд.
— Что вполне естественно. Ты же был переводчиком у Брама. Что еще?
— Я и боялся, и злился.
— Чего боялся? На кого злился?
— На вас.
Его слова заставили Вушина угрожающе заворчать.
— Допускаю, что это тоже вполне естественная реакция, — сказал кардинал. — Святой Сумасшедший и вожди, конечно же, злы на меня из-за Эссита Лойте. Это сказалось и на тебе. Лойте оказался одним из немногих людей, в оценке которого я коренным образом ошибся. Завтра начинается конклав. Ты увидишь, что он окажется не таким скандальным, как прошлогодний и… — кардинал прервался, заметив выражение лица Чернозуба. Топор тоже обратил на него внимание и ощетинился, ибо для него не существовало ничего, кроме преданности хозяину.
— В общем-то я могу обойтись и без тебя, — сказал Красный Дьякон. — На конклаве мне не нужен переводчик при Кузнечиках, а секретаря я могу одолжить у кардиналов Блеза или Науйотта. Ты все еще сердишься?
— Нет, милорд. Просто очень устал.
— Да, день был очень утомительным. Ладно, возьми отпуск и отдохни, пока у нас не появится новый папа. Кочевники пробудут в городе еще несколько дней. У них есть о чем поговорить между собой и с офицерами Диона. Но помни Лойте и помни прошлогодний набег. Будь осторожен.
Ранним утром Чернозуб уже встретил на городских улицах кое-кого из кардиналов и их слуг, которые направлялись на конклав во дворец. Одним из кардиналов была женщина — но не кардинал Булдирк. Он слышал о ней, но видеть ее не доводилось.
На южном берегу Брейв-Ривер был небольшой монастырь, в котором жили, работали и молились босоногие монахини, сестры Ordo Dominae Desertarum Nostrae[93] Амена Спеклберда, и тот возвел матушку Иридию Силентиа в кардинальское достоинство, сделав ее второй женщиной в составе Священной Коллегии. Чернозуб заметил, что у ее помощниц те же самые головные повязки, какая была и у Эдрии, когда она служила курьером между Секретариатом и Новым Иерусалимом. В прошлом году этот орден временно обосновался в Валане, и Нимми предположил, что среди местных монахинь была подруга Эдрии, сестра Юлиана, которая для маскировки и снабдила ее соответствующим облачением. Но теперь монахинь тут не было. Ему пришла в голову дикая мысль, и, преодолев опасения, он подошел на улице к одной из монахинь, к которой обратился тихим голосом:
— Прошу простить меня, сестра. Я монах, хотя и не в полном смысле этого слова, из обители святого Лейбовица. В таком же, как у вас, облачении сюда порой приходила молодая женщина из горной общины. Ее звали Эдрия. И я подумал, что, может, вы знаете…
Сестра молчала, не поднимая глаз. Мать Иридия заметила, что к одной из ее спутниц подошел какой-то наглый клирик, и, нахмурившись, приблизилась к ним. Они с монахиней пошептались на незнакомом языке. Потом мать Иридия смерила взглядом Чернозуба с головы до ног, кивнула, порылась в портфеле и протянула ему карточку с молитвой.
— Да благословит тебя Бог, брат Чернозуб, — сказала она, осеняя его мелким крестом. — Молись за тех, кто в беде, — затем она схватила свою спутницу за руку и быстро потащила ее за собой.
Чернозуб, изумленный тем, что она знала его имя и, вероятно, его прегрешение, почувствовал, как у него жарко запылало лицо. Он посмотрел на карточку. Она была из толстой глянцевой бумаги, ярко раскрашена и, скорее всего, спрыснута святой водой, как многие освященные картинки, которыми торгуют бродячие монахи. На одной стороне у верхнего обреза находилось изображение распятия, но на кресте была женщина, над которой значилось ее имя — Санта Либрада. Под крестом на древнеанглийском было назидание, которое он без большого труда прочел. Древнеанглийский гласил: «Молись Санта Либраде во времена, когда полиция и суды сулят беды и когда свобода далека. Она поможет тебе, если ты будешь в нее верить».
Для Эдрии свобода была в самом деле далека!
Он хотел кинуться вслед за монахинями и задать им кучу вопросов, но это было бы в высшей степени неприлично, да они и не ответили бы ему. Вместо этого он решил написать им записку и попросить одну из служанок Коричневого Пони передать ее.
Чернозуб посмотрел на другую сторону карточки. Там была напечатана молитва или стихотворение, которое он с трудом понял, хотя язык напомнил ему латынь. Но текст был не на латыни.
«Santa Librada del Mundo, Tengo ojos, no me moren;
Tengo manos, no me tapen;
Tengo pieses, no me alkansan. Con los angeles del 43, Con el manto de Maria estoy tapado. Con los pechos de Maria estoy rosado».
Чернозуб вспомнил Аберлотта, который вернулся в колледж Святого Престола, и, повернувшись, направился в сторону их старого жилища. Студент должен знать кого-то, кто переведет ему текст.
На площади перед собором Джона-в-изгнании собралась толпа, но на этот раз она не имела ничего общего с прошлогодним сборищем, из гущи которого летели камни. В городе не было эпидемий, и сейчас в нем царил не столько гнев, сколько страх, а если и случались вспышки возмущения, то это было делом рук Тексарка и отсутствующих в городе кардиналов. Люди хотели, чтобы Амен Спеклберд остался папой, но воспринимали его отказ как печальную реальность. Коричневый Пони пользовался широкой известностью и популярностью, но доля уважения была не так уж велика; пусть ему не хватало святости, в той же мере в нем отсутствовало высокомерие, и, похоже, он видел обращенные к нему добрые чувства простых людей.
По пути к Аберлотту Чернозуб остановился, чтобы понаблюдать за некоторыми новыми кардиналами, возведенными в сан папой Аменом, которые, появляясь, входили в зал собрания. Он стоял рядом с молодым священником, который называл их по именам.
Среди них был аббат Йопо Уотчингдаун из Уотчингдаунского аббатства, расположенного далеко на востоке от Грейт-Ривер. И кардинал Волк Пойлиф из Северного графства, который явился в своих мехах, хотя день был не холодным. Преподобнейший кардинал Хойдок из Тексарка был отлучен Бенефезом от церкви за поддержку папы Амена, который ввел его в состав коллегии. Именно он сочинил гневное воззвание о созыве конклава и, казалось, еще кипел возмущением, входя в зал. Затем бесшумно возник кардинал Фури Ширикейн, который тихонько прокрался во дворец; он был с западного побережья — священник, говоривший на диалекте Вушина, как сказал Чернозубу Топор. В его внешности проявлялись азиатские черты.
Был здесь и кардинал Эбрахо Линконо, школьный учитель из Нового Иерусалима; среди членов коллегии он был единственным «привидением».
— А вон тот — вождь Хоукен Иррикава, — сказал молодой священник.
— Знаю. Я его вчера видел.
— Знаете, что первой предложила возвести его в сан кардинал Булдирк? Аббатство Н’Орка граничит с лесным королевством Иррикавы.
— Я удивлен, — сказал Нимми своему информатору. — Похоже, в прошлом году дама явно склонялась в сторону кардинала Бенефеза.
— Ха! Это было до того, как папа Амен рукоположил двух женщин, а одну возвел в кардиналы, — сказал священник, и Чернозубу показалось, что в его голосе звучит напряженность.
— Иррикава сделал странное заявление. Он сказал, что его семья такая же древняя, как сам континент. А это орлиное перо! Он не хочет, чтобы его называли кардиналом. Приближенные называют его «сир» и «ваше величество».
В двери вошли два подчеркнуто скромных человека: кардинал Фузи Фудсоу, местный подрядчик по канализационным работам, который поставил в уединенном убежище Амена Спеклберда смывной бачок собственного изобретения, и лорд-кардинал Леевит Бааховар, купец из графства Юты. Затем появился новый епископ Денвера, кардинал Уорли Свайнемен, чей епископат включал в себя все Свободное Государство Денвер, кроме самой Валаны; его кафедральный собор стоял в двух днях пути к северу от Данфера, небольшой общины на краю огромной полузасыпанной кучи щебенки, которая когда-то была городом Денвером. Хотя епископ Денверский несколько лет назад восседал на троне апостола Петра, кресло Денверского епископата не всегда принадлежало кардиналу.
Чернозуб поблагодарил священника и вернулся в толпу на площади. Конклав, законный он был или нет, официально еще не начал свою работу за закрытыми и запечатанными дверями. Двери и окна оставались распахнутыми настежь, и толпа на площади хранила молчание, прислушиваясь к громкому голосу, который обращался к уже прибывшим прелатам. Нимми потребовалось лишь несколько секунд, чтобы узнать голос своего хозяина, ибо он был полон гнева:
«Надо мной висит угроза смертного приговора, вынесенного правителем имперского города, но приведение его в исполнение отложено. Ханнеган, его архиепископ и их союзники объявили папу обманщиком. Они пытаются созвать в Новом Риме Генеральный совет Церкви, но это, как вы знаете, не может быть сделано без одобрения папы, а если папы нет, то совет вообще не может быть собран. Тексарк начал необъявленную войну против валанского папства, и теперь все мы в опасности. И пусть даже мы осудили набег Кузнечиков на незаконно оккупированные земли вокруг Нового Рима, что повлекло за собой убийства невинных людей, мы сочли необходимым заключить союз с ордами против империи. Вы должны защитить самих себя. Тут, в Валане, есть тексаркские шпионы. Один из них была вчера пойман владыкой трех орд и жестоко изуродован, о чем я узнал слишком поздно. Сейчас в тюрьме им занимаются врачи. Как вы должны помнить, в пасхальные дни прошлого года на меня и моего секретаря было совершено покушение. Будут и другие нападения такого рода.
Любой, кто выразит желание вооружиться и вооружить своих слуг, получит оружие, и превосходное оружие, от папской гвардии. Валана — открытый город. У нас нет пограничной стражи, и можете не сомневаться — агенты Ханнегана являются и исчезают, как им заблагорассудится. Личное орудие для вас и ваших слуг будет доставлено…»
Возможно, гнев, который звучал в его голосе, был всего лишь риторическим приемом. Чернозуб удивленно покачал головой и пошел дальше. Он не жалел, что на этом конклаве Коричневый Пони взял себе в помощники кого-то другого, и надеялся, что ему простят явное нежелание быть одним из них.
Аберлотта не было дома. Чернозуб, надеявшийся сделать копию странной молитвы и вместе с запиской оставить ее на столе приятеля, толкнул дверь, но та была закрыта. Он пожал плечами и двинулся в обратный путь, как вдруг его поразила мысль: ведь ему так и не удалось увидеть Амена Спеклберда — очень уж большая толпа ждала у его дверей. Но люди, не занятые на работе, сейчас собрались на площади у собора, а все кардиналы были во дворце. Он повернулся и пошел вверх по дороге, что вела к жилищу Амена.
— Я не возьмусь перевести это для тебя, — сказал старый чернокожий папа, держа карточку матери Иридии.
Они сидели вдвоем в каменном доме на склоне холма. От камня тянуло холодом, но в очаге горел небольшой костерок; и в помещении было прохладно, но довольно уютно.
— Это больше стихотворение, чем молитва. Оно написано не на том языке, на котором сегодня говорят сестры, но в их речи больше следов классического испанского языка, чем в языке Скалистых гор или ол’заркском. Это староиспанский с примесью нескольких слов местного диалекта. Я встречался с ним. Я знаю, что это значит для сестер. Они считают, что распятая женщина не отражает подлинное историческое событие, а передает состояние Марии, когда она почувствовала, что значит распятие сына.
— Она представила себя на его месте?
— Представила? В душе она всегда была там. Librada del mundo означает «стать свободной от мира». Но следующие три строчки, похоже, исходят из уст распятой. У нее есть глаза, но она себя не видит. У нее есть руки, но они прибиты к кресту, и она не может коснуться себя. Ноги ее тоже прибиты, и она не может сделать ни шага. Смысл следующей строчки — «с ангелами числом в сорок три» — потерян. Следующие две строчки могут быть произнесены Христом-ребенком: «Покров Марии укрывает меня. Груди Марии вскармливают меня». Ребенка нянчат. Таково истолкование сестер.
— А ваше?
— Я не истолкователь, не переводчик. Это ты им являешься, Чернозуб. У тебя есть глаза, руки и ноги. Можешь ли ты видеть себя, трогать себя, ходить?
— Никогда раньше я в этом не сомневался, но… — Чернозуб помолчал. — Но ведь тот, кого я вижу в зеркале, это же не я, не так ли? Я могу трогать свое тело — но разве оно принадлежит мне? Мои ноги двигаются — но кто же идет?
— Если ты задаешь правильные вопросы, зачем тебе нужны ответы? Они заключены в самих вопросах, — Амен расплылся в кошачьей улыбке. — Они мне нравятся — те вопросы, что ты задаешь.
— Можете ли вы что-то сделать для Эдрии?
Спеклберд молчал. Нимми боялся, что сейчас он скажет: «А вот этот вопрос мне не нравится». Спустя какое-то время он промурлыкал, как ягуар:
— Встань рядом и помолись вместе со мной. Мы вознесем молчаливую молитву.
Они молились без слов. Временами Чернозуб вставал и подбрасывал дров в очаг. В сумерках они прервались на простую трапезу и снова стали молиться. К утру брат Чернозуб наколол дров, а Амен Спеклберд повесил на двери табличку: «Я МОЛЮСЬ — УХОДИТЕ».
Нимми остался молиться с ним. Вокруг царило такое же молчание, какое должно было быть в аббатстве Лейбовица. На пятый день кто-то явился и трижды прокричал «Habemus Papam!»[94], после чего удалился. Похоже, Спеклберд даже не услышал его. Молчание не было нарушено этим визитом.
Чернозуб оставался у папы девять дней, делая все работы по дому. За эти дни он узнал о своей душе больше, чем за все годы в аббатстве Лейбовица. Амен Спеклберд безмолвно учил его. И душа ученика понемногу стала напоминать душу его молчаливого учителя. Не было никаких объяснений, ибо они могли нарушить тишину.
Чернозуб оставался бы и дольше, но когда утром десятого дня он вышел нарубить дров, то увидел над Валаной высокий столб дыма. Неужели весь город в огне?
Амен проводил его почти до самого подножия холма, пока они не увидели, что горит всего лишь папский дворец и полицейские казармы. «Всего лишь!» — были слова Спеклберда.
Они в молчании обнялись и так же без слов расстались. Нимми снедало легкое беспокойство о судьбе старика. Он попытался внутренне отвлечься от сцен церковной борьбы за верховенство, но как он мог не думать об этом, если люди продолжают возмущаться и воевать из-за отказа Амена восседать на папском престоле? Был ли он вообще папой? Остался ли он папой? Где его булла об отставке? Чернозуб чувствовал, что если кто-то сжег оригинал, то старику угрожает опасность. И тем не менее он понимал, что совершенно бессмысленно советовать ему искать защиты.
Пожару предшествовал взрыв, рассказал ему стражник у ворот. Но кардинал Коричневый Пони, ныне папа Амен II, не погиб. Он всего лишь покинул город с большинством членов курии. Куда он направился? Этого стражник не мог сказать. Большая часть бригады мэра Диона поскакала на юг по папской дороге, оставив несколько человек, в том числе часть желтой гвардии, готовить гражданское ополчение в форте, построенном «привидениями». Несколько кардиналов нашли там укрытие. Может, и Святой Отец отбыл вместе с Дионом. Тексаркский шпион исчез из тюрьмы, и охранник предположил, что в городе не меньше сорока тексаркских тайных агентов, которые организовали и побег из тюрьмы, и взрыв дворца. «Эти ублюдки годами жили среди нас — переселенцы из Тексарка. Почти все они утверждали, что беженцы».
Кочевники вернулись на равнины, и не исключено, что папа с ними.
Первым делом Чернозуб побежал к Аберлотту. Записка в дверях гласила: «Ушел в форт. Устраивайся». Чернозуб дернул замок. На этот раз дверь была открыта. Судя по мусору на полу и перевернутой мебели, кто-то уже пытался здесь устроиться или же Аберлотта, как он ни сопротивлялся, уволокли в форт.
Чернозуб направился в Секретариат. Здание было совершенно пустым, если не считать закрытого отсека. Едва он попытался войти туда, как был незамедлительно выставлен. Чернозуб пошел к собору Джона-в-изгнании. На месте был только викарий. Он рассказал, что новый папа, которому удалось спастись из пылающего здания, покинул город в карете, принадлежащей вождю Кузнечиков, и в самом деле с Дионом направился на юг.
— Это была карета с надписью на дверце: «Я разжигаю пожар»?
— Так там было написано. Думаю, это древнеанглийский.
«Брам отправился перехватить груз оружия», — подумал Нимми. Он решил пойти в форт. По пути кто-то схватил его за загривок и потащил в форт. Это оказался Улад, который не мог поверить, что Чернозуб явился сюда по доброй воле.
— Ты же знаешь, что я служу кардиналу… э-э-э… папе Амену Второму, — возмутился Чернозуб.
— В таком случае ты должен был быть с ним. Теперь, писун в рясе, ты солдат — сказал гигант. — И будешь драться за Святой Город.
Святой Город? Какой город он имел в виду — Новый Рим или Новый Иерусалим?
— Мне удастся увидеть Эдрию?
— Вряд ли, — проворчал Улад.
Нимми перестал сопротивляться, но по пути Улад на всякий случай придерживал его за шею.
Глава 22
«И пусть полновесного фунта хлеба хватит на день, пусть будет он единственной трапезой за обедом и за ужином».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 3.Элия Коричневый Пони — ныне папа Амен II — чувствовал отсутствие своего переводчика; со времени избрания Нимми никто не видел. Новому папе не хотелось верить, что Чернозуб бросил его; у кардиналов, которые оставались в Валане, он оставил для него письмо. Теперь он ехал в карете Брама вместе с вождем Оксшо и Дьявольским Светом, а за ними держались несколько кардиналов, кто в каретах, кто верхом. Вушин, который не владел в совершенстве ни одним из диалектов Кочевников, устроился рядом с возницей папы. В карете юный вождь Диких Собак подобострастно разговаривал с своим понтификом, что того несколько смущало, поскольку Брам продолжал его называть «Красная Борода» и каждый раз, когда Оксшо произносил «ваше святейшество» или «Святой Отец», вождь Кузнечиков мрачнел. Брам упоминал Эссита Лойте чаще, чем того требовали правила вежливости. Оксшо возражал, что шпиона поймали прежде, чем он успел узнать что-то существенное кроме имен участников военного совета.
— Да и этого более чем достаточно, — фыркнул Брам. — Едва только Ханнеган узнает, что мы обрели союзников на востоке, сомнительно, что он пошлет свои силы за Грейт-Ривер. Разве не так, Красная Борода?
Коричневый Пони, словно бы погрузившись в глубокое раздумье, продолжал смотреть в окно. Элтуру пришлось повторить свой вопрос. Оксшо изложил его на диалекте Диких Собак, но Коричневый Пони уклонился от прямого ответа.
— Нападение на дворец явилось для меня полной неожиданностью. Час или два я просто не мог собраться с мыслями. Агенты, которые вытащили Лойте из тюрьмы, должно быть, доставили его прямиком на телеграф. Мы должны были сразу же предвидеть это и послать силы, чтобы перехватить его до того, как он отправил сообщение. В свое время мы его поймаем, но это будет слишком поздно.
— То есть войска Ханнегана не перейдут Грейт-Ривер!
— Пока ты не предложишь ему заключить перемирие, мы будем оставаться в неведении, вождь Брам.
— Ты предлагаешь мне сыграть труса, Красная Борода?
— Конечно же нет! Ты должен сделать вид, что тебе этого не очень хочется. Дай ему понять, что действуешь по требованию Святого Сумасшедшего и что, если Тексарк тебя отвергнет, будешь только рад возобновить враждебные действия.
Коричневый Пони не мог отделаться от смутного ощущения, что Элтур считает его виновным за поведение близнеца Халтора, которое и привело его к гибели, но чувство это, скорее всего, базировалось на мнении отца Наступи-на-Змею — убийственный набег Халтора имел целью оповестить кардинала, который благоволил к христианам Диким Собакам и даже не советовался с Кузнечиками.
— Ваши племена, ваши воины, да и ты сам, вождь Брам, — самые мощные силы, которые мы можем выставить против Ханнегана.
Элтур с трудом понял его. Оксшо постарался перевести слова Коричневого Пони на диалект Кузнечиков, но результат оказался менее чем удовлетворительным.
— Мы — не твои силы, Красная Борода, — сказал предводитель Кузнечиков.
По пути они миновали дюжину вооруженных людей из Нового Иерусалима. Папская дорога была перекрыта силами Диона и патрулировалась ими. Когда мимо патрулей проезжала карета, они вставали во фрунт и салютовали ей. Скоро путешественники приблизились к месту назначения. Путь к жилищу Шарда представлял собой лишь тропу в кустарниках, что вела к Проходу козлов отпущения. Но люди магистра Диона сноровисто переоборудовали ее: кусты были выкорчеваны, в пятидесяти ярдах от папской трассы воздвигнуты баррикада из бревен и два блокпоста по бокам от расширившейся дороги. Повсюду стояли клубы пыли, поднимаемой людьми и лошадьми. Ветхие хижины уродцев были снесены под корень, на их месте появились бараки и другие бревенчатые строения. Были разгружены два каравана фургонов, которые теперь стояли готовые к отправке, а к югу уже уходило облачко пыли от третьего каравана. «Это Онму Кун», — подумал Коричневый Пони.
Едва Амен II покинул карету Элтура, к нему тут же подошли члены курии. Прощание с вождями Кочевников было кратким и уж никак не сердечным. Каждого из них окружила толпа вооруженных соплеменников; менее чем через час они были готовы сняться с места. Тайны Мятных гор больше не были тайнами, теперь колония открыто готовилась к войне.
Мэр подошел к группе кардиналов, с военной четкостью отсалютовал фигуре в белом и скользнул губами по кольцу папы. Он стал отвечать на вопросы еще до того, как услышал их.
— Телеграфную станцию удалось захватить. По словам пленников, которых мы взяли, Лойте там был и удрал. Разбойники на своих землях устроили засаду на кавалерийский отряд. Бандит, которого вы мне прислали, привел с собой сотню человек, которые не берут пленных. Наша легкая кавалерия с трудом пробилась ко второй станции, и по пути на соединение с нами они миновали партизан-Зайцев. Что относительно наших союзников на востоке?
— Пока еще они не получили известий о том, что здесь произошло, — пожал плечами Коричневый Пони. — Так что какое-то время бы будем оставаться в неведении, — он показал в сторону гор. — Открыт ли для нас этот путь?
— Конечно, Святой Отец. Форпосты сложены из бревен, все новые, и то время, что захотите тут оставаться, можете считать это своим третьим Римом, — он кивнул молодому человеку с такими длинными ногами и короткими руками, что его можно было бы счесть за уродца, но Дион представил его как своего сына; оказалось, он симпатичен и хорошо воспитан.
— Слоджон останется вашим гидом, пока в нем будет необходимость. Когда я был при армии, он руководил моей канцелярией.
Молодой человек поклонился и близоруко сощурился на кольцо папы, впрочем, не изъявив желания поцеловать его.
Пока они поднимались в горы в карете, еще недавно принадлежавшей мэру (тот приказал перекрасить дверцы, нанеся на них изображение папской тиары и скрещенных ключей), Коричневый Пони словно бы в глубоком раздумье продолжал рассматривать открывавшийся пейзаж. На этот раз Вушин занял место в карете рядом с дионовским Слоджоном, кардиналом Хиланом Блезом и матушкой Иридией Силентиа. С последней папа был знаком с того времени, когда первый Амен рукоположил ее в кардиналы, и она поблагодарила его за поддержку. Коричневый Пони признался, что не прикладывал к этому никаких стараний, но когда ее назначение состоялось, он от души поаплодировал.
По пути в горы она подняла тему о задержании Эдрии, но по мере того как они поднимались, Коричневому Пони становилось все труднее дышать, и он был не в состоянии что-либо сказать, дабы поддержать ее обращение к сыну Диона, он мог только улыбнуться и сделать жест в сторону молодого человека. Жест был настолько неопределенным, что каждый мог понимать его по-своему. Хилан Блез сменил тему, заговорив о проблемах курии.
Когда они прибыли в сердце общины, папа Амен II был в таком состоянии, что до новой резиденции его донесли на руках. Он попросил государственного секретаря отправить Чернозубу в Валану спешное послание, чтобы тот прислал копию рецепта достопочтенного Боэдуллуса. Затем он рухнул на пуховую перину и проспал шестнадцать часов. Перед зданием толпилась разочарованная толпа верующих, среди которых были и «Дети Папы» с нормальной внешностью — они надеялись получить апостольское благословение от их названного отца. Секретарь-кардинал Хилан Блез благословил их самолично и сказал, что они могут вернуться завтра.
Чернозуб Сент-Джордж так и не получил спешное послание своего понтифика, ибо когда оно прибыло в Валану, то было направлено в форт и его командир майор Элсуич Дж. Гливер расписался в получении за отсутствующего Чернозуба, но как-то забыл вручить ему послание. Он обратил на него внимание кардинала Чунтара Хадалы. Кардинал вскрыл и прочел его.
— После избрания наш Святой Отец вроде стал гурманом, — с ноткой презрения бросил Хадала. — Это всего лишь просьба прислать рецепт от какого-то повара Боэдуллуса.
— А может, это код? — предположил майор, пышущий здоровьем.
— Думаю, что нет. Если капрал Чернозуб обладает какой-то секретной информацией, папа вызвал бы его напрямую.
— Я слышал, что его святейшество посылал за ним.
— Где ты это слышал? — резко спросил кардинал.
— Ходили слухи. Может, он и сам их распространял, но кто-то сказал, что они идут от кардинала Науйотта.
— Проклятье. Мне придется поговорить с Сорели. Ты знаешь, мэр Дион не хотел видеть этого монаха в Новом Иерусалиме. У него были какие-то шашни с той девчонкой, что на подозрении, а папа, кстати, сейчас слишком зависит от мэра, чтобы идти на риск конфликта с ним. Я уверен, что Элия именно поэтому и не вызвал его. Кроме того, в Новом Иерусалиме ему не был нужен истолкователь при Кочевниках, даже если… — кардинал замолчал.
Майор посмотрел на него, подумав, уж не разница ли между истолкователем и переводчиком прервала нить его размышлений. Словно бы в подтверждение Хадала продолжил:
— Кроме того, тут нужен человек, который будет заниматься нашей перепиской с вождями Кочевников. По той же причине он, конечно, понадобится и Сорели. Именно по этой причине мы предложили произвести его в капралы и обеспечить ему достойное содержание. И я сомневаюсь, что какие-то слухи о его возвращении на службу к Коричневому Пони… м-м-м… то есть к папе, исходят от Науйотта.
— Что ж, буду держать его при деле, пока он вам не понадобится, — сказал Гливер. — В данный момент он служит в полиции. А затем, после завтрашних похорон, пойдет в увольнение.
— Лучше проследить за ним, а то он сорвется с них. Ему нельзя доверять. Коричневый Пони это знал. И не поручайте ему работу в городе. Наверное, он слишком щепетилен и не сможет убивать предателей.
Уборщица, которая являлась по понедельникам чистить одежду бывшего папы, мыть посуду и пол, обычно уходила, когда видела табличку «Я молюсь — уходите», но в этот понедельник, о котором идет речь, ее внимание привлекла лужица какой-то коричневатой жидкости, которая вытекала из-под дверей. Она осторожно постучалась, но никто не ответил. Она прикоснулась к ручке, и дверь открылась внутрь. Стояло тихое утро, и ее вопль донесся даже до противоположного холма. Оттуда откликнулись фермер и двое пастухов. Обезглавленное тело Амена Спеклберда лежало рядом с пюпитром для молитвенника, у которого он молился на коленях в тот момент, когда убийца нанес удар. Отрубленная голова ударилась о стенку и закатилась под стол. Он был мертв не менее двух дней.
Способ, которым он был обезглавлен — единственный мощный горизонтальный удар мечом, — тут же навлек подозрения на воинов желтой гвардии, но никто — ни Гай-Си, ни Вусо-Ло, ни Вушин — не покидал форт в течение той недели, когда произошло убийство, а все остальные сопровождали папу Амена II в Новый Иерусалим.
Чернозуб был одним из последних, кто видел папу Амена живым, и полиция дотошно допрашивала его, не возражая, впрочем, против присутствия его адвоката — священника, назначенного одним из кардиналов, чтобы защищать его интересы. Как выяснилось, полиция его не подозревала, но адвокат оказал ему существенную помощь, объяснив своеобразные религиозные отношения, которые сложились между монахом Лейбовица и отставным папой во время их молчаливого молитвенного бдения в резиденции Амена всего за несколько дней до убийства. Нимми проклинал себя. Он отказался действовать исходя из своей интуиции, когда они расставались, а ведь его обуревало чувство, что Спеклберду угрожает неминуемая опасность. Он забыл о своих тревогах, когда Улад сгреб его за шиворот и определил в ополчение, но был убежден, что Спеклберд все равно не прислушался бы к его предупреждению.
Полиция сомневалась, что его обуревало чувство вины; пока они так и не нашли подозреваемого, хотя тщательно проверили все население города, и любого горожанина, который не мог предъявить свидетельства о своем месте рождения, отправляли в фильтрационный лагерь, находившийся рядом с фортом. Пятнадцать известных участников террористических актов уже были расстреляны. Достоверно было установлено, что смертельный удар нанесен острой кавалерийской саблей, смахивающей на одно из знаменитых лезвий азиатских воинов. Нимми отпустили с миром, и его увольнение было продлено вплоть до похорон старика. Он хотел скрыться в Новом Иерусалиме, но был бы, конечно, пойман, и Коричневый Пони не принял бы его, вздумай он сбежать.
Тело Амена Спеклберда в окружении множества свечей было водружено на высокий катафалк в кафедральном соборе святого-Джона-в-изгнании, и все верующие, которые оставались в Валане после восстания и чисток, явились отдать дань уважения покойному; длинной медленной вереницей они проходили мимо тела бывшего папы. Помпезности и величия было меньше, чем если бы хоронили правящего папу, чувствовалась суматоха, но все это скорее было результатом исхода в Новый Иерусалим, а не его отставки и передачи папской власти кардиналу Коричневому Пони. Например, следователи выяснили, что никто из чиновников не перенимал у старика после отставки печатку с его кольца рыбака и две печати (одна для воска, другая для свинца); обычно такие печати, пока длится междуцарствие после смерти папы, ломает кардинал-камердинер. Использовались ли они после возвышения Коричневого Пони? После смерти у него с пальца было снято кольцо, но ополченцы обыскали весь дом и не нашли следа печатей. Украдены убийцей? И это, и другие странности вызывали сомнения в отношении многих документов, выпущенных во время понтификата Спеклберда, особенно в тех случаях, когда не удавалось разыскать живых свидетелей.
Встав в медленную очередь и дождавшись, когда подошел его черед, Чернозуб прошел мимо катафалка. Он заметил, что голова была отделена от туловища, но во всем остальном труп гораздо более напоминал папу, чем сам Спеклберд при жизни. Растрепанные седые волосы были аккуратно причесаны, глубокие морщины на лице замазаны гримом, а темная кожа слегка осветлена пудрой. Тем не менее в благовонной атмосфере церкви стал чувствоваться трупный запах. Захлебнувшись слезами, Нимми вышел на площадь.
Толпа редела. Многие из обожателей Амена Спеклберда были фанатично преданы святому старцу, и до сих пор на площади шли диспуты, насколько правомерны были его отставка и избрание Коричневого Пони; слышались даже предположения, что сам Коричневый Пони организовал убийство старика, чтобы упрочить свое положение на этом посту. Нимми послушал двух горцев, поддерживавших эту теорию, и гаркнул на них: «Вы, тупые идиоты! Тексарк только и хочет, чтобы вы в это верили!»
Они разозлились, и Нимми дал себя втянуть в драку. Схватку он выиграл, но за счет потери самоуважения, хотя на этот раз на нем была не коричневая монашеская ряса, а зеленая форма ополченца. Тем не менее его одобрительно похлопали по спине, и те жители Валаны, которые знали и любили нового папу, проводили его восторженными возгласами.
Ко времени похорон, которые состоялись на следующий день, сладковатые трупные миазмы перебивали даже густой запах ладана, которым был заполнен кафедральный собор; но впоследствии свидетели, привлеченные к процессу канонизации папы Амена I, утверждали, что от тела исходили небесные ароматы. Нимми все знал о чудесах обоняния, связанных со святыми мощами; так, от святого Лейбовица исходило благоухание жаркого на гриле, говорили его последователи. Он тоже пытался ощутить волшебные ароматы тела Амена Спеклберда, но, наверное, благоговение уступало грузу грехов, ибо он воспринимал только запах гниющей плоти.
Внезапно тело Амена Спеклберда село на катафалке и показало пальцем прямо на Чернозуба. Бакенбарды, как у кугуара, встали дыбом; он оскалил зубы. Нимми закрыл глаза, стараясь сдержать слезы. Когда он снова открыл их, труп лежал на месте и не пошевелился во время торжественной заупокойной мессы, которую отслужили шесть кардиналов, оставшихся в городе.
Даже во время похорон продолжалась «чистка» жителей Валаны. Когда Нимми вышел из церкви, он узнал, что число расстрелянных заговорщиков достигло восемнадцати и более тридцати горожан заключено в каземат рядом с фортом. Любой, кто был не в силах представить доказательства места своего рождения — то ли по документам, то ли с помощью свидетельских показаний — и если никто не свидетельствовал в его пользу, мог быть отправлен в бессрочное изгнание. Задержанный, у кого был хотя бы один враг в городе, мог быть обвинен в чем угодно и расстрелян. Сводились старые счеты. Такие дела рассматривал не гражданский и не церковный суд, а военный. Нимми резонно предположил, что большинство настоящих преступников покинули город сразу же после убийства, а суды дают выход чувству мести. И все же в деле об убийстве Амена Спеклберда у полиции не было ни одного подозреваемого.
Когда Валана прошла «чистку» и умиротворилась, никто не заводил разговоров о роспуске ополчения. У кардинала Чунтара Хадалы и его офицеров в Новом Иерусалиме были свои планы участия в сражениях назревающей войны, которые прояснились, когда пришли приказы объединить силы и в первых числах месяца, в полнолуние, выступить из города. К Диким Собакам поскакали курьеры, и вождь Оксшо откликнулся на просьбы, прислав трех проводников и сотню коней для безлошадных горожан Валаны, ставших солдатами. Чернозуб был приписан переводчиком при проводниках. Он убедился: они начисто игнорируют тот факт, что обязаны подчиняться приказам не папы, а Чунтара Хадалы, Сорели Науйотта и Элсуича Гливера. Он опасался говорить об этом, поскольку Науйотт всегда был близок к Коричневому Пони. Валанцы были настроены скептически и часто сетовали, что придется покинуть город и отдалиться от гор, но разговоров о каком-то сопротивлении не было.
Затем, первого июля, когда ополчение готовилось к маршу на восток для сопровождения четырнадцати фургонов с оружием, в Валану прискакал гонец от папской гвардии и прибил к дверям кафедрального собора и к стене папского дворца восьмистраничный документ с папской печатью, после чего проследовал в форт и оставил другой экземпляр на стенке караульного помещения.
Чернозуб знал, что историки будут называть этот документ по первым словам текста — Scitote Tirannum[95], и, уже после наступления темноты вернувшись в форт из увольнения, он при свете факела прочел на стене первые несколько абзацев:
«Амен II, епископ Римский, слуга слуг Божьих, всем искренне верующим в единую истинную Церковь, католическую и апостольскую, всем избранным детям Господа, вверенным попечению Нашему как наместника святого Петра, единственного пастыря Его Святой Церкви, — всем шлем Мы приветствие и наше апостольское благословение.
Да будет вам известно, что тирана Филлипео Тексаркского (Tirannum Phillipum Texarkanae) вместе с его дядей, бывшим кардиналом и архиепископом города Ханнегана (Civitatis Hanneganensis), которые в силу своих деяний ipso facto были отлучены от церкви, о чем заявил Наш предшественник, святой памяти Папа Амен I, ныне Мы объявляем врагами Господа и Его Святой Церкви, проклинаем, осуждаем, изгоняем и отвергаем от Тела Христова, и нет им спасения. В силу преступлений против человечества и Церкви, включая его подданных и их священнослужителей, мы объявляем Филлипео Харга смещенным с поста правителя; Мы освобождаем всех его бывших подданных от обетов послушания, данных ему, Мы побуждаем избрать вместо него законное правительство, и Мы призываем всех христиан не служить ему и не повиноваться ему. И пока тиран продолжает оставаться у власти, Мы призываем правителей христианских народов по всему континенту восстать против него с оружием в руках. И через Наших почтенных собратьев, их собственных епископов да получат Наше благословение их армии и их оружие.
И более того, любой верующий, кто изъявит желание взять оружие, дабы вести справедливую войну против еретика-тирана и его дяди, получит от Нас через своего исповедника полное отпущение грехов и освобождение от всех кар, которые могут настигнуть его на этом свете или в чистилище. И после исповеди его единственной епитимьей должна стать война против сил имперского тирана, и, случись ему погибнуть в битве, Мы, кто держит ключи от Царствия Небесного, откроем ему ворота их, чтобы он мог предстать перед Святым Престолом…»
Крестовый поход!
После двадцать третьего столетия это слово не употреблялось и не могло быть употреблено, но тут были все его характерные приметы. Папа говорил о героях, которые, следуя за распятием, идут в битву. Война будет вестись под знаком креста и будет осенена папским стягом. Церковь в Ханнеган-сити подверглась отлучению. Церковные суды приказано закрыть. Священникам запрещено служить мессы. Отменено приобщение к Святым Дарам, кроме последнего отпущения грехов. Клирики и миряне, которые не подчинятся этим карам, подлежат автоматическому отлучению от церкви. Приговор не распространяется на провинцию, кроме тех приходов, настоятели которых отказывались в прошлом подчиняться викариату Коричневого Пони и сохранили связи с архиепископатом Ханнеган-сити.
Уриона Бенефеза сам папа предал анафеме: «Анафема тебе, и от проклятия сего ты можешь быть освобожден только римским понтификом и лишь в случае смерти!»
Текст еще продолжался, но Чернозуб оторвался от его яростных строчек и при свете полной луны вернулся в казарму. Завтра предстояло выступать в дорогу. Его изумил тот факт, что это не был язык его бывшего господина, человека, который не торопился впадать во гнев.
— Чему ты удивляешься? — спросил Аберлотт. — Неужто раньше не слышал о крестовых походах?
— Да, но последняя священная крестовая война за веру была аж в двадцать третьем веке. И кроме того, булла — или как там она называется? — написана языком не Коричневого Пони.
— Так он уже не кардинал Коричневый Пони. Он папа Амен II. И может, на этом посту у него изменился язык.
— Похоже, он принадлежит кардиналу Хойдоку.
Аберлотт задумался.
— Почему бы и нет? Хойдок не рискнет возвращаться в Ханнеган-сити. Здесь его нет. Так что он, скорее всего, с папой. А кто лучше его может составить гневное обличение Харга и архиепископа? Сейчас он, наверное, секретарь папы по городским делам.
Из-за Эдрии стремление Нимми оказаться в Новом Иерусалиме не исчезло с концами, но заметно поблекло из-за тона буллы Scitote Tirannum. Он уже не был уверен, что хочет работать на ее автора.
Ранним утром большинство оставшихся в городе жителей высыпали на улицы провожать свою молодежь, которая верхами отправлялась на равнины, где их ждала война под командованием «привидений» из Нового Иерусалима. В рядах всадников были и младшие священнослужители в рясах, которые прочитали призыв к свержению тиранов. Перед лошадью майора Гливера ехал священник с воздетым распятием. Чернозуб заподозрил, что поддержка клира была организована одним из кардиналов. Религиозное действо в поддержку ополчения помешало публичному проявлению враждебности по отношению к чужим командирам, возглавлявшим его.
Солнце уже достигло зенита, когда Гливер объявил краткую остановку, чтобы поесть, освежиться и передохнуть. Когда колонна снова двинулась в путь, Улад послал во главу ее Чернозуба в роли переводчика. Только теперь, когда их не мог подслушать никто из гражданских, Гливер решился рассказать Кочевникам-проводникам о предполагаемом пути. И даже сейчас майор приказал подробности маршрута держать в секрете от всех, в том числе и от Кочевников любой орды, которых они могут встретить в пути.
— Отсюда мы двинемся на юго-восток, пока не доберемся до реки Кенсау. Вдоль нее мы будем ехать, пока она не повернет на северо-восток, а мы продолжим движение дальше на юго-восток, пока не выйдем к старым дамбам около Тулсе — оттуда лишь полдня пути до дороги, охраняемой тексаркскими патрулями. В этом месте мы проведем разведку и пошлем группу, которая проникнет в Уотчитах.
Чернозуб перевел сказанное Кочевникам-следопытам, и Гливер продолжил:
— Ко времени нашего прихода снова будет полнолуние. Наши братья по ту сторону границы организуют какой-нибудь инцидент, чтобы отвлечь патрули, а мы ночью проведем фургоны через границу. Если повезет, мы сможем, не вступая в бой, доставить вооружение людям в долине. Если же придется пробиваться с боем, то, значит, Ханнеган предвидел наше появление. Весь план требует секретности. О том, куда мы направляемся, не болтайте ни с кем из встречных Кочевников.
Вооруженные Кочевники покивали в знак понимания, но Чернозуб потом услышал, как они говорили, что если безродные видят войска, то продают сведения о передвижениях Кузнечиков тексаркским агентам. В последние дни июля в небе висела голубая луна, и поскольку караван фургонов в сопровождении отряда легкой кавалерии и пехоты шел по равнинам в направлении Уотчита-Ол’заркии и днем и ночью его нельзя было не заметить. Нимми и Кочевники ожидали нападения, только Нимми был готов увильнуть от него, поскольку его Эдрия все еще оставалась в тюрьме.
Весь замысел казался совершенно бредовым. Через неделю после ухода из Валаны их нагнал Сорели Науйотт. Он был измотан скачкой и немедленно улегся почивать в одном из фургонов. Лошадь, на которой он приехал, была отмечена тавром одной из семей Кочевников-курьеров, поэтому было ясно, что в погоне за ними он несколько раз менял лошадей. Почему он тут оказался? Чем эта экспедиция была так важна, что глава Секретариата присоединился к отряду? Еще до его появления Чернозуб предположил, что этот бессмысленный рейд валанского ополчения был замыслом Чунтара Хадалы и, поскольку его осудили, он решил дезертировать. Но Науйотт был ближайшим другом и союзником Коричневого Пони в курии, и его присутствие должно было подтвердить если не продуманность замысла, то его законность. Гай-Си и Вусо-Ло, произведенные в сержанты, были в составе экспедиции, их преданность Коричневому Пони не подвергалась никаким сомнениям. Пока они присматривали за окружающими, о дезертирах не могло быть и речи.
Ранним июльским утром, проходя мимо палатки кардиналов, Чернозуб подслушал негромкий разговор этих князей Церкви.
— …Мир — да, но мир во Христе! — говорил Хадала.
— Конечно, Коричневый Пони склонен к миру, — ответил его друг. — Так склонен, что его не волнует, сколько человек будет убито во имя его.
Чернозуб торопливо отошел, но все же его успели заметить — сразу же после этого разговора Сорели Науйотт стал подчеркнуто избегать его.
О, Санта Либрада! Свободы не видать!
Молись за нас!
Этой ночью ему приснилась раненая на войне женщина. Она была полупогребена в артиллерийской воронке на склоне холма. Густая струя крови медленно текла из раны в груди. Половина тела и правая рука были засыпаны землей, а свободная левая рука бессильно лежала в песке между камнями. Чернозуб взял ее за руку, чтобы проверить пульс. Биения сердца не чувствовалось, но рана на боку продолжала кровоточить, кровь текла безостановочно. Она впитывалась в песок, текла между камнями, и струя ее тянулась на десять футов по склону. Он оторвал длинный лоскут от подола рясы и попытался остановить кровотечение, но даже после того как он, наложив повязку, сосчитал до тысячи, кровь продолжала течь. Он попытался откопать женщину, но камень угрожающе сдвинулся, едва не придавив ее, и сверху скатилось несколько обломков, словно оползень готов вот-вот сдвинуться с места.
Скоро стало ясно, что кровь течет все обильнее, и наконец он убедился, что это не ее кровь, а, протекая сквозь тело, она течет откуда-то из глубин осевшего холма. И поддерживает в женщине жизнь. Спустя какое-то время раненая открыла глаза и посмотрела на Чернозуба.
В это мгновение она стала Эдрией. Она поднесла к его лицу левую руку, и он увидел располосованную ладонь, залитую кровью.
— Tengo ojos, no me moren.
— Tengo manos, no me tapen.
Теперь перед ним была Санта Либрада, снятая с креста.
Чернозуб в страхе отпрянул. Она зашипела, залилась багровым румянцем и попыталась укусить его. Она стала невестой Коричневого Пони, Стервятником Войны. На Чернозуба упала тень, и он поднял глаза. Перед ним стоял Элия Коричневый Пони в белой сутане и папской тиаре. Он брызнул на женщину святой водой, и она издала мучительный вопль.
Чернозуб всегда беспокойно спал под звездами.
Глава 23
«И да будет отведен в любое время года такой час, за обедом ли или за ужином, когда можно будет сказать, что не погас еще свет дня, а уже все сделано».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 41.Часть своего времени император отдавал науке. С помощью молодого профессора политологии, который к тому же был и популярным писателем, Филлипео Харг написал книгу. Книгу, увидев которую, Коричневый Пони без всякого удивления отослал в святую канцелярию Церкви. Там послушно присовокупили ее к Index Librorum Prohibitorum (Списку запрещенных книг), хотя на ней была печать кардинала архиепископа Тексаркского и ее предваряло предисловие монаха ордена святого Лейбовица, который в ущерб своей карьере согласился с владыкой империи, что восстановление Magna Civitas может быть достигнуто только с помощью светской науки и промышленности под покровительством светского государства, как бы этому ни противостояла и ни сопротивлялась религия. В этой книге было столько саморазоблачительной ереси, что святая канцелярия не стала ни нападать на нее, ни комментировать; работа эта пошла под индексом «Антицерковное сочинение». Ее автор был уже настолько проклят и предан анафеме, что дальнейшие проклятия из небесного Рима были бы просто смешны.
Тем не менее Филлипео все же был очень образованным человеком и среди всего прочего смог вернуть к жизни несколько старинных музыкальных сочинений, включая одно местного происхождения, мелодия которого, казалось, вполне подходила для национального гимна империи; ноты он опубликовал в своей книге. Мотив обрел широкую известность. Древний текст звучал по-английски, но неплох оказался и его перевод на ол’заркский. Он начинался словами: «Глаза Тексарка смотрят на тебя».
Правитель хотел, чтобы его подданные чувствовали: они под постоянным контролем.
Каждый священник империи, который прочел с кафедры буллу Scitote Tirannum с призывом к крестовому походу или подпал под публичное отлучение, наложенное папством Коричневого Пони на Церковь Тексарка (таких оказалось всего тринадцать человек), был арестован и обвинен в подстрекательстве к мятежу. В тюрьме к священникам присоединились и два епископа, которые, подчинившись булле, приостановили службы и исповеди в своих епископатах. Тем не менее в каждых шести из семи приходов империи религиозная жизнь продолжалась, словно папа Амен II не обмолвился ни словом. После стольких десятилетий папства в изгнании жители Ханнеган-сити и даже Нового Рима перестали воспринимать папу как реальное действующее лицо мира, в котором они существовали. Он был где-то далеко и в своем гневе подобен артисту на сцене, кроме того, зрители лишь читали рецензию, не видя самой пьесы. Средства массовой информации — главным образом это были газеты, поскольку телеграфная связь с западом не работала — держали их в курсе дела, но все СМИ в разной мере выражали симпатию почти абсолютному правителю государства.
К тому же тираноборческое воззвание — пусть даже намекалось, что оно снизошло из Царствия Небесного, — было самой малой из земных забот Филлипео: «Войска антипапы двинулись в поход, и антипапа пустил сокровища Церкви на вооружение диких Кочевников самым современным оружием, которое будет пущено в ход против цивилизации. Филлипео всегда называл его антипапой, хотя другого папы не существовало».
Филлипео стоял за возрождение Magna Civitas, а Коричневый Пони, антипапа, возражал ему. С точки зрения Ханнегана, все было просто. Коричневый Пони олицетворял войну прошлого против будущего. Он вооружил варваров и скоро направит их против святынь цивилизации, если не против самого города Ханнегана. Филлипео не сомневался, что сможет отстаивать город, пока не поступит новое оружие, после чего его силы отбросят «привидения» обратно в их Мятные горы, погонят Зайцев в юго-западные пустыни, выдавят Диких Собак на север за Реку страданий, дадут Кузнечикам возможность обосноваться на бывших землях Диких Собак, так что две северные орды будут вынуждены драться друг с другом за жизненное пространство.
Правитель империи надеялся привлечь на свою сторону Кочевников-изгоев, с этой целью и послал к ним экс-пирата. Адмирал и-Фондолаи обещал, что после победы к ним отойдут земли Кузнечиков. Филлипео сначала развеселился, услышав это, но по здравом размышлении решил, если получится, сдержать обещание, так необдуманно данное адмиралом. Если безродных переженить на фермерских женщинах и еще дать им вволю земли, они будут выращивать одомашненных коров, жить в крепких домах, торговать с городами и фермерами. В таких обстоятельствах их сообщество не превратится в орду. Скорее всего, запрет на ловлю диких лошадей уйдет в прошлое, если его не станут поддерживать Виджусы, но сами безродные, коль скоро осядут на земле, не будут придерживаться линии наследования по матери, принятой у диких Кочевников. Получив собственность, они будут отстаивать ее. В своих мечтах, подогреваемых близостью победы, правитель видел, как Кузнечики, Дикие Собаки и безродные ведут между собой бесконечные войны, а Зайцы, старающиеся вернуться с бесплодных пустынных земель, будут схвачены и направлены на восстановление разрушенного войной хозяйства.
Филлипео был более чем доволен своим адмиралом, чего не мог сказать о генералах. Когда генерал Голдэм явился в университет и потребовал от Тона Хилберта сотрудничества в деле обучения войск — как отравлять в провинции ручьи и родники и как заражать коров новыми болезнями, — тот отказался. Генерал Голдэм обратился в военное министерство, и Тона Хилберта призвали в тексаркскую армию рядовым. После чего рядовому был отдан приказ приступить к обучению. Хилберт проклял лично генерала, а затем и своего монарха. Генерал приказал посадить профессора в тюрьму за призыв к мятежу. Ханнеган вызвал генерала в свою штаб-квартиру, снял с поста и отправил в отставку с половинной пенсией. После чего поставил во главе проекта адмирала и-Фондолаи, он же Карпио Грабитель. Поскольку университетский ассистент Хилберта согласился обучать военных, как только это понадобится, профессор остался сидеть в тюрьме до тех пор, пока не извинится перед Ханнеганом. Но он не торопился приносить извинения.
Через три месяца после увольнения генерала Голдэма Филлипео с удовольствием принял парад образцового ударного батальона адмирала и-Фондолаи; тот сам, сидя верхом на коне, возглавлял его, проходя маршем перед трибуной. Правитель имперского города никогда еще не видел такого сборища головорезов за пределами тюремного двора. На вооружении у них было несколько дюжин стволов современного оружия, которые успели выйти из рук оружейников; оно придавало им такую силу, что сначала Филлипео колебался, давать ли на парад согласие. Карпио указал, что для эффективных действий главное — это огневая мощь, так что императору пришлось вручить самое современное оружие бандитам в волчьих шкурах и жеваной коже. Император наблюдал, как они шли под знаменем с изображением птицы на вертеле над огнем; рядом с ней были изображены и виджусский символ Стервятника Войны, и пара скрещенных ключей. При виде этого святотатства Филлипео от души расхохотался, пригласил старого пирата к себе на трибуну и наградил его древним титулом «Лучший пастух долин», который сохранился у Ханнеганов еще со времен их происхождения из Кочевников, но вышел из употребления после того, как Ханнеган IV упал с лошади.
Частично радость Филлипео объяснялась видом адмирала: бородатый пират в белоснежном адмиральском мундире, возглавлявший банду из трехсот грязных головорезов в лохматых шкурах, был просто восхитителен. После парада Филлипео не только наградил его титулом «вакеро»[96], но и произвел в фельдмаршалы. «Так что можете сами выбрать себе форму» — таковы были слова императора. Он позаботился, чтобы старый моряк был в курсе дела: когда он завершит то, что было запланировано, то станет главнокомандующим всеми тексаркскими силами. Великие равнины чем-то напоминали океан. Адмирал тоже это чувствовал и был энтузиастом грядущих войн.
С тех пор как Ханнеган IV упал с коня, в Тексарке не существовало четкой доктрины войн с Кочевниками, и адмиралу предстояло незамедлительно создать таковую. Равнины напоминали океан в том смысле, что на них некуда было скрыться и не существовало рельефа местности, на котором можно было организовать оборону. Большая часть земель к западу от границы строевого леса была доступна со всех сторон, но в то же время негостеприимна, как штормовое море. Кавалерийские схватки своей жестокостью напоминали абордажные бои, когда два судна сходятся борт к борту и на плаву остается только одно.
Адмирал трижды посетил в тюрьме Тона Хилберта. Он проинформировал правителя об этих визитах и об их цели; но, пообещав дать отчет о конечном результате, отказался рассказывать, как они проходили. Тюремщик рассказал правителю, что во время третьего визита адмирал и заключенный играли в старозаркские шахматы и говорили только о ходе партии. Эти встречи так ничего и не принесли, но Карпио хотел, чтобы Филлипео в любом случае выпустил профессора. Филлипео отказался. Извинения были ему не нужны, но с ними или без них Хилберт будет сидеть в тюрьме, пока сотрудничество университета с военными не даст удовлетворительных результатов.
— Болезнь Тона Хилберта дала о себе знать на юге, — сообщил ему командир. — Известно несколько случаев в армии Коричневого Пони, но эпидемией она стала только в провинции. С течением времени «привидения» и мятежные Зайцы потратят на борьбу с ней массу энергии. Скоро мы сможем перейти в контрнаступление.
— Наблюдались ли случаи заболевания среди наших войск?
— Нет. Как я вам докладывал, они каждый день пьют вакцину Хилберта. Вкус у нее ужасный, и она никому не нравится. Но существует приказ, что любой солдат, который подхватит болезнь Хилберта, будет немедленно расстрелян. Предотвращение ее распространения является весомой причиной.
Правитель смущенно поежился.
— Похоже не неоправданную жесткость.
— Да, если смотреть сквозь пальцы, то в самом деле похоже. Но карательные меры необходимы, чтобы предотвратить всеобщее заражение; только так можно заставить личный состав пить вакцину.
Пес Войны — это созвездие в небе Кочевников, но кроме того, так называлась мифическая собака владыки Пустое Небо. Этот древний герой вел Диких Собак в битву против Короля Фермеров. Кочевники всегда, когда в этом был практический смысл, бросали своих собак против врагов, но битва Пустого Неба была уникальна, ибо его собаками стали дикие псы, за что старухи-Виджусы избрали Пустое Небо вождем орды Диких Собак, хотя его сестра думала, что собаки просто сохраняют верность Ксесачу дри Вордару, кому все должны подчиняться. Тот факт, что орда Диких Собак предпочла его сопернику-человеку, говорил о том, что во главе сообщества обычно стоял пес и имел право требовать верности от людей — Диких Собак и от молодых женщин, которые чванились перед Кузнечиками. Именно это тщеславие порой приводило к дракам между соперничающими группами гуртовщиков северных орд.
Но Пес Войны продолжал оставаться мистической реальностью Кочевников, и Плывущий Лось начал свое правление в роли вождя с того, что приказал вернуться к старой практике подготовки боевых собак, которые сопровождали всадников в схватках с пехотой. Единственное право готовить таких боевых псов он дал семье жены своего брата. Таков был обычай у Кочевников — работой этой должен был заниматься его свояк Ветер-Козерог, который хорошо разбирался в ней. Ветер-Козерог велел всем подросткам своей большой семьи, разбившись на группы, искать логовища диких самок и таскать оттуда щенят. Собирать их он поручил сестре Элтура, дав распоряжение убивать самок только при самообороне и щенков младше шести недель не брать.
Меньшинство Виджусов считало, что воровать диких щенков — такое же преступление, как красть жеребят, но сестра Элтура всякий раз презрительно спрашивала их: «В чем же наше преступление? Хонгин Фуджис Вурн — это не Женщина Дикая Собака. Собаки принадлежат Пустому Небу, с которым говорил вождь. Мы даже не караем безродных, которые жарят щенят».
Дьявольский Свет ждал результатов через два месяца, так что Ветру-Козерогу пришлось отбирать в спутники всадникам всех мало-мальски подходящих собак, обладающих хоть каким-то опытом. Тридцати пяти бойцам, выразившим желание получить пса, были переданы тридцать пять собак, с которыми им предстояло работать и еще восемьдесят одна собака помладше продолжали обучение.
Проверить боевые качества собак в случайных стычках с тексаркской кавалерией не было никакой возможности, ибо собаки никогда не могли эффективно поддерживать только одну сторону, когда и с той, и с другой стороны дрались всадники. Собаки могли участвовать в кавалерийском налете на пехоту, но поскольку войны Кочевников чаще всего представляли собой ритуальные конфликты между ордами, со времен Хонгана Оса не имело смысла тратить средства на кормежку такого количества боевых собак — однако теперь Элтур предвидел сражения с регулярной армией Ханнегана. Дух подлинных войн, в которых действовали воедино человек, лошадь и собака, продолжал жить в племенах, и попытка Дьявольского Света возродить его сразу же стала популярной. Пустое Небо благословил его верховенство. Но любой тексаркский агент, говорящий на языке Кочевников, — здесь должен был быть как минимум один, — узнавший о подготовке боевых псов, не мог не знать, что собаки могут действовать только против сил пехоты, таких, как защитники империи. Они могли быть полезны при прорыве в Тексарк.
Его брату Халтору Браму, когда он прорвал пограничные укрепления Тексарка и едва не дошел до Нового Рима, были нужны такие собаки. С боевыми псами Халтор потерял бы лишь половину своих людей, пусть даже все собаки полегли бы. Когда человек, пес и лошадь объединены боевым духом, когда они могут назвать себя командой, собака становится смертельно опасным и преданным оружием. Человек обретает черты и лошади, и собаки. Собаки и кони очеловечиваются и начинают походить друг на друга. Возникает некое духовное единство, но, наверное, единственным человеком со стороны, который смог его заметить, был старый христианский шаман Диких Собак отец Омброз, человек, которым Элтур откровенно восхищался, хотя осуждал его влияние на шаманов Диких Собак. Восхваление союза человека, собаки и лошади было, по словам Омброза, священным обрядом Диких Собак. Монсеньор Сануал называл его «скотской формой присутствия дьявола», и Элтур Брам был польщен его оценкой.
Именно упоминание о Псе Войны спасло кардинала Чунтара Хадалу и его офицеров от смерти по решению военной партии Кузнечиков. Случай поднять эту тему представился на совете, созванном, когда до руководства Кузнечиков впервые дошли известия о вторжении Хадалы. Дьявольский Свет разозлился и изъявил полную готовность тут же напасть на кардинальские войска. При обсуждении на совете целей тех или иных действий, вождь Кузнечиков всегда предпочитал придерживаться жесткой линии, которая, по его мнению, получила бы оправдание старух. Но когда Элтур предложил убить Хадалу и всех прочих, кто будет сопротивляться захвату ополченских фургонов, именно его сестра, возражая ему, упомянула Пса Войны.
— Это законченное предательство, сестра, — прежде чем уступить, сказал Дьявольский Свет. — По плану Коричневого Пони «привидения» Мятных гор атакуют провинцию, а восточные союзники наносят удар с другого берега Грейт-Ривер. Кузнечики продолжают сохранять мир, пока Ханнеган не отведет войска, которые сейчас противостоят нам, для защиты своих союзников. А теперь из Валаны тащится армия этих фермерских клоунов, которая везет оружие в долину уродцев! Неужто Филлипео Харг не заметит их? Да любой безродный к югу отсюда успел увидеть их и постарается продать эту информацию Тексарку. Первый, кто успел, и получит вознаграждение.
— Да, и я думаю, — задумчиво сказала сестра, — хорошо ли уплатили тем безродным, которые сообщили Тексарку о твоих боевых псах. И смогут ли они вызвать у Ханнегана желание ослабить противостоящие нам силы. Нет, я не думаю, что стремление Кузнечиков к справедливости требует убивать дураков; оно требует развернуть их в обратный путь. Ты должен дать им право выбора: или они забирают оружие с собой, или сдают его тебе. И таково, мой вождь, общее требование Виджусов.
Боевой дух Элтура Брама сразу же пошел на убыль, что всегда случалось при столкновении с общим мнением Виджусов, пусть даже никто из поклонников духа Медведя не возражал. После совета Брам собрал восемьдесят своих бойцов и повел их на перехват конного ополчения горожан, чтобы отрезать их от гор. Его люди были вооружены и новым пятизарядным оружием, и традиционными копьями, но Элтур приказал прихватить с собой десять магазинных винтовок, чтобы издалека поражать офицеров, если горожане окажут сопротивление.
Затем он совершил действие, которое изменило весь ход войны. Он послал за Черным Глазом, который во время рейда Халтора Брама попал в плен. Ханнеган посадил его в тюрьму, где он встретил кардинала Коричневого Пони, но через месяц был отпущен, чтобы доставить послание Филлипео его орде. И Дьявольский Свет и император знали, что Черный Глаз — двойной агент, но в этом качестве он мог пригодиться им обоим.
— Сообщи своим «контактам» об экспедиции Хадалы, — сказал вождь, — чтобы они успели подготовиться к обороне в том районе. И скажи, что это я приказал тебе все рассказать им. И если они захотят узнать, почему я дал им знать, объясни, что я хочу прекращения вражды между Кузнечиками и Тексарком.
— Фермеры будут рады услышать эти слова, — хихикнул Черный Глаз. Незамедлительно оставив лагерь, он поскакал в сторону границы.
Дьявольский Свет не в полной мере обманывал своих союзников, ибо он и сам не был убежден в предательстве папы: ведь и Коричневого Пони просто могли обвести вокруг пальца и заставить пуститься на эту авантюру, хотя у него были толковые советники по делам Кочевников. Кое-кого из них прислал папе Святой Сумасшедший, владыка орд. Элтур высоко оценивал одного из секретарей папы, монаха Нуйиндена, переводчика с языков Кочевников, который так хорошо говорил на наречии Кузнечиков. Никто из них не позволил бы себе убеждать Коричневого Пони, что вторжение Чунтара Хадалы в страну Кочевников будет приемлемо для Кузнечиков, тем более что с военной точки зрения это сплошная глупость. Когда его безрассудная ярость при известии о вторжении несколько поутихла, Дьявольский Свет заявил, что против вторжения выступят его военные силы — не против крестоносцев под водительством папы, а против сброда, который ведут уж совсем полные лунатики.
Когда Коричневый Пони впервые услышал о миссии Хадалы, он и сам заорал, что это предательство, и его гнев обрушился на того, кто занял его место в Секретариате необычных духовных явлений. Папа не мог представить себе причин, почему Сорели Науйотт решил предать его или поддержать столь бездумный замысел — оказание помощи вооружением таким сомнительным союзникам, как подопечные Хадале уродцы долины. Скорее всего, это приведет к тому, что Тексарк укрепит свои западные границы. Хадала просто рехнулся в поддержке своей паствы, решил папа. Наверное, он пришел к заключению: если папа может вооружать Кочевников, то я могу вооружить подлинных «Детей Папы» — не «привидения» с Мятных гор, а уродцев Уотчитаха и Ол’зарка. Пусть предприятие смехотворно, но папа поймет преданность Хадалы своим людям, а не двойственность Сорели Науйотта.
Мысль, что его старый друг Сорели Науйотт может просто перейти на сторону врага, никогда не приходила папе в голову, пока на такую возможность не намекнул кардинал Эбрахо Линконо, школьный учитель из Нового Иерусалима, — ему было предложено присоединиться к курии потому, что он знал всех в этом народе, который сейчас играл роль хозяина, принимавшего папство.
— Но что же Филлипео Харг мог предложить такого, дабы Сорели Науйотт поддался искушению изменить нам? — захотел узнать папа Амен II.
— Может, папство? — предположил школьный учитель.
Пораженный соображениями Линконо, Коричневый Пони послал в Валану спешное сообщение с приказам кардиналу Сорели Науйотту и брату Сент-Джорджу немедленно явиться к нему. Упомянув в этом тексте Чернозуба, папа надеялся устранить подозрения, которые могли возникнуть у Сорели, если он в самом деле был виновен. Тем не менее через две недели посыльный вернулся с сообщением, что Чернозуб ушел вместе с валанским ополчением, а Сорели исчез вскоре после их отбытия. Новости оказались очень огорчительными для Коричневого Пони. Он вызвал к себе одного из Кочевников-курьеров и приказал ему нагнать ополченцев Хадалы и развернуть их обратно. Другого офицера курии он облек полномочиями при первой же встрече арестовать Науйотта, если тот появится на территории Кочевников, а также Хадалу, если он не подчинится приказу разворачиваться. Третьего посыльного он, опасаясь проклятий Дьявольского Света, отправил к вождю Кузнечиков с заверениями, что он не разрешал авантюру Хадалы.
Семьи Кочевников-курьеров — и Дикие Собаки, и Кузнечики — десятилетиями владели монополией на сеть пересадочных станций Высоких равнин, с помощью которых осуществляли почтовое сообщение между Валаной и Новым Иерусалимом. Хотя это не практиковалось у Кочевников, они содержали постоянные стоянки и гордились своим поголовьем лошадей. Воины, хихикая, просили показать им «полянки для пастьбы». Но у них были деньги, и они пускали их на то, чтобы прикупать лошадей у бродяг, чувствуя себя свободными от семейных обязательств, которые полагалось соблюдать и продавцам, и покупателям, особенно если продавцом была женщина из Кочевников, разводящая кобыл. Коричневый Пони всегда прибегал к их услугам, чтобы сноситься с вождями орд и руководителями племен. Теперь он использовал их, чтобы поддерживать связь с Ксесачем дри Вордаром, и воодушевил семьи обещанием поставить станции к северу от Реки страданий и далеко за пределами досягаемости тексаркских патрулей. Он уже послал сообщения королю Теннесси и нескольким другим правителям за Грейт-Ривер и ожидал новостей с этого фронта.
В Новый Иерусалим Коричневый Пони взял с собой двух верховых из Диких Собак и двух Кузнечиков, чтобы открыть отделение семейного бизнеса. После грубого отказа Науйотта подчиниться и бегства ему потребовались трое из них. Одному курьеру из Кузнечиков он вручил послание к Дьявольскому Свету. Оно «разрешало» Браму использовать папский ордер на арест двух князей Церкви, буде они появятся на его территории, а также требовало человеческих условий их содержания в тюрьме. Забыв на мгновение, что папа понимает их диалект, всадник-Кузнечик сказал своему родственнику:
— Вот уж наш вождь обрадуется, что у него есть новое право распоряжаться в своих владениях.
— Твоя семья могла бы выражаться в наш адрес не столь саркастически, — на достаточно приличном диалекте Кузнечиков сказал ему папа Амен. — Завтра ты должен передать это послание следующему курьеру из Диких Собак. Затем можешь отправляться домой. Когда окажешься на месте, пусть семья вышлет тебе замену, — он отвернулся от собеседника и обратился к всаднику из Диких Собак: — Завтра ты можешь оказаться дома и оттуда перешли Хадале мое послание. Таким путем оно скорее окажется у него. Диких Собак в стране Кузнечиков мы не можем наделять правом арестовывать. Но поручаем тебе арестовать Науйотта в любом другом месте, если увидишь его. Получи вознаграждение за него. Всем расскажи об этом.
Он повернулся ко второму Кузнечику:
— Преследуя Хадалу, ты, если потребуется, пройдешь весь путь до Ол’зарка. Передай ему такое же послание. Если он сразу же не подчинится и после вашей встречи продолжит движение, зачитай ему вслух седьмой параграф. В соответствии с ним, все последователи Хадалы, которые тут же не покинут его и не вернутся, будут отлучены от церкви. Имей при себе оружие, но для ареста обратись за помощью к своему вождю.
Затем папа с подчеркнутым вниманием уставился на автора саркастического замечания:
— Когда встречаешь человека, относительно которого не уверен, сможет ли он правильно воспользоваться законом, то чтобы избавить себя от лишних неприятностей, сам принимаешь законы.
Курьер, уже уволенный, ответил:
— Тем не менее у вашего святейшества могут быть неприятности, когда я передам вождю Элтуру ваши слова.
Не сводя с него взгляда, Коричневый Пони расхохотался.
— Ладно, можешь возвращаться, после того как передашь письмо для Брама. Порой нам может понадобиться хамоватый наездник со склонностью к шантажу. Старухи Кузнечиков растили дерзких жеребят и мальчишек.
— Может, вернусь, а может, и нет, — сказал курьер.
Военный эскорт и конвой с оружием и боеприпасами Чунтара Хадалы двигался быстрее, чем можно было предполагать. Стояли последние дни июля, и вот-вот должно было начаться новое полнолуние, но когда перед рассветом луна заходила за горизонт, оставляя мир в темноте, Чернозуб далеко на востоке видел точки огней. Они напоминали костры. Неужели фермеры жгут костры по ночам? Нимми знал, что 28-го числа с запада прибыл курьер с письмом для кардинала Хадалы. Он был неподдельно удивлен, увидев тут кардинала Науйотта. Конечно, кардинал-секретарь покинул Валану два дня спустя и отбыл ночью, так что никто в городе не знал, ни куда он направился, ни где находится. Курьер уехал, но письмо оказало такое воздействие на кардиналов, что они приказали еще более ускорить передвижение. Отряд двигался на восток вплоть до полуночи.
На следующее утро солнце встало над теми далекими холмами, где ночью Нимми заметил огни костров. За этими холмами лежали разбросанные поселения уродцев долины. Быстро перекусив сухарями с чаем, верховые ополченцы двинулись по направлению к ним.
Через два дня, перед самым закатом, их нагнал появившийся с запада вождь Кузнечиков с группой вооруженных всадников. Ополченцы уже разбивали лагерь. После совещания с кардиналами майор Гливер приказал составить фургоны в оборонительный порядок, а всем людям — расположиться за прикрытиями в ожидании атаки.
— Это какой-то бред, Нимми, — сказал Аберлотт. — Они же наши союзники.
— Просто не подчиняйся приказу открыть огонь. Я поговорю с ними, — Нимми покинул свое укрытие и направился навстречу приближающимся воинам Кузнечиков.
Он слышал, как орал майор Гливер, требуя его возвращения, и остановился, когда Кочевник вскинул ружье, целясь в него.
Дьявольский Свет сказал несколько слов, и ружье опустилось. Он узнал монаха и кивнул, подзывая его к себе.
В землю у ног Чернозуба воткнулась пуля. Она прилетела из-за его спины. Кочевник, который поднимал ружье, вскинул его снова и открыл ответный огонь. Обернувшись, Нимми увидел, что один из лейтенантов, стоявших рядом с Гливером, выронил револьвер и рухнул на землю.
— Ради Бога, перестаньте стрелять, вы, идиоты! — завопил Нимми.
— Я отдам тебя под суд и повешу! — закричал в ответ майор. За Гливером с мрачным видом стоял Чунтар Хадала.
Вождь Брам оставался как раз на границе досягаемости выстрелов и несколько минут ждал, пока монах не подошел к нему.
— Вы меня помните? — спросил Чернозуб. Брам кивнул.
— Но что слуга папы делает в обществе этих людей?
— Я уже не слуга папы. Мой господин покинул Валану без меня.
— Да, я это знаю. Я провожал его на юг на встречу с Дионом. Он думал, что ты бросил его. Это в самом деле так?
— Не совсем. Меня не было в городе, когда взорвался дворец. Когда я вернулся, папы уже не было, и меня отправили на службу в ополчение.
— Похоже, тебе не сообщали последние новости?
— Какие именно, вождь Брам?
Дьявольский Свет, не умеющий читать, протянул монаху письмо. Чернозуб с растущим разочарованием прочитал его, посмотрел на Элтура и повернулся в сторону кардиналов.
— Должно быть, кардинал Хадала получил точно такое же.
— Расскажи ему о том, что в нем сказано, и спроси, что он об этом думает. Затем скажи, что я не арестую его, если он продолжит путешествие на восток в одиночку.
— В одиночку? Не понимаю. А как же кардинал Науйотт?
Настала очередь Элтура удивляться.
— А он тоже здесь? Значит, они могут вдвоем отправляться на восток. Остальные останутся здесь.
— Все же не понимаю. Похоже, они ждут вашего нападения.
— Они ждут, что я их арестую. Разве в письме об этом не сказано? Но вот чего они не знают: я уже послал курьера к тексаркской пограничной страже. Враг знает, что вы приближаетесь, и знает, с чем. Единственный способ, которым Хадала может спасти оружие от Ханнегана, это передать его нам. А единственный способ, которым кардиналы могут спастись от меня, это сдаться тексаркским пограничникам. Вы, все остальные, отправитесь домой. Напомни им, что Хонган Осле Чиир сделал с Эситтом Лойте. Если придется арестовать их, то их ждет та же участь.
В письме, которое прочел Чернозуб, не говорилось ни слова о сдаче кардиналов в плен Ханнегану, но он предпочел не спорить. Когда он возвращался в лагерь, все смотрели на него, а Улад был готов его арестовать. В последний момент Нимми свернул, и между ним и сержантом оказалась группа рекрутов. Он быстро обратился к Аберлотту:
— У вождя есть приказ папы арестовать кардиналов. Если будем сопротивляться, всех отлучат от церкви. Враг тоже готов нас встретить, потому что Брам предупредил их. Расскажи это людям, особенно сержантам Гай-Си и Вусо-Ло. Скажи им, пусть молятся, и пусть Хадала увидит их за молитвой.
Чернозуб попытался, увильнув от Улада, добраться до кардиналов, но гигант оказался быстрее. Он преградил ему дорогу и заставил опуститься на колени. С тех пор как Сорели Науйотт присоединился к экспедиции, он подчеркнуто избегал Чернозуба и сейчас торопливо удалился. Чунтар Хадала склонился к монаху. Он сам был из уродцев, кожа его была покрыта пятнами разных оттенков коричневого цвета — обычная мутация, но, несмотря на это, он был красивым мужчиной с козлиной бородкой и длинными усами, которые когда-то были золотистыми.
— Итак, брат, поведай нам, о чем ты беседовал с предводителем Кочевников, — сказал апостольский викарий народа Уотчитаха.
— Ваше преосвященство не прикажет расстрелять парламентера?
— Никто не отправлял тебя парламентером! — фыркнул кардинал. — Так что майор может испытать желание расстрелять тебя. Итак, расскажи нам, что ты выяснил.
— Видели ли вы ночные костры на востоке, милорд?
— Да, это маячки, выставленные нашими людьми. Они знают, что мы здесь.
— Как и Тексарк. Вождь предупредил их, что вы приближаетесь. И это костры их кавалерии.
От высветленных пятен на скулах кардинала отхлынула кровь.
— То есть он продал нас врагам?
Чернозуб, боясь угроз, решил не упоминать напрямую указания из письма папы. У Хадалы была его копия.
— Он сказал, что не будет вас арестовывать, если вы сдадитесь тексаркским войскам. Остальным он приказывает передать ему оружие и убираться из его страны.
Хадала фыркнул и отправился искать Науйотта. Вскоре он вернулся с приказом.
— Отправляйся снова к нему. Пригласи на переговоры. Мы будем оставаться на открытом пространстве, где его люди видят нас. Если он придет один, то может быть при оружии. Как ты думаешь, достаточно ли будет моей клятвы, что ему не причинят никакого вреда и не захватят в плен?
Нимми задумался.
— Нет. Он может счесть это оскорблением.
— В таком случае предложи что-то лучшее.
Но вождь не стал отказываться от приглашения. Он взял у стоявшего рядом воина второй револьвер, привязал на поводок могучего мускулистого боевого пса, схватил монаха за шиворот и, приставив к его затылку ствол револьвера, двинулся к стоянке Хадалы.
— Я не собираюсь причинять тебе вред.
— Я не гожусь в заложники, вождь Брам. Они не станут переживать, если вы и убьете меня.
Когда они подошли к Хадале, Гливеру и проводнику из Кузнечиков, Элтур отпустил Чернозуба, спустил собаку с поводка и что-то быстро сказал псу, который начал рычать, глядя на кардинала.
— Если в меня выстрелят, пес разорвет вас.
Халтор отпустил в адрес Дьявольского Света ядовитое замечание за переговоры с врагом, и Чернозуб перевел его.
Вождь не обратил внимания на упрек кардинала. Брам махнул рукой в сторону востока и заговорил короткими фразами; в паузах между ними Чернозуб переводил.
— Эта дорога на восток будет открыта. Она идет от вашего лагеря вон к тем холмам — и на восход. Если на дороге покажется вооруженный человек, стреляйте в него. Если невооруженный — стреляйте в воздух. Но ты и другая красная шапка можете пройти. На восток. Возьмите с собой и других офицеров — кого хотите. Но без оружия. Красная Борода приказал мне задержать вас и арестовать. Но я вождь орды Кузнечиков. Здесь я отдаю приказы. Для меня папа — это Пустое Небо. Женщина Дикая Лошадь — моя сестра. Хонган Осле — мой господин, — широким жестом Дьявольский Свет обвел небо, землю и снова показал на северо-западные прерии, где стоял лагерем его господин. После паузы он торжественно продолжил: — Я, вождь этой страны, предлагаю вам гостеприимство Кузнечиков. Вы будете собирать сухой навоз для кухонного очага. По указанию женщин будете вывозить конское дерьмо. Они будут дразнить вас, но вас никто не тронет. Когда Красная Борода пришлет за вами, вам придется отправляться к нему. Если вы не примете наше гостеприимство, отправитесь в сторону востока. Без оружия и без охраны. Вас примут люди Ханнегана. Он будет рад заполучить вас.
— Включая майора Гливера? — мрачно спросил Хадала.
Нетерпение Элтура росло, и он заговорил более пространными фразами. Он ничего не знает о Гливере. Он уже сказал, что они могут взять с собой безоружных офицеров. Брам оскорбительно намекнул на тупость кардиналов. Когда он замолчал, Чернозуб ждал, что сейчас состоится подведение итогов, но ему пришлось перевести:
— Он говорит, что пусть майор Гливер сам избавится от оружия. Вождь поручит ему командовать людьми на обратном пути отсюда. Он говорит, что этот сброд быстрее покинет его прерии, если им будет кто-то командовать. Но если Гливер хочет сдаться Тексарку, он, вождь Брам, позволит ему уйти.
— Он знает, что наших людей примерно вчетверо больше, чем у него. Почему он считает…
— Что может остановить нас? Спросить у него?
— Спроси, считает ли он, что двое его людей могут справиться с семью нашими.
Когда Нимми перевел, вождь хмыкнул и отпустил несколько шуточек в адрес переводчика. Хадала разозлился.
— Что он сказал? Кончайте ваши личные разговоры.
— Он говорит, что семеро против двух было бы неплохо, если вы оставите свои фургоны без защиты. Ваши семеро человек с семью ружьями могут несколько дней без толку гоняться за его двумя бойцами с двумя ружьями, но вам придется расстаться с фургонами. Если вы вздумаете оборонять их, то будете прикованы к месту и помрете с голоду. И если вы как можно скорее не соберетесь с мыслями, явится Тексарк и отобьет фургоны.
— Это его слова или твои, брат Сент-Джордж? Осторожнее, не заходи слишком далеко, — сделав это предупреждение, Хадала заговорил медленно и раздельно, чтобы Нимми успевал переводить его слово в слово.
— Видите ли, мы не менее вас обеспокоены тем, что патрули могут перехватить фургоны по пути к цели. Так почему бы вам не оказать нам помощь? Ваши люди получат хорошее вооружение, и вам будут не нужны мои фургоны. Оккупированная территория впереди представляет лишь узкую полоску вдоль западной границы, что ведет на земли народа Уотчитаха. Она лишь чуть шире дороги со встречным движением. Подъездные пути патрулируются силами Тексарка, которые стремятся проникнуть в вашу страну. Внутренняя дорога под контролем таможенной службы долины, которая состоит из моих людей. Я сам возглавляю таможенную службу Церкви. Когда мы минуем тексаркских пограничников, то тут же получим помощь с той стороны, стоит им увидеть, кто мы такие. Если вы сможете помочь нам, сдерживая тексаркских конников, пока мы не проведем фургоны, то потом мы как можно быстрее унесем ноги.
— Ты еще один христианский военачальник? Еще один военный гений в красной шапке? Что-то вас многовато, — Чернозуб поймал себя на том, что не может не передавать саркастического тона Брама, хотя видел, что кардинал начинает закипать. — Но что может остановить тексаркскую кавалерию, если она решит ворваться прямо в сердце долины и отобрать у вас фургоны?
— Господи, да мы надеялись пройти ночью, они бы и не узнали. Но вы все погубили, предупредив их. А тот договор между…
Брам прервал объяснения Хадалы, издав боевой клич Кузнечиков. Кто-то крикнул, что на востоке показалось огромное облако пыли и это, наверное, отряд всадников.
— Они решили явиться самолично и захватить тебя, священник уродцев, — со зловещей ухмылкой сказал Брам. — А теперь мы уходим, чтобы не попасться им по пути. Ну разве тебе не повезло? Теперь ты можешь драться с ними, а не с нами.
Кочевники немедленно оседлали коней, и Чернозуб смотрел им вслед, когда они скакали на северо-запад. Он испытывал искушение помчаться вслед за ними, но Улад пригрозил, что всадит ему пулю в спину, если он еще раз нарушит присягу и дезертирует.
Хадала повернулся к нему.
— Какое у тебя мнение, брат капрал Сент-Джордж? — строго спросил он.
— Эта конница будет тут через пару минут. Таково мое мнение, ваше преподобие, — повернувшись, Чернозуб заторопился к фургонам. Рядом с ними стояли Сорели Науйотт и майор, наблюдая за встречей между Брамом и кардиналом Хадалой, но когда началась суматоха, Науйотт исчез из вида.
— Кардинал Хадала недоволен вами, рядовой Сент-Джордж! — рявкнул на него Гливер. — Доложитесь сержанту Уладу. Берите оружие — и в седло!
Хотя на нем все еще были шевроны капрала, Нимми заметил, что его без особых церемоний понизили в звании. Еще в начале дня майор орал на него, угрожая военно-полевым судом и виселицей, так что понижение в звании было вполне приемлемой заменой этого приговора. Тем не менее, когда Улад посмотрел на него, на лице великана отразилось желание незамедлительно его прикончить.
Заметив, что Кузнечики отступили, тексаркский командир остановил свой авангард как раз на расстоянии ружейного выстрела. Кавалеристы спешились. Кое-кто из них начал окапываться.
На том же расстоянии воины Дьявольского Света образовали полукруг к западу от позиции валанской бригады. Чернозуб не сомневался, что они вступят в бой, дабы оружие и боеприпасы не попали в руки имперских сил, но первыми не начнут сражение, пока силы Тексарка не нападут на Хадалу и его людей. Легкая кавалерия Валаны, ее необстрелянные войска и командиры из «привидений» оказались зажатыми между двумя мощными военным группировками.
Был вторник, 2 августа, и уже сгущались сумерки. Через час после заката солнца взошла луна. В этот час и исчез Сорели; к западу от тексаркских укреплений его никто не видел.
— Назревает мятеж, — при первой возможности шепнул Чернозубу Аберлотт. — Разве что удерет и кардинал уродцев.
Нимми отрицательно покачал головой.
— В Валане эти горожане еще могут поднять мятеж. Но не здесь, где они зажаты между двумя враждебными армиями.
Чунтар Хадала продолжал возглавлять свои войска. Сержант Улад пристрелил дезертира, который попытался ночью удрать к Кузнечикам. Когда тело притащили обратно в лагерь, выяснилось, что это был проводник кардинала родом из Кузнечиков, который решил снять с себя свои обязанности, вернувшись к соплеменникам.
Чернозуб сказал Аберлотту:
— Он был человеком вождя, а здесь все мы в его власти, но посмотри на сержанта, — монах помнил, как при их первой встрече в Валане Улад выказывал ненависть ко всем Кочевникам. А теперь, когда он прикончил одного из них, на лице его читалось не удовлетворение, а неподдельный страх.
Глава 24
«Если брат, который в силу собственных заблуждений оставил обитель, выражает желание вернуться в нее, пусть он первым делом пообещает полностью возместить тот ущерб, который он нанес своим уходом; а затем пусть займет самую нижнюю ступень послушания, что будет проверкой его смирения».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 29.Страх, мать ненависти, охватил все без исключения ополчение, но бежать было некуда. За их спинами стояли Кузнечики, перед ними — войска императора. Между ними был зажат Чунтар Хадала, в распоряжении которого были двое убийц, готовые уничтожать новобранцев, майор и Улад. Их можно было выкурить огнем, но стояла на редкость безветренная погода. Ночью кто-то неизвестный поджег траву, но поскольку воздух был тих и неподвижен, никого это не обеспокоило. Еще до рассвета Улад и трое крепких горожан вытащили из фургона две пушки и поставили их так, чтобы они смотрели на врага с восточной стороны. Выгрузив еще две, они разместили их против Кочевников. Вождь, понаблюдав за их стараниями, разделил свои силы на две равные группы. Одна переместилась севернее, а другая южнее, и теперь они охватывали силы Валаны с юго-запада и с северо-запада. Улад соответствующим образом перетащил артиллерию, но передвижения Кочевников дали понять, что пушки их не беспокоят. По словам вождя, путь на запад оставался широко открытым. Чернозуб считал, что принять это приглашение было бы единственным здравым выходом, но Чунтар Хадала твердо стоял на своем.
— Всем, кто раскаивается в своих грехах, я дарую отпущение, — оповестил он, на рассвете собрав войска, — во имя Отца, Сына и Святого Духа. И если вы погибнете в сражении во славу Божью и ради правого дела Святого Отца, то попадете прямо на небеса, минуя чистилище. Ныне я благословляю вас…
— И это говорит человек, — шепнул Аберлотт, — в кармане которого лежит отлучение от церкви.
Удивленный, что остальные новобранцы не встречают Хадалу презрительными возгласами, Чернозуб спросил:
— Ты не рассказывал всем остальным то, что я тебе сообщил?
Аберлотт покорно молчал. Нимми посмотрел ему в глаза и с горечью усмехнулся. Все знали, что Аберлотт был отъявленный лгун, ни одному слову которого нельзя верить. Кроме того, откуда ему было набраться смелости обвинять кардинала, пусть и за его спиной, ибо в конечном итоге любой мог ткнуть пальнем в Аберлотта и сказать: «Это я слышал от него». Что ж, Чернозубу надо было самому распространить эти известия, в крайнем случае — привлечь кого-то из желтой гвардии. Хотя сблизиться с ними было нелегко. Они были близки только с кардиналом Хадалой, как в свое время с Коричневым Пони.
Вода выдавалась порциями. Запасы вяленого мяса подходили к концу, и поскольку охотиться было невозможно, люди питались сухарями и бобами. Враг ждал, чтобы Хадала предпринял какие-то действия. Хадала ждал, чтобы уродцы из долины атаковали врага с тыла, но Чернозубу эти планы казались совершенно бессмысленными. На третий день противостояния на глазах у сил Валаны вождь Брам послал парламентера с белым флагом к тексаркскому командующему. Когда между вражескими силами начался оживленный обмен курьерами, кардинал пришел в ярость. По приказу Гливера несколько горожан стали выцеливать посыльных, но те держались поодаль, и их нельзя было снять даже метким выстрелом.
Этой ночью, как раз перед восходом луны, в лагерь проникли четырнадцать Кузнечиков, убили двух часовых и угнали большую часть лошадей. Когда встала ущербная луна, отряд тексаркской кавалерии, который бесшумно подкрался в темноте, оседлал коней и с воплями ворвался в лагерь, рубя всех налево и направо и стреляя из седельных револьверов. В свою очередь, несколько нападавших были убиты вооруженными ополченцами. С рассветом состоялись похороны восемнадцати убитых, на пяти из которых были тексаркские мундиры. Кроме того, было и семь раненых — но не смертельно. Аберлотт потерял мочку уха, отрубленную тексаркским палашом.
— А ты даже из-под одеяла не вылез, сукин сын, — сказал он Нимми.
— Мне казалось, что все это снится, — соврал Чернозуб. Потеря коней окончательно вывела Хадалу из себя. Он приказал пехоте атаковать позиции окопавшихся тексаркцев. Воздев крест, кардинал гордо возглавил штурмовой отряд; его красная шапка и сутана делали его соблазнительной мишенью. Майор Гливер пристрелил троих, которые отказались сняться с места. Три группы в зеленых мундирах, примкнув штыки к своим великолепным ружьям, двинулись вперед под прикрытием редкого огня из трех пушек. Улад, как всегда горя яростью, шел сразу же за кардинальским распятием, но постоянно оглядывался, проверяя, все ли держатся в строю. По мере того как атакующие подходили на дистанцию ружейного выстрела, они бледнели от ужаса и кое-кто падал всего лишь от звуков вражеских выстрелов. Нимми полуприкрыл глаза и возносил моления Святой Деве. Он был удивлен, что их не накрыло артиллерийским огнем из-за линии тексаркских войск.
Когда они миновали половину расстояния до вражеских позиций, он увидел земляные брустверы и срезанный дерн. Имперские войска стреляли в них из-за надежных прикрытий, и эффект был ужасающий. Примерно треть нападавших была выбита. Дважды Улад приказывал остановиться и вести прицельный огонь, но каждый раз головы врагов скрывались за брустверами.
— Ускорить шаг! Стрелять на ходу!
Строго говоря, это была пустая растрата боеприпасов, но, по крайней мере, враг не мог поднять головы. После пяти выстрелов пришлось замедлить движение, чтобы перезарядить ружья. Большинство прихватили с собой уже снаряженные барабаны, но пусть даже сменить барабан было быстрее, чем забивать патроны в гнезда, все же приходилось останавливаться, чтобы осторожно спустить курок. А стоящего на месте легко можно было взять на мушку.
— Смотри! Они отходят! Бегом, черт возьми, бегом!
Страх уступил место яростному воодушевлению, когда горожане убедились, что огонь из передней линии окопов прекратился, хотя издали продолжали раздаваться выстрелы.
— «Дети Папы»! Идет мой народ! — обернувшись, закричал Хадала. Он размахивал крестом как дубинкой, указывая на подножие холмов. — Они атакуют с тыла!
— Это объясняет, почему ядра не падали как град с неба, — сказал Нимми в забинтованное ухо Аберлотта. Его слова были неразличимы в грохоте ружейной канонады, но он добавил: — Может, кардинал уродцев и не такой идиот, каким мы его считали.
Но тексаркские войска не собирались сдаваться. Поскольку удар партизанских соединений из долины вынудил их прикрывать тылы, они отошли от линии атаки с запада, чтобы защитить с востока свою артиллерию. Но отступили не все. Едва ополченцы вскарабкались на первый бруствер, трое были поражены выстрелами.
Гливер приказал остановиться. Ясно было, что защитники укрепились во второй линии траншей. Но атакующие могли укрыться в занятой линии вражеских окопов, чтобы перекусить походным рационом и сделать несколько глотков воды из фляжек. Подняв глаза, Нимми увидел, что к нему по глубокой промоине подползает Гай-Си. Он прятался не от врагов, а от Хадалы и его офицеров.
— Это правда? — спросил азиатский воин, после того как внимательно огляделся по сторонам.
— Да, — ответил Нимми, — если ты услышал ее от Аберлотта.
Гай-Си мрачно кивнул и тем же путем уполз обратно. «Что-то должно случиться, — подумал Нимми, — но не сию минуту».
Солнце начала августа палило нещадно, но к середине дня с запада подул легкий ветерок. Чернозуб заметил, что беспокойные Кузнечики снова зашевелились. Кочевники, перестроившись, на этот раз разбились на три группы, которые расположились к северу, западу и югу от фургонов. Они по-прежнему оставались вне зоны досягаемости, хотя их силуэты мелькали на фоне дыма от костров, но группы с севера и с юга были готовы к фланговой атаке — то ли против Ханнегана, то ли против сил кардинала.
Казалось, огонь постепенно смещается к востоку. Горожане отметили возможные цели на поле боя и прикинули направления, по которым могут наступать или отходить отряды Кочевников; те, скорее всего, тоже наметили их.
Во время штурма второй линии окопов Нимми, старавшийся стрелять поверх голов, все-таки попал врагу в нижнюю половину туловища. Тексаркский солдат, выскочивший на Чернозуба, лежал ничком на песчаном бруствере, куда он рухнул, получив выстрел в живот. Уродец, уродец в тексаркской форме, с такой же, как у Хадалы, пятнистой кожей и обычными для них волосатыми ушами. Он смотрел снизу вверх на бывшего монаха, пытаясь разглядеть его сквозь просвеченное солнцем дымное облако. Руки его подползли к лицу и безвольно повисли в запястьях; он походил на щенка, который просит вкусный кусочек. Какой смысл сдаваться, когда у тебя разворочен живот? Он зажмурился, ожидая и надеясь услышать второй выстрел. Но Чернозуб не осмелился впустую тратить патрон из жалости; не было у него времени и перезарядить ружье, поскольку Улад с откровенным подозрением наблюдал за ним. Каждый раз, когда он ощущал такое напряжение, перед ним всплывало лицо Вушина и он вспоминал его слова: «Момент смерти — это всего лишь исчезающая капля росы, вспышка молнии; так и надо воспринимать ее, Нимми».
Приставив острие штыка к горлу раненого, Чернозуб перерезал ему сонную артерию. Молния лезвия, капля красной росы. Капля превратилась в струю. Оглянувшись, он отступил на шаг. У него перехватило горло и пересохло во рту; день был жарким, и в воздухе стоял дым от горящей травы.
«Каждый человек, каждое живое создание — это мир. И миров этих неисчислимое множество, друг мой. Каждый из них переплетается со всеми другими мирами в мириаде галактик, ибо нет никаких барьеров между мирами». Метафизика от палача? Для Топора религия была сродни боевому искусству. Чернозуб хотел поговорить на эту тему с Гай-Си или Вусо-Ло, но они всегда держались при кардинале и его офицерах, и он испугался, увидев, как Гай-Си подползает к нему.
«Словно я только что перерезал собственное горло, — подумал он, глядя на труп. — Вот, значит, как выглядит убийство в глазах убийцы. Святая Матерь Божья, прости меня, но я даже не очень переживаю».
Сержант Улад все еще смотрел на него с левого фланга, качая головой. Должно быть, он видел, как Нимми не колебался и не дрогнул. Но он с подозрением относился к его набожности. Из-за спины Улада показались два человека. На бруствер вскарабкался капрал Виктрос, ведя за собой атакующую группу.
Песчаный откос боком выходил к уходящей в сторону, хорошо вскопанной, но уже бесполезной противопожарной полосе. Поднявшись на бруствер, Чернозуб стал внимательно рассматривать местность, но патруля не было видно. Почему? Тут было самое лучшее место, чтобы закрепиться и драться, — разве что они не выдержали огня Валаны. Или, что скорее всего, перебрались в более надежное укрытие, зная, что в партизанском налете уродцам не удастся захватить их артиллерию. Стоя на бруствере, он посмотрел назад, в сторону фургонов. Что случилось с теми, кто охранял их? Вдали он видел Кочевников, но рядом с фургонами не было ни одного ополченца. Поскольку при них не было лошадей, их все равно можно считать потерянными.
Где-то на севере высокая трава горела сильнее. Там скрещивались ветры со всех сторон, и подножие холмов на северо-востоке было затянуто густым дымом, но они все еще стояли с подветренной стороны, хотя направление бриза стало меняться. До Чернозуба донесся запах дыма, и он видел, как далекие фигуры всадников на северной стороне двинулись к западу, уходя с пути огня. Если ветер сменит направление, фургоны окажутся в опасности. Он показал Уладу, что враг скрылся. Они вылезли на песчаный откос и осторожно, прячась в спасительных тенях, падавших от холмиков, двинулись вперед по бескрайнему травянистому океану.
Расположившись на вершине холма к югу от места сражения, вождь Кузнечиков видел, что часть битвы разворачивается вокруг позиций тексаркской артиллерии. У Тексарка возникли временные трудности, чему вождь был только рад. Дьявольский Свет надеялся оказать воздействие на исход боя, время от времени производя угрожающие перемещения своих бойцов, но на самом деле не подставляя их под огонь. В данный момент его единственным желанием было не позволить захватить фургоны кому-либо, ибо он надеялся сделать это сам, хотя даже без них Кузнечики не испытывали острой нужды в дополнительных боеприпасах, а в арсенале орды было вдосталь новых ружей. Он был не против того, чтобы уродцы получили новое вооружение, если это окажется возможным. Похоже, сейчас складывается именно такая обстановка. Ясно, что силам Тексарка приходится отбиваться и от удара с тыла. Этот факт удивил его не меньше, чем тексаркцев.
Дьявольский Свет предупредил их об экспедиции Хадалы, но доверие к нему имело свои пределы: в тот район, где горожане, по его словам, попытаются пересечь границу, Тексарк послал лишь два кавалерийских отряда, два эскадрона легкой кавалерии и несколько пушек. Элтура удивило, что многие из тексаркских новобранцев были уродцами, призванными из долины. Они не ожидали удара с тыла и не подготовились к нему как следует. Теперь им остается лишь сожалеть, что отнеслись к его словам без должной серьезности. Может, в следующий раз они будут больше доверять ему. Когда он послал им парламентера с белым флагом, они вежливо выслушали рассказ о содержимом фургонов и дали понять, что если он подтвердится, у них не будет оснований для враждебности. Кроме того, он предупредил тексаркского командующего, что собирается угнать лошадей у горожан. Относительно фургонов тот дал вежливый, но уклончивый ответ, а услышав о готовящейся краже лошадей, лишь усмехнулся. В такой ситуации Дьявольский Свет воздерживался от нападения на своих давних врагов. Главное, чтобы они не захватили оружие.
Но ничего не мешало ему получать удовольствие от зрелища развертывавшегося перед ним конфликта, пока не пришло сообщение от разведчиков с юго-западного фланга, к которому приближалась банда безродных. Но они остановились в нескольких минутах езды, заняв верхушку холма. Браму они меньше всего были нужны, ибо разбойники тоже нацелились захватить оружие. Он знал, что многие из них, болтавшиеся в южной части земель Диких Собак, получили оружие от Диона и были брошены против его врагов в провинции, но эти отщепенцы не участвовали в тех боях, и если им удастся прибрать к рукам новое оружие, они с равной охотой будут палить и по его людям, и по тексаркцам, но скорее всего, они продадут это потрясающее оружие Ханнегану, который не торопится заполучить его.
Хотя это могло на какое-то время смазать его представление о бое, он решил оттянуть свой отряд с севера, к которому с тыла уже начал подбираться огонь, затем обойти позицию горожан, после чего снова объединить все свои силы и поставить их между ополчением и разбойниками. Командирам тоже придется кое о чем подумать, и огонь станет союзником Кузнечиков, как гласит его семейный девиз, который Брам вспомнил, разжигая пожар. Когда он ехал на запад между валанцами и своими людьми, то с одобрением заметил, что похищенные лошади, таскавшие фургоны, спрятаны за противоположным скатом гребня. Кони его бойцов были изрядно измотаны, так что лошади этих травоядных существенно повлияли на его планы. Он послал курьера к своему брату, стоявшему к западу от него, с приказом бдительно охранять лошадей и выслать на соединение с главными силами Элтура остальных бойцов.
Солнце уже клонилось к закату, когда враг возобновил огонь, и первым из павших оказался кардинал Хадала. Элсуич Гливер кинулся к нему, осмотрел рану, которая, как оказалось, была получена в спину, и повернулся в сторону своих людей. На этот раз Чернозуб увидел, как Гай-Си вскинул револьвер и влепил майору Гливеру пулю в лоб. Сзади раздался пронзительный вопль. Это был голос Улада. В воздух взметнулось окровавленное лезвие меча Вусо-Ло и снова опустилось. Младшие офицеры гневно завопили.
Чернозуб Сент-Джордж отбросил ружье, сорвал с трупа револьвер и, спасая свою жизнь, кинулся бежать в южную сторону. В землю у его ног врезалась пуля, но он так и не понял, с какой из трех сторон по нему стреляли.
Обогнув склон холма, он увидел под скалой широкий проход, в котором, скорее всего, кто-то обитал. Он был достаточно велик, и Чернозуб ногами вперед скользнул в него, истово моля Бога, чтобы хозяина не оказалось на месте. Туннель полого уходил книзу и был глубже, чем он предполагал. Притормозив скольжение, он оказался в двух футах от входного отверстия, в которое падал солнечный свет. Ступней, перетянутой ремешками сандалий, он почувствовал, как уперся во что-то покрытое мехом; маленькие острые зубки цапнули его за большой палец. Он лягнул ногой. Чья-то другая пасть стала жевать ремешки сандалий. «Господи, я же попал в логово кугуара, и меня ждет неминуемая смерть!»
День его смерти ничем не отличался от любого другого дня. «Идет война, и (О святой Лейбовиц!) в этой пещере я отнюдь не чувствую себя пророком Даниилом в клетке со львами. Это мой последний день, и что же я унесу в памяти! На той неделе разразилась гроза, и я видел мокрое тело солдата, пораженного ударом молнии. В прошлом году циклон унес жизни семнадцати мирных крестьян-Кузнечиков. Затем пошла саранча, саранча, са-ран-ча, и зима оставила по себе замерзшие изможденные трупы. День как и все прочие», — отметил он, когда пуля срикошетировала от скалы над головой. Мятый кусочек свинца упал Чернозубу на пояс, и он поднес его к тусклому свету, чтобы получше рассмотреть. Пуля была выпущена не из оружия валанцев или Кузнечиков; это был катыш от мушкета, которыми пользовались силы Тексарка или разбойники. Теперь он в полной мере осознал, где находятся враги. Он посмотрел, что у него делается под ногами, и отпихнул детенышей. Зубы у них были сущими иголками. Куда делась их мать? Наверно, ее спугнул огонь. Он тоже опасался огня.
— Если будем сидеть здесь, то задохнемся до смерти, — сказал он детенышам кугуара.
Пока Нимми, охваченный страхом, жалел себя, забыв, что он чувствовал совсем недавно, убив человека, какой-то силуэт заслонил свет, падавший из прохода. Он приготовился к смерти. «Богородица, Матерь Божья, смилуйся надо мной…»
— Эй! Кто там внизу? — слова были сказаны на языке Скалистых гор, но в них чувствовался азиатский акцент. Подняв глаза, Нимми увидел, что ему в лицо смотрит ствол ружья.
— Не стреляй! Здесь я, Чернозуб. Безопасно ли вылезти отсюда?
— Пока еще опасность повсюду, — сказал Гай-Си, — и огонь приближается. Дай мне руку.
Нимми вытащил из штанины разыгравшегося котенка и пополз наверх, к свету позднего дня, затянутого дымной завесой. Грохот боя стихал, если не считать восточного фланга, где силы Тексарка продолжали отбивать атаки уродцев, рвущихся завладеть оружием. Воин и монах выползли на гребень холма и, лежа на земле, стали осматриваться. Они увидели тела Чунтара Хадалы и майора Гливера; обоих убил Гай-Си, который, как и Вушин, был готов уничтожить любого, кто предаст его суверена.
— Где Вусо-Ло?
— Улад застрелил его, когда увидел, что я казнил врагов нашего хозяина.
— Но я заметил…
— Мой брат прожил еще достаточно долго, чтобы убить своего убийцу.
Нимми заметил, что воины Кузнечиков торопливо запрягали в три фургона угнанных лошадей, стараясь оттащить груз подальше, поскольку полоса огня угрожающе приближалась. Защитники фургонов, рассыпавшись, вели рассеянный огонь по пехоте. Валанское ополчение было раздавлено обилием погибших, дезертиров и отсутствием командиров. С востока к месту боя направлялась тексаркская кавалерия, но двигалась она с осторожностью, ибо к югу за гребнем холма стояли главные силы Дьявольского Света, а с севера подступал огонь. В полумиле от места, где они лежали, на вершину хребта забрался тексаркский пехотинец, чтобы понаблюдать за порядком боевых сил Кузнечиков. Гай-Си откатился в сторону, вскинул ружье, взял высокий прицел и выстрелил. Попасть в цель было невозможно, но пуля легла так близко, что испугала лошадь наблюдателя и встревожила Кузнечика, который тоже открыл огонь по разведчику. Тот ретировался. Гай-Си встал и посмотрел на юг. В поле зрения были воины Элтура. Увидев человека в форме ополчения, они не стали стрелять.
— Посмотри! — показал пальцем Гай-Си. — Кто-то убил большую кошку.
Чернозуб, стоявший рядом с ним, пошел посмотреть. Животное лежало на камнях в двадцати ярдах от них. Это была самка кугуара.
— Идем, — сказал он Гай-Си и вернулся в пещеру кугуара. Вскоре они вытащили из нее котят, но к ним подъехали верхами трое Кочевников с ружьями наготове.
— Бросайте оружие, горожане! — потребовали они на языке Кузнечиков. — Сдавайтесь!
Они подчинились, но Нимми улыбнулся, услышав вежливое обращение «горожане», и ответил на том же языке:
— Вам стоит знать, что фургоны окружены пехотой. Мы охотно сдадимся, но чтобы вернуться домой, нам понадобится оружие.
Один из всадников поднялся на вершину. Другой спешился и взял оружие. Разрядив его, он обратился к Чернозубу:
— Ты тот человек, который вышел разговаривать с вождем. Он сказал, что ты слуга самого большого христианского шамана. Это так?
— Выходит, что так.
Воин вернул ему разряженный револьвер и протянул Гай-Си ружье с пустой обоймой.
— А ты тот, кто убил кардинала и майора. Да?
Гай-Си кивнул. Второй воин спустился с вершины.
— Пора сообщить вождю Элтуру, — сказал он, — что пришло время атаки. Двинулись!
Воины ускакали, оставив их спускаться пешком с разряженным оружием. Как только всадники вернулись к своим, основная масса Кочевников разделилась на две группы; одна, подъехав к подножию возвышенности, спешилась и пешком поднялась наверх, где лучшие стрелки, прижавшись к земле, заняли огневые позиции. Поскольку с юга тянулся густой дым, а снайперы не торопились открывать огонь, Нимми пришел к выводу, что он грянет, лишь когда кавалерия рванется к фургонам. Каждый раз, как пехотинец поднимался на гребень к востоку от разведчиков, он открывал огонь в сторону основных сил Кочевников. Скорее всего, командование тексаркских сил, прежде чем двинуться на запад, хотело бы перевалить через хребет, но присутствие Кузнечиков сделало это невозможным. Наконец часть фургонов под управлением Кочевников лошади валанцев оттащили к западу. Остальным предстояло в ближайшем времени стать жертвой огня, если их не успеют захватить тексаркцы.
На закате огонь вплотную подошел к оставшимся фургонам; они загорелись, и часть боеприпасов стала взрываться. Горели и тела погибших, но в сумерках ветер стих, и пожарище не перекинулось по ту сторону хребта. Вождь Брам согнал в кучу всех уцелевших ополченцев и приказал накормить тех, кто сложил оружие. Тех же, кто отказывался сдаваться — среди них большую часть составляли офицеры из «привидений», которые боялись мести со стороны валанских призывников, — он приказал перебить. Своим воинам он велел обращаться с военнопленными вежливо, но вышедшие из боя Кузнечики были настолько полны издевательской злости к фермерам, что удобства последних их совершенно не волновали. Еды было мало, да и ту швыряли прямо на землю. Один из солдат одолжил Нимми кожаный мешок, достаточно вместительный, чтобы засунуть туда трех маленьких кугуаров, но потом стал утверждать, что монах украл его. В наличии было не более сорока вымотанных пленников, но часть дезертиров, наверное, смогла избежать плена и у тексаркцев, и у Кочевников.
Увидев Нимми, Дьявольский Свет подозвал его и назначил при себе переводчиком. Потом он посмотрел на играющих котят, улыбнулся и вернул монаху револьвер и боеприпасы. Нимми немедленно попросил разрешения вернуть оружие и Гай-Си.
— Я слишком плохо вижу, чтобы попасть в кого-то. Человека я убил по ошибке, поскольку стрелял мимо.
После короткого разговора с Чернозубом, касавшегося его неизменной верности Коричневому Пони, Элтур послал за Гай-Си и лично вернул ему оружие. Затем, подняв голову, он вгляделся в дымное небо.
— Явилась жена твоего папы. Смотри. Сестра Дневной Девы.
Высоко в небе огромная птица описывала круги над полем боя. В лучах заходящего солнца, пробивавшихся сквозь дымовую завесу, стервятник казался кроваво-красным. К нему присоединились и другие птицы. По контрасту они казались маленькими и темными, но, может, они держались значительно выше.
— Это означает, что битва окончена.
Нимми и Гай-Си хранили мрачное молчание.
— Завтра мы уходим к вигвамам моего племени, — сказал Брам. — Раненые могут оставаться здесь, пока не оправятся. Остальных доставят на запад, где Ксесач дри Вордар Хонган Осле Чиир решит вашу судьбу. Затем, как я представляю, вас препроводят обратно в Валану или же, как в твоем случае, Нуйинден, к твоему Коричневому Пони. Передай это остальным. Скажи, что они могут отправляться в путь вместе с нами или же попадут в руки безродных. Мы захватили достаточно лошадей Хадалы, чтобы вы могли ехать верхом.
Дьявольский Свет держался довольно дружелюбно, и Нимми осмелился спросить:
— Довольны ли вы сегодняшними результатами, вождь Брам?
— Баррегану не достанутся в пищу тела павших Кузнечиков; я не потерял ни одного человека, — сказал предводитель Кочевников. — Мы захватили пять фургонов, груженных ружьями и револьверами, прежде чем они сгорели или до них добрались безродные. Фургоны с боеприпасами взорвались. Тексарк, должно быть, перехватил пять фургонов с оружием, которые успели выскочить из огня. Но эти ружья ни на что не годны.
— Может, они не годятся как ружья, но Тексарк может использовать их как образцы для копирования, — предположил Нимми.
— Ты так думаешь? И сколько же времени, по-твоему, это займет?
— Не знаю. Может, несколько месяцев.
— Меня беспокоит кое-что другое, Нуйинден, — сказал Элтур. — Ты знаешь, что среди тексаркцев было много уродцев?
Нимми нахмурился.
— Человек, которого я убил, был одним из них! Это удивило меня. Похоже, что император или перетянул на свою сторону здоровых уродцев из долины, или же привлек их как наемников. Из чего можно сделать вывод, что ему не хватает людской силы.
— Или же что он, как мы надеемся, послал часть своих главных сил к востоку от Грейт-Ривер. Что привело к расколу среди тексаркцев. Мои курьеры рассказывали об этом. Ты понимаешь, почему?
— Думаю, что да. Кардинал Хадала ждал, что силы из долины ударят по пехоте сзади. Когда они так и сделали, войска уродцев, по всей видимости, отказались драться. Может, именно поэтому они и отступили перед нами.
Элтур фыркнул.
— Из вас, горожан, получаются хорошие трупы, но плохие убийцы. Тут должна быть какая-то причина. Завтра мы обязаны добраться до семей посыльных и отправить их с известиями о сегодняшних событиях к владыке орд и к твоему папе. Если хочешь, можешь и сам написать Коричневому Пони — все, что хотел бы ему сказать.
— Конечно! Вы сможете все прочесть сами.
Дьявольский Свет издал презрительный смешок и отъехал. У Чернозуба запылало лицо. Он совершенно забыл, что вождь неграмотен.
Чернозуб приготовился писать на выделанной коровьей шкуре, используя в качестве чернил смесь крови и сажи, но в семье посыльных, к которым Брам на следующее утро отправил его, для таких случаев были и бумага, и письменные принадлежности, хотя сами они были практически неграмотными. Писал Чернозуб торопливо, ибо вождь спешил скорее оказаться при своем племени и со своей семьей.
«Я понимаю, что вождь Элтур Брам уже послал вам устный отчет о состоявшейся битве, и мне нечего добавить к его словам. Хотя большая часть оружия досталась силам Кузнечиков, тексаркские войска захватили часть его, сохранившуюся в огне, и, пусть даже оно пришло в негодность, оружейники Ханнегана смогут многое уяснить после изучения конструкции.
Мне стыдно, Святой Отец, что я не был рядом с вами в те времена, когда вам угрожала опасность. Когда вы покидали Валану, я пребывал в обществе покойного Папы, а затем попал в руки тех, кто вас предал. Кардинал Сорели Науйотт нашел убежище в Тексарке. Кардинал Чунтар Хадала был казнен братом Гай-Си, когда узнал, что тот совершил государственную измену по отношению к Вашему Святейшеству. Многие горожане впустую сложили свои головы в этом сражении. Тело мое не пострадало, но душа тяжко ранена, ибо я убил человека.
Я получил приглашение остаться у своих дальних родственников среди Кузнечиков (да, вождь знает, кто они такие) в его племени и пребывать там в ожидании указаний Вашего Святейшества, аббата Олшуэна и Секретариата, о моих будущих обязанностях и целях. Вождь Брам хочет, чтобы тем временем я взял на себя функции преподавателя при его племянниках. Меня бы вполне устроила эта работа, но без книг, без соответствующих письменных принадлежностей справиться с ней будет затруднительно.
И снова я прошу вашего прощения за самовольную отлучку, когда я был вам так нужен. Я с благодарностью приму и исполню любое наказание, которое Ваше Святейшество сочтет возможным наложить на меня.
Ваш недостойный слуга Нуйинден (Чернозуб), опоздавший из увольнения».
Лошади посыльных были быстры, и к тому же их часто меняли. В конце августа приближалось полнолуние, и курьеры скакали даже по ночам. Тем не менее Нимми был удивлен скоростью, с которой от Коричневого Пони поступил ответ. Он был очень прост. «Почти своим присутствием праздник убоя скота и сразу же приезжай», — всего три недели назад изрек папа Амен II.
Родственники безжалостно издевались над ним, что он присоединился к четырнадцатилетним подросткам, которым предстояло пройти обряд посвящения в мужчины на празднестве, которое обычно занимает несколько дней последнего летнего полнолуния.
— Если выдержишь обряд, тебя перестанут звать Нимми, — сказала ему праправнучка его собственной прапрапрабабушки.
— Спасибо, но первым, кто так назвал меня, был Святой Сумасшедший, владыка орд, и он вовсе не собирался меня обидеть. Я ведь не воин и не Кочевник.
Это был тот самый праздник, обычное время которого в прошлом году было перенесено, ибо совпало с похоронами Сломанной Ноги. Примерно в эти же дни фермеры отмечали праздник уборки урожая, а для Кочевников он означал приход времени забоя старых и слабых коров, которые не переживут зиму. Женщины отобрали лошадей, не годных ни для войны, ни на приплод, и продавали их фермерам к северу от Реки страданий или же забивали их и жарили мясо на угольях. Многие из забитых животных превращались в вяленое мясо, столь необходимое во времена глубоких снегов, когда трудно добираться до диких отар.
То было время танцев, время барабанов, время курить кенаб, обжираться, пить фермерское вино, драться при свете костров и праздновать, что Женщина Дикая Лошадь изнасилована Пустым Небом. Юноши заползали в вигвамы своих возлюбленных, а Чернозуба посетила какая-то неразличимая в темноте женщина, которая, даже не назвавшись, сразу же стала скидывать одежду. Он старался не делать ничего, что могло бы обидеть ее, и ночь получилось жаркой и потной.
На следующее утро одна из его родственниц улыбалась каждый раз, когда встречалась с ним взглядом. Ее звали Красивый Танец, она была толстенькой, как поросенок, но симпатичной и ласковой. Он же думал об Эдрии и усиленно старался избегать ее взглядов.
Честь свою он восстановил, одолев в схватках нескольких молодых людей его роста и веса, что и помогло ему избежать дальнейших поддразниваний, но тем не менее Нимми его называли куда чаще, чем Нуйинденом.
За день до расставания с землей предков Черный Глаз, двойной агент Кузнечиков, принес ему книгу, которую выменял у тексаркских солдат. Когда Чернозуб с Коричневым Пони были заключенными в императорском зоопарке, Черный Глаз занимал клетку по другую сторону прохода и до сих пор продолжал восхищаться монахом, считая, что тот пытался убить Филлипео.
— Эта книга обошлась мне в семь бычков, — сообщил он Чернозубу. — Вождь считает, что она может помочь тебе в обучении его племянников, поскольку солдаты сказали, будто она, мол, написана на его родном языке. Я не понимаю, как у книги может быть язык.
Глянув на заглавие на языке Кочевников, Нимми почувствовал прилив грусти и стыда. Книга Начал, том первый, изложенный хранителем веры Боэдуллусом. Тексаркский издатель хорошо справился с задачей, сопроводив орфографию Чернозуба, принятую у всех Кочевников, новыми знаками огласовки, что позволяло любому Кочевнику из любой орды слышать слова так, как они произносятся на его родном диалекте. На форзаце оповещалось, что книга переведена в аббатстве Лейбовица, но, конечно, имя переводчика не упоминалось. Чернозуб не приводил его и в оригинале.
В памяти отчетливо всплыло лицо аббата Джарада, и он, как и раньше, услышал его голос: «Хорошо, брат Сент-Джордж, а теперь подумай — подумай о тех тысячах юных диких Кочевников или бывших Кочевников, каким ты был в свое время. О своих родственниках, о своих друзьях. И теперь я хочу знать: что может быть более достойным делом для тебя, чем нести своему народу начатки религии, цивилизации, культуры, которые ты сам обрел здесь, в аббатстве святого Лейбовица?»
— Почему ты плачешь, Нуйинден? — спросил Черный Глаз. — Эта книга не годится для Кочевников?
Глава 25
«Если странствующий монах из дальних земель изъявит желание стать гостем монастыря, да пребудет он в нем столько времени, сколько пожелает, при условии, что он ознакомлен с правилами обители, принимает их и не будет беспокоить монастырь чрезмерными требованиями, а безропотно смирится с тем, что ему будет предоставлено».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 61.Во время трехмесячного пребывания матушки Иридии Силентиа при дворе папы Амена II один из папских информаторов обратил его внимание, что эта княгиня Церкви, невеста Христова, постоянно трижды в неделю посещает Эдрию из дома Шарда в месте ее заключения. Папа решил не торопиться с расспросами по сему поводу, ибо предполагалось, что любой, кто заметил ее посещения или обратил на них внимание, придет к выводу, что матушка Иридия либо практикует духовное излечение, либо изучает с девушкой последнее издание катехизиса, переписанное и дополненное папой Аменом I, хотя некоторые восточные епископы уже сочли его еретическим. Скоро тюремщикам стало известно, что девушка выразила желание присоединиться к религиозной общине Иридии. Никакой тревоги это не вызвало, если не считать, что Коричневый Пони несколько обеспокоился.
Мэр Дион, как главнокомандующий сил вторжения в провинцию, большую часть времени отсутствовал, а Слоджона религия интересовала лишь как инструмент управления людьми. Когда в субботу, 12 августа, Эдрия взяла на себя простой обет как монахиня ордена Богоматери Пустыни, мать Иридия посетила папу и пожаловалась, что светская власть Нового Иерусалима держит в тюрьме одну из ее монахинь. Коричневый Пони улыбнулся и послал за Слоджоном.
— Вы держите в тюрьме сестру Клер Ассизскую по непонятному обвинению, — сказал папа Амен II. — Мессир, должен ли я напоминать вам, что у вас нет юридических прав по отношению к религии?
— Я даже не знаю такую сестру Клер Ассизскую, Святой Отец!
— Вы знаете ее как Эдрию, дочь Шарда, — сказал Коричневый Пони. — Она стала монахиней на прошлой неделе в день святой Клер, и поэтому мать Иридия назвала ее Клер, каковым именем ее и будут звать в обители.
Слоджон вскинулся.
— Выдвинутое ей обвинение вполне понятно. Она нарушила закон, покинув свою общину без разрешения из канцелярии мэра. Кроме того, она подозревается в шпионаже.
— Она не виновна в шпионаже против данного государства, в чем я совершенно убежден, — проворчал Коричневый Пони. — Что же до остальных обвинений в ее адрес, Церковь учит подчиняться законному правительству, такому, как ваше. Поскольку она признала свою вину в неподчинении закону, который тогда действовал, я обещаю, что она будет наказана лично мной. Тем не менее должен отметить, что закон, который она нарушила, при вас вышел из употребления. Его судьба — это ваше дело. А вот судьба сестры Клер — это уже наше дело. Вы должны немедленно освободить ее и представить церковному суду. Вы хорошо знаете, какое наказание ждет тех, кто узурпирует права Церкви. Мой блаженной памяти предшественник отлучил от церкви императора Тексарка за то, что тот заключил в тюрьму меня и моего секретаря.
— Вот, значит, в чем дело! Но со мной этот номер не пройдет, — не проявив даже минимума вежливости, Слоджон повернулся и покинул папскую аудиенцию.
Коричневый Пони тут же написал письмо всем церквам Мятных гор, что сын мэра лишен Святых Даров, пока не подчинится приказу освободить сестру Эдрию Сент-Клер и не передаст ее в руки курии. Папа понимал, что эта кара не окажет на Слоджона никакого воздействия, если не считать унижения из-за плохой репутации, которая станет известна, как только это послание будет прочитано с амвонов всех церквей в горах.
Тем не менее Слоджон не давал о себе знать до возвращения с поля боя его отца, которое состоялось неделю спустя. Дион посовещался с папой. Первым делом они обсудили ход военных действий в провинции, которые велись вдоль 98-го меридиана. Затем коснулись дела Эдрии. Во что бы он лично ни верил, в глазах общества Дион был католиком. После совещания он освободил сестру Сент-Клер, передав на попечение матери Иридии Силентиа, которая стала ее защитницей. Санкции против сына мэра были сняты. В нарушение принятых правил папа разрешил Слоджону и впредь помогать бывшему школьному учителю, а ныне кардиналу Эбрахо Линконо в качестве расследователя и обвинителя.
Такой исход был неизбежен, и единственным предметом обсуждения стало наказание, которое будет наложено на монахиню верховным понтификом.
Коричневый Пони отметил, что красота стоявшей перед ним босоногой сестры не пострадала от материнства, не мог скрыть ее и бесформенный наряд из грубой ткани. Эдрия так и лучилась, откровенно улыбаясь ему; у нее был внимательный и смелый взгляд. Плохо. Это позволяло предполагать, что в самом деле существовал заговор, и мысль эта не давала покоя. Слоджон уже знал, что стал жертвой обмана, но папа обратил внимание на эту открытую улыбку.
Сделав попытку показаться суровым, папа Амен II заговорил:
— Сестра Сент-Клер Ассизская, вы будете находиться под постоянным надзором кардинала Силентиа. За нарушение установлений Нового Иерусалима, законной светской власти, мы предписываем вам удалиться за реку Брейв-Ривер и провести там в изгнании весь остаток вашей жизни или же пока наказание не будет снято с вас волей Святого Престола. Если же вы снова пересечете реку, направляясь с юга на север, за сие дерзкое деяние вы будете отлучены от церкви.
Улыбка Эдрии не изменилась. Наказание это не отличалось от принятого ею обета. Она неторопливо подошла к папе и, опустившись на колени, поцеловала его кольцо верховного судии.
— Где Чернозуб? — шепнула она.
Коричневый Пони чуть не поперхнулся от ее дерзости и прошептал в ответ:
— Понятия не имею.
Таким образом дама-кардинал покинула Новый Иерусалим в обществе сестры Эдрии Сент-Клер и трех монахинь, ее помощниц на конклаве в Валане. Им были предоставлены возница и четверо вооруженных всадников, которые должны были сопровождать их до Брейв-Ривер. В последнюю минуту Иридия нанесла папе еще один визит и попросила разрешения сделать по пути остановку в аббатстве Лейбовица, что удлинило бы их путешествие не более чем на несколько дней.
Коричневый Пони удивленно воззрился на нее. Кардинал Силентиа была почти его ровесницей, при всей своей суровости сохранившая былую красоту и если не изящество, то очарование. Но теперь он видел, что она сама очарована Эдрией.
— Она хочет узнать, вернулся ли Чернозуб в аббатство, — вздохнул понтифик.
— Мне тоже это пришло в голову, Святой Отец. Но помещения для гостей там приличные, и их достаточно. Братия и мои сестры будут видеться только в церкви, если эти встречи вообще состоятся.
— Очень хорошо, но если вы потеряете ее, вас обоих ждут неприятности, — сказал он. Его разрешение исходило из убеждения, что ни Чернозуб, ни аббат Олшуэн не захотят этой новой встречи. — Тем не менее, если вы где-то встретите брата Сект-Джорджа, передайте ему, что я требую его немедленного появления.
Преклонив колена, Иридия удалилась. Лишь через три недели письмо Нимми с поля боя на восточных равнинах достигло адресата. Коричневый Пони счел письмо раздражающим и сказал курьеру: «Пусть он почтит своим присутствием праздник бойни, а затем доставь мне этого идиота».
Но едва он сказал это, перед папой Аменом II ярко предстал облик Чернозуба в будущем — потрясенного известием о внезапном обращении Эдрии к религии и о наказании, наложенном на нее папой. Он будет потрясен и, наверное, разъярится. Папа решил, что при появлении монаха увидится с ним не сразу. Пусть он услышит обо всем от Кум-До, Джинг-Ю-Вана, Вушина и двух секретарей с Востока, унаследованных от кардинала Ри. Они понимают его мотивы и то, почему в них возникла необходимость. В конечном итоге возмущение брата Сент-Джорджа уступит место его религиозным убеждениям, и тогда папа сможет спокойно повидаться с ним.
Сентябрь подходил к концу, а Чернозуб так и не появился в бревенчатом «Ватикане» папы Амена II. Его святейшество, положив ноги на стол, одним глотком допил остаток бренди, откинулся на спинку кресла и улыбнулся своему пожилому телохранителю.
В личном кабинете Коричневого Пони в папском дворце с бревенчатыми стенами и глиняным полом горела единственная свеча, но в огромное окно с южной стороны светил на удивление яркий диск луны, и казалось, что в ее сиянии все светится, включая лица папы и воина.
— Топор, ты знаешь, какой день будет завтра?
— Четверг, двадцать девятое, ваше святейшество.
— День святого Михаила, командующего небесным ордами.
— Я думал, что они там постоянно обитают.
— Нет, нет! Все ангелы — сущие Кочевники, и там их целые орды.
— И что из этого, ваше святейшество?
— Топор, кафедральный собор святого Михаила Ангела Войны находится в Ханнеган-сити и принадлежит Уриону Бенефезу. Для него завтра обернется пышным празднеством и торжественной мессой. Я же проведу мессу тихо и скромно. Отрывок из Евангелия этого дня включает в себя первые десять строф из тринадцатой главы Святого Благовествования от Матфея и на первый взгляд не имеет никакого отношения к архангелу Михаилу. Иисус призывает к себе малых детей, говорит, что все мы должны снова стать как дети, чтобы войти в царствие небесное. Не странно ли это?
— Нет, ибо детям дарует жизнь меч ангела Божьего.
Коричневый Пони помолчал. Он понимал, что Топор имеет в виду, но как странно он это высказал.
— Старый еврей однажды рассказал мне, что наш ангел битвы — защитник синагоги, так же как для нас он защитник Церкви. И конечно, ее детей. Это, думаю, и объясняет выбор отрывка из Евангелия. Но ты знаешь, что компания старух-Кочевниц поженила меня с Барреганом, Стервятником Войны?
— Помнится, вы несколько раз упоминали об этом, ваше святейшество. Надеюсь, что брак оказался счастливым.
— О еще бы, еще бы! Думаю, войну мы выигрываем, — папа налил себе еще стакан бренди. — Но теперь, когда я возношу молитву Михаилу, я испытываю нечто странное. Надеюсь, что командир армии ангелов простит меня. Брак этот был вынужденным. Должен ли я извиняться, когда мысленно вижу, как Ангел Войны Бенефеза сражается с моей сверхъестественной женой-птицей?
— Нет.
— Ах, значит, у тебя есть свое мнение! Вопрос, конечно, риторический, но почему ты сказал «нет»?
— Потому что и ангел, и стервятник — это одно и то же.
— Хотелось бы мне услышать от тебя, что оба они на одной стороне. Ведь ты никогда не будешь христианином, не так ли, Вушин? И все же у тебя иногда бывают потрясающие озарения. Когда-нибудь расскажи мне снова об Убийце людей.
— Снова? Не помню, чтобы я вообще вам о нем рассказывал, ваше святейшество.
— Нет, я всего лишь слышал отрывок твоего повествования, когда ты как-то рассказывал об этом Чернозубу. Кто такой Убийца людей?
— Сострадающий им, — слышно было, что обозначил он это слово заглавной буквой.
В лунном свете Коричневый Пони удивленно воззрился на него.
— В древней пословице, бытующей у моего народа, — добавил Вушин, — говорится: «Меч, который убивает, — тот же меч, что дарует жизнь».
— Прими еще стакан этого отличного горного бренди. Но кому меч может даровать жизнь?
От бренди Топор отказался.
— В ходе битвы меч приносит смерть одному и жизнь другому. Жизнь его семье, его вассалам и суверену.
— Да, припоминаю, что твой меч раз или два сохранил мне жизнь. Хотя пословица не так уж глубока. Кое-что из сказанного тобой может привести людей к мысли, что ты путаешь Бога и Дьявола, Вушин.
— Надеюсь, что ваше святейшество к ним не относится.
— Нет, но что ты скажешь в ответ на такое обвинение?
— Я отвергаю его. Как я могу их путать? Я понимаю, что они не двое в одном.
Коричневый Пони засмеялся.
— Топор, папа Амен Спеклберд когда-нибудь учил тебя искусству парадоксов?
— Нет, но он был так добр, что несколько раз говорил со мной. Вы сказали, что я никогда не буду христианином. Старшина Джинг сказал мне то же самое. Но будь я учеником святого Спеклберда, я стал бы им.
— Ты уже возвел его в святые. А это моя работа. Ты атеист?
— О нет, я почитаю всех богов.
— Сколько их входит в это понятие «всех»?
— Бесчисленное множество. И еще один.
— Какая бессмыслица!
— Ваше святейшество, разрешите мне услышать, как вы считаете до одного.
— Один.
— Покажите, что это такое.
Коричневый Пони смущенно заерзал. Наконец он постучал пальцем по голове.
Вушин тихонько засмеялся.
— Ошиблись. Вам придется еще долго размышлять над этим. И вы не смогли сосчитать до одного. Вы начали отсчет от одного и остановились. А один — это бесконечность.
Папа сменил тему разговора. Он не был мистиком, но мистика как таковая его привлекала. Спеклберд, Чернозуб, Вушин — всем им были свойственны какие-то мистические черточки, хотя все они разительно отличались друг от друга. Они восхищали Коричневого Пони, но он не понимал их.
В середине сентября в Ханнеган-сити император созвал своих генералов. Он был полон безграничной радости по поводу захвата оружия; пусть оплавленное в огне, его нельзя было пустить в дело, но можно было подробно изучить. Сгорели ложи и цевья, взорвалась часть барабанов, погнулись от жара и от взрыва бочонков с порохом некоторые стволы. Филлипео любовно оглаживал их, и его руки стали черными от нагара. По словам оружейников, можно будет начать выпуск копий оружия с западного побережья, как только они получат соответствующие инструменты, наладят станки, сварят необходимые марки стали, найдут медь для патронных гильз — если только императорские войска продержатся так долго.
А между тем адмирал и-Фондолаи, Карпио Грабитель, уже получил на вооружение несколько дюжин дубликатов этих винтовок. Вскоре он и Эссит Лойте (которого в войсках называли Деревянный Нос) начали свои набеги к северу от Реки страданий. Войска Тексарка, чьи волчьи шкуры делали их похожими на безродных разбойников, несли с собой хаос, уничтожали женщин и детей, которых Кочевники покинули, чтобы составить левое крыло крестового похода антипапы.
— Адмирал? — изумился генерал Голдэм. — Я думал, Карпи произведен в фельдмаршалы.
— Пока еще он адмирал, — ответил Филлипео. — Адмирал — это пират в мундире, а пиратам не подобает думать о захвате территорий. Его метод ведения войны прекрасно соответствует океанским просторам прерий — родины Кочевников.
Время, как и террор, было на стороне императора. Противостоящие армии папы и императора, Церкви и государства окопались на противоположных берегах Уочиты, и прокормить своих людей Филлипео было куда легче, чем Амену II — своих. Коричневый Пони рассчитывал на силы, которых он пока фактически не контролировал.
— Антипапа думает, что Дикие Собаки будут хранить ему верность до конца дней своих, но я в этом не уверен, — сказал Филлипео своим генералам. — Говорят, вождь Оксшо лижет подметки фальшивого папы, и говорят, что Хонган Осле Чиир, пустив в ход партизанские силы своих Диких Собак, поднялся до титула вождя вождей всех трех орд. Даже вождь Дьявольский Свет относится к нему с уважением, а мы-то знаем, как Зайцы попали к нему в руки и восстали против нас. Без сомнения, Элтур такой же наш враг, каким был его брат Халтор, но он осторожен, умен и рассудителен. И не в пример Хонгану не христианин. Мы можем вступить с ним в переговоры.
— Я не уверен, что вы в самом деле в этом убеждены, сир, — сказал капеллан-полковник Поттскар. — Вы говорите так, словно христианство требует обязательного подчинения фальшивому папе.
— Нет, Поттси. Просто это означает, что вождя Элтура, как нехристианина, совершенно не волнуют внутренние раздоры Церкви. Так что он свободен в своих переговорах.
Через три дня радость Филлипео Харга превзошла все границы, и в своих апартаментах он пустился в пляс, когда его дядя Урион принес новость, что кардинал Сорели Науйотт перестал служить ложному папе. Он прекратил откалывать джигу, лишь когда осознал, что должен был услышать новости о Науйотте раньше, чем дядя.
— Почему командир, который получил сообщение о перебежчике, не передал его мне? — строго спросил он.
— Я договорился с Сорели, еще когда он был в Валане, и дал указание пограничной страже принять его с честью. Я получил предварительное известие, что он направляется к нам, ибо он согласился перейти к нам лишь при условии, что мой архиепископат дарует ему убежище.
— Ублюдки! Ты разлагаешь мои собственные войска. Полетят головы. И от кого же он хочет скрыться в убежище? — гаркнул Филлипео. — От меня?
— Конечно. И я не думаю, что ты снесешь с плеч голову полковника отца Поттскара или мою.
— Проклятье! Ладно, при мне кардинал может чувствовать себя в полной безопасности. Я дам в его честь правительственный обед.
— Вот этого он как раз и опасается. В твоем присутствии он будет свободен от увечий, но не от допросов.
— Чего он хочет добиться, скрываясь?
— Всего. Он здесь для того, чтобы подчеркнуть — он не имеет ничего общего с этим маньяком в западных горах. Но не для того, чтобы предать его. Он не хочет склоняться ни к одной стороне. Он сохраняет нейтралитет, но только под моей защитой.
Император нервно потянул себя за мочку уха и стал ходить по комнате.
— Ради Бога! — наконец сказал он. — Когда все будет кончено и вы приступите к выборам настоящего папы, кто может быть лучше, чем кардинал, который остался принципиальным, но сумел сохранить нейтралитет? — он повернулся, чтобы взглянуть на лицо архиепископа, и тут же разразился смехом. — Дядя Урион, для следующего папы у тебя слишком много плохих привычек. Я понимаю, что обвинения — сплошь вранье, но… — он пожал плечами.
— Да, — сказал Бенефез. — Предполагаю, что Сорели знаком с клеветой Хойдока…
— Обращайся с ним как можно лучше, дядя, пусть даже тебя и пугают его амбиции. И я хотел бы нанести ему визит в твоем дворце. Пригласи нас обоих к себе на обед.
— Лишь после того, как он освоится с этой идеей. Если она его устроит, я приглашу тебя. В противном случае даже не буду ничего объяснять.
Приглашение отобедать в архиепископском дворце пришло к Филлипео всего три дня спустя. Со всей серьезностью приняв его, император тепло приветствовал отступника Науйотта в Ханнеган-сити. Но едва только его дядя, пошептавшись со служкой Торрильдо, доставившим ему какое-то устное сообщение, коротко извинился и покинул их, он тут же приступил к расспросам.
— В отношении Коричневого Пони по всей империи действует временно отложенный смертный приговор, — сообщил Филлипео орегонцу сразу, как только Бенефез уже не мог их подслушать. — Его избрание само по себе было актом войны против Тексарка со стороны валанской Церкви. Если он будет пойман, то прямиком отправится на гильотину. Так что он не имеет права обвинять вас в том, что вы отвернулись от него.
— Да, сир. Но вы сказали, что его избрание было актом войны со стороны священнослужителей Валаны, а ведь и я способствовал его избранию. И могу сказать, что ни я, ни все мы не думали об этом как об объявлении вам войны.
— Вы говорите, что его избрали священнослужители Валаны? А не Священная Коллегия?
— Сир, в условиях изгнания духовенство Валаны — это духовенство Рима. Священная Коллегия — это духовенство Рима лишь потому, что каждый член представляет или римскую, или валанскую Церковь. Но в крайней ситуации духовенство римского епископата выбирает своего собственного епископа. В истории Церкви коллегия — всего лишь дальнейшее развитие такого положения.
— Могу только удивляться, как вы оправдываете так называемый конклав!
— Я убежден, что его созыв был оправдан. Но потом именно Коричневый Пони отверг курию. Можете считать, что войну начал он один, хотя остальные поддержали его. Я был в Валане, но со мной никто не советовался, когда он объявил крестовый поход. Я даже не уверен, эти ли цели он преследует в войне, не говоря уж о ее святости.
— И тем не менее до меня дошли сведения, что перед выборами состоялся так называемый военный совет, на котором присутствовали и вы. И как получилось, что вы присоединились к Чунтару Хадале в его попытке переправить оружие в долину?
— Я всего лишь сопровождал его в пути через равнины. И расстался с ним еще до начала битвы.
— Ну что ж, ладно. Расскажите мне вот что: как давно Коричневый Пони начал собирать арсенал в Мятных горах?
— Разве кардинал Бенефез не сообщил вам, что я не буду отвечать на вопросы военного характера? Я не шпион.
Кардинал Бенефез вернулся к столу и, услышав последнюю реплику, стал ругать племянника за то, что тот нарушил обещание не терзать кардинала из Орегона.
Тем не менее этим вечером император ушел в хорошем расположении духа. Переход на его сторону кардинала Сорели Науйотта, ныне пребывающего гостем в епископском дворце его дяди, прибавлял Филлипео и его делу респектабельности. Пусть даже Науйотт отказался от допроса в разведке и дал понять, что считает себя фигурой, равной своему хозяину, император с удовольствием думал о возможности установить хорошие отношения с орегонцами, которые были земляками Науйотта. То был странный ход коня на доске континентальных шахмат: две клетки к востоку и одна к северу. Орегон недалеко от тех мест, где, по мнению императора, на западном побережье находится источник оружия для Коричневого Пони. Их гость владел там землей, получая оттуда доходы. Сразу же после победы Филлипео преподнесет подарок правителю орегонских земель, кем бы он ни был, этот правитель.
Пока Хадала готовил свою экспедицию из Валаны, на востоке в преддверии уборки урожая король Теннесси воспользовался тем, что у Харга были проблемы с Кузнечиками и с армией Коричневого Пони в провинции. Она напал на зависящее от Тексарка марионеточное государство Тимберлсн на восточном берегу Грейт-Ривер. Филлипео Харг послал свои регулярные войска на ту сторону реки, чтобы отбросить Теннесси с ограбленной и сожженной территории своего союзника. Но Теннесси ждал их: он отступил в неприступные горы, куда тексаркский генерал все же решил проникнуть.
Коричневый Пони должным образом узнал об этих батальонах, в которые входили опытные горные стрелки; папа послал курьера с пожеланием, чтобы войска Теннесси, не вступая без крайней необходимости в боевое соприкосновение с врагом, все же до весны продержали на востоке тексаркские части. Послание было вытатуировано на коже промежности курьера, который был так толст, что без зеркала не мог увидеть это послание, и к тому же оно было зашифровано, а у него не было ключа. Коричневый Пони о нем не беспокоился, ибо в любом случае пытать посланника не было смысла. Тем не менее агенты имперской разведки поймали его, и под пытками он признался, что татуировка содержит сообщение королю Теннесси. Было принято решение не убивать курьера, но его привязали к операционному столу и скальпелем срезали текст. Затем курьера отпустили, но он не мог ходить из-за боли между ног. Кусок кожи просолили, растянули на доске, высушили и послали в Ханнеган-сити для изучения. Нож был не простерилизован, и толстый папский курьер умер от заражения крови.
Узнав о судьбе своего посыльного, Коричневый Пони мог только обрушить еще одну порцию церковных проклятий на головы Филлипео Харга Ханнегана и его дяди, проповедника платонической дружбы и других отклонений от ортодоксии. Но они и так уже были отлучены от церкви и преданы анафеме.
Вушин всеми силами старался утешить своего хозяина.
— Сдается мне, ваше святейшество, что Теннесси в любом случае сделает то, о чем вы его просили.
— То есть мое письмо привело к бессмысленной гибели курьера?
Вушин промолчал, понимая, что, если даже его хозяин и разделяет безразличное отношение воина к вопросам жизни и смерти, он никогда не позволит себе признаться в этом.
— Насколько проще было вести войну, пользуясь методами связи времен Magna Civitas. Наши генералы получают наши указания — если вообще получают их — через несколько недель после отсылки, а к тому времени ситуация в корне меняется!
— Да, ваше святейшество, и именно поэтому в традициях моего народа полевой генерал обязан воспринимать команды императора всего лишь как отеческие советы, разве что он дерется поблизости от императорского двора. Что же до Magna Civitas, то брат Сент-Джордж рассказывал, что в те дни генералы горько жаловались, ибо правители отдавали такое количество команд и они поступали таким непрерывным потоком, что из-за политиков было невозможно вести войну. Вспомните, что случилось с Magna Civitas.
— То есть я даже не могу сказать Теннесси, что ему делать?
Вушин снова замолчал, и Коричневый Пони улыбнулся.
— Топор, если бы это зависело от меня, ты бы командовал войсками в провинции вместо мэра Диона.
— У меня нет претензий к командованию армией, ваше святейшество.
Наступил ноябрь, когда Чернозуб наконец, хромая из-за воспаленного пальца, отправился в мир заснеженных гор. Его сопровождали Аберлотт и несчастный котенок кугуара с одним синим ухом и полуголым черепом. Когда эскорт Диких Собак оставил его на папской дороге, Чернозуба ограбили разбойники — отняли у него коня. Аберлотт — он вернулся в Валану, а затем направился на юг в надежде снова увидеть сестру Джасиса — нашел его, стонущего, в полубессознательном состоянии, а разъяренный котенок отчаянно сосал его окровавленный большой палец. Когда они явились на военный пропускной пункт в Пустой Аркаде, имя Чернозуба пограничники нашли в списке лиц, которым разрешен допуск, а вот Аберлотта в нем не было.
— Он был тут со мной в прошлом году, мы оба приезжали как эмиссары Секретариата в Валане.
— В списке нет фамилии «Аберлотт». И я не думаю, что он один из НАС.
— Как и я.
Стражник как-то странно посмотрел на монаха.
— Да? А я мог бы поклясться… — Аберлотт разразился смехом. — Да ты же «привидение», Нимми. Я знал это еще со слов Эдрии.
Чернозуб вспыхнул.
— Я ручаюсь за этого идиота, — сказал он стражнику. Охранник позвал офицера. Чернозуб расписался под гарантией, что Аберлотт будет находиться под его присмотром.
— Если он нарушит какой-то закон, отвечать придется вам.
— До чего прекрасная возможность мне предоставляется! — сказал Аберлотт. — Пакостить буду я, а лупить будут тебя!
— А вы будете расстреляны! — фыркнул офицер.
Но когда они прибыли в новое поселение, временно получившее название «Святой Город», над ними вежливо взяли опеку Вушин, Кум-До и старшина Джинг. Нимми пришлось второй раз рассказывать им о смерти их товарища, павшего на службе общему хозяину. Они выразили беспокойство по поводу продолжающегося отсутствия Гай-Си.
— Я думаю, его не отпускает вождь Дьявольский Свет. Он хочет, чтобы Гай-Си учил боевому искусству молодых воинов-Зайцев. Он изъявил желание, чтобы я учил их читать. Итак, когда я смогу увидеть его святейшество?
На него уставились Аберлотт и три бесстрастные желтые физиономии.
Глава 26
«Это случается слишком часто — учреждение должности настоятеля ведет к серьезным скандалам в монастыре. Ибо среди братии бывают те, кто одержим дьявольским духом гордости и считает себя вторым аббатом».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 65.Рассказывая Чернозубу, какая судьба постигла Эдрию, они были готовы успокаивать его и в случае необходимости даже связать по окончании повествования, включающего в себя обещание их хозяина снять с нее наказание, как только папа покинет Новый Иерусалим. Вместо этого Нимми молча выслушал их, всхлипнул и наконец сказал:
— Хорошо. Но что с Гай-Си? Вернулся ли он?
— Мы ничего не слышали, — ответил Топор.
Нимми хотел получить аудиенцию у папы, но Топор убедил его, что сейчас не самое подходящее для нее время. Они еще пять дней ждали возвращения бойцов. И тогда Чернозуб сказал старшине Джингу:
— Идем со мной в Пустую Аркаду.
— Зачем?
— Затем, что я больше не слуга папы. Как и Гай-Си, если бы он стал повиноваться Хадале и Науйотту. На мои вопросы стражники не ответят. А с тобой они будут разговаривать.
Джинг согласился. Ранним утром они оставили район муниципальных зданий и еще до заката вернулись в свои служебные помещения. Чернозуб позволил Джингу выложить Вушину плохие новости.
— Гай-Си пришел к Пустой Аркаде через несколько дней после Чернозуба и Аберлотта. Охрана схватила его, обвинила в убийстве и под стражей отправила за перевал. Его доставили к Слоджону в суд, что на центральной площади. Там он был приговорен и тут же посажен в клетку. Слоджон направился прямиком к папе и сообщил ему о своем решении. Говорили они без свидетелей.
— Помню эту встречу, — сказал Топор. — Только я не знал, о чем на ней шла речь.
— Конечно, — сказал Кум-До. — Ты тоже там был, — напомнил он Джингу.
— Но почему ты не разозлился, Топор? — спросил Чернозуб.
— На кого?
— На Святого Отца — на кого же еще! За то, что он оправдал арест Гай-Си.
Предложение было настолько немыслимо, настолько неприменимо к их хозяину, что все лишь молча уставились на него.
— Ну так вот, ложные друзья, я собираюсь увидеться с папой и поговорить с ним о Гай-Си! — объявил Чернозуб.
— Нет, ты не пойдешь, — сказал Топор, беря его за руку. — Его святейшество еще не готов…
Поскольку, назвав его «ложным другом», Чернозуб не добился от него никакой реакции, он ударил Вушина. Удар был настолько неожиданным, что Топор не успел ни парировать его, ни уклониться. Нимми, ощетинившись, отступил на шаг.
— Чтобы остановить, тебе придется убить меня, Топор, а твоему хозяину это не понравится.
— Но ты же не собираешься вламываться к нему без…
— Не тебе говорить. Я собираюсь увидеться с папой. Идем со мной, если хочешь. Идем все, — он посмотрел на воинов кардинала Ри. Кум-До и старшина Джинг были готовы взяться за мечи. Любой из них без возражений предоставил бы Гай-Си его судьбе, стоило хозяину сердитым движением бровей дать знать, что он этого хочет. Топор вел бы себя точно так же.
Повернувшись к ним спиной, Нимми покинул дом. Он слышал, что они пошли за ним. Нимми уже оправился от побоев, которые нанесли ему разбойники. Он твердо стоял на земле. Пусть и на короткое время, но он посетил край своих предков. Во время пребывания у них он увидел себя не только в зеркале. Земля, та земля, по которой он сейчас ступал, принадлежала ему. Более того, он видел жену понтифика, дарованную ему Кочевниками, — красная в лучах закатного солнца, она парила над полем боя, заваленным трупами. Судьба Гай-Си должна была стать лишь началом того разговора, ради которого он и хотел увидеть папу. Чернозуб смутно осознавал, что в этом случае ему придется отринуть данный им обет послушания, но сейчас он не испытывал никаких угрызений совести по сему поводу. Перед ним стоял облик Эдрии, но пока ему нечего было сказать о ней.
У входа в помещение для приемов путь ему преградил папский стражник, вооруженный алебардой. Чернозуб каблуком ударил стражника по ноге, перехватил алебарду и древком ткнул ему в живот, чтобы прорваться к дверям. Его восточные спутники, не вмешиваясь, наблюдали за схваткой. Оказавшись за дверями, он наткнулся за кардинала Линконо и кардинала Великого Пенитенциария. Топор наконец сделал шаг вперед, чтобы прийти к ним на помощь, но его остановил голос Коричневого Пони, восседавшего на папском троне.
— Пропусти их. Пропусти всех.
Чернозуб поднялся на подиум и упал на колени перед своим понтификом. Папа нагнулся, чтобы поднять его, но монах уклонился и встал сам. Коричневый Пони с легкой усмешкой наблюдал за ним.
— Что-то спешное, брат Сент-Джордж? Мы тут с нашими достопочтенными собратьями обсуждали политику. Что же до Эдрии…
— Не об Эдрии. Кого вы тут видите, рядом со своими достопочтенными собратьями?
— Ну как же — несчастного монаха и троих членов моей личной охраны.
— Почему их не четверо, Святой Отец?
— Вот в чем дело. Я и не знал, что ты был так близок с Гай-Си. Печальное событие.
— Мы вообще не были близки с ним, а ваше предательство — это куда хуже, чем просто печальное событие.
Коричневый Пони нахмурился, словно не в силах был поверить своим ушам.
— Я вижу, что и папа способен творить зло.
Когда в адрес хозяина прозвучали эти оскорбительные слова, мечи вылетели из ножен.
Нимми отвернулся от папы и оказался лицом к лицу со своими спутниками.
— Если ваш хозяин потребовал моей смерти, так чего же вы медлите, трусы? Бейте! — он снова повернулся к Коричневому Пони: — Неужели вы не понимаете, что творите? Тут, прямо перед вами, они готовы сделать то, что сделал Гай-Си. Если не считать, что Гай-Си понимал свою правоту, а они знают, что не правы. И ваше святейшество с чистым сердцем поощряет такую верность?
Коричневый Пони с нескрываемым изумлением наблюдал за своим бывшим секретарем по делам Кочевников. Чернозуб услышал, как один из мечей скользнул в ножны. Скорее всего, это старшина Джинг, предположил он. Вушин убил бы его, не дожидаясь кивка папы, если бы решил, что это убийство послужит вящим интересам папы.
— Чернозуб, ты всегда быстро все усваивал, но сейчас ты предстал в какой-то новой роли, не так ли?
— Святой Отец, как католик, я обязан верить, что все ваши деяния на земле продиктованы небесами; я должен верить, что, когда вы говорите о вере и морали, Святой Дух предостерегает вас от ошибок.
— Ты должен верить. Но веришь ли?
— У меня есть вопрос. Служит ли объявление войны утверждению морали и веры? Всегда ли? Даже когда вы называете ее святой войной? Отец Суарес в колледже у августинцев учил, что война во имя обращения язычников никогда не может быть таковой. Может ли быть святой война против христиан-еретиков, если несправедлива даже война против язычников?
— Эта война не против язычников, не против еретиков. Она ведется против тирана, который узурпировал апостольскую власть и угнетает весь мир.
— Но пока тиран живет и пользуется властью, гибнут и христиане, и язычники.
Показалось, что Коричневый Пони выругался сквозь зубы, но взял себя в руки.
— Нимми, ты написал мне, что убил человека в бою. Поэтому ты так изменился?
Нимми кивнул и заговорил медленнее:
— Человек этот был в тексаркской форме. Он был из «Детей Папы», ваше святейшество, уродец из долины. Я хотел, чтобы пуля прошла мимо него. Но плохо прицелился и поразил его в живот. Он ждал, чтобы я выстрелил ему в голову, но вместо этого я перерезал ему горло, потому что за мной наблюдал сержант. Да, думаю, это и изменило меня, Святой Отец. Потому что я уже был в бою и убивал, Элтур Брам хотел сделать меня воином-Кочевником даже без обряда посвящения. Тогда меня перестанут звать Нимми, сказал он, и не будут смеяться по этому поводу. Я ничего не имею против этого имени и даже против насмешек. Я больше не хочу убивать. Никогда. Но я не хочу видеть, как наказывают Гай-Си. Он узнал, что Хадала готов изменить вам. Он не мог арестовать ни его, ни Гливера и сделал то, что посчитал справедливым.
— Он не получал от меня такого права.
— Он служил вам как воин, и вы приняли его. Вы в самом деле хотите лишить его права, которое он считал своим?
Папа Амен нахмурился и попросил всех, кроме Чернозуба и одного телохранителя, оставить помещение. Стражником оказался тот, кто получил удар в живот; после того как все вышли, он прикрыл двери.
— Продолжай. Изложи все, что ты считаешь нужным сказать.
Чернозуб огляделся, дабы убедиться, что кардинал Линконо тоже вышел.
— С одной стороны, Гай-Си член религиозного ордена и…
— Понимаю, — прервал его Коричневый Пони. — Я потребовал права решать дело Эдрии. Почему оно не относится к Гай-Си? Потому что никто из пап еще не признал того ордена, к которому, по их словам, принадлежат воины Ри. Вот почему. Рано или поздно я займусь этим, но пока я не могу взять и освободить Гай-Си. Это слишком понятно. Но продолжай, если тебе еще есть что сказать.
— Ваше святейшество, я не могу говорить с наместником Христа на земле так же свободно, как со своим бывшим хозяином, секретарем по делам необычных духовных явлений. Я не знаю наместника Христа.
— Сдается мне, что ты и так говоришь достаточно свободно. Но предположим, что я снимаю свою красную шапку и говорю тебе, что наместник Христа свой рабочий день закончил. И я снова Элия Коричневый Пони, незаконнорожденный сын Кочевницы-лесбиянки и тексаркского насильника. Так что, Нуйинден, фермерский мальчик из бывших Кочевников, порой монах, порой любовник, говори все, что у тебя на уме. Я могу выкинуть тебя, но кидать в подвал я тебя не буду.
— В таком случае освободите из подвала Гай-Си.
— Не я его сажал. А кардинал Линконо.
— Без вашего разрешения?
— Ты не понимаешь местную ситуацию, Чернозуб. В этом городе мы гости. Не буду утверждать, что мы на положении пленников… разве что я решу вернуться в Валану и проверю, отпустят ли меня. Кардинал Линконо сообщил мне об аресте Гай-Си. Чунтар Хадала исполнял тут роль епископа, ибо был епископом долины, откуда они явились. Слоджон и все остальные знают, что я посылал людей арестовать Хадалу, ну и…
— Ага. Так что, когда Гай-Си убил его, они решили, что казнь была совершена по вашему приказу.
— Пока еще до этого не дошло, но они обязательно начнут меня подозревать, если я прикажу освободить его. Он убил епископа, князя Церкви. Кардинал Хадала пользовался популярностью в этих местах.
— Я был там, когда это случилось, Святой Отец. Все время Гливер и его офицеры расстреливали тех из нас, у кого больше не было сил держаться. Поэтому понятно, что, защищаясь и спасая всех нас, Гай-Си и выстрелил. Но сначала он под огнем подполз ко мне. Он спросил, правда ли, что кардинал Хадала не исполняет ваши приказы и предает вас. Я сказал ему, что так оно и есть. Говоря это, я понимал, что он может сделать, и надеялся, что он так и поступит. Так что это я приговорил кардинала к смерти. Прикажите им арестовать и меня тоже, Святой Отец.
— Посмотрим, что я смогу сделать, — мрачно сказал Коричневый Пони, кивком подозвал к себе стражника и что-то тихо шепнул ему.
Стражник, все еще кривясь от боли в животе, взял Чернозуба за руку, отвел его прямо в тюрьму и втолкнул в камеру Гай-Си. Они обнялись. Пока они обнимались, стражник просунул сквозь решетку древко алебарды и сильно ударил Чернозуба по почкам.
— Скоро я вернусь за тобой, — пообещал он со сладкой улыбкой.
В тюрьме Гай-Си был не один. Здесь же сидели два человека, которые объявили себя политическими беженцами из империи и попросили убежища в Новом Иерусалиме — им предстояло ждать, когда их прошения будут тщательно рассмотрены. Одним из них оказался Урик Тон Иордин из ордена святого Игнация, который к тому же был профессором истории светского университета Тексарка и которого Коричневый Пони подозревал в том, что именно он нанял бандитов, пытавшихся убить его в пасхальные дни перед последним конклавом. В каком отчаянии должен был пребывать этот человек, покидая Тексарк, если явился сюда в поисках убежища! Он бросил взгляд на Чернозуба, но не узнал его.
Вторым был Торрильдо.
— Господи, Чернозуб! Ты не можешь себе представить, как это чудовище Бенефез поступил со мной!
Чернозуб сел на лежанку Гай-Си и стал расспрашивать его. Он старался не обращать внимания на признания Торрильдо о греховно-жестоком обращении архиепископа Тексарка, которому тот подвергал его.
По словам Гай-Си, и Иордин, и Торрильдо в самом деле бежали, но не от жестокого императора, а от разъярившегося архиепископа, которому внезапно довелось понять, что он никогда не будет папой, пусть даже племянник одолеет всех его врагов. В университете Иордин сделал ошибку, сказав, что сейчас архиепископ находится в статусе «non papibilis»[97], а Торрильдо оказался одной из проблем архиепископа, в силу которой ему никогда не носить тиару. У каждого из беглецов, как правило, был свой исповедник, который, как бы прислушавшись к голосу с горних высот, советовал кающемуся грешнику нести епитимью в каких-нибудь землях подальше от империи и от архиепископата. Но пока они сидели в тюрьме Нового Иерусалима, надеясь, что представят какой-нибудь интерес для папы, у которого была возможность их освободить. Чернозуб счел эти ситуацию довольно интересной и полной иронии, но решил не вмешиваться в их судьбы.
Спустя какое-то время за Чернозубом пришел стражник, и они вернулись в тронный зал. Он шепотом спросил Вушина, известно ли ему о Иордине и Торрильдо, но Топор не обратил на него внимания.
— Не болен ли Гай-Си? — поинтересовался Коричневый Пони. — Хорошо ли с ним обращаются, не морят ли голодом?
— У него болит сердце. Обращаются с ним плохо, поскольку содержат в клетке. То же можно сказать и о еде.
— Если бы ты не скрывался у Амена Спеклберда, когда был взорван дворец, ничего бы этого не случилось, — сказал Коричневый Пони. — Ты прибыл бы сюда со мной. А теперь ты злишься, словно это я послал тебя драться и убивать в бою.
— Я не скрывался у папы.
— Просто молился?
— Не совсем. Мы разговаривали. Одной темой была война, и я придерживался традиционных взглядов о «Церкви Воинственной на Земле, о Церкви Страдающей в чистилище и Церкви Торжествующей на небе». Но папа сказал мне: «Нет Церкви Торжествующей на небе, хотя мне раньше доводилось слышать эти глупости». Я спросил, почему он так говорит, опровергая всех пророков, и он ответил: «Иоанн это говорит. Апокалипсис, глава двадцать третья. «Храма же я не видел в нем». Когда есть Бог, то Церковь — всего лишь отброшенный костыль. И вот что я вам скажу, Снятой Отец — если Церковь Воинствующая на земле не ведет за собой членов Церкви Торжествующей на небе, то оружие ее не…
— Стоп. Я преклоняюсь перед всеми словами моего предшественника, но не перед твоим истолкованием их. Особенно в том, что касается войны.
Нимми замолчал, чувствуя себя полным идиотом.
— Когда ты случайно застрелил того человека, это не было убийством. Ты не нуждаешься в отпущении грехов за этот поступок… хотя, если хочешь, я могу исповедовать тебя, — папа посмотрел в лицо Чернозуба и нахмурился. — Похоже, ты не примешь от меня отпущения грехов, если даже я и дам его тебе!
— Вы уже дали мне полное отпущение грехов и пропуск в рай в своей булле Scitote Tirannum, Святой Отец. Чего еще я могу просить?
Коричневый Пони покраснел от его сарказма, но Чернозуб продолжал стоять перед ним с широко распростертыми руками, словно принимая подарок. На самом деле он просто оцепенел от страха за то, что произнес.
— Убирайся! — взорвался Коричневый Пони. — Отправляйся в приорство своего святого покровителя. Не хочу больше тебя слышать!
— Могу ли я считать, что получил прощение? Еще одна глупость!
— Да. Иди.
Чернозуб посмотрел на руку папы. Коричневый Пони не протянул ему кольцо, и Чернозуб не сделал попытки поцеловать его. Он быстрым движением преклонил колена и торопливо отступил. Этой зимой ему так и не довелось снова увидеть Коричневого Пони.
Он обосновался в приорстве святого Лейбовица, где приор Поющая Корова Сент-Марта пристроил его к делу в обмен на кров и содержание. От него не требовалось присутствия на богослужениях, но и не запрещалось такового. Так что его голос вплетался в звуки хора, под диктовку настоятеля он писал для него письма, мыл посуду и, когда приходила его очередь, вставал к плите. Тут братия относились к нему вежливее, чем в аббатстве, хотя это были те же самые монахи; он знал их всех по пребыванию в монастыре в пустыне. Все они были специалистами, каждый в своем деле. Брат Йонан, который взялся каждое утро будить Чернозуба к заутрене, был математиком. Брат Элвен, который когда-то был любовником Торрильдо и перелез через монастырскую стенку, вернулся, принес покаяние и снова стал заниматься тем, в чем был искусен, — механикой и конструированием. Пожилой брат Тудлен, которого Чернозуб почти не знал, ибо он, отпущенный из аббатства, много лет провел в море, был кораблестроителем, астрономом и навигатором и, уходя в океан, был далек от этих мест, но у Коричневого Пони, как и у Филлипео, имелись на него виды. В старом заливе Тампа-Бей Тудлен построил шхуну, которая, как предполагалось, была собственностью ордена; здесь, в горах, где разреженный воздух был чист и ясен, он шлифовал зеркало для телескопа. Все остальные были специалистами по истории Церкви, истории политики и войн, а также знатоками трудов Боэдуллуса и других ученых, рассказывавших о Magna Civitas и его катастрофическом крахе.
Было не так просто убедить мэра Диона открыть в Новом Иерусалиме приорство ордена Лейбовица. Поющей Корове пришлось обратиться прямо к папе как к поклоннику их святого патрона с просьбой походатайствовать перед Дионом.
— Ваше святейшество может убедить Диона, что мы способны принести пользу местной общине в плане образования. Но пока к нам не обратилась ни одна из школ — управляет ими Линконо. Эти «привидения» не хотят, чтобы их выдающиеся дети воспитывались монахами. Тут существует два слоя религии: католики на земле, а адвентисты Нового Завета — под землей. Они не могут спасти мир. Хадала — типичный пример тому.
— Старый еврей Бенджамин говорил мне о них, — сказал Чернозуб, — но он все время бормотал: «Это еще не он, еще не он». Понятия не имею, что он имел в виду.
Поющая Корова улыбнулся, словно он-то знал ответ, но промолчал.
Чернозуб исповедовался отцу приору Му, как порой братия звала его. Оба они в свое время были мальчишками с ферм бывших Кузнечиков, и у обоих за плечами был странный и неповторимый опыт.
— Принимаешь ли ты культ войны Кочевников, сын мой? — спросил отец Сент-Марта в связи с признанием Чернозуба, что он убил человека в бою.
— Нет, отче. Люди Кузнечиков тепло относились ко мне, как и подобает относиться к мальчику, не прошедшему обряда посвящения. И я не хотел убивать этого человека.
— Конечно, не хотел, но ты же все-таки перерезал ему горло, не так ли?
— Я думал, что он просит меня об этом. Я и сейчас так думаю.
Поющая Корова, которому порой нравилось думать о себе как о Кочевнике, упомянул, что Церковь неодобрительно относится к помощи при самоубийстве, но сам он, скорее всего, поступил бы точно так же, хотя деяние это подлежит осуждению.
Среди многих своих грехов Нимми забыл упомянуть грех непослушания. Поющая Корова не стал напоминать об этом. Последовало отпущение грехов и мягкое наказание — вознести по четкам хвалу пяти таинствам и воспеть псалом за ужином.
Как-то холодным вечером они с Коровой брели домой через снежные заносы после вечерни в соседней церквушке, которую делили с местным настоятелем и его небольшим приходом. Вечерню возносили уже на пороге ночи, и в ее молитвах звучали мотивы сна и бодрствования, жизни и смерти, греха и воздаяния. Но в ней не было мягких успокаивающих звуков, и она оставляла по себе ощущение одиночества.
— Могу сказать тебе нечто, что, как я думаю, ты захочешь услышать, отче.
— Выкладывай, — сказал Поющая Корова.
— Помнишь, как мы удрали и пытались присоединиться к Кузнечикам? Они покормили нас, дали отдохнуть два дня, а затем бичами выгнали со стоянки, вокруг которой лежал точно такой же снег. Тебе было так же горько, как и мне?
— О, эти ременные бичи! Слушай, до сих пор не знаю, чем мы их так обидели. Я было думал, что ты или Крапивник подъехали к какой-то девчонке. Может, дело было в том, что наши родители возделывали землю? В чем было дело? Да, мне было горько, и при встрече с Кузнечиками мне до сих пор не по себе.
— Если бы мы стали сопротивляться, у нас появились бы шансы, но мы покорились и ушли. Здесь среди Кузнечиков есть женщина-Виджус, которая думает, что вроде помнит трех бродячих сирот, которые примерно в то же время оказались в их вигвамах. Она объяснила мне, почему они дали нам всего лишь поесть, утолить жажду и две ночи поспать.
— Объяснение жестокости не оправдывает ее.
— Может, и нет. Но я пытаюсь вспомнить и повторить то, что она мне говорила. «Кто захочет усыновить подростка, — сказала она, — не зная, как он рос?» Виджусам придется четыре или пять лет кормить его, одевать и учить обращению с лошадьми. И что в обмен? Грубый, неумелый и ленивый забияка, который только и знает, что лезть в драку. Он начнет доставлять беспокойство другим семьям. Может, она его поймает на одной их своих дочерей, но по законам выведения потомства они не смогут пожениться. Или, что еще хуже, он удерет и женится на дочери ее соперницы в деле выведения лошадей! Даже та семья, что скорбит по погибшему сыну, лучше усыновит молодого кугуара, чем приблудного мальчишку.
Поющая Корова засмеялся.
— Она знала о твоем котенке?
— Я прихватил Либраду с собой, когда навещал ее. Сама она удочерила созревшую девочку-подростка. Но у Кочевников, когда девушка вырастает, она остается при матери. Юноша, вырастая, оставляет и мать, и ее семью, когда женится. Дети, у которых нет матерей, желанны тут так же, как прокаженные, разве что они могут драться и чтут культ войны.
— Ременные бичи… — задумался Поющая Корова.
— Это было более двадцати лет назад, отче. А в этом году сам вождь хотел, чтобы я остался и учил его племянников. И я в мои годы был бы усыновлен.
— Я рад, что ты объяснил мне причины их жестокости. Благотворительность — вещь редкая, а порой она совершенно непрактична, — Поющая Корова на минуту задумался. — Бабушка вождя, наверное, поверила, что твой обет целомудрия защитит всех ее дочерей.
Отвернувшись, Чернозуб покраснел.
— Ты обещал забыть то, что я тебе рассказал на исповеди, — укорил он приора, когда они вошли в общую спальню монахов.
В таком маленьком приорстве каждому по очереди приходилось исполнять обязанности повара или уборщика. Топор передал Чернозубу, что папа хотел бы получить рецепт того самого жаркого из потрохов, и, когда пришла его очередь встать к плите, он попросил у отца Му разрешения приготовить блюда для всей той братии, кому позволено есть мясо. Когда разрешение было получено, Чернозуб купил у местного мясника все ингредиенты, приготовил блюдо и послал кварту его в папский дворец. Отсутствие ответа стало показателем, что он по-прежнему не пользуется благоволением папы. Либрада с удовольствием доела остатки. В первый же день своего пребывания там она поймала мышь, что обеспечило ей стол и кров.
— Почему ты назвал ее Либрада? Что это значит? — спросил приор.
— Имя испанское и означает «быть свободной». Что ее и ждет прежде, чем она станет такой большой, что сожрет одного из нас.
Зима 3245–3246 гг. была самой мягкой на всеобщей памяти. Большая часть орды Диких Собак, как обычно, повела своих коров на юг. Агенты Ханнегана среди безродных разбойников наблюдали за движением стад, но не замечали ничего особенного, о чем стоило бы докладывать, — вплоть до марта, когда воины всех орд собрались в армию под командованием самого властителя Хонгана, заместителем которого стал Оксшо. Несколько дней они неторопливо двигались на восток, затем повернули к югу и вышли к реке. Прежде чем Филлипео Харг узнал об этом рейде, конные Кочевники форсировали Нэди-Энн и с тыла атаковали те тексаркские части, которые окопались на восточном берегу Уочиты. С собой они прихватили трех Кузнечиков, обучавших собак, и около сотни боевых псов, которые рвали в куски всех пехотинцев, от которых не пахло Кочевником. Погибли по крайней мере шесть воинов Оксшо, которые не благоухали привычными для Кузнечиков ароматами; при свете полной луны пасхальными ночами псы вцеплялись в горло тексаркским солдатам и тем их невольным союзникам из Зайцев, которые ели слишком много лука, дабы от них исходили привычные тут запахи. Нападение собак в ночь на Святую субботу позволило силам Онму Куна беспрепятственно пересечь Уочиту и, примкнув штыки, одним ударом взять укрепление. К восходу солнца дня Пасхи собачники наконец смогли успокоить разъяренных псов, бой закончился, никто из Зайцев больше не пострадал, хорошо отдохнувшие войска мэра Диона пересекли реку и верхами понесли войну дальше на восток.
Ранним утром после сражения Хонган Осле Чиир встретился с Онму Куном на поле боя — тот ехал в сопровождении сил Зайцев, от командования которыми пока воздерживался. У него были свои причины неприязни к их шаманам. Зайцы не уважали Онму Куна, зная, что он занимался контрабандой. Почтительное отношение к владыке всех орд усиливалось тем фактом, что он был не из Зайцев. В этом сказывалось самоуничижение покоренного народа.
Сюда недавно прибыл отец Наступи-на-Змею, который в полдень 25 марта отслужил мессу в честь Воскрешения Христа — за много лет столь ранняя Пасха — и на глазах всех воинов и Зайцев, обитавших в этих местах, дал причастие властителю Хонгану Осле, вождям Оксшо Ксону и Онму Куну. Раздался взрыв всеобщего ликования — Христос одолел смерть, а Кочевники одержали верх над тиранией. Никогда еще на памяти старого священника угнетенный народ так бурно не выражал свою радость, как в этот день великого праздника.
Святой Сумасшедший провел тут не менее недели, восстанавливая уважение Зайцев к вождю их племени тем, что всюду сопутствовал ему и, слушая, как к Онму обращаются и бойцы сопротивления, и группы гражданских лиц, подтверждал слова вождя несколькими своими репликами, после чего толпа разражалась радостными криками.
После боя осталось примерно семьсот пленников, не получивших ранений. Воины из Зайцев начали было калечить их, но тут вмешался Святой Сумасшедший и положил этому конец. Этот обычай Кочевников был забыт вскоре после завоевания Тексарка и существовал лишь по отношению к пойманным шпионам и диверсантам, но Зайцы хотели лишь почтить древний обычай, поскольку Онму Кун рассказал им, что Хонган сделал с Эсситом Лойте.
Войска Ханнегана откатились на запад, где объединились в противостоянии мятежникам-Зайцам, и Онму собрал армию, которая вслед за легкой кавалерией Диона двинулась им навстречу. Поскольку в этих местах вражеские силы были уничтожены, а Зайцы, готовясь к новым сражениям, преисполнились энтузиазма, Хонган и Оксшо увели всадников Диких Собак из этого района.
Перейдя Уочиту, они должны были двинуться на запад и форсировать Нэди-Энн в таком месте, где их не заметили бы тексаркские разведчики.
Когда войска прибыли на место зимних стоянок, где их ждала остальная орда Диких Собак, Хонган Осле первым делом послал курьеров с отчетом о битве к Браму и папе Амену. Затем позвал к себе отца Омброза вместе со старшим шаманом духа Медведя и своей матерью из Виджусов и велел им тут же начать готовиться, чтобы сопровождать его в Новый Иерусалим ко двору Амена II.
Владыка орд и его спутники прибыли в Новый Иерусалим к концу апреля. Их пышно и торжественно встретили папа и мэр, который на короткое время явился домой с театра военных действий. В городе уже находился генерал-майор Куиглер Дюрод, полномочный представитель короля Теннесси. Дюрод не без труда освоил один из диалектов Кочевников (тот, на котором говорили Зайцы, ибо в молодости он служил в провинции как тексаркский наемник) и быстро подружился с Хонганом Осле. Вместе с Дюродом прибыли и оружейники с западного побережья, доставившие последние образцы моделей огнестрельного оружия.
Хотя Хонган Осле как Ксесач дри Вордар говорил от имени всех трех орд, Коричневый Пони высказал сожаление, что вожди Брам и Онму Кун не смогли присутствовать на военном совете. Через три дня в Пустую Аркаду прискакал разгневанный эмиссар Кузнечиков с претензиями в адрес папы.
Посланник Кузнечиков не был христианином. С вызывающим видом представ перед Аменом II и шестью членами курии, он огласил требование своего вождя:
— Пока вы не передадите Нуйиндена и носителя меча Гай-Си под мою руку, Кузнечики будут вести войну не против ваших врагов, а против вас!
— Похоже, что вашего вождя кто-то сознательно ввел в заблуждение, — сказал папа. — Нуйинден находится в приорстве вместе с другими монахами. Если он захочет отправиться с вами, ему никто не мешает.
— А желтый воин? Где он?
— Он в городской тюрьме. Не я посадил его туда. Единственный человек в этом помещении, имеющий отношение к городским делам, это кардинал Линконо, который здесь вырос. Не будете ли так любезны, ваше преосвященство? — папа кивнул маленькому белобородому человечку, который в своей красной шапке напоминал гнома. Затем снова обратился к посланнику: — Я думаю, ваш вождь хотел, чтобы его слова были услышаны нужным человеком. Я не вхожу в их число, как и его преосвященство Эбрахо, но он может организовать вашу встречу с нужным человеком.
— Разве не ты самый могущественный человек в этом отвратном месте? Разве не ты папа Красная Борода, владыка христианской орды? — вскинулся Кочевник.
— Не в полной мере владыка, как вы это понимаете. Можете считать, что я возглавляю первосвященство.
Прихрамывая, Линконо подошел к Кочевнику и встал с ним лицом к лицу. Для такой миниатюрной фигуры у него был на удивление низкий и звучный голос. На языке Кочевников он говорил с сильным акцентом, но понять его было можно.
— Молодой человек, что значит ваше выражение «отвратное место»?
Вместо него объяснение дал сам Коричневый Пони.
— Кочевники считают, что с гор спускаются духи зла, особенно Старые Зарки, неоплодотворенные чрева. Это верование объясняет, почему женщины Кочевников иногда дают жизнь детям-уродцам.
— Понимаю. Итак, молодой человек, сравним нашего папу с вашим старейшим шаманом духа Медведя. Ни он, ни ваш вождь не должны подчиняться друг другу. В данном месте вождем является мэр Дион. Но он только что покинул город, вернувшись к войскам. На его месте находится сын мэра. Церковь же — это нечто, напоминающее совет духа Медведя. И в данном случае мы ничего не можем сделать для вас, мой племянник, разве что молиться.
Линконо был достаточно умен, чтобы не назвать Кочевника «сын мой», но тому не понравилась и роль «племянника».
— Мой единственный дядя — это Дьявольский Свет, ты, седой коротышка. Мое имя — Синяя Молния, и я старший сын его старшей сестры. Оба мы свидетели преступлений Хадалы.
— Конечно же, вы имеете в виду преступление против Хадалы?
— Я говорю о преступлениях Хадалы, за которые он и был казнен.
У гнома отвисла челюсть.
— Преступления по какому закону? По закону Кочевников?
— По договору Священной Кобылы. Он нарушил его, вступив с войсками на наши земли. Хадала нарушил закон и не подчинился нашему вождю. Он приказал своим офицерам убивать своих же людей. И если бы Нуйинден и желтый воин не обрекли его на смерть, это сделал бы мой дядя.
— Подобным образом я об этом раньше не думал, — сказал Коричневый Пони. — А ты знаешь, Эбра, он прав. Хадала прямо и недвусмысленно нарушил договор.
— Святой Отец, не могу поверить своим ушам!
Синяя Молния схватил маленького кардинала за плечи и затряс его.
— Я могу начать войну или заключить мир, маленький кардинал. Мое слово — это слово моего дяди. Может, мы и не сможем принести пожар войны сюда, в эти дьявольские горы, но мы можем обрушиться на ваши силы, которые дерутся к югу от Нэди-Энн. Отведи меня к человеку, который держит в тюрьме жертву вместо того, чтобы посадить туда преступника.
В сопровождении огромного Кочевника, наступавшего ему на пятки, кардинал Линконо торопливо заковылял к дверям. Когда они вышли, Коричневый Пони повернулся к своему телохранителю:
— Топор, иди с ними и прихвати с собой Кум-До и Джинга. Побереги этого Кочевника, чтобы у него не было неприятностей, и позаботься, чтобы Слоджон смотрел тебе в глаза, когда зайдет речь о Гай-Си, — затем, повернувшись к кардиналу Пенитенциарию, который был и его личным исповедником, папа сказал: — Отправляйся, пожалуйста, в квартал для гостей и расскажи Хонгану Осле Чииру, что тут произошло. Синяя Молния не представляет, что его Ксесач дри Вордар находится в городе.
В административном здании Слоджон высокомерно отверг требование Кочевника. Тот, перегнувшись через стол, схватил его за уши и подтянул к себе. Слоджон заорал от боли. Сержант выхватил револьвер, но в воздух мгновенно взметнулись три меча.
— Брось его или расстанешься с головой, — сказал Топор.
Сержант подчинился.
Племянник Элтура уже стоял за спиной Слоджона. Заломив ему руку за спину, он держал нож у его горла. Подтолкнув Слоджона к дверям, Кочевник сказал:
— Этот пердун отправляется в тюрьму.
Почувствовав, что по груди у него струится кровь, Слоджон завопил:
— Останови его, Вушин! Останови его!
— Только вы можете остановить его, мессир. Не сопротивляйтесь и отведите его в тюрьму.
— За этим стоит Коричневый Пони!
— Нет, папа тут ни при чем! За всем этим тот, кто сейчас у вас за спиной. Вы в самом деле нарушили договор, мессир.
— Хорошо, мы идем в тюрьму.
Намерение это было прервано внезапным появлением Хонгана Осле Чиира и его двух шаманов. Едва только Синяя Молния бросил на них взгляд, он изумленно поперхнулся и отпустил сына мэра. Сделав почтительное кокай одному из избранников Дневной Девы, Супругу Прерий, он впал в молчание, ожидая приказов.
Владыка орд потребовал объяснений. Первым заговорил Синяя Молния, после чего в разговор вступили Слоджон и Топор. Затем Ксесач дри Вордар сообщил сыну мэра, что он, Ксесач дри Вордар, поддерживает требование Кузнечиков, и повторил Слоджону те же угрозы, которые тот уже слышал из уст Синей Молнии. За нарушение договора орды могут двинуться на Новый Иерусалим и принести войну даже в эти проклятые горы. В бою Зайцы могут объединиться с «привидениями» и без труда убить отца Слоджона.
Под таким напором обвинения были отвергнуты, и Гай-Си, освобожденный из тюрьмы, попал под опеку Синей Молнии. Поскольку Кочевник утверждал, что уполномочен говорить от имени своего дяди, Коричневый Пони пригласил его на военный совет, который прервался было из-за отъезда Диона, но сейчас был возобновлен в присутствии Кузнечика. Через курьерскую систему Кочевников папа отправил Браму послание, заверив вождя, что и Гай-Си, и Нуйинден уже на свободе. Кроме того, он поблагодарил за знакомство с Синей Молнией, который дополнил документ своими инициалами — вырисовывать их научил его Чернозуб, — и между союзниками снова воцарился мир.
После столь бурного появления Синяя Молния проявил себя опытным дипломатом. Несмотря на первоначальную угрозу разорвать союз и перейти на другую сторону, он доставил разведывательные сведения, собранные из нескольких источников. Новости были достаточно хорошими, но имелись и поводы для беспокойства. Филлипео обзавелся новым многозарядным оружием, хотя пока его было не столь много, чтобы обратить в свою пользу исход грядущих сражений. Сельская местность вокруг Нового Рима была в полной мере демилитаризована, но оккупационные войска поредели из-за необходимости бросить часть сил в провинцию, чтобы остановить продвижение к востоку армий Онму Куна и мэра Диона. Вождь Брам прикинул, что охранять подступы к воротам Нового Рима осталось не более семисот человек пехоты, эскадрона тексаркской кавалерии и наемников из уродцев.
Но тут пришли известия о неприятностях в долине. Тексаркские вербовщики попали в засаду и были перебиты.
— Интересно, кто бы это мог сделать? — под всеобщий смех с невинным видом спросил Куиглер Дюрод. Все присутствующие знали, что агенты Теннесси, замаскировавшись под уродцев, пересекли Грейт-Ривер и проникли на территорию Уотчитаха в районе Ол’зарка. Дальнейшая вербовка в Долине рожденных по ошибке была прервана, если вообще не остановлена.
— Если мы не нанесем удар в ближайшее же время, — сказал Хонган, — огневая мощь императорских сил стремительно возрастет. Мы потеряем преимущество владения тем оружием, что нам вручил папа.
Синяя Молния что-то пробормотал в знак согласия. Генерал Дюрод захотел узнать, можно ли использовать почтовую систему Кочевников, чтобы связаться с его людьми в долине.
— Если у вас есть надежный шифр, то может быть, — сказал Синяя Молния. — Есть риск, что курьера перехватят. И он не должен знать содержания послания.
Папа Амен принял неожиданное решение.
— Мы должны снарядить экспедицию для захвата Нового Рима и сделать это как можно скорее — пусть даже кто-то из вас и не согласится.
Никто не возразил. После столь долгих десятилетий изгнания Святой Престол возвращался домой.
Троицын день пришелся на 14 мая 3246 года, и Чернозуб уже неделю назад знал, что в город для консультаций с папой прибыли и Святой Сумасшедший, и другие именитые гости, но консультации носили закрытый характер, и он, как и все прочие обитатели города, понятия не имел, что происходит за закрытыми дверями. Приор Корова хотел, чтобы все они посетили мессу понтифика в папском соборе, сложенном из камней и бревен, но Нимми смог отвертеться. Вместо этого он побывал на обычной мессе в соборе по соседству, исполнил вместе с небольшим хором псалом «Приди, Дух творящий» и помог священнику причащать местных «привидений» и их обаятельных детишек.
Поющая Корова нашел монаха в саду, где он пытался освободить еще трепыхающегося голубя из зубов своего кугуара-уродца. Либрада цапнула его за руку и вцепилась в птицу. Нимми сдался.
— Я думаю, что Либраде пришло время обрести свободу, — сказал он приору.
— Мы позаботимся об этом, Нимми. А пока тебя ждет много дел.
— Она — моя забота, отче. Это я принес ее сюда. Ее надо выпустить на волю как можно дальше от людей. Она никого не боится. А почему ты сказал, что меня ждет много дел?
— Думаю, что так оно и будет. Папа хочет немедленно увидеть тебя. Он отбывает.
— Отбывает?
— В Новый Рим — не сомневаюсь, в роли завоевателя. А теперь забинтуй руку и беги во дворец.
Как только Чернозуб увидел, что Гай-Си на свободе, он устыдился непозволительной дерзости, с которой раньше разговаривал с папой, и теперь искал возможности принести ему свои извинения. Но Топор отвел ему место в багажном фургоне каравана, в самом хвосте, и процессия была в пути уже три дня, прежде чем он нашел возможность приблизиться к своему бывшему хозяину. Оба они ехали верхом.
— Благодари не меня, а Бога и Кузнечика, — сказал папа, отмахнувшись от извинений Чернозуба.
— Не понимаю, Святой Отец.
— Ты и не должен понимать! — фыркнул Коричневый Пони, но, помолчав, смягчился: — Кто-то рассказал вождю Браму, что ты и Гай-Си оказались в тюрьме за убийство кардинала Хадалы. Хадала нарушил договор Священной Кобылы, когда с военными силами вторгся на земли Кочевников. И вождь сам убил бы его, если бы его не опередил Гай-Си. Только не понимаю, почему он решил, что ты помогал ему.
— Я в самом деле помог, Святой Отец. Я поведал Гай-Си, что Хадала оказывает вам открытое неповиновение, и знал, что делаю, когда рассказывал ему это. Элтур все это знал.
— Понимаю. Словом, он жутко разгневался и прислал своего племянника с устным посланием к тюремщику Гай-Си.
— Чей он племянник?
— Стутцл Брам — Синяя Молния. Он как раз опередил компанию Хонгана Осле. Сначала он решил, что тюремщик — это я. И рассказал всем и каждому, что, если ты тут же не окажешься на свободе, он заключит мир с Ханнеганом и будет громить силы Диона, где бы он их ни встретил. В этот момент появился Хонган Осле и взял все на себя, он даже выступил с угрозой Новому Иерусалиму. Так что можешь благодарить Кочевников, а не меня. Я взял тебя с собой только чтобы доставить удовольствие Элтуру Браму.
— Вот, значит, зачем!
— Из-за этого и еще из-за твоей воинской отваги, — сказал Коричневый Пони и пришпорил коня, чтобы положить конец этому разговору.
Глава 27
«Кроме больных, которые очень слабы, пусть все полностью воздерживаются от употребления в пищу плоти животных, которые ходят на четырех ногах».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 39.Кардинал и вождь Хоукен Иррикава, который покинул Валану, направившись в свою страну, несколько месяцев назад, внезапно вернулся и присоединился к каравану курии. Он объяснил, что его дорога к северу от Реки страданий временно перекрыта присутствием тексаркских войск в том районе. Земли за рекой представляют собой открытые пространства, и в соответствующее время года Кузнечики и Дикие Собаки перегоняют сюда стада, хотя стоянки у них тут временные и нету загонов для случки. Если там оказались тексаркские войска, то тем самым они нарушили договор Священной Кобылы. На первых порах папа встревожился. Но, пристрастно опросив кардинала, пришел к выводу, что тот столкнулся с бандой хорошо экипированных и отменно вооруженных разбойников, которые подражали маневрам тексаркской кавалерии. Это было странно, но обеспокоился только вождь Оксшо.
— Слишком много разбойников пришло в движение, — тихо сказал он отцу Омброзу. — Слишком много, чтобы в это поверить.
Караван папы, по мере того как он продвигался к востоку, постепенно разрастался. Каждые несколько часов в растущую армию вливались группы из десяти или двадцати всадников. Минуя страну Диких Собак, легион вырос до шестнадцати сотен конников с вьючными лошадьми и скотом. Порой, когда в июне луна была в зените, ночные всадники с шумом носились по лагерю, издавая истошные боевые вопли и покатываясь со смеху при виде сонных людей, вскакивавших с лежанок. Говорили о грядущей победе, мечтали о будущих грабежах и фермерских женщинах. Такие разговоры пресекали лейтенанты Оксшо.
Чернозуб ехал в задке старого фургона в компании Либрады, своего кугуара. Из невыделанной кожи он сделал ошейник и держал ее на коротком поводке. Его одолевало томление духа. Он был не в силах молиться, разве что видел Бога в своей кошке.
То было лето в год от рождения Господа нашего 3246-й. В преддверии летнего солнцестояния перед рассветом над восточным горизонтом висела розовая полная луна. Когда Чернозуб выползал из-под фургона, он видел, что среди войск, заполнявших все пространство до горизонта, уже горели утренние костры, на которых готовился завтрак. Повсюду, сколько видел глаз, толпились вооруженные люди, лошади, коровы, стояли пушки; в этой чаше все булькало, но еще не кипело.
«Ханнеган знает, что мы приближаемся. Когда он предпримет ответные действия?»
Никто не торопился снова в дорогу, может, потому, что сегодня был особый день. Чернозуб не был в этом уверен, ибо не поддерживал связи с теми, кто командовал походом. Рядом с фургоном на треножнике висел котелок с остатками говядины. Украденным у оборванца штыком он отскреб с костей ошметки сырого мяса. Монах Лейбовица никогда не ел такого мяса без специального разрешения аббата, которое редко давалось, разве что в самые святые дни или если человек был серьезно болен. «Я в самом деле болен», — сказал он Джараду, который дышал у него за плечом. Оборванец снабдил его блинчиками, чаем и обычной порцией утренних оскорблений. Он был Кочевником из Диких Собак по имени Битый Пес, которого шеф-повар папы нанял поваренком, и предполагалось, что Чернозуб будет помогать ему, но в силу расстройства желудка и непреходящей печали толку от него не было. Единственными его обязанностями были сбор сухого навоза для костра на стоянках и чистка кухонного инвентаря во время движения.
Как выяснилось, день в самом деле был особым. Канун дня летнего солнцестояния Кочевники отмечали своим праздником костров; и как-то Церковь объявила 20 июня днем памяти святого папы Силвериуса, сына папы Хормисдаса. Силвериус как-то оскорбил императрицу Теодору, и она отправила его в ссылку — наказание привело его к болезни и смерти в 538 г. н. э., за что он и был назван мучеником. Папа Амен Спеклберд воспользовался торжествами в его честь (что и раньше случалось уже два раза), чтобы отдать дань уважения нашей Богоматери Пустыни, покровительницы его ордена. Но на этот раз Коричневый Пони решил отметить не праздник Спеклберда, а провести мессу суверенного понтифика Si diligis me[98]; целью ее было посвящение в епископы, которое и состоялось в этот жаркий и сухой день на виду у его воинства.
Для этой цели Амен II созвал всех восьмерых кардиналов, которые сопровождали караван. Он назвал их встречу консисторией и сделал соответствующее заявление. Он и Волк эр Пойлиф, епископ Северного графства, совместно с епископом Уорли Свайнеменом из Денвера рукополагают в архиепископы древнего, но умирающего епископа Кентерберри отца Йопо и-Лейдена Омброза и делают его апостольским викарием всех Кочевников — включая, конечно, и Кочевников-Зайцев, чьи нынешние священнослужители спасаются бегством от наступающих крестоносцев Западной церкви. Епископ Омброз с явной неохотой принес обряд повиновения Коричневому Пони. Это избрание явно не обрадовало старого священника. Папа произвел его и в кардиналы, о чем объявил перед консисторией. Омброз сказал, что старики духа Медведя подвергнут насмешкам его пышный титул, а в Тексарке его будут звать кардиналом Каннибалом. Омброз стал девятым кардиналом, сопровождающим главные силы крестового похода, и Коричневый Пони доверительно признался ему и Вушину, что скоро собирается назначить и десятого; имени его он не назвал.
Чернозуб редко видел папу, да и то на расстоянии, но ему казалось, что тот более, чем раньше, выглядел каким-то бесплотным и духовным. Может, близость мешала воспринимать некие черточки человека. Тем не менее изменения не всегда носили положительный характер. Коричневый Пони все чаще смотрел в небо, говорили те, кто видел его. Казалось, он постоянно что-то искал в облаках или за горизонтом, почти не обращая внимания на то, что делается вокруг.
Чернозубу было интересно, кто подсказал Коричневому Пони выражение, которое он приказал изобразить в качестве своего нового девиза на дверце кареты. На древнеанглийском вместо привычной латыни он гласил: «Черта с два ты получишь». Чернозуб-то понимал его смысл, но любопытно, улавливал ли его папа? Когда карета Коричневого Пони однажды встретилась с экипажем вождя Брама, кардинал Йопо Омброз был единственным членом Коллегии, понимавшим древнеанглийский, что и заставило его засмеяться, когда два изречения оказались рядом.
Шло празднование назначения Омброза в состав Священной Коллегии, когда с севера прибыл Онму Кун с отцом Наступи-на-Змею во главе отряда из тридцати вооруженных Зайцев. Они прибыли как раз в разгар праздника и привезли с собой болезнь, хотя в первые несколько дней после их появления никто не заболел. Чернозуб, который и так себя плохо чувствовал, был одним из первых, кто свалился после того, как Онму Кун отправился дальше на юг встречать караван; до него уже и раньше доходили разговоры, что в провинции свирепствует эпидемия. Сначала все грешили на воду, но через неделю заболели три воина и несколько маленьких Кузнечиков, а потом и Чернозуб Сент-Джордж, который и без того чувствовал себя хуже некуда. Как объяснял Онму Кун, на первых порах крестоносцы на юге связывали заболевания с отравленными источниками, которые оставляли после себя отступающие тексаркские войска, но коровы, которые тоже пили из них, отнюдь не пострадали. И похоже, что от людей, которые пили эту воду, болезнь переходила к тем, кто ею не пользовался. Насколько было известно, врага эта чума не коснулась. Болезнь, симптомы которой напоминали те, что поразили Валану до избрания папы Амена I, еще не стала эпидемией. Чтобы избежать ее, в некоторых боевых соединениях был введен карантин.
Чернозуб не был ни на мессе суверенного понтифика, ни на рукоположении отца Омброза, а наблюдал за всем происходящим с верхушки отдаленного холма, где, присев в высокой траве, мучился болезненными спазмами в желудке. Он отдал себя во власть дьявола. Он перестал молиться Божественному Провидению, разве что ему иногда вдруг приходила в голову эта мысль. Испуская газы, он прислушивался к себе и говорил «аминь». Он перестал медитировать и лишь от случая к случаю перебирал четки, вознося хвалу Святой Деве — но и тогда в роли Богоматери перед ним представала Эдрия.
Он вполне допускал, что никогда больше не увидит ее, ибо она стала монахиней. Он не просил и не собирался просить у Коричневого Пони подтверждения его слов, что, как только они покинут Новый Иерусалим, он отменит свой приговор о ее бессрочной ссылке. У него не было никаких оснований предполагать, что папа помнит свое обещание и сдержит его, и просить его он не мог. Он понимал, что буквально сходит с ума, и источником его космического помешательства был воспаленный кишечник; эти страдания усугублялись чувством вины, от которого у него ум за разум заходил в лето 3246 года от рождения Господа нашего, года Реконкисты; он не имел ничего общего с предыдущим годом, когда Нимми убил несчастного новобранца, ибо в том году Чернозуб не страдал от лихорадки и расстройства желудка.
Эти дни, когда он сходил с ума, вынудили его вести затворнический образ жизни. Только ответственность, которую он нес перед Либрадой, только обязанность вернуть ее к месту рождения, удерживали его от желания отбросить все надежды и исчезнуть. Он допускал до себя отца Наступи-на-Змею, но не исповедовался ему. Одна лишь мысль об исповеди усиливала расстройство пищеварения. Высокомерная отстраненность папы сделала его совсем чужим человеком. Путешествие было сплошным страданием, и каждые несколько дней выпадали часы, когда Чернозуб сдавался горячке и не контролировал свое поведение.
В один из таких горестных дней утешать его явился покойный папа Амен.
— Твой Христос — это подлинный человек, у которого нет личности, — на рассвете сказал ему Амен Спеклберд. — Он не прибегает ни к чьей чужой маске; он приходит и исчезает в твоем лице, которое и является его маской. Он приходит и уходит, как ему вздумается, он появляется на носу и на корме, и твоя маска совершенно не мешает ему. Она видит себя только в зеркале. Но настоящий Иисус, что без маски, жив и здоров; он спокойно сидит себе в одиночестве под мостом, где спит Христос и страдает желудком.
— А не являются ли наказанием сами по себе грехи как таковые? — задал Чернозуб дерзкий вопрос. Казалось, он помнил, что Спеклберд говорил нечто подобное во время девяти дней их совместного молитвенного бдения.
— Таким наказанием, как твоя встреча с дочкой старого Шарда? — с улыбкой ответил папа и исчез, прежде чем Нимми успел сказать, что она не была смертным грехом.
Кроме того, что Чернозуб был болен и телом, и духом, побегу мешал и другой фактор. Далеко вне поля зрения за линией южного горизонта на восток параллельным курсом двигался другой караван, а за ним мог появиться еще один. Было слишком много шансов попасться. Обычно пыль от другого каравана была видна и днем, а ночами мерцали костры, которые разводили караванщики. Когда фургоны поднимались на невысокие холмы, вдали появлялись смутные очертания повозок и всадников. Некоторые из фургонов поблескивали на солнце, словно были сделаны из металла, но в конце дня из-за жары казалось, что даже холмы отлиты из докрасна раскаленного железа. Конные Кочевники держались поодаль от таинственного каравана — так им было приказано. Никто из тех, с кем доводилось разговаривать монаху, ничего не знал о нем кроме того, что он вышел из Нового Иерусалима вскоре после папского каравана, а кто-то, кто знал кого-то, кого знал Вушин, сказал, что он везет секретное оружие и что его возглавляет магистр Дион.
Через несколько дней Чернозуб убедился, что они вступили в страну высоких трав, в прерии. Для этого ему не нужно было даже вставать с мешка с кормом, на котором он лежал у заднего борта дергающегося на ухабах фургона. Он знал — и потому, что проезжающие мимо воины начали говорить на диалекте Кузнечиков, и потому, что рядом с ними бежали собаки. Псы отнюдь не проявляли дружелюбия при первых встречах с Дикими Собаками и громогласно облаивали церковников и жителей Нового Иерусалима. Именно из-за них Чернозуб стал устраиваться на ночь не под фургоном, а внутри его.
Как-то утром в задок фургона вцепился догнавший его человек, который, отчаянно вопя, отбивался от своры животных, смахивавших на волков. Чернозуб помог ему забраться внутрь. Рычащий пес не собирался отпускать его голень. Либрада зарычала. И кугуар, и монах одновременно кинулись на собаку. Нога человека была обтянута штаниной военного мундира, и он продолжал орать, пока Чернозуб лупил пса оглоблей, одновременно придерживая огромную кошку.
— Слава Богу! И спасибо тебе, Нимми. Я и не знал, что ты с нами.
— Аберлотт! Какого черта ты здесь делаешь?
— Всего лишь участник крестового похода. Вушин разрешил мне присоединиться к команде. Черт возьми, никак идет кровь. Это все твоя кошка.
— Ты все время был в караване?
— Конечно, но сегодня первый день, как я свободен.
Чернозуб задумался. Когда папская команда церковников покинула Новый Иерусалим, их сопровождали семнадцать фургонов и «элитный» боевой отряд из Мятных гор, люди, чья безусловная верность папе гарантировалась лишь пугливым уважением к Вушину, их генерал-сержанту — титул, случайно придуманный правящим понтификом в момент игривого настроения. На мундире, пожалованном ему Аменом II, морщинистый старый воин носил золотые шевроны и звезду. То, что Аберлотт числился в так называемых штурмовых частях, лишь усилило недоверие Нимми, но студент поклялся, что говорит чистую правду. Чернозуб был рад его обществу, пусть всего лишь на день.
— Ты готов снова смыться? — спросил студент. — Как в прошлом году.
Нимми фыркнул.
— В прошлом году некий сумасшедший кардинал вел толпу любителей. В этом году наместник Христа ведет воинов трех орд и две небольшие армии.
— Две? А где вторая армия?
— Она идет к югу от нас.
— А, ты имеешь в виду цистерны. Это совсем другое дело. Даже знай я что-то о нем, и то не стал бы говорить. Но я ничего не знаю.
— Цистерны? Секретное оружие?
— Насколько я знаю, цистерны для воды. Нам ее много понадобится.
Когда они шли через земли Кузнечиков и папа поглядывал на небо, Барреган так часто кружил над процессией, что стал для Кочевников предметом шуток. За это время к Нимми несколько раз являлся папа Амен I, предупреждая, чтобы он не упорствовал в своем противлении хозяину. Когда он отвечал старому черному кугуару, Битый Пес обвинял его, что он разговаривает сам с собой, и обращался к Вушину с требованием прислать к монаху целителя. Выяснилось, что явившийся медик — личный врач самого папы, хотя пациент никогда раньше его не видел и не мог даже предположить, к какой из медицинских школ принадлежит доктор. Подобно Кочевникам, он был весь в коже и ругался сквозь зубы, как Кочевники, но у него была с собой черная сумка, полная трубочек, игл, пинцетов. Кроме того, ему было присуще обаяние, характерное для древней мистической школы аллопатов.
Врач рассказал Чернозубу, что папа тоже чувствует себя не лучшим образом, хотя четырехдневная лихорадка, как ее называли, пока его миновала. Симптомы болезни папы напомнили Чернозубу последствия ночи в Мелдауне. Чернозуб описал приготовление жаркого из потрохов, рецепт которого приводил достопочтенный Боэдуллус. Доктор тут же сказал, что это давнее блюдо Кочевников, и искренне возбудился, узнав, как благотворно оно подействовало на Коричневого Пони. Покинув Чернозуба, он тут же направился к повару. Это жаркое из потрохов легло в основу папской диеты. Скорее всего, именно оно стало основанием для возведения Чернозуба в кардинальское достоинство, когда папа в очередной раз впал в игривое настроение.
Поскольку марш конных армий был в то же время и религиозной процессией, каждый день должен был начинаться с утренней мессы, в ходе которой Кочевники-христиане получали в виде облаток плоть Христову, после чего движение возобновлялось и длилось весь день. Из уважения к своему владыке Хонгану Элтур Брам целую неделю терпел это ханжество, после чего через его голову попросил у папы разрешения возглавить передовой отряд своих разведчиков. Если предположить, что вождь Кузнечиков замыслил что-то недоброе, то идея была не из лучших. Коричневый Пони прилагал все старания, чтобы относиться к этому человеку без предубеждений. Папа, взяв вождя под руку, завел его в палатку Ксесача дри Вордара.
Сначала Хонган Осле Чиир отверг просьбу главы Кузнечиков, но папа сказал:
— Пришло время избавить мощную ударную часть от бремени литургической службы, тем более что мы сближаемся с врагом. И враг отлично знает, что мы приближаемся.
— Это верно, — ответил Святой Сумасшедший. — И меня серьезно беспокоит, что мы не видим никаких его ответных действий. Но я еще не готов передать мои силы под командование вождя Брама. С разрешения Святого Отца я объединю вождя и всех воинов, которых он решит взять с собой, с равным количеством Диких Собак под моей командой, и мы двинемся к границе, чтобы провести разведку боем.
Папа повернулся к Вушину, который тут же одобрил план, но добавил:
— Властитель Хонган прав — у него есть основания для беспокойства. Мы должны как можно скорее выяснить, где находится основная масса тексаркских войск, но до подхода наших главных сил разведчики должны избегать прямого столкновения с ними.
— Возможно, их боевые порядки оттянуты к востоку, — предположил папа. — Они не рискнут потерять контроль над Грейт-Ривер.
— В таком случае, — сказал Топор, — у Нового Рима слабая оборона. Мощные оборонительные линии будут вокруг Ханнеган-сити.
На том и сошлись. Оружие не менее шестисот воинов из двух орд получило последнее благословение папы; стоя на коленях, они выслушали последнюю перед битвой мессу. Вождь Брам и около двухсот неверующих — Кузнечики и Дикие Собаки — ждали на отдаленном холме окончания мессы. Затем обе группы объединились и поскакали на восток.
Раскинув свой двор среди поля подсолнечников в самом сердце земель Кузнечиков, папа назвал имя следующего кандидата в члены Священной Коллегии, где тот будет сражаться бок о бок с папой, после чего Вушин впал в транс наяву, а кардинал Йопо Омброз моргнул и отошел в сторону, что-то невнятно бормоча про себя. Папа громогласно объявил, что опала брата Чернозуба Сент-Джорджа закончилась и, впав в то же дурашливое настроение, которое заставило его придумать звание генерал-сержанта для своего телохранителя, он возвел Чернозуба Сент-Джорджа в кардинальское достоинство, сделав его дьяконом старой Римско-католической церкви Коричневого Пони — святого Мейси.
Монах не был тут же проинформирован, что удостоился такой чести, ибо в силу принятого порядка сообщение должно было поступить лишь от полного состава консистории, но до него донеслось какое-то дуновение, он что-то почувствовал, когда Аберлотт впервые обратился к нему со словами «ваше преосвященство». Нимми отнес это на счет свойственного Аберлотту сарказма и снова разозлился на него, когда Вушин, подъехавший к дряхлому фургону на белом жеребце папы, точно так же обратился к нему.
— Святой Отец послал меня выразить благодарность за особое жаркое и осведомиться о здоровье вашего преосвященства, — сказал Топор.
Чернозуб кинул на Аберлотта быстрый взгляд и ответил:
— Я испражняюсь по шестнадцать раз на дню, Топор. Я ослабел. Каждый четвертый день меня колотят судороги, и Битый Пес связывает меня. Если не считать всего этого, чувствую я себя отлично, спасибо Святому Отцу.
— Я передам ему, что ты умираешь, — буркнул Вушин и уехал. Днем прибыл врач, чтобы снова заняться Чернозубом.
— За свою болезнь можешь благодарить науку Ханнегана, — сказал он монаху. — С юга нам ее проклятье принесли воины Зайцев.
Порой врач говорил на языке Скалистых гор с акцентом Кузнечиков, а порой переходил на язык Кузнечиков, в котором слышался акцент Скалистых гор. Он заставлял Нимми грызть куски угля из многочисленных кизячных костров и пить болтушку из их пепла, посадил его на диету из мяса, сваренного в молоке, и давал жевать горькую кору. То были или рецепты Кочевников, или лекарства аллопатии, и врач со всех сторон окуривал больного дымом кенеба, бормотал литании и предписал курить кенеб в те дни, когда у Чернозуба начинался бред. Папа явно испытывал симпатию к этому лекарю, и Чернозуб был благодарен Коричневому Пони за его заботу.
Собираясь уходить, врач вручил Чернозубу небольшой пакетик.
— Чуть не забыл. Это вам от папы.
Чернозуб вскрыл пакет без большой охоты. Подарок от бывшего хозяина мог лишь усугубить чувство вины.
Порой ему хотелось прийти к папе и рухнуть распростертым перед ним, как он в ранние годы падал к ногам Джарада и братии, прося прощения за то, что пустил ящерицу в постель Поющей Корове и позволил себе дать петуха в хоре; но это было в присутствии братии, где он был равным среди равных. Но его нынешние прегрешения (laese majestatis culpa) можно было счесть непростительными. Все это, конечно, пришло ему в голову до того, как он вскрыл пакет и извлек из него красную шапку. Это была не та величественная пурпурная тиара, которая, когда впервые надеваешь ее, чуть не касается потолка кафедрального собора, а всего лишь ярко-красная шапка, позаимствованная у кардинала Хоукена Иррикавы; ее можно было опознать по дырочке, в которой кардинал-монарх крепил свое перо.
«Сим мы назначаем вас дьяконом святого Мейси», — гласила приложенная записка Коричневого Пони.
Папа дал ему три дня на поправку здоровья, после чего пригласил к себе в голову папского каравана. Чернозуб отказался от такой чести. Папа отказался принимать его отказ.
— Надень красную шапку, — сказал он. — Это значит, что тебе придется избирать следующего папу. Это не вознаграждение за святость или за хорошее поведение.
— Тогда, значит, за жаркое.
— Не только за него, хотя я не раз благословлял тебя, Нимми.
— В таком случае наказание за грехи? — предположил Чернозуб.
— Ну да! Ты склонен к симметрии. Или наказание, или награда. Ты всегда был симметричным дуалистом, Нимми.
— Симметричным дуэлистом? — переспросил Ксесач дри Вордар. — Что это значит, Святой Отец?
— Свободно управлялся с мечом обеими руками, — сказал стоявший рядом Топор.
Чернозуб держал красную шапку большим и указательным пальцами с таким видом, словно она была покрыта слизью.
— Придержи-ка его, Топор, — сказал папа.
Вушин положил руки ему на плечи. Коричневый Пони взял шапку у Нимми из рук, аккуратно водрузил ее на щетинистую тонзуру и пригладил ее. Когда генерал-сержант отпустил его, Чернозуб невольно вскинул руки к голове, но папа перехватил их и засмеялся.
— Я должен все время носить ее? — спросил кардинал Чернозуб Сент-Джордж, дьякон святого Мейси.
Когда наконец появились новости о войне, они пришли с тыла. Откуда-то на западе таинственным образом появилась тексаркская кавалерия и обрушилась на семьи Диких Собак. Посыльные рассказали, что одеты они были, как безродные, что устроили резню женщин-Виджусов и племенного скота. Стоянку одной из семей — Веток Энар — они вырезали полностью, наверное, чтобы избавиться от свидетелей, но тем не менее две дочери каким-то чудом уцелели, и одна описала кавалерийского полковника с деревянным носом и длинными волосами, прикрывавшими уши. Другая, Потеар Веток, прожила достаточно долго, чтобы назвать имя своего бывшего мужа Эссита Веток-Лойте, который был командиром отряда тексаркских мародеров. Она видела, как он перебил всю ее семью, после чего, полный ненависти, лично выпустил ей заряд в нижнюю часть живота, чтобы смерть ее была долгой и мучительной.
Тексаркцы, похоже, отлично знали, кого надо было убивать среди поголовья племенного скота, чтобы лишить Виджусов их извечного занятия. Кроме кровавых налетов на семейные стоянки, мародеры, как было замечено, вставая на ночлег, что-то делали с коровами Кочевников.
Когда обо всем этом было доложено Коричневому Пони, папа погрустнел, но не удивился. Он посмотрел на Хоукена Иррикаву и сказал:
— Ваше величество были правы. Те, кого вы встретили на севере, были тексаркцами, хотя я удивлен, что, забравшись так далеко, они не столкнулись с Дикими Собаками, — повернувшись к вождю Оксшо, он сказал: — Эту заботу тебе придется взять на себя.
Для Чернозуба эти слова прозвучали не приказом, не предложением, а просто констатацией судьбы Оксшо или, может быть, его собственной.
Вождь Оксшо собрал тех воинов Диких Собак, которые не ушли вперед с передовой группой разведчиков.
— Есть разница между тем, чтобы быть пастырем Божьей паствы и погонщиком диких коров Христа, — тихо сказал Коричневый Пони, глядя, как четверть его армии уходит, чтобы отразить угрозу с тыла.
Он послал курьера на восток, чтобы сообщить об этом рейде властителю Хонгану Осле.
Через три дня Хонган вернулся посовещаться с папой и Вушином. На востоке никаких новостей не было. Никакие тексаркские патрули им не попадались, и даже безродные бандиты держались подальше от орд, когда те разворачивались в боевой порядок. Вождь Кузнечиков выслал рейдовые группы в сторону Тексарка, но те еще не вернулись, когда Хонган отправился к папе.
Они подсчитали силы, оставшиеся в их распоряжении после того, как Оксшо и его воины направились к родным очагам. Силы уменьшились на четверть. Посовещавшись, лидеры созвали совещание вместе с командирами-привидениями того тайного каравана, что шел к югу от них. Основной план не изменился. Самая мощная группа продолжала, как и раньше, двигаться на юго-восток к Ханнеган-сити; уменьшились в численности лишь силы, предназначенные для штурма Нового Рима.
Вечером папа решил, что в течение хотя бы нескольких часов больше не будет никаких разговоров о войне. После ухода из Нового Иерусалима одна и та же группа людей неизменно вечерами после ужина собиралась вокруг папы. Летние ночи были теплыми, и все уютно устраивались около костра — так, чтобы видеть и слышать собеседников. Сначала кардиналы выражали желание отслужить вечерню, после которой следовало благоговейное молчание. Но затем папа возразил, ссылаясь на присутствие не-христиан вождей Кочевников, которые были частью его двора; эти вечерние собрания он назвал «Curia Noctis»[99] и предложил рассказывать разные истории. Этим вечером он предложил тему святых и праведников и разрешил говорить о чем угодно, но только не о войне.
Поскольку тут все еще присутствовал Святой Сумасшедший, папа послал за кардиналом Чернозубом, дабы тот присоединился к ним у костра. Но монах был слишком слаб, чтобы добраться самостоятельно. Топор подставил было ему плечо, но затем взвалил на спину и принес к папе.
— Где твоя красная шапка? — спросил Коричневый Пони.
— Изъята праведником, Святой Отец, — ответил Чернозуб.
— Неужто? Кто же этот праведник, ваше преосвященство?
— Ваш предшественник, Святой Отец.
— Тебя, брат Сент-Джордж, навестил Амен Спеклберд?
— Он приходит ко мне каждый четвертый день.
— В таком случае он должен был излечить тебя. Скажи ему, что для канонизации нам нужно чудо.
— Не думаю, что он захочет, чтобы из него делали святого.
— Господи, Чернозуб! Никто специально не делает святых. На нем или лежит святость, или нет. И нам остается только решить.
— Конечно, Святой Отец.
— Ладно, попроси его, чтобы вернул твою шапку. И без нее тут не появляйся.
— Завтра меня опять понесет, — признался Чернозуб Вушину. — Я уже чувствую себя как-то странно. Не позволяй мне сделать что-то неприличное.
Кое-кто из кардиналов, похоже, погрузился в дремоту. Наступило долгое молчание. Папа посмотрел на Вушина. Топор откашлялся и, начиная разговор, сказал несколько слов.
— Я восторгаюсь святыми. Вы можете мне не поверить, ибо сам я не религиозен, но мой народ чтит святых и праведников.
Одного из них зовут Бутса. Когда он, сжавшись в комок, при рождении взломал ворота матери, то сразу же встал во весь рост. Одной рукой он показал наверх, другой — вниз и сказал: «Небо наверху, земля внизу, а я тут в одиночестве, как почетный гость».
Омброз засмеялся.
— Каждый младенец вопит нечто подобное перед тем, как я крещу его. Именно об этом они и верещат. Вот уж точно — все они почетные гости.
Сидевший по-турецки Топор улыбнулся, словно именно это и имел в виду. Закрыв глаза, он превратился в шестнадцатифутовую золотую статую весом семнадцать тонн. Затем он исчез и возник стеблем травы. Чернозуб заметил, что папа Амен I явился несколько раньше, чем предполагалось, и сейчас стоит за пределами освещенного круга. Он остановился там, чтобы пописать. Спрятав свой длинный черный член под подолом рясы, он неторопливо подошел к костру и, имея в виду Нимми, коснулся пальцем своей спокойной улыбки. Не подлежало сомнению, что никто из присутствующих его не видит. Чернозуб мог даже обонять его, и от него шел запах смерти.
Нервничая из-за присутствия улыбающегося духа Спеклберда, Чернозуб нарушил молчание.
— Вы знаете, что святой Лейбовиц тоже говорил при рождении, — сказал монах. — Он высунул голову из родового канала и спросил акушерку: «Ну, и что дальше?» «Не трать времени, — ответила акушерка, — тебя ждут девяносто девять лет».
Топор что-то тихо проворчал.
— «Убирайся!» — сказал святой Айзек. И она исчезла. Он, как вы знаете, прожил девяносто девять лет.
Папа криво усмехнулся.
— То есть акушеркой у святого Лейбовица был сам дьявол? Эта история родилась в подвале аббатства Лейбовица?
— Там вы можете столкнуться со странными легендами, Святой Отец, — признал Чернозуб. — Самое раннее «Воспевание святого Лейбовица» не имеет автора. Человека повесили за то, что он написал книгу. Авторство тех десятилетий не сохранилось. Но это не единственная история, которая связывает Лейбовица с дьяволом.
— Расскажи и другую, — попросил папа.
— Честное слово, я не могу. Вы когда-нибудь слышали о Фаусте, Святой Отец?
— Думаю, что нет.
— Это о договоре с дьяволом. У нас есть только отрывки этой истории. Не могу объяснить вам, почему достопочтенный Боэдуллус считал, что Фауст — это Лейбовиц.
— Разве простаки не верили, что он заключил договор с дьяволом?
— Да, но Боэдуллус не был простаком.
Амен II засмеялся. Слово «простак» было вежливой формой обращения, и Нимми намекнул, что Боэдуллус не был джентльменом.
— Я хочу сказать, что он не относился к Упростителям, которые считали, что все книги, кроме Святого Писания, — дело рук дьявола.
— И достопочтенный Боэдуллус в это не верил?
От обилия вопросов у Чернозуба закружилась голова. Он видел, как папа Амен II медленно, по-змеиному извиваясь, превращался в шестнадцатифутовое золотое изображение идола Ваала. Через несколько секунд болезненной нерешительности Чернозуб рванулся, чтобы уничтожить идола, но его перехватил Вушин. Окровавленного, но не сломленного, Нимми отнесли к фургону и помогли Битому Псу связать его. Был второй день бедствия, и о войне не было речи только во время ночных сидений Curia Noctis.
Пока Чернозуб метался в бреду, кугуар Либрада удрал.
Глава 28
«Когда наступает голод, когда гибнут сады, когда братия ест корни юкки, листья кактуса, змей и дохлых кур и все же голодает, пусть аббат вознесет моление святому Бенедикту, прося его благословения на употребление в пищу четырехногого скота — но среди братии должен быть умелый охотник, чтобы выслеживать диких синеголовых коз».
Устав ордена св. Лейбовица, отклонение 17.Аббаты не похожи друг на друга. Джером из Пекоса, возглавлявший обитель до Завоевания, во времена папы Бенедикта XXII и правителя Ханнегана II, широко распахнул ворота монастыря, ведущие в мир, позволив своей пастве слушать лекции практикующих атеистов по натурфилософии и играть с электрическими машинами в подвале. Аббат Олшуэн мог только предполагать, какая судьба постигла религиозное призвание в те времена. Монахи возглавляемого им аббатства Лейбовица держались как можно дальше от изменяющегося мира, включая и противоречивые понтификаты двух Аменов. Не оскорбляя папу, подобная изоляция была невозможна при аббате Джараде, который к тому же был и кардиналом, но почтенный Абик положил конец политике Джарада, при которой монахи были в курсе церковных дел за стенами монастыря. Неизменно придерживаясь консервативных взглядов в своем истолковании положений Устава ордена святого Лейбовица, аббат не сообщал пастве большинство новостей, включая и церковные, поступающие из окружающего мира; единственными монахами, которым он рассказал о булле Scitote Tirannum, были управляющий делами аббатства и те братья родом из Тексарка или из провинции, чьи семьи вступили на тропу войны, да и им было предписано хранить молчание.
Но Амен II, когда выступил из Нового Иерусалима и двинулся на завоевание Нового Рима, прислал Олшуэну два письма. В первом говорилось, что он, слуга слуг Божьих, предпринял крестовый поход, дабы исправить ошибки своего возлюбленного сына, императора и что он нуждается в молитвах братии Лейбовица в поддержку святого дела. Второе письмо приказывало предоставить в аббатстве убежище некоей сестре Клер Ассизской на тот случай, если она решит воспользоваться милостью папы и вернется из своего изгнания в женском монастыре святого Панчо Вильи в Тараканьих горах, что к югу от Грейт-Ривер. Коричневый Пони не упоминал, что в прошлом сестра Клер была возлюбленной Чернозуба, но аббат и так это знал. Направляясь на юг, кардинал Иридия Силентиа навестила аббатство Лейбовица. Олшуэн был изумлен, убедившись, что сопровождавшая ее юная сестра — та самая девушка, которая в прошлом году бесстыдно обнажилась перед ним на дороге у монастыря, после чего отправилась к старому еврею на Столовую гору. Он смущенно поежился при этом воспоминании, но приказ предоставить ей временное убежище был отдан не кем иным, как папой.
Олшуэн неукоснительно исполнял устав, но он не был ни мятежником, ни особо храбрым человеком. Если по его указанию братии придется поддерживать своими молитвами замысел папы, то, значит, придется рассказать им и о крестовом походе. А если он обязан в любое время, которое скоро наступит, предоставить убежище босоногой потаскушке в облачении обители нашей Богоматери Пустыни, то, значит, он должен незамедлительно приступить к возведению дополнительной кельи.
Курьер, который доставил Олшуэну в аббатство Лейбовица папские письма, примчался из Нового Иерусалима и на следующий день галопом отправился на юг, в обитель святого Панчо Вильи — наверное, чтобы как можно скорее доставить девушке известие о милости папы.
Получив письма папы, аббат немедленно отправил в Новый Иерусалим и свое послание, призывающее Поющую Корову покинуть приорство и вернуться домой. Это тоже было против правил. Но аббат хотел выяснить, как отбытие папы из его убежища в Мятных горах скажется на взаимоотношениях между правительством Нового Иерусалима и монахами приорства святого Лейбовица, миссии ордена.
Специальная дополнительная келья была пристроена к северной стенке гостинички, но дверей между ними не было. По сравнению с монашескими кельями этот «шлюшкин домик» (так Олшуэн воспринимал ее) был просто роскошен. В нем были свой водопровод, жаровня на угольях для тепла и готовки, деревянная кадка для мытья, и всего в трех шагах от входной двери размещался отдельный туалет. Как и в кельях монахов, тут была лежанка с соломенным матрацем. Один стул, один стол, за которым можно было и есть, и писать, алтарь и распятие для молитв. На книжной полке — служебник, псалтырь и экземпляр Устава ордена святого Лейбовица. Если повар станет приносить еду, этой проститутке даже не нужно будет покидать гостевой отсек, разве что она будет ходить к мессе, что аббат счел бы нежелательным.
В аббатстве уже пребывали двое гостей. Одним был Снежный Призрак, младший брат вождя Оксшо, который хотел стать послушником. Другим — Тон Элмофиер Санталот, д-р наук, обладатель духовного сана, который, кроме того что был ассоциированным профессором тексаркского университета, имел еще и чин майора кавалерии запаса. Его отряд был призван на действительную службу, но он в это время взял отпуск, чтобы продолжить свои штудии в аббатстве, где все время проводил в читальнях, или под сводами подвалов, или высоко на хорах, общаясь с монахами только во время совместных трапез и на воскресных мессах. Никто, даже аббат, не знал цели его изысканий. Семьдесят два года назад аббат Джером попросил бы ученого рассказать им во всех подробностях о своих трудах. А теперь почтенный Абик убедительно просил его вообще ни о чем не говорить с монахами.
Снежный Призрак не знал ол’заркского. Санталот не говорил на языке Диких Собак, хотя, когда служил в провинции, немного освоил наречие Зайцев. И оба как-то разбирались в церковном. Общаться им было непросто, но, поскольку они считались врагами, оно было и к лучшему. Снежный Призрак уже посещал мессу и часами пел в хоре с монахами, хотя облачение ему только еще шили. Аббат строго предостерег его от политических дискуссий с тексаркским ученым, но в предостережении не было необходимости. Похоже, Снежный Призрак действительно опасался этого человека.
Казалось, что в жизни Санталота главным движущим стимулом было любопытство. Он заинтересовался, зачем нужно было строить дополнительную келью, когда в помещениях для гостей почти никого не было. Снежный Призрак ничего не мог поведать ему; брат-плотник сказал, что она предназначена для какого-то особого посетителя и это все, что он знает.
Тем не менее ожидаемая девица легкого поведения так никогда и не поселилась в дополнительной келье.
В конце июня с востока появился старый еврей, который все еще не умер. Он свалился у ворот. Аббат приказал отнести его в гостиничку, но когда тот стал бредить на иврите, Тон Санталот испугался, и тогда почтенный Абик разместил его в помещении для шлюхи, куда ему приносили хлеб и кипяченое козье молоко.
Брат-медик оказался не в состоянии диагностировать болезнь дряхлого отшельника, которая, впрочем, стала сходить на нет со дня его появления. Старик настоял на том, что готов вернуться к себе на Столовую гору, но на четвертый день, когда он собрался в дорогу, ему опять стало хуже, и он вынужден был остаться, чтобы прийти в себя. Когда жар спал и лихорадка отпустила его, он сообщил Олшуэну, что представляет опасность для общины и необходимо провести санитарные мероприятия. Он рассказал, что подхватил болезнь, когда переходил границы провинции, в военных целях вызывая погоду, устраивающую обе стороны. Он потребовал, чтобы для предотвращения заразы двери и окна его кельи прикрыли тканью от насекомых. Зная, что старый Бенджамин обладает медицинскими знаниями, аббат охотно согласился.
Когда Элмофиер Санталот узнал об истоках болезни старого Бенджамина, ученый незамедлительно направился в кабинет аббата. Того не оказалось на месте, поэтому он вручил его секретарю флакончик с пилюлями, объяснив, что они необходимы, дабы избежать заражения болезнью Хилберта, которую войска принесли в провинцию. На следующее утро, когда ученый, припозднившись, сидел за завтраком в трапезной, почтенный Абик сел рядом с ним и поставил на дубовый стол флакончик с пилюлями.
— Одна пилюля в день служит целям профилактики, — сказал ученый. — Чтобы излечиться, надо пять дней брать по двенадцать пилюль. У вас их тут достаточно, чтобы давать по две пилюли всем, кто с ним общался.
— И вы хотите, чтобы я все остальные отдал Бенджамину?
— Если хотите спасти его жизнь. Болезнь не всегда заканчивается смертью, но он так стар и слаб…
— Да, он стар, но далеко не слаб. Только я не понимаю, каким образом они очутились при вас. Вы говорите о болезни Хилберта?..
Тон Санталот огляделся. Трапезная была пуста. Подходило время ленча. Рядом с аббатом, слушая их разговор, были только брат-повар и брат-примиритель.
— По сути дела, болезнь Хилберта больше не является секретом. Наши войска получают профилактическое средство — эти пилюли, а захватчики — нет.
— Идите занимайтесь своими делами, — сказал аббат остальным монахам. Когда они ушли, он спросил у Санталота: — То есть вы хотите сказать, что войска Ханнегана сознательно распространяют эту болезнь в провинции?
— Именно так. Те, кто ведет войну, всегда используют болезни, почтенный аббат. Ведь бубонная чума — один из всадников Апокалипсиса, не так ли?
Олшуэн покачал головой.
— Нет. Есть разные истолкования.
— Вы должны помнить, что сексуальные заболевания были одним из видов оружия при так называемом Огненном Потопе. В конце последнего столетия Ханнеган Второй заразил равнины.
— Но при Ханнегане от чумы гибли коровы, а не люди.
— В общем-то да, от нее страдали коровы. И еще лошади. Хилберт работал и над этим. Он выделял микроорганизмы. Сегодня мы можем заражать скот Кочевников напрямую, не используя больных животных.
— Как это делается?
— Точно не знаю. Кавалерия имеет при себе специальные сосуды. И думаю, их содержимое развеивается по ветру.
— Вы говорили о болезни Хилберта, — пробормотал аббат, который от удивления часто терял дар речи. — Кто такой Хилберт?
— Тон Брандио Хилберт является — или являлся — блистательным эпидемиологом, до недавнего времени возглавлявшим кафедру наук о жизни в Ханнеганском университете.
— Являлся? До недавнего времени? Он мертв?
— Нет, он жив, но сидит в тюрьме. Он сознательно отказался от использования своих работ в военных целях. Но все уже собираются на ленч, и я должен вернуться к своим исследованиям. Благодарю вас, брат-повар, что накормили меня в неурочное время.
Когда они покинули трапезную, аббат преклонил колена и погрузился в молитву у ног деревянной фигуры другого сознательного отказчика, который основал орден. Не желая никому победы в войне, аббат молился за душу папы и за прощение ошибок его возлюбленного сына, императора. Отдав молитве краткое время, он вернулся в трапезную к своей пастве, где его ждал хлеб насущный, похлебка из красных бобов и молоко. Затем он передал пилюли старому еврею.
Лекарство оказалось достаточно эффективным. Через неделю пациент вернулся к себе на Столовую гору, оставив инструкции, как продезинфицировать помещение, которое он занимал. Процедура представляла собой сжигание серы в келье, которая после этого несколько месяцев должна была оставаться пустой. И пусть даже возникнет острая необходимость в этом «доме для шлюхи», он не должен использоваться по назначению.
Даже если Поющей Корове не понравилось приглашение аббата, поступившее в середине лета, он оставил это недовольство при себе, но его отъезд из Нового Иерусалима менее всего напоминал счастливое возвращение домой. Олшуэн пресек его настойчивое желание сразу рассказать новости о крестовом походе Коричневого Пони, ибо Поющая Корова был полумертвым от изматывающей жары. Аббат дал ему день отдохнуть, лишь после этого приступил к расспросам. Но на следующий день приор обители святого Лейбовица дал понять, что ровно ничего не знает о делах при папском дворе. Более того, сказал отец Му, крестовый поход совершенно не сказался на отношениях между его приорством и правительством магистра Диона, ибо по указанию Коричневого Пони таковых отношений и не существовало. Когда Олшуэн выразил желание обсудить проблему Клер Ассизской, выяснилось, что Поющая Корова знал ее только как Эдрию, имевшую отношение к Чернозубу, да и это признание он услышал лишь во время исповеди, так что ничего не может сказать о ней, а также не хочет, изображая терпение, слушать вежливые намеки аббата.
В этом году аббатство приняло послушниками семерых беглецов-Зайцев, так что старая келья Поющей Коровы оказалась занятой. Аббат разместил его в гостиничке вместе с послушником из Диких Собак и Тоном Элмофиером Санталотом, предварительно передав ему рассказ Санталота о болезни Хилберта. Отец Му не проявил никаких эмоций. Аббат удалился с легкой улыбкой. Он не попросил, чтобы Поющая Корова задал ученому какие-то вопросы.
Прошло три недели, но в аббатстве никто больше не заболел. Поющая Корова попросил разрешения вернуться в свое приорство. Олшуэн уже понял, что, пригласив его, совершил незначительную ошибку, но, прежде чем отпустить приора, он хотел в полной мере использовать его.
— Мне бы хотелось, чтобы ты просмотрел все работы, которые остались после брата Сент-Джорджа — не только боэдулларию, но и рукописи Дюрена, — и прикинул, можешь ли ты сделать глоссарий…
Далеко на юге от Санли Боуиттс возникло облако пыли. В это время у парапета стены стояли трое послушников, которые отмечали высоту и азимут солнца, чтобы сравнить их с таблицей эфемерид: целью их занятий была настройка монастырских часов. Из отдаленного облака пыли вынырнула карета в сопровождении двух всадников, влетела в деревню и через несколько минут появилась на дороге, ведущей к монастырю. Пораженные послушники, застыв на месте, наблюдали, как богато изукрашенная карета остановилась у ворот обители и двое солдат в форме Лареданского королевства открыли дверцы, из-за которых показались сестра Клер Ассизская, еще какая-то неизвестная сестра и сама кардинал, мать Иридия Силентиа.
— Пятеро в гостиницу! — крикнул кто-то.
Уже миновала последняя трапеза, и подходило время вечерни. Иридия Силентиа вошла в кабинет аббата и сначала отклонила его предложение присесть. Видно было, что она нервничает, но тем не менее полна энтузиазма.
— Сестра Клер — сосуд Святого Духа, ваше преподобие. Я в этом уверена. Причина моей убежденности в том, что она не может распоряжаться своими талантами и не будет стараться кого-то излечить, когда ей это будет не под силу. Она полна глубокого человеческого обаяния, и порой одно это ее качество может оказать целительное воздействие на человека, которому для излечения нужны положительные эмоции. Но она никогда не будет притворяться.
— Считает ли она, что эти способности дарованы ей Богом?
— Я думаю, что не имеет никакого смысла задавать ей такие вопросы! — резко сказала кардинал, и преподобный Абик покраснел. Иридия наконец села. — Если она скажет «да», то станет проблемой для Церкви. Если скажет «нет», то и в этом случае она станет проблемой для Церкви. Вот почему мы не можем принять такое сокровище в нашу обитель. Она приняла наши обеты, она ходит босыми ногами по нашим камням, молится вместе с нами, принимает плоть Христову, и мы сразу же полюбили ее. Но она подлинная драгоценность и должна получить освобождение.
— Знает ли о ее таланте брат Сент-Джордж?
— Она рассказывала мне, что поддразнивала его. Думаю, она имела в виду, что чуть-чуть, еле заметно намекала ему на свой дар. И вы сами сможете убедиться, что в душе нашей сестры нет места никому, кроме Господа.
— И значит, вы доставили ее ко мне…
Настала очередь кардинала покраснеть.
— Ибо папа сказал мне, что… Нет, не так. Папа велел мне доставить ее сюда, если она захочет покинуть нас. Я решила, что она этого хочет, помогла ей сформулировать это желание и сама привезла ее. Если бы я просто отослала ее, то не смогла бы рассказать вам о ней.
— Вы могли бы написать письмо.
— Я не могла бы написать его. Так же как вы не смогли бы ничего уяснить из текста, разве что решили бы уничтожить ее. Неужели вы не понимаете?
Преподобный Абик погрузился в молчание.
— Словно бы я стал спрашивать ее, от Бога ли ее дар или нет?
Кардинал одарила аббата такой теплой улыбкой, что у него сжалось сердце.
— Она хочет оказаться дома, если сын мэра пустит ее. Вам необходимо дать ей приют лишь до того времени, пока Святой Отец не организует ее возвращение.
— В курсе ли вы, что Святой Отец занят другими делами? — Силентиа пропустила мимо ушей иронию Олшуэна.
— Я скажу сестре Клер, что она должна избегать любых разговоров в стенах гостиницы.
— В настоящее время в ней обитает один из наших послушников.
— То есть она должна…
— Нет, я переведу его. А кто вторая сестра?
— Моя помощница. Она вместе со мной вернется в Сан-Панчо.
В дверях появился брат Камердинер, поймал взгляд аббата и в ответ на его кивок спросил:
— Ваше преподобие, вы сказали нашим гостям, чтобы они сами выбрали себе помещения?
— Да, конечно. А в чем проблема?
— Только в том, что одна из монахинь выбрала себе… э-э-э… изолированную келью.
— Вы должны вывести ее оттуда! Там еще опасно!
— Она сказала, что келью построили для нее. Я не знаю, что она имела в виду.
Кардинал, присмотревшись к выражению лица аббата, сказала:
— Думаю, что я знаю, — она встала. — Хорошо, ваше преподобие. Я очень устала и хотела бы отдохнуть. С вашего разрешения вечерню я отслужу сама, в своей келье. Я поговорю со своей ученицей. Благодарю вас за все.
Ученицей? Даже когда кардинал покинула кабинет аббата, в воздухе остался висеть отзвук этого слова.
Этим же вечером сестра Клер покинула возведенное аббатом обиталище шлюхи и вместе с остальными постояльцами расположилась в одной из келий гостиницы; по ее словам, она знала, что это помещение первоначально предназначалось для нее, но понятия не имела о карантине. Поющая Корова сдержал свой интерес к ней и не стал ни о чем спрашивать.
Теперь в помещениях для гостей обитали три монахини, два солдата, ученый из Тексарка, Кочевник, который, возможно, станет послушником, и отец Поющая Корова. Эдрия не выходила из своей кельи, если не считать, что они все вместе направлялись в трапезную или шли к мессе. Кардинал, ее помощница и Снежный Призрак из Диких Собак часто отсутствовали в здании, предпочитая отправлять службу вместе с братией. Поющая Корова был занят в книгохранилище-скриптории, составляя глоссарий по работам брата Чернозуба, а Тон Элмофиер Санталот лазил по книжным полкам в подвале или, устроившись на хорах, делал выписки. Лареданские солдаты большей частью были предоставлены сами себе, и Эдрия оставалась за закрытой дверью. Один из солдат на другой день съездил верхом в Санли Боуиттс и привез оттуда кувшин местной бражки. Когда оба они основательно надрались, самый смелый из них постучал в дверь к хорошенькой монахине и предложил ей выпить.
Эдрия открыла двери, взяла протянутый кувшин и сделала несколько основательных глотков.
— Спасибо, капрал Бровка, — улыбнулась она, закрыла двери и задвинула засов.
Бровка снова постучал, но ответа не последовало.
— Ты видел, как она мне улыбнулась?
Отец Му и юный Кочевник вернулись из церкви, а вскоре появился и Санталот. Солдаты предложили выпить и им, но в кувшине почти ничего не осталось, и все отказались. Вернувшись, кардинал присела в читальне, прежде чем отправиться отдыхать. Солдаты спрятали кувшин и сделали вид, что спят.
— Мы уезжаем завтра утром после службы, — сказала мать Иридия. — Нам предстоит поблагодарить монахов за их гостеприимство, — она говорила на церковном, который был единственным языком общения для гостей монастыря. Солдаты владели им весьма плохо, но как люди военные, они интересовались ходом кампании нынешнего папы, и у них было много вопросов. За два дня пребывания в аббатстве они почти ничего не узнали.
Утром, после заключительного разговора с аббатом, мать Иридия со слезами простилась со своей ученицей, после чего со спутницей-монахиней покинула аббатство. После их отъезда Эдрия около часа заливалась слезами в своей келье. Теперь она жила в гостинице с Поющей Коровой, Снежным Призраком и Элмофиером Санталотом, ученым. Аббат Олшуэн сказал Снежному Призраку, что он не должен покидать свою келью, но тот возразил, что еще не готов к испытанию одиночеством и молчанием. Удивившись, аббат бросил быстрый взгляд на Эдрию, словно Кочевник намекнул ему, будто еще не готов принять обет целомудрия, но не стал настаивать. Кочевники редко давали обет служения Господу, и, если не считать Поющей Коровы, брату Крапивнику, повару аббатства, не с кем было поговорить на эту тему на своем родном языке или даже на схожем диалекте.
Это был день поминовения святой Клер, год спустя после того, как она приняла обеты, которые сейчас были сняты с нее, когда Эдрия, сестра Клер Ассизская, совершила чудо в гостинице аббатства Лейбовица.
В конце августа брат Крапивник получил разрешение навестить Поющую Корову в гостинице, и Эдрия, сестра Клер Ассизская, увидела, что брат-повар болен раком, который грызет ему горло. Он уже мог говорить только хриплым шепотом. Свой рак он называл Братцем Крабом и шутил по его поводу. Когда он сидел и разговаривал со своим старым другом Му, она подошла к нему со спины. Едва она прикоснулась к нему, брат Крапивник приподнялся, но затем с улыбкой снова опустился в кресло и позволил Эдрии ощупать его горло. Когда кончиками пальцев она с силой нажала на точку под адамовым яблоком, он опять вскинулся.
— Расслабься, брат. Больно?
— Не очень, — прошептал Крапивник. — Что ты сделала? Во мне словно что-то хлопнуло.
Какое-то время она продолжала поглаживать ему горло, затем оставила его и ушла в свою келью. Отец Му перекрестился. Заметив жест, брат Крапивник повторил его.
— Лучше никому не рассказывать, — пробормотал Поющая Корова.
Через три дня Крапивник заговорил в полный голос. Пошли разговоры. В течение недели сестра Клер вылечила воспаленный нарыв, грыжу, избавила от абсцесса в челюсти и предположительно от воспаления глаза. Все это могло бы пройти незамеченным, но когда она излечила от близорукости старого библиотекаря брата Обола и он четко увидел перед собой прекрасную женщину, которая сняла руки с его глаз, он издал восторженный вопль, за которым последовали такие громогласные изъявления благодарности, что они донеслись до ушей преподобного Абика.
Поющая Корова присутствовал в гостинице, когда аббат подошел к закрытым дверям кельи Эдрии.
— Я велел тебе не иметь дела с монахами!
— Я не имела дела с монахами.
— Кардинал Силентиа запретила твои фокусы с излечением.
Сестра Клер открыла двери.
— Прошу прощения, ваше преподобие, но она ничего не запрещала. И я не занимаюсь фокусами с излечением.
— Ты смеешь со мной спорить! Где твоя преданность религии?
— Вы предпочитаете, чтобы брат-библиотекарь остался полуслепым?
— Это моя ошибка, ваше преподобие, — вмешался отец Му. Он пошел на прямую ложь. — Это я послал его к ней.
— Что? — Олшуэн задохнулся от возмущения и был вынужден сделать паузу, чтобы взять себя в руки. — Пока ты здесь, ты ни на кого не будешь возлагать руки. Ты поняла?
— Да, ваше преподобие.
— Будешь ли ты повиноваться?
— Да, ваше преподобие.
Аббат перевел взгляд на Поющую Корову.
— Думаю, тебе как раз пришло время возвращаться домой.
— Благодарю, ваше преподобие, — и как только преподобный Абик удалился, он воскликнул: — Аллилуйя!
Сестра Клер улыбнулась.
— Когда поедете, сможете ли доставить письма мэру и моей семье? — спросила она.
Но Поющая Корова еще не успел уехать, когда у Эдрии появились раны. Приходя к мессе, она опускалась на колени на самых задах церкви, за колонной, где была скрыта от всех монахов хора. Отсюда она всегда могла первой покинуть церковь. Следуя за ней в гостиницу, Поющая Корова заметил темные пятна в отпечатках ее босых ног на песке. Когда она ступила на пол в гостинице, стало отчетливо видно, что ее следы окрашены кровью. Поющая Корова окликнул ее и спросил, где она так поранилась.
Юная монахиня остановилась, подобрала подол рясы и посмотрела вниз. Увидев то, что предстало ее глазам, она взглянула на отца Му. А когда она поднесла руки к лицу, он увидел, что и ладонь ее кровоточит. Эдрия казалась очень смущенной и растерянной.
— Кто вас поранил, сестра?
— Не знаю, — у нее дрожал голос. — Было темно. Думаю, что дьявол. На нем была такая же ряса, как на вас.
— Что? Кто-то в самом деле напал на вас?
— Это было как во сне. Помню молот… — Эдрия умолкла, глядя на него дикими глазами, потом кинулась в свою келью и заперла дверь. Поющая Корова слышал, как она молилась. Он пошел искать преподобного Абика, которого нашел в молитве перед деревянным Лейбовицем в коридоре.
— Она сказала, что это было как во сне, — рассказал аббату отец Му. — Но она думает, что там был кто-то с молотом, может, сам дьявол…
— Ее изнасиловали?
— Об этом она ничего не говорила.
— Пойдем. Ты говорил брату-фармацевту?..
— Он уже идет.
Когда они вошли в гостиницу, фармацевт уже был на месте. Дверь в келью Эдрии была открыта, сама монахиня распростерлась на лежанке. Едва они переступили порог, как фармацевт вытолкал их, вышел сам и прикрыл за собой дверь.
— Что у нее за раны? — прошептал аббат.
— Это раны Христовы, — тихо ответил медик.
— О чем ты говоришь?
— У нее раны от гвоздей. Рана от копья.
— Стигматы? Ты говоришь, что у женщины… м-м-м… у сестры могут быть стигматы?
— Да, она обрела их. Разрез на боку совершенно чистый. Раны на руках и на ногах окружены синевой. Она упоминала о молоте.
— Дьявол! — вырвалось у Олшуэна.
Он повернулся и выскочил из гостинички; Поющая Корова шествовал за ним по пятам.
— Да воздается! — он сплюнул. — Да будет покарано!
— Прошу прощения? Что вы имеете в виду, ваше преподобие?
— Я запретил ей пускать в ход свою силу исцеления. И вот как она мне ответила!
Те несколько секунд, что они шли к монастырю, Поющая Корова молчал, а затем покачал головой.
— Завтра я отправляюсь домой, ваше преподобие.
Аббат Олшуэн остановился.
— Без разрешения?
— Вы уже дали его. Помните?
— Конечно, — аббат повернулся на каблуках и в одиночестве пошел дальше.
Через несколько часов, когда брат Крапивник Сент-Мари пришел обсудить изменения в диете для больных, он нашел Абика Олшуэна лежащим на полу в кабинете. Правая нога у него не двигалась. Пытаясь заговорить, он издал лишь какое-то невнятное бормотание.
Брат-фармацевт пришел прямо в лазарет, куда Крапивник принес Олшуэна.
— У него удар, брат? — спросил Крапивник.
— Да, боюсь, что так.
В аббатстве, как полагалось, был приор, и отец Девенди немедленно появился в сопровождении Поющей Коровы. Крапивник вернулся на кухню.
Приор Девенди повернулся к приору Поющей Корове:
— Можешь ли ты попросить явиться ту сестру, которая излечивает?
— Ты знаешь о ней?
— Преподобный Абик передал мне рассказ матери Иридии. Я понимаю, что он был обеспокоен, но… ты же знаешь, что он может умереть.
— Я попрошу ее. Ты в курсе, что она… м-м-м… что она ранена? Брат-фармацевт рассказывал тебе?
— Нет, — вмешался фармацевт.
— Опиши ее раны отцу Девенди, — приказал ему отец Му. — Только не истолковывай их происхождение.
— Понимаю. Надо, чтобы у нее была какая-то обувь и чтобы она не ходила без бинтов.
Поющая Корова посмотрел на аббата. Преподобный Абик лежал с закрытыми глазами и мотал головой из стороны в сторону. Это ничего не означало. Му решился.
В кладовке он нашел пару маленьких сандалий. Они были очень старыми и, вполне возможно, когда-то принадлежали ему или какому-то другому мальчику-Кочевнику, которому стали малы. Он отнес их сестре Клер и сказал, что когда-то их носил Чернозуб. Она ничего не ответила, но без возражений надела их.
— Куда мы идем, отче?
— К преподобному Абику. Ты нужна ему.
Эдрия привыкла к подчинению и вышла, не спрашивая, почему она вдруг так понадобилась. Когда она прихрамывая вошла в лазарет и приблизилась к постели, преподобный Абик громко застонал и отпрянул от нее. Глаза его были широко открыты, а на лице застыла маска ужаса. Левой рукой он попытался прикрыть глаза, чтобы не смотреть Эдрии в лицо. Она остановилась и посмотрела на аббата.
— Какие свиньи! — грубо сказала она и перекрестилась забинтованной рукой. — Я ничего не могу для него сделать.
— Что ты имеешь в виду? — спросил приор Девенди.
— Я имею в виду, что с сегодняшнего вечера я бессильна. И он приказал мне больше ничего не делать, — повернувшись, она направилась к дверям.
— Сестра Клер, прошу вас! — сказал Поющая Корова. — Он может умереть.
Она снова перекрестилась и, не оглядываясь, вышла в коридор.
На следующий день она исчезла из кельи гостиницы, где не оказалось и ее маленькой дорожной сумки. Никто не видел, как она уходила, но на постели осталась записка: «Мне жаль вашего аббата. Спасибо за гостеприимство. Да благословит вас Бог».
Никто не знал, куда она делась. Возвращаясь в Новый Иерусалим, Поющая Корова остановился в Санли Боуиттс, чтобы порасспросить о ней. Ее видели, когда она шла к горе Последнего Пристанища. По тропе приор добрался до подножия утеса.
На камне он нашел следы крови, но больше никаких примет не осталось. Значит, она была с Бенджамином. Отец Му не сомневался, что старый еврей излечит Божьи стигматы. Маясь смутным чувством вины за то, что оставляет ее и преподобного Абика, он развернул своего мула обратно к папской дороге, что вела на север. Уже подступал сентябрь, и ночи были безлунными.
Глава 29
«Так же, как есть рвение зла и ненависти, которое отвращает от Бога и ведет в ад, есть и рвение добра, которое отвращает от пороков и ведет к Богу».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 72.Кардинал Чернозуб Сент-Джордж, дьякон святого Мейси, пристроившись на корточках на склоне холма, с долгими мучениями опустошил кишечник (в первый, но далеко не последний раз сегодня) и в эту минуту услышал «тра-та-та» многозарядной винтовки. Очередь донеслась со стороны главного лагеря, который располагался на широком пологом берегу ручья, над которым нависал холм.
С того места, где он стоял, вернее сидел на корточках, Чернозуб не мог видеть лагеря. Ибо для свершения своего утреннего ритуала, единственного, которым он предпочитал заниматься в одиночестве, он избрал западный склон небольшой возвышенности, холмика столь маленького, что его не было видно за деревьями. По правде говоря, Чернозуб тосковал по дому. Не по какому-то определенному месту — у него никогда не было ничего, хоть отдаленно напоминающего дом, если не считать аббатства Лейбовица, и пусть даже ему иногда (на самом деле довольно часто) не хватало общества братии и безопасности привычного образа жизни, определяемого Уставом, он никогда не скучал по аббатству как таковому. Его тянуло к пустыне, к прериям, к стране Пустого Неба.
И хоть на западе он не видел ничего, кроме лесных зарослей, Чернозуб знал, что за ними лежат открытые пространства — прерии, уходящие в необозримую даль, без лесов и без городов. Они напоминали о Вечности. На западе и небо было куда выше.
Безграничное, молчаливое и строгое.
«Отсюда я приветствую тебя, Пустое Небо».
Тра-та-та.
Чернозуб торопливо поднялся, подтерся пучком травы и успокоился, перестал волноваться, ибо понял, что это за звуки. Там не было перестрелки, а шло празднование. Воинам вождя Кузнечиков внушили, что надо беречь драгоценные медные гильзы, но они маялись отсутствием военных действий и решили изобразить звук очередей из новых «папских» ружей. Как и все, чем занимались Кочевники, они быстро научились издавать звуки, неотличимые от настоящих выстрелов.
Чернозуб впервые обратил на них внимание несколько дней назад, когда вернулся отряд разведчиков, и сказал своему боссу, Битому Псу, что воины умело изображают канонаду.
— Изобразили бы они лучше, как драят кастрюли, ваше преосвященство, — проворчал Битый Пес.
Эти «тра-та-та» мешались с шумом, который издавали собаки. Боевые псы, которых вели на поводках, не лаяли, а издавали тревожный звук, напоминавший одновременно вой и рычание. Вся эта какофония доносилась из лагеря папских войск, раскинувшегося на опушке леса у изгиба речушки, именовавшейся Тревожной или Потревожь Кого-то. Запахнув рясу и подпоясавшись бечевкой, щурясь от раннего утреннего солнца последних дней сентября, Чернозуб перевалил через вершину холма и стал спускаться к лагерю. Сандалии он нес в руках, чувствуя босыми ногами приятную влагу росистой травы. За деревьями он видел, как пасутся, переходя с места на место, лошади и настороженно поглядывают на собак, которые с дьявольски продувными мордами кружили вокруг них.
«Тра-та-та» перемежались воплями и криками, теперь Чернозуб видел размалеванных Кузнечиков, потрясавших в воздухе ружьями. Их было куда больше, чем небольшой отряд.
Что-то подняло их на ноги или, точнее, посадило в седла.
Чернозуб был почти рад. Теперь, по истечении нескольких недель, когда до Нового Рима оставался последний бросок, среди вооруженных Кочевников ощутимо стало сказываться напряжение, которое давало о себе знать и во всей атмосфере папского крестового похода. По мере того как мощный, почти полуторатысячный отряд день за днем полз на восток, в прерии все чаще встречались перелески; они становились все многочисленнее, все гуще и длиннее, пока в один день — и Чернозуб запомнил его, этот день — положение не изменилось: теперь уже полосы прерий вдавались в гущу лесных массивов. Это напоминало оптическую иллюзию; одна вещь на глазах превращалась в свою противоположность.
Когда страна высоких трав кончилась и пошли леса, воины стали опасаться, что столкнутся с сопротивлением со стороны тексаркских войск, которые, предположительно, Ханнеган оставил, чтобы охранять подходы к Святому Городу. Но ничего не произошло. Войска ожидали, что им окажут сопротивление полуоседлые фермеры-Кузнечики и те поселенцы, которые велением Филлипео обосновались среди них. Ничего не было. Передовые конные патрули не находили ничего, кроме брошенных ферм, сожженных или догорающих амбаров; скот был перебит или угнан, оставив после себя только следы и кучи еще теплого навоза. Бревенчатые дома были сожжены или ограблены, маленькие домики печально глядели пустыми глазницами окон и дверных проемов. Кузнечикам доставляло особое удовольствие битье стекол, и их отсутствие вызывало у них растущее нетерпение. Эти подлые пожиратели травы или сами побили их, или забрали свои окна с собой.
Новый кардинал оставался столь же неизменно привязан к своему ветхому фургону, как в бытность простым монахом, но несколько раз Чернозуб оставлял свои горшки и кастрюли и отправлялся осматривать брошенные дома, надеясь — хотя он никогда не признавался в этом даже самому себе, — что, может быть, ему удастся найти следы Либрады, своего маленького кугуара-уродца, которая удрала, не дожидаясь, когда хозяин сам даст ей свободу. Но Либрада не ела мертвечину, а те несколько фермеров и их семьи, которые попались Чернозубу на глаза, были мертвы. Несколько раз он был свидетелем, как группы верховых Кочевников, распевая похоронные песни и уверенно держась в седлах, углублялись в гущу леса — на первых порах они откровенно волновались, но затем в них появилась уверенность, переходящая в скуку. Сельская местность вокруг Нового Рима обезлюдела. Тут не было ни воинов, с которыми можно было драться, ни женщин, которых можно было насиловать или хотя бы защищать от насилия. Здесь не было ничего, кроме деревьев, бессловесных как лошади и недвижимых как трава. Фермеры — многие из них были родом из Кузнечиков — оставили свои фермы, и если даже Ханнеган оставил тут войска защищать город, тоже куда-то исчезли.
Кто-то говорил, что фермеров угнали военные. Раненый старик, которого нашли на полу амбара и притащили в лагерь, где он и скончался, успел рассказать папе и его курии, что именно тексаркские солдаты перебили окна в его доме, подожгли поля его и соседей, но Чернозуб решил, что он врет. По крайней мере, в чем-то. В военные времена искренность была столь же редка, как и красота. И то и другое появлялось случайно, в неожиданных местах — как блик солнца на пуговице одежды трупа.
Тра-та-та.
Надо было что-то делать наконец. Чернозуб чувствовал, что в нем живут два человека: один боялся этого возбуждения, а другой наслаждался им; один неторопливо спускался по склону холма к пасущимся лошадям, а другой, притормаживая, зарывался пятками в мягкую землю. Ему нравилось на вершине холма, ибо тут он возносился, или почти возносился, над верхушками деревьев. Спускаться к ним было почти тем же самым, что спускаться в тюремный подвал.
Тра-та-та. По крайней мере один из выстрелов был настоящим. Похоже, что разведчики обнаружили главные силы Тексарка и сегодня разразится сражение. Ему предстоит развернуться на востоке. Полупройдя, полупропахав путь по склону холма, Чернозуб прищурился, глядя на залитые солнцем стволы деревьев. За ними на расстоянии максимум одного конного броска лежал Новый Рим. А за городом, невидимая отсюда, тянулась Грейт-Ривер — Мисспи, как называли ее травоядные. В течение месяцев Чернозуб опасался появления тут войск крестоносцев, но теперь он ждал неминуемого развития событий, пусть даже они означали битву. Пусть в глубине души он об этом и сожалел, но Чернозуб уже знал, что такое война, и он знал, что хуже самого сражения его долгое ожидание, изматывающее напряжение и густой запах пота мужчин в непрерывном движении.
Лагерь пропах дерьмом и дымом. От него несло зловонием лихорадки Хилберта, тошнотной пустотой кишечника, которую ощущали, кроме Чернозуба, не менее трети лагеря — и Кочевники, и христиане. Запах был особенно силен в тех местах, где заросли высокой травы приближались к деревьям, где мир Пустого Неба исчезал в переплетении ветвей плотной стены стволов. По мере того как крестовый поход папы приближался к Новому Риму, становилось все больше грязи и раздавленных в темноте куч дерьма. Мать Церковь возвращалась домой.
Тра-та-та!
Внизу в лагере продолжали полыхать огромные ночные костры. Бревна, огромные, как трупы, трещали и дымились, столь же неохотно, как и трупы, занимаясь огнем. Здесь, в лесистой меткости, все было пропитано сыростью. Подол рясы, скользивший по высокой траве, промок. Чернозуб присоединился к толпе, собравшейся вокруг ямы с костром в центре лагеря. Тут смешались в единую массу люди, кони и собаки. Многие бойцы подтянулись сюда от небольших лагерных костров Диких Собак и Кузнечиков, держась поближе к Ксесачу дри Вордару и его личной страже. Воины Кочевников, толпясь вокруг костра, поплевывали в него, делая вид, что стреляют в непроницаемый серый полог нависшего над ними неба. Похоже, что снова собирался дождь, который мог зарядить и на неделю.
Держа в руках свое многозарядное ружье, из-за деревьев вышел вождь Кузнечиков Элтур Брам и присоединился к шаману в причудливой шляпе, который, скрючившись, сидел на белом муле.
Тра-та-та.
Подозрительным было отсутствие папы, но в компании присутствовал небольшой отряд папской гвардии. Он прибыл на лошадях какого-то странного вида. Ружья у них были точно такие же, как и у вождя Кузнечиков. Чернозуб с удивлением заметил среди них Аберлотта.
— Не будьте столь грустны, ваше преосвященство, — сказал пухлый студент из Валаны; ружье он держал с умелой сноровкой.
— Куда ты направляешься? — спросил Чернозуб, не обращая внимания на сарказм своего старого друга.
— За сухарями, — Аберлотт показал на очередь, с самого утра выстроившуюся у фургонов; в ней стояли и Кузнечики, и Дикие Собаки — все как один вооруженные. — Идем.
В этой очереди уже стоял Вушин, он же Топор, который, потеснившись, пропустил Аберлотта и Чернозуба вперед. Чернозуб знал, что это было общепринятой практикой у Кочевников, когда каждый человек тащил за собой вереницу друзей и родственников. Если он вставал в очередь, то, можно считать, с ним вставали и все остальные.
— Доброе утро, Топор.
— С добрым утром, кардинал Нимми. Почему такой печальный?
«Неужели у меня в самом деле такой грустный вид?» — подумал Чернозуб. Он пожал плечами. Может, дело в болезни. Казалось, она не отпускает его уже несколько лет, хотя, судя по меткам, которые он делал в фургоне, недомогал он всего две недели.
— Может, из-за войны, — сказал он. — Война всегда наводит печаль.
— Кое на кого, — уточнил Аберлотт. Он откинул длинные пряди волос и, словно на счастье, коснулся корявого отростка хряща в том месте, где его ухо было стесано тексаркским кавалеристом.
— На всех, — сказал Топор.
Очередь ползла вперед, и стоящие разминали ногами грязь, которая, казалось, никогда тут не исчезала, даже под покровом сухой травы.
— Похоже, его преосвященство явно не в себе из-за его удравшего маленького котенка.
— Она не так уж и мала, — сказал Чернозуб, — и я хочу, чтобы ты перестал звать меня преосвященством.
— Прости, кардинал, — ответил Аберлотт. Подошла его очередь. Он получил два сухаря и один дал Чернозубу. Дополнительные сухари выдавались только вооруженным. Чернозуб неохотно взял его. Жизнь была достаточно трудна и без постоянных издевок Аберлотта.
Вместе с ним и с Топором он вернулся к разгоревшемуся костру.
— Такова война, — сказал Аберлотт. — Я думаю, передовые отряды Диких Собак уже вчера вошли в город. Сопротивления не было. А сегодня идем мы с Элтуром Брамом и его шаманами, — он кивнул в сторону старика на белом муле. — Может, нам доведется увидеть базилику святого Петра.
— Ты идешь? — спросил Чернозуб.
— Получил разрешение. Вместе с большинством папской гвардии. — Аберлотт бросил взгляд на Вушина, папского генерал-сержанта, который лишь пожал плечами. Вушин поддерживал все решения своего хозяина.
Вскинув ружье, Аберлотт нацелил его в небо, подражая воинам Кочевников.
— Тра-та-та, — сказал он, но в голосе его не было убежденности. Он улыбнулся, показав Чернозубу плохие зубы, и разжал ладонь, на которой лежали три медных патрона. — Его величество вождь не хотел брать нас, но его святейшество папа Амен II настоял. Мы — его глаза и уши.
— И ружья, — добавил Чернозуб.
— И это тоже.
Морось все больше напоминала дождь. Чернозуб спрятал кардинальскую шапку под пологом фургона — он опасался, что под дождем ее красный цвет может вылинять, — и собрал кастрюли и сковородки, с утра оставленные ему Битым Псом. Возвышение до звания десятого кардинала крестового похода не освободило его от обязанностей помощника поваренка, мойщика посуды. А также не уменьшило интенсивности приступов лихорадки, сотрясавших его с головы до ног.
Недужила треть лагеря — почти тысяча человек. Удушливое зловоние человеческих экскрементов мешалось с обычными запахами стоянки — конского пота и дыма от костров. Общее настроение было полно мрачности. «Может, будет дождь», — подумал Чернозуб, когда, складывая кастрюли и сковородки, он осторожно обходил вездесущие кучки собачьего дерьма. Лучше дождь, чем ожидание его. На Кочевников, казалось, не действовали никакие неприятности, но от дождя они старались укрыться.
Чернозуб покончил с посудой, оттерев ее песком на берегу ручейка, который вот уже тысячу лет тек из-под каменной глыбы, и проделал долгий обратный путь к своему фургону с пологом. Он прошел мимо папской кареты («Черта с два ты получишь») и мимо блестящих металлических фургонов магистра Диона, караван которого присоединился к ним два дня назад в том месте, где травянистые полосы прерий становились все уже и уже и в них все чаще встречались груды битого бетона и камней.
Этим утром Чернозуб впервые при свете дня увидел вблизи дионовские фургоны. Они смахивали на печки на колесах. «Цистерны», — назвал их Аберлотт, но кто повезет воду с выжженных равнин на дождливый восток? Ясно, что они представляли собой какое-то оружие.
На сиденье одного из фургонов дремал уродец. Увидев Чернозуба, он расплылся в идиотской улыбке, перекрестился и разразился смехом. Чернозуб подумал, что он над ним издевается, но тут увидел Коричневого Пони рядом с Дионом, которые, скрытые от глаз, стояли за одним из металлических фургонов. Похоже, они спорили и положение Диона было не из лучших. Чернозуб не видел выражения лица папы, но узнал неторопливый жест рукой, когда папа, смиряя свое нетерпение, с юридической обстоятельностью убеждал своего собеседника. Монах, ныне кардинал, повернулся и заторопился обратно, к центру стоянки. Он знал, что навлечет на себя неприятности, если папа увидит его без шапки.
День уже пошел на вторую половину, когда наконец хлынул дождь. В северо-восточной части неба весь день собирались тяжелые тучи — они напоминали всадников на вершинах холмов, лавина которых рванула вниз, когда вернулся отряд вождя Кузнечиков. На этот раз не было ни имитации стрельбы, ни гарцующих всадников. Промокшие воины были полны мрачности. На спине одной из лошадей ехали двое, а белый мул нес на себе привязанный труп; он был примотан подобно вьюку, и на нем не было накидки от дождя. Бок мула был розовым от стекающей крови, размытой дождем.
— Это шаман вождя, — сказал Аберлотт Чернозубу, который помогал ему спешиться. Он было протянул монаху свое ружье, но Чернозуб не взял его.
— Тексаркцы?
Аберлотт пожал плечами.
— Снайпер, — сказал он. — Они стреляли в нас с больших домов.
— Больших домов?
— В сущности, это были груды камня, хотя в некоторых из них оставались окна. Оружие у нас было получше, но мы их не видели. Да и вообще мы не сталкивались с тексаркскими войсками.
Четыре женщины распутали веревки, удерживавшие шамана, и унесли тело. Собаки выли, рвались с поводков и прыгали, стараясь дотянуться до бока белого мула, от которого пахло кровью.
— Это, должно быть, дело рук тексаркцев, — сказал Чернозуб.
— Не думаю. Палили со всех сторон, но у нас ранило всего двоих, хотя все мы были на открытом месте. Я стоял как раз позади шамана, когда он упал. Он пел какой-то гимн Виджусов, и ему попали прямо в горло. Удачный выстрел.
— Удачный? — переспросил Чернозуб.
— Удачный для кого-то, но не для него, — Аберлотт показал Чернозубу три пустые гильзы, которые лежали у него на ладони, как маленькие кусочки яичной скорлупы. — Хотя я выпустил все три свои пули. Мне, в отличие от тебя, понравилось, — он намекал на подавленность, охватившую Чернозуба после того, как он почти год назад убил своего противника в бою, развернувшемся на краю прерий. — Выстрелил все три, тра-та-та.
Настала очередь Чернозуба пожимать плечами.
— А мне нравится, — продолжал настаивать Аберлотт.
Сам город произвел на него куда более сильное впечатление, чем стычка. Новый Рим был отнюдь не дырой в земле, как Данфер, сказал он, или кучей развалюх, как Валана. Он состоял в основном из каменных зданий, окруженных цветами и деревьями.
— Центр города — все сплошь большие дома. Их возводили из камня и железа. Их не беспокоила необходимость защищаться. От кого? Как ты можешь их оттуда выкурить? Как драться с людьми, которые не хотят драться?
— Они одолели вас, — сказал Чернозуб.
— Да это даже не было боем. Они даже не очень-то и стреляли. Они прятались в городе и иногда постреливали по нам.
— Кафедральный собор нашел?
Аберлотт отрицательно помотал головой.
— Мы ехали за вождем. Он сказал: «Выкурить их оттуда и бросить их печенки псам!» — Аберлотт саркастически ухмыльнулся, показав себе за спину, где, спешившись, в центре лагеря бродили разгневанные, смущенные и пристыженные Кочевники. Доносился плач женщин, обихаживавших раненого. Тот умирал. Он был ранен в бок выстрелом из ружья, заряженного камнем.
Чернозуб расстался с Аберлоттом у санитарного фургона, где перевязывали раненого. Он хотел понять, успели ли тексаркцы приступить к выпуску многозарядных ружей, и надеялся, что вид раны подскажет ему ответ. Но рана была просто раной и не содержала в себе ответа; она ни о чем не говорила. Уродливый разрез пересекал волосатую плоть Кочевника, как дорога, без всякой необходимости проложенная в прерии. В задней части фургона готовили к погребению тело шамана. Сквозная рана в шее старика уже была замазана глиной цвета его кожи.
Прах к праху, пепел к пеплу. Обоих погибших вынесут из-под сени деревьев под спокойный и высокомерный взгляд Пустого Неба. Но лишь когда кончится дождь.
Женщины и санитары проводили Чернозуба такими взглядами, словно на нем была кардинальская шапка.
На следующий день, когда военачальник Кузнечиков совещался с понтификом и Ксесачем дри Вордаром, в путь отправилась группа поменьше. Как члену курии, Чернозубу было предложено участвовать в обсуждении, после чего он, конечно, покончил с кастрюлями и сковородками и отпустил Битого Пса на весь день, чтобы он смог напиться кумыса и поиграть в кости. Подозрение Чернозуба, что император вывел из Святого Города все свои регулярные войска, подтвердилось, когда вернулся арьергард отряда Брама с единственным живым пленником — фермером, вооруженным мушкетом, который стрелял камнями. Его выволокли из одного из «больших домов» вместе с двумя его напарниками, которые не выдержали десятимильной обратной дороги в лагерь крестоносцев. Из допроса пожирателя травы выяснилось, что и его, и других фермеров тексаркские солдаты вытащили из домов и пригнали в город, где вооружили устаревшим оружием и развезли по самым высоким развалинам. Им втолковали, что если они сдадутся, то фанатики антипапы — Дикие Собаки, Кузнечики и Зайцы — подвергнут их жестоким пыткам; но если они продержатся, их спасут тексаркские подкрепления, которые подойдут из Ханнеган-сити.
Коричневый Пони усомнился в истинности последней части рассказа, его поддержали и остальные члены курии. Что же до пыток, то фермер скончался еще до того, как его убедили, что все это пропаганда.
Аберлотт подумал, что попал в ловушку.
— Но ты все воспринимаешь как ловушку, — напомнил приятелю Чернозуб.
Парочка сидела на краю фургона, под лучами забытого солнечного света, слушая бесконечные воинственные речи Кочевников. Пусть даже от них ничего не зависело, они получили разрешение папы и курии.
— Все так и есть, — прошептал бывший валанский студент. Длинные сальные волосы он откинул назад, демонстрируя, как знак доблести, отрубленное ухо. Винтовку он держал между колен. Хотя он, по крайней мере, с технической точки зрения, был членом папской гвардии, он носил, как принято у всадников Диких Собак, костяные серьги и волосяные браслеты. Чернозуб подумал, что Аберлотт походит на человека, который избежал ловушки Матери Церкви лишь для того, чтобы попасть в ловушку войны.
— Мы можем пересидеть их, — сказал Коричневый Пони. Теперь он куда лучше объяснялся с Кочевниками и не нуждался в Чернозубе как в переводчике. — Если их притащили в город, то вряд ли у них хватит еды, чтобы протянуть зиму.
— Зиму? — переспросил вождь Кузнечиков. — До нее еще далеко. Наших женщин мы оставили далеко позади, и им, так же как Диким Собакам, угрожают эти безродные, которые нападают из-за Реки страданий. Без Виджусов наша медицина слаба, но велика военная мощь. И мы должны ударить немедля, пока еще в состоянии. Мы разгромим их малыми силами. И сожжем дотла.
Эти слова присутствующие встретили довольным бормотанием. Были вскинуты смоченные слюной пальцы, как бы подтверждая, что ветры дуют главным образом с запада. Для Кочевников такой жест был сигналом к открытию огня, а также означал их желание увидеть пылающий мир.
Амен II поднялся, сохраняя на лице не присущее ему выражение духовности и надмирности. Когда Чернозуб вчера видел его, он не осознал, насколько больным и изможденным он выглядит. На голове у него почти не осталось волос. Его лицо, обтянутое кожей, походило на яйцо, но яйцо плохое.
— Новый Рим — это Святой Город, — отчетливо произнес он на церковном. — Он посвящен Матери Церкви. Он не будет сожжен. Мы пришли сюда, чтобы взять его, а не уничтожить.
Он снова сел. Когда его слова перевели на наречия Диких Собак и Кузнечиков, послышалось недовольное бормотание. Оно смолкло, когда, встав, взял слово Ксесач дри Вордар, военачальник трех орд.
— Мы собираемся идти на юг, к Ханнеган-сити, — сказал Чиир Хонган Осле. — Там сердце империи, а не в Новом Риме, который представляет собой всего лишь груду развалин. Мы идем и будем идти на юг. И теперь вместо ложных маневров мы нанесем настоящий мощный удар в южном направлении. И теперь, когда мы знаем, что в Новом Риме осталось лишь несколько защитников, у нас появились дополнительные силы для штурма Ханнеган-сити. Тем быстрее завершится война. И мы сможем вернуться к нашим женщинам и к нашим зимним пастбищам, — он говорил на языке Диких Собак с незначительными вкраплениями выражений на диалекте Скалистых гор и совершенно не прибегая к церковному. Чернозуб подумал, что это зловещий признак. Крестовый поход с каждым днем терял свое предназначение, все больше походя на грабительский налет трех орд.
Когда Ксесач сел, среди Кочевников стали раздаваться одобрительные возгласы. За спиной у него стоял мальчик, которому полагалось придерживать одеяние вождя, когда тот садился; еще один оберегал головной убор из перьев на случай ветра. Кочевники все прибывали, и теперь по обе стороны фургона, в котором сидел Чернозуб, стояли толпы мужчин, среди которых изредка встречались женщины и дети. Совещание курии превратилось в митинг, на котором присутствовали и воины, и возницы. Это тоже было довольно зловещим признаком. У кардинала Чернозуба Сент-Джорджа появилось ощущение, что он приперт к стене. А кишках у него громко урчало, заглушая гул толпы, и он уже стал подыскивать путь к бегству.
— Стоит оставить тут несколько сотен человек, — сказал Элтур Брам, — и они выгонят фермеров из Нового Рима!
Вушин покачал головой, но, как обычно, не проронил ни слова. Чтобы ответить вождю, встал Коричневый Пони. Он споткнулся, вставая, и Чернозуб был удивлен и слегка шокирован, увидев у него под рясой пустую плечевую кобуру.
Придерживаясь за бортик фургона, папа Амен II взмолился в последний раз.
— Нам нужны бойцы здесь, — сказал он. — Продемонстрировав свою силу, мы вынудим фермеров без боя покинуть город.
Чернозуб знал, что Коричневый Пони старался избегать открытых столкновений. Он пытался понять, что им руководило: то ли желание сберечь жизни, то ли стремление избежать разрушения города и собора святого Петра. Но едва он задал себе этот вопрос, ответ пришел сам собой. Жизни ничего не стоили.
Папа, на которого, казалось, никто не обратил внимания, сел. Не было никакого рокота протеста, его даже никто не поблагодарил за высказанное мнение. Та власть, которой он обладал, как Чернозуб сам видел, над конклавом в Валане, сошла на нет. Может, сказалась ночь в Мелдауне или его красноречие оказалось бесполезным в присутствии военачальников и их воинства; при желании они воспринимали его как выдающегося оратора, но в эти дни у них не было настроения вести долгие разговоры.
Или, может, все дело было в деревьях. Их было так много, они подступали со всех сторон и казались едва ли не воплощением зла. Чернозуб прикоснулся к кресту, который носил под рясой, и, как каждый раз, когда впадал в панику, воззвал к образу святого Лейбовица. Но вместо иронической улыбки святого Айзека Эдуарда он увидел раскаленный шар солнца пустыни и внезапно испытал такой прилив тоски по дому, что чуть не свалился с лежанки в фургоне.
— В чем дело? — прошептал Аберлотт. — Ты в порядке?
— А ты? — ответил Чернозуб.
Воины, стоявшие с краю толпы, снова начали выкрикивать свое «тра-та-та». Они устали от ожидания сражения. И в той же мере они не хотели въезжать верхом в город, защитники которого стреляют по ним из окон «больших домов».
— Что бы ни говорил его святейшество, они собираются выжечь их, — сказал Аберлотт. — Куда ты собрался?
Элтур Брам снова поднялся, чтобы взять слово. Чернозуб пробрался сквозь толпу к большой канаве, на краю которой даже в этот час, даже при всем ожесточении дебатов, тужась, сидели страдальцы.
Когда он вернулся к лагерному костру, вокруг него стояла такая плотная стена людей, что пробиться сквозь нее было невозможно. Вождь Кузнечиков продолжал говорить. Чернозуб горел в очередном приступе лихорадки и чувствовал сильную слабость. С трудом подтянувшись на руках, он забрался в фургон, завернулся в одеяло и уснул. Откуда издалека до него доносился грохот барабанов и торжественно-воинственные «тра-та-та».
Этой ночью, когда Чернозуб спал, к нему впервые за неделю явился Амен I. Старик предстал перед ним в облике кугуара. «Всегда ли у него была морда хищника?» — подумал Чернозуб во сне. Да конечно же! И Эдрия тоже была здесь. Улыбаясь, она держалась рядом со Спеклбердом, восседая на белом коне, как Фуджис Гоу; но нет, ряса ее была распахнута, и то, что он принял за белого коня, было сиянием, исходившим из тех ее ворот, в которые он однажды…
Кто-то потряс его за ногу. Это был Аберлотт.
— Мы уходим, — сказал он.
— Уходите? Кто уходит? — садясь, простонал Чернозуб. Аберлотт висел на задке фургона, просунув в него голову. Физиономия его была размалевана. Сальные волосы убраны назад и заколоты. За его спиной Чернозуб видел небо цвета серого металла. Он слышал, как, переступая с ноги на ногу, фыркают лошади, как смеются и переругиваются всадники. И как неподалеку лают собаки.
— Они всю ночь были на ногах, — сказал Аберлотт. — Когда ты пошел спать, состоялось еще одно собрание. Но только между вождями. Папу отослали.
— Отослали?
— Вушину разрешили слушать, но и его выставили, когда он выразил несогласие.
Чернозуб был потрясен. Никто и ниоткуда не мог выставить Вушина.
— Выставили? — переспросил он. У Чернозуба все еще кружилась голова, он полубодрствовал, полубредил, не в силах вернуться из своего сна с кугуаром. Сев, он со странной мгновенной ясностью осознал, что вся его жизнь после ухода из аббатства, после встречи с Коричневым Пони, в сущности, является сном. Но почему же Спеклберд, а не Коричневый Пони все время приходит к нему во снах? Потому что он был в той реальности, которая сейчас казалась ему сном.
Аберлотт ухмыльнулся и пожал плечами.
— Ну, не совсем выставили, но попросили удалиться.
Чернозуб выбрался из фургона. Дождевые тучи, которые день за днем ползли по небу, исчезли, и в лагере было светло как днем, хотя солнце еще не встало.
— Берут всего лишь по небольшой группе из каждой орды, всего человек триста, — слишком громко сообщил Аберлотт. — Остальные направляются на юг с Ксесачем дри Вордаром — брать штурмом Ханнеган-сити. И я с ними!
— Но ты же в папской гвардии!
— И папская гвардия уходит. Вся, кроме Вушина. И, кроме того, не папа дал мне вот это! — Аберлотт разжал пальцы. На ладони, где прошлой ночью лежали три пустые гильзы, сейчас их было шесть, и все полные; все были с одного конца снаряжены темными головками пуль, словно готовыми рвануться к цели.
— Значит, пока! — гневно бросил Чернозуб. Завернувшись в рясу и ежась от утреннего холодка, он поспешил к выгребной яме. Присев на корточки, он сквозь кусты видел, как сотни людей подтягиваются, перекрикиваются, испускают газы, смеются.
Тра-та-та! Кто-то возился с собаками, кто-то — с лошадьми. Туманная дымка, которая последние несколько дней висела над лагерем, пронизанная дождем и испарениями леса, поднялась и исчезла, а небо на востоке просветлело. Почти тысяча воинов, двинувшись в путь, пересекали ручей, и многие из них колотили по металлическим бокам фургонов, чтобы послушать, как они звенят.
— Он взял с собой всех здоровых, — пробормотал Чернозуб.
— Их тут не так много, — сказал сосед по канаве, голос и запахи которого явно отдавали болезнью. — Я вовсе не такой здоровый, но я тоже иду.
Он говорил на языке Диких Собак. И не успел Чернозуб ответить, он подхватился и побежал, даже не успев подтереться.
Сквозь кусты, прикрывавшие отхожее место, Чернозуб понаблюдал, как лошади пересекали ручей, а затем заполз обратно в постель. До завтрака оставалось около часа, и он хотел немного передохнуть. Погрузившись в сон, он поискал Спеклберда и Эдрию, но это было то же самое, что бродить по брошенному дому, где уже нет даже мебели. Когда он проснулся, его снова трясла лихорадка. Он сел, чувствуя, как кружится голова. По положению солнца, лучи которого пробивались в прорезь полога, он прикинул, что уже около полудня.
— Ваше преосвященство, — сказал Битый Пес, — его святейшество — или как там его? — словом, его преподобие папа хочет тебя видеть.
— Коричневый Пони?
— Он хочет, чтобы ты незамедлительно притащил свою задницу к его папскому фургону.
Коричневый Пони был занят бритьем, но оно вряд ли могло изменить его внешность. От бородки почти ничего не осталось — всего несколько волосков на подбородке. Некоторые из них были темными, а другие — светлыми, придавая ему вид начатого и не законченного наброска. Когда Чернозуб нашел его, он уже покончил с завтраком из вяленого конского мяса и слив, поданным на маленьком столике в тени папского фургона.
— Нимми, — сказал он, — где твоя кардинальская шапка? У меня есть для тебя задание.
— Как для солдата? — спросил Чернозуб. Он был готов отказаться.
— Как для посла, — ответил Коричневый Пони, пропустив мимо ушей сарказм новоиспеченного кардинала. — Как для папского посланца к фермерам. Ко всем тем, кто остался в городе. Войска Ханнегана покинули этот район, оставив их вместо себя. Мы можем избежать столкновения, если тысяча человек мирным образом войдут в Новый Рим.
— Тысячу Кочевников отнюдь не назовешь мирными, ваше святейшество, — ответил Чернозуб. — И кроме того, фермеры явно выражают желание завязать боевые действия.
— Верно. Может, ты и прав, — сказал Коричневый Пони. — Может, все оно и к лучшему. В любом случае у нас всего триста человек, главным образом Кузнечики, — папа обвел на удивление исхудавшей рукой пространство лагеря, который при свете дня выглядел совершенно опустевшим — как сон, который помнишь только наполовину.
Чернозуб никогда не видел Коричневого Пони таким слабым. «Конечно же, — подумал он, — это все последствия Мелдауна. Ночная Ведьма назвала его своим мужем и затащила в свою ледяную постель».
— Военачальник трех орд, Ксесач дри Вордар, наш старый друг и спутник Чиир Осле Хонган, повел с собой на юг, к Ханнеган-сити, почти тысячу моих крестоносцев. Даже магистр Дион и многие жители Нового Иерусалима ушли с ним. Они предполагают объединиться с воинами Зайцев и с силами уродцев, которые готовились осадить город, но вместо осады мы получим битву, — Коричневый Пони устало присел. — Может, все это и к лучшему.
— Не так, — произнес Вушин.
— Мой генерал-сержант не согласен, — сказал Коричневый Пони. — Но какое это имеет значение? Что сделано, то сделано, — руки папы вспорхнули в воздух, как две птицы. Чернозуб удивленно посмотрел на него: самый земной из людей этим движением неожиданно напомнил ему Амена I.
— Но я болен, — сказал Чернозуб.
— Все мы больны, — ответил Коричневый Пони. — Конечно, кроме Вушина. Где твоя шапка, Нимми?
— Здесь, — Чернозуб вытащил из-под рясы красный кардинальский головной убор. — В лагере я ее не ношу. Ветер может сдуть ее у меня с головы, и она шлепнется в собачье дерьмо.
— Здесь нет ветра, — сказал Вушин, который не одобрял отношение Чернозуба к своему хозяину.
— Ах да, эти собаки… — рассеянно произнес папа. — Нам пришлось оставить их при себе. Ксесач не захотел взять их с собой на юг. Мы остались тут с тремястами людей и почти с таким же количеством собак. И конечно с вождем Кузнечиков. Пока еще фермеры этого не знают. И я хочу, Нимми, чтобы ты отправился в город и передал им предложение о мире. Предложи им мир от моего имени. От имени папы.
— Чтобы они не успели узнать, что наших сил стало меньше, — насмешливо сказал Чернозуб.
— Ну да! Надень кардинальскую шляпу и облачение. Я дам тебе папский штандарт.
— Меня пристрелят, не успев разобраться.
— Прикрепи его на флагшток, — сказал Вушин.
По выражению глаз желтокожего воина Чернозуб видел, что Топор даже не допускает мысли об отказе от этой миссии. Он решил согласиться. В любом случае ему было интересно увидеть город, и он смертельно устал от кастрюль и сковородок. Ну и что, если его убьют? Разве он не ждет, что рано или поздно это случится?
— Ты выглядишь очень больным, кардинал Нимми, — сказал Вушин, смягчившись. — Скажи фермерам, что мы не причиним им зла. Мы хотим все решить миром. Их бросила империя, но не Христов наместник.
— И не упоминать при них, что у наместника Христа не более трехсот человек и столько же собак, — сказал Чернозуб.
— Я не обращу внимания на твою непочтительность, ибо она никогда не была помехой твоему призванию. В самом деле, Нимми, порой я думаю, что это твоя сущность. Надеюсь, что ради твоего же блага она не станет твоей опорой. Так что лучше отправляйся в путь. Это необходимо сделать сегодня. Или по крайней мере попытаться.
— Мне придется идти пешком?
— У Элтура Брама есть белый мул, которого ты можешь взять, — сказал Коричневый Пони. — И да пребудет с тобой Господь, Нимми.
Он перекрестил Чернозуба и позволил ему поцеловать кольцо.
Тысячу лет назад в этой болотистой низине была скоростная автотрасса, которая теперь стала проселочной дорогой. Травянистое покрытие прорезали глубокие следы от колес фургонов. Кто знал, сколько лет эта «дверь прерий» стрелой врезалась в лес и шла к городу — или же, подумал Чернозуб, она указывала другой путь? Хотя монах никогда особо не утруждал себя мыслями о намерениях папы вернуть свой престол в Новый Рим, Святой Город все же стал являться ему во снах. Он возникал в лихорадочном жару. В сонном забытьи он маячил на далеком горизонте, как маленькая пологая гора. Насколько разительно отличалась реальность! Горизонта вообще не было. Дорога шла прямиком между деревьями и мимо руин, представлявших собой земляные холмики с ямами, из которых были извлечены мины; часть из них была забаррикадирована в тех местах, где какие-то убогие создания использовали как укрытия сохранившиеся подвалы и разминированные комнаты. Фермы, которые жались к городу, тут были поменьше, часто представляя собой клочок земли, засаженный овощами, рядом с ним стояли одно или два разрушенных здания или же сараи, где раньше держали свиней и цыплят.
И когда Чернозуб расстался с надеждами увидеть Новый Рим, когда он меньше всего предполагал, что наконец доберется до него, дорога взбежала на небольшое возвышение — и он увидел его, город, который именно таким и возникал в его снах.
— Тпру! — повторять Чернозубу не пришлось — едва он вскарабкался на белого мула, тот двинулся в путь и остановился, стоило Чернозубу сползти с седла. Мул тут же уткнулся носом в гнилой кочан капусты, валяющийся на обочине. Тут им пришлось повернуть: дорога под углом спускалась с последнего холма, за которым лежала долина Грейт-Ривер, или Мисспи, как ее тут называли.
Реку Чернозуб не видел, но вдали его взгляду открылись высокие пилоны того, что некогда было мостом; на другой стороне он видел очертания невысоких, поросших деревьями возвышенностей — они были словно зеркальным отражением того холма, на котором он стоял. А между ними, заросшие кустарником, высились острозубые осколки башен, точно такие, какими он видел их во сне. Новый Рим.
Но был уже полдень, и не оставалось времени любоваться открывающимся видом — пусть даже это была первая линия горизонта, которую Чернозуб увидел за много месяцев. Он снова оседлал белого мула погибшего шамана и стал спускаться по склону холма. Скоро он опять очутился в окружении деревьев.
Тут было куда больше бетона и асфальта, в трещинах которых росла трава. Лошадь здесь могла бы поломать ноги, но мула, казалось, эти трудности не беспокоили. Стояло несколько ферм и домов, хотя от последних остались только остовы. Чернозуб заметил несколько дымков и мелькнувшие в развалинах тени — это могли быть играющие дети или их скрывающиеся родители.
— Пошел! — сказал он мулу лишь для того, чтобы услышать свой голос. Пусть тот, кто, возможно, наблюдает за ним, уяснит, что он прибыл со специальной миссией и с него не спускают глаз. Стоило бы заранее узнать, как зовут мула.
Было уже за полдень, когда он миновал городские ворота; рядом с ними была невысокая баррикада, оставленная ее защитниками. Несколько трупов в караульной будке свидетельствовали о том, что — Кочевники отомстили за смерть своего шамана и травоядные оставили своих мертвецов на произвол судьбы.
Конечно, убитые могли быть и тексаркскими солдатами. У дверей копошились две свиньи, настойчиво стараясь проникнуть внутрь.
— Пошел! — мул перебрался через груду щебня, и Чернозуб потрусил себе дальше, вскинув штандарт Амена II. Он был сделан из пергамента и распялен на распорках, как воздушный змей; развевался он на древке, украшенном перьями и загадочными символами трех орд. Сочетание святынь и богохульства, цивилизации и варварства. Как и само папство Коричневого Пони.
Сейчас Чернозубу попадалось куда больше свиней, хотя на улице не было видно трупов. Казалось, что Новый Рим совершенно безлюден. Улицы были прямыми и широкими. «Большие дома», которые Чернозуб видел на горизонте, вблизи производили не такое уж внушительное впечатление, они скорее наводили уныние — закопченные руины в дырах от выстрелов. Никто не показывался. Хотя Чернозуб знал, что за ним наблюдают. Он чувствовал это; он чувствовал, что по мере того как сгущались сумерки, на него смотрит все больше глаз.
— Тпру, — приказал он, но мул не остановился. Посреди улицы прямо перед собой Чернозуб увидел одинокую фигуру. Человек держал ружье.
— Пошел! — Чернозуб пришпорил мула, но тот продолжал двигаться тем же неторопливым шагом, не обращая внимания, лягают его или нет.
— Подожди! — крикнул Чернозуб человеку, но тот неторопливо отступил в тень.
— У меня послание… — успел выкрикнуть Чернозуб, когда человек припал на колено и выстрелил.
Чернозуб соскользнул с мула, ибо это было единственной возможностью остановить его. Спрятавшись за ним, он ждал очередного выстрела. Воцарившееся молчание было просто мучительным.
Человек исчез.
Их диалог не получился. Чернозуб прикинул, что у него есть только одна возможность — двинуться к центру города, надеясь до того, как его пристрелят, встретить кого-то, кто обладает здравым смыслом или хоть толикой власти. Лучше, чтобы у него было и то и другое.
Он снова вскарабкался на мула.
— Пошел!
Уже стемнело, когда под Чернозубом подстрелили мула. Он добрался почти до центра города и находился рядом с одним из самых крупных «больших домов». Стреляли, должно быть, откуда-то издалека, ибо, когда животное упало, выстрела Чернозуб так и не услышал; его треск докатился, лишь когда он свалился рядом с мулом — тот грузно рухнул, как аббат, сраженный ударом.
Чернозуб осторожно встал на ноги, озираясь в поисках папского стяга, сломанное древко которого наполовину было скрыто крупом мула. Он ощутил мучительное напряжение между лопатками, куда могла угодить очередная пуля, хотя Чернозуб знал, что он не услышит выстрела и скорее всего даже не почувствует. Выстрела так и не последовало.
Прихватив папский штандарт, он вернулся к развалинам «большого дома» и спрятался у каменной плиты. Отсюда он мог наблюдать за улицей по всей ее протяженности. Было почти темно; на западе лимонно-розоватый цвет неба обретал красный оттенок, а на востоке небо становилось темно-синим.
Мул лежал на боку, издавая отчаянные вопли. Крови он потерял немного, но было ясно, что с ним все кончено. Передние ноги еще дергались, но задние были совершенно недвижимы — скорее всего, пуля перебила позвоночник. Чернозуб чувствовал, как у него поднимается температура; неудержимый позыв скрутил кишечник, и он присел за каменной плитой. Держать ему папский стяг воздетым или же он и так представляет собой хорошую мишень? «Только не сейчас! — вслух взмолился он. — Только не так».
Облегчившись и так и не услышав выстрела, Чернозуб решил продолжить свою миссию. Он должен кого-нибудь найти, и поскорее, пока совсем не стемнело. В противном случае ему придется спать одному среди этих огромных груд щебенки. Подняв над головой обломок древка с папскими регалиями, он двинулся в путь. Он понимал, что его трясет приступ лихорадки, ибо чувствовал рядом с собой Амена I, чье лицо кугуара было спокойным и сосредоточенным, на нем не было ни тревоги, ни беспокойства. Амен молчал, да и потом он почти ничего не говорил.
Проблема заключалась в том, что мул никак не мог отдать концы. По мере того как Чернозуб отходил от него, животное орало все громче и громче.
— Я должен вернуться, — сказал он Амену. Чернозуб знал, что старик не хочет и не может ответить, но ему нужно было услышать звук человеческого голоса, пусть даже своего собственного. — Я сделаю для него то же, что сделал для того солдатика, — громко произнес он. — И пусть я совершу тот же самый грех.
Да, грех, но он обязан совершить его. А что, если это вообще не грех? А поступок, который ты должен сделать?
— Нет, это обязанность, — со своей странной двусмысленной улыбкой ответил Спеклберд. — Ты часто путал эти понятия.
У Чернозуба подгибались колени, и он невыносимо долго шел обратно к мулу. Он двигался, высоко подняв стяг, и у него зудело между лопатками, куда должна была попасть пуля. Когда он добрался до мула, тот почти не издавал звуков; ржанье перешло в хриплые жалобные стоны. Передние ноги продолжали ритмично подергиваться. В больших глазах, которыми он смотрел на Чернозуба, не было ни любопытства, ни страха. Встав на колени, Чернозуб вознес импровизированную молитву, приставил нож к горлу животному и, снова вознеся молитву, полоснул по горлу ножом.
Словно он перерезал завязку и из мешка бурно хлынул поток зерна. Мул внезапно обмяк и застыл.
Чернозуб вытер нож о шерсть на крупе и собрался подняться, как горла его коснулось лезвие.
— Вставай, — раздался голос, и Чернозуб сделал то, что собирался сделать в любом случае. Он хотел отбросить свой нож, но чья-то рука перехватила его.
«Пожиратель травы», — подумал он, но, наверное, сказал это вслух, ибо кто-то ударил его сзади, чуть не сбив с ног. В воздухе стоял запах, который могли источать только пожиратели травы. Его держало несколько рук. Чернозуб подумал, что попал к уродцам, но затем сообразил, что держат его всего два человека, а третий поднял папский стяг с земли, куда он положил его перед тем, как вынуть нож и перерезать горло мула.
Его повели тем же путем, который он только что проделал, когда возвращался к обреченному мулу. Сквозь рясу он чувствовал, как в спину ему упирается ствол. Миновав угол, у которого он повернул обратно, Чернозуб подумал: «Почему они не перехватили меня здесь? Неужто они знали, что я вернусь?»
— У меня послание к вашему главному, — сказал он. — От его святейшества Амена Второго. Я папский…
— Заткнись, — сказал один из мужчин на языке, в котором Чернозуб узнал один из диалектов Кузнечиков.
Его привели в подвальное помещение, которое напомнило ему библиотеку аббатства. Оно освещалось масляными лампами, и тут сидело несколько человек, вооруженных металлическими мечами и старыми тексаркскими ружьями кавалеристов Ханнегана. К Чернозубу обратились на церковном.
— Ты болен? — таков был первый вопрос. — От тебя идет тяжелый запах.
— Я прибыл от его святейшества папы с посланием для вашего лидера, — сказал Чернозуб. — Мы все больны. Мы все плохо пахнем. Тысячи больных, пропитанных зловонием кровожадных Кочевников обложили город, готовясь к его штурму. Я здесь, чтобы дать вам возможность…
— Заткнись, — сказал тексаркский солдат. Он кивнул другому из присутствующих, фермеру, который поднес Чернозубу чашку с водой и горсть коричневых пилюль, смахивавших на заячьи катышки. — Возьми одну, — сказал солдат.
Чернозуб понюхал пилюли и покачал головой.
— Бери! — в спину ему уперся ствол револьвера. Чернозуб взял одну пилюлю.
— Я здесь, чтобы предоставить вам возможность мирным путем сдать Святой Город, — сказал он. — С империей покончено. Папство возвращается в Новый Рим. Папа, его святейшество Амен Второй, всего лишь хочет занять принадлежащее ему по праву место в…
— Заткнись. Я знаю, кто ты такой.
— Я посланник его святейшества Амена Второго…
— Мы знаем, кто ты такой. Арихиепископ дал нам указание следить за тобой, — сказал солдат. Он развернул свиток, с которого уже была снята ленточка. — Разве ты не Чернозуб Сент-Джордж, секретарь антипапы, приговоренный к смертной казни на всем пространстве от Залива привидений до Нэди-Энн?
Чернозуб не нашелся, что ответить.
Револьвер вжался ему в спину.
— Признавайся. И что это за шапка? Военная?
— Я кардинал, — ответил Чернозуб. Внезапно его поразила смешная серьезность всего происходящего. Все это выглядело совершенно по-дурацки. Может, как и сам крестовый поход. Вот он и вернулся в зоопарк Ханнегана. — В общем-то это шутка. Я кардинал. Папа. Солдат.
От принятой пилюли у него закружилась голова. Он подумал, не стоит ли взять еще одну.
— Мы получили приказ расстрелять тебя, — сказал тексаркский офицер, плотно скатывая свиток и перехватывая его ленточкой. — Но первым делом ты должен немного отдохнуть. Пилюли помогут тебе уснуть. Отведите его в камеру смертников.
В подземном помещении было зябко. Если встать на цыпочки, через зарешеченное окно была видна улица, по которой временами бродили собаки или свиньи; на последних были ошейники, по которым, как Чернозуб предположил, можно было определить их хозяев. Одна из свиней явно испытывала дружеское расположение к узнику: она все время подходила к окну и тыкалась носом в решетки, хотя, возможно, ее привлекала прохлада металла.
Когда совсем стемнело, Чернозуб почувствовал, что жар уходит, как вода сквозь песок. В углу камеры стоял пустой ночной горшок, напоминающий очертаниями свинью. Сразу же после полуночи охранник принес ему кувшин воды, но ни крошки еды.
Чернозуб принял еще одну пилюлю. Близилось время расстрела, и Чернозуб не сомневался, что они сдержат свое обещание. Но почему-то от этих мыслей он впал в дремоту. Этой ночью ему снова снилась Эдрия. Она ждала его под водопадом, пока его старый друг, белый мул, щипал травку неподалеку. В расщелинах растительности почти не было, но мул все же что-то жевал. В горле у него была дыра, как рана; у Эдрии тоже были раны, которые она показывала Чернозубу.
— Где ты был? — спросила она на церковном. — Куда ты идешь? — поскольку Чернозуб знал, что Эдрия не говорит на церковном, в сонном забытьи он понимал, что она ему снится.
Глава 30
«Принимая бедных, убогих и странников, следует отнестись к ним с величайшей заботой и тщанием, ибо именно через них является Христос; а коль скоро речь идет о богатых, пусть опасения, которые они внушают, не мешают и к ним относиться с уважением».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 50.Той ночью, когда Чернозуб был полон сонных видений, небольшой отряд фермеров оседлал коней, большинству которых пришлось вставить затычки, и двинулся к лагерю крестоносцев папы. Среди них были фермеры, которым довелось пережить гибель своих семей и скота в бойне, устроенной тексаркской солдатней. И теперь их снедало чувство мести, но удовлетворить его они могли лишь по отношению к антипапе, чьи армии, по словам разведчиков, направлялись на юг, к Ханнеган-сити и Ред-Ривер. Они не сомневались, что Чернозуб лжет. Отряд налетчиков убил одного из них, а другого взял в плен. Они хотели того же, что и Дикие Собаки вкупе с Кузнечиками, — крови и мести. Стояли последние дни сентября, и луны не было видно. Как только сгустилась темнота, сорок всадников покинули город — они двигались при свете звезд, рассчитывая на свое хорошее знание пути. Они не раз ездили по этим дорогам, которые ныне вели к их брошенным и разрушенным фермам.
Тем временем папа начал терять все надежды на заключение мира. После долгих и шумных похорон шамана воины Кузнечиков истово жаждали крови. Среди них было много пьяных, и, хотя папа не видел церемонии погребения, Коричневый Пони подозревал, что многие из них попробовали печени и легких шамана.
— Ты должен понять, что мой эмиссар отправился в город, чтобы заключить с ним мир, — сказал он Элтуру Браму.
— Вы имеете в виду Нуйиндена. Нимми.
— Моего кардинала, — сказал Коричневый Пони. — Члена моей курии.
— Значит, кардинала Нимми, — сказал вождь Кузнечиков.
Он сидел вместе с его святейшеством у заднего бортика папского фургона, наблюдая, как вокруг главного лагерного костра орут и беснуются воины. Для Кочевников обилие топлива, пусть и сырого, было в новинку. Пламя вздымалось все выше и выше.
— Они хотят отомстить, — сказал Элтур Брам. — Можете ли вы осуждать их? Могу ли я запрещать им? Они хотят мести, она нужна им, как трава лошадям.
— Победа Церкви удовлетворит их жажду мести, — сказал Коричневый Пони, но, произнося эти слова, он понимал, что сам не верит в них. По грязной земле вокруг них метались тени; небо было заплетено ветвями. Коричневый Пони мечтал о четких очертаниях и открытых горизонтах пустынь и прерий. Здесь, в лесу, звуки и запахи обступали со всех сторон.
Тра-та-та. Воины вздымали ружья к небу, звездные россыпи которого еле виднелись между деревьями. Вождь Кузнечиков был вынужден выдать своим бойцам только по два патрона, но он знал, что у Коричневого Пони есть боеприпасы, которые магистр Дион в соответствии с договором оставил в караване.
— Вы должны раздать им остатки медных пуль, ваше святейшество, — с любезной улыбкой добавил Дьявольский Свет. Амен II отрицательно покачал головой.
— Им придется дождаться возвращения моего эмиссара. И затем твои воины смогут с триумфом въехать в город, — строго говоря, Коричневый Пони уже испытывал беспокойство. Он понимал, что если к утру Чернозуб не вернется, то он, скорее всего, убит. Может, даже повешен в соответствии с приказом об изгнании, который оба они подписали при освобождении из зоосада в Ханнеган-сити.
— Значит, завтра, — сказал Элтур Брам, глядя в безлунное небо, скрытое кронами деревьев. Папа взял его за руку.
— Тебе придется контролировать их! — сказал он. По ту стороны поляны отблески костра падали на карету вождя с девизом «Я разжигаю пожары», намалеванным на дверце. — И пожаров не будет, Дьявольский Свет. Стоит фермерам увидеть твои силы, они тут же сложат оружие. Может, они уже сдались Нимми.
— Думаю, что нет, ваше святейшество.
— Словом, я не хочу никаких пожаров в Новом Риме. Я прибыл сюда, чтобы возродить город, а не уничтожить его, — папа сжал руку вождя. Их позы напоминали матч по армрестлингу, но папе было нужно не столько одержать верх над соперником, сколько показать ему, что он видит и знает намерения Кочевников. — Никаких пожаров, понимаешь?
— Понимаю, — сказал Элтур Брам. Высвободив руку, он встал и направился к своим воинам у костра.
— Я вызвал бурю, с которой не в состоянии справиться, — пробормотал папа, когда, вернувшись в фургон, стал готовиться ко сну.
Он разговаривал с Вушином, который стоял в тени рядом с фургоном. Желтолицый воин пожал плечами. Он-то не сомневался, что такова природа всех штормов и всех войн.
Фермеры подошли к лагерю, когда папа уже спал. Спешившись, они перевели лошадей через ручей, но проснулись собаки и разбудили воинов, которые вповалку спали вокруг тлеющих костров. Схватка была короткой, яростной и, если не считать вскриков и стонов, почти безмолвной. Кузнечикам не хотелось пускать в ход те несколько пуль, что у них имелись, и они схватились за ножи и дубинки, которые лежали рядом с ними там, где полагалось спать женщинам.
Когда рассвело, вода в небольших заводях у берега была красной от крови. Смерть от ножевых ран наступала не сразу, некоторые фермеры продолжали корчиться, хватая ртами воздух, как рыбы. Четверо из них попали в плен, не получив никаких ран, если не считать ременных уз, продернутых сквозь щеки. Связанные, они сидели в тени фургона — один плакал, а другие молча ожидали решения своей участи.
Проснувшись, понтифик увидел, что лагерь почти опустел. Воины Кузнечиков исчезли вместе со своими лошадьми и псами.
— Ты же сказал, что будешь ждать! — пожаловался он вождю Браму, найдя его за завтраком у костра.
— Они не оставили нам выбора, — военачальник пожал плечами. — Они попытались угнать наших лошадей.
Коричневый Пони ткнул ногой тлеющую головню.
— Всего лишь несколько идиотов. Ты мог просто прогнать их.
Элтур Брам снова пожал плечами.
— За ними погнались собаки. Моим людям пришлось последовать за собаками. Хотя им отдан приказ не жечь город.
Коричневый Пони не поверил ему. И еще до полудня над стеной леса на востоке потянулся дымок, который шел со стороны города, все еще скрытого от глаз.
Свинья исправно толклась у решетки, но тюремщик так и не показывался. Просунув свой пятачок между прохладными прутьями решетки, свинья улеглась перед ней, глядя на Чернозуба, который тщетно пытался молиться.
Когда занялось утро, Чернозуб услышал вдали выстрелы, сопровождаемые криками, которые все приближались; на узкой улице за стенами тюрьмы раздались звуки шагов. У него еще были при себе шесть маленьких пилюлек, но запить их было нечем. Теплой воды в ведре у дверей он опасался, так что проглотил пилюлю, собрав остатки слюны во рту. Воды он попил лишь ближе к полудню.
Когда его заперли в камере, он уже хотел есть, и теперь голод становился просто нестерпимым. Прикинуть, сколько сейчас времени, было трудно, ибо солнце затянули дождевые тучи, из которых весь день на улицы сыпалась какая-то морось, превращавшаяся в грязь под ногами тех, кто случайно показывался на улице, — только собаки и ни одного человека.
Свинья появилась снова к полудню, насколько Чернозуб смог разобраться со временем.
Пилюли он держал в кардинальской шапке, которую ему позволили оставить при себе вместе с крестом и четками. В ней пилюли оставались сухими. Похоже, они подействовали. Жар спал, сошли на нет спазмы и колики, которые день за днем, особенно по утрам, не давали ему покоя. Но он маялся одиночеством без Эдрии и Амена, своих спутников, которые не только прогуливались рядом с ним в снах, но и сопровождали его в тех бесконечных мечтаниях наяву, которые, как позже выяснилось, и были его жизнью.
Никогда еще Чернозуб не был так одинок. Он с теплотой вспоминал даже Коричневого Пони и клетку в зоопарке Ханнеган-сити, когда за ними подглядывали заключенные Дикие Собаки и, глазея на них, веселились горожане. Он вспоминал и задумчивого, молчаливого Вушина, и нахального, порывистого Аберлотта, любителя городской жизни. Ему не хватало их всех. Даже Поющей Коровы. В своей одиночной подвальной камере Чернозуб восстанавливал в памяти жизнь аббатства Лейбовица, удивляясь, насколько тонко и продуманно в ней сочетались уединение и общение, составлявшие суть монастырского бытия. Есть люди, созданные для одиночества, но их немного — и уж он-то к ним не относится. Спеклберд лелеял свое одиночество, ибо оно было пронизано духовностью. По сути, он никогда не был один. Одиночество Эдрии имело истоком ее происхождение из «привидений» — их никто не принимал и все презирали.
Обожал ее только он один.
Вот эти два одиноких человека и составляли Чернозубу компанию. «И я не требую от них многого, — подумал он. — Верно?» — спросил он свинью, когда та снова попыталась просунуть голову меж прутьями решетки. Но, как и Эдрия, как и Спеклберд, она не ответила.
К полудню еда так и не появилась. Дождь кончился. Неужто он не получит даже последнего обеда? Смерть вообще не несет в себе ничего хорошего, но умирать голодным — это было последним, законченным оскорблением. Неужто ему суждено навечно остаться голодным?
Поразившись отсутствию у себя благочестия, Чернозуб опустился на колени и стал молить о прощении.
Дверь в камере была сколочена из прочного дерева — скорее всего из дуба. Она казалась куда более основательной, чем черные металлические прутья в маленьком окошке под самым потолком. Чернозуб стукнул в дверь, а затем лягнул ее — сначала осторожно, а потом стал колотить в нее все сильнее и сильнее. Никто не отвечал. Он не мог понять, был кто-нибудь по ту сторону двери или нет. И что там за дверью — коридор? Он не мог припомнить. Когда его привели сюда, было темно. Неужто все это случилось всего лишь день назад? Чернозуб подумал, что имело бы смысл, подобно предыдущим обитателям камеры, делать отметки на оштукатуренной каменной стенке.
В его маленькой камере имелись лишь койка, прикрепленная к каменной стенке, грубое шерстяное одеяло, стул и два ведра — одно у двери, а второе в углу. Одно, с теплой водой, стоящее у дверей, оставалось почти полным; ведро в углу было пустым. Скорее всего, тексаркцы и раньше использовали это помещение как тюрьму: все стены были исцарапаны безграмотными надписями и рисунками — улыбающиеся и суровые физиономии, солнце, разные варианты мужских и женских тел. Стена напомнила Чернозубу о том, что делается в голове у монаха — такие же царапины на душе, с которыми приходится жить, в то же время стараясь не обращать на них внимания.
Он сел на койку. Лег на нее. Подошел к окну и остановился около него. Влез на стул и стал смотреть в окно. Перед ним тянулись пустынная улица и стена без дверей, к которой вели обвалившиеся ступеньки. Над ними на стене были пятна крови. Пока Чернозуб разглядывал их, появилась какая-то собака, которая, обнюхав следы крови, убежала. Кто тут встретил свой конец? На этом месте расстреливали? Ступени, которые ведут в никуда, стена без дверей… Он поежился. Он был очень голоден.
Вдали улица вливалась в другую, более людную, и Чернозуб видел, как по ней проходили люди с какими-то загадочными тюками или, случалось, с ружьями. Вооруженные ходили по двое или по трое. Рядом появилась еще одна собака, тоже обнюхала кровавые пятна и трусцой побежала дальше.
— Вон там и казнили.
Повернувшись, Чернозуб увидел, что дверь в его камеру бесшумно открылась — за ней стояла непроглядная тьма. У такой массивной двери петли работали безукоризненно. В дверях с ведром в руках стоял какой-то незнакомый фермер, исполнявший роль стражника. Он был молод, двадцати с небольшим лет — рыжеволосый пожиратель травы.
— Вы не должны влезать к окну, — сказал он.
— Я молюсь.
— Без вашей шапки? — Кардинальский головной убор лежал на койке.
— Чтобы молиться, нам не обязательно надевать ее.
Стражник взял ведро, стоявшее в углу, но, почувствовав, что оно пустое, поставил обратно. Он подчеркнуто избегал смотреть в него.
— Я собирался вылить его, — с упреком сказал он.
— Насколько я понимаю, это означает, что я должен был наполнить его, — сказал Чернозуб. — Но в таком случае не собираетесь ли вы принести мне поесть? Я не получил ужина, а теперь и завтрака.
Фермер-охранник пожал плечами. На нем были кожаные штаны и холщовая куртка, скорее всего, позаимствованная из солдатской вещевой сумки. Или снятая с убитого. У него почти не осталось зубов.
— О еде мне ничего не говорили. Приказали только вылить ведро. И принести воды.
— Так они собираются меня расстреливать? — спросил Чернозуб. У него закружилась голова, и ему пришлось сползти со стула. Когда, почувствовав под ногами холодный каменный пол, он поднял глаза, охранник исчез, словно он ему привиделся. Дверь закрылась, и лязгнул запор. С грохотом.
— Благословляю тебя, сын мой, — сказал Чернозуб, осеняя себя крестным знамением. — Я возвращаюсь к своим молитвам, — он снова влез на стул и стал рассматривать мир, точнее тот его малый кусочек, который был виден из крохотного оконца. В самом деле, стоит помолиться. Но что же представляет собой молитва, как не попытку выглянуть из крохотного оконца своей души? Может, он попробует помолиться позже, когда подойдет время казни.
«Будет ли ему больно?» — подумал Чернозуб. Вопрос был не из приятных, но он никак не мог правильно сформулировать его.
Появился еще один пес, который также остановился у кровавых пятен, — он тоже молится? Вдали какая-то старуха и ребенок палкой разгребали мусор в развалинах. Когда женщина что-то находила, ребенок наклонялся и подбирал это. Отсюда Чернозуб не мог понять, что они искали.
Издали донеслось несколько выстрелов, а затем порыв ветра принес странный, но все же знакомый пугающий запах. Чернозуб понял, что это такое, и у него гулко заколотилось сердце.
Дым.
— Это ты приказал своим людям разжигать пожары, — бросил Элтуру Браму папа Амен II. Дьявольский Свет стал отрицать, но Коричневый Пони не сомневался в своей правоте. Кузнечики всегда воюют… «Я разжигаю пожары». Да и какой смысл, отрицает ли он или соглашается? Что сделано, то сделано.
Коричневый Пони и вождь сидели на койке в фургоне, глядя, как возвращающиеся воины с шумом и криками пересекают ручей. Снова начался дождь. Коричневый Пони не видел неба, но знал от своей курии: половина кардиналов была больна и, маясь желудком, проводила время в дополнительном отхожем месте, отрытом на склоне холма, что над городом повисла дымная завеса, покрывающая расстояние к востоку, которое можно одолеть лишь за несколько часов скачки.
— Пожары возникли сами собой, — сказал Элтур Брам. — Никто не мог предотвратить их. Да и не должен был.
Лаяли собаки. Ржали лошади. Кочевники возвращались вразброд, по двое или по трое, окликая женщин, чтобы те готовили бинты и жратву, а также собирали дрова для костров. Они вопили, изображая триумф победы, но по правде почти никому из них не удалось встретить таинственных врагов. Несколько раненых пострадали от своих же лошадей, когда те спотыкались и падали на незнакомых улицах, или же опалили сами себя, разжигая пожары.
Тем не менее никто так и не понял, сколько защитников обороняют город и обороняют ли его вообще. Чернозуб так и не вернулся. Солнце уже склонялось к закату.
— Может, он обрел мир, который вы всегда сулили, говоря, что ищете его? — сказал Элтур Брам.
— Может быть, — ответил Коричневый Пони, решив не обращать внимания на сарказм Кочевника. Но сам он в этом сомневался.
Дым. Темнело на глазах. Или это ему казалось? Чернозуб увидел, как в конце улицы пробежали несколько человек.
Он оторвался от окна и заколотил в дубовые двери. Потом приложил ухо к тяжелым плахам и прислушался, но из-за дверей не доносилось ни голосов, ни звуков шагов. В каком странном месте доводится ему встречать свой конец. Всю жизнь мы искали нормального бытия и, проходя мимо него, оглядывались назад. Все это было в прошлом, которое так и осталось тайной. Чернозуб ясно видел свое будущее. Слишком ясно. Он даже обонял его. Его запахом был полон воздух — дымным запахом.
Он боялся впасть в панику, что и случилось. Это был не страх огня и даже не страх смерти. Это была просто паника, откровенная животная паника. Она захватила его, затопила с головой, лишив мыслей и чувств. Она была внезапна и непреодолима, как взрыв похоти (он прожил достаточно, чтобы узнать ее), ее мощь и пугала, и успокаивала его. Подобно той вере, которую он искал всю жизнь, но так и не смог найти, она безоговорочно устранила все сомнения.
Чернозуб дал волю ярости, лягая и колотя дверь; сначала он кричал «Пожар!», потом «На помощь!», а затем — «Ради любви к Господу!»
Это ничего не дало. Боль в отбитых кулаках и горле от надсадных воплей вернула его к другой реальности — он должен вести себя так, как подобает монаху. Он перестал орать, удивившись, с какой легкостью это у него получилось, и с четками в руках опустился на колени около койки. Дым все густел, но дышать пока еще было можно. Голода Чернозуб больше не испытывал. Поверхность воды в ведре дрожала, и откуда-то издалека доносились глухие удары — это рушились здания или что-то взрывалось…
Должно быть, он уснул. Чернозуб сел и, оглядевшись, увидел, что за окном уже стемнело. Вдали были слышны выстрелы. Фермер-охранник стоял в дверях, держа ведро. Лицо его было прикрыто шарфом. От дыма? Но, похоже, он рассеивался.
Чернозуб зашелся в кашле.
— Прошу прощения, — сказал он, откашлявшись. Стражник продолжал стоять в дверях.
— Что случилось? — спросил Чернозуб.
— Они ведут бой. Твой антипапа сжигает город.
— Вот как.
Значит, с ним все кончено. Он никогда не вернется сюда. Убит он или нет, Чернозуб так и не понял. Стрельба не приближалась и наконец стихла.
Наступивший рассвет был странен — он словно сочился не снаружи, а проступал откуда-то изнутри камеры, и маленькое подвальное помещение наполнялось странным светом. Город горел. По улицам носился ветер, вздымая в воздух клочки травы и соломы, обрывки бумаги, облака пыли и пепла.
Чернозуб забарабанил в двери, но на этот раз не стал орать. Он не ждал, что кто-то появится. Так и случилось. Огонь, казалось, подползал все ближе; ветер дышал жаром, и его порывы прокладывали путь другим очагам пожара. Чернозуб стоял у решетки, пока у него хватило сил, но когда почувствовал, как у него горит лицо, вспомнил, что забыл о пилюлях. Спрятанных за отворотом шапки, их осталось всего четыре штуки. Чернозуб проглотил одну и остаток воды вылил себе на голову. Смерть от огня. Он узнал запах горящего масла. Он помнил его еще с тех времен, когда был послушником…
Beatus Leibowitz, ora pro me!
С улицы донеслись шаги.
— Помогите! — крикнул Чернозуб, но никто не появился. Не было даже свиньи, которую, скорее всего, съели. Чернозуб прочитал по четкам молитву, надел шапку и лег на узкую дощатую койку, прикрывшись тюремным одеялом. Лучше всего просто ждать, подумал он. Рано или поздно все завершится. «Капля росы, вспышка молнии, — сказал Амен. — Прах и пепел…»
Должно быть, Чернозуб провалился в сон, ибо вернулся к водопаду, под которым стояла Эдрия. Вода перестала литься. Она застыла, блестя на солнце, сплошным полотнищем. И Эдрия стояла на ее фоне, под солнцем, потрясающе красивая и совершенно нагая. «Эй!» — крикнула Эдрия.
— Эй!
Чернозуб сел. Кто-то стоял у решетки. Сначала ему показалось, что вернулась свинья, но это была женщина с ребенком.
— Ты священник?
— Нет.
— А что это за шапка? — с ним говорила старая женщина. Недавно он видел, как, вооруженная палкой, она рылась в кучах мусора.
— Я кардинал, — сказал он, снимая ее.
— Что это такое — карнидал? — спросила она, перевирая слоги, как это часто делают простые люди. — То же, что священник?
— Что-то вроде, — ответил Чернозуб. — Помоги мне выбраться отсюда. Боюсь, что я попал в западню.
— Не могу, — сказала старуха. — А ты окрестишь моего сына?
Она прижалась лицом к решетке. Мальчик выглядел слишком маленьким, чтобы быть ее сыном, и в то же время слишком взрослым. Он был лыс, а лоб, изрытый морщинами, отливал синевой. Уродец.
— Не могу, — сказал Чернозуб. — Я не настоящий священник.
— А он мне не настоящий сын, — захихикала старуха. — Я купила его.
— Купила меня! — согласился мальчишка-уродец. — Я вместе с ней обманываю. Вот такой я.
— Что? — где-то звякнул колокол, он частил все быстрее и быстрее. Затем Чернозуб услышал, как брызнули выстрелы, и понял, что это гудела под пулями медь колокола.
— Он очень сильный, — сказал женщина.
— Сильный, — подтвердил уродец. — И кроме того, аккуратный.
— Он говорит, что тебе надо всего лишь сдвинуть кирпич.
— Какой кирпич?
Встав, женщина с помощью своей палки произвела скрежещущий звук. Осклабившись в идиотской улыбке, мальчишка выломал один прут решетки, а затем второй. Сильный! Оба стержня он кинул в камеру Чернозубу, который едва успел пригнуться. Они гулко, как колокол, звякнули об пол.
— Эй!
Чернозуб прижался к стене. Все ли прутья решетки можно так же легко выломать? Тюрьма напоминала аббатство; все, что надо сделать, это выйти из нее, и ты свободен.
Чернозуб подождал, пока не убедился, что старуха и мальчик-уродец ушли, затем просунул кардинальскую шапку и тюремное одеяло сквозь решетку и выбрался сам.
В воздухе густой пеленой висел дым, и он закрыл нос рукавом рясы. В тюремном подвале дышать было легче. В дальнем конце улицы он увидел ту же старуху с ребенком, которые сосредоточенно копались в мусоре, словно окружающий мир не был объят огнем. Похоже, они забыли о нем.
— Благословляю тебя, сын мой, — прошептал Чернозуб и побежал в другую сторону.
Глава 31
«И в день по возвращении да лягут они распростертыми на полу в часовне и вознесут в молениях просьбы о прощении всех ошибок, которые, к удивлению своему, могли совершить в дороге».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 67.В свои годы Чернозубу довелось увидеть только два города: Валану, построенную из дерева и камня, и Ханнеган-сити из глины и дерева. Святой Город, Новый Рим, был возведен из кусков сохранившихся развалин древних городов; он представлял собой смесь старого и нового, напоминая больше аббатство, чем город, где груды кирпича и камня возвышались над прежними грудами кирпича и камня, перемешанными с обломками дерева, с травой и соломой. Дерево было сухим и трухлявым, и Чернозубу казалось, что все оно тлело.
Он оказался на широкой прямой улице, по обеим сторонам которой возвышались груды щебня и выщербленные обломки башен, некогда бывшие «большими домами». Сначала он был на ней один, но по мере того как он шел к востоку, к восходящему солнцу и подальше от огня, улица заполнялась испуганными молчаливыми людьми. Чернозуб ощутил неожиданное и ненужное ему родство с этими перепуганными пожирателями травы, которые внезапно появлялись из подвалов и вылезали из развалин (точно как и он), таща свои жалкие пожитки в виде лохмотьев и горшков и волоча за собой домашних животных вместе с детьми. Все покидали город.
За их спинами раздавались выстрелы, отдельные и залпами. Если в городе где-то и дрались Кочевники, их не было видно. Как и боевых лошадей. Попадались только мулы и дряхлые клячи. Да еще бродячие собаки.
Беглецов охватило странное зловещее молчание. Можно было понять, если бы они плакали или кричали, но Чернозуб не слышал ни того ни другого — словно через окно своей подвальной камеры он попал в другой мир, где плакать или жаловаться позволялось только детям. Взрослые, которые, спотыкаясь, влачились вперед, были погружены в мрачное молчание. Может, они опасались, что их может выдать акцент, или, скорее всего, им просто уже нечего было сказать.
Новый Рим полыхал.
Чернозуб готовился к казни, и сейчас его покинуло даже чувство голода. Кто-то ухватил его за рукав — это были пальцы ребенка, — и каким-то образом, не понимая и не замечая, как это случилось, он оказался в составе маленькой группы людей, которые вытаскивали испуганного мула по ступенькам из какого-то подвала. Как он там очутился, кто был его хозяином и кому понадобился — все эти вопросы относились к другой реальности. Сейчас было нужно только одно — заставить испуганное и брыкающееся животное подняться по узким ступенькам. Так Чернозуб оказался в гуще толпы вместе с владельцем мула и ребенком — он торопливо шел вслед за ними. Поднялся ветер, и сзади встала стена горячего воздуха, гоня их к западу.
Держась за руки и надрывно крича какие-то песенные строчки, сквозь толпу проталкивались четверо мужчин и столько же женщин — все обнаженные. Чернозуб попытался отвести глаза от грудей женщин, но не смог. Он испытывал не желание, а какое-то другое, почти забытое чувство: то ли голод, то ли надежду. Мимо пробежали двое мужчин в форме с многозарядными ружьями, затем еще двое — все они бежали в ногу. Это производило едва ли не комическое впечатление. Чернозуб стянул с головы шапку и спрятал ее под сутаной. Упавший мул жалобно ржал в оглоблях повозки, пытаясь подняться. Его задняя нога была измазана кровью.
Огонь то ли приближался, то ли разгорался, а может, было и то и другое. В конце улицы, вздымаясь над «большими домами», стояла стена пламени. Теперь Чернозуб отбрасывал две тени — одна двигалась перед ним, а другая — сзади.
«Я разжигаю пожары» — Чернозуб вспомнил девиз, синий с золотом, написанный на дверце кареты вождя Кузнечиков.
Фермер наклонился над несчастным мулом и вытащил нож. Чернозуб схватил его за руку.
— Пусть живет, — сказал он на церковном.
— А? — фермер уставился на рясу Чернозуба, после чего перерезал постромки. Мул, всхрапывая, с трудом поднялся на ноги, и фермер заткнул нож за пояс.
— Я помогу тебе тащить, — сказал Чернозуб в этот раз на языке Кузнечиков. Он вытащил шапку и натянул ее на голову.
Повозка была двухколесная, грубой, как было принято у Кузнечиков, конструкции, на ней среди домашнего барахла сидела худая чернокожая старуха с двумя котятами, которых она все время целовала — сначала одного, а потом другого. Чернозуб потащил повозку, фермер подтолкнул ее, и к ним присоединились еще двое мужчин, побросавших свои пожитки в повозку рядом со старухой. Все они говорили на языке Кузнечиков с небольшой примесью церковной лексики и с ол’заркским акцентом. Они шли на восток, к Грейт-Ривер.
Чернозуб весь день держался при фермере с повозкой. Звали его Волосатый, хотя это могла быть и кличка — он был совершенно лысым. Фермер настолько щедро делился водой и пищей, что Чернозуб принял его за христианина, пока не понял, что фермер принял его красную шапку за военный головной убор. Хотя он жил в Святом Городе, о Церкви слышать ему не доводилось. Все люди для него делились лишь на фермеров и тексаркских солдат. Хотя по крови он принадлежал к Кузнечикам, для него народ, пришедший с равнин, «где не растут деревья», лишь в той или иной мере нес в себе человеческие черты. Для него они были чем-то вроде стихийного явления, как стадо коров или налетевший шторм.
Даже покинув свою подземную тюрьму, Чернозуб не мог отделаться от ощущения, что продолжает находиться в заключении, зажатый между стеной огня на западе и все еще невидимой рекой на востоке. К полудню дым окончательно закрыл солнце, и зловещий красный сумрак пологом затянул улицы. Чахлый ручеек беженцев превратился в мощный поток, стремящийся на восток. Хотя улицы стали шире, они не могли вместить в себя толпы беженцев, сплошь состоявшие из фермеров. В восточной стороне «большие дома» были еще выше, и тут совершенно отсутствовали деревья — Чернозуб и представить себе не мог, что когда-то ему будет не хватать их.
Лишь во второй половине дня они добрались до реки. Сначала Чернозуб не понял, что перед ним предстало. Сгрудившаяся толпа стала понемногу рассасываться и растекаться. Огонь полыхал и на западе, и на севере. Кто-то сцепился в драке, разразилась легкая паника, и Волосатый исчез в толпе. Чернозубу показалось, что он слышит знакомый скрип колес, но затем он пропал. К счастью, ему удалось сохранить скатанное тюремное одеяло.
Стало темнеть. Если не считать детского плача, среди беженцев снова воцарилась тишина — они топтались на месте, словно, ошеломленные происшедшим, никак не могли принять решение, ибо мысли их ворочались медленно и растерянно. Основная масса их повернула к югу и, следуя вдоль берега, двинулась подальше от города. Прикидывая, что же могло заставить их пойти в этом направлении, Чернозуб вскарабкался на невысокую каменную стену. На вершине ее уже стояли несколько человек, глядя на Грейт-Ривер.
Чернозуб никогда не видел и даже не мог себе представить такое количество воды. Это была совершенно иная субстанция, чем та, которую он знал в горах или на равнинах. Она не танцевала, не кружилась, не рушилась водопадом. Ее пространство лежало как грязное стекло, полукоричневое, полусеребряное. Перед Чернозубом тянулась необозримая равнина, заполненная водой. Он подумал, что может пересечь ее как посуху, но решил лучше воздержаться.
Протискиваясь среди других наблюдателей, Чернозуб по гребню стены добрался до мола, рухнувшего у самого среза воды. Рядом с берегом качались суденышки. Он почти никогда не сталкивался с ними, если не считать плоскодонного парома на Ред, но понял их предназначение. Это были самоходные баржи — на некоторых из них имелись надстройки с каминными трубами в крышах и с застекленными оконцами. Длинные плавные обводы позволяли им держаться на воде и плыть по течению. На палубах и на крышах надстроек толпились люди, глядя, как горит город. Часть судов кружилась на течении, может быть, дожидаясь, когда стихнет пламя и город будет открыт для грабежей. Несколько фермеров попытались вплавь добраться до них, но беглецов били веслами и отталкивали от бортов.
Раздалось несколько выстрелов. Люди на баржах были одеты в такие же лохмотья, что и фермеры, но Чернозуб прикинул, что они, скорее всего, прибыли с другого берега.
Огонь приближался. С воды он представлял собой красивое зрелище: огонь — самая яркая из четырех стихий мира, и он же — главный ингредиент ада. Чернозуб нашел себе местечко на краю мола и завернулся в тюремное одеяло; как ни странно, от него тянуло холодом. На фоне стены из дыма и пламени он видел, как по речному берегу тянулся поток беглецов.
— Как их много, — пробормотал Чернозуб.
Человек, стоящий рядом с ним, буркнул что-то — вроде как согласился. Он держал длинноствольное ружье без магазина. У ружья был толстостенный металлический ствол, стрелявший камнями. Почему-то Чернозуб чувствовал себя в безопасности рядом с ним. У него не было желания идти на юг вместе с беженцами.
— А ведь они могли бы защитить город, — прошептал Чернозуб, и человек снова хмыкнул. «Могли бы, — подумал Чернозуб, — но не захотели». Новый Рим не был их городом. Их согнали сюда тексаркские солдаты и теперь выгоняет пламя. Мало у кого есть оружие, да и то очень древнее, того типа, которое убило шамана вождя. Может, этот человек, стоящий поблизости, и нажал на курок.
Со свистом налетел порыв ветра, и вода вскипела пенными барашками. Ветер дул с востока — его втягивала в город огненная воронка. Ближе к ночи поток беженцев уменьшился, превратившись в ручеек, а затем — в отдельные капли. Тем не менее движение, словно гонимое каким-то древним неодолимым инстинктом, шло к югу по берегу реки, направляясь к Тексаркане. Ночью их костры можно было увидеть на линии низких лесистых холмов, что уходили к югу. Посмотрев на них, Чернозуб уснул. Пристроившись на краю мола, он проспал несколько часов. При свете дня этих костров почти не было видно.
А Новый Рим, Святой Город, продолжал пылать.
Разбудил его запах пищи. Чернозуб завернулся в тюремное одеяло и спал, вытянувшись на деревянном настиле мола. Продолжайся пожар, он уже добрался бы до оконечности пирса и спалил бы его вместе со всем окружающим миром. Но пламя сошло на нет. Перед сном Чернозуб снял ботинки и спрятал их под одеялом; они были на месте, как и его шапка, в которой лежали пилюли. Приподнявшись, он понял, что лихорадка Хилберта возвращается. Но, может, все дело в том, что он голоден? Он уже несколько дней ничего не ел.
До него донеслись ароматы жареной рыбы. У самого конца мола к топкому берегу была пришвартована баржа. У маленького костерка сидели несколько человек. Встав, Чернозуб накинул одеяло, чтобы скрыть монашеское одеяние. Эти лодочники, наверное, были христианами еще в меньшей мере, чем фермеры-Кузнечики, которые хотя бы называли себя христианами. Насколько он помнил слова своего тюремщика, город сжег антипапа.
Но что-то в облике этой группы, в том, как они держались и разговаривали, подсказало Чернозубу, что он может без опаски присоединиться к ним. Неторопливо миновав деревянный настил, он осторожно приблизился. В воде покачивалось раздувшееся тело утопленника. В затянутое дымом небо улыбалось лицо женщины. Чернозуб отвел глаза и ступил в грязь. Кто-то протянул ему кусок рыбы, завернутый в широкие маслянистые листья. От него шел такой вкусный, такой ошеломительный запах, что, прежде чем вцепиться в него зубами, монаху пришлось присесть. Никто не обращал на него внимания и не задавал никаких вопросов. Люди, столь небрежно оказавшие ему милость, были лодочниками; говорили они на диалекте ол’заркского, который Чернозуб хоть и с трудом, но понимал. Двое или трое бродяг, как и он, пришедшие откуда-то со стороны, не произносили ни слова. Их молчание удачно сочеталась с грубоватым спокойствием, которое тут господствовало.
Покончив с рыбой, Чернозуб осмотрелся. Теперь, когда дым рассеялся, его взгляду предстали высокие башни опор древнего моста. Он мог разглядеть и невысокие возвышенности на дальнем берегу. Невероятно, чтобы в одном месте было столько воды. Грейт-Ривер, Мисспи, текла в море — каким же огромным в таком случае должно быть море? Тут уже было воды больше, чем Чернозуб мог себе представить.
— Идут Кочевники, — сказал один из лодочников. На этом диалекте слово, обозначающее Кочевников, звучало как «люди-лошади». И намек был ясен: значит, мы должны уносить ноги!
Женщин среди лодочников не было, но едва Чернозуб обратил на это внимание, как на берегу показалось несколько женщин. Прыгая с камня на камень, чтобы не попасть в кучи пепла, они тащили с собой какие-то вещи, похожие на охапки тряпья; поднявшись на баржу, они скрылись в надстройке. За ними появилась еще одна женщина с мешком, в котором что-то позвякивало — может, глиняная посуда?
Кто-то крикнул, и Чернозуб вместе с остальными гостями отступил назад, когда один из лодочников палкой разворошил костер. Прежде чем Чернозуб успел понять, что происходит, баржа вышла на течение. Остальные гости быстро разошлись от погасшего костра — и Чернозуб снова оказался в одиночестве, держа в руках кувшин для воды, оставшийся от лодочников. Оно и к лучшему. В первый раз за несколько дней он почувствовал позывы и, не скрывая удовольствия, разыскал себе уединенное местечко у воды, где и присел. Помывшись, он двинулся в город.
Чернозуб предполагал, что едва только стихнут пожары, в город ворвутся воины Кузнечиков, которые примутся грабить и насиловать, но вместе с ними в городе появятся Коричневый Пони и курия. Но был уже полдень, а улицы оставались все такими же пустынными. Он скатал одеяло и, свернув за угол, двинулся по улице в надежде встретить Кочевников, которые доставят его к Коричневому Пони — но чувствовал он себя нагим и уязвимым. Никого не было. Казалось, что Святой Город полностью опустел. Даже почерневшие, обуглившиеся, как головешки, трупы исчезли с улиц, словно очистительное пламя смело останки.
Грабить было почти нечего. Огонь поглотил все, кроме камня и кирпичей, оставив от города только груды щебня, — должно быть, именно так он и выглядел до того, как Харг-Ханнеган взялся перестраивать его. Сколько раз рушились эти кирпичные стены? Чернозуб задумался. Сколько завоевателей крушили эти оконные рамы и эти камни? Святой Город с его переплетением улиц, что тянулись меж почерневших груд щебня, вдоль обугленных раковин зданий, напоминал палимпсест с жалкими следами убогой цивилизации, которые веками, подобно перепутанным листам, переходили один в другой и, словно деревянная труха, исчезали в пламени, для которого хватало пищи и на двадцать минут, и на двадцать часов.
Кочевники тут не появлялись — в разрушенном и дымящемся центре христианства не было слышно никаких завываний варваров. Ни выстрелов, ни криков, ни ржанья лошадей, ни диких взрывов хохота, ни воплей радости или стонов разочарования. Всепоглощающий пожар вернул миру естественный порядок вещей, и все замерло — на улицах не показывались даже бродяги и побирушки. Разве что иногда встречались трупы, по одному на квартал, — когда Чернозуб переступал через них, они продолжали хранить молчаливое достоинство. Лишь высоко в небе хлопьями пепла кружились стаи стервятников.
Найти собор святого Петра оказалось нетрудно. Крыша сгорела и рухнула внутрь, но закопченные дорические колонны продолжали выситься над развалинами. Почти весь интерьер собора был уничтожен. Чернозуб присел на сиденье одной из задних скамеек, которые как-то миновала печальная участь. Любопытно, подумал он, что уцелело и что погибло от времени и от огня. В памяти у него всплыло несколько воспоминаний детства: тяжелые месяцы среди Кочевников, первые дни в аббатстве. Но исчезли целые годы, не оставив по себе ничего, кроме праха, — как длинные ряды пепла там, где дочиста сгорели дубовые скамейки. Кое-где от них остались только ножки. Словно напоминания о Magna Civitas, выжженного до основания больше тысячи лет назад. Что-то осталось почти нетронутым, как Церковь, а от другого не осталось даже воспоминаний.
В первый раз за эти несколько месяцев Чернозуб закрыл глаза и вознес молитву — не потому, что это от него требовалось, а потому, что захотел. Замолчав, он опустился на колени. Он чувствовал, как старым другом возвращается лихорадка Хилберта. Он приветствовал ее — ибо снова была Эдрия под водопадом, который не лился водой, потому что воды не было. И был Амен Спеклберд.
Амен I со своей улыбкой кугуара… Амен потряс его за плечо. Но это был Амен II.
— Нимми, это в самом деле ты? А мы-то думали, что ты погиб!
— И вот вы видите мою церковь, — сказал Коричневый Пони. Волос у него на голове почти не осталось, и глаза смотрели из темных провалов глазниц. Даже рыжая борода Красного Дьякона почти вся поседела.
По всей окружности в базилике были выбиты окна, пустые проемы которых молча смотрели на руины. На пустынных улицах стояла тишина, и лишь откуда-то издалека доносился вой собак.
— О Господи, эти Кузнечики! — опустившись на колени, Коричневый Пони погрузил руки в груду пепла и прижал их к закопченной колонне. — Каким я был дураком, Нимми! Довериться Кузнечикам!
— Святой Сумасшедший тоже доверял им, Святой Отец, — ответил Чернозуб. — Как и Топор.
— Я знал, что Брам хорошо дерется, — сказал Вушин. — Что он и делал, пока не дезертировал.
— Возможно, — сказал папа, — что когда его воинами овладевала ярость битвы, он уже не мог управлять ими — их ведет Пустое Небо, как они говорили, — он вытер руки о грязную сутану, которая некогда была белой; поверх нее висела наплечная кобура с револьвером. — И кроме того, воины Кузнечиков вообще не испытывали любви к церкви.
Вушин продолжал стоять. На нем был все тот же мундир с нашивками генерал-сержанта, которые придумал для него Коричневый Пони. Он был мрачен и подавлен. Чернозуб не испытывал удивления. Все друзья Вушина из желтой гвардии или погибли, или ушли на юг вместе с магистром Дионом и Ксесачем дри Вордаром. Его хозяин, Коричневый Пони, никогда еще не был так слаб и беспомощен.
— Нимми, — сказал Коричневый Пони. — Ты только посмотри, что я сотворил с моей церковью. Не для себя я хотел воссесть на этот трон. А теперь посмотри на это.
— Это были не вы… — начал Чернозуб. Но он не смог закончить фразу. Кто же еще все это сделал? Именно Коричневый Пони собрал все три орды, дал им многозарядное оружие и через прерии повел их в поход на Новый Рим — пусть даже он просил их не разводить пожары.
«Я РАЗЖИГАЮ ПОЖАРЫ» — вот что было написано на карете Элтура Брама. Он не делал из этого тайны. «ЧЕРТА С ДВА ТЫ ПОЛУЧИШЬ», — ответил ему папа.
«Черта с два…» Но стоит только оглядеться… Коричневый Пони коснулся лба Чернозуба — рука его пахла пеплом.
— Лихорадка вроде у тебя проходит, Нимми, — сказал он.
— Я с ней справился, — сказал Чернозуб. — Когда они меня захватили, то дали какие-то пилюли, те самые, что к югу от Нэди-Энн употребляют тексаркцы. Но они уже почти кончились.
— Похоже, что жара у тебя нет.
— Я его еще чувствую, — сказал Чернозуб. — Я знаю, когда он приходит. Когда меня колотит, я вижу ту девушку, Эдрию. И прежнего папу, Амена Спеклберда. Они и сейчас были со мной, до того, как вы появились, — он не видел смысла врать Коричневому Пони, больше в этом не было необходимости. — И я рад, когда вижу их.
— А теперь ты их видишь? — спросил Коричневый Пони.
— Нет, конечно же, нет. У меня нет такого сильного жара.
— Нет такого сильного жара, — повторил Коричневый Пони. Таким рассеянным Чернозуб его еще не видел. И тут он внезапно выхватил револьвер из наплечной кобуры. — Ты слышишь, Нимми?
— Что слышу, ваше?..
— Тс-с-с!
Вушин вытянул из-за пояса короткий меч, оставив длинный в стальных ножнах. Через несколько секунд Чернозуб услышал то, что слышали Коричневый Пони и старый воин. По камням мостовой ступали копыта. Вот они застучали по ступеням и звук гулким эхом отдался внутри собора.
Это был Черный Глаз, двойной агент Кочевников, который краткое время сидел в клетке напротив Коричневого Пони и Чернозуба в зоопарке Ханнеган-сити. Он был облачен во все регалии, подобающие воину Кочевников, и сидел на гнедом мерине.
— Ваше святейшество! — с сарказмом произнес он. Он кивнул Нимми, отводя взгляд от глаз и меча Вушина.
— Спрячь его, — мягко сказал Коричневый Пони, продолжая держать револьвер.
Вушин засунул короткий меч за пояс, но придержал рукоятку длинного.
— Что ты здесь делаешь? Я думал, что ты был с императором в Ханнеган-сити, — Коричневый Пони выпрямился, стараясь обрести царственный вид. Черный Глаз не подал и виду, что на него это произвело впечатление.
— В роли шпиона, — сказал Кочевник. — А когда владыка трех орд двинулся на юг вместе с цистернами и армией уродцев, я пересек Ред-Ривер и присоединился к ним. Но битва была проиграна. Пушки Ханнегана грохотали слишком громко и очень быстро. Уродцы вернулись в свою долину, «привидения» возвращаются в Мятные горы, а военачальник трех орд держит путь домой.
— Хонган Осле? — Коричневый Пони был потрясен. — Ксесач дри Вордар возвращается домой?
— Его призвали Виджусы, — сказал Кочевник. Конь танцевал на месте, топча прямые линии пепла, оставшиеся от сгоревших скамеек. — Тексаркский Деревянный Нос сжигает наши становища, убивает наших женщин, угоняет наших лошадей. Мы уходим на пастбища с короткой травой. Я здесь только для того, чтобы убедиться — в городе, когда сюда явились пожиратели травы, не осталось никого из детей Женщины Большого Неба. Вам тоже стоит уходить. Вы тоже ее дети, и она ваша мать, прошу прощения, ваше святейшество. Тексаркская кавалерия уже в пути.
— Она идет с юга? — показал папа револьвером. — Из Ханнеган-сити?
— И с севера тоже. Из прерий. Мы оставляем им этот город. Удачи, ваше святейшество.
Кочевник развернул коня, и тот, грохоча копытами, вылетел из собора. Коричневый Пони опустился на колени, проклиная свою судьбу.
— Vexilla regis inferni produent!
— Что он говорит? — прошептал Вушин.
— И вздымаются знамена Владыки ада, — шепнул в ответ Чернозуб.
— Это не их город, — бормотал Коричневый Пони. — Он им никогда не был нужен! — он посмотрел в небо, но увидел лишь закопченный обвалившийся свод купола. Коричневый Пони отшвырнул револьвер, который свалился в груду пепла. В центре разрушенного храма каким-то чудом сохранился трон святого Петра. За ним стояла раскрашенная деревянная статуя Святой Девы, которую огонь тоже пощадил. Чернозуб и Вушин молча последовали за Коричневым Пони, когда он, прокладывая себе путь среди груд мусора, направился к трону. Перед ним он остановился, рассматривая, после чего оправил сутану и сел на трон. Его веснушчатая кожа обвисла складками, и из-под грязной белой ермолки торчали редкие клочки седых волосиков. На боку у него продолжала болтаться пустая кобура.
Итак, он здесь.
Вушин протянул ему папскую тиару, но Коричневый Пони отрицательно покачал головой, и желтый воин опустил тиару в груду пепла у подножия трона. Темнело. Чернозуб без труда нашел тлеющий огонек, с помощью которого разжег несколько свечей, они стояли за троном, почти не давая света, слабые отблески падали на лицо Девы.
Глаза Коричневого Пони были закрыты, словно он молился, и Чернозуб был рад этому. Смотреть в них было тем же самым, что заглядывать в окна сгоревшего дома.
Вушин сел на корточки у трона святого Петра и опустился на пятки, поигрывая ножнами длинного меча, все еще висевшего у него на поясе. Хотя он был все так же гибок в движениях, Чернозуб видел перед собой старика. В его поведении не было ни радости, ни легкости.
Перемирие, пришедшее с пожарами, кончалось. Чернозуб слышал, как на улице собака с рычанием прогнала стервятников и стала рвать почерневшее тело, затем ее, в свою очередь, прогнала свинья. Его старая подружка? Еще один пес остановился в огромном дверном проеме и в ночных сумерках вгляделся в пространство базилики. Он понюхал дымный воздух, помочился на бронзовую створку дверей и потрусил в сгущающуюся темноту.
Мимо дверей прошла лошадь без всадника, в стременах которой застряли ошметки человеческих ног.
— Слава в вышних Богу, — раздался слабый уставший голос папы Амена II, Элии Коричневого Пони; он говорил так, словно жена Иова многострадального потребовала от него перед смертью проклясть Бога и у него уже не было сил сопротивляться. — Я слышу, как идет тексаркская кавалерия. Чернозуб, будь умницей и беги, спасай свою жизнь.
— Это всего лишь лошадь без всадника, — сказал Чернозуб. Но он прислушался и уловил вдали какие-то звуки. Точнее, он их не столько слышал, сколько чувствовал — тихий, приглушенный гул, который мог быть и отзвуками далекого грома.
— Теперь перед городом их ничего не остановит, — сказал Вушин.
— Но вы, милорд… — Чернозуб был смущен и растерян. — Куда вы пойдете?
Если даже Коричневый Пони слышал его, то не подал виду. Чернозуб посмотрел на статую Святой Девы за троном Петра. Она высунула язык. Тот был черным и раздвоенным.
«Это возвращается лихорадка», — подумал Чернозуб. Он оглянулся в надежде увидеть Эдрию и Спеклберда, спутников его бреда, но их нигде не было видно.
Коричневый Пони повернулся и, подняв голову, посмотрел на Деву.
— Значит, это ты!
— Что? — хором спросили Чернозуб и Вушин.
— Мать, мать ночи, кобыла ночи и моих снов.
— Милорд! — Чернозуб взял папу за руку.
— Посмотри! Посмотри на нее! — Коричневый Пони выдернул руку и показал на Деву. С нижней губы у нее сползало что-то черное.
— Ч-ч-червяк, — еле вымолвил Чернозуб.
— Ночная Ведьма! Моя настоящая мать! — сказал Коричневый Пони. — Чернозуб, беги, пока еще есть время. Оставь здесь свою преданность. Повинуйся мне! Иди!
Чернозуб сделал шаг назад.
— Чего это ради я начну тут соблюдать свой обет подчинения вам?
Коричневый Пони слабо усмехнулся, но повторил:
— Уходи. Уходи и стань отшельником и учи тех, кто будет приходить к тебе и спрашивать о Боге. Оставайся самим собой. Это Его завет тебе.
До Чернозуба донесся слабый стук копыт, который становился все громче.
— Иди же!
Вушин продолжал сидеть на корточках рядом с троном, прикрыв, как при молитве, узкие глаза. За троном в дрожащих отсветах свечей мерцало лицо Святой Девы. Пройдя под ней, Чернозуб по дуге медленно направился к сохранившейся задней стене собора. Да, точно, по губе у нее полз червяк. Или же она высунула язык. Черный и раздвоенный. А может, так упала тень от свечей. Ora pro nobis nunc et in hora mortis nostrae![100]
В задней части собора была дверь. На полпути к ней Чернозуб услышал резкий шипящий звук, словно кто-то с силой выдохнул. Он узнал его: так Вушин вытягивал меч из ножен. Затем он услышал бормотание на латыни. К удивлению Чернозуба, папа, менее всего придерживавшийся ортодоксальных взглядов, читал символ веры. Как ему ни хотелось ускорить шаг, Чернозуб остановился и прислушался. «Верую в единого Бога, всемогущего Отца, создателя земли и неба, всего сущего, видимого и невидимого, и в единого Господа нашего Иисуса Христа…» — еще не окончив, папа перешел к символу веры Атанасиуса: — «…И в единую Святую Римско-католическую апостольскую церковь, вне которой нет ни спасения, ни отпущения грехов — unam samctam Ecclesiam Romanum etiam Apostolicam, extra quam neque salus est neque remissio peccatorum…»
— Теперь? — это был голос Топора. Чернозуб остановился, боясь обернуться, и услышал шорох шелка. Элия Коричневый Пони, папа Амен II, что-то утвердительно пробормотал, вставая на колени перед троном. Свист меча, прорезавшего воздух, сменился мясистым хрустом плоти и треском костей, за которыми последовал гулкий удар упавшей головы и плеск жидкости, хлынувшей на замусоренный пол.
Чернозуб со всех ног бросился к выходу. Он уже был почти в дверях, когда его остановил надломленный голос Вушина:
— Прежде чем уйдешь, помоги мне, прошу тебя!
Чернозуб снова остановился, но на этот раз повернулся. Он увидел, что Топор сидит на полу рядом с трупом. Вушин вынул из-за пояса второй меч, короткий, и прижал его к животу. Прижимая его одной рукой, другой он поднял окровавленный длинный меч и бросил его монаху. Меч упал у его ног, зазвенев на каменном полу подобно колоколу.
Замотав головой, Чернозуб переступил через него и кинулся к воину.
— Нет! — решительно сказал он. — Неужели ты сейчас бросишь своего хозяина?
Вушин посмотрел на груду окровавленного шелка рядом с собой, поднял глаза на Чернозуба и с такой силой прижал клинок к животу, что потекла кровь. Потом застонал и снова с мольбой посмотрел на Чернозуба.
Нимми поднял длинный меч. Но вместо того чтобы взмахнуть им, он оперся на него, как на посох.
— Враг твоего хозяина продолжает жить, — сказал он. — Если хочешь, можешь распороть себе живот, но, прежде чем я помогу тебе умереть, я бы хотел услышать, как ты воскликнешь: «Да здравствует Филлипео Харг!»
Вушин отвел лезвие от тела и сказал что-то на незнакомом языке — явно проклятие. Опустившись на колени, Чернозуб осмотрел его рану. Она сильно кровоточила, но видно было, что лезвие не проникло глубоко в брюшную полость. Он помог старому воину встать на ноги и, снова опустившись на колени, оторвал кусок белого шелка от сутаны папы, который вручил Топору, чтобы тот зажал рану.
Взяв голову Коричневого Пони, Вушин приложил ее к телу, после чего накрыл и то и другое тюремным одеялом, очевидно, забыв, что оно принадлежит Чернозубу.
— Должны ли мы похоронить его?
Вушин покачал головой.
— Он хотел именно этого. «Оставь меня Баррегану, Стервятнику Войны».
— Его невесте, — сказал Чернозуб. Он поискал Ночную Ведьму, но она исчезла. Вернулась Дева с ее излучающим сияние ребенком и мягкой улыбкой. Посмотрев на неподвижное тело Коричневого Пони, прикрытое одеялом, Чернозуб почувствовал, что, как ни странно, он не в силах сдвинуться с места. Так много было отдано служению этому мирскому человеку после того, как он оставил аббатство. Но кем или чем был Коричневый Пони, которому он служил? «Доподлинно ли мы знаем, что есть то, чему мы служим?» — задумался Чернозуб. И тут же устыдился. Разве он не брат альбертианского ордена святого Лейбовица? Почему он так долго хотел освободиться от своих обетов, если обеты ничего не значат?
Топот копыт был уже совсем близко; он стал слышен на площади перед собором, а потом на нижних широких ступенях. На мгновение у Чернозуба мелькнула мысль выйти наружу и сдаться. Ему дадут пилюли, которые ему так нужны, а может, его ждет смерть.
Но нет. Оправившись, Вушин вложил в ножны длинный меч. Вслед за ним Чернозуб вышел в заднюю дверь собора. У святого Петра больше нечего было делать. В город вернулись псы и бродили по улицам, вынюхивая запахи свежей крови и смерти. Где это было написано? «И псы съели тело ея и был труп Иезавели на участке Израильском…»
Спускаясь вслед за Вушином по улице к реке, Чернозуб услышал топот конских копыт в кафедральном соборе святого Петра, а затем возбужденные голоса вокруг мертвого тела папы Амена II.
Глава 32
«И теперь могут они, даже не прибегая к Божьей помощи, с помощью своей руки преодолеть пороки плоти и свои гнусные мысли».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 1.Два дня, не переставая, шел дождь. Низко над головой висела тяжелая пелена, не имевшая ничего общего с яркой высотой Пустого Неба прерий, она угнетала Чернозуба еще больше, чем сам дождь, который, по сути дела, был всего лишь надоедливой моросью. Он плелся за Вушином, а тот следовал за небольшим обозом фургонов и скота, направлявшимся к Народу Уотчитаха. Компания была сборная, но все же идти с ней было лучше, чем путешествовать в одиночку. Фермеры говорили на ломаном языке Кузнечиков, пересыпанном выражениями на ол’заркском с примесью староанглийского церковного. Чернозуб прикинул, что на появление этого диалекта повлияло близкое присутствие Нового Рима. Сначала ему было трудно понимать его, но помог талант к языкам, и он не без удивления определил источники лексики и выяснил, что диалект довольно беден в оттенках и тонкостях, хотя, возможно, это он сам плохо понимал его или же фермеры невнятно изъяснялись.
Среди них было несколько женщин. Явным лидером в обозе был фермер из «привидений» (как предположил Чернозуб) по имени Пфарфен. У него была дочь, красивая девушка, если не считать ее огромных, как у уродцев, ушей и рук, которые она все время загадочно скрывала под лохмотьями. Пфарфен держал ее в фургоне, где она весь день, занятая шитьем, пела, а по ночам, как, обеспокоившись, выяснил Чернозуб, сексуально обслуживала отца, когда фургон вместе с остальными останавливался на обочине грязной дороги.
Святой Город остался далеко позади — он продолжал гореть, и когда на северо-востоке низкие облака расползались, было видно, что горизонт затянут дымной пеленой. Армия, ушедшая на юг вместе с Хонганом Осле, была разгромлена и обратилась в беспорядочное бегство, и теперь редеющий поток беженцев на юг сталкивался с беженцами на север, которых становилось все больше — эта сумятица напоминала заторы на дорогах или стада, бредущие неведомо куда. Сходя с дороги, беженцы заполняли все еще зеленые луга, которые под ногами, колесами и копытами быстро превращались в болотистые трясины. Хотя все пользовались наречиями языка Кузнечиков, нетрудно было отличить воинственных Кочевников от полуцивилизованных фермеров Ханнегана: многие из беженцев, направлявшихся к северу, были ранены и большая их часть имела при себе оружие. Некоторые ехали верхом и с тревогой и гневом поглядывали на церковное облачение Чернозуба.
— Брось, Нимми, — говорил Топор каждый раз, когда Чернозуб изъявлял желание узнать о кампании Ксесача. Он спешил скорее добраться до Ханнеган-сити. Когда Чернозуб отказался стать при нем кейсаку и помочь ему вспороть себе живот, морщинистый старый воин пересмотрел цель своего существования. Чернозуб подозревал, в чем она сейчас заключалась, но спросить не осмеливался. Топор обладал странной способностью идти весь день без крошки пищи и при этом отнюдь не выглядел изнуренным. Чернозуба это не устраивало, ибо, как и все монахи, он испытывал склонность к обеденной трапезе; но поскольку он всегда помогал вытаскивать фургоны, когда те застревали в колее, его охотно приглашали к утреннему костру и к скудному обеду. Река, оставшаяся где-то на востоке, стала далеким воспоминанием. Теперь им то и дело встречались текущие в низинах потоки; каждый день приходилось пересекать не менее двух из них, и некоторые были так глубоки, что брод представлял немалые трудности. У каждой переправы громоздились груды брошенных и непохороненных тел — лежали они в странных позах, словно хотели выбраться из земли, а не скрыться в ней. Проходящие мимо беженцы делали вид, что не замечают их, и приказывали детям отворачиваться в другую сторону. Но дети всегда понимали войну лучше, чем взрослые. Смерть почти не интересовала их, она не вызывала у них ни ужаса, ни содрогания, которое испытывали взрослые, когда слышали шелест крыльев.
Небо над головой было черным от стервятников, описывавших широкие круги.
Подданные Баррегана.
Фермеры-привидения, с которыми путешествовали Топор и Чернозуб, терпимо относились к его тонзуре и облачению, тем более что он не надевал шапку, которую держал за пазухой. Тем не менее он не мог отделаться от чувства беспокойства. Насколько ему было известно, над ним еще висел смертный приговор, вынесенный Ханнеганом. Тот приговор, в результате которого он получил пилюли Хилберта, которых почти не осталось. Если, оставляя Новый Рим, он принимал их по три в день, то сейчас снизил дозу до одной, принимая ее по утрам вместе с кукурузной размазней. Их осталось всего две к тому дню, когда Чернозуб увидел трех братьев-монахов, распятых на обочине, но было невозможно определить, сделали это тексаркские солдаты или разгневанные Кочевники, которые, потерпев поражение, лишились обещанной им возможности разграбить Ханнеган-сити. Барреган был полон радости пиршества, и от тел почти ничего не осталось.
— Идем, — сказал Топор, и, сотворив торопливую молитву, Чернозуб кинулся догонять своих спутников. Он подумал было, что стоило бы похоронить покойников, но пока еще ему не хотелось самому пополнить их число. Кроме того, он не хотел остаться в одиночестве.
На следующий день он принял предпоследнюю пилюлю. В полдень они миновали еще двух священнослужителей, свисавших со столбов у глинистой обочины. Похоже, что их сначала распяли, а потом забросали камнями и утыкали стрелами, так что смерть смилостивилась над ними. На их лицах читалась едва ли не умиротворенность, словно они только что открыли дверь, ведущую к смерти. Чернозуб долго рассматривал их. Казалось, он их знал. Знал не в лицо, хотя, по правде говоря, все люди казались ему похожими друг на друга и все походили на его преосвященство кардинала Чернозуба Сент-Джорджа, дьякона собора святого Мейси — особенно в эти дни, когда он все чаще и чаще начинал задумываться, что подступают сумерки его земного бытия, пусть даже им еще долго предстоит длиться. Для него они походили на всех монахов, распятых на кресте жизни. Это был не их мир.
— Идем, — сказал Топор.
— Иди вперед, — ответил Чернозуб. — Я догоню.
«Накорми голодного, прикрой нагого, похорони мертвого». Он взял у Вушина короткий меч и с его помощью похоронил этих двоих на обочине дороги. Завершая работу, он навалил на могилу камни и воткнул в нее перекрещенные палки. Когда он закончил, уже стемнело. Не желая брести ночью в одиночестве, он уснул в пустой грязной промоине у дороги, подложив под голову, как подушку, измазанную кардинальскую шапку.
На следующее утро он принял последнюю пилюлю и, хотя небо прояснилось, преисполнился ужаса. Он торопливо шел почти весь день, надеясь нагнать фермеров-привидений и Топора. Те немногие беженцы, которых он встречал по пути, с любопытством смотрели на него, но оставляли в покое. Но он помнил облик распятых церковников, и его не покидало чувство страха. Он спрятал красную шапку под кустом, и в конце дня ему представилась возможность избавиться и от рясы — он стянул с трупа фермера, который лежал у дороги, брюки и куртку. Покойник был еще не старым. Взяв одежду, монах похоронил его. «Погребай мертвых, одевай нагих».
От кардинальской шапки он избавился без больших угрызений совести, но вот расстаться с груботканой коричневой рясой ордена Лейбовица оказалось куда сложнее. Поколебавшись, Чернозуб скатал ее в узел и прихватил с собой. Теперь он снова чувствовал себя пилигримом или простым книгоношей.
Когда он направился на юго-запад, над ним висело чистое небо, испятнанное лишь крошечными, точно точки, фигурками стервятников.
Лихорадка Хилберта не отпускала его и в дороге. Чернозуб не испытывал голода, и через несколько дней у него прекратилось расстройство желудка, но вместе с тем он стал терять силы. Путников встречалось все меньше и меньше, да и те говорили лишь на ол’заркском или вообще молчали. Поток беженцев превратился в ручеек. Некоторые пересекали Грейт-Ривер, надеясь, что водное пространство защитит их от посягательств и солдат Филлипео, и противостоящих им Кочевников, которых они продолжали воспринимать как воинство антипапы. Остальные просто исчезали в лесах, где им предстояло скрываться, умирать или ждать встреч с соседями или родственниками.
Чернозуб так и не нагнал свои фургоны. Он уже потерял Коричневого Пони, а теперь потерял и Топора. Когда дорога раздвоилась, он пошел на запад, чтобы утреннее солнце светило ему в спину, хотя он знал, что Вушин должен был направиться на юг, к Ханнеган-сити. Чернозуб испытывал голод по Пустому Небу. Лихорадка была одним из его спутников, а другим было сознание. Часто они обретали человеческий облик, и как-то раз, переходя небольшой ручей (по мере того как он все дальше уходил на запад, они становились все мельче и мельче), он увидел, что на другом берегу его ждет Спеклберд. Чернозуб заторопился к нему, но когда вскарабкался на берег, чернокожего старика с лицом кугуара там не оказалось. В другой раз он увидел Эдрию, стоящую в дверях заброшенной хижины. Иллюзия, если это было иллюзией, была так сильна, что, взбираясь к Эдрии по склону холма, он слышал ее пение. Но в хижине он нашел только мертвого старика, на руках у которого плакал ребенок.
Он дождался, пока ребенок умер, после чего похоронил их в одной могиле.
«Погребай мертвых».
Изо дня в день стояла сухая жара, и наконец хлынул ливень, о приближении которого возвестили молнии с громом. Дождь обрушился сплошной стеной, превратив дороги в скопище непролазной грязи. Лихорадка Хилберта тут же дала о себе знать, и теперь уже Чернозуб не мог без еды идти милю за милей. Эти долгие дни в жару напомнили ему томление постов, когда послушником он искал своего призвания и думал, что обретет его среди книжников обители святого Лейбовица. И разве он не нашел его? Он потерял аббатство и его братию, и теперь у него есть та свобода, к которой он так рвался. Он даже был самим папой освобожден от своих обетов. Но, может, он просто обрел новые цепи? «Иди и стань отшельником».
В тот день, когда Чернозуб увидел святого Лейбовица и Женщину Дикую Лошадь, он все утро брел по открытой прерии, перемежаемой редкими рощицами. Его беспокоило, что тут могли бродить разбойники, ибо он несколько раз встречал у дороги следы стоянок, где еще тлели остатки костров, но никто так и не попался ему на глаза. Он решил было накинуть рясу, но передумал. Даже те, кто не испытывал ненависти к Церкви за то, что она сделала с их миром, часто считали, что она весьма богата и посему даже бродячий монах может стать желанной поживой для грабителей с большой дороги.
К полудню он стал отчетливо чувствовать, что за ним кто-то идет. Каждый раз, пересекая возвышенные места, он оглядывался — дорога была пуста, и он видел только стервятников, которые кружили на юге и востоке. Чернозуб с радостью убедился, что миновал ту неопределенную границу, где лес уступает место траве, но чувство, что за ним следят, не покидало его. Оно было настолько остро, что когда он пересек очередной ручей, то спрятался за стволом рухнувшего сикомора и стал наблюдать.
И конечно же, между деревьями показался белый красноухий мул и стал спускаться к топкому берегу. Сначала Чернозубу показалось, что женщина в седле была Эдрией с близнецами на руках — теми, кого она с его помощью обрела под водопадом. Но эта была Фуджис Гоу, сама Дневная Дева. Значительно уступая Эдрии в красоте, она держала в каждой руке по ребенку, один из которых был белым, а другой черным; оба они лежали, приникнув к ее полным грудям. Даже когда мул, оскальзываясь, спустился к берегу и пересек ручей, они продолжали сосать ее. Затем она бросила уздечку. Мул остановился посреди медленного потока. Его темные глаза смотрели прямо на Чернозуба — нет, сквозь него.
Он встал, решив больше не прятаться. Переступая через поваленный ствол, он понял, что представшее перед ним зрелище принадлежит не к его миру и нет у него возможности прикоснуться к нему. Он, вне всяких сомнений, знал, что, если заговорит, она не услышит и если даже посмотрит в упор, то не увидит его. Ему казалось, что в одном из своих снов он поменялся с ними местами и теперь они, а не он, живут в реальности. А он стал сном.
Именно тогда из кустов вышел святой Лейбовиц и взял веревочную уздечку мула. Чернозуб узнал его по деревянной статуе, стоявшей в коридоре напротив кабинета аббата, которую в двадцать шестом веке вырезал брат Финго; он узнал его странную улыбку и взгляд, полный сомнений. Узнал он и легкий приятный запах лампадного масла, который повис в воздухе, когда святой прошел мимо. Сном был именно он, Чернозуб.
Проезжая мимо него, Фуджис Гоу смотрела в небо. Чернозуб не обратил внимания, насколько величествен может быть даже молодой дубок, тонкое переплетение ветвей которого вырисовывалось на фоне бледного неба. Один ребенок, альбинос, был слеп, другой был черен, как Спеклберд. Глазки у обоих были закрыты и маленькие кулачки сжаты, словно они, как и Дневная Дева, отвергали мир Чернозуба. Лейбовиц в своей грубой рясе, накинутой на плечи, выглядел таким же монахом, как, скажем, Топор. — Идем, — сказал он. После чего подмигнул и прошел мимо.
Чернозуб последовал за ним; он всегда шел туда, куда вел Лейбовиц. Но теперь он был слаб и, взбираясь на берег, дважды упал. Когда он поднялся на него, остальные двое (трое? пятеро?) уже далеко ушли по узкой тропе и их было почти не различить в сплетении теней. Он заторопился за ними, но его трепала лихорадка, и хотя шли они неторопливо, он отставал все больше и больше. Ему пришлось снова остановиться, и, должно быть, он уснул. Когда он пришел в себя, почти стемнело, а они были в непредставимой дали — как соринки в глазу, как мерцающие вдалеке точки. Но что-то было не так.
Солнце опускалось за правым плечом. Святой Лейбовиц и Женщина Дикая Лошадь шли не на запад, к океану трав, а на юг, к Ханнеган-сити. Хонгин Фуджис Вурн всегда выбирала своим повелителем того, кто одержал победу, а Ханнеган выиграл войну. Избирая себе мужа, она выбирала короля, и теперь она была с Филлипео. Лейбовиц вел ее к нему.
Чернозуб брел себе дальше, надеясь встретить тексаркских солдат, которые дадут ему пилюли. Приближалась зима — ей предстояло стать зимой 3246 года. Империя и ее границы были пересмотрены, и те несколько путников, которых встретил Чернозуб, были пугливы и настороженны. Бредя на запад, каждые несколько дней он хоронил трупы. Он больше не был ни кардиналом, ни даже монахом.
«Иди и стань отшельником».
Дожди прекратились. Молодых древесных побегов становилось все меньше, а дорога вела все выше и выше, где под куполом неба открывался мир сплошных трав. Лихорадка Чернозуба лишь слегка тлела; жар ее и изматывал его, и позволял держаться на ногах. В то утро, когда он оставил за спиной последние деревья, он увидел высоко над головой огромную птицу. Это был Красный Стервятник, птица папы. Впереди что-то (или кто-то) лежало у дороги. Два небольших черных грифа возились там, но плоть еще недостаточно протухла для их клювов. Нимми остановился посмотреть, как Барреган, птица папы (как он воспринял ее), спланировала вниз. Пораженные ее размерами, мелкие стервятники, понурив черноперые головы, отступили, но она не обратила на них внимания, и скоро они присоединились к ней в ожидании пиршества. Красный Стервятник был сильнее, и ему повезло больше, но и он не смог до конца справиться с еще свежим трупом.
С того места, где он сидел на травянистом холмике, Чернозуб не мог разобрать, был ли то труп человека. «Накорми голодного, пригрей больного, навести узника», — сказал он вслух, припомнив законы милосердия.
«Погреби мертвого».
Он швырнул камень. Прервавшись, птицы посмотрели на него с похоронной торжественностью, после чего, взъерошив перья и почистив клювы, возобновили пиршество. При нем все еще был короткий меч Вушина, но он не мог набраться решимости и вступить в ссору с королевой стервятников.
Затем он увидел, как спустился плешивый орел и прогнал всех, даже Баррегана, Стервятника Войны. Этот плешивый орел был национальной птицей Филлипео. Он поклевал труп, а затем потерял к нему интерес и улетел — теплый поток воздуха поднял его в небо цвета синего фарфора.
Чернозуб Сент-Джордж встал и побрел посмотреть, что ему осталось хоронить. Он надеялся, что это не очередной ребенок.
Глава 33
«И тем не менее пусть все делается сдержанно и неторопливо, ради тех, кто слаб сердцем».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 48.То был отличный год для стервятников. Они сопровождали Чернозуба всю дорогу обратно в аббатство святого Лейбовица, плавая в необъятности Пустого Неба, подобно точкам в глазу. Чернозуб отказался от мысли найти пилюли Хилберта, но болезнь постепенно оставила его; теперь она лишь чуть тлела. Если его и снедал жар, то это был тот самый жар, который терзал его всю жизнь, то горение, которое заметили и Амен, и Коричневый Пони, каждый имея в перспективе на него свои виды.
Безопасного пути через прерии больше не существовало. Тот, кто направлялся к северу от Нэди-Энн, не мог избежать встречи с империей, а на юге — столкновения с ордами. Обе группы то и дело проникали на территории друг друга, но хотя границы спорных земель по обе стороны от Нэди-Энн еще не были установлены, их можно было миновать, пусть и не без опаски. Королевство Ларедо к югу от Брейв-Ривер развалилось само собой.
Да и трава, казалось, пожухла, словно стараясь втиснуться в землю. То и дело попадались полосы песка и пыли, для пересечения которых требовалось не менее половины дня. Пустое Небо казалось еще более пустым, чем обычно. Чернозуб снова облачился в рясу и по пути бормотал молитвы, перебирая четки. Но ел ли он? И где он находил воду? Те немногие люди, которых он видел, ехали верхом и скрывались за горизонтом.
Как-то днем пошел дождь. Но это был легкий дождичек, влага которого тут же испарялась, вроде того, который порой выпадает в прериях и почти не доходит до земли, лишь чуть увлажняя ее, да и эта вода тут же испаряется, стоит только, подобно медленной молнии, блеснуть первым лучам солнца, после того как облака, словно оседлав своих неторопливых пони, уползают с небосвода.
Пустое Небо.
Здесь не было ни дорог, ни троп. Чернозуб шел за уходящим солнцем. Сухие русла рек пересекали следы колес фургонов, разбегаясь в самых разных направлениях. Несколько человек, которых встретил Чернозуб, были миролюбивы и поделились едой; трупы, которые попадались ему по пути, он хоронил, пуская в ход короткий меч, позаимствованный у Топора.
Большую часть времени он двигался в полном одиночестве, сопровождаемый только своей тенью, которая бежала перед ним по утрам и тащилась сзади, когда спускался вечер. Только к полудню, в самую жару, она покидала его. И земля и небо были тут в своей первозданной сущности, и мир казался более сложным и непростым, чем обычно.
Чернозубу не хватало маленького уродца-кугуара с синими ушами. Он думал, какая судьба постигла Аберлотта, которому так нравились маленькие медные патроны войны. Стал ли он одним из безродных? Или нашел свой последний приют в земле прерий?
Эти мысли приходили одна за другой, в соответствии с ритмом шагов… приходили и уходили, молча, как птицы. А случалось, что Чернозуб шел с совершенно пустой головой — это был дар, которым его наделяло Пустое Небо, и каждый его шаг сам по себе был молитвой.
Да, то был отличный год для стервятников. Чернозуб видел это по тому, как легко они, спугнутые, снимались с места. Их всегда ждало другое пиршество, сразу же за соседним холмом.
Преподобный Абик Олшуэн умер после очередного удара, и после отбытия времени траура, предписанного бенедиктинским уставом, новым аббатом был избран приор Девенди. Придя в монастырь, Чернозуб не испытывал большого желания оставаться в нем, хотя с этими старыми глинобитными стенами у него было связано немало хороших воспоминаний (впрочем, не меньше было и плохих). История об Эдрии, появившейся как сестра Клер, стала едва ли не легендой, и Чернозуб слышал несколько версий ее. По словам некоторых братьев, они были связаны с появлением образа Святой Девы в восточной половине неба.
— Это была Ночная Ведьма, — сказал Чернозуб. — Она означает войну и смерть, а не мир и надежду, — по тому, как брат Крапивник и другие осенили себя крестными знамениями, он понял, что братия не хочет слышать таких слов, хотя по-своему они подготовились к войне. Они спрятали религиозные святыни в самой далекой келье и стерли пыль с пушки, которая осталась после Зайца-контрабандиста. Брат-плотник сидел в подвале, выстругивая тяжелые плахи для укрепления дверей. Поражение планов нового порядка, которые строил Коричневый Пони, свидетельствовало о наступлении новых темных времен. Почему-то они не пугали Чернозуба, он о них даже не думал. Кровь и слезы были тем океаном, в котором извечно плавало человечество.
Обитель взяла к себе четырех ребятишек из деревни. Двое уже умерли. Похоже, из пустыни пришли новые болезни.
Придя на могилу Джарада, Чернозуб остановился, глядя в пустую яму, которая всегда ждала очередного обитателя. Как объяснил приор Девенди, в соломенных матах, которыми были обложены ее края, вряд ли имелась необходимость, ибо в этом году дождей было меньше, чем обычно. Могила была так глубока, что Чернозубу показалось, будто дно ее уходит в непроглядную глубину, где… где…
Покачнувшись, он чуть не упал.
Болезнь Джерарда — так называли монахи этот недуг по имени возлюбленного собрата, который почти тысячу лет назад был сражен им.
— Похоже, ты немного не в себе, — сказал приор Девенди. — Идем.
Через людные днем помещения монастыря, под старыми знакомыми сводами он провел Чернозуба в кабинет Олшуэна. Пустив в ход ключик, который на шнурке свисал у него с шеи, он открыл ящик стола, извлек из него другой ключ и уже им открыл шкаф с пыльными бутылками. Приор налил стакан бренди. Чернозуб чуть не отмахнулся от него, но увидел, что Девенди наливает и второй стакан для себя.
— Орегонский, — сказал он. — Остался тут как подарок Коричневому Пони, когда он стал папой Аменом II. Но он перевел папство в Новый Иерусалим, и эта бутылка так и не была открыта.
— А теперь он мертв, — сказал Чернозуб. Он никому не рассказывал о подробностях сцены в базилике святого Петра — только то, что папа мертв.
— Он сделал тебя кардиналом, — напомнил Девенди. — Где твой головной убор?
— Моя шапка… Я все оставил в прошлом. Подозреваю, что кто бы ни был новым папой, он в любом случае разжалует всех кардиналов Коричневого Пони.
— Тут тебе нет необходимости быть кардиналом, — осторожно улыбнулся Девенди. — Можешь быть только священником.
— Только — кем? — Чернозуб удивленно посмотрел на старого священника.
— Братия хочет избрать тебя аббатом. Для этого ты должен получить рукоположение.
— Это невозможно, — сказал Чернозуб. — Non accepto.
— Я тоже так думаю, — сказал Девенди. Он не скрывал облегчения. — Но я обещал, что спрошу у тебя.
— У меня нет к этому призвания, — сказал Чернозуб. — Я был призван к служению папой Аменом II. Я останусь тут на пару ночей, а потом…
— На гору Последнего Пристанища?
— Думаю, что должен пройти этим путем.
— Туда она и ушла, — сказал приор Девенди. — Ты знаешь, у нее были… м-м-м… раны, и, покинув аббатство, она осталась у старого еврея. Но я уверен, что ее там не должно быть.
Чернозуб посмотрел в окно, за которым виднелась Столовая гора. Ее очертания расплывались в струях горячего воздуха, и она казалась миражом.
— А старый еврей по-прежнему там?
Да, старый еврей по-прежнему был на месте. Следующим утром Чернозуб оставил аббатство, неся с собой дары в виде одеяла, требника, фляжки и буханки хлеба. На полпути вверх по тропе, которая вела к вершине Столовой горы, его встретил шум осыпающихся камней. Он не обратил на них внимания; это была всего лишь галька. Он переступил последнюю трещину, преграждавшую путь, и перед ним предстал Бенджамин Элеазар бар Иешуа. Он выглядел не старше, чем десять лет назад — или сто лет, насколько было известно Чернозубу.
— Это ты, — сказал старик. — Я подозревал, что это можешь быть только ты.
— Коричневый Пони мертв, — сказал Чернозуб.
— Не только он один, — это было все, что ответил старый Бенджамин. Он рассказал Чернозубу, что Эдрия оставалась у него несколько месяцев, пока не зажили ее язвы, а потом она ушла, так ничего и не рассказав о своих планах.
— Сильно ли она изменилась?
— Изменилась? — старый еврей только усмехнулся и покачал головой, делая вид, что не понял его. — Она никогда не была и никогда не будет лучше. Она может быть богаче или беднее, она может впасть в грусть, но до конца дней своих не будет мудрее, чем она есть сейчас.
Устав и испытывая раздражение от груды пророчеств и парадоксов, обрушившихся на него, Чернозуб завернулся в одеяло и сразу же уснул. Он провел у Бенджамина две ночи и спал в той палатке, где обитала Эдрия. Старый мастер, когда-то шивший их, никогда не оставался в палатке, если была возможность избежать этого. Каждую ночь Чернозуб просыпался от шума дождя — капли гулко шлепались о натянутую парусину. Может, старик во сне пускал в ход свое искусство заклинателя дождей? Каждую ночь на востоке полыхали сухие молнии; это Женщина Дикая Лошадь увещевала своих детей на равнинах.
На третий день он ушел. Старый еврей наполнил его фляжку водой из водоема под скалой. Вода была холодной и чистой, и Чернозуб удивился, убедившись, что ее хватило на весь путь до Нового Иерусалима.
— Если бы даже она появилась, — сказал приор Поющая Корова, когда Чернозуб оказался в приорстве святого Лейбовица, — мне пришлось бы выставить ее. Ты же слышал, что с ней случилось.
— Да.
По папской дороге Чернозуб двинулся на север и, очутившись к Мятных горах, свернул к Пустой Аркаде. Население Нового Иерусалима заметно уменьшилось. Магистр Дион не вернулся с «войны антипапы» (как ее называли даже «привидения»), и никто не знал о судьбе Эдрии, дочери Шарда, кроме того, что она после отлучения от церкви направилась в Ларедо. Никто не верил Чернозубу, когда он рассказывал, что отлучение было отменено папой, который и не был папой в Новом Риме, а тот больше не был Новым Римом.
Не удалось ее найти и в Валане.
Но довелось встретить Аберлотта, который трудился обыкновенным писцом на площади святого Джона — он сидел у стен Большого зала собора Святого Престола, неподалеку от дверей старого папского дворца, в котором Амен Спеклберд произнес свою ныне легендарную семнадцатичасовую речь. Воздух Валаны был полон знакомых городских запахов конского навоза, еды и дыма. Улицы кишели людьми; после поражения крестового похода многие Кочевники предпочли осесть на узкой полоске земли, орошаемой текущей с гор водой. Они покупали и продавали коров и лошадей, сменив свой образ жизни, чтобы он соответствовал изменившемуся облику мира.
— Я устал быть солдатом, — сказал Аберлотт. — Не устали ли вы быть кардиналом, ваше преосвященство?
— Я больше не кардинал, — сказал Чернозуб — ирония его старого товарища была, как всегда, утомительна. Под глазом у Аберлотта тянулся длинный шрам, который, по его словам, он заработал у ворот Ханнеган-сити, когда тексаркские войска обошли их с фланга и воины Хонгана Осле попали в засаду. Шрам хорошо сочетался с его отрубленным ухом.
— Я чуть не истек кровью, — сказал Аберлотт. — Для меня все закончилось в Ханнеган-сити. Когда сражение завершилось, империя просто сгребла нас, как изюм для булочек. Многие из Кочевников Ксесача дри Вордара сейчас влились в императорскую гвардию. Я скитался несколько недель, а затем устроился секретарем при церковнике из Н’Орка, который прибыл на конклав, но не говорил на ол’заркском.
— На конклав?
— Ну да, — сказал Аберлотт. — Созвал его Сорели Науйотт и сам стал папой. Или, может, имеет смысл сказать, что папой его сделал Филлипео Харг. Урион Бенефез был просто вне себя — думаю, он и сейчас пребывает в таком же состоянии. Без Коричневого Пони, который мог и сопротивляться, и стоять на своем, и уклоняться, все эти епископы и архиепископы покорно прибыли в город. Сорели аннулировал все распоряжения Амена Второго, которыми тот что-то аннулировал, а затем Вушин аннулировал Филлипео.
— Топор.
— Он самый, — согласился Аберлотт. — Остановил его карету прямо на улице. А когда Филлипео высунулся из оконца посмотреть, что происходит, снес ему голову. Охрана Ханнегана изрешетила пулями твоего желтого друга, но он с готовностью принял их, подставив выстрелам грудь, горло и живот. Я сам это видел.
Когда Чернозуб опустил веки, он увидел перед собой строгий взгляд узких глаз Вушина.
— Если бы не он, я давно был бы мертв.
— Разве это не относится к нам обоим? В любом случае ты больше не кардинал. Папство переместилось в Ханнеган-сити, которым в роли регента при сыновьях Филлипео управляет Бенефез. И когда дети подрастут, он, как полагается, затеет между ними кровавую смуту. Но пока, как ни крути, установился мир.
Аберлотт женился на Анале, сестре Джасиса, и перетащил ее вместе с двумя маленькими детьми из Нового Иерусалима в Валану. Он предложил Чернозубу остаться у него, но дом был невелик, да и Чернозуб осознал, что не испытывает тяги к атмосфере семейного уюта.
— Я слишком долго был монахом, — объяснил он Аберлотту и, попрощавшись с ним, направился на юг.
То был очень хороший год для стервятников. Их молодое поколение росло сильным и крепким, черные крылья уносили их высоко и далеко, и плодородная земля щедро кормила их падалью. Как-то ночью Чернозуб проснулся в холодном поту и подумал, что возвращается лихорадка. Посмотрев на север, он увидел, что небо закрыто Ночной Ведьмой, огромной и уродливой. Он видел, как сквозь ее воздетые руки просвечивают звезды.
— Кто умирает? — громко спросил он. Лишь потом он узнал, что это был его старый друг Чиир Хонган Осле.
План Коричневого Пони обернулся для Кочевников бедствием. После поражения три орды отвернулись друг от друга.
Договор Священной Кобылы больше не сдерживал их, и равнины покрылись телами тех, кто погиб от засухи, болезней и от рук безродных.
Чернозуб пересек Нэди-Энн и вдоль Залива привидений шел дальше на юг, пока наконец не оказался у Брейв-Ривер. Поскольку он не был больше кардиналом, то ожидал, что мать Иридия откажет ему в приюте в монастыре святого Панчо Вильи в Тараканьих горах, но она приняла его едва ли не как старого друга. Хотя известий о сестре Клер Ассизской у нее не было. Она предполагала, что Эдрия где-то у своих соотечественников.
— У своих соотечественников? — усомнился Чернозуб. — Я был в Новом Иерусалиме, и там о ней ничего не знают.
— Она среди уродцев, — сказала мать Иридия. — Среди «привидений». В Долине рожденных по ошибке.
В стране Зайцев жизнь всегда была суровой, но когда миновали два засушливых лета, она стала еще тяжелее. Годы, когда выпадало вдосталь влаги, сошли на нет. Пески наступали на травянистые пространства. Хотя Ханнеган-сити процветал. Империя продвигалась на восток, присматриваясь к лесистым землям и к развивающейся торговле в междуречье Ред и Грейт.
Несколько дней, дожидаясь аудиенции у папы, Чернозуб работал писцом на рыночной площади. Личность пригласившего удивила его едва ли не больше, чем само приглашение, ибо он увидел перед собой Торрильдо в рясе викария, отороченной перьями.
— Я сообщил его святейшеству, что ты здесь, — сказал Чернозубу молодой человек, не потерявший своего обаяния. — Ты должен вести себя очень осмотрительно — ты все еще считаешься отлученным от церкви.
— Не понимаю почему. Если он отказал мне в кардинальстве, почему бы ему не снять с меня и отлучение?
— Это все Бенефез, — объяснил Торрильдо. — Он считает, что ты имел отношение к убийству Филлипео.
«Я в самом деле имел», — подумал Чернозуб.
— Скорее всего он благодарен тебе за это, — сказал Торрильдо. — Но видеть тебя здесь он не рвется.
Сорели Науйотт отнесся к Чернозубу с куда большим уважением и заинтересованно выслушал повествование о его приключениях. Особенно его волновала ситуация на равнинах, но знал он о ней больше, чем Чернозуб. Появление Ночной Ведьмы было отмечено на всех Высоких равнинах. Женщин Виджусов оно не обрадовало. Когда Ксесач дри Вордар вернулся с юга, они призвали его к себе и приговорили к смерти. После похоронных торжеств кости его были погребены в трех далеко отстоящих друг от друга местах, которые определили для себя каждая из трех орд.
«Почему он мне все это рассказывает?» — пытался понять Чернозуб, пока толстый степенный папа, похоже, забыв о времени, излагал ему все эти события. Он стал могильщиком мечтаний Коричневого Пони. Следующим сошел в могилу Филлипео; папа, сидевший в его карете, с мрачными подробностями рассказал, как Вушин исполнил свой долг. Охрана Филлипео была вооружена первыми образцами многозарядных ружей, но некоторые дали осечку. Топор снес голову седьмого Ханнегана одним ударом, после чего положил меч и, встав на колени, принял пули, которые, как рой пчел, впились ему в грудь.
Dominus ex deu.[101]
Аудиенция длилась весь день и вымотала все силы. Папа Сорели во всех подробностях обрисовал ситуацию, сложившуюся в империи в результате долгих и кровавых междоусобиц. Решающим фактором стало многозарядное оружие. С его помощью Тексаркана наконец получила возможность контролировать равнины. Старый образ жизни скончался, а до тех, кто не увидел приближения его конца, ветер донес причитания по поводу его кончины. Исчезала даже трава. Лунообразные песчаные дюны неторопливо продвигались с запада на восток. Империя, еще недавно бдительно охранявшая свои западные границы, стала все чаще и чаще поглядывать на восток. Все эти годы Новый Рим дряхлел, но его так и не стали восстанавливать…
— Сын мой…
Оказывается, Чернозуб уснул. Но папа не оскорбился. Когда Чернозуб покидал бревенчатый папский дворец, у дверей он получил мешочек с золотыми монетами. «Плата за то, что я слушал», — подумал он, но затем осознал, что ему вручили деньги на дорогу. Ведь он совсем обеднел.
Он и сам пришел к этой мысли. Ханнеган-сити, как и Валана, бурлил. Улицы были заполнены людьми и лошадьми. Солдаты были демобилизованы, новые легаты вереницей направлялись на запад, земли Кузнечиков на севере были открыты для безродных и для тех бывших врагов Ханнегана, которые хотели отпраздновать новую мирную жизнь тем, что будут растить коров и холить пастбища.
Расставание было простым и легким. Чернозуб устал от городов, от старых друзей и врагов. Он устал от человечества и посему, пустив в ход деньги папы, купил себе осла, или, точнее, мула, и направился на север, прокладывая себе путь вдоль опушек, где леса встречались с равнинами.
Трава. С одной стороны нетронутые травянистые пространства тянулись до горизонта, а с другой — извилистые языки ее вторгались между приземистыми деревьями с черной корой. Невысокие горы Летучих Звезд полыхали кострами, но Чернозуб не знал, шли там торжества или похороны.
Он беспрепятственно миновал первый бревенчатый блокпост уродцев. Он надеялся, что Долина рожденных по ошибке примет его — так и случилось. Долина народа Уотчитаха, как она сейчас именовалась, представляла собой переплетение небольших лощин, во всех направлениях рассекавших пологие горы, получивших название Старого Зарка. Чернозуб двигался все дальше, пока не набрел на небольшую общину книжников и запоминателей, — Пост Кедра. Он обменял своего мула на г’тару, очень напоминавшую ту, что когда-то дал ему отец, и устроил себе жилье на горном склоне над аббатством, предлагая свои услуги как писца и учителя в обмен на еду.
Он нашел себе укрытие в пещере с каменным сводом, весьма походившую на ту, в которой когда-то жил Амен. Что было нелегко — эти пещеры на востоке были широкими и открытыми, как зев. Они спасали от дождя, некоторые — от холода, но ни одна из них не могла остановить бег времени.
Так Чернозуб Сент-Джордж жил тут и старился, читая молитвы и размышляя над Законом святого Лейбовица, который обрек его на жизнь в смирении, и он не без удивления понял, что в любом случае пришел бы к нему. Смирение было сестрой того глубокого одиночества, которое он берег в себе, одиночества, к которому он больше ничего не мог присовокупить. Опустошенность была столь же осязаемой, как и любовь. Хотя порой он ловил себя на том, что ночами возносит молитвы тому, кто, ответив на них, приведет к нему Эдрию. Чернозуб слышал о светловолосой женщине-привидении в монашеском одеянии, которая лечила людей в соседней долине. Местный священник называл ее ведьмой — порой она врачевала души, проклятые священником, и поэтому он боялся ее.
Чернозуб тоже нуждался в исцелении души, но не этого он боялся. Он боялся того отверстия под клитором, прорванного черным богом и белым богом, которые у него на глазах ехали в объятиях Дневной Девы, восседавшей на своем ослепительно белом муле. Или же это сделал для нее старый еврей. Стоило только перевалить через холм, за которым ждали его: там лежала дорога к Господу нашему Иисусу и ко всем святым — но Чернозуб был трусом. Порой он вскидывался в мгновенном восторге, думая об этом, но был не в силах скрыть свой позор от Святой Матери Дневной Девы Фуджис Гоу, которая из какого-то уголка сознания наблюдала за ним. Не упоминал он об этом и в своих ежегодных исповедях священнику аббатства Лейбовица, который навещал его каждый Великий четверг. Как ему предписывал аббат, священник каждый раз хотел омыть ноги Нимми, но отшельник отказывался.
— Ты не признаешь, что живешь в бедности и убожестве? Не является это твоим грехом гордыни?
Вздохнув, Чернозуб согласился, чтобы священник омыл ему ноги и причастил его.
Несколько раз он, как советовал Амен Спеклберд, предавал Иисуса, когда Спаситель становился для него поводом для прегрешения, но Чернозуб всегда возвращался к нему, и ему казалось, что так поступал и Спаситель. Но не запоздал ли ты, Господь?
Каждый день он по три часа учил тринадцать местных ребятишек разного возраста читать и писать на их родном диалекте; кроме того, он немного учил их музыке и, к недоверию родителей, рассказывал кое-что о географии континента, а также то, что он знал об истории мира и падении Magna Civitas. Некоторые ребята верили ему, а другие — своим родителям, но, пусть даже отцы и матери подсмеивались над отшельником, они приносили ему еду как плату за обучение грамоте своих пострелят, чинили одежду, снабжали его теплыми одеялами, а порой, когда он недомогал, дарили бурдюк вина.
Открываясь в одиночестве, Чернозуб познавал самого себя. Порой открытость души принимала в себя восторг божественного озарения, но куда чаще этого не случалось. Он решил прекратить открывать душу для Бога. Именно это и советовал Майстер Экхардт — впасть в такую бедность, чтобы Богу не было места поместиться. Но нужно ли ему такое место? Он и так пребывает всюду. Вот и все.
Но Чернозуб не считал себя религиозным человеком. Он не знал, является Бог Отцом или же Творцом земли и неба и всего сущего, видимого и невидимого. Он не мог понять, что это значит, разве что Бог сам предстанет перед ним в пылающем кусте, но Он никогда этим не утруждался; никогда Он не сказал ему: «Чернозуб, я твой Отец Вседержитель, и это Я создал землю, которой касаются твои колени и небо, под которым ты стоишь на коленях».
Глава 34
«Пусть те, кто получает новое одеяние, тут же неизменно возвращают старое, чтобы его могли надеть бедняки».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 55.Сразу же за горой, под которой стоял Пост Кедра, размещался монастырь, где жила монахиня, известная под именем сестры Клер. Как-то утром ее разбудило одно из свойственных ей предчувствий, и она поняла, что отшельник, который жил в соседней долине, мертв. Она знала о нем вот уже много лет, но решила оставить его в покое, зная все тяготы пути, который он совершил. Никто не поведал ей о его кончине, никто, кроме нее самой, об этом еще не знал, да и она узнала только в силу какого-то чувства — в нем не было радости, но не было и печали, — которое не покидало ее. Она ждала этого ощущения. Отшельник оставил по себе след в этом мире, которому будет не хватать его.
С разрешения аббатиссы сестра Клер взяла с собой ломоть хлеба, немного сыра и, подумав, мышку, только что прихлопнутую мышеловкой на кухне. По крутой нехоженой тропе он пошла к Посту Кедра. В дальнем конце долины, рядом с монастырем, она нашла узкую тропку, что вела к сухой пещере — сестра Клер знала, где та должна быть.
Старик скончался совсем недавно. Но не его кончина, а возраст заставили глаза сестры Клер наполниться слезами. Почему-то она ожидала, что встретит красивого юношу, хотя сама превратилась в старую женщину, согбенную и отмеченную годами.
Чернозуб сидел, привалившись к стене, и на колени ему опустил голову маленький кугуар. Когда она приблизилась, животное вскинуло синюю голову. Это была Либрада. Эдрия подождала, но кугуар продолжал сидеть на месте, так что ей пришлось поманить зверя мышкой — и лишь затем она смогла похоронить Чернозуба и поставить в изголовье его могилы маленький крестик, который все эти годы носила с собой.
Четки, которые он зажал в руке, и простую г’тару, что стояла у стены, она взяла с собой.
Послесловие Lacrimosa Уолтера Миллера
Есть книги, несомненные достоинства которых еще более усиливают разного рода привходящие обстоятельства — такие, например, как личности их авторов. Каких-то особенно сенсационных фактов биография Уолтера Миллера не содержит, хотя и в ней можно отыскать любопытные подробности, без знания коих чтение его произведений может оказаться делом малоперспективным. Сюжетную-то канву, конечно, проследить нетрудно, не разглядит ее только неграмотный, а вот богатые ассоциации, культурные ссылки и «подводные» пласты, да и истинные намерения автора, боюсь, останутся за кадром.
А жаль: ведь главная книга писателя менее всего напоминает «космическую оперу», где думать просто некогда и только и остается, что следить за головокружительным сюжетом…
Уолтер Майкл Миллер-младший родился 23 января 1922 года в небольшом городке Нью-Смирна-Бич во Флориде. Раз beach — значит курортное местечко: песчаный пляж, солнце круглый год (если не считать регулярно обрушивающихся на берега Флориды тайфунов), пальмы, теплое море — одним словом, не детство, а сплошные каникулы! Правда, насладиться всеми этими дармовыми прелестями мальчик не смог: его родители были ревностными протестантами и воспитали сына в строгой вере. Так что все его «курортное» детство свелось, по сути, к сурово-аскетичной, если не сказать унылой реальности закрытой частной школы-пансиона.
С детских лет, как признавался сам Миллер, он хотел стать писателем, однако отец, желая сыну добра, посоветовал ему получить какое-то техническое образование, чтобы «не остаться писателем, умирающим с голоду». Поэтому, окончив школу, Миллер в 1940 году поступил на инженерный факультет университета штата Теннесси, но, не проучившись и полутора лет, был призван в армию: Америка вступила во Вторую мировую войну…
Бортовой радист и хвостовой стрелок, Миллер принял участие в 53 боевых вылетах американской бомбардировочной авиации, был ранен и награжден боевой медалью. Бомбы с его самолета падали не только на позиции и военные объекты противника, но и на мирные города Италии и Югославии. Однажды ему, человеку глубоко верующему, судьба подготовила особое испытание — принять участие в налете союзной авиации на монастырь итальянских бенедиктинцев в Монте-Кассино, превращенный войсками дуче в укрепленную крепость. Правда, тогда он еще не обратился в католичество, но все равно монастырь — он монастырь для любого верующего, независимо от конфессии.
В год окончания Второй мировой войны, за неделю до Дня Победы, он женился на Анне Луизе Беккер, а спустя два года поступил на инженерный факультет Техасского университета в Остине. Проучившись четыре года, Миллер не стал писать диплом, а устроился на временную работу линейным механиком на железных дорогах. Во всяком случае, на пенсию он вышел с карточкой социального обеспечения, расходы по которой покрывал профсоюз железнодорожников.
Остается добавить, что в возрасте 25 лет Уолтер Миллер-младший самостоятельно сделал свой главный выбор в жизни: обратился в католичество.
О личной жизни писателя известно немногое. Парадоксально, но еще меньше могут рассказать о нем родные и близкие (а у него, между прочим, было четверо детей): всю жизнь преследовавшие его странности, скажем так, «антисоциального свойства» в последние годы вылились в настоящую манию, приведшую к фактическому добровольному затворничеству. Почти двадцать лет писатель прожил практически полным анахоретом, редко общаясь даже с родными. Он продолжал писать, однако все деловые контакты с издателями и литагентом проходили исключительно по телефону или в письменной форме. А почти маниакальное нежелание никого видеть, овладевшее Миллером, стало притчей во языцех в мире гипертрофированно социальной американской science fiction.
У меня есть две фотографии писателя. Первая снята, видимо, еще до начала кризиса и воспроизведена в иллюстрированной истории научной фантастики «Иные миры», написанной Джеймсом Ганном: жгучий брюнет с энергичным лицом и марктвеновскими густыми усами — красавец-мачо, ковбой, супермен! И другое фото, опубликованное в журнале Locus рядом с некрологом: заметно обрюзгшее лицо человека с поредевшими курчавыми волосами и приветливой широкой улыбкой. Выражение глаз разглядеть трудно, они скрыты очками, но, во всяком случае, ничего «безумного» в этом человеке на первый взгляд нет.
Однако чем ближе к концу, тем больше душу Миллера заполнял какой-то непонятный мрак. Сейчас врачи поставили бы ему диагноз «вьетнамский синдром». В последние годы жизни он практически перестал и писать. Скорее всего писатель просто тихо сходил с ума — и этот диагноз, ходивший в среде его коллег, только подтвердила странная и нелепая смерть писателя. Впрочем, когда она бывает «лепой»?
Так распорядилась судьба, что жизнь автора «Страстей по Лейбовицу» оборвалась там же, где он явился на свет: во Флориде, но на сей раз в другом курортном городке — Дейтона-Бич. Произошло это таким же солнечным январским днем — спустя без нескольких дней 74 года, в 1996-м. Как-то поутру соседи услышали выстрел в доме, где постоянно проживал странный, явно чокнутый старик, после смерти жены несколько месяцев не выходивший на улицу и не общавшийся ни с кем из соседей. Полиция констатировала «смерть в результате раны, вызванной неосторожным обращением с оружием».
Так ли было на самом деле, или Миллер совершил осознанное самоубийство, мы уже, вероятно, никогда не узнаем.
Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о жизненном пути Уолтера Миллера-младшего. Да и о его литературной карьере при всем желании вряд ли сообщишь больше.
Долгое время это имя было практически неизвестно у нас в стране. Если не считать дежурной фразы, которую советские критики (с легкой руки большого «знатока» Александра Казанцева) без устали переписывали друг у друга: «у американца Уолтера Миллера (роман «Гимн Лейбовицу») на испепеленной атомной катастрофой Земле первой возрождается апостольская римско-католическая церковь». И все — как ярлычок привесили.
Пока я сам впервые не раскрыл истрепанный paperback издательства Bantam Books — а открыв, не проглотил роман от корки до корки! — то, как и все «продвинутые» фэны той поры, знакомившиеся с американской фантастикой в основном по статьям и предисловиям критиков, за неимением другой информации полагался на вывод Казанцева, считая книгу Миллера недостойной внимания — обычная коммерческая поделка на тему «мир после атомной войны». Ужастик, одним словом.
Между тем влияние этого писателя на современную американскую научно-фантастическую литературу, как сказано в авторитетной «Энциклопедии научной фантастики», вышедшей в 1993 году под редакцией Джона Клюта и Питера Никколса, «обратно пропорционально незначительному количеству выпущенных им книг».
Если быть точным, то выпустил он их три — роман и пару сборников. По стандартам американского книжного рынка это все равно что ничего. Как согласно закивают издатели, критики, литагенты, при подобной продуктивности имя себе в Америке не сделаешь. По крайней мере в научной фантастике, где даже маститые авторы не могут себе позволить почивать на лаврах и постоянно и целеустремленно вынуждены напоминать о себе.
А Уолтер Миллер — сделал. Наперекор всем законам рынка.
И сделал себе имя всего за 6 лет! В 1950 году писатель дебютировал в мэйнстримовском журнале American Mercury — разумеется, рассказом реалистическим, а спустя год журнал Amazing Stories опубликовал и первый научно-фантастический рассказ Миллера, «Секрет храма Смерти». И после 1957-го, когда в журнале The Magazine of Fantasy & Science Fiction вышла третья, заключительная часть единственного романа (в принципе для того, чтобы сделать имя, хватило бы его одного), писатель надолго, совсем не по-американски замолчал. Были выпущены лишь два сборника ранее написанного, «Условно — человек» и «Взгляд со звезд», да была издана отдельной книгой «Страсти по Лейбовицу».
Последнее событие случилось в 1959 году. И уже в следующем читатели признали роман Миллера, с тех пор выдержавший десятки изданий, лучшим произведением крупной формы, наградив высшей премией в жанре — «Хьюго». Не сомневаюсь, появись премия профессионалов, «Небьюла», лет на десять раньше (а она была основана в 1965 году), не миновать бы роману Миллера заветного дубля!
Кроме романа, на счету у Уолтера Миллера еще около четырех десятков рассказов и коротких повестей, одна из которых — «Мастер сцены» — также в 1955 году была награждена премией «Хьюго». Герой ее, безработный театральный актер, подвизавшийся для заработка в должности мастера сцены, решил было самовольно изменить «роли» театральных автоматов-манекенов, но в результате сам оказался подвешен «на ниточку». Кукловод, превратившийся в куклу-марионетку, — история, что и говорить, не новая, но актуальности не теряющая по сей день…
Среди других рассказов Миллера особенно выделяется «Crucifixus Etiam» (1953). Это трагическая и вместе с тем удивительно светлая история участника грандиозных биотехнологических преобразований на Марсе, результатом которых должна была стать «новая» планета, приспособленная к нуждам будущих колонистов (в англоязычной science fiction это получило название terraforming — буквально «землетворение»). Узнав, что ему никогда не суждено вернуться на Землю, герой посвятил себя своего рода религиозному служению, отдав остаток жизни работе, начатой на Марсе.
Вообще-то две высшие премии на столь незначительное количество опубликованного — своего рода рекорд. Произведения Миллера потому так пришлись ко двору в американской фантастике конца 1950-х, что как раз в то самое время фокус читательского интереса с галактических приключений, путешествий во времени и моральных терзаний роботов переместился на человека. А Уолтер Миллер никогда ни о чем (о ком) другом и не писал.
И все-таки он неизбежно затерялся бы, утонул в водопаде новейшей фантастики, если бы не «Страсти по Лейбовицу».
Первая треть романа была опубликована в 1955 году журналом The Magazine of Fantasy & Science Fiction — как короткая повесть. Неизвестно, виделось ли самому автору в ту пору какое-то продолжение, однако оно последовало — и не одно, а целых два. И в итоге все три повести превратилась в соответствующие части («Fiat Homo», «Fiat Lux» и «Fiat Voluntus Tua») большого романа, ставшего безусловной классикой научной фантастики XX века.
Он может понравиться, а может и оттолкнуть своей жестокой и одновременно сострадательной правдой (странное слово для характеристики фантастики, верно?) о человечестве. Но представить себе сегодня эту литературу без книги Миллера, как подтвердит любой мало-мальски авторитетный критик, просто невозможно.
Не стану выписывать их комплиментарных оценок. Мне представляется более объективным подход известного писателя, коллеги Миллера — Джека Уильямсона (разменяв шестой десяток, он стал по совместительству и критиком, защитив диссертацию на тему преподавания научной фантастики в американской высшей школе).
Вот что сделал Уильямсон. Исследовав внимательно 77 университетских курсов по фантастике (дело было в 1974 году), он выписал те книги, которые чаще всего попадались в списках обязательного чтения, предложенного студентам[102]. Эксперимент был, что называется, чистым, ибо профессора между собой не сговаривались и списки никоим образом не коррелировали.
В результате, как читатель уже, вероятно, догадался, абсолютное первое место досталось роману Уолтера Миллера! Его включили в программу своих курсов 23 преподавателя. Для сравнения приведу показатели других общеизвестных книг: «Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна (21), «Война миров» Герберта Уэллса (18), «Торговцы космосом» Фредерика Пола и Сирила Корнблата (у нас роман издан под названием «Операция «Венера») (17), «Дюна» Фрэнка Герберта (16), «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Левая рука Тьмы» Урсулы Ле Гуин (по 15) — и так далее…
Это все, что я хотел сказать о личности писателя и о месте его романа в американской science ficiton. Свое же собственное мнение о его главной книге читатель, надеюсь, составит сам.
Сообщенные выше минимальные биографические сведения, надеюсь, все-таки помогут читателю лучше понять пафос главного произведения Уолтера Миллера. Особенно это касается авиарейда на Монте-Кассино, оставившего в душе писателя незажившую психологическую рану. Наверное, так же нелишне перед чтением воннегутовской «Бойни № 5» взять на заметку, что автор воевал в Европе, был пленен и чудом уцелел во время не менее варварской бомбардировки — своими же — Дрездена…
Вот и под занавес романа Миллера бомбы начнут падать на монастырь ордена святого Лейбовица. А в самом финале лелеемое братством на протяжении веков хранилище знания и культуры — их монастырь — обрушится, как гнев божий, на последнего настоятеля и убьет его.
Но перед этим падающий свет с небес, Люциферов огонь (ибо имя Люцифер означает не только падшего ангела, ставшего врагом рода человеческого, но, в переводе с греческого, — просто Светоносец!), еще даст, по прихотливой фантазии романиста, рождение новой непорочной деве, внезапно прозревшей от слепящего атомного пламени. Ее взор впервые откроется миру — невинный и любопытный взор ребенка. (Я пишу «она», «ее», хотя речь идет о внезапно проснувшейся, ожившей… второй голове женщины-мутанта!) Цивилизация на Земле рухнет в очередной раз, вероятно, окончательно и бесповоротно, а последний звездолет с монахами ордена отправится в далекую звездную колонию — чтобы попытаться еще раз…
Даже этой микроаннотации достаточно, чтобы составить представление о серьезности замысла автора. Вот уж не звездные войны — так не звездные. Наши, земные. И если отбросить атомный антураж — прожитые, знакомые.
На одном важном моменте я бы хотел остановиться, предваряя ваше чтение. Мысли, разумеется, субъективные, но это одна из привилегий автора вступительной статьи — высказать их.
Это, безусловно, произведение религиозное (после знакомства с ним вопрос о конфессии отпадает сам собой: кажется, во время оно Святой Престол благодарно приобщал к лику святых и за меньшее!). Говоря так, я вовсе не имею в виду монастырь как основное место действия и не образы героев-монахов — но скорее внутреннее чувство, настроение и неистребимую веру автора в некие высшие ценности. Вера эта слепа и инстинктивна — несмотря ни на что, вопреки всему, что подсказывает разум и здравый смысл. Вопреки даже ужасной, обескураживающей правде о том, как человечество на деле следует этим проповедуемым ценностям.
Верующий человек Миллер не желает видеть эту правду. Однако художник Миллер не может просто отбросить ее, как дьявольское наваждение. И это столкновение, конфликт религиозной веры и объективного знания (а научная фантастика, по крайней мере в лучших своих образцах, по-прежнему остается для автора этих строк литературой беспощадно трезвой и, по сути, иконоборческой), — на мой взгляд, как раз самое интересное в этом романе.
Почему автор столь болезненно привязан к человеку, сострадает ему, порой ненавидя — за упрямство, эгоизм, монотонное циклическое повторение одних и тех же ошибок, сциентистскую гордыню? Откуда в писателе эта гипертрофированная человечность?
Для читателя-верующего все ясно без лишних слов: в основе всего — глубокая и искренняя вера писателя. И при желании его роман действительно без особого труда читается как Gloria — «Славься!» христианской вере и ее неусыпным старателям на Земле.
Но откуда же тогда эта ирония, которую не уловят лишь самые «упертые» и культурно обделенные? Ведь неусыпное служение малограмотных монахов делу сохранения культуры прошлого — как они ее понимают — неоднократно вызывает ухмылку и даже раздражение у всякого думающего читателя, не важно — верующего или агностика. По крайней мере в сознании автора этих строк грустный сарказм и беспощадная трезвость менее всего уживаются с образом религиозной проповеди, пафосной и благоговейной.
Думаю, все дело в том симбиозе, о котором упоминалось выше. Это и религиозная проповедь, и научная фантастика — а вовсе не религиозная «проповедь вместо фантастики», примеров чего мы в последнее время тоже начитались изрядно. Автора «подводит» все та же предельная искренность — фирменная метка Миллера-писателя. Он просто исключает для себя вариант игры с читателем, абсолютно не приемлет лукавство и мистификацию. Не стоит забывать и о том, что особое таинство под названием «литература» порой выкидывает такие фортели с пишущими, что не они оказываются ведущими, а их герои, образы, характеры.
В данном случае мы имеем дело с несомненной литературой — ведь, кроме иронии, «Страсти по Лейбовицу» наполняют юмор, пафос, трагедия, мифология, размышления о смысле жизни — и, главное, надежда. И уж так пожелала госпожа-литература, чтобы автор-слуга, хотел он того или нет, органически перевел свою торжественную мессу, свою Gloria, — в не менее величавый, пронзительно-трагический Requiem.
Другое дело, что самому Уолтеру Миллеру от этого легче, кажется, не стало.
Повторяю, при желании можно прочитать его роман как апологию религии — единственного оплота знания и культуры в темное, смутное время «после Бомбы». Но почему же тогда, несмотря на все тщание и бескорыстное служение Знанию, дело монахов ордена святого Лейбовица с самого начала безнадежно проиграно? Почему у Святого Престола не вышло и на этот раз? Как, в сущности, не выходило никогда, несмотря на все вековые претензии служить единственным светочем знания и культуры.
Может быть, все дело в том, что знание и культуру не спасешь конкретными предписаниями, содержащимися в инструкциях, написанных людьми, — будь то папские буллы или даже первокниги ведущих мировых религий, признанные верующими священными?
А что же тогда спасет? Ясно, что не одно какое-нибудь чудо-лекарство, не панацея. Прочитав роман, написанный глубоко религиозным человеком, с особой остротой ощущаешь, что, увы, и не религия.
Во всяком случае, каков бы ни был ответ (а если бы те, кто не признает упомянутые первокниги священными, знали его, то этим людям оставалось бы, вероятно, умереть от счастья!), роман Уолтера Миллера заставит задуматься над всеми этими проклятыми вопросами. Или как минимум отрешиться еще от одной иллюзии, химеры, столь модной в наши «неолуддитские» времена.
Классический музыкальный реквием — католическая заупокойная месса — обязательно состоит из нескольких функциональных частей. Это своего рода канон, хотя и допускающий некоторую свободу перестановок. По традиции где-то в середине мессы композитор помещает самую пронзительную и щемящую часть — Lacrimosa («Слезную»). «Слезная» обычно следует после отзвучавшего мощного Dies Irae («Судного дня») и предваряет финальный Lux Eterna («Вечный Свет»).
Lacrimosa американского писателя — это плач по падшему человечеству — в буквальном (гибель) и переносном, религиозном (грех) смыслах. Это слезная молитва о прощении согрешившего, выражение сострадания к нему и робко высказанная надежда на пришествие Света. Но одновременно это еще и трагическое осознание того, что все в нашем мире взаимосвязано и Свет может явиться в образе Люцифера.
Если закрывать глаза на подобную взаимосвязь — то обязательно явится.
…Моя первая статья о Миллере — краткий врез к публикации фрагмента из «Страстей до Лейбовицу» в журнале «Знание — сила», — обрывалась ровно на этом самом месте. Тогда, в 1991 году, я еще не знал, что финальную точку ставить рано и история будет иметь продолжение.
И не я один. В своей «Иллюстрированной энциклопедии научной фантастики» Джон Клют, рассказывая о творчестве Миллера, пишет буквально следующее: «На протяжении нескольких лет бродили слухи о том, что Миллер работает над продолжением «Страстей по Лейбовицу». Но оно так и не появилось, и трудно представить себе, каким может стать продолжение этой книги». Энциклопедия вышла в свет в 1995 году — за год до трагической кончины Миллера и за два до выхода того самого романа-продолжения!
То, что писатель задумал еще один роман об ордене святого Лейбовица (но не продолжение, на чем он жестко настаивал), было известно с конца 1970-х. Но время шло, а дальше подписанного контракта и нескольких десятков страниц резюме дело не двигалось. И вот, оказывается, незадолго до своей трагической смерти (или самоубийства) Миллер сообщил своему литературному агенту, что второй «Лейбовиц» почти готов.
Вероятно, несмотря на мрак, окутывавший сознание, писатель ясно осознавал, что закончить новую книгу под названием «Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь» ему самому уже не суждено. Поэтому он попросил литагента найти какого-нибудь безымянного писателя (в Америке их называют ghost writers — «писатели-духи», а у нас, политически некорректно, — литературными неграми), который согласится довести рукопись до кондиции, не претендуя на появление своего имени на обложке.
Выбор литературного агентства и издательства Bantam Spectra пал на уже известного автора — Терри Биссона. Тот, никогда не знавший Миллера лично (что и немудрено — не он один), но еще с детства потрясенный «Страстями по Лейбовицу», с радостью согласился. Тайны из его «соавторства» никто не делал, тем более что сам Биссон отметил в интервью журналу Locus, что рукопись романа Миллера досталась ему «почти вылизанной», хотя и пришлось дописать еще процентов 20 текста.
Выходит, Миллер не был таким уж сумасшедшим, как казался окружающим? Либо это пример из того же ряда, что и Гойя, рисовавший «Капричиос»; Гоголь, сжигавший рукопись второго тома «Мертвых душ»; или Марсель Пруст, завершавший свою эпопею в пустой комнате, обитой пробкой…
Как бы то ни было, спустя год после смерти автора его новая книга увидела свет. Можно было заранее предсказать ей судьбу бестселлера — уж больно необычными стали обстоятельства появления ее на свет. И точно, роман был сметен с книжных полок почти мгновенно. А вот стало посмертное произведение Миллера новым словом по сравнению со «Страстями по Лейбовицу» или нет — судить читателю.
Во всяком случае, прочитать его стоит. Оснований сомневаться в серьезности своих намерений и искренности покойный писатель никогда не давал.
Вл. ГАКОВБиблиография Уолтера Миллера-младшего (Книжные издания)
1. «Страсти по Лейбовицу» (A Canticle for Leybowitz, 1960).
2. Сб. «Условно — человек» (Conditionally Human, 1962).
3. Сб. «Вид со звезд» (The View from the Stars, 1965).
4. Сб. «Научно-фантастические рассказы Уолтера Миллера» (The Science Fiction Stories of Walter M. Miller, 1978).
5. Сб. «Лучшее Уолтера Миллера» (The Best of Walter M. Miller, 1980).
6. «Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь» (Saint Leybowitz and the Wild Horse Woman, 1997). Роман закончен Терри Биссоном по «почти законченной» рукописи автора.
Примечания
1
И да не введи нас… (лат.).
(обратно)2
«Слишком мало, о, Господь мой, любил я Тебя в дни моей юности; и тщетно тоскую я о том в зрелые дни мои…» (лат.).
(обратно)3
«Сопротивляясь Тебе, я отважился исследовать все, что бы ни казалось мне ученее веры, вернее надежды или слаще любви. Так кто глупее меня…» (лат.).
(обратно)4
«О неисповедимый исследователь душ, которому открыто любое сердце, если Ты звал меня прежде, я иногда бежал от Тебя. Если же Ты ныне хочешь призвать меня, недостойного…» (лат.).
(обратно)5
«Отпусти мне, Господи, грехи мои, дабы я жаждал одной лишь воли Твоей и чувствовал призвание Твое, если удостоишь меня Своим призванием. Аминь» (лат.).
(обратно)6
Записи для памяти (лат.).
(обратно)7
Блаженный Лейбовиц, молись за меня! (лат.).
(обратно)8
Святой Лейбовиц, молись за меня! (лат.).
(обратно)9
Дабы я жаждал одной лишь воли Твоей и чувствовал призвание Твое, если удостоишь меня Своим призванием. (лат.).
(обратно)10
Благодарение Богу (лат.).
(обратно)11
Ужасно то место: там дом Божий и врата Неба (лат.).
(обратно)12
Приближается пастырь к агнцам // и овцам пасущимся. // Ныне все преклоняют колена. // Прежде повелел Иисус, // чтобы Петр пас стадо Господне. // Вот Петр — архиепископ. // Итак, да возрадуется народ Христов, // и возблагодарит Господа. // Ибо научимся от Духа Святого. // Аллилуйя, Аллилуйя (лат.).
(обратно)13
«Святой отец, от Мудрости высшей стремимся, чтобы тот блаженный Лейбовиц, чудесами которого восхищались многие…» (лат.).
(обратно)14
Весьма приятно нам это, сын (лат.).
(обратно)15
под руководством Святого Духа (лат.).
(обратно)16
помилуй нас (лат.).
(обратно)17
Святая Матерь Божья, молись за нас… (лат.).
(обратно)18
Я явился, Дух Творец (лат.).
(обратно)19
Итак, да восстанет сам Петр… (лат.).
(обратно)20
«Тебя, Бога, славим» (лат.).
(обратно)21
«Не тревожь!» (лат.).
(обратно)22
Надлежит снова возложить на тебя бремя креста, друг… (лат.).
(обратно)23
«Ожидание заката мира» (лат.).
(обратно)24
«О следах предшествующих государств» (лат.).
(обратно)25
Выступают знамена Владыки ада (лат.).
(обратно)26
— Вначале Бог…
(обратно)27
— …сотворил небо и землю…
(обратно)28
— …с тьмою на поверхности глубин…
(обратно)29
— …Дух Божий носился над водами…
(обратно)30
— …Благодарение Духу Творцу…
(обратно)31
— …И сказал Бог: «ДА БУДЕТ СВЕТ»…
(обратно)32
— …И стал свет…
(обратно)33
— …И увидел Бог свет, что он хорош..
(обратно)34
— …И отделил свет от тьмы…
(обратно)35
— …И назвал свет днем… и тьму — ночью (лат.).
(обратно)36
— …И был вечер…
(обратно)37
— Люцифер… ты появился в первый день (лат.).
(обратно)38
Преклоним колени (лат.).
(обратно)39
Поднимайтесь (лат.).
(обратно)40
Будем молиться (лат.).
(обратно)41
к нелепости (лат.).
(обратно)42
«Ибо это чаша крови Моей» (лат.).
(обратно)43
«О тщете» (лат.).
(обратно)44
Мы маршируем дальше, когда все рассыпается на части (нем.).
(обратно)45
Господи, помилуй… // Христос, помилуй… // Господи, помилуй, помилуй нас! (греч.).
(обратно)46
«Мы знаем, что от этой новой планеты какие-то сыны Церкви уже удалились к планетам чужим и никогда не вернутся…» (лат.).
(обратно)47
«Где блуждает стадо, пастух с собой» (лат.).
(обратно)48
«Ныне устранив повод к войне» (лат.).
(обратно)49
Ты говоришь, Люцифер обрушился на меня? (лат.).
(обратно)50
Уйди, безобразный Соблазнитель! (лат.).
(обратно)51
«Да покинем землю» (лат.).
(обратно)52
Края земные будут помнить и обращаться к Господу всеобщему… (лат.).
(обратно)53
Господу будет объявлено о грядущем поколении (лат.).
(обратно)54
Не на тебя ли, сын, бременем возложим эту обязанность? (лат.).
(обратно)55
За честь приму (лат.).
(обратно)56
В латинском тексте игра слов honos (честь) и onus (бремя, ноша).
(обратно)57
Но если крестную ношу ты принял за честь, то нисколько не ослышался (лат.).
(обратно)58
Какого заступника будет просить, поскольку едва ли справедливый спокоен (лат.).
(обратно)59
Великое государство (лат.).
(обратно)60
Друг курии (лат.)
(обратно)61
Святой Айзек Эдуард, молись за меня! (лат.).
(обратно)62
На месте (лат.).
(обратно)63
Книга Начал (лат.).
(обратно)64
Восхвалим Господа (лат.).
(обратно)65
«О вечных изречениях деревенских школ» (лат.).
(обратно)66
«У орегониан» (лат.).
(обратно)67
Не принимаю (лат.).
(обратно)68
Страдания навечно с тобой… Ты отлучен от огня и воды. Пусть на твою голову всегда падает птичье дерьмо (лат.).
(обратно)69
Вечная девственница (лат.).
(обратно)70
Орден Девы Пустыни (лат.).
(обратно)71
В сердце (лат.).
(обратно)72
Без желания (лат.).
(обратно)73
«Я явился, Дух Творец» (лат.).
(обратно)74
«Куда идешь?» (лат.).
(обратно)75
«Принимаю» (лат.).
(обратно)76
Оборот изысканный и непередаваемый (лат.).
(обратно)77
Великую радость даю вам. У нас есть папа. Силою Святого Духа кардинал Амен Спеклберд (лат.).
(обратно)78
«Здравствуй, Царица» (лат.).
(обратно)79
«Здесь почиет Джарадус, кардинал Кендемин, аббат» (лат.).
(обратно)80
Царица мира, Госпожа мироздания, Матерь Божья (лат.).
(обратно)81
Господи, помилуй (греч.).
(обратно)82
«Идите, месса окончена» (лат.) — традиционная формула завершения католической мессы. (Прим. перев.)
(обратно)83
«Единое потомство, рожденное от Адама» (лат.).
(обратно)84
Тем самым, исходя из этого (лат.).
(обратно)85
«Собственным движением» (лат.).
(обратно)86
выдвинув само обвинение в оскорблении величия (лат.).
(обратно)87
Одногорбый верблюд, Африка (лат.).
(обратно)88
Убийца-разбойник, матереубийца, двое мятежников (лат.).
(обратно)89
Термин времен средневековой Европы: покупка и продажа церковных должностей (Прим. перев.).
(обратно)90
Не принимаю! (лат.).
(обратно)91
Епископ Римский, слуга слуг Божьих (лат.).
(обратно)92
Игра слов. Misery (страдание) созвучно слову Missouri (река в Соединенных Штатах) (Прим. перев.).
(обратно)93
Ордена Девы Пустыни Нашей (лат.).
(обратно)94
У нас есть папа (лат.).
(обратно)95
«Знайте тирана» (лат.).
(обратно)96
Пастух, ковбой (исп.).
(обратно)97
«не папства» (лат.).
(обратно)98
«Если любишь меня» (лат.).
(обратно)99
«Ночное собрание» (лат.).
(обратно)100
Молись за нынешнее и в час нашей смерти (лат.).
(обратно)101
Все в руке Божьей (лат.).
(обратно)102
Чтобы читателю было понятно, о чем идет речь, напомню: в американских университетах отсутствуют напрочь такие неотъемлемые черты нашего высшего образования, как утвержденные свыше программы. Министерства образования или их аналоги, будь то на федеральном уровне или на уровне штата, занимаются лишь финансированием (частичным) и хозяйственными вопросами, в каждом же конкретном университете или колледже каждый конкретный профессор волен строить свой курс, как ему заблагорассудится. Последнее обстоятельство автора этой статьи, воспитанного в иных представлениях, чрезвычайно травмировало на протяжении всего семестра, когда он преподавал в американском университете: оказывается, это совсем нелегко — жить без догляда… — Примеч. автора.
(обратно)



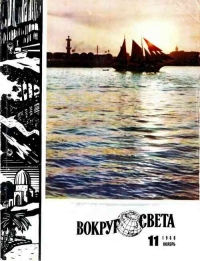
Комментарии к книге «Страсти по Лейбовицу. Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь», Терри Биссон
Всего 0 комментариев