Говард Лавкрафт
Погребенный с фараонами
1
Тайна притягивает тайну. С тех пор, как я приобрел широкую известность в качестве исполнителя невероятных трюков в манере Гарри Гудини1, я постоянно попадаю во всякого рода загадочные истории, каковые публика, зная мою профессию, связывает с моими интересами и занятиями. Порой эти истории вполне невинны и тривиальны, порой глубоко драматичны и увлекательны, насыщены роковыми и опасными приключениями, а иной раз даже заставляют меня ударяться в обширные научные и исторические изыскания. О многом я уже рассказывал и буду рассказывать впредь без утайки; но есть один случай, о котором я всегда говорю с большой неохотой, и если я теперь собираюсь это сделать, то лишь по настоятельным и назойливым
просьбам издателей данного журнала, до которых дошли неясные слухи об этой истории от других членов моей семьи.
Событие это, до сего дня хранившееся мною в тайне, произошло четырнадцать лет назад во время моего посещения Египта в качестве обыкновенного туриста. Я молчал о нем по нескольким причинам. Во-первых, мне не хотелось предавать гласности некоторые безусловно имевшие место факты и обстоятельства, о которых даже не догадываются полчища туристов, осаждающих пирамиды, и которые тщательно скрываются властями Каира, хотя последние, конечно, не могут о них не знать. Во-вторых, мне как-то неудобно излагать инцидент, где такую важную роль играла моя собственная неуемная фантазия. Происходило ли то, свидетелем чему я был или думал, что был на самом деле с достоверностью сказать нельзя; скорее, случившееся следует рассматривать как следствие моих тогдашних штудий в области египтологии и навеянных ими размышлений, на которые меня, к тому же, естественным образом наталкивала окружающая обстановка. Подогретое названными причинами воображение в сочетании с возбуждением, явившимся результатом действительного происшествия, которое было ужасно само по себе, все это, без сомнения, и привело к кошмару, увенчавшему ту фантастическую ночь, что осталась далеко в прошлом.
В январе 1910 года, отработав по контракту в Англии, я подписал договор на турне по театрам Австралии. Условия договора предоставляли мне возможность самому выбрать сроки поездки, и я решил воспользоваться случаем и отправиться в своего рода путешествие, до коих я большой охотник. Вместе с женой мы совершили приятную морскую прогулку вдоль континента и, добравшись до Марселя, сели на пароход Мальва компании Пи энд Оу, державший курс на Порт-Саид, откуда я намеревался начать экскурсию по главным историческим достопримечательностям нижнего Египта и уж затем отправиться в Австралию.
Вояж получился очень милым, в том числе и благодаря нескольким забавным происшествиям, от которых ни один иллюзионист не застрахован даже тогда, когда находится на отдыхе. Я предполагал держать свое имя в секрете, дабы во время путешествия меня никто не беспокоил; но среди пассажиров оказался один факир, чьи настойчивые потуги ошеломить пассажиров показом самых заурядных трюков были настолько смехотворны, что я не мог удержаться от соблазна поставить его на место и повторил те же фокусы с гораздо большим профессионализмом, в результате чего мое инкогнито было безвозвратно погублено. Я рассказываю об этом не ради красного словца, но в виду тех последствий, к которым привела моя неосторожность и которые мне следовало предусмотреть, прежде чем разоблачать себя переп целой толпой туристов, готовой вот-вот рассеяться по долине Нила. Куда бы я отныне ни направился, меня всюду обгоняла моя известность, лишая нас с супругой спокойствия и несуетности, к которым мы так стремились. Путешествуя в поисках диковин, я сам зачастую становился объектом разглядывания как своего рода диковина.
Отправившись в Египет за колоритными и мистическими впечатлениями, мы были немало разочарованы, когда по прибытии в Порт-Саид увидели одни невысокие песчаные дюны, плавающие в мелкой воде буйки и типичный европейский городок, где все было скучно и неинтересно, за исключением, пожалуй, громадной статуи де Лессепса2. Тем сильнее охватило нас желание увидеть что-нибудь более заслуживающее внимания, и посовещавшись, мы решили не мешкая ехать в Каир, к пирамидам, а оттуда в Александрию, где можно будет сесть на корабль, отплывающий в Австралию, а между делом осмотреть все те греко-римские достопримечательности, которыми только сможет похвастаться эта древняя метрополия.
Путешествие поездом получилось довольно сносное. Всего четыре с половиной часа, но за это время мы успели увидеть значительную часть Суэцкого канала, вдоль которого железная дорога тянется до самой Исмаилии, а немного погодя и отведать Древнего Египта, краем глаза зацепив канал с пресной водой, прорытый еще в эпоху Среднего царства3 и недавно восстановленный. Но вот, наконец, и Каир, мерцая в сгущающихся сумерках, предстал перед нами как некое созвездие, тусклый блеск которого превратился в ослепительное сияние, когда мы прибыли на грандиозный центральный вокзал.
И вновь нас постигло разочарование, ибо все, что мы увидели, оказалось европейским, не считая нарядов и лиц. Скучный подземный переход вел на площадь, запруженную экипажами, такси и трамваями и залитую ярким светом электрических огней на высоченных зданиях, а тот театр, где меня тщетно уговаривали выступить и куда я впоследствии попал как зритель, незадолго до нашего приезда был переименован в Американский космограф . Намереваясь остановиться в отеле Шепард, мы взяли такси и помчались по широким авеню с фешенебельной застройкой; и среди окружившего нас в отеле комфорта (в основном, англо-американского образца), среди всех этих лифтов и безупречных официантов в ресторане волшебный Восток с его седою стариной представился нам чем-то бесконечно далеким.
Однако уже на другой день мы с наслаждением окунулись в самую гущу атмосферы Тысячи и одной ночи, и в лабиринте улиц, в экзотических контурах Каира на фоне неба, казалось, снова ожил Багдад Гаруна аль-Рашида. Сверяясь по Бедекеру, мы миновали площадь Эзбекие и двинулись по улице Муски на восток, в сторону кварталов, населенных коренными жителями. Довольно скоро мы очутились в руках энергичного чичероне, и, несмотря на все позднейшие метаморфозы, я должен признть, что он был мастером своего дела.
Тогда я еще не понимал, какую ошибку совершил, не обратясь в отеле за услугами официального гида. Теперь перед нами стоял гладко выбритый, сравнительно аккуратный субъект с удивительно глухим голосом; он был похож на фараона и представился нам как Абдул Раис эль-Дрогман. Было очевидно, что он пользуется большим авторитетом среди прочих представителей своего ремесла; правда, в полиции нам потом сообщили, что человек под таким именем им не известен, что слово раис, по всей видимости, служит частью обращения к любому уважаемому человеку, а Дрогман это, без сомнения, не что иное, как искаженная форма слова драгоман, обозначающего руководителя туристических групп.
Абдул показал нам такие чудеса, о которых мы раньше только читали и мечтали. Старый Каир уже сам по себе город-сказка, город-греза: лабиринты узких улочек, окутанных таинственными благовониями; балконы самых прихотливых форм, сходящиеся почти вплотную над вымощенными булыжником мостовыми; совершенно азиатский водоворот уличного движения с его многоязыким гамом, щелканьем бичей, дребезжанием повозок и скрипом телег, звоном монет и криком ослов; калейдоскоп цветастых одежд, тюрбанов, чадр и фесок; водоносы и дервиши, собаки и кошки, гадалки и брадобреи; и, перекрывая все прочие звуки, причитания нищих слепцов, скрючившихся в своих нишах, и заунывные азаны муэдзинов на минаретах, тонко вычерчивающихся на фоне яркого безукоризненно синего неба.
Не менее заманчивыми оказались и крытые базарные ряды, где, к тому же, было не так шумно. Пряности, духи, ароматические шарики, ковры, шелка, медь; старый Махмуд Сулейман сидит, скрестив ноги, среди своих сосудов с ароматическими смолами, рядом юноши, весело переговариваясь, толкут горчичные зерна в углублении капители древнеримской классической колонны коринфского ордера, завезенной сюда, вероятно, из соседнего Гелиополя, где размещался один из трех легионов императора Августа. А еще мечети и музей мы осмотрели их все, и еле сохранили свое приподнятое арабское настроение, когда чуть было не поддались темным чарам Египта фараонов, бесценные сокровища которого предлагал нашему взору музей. Большего мы пока и не искали, а потому сосредоточили свое внимание на средневековой сарацинской роскоши халифов, пышные надгробия-мечети которых составляют помпезный феерический некрополь на краю Аравийской пустыни.
Напоследок Абдул сводил нас по Шариа-Мухаммед-Али к старинной мечети султана Хасана и воротам Баб эль-Азаб с башнями по бокам, сразу за которыми проход меж двух круто поднимающихся стен ведет к величественной Цитадели, возведенной самим Саладином4 из блоков разрушенных пирамид. Солнце уже заходило, когда мы взобрались на эту кручу; обошли кругом современную мечеть Мухаммеда Али5 и, встав у парапета, окинули взором с головокружительной высоты волшебный Каир, весь в золоте резных куполов, воздушных минаретов и ослепительных садов.
Высоко над городом вознесся огромный романский купол нового музея, а за ним, по другую сторону загадочного желтого Нила, отца времен и династий, затаили вечную угрозу пески Ливийской пустыни, волнистые, переливающиеся всеми цветами радуги, стерегущие темные тайны веков.
Вслед за багряным закатом пришел пронизывающий холод египетской ночи. Глядя на солнце, балансирующее на краю мира, как тот древний бог Гелиополя Ра-Хорахти, или Солнце горизонта, мы четко различили на фоне алого пожара зловещие очертания пирамид Гизы, этих древних гробниц, на которых к тому времени, когда Тутанхамон всходил на золотой престол в далеких Фивах, уже лежала пыль тысячелетий. И тогда нам стало ясно, что Каира сарацинского с нас хватит, и настала пора прикоснуться к сокровенным тайнам Египта изначального черного Кема Ра и Амона, Исиды и Осириса.
Экскурсия к пирамидам состоялась на следующий день. Сев в викторию мы пересекли остров Гезиру с его гигантскими лебахиями и по небольшому английскому мосту выехали на западный берег. Оттуда мы помчались сперва меж двух рядов внушительной высоты лебахий, а затем мимо обширного зоологического сада в сторону Гизы, пригорода Каира, где впоследствии был воздвигнут мост, соединяющий Гизу непосредственно с Каиром. Свернув вглубь страны по Шариа-эль-Харам, мы миновали район зеркально-гладких каналов и убогих туземных деревушек, и вот, наконец, впереди замаячила цель наших исканий, проступая сквозь рассветную дымку и отражаясь в перевернутом виде в придорожных лужах. Воистину, сорок столетий взирали здесь на нас сверху вниз, как говорил Наполеон своим солдатам.
Дорога взмыла круто вверх, и вскоре мы достигли пункта пересадки между трамвайной станцией и отелем Мена-хаус . Мы не успели оглядеться, как наш проводник уже раздобыл билеты на посещение пирамид и нашел общий язык с толпой шумяых и агрессивных бедуинов, которые жили в соседней деревеньке, нищей и грязной, и приставали ко всем путешественникам. Абдул держался с достоинством и не только не подпустил никого к нам, но даже раздобыл у них пару отличных верблюдов для меня и жены и осла для себя, а также нанял группу мальчишек и взрослых мужчин в качестве погонщиков для наших животных. Все это было, впрочем, совершенно излишне, да к тому же и накладно, ибо расстояние, которое нам предстояло преодолеть, было столь незначительным, что вполне можно было обойтись без верблюдов. Но мы не пожалели о том, что пополнили свой опыт представлением об этом довольно неудобном средстве передвижения по пустыне.
Пирамиды Гизы располагаются на высоком скалистом плато по соседству с самым северным из царских и аристократических некрополей, построенных в окрестностях ныне не существующего города Мемфиса, который находился на том же берегу Нила, что и Гиза, но только чуть южнее, и процветал в период между 3400 и 2000 годами до рождества Христова. Крупнейшая из пирамид, так называемая Большая пирамида, стоит ближе всех остальных к современной дороге. Она была возведена фараоном Хеопсом, или Хуфу, около 2800 года до нашей эры; высота ее составляет более 450 футов. К юго-западу от нее в один ряд следуют пирамиды Хефрена и Микерина. Первая из них была сооружена спустя поколение после пирамиды Хеопса и имеет чуть меньшую высоту, хотя и кажется более высокой оттого, что расположена на возвышенном месте. Пирамида Микерина, построенная ок. 2700 года, значительно уступает по высоте двум первым. К востоку от второй пирамиды, на самом краю плато, возвышается чудовищный Сфинкс немой, загадочный и умудренный знаниями тысячелетий. Он стоит здесь с незапамятных времен, и никто не знает, каков был его первоначальный облик, потому что в правление фараона Хефрена черты лица его были изменены с целью придать им сходство с лицом его царственного реставратора.
По соседству с тремя великими пирамидами находится также множество второстепенных пирамид; часть их сохранилась, от другой остались жалкие следы. Кроме того, все плато испещрено могилами вельмож более низкого, нежели царский, сана. Гробницы эти изначально представляли собой глубокие погребальные ямы, или камеры, с установленными над ними каменными мастабами, сооружениями в форме скамей. Надгробия такого рода были обнаружены на других мемфисских некрополях; образцом их может считаться надгробие Пернеба, выставленное в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. В Гизе, однако, все видимые следы мастаб оказались либо уничтоженными временем либо расхищенными любителями поживы, и только вырубленные в скалистом грунте камеры, одни из которых по-прежнему занесены песком, другие расчищены археологами, свидетельствуют о том, что здесь некогда находились захоронения. С каждой могилой соединялась своего рода часовня, где жрецы и родня предлагали пищу и молитву витающему над усопшим ка, или его жизненному началу. Часовни малых гробниц размещались в уже упомянутых надстройках мастабах; похоронные же часовни пирамид, где покоился царственный прах фараонов, представляли собой как бы отдельные храмы, каждый из которых располагался к востоку от своей пирамиды и соединялся дорожкой с довольно помпезным парадным входом с пропилеями, находившимся на краю скалистого плато.
Вход в храм второй пирамиды, почти погребенный под песчаными заносами, зияет бездонной своей глубиной к юго-востоку от Сфинкса. Традиция упорно именует эти руины Храмом Сфинкса, что, может быть, справедливо, если, конечно, лицо Сфинкса на самом деле представляет собой подлинное изображение Хефрена, строителя второй пирамиды. Самые чудовищные слухи ходят о том, как выглядел Сфинкс до Хефрена но каковы бы ни были изначальные черты его лица, монарх заменил их своими собственными, чтобы люди могли глядеть на колосса без содрогания.
Именно в огромном входном храме неподалеку от Сфинкса была найдена диоритовая статуя Хефрена в натуральную величину. Ныне она хранится в Египетском музее; я стоял перед ней, охваченный благоговейным трепетом. Не знаю, раскопано ли это сооружение к настоящему дню, но тогда, в 1910 году, большая его часть оставалась под землей, и вход туда на ночь надежно запирался. Раскопками занимались немцы, так что весьма вероятно, что довести дело до конца им помешала война или что-нибудь еще. Учитывая то, что мне самому довелось пережить, а также кое-какие слухи, имеющие хождение среди бедуинов и почти неизвестные и, уж во всяком случае, не принимаемые на веру в Каире, я бы много отдал за то, чтобы узнать, чем кончилась история с одним колодцем в поперечной галерее, где в свое время были обнаружены статуи фараона в довольно странном соседстве со статуями бабуинов.
Дорога, по которой мы следовали на верблюдах в то утро, описывала крутую дугу, минуя деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и магазины по левую руку от нее, а затем сворачивала на юг и далее на восток, делая, таким образом, полный изгиб и одновременно взбираясь на плато, так что мы даже не заметили; как очутились лицом к лицу с пустыней, с подветренной стороны от Большой пирамиды. Как будто неким циклопом было воздвигнуто грандиозное сооружение, восточную грань которого мы теперь огибали, глядя на простирающуюся далеко внизу долину с малыми пирамидами. Еще дальше, к востоку от этих пирамид, сверкал вечный Нил, а к западу от них мерцала вечная пустыня. Совсем рядом с нами угрожающе высились три главные пирамиды. У самой крупной из них полностью отсутствовала наружная облицовка, и обнажились громадные глыбы, составляющие ее основу. У двух других тут и там виднелись ладно пригнанные куски облицовки, благодаря которой они в свое время выглядели очень гладкими и аккуратными.
Мы спустились к Сфинксу и застыли перед ним, не в силах произнести ни слова, как бы зачарованные его тяжелым невидящим взглядом. На могучей каменной груди его едва различался символ Ра-Хорахти, за изображение которого ошибочно принимали Сфинкса в эпоху поздних династий, и хотя табличка между огромными лапами чудовища была покрыта песком, мы вспомнили слова, начертанные на ней Тутмосом 4-ым, и о видении, что посетило его, когда он был наследником престола. С этого момента улыбка Сфинкса стала вселять в нас безотчетный ужас, и в памяти нашей всплыли легенды о подземных переходах под исполином, уходящих глубоко-глубоко вниз, в такие бездны, о которых даже страшно подумать бездны, связанные с тайнами более древними, чем тот Египет, что раскапывают современные археологи, и имеющие зловещее отношение к наличию в древнем пантеоне Нила безобразных богов с головами животных. Именно в этот миг я впервые задался праздным вопросом, все кошмарное значение которого прояснилось лишь много часов спустя.
Тем временем к нам стали присоединяться другие туристы, и мы проследовали к погребенному под заносами песка Храму Сфинкса. Он находится в пятидесяти ярдах к юго-востоку от гиганта и уже упоминался мною как парадный вход в коридор, ведущий в погребальный храм Второй пирамиды, расположенный на плато. Большая часть храма все еще оставалась нераскопанной, и хотя нас провели по современному коридору в алебастровую галерею, а оттуда в вестибюль с колоннами, в меня закралось подозрение, что Абдул и местный служитель-немец показали нам далеко не все, что заслуживало внимания.
Затем мы совершили традиционную прогулку по плато с пирамидами, в ходе которой осмотрели Вторую пирамиду с характерными руинами погребального храма к востоку от нее. Третью пирамиду с ее миниатюрными южными спутницами и разрушенным восточным храмом; каменные надгробия и могилы представителей четвертой и пятой династий; и, наконец, знаменитую гробницу Кэмпбелла, зияющую черным провалом в пятьдесят три фута глубиной с затаившимся на дне саркофагом. Один из наших погонщиков очистил последний от песка, спустившись в головокружительную бездну на веревке.
Внезапно до нас донеслись крики со стороны Большой пирамиды, где группу туристов буквально осаждала толпа бедуинов, наперебой предлагавших продемонстрировать быстроту в пробежках на вершину пирамиды и обратно. Рекордное время для такого подъема и спуска, говорят, составляет семь минут, однако некоторые хорошо тренированные шейхи с сыновьями уверяли нас, что смогут уложиться в пять, если только им будет предложен, так сказать, необходимый стимул в виде щедрого бакшиша.
Никакого стимула они не получили, зато Абдул по нашей просьбе сводил нас на вершину пирамиды, откуда открывался непревзойденно величественный вид не только на Каир, блиставший в отдалении на фоне крепостной стены золотисто-лиловых холмов, образующих как бы его корону, но и на все пирамиды в окрестностях Мемфиса от Абу Роаша на севере до Дашура на юге. Саккарская ступенчатая пирамида, представляющая собой переходную форму между невысокой мастабой и собственно пирамидон, соблазнительной четко вырисовывалась вдалеке среди песков. Именно рядом с этим переходным сооружением была в свое время обнаружена знаменитая гробница Пернеба, т. е. более, чем в четырехстах милях к северу от горной долины Фив, где покоится Тутанхамон. И в который уже раз я словно онемел, объятый неизъяснимым трепетом. Глубокая древность, подступающая со всех сторон, и тайны, которые, казалось, хранил в себе и лелеял каждый из этих памятников старины, наполнили меня таким благоговением и чувством бесконечности, каких я прежде не испытывал.
Измученные восхождением и докучливыми бедуинами, поведение которых выходило за рамки всех приличий, мы почли за благо избавить себя от нудных и утомительных экскурсий внутрь пирамид, куда вели очень тесные и душные проходы, в которых можно было передвигаться только ползком. Между тем на наших глазах несколько особо выносливых ходоков готовились к посещению самого крупного из мемориалов пирамиды Хеопса. Оплатив с лихвой и отпустив свой местный эскорт, мы пустились в обратный путь, припекаемые послеполуденным солнцем и опекаемые верным Абдулом Раисом, и только пройдя половину пути, пожалели о своей нелюбознательности. Ибо о нижних коридорах пирамид, коридорах, не упоминаемых в путеводителях ходили самые фантастические слухи; известно было также то, что археологи, которые открыли эти коридоры и приступили к их обследованию, тут же сблокировали входы в них и теперь держат их местонахождение в тайне.
Разумеется, все эти сплетни были по большей части безосновательны, по крайней мере, на первый взгляд; и все же то упорство, с каким проводился запрет на посещение пирамид по ночам, а самых нижних ходов и склепа Большой пирамиды независимо от времени суток, наводило на некоторые размышления. Впрочем, что касается второго запрета, то причиной ему, вероятно, служило опасение, что психологическое воздействие на посетителя может оказаться слишком сильным: согнувшийся в три погибели бедняга будет чувствовать себя как бы погребенным под гигантской каменной грудой, где единственная связь с внешним миром узкий тоннель, по которому можно передвигаться лишь ползком и вход в который в любой момент может быть завален в результате случайности или злого умысла. Одним словом, все это выглядело столь загадочно и интригующе, что мы решили при первой же возможности нанести пирамидам повторный визит. Мне эта возможность предоставилась гораздо ранее, чем я мог ожидать.
В тот же вечер, когда наши спутники, несколько утомленные напряженной программой дня, устроились отдыхать, мы с Абдулом пошли прогуляться по живописным арабским кварталам. Я уже любовался ими при свете дня, и мне не терпелось узнать, как выглядят эти улицы и базары в сумерках, когда чередование сочных, густых теней с мягкими закатными лучами должно лишь подчеркивать их пленительность и эфемерность. Толпы прохожих редели, но в городе было по-прежнему многолюдно. Проходя по рынку медников Сукен-Накхасину, мы наткнулись на компанию подгулявших бедуинов, которыми, по всем признакам, верховодил дерзкий малый с грубыми чертами лица и в лихо заломленной набекрень феске. Он еще издали нас приметил, и судя по взгляду, отнюдь не дружелюбному, которым он одарил Абдула, мой верный проводник был здесь хорошо известен и, вероятно, слыл за человека насмешливого и высокомерного.
Возможно, юнца возмущала та странная копия полуулыбки-полуусмешки Сфинкса, которую я сам столь часто замечал на лице Абдула и которая вызывала во мне любопытство пополам с раздражением; а, может быть, ему был неприятен глухой, как бы замогильный резонанс голоса моего проводника. Как бы то ни было, обмен ругательствами и поношениями с упоминанием имен родных и близких состоялся незамедлительно и носил весьма оживленный характер. Этим, однако, дело не кончилось. Али Зиз, как звал Абдул своего обидчика, когда не употреблял более энергичных прозвищ, принялся дергать моего спутника за халат, тот не заставил себя ждать с ответным действием, и вот уже оба неприятеля самозабвенно тузили друг друга. Еще немного, и внешний вид соперников был бы изрядно попорчен, тем более, что они уже потеряли свои головные уборы, составлявшие предмет священной гордости обоих, но тут вмешался я и силой разнял драчунов.
Поначалу обе стороны не весьма благосклонно отнеслись к моим действиям, однако, в конце концов, пусть не мир, но перемирие состоялось. Противники в угрюмом молчании стали приводить в порядок свою одежду. Немного поостыв, каждый из них встал в благородную позу, каковая резкая перемена выглядела довольно впечатляюще. Затем неприятели заключили своего рода договор чести, являющийся в Каире, как я вскоре узнал, традицией, освященной веками. В соответствии с договором спор предстояло уладить посредством ночного поединка на кулаках на вершине Большой пирамиды, спустя долгое время после ухода последнего любителя поглазеть на пирамиды при лунном свете. Каждый из дуэлянтов обязывался привести с собой
секундантов, поединок должен был начаться в полночь и состоять из нескольких раундов, проводимых в как можно более цивилизованной манере.
Много было в упомянутых условиях такого, что возбудило во мне живейший интерес. Дуэль уже сама по себе обещала быть не просто ярким, но и уникальным зрелищем, а когда я представил себе сцену борьбы на этой древней громаде, что высится над допотопным плато Гизы, при бледном свете луны, воображение мое распалилось еще сильнее, заставив задрожать во мне каждую жилку. Адбул охотно согласился принять меня в число своих секундантов, и весь оставшийся вечер мы рыскали с ним по всевозможным притонам в самых злачных районах города преимущественно в северо-восточной части площади Эзбекие, где он вылавливал по одному махровых головорезов и сколачивал из них отборную шайку, которой суждено было стать, так сказать, фоном баталии.
Уже минуло девять, когда наша компания верхом на ослах, прозванных в честь таких царственных особ и именитых гостей Египта, как Рамзес, Марк Твен, Дж. П. Морган и Миннехаха, неторопливо двинулась через лабиринты улиц, минуя то восточные, то европейские кварталы. По мосту с бронзовыми львами мы пересекли мутные воды Нила, утыканного лесом мачт, и задумчивым легким галопом направились по обсаженной лебахиями дороге, ведущей в Гизу. Путь наш длился немногим более двух часов. Подъезжая к месту, мы встретили остатки туристов, возвращавшихся в Каир, и поприветствовали последний трамвай, следовавший туда же. Наконец, мы остались лицом к лицу с ночью, прошлым и луной.
А потом перед нами выросли пугающие громады пирамид. Казалось, они таили в себе некую допотопную угрозу, чего я не заметил прежде, при дневном свете. Теперь же даже наименьшая из них заключала в себе как бы намек на что-то потустороннее. Впрочем, разве не в этой именно пирамиде во времена шестой династии была погребена царица Нитокрис коварная Нитокрис, пригласившая однажды всех своих врагов к себе на пир в храм под Нилом и утопившая гостей, приказав отворить шлюзы? Я вспомнил, что о Нитокрис среди арабов ходят странные слухи? и что при определенных фазах луны они сторонятся Третьей пирамиды. Да и не эту ли царицу имел в виду поэт Томас Мур, когда слагал следующие строки (их любят повторять мемфисские лодочники):
Живет в подводных тайниках,
Вся в золоте и жемчугах,
Та нимфа, что слывет в веках
Хозяйкой Пирамиды?
Как мы ни спешили, Али Зиз и его клевреты оказались расторопнее. Мы еще издали приметили их ослов: фигуры животных четко вырисовывались на фоне пустынного плато. Вместо того, чтобы следовать прямой дорогой к отелю Мена-хаус, где нас могла увидеть и задержать сонная безобидная полиция, мы свернули к Кафрел-Хараму, убогой туземной деревушке, расположенной рядом со Сфинксом и послужившей местом стоянки для ослов Али Зиза. Грязные бедуины привязали верблюдов и ослов в каменных гробницах придворных Хефрена, а затем мы вскарабкались по скалистому склону на плато и песками прошли к Большой пирамиде. Арабы шумным роем обсыпали ее со всех сторон и принялись взбираться по стертым каменным ступеням. Абдул Раис предложил мне свою помощь, но я в ней не нуждался.
Почти каждому, кто путешествовал по Египту, известно, что исконная вершина пирамиды Хеопса источена веками, в результате чего получилась относительно плоская площадка в двенадцать ярдов по периметру. На этом-то крохотном пятачке мы и расположились, образовав как бы живой ринг, и уже через несколько секунд бледная луна пустыни сардонически скалилась на поединок, который, если не брать в расчет характер выкриков со стороны болельщиков, вполне мог бы происходит в любом американском спортивном клубе низшей лиги. Здесь так же, как и у нас, не ощущалось нехватки в запрещенных приемах, и моему не вполне дилетантскому глазу практически каждый выпад, удар и финт говорил о том, что противники не отличаются разборчивостью в методах. Все это длилось очень недолго, и, несмотря на свои сомнения относительно использовавшихся приемов, я ощутил нечто вроде гордости за свою собственность, когда Абдул Раис был объявлен победителем.
Примирение свершилось с необыкновенной быстротой, и среди последовавших за ним объятий, возлияний и песнопений я готов был усомниться в том, что ссора имела место на самом деле. Как ни странно, но мне также показалось, что я в большей степени приковываю к себе внимание, нежели бывшие антагонисты. Пользуясь своими скромными познаниями в арабском, я заключил из их слов, что они обсуждают мои профессиональные выступления, где я демонстрирую свое умение освобождаться от самых различных пут и выходить из импровизированных темниц. Манера, в которой велось обсуждение, отличалась не только изумительной осведомленностью обо всех моих подвигах, но и явным недоверием и даже враждебностью по отношению к ним. Только теперь я постепенно стал осознавать, что древняя египетская магия не исчезла бесследно, но оставила после себя обрывки тайного оккультного знания и жреческой культовой практики, каковые сохранились среди феллахов в форме суеверий столь прочных, что ловкость любого заезжего хахви или фокусника вызывает у них справедливую обиду и подвергается сомнению. Мне снова бросилось в глаза разительное сходство моего проводника Абдула с древнеегипетским жрецом, или фараоном, или даже улыбающимся Сфинксом, я вновь услышал его глухой, утробный голос и содрогнулся.
Именно в этот момент, как бы в подтверждение моих мыслей, произошло то, что заставило меня проклинать ту доверчивость, с которой я принимал события последних часов за чистую монету, между тем как они представляли собой чистой воды инсценировку, притом весьма грубую. Без предупреждения (и я думаю, что по сигналу, незаметно поданному Абдулом), бедуины бросились на меня всей толпой, и вскоре я был связан по рукам и ногам, да так крепко, как меня не связывали ни разу в жизни ни на сцене, ни вне ее.
Я сопротивлялся, сколько мог, но очень скоро убедился, что в одиночку мне не ускользнуть от двадцати с лишним дюжих дикарей. Мне связали руки за спиной, согнули до предела ноги в коленях и намертво скрепили между собой запястья и лодыжки. Удушающий кляп во рту и повязка на глазах дополнили картину. После этого арабы взвалили меня к себе на плечи и стали спускаться с пирамиды. Меня подбрасывало при каждом шаге, а предатель Абдул без устали говорил мне колкости. Он издевался и глумился от души; он заверял меня своим утробным голосом, что очень скоро мои магические силы будут подвергнуты величайшему испытанию и оно живо собьет с меня спесь, которую я приобрел в результате успешного прохождения через все испытания, предложенные мне в Америке и Европе. Египет, напомнил он мне, стар, как мир, и таит в себе множество загадочных первозданных сил, непостижимых для наших современных знатоков, все ухищрения которых поймать меня в капкан столь дружно провалились.
Как далеко и в каком направлении меня волокли, я не знаю положение мое исключало всякую возможность точной оценки. Определенно могу сказать одно: расстояние не могло быть значительным, поскольку те, кто нес меня, ни разу не ускорили шага, и в то же время я находился в подвешенном состоянии на удивление недолго. Вот именно эта ошеломляющая краткость пройденного пути и заставляет меня вздрагивать всякий раз, как я подумаю о Гизе и его плато; сама мысль о близости к каждодневным туристическим маршрутам того, что существовало тогда и, должно быть, существует по сей день, повергает меня в трепет.
Та чудовищная аномалия, о которой я веду речь, обнаружилась не сразу. Опустив меня на песок, мошенники обвязали мне грудь веревкой, протащили меня несколько футов и, остановившись возле ямы с обрывистыми краями, погрузили меня в нее самым невежливым образом. Словно целую вечность, а то и не одну, я падал, ударяясь о неровные стены узкого колодца, вырубленного в скале. Поначалу я думал, что это одна из тех погребальных шахт, которыми изобилует плато, но вскоре чудовищная, почти неправдоподобная глубина ее лишила меня всех оснований для каких бы то ни было предположений.
С каждой секундой весь ужас переживаемого мною становился все острее. Что за абсурд так бесконечно долго опускаться в дыру, проделанную в сплошной вертикальной скале, и до сих пор не достигнуть центра земли! И разве могла веревка, изготовленная человеческими руками, оказаться настолько длинной, чтобы увлечь меня в эти адские бездонные глубины? Проще было предположить, что возбужденные чувства вводят меня в заблуждение. Я и по сей день не уверен в обратном, потому что знаю, сколь обманчивым становится чувство времени, когда ты перемещаешься против своей воли, или когда твое тело находится в искривленном положении. Вполне я уверен лишь в одном: что до поры до времени я сохранял логическую связность мыслей и не усугублял и без того ужасную в своей реальности картину продуктами собственного воображения. Самое большее, что могло иметь место, это своего рода мозговая иллюзия, от которой бесконечно далеко до настоящей галлюцинации.
Вышеописанное, однако, не имеет отношения к моему первому обмороку. Суровость испытания шла по возрастающей, и первым звеном в цепи всех последующих ужасов явилось весьма заметное прибавление в скорости моего спуска. Те, кто стоял наверху и травил этот нескончаемо длинный трос, похоже, удесятерили свои усилия, и теперь я стремительно мчался вниз, обдираясь о грубые и как будто даже сужавшиеся стены колодца. Моя одежда превратилась в лохмотья, по всему телу сочилась кровь ощущение от этого по неприятности своей превосходило даже мучительную и острую боль. Не меньшим испытаниям подвергался и мой нюх: поначалу едва уловимый, но постепенно все усиливавшийся запах затхлости и сырости до странности не походил на все знакомые мне запахи; он заключал в себе элемент пряности и даже благовония,
что придавало ему как бы оттенок пародии.
Затем произошел психический катаклизм. Он был чудовищным, он был ужасным не поддающимся никакому членораздельному описанию, ибо охватил всю душу целиком, не упустив ни единой ее части, которая могла бы контролировать происходящее. Это был экстаз кошмара и апофеоз дьявольщины. Внезапность перемены можно назвать апокалиптической и демонической: еще только мгновение назад я стремительно низвергался в узкий, ощерившийся миллионом клыков колодец нестерпимой пытки, но уже в следующий миг я мчался, словно на крыльях нетопыря, сквозь бездны преисподней; взмывая и пикируя, преодолевал бессчетные мили безграничного душного пространства; то воспарял в головокружительные высоты ледяного эфира, то нырял так, что захватывало дух, в засасывающие глубины всепожирающего смердящего вакуума...
Благодарение Богу, наступившее забытье вызволило меня из когтей сознания, терзавших мою душу, подобно гарпиям, и едва не доведших меня до безумия! Эта передышка, как бы ни была она коротка, вернула мне силы и ясность ума, достаточные для того, чтобы вынести еще величайшие порождения вселенского безумия, которые притаились, злобно бормоча, на моем пути.
2
Лишь постепенно приходил я в чувство после того жуткого полета через стигийские пространства. Процесс оказался чрезвычайно мучительным и был окрашен фантастическими грезами, в которых своеобразно отразилось то обстоятельство, что я был связан. Содержание этих грез представлялось мне вполне отчетливо лишь до тех пор, пока я их испытывал; потом оно как-то сразу потускнело в моей памяти, и последующие страшные события, реальные или только воображаемые, оставили от него одну голую канву. Мне чудилось, что меня сжимает огромная желтая лапа, волосатая пятипалая когтистая лапа, которая воздвиглась из недр земли, чтобы раздавить и поглотить меня. И тогда я понял, что эта лапа и есть Египет. В забытьи я оглянулся на происшествия последних недель и увидел, как меня постененно, шаг за шагом, коварно и исподволь обольщает и завлекает некий гуль, злой дух древнего нильского чародейства, что был в Египте задолго до того, как появился первый человек, и пребудет в нем, когда исчезнет последний.
Я увидел весь ужас и проклятье египетской древности с ее неизменными страшными приметами усыпальницами и храмами мертвых. Я наблюдал фантасмагорические процессии жрецов с головами быков, соколов, ибисов и кошек; призрачные процессии, беспрерывно шествующие по подземным переходам и лабиринтам, обрамленным гигантскими пропилеями, рядом с которыми человек выглядит, как муха, и приносящие диковинные жертвы неведомым богам. Каменные колоссы шагали в темноте вечной ночи, гоня стада скалящихся андросфинксов к берегам застывших в неподвижности безбрежных смоляных рек. И за всем этим пряталась неистовая первобытная ярость некромантии, черная и бесформенная; она жадно ловила меня во мраке, чтобы разделаться слухом, посмевшим ее передразнивать.
В моем дремлющем сознании разыгралась зловещая драма ненависти и преследования. Я видел, как черная душа Египта выбирает меня одного из многих и вкрадчивым шепотом призывает меня к себе, очаровывая наружным блеском и обаянием сарацинства и при этом настойчиво толкая в древний ужас и безумие фараонства, в катакомбы своего мертвого и бездонного сердца.
Постепенно видения стали принимать человеческие обличья, и мой проводник Абдул Раис предстал предо мной в царской мантии с презрительной усмешкой Сфинкса на устах. И тогда я увидел, что у него те же черты лица, что и у Хефрена Великого, воздвигшего Вторую пирамиду, изменившего внешность Сфинкса так, чтобы тот походил на него самого, и построившего гигантский входной храм с его бесчисленными ходами, тайну которых не ведают отрывшие их археологи о ней знают лишь песок да немая скала. Я увидел длинную узкую негнущуюся руку Хефрена, точно такую, какая была у статуи в Египетском музее у статуи, найденной в жутком входном храме. Теперь я поразился тому, что не вскрикнул в свое время - когда заметил, что точно такие же руки были у Абдула Раиса... Проклятая рука! Она была отвратительно ледяной и хотела раздавить меня... о, этот холод и теснота саркофага... стужа и тяжесть Египта незапамятных времен... Рука эта была самим Египтом, сумеречным и замогильным... эта желтая лапа... и о Хефрене говорят такие вещи...
Тут я начал приходить в себя; во всяком случае, теперь я уже не всецело находился во власти грез. Я вспомнил и поединок на вершине пирамиды, и нападение вероломных бедуинов, и жуткий спуск на веревке в бездну колодца, прорубленного в скале, и бешеные взлеты и падения в ледяной пустыне, источающей гнилостное благоухание. Я понял, что лежу на сыром каменном полу и что веревки впиваются в меня с прежней силой. Было очень холодно, и мне чудилось, будто меня овевает некое тлетворное дуновение. Раны и ушибы, причиненные мне неровными стенами каменной шахты, нестерпимо ныли и жгли, болезненность их усугублялась какой-то особенной едкостью упомянутого сквозняка, и поэтому одной попытки пошевелиться хватило, чтобы все мое тело пронзило мучительной пульсирующей болью.
Ворочаясь, я ощутил натяжение веревки и сделал вывод, что верхний ее конец по-прежнему выходит на поверхность. Находится ли он в руках арабов или нет, я не знал; не ведал я и того, на какой глубине нахожусь. Я знал наверняка лишь одно: что меня окружает совершенно или почти беспросветный мрак, ибо ни единый луч лунного света не проникал сквозь мою повязку. С другой стороны, я не настолько доверял своим чувствам, чтобы ощущение большой продолжительности спуска, испытанное мною, принимать за свидетельство непомерной глубины.
Исходя из того, что я, судя по всему, находился в довольно просторном помещении, имеющем выход на поверхность через отверстие, расположенное прямо над моей головой, можно было предположить, что темницей для меня послужил погребенный глубоко под землей храм старины Хефрена, тот, что называют Храмом Сфинкса; возможно, я попал в один из тех коридоров, которые скрыли от нас наши гиды в ходе утренней экскурсии и откуда я бы легко смог выбраться, если бы мне удалось найти дорогу к запертому входу в коридор. В любом случае, мне предстояло блуждать по лабиринту, но вряд ли настоящая ситуация была труднее тех, в которые я уже не раз попадал.
Первым делом, однако, следовало избавиться от веревки, кляпа и повязки на глазах. Я полагал, что операция эта не представит для меня большой сложности, поскольку за время моей долгой и разнообразной карьеры в качестве артиста-эскаписта гораздо более изощренные эксперты, нежели эти арабы, испробовали на мне весь мировой ассортимент уз, пут и оков и ни разу не преуспели в состязании с моими методами. Потом я вдруг сообразил, что когда я начну освобождаться от веревки, она придет в движение, и арабы, если они, конечно, держат в руках ее конец, поймут, что я пытаюсь сбежать, и встанут у входа, чтобы встретить и атаковать меня там. Правда, соображение это имело вес лишь в том случае, если я действительно находился в хефреновском Храме Сфинкса. Отверстие в потолке, где бы оно ни скрывалось, вряд ли могло находиться на слишком большом расстоянии от современного входа рядом со Сфинксом, если, конечно, речь вообще могла идти о каких-либо значительных дистанциях, ибо площадь, известная посетителям пирамид, отнюдь не велика. Во время своего дневного паломничества я не заметил ничего похожего на такое отверстие, но вещи такого рода очень легко проглядеть среди песчаных заносов.
Скорчившись на каменном полу со связанными руками и ногами и предаваясь вышеописанным размышлениям, я почти забыл обо всех ужасах своего бесконечного падения в пропасть и головокружительных пещерных маневров, которые еще совсем недавно довели меня до беспамятства. Мысли мои были заняты лишь одним: как перехитрить арабов. И тогда я решил немедленно приступить к делу и освободиться от пут как можно скорее и не натягивая веревки, чтобы не дать арабам даже намека на то, что я пытаюсь сбежать.
Принять решение, однако, оказалось намного легче, чем осуществить его. Несколько пробных движений убедили меня в том, что без изрядной возни многого не добьешься, и когда после одного особенно энергичного усилия я почувствовал, как рядом со мной и на меня падает, сворачиваясь кольцами, веревка, я нисколько не удивился. А чего ты хотел? сказал я себе. Бедуины, конечно же, заметили твои движения и отпустили
свой конец веревки. Теперь они, вне всякого сомнения, поспешат к подлинному входу в храм и будут ждать тебя там в засаде с самыми кровожадными намерениями.
Перспектива рисовалась неутешительная, но в жизни своей я сталкивался с худшими и не дрогнул, так что не должен был дрогнуть и теперь. В первую очередь надо было развязаться, а потом уже положиться на свое искусство и постараться выбраться их храма целым и невредимым. Сегодня меня даже смешит та безоговорочность, с которой я убедил себя, что нахожусь в древнем храме Хефрена на довольно небольшой глубине.
Убежденность моя рассыпалась в прах, и все первобытные страхи, связанные со сверхъестественными безднами и демоническими тайнами, восстали во мне с удвоенной силой, когда я вдруг обнаружил, что в то самое время, пока я хладнокровно обдумываю свои намерения, одно чудовищное обстоятельство, весь ужас и значение которого я прежде не осознавал, прирастает и в том, и другом отношениях. Я уже говорил, что веревка, падая, свивалась в кольца, которые накапливались рядом со мной и на мне. Теперь я вдруг увидел, что она продолжает падать и свиваться, между тем как ни одна нормальная веревка не могла бы оказаться настолько длинной. Более того, скорость падения ее возросла, и она обрушивалась на меня лавиной. На полу вырастала гора пеньки, погребая меня под своими витками, число которых беспрерывно множилось. Очень скоро меня завалило с головой, и мне стало трудно дышать, в то время как кольца продолжали накапливаться и отбирать у меня последний воздух.
Мысли мои опять смешались, и тщетно пытался я отвести от себя угрозу, страшную и неминуемую. Ибо весь ужас моего положения заключался даже не в тех нечеловеческих муках, которые я испытывал, не в том, что во мне по капле иссякал дух и жизненная сила, но в сознании того, что означают эти невообразимые количества падающей на меня веревки, и какие безмерные неведомые пространства в глубинах недр земных, должно быть, окружают меня в этот момент. Так значит бесконечный спуск и захватывающий дух полет через сатанинские бездны были реальностью, и теперь я лежу без всякой надежды на спасение в каком-то безымянном запредельном мире неподалеку от центра земли? Не в силах человеческих было вынести эту ужасную, горькую правду, внезапно обрушившуюся на меня, и я снова впал в спасительное беспамятство.
Говоря о беспамятстве, я вовсе не разумею отсутствия видений. Напротив, моя отрешенность от внешнего, реального мира сопровождалась видениями самыми чудовищными и неописуемыми. Боже!.. И зачем только я прочел так много страниц по египтологии перед тем, как посетить эту землю, родину всемирного мрака и ужаса?! Этот второй обморок заново озарил мой дремлющий разум пугающим постижением самой сути этой страны и ее сокровенных тайн, и по какой-то проклятой прихоти рока грезы мои обратились к уходящим вглубь веков представлениям о мертвых и о том, как они иногда восстают и живут, с душой и во плоти, во чреве загадочных гробниц, более напоминающих дома, нежели могилы. В памяти моей всплыло, приняв причудливый образ, которого я, к счастью, уже не помню, оригинальное и хитроумное устройство египетской погребальной камеры; припомнил я также нелепые и дикие суеверия, породившие это устпойство.
Все мысли древних египтян вращались около смерти и мертвецов. Они понимали воскрешение в буквальном смысле как воскрешение тела. Именно это побуждало их с особой тщательностью мумифицировать тело и хранить все жизненно важные органы в прикрытых сосудах рядом с усопшим. Между тем, помимо тела они верили в существование еще двух элементов: души, которая после того, как ее оценивал и одобряют Осирис, обитала в стране блаженных, и темного, зловещего ка, или жизненного начала, что, сея страх, странствует по верхнему и нижнему мирам, нисходя временами в погребальную часовню к сохраняемому телу, дабы отведать жертвенной пищи, приносимой туда жрецами и набожной челядью, а иногда ходят и такие слухи! чтобы войти в тело или в его деревянного двойника, которого всевда кладут рядом, и, покинув пределы гробницы, блуждать по окрестностям, верша свои темные дела.
Тысячелетиями покоились тела в помпезных саркофагах, уставив вверх свои безжизненные очи, если их не посещало ка, в ожидании того дня, когда Осирис возродит в них ка и душу и выведет легионы окоченевших мертвецов из глухих обителей сна на свет. Каким триумфом могло бы обернуться это воскрешение но, увы, не все души получат благословение, не все могилы останутся неоскверненными, и потому неизбежно следует ждать нелепых ошибок и чудовищных извращений. Недаром и по сей день среди арабов ходят слухи о несанкционированных сборищах и богомерзких культах, вершимых в самых затаенных уголках нижнего мира, куда могут без страха заходить лишь крылатые невидимые ка да бездушные мумии.
Пожалуй, самые жуткие предания, заставляющие холодеть кровь в жилах, это те, что повествуют о неких прямо-таки бредовых произведениях деградировавшего жреческого искусства. Я имею в виду составные мумии, представляющие собой противоестественные комбинации человеческих туловищ и членов с головами животных и призванные имитировать древнейших богов. Во все периоды истории существовала традиция мумифицирования священных животных быков, кошек, ибисов, крокодилов и т. д., чтобы, когда пробьет час, они могли вернуться в мир к еще большей своей славе. Но лишь в период упадка возникла тенденция к составлению мумий из человека и животного тогда, когда люди перестали понимать истинные права и привилегии ка и души.
О том, куда подевались те составные мумии, легенды умалчивают; определенно можно сказать лишь то, что до сих пор их не находил ни один египтолог. Молва арабов на этот счет слишком походит на досужие домыслы, чтобы относиться к ней всерьез. Ведь они доходят до того, что, будто бы, старый Хефрен - тот, что связан со Сфинксом, Второй пирамидой и зияющим входом в храм, живет глубоко под землей со своей супругой, царицей злых духов-гулей Нитокрис, и повелевает мумиями, непохожими ни на людей, ни на зверей.
Все это стало предметом моих грез Хефрен, его царственная половина, причудливое сонмище искусственных мертвецов, - и, правду сказать, я очень рад, что все сколько-нибудь отчетливые очертания выветрились из моей памяти. Самое кошмарное из моих видений имело непосредственное отношение к праздному вопросу, которым я задавался накануне, когда глядел на высеченное в скале лицо Сфинкса, эту вечную загадку пустыни; глядел и спрашивал себя, в какие неведомые глубины ведут потайные ходы из храма, расположенного близ Сфинкса. Вопрос этот, казавшийся мне тогда таким невинным и пустяковым, приобрел в моих снах смысл неистового и буйного помешательства: так какое же исполинское, противоестественное и отвратительное чудовище призвано было изображать первоначально черты лица Сфинкса?
Мое второе пробуждение, если его можно назвать пробуждением, сохранилось в памяти как мгновение беспредельного ужаса, подобного которому и еще тому, что был пережито мною после я не испытывал во всю свою жизнь, а жизнь эта была, насыщена перипетиями сверх всякой человеческой меры. Напомню, что я лишился чувств в тот момент, когда на меня каскадом обрушивалась веревка, что свидетельствовало о непомерной глубине, на которой я находился. Так вот, придя в сознание, я не ощутил на себе никакой тяжести и, перевернувшись на спину убедился в том, что пока я лежал в обмороке, связанный, с кляпом во рту и повязкой на глазах, какая-то неведомая сила полностью удалила навалившуюся на меня и почти задушившую меня гору пеньки. Правда, осознание всей чудовищноси того, что произошло, пришло ко мне не сразу; но оно теперь довело бы меня до очередного обморока, если бы к этому моменту я не достиг такой степени духовного изнеможения, что никакое новое потрясение не могло его усугубить. Итак, я был один на один... с чем?
Не успел я, однако, хоть сколько-нибудь об этом поразмыслить, чем, вероятно, только бы измучил себя перед новой попыткой освободиться от пут, как о себе заявило и довольно громко еще одно обстоятельство, а именно: страшная боль, какой я не испытывал ранее, терзала мои руки и ноги, и все тело мое, казалось, было покрыто толстой коркой засохшей крови, что никак не могло явиться результатом моих прежних порезов и ссадин. Грудь мою также саднило от ран как будто ее клевал какой-то гигантский кровожадный ибис. Что бы ни представляла собой та сила, что убрала веревку, она была настроена ко мне явно недоброжелательно, и, вероятно, нанесла бы мне и более серьезные повреждения, если бы что-то ее не остановило. Можно было ожидать, что после всего этого я окончательно паду духом, однако все вышло как раз наоборот, и вместо того, чтобы впасть в бездну отчаяния, я ощутил новый прилив мужества и воли к борьбе. Теперь я знал, что преследующие меня злые силы имеют физическую природу, и бесстрашный человек может сразиться с ними на равных.
Ободренный вышеприведенным соображением, я снова взялся за веревку и, используя весь опыт, накопленный мною в течение жизни, принялся распутывать ее, как я часто это делал в ослепительном свете огней под оглушительные аплодисменты толпы. Привычные подробности процесса освобождения совершенно завладели моим вниманием, и теперь, когда длинная веревка, которой и еще недавно был спеленут, как младенец, постепенно сходила с меня, я вновь почти уверовал в то, что все пережитое мною представляло собой обыкновенную галлюцинацию и никогда не было ни этого ужасного колодца, ни головокружительной бездны, ни бесконечной веревки, и лежал я теперь не где-нибудь, а во входном храме Хефрена возле Сфинкса, куда, пока я был в обмороке, прокрались вероломные арабы, чтобы подвергнуть меня истязанию. Тем более мне следовало поторопиться с распутыванием. Дайте мне только встать на ноги без кляпа и без повязки на глазах, чтобы я мог видеть свет, откуда бы он ни исходил, и тогда я даже буду рад сразиться с любым врагом, каким бы злым и коварным он ни оказался!
Как долго я распутывался, сказать трудно. Во всяком случае, на публике, когда я не был ни изранен, ни изнурен, как теперь, я справлялся с этим значительно быстрее. Но вот, наконец, я освободился и вздохнул полной грудью. Дурной запах, витавший, в сыром и холодном воздухе, показался мне теперь еще более смрадным, нежели прежде, когда кляп и края повязки мешали мне обонять его в полной мере. Ноги мои затекли, во всем теле ощущалась неимоверная усталость, и я был не в состоянии гронуться с места. Не знаю, долго ли я так пролежал, пытаясь распрямить члены, долгое время пребывавшие в неестественном, искривленном состоянии, и напряженно всматриваясь в темноту, в надежде уловить хотя бы проблеск света и определить свое местонахождение.
Постепенно ко мне возвратились сила и гибкость; однако глаза мои по-прежнему ничего не различали. С трудом поднявшись на ноги, я осмотрелся по сторонам кругом был мрак столь же непроницаемый, как и тот, в котором я пребывал с повязкой на глазах. Я сделал несколько шагов; измученные ноги едва меня слушались, и все же я убедился, что могу идти, так что оставалось только решить, в каком направлении. Ни в коем случае нельзя было двигаться наобум, поскольку я мог уйти в сторону, прямо противоположную той, где находился искомый выход. Поэтому я остановился и постарался определить, откуда исходит холодное, наполненное запахом натра дуновение, которое я все это время не переставал чувствовать. Предположив, что источником сквозняка, вероятно, является вход в подземелье, я решил ориентироваться по нему и идти строго в ту сторону, откуда он исходил.
Отправляясь накануне вечером на прогулку, я захватил с собой коробок спичек и маленький электрический фонарик; разумеется, после всех пережитых встрясок в моих карманах точнее, в том, что от них осталось не сохранилось ни одного сколько-нибудь тяжелого предмета. Чем дальше я продвигался, тем явственнее становилась тяга и назойливей запах, пока, наконец, я совершенно не уверился в том, что иду навстречу зловонному испарению, струящемуся из какой-то дыры, наподобие сказочного джина, что являлся рыбаку в виде клубов дыма, вырывающихся из кувшина. О, Египет, Египет... воистину, темна эта колыбель цивилизации и вечный источник невыразимых ужасов и несказанных чудес!
Чем больше я размышлял над природой подземного воздушного потока, тем сильнее во мне росло беспокойство. Если раньше я, почти не задумываясь над тем, почему у него такой запах, предполагал что источником его является какой-нибудь, пусть даже непрямой, выход во внешний мир, то сейчас я абсолютно уверился в том, что это смрадное испарение не имеет ничего общего с чистым воздухом Ливийской пустыни, ни даже малейшей примеси последнего. Мне стало ясно, что это смердят какие-то мрачные бездны, расположенные еще глубже под землей, и, что, следовательно, я избрал неверное направление.
После минутного раздумья я решил не менять своего выбора и продолжал следовать тем же курсом. Как бы там ни было, сквозняк оставался моей единственной надеждой, ибо каменный пол, однообразный даже в своей неровности, не давал мне никаких ориентиров. Двигаясь же навстречу этому таинственному испарению, я рано или поздно должен был добраться до какой-либо дыры или щели, а, соответственно, и до стены, и затем следуя вдоль нее, достигнуть противоположного конца этого грандиозного чертога. Я прекрасно понимал, что все расчеты мои могут оказаться неверными ведь даже если я действительно находился во входном храме Хефрена, то попал в ту его часть, куда не водят туристов. Более того, могло случиться, что именно этот зал был неизвестен даже археологам, и одни только подлые арабы, которые всюду снуют и всюду суют свой нос, случайно на него наткнулись и решили использовать его в качестве темницы для меня. Если так, то мог ли я вообще рассчитывать найти выход, если не наружу, то хотя бы в какую-нибудь другую, известную часть храма?
Если разобраться, я не имел никаких доказательств в пользу того,что нахожусь во входном храме. На мгновение все самые чудовищные из моих прежних догадок нахлынули на меня, мешаясь с действительными впечатлениями. Я живо представил себе и свой спуск, и парение в пространстве, и веревку, и раны, и грезы да-да, грезы, теперь я точно это знал! Так неужели мне и вправду пришел конец? И, может быть, умереть именно теперь, в этот самый момент было бы для меня даже величайшим благом? Ни на один из этих вопросов не смог я найти ответа и механически продолжал свой путь, пока Судьба в третий раз не принудила меня к забытью.
На этот раз внезапность случившегося лишила меня не только сознания, но и подсознания. В том месте, где встречный напор сквозняка усилился настолько, что я с трудом преодолевал его сопротивление, начинался ряд уходящих вниз ступеней, о чем я тогда, разумеется, не подозревал. Делая очередной шаг, я опустил ногу на первую ступеньку, расположенную ниже уровня пола, потерял равновесие и кубарем покатился с лестницы в зловещую бездну беспросветного мрака.
Если я не испустил дух, то лишь благодаря своему крепкому здоровью и кошачьей живучести. Оглядываясь на события той памятной ночи, я иногда просто не могу удержаться от смеха, когда представляю себе свои периодически повторяющиеся обмороки; их регулярность наводит меня на сравнение с дешевыми киномелодрамами тех лет. Не исключено, что никаких потерь сознания не было вовсе и что все подробности моего подземного кошмара были всего лишь эпизодами одного длительного бреда, начавшегося в результате душевного потрясения, вызванного падением в пропасть, и закончившегося благодаря целительному воздействию открытого воздуха и солнца, восход которого застал меня распростертым на горячих песках Гизы под сардоническим ликом Великого Сфинкса, розовеющим в рассветных лучах.
Я изо всех сил стараюсь придерживаться этого последнего объяснения. Я испытал большое облегчение, когда в полиции мне сообщили, что решетка, преграждающая вход в храм Хефрена, была обнаружена незапертой, и что недалеко от входа, действительно, имеется довольно широкая расщелина, которая ведет в еще нераскопанную часть храма. Не меньшее облегчение доставили мне уверения докторов в том, что полученные мною раны естественны в такой ситуации, когда тебя хватают, связывают, бросают в колодец, когда тебе приходится избавляться от пут, падать со значительной высоты (возможно, в какую-то яму во внутренней галерее храма), ползти к выходу, выбираться наружу и так далее... Ничего не скажешь, очень утешительный диагноз! И все-таки я убежден, что все не так просто, как выглядит на первый взгляд. То незабываемое падение в бездну и по сей день представляется мне так, как будто случилось вчера, и я не могу просто взять и выбросить его из головы. Еще на большие сомнения наводит меня тот факт, что так и не был найден человек, приметы которого совпадали бы с приметами моего проводника Абдула Раиса эль-Дрогмана, говорившего замогильным голосом и напоминавшего внешним видом и усмешкой покойного фараона Хефрена.
Я вижу, что отступил от последовательного изложения фактов вероятно, я сделал это в слабой надежде на то, что мне удастся избежать пересказа финальной сцены сцены, имеющей наибольшее сходство с галлюцинацией, нежели все предыдущие. Но я обещал рассказать все до конца, а нарушать обещания не в моих правилах. Когда я очнулся если только я действительно очнулся после падения с тех черных каменных ступеней, я был по-прежнему один и в полной темноте. Зловонное испарение, изрядно досаждавшее мне и ранее, перешло теперь все границы, однако я уже настолько успел к нему привыкнуть, что переносил эту пытку стоически. Инстинктивно я начал отползать прочь от его источника; мои окровавленные пальцы ощущали под собой огромные глыбы, составлявшие пол грандиозного помещения, в котором я находился. Пятясь, я ударился головой обо что-то твердое; нащупав предмет рукой, я понял, что это база колонны колонны невероятных размеров на поверхности которой были высечены гигантские иероглифы, хорошо различимые наощупь.
Продолжая отступать, я наткнулся еще на несколько колонн столь же громадных, как и первая; расстояния в промежутках между ними были непомерно велики. Внезапно мое внимание было привлечено одним явлением, действие которого на мой слух началось, по всей видимости, значительно раньше, нежели его уловил мой рассудок.
Откуда-то снизу, из глубины, из самых недр земных доносились мерные и отчетливые звуки, разительно отличавшиеся всего, что мне когда-либо доводилось слышать. Почти интуитивно ощутил я глубокую древность и явно обрядовый характер этих звуков, а мои познания в египтологии вызвали во мне ассоциацию со звуками флейты, самбуки, систра и тимпана. В этом ритмичном гудении, свисте, стуке и треске мне почудился какой-то леденящий душу ужас, превосходящий любой из земных ужасов; нечто до странности непохожее на индивидуальный человеческий страх, как бы некое безличное соболезнование ко всей нашей планете в целом соболезнование по поводу того, что ей приходится скрывать в своих недрах такие чудовищные, такие кошмарные вещи, существование которых возвещалось всей этой адской какофонией. Звуки становились все громче, и мне стало ясно, что они приближаются. Вдруг о, боги всех пантеонов мира, сойдитесь воедино и охраните мой слух от подобного впредь! вдруг я расслышал, как где-то в отдалении, едва слышно раздается мертвящая душу маршеобразная поступь шагающих.
Жутко становилось уже оттого, что звуки шагов, столь несхожие между собой, сочетались в идеальном ритме. Муштра нечестивых тысячелетий стояла за этим шествием обитателей сокровенных земных глубин - шагающих, бредущих, крадущихся, ползущих, мягко ступающих, цокающих, топающих, грохочущих, громыхающих... и все это под невыносимую разноголосицу издевательски настроенных инструментов. Неужели... Господи, сделай так, чтобы я забыл все эти жуткие арабские легенды! бездушные мумии... сборище странствующих ка... орда мертвецов сорокавековой истории страны фараонов, будь они прокляты!.. Составные мумии, шествующие в непрогляднейшем мраке подземных пустот во главе с царем Хефреном и его верной супругой Нитокрис, царицей злых духов-вампиров...
Процессия неумолимо приближалась. О, небо! Избавь меня от этих звуков от стука этих ног и копыт, от шуршания этих лап, от скрежета этих когтей, я слышу их все отчетливее! Вдали, на необъятных просторах этой уходящей в бесконечность площади замерцал, заколыхался на отравленном сквозняке отблеск света, и я счел за благо укрыться за грандиозным подножием колонны-колосса, чтобы хоть на время оградиться от ужаса, что надвигался на меня с миллионами ног, проходящих маршем по гигантским гипостилям нечеловеческого страха и уму непостижимой древности. Свечение усилилось; грохот шагов и нестройный ритм достигли такой громкости, что мне стало дурно. Предо мною, в мерцающем оранжевом свете постепенно вырисовывалась картина, исполненная такой пугающей величественности, что я на время забыл свой страх и отвращение и открыл в изумлении рот... Какой же высоты должно достигать эти колонны, если уже одни основания их настолько колоссальны, что Эйфелева башня в сравнении с любой из них будет выглядеть, как спичечный коробок? И что это были за руки, которые высекли иероглифы на базах колонн в этой грандиозной каверне, где свет дня представляется слабой, неудачной выдумкой?
Я просто не стану на них смотреть. Как за спасительную соломинку, ухватился я за это решение, когда, замирая от страха, услышал, как скрипят их суставы, как отвратительно они хрипят, заглушая и унылую, мертвую музыку, и однообразную, размеренную поступь. Хорошо еще, что они безмолвствовали... Но Боже! их богомерзкие факела стали отбрасывать тени на поверхности этих умопомрачительных колонн! нет, нет, только не это!!! Где это видано, чтобы у гиппопотамов были человеческие руки и в них факела?.. чтобы у людей были головы крокодилов?..
Я отвернулся, чтобы ничего этого не видеть увы! тени, звуки, нечистый запах были везде. Я вспомнил способ, которым в детстве, находясь в мучительном промежуточном состоянии между бодрствованием и сном, отгонял преследовавшие меня кошмары, и стал повторять про себя слова: Это мне снится! Это всего лишь сон! Но все мои усилия были тщетны, и мне ничего не оставалось, как только закрыть глаза и молиться... во всяком случае, мне кажется, что именно так я и сделал, ибо никогда нельзя быть уверенным, когда пересказываешь свои видения, а что все случившееся было не более, чем видением, я знаю сегодня наверняка.
Не переставая думать о том, как бы мне выбраться отсюда, я временами украдкой приоткрывал глаза и озирался по сторонам, пытаясь разглядеть хоть какую-нибудь деталь, которая указала бы на то, что где-то есть место, где нет ни этого гнилостного дразнящего испарения, ни уходящих в необозримую вышину колонн, ни этих неестественных, карикатурных, причудливых кошмарных теней. Снопы огня, треща, вырывались из факелов, количество которых все прибывало, и вскоре все помещение было залито ослепительно ярким светом, так что если бы оно было полностью лишено стен, то я бы несомненно увидел рано или поздно, но увидел какой-нибудь предел или неподвижный ориентир. Но тут мне снова пришлось закрыть глаза я просто не мог этого не сделать, когда осознал, сколько их здесь собралось, и когда увидел одну фигуру, что выступала гордо и торжественно и выделялась среди прочих отсутствием верхней половины тела.
Внезапно дьявольский звук, напоминающий предсмертный булькающий хрип и улюлюкающий вой одновременно, с громовым треском разрезал атмосферу атмосферу склепа, наполненную клубящимися нефтяными и смоляными истечениями, и превратил ее в один согласный хор, исходящий из бессчетного
количества богохульствующих глоток этих гротескных и уродливых фигур. Глаза мои открылись вопреки моей воле правда всего лишь на мгновение, но и этого мгновения было достаточно, чтобы узреть во всем объеме сцену, которую даже вообразить было бы невозможно без страха, лихорадочной дрожи и физического изнеможения. Все эти исчадия ада выстроились в одну шеренгу, лицом в ту сторону, откуда исходил ядовитый воздушный поток. При свете факелов мне были видны их склоненные головы по крайней мере, головы тех, у кого они были. Они отправляли культ перед огромной черной дырой, изрыгающей клубы поганого, зловонного пара; две гигантские лестницы отходили от нее под прямыми углами с обеих сторон, концы их терялись в непроницаемом мраке. Лестница, с которой я упал, без сомнения, была одной из них.
Размеры дыры были выдержаны в точной пропорции с размерами колонн: обычный дом потерялся бы в ней, а любое общественное здание средней величины можно было бы легко задвинуть туда и выдвинуть обратно. Отверстие было таким огромным, что взгляд не мог охватить его целиком; огромным, зияющим угольной чернотой и испускающим отвратительное зловоние. Прямо к порогу этого разверстого входа в жилище Полифема они бросали какие-то предметы судя по их жестам, жертвоприношения. Впереди всех стоял Хефрен, надменный царь Хефрен с презрительной усмешкой на устах, он же проводник Абдул Раис, в золотом венце; заупокойным голосом он нараспев произносил монотонные слова заклинаний. Рядом с ним преклонила колени прекрасная царица Нитокрис; всего одно мгновение лицезрел я ее профиль и успел отметить, что правая половина лица ее была съедена крысами или какими-то другими плотоядными тварями. И снова я был вынужден закрыть глаза вынужден потому, что увидел, какие предметы предлагаются в качестве жертвоприношений этой зловонной дыре или обитающему в ней местному божеству.
Судя по той церемонности и торжественности, с которой отправлялся обряд, то, что скрывалось во мраке дыры, почиталось чрезвычайно высоко. Что это было за божество Осирис? Исида? Гор? Анубис? а, может быть, какой-то грандиозный и неведомый Бог Мертвых? Ведь существует же предание, что еще задолго до того, как стали почитать известных ныне богов, воздвигались чудовищные алтари и колоссы Неведомому.
Теперь, когда я уже настолько закалился духом, что мог без содрогания смотреть на то, как эти твари справляют свой истовый загробный культ, мысль о побеге снова пришла мне в голову. Зал был залит тусклым светом, колонны отбрасывали густую тень. Пока эти гротескные персонажи дурного сна были всецело поглощены своим леденящим душу занятием и сосредоточенно священнодействовали, у меня еще было время проскользнуть к дальнему концу одной из лестниц и взойти по ней незамеченным; а там, когда я достигну верхних пределов, судьба и мастерство авось и выведут меня на свет Божий. О том, где же я все-таки нахожусь, я по-прежнему не имел понятия да, признаться, и не задумывался об этом всерьез. Был момент, когда мне даже показалось забавным, что я так серьезно обдумываю побег из своего собственного сна ибо чем еще могло быть то, что меня окружало? Не исключено, впрочем, что местом моего погребения служила какая-то никому неизвестная подвальная часть входного храма Хефрена, того самого, который в течение поколений традиция упорно именует Храмом Сфинкса. Однако я не мог тратить времени на догадки и потому решил положиться на силу своих мускулов и ума, надеясь, что они вернут меня в наружный мир и в здравый рассудок.
Извиваясь, как червь, я пополз по-пластунски к подножию левой лестницы, которая, как мне показалось, была более доступной. Не стану утомлять читателя описанием подробностей своего трудоемкого пути и ощущений, которые я испытал; о них легко можно догадаться, если принять во внимание тот отвратительный спектакль, что разыгрывался предо мной в зловещем колеблющемся свете факелов: ибо чтобы не быть обнаруженным, я вынужден был постоянно держать его в поле зрения. Как я уже говорил, нижний конец лестницы терялся в густом мраке; сама она круто возносилась вверх, не делая никаких изгибов, и заканчивалась площадкой с парапетом, расположенной на головокружительной высоте прямо над исполинским дверным проемом. Таким образом, последний этап моего многотрудного пути пролегал на приличном расстоянии от нечестивого сборища. Тем не менее, лицезрение его приводило меня в трепет и тогда, когда сборище осталось далеко по правую руку от меня.
С горем пополам добравшись до ступеней, я полез наверх, стараясь держаться ближе к стене, которая была покрыта росписями самого отталкивающего характера. Порукой моей безопасности являлось то всепоглощающее, восторженное внимание, с которым эти чудовища вперяли глаза в извергающую клубы нечистот клоаку и в непотребную жертвенную пищу, что была разложена на каменном полу перед ней, как на алтаре. Крутая громада лестницы была сложена из грандиозных порфировых блоков, как будто она предназначалась для ступней исполина; я поднимался по ней, казалось, целую вечность. Боязнь быть обнаруженным в сочетании с чудовищной болью от ран, возобновившейся в результате новой нагрузки на организм, превратили мое восхождение в одну долгую мучительную пытку, воспоминание о которой по сей день причиняет мне почти физическую боль. Я решил, что когда я достигну площадки, то не стану задерживаться на ней ни секунды, но сразу продолжу свой путь наверх по первой попавшейся лестнице, если, конечно, таковая попадется. Я не испытывал ни малейшей охоты окидывать прощальным взором толпу богомерзких отродий, шаркавших лапами и преклонявших колени в 70-80 футах подо мной. Но в тот момент, когда я уже всходил на площадку, вновь раздался оглушительный хор предсмертных булькающих хрипов и надтреснутых голосов. Судя по его церемонному звучанию, он не являлся признаком того, что меня обнаружили, и потому я нашел в себе смелость остановиться и осторожно выглянуть из-за парапета.
Оказалось, что таким своеобразным способом собравшиеся приветствовали того, кто наконец-то высунулся из отвратительной дыры, чтобы взять приготовленную для него сатанинскую пищу. Даже с высоты моего наблюдательного пункта обитатель норы производил впечатление чего-то чрезвычайно громадного; это было нечто грязно-желтое, косматое, с необычной, как бы судорожной манерой двигаться. Величиной он был, пожалуй, с доброго гиппопотама, но внешний вид имел особый. Казалось, у него нет шеи: пять отдельных лохматых голов росли в один ряд прямо из туловища, имевшего форму неправильного цилиндра; первая из них была меньше остальных, вторая средней величины, третья и четвертая одного размера и самые крупные, пятая довольно маленькая, хотя и покрупнее первой.
Из голов стремительно вылетали своего рода твердые щупальца; словно ястребы, они набрасывались на разложенную на полу непотребную пищу и хватали ее непомерно большими порциями. Временами чудовище как бы прядало вверх, временами удалялось в свое логово посредством весьма необычных маневров. Его манера двигаться была настолько странной и необъяснимой с точки зрения здравого смысла, что я глядел на него как зачарованный, и страстно желал, чтобы оно показалось целиком.
И оно показалось... оно показалось, и в ту же секунду я в ужасе отвернулся и бросился вверх по лестнице, что вздымалась за моей спиной и уходила во тьму. Я мчался без оглядки, взбегая по каким-то немыслимым ступеням, карабкаясь по приставным лестницам, с трудом удерживая равновесие на наклонных плоскостях; мчался туда, куда меня не вели ни логика, ни обычное человеческое зрение, но, вероятно, лишь законы царства бредовых видений иного объяснения я не нахожу и не найду вовек. Такое могло происходить лишь во сне, иначе восход солнца не застал бы меня живым в песках Гизы под сардоническим ликом Великого Сфинкса, розовеющим в рассветных лучах.
Великий Сфинкс! Боже! вот праздный вопрос, который я задавал себе в то благословенное солнечное утро: ...какое исполинское и отвратительное чудовище призвано было изображать первоначальные черты лица Сфинкса? Будь проклято то зрелище, во сне ли оно было, наяву ли, в котором мне явился предельный, абсолютный ужас неведомый Бог Мертвых, облизывающийся в предвкушении поживы в своем огромном жутком логове и получающий богомерзкие лакомства из рук бездушных тварей, которые не имеют права на существование... Пятиголовый монстр, высунувшийся из норы... пятиголовый монстр величиной с гиппопотама... пятиголовый монстр и тот, для кого этот монстр не более, чем его собственная передняя лапа!
Но я остался жив я знаю, что это был всего лишь сон.


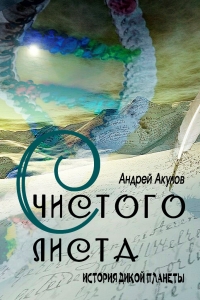
Комментарии к книге «Погребенный с фараонами», Говард Лавкрафт
Всего 0 комментариев