Чешко Фёдор Перекрёсток
Анатолий не спешил спускаться в раскоп. Там душно, раскалившаяся за день сухая земля злобно кусает босые ноги; там воздух круто замешан на серой колючей пыли, и пыль эта скрипит на зубах, першит в горле, мерзостной липкой грязью оседает на потное тело. Гораздо приятнее сидеть здесь, на заросшем клевером и полынью откосе, поглядывать на окунающееся в недальнее озеро вечернее солнце, и поглядывать вниз, где копошатся пропыленные грязные фигурки. Копошатся, трудятся. А ты сидишь, куришь и ни черта не делаешь. Нехорошо… Ничего, работа — не волк. И вообще, Конституция гарантирует право на отдых.
А главное даже не отдых. Главное, что отсюда, сверху, как на ладони видна Анечка. Что-то она там нашла, лежит на животе в самой пылище, азартно скребет щеточкой стенку траншеи — низко, у самого дна. Видать, интересное там что-то…
Только сама Анечка гораздо интереснее любой археологической находки. По крайней мере, для Анатолия. И спускаться смотреть, что она выкапывает, ему совсем не хотелось. Гораздо приятнее было смотреть на Анечку, на ее голую спину, на ладные, длинные, загорелые ноги, на едва прикрытые импортным купальником нежные округлости в том месте, откуда эти самые ноги растут… Смотреть, и представлять то, что произойдет ночью. Произойдет, если Анечка согласится, конечно. А, собственно, почему бы ей и не согласиться? Заявление подали, кольца уже купили. Что осталось? Марш Мендельсона, цветы, штамп в паспорте и пьяные крики «Горько»? Формальности. Бессмысленный обряд вроде тех, что совершали наши только что слезшие с деревьев предки. Что он может изменить?
А внизу, возле Ани, уже толпятся. Во, и Виталий Максимович снизошли приблизиться. Поразительно просто, как он, не имея на себе ничего, кроме очков, плавок и лысины, умудряется сохранять вид пугающе-недоступной учености? Этакий академический розан среди разнорабочих сорняков-третьекурсников… Пора, однако, спускаться. Отсутствие может быть замечено и взято на карандаш, а этому типу еще зачет сдавать.
Приблизившись к толпе, Анатолий с изумлением обнаружил, что Анечку начальство за находку не хвалит, а сдержанно распекает:
— …Нет, вы мне не молчите, Кораблева. Как называется объект нашего исследования?
Длительная тишина. Эпицентр происходящего Анатолию за спинами любопытных не виден, но Анечкину позу он представляет себе безошибочно: голова низко опущена, руки — за спину, большой палец босой ноги вычерчивает в пыли нечто замысловатое. Наконец хрипловатый голос (ее голос) нехотя удостаивает ответом:
— Ну, поселение скифов-пахарей… И захоронение…
— Правильно. — Это снова Виталий Максимович. — Скифов-пахарей. Только без «ну», пожалуйста. А вы мне что суете? Это же каменный век! Не знать таких вещей для третьекурсницы непростительно! Ну-ка, кто может объяснить Кораблевой, что она нашла?
Чей-то торопливый голос:
— Женская фигурка культового назначения, с гипертрофированными половыми признаками. Амулет, часто встречающийся при раскопках стоянок эпохи мезо- и неолита…
— Совершенно верно. — В голосе Виталия Максимовича одобрение, наверняка он благосклонно кивает ответившему. — Так при чем здесь скифы-пахари, Кораблева?
Снова гнетущее молчание, потом кто-то несмело предлагает:
— Это Кравчуку надо отдать, он обрядностью неолита занимается…
— Разберемся. — Виталий Максимович голосом ставит точку, дает понять, что обсуждение окончено. — Предлагаю всем разойтись по рабочим местам. А с вами, Кораблева, мы поговорим отдельно. На зачете.
Выполнять распоряжение относительно рабочих мест Анатолий не поспешил, и поэтому успел заметить, что найденный Анечкой амулет Виталий Максимович сохранять для передачи доценту Кравчуку не стал, а просто-напросто запустил в прилепившиеся под обрывком чахлые кустики. Логика этого поступка была своеобразна и, увы, не нова: передашь находку коллеге, тот, чего доброго, сумеет доказать начальству, что разрабатывать его тематику на этом раскопе перспективнее, и о насиженном, не выработанном еще до конца месте придется забыть навсегда. Кстати, можно не сомневаться, что доцент Кравчук с найденными на своих раскопках предметами материальной культуры оседлых скифов поступает аналогично.
Выждав, пока начальство отойдет подальше, Анатолий ящерицей шмыгнул в кусты. Они были редкие, хворые, и амулет — серый тяжеленький комок обожженной глины — нашелся быстро. Действительно, женская фигурка. Руки едва намечены, а вот непомерные отвислые груди, вздутый живот, толстенные бедра и ягодицы выполнены тщательно, со знанием дела. А вместо головы бугорок с дыркой, чтоб на шее носить. На шее… Стоп! Это — мысль.
Стараясь не привлекать к себе внимание, Анатолий с чрезвычайно деловым видом направился к своей одежде; тяжело вздыхая (жалко все-таки, где еще такую найдешь), потащил замшевую завязку из капюшона фасонистой венгерской штормовки. Ну, да бог с ней. Зато кулон будет — закачаешься. Все Анечкины подружки от зависти вымрут, как мамонты. А всего и работы продеть и завязать, вот так.
Он нацепил шнурок на шею — прикинуть длину. Амулет лег не посредине груди, а чуть левее, где сердце, — Анатолию даже показалось, что глиняная фигурка чуть подрагивает в такт неторопливым ударам пульса. Он было взялся за нее, чтоб поправить, но не успел. Волна душного звона ударила ему в лицо, окружающее стало вкось и погасло.
…Внезапный удар тяжелой волной гулкого звона обрушился на затылок, земля стала вкось, и мир погас в глазах Большелобого. А когда способность видеть вернулась, перед глазами оказались стебли травы, растущие как-то неправильно: не снизу, а сбоку; и тогда он понял, что лежит, неловко вывернув все еще гудящую от удара голову.
А еще он увидел плывущие над травой сивые клочья тумана, а между ними — ноги. Кривые волосатые ноги, мощно подпершие почти квадратное тело. И еще он увидел голову, всклокоченную и маленькую, где-то высоко-высоко, чуть ли не в самой гуще клубящегося влажной сыростью неба. И еще — обрывок старой облезлой шкуры (мокрой, со слипшимся мехом), сжатый в жилистой грязной руке. Увидел, и понял.
Все-таки выследила их Рваная Грудь. Выследила, подкралась, ударила по затылку мокрой тяжелой шкурой. Оглушила. И теперь пьет его унижение, как жадные слепни пьют сладкую кровь копытных. Гордится, что вновь показала охотнику назначенное ему волей Праматери — грязь у ног Умеющей Рожать. Старая гиена…
Большелобый беспомощно забарахтался, пытаясь встать. Руки и ноги не слушались, земля не хотела отпускать его от себя, и, слыша злорадный смех Рваной Груди, он не сдержался и застонал. Не от боли (хоть боль свирепо глодала затылок) — от унижения.
Как случилось, что эта ходячая падаль сумела подкрасться неуслышанной, сумела одним ударом свалить его, охотника и воина? Зачем, ну зачем он не умер от ее удара? Умереть лучше, чем слышать смех, достойный вонючей пасти пожирателя трупов…
Новая мысль обожгла Большелобого, заставила вскинуть лицо над травой, оглядеться в испуге. Сероглазая… Успела она убежать или нет?
Нет. Не успела. А может, не захотела унижать себя бегством. Здесь она. Стоит, смотрит в небо, на лице — брезгливая скука. Гордая…
Великое Небо, неужели Сероглазая когда-нибудь станет похожа на свою породительницу?! Нет, нет, не может случиться такое зло! Вот стоит Рваная Грудь, старейшая из колдуний, зажигающих огни перед каменным ликом Праматери, — грязная седая тварь, вонючая, кривозубая… Никогда, даже в самые свирепые морозы не запахивает она меховую безрукавку (такую же грязную, как и то, на что она одета). Так и ходит, не зная стыда, не скрывая омерзительные, ссохшиеся свои груди, одну из которых исполосовали когда-то рысьи клыки. Ходит так, чтоб каждый встречный видел: перед ним одна из Вислогрудых. О Небо, отыщется ли среди твоих порождений более мерзкое?!
А Сероглазая… Большелобый снова глянул на Сероглазую, и сразу забыл все — и позор, и боль, и отвратительную свою победительницу. Потому, что это была Сероглазая. Потому, что она была, ходила по земле, жила. А значит, было для чего жить и Большелобому.
И Рваная Грудь тоже смотрела на Сероглазую, только иначе — с бешеной злобой.
А Сероглазая не смотрела ни на Рваную Грудь, ни на Большелобого. Она смотрела на тучи.
Бешенство клокотало в глотке Рваной Груди, пузырилось на ее губах клочьями желтой пены, и она сплевывала эту пену в Сероглазую вместе с визгливыми выкриками:
— Я говорила тебе! Столько раз говорила, сколько листьев на дереве, сколько травы в лесу! Я говорила: «Не подпускай к себе этого пожирателя жаб!» А ты?! Может, ты глухая?! Или ты больше не понимаешь слова?!
Сероглазая нехотя шевельнула губами:
— Твои слова — да.
— Я научу тебя понимать их снова. — Рваная Грудь будто бы вдруг успокоилась, будто даже ласковость появилась в ее голосе, и это было страшнее, чем яростный вопль. — Научу! Я буду драть твою поганую шкуру, клочок за клочком, до живого мяса, пока не склонишься перед волей Праматери, ты, вонючая падаль! Волчья жратва! Плоскогрудая! Мертвый живот!
Губы Сероглазой скривились еще сильнее, едким презрением сочились ее слова:
— Склонись перед волей Праматери сама. Ты, бывшая в Святилище в Ночь Выбора; ты, своими руками бросавшая гадальные палочки на каменные колени Изначальницы Рода; ты, видевшая все. Большелобый обещан мне!
— Ты получишь его не раньше, чем придет назначенное Праматерью время! — ощерилась Рваная Грудь.
— Долго ждать. Не хочу. — Сероглазая упрямо дернула плечом. — Осень, зима — долго. Хочу теперь, сразу.
А к Большелобому постепенно возвращались силы. Он уже стоял на коленях, тяжело упираясь ладонями в мягкую лесную землю, обильно проросшую побуревшими к осени травами. Шум в голове стих и не глушил более ни гул путающегося в древесных вершинах ветра, ни злые голоса ссорящихся женщин. Что такое говорила Сероглазая? Теперь? Да, если бы не сумела выследить их эта недоеденная рысью старая жаба, все случилось бы уже теперь. Рука Большелобого скользнула за пазуху, нащупала там амулет Вислогрудой Матери с Пробудившимся Животом. Когда-то теперь удастся надеть его на шею Сероглазой? Неужели только весной? Так долго, долго, долго придется ждать…
Нельзя скулить. Надо слушать: снова говорит Сероглазая.
— Не утруждай свой дряхлый язык, — говорит она Рваной Груди. — Я больше не хочу слушать тебя. Теперь я буду слушать только то, что говорит Большелобый. Он сильный и смелый, он кормит и защищает. Он хороший — лучше тебя и всех таких, как ты, умеющих только жрать и злиться, разучившихся даже рожать. Если бы не он, не другие охотники — вы бы все передохли с голоду!
Сероглазая сказала правильное, хорошо сказала. Аж трясется Рваная Грудь, ее мерзостное лицо посинело от ярости. Сумеет ли она придумать слова, которыми можно ответить? Сумела. Отвечает:
— Ты осмелилась? Осмелилась восхвалять одного из тех, чью никчемность Праматерь отметила вечным позором, болтающимся между ног? Или мои дряхлые уши слышат то, чего нет? Или ты забыла о судьбе Тихой? Прости, Прародительница, что опоганила рот именем мерзейшей… Так ты забыла?!
Она угрожает судьбой Тихой, эта старая гиена… Страшная, страшная угроза. Великое Небо, защити, не дай свершиться такому с Сероглазой!
Это было давно, две зимы назад. Тихая захотела себе Волкогона, который принадлежал другой, а это — зло. И она захотела его не так, как учат колдуньи: сделай нужное, и пусть убирается из твоей хижины, пока не понадобится опять. Она захотела его навсегда, а такого Праматерь не прощает. Тихая и Волкогон убежали от гнева колдуний в лес, но не спаслись. Вислогрудые заставили охотников пустить по следу собак, и погоня была недолгой.
Волкогону повезло — его убили на месте. Правда, охотники, из тех, которые ходили догонять отступников, с ужасом рассказывали потом, что колдуньи сожрали его труп. Сожрали сырым, еще теплым на глазах Тихой и охотников — в назидание. Может быть, так и было. Но судьба Тихой была еще тяжелее. Вислогрудые затащили ее в Святилище, и ночью что-то делали с ней — крики были слышны даже в самых дальних хижинах. А утром колдуньи праздновали победу над непокорными. Они приволокли еще одно изваяние Праматери и поставили среди хижин — тоже в назидание. А когда их спрашивали, умерла ли Тихая, они только щерились радостно и хищно.
Это было давно. Тогда охотники еще боялись Праматери и Вислогрудых. Но те, кто приходит на Весеннее Торжище от заката и от восхода, и те, кто приходит от Большой Горькой Воды, говорили, что у них все иначе и с хохотом тыкали пальцами в охотников, боящихся женщин.
И теперь охотники не хотят поклоняться Изначальнице Рода. Они хотят поклонятся Сварге — Великому Небу.
Вот только вчера Хохлатая не хотела пустить Дуборука к вечерней еде, потому что он ленивый и плохо охотится. А Дуборук сказал, что если Хохлатая не уберется с дороги и не замолчит, то он отрежет и съест ее длинный язык, а она, Хохлатая, пусть смотрит на это. И Хохлатая позвала всех Умеющих Рожать, чтобы они наказали дерзкого, а Дуборук крикнул своих собак и взял в руки топор. Он был очень тяжелый и острый, этот топор, клыки собак хищно блестели в свете костров, и Умеющие Рожать не сумели отважиться и напасть.
Так что зря старая жаба Рваная Грудь грозит Сероглазой. Топор есть не только у Дуборука.
Большелобый почувствовал, что уже может встать и встал. Ладонь будто сама легла на топорище, обхватило гладкое дерево, рванула его из-за пояса, и солнечные блики зарезвились на желтом блестящем лезвии.
Столько беличьих шкурок, сколько пальцев на обеих руках отдал Большелобый на Весеннем Торжище за этот увесистый камень, найденный где-то там, откуда восходит солнце. И еще пришлось отдать Кривоногу медвежьи когти и самую сильную из своих собак — за меньшее тот не соглашался работать. Зато топор получился — всю бы жизнь из рук не выпускал. Да, он легче тех, что Кривоног делает из серых камней для других охотников, и лезвие его мнется, когда ударяет по твердому, зато оно сможет одним ударом отделить голову Рваной Груди от ее вонючего тела.
Низко пригнувшись, без спешки и суеты двинулся Большелобый к Рваной Груди. Шаги его были беззвучны, будто он и не ступал, а скользил над травой — шаг охотника, подкрадывающегося к хищному. Но наверное, смерть Рваной Груди как-то по-особому пахла; наверное, Рваная Грудь когда-то раньше уже ощущала этот запах приближающейся гибели и знала, что он означает. А если нет, то почему ей вдруг взбрело в голову обернуться?
Большелобый замер. Плохо. Ударить Вислогрудую в спину легко, но вот так, когда ее бешеными глазами глядит в лицо сама Праматерь… Поднять оружие на Умеющую Рожать… Кто из охотников решится на это? Кто, кроме Дуборука?
Кто? Любой! Потому что они совсем не страшные, эти глаза. Потому что в них нет ни злобы, ни ярости — в них только страх. Боится? Она, Вислогрудая, колдунья, испугалась охотника?
Большелобый выпрямился. Чувствуя себя огромным и могучим, шагнул вперед — не таясь, уверенно, и топор его, взблеснув на солнце, взвился над головой съежившейся от ужаса старухи. Что-то кричала Сероглазая Большелобый не слушал ее. Он упивался своей силой, своим бесстрашием, властью над нагонявшей ужас колдуньей, чью долгую жизнь сейчас закончит его удар…
Ударить он не успел, как не успел рассмотреть что это такое рухнуло на плечи Рваной Груди, сшибло ее на землю. Понимание произошедшего пришло мигом позже, когда широкая когтистая лапа махнула по лицу так и не успевшей вскрикнуть старухи, сдирая с него кожу и мясо, когда над бьющимся в последних судорогах телом вскинулась остроухая звериная голова, ощерила окровавленные клыки. И понявшей все Большелобый обрушил топор на череп рыси, укравшей у него жизнь Рваной Груди. Светлое лезвие сплющилось о твердую кость, но и кость треснула, не выдержав мощи удара. Зверь дернулся и затих на неподвижном теле старой колдуньи.
Некоторое время Большелобый стоял неподвижно, силясь осознать произошедшее. Рыси осторожны. Почему эта решилась напасть на троих? Почему, решившись, бросилась сперва не на самого опасного? Э, пустые мысли. Когда-то давно рысь надкусила ее, сегодня пришла доедать. Кто теперь помешает прижать к груди желанную? Никто!
Он засмеялся, но, глянув на Сероглазую, растерянно оборвал смех. Побледнела, губы дрожат, в глазах — слезы… Почему, если все вышло так хорошо? Жалеет мать? Наверное, так. Но причина ее слез не только в этом… А в чем же еще?
Сероглазая сказала чуть слышно:
— Плохо. Праматерь не простит. И колдуньи не простят.
— Почему? — растерянно захлопал глазами Большелобый. — Ведь не мы рысь убила.
— Скажут: из-за нас убила. — Сероглазая отвернулась. — Правильно скажут.
Большелобый понял. Топор выскользнул из его руки, в глазах потемнело от ужаса…
Анатолий встрепенулся, замотал головой, отгоняя туманящую глаза сонную одурь. С некоторым изумлением он обнаружил, что лежит, как-то нелепо скорчившись на груде собственной одежды. Вот это да! Вроде бы только что амулет примерял… Солнцем, что ли, голову напекло? Или сон сморил? А что, вполне возможное дело. Предыдущую ночь Анатолий ведь и не спал почти — к этой готовился.
Приснившееся особого впечатления на него не произвело: такое случалось и раньше. Поэтому объяснение своим видениям Анатолий подыскал уже давно — чрезмерное пристрастие к историческим романам и богатое воображение. Тем более, что подобные сны всегда имели какую-то реальную подоплеку. Например, самый яркий и колоритный из них — разгульное пиршество тамерлановых орд в захваченном Хорезме — приснился после зверской попойки в общежитии по случаю сдачи первой сессии. И с тематикой сегодняшнего сна тоже все ясно: амулет.
Что всегда угнетало Анатолия в его ночных видениях, так это их унылая, нагоняющая скуку историчность. Вот как сейчас. Совершенно однозначно распознается конец неолита, как он описывается в серьезных научных трудах и популярных книжонках. Одежда уже есть, но медный топор еще редкость, собак уже приручают… И матриархат уже весьма натурально разлагается… Классика. Революционная ситуация: верхи не могут, и поэтому озверели, а низы не хотят, и тоже озверели. Сплошной марксизм, аж тоска берет. Не хватает только, чтобы этот… Большелобый, кажется?.. нацарапал кремушком где-то на скале: «Призрак бродит по пещерам, призрак патриархата»… Или рабовладения… И даже вычитанной недавно новомодной теории о том, что никакого матриархата вообще не было, сон тоже не противоречит: над одноплеменниками Большелобого потешались все окрестные племена.
Так что к воображению своему Анатолий относился критически.
Однако, сколько же он дрых? Похоже, не долго — и жара все та же, и не заметно, чтобы солнце опустилось ниже… Тогда почему в раскопе вроде тише стало? Ага, понятно: снова что-то нашли.
На это раз все столпились в дальнем закутке котлована, где с утра истово вкалывали братцы-отличники Нечипоруки — хиленькие очкарики-зануды, похожие друг на друга, как два головастика.
Анатолий быстренько затолкал амулет под одежду и поспешил затереться в толпище. День сегодня какой-то бездельный получился, значит хоть так начальству глаза намозолить надо. Впрочем, начальству было не до него. Начальство пребывало в радостном возбуждении и потирало руки.
Раскрасневшиеся и основательно взмокшие под бременем вклада, только что внесенного в сокровищницу мировой археологии, Нечипоруки суетливо обмахивали щетками нечто, весьма объемно выпирающее из стенки раскопа. Анатолий вгляделся, растерянно поскреб затылок. И чего все так переполошились, спрашивается?
Нечипоруки откопали скифскую бабу. Ну и что? Подумаешь, невидаль… Вон около озера еще одна валяется, и почему-то никто по этому поводу в восторг не приходит.
Он еще раз вгляделся, пожал плечами. Ничего особенного в этом грубом изваянии вроде не было (это, конечно, если судить по голове и плечам прочее было ниже уровня раскопа, под землей). Но Виталий Максимович сияет как новая копейка, и голос его не в меру благостен:
— …подобные предложения высказывались и ранее, о чем свидетельствует хотя бы весьма распространенное название этих фигур: «скифская баба». Однако, насколько мне известно, до настоящего времени не было найдено убедительных доказательств, однозначно свидетельствующих об их скифском происхождении. Напротив, широко утвердилось мнение, что авторы этих изваяний — сарматы. В этой связи значение сегодняшней находки представляется мне исключительным…
Тут Анатолий зачем-то ляпнул:
— Но она же не привязывается к скифскому поселению, она же наверняка к гораздо более ранним слоям относится. Ведь только голова над горизонтом раскопа торчит, а основание, наверное, метра на полтора ниже…
Виталий Максимович досадливо дернул плечом:
— Хороший пример шаблонного, ненаучного похода. Учитесь думать, молодой человек, думать и анализировать! Глубина залегания в данном случае не имеет никакого значения. Статуя могла осесть под собственным весом как вы могли заметить, грунт в этом месте отличается повышенной рыхлостью… (Грунт был точно такой же, как и везде.) В конце концов, ее могли просто закопать по плечи, возможно таковы были требования культа… И, кстати, полтора метра в глубину — это неолитический слой. — Он отвернулся от Анатолия. — Вероятно, нами найдено скифское святилище еще не известного нам типа. В пользу этого говорит обнаруженный вблизи изваяния предмет, — он высоко поднял нечто, напоминающее неглубокую каменную мисочку с каким-то пеньком на дне. — По всей видимости, это — масляный светильник. О его культовом назначении свидетельствует тот факт, что на других участках раскопа подобные светильники нами обнаружены не были…
На этот раз Анатолий благоразумно промолчал о том, что вчера нашел две такие штуки весьма далеко отсюда. Находку свою он скрыл, полагая что светильники могут пригодиться этой ночью для создания романтического антуража (свечи, конечно, были бы лучше, но свечей нет. Зато утром удалось спереть у поваров поллитра постного масла). А подсунуть эти мисочки начальству под видом свежевыкопанных будет не поздно и завтра, только вымыть надо будет, и высушить — всего и делов. Так что светильники эти, увы, не культовые. А впрочем… Может быть, они тоже древнее этого поселения? Может быть, скифы в свое время раскопали их (мало ли зачем людям яма могла понадобиться) и использовали в бытовых целях? Все может быть.
Виталий Максимович между тем бросил начальственный взгляд на заходящее солнце и снова обернулся к студентам:
— Уже поздно. Предлагаю работу на сегодня закончить. Э-э… Нечипорук и э-э… Нечипорук. Я вами доволен.
«Закончить работу» — вот первые разумные слова, произнесенные сегодня начальством. По крайней мере, никакое из прочих высказываний Виталия Максимовича не было встречено таким взрывом энтузиазма. С воплями и улюлюканьем народ помчался к озеру. Впрочем, «помчался» — это не то слово. Здесь гораздо уместнее был бы неологизм «ломанулся».
Анечку удалось догнать уже у самого берега. Была она мрачная, насупленная, и Анатолий встревожился не на шутку, но вспомнив о выволочке по поводу амулета, успокоился: ерунда. Однако Анечка была другого мнения на этот счет.
— Объявился наконец! — А в брошенном исподлобья взгляде упрека было еще больше, чем в голосе. — Небось, когда этот лысый павиан пасть на меня распахнул, тебя и близко не было!
Анатолий прекрасно понимал, что ведет себя глупо, что теперь надо что-то говорить, оправдываться, но ничего не мог с собой поделать. Он просто стоял и смотрел на Анечку. Милое сердитое личико, а на нем огромные серые глаза, а над ними — мягкие волнистые волосы. Черные-черные. Господи, как это красиво, когда глаза серые, а волосы черные… какая вся она красивая… Шея (высокая, гибкая) и плечи, и грудь, и бедра — вся ее фигурка, хрупкая и упруго сильная одновременно, трогательная, очень девичья… Анечка… Это — Анечка… Она есть, ходит по земле, живет. А значит, а значит есть для чего жить и ему, Анатолию.
Наверное, у него был очень уж дурацкий вид, что-нибудь вроде одуревшего от восторга щенка, потому что Анечка все-таки не выдержала и улыбнулась. А потом они сидели рядом на песке, и ноги их облизывали частые озерные волны, и Анатолий рассказывал, чем он занимался прошлой ночью, и чего ждет от нынешней, и Анечка слушала его, мучительно и горячо краснела, но так и не сказала «нет».
А потом она вскочила, с плеском кинулась в воду, а Анатолий расслабленно повалился на спину и устало закрыл глаза. На душе было необыкновенно хорошо, лежать на мягком теплом песке тоже было хорошо, вот только плечо уперлось во что-то твердое, шершавое, неуютное. Не открывая глаз, не поворачивая головы он знал, что это — вгрузшая в озерный берег скифская баба (просто поблизости ничего больше не было шершавого и твердого). Можно было встать, отодвинуться, но ни вставать, ни двигаться не хотелось — хотелось спать.
Большелобому ужасно хотелось спать, промозглая росная трава жестоко холодила тело, и хорошо было бы встать, прогнать сонливость и холод резкими быстрыми движениями, но двигаться нельзя. Нужно лежать и ждать.
А ночь уже на переломе — холодная, сырая, светлая… Это плохо, что она светлая. Пусть бы лучше небо заволокли тучи, пусть бы землю укрыла тяжкая шкура мрака. Тогда Большелобый сумел бы невидимым и неслышным змеем проскользнуть мимо костра, мимо сидящих у порога Вислогрудых — туда, в хижину, где Сероглазая.
Но небо ясно и звездно, оно не слышит мольбы Большелобого. Нужно лежать, мокнуть в холодной траве, маяться предчувствием страшного и ждать, ждать, ждать. Может, хоть что-нибудь случится, хоть что-нибудь даст надежду на лучшее…
Большелобый ждет. Ждет давно — с тех пор, когда понял, что посланные за ним в погоню охотники не хотят догонять и ловить, что можно вернуться к хижинам и попытаться спасти Сероглазую. Он уже лежал здесь, в траве, когда тонул в небесной крови закат, когда Умеющие Рожать раздавали охотникам вечернюю пищу. Некоторые охотники проходили совсем рядом и не видели его. А потом об него споткнулся Дуборук, и Большелобый испугался, что сейчас он захочет узнать, обо что споткнулся, посмотрит вниз и увидит. Но Дуборук не стал смотреть вниз. Он стал смотреть на верхушки деревьев и свистеть. И ушел. Дуборук хороший…
Что это, что?! Вислогрудая, которая ближе к костру, свесила косматую голову на костлявую грудь. Не шевелится. Дышит ровно, глубоко. Спит? А вторая клонится, клонится к земле… Упала. Не двигается. Уснули обе? Он дождался?!
…Во мраке хижины не видно лица Сероглазой, но шепот ее (тихий-тихий, не громче вздоха) выдает: она плачет. Плачет и шепчет сквозь слезы:
— Ты? Тебя не догнали?
— Я спрятался. А теперь пришел…
— Они говорили, что тебя надо убить… И еще они говорили: Праматерь наказала Рваную Грудь смертью от рысьих зубов. За то, что не сумела научить меня чтить обычаи предков. И еще говорили: надо отвести Сероглазую в лес, сломать ей руки и ноги, вырвать язык и оставить на съедение хищным. А завтра они не станут говорить. Завтра они станут делать…
— Не смогут делать. Мы убежим. Костер у входа погас, Вислогрудые спят. Пойдем, лес велик.
Вздох Сероглазой похож на жалобный стон:
— Не убежим. Догонят. Поймают.
— Не поймают. Пойдем. Я знаю место, где не станут искать.
Большелобый осторожно отодвигает тяжелый полог, выглядывает (не проснулись ли Вислогрудые?), и ночной холод обжигает его взмокшее от духоты хижины и страха лицо…
Прикосновение чего-то холодного, мокрого словно обожгло лицо. Анатолий вскинулся, спросонок завопил дурным голосом: «Что, что?!»
А ничего. Это Анечка. Вылезла из воды, подкралась, провела по лбу ладошкой-ледышкой. А теперь, глядя на его обалделое, мятое со сна лицо хохочет-радуется, в восторге мотает головой, роняя с волос тяжелые капли: «напугала, напугала, напугала!»
Анатолий бодро вскочил — слишком бодро, как выяснилось. Стараясь обрести равновесие, он непроизвольно шагнул назад и вдруг брякнулся на спину, запнувшись о некстати случившуюся под ногами каменную тушу скифской бабы.
Поднявшись (а это удалось только с третьей попытки), он воззрился на древнее изваяние. До сих пор он на эту фигуру особого внимания не обращал. (Ну, лежит. И пусть себе лежит. Что он, бабы скифской не видел, что-ли? Вон хотя бы возле университетского музея штук десять торчит, и все одинаковые. Невидаль…) А теперь его поразила нелепая трагикомичность ее позы.
То есть в позе этой ничего особенного не было. Грубое изображение женщины. Стоит на коленях, руки сложены на выпуклом, будто вздувшемся животе, голова в высокой шапке (или прическе?) опущена на вислую грудь… Точь-в-точь как у тех, которых случалось видеть раньше. Вот только как-то так получилось, что все те, которых он видел до сих пор, стояли. А эта… какая она, оказывается, жалкая, эта поза благородной сумрачной задумчивости, если ее опрокинуть на спину! Смешно. И жалко…
Ну, да бог с ней. Лежала, и еще пусть полежит: не до нее сейчас.
А народ уже потянулся наверх, мимо раскопа, к виднеющимся невдалеке разноцветным крышам палаток. И кто-то орет (аж гулкое эхо докатывается до противоположного берега): «Толька! Аня! Вы что, примерзли там?! Догоняйте! Без ужина оставим!» И другой голос, также до конфиденциального шепота не приглушенный, выговаривает орущему: «Ты что, маленький? Не понимаешь? Отстань от людей!»
Некоторое время они сидели на берегу и молчали. Солнце, будто собравшись, наконец, с духом, кануло в озеро, и настала ночь. Но темнее не стало. Небо было ясно и звездно, откуда-то из-за неблизких холмов всплывала огромная золотая монета луны, и было очень хорошо сидеть вот так, на теплом песке, вслушиваться в доносящуюся из лагеря веселую перебранку под звон посуды, и, не разговаривая, даже не глядя друг на друга, чуть ли не впервые в жизни познавать, что это такое — быть вместе.
Потом Анатолий тихо спросил:
— Ты есть не хочешь?
Анечка молча помотала головой.
— А чего ты хочешь?
— Выкупаться. — Она смотрела на озеро, обернувшееся, как и небо, спокойной россыпью звезд. — Я никогда еще ночью не купалась, а так хотелось всегда… Чтоб звезды вверху и вокруг… И чтоб ничто не мешало… — Анечка встала, шагнула к воде, пальцы ее легли на бретельки купальника. — Только ты пока уйди куда-нибудь, не смотри.
— Почему?
— Потому, что еще рано. — Она обернулась, глянула на Анатолия. Глаза ее были темными и глубокими, в них вздрагивали звездные блики. Как в небе. Как в озере. — Не спеши, глупый, все еще будет.
— Сегодня?
— И сегодня тоже…
Анатолий ушел. Он взобрался на откос, лихорадочно засуетился там, подготавливая все, что успел заранее запасти для главного мига. И все это время он слышал, как плещет-журчит взволнованная Анечкой сонная озерная вода. Какая тихая ночь…
А потом он снова спустился вниз, и выходящая на берег Анечка замерла, заметив его, и он тоже замер в наивном восторге, и смотрел, смотрел на нее, на крупные торопливые капли, скользящие по ее золотящейся в лунном сиянии коже: с шеи — на хрупкие плечи, с плеч — на упруго вздрагивающую грудь, на живот, ниже, ниже… И в каждой капле отражалась вскинувшаяся там, наверху, звездная бездна…
Он не заметил, как это случилось. Просто вдруг он осознал, что Анечка тут, рядом, что ее прохладное гибкое тело прижато к нему; услышал тихий счастливый шепот:
— Ну, что ты… Ну пусти же, глупый, не торопись так… Дай одеться…
Анатолий спросил:
— Тебе холодно?
— Нет… — Анечка мотнула головой, мокрая прядь тяжело задела его лицо. — Ночь теплая такая…
— Тогда зачем одеваться?
— Увидят…
— Кто? — Он засмеялся. — Слышишь, тихо как? Все уже дрыхнут сном праведников. А если кто и не спит… Такие сами не захотят, чтобы их видели. А мы с тобой будем играть в первобытных людей. Хочешь?
— Будем ходить в шкурах и выть на луну?
— Будем ходить без шкур. Мы еще очень-очень первобытные, шкуру носить придумают через тысячу лет. А выть на луну… Прикажешь — буду выть. А хочешь, пойду с тобой в лагерь и принесу тебе скальп лысого павиана. Хочешь?
— Не хочу лысый скальп.
— Тогда пошли.
— Куда?.. Зачем?..
— Куда — увидишь. А зачем… Неужели не понимаешь? Или… Может быть, ты не хочешь?
Молчание. Долгое-долгое. Потом — тихо, не громче вздоха:
— Хочу…
Анатолий брел будто пьяный, спотыкаясь, два раза чуть не упал. Потому, что он не смотрел под ноги. Он смотрел только на Анечку, как она идет, осторожно разводя руками жесткие стебли полыни, вздрагивает, когда они задевают бедра, живот, не привыкшую к прикосновениям обнаженную грудь… она смущалась все больше (и от этого все больше хорошела), она все время оглядывалась на песчаный пляжик, где остался ее купальник. А когда они поднялись наверх и увидели под собой черный прямоугольник раскопа, а за ним — темные пятна палаток и догорающую искру лагерного костра, Анечка остановилась и проговорила просительно:
— Можно я все-таки оденусь?
— Нет. Мы — первобытные. — Анатолий вдруг вспомнил про давно уже стиснутый в кулаке амулет, подошел, медленно опустил ей на плечи замшевый шнурок. — Мы — первобытные. Где-то за лесами, далеко-далеко, живет наше племя. А эти… — он махнул рукой в сторону лагеря. — Их нет. Они придут через тысячи лет. Мы здесь одни, Аня.
Анечка глянула на амулет, улыбнулась. Потом сказала:
— Если мы первобытные, то никакая я тебе не Аня. Я — дикая охотница, и зовут меня… Сероглазая, вот. А ты… — она внимательно осмотрела его. — Ты будешь зваться Лобастый. Или нет — Большелобый. Понял? Анатолий мельком удивился, как чудно совпали эти имена с образами его снов, и порадовался, что даже фантазируют они с Анечкой одинаково. Значит, правильно они нашли друг друга, значит, все у них сложится прочно и навсегда. А еще он подумал, что дал маху с длиной шнурка для амулета: отмерил по себе, не учел, что Анечка меньше, и каменная фигурка повисла не на груди у нее, а на животе. Ладно, пусть. Поправить будет не поздно и завтра.
Он стиснул в руке Анечкину ладошку, шагнул вниз, в раскоп, и дикая охотница Сероглазая покорно пошла было за ним, но вдруг тихонько взвизгнула, заупиралась.
Анатолий испуганно обернулся:
— Что? Что с тобой?
— Там есть кто-то! — Анечка съежилась, безуспешно и жалко попыталась прикрыться свободной рукой, всхлипнула. — Я говорила, говорила тебе!..
— Эх ты, трусишка — заячий хвостик! Никого там нет. Пойдем, тебе там понравится.
Да, Анечке понравилось там, в дальнем углу раскопа, где перед найденной усердными Нечипоруками скифской бабой мерцали теперь огоньки двух светильников. Слабые огоньки, трепетные, но неверные отсветы их оживили серый каменный лик, будто тени смутных древних раздумий заскользили по нему, пробудившемуся. А еще там, возле живых вздрагивающих огоньков, лежала расстеленная на песке кудлатая шкура, и стояли на ней глиняный кувшин, пиала с виноградом, и в каждой виноградине вздрагивали отражения двух огоньков, и видеть все это Анечке было чуть тревожно, непривычно и очень, очень хорошо.
Но еще лучше было то, что Анатолий так правильно сумел понять, как нужно сделать, чтобы ей понравилось, чтобы эта, такая важная в ее жизни ночь, не вспоминалась потом чем-то тусклым и обыденно скучным.
Анечка тихонько опустилась на колени, погладила мягкий, приятно щекочущий мех… Или не мех?
— Что это, где ты это достал?
Анатолий довольно ухмылялся:
— Помнишь, два дня назад недалеко отсюда чабаны ночевали? Так лысый павиан у них овцу сторговал. А я (за две бутылки «Пшеничной») от этой овцы — шкуру и прочие детали натюрморта.
— А водку где взял?
— Где взял — там больше нету. Зато в кувшине есть. Хочешь? Анечка с легкой досадой помотала головой. Ей не нравилось то, что они говорили. Это были обычные фразы, слова для каждодневного пользования, лишние, неуместные теперь. Естественнее всего было молчание, но если замолчать, начнется то, ради чего они здесь, — неиспытанное, и поэтому пугающее. Нет, пусть еще не сейчас, пусть чуть позже…
Она перевела взгляд на хмурое каменное лицо, спросила:
— Слушай, а чего ты вечером с павианом сцепился? Ты что, действительно считаешь, что скифские бабы — это еще первобытное что-то? Чем же их могли делать, если металла еще не было? Они же каменные…
Анатолий нетерпеливо дернул плечом (теперь разговор показался неуместным ему):
— Я же не говорил, что все, я же только про эту. А как делали… Мы о многих древних вещах не можем понять, как их делали. — Он присел рядом с Анечкой. — Может быть, все остальные были сделаны гораздо позже, по образцу этой. Они же все почти одинаковые. Ведь мы знаем только, что это какой-то культ, а больше мы ничего не знаем…
Он говорил, говорил, а рука его будто невзначай коснулась Анечкиного колена, скользнула по бедру, выше…
Аня вздрогнула и вдруг заговорила очень быстро, каким-то незнакомым, жалобным голосом:
— Может, не надо еще? Давай не будем до свадьбы, а? Вдруг Виталий Максимович узнает? А ты еще водку эту принес… Скажет — аморалка. Пьяный разврат. Помнишь, он предупреждал, чтобы не было? Ты ведь знаешь, какой он. Выгонит же!
— Плевать на павиана! — Анатолий ловил губами ее губы.
Она вдруг неожиданно сильно оттолкнула его:
— И здесь не надо! Это же святилище было! Не хорошо здесь, грешно!
— Ну что ты, глупая моя, хорошая? Не бойся, трусишка. Павиан спит давно, он нас не найдет. А этот камень — это просто камень, и все. Давно-давно глупые голодные люди сделали из него бога, чтоб у кого было еду выклянчивать. А он не бог — он мертвый булыжник. Не бойся. Ничего не бойся, ведь я же рядом…
Ну, не упрямься, любимая моя, сероглазая! Я же знаю, что тебе самой этого хочется…
И Анечка покорилась ненавязчивому, но властному нажиму его рук. Закусив губу, изо всех сил вцепившись в каменеющие плечи (ЕГО плечи), она чувствовала, как пружинисто сминается под ее спиной теплый колючий мех, как горячие ласковые ладони слепо и нетерпеливо шарят по груди, по плечам…
Со слабым стуком упал на песок кувшин…
…Потом они долго лежали, прижавшись друг к другу, и звезды глядели им прямо в глаза, и не хотелось ни двигаться, ни думать, ни говорить.
А потом Анечка встала на колени, склонилась над Анатолием, поцеловала его — длинно, крепко и смело, как не целовала до сих пор никогда. Поцеловала и отстранилась, тревожно и странно глянула в каменное лицо скифской бабы, нащупала все еще болтающийся на шее амулет. И Анатолий заметил, как качнулись во тьме ее глаз два крохотных огонька…
Лес встретил их сумраком, полным вкрадчивой беззвучной угрозы, промозглой влагой мха, осторожным похрустыванием под ногами (и не только под их ногами), и так было долго; а потом впереди, в копящейся между стволами туманной мгле закачались два крохотных огонька, и Сероглазая, до сих пор покорно позволявшая вести себя за руку, вдруг тихонько взвизгнула и заупиралась.
Большелобый испуганно обернулся, но готовый уже сорваться вопрос замер у него на губах. Все было ясно и так: страшного не случилось. Просто Сероглазая поняла, куда они идут. Поняла, и боится.
Тихо-тихо, так, чтоб расслышала Сероглазая, но не услыхали шуршащие, снующие, крадущиеся вокруг невидимые и неизвестные (а значит — опасные), Большелобый проговорил:
— Пойдем. Там хорошо — не станут искать.
— Нет! — замотала головой Сероглазая. — Там плохо, смерть. Ты не знаешь.
Некоторое время Большелобый думал. Охотник и воин знает, что такое смерть, знает, какая она бывает, и где может прятаться. Знает гораздо лучше, чем самая умная из Вислогрудых. Может ли смерть притаиться там, где глупые старухи делают глупое? Нет. Колдуньи опасны, могут убить, но колдуньи спят, их нету там, впереди. А без них… Может ли убивать место? Не болото, не река, не камнепад — просто место? Нет. Никто из охотников не рассказывал про такое, значит, так не бывает. Сероглазая боится того, чего нет.
Он дернул Сероглазую за руку:
— Пойдем. Там пусто, нет никого. Не страшно. Пойдем!
Она подчинилась, пошла, не стала упрямиться и спорить. Вот только что-то новое поселилось в ее глазах — что-то, чего Большелобый не понял, но что ему очень не понравилось.
В Святилище действительно было пусто. Пусто и тихо. Только еле слышно лопотали о чем-то под слабыми прикосновениями сонного ветерка листья кустов, нависающих над откосами потаенного овражка — жилища Праматери; только негромко потрескивали там, на дне, фитили двух светильников перед каменным изваянием Изначальницы Рода. Неверные отсветы скользили по серому каменному лику тенями смутных древних раздумий, шарили по расстеленному на земле меху — ложу Праматери, на котором стоял затейливо изукрашенный горшочек и грудой были насыпаны ягоды — ее ночная еда. А больше в святилище не было ничего. И никого.
Они спустились в лощину, и Большелобый усадил Сероглазую на ложе Изначальницы Рода, а сам пристроился рядом и первым делом занялся своим топором. Все нужное было у него с собой, да и нужно-то было немногое, чтобы выправить и наточить смявшееся о рысий череп мягкое лезвие.
Закончив с этим, он еще раз внимательно осмотрелся, заглянул в горшочек: а что там? Там было темное и густое, хорошее. Один только раз в своей жизни Большелобому удалось попробовать это — украдкой, дрожа от страха, и отхлебнул-то он совсем немного, но Вислогрудые все равно догадались по запаху изо рта и побили, и три дня не подпускали к еде. И к утренней не подпускали, и к вечерней. С тех пор он боялся к этому подходить. А так хотелось еще!
— Что там? — Сероглазая выговорила это вяло, ей не было интересно, просто надоело молчать.
— Дурманящий сок. — Большелобый потрогал горшочек, облизнулся. Хочешь?
Она отвернулась:
— Нет.
— Тогда и я не хочу, — обиженно буркнул Большелобый.
Дурманящий сок — это приятно и вкусно, но сердить Сероглазую лучше не надо. Ничего, ночь длинная. Может быть, она еще передумает.
Он искоса глянул на Сероглазую и обмер вдруг в наивном восторге, и смотрел, смотрел на нее, на живые теплые блики, скользящие по ее коже — по лицу, по сильным крепким плечам, по едва прикрытой истрепанным мехом груди и по меху, скрывающему то, что ниже…
Он не заметил, как это получилось. Руки будто сами собой нащупали за пазухой амулет Вислогрудой с Пробудившимся Животом (сколько уговаривал Кривонога сделать его, сколько всего пришлось за него отдать!), и будто сам собой оделся на шею Сероглазой кожаный шнурок — она не шевельнулась, не вздрогнула даже, только глаза ее стали огромными, черными. А потом Большелобый как-то вдруг осознал, что Сероглазая тут, рядом, что ее сильное гибкое тело прижато к нему; услышал тихий шепот — какой-то незнакомый, жалобный, просящий (никогда еще Умеющие Рожать не разговаривали с ним так):
— Не надо!.. Потом, не здесь!.. Праматерь все видит — не простит, накажет, страшно накажет! Вислогрудые будут очень долго убивать… — Она вывернулась из его рук, отодвинулась подальше. — Сними с меня амулет. Не будем до срока, здесь. Страшно!
Большелобый нетерпеливо дернул плечом:
— Боишься? Зачем боишься, кого? Эту? — он ткнул пальцем в хмурое лицо Прародительницы. — Эту не бойся, она — камень. Мертвый, глупый, ничего не может, не страшный. Смотри!
Сероглазая в ужасе взвизгнула, съежилась, прикрывая руками голову, потому что он плюнул на изваяние. И еще раз. И снова. И ничего не случилось.
Большелобый обернул к ней торжествующее лицо:
— Что, наказала? Убила? Нет. Не может наказать — она камень, не бог. Нет богов, кроме Великого Неба, а оно — с нами. Оно защитит. Кого еще боишься? Вислогрудых? Они сами меня боятся. Они — слабые, глупые, умеют только жрать, бормотать непонятное и пугать нестрашным. А я — сильный, у меня острый топор. Убью их, — он говорил, говорил, а рука его нашла в темноте ее колено, скользнула по бедру, выше, туда, где прикрыто оленьей шкурой… — Не бойся. С тобой — я, а со мной — Великое Небо. Не бойся…
Он вдруг рванул застежку на груди Сероглазой, и облезлая шкура соскользнула с ее тела, открыв глазам давно и нетерпеливо желаемое. Ладони его легли на горячее, упругое, ощутили неподатливость твердеющих сосков, нажали чуть сильнее…
И Сероглазая подчинилась этому нажиму властных, по-хозяйски уверенных рук. Вцепившись в тяжело нависающие над ней плечи, до крови, до боли закусив губу, она чувствовала, как сминается под ее спиной теплый колючий мех, как тело цепенеет в предчувствии другой, сладкой, не испытанной еще боли…
С тихим стуком упал горшочек, покатился по земле, проливая запретный сок…
…Потом они долго лежали, тесно прижавшись друг к другу, и черные ветви черных кустов плавно качались над ними, и не хотелось ни двигаться, ни думать, ни говорить.
А потом Сероглазая встала на колени, склонилась над Большелобым, потерлась лицом о его грудь, и лицо ее было мокрым, а в глазах стыла тоска. Потерлась и отстранилась, обреченно взглянула в каменное лицо Праматери, крепко прижала ладонями болтающийся на животе амулет. И Большелобый заметил, как качнулись во тьме ее глаз крохотные огоньки светильников, как вдруг дернулись, судорожно скривились ее губы. Он уже понял, что случилось страшное, когда сорвавшийся с этих губ истошный вопль заставил его вскочить на трясущиеся, непослушные ноги.
Сероглазая выла, лицо ее было исковеркано болью и страхом, скорченное тело била частая дрожь, а глаза… Страшные глаза, не серые уже, а мутные, тусклые; в них не было ничего, кроме боли, выпившей чувства и глубину.
В цепенеющем от страха мозгу Большелобого промелькнула смутная мысль, что поза Сероглазой странно похожа на позу горбящегося перед ней изваяния Праматери: стоит на коленях, локти прижаты к бокам, пальцы обеих рук вцепились в живот, голова ушла в плечи… Только каменная Праматерь замерла в спокойном мрачноватом раздумье, а Сероглазая костенеет в агонии… Великое Небо, помоги ей, спаси! Не спасает… Почему, почему, за что?!
С яростным рыком Большелобый вонзил зубы в свою волосатую руку. Он услышал треск рвущейся кожи, и соленое, горячее брызнуло на губы, и стало легче. Страх, жажда понимания — все это пусть приходит потом. Старик Волчье Ухо учил: воин быстр и яростен, защищая своих и себя. Потом, победив, можно впускать в себя страх и раздумья. Потом. Не в бою.
Единого взгляда, брошенного на побелевшие в нечеловеческом напряжении тонкие пальцы, хватило, чтобы понять: причина пожирающей Сероглазую боли там, на животе. Большелобый кинулся, обхватил ее запястья, дернул, еще, сильнее — оторвать, увидеть, помочь… Бесполезно. Не поддаются сведенные судорогой руки. Ну что ж, он знает, как побеждают такое. Большелобый отшатнулся на миг, и, надсадно хекнув, изо всех сил ударил кулаком в маленький вздрагивающий подбородок.
Он сделал нужное. Сероглазая смолкла и опрокинулась на бок, будто кости ее вдруг стали песком, а мышцы — водой. И Большелобый снова схватил ее за руки, уперся ногой в грудь, рванул всей своей силой и всей тяжестью тела.
Получилось. Под хруст и треск мышц (не своих ли?) ему удалось оторвать ее руки от живота и одну от другой. И почему-то натянулся и лопнул шнурок амулета, и почему-то живот и левая ладонь Сероглазой облились кровью… А правая… Зашевелились от ужаса космы на голове и руках Большелобого, пальцы его взмокли от пота, утратили цепкость, и правая рука Сероглазой выскользнула из них, безвольно откинулась, с тяжелым глухим стуком ударилась о песок.
Старик Волчье Ухо был мудр и умел воспитывать воинов. Сейчас он бы радовался, если бы был рядом, если бы его лоб не раздавили три зимы назад клыки медведя-стервятника. Большелобый не стал вдумываться в то, что увидел, не стал гадать, как могло случиться такое. Сероглазая лежала неподвижно, бессильно разметавшись по ложу Праматери, и с ее черных искусанных губ капала кровь, и кровь текла из ран на животе и левой ладони, а правую руку ее — торопливо пожирало страшное, и некогда было думать.
Быстро, но без суеты, вслушиваясь в надрывные стоны Сероглазой (стонет, значит жива еще, значит, еще не поздно), Большелобый шагнул по жесткому, влажному от росы меху, нагнулся, подобрал топор, и мельком порадовался, что не поленился поправить лезвие, и теперь все будет хорошо…
Надрывные стоны-рыдания заставили Анатолия вскочить на трясущиеся непослушные ноги. Голова была тяжела, в глазах мутилось, обрывки приснившегося путались, мешались с реальностью, и поэтому бесконечные непростительные секунды потребовались ему, чтобы осознать очевидное: ведь нету особой разницы между тем, что было во сне, и тем, что перед глазами.
Стонала Анечка. Стоя на коленях, вцепившись руками в живот, она стонала все громче, все страшнее, и в мутных тусклых глазах ее не было ничего, кроме боли, выпившей чувства и глубину, кроме стынущих отражений каменного угрюмого лика.
Анатолий метнулся к ней, обхватил за плечи:
— Что с тобой?! Тебе плохо?!
— Амулет… Жжет, врастает… Не могу… — Ее невнятное бормотание сорвалось вдруг истошным звериным воплем.
Анатолий закусил палец — до боли, до теплой солености на губах. Сон… Господи, да как же это, как, почему, за что?! Потом! Сначала Анечка, остальное потом. Он попытался осторожно разжать судорожно стиснутые Анечкины пальцы — не вышло. Ну что ж, придется, как Большелобый. Ты уж прости, родная, прости идиота, кретина — не понял, что неспроста снится плохое, не уберег…
Дикая охотница Сероглазая была гораздо сильнее, крепче. От удара Анатолия Анечка мешком рухнула навзничь, глаза ее закатились, из уголка рта побежала черная струйка. Потеряла сознание? Пусть, так лучше… Мокрыми от пота, трясущимися руками Анатолий схватил ее за запястья, уперся ногой в грудь, потянул…
Ему удалось оторвать Анечкины руки от живота и одну от другой оторвать вместе с клочьями кожи. Обмирая, он вглядывался в заплывающие кровью раны на ее левой ладони, на животе; смотрел на обрывок замшевого шнурка, свисающего из правого ее кулачка… Из того, чем стал ее правый кулак, из страшного, которое беспощадно превращало в себя Анечкину руку выше, все выше…
С диким, полусумасшедшим воплем Анатолий разжал склизкие от пота и крови пальцы (рука Анечки с тупым стуком бессильно ткнулась в песок); отпрянул, взгляд его лихорадочно заметался, зашарил вокруг: топор!
Но топор — тяжелый, острый, привычный — остался там, в погасшем муторном сне. Далеко. За тысячи лет отсюда. А здесь?.. Что же можно придумать здесь?!
В лагере уже не спали. Ночь была на удивление тихой, поэтому первый же из душераздирающих криков (рядом где-то, совсем-совсем рядом, в раскопе, что-ли?) поднял на ноги всех. Они сбились в тесную кучку, стараясь унять дрожь, стараясь потише стучать зубами и быть ближе друг к другу — одиннадцать студентов и степенный преподаватель — маленькая, обезличенная страхом толпа. Нет, они не были трусами, некоторым из парней случалось видеть и жестокие полупьяные драки, и худшее, но то, что слышалось им в этих криках… Они не могли подобрать этому ни названия, ни аналогий, но это было страшнее всего, что когда-либо привелось испытать в жизни любому из них.
А потом кто-то тихонько сказал, что Анечка и Анатолий до сих пор не пришли, и что, наверное, это их убивают. Тогда трое вышли из толпы и двинулись в кричащую темноту, и прочие потянулись следом, стараясь не отставать.
Но они не успели даже отойти от палаток. Новые, стремительно приближающиеся звуки остановили их — топот, клокочущее надсадное дыхание… Идущие впереди шарахнулись от вылетевшего из темноты голого человека, от его безумного взгляда и окровавленных рук.
Он не остановился, он просто не заметил их. Нелепой тенью заметался по лагерю, нырнул в палатку поваров и тут же выскочил, кинулся обратно, расталкивая попадающихся по дороге, и в руке его был топор. Только тогда смысл отчаянных сдавленных выкриков дошел до сознания всех (Аня, чуть-чуть еще! Я иду, я скоро! Потерпи, не умирай, пожалуйста!!!), и кто-то охнул: «Толя!», и они кинулись следом — парни, девушки, даже Виталий Максимович боясь подумать о том, что могло случиться с Аней и боясь опоздать.
Да, ночь была тихой и очень светлой, а поэтому они издали увидели лежащую на дне раскопа Анечку, и увидели, как подбежал к ней далеко опередивший остальных Анатолий.
То, что произошло потом, показалось им жутким бредом. Блеснули лунные блики на лезвии вскинутого топора, и топор рухнул на хрупкое Анечкино предплечье, и рухнул на колени Анатолий, скорчился над Аней в непонятной позе. Душит?!
Но Анатолий обернулся на топот подбегающих, и глаза его почему-то оказались не безумными, а радостными, почти счастливыми; а голос был так тверд и властен, что ослушаться его показалось немыслимым.
Он сказал:
— Веревку! Или ремень, что-нибудь! Да быстрее, черт бы вас всех… Она же кровью истечет!
Кто-то из ребят покорно расстегнул брючный ремень, шагнул было к Анатолию, но, споткнувшись о тяжелое, твердое, взвизгнул, отпрянул, с ужасом глянул под ноги… Но нет, это был не кровоточащий обрубок человеческой плоти — просто обломок серого ноздреватого камня, грубое подобие руки, сжатой в кулак. Из кулака этого почему-то торчали обрывки плетеного замшевого шнурка.
X Имя пользователя * Пароль * Запомнить меня


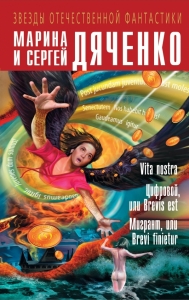
Комментарии к книге «Перекрёсток», Федор Федорович Чешко
Всего 0 комментариев