Р. А. Лафферти Сборник рассказов
Шесть пальцев времени
Утро началось неудачно. Он смахнул бокал с водой с ночного столика. Бокал врезался в противоположную стену комнаты и разбился вдребезги. Но разбивался он медленно. Это удивило бы его, если бы к этому моменту он как следует протер глаза, так как он потянулся за бокалом спросонья.
И разбудила его не привычная трель будильника, а странный негромкий низкочастотный рокот, хотя стрелки часов показывали ровно шесть утра — время для звонка. Когда низкочастотный рокот повторился, то казалось, что он исходит именно из часов.
Он протянул руку и мягко коснулся будильника, однако в ответ на прикосновение тот соскользнул со столика и неспешно запрыгал по полу, словно в замедленной съемке. А когда он поднял будильник, тот уже не тикал, и не заработал после того, как он потряс его.
Он проверил электрические часы на кухне. Они тоже показывали шесть часов, однако секундная стрелка стояла на месте. Радио-часы в гостиной тоже показывали шесть, и секундная стрелка тоже не двигалась.
— Свет горит в обеих комнатах, — пробормотал Винсент. — Почему оба механизма остановились? Или их розетки запитаны по отдельной цепи?
Он вернулся в спальню и достал наручные часы. Они тоже показывали ровно шесть, и длинная стрелка замерла на месте.
— Глупее не придумаешь. По какой причине остановились все часы: и механические, и электрические?
Он подошел к окну и выглянул наружу. Большие часы на здании «Взаимного страхования» показывали шесть, секундная стрелка не двигалась.
— Что ж, возможно, неразбериха коснулась не только одного меня. Однажды мне довелось слышать странную теорию, будто бы холодный душ прочищает мозги. Мне он не помог ни разу, но я попытаюсь еще раз. Всегда можно сослаться на чистоплотность в оправдание.
Душ не работал. Вернее, он работал: вода шла, но не как вода; как густой сироп, повисший в воздухе. Он протянул руку, чтобы потрогать ее, и вода разлетелась на мелкие причудливые шарики, которые медленно поплыли по душевой. Все же она оставила ощущение воды. Она была мокрая и приятно холодила кожу. За четверть минуты она покрыла ему плечи и спину, и он испытал прилив блаженства. Он подождал, пока она намочит голову, и мысли сразу же прояснились.
— Дело не во мне. Я в порядке и не виноват, что вода течет с утра еле-еле и вообще все вещи сошли с ума.
Он потянул за конец полотенца, и оно расползлось у него под рукой, словно мокрая туалетная бумага.
* * *
После этого он решил обращаться с вещами предельно осторожно. Он брал их медленно и нежно, чтобы избежать разрушения. Он побрился без происшествий, несмотря на медленную воду в раковине.
Потом он оделся с величайшей осторожностью и изобретательностью, ничего не испортив, за исключением шнурков, но они и так рвутся все время.
— Если дело не во мне, нужно посмотреть, не стряслось ли чего-нибудь серьезного с остальным миром. Когда я выглядывал в окно, уже светало. С того момента прошло около двадцати минут; следовательно, утро сейчас в разгаре; солнце уже должно осветить несколько верхних этажей здания «Взаимного страхования».
Но этого не случилось. Было очевидное утро, но светлее за последние 20 минут не стало. Большие часы по-прежнему показывали шесть, положение стрелок оставалось прежним.
Но что-то в них изменилось, подсказало ему внутреннее чувство. Он восстановил в памяти картину часов, как они выглядели некоторое время назад. Так и есть, секундная стрелка изменила положение. Она прошла треть круга.
Тогда он придвинул кресло к окну и стал наблюдать за часами. Он обнаружил, что, хотя движения секундной стрелки не было заметно, она все же перемещалась. Он наблюдал за ней около пяти минут. За это время стрелка сдвинулась на пять секунд.
— Что ж, тогда это проблема не моя, а часовщика, земного ли, или небесного.
Он вышел из дома раньше обычного, толком не позавтракав. Откуда он знал, что было рано, если со временем творилось непонятно что? Ну, судя по положению солнца и показаниям часов, — хотя ни то, ни другое больше не внушало доверия.
Нормально позавтракать не получилось потому, что кофе не варился, а бекон не поджаривался. Фактически огонь не грел. Газовое пламя выросло из горелки, словно медленно раскрывающий лепестки цветок, и потом горело стабильно. Но сковорода на огне оставалась холодной, вода не нагревалась. А перед этим пришлось повозиться с водой из под крана, которая наполняла кофейник минут пять.
Он съел пару ломтиков черствого хлеба с остатками вчерашнего мяса.
Улица поразила отсутствием привычного движения. Грузовик, поначалу показавшийся стоящим у тротуара, двигался, но очень медленно. Не существовало такой передачи, на которой можно было ехать с такой скоростью. Следом за грузовиком ползло такси, нужно было внимательно следить за ним некоторое время, чтобы понять, что оно перемещается. Затем Винсент испытал шок. В неверном утреннем свете он разглядел, что водитель такси мертв. Покойник с широко раскрытыми глазами!
Каким бы медленным не было движение такси и чем бы оно не приводилось в движение, его следовало остановить. Винсент шагнул к машине, открыл дверцу и натянул тормоз. Потом он заглянул в глаза мертвеца. Был ли водитель действительно мертв? Сложно сказать. Винсент чувствовал тепло его тела. Пока он смотрел на лицо человека, глаза покойника начали закрываться. В течение примерно двадцати секунд они закрылись и открылись снова.
* * *
Это была какая-то чертовщина. От вида медленно закрывающихся и открывающихся глаз Винсента пробрал озноб. Мертвец начал заваливаться вперед в своем кресле, и Винсент схватил его рукой за плечо, но движение тела было насколько медленным, настолько же и неумолимым. Он не смог удержать мертвеца в вертикальном положении.
Тогда он позволил телу двигаться, с любопытством наблюдая за ним со стороны; и через несколько секунд лицо водителя достигло руля. Но оно продолжало двигаться, как будто не собиралось останавливаться. Лицо вжалось в руль с неимоверной силой, вызывая многочисленные повреждения. Винсент снова схватил мертвеца и отчасти смягчил давление. Однако лицо было травмировано, и в обычной ситуации из ран хлынула бы кровь.
Впрочем, человек умер так давно, что, хотя и оставался теплым, его кровь, судя по всему, свернулась, потому что прошло целых две минуты, прежде чем она выступила из ран.
— Что бы я ни сделал, навредил я достаточно, — произнес Винсент. — И, в каком бы кошмаре я не очутился, дальнейшее вмешательство принесет еще больше вреда. Лучше оставить все как есть.
Он пошел вниз по утренней улице. Все транспортные средства в переделах видимости двигались невероятно медленно, как будто приводились в действие каким-то невообразимым редуктором. И повсюду были люди, замороженные до состояния камня. Несмотря на прохладное утро, было не так уж и холодно. Люди застыли в различных фазах движения, как будто играли в детскую игру «Замри».
— Как могло случиться, — удивился вслух Чарльз Винсент, — что эта девушка (которая, кажется, работает через улицу от нас) умерла на ногах, да к тому же в процессе выполнения очередного шага. Не сильно-то она похожа на покойника. А если и так, то она умерла с очень живым выражением лица. И, о Господи, она делает то же самое!
Он увидел, что глаза девушки закрываются. Прошло не более четверти минуты, прежде чем они завершили цикл и снова открылись. К тому же, и это было еще необычнее, она перемещалась в пространстве: делала широкий шаг вперед. Он засек бы время, чтобы определить ее скорость, если бы мог. Но как засечь время, если все часы в мире сошли с ума? По приблизительной оценке она делала около двух шагов в минуту.
Винсент зашел в кафе. За столиками сидели ранние посетители, которых он часто видел сквозь стекло. Девушка в окошке, пекущая оладьи, как раз переворачивала один из них, и тот висел в воздухе. Потом он поплыл, как будто подхваченный легким ветерком, и медленно опустился, словно оседая в воде.
Завтракающие, как и люди на улице, все были мертвы на этот новый манер, двигаясь едва заметно для глаза. Смерть настигла их, по-видимому, прямо в процессе употребления кофе, поедания яичницы и пережевывания тоста. Будь у них достаточно времени, они бы наверняка все допили, доели и прожевали, потому что во всех них присутствовала тень движения.
Ящик кассы был выдвинут, кассир держал в руке деньги, а рука посетителя была протянута к ним. Со временем, учитывая его новое неспешное течение, их руки встретятся, и передача денег состоится. Так и случилось. Может, полторы, две или две с половиной минуты спустя. Время всегда трудно оценивать, теперь же это стало почти невозможно.
— Я до сих пор голоден, — сказал Чарльз Винсент, — но ждать, пока здесь обслужат, бессмысленно. Обслужиться самому? Им — все равно, поскольку они мертвы. А если не мертвы, в любом случае, кажется, они меня не видят.
* * *
Он съел несколько булочек. Открыл бутылку молока и держал ее вверх дном над стаканом, пока доедал еще одну булочку. Все жидкости были невыносимо вязкие.
Позавтракав, он приободрился. Следовало заплатить, но как?
Он вышел из кафе и пошел вниз по улице, поскольку было еще рано, хотя время больше не зависело ни от солнца, ни от часов. Огни на светофорах не менялись. Он уселся на скамейке в небольшом парке и долго наблюдал за городом и большими часами на Коммерц-билдинг; но, как и все остальные часы, эти тоже стояли, точнее, их стрелки двигались слишком медленно, чтобы это заметить.
Должно быть, прошло около часа, прежде чем сменились огни светофора, но все же они поменялись. Выбрав точку на здании, расположенном на другой стороне улицы, он стал следить за положением машин относительно этой точки. В результате выяснилось, что поток машин действительно двигался. За минуту он прошел мимо выбранной точки на целый корпус автомобиля.
Винсент вспомнил, что забрел далеко от работы, и это его обеспокоило. Он решил пойти в офис, как бы рано ни было или казалось, что было.
Он отметился на входе. Никого больше не было. Он решил не смотреть на часы и очень осторожно обращаться с предметами из-за их повышенной хрупкости. За исключением этого, все остальное казалось нормальным. Днем ранее он заявил, что мог бы нагнать отставание по работе, будь у него пара лишних дней. Сейчас он решил спокойно поработать, пока не стряслось чего-нибудь еще.
Час за часом корпел он над составлением таблиц и отчетов. Никто так и не появился. Может быть, что-то не так? Определенно, что-то не так. Но сегодня не праздник и не выходной. Значит, офис пуст не по этой причине.
Сколько времени может потратить усидчивый и целеустремленный человек на выполнение задачи? Час проходил за часом. Он не проголодался и не сказать, чтобы устал. И переделал кучу работы.
— Должно быть, половину. Не знаю, как это получилось, но я нагнал по меньшей мере один день. Продолжу в том же духе.
Он трудился, не покладая рук, еще 8 или 10 часов, пока не переделал всю накопившуюся работу.
— Что ж, теперь можно поработать в счет будущего. Сделать разметку и перенести шаблоны. Я могу вставить все данные, кроме показателей из будущих отчетов.
Так он и сделал.
— Теперь будет не так просто завалить меня работой. Я мог бы валять дурака практически весь день. Даже не представляю, какой сегодня день, но я проработал часов двадцать кряду, а никто так и не появился. Похоже, никого и не будет. Если они передвигаются со скоростью тех людей из уличного кошмара, тогда не удивительно, что их до сих пор нет на месте.
Он положил руки на стол и опустил на них голову. Последнее, что он увидел перед тем, как закрыть глаза, его уродливый большой палец на левой руке, который он всегда непроизвольно прятал от чужих глаз.
— По крайней мере, я знаю, что я все еще я. По этой примете я узнаю себя в любой ситуации.
Затем он заснул прямо за столом.
* * *
Дженни вошла вместе с торопливым «стук-стук-стук» высоких каблуков, и Винсент проснулся.
— Почему вы спите за столом, мистер Винсент? Вы провели здесь всю ночь?
— Я не знаю, Дженни. Честное слово.
— Я шучу. Иногда я и сама не прочь подремать за столом, когда прихожу раньше обычного.
Часы показывали без шести минут восемь, секундная стрелка двигалась с обычной скоростью. Время вернулось в мир. Или к нему. А может, все это долгое раннее утро было всего лишь сном? Тогда это очень продуктивный сон. Винсент выполнил работу, которую едва успел бы сделать за два дня. А день был все тот же.
Он подошел к питьевому фонтанчику. Вода вела себя как обычно. Он выглянул в окно. Поток машин двигался так, как и должен был. Хотя иногда медленно, иногда бестолково, но все равно в темпе обычного мира.
Пришли остальные работники. Они не были метеорами, но и не требовалось наблюдать за ними несколько минут, чтобы удостовериться, что они не покойники.
— У этого утра были свои преимущества, — сказал Чарльз Винсент. — Я остерегся бы жить так все время, однако как было бы удобно входить в это состояние на несколько минут в день, чтобы выполнить многочасовые дела. Может, следует показаться врачу. Но как я ему объясню, что меня беспокоит?
Теперь он знал точно, что между его пробуждением в шесть утра и моментом, когда каблучки Дженни разрушили его второй сон, прошло чуть менее двух часов. Как долго длился второй сон и в каком временном анклаве, он не имел представления. И как считать время, которое прошло? Из-за утренней неразберихи он пробыл у себя дома намного дольше, чем обычно. Потом какое-то время бродил в замешательстве по городу, проходя милю за милей. Потом провел несколько часов в маленьком парке, изучая ситуацию. И еще необычайно долго работал за своим столом.
Что ж, надо идти к врачу. Человек обязан воздерживаться от того, чтобы выставлять себя дураком перед всем миром, но перед адвокатом, священником и врачом ему придется делать это время от времени. Профессиональная этика удерживает этих людей от открытых насмешек.
Доктор Мэйсон вряд ли мог считаться другом. Чарльз Винсент осознал с некоторым беспокойством, что у него нет близких друзей, только знакомые и коллеги. Как будто он относился к другому виду, нежели его окружение. Сейчас ему хотелось, чтобы у него был близкий друг.
Однако он был знаком с Мэйсоном несколько лет, доктор имел хорошую репутацию, а кроме того Винсент уже пришел к нему в офис и был приглашен в кабинет. Ему придется или… — что ж, такое начало не хуже любого другого.
— Доктор, я в затруднении. Я должен или выдумать какие-нибудь симптомы, чтобы оправдать свой приход к вам, или извиниться и сбежать, или честно рассказать вам о том, что беспокоит меня, даже если вы решите, что я страдаю новой формой идиотизма.
— Винсент, каждый день люди выдумывают симптомы, чтобы оправдать свой визит ко мне, и я понимаю, что им не хватает мужества рассказать о реальной причине, побудившей их прийти ко мне. И каждый день люди извиняются и сбегают. Но опыт подсказывает мне, что я заработаю больше денег, если вы выберете третью альтернативу. И еще, Винсент, новых разновидностей идиотизма не существует.
* * *
— Возможно, это прозвучит не так глупо, если я расскажу покороче, — сказал Винсент. — Проснувшись этим утром, я стал свидетелем ряда загадочных событий. Казалось, остановилось само время или мир перешел в фазу сверх-медленного движения. Вода ни текла, ни кипела, огонь не грел пищу. Все часы, как я решил поначалу, остановились. Их стрелки проползали, возможно, минуту за час. Люди, которых я встретил на улице, выглядели мертвецами, застывшими в неестественных позах. Только понаблюдав за ними в течение длительного времени, я понял, что они двигаются на самом деле. Я видел одно такси, которое ползло медленнее, чем самая неторопливая улитка, а за его рулем сидел мертвый мужчина. Я подошел к машине, открыл дверь и потянул тормоз. Через какое-то время я понял, что мужчина не мертв. Но он наклонился вперед и разбил лицо о руль. Потребовалась целая минута, чтобы его голова преодолела расстояние менее 10 дюймов, однако я не смог предотвратить удар. Потом я делал другие странные вещи в мире, который умер на ногах. Я прошагал много миль по городу, после чего отдыхал не знаю сколько часов в парке. Потом пришел в офис и приступил к своим обязанностям. Я выполнил работу, на которую потратил, должно быть, часов двадцать. Потом вздремнул за рабочим столом. Когда меня разбудили коллеги, было без шести минут восемь утра того же самого дня, сегодня. С момента утреннего пробуждения прошло менее двух часов, и время вернулось к норме. Но события, которые произошли на этом отрезке времени, никак не уместились бы в два часа.
— Сначала один вопрос, Винсент. Вы действительно выполнили работу, требовавшую многих часов?
— Да. Она сделана, и именно в этот промежуток времени. Она не вернулась в состояние невыполненной после возвращения времени к норме.
— Второй вопрос. Вы беспокоились о вашей работе, о том, что вы отставали от графика?
— Да. Постоянно.
— Тогда у меня есть одно объяснение. Вечером вы легли спать, но вскоре вскочили на ноги, переживая состояние лунатизма. Есть некоторые аспекты хождения во сне, которых мы до сих пор не понимаем. Интермедии расфокусированного времени были частью вашего сна на ногах. Вы оделись и пошли на работу, где и проработали всю ночь. Такое вполне возможно, чтобы человек в сомнамбулическом состоянии выполнял рутинные операции, причем быстро и даже лихорадочно, с высокой степенью сосредоточенности. Вы могли вернуться в состояние обычного сна, когда закончили работу, или могли очнуться непосредственно от лунатического транса в момент прихода ваших коллег. Это правдоподобное и работоспособное объяснение. В случае очевидно странного происшествия всегда хорошо иметь рациональное объяснение, к которому можно обращаться при надобности. Обычно оно удовлетворяет пациента и дает отдых его мозгу. Но часто оно не удовлетворяет меня.
— Ваше объяснение почти удовлетворило меня, доктор Мэйсон, и мой ум значительно успокоился. Я уверен, что вскоре смогу принять объяснение полностью. Но почему оно не удовлетворяет вас?
— Одна из причин — человек, которому я оказывал помощь рано утром. У него было разбито лицо. Он видел — или так он считал, что видел — призрака невероятной быстроты, который был скорее ощутим, нежели видим. Призрак распахнул дверцу его машины на полной скорости и рванул тормоз, отчего водитель врезался головой в руль. Человек был потрясен и получил легкое сотрясение мозга. Я убедил его, что он не видел никакого призрака, что он просто задремал за рулем и въехал во что-то. Как я сказал, мне труднее убеждать себя, нежели моих пациентов. Но, возможно, это случайное совпадение.
— Надеюсь, что так. Но у вас, кажется, есть и другое объяснение.
— После многолетней практики редко услышишь что-то новое. Мне уже рассказывали дважды о похожем происшествии, или сне, с теми же подробностями, что и у вас.
— И вы убедили пациентов, что это был только сон?
— Да, обоих. То есть, я убеждал их первые несколько раз, когда это случалось с ними.
— Они были удовлетворены?
— Поначалу. Потом — не совсем. Но они умерли в течение года после первого обращения ко мне.
— Не насильственной смертью, я надеюсь.
— Оба умерли самой тихой смертью. От глубокой старости.
— О. Ну, я слишком молод для этого.
— Думаю, вам нужно прийти ко мне еще раз в течение месяца.
— Хорошо, если галлюцинация повторится. Или если заболею.
После визита к врачу Чарльз Винсент начал забывать об инциденте. Он вспоминал о нем только с усмешкой, когда опять накапливалась работа.
— Что ж, если станет совсем невмоготу, я еще разок прогуляюсь во сне и разгребу завалы. Действительно, если бы другая сторона времени существовала и я мог бы переходить туда по желанию, это было бы крайне удобно.
* * *
Чарльз Винсент совсем не видел его лица. В некоторых из этих клубов очень темно, а в «Голубом петухе» было как в склепе. Винсент наведывался в клуб примерно раз в месяц, обычно после работы, когда не хотелось идти домой, или когда его грызло чувство тревоги.
Граждане штатов, которым повезло больше, могли и не знать о секретах таких клубов. Но там, где жил Винсент, единственными публичными забегаловками были пивные бары, а спиртные напитки подавали только в клубах, допуск в которые осуществлялся по членским карточкам. Неудивительно, что даже такой маленький клуб, как «Голубой петух», насчитывал тридцать тысяч членов. Маленькая номерная карточка, в которую член клуба вписывал свое имя, стоила доллар в год. Нужно было иметь ее при себе — или уплатить доллар за новую карточку, — чтобы попасть внутрь.
Внутри клуба не было никаких развлечений. Вообще ничего, кроме тесного полутемного помещения с барной стойкой.
В баре сидел человек, потом его не стало, потом он появился вновь. И всегда там, где он сидел, было слишком темно, чтобы разглядеть его лицо.
— Интересно, — обратился он в Винсенту (или к бару в целом, хотя других посетителей не было, а бармен дремал), — вы читали работу Зурбарина о связи полидактилии[1] с гениальностью?
— Никогда не слышал ни о такой работе, ни о таком авторе, — ответил Винсент. — Сомневаюсь, что и то, и другое существуют.
— Я Зурбарин, — представился мужчина.
Винсент спрятал свой уродливый палец. Вряд ли можно было разглядеть его при таком освещении, и глупо было подозревать наличие какой-либо связи между его пальцем и замечанием мужчины. У Винсента был не настоящий двойной палец. Не был он ни шестипалым, ни гением.
— Боюсь, что вы меня не заинтриговали, — сказал Винсент. — Я уже ухожу. Собирался выпить еще стаканчик, да не хочу будить бармена.
— Быстрее сделать, чем сказать.
— Что?
— Ваш бокал полон.
— Полон? Да, полон. Это фокус?
— Фокус — название для чего-то или слишком легкомысленного, или слишком обманчивого для понимания сути. Но однажды долгим ранним утром месяц назад вы тоже могли бы проделать такой фокус, и почти так же хорошо.
— Я? Откуда вы знаете о моем долгом утре, — при условии, что оно было, конечно?
— Я давно наблюдаю за вами. Немногие имеют оборудование, позволяющее следить за человеком, когда он на другой стороне времени.
* * *
На некоторое время воцарилось молчание, и Винсент глянул на часы, собираясь уходить.
— Интересно, — проговорил человек в темноте, — читали ли вы Шиммельпеннинка «Шестипалость и двенадцатиричное исчисление в Древней Халдее»?
— Не читал и сомневаюсь, что читал хоть кто-то. Смею предположить, что Шиммельпеннинк — это тоже вы, а имя придумали только что экспромтом.
— Я Шимм, это правда, но имя придумал много лет назад.
— Мне немного наскучила наша беседа, — сказал Винсент, — но я был бы признателен, если бы вы еще раз проделали фокус с бокалом.
— Только что проделал. И вам не скучно, вы напуганы.
— Чем? — спросил Винсент. Его бокал, и правда, был снова полон.
— Вы боитесь повторно оказаться в состоянии, которое, — в чем, правда, вы не уверены, — было сном. Но в том, чтобы быть невидимым и неслышимым, есть свои преимущества.
— Вы можете стать невидимым?
— Был только что, когда уходил за барную стойку, чтобы наполнить ваш бокал?
— Каким образом?
— Пешеход передвигается со скоростью около пяти миль в час. Умножьте эту цифру на шестьдесят — число времени. Когда я встаю со стула и иду за барную стойку, я перемещаюсь со скоростью триста миль в час. Поэтому я невидим для вас, особенно, если я двигаюсь в тот момент, когда вы моргаете.
— Кое-что не стыкуется. Возможно, вы и сходили туда и назад, но вы не смогли бы наполнить бокал.
— Нужно ли говорить, что мастерство обращения с жидкостями доступно не всякому новичку? В действительности существует много способов обмануть медлительную материю.
— По-моему, вы мистификатор. Вы знакомы с доктором Мэйсоном?
— Я знаю, что вы ходите к нему на прием, и я в курсе его тщетных попыток постичь некую тайну.
— Я по-прежнему считаю вас обманщиком. А вы можете вернуть меня в то состояние сна, в котором я побывал месяц назад?
— Это не сон. Но я могу ввести вас еще раз в это состояние.
— Докажите.
— Смотрите на те часы. Верите ли вы, что я могу указать на них пальцем и остановить их для вас? Для меня они уже стоят.
— Нет, не верю. Да, я догадываюсь, что должен верить, поскольку вижу, что вы только что остановили их. Но это может быть еще один фокус. Я не знаю, куда часы подключены.
— Так же как и я. Выгляните на улицу. Посмотрите на все часы, которые видны отсюда. Разве они не стоят?
— Стоят. Возможно, нет электричества во всем квартале.
— Вы же знаете, что оно есть. Окна в домах по-прежнему светятся, хотя уже довольно поздно.
— Зачем вы играете со мной? Получается ни „тпру“, ни „ну“. Или раскройте мне секрет, или честно скажите, что не сделаете этого.
— Секрет не прост. Его можно постичь, только усвоив всю философию и все учения.
— Для этого не хватит жизни.
— Не хватит обычной жизни. Но секрет секрета (если можно так выразиться) заключается в том, что человек должен использовать часть этого секрета в качестве инструмента познания. Человек не способен изучить все за одну жизнь. Однако, получив право сделать первый шаг — возможность читать, скажем, шестьдесят книг за то время, которое он тратил раньше на прочтение одной, поразмышлять минуту, израсходовав всего лишь секунду, выполнить дневную работу за восемь минут и таким образом сэкономить время для других дел, — с такими возможностями он может начать. Хотя должен предостеречь. Даже для самого умного это гонка на выживание.
— Гонка? Что за гонка?
— Гонка между успехом, который означает жизнь, и неудачей, которая означает смерть.
— Давайте отбросим театральность. Как входить в состояние и выходить из него?
— На удивление просто, так легко, что покажется ерундой. Сейчас я набросаю два схематических рисунка. Обратите на них самое пристальное внимание. Вот первый, воссоздайте его у себя в голове, — и вы войдете в „состояние“. Теперь второй рисунок, мысленно представьте его, — и вы вернетесь в нормальное время.
— Так просто?
— Это обманчивая простота. Весь фокус в том, чтобы разобраться, как это работает, — если хотите преуспеть, а значит, жить.
Чарльз Винсент попрощался и пошел домой, преодолевая каждую милю менее чем за 50 обычных секунд. Он так и не увидел лица человека.
* * *
Способность входить в ускоренное состояние по личному хотению создает ряд преимуществ: интеллектуальные, меркантильные и амурные. Это как игра в лису. Нужно быть осторожным, чтобы тебя не поймали, и аккуратным, чтобы не разбить, не поранить то, что остается в нормальном времени.
Винсент всегда мог уединиться на восемь-десять минут, чтобы войти в состояние и выполнить работу за весь день. А 15-минутный перерыв — превратить в 15-часовую прогулку по городу.
Он получал мальчишеское удовольствие, превращаясь в призрака: возникал из воздуха и стоял столбом перед приближающимся составом под вопли гудка, на самом деле не подвергаясь никакой опасности благодаря своей способности перемещаться в пять-шесть раз быстрее поезда; входил и усаживался в центре выбранной компании, чтобы внезапно проявиться, пристально посмотреть на них и исчезнуть; вмешивался в игры и состязания, поднимался на ринг, чтобы поставить подножку, толкнуть или съездить по физиономии бойцу, который ему не нравился; носился по хоккейному льду, разбрасывая ледяную крошку, со скоростью 1500 миль/час, чтобы забросить по десятку шайб в каждые ворота, пока люди осознавали, что происходит что-то неладное.
Ему понравилось разбивать окна, распевая монотонную песенку, потому что тон его голоса повышался для нормального времени в шестьдесят раз. По этой же причине никто не мог его слышать.
Особое удовольствие доставляло мелкое воровство и шалости. Он вытаскивал бумажник из кармана мужчины и был уже в двух кварталах от него, пока жертва еще только поворачивалась, почувствовав прикосновение. Он возвращался и засовывал бумажник человеку в рот в тот момент, когда тот жаловался полицейскому.
Он заходил в дом к женщине, пишущей письмо, выдергивал бумагу, дописывал три строки и исчезал прежде, чем раздавался испуганный крик.
Он съедал с вилок кусочки пищи, пускал маленьких черепашек и живую рыбу в тарелки с супом в промежутке между взмахами ложек.
Он туго связывал прочной веревкой руки людей в момент рукопожатия. Он расстегивал молнии представителям обоего пола, когда те лопались от напыщенности. Он менял карты игрокам, перекладывая их из рук в руки. Он убирал мячи для гольфа с колышка в момент удара и прикреплял записку, написанную большими буквами: «ТЫ ПРОМАЗАЛ».
Или сбривал кому-нибудь усы и волосы на голове. Возвращаясь несколько раз к одной неприятной даме, он поэтапно обстригал ее налысо, а по окончании процесса покрыл ей макушку позолотой.
Кассиры, считающие деньги, удостаивались его внимания чаще других как неиссякаемый источник обогащения. Он обрезал ножницами сигареты во рту у курильщиков и задувал спички, так что один расстроенный мужчина не выдержал и расплакался.
Он менял оружие в кобуре полицейских на водяные пистолеты, отсоединял поводки от ошейников собак и прицеплял к игрушечным собачкам на колесиках.
Он пускал лягушек в бокалы с водой и оставлял подожженные фейерверки на карточных столиках.
Он переводил стрелки наручных часов на запястьях людей и проказничал в мужских комнатах.
— В душе я остался мальчишкой, — заметил Чарльз Винсент.
* * *
В это же время он позаботился о своем материальном положении, добывая деньги самыми разными способами и открывая счета в различных городах под разными именами — на черный день.
Он не испытывал стыда за свои проделки в отношении неускоренного человечества. Когда он переходил в ускоренное состояние, люди становились для него статуями — слепыми, глухими, едва живыми. Проявление неуважения к таким комическим изваяниям не казалось ему чем-то постыдным.
Оставаясь подростком в душе, он развлекался с девушками.
— Смотрю на себя — синяк на синяке, — как-то возмущалась Дженни. — Губы распухли, передние зубы — такое ощущение, будто расшатаны. Не понимаю, что со мной происходит.
Конечно, он не собирался ставить ей засосы или причинять другой вред. В определенном смысле он любил ее, поэтому решил вести себя еще аккуратнее. Все-таки было приятно целовать ее, оставаясь невидимым благодаря высокой скорости движения, во все места, даже в выходящие за рамки приличия. Из нее получались изящные статуи, забавляясь с которыми, он получал массу удовольствия. Были и другие.
— Ты постарел, — заметил однажды один из сотрудников. — Не следишь за здоровьем? Чем-то обеспокоен?
— Вовсе нет, — ответил Винсент. — Никогда в жизни не чувствовал себя лучше.
Теперь у него появилось время для массы вещей — в сущности, для всего. Не было на свете причины, которая могла бы помешать ему освоить любую науку на свете, когда он мог потратить 15 минут и выгадать 15 часов. Читал Винсент быстро, но внимательно. Теперь он мог прочитывать от 120 до 200 книг за вечер и ночь; спал он также в ускоренном состоянии, получая полноценный отдых за восемь обычных минут.
Перво-наперво он озаботился изучением языков. Освоить язык в объеме, достаточном для беглого чтения, можно за триста часов обычного времени или триста минут ускоренного. И, если изучать языки в порядке от самого близкого к наиболее непохожему, особых трудностей не возникает. Для начала он овладел пятьюдесятью языками и всегда мог добавить к перечню новый язык, потратив вечер, если возникала такая надобность. Одновременно он начал накапливать и систематизировать знания. Из литературы, строго говоря, набиралось не более десяти тысяч книг, которые действительно стоило прочитать и полюбить. Он проглотил их с великим удовольствием, и две-три тысячи из них оказались довольно важны, чтобы перечитать их в будущем.
История же оказалась очень неровной; приходилось знакомиться с текстами и источниками, не вполне читабельными по форме. Аналогично с философией. Изучение математики и естественных наук, как теоретических, так и прикладных, продвигалось медленнее. Тем не менее, обладая неограниченным ресурсом времени, можно было разобраться в чем угодно. Не было такой идеи, рожденной человеческим разумом, которую не понял бы другой нормальный человек при наличии достаточного времени, правильного подхода и соответствующей подготовки.
Часто, а со временем все чаще, Винсенту казалось, что он приближается к какой-то тайне; и всегда в такие моменты он ощущал слабый запах, как из глубокой ямы.
Он выделил основные моменты человеческой истории; или вернее самой логичной или, по крайней мере, самой вероятной из ее версий. Было сложно придерживаться ее главной линии, этой двухполосной дороги рациональности и откровения, которая должна всегда вести ко все более полному развитию (не прогрессу; прогресс — это фетиш, игрушечное слово, используемое игрушечными людьми), к раскрытию потенциала, росту и совершенствованию.
Но главная линия часто была неясна, скрыта или почти стерта, едва прослеживаясь сквозь туман и миазмы. Он воспринял Падение человека и Искупление как главные моменты истории. Но теперь он понимал, что ничто не случается единожды, что оба эпизода — из разряда постоянно повторяющихся; что из этой древней ямы тянется рука, отбрасывающая тень на человека. Он стал видеть эту руку в своих снах, — которые отличались особенной живостью, когда он спал в ускоренном времени, — как протянутую лапу шестипалого монстра. Он начал осознавать опасность ловушки, в которой оказался.
Смертельную опасность.
Одна из странных книг, к которой он часто возвращался и которая постоянно заводила его в тупик, называлась «Взаимосвязь полидактилии и гениальности». Написанная человеком, лица которого он так и не разглядел ни при одном из его явлений.
Она обещала больше, чем давала, и намекала больше, чем объясняла. Идея книги была скучна и неубедительна, подпертая беспорядочным нагромождением сомнительных фактов. Она не убедила его в том, что гениальные люди (даже если согласиться, что они таковыми являлись) часто имели одну необычную особенность — лишний палец на руке или ноге или его рудимент. Он не мог представить, какие возможные преимущества эта особенность могла давать.
* * *
Книга намекала на величайшего из корсиканцев, который имел обычай прятать руку за отворот камзола; на жившего ранее странного командора, который никогда не снимал бронированную перчатку; на эксперта по самым разнообразным вопросам Леонардо, который рисовал иногда человеческие руки и часто руки чудовищ шестипалыми и, следовательно, сам мог иметь такую особенность. В книге было упоминание о Юлии Цезаре, крайне неубедительное, которое сводилось все к тому же. Приводился пример Александра, имевшего незначительное отличие от других людей; неизвестно, что это было, но автор доказывал, что именно шестой палец. То же самое утверждалось о Григории XIII и Августине Аврелии, о Бенедикте, о Альберте Великом и Фоме Аквинском. Однако человек с уродствами не мог принять священный сан; если они приняли его, значит, шестой палец был в рудиментарной форме.
Упоминались Шарль де Кулон и султан Махмуд, Саладин и фараон Эхнатон; Гомер (греческая статуэтка эпохи Селевкидов изображает его с шестью пальцами, которыми он тренькает на неопределенном инструменте в момент декламирования); Пифагор, Микеланджело, Рафаэль Санти, Эль Греко, Рембранд, Робусти.
Зурбарин систематизировал сведения о 8 тысячах известных персон. Он доказывал, что они были гениями. И что они были шестипалыми.
Чарльз Винсент усмехнулся и посмотрел на свое уродство — раздвоенный большой палец на левой руке.
— По крайней мере, я в хорошей, хотя и скучноватой компании. Но что он имеет в виду, говоря о „трехкратном времени“?
Вскоре Винсент приступил к изучению клинописных глиняных табличек, хранящихся в Государственном музее. Серия табличек, посвященная теории чисел, терпимо разборчивая для Чарльза Винсента, накопившего к тому времени энциклопедические знания, имела пропуски и обрывалась на полуслове. В ней в частности говорилось:
«О расхождении основания систем счисления и вызванной этим путаницы, — ибо это 5 и это 6, и 10 и 12, и 60 и 100, и 360 и удвоенная сотня, то есть тысяча. Люди не отдают себе отчет, что числа 6 и 12 первичны, а 60 суть компромисс, сделанный ради снисхождения к людям. Ибо 5 и 10 — более поздние основания, и они не старше самих людей. Говорят, — и верят этому, — что люди начали считать пятерками и десятками, отталкиваясь от количества пальцев на руках. Однако задолго до этого — в силу некоей причины — люди считали шестерками и дюжинами. А 60 — число для подсчета времени, делящееся без остатка на основания обеих систем счисления, потому что обеим системам приходилось сосуществовать во времени, хотя и не на одном и том же уровне времени…» — большая часть остального была разрознена. И так уж случилось, что, пока Чарльз Винсент пытался разложить сотни клинописных табличек по порядку, он стал невольным виновником рождения легенды о призраке музея.
Он проводил в Государственном музее свои много-сот-часовые ночи, изучая и классифицируя. Естественно, он не мог работать без света и, естественно, становился видим, когда подолгу сидел без движения. Но как только охранники, ползущие медленнее улиток, делали попытку приблизиться к нему, он перемещался в другое место, и высокая скорость снова делала его невидимым. Охранники доставляли кучу хлопот, и однажды он крепко поколотил их, после чего прыти у них поубавилось.
Единственное, чего он боялся, — что охранники однажды выстрелят в него, чтобы выяснить, призрак он или человек. Он с легкостью увернулся бы от пули, двигающейся всего лишь в 2,5 раза быстрее, чем он сам, — но только в случае, если бы увидел ее. Незамеченная же пуля могла проникнуть опасно, даже смертельно глубоко, прежде чем он увернулся бы от нее.
Он стал причиной рождения легенд о других призраках: привидении Центральной библиотеки, привидении Библиотеки университета, а также Технической библиотеки имени Джона Чарльза Ундервуда. Такая множественность призраков благотворно повлияла на публику: люди перестали воспринимать их всерьез и поднимали верящих на смех. Даже те, кто действительно видел его как призрака, не признавали, что они верят в привидения.
* * *
Он снова посетил доктора Мэйсона для ежемесячного осмотра.
— Выглядите вы ужасно, — сказал доктор. — Не знаю, в чем причина, но вы сильно изменились. Если можете себе позволить, возьмите продолжительный отпуск.
— Я могу, — сказал Чарльз Винсент. — Именно это я и сделаю. Отдых в течение года или двух.
Он начал дорожить временем, которое приходилось тратить на обычный мир. Отныне его воспринимали как отшельника. Он стал молчалив и необщителен, потому что нашел крайне неудобным то и дело возвращаться в обычное время, чтобы поддерживать разговор, потому что в ускоренном состоянии голоса звучали для него слишком растянуто, чтобы уловить смысл произносимого.
Это не относилось к человеку, чьего лица он не видел.
— Вы демонстрируете очень слабый прогресс, — сообщил человек. Они снова сидели в полутемном помещении клуба. — Мы не можем использовать тех, кто не показывает значительного прогресса. В конце концов, вы всего лишь рудиментарный. Видимо, в вас очень мало от древней расы. К счастью, те, у кого нет прогресса, быстро губят себя. Вы же не думаете, что существует только две фазы времени, не так ли?
— Недавно начал подозревать, что их гораздо больше, — ответил Чарльз Винсент.
— И вы понимаете, что единственный шаг не может привести к успеху?
— Я понимаю, что жизнь, которую я веду, является прямым нарушением всех известных законов о сохранении массы, импульса и ускорения, так же как законов о сохранении энергии, о возможностях человека, о внутренней компенсации, о золотом сечении, о производительности человеческих органов. Я знаю, что не могу повысить количество своей энергии или работоспособность в 60 раз без соответствующего увеличения потребления пищи, — и все же это происходит. Я знаю, что не могу жить, тратя на сон лишь восемь минут в сутки, но я делаю это. Я понимаю, что не могу усвоить на приемлемом уровне опыт четырех тысяч лет за один жизненный срок, однако не вижу, что могло бы помешать этому. А вы говорите, я уничтожу себя.
— Те, кто ограничивается первым шагом, тем самым губят себя.
— И как делается второй шаг?
— В надлежащий момент вам будет предложен выбор.
— Интуиция подсказывает мне, что я им не воспользуюсь.
— Судя по текущим показаниям, вы откажетесь. Вы слишком привередливы.
— От вас исходит запах, древний человек без лица. Теперь я знаю, какой. Это запах ямы.
— Вам понадобилось столько времени, чтобы понять это?
— Ил из ямы. Материал, из которого сделаны глиняные таблички древней страны между реками. Мне снилась шестипалая рука, тянущаяся вверх из ямы и отбрасывающая тень на всех нас. Я прочитал: «Люди начали считать пятерками и десятками, отталкиваясь от количества пальцев на руках. Однако задолго до этого — в силу некоей причины — люди считали шестерками и дюжинами». Но время не пощадило глиняные таблички, оставив значительные пробелы.
— Да, время в одном из своих проявлений искусно и целеустремленно оставило эти пробелы.
— Я не могу найти имя, которое в одном из этих пробелов. Вы можете?
— Я — часть имени, которое в одном из этих пробелов.
— И вы — человек без лица. Но зачем вы бросаете тень на людей и контролируете их? С какой целью?
— Пройдет немало времени, прежде чем вы узнаете ответы на свои вопросы.
— Когда я окажусь перед выбором, я тщательно взвешу все „за“ и „против“.
* * *
С этого момента в жизни Чарльза Винсента поселился страх. Теперь он редко позволял себе шалости в отношении людей.
За исключением Дженифер Парки.
Тот факт, что его притягивало к ней, казался странным. Он едва знал ее по жизни в обычном мире, и она была старше его минимум лет на пятнадцать. Но сейчас она нравилась ему за женские достоинства, и все его шалости с ней были пропитаны нежностью.
Эта старая дева не приходила в ужас и не бросалась запирать двери — она не беспокоилась по поводу таких вещей и раньше. Он мог идти за ней следом и гладить ее волосы, а она громко спрашивала возбужденным голосом:
— Кто ты? Почему не позволяешь увидеть тебя? Ты ведь друг, правда? Ты человек или что-то иное? Если ты способен ласкать меня, почему не поговоришь со мной? Пожалуйста, покажись. Обещаю, что не причиню тебе вреда.
Как будто она не могла даже представить себе, что вред мог быть причинен ей самой. И снова, когда он обнимал ее или целовал в макушку, она восклицала:
— По-видимому, ты маленький мальчик или почти маленький мальчик, вне зависимости от того, какой ты на самом деле. Ты молодец, что не роняешь мои вещи, когда передвигаешься по комнате. Иди сюда, я хочу обнять тебя.
Только очень хорошие люди не боятся неизвестного.
Когда Винсент столкнулся с Дженифер в обычном мире, куда он теперь находил повод наведываться как можно чаще, она взглянула на него оценивающе, как будто догадываясь, что их что-то связывает.
Однажды она обратилась к нему:
— Я знаю, что невежливо с моей стороны говорить об этом, но выглядите вы совсем плохо. Вы ходили к врачу?
— Несколько раз. Но, по-моему, это мой доктор должен сходить к врачу. У него вечная привычка делать необычные замечания, а теперь он еще и стал несколько неуравновешен.
— Будь я вашим доктором, думаю, я бы тоже потеряла спокойствие. Все же нужно найти причину вашего недомогания. Выглядите вы ужасно.
Не так уж и ужасно. Да, он облысел, это верно, однако многие мужчины теряют волосы после тридцати, хотя, возможно, и не так стремительно. Он решил, что это происходит из-за сильного сопротивления воздуха. В конце концов, находясь в ускоренном состоянии, он носится со скоростью около 300 миль в час. Достаточно, чтобы сдуть волосы с головы. И не по этой ли причине у него испортился цвет лица и появилась усталость в глазах? Но он понимал, что это чепуха. Он ощущал давление воздуха в ускоренном состоянии не более, чем в нормальном.
Наконец пришел вызов. Он решил не отвечать. Он не хотел оказаться перед необходимостью делать выбор; он не желал стать одним из них. Но у него и не было намерения отказываться от величайшего превосходства, которое он получил над природой.
— У меня будет и то, и другое, — сказал он. — Я — уже противоречие и невозможность. Пословица — всего лишь ранняя формулировка закона внутренней компенсации: «Нельзя взять из корзины больше, чем в ней лежит». В течение длительного времени я нарушал законы и балансы. «Сколько веревочку не вить, а концу быть», «Кто танцует, тому и платить скрипачу», «Все, что поднимается, опускается». Но являются ли пословицы действительно универсальными законами? Несомненно. Смысл пословицы имеет силу универсального закона; это всего лишь иная формулировка. Но я противоречил универсальным законам. Остается посмотреть, нарушал ли я их безнаказанно. «Любое действие рождает противодействие». Если я откажусь иметь дело с ними, я спровоцирую ответную реакцию. Человек без лица сказал, что это всегда гонка между абсолютным знанием и уничтожением. Отлично, я участвую в ней.
* * *
Они начали преследовать его. Он знал, что они находились в ином состоянии, настолько же ускоренном относительно него, насколько он был ускорен относительно обычного мира. Для них он был почти что неподвижной статуей, мало отличающейся от мертвеца. Для него они были невидимы и неслышимы. Они преследовали его и устраивали мелкие пакости. Но он по-прежнему не отвечал на вызов.
В конце концов, им пришлось прийти к нему, и они материализовались в его комнате, люди без лиц.
— Выбор, — сказали они. — Вы заставили нас проявить бестактность, чтобы озвучить его.
— Я не стану одним из вас. От вас смердит ямой, этой древней грязью, из которой слеплены клинописные таблички страны между реками, — запах народа, который существовал до появления людей.
— Это длилось так долго, что мы сочли, что это будет длиться вечно. Однако Сад, который располагался по соседству, — вам известно, как долго просуществовал Сад?
— Не имею представления.
— Все произошло в течение одного дня, и к наступлению ночи они были изгнаны. Вы хотите разродиться чем-то более долговременным, не так ли?
— Нет. Я не уверен, что хочу.
— А что вам терять?
— Только мою надежду на вечность.
— Но вы не верите в нее. Ни один человек никогда по-настоящему не верил в вечность.
— Ни один человек никогда до конца не верил в вечность, но и никогда до конца не отвергал ее, — сказал Чарльз Винсент.
— По крайней мере, вечность недоказуема, — сказал один из безлицых. — Ничего не доказано, пока не наступил конец. Но в случае наступления конца ее существование будет опровергнуто. И все это время не будет ли искушения поинтересоваться: «А что, если она закончится в следующую минуту»?
— Думаю, если мы сохраним живую плоть, то получим своего рода гарантию, — сказал Винсент.
— Но вы не уверены ни в выживании плоти, ни в получении гарантии. В настоящий момент мы подошли к вечности вплотную. Когда время мультиплицирует самое себя, и это повторяется вновь и вновь, разве это не приближение к вечности?
— Не думаю. Но я не стану помогать вам. Один из вас говорил, что я слишком привередлив. Итак, теперь вы скажете, что уничтожите меня?
— Нет. Мы лишь позволим вам быть уничтоженным. В одиночку вам не выиграть гонку.
После этого Чарльз Винсент почему-то почувствовал себя более зрелым. Он понял, что ему и впрямь не предназначено быть шестипалым существом из ямы. Он понял, что, так или иначе, ему придется заплатить за каждую выгаданную минуту. Однако то, что он выгадал, он использовал на полную катушку. И какие бы возможности ни открывало абсолютное овладение человеческими знаниями, он попытается их реализовать.
Он сильно удивил доктора Мэйсона медицинскими познаниями, которых он нахватался в справочниках, а доктор развлекал его демонстрацией озабоченности. Но, как бы там ни было, Винсент чувствовал себя прекрасно. Возможно, он был не столь энергичным, как раньше, но только потому, что теперь избегал бессмысленной активности. Он по-прежнему оставался призраком библиотек и музеев, но его удивили появившиеся сообщения о том, что старого призрака сменил молодой.
* * *
Теперь он наносил таинственные визиты Дженифер Парки реже. Ибо ее восклицания, адресованные призраку, вгоняли его в уныние.
— Твои прикосновения стали совсем другими. Бедняжка! Могу я хоть чем-нибудь помочь тебе?
Он решил, что она слишком молода, чтобы понимать его, хотя по-прежнему был очарован ею. Он перенес свою привязанность на миссис Милли Молтби, вдову, старше его, по меньшей мере, на тридцать лет. Однако ее манеры, по-девичьи жеманные, нравились ему. Кроме того, ее отличал острый ум и верность своим чувствам, и она тоже воспринимала его посещения без страха, ограничившись короткой паникой при первой встрече.
Они играли в игры — письменные игры, потому что общались в письменной форме. Она строчила фразу, потом поднимала бумагу над головой, откуда та исчезала, когда он забирал ее в свою среду. Он возвращал ответ через полминуты или полсекунды ее времени. У него было преимущество перед ней — гораздо больше времени на обдумывание ответа, но и у нее тоже было преимущество перед ним, которое заключалось в природном остроумии и упорном стремлении быть первой.
Еще они играли в шашки, и ему часто приходилось ретироваться на время между ходами и занимать себя чтением главы книги по искусству, и даже так она часто выигрывала; ибо прирожденный талант, вероятно, не менее ценен, нежели накопленные знания, разложенные по полочкам.
Но и к Милле он вскоре потерял интерес — по той же самой причине. Теперь его интересовала (нет, он не станет больше влюбляться или очаровываться) миссис Робертс, прабабушка, которая была старше его по меньшей мере на 50 лет. Он проштудировал все материалы, объясняющие привлекательность стариков для молодежи, но все равно не мог объяснить свои меняющиеся привязанности. Он решил, что трех прецедентов достаточно, чтобы сформулировать универсальный закон: женщина совершенно не боится призрака, даже если он касается ее, оставаясь невидимым, и пишет ей записки без помощи рук. Возможно, амурные призраки знали это давным-давно, но Чарльз Винсент сделал открытие самостоятельно.
Когда накапливается достаточно знаний по какой-нибудь дисциплине, в один прекрасный момент внезапно всплывает модель, словно образ в рисунке, увиденный там, где до этого он прятался в деталях. А когда будет накоплено достаточно знаний по всем дисциплинам? Разве это не шанс, что всплывет модель, контролирующая все на свете?
Чарльза Винсента охватил последний порыв энтузиазма. Во время долгого бодрствования, пока он поглощал источник за источником и сортировал информацию, ему казалось, что модель прорисовывается отчетливо и сама собой, при всей своей удивительной запутанности в деталях.
— Я знаю все, что знают они в своей яме, и я знаю тайну, которая неизвестна им. Я не проиграл гонку — я выиграл ее. Я могу победить их даже там, где они уверены в своей неуязвимости. Если нами будут управлять в дальнейшем, то пусть, по крайней мере, это делают не они. Все сходится. Я докопался до истины в последней инстанции, они проиграли гонку. У меня есть ключ. Теперь я смогу пользоваться временем, не боясь поражения и уничтожения, и даже не помышляя о сотрудничестве с ними.
— Осталось поделиться своими знаниями, опубликовать данные, и человечество избавится, по крайней мере, от одной тени. Я сделаю это сейчас же. Или чуть погодя. В нормальном мире близится рассвет. Я посижу здесь и немного отдохну. Потом я выйду и свяжусь с соответствующими людьми, чтобы разместить информацию. Но сначала я немного отдохну.
И он тихо умер в своем кресле.
* * *
Доктор Мэйсон сделал запись в своем дневнике: «Чарльз Винсент — классический случай преждевременного старения, один из наиболее наглядных во всей геронтологии. Я знал пациента на протяжении нескольких лет, поэтому могу подтвердить, что год назад его внешний вид и состояние организма не демонстрировали отклонений от нормы. Возраст пациента соответствует указанному, более того, я был знаком с его отцом. Наблюдение велось на всем протяжении болезни, поэтому проблем с идентификацией личности не возникало, кроме того, были сняты отпечатки пальцев для протокола. Я утверждаю, что Чарльз Винсент в возрасте тридцати умер от глубокой старости. Его внешний вид и состояние здоровья соответствовали возрасту 90 лет».
Потом доктор начал с новой строки: «Как и в двух предыдущих случаях, которые мне довелось наблюдать, болезнь сопровождалась наваждениями и серией снов, настолько идентичными у всех троих, что в это трудно поверить. Для истории, пусть даже в ущерб собственной репутации, я привожу ниже отчет о них».
Но, написав это, доктор Мэйсон крепко задумался.
— Нет, я не сделаю этого, — сказал он и вычеркнул последнюю строчку. — Пусть лучше драконья ложь спит.
А где-то люди без лиц, пахнущие ямой, усмехнулись про себя со скрытой иронией.
Перевод Сергея Гонтарева
Главное открытие Рейнбёрда
Если бы список великих изобретений человечества составлялся действительно по делу, то имя американца Хиггстона Рейнбёрда затмило бы всех. Однако, кто его помнит сегодня? Два-три специалиста — и все. Усовершенствовал кузнечные мехи (в 1785 г.), добавил несколько узлов (не самых существенных) в отвал плуга (ок.1805 г.), изобрел более надежный, хотя и не лучший метод прохождения рифов под парусом, создал ростер для жарки каштанов, клин для колки дров («коготь дьявола») да еще безопасную терку для мускатного ореха (между 1816 и 1817 гг.). И более никаких новшеств за ним не числится.
Правда, и этого хватило, чтобы имя Рейнбёрда не кануло бесследно в Лету. Он по-прежнему на слуху у тех немногих, кто сделал историю техники своим хобби.
Однако слава, похищенная у него историей — или же им у себя самого, — совсем иного рода. Она ни с чем не сравнима и, прямо скажем, уникальна.
Потому что если по делу, так именно Рейнбёрду мы обязаны динамо-машиной, двигателем внутреннего сгорания, электрической лампочкой, электродвигателем, радио, телевидением, сталелитейной и нефтехимической промышленностью, железобетонными конструкциями, монорельсовым транспортом, авиацией, глобальным мониторингом, ядерной энергетикой, космонавтикой, телепатией, а также теорией политического и экономического равновесия. Именно он построил ретрогрессор. И заложил основы для коллективного выживания человечества.
Поэтому относительное забвение имени Рейнбёрда иначе, как вопиющей несправедливостью, не назовешь. Однако что делать: сегодня даже некогда непреложные факты, как, например, полная электрификация им в 1799 году Филадельфии (а годом спустя и Бостона, а еще через два года Нью-Йорка), уже таковыми не считаются. В определенном смысле они больше и не являются фактом …
Какое-то объяснение этому недоразумению должно — просто обязано — существовать. А если не объяснение, то хотя бы версия, бесстрастно изложенная внешняя канва — что хотите… Короче, вот она.
В один июньский полдень 1779 года Хиггстон Рейнбёрд, еще будучи совсем молодым человеком, принял ответственное решение, тем самым подтвердив пока еще дремавшую в нем недюжинную изобретательскую жилку.
В тот момент он развлекался соколиной охотой на самой верхушке горы, прозванной Чертовой Головой. Проследив взглядом, как сокол исчез в белой облачной дымке, юноша испытал волнующий прилив радости. А когда птица вернулась с пойманным голубем, юный сокольничий решил, что достиг вершины счастья. Он мог бы провести вот так весь день: стоять на краю отвесной скалы и, сощурившись, наблюдать за парившей в солнечных лучах хищной птицей.
Но было и другое искушение — вернуться домой, чтобы продолжить работу над искрометом, ожидавшим Хиггстона в старом сарае.
Юноша принял решение с тяжким вздохом, ибо никому из нас не дано испытать сразу все радости в один день. Конечно, соколиная охота возбуждает, слов нет, но… не менее притягивал и блестящий медью агрегат в сарае. И Хиггстон начал долгий спуск со скалы.
Впоследствии он все реже и реже взбирался на нее, чтобы поохоться, а спустя несколько лет и вовсе забросил это занятие. Он выбрал другой путь — карьеру изобретателя — и шел по нему, не сворачивая, все шестьдесят пять лет.
А тот искромет не принес Хиггстону успеха. Оказалось, что прибор слишком дорог, ненадежен и мало в чем превосходит обычный кремень. В то время существовало множество иных способов зажечь огонь — на худой конец позаимствовать головешку у соседей. И хотя для искромета не нашлось рынка сбыта, все равно это была прекрасная машина, основу которой составлял массивный намагниченный утюг, опутанный коваными медными лентами и высекавший искры с помощью столь же массивной заводной рукоятки. Рейнбёрд так и не сподобился довести прибор до конца, зато впоследствии с успехом использовал отдельные наработки в других изобретениях. В частности, построенный им на исходе жизни ретрогрессор тоже не мог бы появиться на свет, коль юноша предпочел бы соколиную охоту искромету.
Главными же искусами для Рейнбёрда всегда оставались пар, железо и самые разнообразные приборы. Он изобрел отличный токарный станок. Произвел революцию в плавке металлов и горном деле. Все перевернул вверх ногами в энергетике, заставив пар ходить по замкнутому циклу… Да, не обходилось без ошибок, он не раз упирался в глухую стену, тратил целые десятилетия впустую, но и успел за жизнь столько, что трудно поверить. Он женился на Одри — сварливой и придирчивой особе. Однако он прекрасно понимал, что в любом предприятии, тем более изобретательском, успех зависит от наличия ясных целей и стимулов, а природная рассеянность и несобранность Рейнбёрда настоятельно требовали чьей-то жесткой руки.
Он построил первый пароход и первый паровоз. Первая молотилка — тоже его рук дело. Он очистил леса, сжигая гнилую древесину в изобретенных им гигантских бездымных печах, и спроектировал принципиально новые города. Он поставил крест на рабстве в южных штатах повсеместно внедрив паровые ткацкие станки; и всю жизнь власть и богатство следовали за ним по пятам.
Хорошо это или плохо, но Рейнбёрд вывел свою страну на магистральный путь, на котором вряд ли оставалось место для юношеских увлечений вроде соколиной охоты. Никому еще, вероятно, не удавалось на протяжении одной человеческой жизни столь разительно изменить облик целой нации.
Он возглавил технологический переворот в промышленности, снабдив ее каучуком, добытым в тропиках, и пластмассами, полученными в лабораториях. Научился качать нефть из скважин, использовать для освещения и в качестве топлива природный газ.
Он был увенчан многими наградами и не испытывал недостатка в деньгах и славе. И в конце жизни, мысленно оглядываясь назад, имел все основания считать, что прожил жизнь не напрасно.
«Да, но при этом я очень многое упустил из виду, прошляпил, недосмотрел. Потратил впустую уйму времени. Если бы не эти тупики и ложные ходы, по которым я блуждал годами, я бы столько всего еще мог совершить! Я привел машинное производство к зениту, но даже не подступился к самой совершенной машине из всех — человеческом мозгу. Просто использовал дар, данный мне Природой, но так и не удосужился изучить его, тем более усовершенствовать. Те, кто придет после меня, все равно когда-то займутся им вплотную, но как же мне самому хочется разобраться в этом хитром механизме! А теперь поздно».
Он вернулся в лабораторию и, чувствуя, как подступает старость, продолжил работу над стареньким искрометом. Он дал жизнь многочисленным «отпрыскам» своего изобретения — целой россыпи технических игрушек (при этом сам не считал их таковыми). Построил телевокс, единственным практическим применением которого стала возможность выслушивать ворчание Одри на расстоянии. Установил небольшую паровую динамо-машину в доме и провел электричество в сарай, где по-прежнему вечерами что-то мастерил.
Там он и построил ретрогрессор.
«Будь у меня побольше времени, я бы еще столько всего изобрел, двигаясь по пути, который однажды выбрал. Но, сдается мне, конец его близок. Как будто добираешься до заветных ворот, раскрываешь их и видишь огромный мир — а войти уже не остается ни времени, ни сил».
В сердцах он ударил ладонью по спинке стула, и тот развалился.
«Вот — и стула-то сносного не сумел изобрести. Даже не пытался. Сколько всего на свете неуклюжего, неповоротливого, недоведенного, к чему я мог бы приложить руки! Я бы подтолкнул Америку еще на пару десятилетий вперед. Но все проклятые тупики, ошибки, долгие блуждания вслепую. Десять лет потеряно там, двенадцать здесь… Если б только с самого начала знать, что истина, а что ложь, я бы переложил на плечи других всю никчемную работу, а сам бы занялся только тем, с чем никому, кроме меня, не справиться! Разглядеть бы ту связующую нить, вернуться назад, найти ее и вплести в нужный узор… О, эти потери — пустыня, в корой обречен витать талант! И если б хоть какой-то наставник! Или карта, ключ, а еще лучше — полная шляпа ключей… Природа не обделила меня проницательностью, не раз помогавшей отыскивать верный путь. Но всегда оставались другие дороги, ведущие прямо к цели, хотя я-то о них узнавал слишком поздно… Однако не будь я Рейнбёрдом, если не найду способ усовершенствовать само совершенство!»
С этими мыслями он придвинул к себе лист бумаги и начал составлять список того, что нужно усовершенствовать в первую очередь. Но, не написав и десяти строчек, в раздражении отбросил перо. «И паршивого автоматического пера не изобрел — даже не пытался!»
Он наполнил бокал, однако после первого же глотка лицо Рейнбёрда перекосила гримаса отвращения.
«И это дрянное виски так и не научился очищать как следует — хотя ведь вертелась в голове мыслишка на сей счет. Да, я многое не успел. Однако нытьем делу не поможешь».
И он надолго задумался.
«Но ведь я могу рассказать об этом самому себе — тогда, когда можно все исправить!»
С этими словами он включил ретрогрессор и перенесся ровно на шестьдесят пять лет назад и на две тысячи футов вверх.
* * *
В один июньский полдень 1779 года Хиггстон Рейнбёрд развлекался соколиной охотой на самой верхушке Чертовой Головы. Проследив взглядом, как сокол исчез в белой облачной дымке, юноша почувствовал что в этом его увлечении определенно что-то есть. А когда птица вернулась и бросила к его ногам мертвого голубя, молодой человек испытал…
— Да, это счастье, — произнес неведомо откуда взявшийся старик. — Но мясо будет жестким, и ты с ним намучаешься. Сядь, Хиггстон, и выслушай меня.
— Почему вы так уверены насчет мяса? Кто вы такой и как вообще сюда забрались — в столь преклонном возрасте, да еще и незаметно? И откуда вы знаете, как меня зовут?
— Я сам когда-то съел этого голубя и до сих пор помню, до чего же он оказался жестким. Кто я? Всего лишь старик, которому есть от чего предостеречь тебя; попал же я сюда с помощью машины, которую изобрел сам. А то, что тебя зовут Хиггстоном, так кому же это знать, как не мне — ведь я и есть Хиггстон. Тебя ли назвали в мою честь, или меня в твою, сейчас уже и не вспомню… Да, кстати, а кто из нас старше?
— Полагаю, что вы, почтеннейший. Я, кстати, тоже немного мастерю по вечерам. Как работает та машина, что доставила вас сюда?
— Все началось… да, все началось с того искромета, которым заняты сейчас твои мысли, Хиггстон. Пройдет немало лет, а ты будешь что-то добавлять, переделывать, совершенствовать. Ты еще провозишься с проклятым силовым полем, пока научишься понемножечку изгибать его!.. Однако сейчас я вижу перед собой лишь лопоухого дуралея с горшком вместо головы, весьма далекого от того прекрасного образа, который сохранился в моей памяти. Она же, впрочем, подсказывает, что у тебя все впереди. Слушай меня внимательно, так внимательно, как никого в жизни. Сомневаюсь, что у меня будет возможность повторить сказанное. Я сохраню тебе годы и десятилетия, которые ты потратил бы впустую, я выведу тебя на самую лучшую из всех дорог, относительно коих существует превратное мнение, что каждому дано пройти по ним только единожды. Парень, я подстрахую тебя от каждого неверного шага и укажу, куда идти, чтобы не пропасть.
— Давай, старый фокусник, говори! Обещаю, что никто еще не слушал тебя так внимательно, как я.
И он действительно слушал, не проронив ни слова, пока старик рассказывал. Добрых пять часов, но не произнес ни одного лишнего слова, потому что оба относились к породе людей, не привыкших праздно чесать языками. Старик объяснял юноше, что пар — это еще не все (хотя сам когда-то считал именно так), что его мощь огромна, но не безгранична, в отличие от иных источников энергии. Он советовал обратить внимание на возможности, открываемые усилителями и обратной связью, а также изыскивать максимально легкие среды для передачи энергии: провод — вместо угольной тележки, для перемещения которой нужен мул; воздух — вместо проводов; космический эфир — вместо воздуха. Предостерегал от бессмысленной траты времени на поддержку явно устаревшего, пытался уберечь от бездонной топи стереотипов — в словах и мыслях.
Он убеждал не тратить драгоценные месяцы на создание идеального удалителя яблочной сердцевины: идеального не создаст никто и никогда. И заклинал не «зацикливаться» на самоходных санях, питаемых от батареек, ибо возможны транспортные средства побыстрее санок.
Пусть другие изобретают новые щетки для чистки замши и кремы для загара. И пользуются, как раньше, услугами возниц, формовщиков свечей и бондарей. Нужда в улучшении жилищ, конюшен, лестниц-стремянок, точильных камней будет сохраняться всегда — значит, кто-то будет постоянно их усовершенствовать. И ладно! Если застежки на башмаках, решетки для дров в камине, прессы для приготовления сыра и прочие столь же необходимые предметы так непрактичны и внешне "не смотрятся", оставим "доводку" другим. "Холодных сапожников" хватит во все времена, а Хиггстону по плечу высший класс, то, с чем никто больше не справится.
Конечно, наступят времена, когда исчезнет само слово "кузнец", как уже почти случилось с "лучником" или "бондарем". Но для ищущего ума, открытого всему новому, рынок также всегда будет широко распахнут.
Затем старик перешел к конкретным советам. Он продемонстрировал юному Хиггстону чертеж одного хитроумного крючка на токарном станке, который сэкономит время и силы. Научил, как вытягивать проволоку (вместо того чтобы получать ее с помощью ковки). Предложил использовать в качестве изолятора слюду, пока не станут доступны другие материалы с теми же свойствами.
— А вот еще некоторые заковыристые штучки, которые тебе придется принять на веру, — добавил старик. — Это о них говорят: сперва узнай "что" и лишь потом погружайся в глубины "почему".
И он рассказал о многофункциональных крепежных блоках, о самоинициирующем поле, о коммутации, о возможностях, которые открывает альтерация, если использовать ее на всю катушку. Словом, он открыл ему глаза на великое множество вещей, относящихся к широкой сфере применений.
— Кстати, практику не повредит и кое-какая математика, — заключил свой рассказ старик. — Я-то был самоучкой, и это мне часто мешало.
И прямо в пыли, покрывавшей вершину горы, старик пальцем нацарапал необходимые математические символы. Он обучил юного Хиггстона натуральным логарифмам, векторной алгебре, математическому анализу и подобным вещам, стараясь не слишком углубляться в дебри, ибо даже для столь смышленого паренька освоить все это в течение нескольких минут оказалось задачкой на пределе умственных возможностей.
Под конец юноше был дан еще ряд практичных советов, как строить будущие отношения с Одри. Впрочем, относительно последнего старый Хиггстон заблуждался: искусству жить со сварливой женой научить нельзя…
— А теперь сажай на цепь своего сокола и отправляйся вниз. За работу! — заключил старик.
И юный Хиггстон Рейнбёрд так и поступил.
* * *
Карьера Хиггстона Рейнбёрда в качестве изобретателя была подобна метеору. Древнегреческие мудрецы рядом с ним смотрелись малолетками-несмышленышами, а гиганты Возрождения лишь смущенно топтались у его двери, не решаясь постучать (она же и не думала открываться).
Дыхание захватывает при одном перечислении лишь основных его свершений. Он построил плотину на склоне Чертовой Головы и в тот же год (1779) провел электричество в собственный магазинчик. В 1781 году первым применил электродугу на маяке «Конская голова». В 1783-м уже читал книги под изобретенной им лампой дневного света а тремя годами позже расцветил огнями родную деревню Нобнокер. В 1787-м сидел за рулем первого автомобиля, в топке которого сжигался уголь; в 1789-м Рейнбёрд заменил его продуктами перегонки ворвани, а в 1790-м на смену пришла нефть. В 1793-м фурор произвел его комбайн, объединивший жатку с молотилкой, и тогда же Рейнбёр полностью электрифицировал город Сентервилл. Построенный им дизельный локомотив совершил первый рейс в 1796 году — на пару с более ранней моделью рейнбёрдовского парохода, который перешел на жидкое топливо.
В 1799 году наступил черед полной электрификации Филадельфии. Это был настоящий прорыв, ибо крупные города с какой-то необъяснимой осатанелостью противились любым новшествам. И наконец, в ночь на Новый год, открывший новое столетие, Рейнбёрд осчастливил человечество фейерверком блистательных изобретений, как то: беспроволочный телеграф, телевокс, радиоприемник и радиопередатчик, прибор для демонстрации — в движении и звуке! — записи театральных представлений; наконец машину, позволявшую печатать с голоса, а так же метод глубокой заморозки и упаковки продуктов питания с целью сохранения их при какой угодно температуре.
А весной первого года нового века он успешно испытал летательный аппарат тяжелее воздуха.
— Да он уже изобрел все, что только можно! — изумлялась публика на всех земных языках. — Остается лишь совершенствовать его новинки да следить, чтобы они использовались во благо.
— Это еще цветочки, — ответствовал Хиггстон Рейнбёрд.
И создал ракетоплан, доставивший груз в Англию за 13 минут, причем стоимость пересылки оказалась равной семи центам за центнер. Это произошло в 1805 году. И открыл термоядерный синтез в 1813-м; за последовавшие четыре года цена новинки (не без усилий создателя) упала настолько, что с ее помощью можно было осуществлять такие частные проекты, как опреснение морской воды для единовременного орошения пяти миллионов квадратных миль особо засушливых земель.
Для решения проблем, до которых у него самого руки не доходили, Рейнбёрд построил "думающую" машину, а для выявления новых областей применения своих способностей, — машину "предсказывающую".
В 1821 году он преподнес себе подарок ко дню рождения — послал на Луну автоматический зонд. Да еще поспорил с закадычным приятелем, что через год сам пройдется по ее поверхности и благополучно вернется на Землю. Пари он, разумеется, выиграл.
В 1831-м он выбросил на рынок знаменитый «Красный шар» — ароматную и очень дорогую отборную курительную смесь из листьев марсианского лишайника.
В 1836-м — основал Институт восстановления атмосферы Венеры, потому что эта планета показалась ему хуже общественного туалета. Именно там он и прихватил хроническую астму, от которой не избавился конца дней.
Он синтезировал живого человека, примерно своего возраста и с такими же дурными манерами, который мог теперь в часы полуденного отдыха выпивать вместе с создателем, без конца повторяя: «Как ты прав, Хиггстон, чертовски прав!»
Наконец, в 1840 году страна приняла — с незначительными поправками — План МИПУП (Минимизации и Поэтапного Устранения Правительства), предмет особой гордости основанного Рейнбёрдом Института политического и экономического равновесия.
Однако, несмотря на все эти беспрецедентные успехи в самых разных областях науки и техники, Рейнбёрд пришел к неутешительному выводу, что человек если чем и выделяется из животного мира, так только своей неподражаемой склочностью. А человекоинженерии так, видимо, и суждено остаться зачаточной научной дисциплиной.
Локальный прорыв в телепатии Рейнбёрду удалось совершить, отталкиваясь от личного опыта, который неопровержимо доказывал: сварливые жены всегда в курсе того, что творится в головах их супругов. Секрет, как поставить мысленный блок, оказался весьма прост: нужно было не ластиться к жене, всячески демонстрируя симпатию и дружеское расположение (традиционная ошибка всех мужей), а наоборот — резко и грубо оборвать очередную тираду. С помощью деликатного обхождения аналогичного результата можно добиваться до скончания века. Впрочем, самому Рейнбёрду хватило ума тщательно маскировать от супруги это свое открытие…
Он продолжал работу над бессмертием человечества, что стало бы апофеозом в эволюции этого чрезвычайно склочного биологического вида.
Он синтезировал материал, который обладал способностью становиться плотным при резком падении температуры, а в летний полуденный зной тонким и невесомым, как воздух. Мысль об управлении погодой Рейнбёрд с презрением отбросил, но все же открыл способ безошибочно предсказывать осадки и температуру на десятилетие вперед.
И построил ретрогрессор.
В один из дней он глянул на свое отражение в зеркале и содрогнулся.
— Так и не удосужился изобрести приличного зеркала! Хотя, чтобы не упустить из виду другие возможности, стоило бы обмозговать и такой вариант: отвратительно не отражение, а оригинал.
И он позвонил приятелю.
— Скажи-ка, Алоис, какой сейчас год?
— 1844-й.
— Ты уверен?
— Точно.
— А сколько мне исполнилось?
— Полагаю, восемьдесят пять, Хиггстон.
— А сколько времени я уже старик?
— Порядочно, Хиггстон, порядочно.
Хиггстон Рейнбёрд резко повесил трубку.
«Не понимаю, как я мог допустить, чтобы со мной случилось подобное? — начал он очередную полемику с самим собой. — Следовало раньше заняться проблемой всеобщего бессмертия. А теперь поздно».
Он справился у своего машинного предсказателя и узнал, что умрет до конца года. Ничего лучшего он и не ожидал.
«Надо ж было попасться в такую очевидную ловушку! Конец жизни — а не сделана и десятая часть того, о чем я мечтал. Да, на сей раз я не был простаком и легко миновал большинство тупиков и ложных ходов. И все же не добрался и до половины ответов на вековые загадки… Надо было изобрести машину-предсказатель в самом начале, а не на закате карьеры; но ведь в самом начале я еще не знал, как ее создать. Должен существовать какой-то способ продлить эту упоительную возможность — изобретать, придумывать! За всю долгую жизнь я ни разу не получил дельного совета, которым стоило бы воспользоваться, — если не считать того чокнутого старикана, что повстречался мне на вершине горы в годы юности. А сколько осталось проблем, к которым я едва начал подбираться… Не все люди кончают жизнь в петле, но каждый рано или поздно обнаруживает, что конец веревки у него в руках. Эх, придумать бы, как тянуть его до бесконечности! Однако нытьем делу не поможешь».
Он набил трубку доброй порцией "Красного шара" и впал в долгую задумчивость.
«Но ведь я могу рассказать об этом самому себе — тогда, когда можно все исправить!»
С этими словами он включил ретрогрессор и перенесся назад во времени и немножко вверх.
В один июньский полдень 1779 года Хиггстон Рейнбёрд развлекался соколиной охотой на самой верхушке Чертовой Головы. Проследив взглядом, как сокол исчез в белой облачной дымке, юноша почувствовал себя первым парнем на планете, к тому же занятым лучшим видом деятельности из всех, до которых додумались люди. Если там внизу, под облаками, и была земля со всеми ее искусами, то сейчас она казалась Хиггстону слишком далекой и несущественной.
Сокол вернулся, принеся в когтях пойманного голубя.
— Оставь птицу в покое, — произнес неведомо откуда возникший старик, — и навостри свои оттопыренные уши, чтобы выслушать человека, который мудрее тебя в сотню раз. Мне очень многое нужно поведать, а времени в обрез, тебе же предстоит посвятить жизнь исполнению сказанного. Хватай своего сокола и сажай на цепь. Эту застежку у цепочки сам изобрел? Ах да, припоминаю — сам, сам…
— Старик, я только запущу его в последний раз, а потом посмотрим, что ты сможешь мне предложить.
— Нет-нет! Пришло время ответственных решений, и прежде всего, Хиггстон, ты должен окончательно отказаться от своих ребячьих забав. Я расскажу тебе, как построить оставшуюся жизнь.
— Предпочитаю сделать это сам. Как тебе, кстати, удалось забраться сюда, не привлекая моего внимания? Как тебе вообще удалось это — подъем здесь нелегок!
— Да, помню. Я прилетел сюда на крыльях собственного изобретения. А теперь обрати все свое внимание на то, что я тебе скажу. Рассказ мой займет несколько часов, и тебе потребуется вся сообразительность, чтобы понять и запомнить каждое слово.
— Через несколько часов этот чудесный полдень, словно созданный для соколиной охоты, истает. Может быть, это самый прекрасный день в моей жизни.
— Я чувствовал то же, что и ты, но мужественно отказался от забавы. Того же жду от тебя.
— Позволь мне хотя бы выпустить сокола, и, пока он летает, обещаю весь превратиться в слух.
— В этом случае лишь одна твоя половина будет внимать, а вторая сгинет в облаках, паря вместе с птицей.
Юный Хиггстон Рейнбёрд все-таки настоял на своем и успел выпустить сокола, прежде чем огорченный старик открыл рот. Однако его рассказ, его странная запинающаяся болтовня, его маразматическое бормотание, его ахинея, его черт-знает-что-такое в конце концов сделали свое дело, и вскоре молодой человек забыл и о соколе, и обо всем на свете, внимая каждому слова чудного старикана. А тот объяснял, что придется одновременно идти по доброй дюжине дорог и стараться не ступать на неверный путь; и сделать некоторые изобретения пораньше — еще до того как альтернативные решения превратят это «раньше» в «слишком поздно»; и первым делом следует бросить все силы на создание двух машин, «думающей» и «предсказывающей», а также, не откладывая в долгий ящик, заняться проблемой коллективного бессмертия.
— Иначе тебе никогда не запастись достаточным пространством и временем для других изобретений. Время бежит слишком быстро, а жизнь слишком коротка, чтобы позволить им идти с той скоростью, которую запланировала Природа. Ты слушаешь меня, Хиггстон?
Но в этот момент вернулся сокол, неся в когтях горлицу. Бросив недовольный взгляд на нарушителя спокойствия, старик уже знал, что вся его затея под угрозой.
— Сажай же его на цепь, Хиггстон. Что за ребячество! Слушай же меня, балда великовозрастная, я расскажу тебе такое, что не расскажет никто и никогда! Я объясню, как научить соколов летать к звездам, вместо того чтобы валандаться здесь, над местными лугами и садами, все время возвращаясь на этот чертов пригорок.
— Но там же ничего нет, ради чего стоило бы забираться так высоко, — возразил юный Хиггстон.
— Есть! Там есть такое, что все твои сегодняшние забавы вмиг вылетят у тебя из головы! Говорю же тебе: лови своего сокола и держи его на цепи.
— Ну еще один раз! А пока он летает — выкладывай все, что у тебя есть.
И сокол снова взмыл в небо, молнией сверкнув в лучах нещадно палящего солнца.
А старик перешел к устройству космоса и раскрыл его перед юным Хиггстоном, как очищенную луковицу, — слой за слоем, попутно объясняя, как устроено мироздание и как там все крутится-вертится. После этого он вернулся к более прозаическим вещам: технике, коснувшись свойств пара, петро— и электромагнетизма, и объяснил, как эти три природные силы можно объединить на очень короткое мгновение, чтобы дать рождение стихии куда более мощной. Он рассказал о волнах, резонансе, трансмиссии, синтезе, полетах и тому подобных вещах. И еще о том, что вовсе не обязательно к каждой двери подбирать отдельный ключ: достаточно, чтобы к ней приблизился знающий секрет человек и легко повернул дверную ручку — и они распахнутся сами.
Юный Хиггстон был потрясен услышанным.
А затем сокол вернулся. И на сей раз он вынырнул из облаков с новой добычей — маленькой птичкой, которую в здешних местах называли дождевкой[2].
И тут глаза старика вспыхнули каким-то новым светом. Совсем не тем, что так поразил его молодого собеседника в начале знакомства.
— Никто добровольно не отказывается от настоящего счастья, — произнес старик странные слова, — зато тех, кто это сделал, ни на минуту не покидает грызущая мысль о том, что сделка, видимо, оказалась неудачной. Вот одно из таких упущений: за последние шестьдесят пять лет я ни разу не поохотился с соколом. На этот раз дай мне самому его запустить, Хиггстон.
— А вы сумеете?
— Я кое-что в этом смыслю. Даже когда-то изобрел новую модель перчатки для сокольничих — кажется, ее не совершенствовали со времен царя Нимрода.
— Знаешь, старик, и мне в голову тоже пришла идея, как ее улучшить!
— Знаю. Ты на верном пути — твоя находка окажется весьма практичной.
— Ну что ж, тогда пускай его.
И старый Хиггстон мастерски послал сокола в дымку облаков, и, пока тот не скрылся из виду, оба не отрываясь наблюдали за ним с самой вершины мира. А затем старик неожиданно исчез, оставив юного Хиггстона Рейнбёрда одного на вершине Чертовой Головы.
— Куда же он подевался? И, кстати, откуда пришел? Да был ли он здесь вообще?!. А машина его занятная — ни одного колесика снаружи, зато внутри столько всего, и если б хоть одна деталька знакомая. Кое-что явно сгодится — вот эти ручки, например, и часы, и медная проволока. Мне бы потребовались недели, чтобы выковать такую тонкую! Надо было более внимательно его слушать, но очень уж много содержимого он пытался влить в такое узкое горлышко. Вот если бы он загодя присмотрел более удобное место, где бы можно было поговорить обо всем обстоятельно, я бы, конечно, ушами не хлопал! И потом, уж слишком он наседал на меня с этой его навязчивой идеей. Надо же — навсегда покончить с соколиной охотой! Ну уж нет, я еще поохочусь до наступления темноты, и если завтрашний рассвет будет ясным, то снова приду сюда. А вот в воскресенье… Может быть, в воскресенье и выкрою пару часов, чтобы повозиться в сарае с искрометом или ростером для жарки каштанов!
* * *
Хиггстон Рейнбёрд прожил долгую достойную жизнь. Односельчане сохранили о нем память как об отменном охотнике и наезднике; что касается его славы изобретателя, то она докатилась до самого Бостона.
Его имя и сегодня известно ограниченному кругу специалистов, изучающих определенный период техники. Рейнбёрд интересен им как автор усовершенствованной модели плуга и кузнечных мехов, создатель безопасной терки для мускатного ореха, искромета (редко используемого) и, наконец, особого клина для колки дров («коготь дьявола»).
Все — более никаких новшеств за ним не числится.
Перевод Константина Михайлова
Роковая планета
I
Поскольку надежды больше не осталось и мне не исполнить свое предназначение, не вернуть авторитет в глазах команды, я буду записывать свои короткие мысли по мере их появления в расчете на то, что они принесут пользу какому-нибудь другому звездоплавателю. Девять долгих дней спора! Но решение однозначное. Команда высадит меня на безвестной планете. Я потерял всю власть над ними.
Кто бы мог подумать, что я продемонстрирую такое бессилие при пересечении барьера? Ожидалось, что я буду сильнейшим во всех тестах. Но заключительный тест преподнес сюрприз. Я потерпел неудачу.
Я лишь надеюсь, что планета, на которой меня высадят, будет комфортной и обитаемой…
Позже. Они приняли решение. Я больше не капитан, даже по имени. Правда, они сочувствуют мне. Они сделают все возможное, чтобы подсластить горькую пилюлю. Я уверен, что они уже выбрали «пустынный остров» — захолустную планету, на которой они оставят меня умирать. Буду надеяться на лучшее. Я больше не имею права голоса на их консилиумах.
Позже. Меня снабдят всего-навсего базовым комплектом для выживания. Это сфера и пусковая мортира, которая отправит мой последний завет в космос в галактический дрейф; небольшой космоскоп, так что я, по крайней мере, смогу ориентироваться на местности; одна замена крови; универсальный, но урезанный, языковой коррелятор; справочник по тысяче нерешенных философских вопросов для тренировки ума; небольшой флакон средства от насекомых.
Позже. Планета выбрана. Но мое сознание настолько деморализовано, что я даже не распознал планетную систему, хотя когда-то специализировался на этом регионе. Планета обитаема. Пригодная для дыхания атмосфера позволит обходиться без неудобного оборудования. В качестве наполнителя атмосферы выступает азот, однако это не имеет значения — мне уже приходилось дышать азотом прежде. Вода большей частью соленая, но и пресной воды достаточно. Никаких проблем с едой; перед высадкой мне сделают инъекции, которые поддержат организм до конца моей, возможно, не такой уж длинной жизни. Сила тяжести будет соответствовать моему телосложению.
Будет ли мне чего-то не хватать? Нет. За исключением привычного общения, которое значит для меня очень много.
Как же это ужасно — быть высаженным!
Один из моих учителей, случалось, говорил, что единственный непростительный грех во вселенной — несоответствие. Угораздило же меня заболеть космической неспособностью и лечь тяжким бременем на плечи остальных! Но пытаться путешествовать дальше с больным членом экипажа, тем более в качестве номинального лидера? Смертельно опасно для всех. Я был бы миной замедленного действия. Я не держу на них зла.
Это случится сегодня…
Позже. Я на месте. Мне совсем не интересно, где это «место» находится, хотя у меня есть космоскоп, и я бы мог легко вычислить координаты. Мне дали наркоз несколько часов назад и доставили сюда, пока я спал. Неподалеку темнеет выжженное пятно, оставшееся после их посадки. Других следов их пребывания нет.
Все же эта планета — неплохой выбор и не сильно отличается от моей родины. Самое близкое сходство, какое я видел за все плавание. Псевдо-дендроны достаточно похожи на деревья, чтобы напоминать мне их. Зеленый покров настолько сходен с травой, что введёт в заблуждение любого, кто никогда не видел настоящей травы. Зеленая, местами полузатопленная местность с приятным климатом.
Единственные обитатели, на которых я наткнулся, — чрезвычайно занятое племя выпукло-изогнутых существ, которые едва замечают мое присутствие. Они четвероногие, отличаются плохим зрением и почти все свое время тратят на кормление. Похоже, что я невидим для них. Но все же они слышат мой голос и шарахаются от него. У меня не получается наладить с ними контакт. Единственный звук, который они издают — что-то вроде вибрирующего испуганного рева, но, когда я отвечаю им аналогичным образом, они выглядят скорее недоумевающими, нежели склонными к общению.
Я заметил за ними одну особенность: сталкиваясь с каким-нибудь препятствием, например, зарослями, они терпеливо обходят его или же идут напролом. Им не приходит в голову перелететь через преграду. Похоже, сила тяжести ограничивает их, словно новорожденных.
А вот путешествующие по воздуху существа, которых я встретил, значительно меньше в размерах. Они более звукообильны, чем близорукие четвероногие, и я достиг некоторого успеха в общении с ними, хотя мои результаты еще ждут более кропотливого семантического анализа. Те их сообщения, которые я проанализировал, целиком посвящены обыденным темам. У них нет настоящей философии, и они не особенно к ней стремятся; они почти абсолютные экстраверты, развившие лишь зачатки самоанализа.
Тем не менее, они ухитрились рассказать мне несколько забавных анекдотов. Они добродушны по натуре, хотя и слабо развиты интеллектуально.
Они говорят, что не являются доминирующим видом здесь, равно как и близорукие четвероногие. Эта роль принадлежит крупным личинкообразным существам, полностью лишенным внешнего покрытия. Из того, что они сумели сообщить мне об этой породе, я делаю вывод, что это кошмарные создания. Одно из летучих существ поведало мне, что гигантские личинки путешествуют в вертикальном положении на раздвоенном хвосте, но в это трудно поверить. Однако, по-видимому, они не шутят: чувство юмора — слишком незначительная составляющая интеллекта моих воздушных друзей. Я буду называть их птицами, хотя они выглядят как жалкие карикатуры на птиц моей родины…
Позже. На меня охотятся. Мной заинтересовались гигантские личинки. Возвращаясь, я увидел их, с большим любопытством изучающих мой след.
Птицы дали мне крайне неадекватное представление об этих существах. В действительности они незавершенные, потому что лишены полного внешнего покрова. Несмотря на их гигантский размер, я убежден, что это личинки, живущие под камнями и в гнилой древесине. Ни одно живое существо не производит столь сильного впечатления наготы и незащищенности, как личинка, жирный недоразвитый червь.
Эти, впрочем, простые двуногие. Они завернуты в кокон, который, как представляется, они никогда не сбрасывают, как будто их выход из личиночного состояния не был закончен. Это неплотная искусственная оболочка, покрывающая центральную часть тела. По-видимому, они не в состоянии освободиться от нее, несмотря на то, что она определенно не является частью их организма. Проанализировав их интеллект, я узнаю, ради чего они ее носят. Пока же могу только предполагать. Это похоже на принуждение, на некую психологическую привязанность, которая обрекает их в явно взрослом состоянии продолжать таскать коконы на себе.
Позже. Три гигантские личинки схватили меня. Я едва успел проглотить коммуникационную сферу. Они поймали меня и избили палками. Застигнутый врасплох, я не сразу разобрался в их языке, хотя смысл слов стал понятен почти сразу же. Язык неблагозвучный, резко звучащий и очень приземленный. Об этом свидетельствует постоянная привязанность мыслей к их словесному выражению. Такое впечатление, что речь этих созданий не содержит ничего, кроме произносимых ими слов. В этом гигантские личинки были ограниченней птиц, даром что обладали реальной силой и убедительностью, которых птицам недоставало.
— Что будем с ним делать? — спросила одна личинка.
— Давай так, — сказала вторая, — ты бей по тому концу, а я буду бить по этому. Мы не знаем, с какого конца у него голова.
— Может, испробуем его как наживку? — предложила третья. — Вдруг сом клюнет на него?
— Пускай живет, пока мы не придумаем, как его использовать. Тогда он останется свежим.
— Нет, лучше давайте убьем его! Он и сейчас выглядит не слишком свежим.
— Джентльмены, вы совершаете ошибку, — произнес я. — Я не сделал ничего такого, что заслуживало бы смерти. И у меня есть кое-какие таланты. Кроме того, вы не учли вариант, при котором я буду вынужден убить всех вас. Я не собираюсь умирать просто так. И я буду благодарен вам, если вы прекратите колотить меня палками.
Звук моего голоса поразил и шокировал меня — он был почти так же груб, как голоса личинок. Однако, в тот момент мне было не до музыкальности.
— Ого, пацаны, вы слышали? Это слизень сказал? Или шутит кто-то из вас? Гари? Стэнли? Вы научились чревовещать?
— Это не я.
— И не я. Звук точно исходил от него.
— Эй, слизень, это был ты? Ты умеешь разговаривать, слизень?
— Разумеется, могу, — ответил я. — Я не младенец. А также не слизень. Я существо более высокоразвитое по сравнению с вашим видом, если, конечно, вы — типичные представители. Или может вы еще дети? Может быть, вы на стадии куколки. Скажите, вы на раннем этапе развития, на этапе завершения формирования или вы настоящие взрослые?
— Эй, пацаны, мне надоело выслушивать чушь от какого-то слизня. Сейчас я размозжу его проклятую башку.
— Это не голова, это хвост.
— Джентльмены, возможно, я могу вам помочь, — сказал я. — То, по чему вы так усердно колотите, — это мой хвост, и я требую, чтобы вы прекратили это занятие. Разумеется, я разговаривал хвостом. Я делал так, подражая вам. Я новичок в вашем мире и пока ещё не вполне освоил вашу манеру разговаривать. Вполне возможно, я совершил нелепую ошибку. Те выросты, которыми вы раскачиваете в воздухе, это ваши головы? Ну, тогда я буду говорить головой, раз у вас так принято. Но предупреждаю еще раз — не стучите палками по обоим моим концам.
— Эй, пацаны, а ведь мы можем продать этот кусок желе. Держу пари, мы загоним его Билли Вилкинсу для его «Змеиного ранчо»!
— Как мы дотащим его туда?
— Заставим идти. Эй, слизень, ты умеешь ходить?
— Я умею перемещаться, само собой, но я не буду рисковать, переваливаясь на паре ходулей из плоти и подняв голову в воздух, как это делаете вы. Я не привык передвигаться вверх тормашками.
— Ну, тогда пошли. Мы продадим тебя Билли Вилкинсу на «Змеиное ранчо». Если ты ему подойдешь, он поселит тебя в водоем с большими черепахами и аллигаторами. Как думаешь, они тебе понравятся?
— Я одинок в этом затерянном мире, — ответил я с грустью в голосе, — и даже ваша компания, неошелушившиеся личинки, лучше, чем ничего. Моя цель — найти семью и обосноваться здесь, чтобы спокойно провести остаток жизни. Возможно, обнаружится совместимость между мной и видами, о которых вы упомянули. Я не знаю, что они из себя представляют.
— А что, пацаны, вообще-то этот слизень — неплохой парень. Я бы потряс тебе руки, слизень, если б знал, где они у тебя находятся. Пошли к дому Билли Вилкинса и продадим тебя.
II
Мы отправились к дому Билли Вилкинса. Мои друзья были поражены, когда я поднялся в воздух, и решили, что я сбежал от них. Но у них не было причин не доверять мне. Следуя своей интуиции, я бы мог добраться до Билли Вилкинса и без помощи моих новых знакомых, но и в этом случае я бы все равно нуждался в надлежащем официальном представлении.
— Эй, Билли, — заговорил самый громкоголосый из моих спутников по имени Сесил, — сколько дашь за слизня? Он летает, разговаривает и вообще неплохой парень. Ты соберешь огромную толпу туристов на шоу, если в нем будет участвовать говорящий слизень. Он мог бы петь, рассказывать истории и, держу пари, играть на гитаре.
— Что ж, Сесил, я дам вам двадцатку на всех. Позже посмотрю, что вы принесли. Предчувствие подсказывает мне, что можно рискнуть. К тому же я всегда могу замариновать его и демонстрировать публике как настоящую почку бегемота.
— Спасибо, Билли. Счастливо оставаться, слизень!
— До свидания, господа, — ответил я. — Буду рад, если вы навестите меня как-нибудь вечерком после того, как я освоюсь с новым окружением. Закачу дикую вечеринку для вас — вот только выясню, что такое «дикая вечеринка».
— Боже мой, — промолвил Билли Вилкинс, — оно разговаривает, оно действительно разговаривает!
— Мы же сказали тебе, что оно умеет говорить и летать.
— Говорит… Оно говорит! — воскликнул Билли. — Где этот проклятый художник? Юстас, бегом сюда! Нам нужна новая вывеска.
Черепахи в водоеме, куда меня поселили, придерживались здоровой незамысловатой философии, которая отсутствовала у ходячих личинок. Но они были медлительны, им не доставало внутреннего задора. Черепах нельзя счесть неприятной компанией, но все же они не обеспечат мне душевные волнения и от них трудно ждать проявлений сердечности. В этом отношении ходячие личинки вызвали во мне больший интерес.
Юстас оказался черной личинкой в отличие от остальных, которые были белыми; но, как и у них, у него отсутствовала собственная внешняя оболочка, и так же, как и они, он передвигался, переваливаясь на ходулях из плоти с поднятой в воздух головой.
Не то чтобы я был брезглив или не видел двуногих раньше. Но всё-таки мало кто способен спокойно созерцать двуногое создание, путешествующее на свой необычный лад.
— Хороший денек, Юстас, — произнес я вполне любезно. Глаза у Юстаса были большие и белые. Он представлял собой более благообразный экземпляр, нежели другие личинки.
— Это ты говоришь, брат? Так ты действительно умеешь разговаривать? Я решил было, что мистер Билли дурачится. Так. Теперь замри-ка на минуту и дай мне запечатлеть в памяти твой образ. Я могу нарисовать все, что видел. Как тебя зовут, нескладеха? Есть у слизней имена?
— Есть, но совсем иного рода. У нас имя и душа, — полагаю, вы так это называете, — неразделимы и не могут быть представлены посредством звуков. Мне нужно что-нибудь в вашем стиле. Какое-нибудь хорошее имя.
— Брат, я всегда был неравнодушен к Джорджу Альберту Лерою Эллери. Так звали моего деда.
— Нужна ли еще и фамилия?
— Конечно.
— Что предложишь?
— Например, Макинтош.
— Прекрасно. Ее и возьму.
Пока Юстас рисовал на натянутом полотне мое изображение, я поговорил с черепахами.
— Этот мир называется Флорида, так ведь? — спросил я одну из них. — Так было написано на дорожных знаках.
— Мир, мир, мир, вода, вода, вода, бульк, бульк, бульк, — ответила одна из них.
— Хорошо, но верно ли, что данный конкретный мир, в котором мы находимся, носит название Флорида?
— Мир, мир, вода, вода, бульк, — ответила другая.
— Юстас, я не могу ничего добиться от этих камрадов, — пожаловался я. — Этот мир называется Флорида?
— Мистер Джордж Альберт, вы находитесь прямо в центре Флориды, величайшего штата во вселенной.
— Путешествуя, Юстас, я постоянно слышу о чём-нибудь величайшем во вселенной. Впрочем, теперь это мой дом, и я должен воспитывать в себе лояльное отношение к нему.
Я поднялся к верхушке дерева, чтобы дать совет двум юным птахам, которые пытались вить гнездо. По-видимому, это было их первое предприятие в жизни.
— Вы все делаете неправильно, — заявил я. — В первую очередь нужно проникнуться мыслью о том, что это будет именно ваш дом, а потом придумать, как сделать его самым прекрасным.
— Именно так строили их всегда, — сказала одна из птичек.
— Конечно, фактор утилитарности должен присутствовать, — согласился я. — Но преобладающим лейтмотивом должна быть красота. Низкие стены и парапет создадут впечатление расширенной перспективы.
— Именно так строили их всегда, — сказала другая птичка.
— Не забывайте о новейших технологиях, — напомнил я. — Просто скажите себе: «Это самое современное гнездо в мире». Всегда говорите так о любом проекте, который начинаете. Это вдохновляет.
— Именно так строили их всегда, — сказала птичка. — Иди и свей свое гнездо.
— Мистер Джордж Альберт, — позвал Юстас. — Мистеру Билли не понравится, что вы летаете вокруг деревьев. Вам следует оставаться в водоеме.
— Я только подышал немного воздухом и поболтал с птицами, — сказал я.
— Вы умеете разговаривать с птицами? — спросил Юстас.
— А разве кто-то не умеет?
— Я могу немного, — ответил Юстас. — Но я думал, что я один такой.
Когда Билли Вилкинс вернулся и выслушал отчет о моих полетах, меня переселили в змеиный дом — клетку, все стенки и крыша которой были крепко скреплены друг с другом. Моим соседом по клетке оказался мрачный питон по кличке Пит.
— Старайся всегда держаться противоположной стороны, — сказал Пит. — Ты слишком большой, чтобы проглотить тебя. Но я могу попытаться.
— Тебя что-то беспокоит, Пит, — предположил я. — Твой скверный характер может быть результатом или плохого пищеварения, или нечистой совести.
— Верно и то, и другое, — подтвердил Пит. — Первое из-за того, что я глотаю пищу, не пережевывая. Второе из-за… ну, я не помню причину, но — да, это моя совесть.
— Подумай хорошенько, Пит, — велел я, — отчего у тебя нечистая совесть?
— У змей так всегда. Мы не помним о самом преступлении, но сохраняем чувство вины.
— Возможно, тебе стоит обратиться за советом к кому-нибудь, Пит.
— Подозреваю, что именно чей-то вкрадчивый совет и обрек нас на все это. Он говорил, что мы лишились ног в одночасье.
К клетке подошел Билли Вилкинс вместе с еще одним «человеком», как ходячие личинки называют себя.
— Вот это? — спросил человек. — И ты утверждаешь, что оно может разговаривать?
— Разумеется, могу, — ответил я вместо Билли Вилкинса. — Я не встречал ни одного существа, которое не умело бы разговаривать на тот или иной манер. Меня зовут Джордж Альберт Лерой Эллери Макинтош. Не уверен, что слышал ваше имя, сэр.
— Брэкен. Блэкджек Брэкен. Я уже говорил Билли, что, если у него действительно есть слизень, умеющий разговаривать, то я не прочь использовать его в своем ночном клубе. В дневное время ты бы оставался здесь, на «Змеином ранчо», для развлечения туристов и детей, а ночью я бы забирал тебя в клуб. Нам нужно поработать над твоим репертуаром. Как ты думаешь, сможешь научиться играть на гитаре?
— Скорее всего. Но мне гораздо проще имитировать звук.
— А у тебя получится петь и имитировать звук гитары одновременно?
— Надеюсь, вы не считаете, что я ограничен одним голосовым боксом?
— Ох, я не знал. А что это за большой металлический шар возле тебя?
— Это моя коммуникационная сфера для записи мыслей. Она всегда со мной. В случае опасности я глотаю ее. Если произойдет что-то чрезвычайное, я должен вернуться туда, где спрятал пусковую мортиру, и отправить сферу в галактический дрейф — в надежде, что ее когда-нибудь подберут.
— Нет, приятель, это не похоже на прикол — для твоего выступления такие фразочки не годятся. Нам нужно что-то вроде этого…
И Блэкджек Брэкен рассказал анекдот. Детский и скверный.
— Не уверен, что шутка в моем вкусе, — заявил я.
— Хорошо, что ты предлагаешь?
— Думаю, я мог бы читать вашим клиентам лекции по высшей этике.
— Слушай, Джордж Альберт, мои клиенты никогда не слышали даже про низшую этику.
— О каком вознаграждении идет речь? — спросил я.
— Мы с Билли сошлись на 150-ти в неделю.
— 150 кому?
— Как кому? Билли.
— Я предлагаю так: 150 мне и 10 % Билли как моему агенту.
— Слушай, Билли, этот слизень действительно смышлен.
— Даже чересчур.
— Да, сэр Джордж Альберт, вы самый умный слизень. Какого рода контракт вы подписали с Билли?
— Абсолютно никакого.
— Просто джентльменское соглашение?
— Никакого соглашения.
— Билли, ты не можешь держать его в клетке без контракта. Это рабство. Это противозаконно.
— Но, Блэкджек, слизень не человек.
— Пойди докажи это в суде. Не желаете подписать контракт со мной, Джордж Альберт?
— Я не брошу Билли. Он отнесся ко мне по-дружески и поселил в дом с черепахами и змеями. Я подпишу комбинированный контракт с вами обоими. Мы обсудим условия завтра — после того, как я сравню посещаемость здесь и в ночном клубе.
III
Существует два вида ходячих личинок (называющих себя людьми), и они придают межвидовому различию особое значение. Оно же порождает большую часть их проблем. Это разграничение, основанное на противопоставлении, делит общество на две части вне зависимости от возраста, платежеспособности и места проживания. Этим страдают не только люди, но и, по-видимому, все существа на планете Флорида.
Очень похоже, что особь, будучи вовлеченной в начале жизни в ту или иную из противопоставляемых групп, сохраняет свою принадлежность до самой смерти. Притягательно-отталкивающий комплекс связей, созданный этими двумя типами людей, вызывает у них глубокую эмоциональную вовлеченность, которая порождает сильное беспокойство и расстройство, а также страсть и вдохновение. Есть такая разновидность поэтической недосказанности, которая скрывает изначальную простоту описываемого предмета или идеи, выражая её в одновременном уравнивании противоположностей.
Полная изоляция этих двух групп друг от друга кажется невозможной. Попытайся кто-нибудь когда-нибудь это сделать, ему рано или поздно придется отказаться от своей затеи как от неосуществимой.
Различие между видами почти неуловимо, так что на исходе первого дня, проведенного мною на «Змеином ранчо», я мог определять принадлежность к тому или иному типу не более чем в девяти процентах случаев. Распознавание этого различия, думается, происходит интуитивно.
Я назову эти типы бета и гамма, или мальчики и девочки. Постепенно мне стало понятно, что их противостояние — одна из величайших движущих сил людей.
Вечером меня привезли в ночной клуб, где я снискал успех. Я не стал развлекать клиентов непристойными шутками и песенками, но очаровал их незатейливой имитацией инструментов полного оркестра и исполнением потешных баллад, которым Юстас обучил меня днем. Также их заинтересовало, каким макаром я пил джин: опорожнял бутылки, не распечатывая их. (Кажется, личинки-люди не способны впитывать жидкость без непосредственного контакта с ней.)
В этот вечер я встретил Маргарет, одну из девушек-певиц. Мне хотелось узнать, к какому типу людей я могу испытывать симпатию. Теперь я знал. Безусловно, сам я относился к бета-типу, ибо меня влекло к Маргарет, которая была безошибочно узнаваемым гамма-типом. Я начал понимать то странное влияние, которое эти типы оказывают друг на друга.
Она подошла к моей клетке.
— Хочу коснуться твоей головы на счастье, прежде чем продолжить, — сказала она.
— Спасибо, Маргарет, — ответил я, — но это не голова.
Она пела с несравненной грустью, с бесконечной печалью и жалостью, отчего в воображении рисовалась целая армия несчастных особей гамма-типа. Это был экстракт меланхолии, превращенный в музыку. Немного похоже на музыку призраков астероида Артемида, немного — на погребальные песнопения на Дольмене. Секс и грусть. Ностальгия. Сожаление.
Ее пение потрясло меня, пробудив сильные чувства, испытываемые мной впервые в жизни.
Она вернулась к клетке.
— Ты была чудесна, Маргарет, — сказал я.
— Я всегда чудесна, когда пою за ужин. Гораздо менее чудесной я бываю в те редкие моменты, когда сыта. Но ты счастлив, дружок?
— Я почти уже был счастлив, пока не услышал твое пение. Теперь я охвачен грустью и состраданием. Маргарет, ты меня очаровала.
— Ты мне тоже нравишься, слизень. Ты мой приятель. Ну не смешно ли, что единственный мой приятель во всем мире, — слизень. Хотя если бы ты видел парней, за которыми я была замужем… Малыш! Не буду обижать тебя, называя их слизняками. Увы, мне пора. Увидимся завтра ночью, если они оставят нас обоих.
Проблема встала в полный рост. Мне необходимо установить контроль над окружением, и немедленно. Иначе как мне добиться Маргарет?
Ни бар, ни развлечения, ни кухня, ни танцы не были центром этого заведения. Сердцем предприятия являлось казино. В нем были деньги, которые имели значение; все остальное — не более чем гарнир.
Я попросил перенести меня в игровые залы.
Здесь я ожидал столкнуться с настоящими сложностями — ведь клиенты тут прикладывали все свои способности ради выигрыша. Однако все оказалось на удивление просто. Все игры основывались на системе чисел первого вида. И впрямь, вся жизнь на планете Флорида казалась основанной именно на числах первого вида.
Давно известно, что числа первого вида не несут в себе собственное предсказание. Поэтому не было людей, владеющих основным принципом предсказания, который перекрывает самое начало серий второго вида.
Местные люди-личинки рисковали крупными суммами — атрибутом своего процветания — вслепую, не зная точно, выиграют они или проиграют. Они выбирали номера, основываясь на предчувствии или случайным образом, без гарантии выигрыша. Они выбирали лунку для шарика, абсолютно не представляя, было ли их решение верным.
Не припомню, чтобы я когда-либо так удивлялся в своей жизни.
Тем не менее, здесь крылась благоприятная возможность установить контроль над окружением.
Я начал играть. Как правило, я наблюдал партию-другую, чтобы разобраться в происходящем. Потом играл несколько раз… столько, столько требовалось, чтобы выпотрошить крупье.
Я переходил от столика к столику. Когда у заведения кончились деньги, разозленный Блэкджек закрыл казино.
Потом мы играли в покер: я, он и еще несколько человек. Эта игра оказалась еще проще. Внезапно я осознал, что люди-личинки могли видеть в каждый момент времени только одну сторону карт.
Я играл и выигрывал.
Теперь я владел казино, и все эти люди уже работали на меня. Билли Вилкинс тоже играл с нами, и очень скоро я стал владельцем «Змеиного ранчо».
К исходу ночи я владел гоночным треком, прибрежным отелем и театром в городе под названием Нью-Йорк.
Я установил контроль над окружением в достаточной степени для достижения моей цели.
Позже. Наступили золотые деньки. Я увеличивал свое влияние и помогал друзьям.
Я нанял хорошего врача, чтобы он лечил питона, моего друга и бывшего соседа по клетке, от несварения. Моему другу Юстасу я купил яркий спортивный кар, импортировав машину из какого-то далекого места под названием Италия. А Маргарет я буквально завалил норкой, поскольку она зациклилась на мехе этих таинственных животных. Она обожала драпироваться в мех, пошитый в форме шубок, пальто, мантий, накидок и горжеток, хотя погода вовсе этого не требовала.
Некоторое время спустя к моим активам добавились несколько банков, железная дорога, авиакомпания и казино где-то на Гавайях.
— Теперь ты важная персона, — говорила Маргарет. — Тебе следует одеваться получше. Или ты одет? Никогда не знала, что на тебе — одежда, а что — продолжение тебя. Правда, теперь я знаю, где у тебя голова. Думаю, мы должны пожениться в мае. Жениться в июне так банально. Просто представь меня будущей миссис Джордж Альберт Лерой Эллери Макинтош! Знаешь, мы стали настоящим событием. Кстати, ты в курсе, что вышли три твои биографии: «Растущий слизень», «Удар извне», и «Тайная сущность слизня — что она предвещает»? Губернатор пригласил нас завтра на обед. Я очень хочу, чтобы ты научился есть. Если бы ты не был таким милым, ты бы шокировал людей. Я всегда говорила, нет ничего предосудительного в женатом мужчине или слизне с деньгами. Его присутствие рядом с девушкой — яркая демонстрация её предусмотрительности. Знаешь, ты должен сдать анализ крови. Лучше всего завтра. В тебе есть кровь?
— Есть, но, естественно, другого цвета и вязкости. Но я могу временно их изменить, и кровь покажет отрицательный результат во всех тестах.
Маргарет задумалась.
— Они все завидуют мне. Они говорят, что никогда бы не вышли замуж за слизня. Мол, они не смогли бы… Зачем ты таскаешь этот жестяной шар все время с собой?
— Это моя коммуникационная сфера. В нее я записываю мысли. Без нее я исчезну.
— Что-то вроде дневника? Чудно!
Да, это были золотые деньки. Личинки предстали передо мной в новом свете, ибо Маргарет была одной из них. В то же время она выглядела не такой незавершенной, как остальные. Хотя и у неё не было естественного внешнего покрытия, все же Маргарет не выглядела только что выползшей из-под камня. Очень привлекательная девушка. И она заботилась обо мне.
Чего еще я мог пожелать? Я был богат. Уважаем. Я контролировал окружение. Мог помогать друзьям, которых нажил невероятное количество.
Более того, моя старая болезнь — космическая неспособность — оставила меня в покое. Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше. Ах, золотые деньки, текущие друг за другом как сладкий сон! И скоро я женюсь.
IV
Но внезапно все изменилось. Как на планете Гекуба, где летняя жара сменяется мертвенностью зимы за считанные минуты, — на погибель многих путешественников. Так и здесь. Мой мир под угрозой!
Зашаталось все, что я создал. Я буду бороться. Буду сражаться! Найму лучших на планете адвокатов. Пока еще я не побежден. Но надо мной нависла угроза.
Позже. Вероятно, это конец. Апелляционный суд вынес решение. Слизень не может владеть имуществом во Флориде. Слизень не юридическое лицо.
Естественно, я не лицо. Никогда не претендовал им быть. Но я личность! Я еще поборюсь за свои права!
Позже. Я потерял все. Последняя апелляция отклонена. По статусу я теперь животное неопределенного происхождения, и моя собственность целиком отчуждена от меня.
Я подготовил красноречивую апелляцию — и она здорово всех растрогала. В их глазах стояли слезы. Но их губы кривились от жадности. Их толкала личная заинтересованность ободрать меня как липку. Каждый откусит понемногу.
И я остался нищим, слугой, животным, рабом. Таков всегда последний приговор для высаженного — стать презираемым чужаком, сдавшимся на милость чуждого мира.
Однако не все так безнадежно. У меня есть Маргарет. Поскольку мой контракт с Билли Вилкинсом и Блэкджеком Брэкеном, некоторое время назад скупленными мною на корню, более не действителен, Маргарет вполне может управлять моими делами как человек. Думаю, у меня еще остались возможности заработать. И я могу выиграть столько, сколько пожелаю. Мы будем относиться к этому как к технической формальности. Мы обретем новое счастье. Я заново установлю контроль над окружением. Я верну золотые деньки. Несколько старых друзей все еще верны мне: Маргарет, питон Пит, Юстас…
Позже. Мир рухнул окончательно. Маргарет бросила меня.
— Мне жаль, слизень, — сказала она, — но это просто не сработает. Ты все такой же милый, но без денег ты всего-навсего слизень. Разве могу я выйти замуж за слизня?
— Но мы заработаем кучу денег. Я талантлив.
— Нет, теперь ты никто. Ты был фантазией, а фантазии долго не живут.
— Но, Маргарет, я могу выиграть сколько захочу.
— Ни единого шанса, слизень. Никто не будет больше играть с тобой. Ты теперь не у дел, слизень. Я буду скучать по тебе. В моих балладах появятся новые грустные нотки, когда я начну петь за ужин после того, как кончатся норковые шубы. Пока.
— Маргарет, не бросай меня. А как же наши золотые деньки, проведенные вместе?
Но она только повторила «Пока». И исчезла навсегда.
Я опустошен, и моя старая болезнь вернулась. Мое выздоровление было иллюзией. Я настолько болен неуклюжестью, что больше не могу летать. Я вынужден ползать по земле, как одна из этих гигантских личинок. Будь проклята планета Флорида и все ее небесные сестры! Что за ничтожный мир!
Как могла меня провести юная личинка гамма-типа? Пускай уползает обратно под свой родовой камень вместе со всеми остальными личинками того же типа… О, нет, я не это хотел сказать! Для меня она навсегда останется сновидением, разбитой мечтой.
Меня больше не пускают в казино. Они спустили меня вниз по лестнице.
У меня больше нет дома на «Змеином ранчо».
— Мистер Джордж Альберт, — заявил Юстас, — я больше не могу позволить себе появляться рядом с вами. У меня положение в обществе, спорт кар и все такое.
А питон Пит был резок.
— Ну что, большой босс, полагаю, ты не так уж и велик. И точно не был мне другом. Заставив доктора вылечить мое несварение, ты оставил меня один на один с нечистой совестью. Хотел бы я вернуть свое несварение назад.
— Будь проклят этот мир! — воскликнул я.
— Мир, мир, вода, вода, бульк, бульк, — отозвались черепахи а водоеме, мои единственные друзья.
Итак, я вернулся обратно в лес умирать. Я отыскал пусковую мортиру. Когда я почувствую, что смерть уже близко, я запущу коммуникационную сферу в космос и буду надеяться, что она достигнет галактического течения. Кто бы ни нашел ее — друг, путешественник, ты, кто был слишком нетерпелив, чтобы оставаться в своем мире, — вы будете предупреждены об этой планете! Здесь неблагодарность — норма жизни, а жестокосердие — главный вид спорта. Недоразвитые личинки выползают из-под камней и переворачивают мир вверх тормашками, раскачивая своими головами в воздухе. Их дружба скоротечна, их обещания — как ветер.
Скоро я умру.
Перевод Сергея Гонтарева
Семь дней ужаса
— Скажи, мама, ты хочешь, чтобы что-нибудь исчезло? — спросил Кларенс Уиллоугби.
— Пожалуй, неплохо, если бы исчезла эта груда грязных тарелок. А почему ты спрашиваешь?
— Я только что построил Исчезатель, мама. Это очень просто: берешь жестяную консервную банку и вырезаешь дно. Затем вставляешь в нее два круглых куска красного картона с отверстиями в середине, — и Исчезатель готов. Для того, чтобы исчезло что-нибудь, нужно просто посмотреть на этот предмет через отверстия и мигнуть.
— О-о!
— Вот только я не знаю, сумею ли вернуть исчезнувшие тарелки обратно. Давай попробуем сначала что-нибудь другое — ведь тарелки стоят денег.
Как всегда, Мира Уиллоугби была восхищена умом своего девятилетнего сына. Сама она никогда бы не додумалась до этого, а вот он додумался.
— Попробуй-ка Исчезатель на кошке вон там, под дверью Бланш Мэннерс. Если она исчезнет, никто, кроме самой Бланш Мэннерс, не заметит этого.
— Хорошо, мама.
Мальчик приложил Исчезатель к глазу и мигнул. Кошка мгновенно исчезла с тротуара. Мать с интересом посмотрела на сына.
— Интересно, а как работает Исчезатель? Ты знаешь, как он работает, Кларенс?
— Конечно, мама. Берешь консервную банку с вырезанными донышками, вставляешь вместо них два кружка из картона и мигаешь. Вот и все.
— Ну ладно, иди поиграй на улице. И не вздумай без моего разрешения играть с Исчезателем в доме. Если мне понадобится, чтобы что-нибудь исчезло, я сама скажу тебе об этом.
После ухода сына мать почувствовала какое-то смутное беспокойство. “Может быть, мой Кларенс — гениальный ребенок? Не всякий взрослый сумеет построить Исчезатель, а тем более действующий. Интересно, хватилась ли Бланш Мэннерс своей кошки?”
Кларенс вышел из дому и направился к таверне “Гнутый пятак” на углу.
— Хочешь, чтобы у тебя что-нибудь исчезло, Нокомис?
— Да вот я не прочь расстаться со своим брюхом.
— Если я сделаю так, что оно у тебя исчезнет, вместо живота у тебя будет дыра, и ты умрешь от потери крови.
— Пожалуй, ты прав, парень. А почему бы тебе не попробовать Исчезатель на пожарном гидранте во-оо-он там, у ворот?
Это был, несомненно, самый счастливый день для ребятишек всей округи. Они сбегались отовсюду поиграть на затопленных улицах и переулках, и если кто-нибудь из них утонул во время этого наводнения (мы совсем не утверждаем, что кто-то утонул, хотя это и был настоящий потоп), ну что ж, этого следовало ожидать. Пожарные машины (слыханное ли дело, пожарные машины были вызваны для борьбы с наводнением) стояли по крышу в воде. Полицейские и санитары бродили по затопленным улицам, мокрые и озадаченные.
— Возвращатель, Возвращатель, кому нужен Возвращатель? — тонким голоском кричала Кларисса Уиллоугби.
— Да замолчишь ты наконец? — сердито прикрикнул на девочку один из санитаров. — И без тебя полно хлопот!
Нокомис, буфетчик из таверны “Гнутый пятак”, отозвал Кларенса в сторону.
— Пожалуй, я пока никому не скажу о том, что случилось с пожарным гидрантом, — сказал он.
— Если ты не скажешь, я тоже никому не скажу, — пообещал Кларенс.
Полицейский Комсток заподозрил неладное.
— Существует только семь возможных объяснений этого загадочного случая, — сказал он. — Несомненно, один из семи сорванцов Уиллоугби сделал это. Вот только я не знаю, как это ему удалось. Для такой работы понадобится бульдозер, и все-таки что-то от пожарного гидранта останется. Как бы то ни было, один из них сделал это.
У полицейского Комстока был несомненный талант находить правильные пути решения запутанных проблем. Именно поэтому он был рядовым полицейским и патрулировал улицы, вместо того чтобы сидеть в кресле в полицейском участке.
— Кларисса! — сказал он голосом, подобным раскату грома.
— Возвращатель, Возвращатель, кому нужен Возвращатель? — продолжала она выкрикивать тонким голосом.
— Подойди сюда, Кларисса. Как ты думаешь, что случилось с этим пожарным гидрантом? — спросил полицейский Комсток.
— У меня есть невероятное подозрение, только и всего. Ничего определенного. Как только будет известно что-нибудь определенное, я вам сообщу.
Клариссе было восемь лет, и она очень любила невероятные подозрения.
— Клементина, Гарольд, Коринна, Джимми, Сирил, — обратился полицейский Комсток к пяти младшим отпрыскам семьи Уиллоугби. — Что, по-вашему, случилось с пожарным гидрантом?
— Вчера около него бродил какой-то человек. Наверно, он взял гидрант, — сказала Клементина.
— Да не было здесь никакого гидранта. По-моему, вы поднимаете шум из-за пустяков, — заметил Гарольд.
— Городской муниципалитет еще услышит об этом, — сказала Коринна.
— Уж я-то знаю, — сказал Джимми, — да не скажу.
— Сирил! — закричал полицейский Комсток ужасным голосом. Не громовым голосом, нет, а ужасным. Он ужасно себя чувствовал.
— Тысяча чертей! — воскликнул Сирил. — Да ведь мне всего три года. Кроме того, я не понимаю, почему я должен отвечать за какой-то гидрант, хотя бы и пожарный.
— Кларенс! — сказал полицейский Комсток. Кларенс судорожно проглотил слюну. — Ты не знаешь, куда делся пожарный гидрант?
Кларенс просиял.
— Нет, сэр. Я не знаю, куда он делся.
На место стихийного бедствия явилось несколько самоуверенных парней из отдела водоснабжения, которые перекрыли воду на несколько кварталов в округе и поставили на то место, где раньше был пожарный гидрант, заглушку.
— Нам придется представить шефу самый невероятный отчет за всю мою жизнь, — сказал один из них.
Расстроенный полицейский Комсток зашагал прочь.
— Отстаньте от меня со своим котом, мисс Мэннерс, — сказал он. — Представления не имею, где его искать. Я даже пожарный гидрант не могу найти, а вы пристаете ко мне со своим котом.
— У меня идея, — сказала Кларисса. — Мне почему-то кажется, что и кот, и пожарный гидрант находятся в одном месте. Пока я не могу ничем это доказать.
Оззи Морфи носил на голове маленькую черную шапочку, закрывающую лысину. Кларенс направил на шапочку свое оружие и мигнул. Шапочка исчезла, а из крошечной царапины на макушке начала медленно сочиться кровь.
— Я бы не стал больше играть с этой штукой, — сказал Нокомис.
— А кто играет? — спросил Кларенс. — Это взаправду.
Так начались семь дней ужаса в этой тихой, до сих пор ничем не выделявшейся округе. Из парков исчезали деревья; фонарных столбов как не бывало; Уолли Уолдорф приехал с работы, вышел из машины, хлопнул дверцей — и машина исчезла. Когда Джордж Малендорф направился по мощеной дорожке к своему дому, почуявшая хозяина собачонка Пит с радостным визгом бросилась ему навстречу. В двух метрах от него она подпрыгнула ему в руки — и словно растаяла. Только лай слышался еще несколько мгновений в озадаченном воздухе.
Но хуже всего пришлось пожарным гидрантам. Второй гидрант был установлен на следующее утро после исчезновения первого. Он простоял только восемь минут, и наводнение началось сначала. Следующий пожарный гидрант был установлен к полудню и исчез через три минуты. На следующее утро был установлен четвертый.
При операции присутствовали: начальник отдела водоснабжения, главный инженер муниципалитета, шеф полиции со штурмовым отрядом, президент “Ассоциации Родителей и Учителей”, ректор университета, мэр города, три джентльмена из ФБР, кинооператор, ряд видных ученых и толпа честных граждан.
— Посмотрим, как он теперь исчезнет, — сказал городской инженер.
— Посмотрим, как он теперь исчезнет, — сказал шеф полиции.
— Посмотрим, как он те… Слушайте, а где гидрант? — сказал один из видных ученых.
Гидрант исчез, и все основательно промокли.
— По крайней мере, теперь у меня в руках самые сенсационные кадры этого года, — сказал кинооператор. В этот момент киноаппарат со всеми принадлежностями исчез прямо у него из рук.
— Перекройте воду и поставьте заглушку, — распорядился завотделом водоснабжения. — И пока не ставьте нового гидранта. Тем более что это был последний.
— Это уж слишком, — вздохнул мэр. — Хорошо, хоть ТАСС об этом не знает.
— ТАСС об этом знает, — сказал маленький кругленький человечек, поспешно выбираясь из толпы. — Я из ТАСС.
— Если все вы, господа, пройдете в “Гнутый пятак”, — провозгласил Нокомис, — и попробуете наш новый коктейль “Пожарный гидрант”, вы почувствуете себя гораздо лучше. Этот превосходный коктейль состоит из отличного пшеничного виски, кленового сахара и воды из этого самого гидранта. Вам принадлежит честь первыми отведать его.
В этот день дела в “Гнутом пятаке” шли как никогда хорошо. Да это и понятно, ведь именно у его дверей исчезали пожарные гидранты в сопровождении гейзеров бурлящей воды.
— Я знаю, как мы легко можем разбогатеть, папа, — сказала несколько дней спустя своему отцу Кларисса. — Соседи говорят, что лучше уж продать свои дома за бесценок и убраться отсюда как можно скорей. Давай достанем много денег и скупим у них дома. А потом можно будет снова их продать и разбогатеть.
— Я их даже по доллару за штуку не куплю, — сказал папа, Том Уиллоугби. — Три дома уже исчезли, а семьи, живущие в оставшихся, вынесли всю мебель во двор. Только мы одни ничего не вынесли из дома. Может быть, к утру на месте не останется ни одного дома, только пустые участки.
— Отлично, тогда давай скупим пустые участки. К тому времени как дома начнут возвращаться назад, мы будем готовы.
— Возвращаться назад? Так дома вернутся назад? Ты действительно что-то знаешь?
— Не более чем подозрение, граничащее с уверенностью. Пока ничего более определенного мне не известно.
Трое видных ученых собрались в гостиничном номере, который по царящему в нем беспорядку напоминал опочивальню пьяного султана.
— Это превосходит все метафизическое. Это граничит — с квантум континиум. Некоторым образом даже опровергает Боффа, — сказал д-р Великоф Вонк.
— Самый таинственный аспект — это контингенция интрансингенции, — загадочно выразился Арпад Аркабаранан.
— Да, — вздохнул Вилли Мак Джилли. — Кто бы мог подумать, что этого удалось добиться с помощью консервной банки и двух кусков картона? Когда я был мальчишкой, мы пользовались коробкой из-под толокна и цветным мелом.
— Я не совсем вас понимаю, — сказал д-р Вонк. — Вы не могли бы выражаться яснее?
Пока никто не исчез и даже не был ранен, если не считать капельки крови на лысине Оззи Морфи, нескольких капель на мочках ушей Кончиты, с которых исчезли ее любимые причудливые серьги, поврежденный палец, владелец которого схватился за ручку входной двери своего дома в момент его исчезновения, вывихнутый большой палец на правой ноге у соседского мальчишки, собиравшегося пнуть консервную банку, исчезавшую в этот самый критический момент, что вызвало соприкосновение большого пальца с поверхностью тротуара. Только и всего, не более пинты крови и три-четыре унции пострадавшей плоти.
Теперь, однако, положение изменилось. Исчез м-р Бакл, хозяин бакалейной лавки. Это было уже серьезно.
В доме Уиллоугби появились подозрительные личности из полицейского участка в центре города. Однако самым подозрительным и надоедливым оказался мэр города. Обычно он не был таким плохим, но ужас в городе царил уже семь дней.
— В городе ходят ужасные слухи, — сказал один из подозрительно выглядящих типов, — которые связывают определенные события с вашим домом. Что вам об этом известно?
— Я распустила большинство этих слухов, — сказала Кларисса, — но я не считаю их ужасными. Скорее таинственными. Но если вы хотите докопаться до самого дна, задавайте мне вопросы.
— Это ты вызвала исчезновение всех этих предметов? — спросил сыщик.
— Это не тот вопрос, — сказала Кларисса.
— Знаешь ли ты, куда они исчезли? — спросил сыщик.
— И это не тот вопрос, — ответила Кларисса.
— Можешь ли ты вернуть их обратно?
— Конечно, могу. Это любой может. А вы разве не можете?
— Не могу. Если ты можешь, пожалуйста, верни их — поскорее.
— Мне нужно кое-что для этого. Во-первых, золотые часы и молоток. Затем отправляйтесь в магазин и купите мне разные химикалии по этому списку. Кроме того, ярд черного бархата и фунт леденцов.
— Ну, что ты на это скажешь? — спросил один из полицейских.
— Действуйте, ребята, — сказал мэр, — это наша единственная надежда. Достаньте все, что она попросила.
И все было доставлено.
— Почему это все только с ней и разговаривают? — спросил Кларенс. — В конце концов я заставил все это исчезнуть. Откуда она знает, как вернуть их обратно?
— Я так и знала! — закричала Кларисса, глядя с ненавистью на мальчишку. — Я знала, что он во всем виноват. Он прочитал в моем дневнике, как делается Исчезатель. Если бы я была его мамой, я бы выпорола его, чтобы он больше не читал дневник своей сестрички. Вот что происходит, когда что-нибудь серьезное попадает в безответственные руки.
Она положила золотые часы мэра на пол и замерла с поднятым молотком.
— Я должна подождать несколько секунд. В таком деле нельзя спешить. Всего несколько секунд.
Секундная стрелка описала круг и достигла деления, предназначенного для этого момента еще до сотворения мира. Молоток в руке девочки внезапно с силой опустился на великолепные золотые часы.
— Вот и все, — сказала она. — Все ваши тревоги кончились. Смотрите, вон там, на тротуаре, появился кот Бланш Мэннерс — там, откуда он исчез семь дней тому назад.
И кот появился на тротуаре.
— А теперь давайте отправимся к “Гнутому пятаку” и посмотрим, как возвратится первый пожарный гидрант.
Им пришлось ждать всего несколько минут. Гидрант появился из ниоткуда и с грохотом покатился по мостовой.
— Теперь я предсказываю, — сказала Кларисса, — что все исчезнувшие предметы возвратятся точно через семь дней после их исчезновения.
Семь дней ужаса окончились. Исчезнувшие предметы начали возвращаться.
— Как, — спросил мэр девочку, — ты узнала, что они вернутся через семь дней?
— Потому что Кларенс построил семидневный Исчезатель. Я могу построить девятидневный, тринадцатидневный, двадцатисемидневный и семилетний Исчезатель. Я сама собиралась построить тринадцатидневный Исчезатель, но для этого нужно покрасить картонные кружки кровью из сердца маленького мальчика, а Сирил плакал всякий раз, когда я пыталась сделать глубокий разрез.
— Ты действительно знаешь, как построить все эти штуки?
— Конечно. Только я содрогаюсь при мысли, что будет, если этот секрет попадет в руки безответственных людей.
— Я тоже содрогаюсь, Кларисса. А зачем тебе понадобились химикалии?
— Для моих химических опытов.
— А черный бархат?
— На платья моим куклам.
— А фунт леденцов?
— Как вы сумели стать мэром города, если не понимаете таких простых вещей? Как вы думаете, для чего существуют леденцы?
— Последний вопрос, — сказал мэр. — Зачем тебе понадобилось разбивать молотком мои золотые часы?
— О-о, — ответила Кларисса, — для драматического эффекта.
Перевод И. Почиталина
Трансцендентальные тигры
„Трансцендентальные[3] тигры“
У Кэрнадин Томпсон день рождения. Ей исполнилось семь лет. Таким образом, детство осталось позади, и она вступила в пору расцвета сил. Это была ее собственная фраза и ее собственная идея о значимости данной вехи.
Однако другие, в основном взрослые, считали ее девочкой в некоторых отношениях отсталой, хотя не по годам развитой в чем-то другом.
Кэрнадин получила четыре подарка: белый резиновый мяч, зеленую пластиковую лягушку, красную шапочку и небольшую проволочную головоломку.
Первым делом она порвала на части пластиковую лягушку, расценив ее как чересчур детскую. Слишком много чести! Потом примерила шапочку, приговаривая, что джинн прислал ей этот подарок в качестве символа власти. На самом деле никто не знал, кто прислал красную шапочку. Важная шапочка, кстати. Не будь она важной, о ней бы не упоминалось.
Вслед за этим Кэрнадин быстро решила проволочную головоломку, после чего вернула ее в исходное состояние. Затем она проделала кое-что с белым резиновым мячом, отчего глаза ее матери вылезли на лоб от удивления. Не успели они полностью вернуться на место, как девочка снова проделала что-то с мячом, в результате чего тот стал выглядеть как прежде.
Джеральдин Томпсон еще долго ходила с вытаращенными глазами. Муж сделал ей замечание, и она обратилась к врачу. Медицина не нашла причину глазной аномалии, впрочем, истинной причиной были проделки ее дочери Кэрнадин.
— Интересно, обратил ли ты внимание на маленькую проволочную головоломку, которую я подарил дочери? — спросил Тиберн Томпсон у соседа Х. Хорна.
— Только чтобы отметить, что она стоит не дороже четвертака, — ответил Хорн, — и еще раз восхититься твоим благоразумным отношением к деньгам. Я не говорю, что ты скупой, Тиберн. Я никогда не верил в добродетель преуменьшения. У тебя талант маскировать скупость так, чтобы она казалась щедростью.
— Знаю. Многие не понимают меня. Но посмотри на головоломку. С виду она незатейливая, но ей более двух тысяч лет. Она не решаема в принципе, поэтому должна занять Кэрнадин на некоторое время — у девочки избыток энергии. Это одна из самых старых из нерешаемых головоломок.
— Но, Тиберн, Кэрнадин только что решила ее, — сказала его жена Джеральдин.
— Это одна из девяти головоломок невыполнимой системы, описанных Анаксимандром в пятом веке до нашей эры, — продолжал Тиберн. — И знаешь, за время, прошедшее с тех пор, к списку добавились только две новые головоломки.
— Кэрнадин, — попросила мать, — покажи еще раз, как ты это делаешь.
Кэрнадин показала.
— Причина ее нерешаемости, — продолжал Тиберн, — столь очевидная для меня, как инженера-проектировщика, может не быть столь же очевидной для тебя. Это связано с четностями и нечетностями положений. Многие нерешаемые классические головоломки делаются из веревки. Та, что я купил, — проволочная миниатюра веревочной головоломки. Говорят, что в ней использован тот же принцип, что и в гордиевом узле. Впрочем, то же самое говорят и еще о двух веревочных головоломках.
— Но она только что решила ее, Тиберн, дважды, — возразила жена.
— Не перебивай меня, Джеральдин. Я объясняю кое-что Хорну. Люди потратили годы на головоломки, — инженерный склад ума и признание патентной невыполнимости были менее распространены в прошлые века. А эта, я считаю, лучшая из всех нерешаемых. Она обманчива. Она выглядит так, как будто точно есть способ ее решить.
— Я просто уверен, что смогу ее решить, Тиберн, — подтвердил Хорн.
— Не сможешь. Ты упорный, и головоломка сведет тебя с ума. Решение совершенно невозможно. Для выполнения задачи тебе потребуется переместить ее в другое измерение и потом вернуть назад.
Кэрнадин снова проделала нечто странное с резиновым мячом.
— Как ты сделала мячик красным, а потом снова белым, Кэрнадин? — спросила у нее мать.
— Вывернула наизнанку. Внутри он красный.
— Но как ты вывернула его, не разорвав?
— Если его разорвать, мама, он испортится.
— Но невозможно вывернуть мячик, не разорвав.
— Если есть красная шапочка, то возможно.
— Дорогая, а как ты решила головоломку, которую отец называет нерешаемой?
— Вот так.
— Это понятно. Я имею в виду, как так выходит, что у тебя получается то, чего не удавалось никому прежде?
— Все когда-нибудь случается в первый раз, мама.
— Может быть. Но даже для первого раза должно быть внятное объяснение.
— Это все красная шапочка. С ее помощью я могу все.
Итак, Кэрнадин Томпсон в расцвете сил и в красной шапочке отправилась на поиски остальных тигров. «Бенгальские тигры» — самое эксклюзивное общество в мире. Оно состояло из одного действительного члена — самой Кэрнадин, — и трех условных, или неполноценных, членов: ее младшего брата Юстаса, толстяка Фроста и Пи Ви Хорна. Все трое еще дети, самый старший из них не дотягивал трех месяцев до возраста Кэрнадин.
Бенгальские тигры пока не обрели мировой известности, будучи основаны всего лишь день назад. Кэрнадин Томпсон была удостоена Первой Полоски пожизненно. Других предложений не поступило.
Однако по совокупности аргументов «Бенгальские тигры» стали теперь самым важным обществом в мире. Новая сила уже начала действовать. Оставался единственный вопрос, какую форму она примет, но, похоже, она уже выбрала членство в этом эзотерическом обществе.
Климен Шарден, пищущий в «Bulletin de la Socit Parahistorique Franaise», выразил оригинальную идею:
«Существуют ли трансцендентальные силы — больше не вопрос. Они уже так близко, что их аура ерошит наши волосы. Мы — объект посещения. Сила, двигающая горы и миры, — в двух шагах. Реальность посещения доказана, хотя методы его обнаружения не могут быть сейчас раскрыты.
Вопрос лишь в том, найдется ли индивидуал или группа людей, обладающих достаточной самоуверенностью, чтобы принять Силу. Она не дастся легко. Она не достанется слабаку или трусу. Существует печальная вероятность, что не найдется никого в мире, готового ее принять. Возможно, это не первое посещение, но оно может стать последним. Сила, какой бы ни была ее форма и сущность (она реальна, ее присутствие зарегистрировано высокоточным оборудованием), и Посещение могут миновать нас как недостойных».
Цитата для тех, у кого не было возможности прочесть статью в журнале.
Стихия ударила по западной окраине городка Карни, штат Небраска. Сотрясение от удара зарегистрировали приборы по всему миру. Ударная волна снесла фермерские постройки на много миль вокруг.
Площадь разрушений представляла собой почти идеальный круг около двух миль в диаметре, таким образом, свыше двух тысяч акров попало в зону разрушений. В первых репортажах сообщили, что бедствие не похоже ни на одно из известных. В последующих репортажах уточнили, что оно похоже на все известные бедствия сразу.
После удара остался огромный кратер, как от метеорита; сильная жара и загрязнение, как от расщепляющихся материалов; языки лавы и густые облака пепла, как после извержения вулкана класса Кракатау. А также внезапная тишина, которая длилась не более двух секунд в действительности и около двух часов по свидетельствам очевидцев. А потом — шум всех видов.
В первых репортажах сообщали, что дыра уходит вглубь земли на три мили. Так сказали, просто чтобы назвать какую-то цифру и избежать паники. На самом деле глубина дыры была неизвестна.
Она была гораздо больше трех миль — до того, как землетрясение засыпало дыру сверху, а раскаленная магма просочилась и заполнила ее снизу. После того, как основная фаза извержения закончилась, сменившись воскообразным истечением лавы, глубина дыры все еще оставалась гораздо больше трех миль.
Слышал ли кто-нибудь предшествующий шум, видел ли метеорит или какой-нибудь другой летящий объект? Нет. Звука не было, но было что-то, имеющее тон немного выше, чем звук.
Не было ни метеорита, ни падающего шара. Но было то, что некоторые назвали гигантским столбом света, а другие — столбом из блестящего металла: объект слишком большой, чтобы его оценить, и слишком быстро исчезнувший, чтобы его запомнить.
Один фермер заявил, что объект был похож на острие гигантской иглы, быстро увеличившейся в диаметре до одной мили, и длиной в сотню тысяч миль.
Имел ли он представление, как оценивать расстояния? Безусловно, ответил фермер, я знаю, как оценивать расстояния. Девяносто ярдов вон до того дерева; семьсот ярдов до той ветряной мельницы. Тот ворон летит направо в восьмидесяти ярдах над землей, хотя большинство предположило бы, что он выше. А этот паровозный свисток доносится с расстояния пяти миль с четвертью.
Но знал ли он, как оценивать большие расстояния? Понимал ли, как это много, — сто тысяч миль? Безусловно, ответил он, большие расстояния оценивать легче, чем малые. И тот стремительный яркий столб был сто тысяч миль длиной.
Фермер стал единственным, кто предложил хоть какие-то цифры. Всего несколько человек видели странный объект. И все они придерживались точки зрения, что его появление длилось доли секунды.
"Должно произойти что-нибудь важное, чтобы отвлечь внимание людей от необъяснимого происшествия вблизи города Карни, Небраска, — заявила группа государственных советников. — Лучше не допускать слишком пристального интереса к событию, пока мы не найдем ему объяснения».
К счастью, произошло кое-что, что отвлекло внимание людей от необъяснимого происшествия вблизи городка Карни. От необычного происшествия в Небраске их отвлекли происшествия вблизи или в самих городах Хэнксвил (штат Юта), Крамптон (штат Мэриленд), Локаст Бай (штат Арканзас) и Поуп-сити (штат Джорджия). Внезапные разрушения были абсолютно схожи по типу и необъяснимости происхождения. Общенациональная паника перешла в новую стадию, и остановить ее было не менее важно, чем разобраться с самими бедствиями.
В свою очередь от этих бедствий внимание людей отвлекли дальнейшие катастрофы в Хайморе (Южная Дакота), Нижнем Гилморе (Нью-Хемпшир), Черрифорке (Огайо) и Роузвилле (Южная Каролина).
От этих дальнейших бедствий людей отвлекли новые катастрофы, — и так могло продолжаться до бесконечности.
И продолжалось.
Из-за череды катаклизмов, сыпью покрывших территорию страны, академические дискуссии на тему нового потенциала человечества не смогли собрать большой аудитории. Люди, озабоченные текущими событиями, говорили, что цивилизация не просуществует достаточно долго, чтобы получить новый потенциал или что-то в этом роде.
За исключением Винкерса, обозревателя из «Взгляда в будущее», который обратил на разрушения не больше внимания, чем если бы они были чередой фейерверков:
«Это парадоксально, что мы знаем столь много и, несмотря на это, столь мало о том, что представляет из себя Имманентная Сила Мира, Посещение, или, как теперь модно стало его называть, „Poyavlenie“.
Она была обнаружена двумя независимыми способами. Более раннее утверждение, что ее зафиксировали с помощью измерительной аппаратуры, не совсем правильное. Ее зафиксировали не с помощью измерений, а с помощью пара-измерений. Это совсем юная наука о сборе информации из моделей сбоев измерительной аппаратуры и о методах извлечения данных из этих моделей. Те процессы, которые наши точнейшие инструменты не способны зарегистрировать, не менее важны, чем те, которые они регистрируют. В некоторых случаях — даже более важны. Модели сбоев, если рассматривать их через призму тезиса о Посещении, демонстрируют разнообразие, но не беспорядочность, что подтверждает обоснованность метода.
Характеристики Силы, смоделированные с помощью этого метода, таковы: она иглообразная, гомодинамичная[4], гомохиральная[5] и — как бы курьезно это ни звучало, но уверяю Джектора, я абсолютно серьезен, — гомоеотелеутичная.[6]
В дополнение к этому, в ней обнаружен вербальный фактор, на первый взгляд невероятный. Он взывает к старым духам. Это почти то же самое, как если бы мы слышали доносящийся до нас шепот примитивной магии. Как если бы мы имели дело с Логосом — словом, которое было до возникновения мира. Но как нам разобраться в логике Логоса?
Поистине, выявленный вербальный фактор — самый озадачивающий аспект из всех. Следует ли нам верить, что Сила управляется гомеопатически посредством чего-то вроде ведьминых рифмованных заклинаний? Это можно признать только в самом крайнем случае, поскольку мы знаем об этом лишь косвенно. Но если рассмотреть все вышесказанное в свете гипотезы Лаудермилка, у нас появляется не вполне научное, но мрачное предчувствие.
Насколько велика Сила? Мы не знаем. Мы не можем измерить ее в динах. Мы можем лишь сравнить ее воздействие с воздействием других сил, но различие столь велико, что сравнение не удается. Мы можем учесть влияние теории Титтер-Стампфа или прогноза Крогмана-Кейла на измерительную аппаратуру или пара-измерительную аппаратуру. И наше робкое заключение: «действительно очень велика».
Кэрнадин Томпсон принялась жадно читать газеты. Это было неожиданно, поскольку чтение было ее слабым местом. У нее возникло так много проблем с историей о котенке и колокольчике из «Моей первой книжки», что ее матери пришлось поверить в полное отсутствие устных способностей у дочери. Что было опровергнуто в следующий момент, когда Кэрнадин вырвала обидевшие ее страницы и объяснила матери и всему миру, что они могут сделать с этим самым котенком, причем проявила при этом великолепные устные способности. Но, казалось, что способностей для чтения у Кэрнадин не было.
Однако теперь она читала все, что находила о новых бедствиях, обрушившихся на страну, читала вслух громким голосом, и названия разрушенных городов звучали, как звякающие колокольчики.
— Когда ты научилась читать так хорошо, Кэрнадин? — спросила у нее мать. — Откуда ты знаешь, как правильно произносить названия городов?
— О, невелика хитрость, мама. Просто вникаешь в суть — и произносишь. Крамптон! Локаст-Бай! Поуп-Сити! Черрифорк! Роузвиль!
— Но как ты можешь читать трудные названия в газете, когда ты не могла прочесть короткую историю про маленького котенка?
— Мама, с учетом того, что сейчас происходит, думаю, что у этого проклятого котенка есть очень хороший шанс получить то, что ему причитается.
Далеко, очень далеко состоялась беседа.
Она произошла в гигантском мире чрезвычайной утонченности и независимости от материи. Это такой мир, в отношении которого Лаудермилк выдвинул гипотезу Лаудермилка. То факт, что такой мир существовал, даже в неопределенном смысле, было триумфом Лаудермилка. Жаль, что он об этом не знал.
— Значит, ты вручил? — спросил Сферос, древняя округленность этого продвинутого мира.
— Вручил, — ответил Аку, нетерпеливый молодой лукавец, припадая лбом к полу. (Насчет лба — это образно выражаясь, поскольку не было в том мире ни лбов, ни полов.)
— И уверен, что вручил достойному?
— Разыгрываете? Естественно, я не уверен. Не всякое вручение заканчивается успешно, так же как не всякое семя прорастает. Каждый учится на своем опыте, а это — моя первая миссия подобного рода. Я изучил большую часть того мира, прежде чем нашел подходящую кандидатуру. Вначале я думал, что она отыщется среди мастеров контрапунктических миров, — потому что даже там у них есть такие миры и их владельцы. Но ни один из тех людей — они называли себя актерами, антрепренерами и продюсерами — не подошел. Никто не обладал спокойной уверенностью, которая является нашим главным требованием. Та уверенность, которую они выказывали, была совсем иного рода, не настоящей. К тому же, их контрапунктические миры также не являлись подлинными творениями в нашем понимании, — не настоящие миры совершенно.
— И где ты искал потом? — спросил Сферос.
— Я присмотрелся к главам аппарата. В умственно отсталых мирах часто присутствует аппарат, или „правительство“. В том мире их много. Но их лидеры — хотя большинство из них демонстрировало жажду власти — не проявили спокойной уверенности, которая должна сопутствовать такому стремлению. Их уверенность, если можно назвать ее таковой, была истерического сорта. К тому же почти все они оказались продажны, так что я отверг их.
— А потом?
— Потом я перебрал малообещающие варианты. Тех, кто использует в работе очевидную власть над другими видами живых существ, — жокеев, свинопасов, пасечников, заклинателей змей. Но и тут я не нашел того, что искал, — абсолютную уверенность истинно высшего существа.
— А потом, Аку?
— Потом я задействовал приборы, ибо больше не доверял собственному суждению. Я включил регистратор спокойной уверенности в автоматический режим и облетел планету. Во всем мире нашелся один человек с абсолютной уверенностью, невосприимчивый к сомнениям любого рода и в первую очередь относительно самого себя. Этому человеку я сделал пожалование и внушил идею великой Силы и Проницательности.
— Ты совершил ошибку. К счастью, ошибка небольшая, поскольку мир невелик. Ты слишком стремился произвести хорошее впечатление, выполняя первое задание. Когда объект не найден, нужно оставить планету в покое. На очень многих из них не найти ничего подходящего. Уверенность — не единственное качество, которое входит в наши квалификационные требования; просто на это свойство личности мы смотрим в первую очередь, изучая чужие социумы. Тот, кому ты сделал пожалование, хотя и полон уверенности, не обладает другими не менее важными качествами. Фактически, это была форма куколки, представитель класса, известного под местным названием „малыш“. Ну да что сделано, то сделано. К счастью, дарованная сила заключает в себе фактор безопасности. Худшее, что она может сделать, — разрушить их мир и изолировать его ради безопасности остальных. Ты осуществил пожалование правильно?
— Да. Я оставил Красную Шапочку как символ власти и могущества. Произошло мгновенное принятие и осмысление.
— Теперь перейдем к большим городам, — прокричала Кэрнадин Томпсон в здании клуба «Бенгальские Тигры».
— Павлин и фазан — Нью-Орлеан!
Она воткнула иголку в Нью-Орлеан на карте, и громадный столб длиною в сто тысяч миль обрушился прямо в центр города.
Иголку? Не булавку? Нет, нет. Булавки не работают. Они из простого металла. Иглы! Только иглы!
— Мухомор — Балтимор, — взвыла Кэрнадин, втыкая другую иголку, и старый город превратился в руины. Ни одно название города не выкрикивалось так громко и с такой ненавистью, как это.
— Фрости пухнет от болоньи, — выбираем Сан-Антонио.
И Кэрнадин с красной шапочкой набекрень и горящими глазами вонзила в Сан-Антонио иглу с полной уверенностью в своей силе. Некоторые из нас любили это место и предпочли бы, чтобы оно сохранилось.
— Краска и кисти — Корпус Кристи.
— Я тоже знаю одно, — прокричал Юстас и нахлобучил красную шапочку на голову.
— Тесто и яйки — Цинциннати, — сочинил он на ходу и воткнул иголку, решительно, но неудачно.
— Не очень хорошо рифмуется, — заметила Кэрнадин. — Держу пари, ты все испортил.
Так и вышло. Это было совсем не аккуратное и безупречное истребление. Это была грубая, кровавая работа — вовсе не то, что вам понравилось бы.
— Юстас, сбегай домой и притащи большую карту мира, — приказала Кэрнадин, — и еще игл. А то скоро останемся без дела.
— Микки Маус — город Даллас.
— Дай и мне тоже, — умоляюще попросил Пи Ви и схватил красную шапочку.
— Скачущий Фраго — очередь Чикаго.
— Я очень хочу, чтобы вы, народ, дали мне возможность самой заниматься этим делом, — заявила Кэрнадин. — У вас получается ужасно.
Да. Это было ужасно. Гигантская игла больше не втыкалась ровно в поверхность. Она вспучивала ее, вырывая огромные куски земли, и оставляла на ней рваные раны. Некрасивые и некруглые. Примитивное жестокое уничтожение.
Если лично вы не стремитесь в эпицентр событий, тогда найдите возвышенность недалеко от городка, к названию которого трудно подобрать рифму, и дуйте туда со всех ног. Но если вы не сможете выбраться из своего города в течение ближайших минут, то забудьте об этом. Будет слишком поздно.
Кэрнадин продолжила с азартом:
— Мишка Тедди — Скенектеди.
Получилось одно из самых круглых и ровных отверстий.
— Пес и киска — Сан-Франциско.
Хороший удар. Уничтожил сразу всех людей, а потом вызвал цунами и землетрясения по всему региону.
— С горки вниз и снова горка, — пришла очередь…
Перевод С. Гонтарева
Ох уж эти мне ребята
— Мистер Маккарти, вы не знаете, чем лучше всего очистить нож от крови? — спросила маленькая Кэрнадин.
Мосбэк Маккарти, старый полицейский, удивился;
— Что за странный вопрос от девятилетней девочки?
— Уже десятый пошел, — возразила Кэрнадин.
— Вначале я должен посмотреть, что за нож.
— Да это я просто так спросила, к тому же нож не у меня, а у Юстаса.
— Ну-ка тащи его сюда быстренько вместе с ножом.
— Я не знаю, где он.
— Так пошли за ним одного из своих поклонников.
— Я не знаю, какие такие поклонники.
— А Толстяк Фрост, он разве не твой дружок?
Итак, Толстяка послали с поручением.
Незастроенный клочок земли с маленьким оврагом позади был единственным местом, где старый Мосбэк мог спокойно посидеть и отдохнуть. На этом же клочке земли находилось помещение клуба тайного общества «Бенгальские тигры», перед которым стояла скамейка.
Мосбэк был слишком толст и высок, чтобы заходить в клуб, но он каждый день присаживался на скамейку и отдыхал.
— Вы нам, однако же, портите репутацию, — заявила ему Кэрнадин Томпсон. — Все другие клубы нас презирают за то, что к нам заходит фараон. А вам следовало бы знать, что мы должны убивать полицейских согласно нашему уставу.
— Вот не знал, что у «Бенгальских тигров» существует устав. Он что у вас, писаный?
— Не совсем чтобы писаный, но вполне действующий, из девятнадцати параграфов, так, мне кажется, их называют. Он передается устно от отца к сыну и от матери к дочери со времен основания клуба.
— И давно клуб основан?
— Завтра будет две недели.
Тут пришел Толстяк Фрост и привел Юстаса, но без всякого ножа.
— Я слышал, Юстас, ты где-то нашел нож со следами крови? — спросил Мосбэк.
— Нож принадлежит мне, и я не скажу, где он. Фараоны всегда отбирают у людей разные вещи. Это у них называется изъятием вещественных доказательств.
— Папа говорит, что все полицейские — мошенники, — присовокупила Кэрнадин. — Но я сказала: «Все, кроме Мосбэка», на что папа заявил: «Да, это верно, он не мошенник, он просто дурак».
— Ну, твой папа тоже не гений, Кэрнадин. Так вот, Юстас, малышам не положено иметь окровавленные ножи. Где ты его взял и куда спрятал?
— Я вытащил его из одного человека.
— Надо говорить: «Я взял его у одного человека», понятно? Он что, сам тебе его дал?
— Не совсем. Но он ничего против не сказал.
— Но говорил он, что ты можешь взять его?
— Нет, он вообще ничего не говорил. Я спросил его, но он не стал отвечать. Я не мог его разбудить.
Мосбэк заволновался.
— Юстас, сейчас же принеси мне нож и покажи, где ты его взял, а не то я тебя так отшлепаю по попе, что своих не узнаешь. Я не позволю себя дурачить какому-то восьмилетнему мальчишке.
— Уже девятый пошел, — сказал Юстас. — Я как раз собирался положить нож на место, откуда его взял, а потом умыть руки. С моей репутацией с законом лучше не связываться.
И он убежал.
Мосбэк, тяжело пыхтя, последовал за ним. Он видел, как мальчик легко, будто кошка, взобрался на дерево, а потом спустился назад. Нож был у него спрятан в развилке дерева. С ножом в руке он сбежал в овраг, и, когда Мосбэк добрался до места действия, он замер от ужаса, на голове волосы встали дыбом. Потому что на дне оврага лежал какой-то бродяга, в груди его торчал нож, а маленький Юстас на глазах полицейского уходил от убитого.
— Юстас, что ты наделал? — прошептал Мосбэк.
— Я, как и говорил, вставил нож туда, где его взял.
— И куда же ты теперь направился, что ты сейчас собираешься делать?
— Как что? Собираюсь мыть руки.
Только тут старый полицейский впервые заметил, что руки мальчика выпачканы не грязью, а черной, запекшейся кровью. И он про себя заметил, причем не впервые, что слова детей надо всегда воспринимать в прямом смысле.
— Вы, Мосбэк, видимо, самый глупый полицейский в подразделении, — сказал капитан Кейл. — Невероятно, как это вы могли допустить, чтобы на вашем участке убили человека, а потом позволить восьмилетнему ребенку вытащить из трупа нож, убежать с ним и спрятать на дереве, наконец, вернуться назад и вставить его обратно на место. Вы хоть знаете убитого?
— Нет.
— А кто живет в тех пяти домах, что упираются задами в овраг, знаете?
— Да, знаю.
— Кто?
— В первом живет человек, которого я ни разу вблизи не видал: он всего неделю назад купил этот дом и только вчера переехал. Сайлас Шермерхорн — бывший судья. Во втором — Тибор Томпсон, отец вот этих Юстаса и Кэрнадин. Человек страшно вспыльчивый. В третьем — Карлос Рей, кубинец, владелец табачного ларька в центре города. В четвертом — Фрэд Фрост, отец Толстяка.
— У мальчика, надо полагать, есть имя.
— Финбар.
— Прекрасно. Так, отец этого Толстяка…
— Он прекрасный механик, но никуда не годный изобретатель. Этот Фрост все, что зарабатывает на одной профессии, теряет на другой. И наконец, в пятом доме живет Хэтчел Горн — гравер.
— Тащите их всех сюда немедленно: мужчин, женщин, стариков и детей. И никого из посторонних сюда не пускайте. Поговорим с ними прямо здесь. Вот там, возле кукольного домика, отличное место.
— Это такой же кукольный домик, как вы трактор, — сказала Кэрнадин с негодованием. — Это здание клуба тайного братства «Бенгальские тигры», а там, где членами являются девочки, то добавляется другое слово.
— Какое же, детка?
— Сестерство, я полагаю.
— А-а…
Постепенно начали подходить люди.
— Сайлас Шермерхорн, — представился седой, внушительного вида осанистый мужчина. — Я бывший судья, хотя и не в этом штате. Мне сказали, что тут произошел какой-то инцидент.
— А эта леди — ваша жена? — спросил капитан.
— Ты, чертова перечница, не видишь — это моя мама, — зарычал на него Юстас.
— Я бы не возражала, — сказала та. — Во всяком случае, буду иметь в виду. Он, кажется, вполне приличный джентльмен и, надо полагать, придаст вес нашему кварталу. Однако меня зовут Гидди Томпсон.
— Гидди? Что за странное имя?
— Это уменьшительное. Меня зовут вообще-то Гэральдин Изабелла Дороти Дорис Извельт. Так меня нарекли в честь моих пяти теток. Теперь вам понятно, каким образом оно уменьшилось до Гидди?
— Понятно.
— Миссис Шермерхорн вот уже много лет как в могиле, — сказал с достоинством седоволосый джентльмен.
— А вот идет в купальном костюме Роза Рей, — сказала Гидди.
— Ну, милочка, — затараторила та. — Неужто столько шума из-за того, что я нечаянно наскочила на твой стоявший автомобиль? И зачем тебе понадобилось собирать всех соседей, чтобы рассказать об этом? Как ты узнала, что это сделала я?
— Да что ты, Роза, я и думать об этом не думала, — сказала Гидди. — Вот это, капитан, Эннели Фрост, а это ее муж Фрэд. Бог ты мой, Фрэд, что это у вас за лохматый вид по утрам? А это идет Фря Горн. По-настоящему-то ее зовут иначе, это уж я прозвала ее так. Думаю, что это весьма метко, вы не находите? Ну а ребятишки эти — часть наши, а часть наших соседей. Вам их рассортировать или не надо?
— Потом, возможно. Мосбэк, тут не хватает троих мужчин. Где они?
— На работе. Но они сейчас придут.
— А прислуга? Прислуга где? Так, всех детей отправьте в кукольный домик, и пусть пока сидят там. Я не хочу, чтобы они путались тут под ногами.
— Я, кажется, уже раз объясняла, что это не кукольный домик, — сказала Кэрнадин, свирепо выпятив нижнюю челюсть. — А потом, Пью Горну вход туда запрещен.
— Это почему же?
— Он механически выбыл из общества «Бенгальские тигры» за неуплату членских взносов.
— Ну, сейчас это прямой приказ департамента полиции, — сказал капитан Кейл.
— Если так, то пусть входит, — сказали ребята, но впустили Пью в домик весьма неохотно.
Капитан Кейл отвел на несколько шагов в сторону Фрэда Фроста.
— Вы также ничего не знаете об этом? — спросил он его тихо.
— Я даже не знаю о чем, — ответил Фрэд.
— Разве ничто вас не беспокоило этой ночью?
— Как же, беспокоило. Телефонные звонки, — признался Фрост.
— Кто звонил?
— Да соседи все. Жаловались на шум, производимый моими станками.
— А ночью никакого особого шума не слышали в овраге?
— Нет, не слышал. И готов держать пари, что никто не слышал. В том грохоте, который я производил, любой шум легко потонет.
— И вы ни разу не выходили из дому прошлым вечером?
— Вроде бы нет. Впрочем, я полностью забываюсь, когда работаю над каким-либо изобретением. Кажется, я раза два включал токарный станок на автомат, а сам уходил за пивом.
— Вы шли через овраг?
— Не помню, может, и шел. Со мной это бывает. Я никогда не замечаю, где я иду, если задумаюсь.
— Вы разговаривали с кем-нибудь вчера вечером?
— Точно не скажу.
— Спросите его, почему он не поставит в своем шумоподавителе глушитель, — сказала Кэрнадин. — Тогда бы у него подавлялись не только прямые шумы, но и боковые.
— Детка, я приказал тебе сидеть вон в том кукольном домике.
— Я не пойду в этот противный кукольный домик. Если я туда вернусь, это может стоить мне жизни. Меня только что исключили из тайного общества. Для меня это полный крах. Ведь я носила золотые нашивки, вы понимаете?
— Не очень.
— Ну, нашивки главы клана. И вот теперь мне приходится дрожать от страха за свою жизнь. Сами понимаете, мы не можем позволить ходить в живых бывшим членам нашей организации. У нас слишком ужасные тайны. Каково будет, если мир узнает о них?
— Я весь содрогаюсь от ужаса, — отвечал капитан Кейл.
— Теперь мне только и остается ждать руки наемного убийцы, — сказала Кэрнадин. — К счастью, это уже недолго.
— В некоторой степени, я надеюсь, нет, — отвечал капитан Кейл. — Но, полагаю, мы могли бы предложить вам полицейскую защиту против самых подлых убийц, каких могут нанять «Бенгальские тигры».
— Много помогла ваша защита человеку, что лежит убитый в этом овраге, — заметила Кэрнадин.
— Что? Какой убитый?! — вскричал Фрэд Фрост.
— Сейчас все узнаете, — сказал капитан. — А ты, детка, ну-ка марш отсюда в кукольный домик, и чтобы я вас там больше не слышал.
— Хорошо. Но если меня убьют, вся ответственность ляжет на вас.
Тут к капитану подлетел какой-то грозный мужчина.
— Чего вы тут дразните детей? — закричал он на полицейского. — И почему не пошлете за дрогами, чтобы вывезти труп из этой канавы? Возчик живет на Эй-стрит, единственный оставшийся в округе возчик. Труп надо немедленно убрать отсюда, он завоняет, как только до него доберется солнце.
— Во-первых, кто вы такой, сэр? — спросил капитан.
— Я Тибор Томпсон. Земля, на которой вы стоите, моя земля. А это моя дочь, на которую вы только что накричали. Попробовали бы вы на меня так накричать, я бы с вас шкуру спустил, как с банана. Ну-ка, народ, разойдись, выматывайтесь вон отсюда, нечего тут толпиться. Мосбэк, прихвати с собой убитого бродягу, а заодно и этого индюка. Чего ты мне звонил на работу, прося, чтобы я пришел домой?
— Здесь я приказываю, — сказал разгневанный капитан Кейл.
— Только не мне, — бросил Томпсон.
— Что за шум, Тиб? — спросил один из подошедших, Хэтчел Горн.
— Да вот тут надо подобрать мертвого бродягу из канавы, а эти бездельники из полиции и не чешутся. Карлос, дай-ка мне сигарету, ты все равно их покупаешь оптом.
— Вы, значит, два других соседа? — спросил Кейл.
— Да, — ответил Карлос Рей.
— Тогда нам, может быть, стоит пойти и посмотреть на труп, пока этот горластый друг еще не приказал завернуть его в саван.
Все спустились в овраг и столпились вокруг убитого человека.
Эннели Фрост задохнулась от изумления, издала легкий вскрик, потом побледнела и зашаталась.
— Ах, сейчас я упаду в обморок, — промолвила она.
— Вы всегда так говорите, только никогда не делаете, — заметила Фря Горн.
— Никто из вас прежде не видел этого человека? — спросил капитан.
— У меня такое впечатление, будто я видел его вчера днем, — сказал Фрэд Фрост. — Но только где и когда, убей бог, не помню. А может, я ошибаюсь.
— Вы разговаривали с ним?
— Кажется, я сказал: «Ну и жарища!» Во всяком случае, что-то подобное я говорил кому-то вчера. Где же я видел это лицо?
— Может, он шатался возле этого оврага?
— Может быть. Не уверен. Знаете, я очень рассеян.
— Да, вы уже упоминали об этом.
— Вряд ли когда я видел его, — сказал Тибор Томпсон. — Я что-то не замечал здесь в последние дни каких-либо бродяг. Я обычно строго слежу за этим и сразу принимаю меры. Из-за детей, понимаете ли. Никто из них никогда не встречал этого типа, а так бродяги — это их лучшие друзья. Те часто спят в этой канаве: рядом железная дорога. Но этого я никогда раньше не видел.
— И я не видел, — заявил Хэтчел Горн.
— Я тоже, кажется, нет, — сказал Карлос Рей. — Я могу опознать любого, кто хоть раз заходил ко мне в ларек. Но этот, кажется, нет. А в других местах я не бываю и никого не вижу. Приходится много работать за прилавком.
— Ну а вы, судья? Вы его никогда не встречали?
— Возможно, что и встречал. Память у меня такая же, как у мистера Рея, узконаправленная. Обычно я запоминаю тех, кто предстает передо мной в суде. И вот сейчас у меня такое впечатление, что именно там я его видел. Конечно, мертвый — не живой, многие характерные черты — голос, манера поведения, жесты, по которым можно опознать человека, — исчезают.
— Но вы считаете, что он бывал перед вашим судейским столом?
— Кажется, так. Наверняка. У него, надо заметить, преступный тип лица. А одежда такая, какую обычно выдают человеку при выходе из тюрьмы.
— Да, я это заметил. Если он ее не снимал, а он, по всей видимости, этого не делал, то эта одежда на нем уже пять дней. А нож вполне может оказаться обычным тюремным кухонным ножом. Впрочем, они не везде одинаковы. Может статься, нож взят из другого места. Оружие-то весьма дешевое. А вы, женщины, никто из вас не встречал раньше этого человека?
— Упаси бог, — отвечала Эннели Фрост.
— Он похож на президента Парагвая, — заметила Роза Рей. — Как, по-вашему, такое может статься?
— Вряд ли, — отвечал капитан Кейл. — А вы, миссис Фря… извините, миссис Горн, вы никогда не встречались с этим человеком?
— Совершенно исключено, — заявила миссис Горн.
Дело пока на этом закончилось. Приехало еще несколько чинов; соседям сказали, чтобы они без нужды не отлучались из дому. Затем труп увезли, а следствие перешло в здание управления полиции.
— Картина достаточно ясна, — сказал капитан Кейл. — Кто бы ни был убитый, у него наверняка остались какие-нибудь документы.
Они осмотрели содержимое карманов. Бумажник кожаный, тюремной выделки, такие часто продают в магазинах штата, и их легко опознать. Тюремные справки были в полном порядке. И денег — три доллара. Будь он убит другим бродягой, вряд ли бы деньги остались целы, если, конечно, убийство не было вызвано более серьезными мотивами. Звали его Чарльз Коук. Он был освобожден из тюрьмы ровно неделю назад. Они запросили на него личное дело и стали ждать.
— Мошенник, фальшивомонетчик и шантажист, — прочел капитан Коулд. — Отсидел пять лет. Мы это перепроверили.
— Все пять лет? И ни одного дня не скостили? — спросил капитан Кейл.
— Да. Он проявил себя в тюрьме как неисправимый. Устраивал драки, буйствовал. В нашем округе никто из прежних жертв его шантажа не живет, да и к тому же они достаточно потрудились, добиваясь его осуждения. Правда, быть может, кто-нибудь из них затаился, выжидал, когда он выйдет из тюрьмы; или появилась новая жертва, которую он наметил себе на основании сведений, добытых в тюрьме. Дело наверняка связано с шантажом: мошеннические проделки и фальшивомонетничество редко приводят к убийству.
— А где он был убит, на месте происшествия или в другом каком месте? — спросил капитан Кейл.
— Не знаю, — отвечал Коулд, — Никаких причин сомневаться нет, кроме моего связанного со службой подозрения. Возможно, он не в овраге был убит или был убит не в этой одежде, то есть в одежде, которую нашли на нем,
— На каком основании вы это утверждаете?
— Видите ли, одежда не очень-то была ему впору.
— Ну не настолько же, чтобы он казался смешным. Да и когда в тюрьме одежда давалась по росту?
— Есть еще одно обстоятельство. Тот рассеянный изобретатель-самоучка Фрост сообщил кое-что дополнительно. Он теперь уверяет, что видел убитого накануне днем, что тот был одет по-другому и что встреча имела место где-то на улице, а не в овраге.
— Ну разве что-нибудь стоит свидетельство этого, по общему мнению, рассеянного человека?
— Конечно, стоит. Ведь мошеннику часто бывает нужно изменить свой облик как можно быстрее. Поэтому Коук вполне мог иметь хороший костюм и одновременно держать про запас тюремную одежду. Он также мог поселиться в двух различных квартирах, хотя мы и не смогли отыскать, где он жил в нашем городе.
— Если он вышел из тюрьмы только неделю назад, то у него могло и не быть других денег, кроме тех, что вы нашли. Поэтому он вряд ли вообще мог снять квартиру.
— Только не Коук. Из его дела видно, что он никогда не оставался без «оперативных» средств. Он не мог выйти из тюрьмы с пустыми руками.
— Вы предупредили Фроста не болтать о том, что он видел или считает, что видел?
— Нет, не предупредил, — отвечал с хитрецой Коулд. — Если кое-что просочится наружу, что же, это нам только на руку. Глядишь, кое-кто и забеспокоится. Нам-то совсем не за что зацепиться, а тут, чем больше мы будем людей тревожить, тем больше шансов что-то обнаружить. Нам нужно как-то поддерживать огонь. Авось что и выгорит. Сейчас я снова пригласил всех пятерых соседей, но на сей раз поодиночке.
Но и на этот раз немногое удалось из них выудить. Сделали фотосъемку местности и места происшествия, потом еще раз сфотографировали это место, затем исследовали инфракрасными лучами, пытаясь найти какую-нибудь разницу. У следствия теперь остался только трюк с повторным допросом свидетелей. Однако отклонения от прежних показаний были незначительны, явно несущественны и могли быть вызваны чисто случайными причинами.
Фрэд Фрост ничего больше не смог выудить из своей шаткой памяти, кроме того, что он уже сообщил. Тибор Томпсон произнес несколько новых проклятий по адресу бюрократов, но ни слова не сказал по существу дела. Карлосу Рею теперь казалось, что несколько лет назад потерпевший покупал у него сигары. Однако он не мог поклясться в этом наверняка, как не мог вспомнить сорт сигар. К тому же, как он заявил, это мог быть другой человек.
Хэтчел Горн как раньше ничего не знал, так и сейчас знал не больше, и вряд ли следовало ожидать, что он узнает что-либо в будущем. Поэтому, когда дежурный сержант доложил, что к ним пришел судья Шермерхорн, оба капитана сидели и не знали, что дальше делать.
— Добрый день, ваша честь. Нам хотелось узнать, нет лп чего нового у вас по тому неприятному случаю, происшедшему неподалеку от вашего дома.
— Вы хотели выяснить, нет ли чего у меня добавить к прежним моим показаниям? Разве другие соседи ничем вам не помогли?
— Отчего же? Фрэд Фрост, например, оказал неоценимую помощь следствию. Он заявил, что видел убитого накануне смерти в более приличном костюме, в ином месте и при других обстоятельствах.
— Понятно. Этого как раз я и опасался. С самого начала мне не следовало так трусить. Ведь вы так и так очень скоро все выяснили бы. Вы, конечно, внимательно прочли стенограмму суда, который происходил пять лет назад?
— Что?! Ах да, конечно. Конечно, внимательно.
— И, естественно, первое, что вас поразило, так это то, что я председательствовал на суде.
— Что?! Да-да, естественно. И потом… потом мы вспомнили, как вы тогда еще сказали, что, вполне возможно, этот человек побывал перед вашим судейским столом, но что вы не вполне уверены в этом, ибо человек живой, как вы верно отметили, отличается от мертвого. А поскольку перед судьей проходят тысячи людей, то у вас не могло быть стопроцентной уверенности.
— Именно так. Но раз вы прочли стенограмму суда от начала до конца и раз вы узнали, с какой яростью этот человек мне угрожал, ибо даже отпечатанная на машинке копия может сохранить отзвук ярости этого человека, раз вы прочли, что он поклялся на суде убить меня, как только выйдет на свободу, то вы сразу же поняли, что я очень хорошо его запомнил.
— Что?! Ну да, мы так сразу и поняли, так ведь, Кейл?
— Угу, а как же. Так оно и было.
— Так вот, господа, чтобы не тратить ваше время, я написал докладную с полным отчетом о совершенных мною действиях в этом роковом деле. Вот она. Заранее прошу прощения за те грамматические ошибки, что были допущены мной. Я весь измотался и последние несколько дней нахожусь в страшном нервном состоянии. Вы уже догадались, о чем идет речь в докладной.
— Как же, конечно. Ведь догадались, Кейл? Но тем не менее расскажите-ка нам сами коротенько все.
— Как вам известно, я недавно вышел в отставку и сразу же переехал как можно незаметнее в этот городок, за тысячу миль от того места, где он видел меня в последний раз. Я знал день, когда он выйдет на свободу, и помнил, что он собирается меня убить. Однако я надеялся, что ему не удастся разыскать меня. Я ошибся.
Не успел я поселиться в доме — я, знаете ли, еще не полностью переехал, — как ко мне на парадное крыльцо взошел чинно одетый человек. Я вначале было подумал, что это один из моих новых соседей, зашедших познакомиться со мной, и едва успел опознать его вовремя.
Я быстро захлопнул перед самым его носом дверь и запер ее на крючок. Мне кажется, Коук потому не стал ломиться в дом и не добрался до меня тогда же, что в этот момент мимо дома проходил мистер Фрост. Они, Коук и Фрост, обменялись двумя-тремя фразами, и я понял, к моему неописуемому огорчению, что Фрост, этот рассеянный чудак, принял Коука за только что переехавшего нового владельца дома.
Потом Коук ушел. Но он пригрозил мне, что вернется, как только стемнеет, и что ничто меня не спасет от предстоящей расплаты.
Никакого огнестрельного оружия у меня не было, а выйти на улицу я боялся. Совершеннейший новичок в городе, с еще не подключенным телефоном, я не знал, что делать. А страшные тягучие вопли, которые с наступлением темноты понеслись из мастерской Фроста, еще более обострили мой страх. В таком положении Коук десять раз мог спокойно пристрелить меня, и ни одна душа не услышала бы выстрела.
— Так, дальше.
— Примерно в полночь к парадной двери подошел Коук и стал кликать меня. Голос его обладал каким-то гипнотизирующим свойством. Я еще раньше слышал об этом, а тут испытал на себе. Коук заявил, что у него воля сильнее и что он заставит меня открыть дверь на собственную мою погибель.
Я, стараясь не шуметь, пересек на цыпочках дом и, выскочив через черный ход на улицу, кинулся бежать к темнеющему оврагу. Я предполагал спрятаться там, пока он ломится в мой дом, или же добраться до кого-нибудь из соседей за помощью. Я искал хоть кого-нибудь, кто спас бы меня. И вот, приближаясь к оврагу, я увидел впереди человека, на вид бродягу, и бросился к нему.
— Моя жизнь в опасности, — сказал я ему. — Спасите меня. Помогите мне добраться до полиции или какого-нибудь безопасного места. И тут.,
— Ну.
— И тут, о ужас! Я решил, что схожу с ума. Этот бродяга оказался Коуком. Он перехитрил меня, узнал мои мысли. Он, должно быть, бросил парадную дверь еще до того, как я добрался до черного хода. Я представлял его хорошо одетым, каким он был днем, а он нарядился бродягой и парализовал страхом мою волю.
— Продолжайте.
— Коук вытащил нож, и мы сцепились в драке. Было похоже на то, что он собрался побаловаться со мной, но тут он оступился на скользкой земле, и мы оба скатились вниз на дно оврага. И я не знаю, какой рок, добрый или злой, вмешался в мою судьбу, но это его грудь, а не мою пронзил нож, когда мы упали.
— Так, дальше.
— Больше рассказывать нечего. Я струсил, перепугался. Голова моя пошла кругом. Я вернулся домой и ничего не стал предпринимать до сегодняшнего дня. Но я, клянусь богом, не хотел убивать. Нет, я никогда не поверю, что мог бы лишить человека жизни, даже ради спасения собственной. Я не способен на это. Тут налицо роковое стечение обстоятельств.
— Да, конечно, и я бы не стал так переживать из-за этого, — сказал капитан Коулд. — В стенограмме суда, как вы сказали, записано, что он угрожал убить вас. И ведь это не вы, а он приехал к вам за тысячу миль сразу же после выхода из тюрьмы. Я полагаю, никогда еще не было более ясного случая самообороны.
— Ну, пожалуй, следствие можно считать законченным, — сказал Коулд капитану Кейлу, когда Шермерхорн ушел. — Я думаю, мы должны отхватить за это дело по премии.
— Скажи мне, Джон, ты вправду читал эту стенограмму суда? — спросил друга капитан Кейл.
— Да откуда? Читал столько же, сколько ты.
— Значит, ты не знаешь, действительно ли этот Шермерхорн председательствовал на суде по делу Коука и правда ли этот Коук угрожал ему?
— Конечно, нет. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Счастье наше, что судья Шермерхорн приписал нам больше усердия и умственных способностей, чем те, которыми мы обладаем.
— И ему ничего не будет?
— Абсолютно. Дело-то ясное.
То было ранним утром. Все пташки, довольные, пели, кроме одной, которая клевала зернышки и ворчала, не испытывая желания петь.
Мосбэк Маккарти, как обычно, отдыхал на скамейке перед зданием клуба «Бенгальских тигров».
— Мистер Маккарти, — обратилась к нему Кэрнадин. — У меня к вам вопрос.
— А, что я знаю? Я не знаю, как удалить пятна крови с ножа или дубинки. Я даже не знаю, как снять предательские метки с револьвера.
— С какой стати вы заговорили об этом? Я хотела спросить вас совсем о другом. Вас удовлетворили результаты того дела с убийством?
— Положим, что да. А в чем дело?
— А дело в том, что «Бенгальские тигры» недовольны исходом следствия. Или, точнее сказать, я, как глава клана, совершенно им недовольна. Позвольте мне спросить вас, вы когда-нибудь видели судью, держащегося с достоинством, имеющего внушительную осанку и почтенную наружность?
— А как же. Достаточно вспомнить мистера Шермерхорна.
— Допустим. А еще?
— Да каждый судья. Все они джентльмены с благородной, вызывающей доверие внешностью.
— А если как следует подумать? Хоть один есть такой?
— Ну, если ты настаиваешь, то нет. Я никогда в жизни не видел осанистого, степенного вида судью. У всех у них какие-то маленькие, не вызывающие доверия лица, полные лицемерия и лукавства.
— В общем, точная копия любого подлого мошенника?
— Да, что-то вроде этого, Кэрнадин.
— А теперь скажите мне, вы когда-нибудь видели мошенника с хитрой, лисьей мордой и не вызывающей доверия внешностью?
— Да все они таковы, Кэрнадин. Вспомни хотя бы, каков был мертвый Коук.
— А еще кого-нибудь можете назвать? Ведь вы, вероятно, видели их больше меня.
— Вполне возможно. Да, у всех у них хитрые лица и не вызывающая доверия наружность.
— А если подумать лучше? Вы хоть одного такого можете вспомнить?
— Если подумать, то нет, не могу. Сказать по правде, у них у всех внушительная осанка и благородный вид. На взгляд они самые почтенные и честнейшие люди на земле. По сути, они скорее похожи на…
— Судей?! Они выглядят так, как должны бы выглядеть судьи?
Так вот, мистер Маккарти, вы сейчас же пойдете в управление и скажете им там, что, быть может, они спутали этих людей. И предупредите их, сколь опасно принимать что-либо просто на веру. Скажите им, пусть они произведут элементарное исследование отпечатков пальцев, которое они так или иначе должны были сделать, и тогда только решают наверняка. Передайте им там, в управлении, также, что вы слишком хороший служака, чтобы продолжать околачиваться на этом участке. Честь «Бенгальских тигров» требует избавить наш клуб от вашего присутствия, а это единственный способ, который я нашла.
Маккарти сообщил обо всем в управлении не особо убедительно.
— Я получил новые сведения от одного из соседей, — сказал он, — которые заставили меня прийти к убеждению, что мы недостаточно полно произвели идентификацию личностей этих двух человек.
— От одного из тех соседей, которых мы допрашивали? — спросил капитан Коулд.
— Нет, от одного из тех, допросом которых вы пренебрегли.
Коук не соврал в одном. Он сказал, что имел буйный нрав. Таким он и предстал в первые минуты, пока не был успокоен тремя дюжими полицейскими, после чего его показное буйство мгновенно истощилось и он спокойненько во всем признался.
— Да, что ни говори, а, сколь веревочка ни вьется, не может быть, чтоб не было конца. Подробности? Пожалуйста.
Судью я разыскал легко. Ведь я следил за ним все время, пока сидел в тюрьме. Я даже получил комиссионные, когда он купил этот дом. Покупка произошла незадолго до моего освобождения. Мне не потребовалось недели, чтобы преодолеть эту тысячу миль. Три часа — и я был тут. Я прибыл в город даже раньше его.
Мне было точно известно, сколько он перевел сюда денег, и я знал, что мне никакого труда не составит подделать его подпись. Ее-то я изучил досконально по копии приговора, заверенной им. Я удостоверился, что деньги он перевел по почте и что ни одна душа в этом городе не знает его в лицо.
Я следил за ним, когда он приехал, и понял, что он избегает показываться на людях, так как смертельно боится меня. Я понял, что он известен соседям только по одежде, а в лицо они его не знали. А мы были с ним почти одинакового роста. Правда, этот бедняга Фрост как-то обменялся с ним любезностями, и мне пришлось это учесть в рассказанной мной истории.
Я задумал убить судью, а затем выдать себя за него и получить восемьдесят тысяч долларов за его подписью, которой я расписывался не хуже его самого. Так я и сделал.
Вечером я постучался в его дом и, представившись страховым агентом, вошел в дверь, прежде чем он успел меня узнать. Под дулом пистолета я заставил его раздеться донага, и мы обменялись с ним одеждой. Затем я отвел его в овраг и там убил.
Передо мной стояла альтернатива: или ничего не предпринимать и посмотреть, не осталась ли какая зацепка и не заподозрят ли меня, или же предстать перед полицией с сентиментальным признанием под видом судьи.
Если бы выгорело дело так, я бы спокойно продолжал жить здесь, вышло бы иначе, я прошел бы сквозь формальности небольшого судебного процесса, был бы признан невиновным, а потом зажил бы спокойной и уважаемой жизнью или, по крайней мере, имел бы прочную базу, чтобы отдохнуть, прежде чем вернуться к своему старому ремеслу. Вот и все.
Теперь скажите мне, кто тот сообразительный малый, которому понадобилась более точная идентификация личности, после того как дело уже было закрыто, ко всеобщему удовлетворению? Чья свежая голова докопалась до того, что наверняка осталось бы незамеченным, раскрыла то, что, я был уверен, никогда не раскроется? Скажите, кто перехитрил меня?
— О-о, это один из наших новых многообещающих талантов, — отвечал капитан Кейл. — Наша девятка.
— Десятый пошел, — возразил старый Мосбэк Маккарти.
Перевод Николая Колпакова
Содом и Гоморра, штат Техас
Не следовало им нанимать Манюэля на должность переписчика. Он не соответствовал требованиям. Он не умел читать карту, даже не знал, что это такое. Он только усмехнулся, когда ему объяснили, что север находится наверху. Он знал лучше, где север.
Но у Манюэля был хороший ровный почерк, как у школьника. Он знал испанский, а также английский в достаточном объеме. Для участка, на который его назначили, карта не требовалась. Он знал местность лучше кого угодно, несомненно лучше любого картографа.
Притом Манюэль был беден и нуждался в работе.
Его проинструктировали и отослали. Или им так казалось, что проинструктировали. Они не были уверены.
— Учесть каждого? Хорошо. Переписать всех? Тогда мне нужно больше бланков.
— Ты получишь дополнительные бланки, если понадобится, Манюэль, но твой участок не такой уж населенный.
— Очень населенный: серые волки, куницы, лисицы, даже люди.
— Только люди, Манюэль. Не надо учитывать животных. Как ты их перепишешь? У них же нет имен.
— Почему нет? У всех есть имена. Могу до кучи переписать и их всех.
— Только людей, Манюэль.
— Мулов?
— Нет.
— Кроликов?
— Нет, Манюэль, нет.
— Мне не сложно. Могу до кучи переписать и их всех.
— Только людей… Господи, ниспошли мне терпения!.. Только людей, Манюэль.
— А маленьких людей?
— Детей? Обязательно, тебе же объясняли.
— Маленьких людей. Не детей. Маленьких людей.
— Если они люди, переписывай.
— Насколько большими они должны быть?
— Какая разница, насколько большими. Если они люди, переписывай.
Манюэль взял Мулу и пошел работать. За ним закрепили участок Санта Магдалена — череда голых, пустынных гор, крутых, но невысоких, раскаляющихся на полуденном солнце до такой степени, что, говорили, застывшая лава иногда начинала подтаивать и оползать исключительно под действием солнечных лучей.
Посреди Центральной долины лежало пять тысяч акров шлака и остекленевшего камня — результат давнего взрыва, который оплавил холмы и сделал их гладкими и похожими друг на друга. Место называлось Содом. Тут и там виднелись едва заметные следы, оставшиеся от людей и предметов в тот момент, когда гранит пузырился как вода.
На удалении от мертвого центра дно ущелий покрывал кустарник, а склоны гор — старый кактус, придававший им серо-зеленый оттенок. Чахлые деревца были ниже гигантских кустов и юкки.
Манюэль шагал рядом с Мулой — круглый спокойный человек и худой мрачный мул. Мула была настоящим мулом в отличие от многих других обитателей Санта Магдалены, чья принадлежность к тому или иному виду выглядела менее определенной.
Но даже у Мулы имелась наследственная странность. Ее дедушка по отцу был козлом. Однажды Манюэль рассказал об этом мистеру Маршалу, но тот не согласился с ним.
— Она мул, — сказал он. — Следовательно, ее отец был ослом. Следовательно, отец ее отца тоже был ослом. Не могло быть никаких других вариантов.
Манюэль часто размышлял на эту тему, потому что он вырастил не одно поколение животных и помнил, кто был с кем.
— Осел! Два фута ростом, с бородкой и рожками! Всегда был уверен, что это козел.
К полудню Манюэль и Мула добрались до Лост-Соул-Крик. Жаркий день — не время для путешествий. Но у Манюэля была работа, которую следовало выполнить. Он скинул с Мулы вьюки, достал анкеты и отсчитал девять штук. Потом занес в них данные на девять человек. Он знал все, что должен был знать об этих людях, — об их жизни и их прошлом. Он знал, что лишь девять человек постоянно проживает на девятистах квадратных милях Санта Магдалены.
Однако Манюэль, будучи человеком скрупулезным, проверял список снова и снова. Казалось, кого-то не хватало. Ах да, его самого. Он достал еще одну анкету и вписал данные о себе.
Теперь, если смотреть на ситуацию формально, его часть работы по переписи населения была выполнена. Эх, если бы он посмотрел на нее именно так, то он бы избавил многих от ненужных забот и волнений, а также сохранил десять тысяч жизней. Однако инструкции, данные ему, были двусмысленны, несмотря на то, что их старались сделать предельно ясными.
Поэтому на следующий день Манюэль вскочил ни свет ни заря, приготовил фасоль и пробормотал:
— Могу до кучи переписать и их всех.
Он позвал Мулу, которая паслась на поросшем колючками клочке земли, дал ей соли и закинул на нее вьюки. Затем они отправились заканчивать перепись населения, хотя Манюэль и чувствовал беспокойство. С одной стороны существовала четкая обязанность выполнить работу, с другой — страх того, чего его начальство так и не поняло. Также не без причины Мула была нагружена бланками анкет под самую завязку.
Когда они поднялись по крутому склону, все еще хранящему следы очистительного огня, выше Лост-Соул-Крик, Манюэль громко прочел молитву.
— Молитесь теперь за нас грешных…
Грозные ущелья застыли под жарким утренним солнцем.
— …и в час нашей смерти.
Тремя днями позже в пригород Хай-Плэйнс, штат Техас, вошел неуверенной походкой невероятный карлик. За ним следовало животное размером с волка, но внешне на него не похожее.
Женщина вызвала полицию, чтобы спасти странную парочку от детей, забрасывающих чужаков камнями, и двоих пока неклассифицированных существ доставили в полицейский участок.
Карлик был ростом три фута — скелет, обтянутый задубевшей на солнце кожей. Его попутчик — жуткого вида зверь размером с собаку и столь сильно утыканный шипами и колючками, что вполне мог сойти за дикобраза. Но скорее он выглядел как кошмарная репродукция усохшего мула.
Лилипут был безумен. Животное сохранило больше разума; оно тихонько улеглось и умерло. С учетом его состояния это было единственное, что оно могло сделать.
— Кто теперь руководит переписью населения? — спросил безумный карлик. — Младший сын мистера Маршала?
— Мистер Маршал, верно. А ты кто такой? Откуда знаешь про мистера Маршала? И что это ты вытаскиваешь из штанов… если это, конечно, штаны?
— Список жителей. Имена всех проживающих в городке. Мне пришлось стащить его.
— Выглядит как микрофильм — такой мелкий почерк. И рулончик все разматывается и разматывается. Здесь, должно быть, миллион имен.
— Побольше, побольше. Чертова уйма имен.
Они вызвали Маршала. Он был крайне занят, но все же пришел. Мэр и общественный совет назначили ему крайний срок, к которому он должен был предоставить отчет о численности населения Хай-Плэйнс не менее десяти тысяч человек. Непростое дело, учитывая тот факт, что в городе проживало не так уж много народа. Все же он упорно трудился над вопросом. Но когда позвонили из полиции, он пришел.
— Вы младший сын Маршала? — спросил у него безумный карлик. — Выглядите точь-в-точь как ваш отец.
— Этот голос… я узнал бы его из тысячи, — сказал Маршал. — Это должен быть голос Манюэля.
— Все верно, это я, Манюэль, так же как и тридцать пять лет назад, когда ушел на свой участок.
— Ты не можешь быть Манюэлем… усохшим до трех футов и двухсот фунтов и состарившимся на миллион лет.
— Посмотрите сюда, мистер Маршал, на мой переписной список. Он подтверждает, что я Манюэль. Здесь девять обычных и один миллион маленьких людей. Я бы ни за что не заполнил анкеты на всех маленьких людей, поэтому пришлось стащить их список.
— Ты не можешь быть Манюэлем, — повторил Маршал.
— Он не может быть Манюэлем, — поддакнули большой полицейский и маленький полицейский.
— Может быть, и не могу. Мне кажется, я им был. Тогда кто я? Давайте посмотрим анкеты и разберемся, которой из них я соответствую.
— Нет, ты не можешь быть и никем из них, Манюэль. И безусловно ты не можешь быть Манюэлем.
— Дай ему какое-нибудь имя и перепиши его, — посоветовал глава общественного совета. — Нам нужно догнать список до десяти тысяч.
— Расскажи нам, что произошло, Манюэль… если ты он… которым ты не являешься… но все равно расскажи.
— После того, как я переписал обычных людей, я отправился переписывать маленьких людей. Я взял лопату и раскопал вершину их города, чтобы проникнуть внутрь. Но они наложили на меня чары и заставили нас с Мулой крутить колесо в течение тридцати пяти лет.
— Где это случилось, Манюэль?
— В городе маленьких людей — Нуэво-Данас. За тридцать пять лет чары ослабли, и мы с Мулой сбежали, прихватив список имен.
— Где на самом деле ты достал этот список, Манюэль, с таким количеством имен, написанных таким мелким почерком?
— Маршал, не задавайте маленькой букашке, страдающей от язв, заработанных верховой ездой, так много вопросов! В ваших руках миллион имен. Заверьте их! И отправьте по инстанциям! Нас тут достаточно, чтобы принять резолюцию. Мы заявляем о немедленном присоединении Нуэво-Данас. Это сделает Хай-Плэйнс самым большим городом в Техасе.
Так что Маршал заверил имена и послал их в Вашингтон. Это дало Хай-Плэйнсу самый высокий процент прироста населения среди прочих городов страны, — однако данные были оспорены. В Хьюстоне нашлись недовольные, которые заявили, что такое невозможно, что в Хай-Плэйнсе живет далеко не так много народу и что там, скорее всего, допустили ошибку при подсчете.
Спор тянулся не один день, и в течение этого времени Манюэля — если, конечно, это был он, — привели в порядок, откормили и попытались вытянуть от него более правдоподобную историю.
— Откуда ты знаешь, Манюэль, что прошло тридцать пять лет?
— Мне так казалось, что прошло тридцать пять лет, пока я вращал колесо.
— Но могло пройти всего около трех дней.
— Тогда почему я так постарел?
— Мы не знаем, Манюэль. Естественно, мы не знаем этого. Какого роста были эти люди?
— Кто знает. Размером с палец, может с два.
— И что представляет собой их город?
— Это заброшенный волчий город в степи, который они привели в порядок. Нужно углубиться в землю на несколько штыков, чтобы добраться до их улиц.
— Может, это и вправду были степные волки, Манюэль. Может, ты перегрелся на солнце, и тебе пригрезились маленькие человечки — вместо волков.
— Степные волки не могут писать так аккуратно, как в том списке, — возразил Манюэль. — Степные волки вряд ли могут писать вообще.
— Это верно. Список трудно объяснить. И странные имена в нем тоже.
— Где Мула? Я не видел ее с тех пор, как оказался здесь?
— Мула просто легла и умерла, Манюэль.
— Пожертвовала собой ради свитка. Почему я не подумал об этом раньше? Я сделаю то же самое. Я тоже истерзан, как старый башмак.
— Прежде чем ты умрешь, Манюэль, ответь на два последних вопроса.
— Тогда задавайте быстрее. Я уже умираю.
— Знал ли ты раньше о маленьких людях?
— Само собой. Каждый в Санта Магдалене встречает их. Восемь-девять человек знают, что они там живут. «Но кому охота стать посмешищем?», говорят они. И никогда не болтают на эту тему.
— Манюэль, как найти это место? Можешь показать на карте?
Манюэль скорчил гримасу и умер, не проронив ни слова. Он ничего не смыслил в картах, поэтому выбрал путь, которым мог избежать их. Его похоронили, так и не разобравшись до конца, был ли он настоящим Манюэлем или нет. Хоронить было не так много.
Той же ночью позднее, когда Маршал уже спал, его разбудил повелительный голос. Четырехдюймовый человек властного вида и с язвительными нотками в голосе обращался к Маршалу с прикроватной тумбочки.
— Вылезай из колыбельки, клоун! Назови свое имя и общественное положение!
— Я маршал, а ты, подозреваю, поздний сэндвич со свининой. Мне не следовало наедаться так поздно.
— Добавляй „сэр“, когда отвечаешь мне! Я не сэндвич со свининой и обычно не наношу визиты дуракам. Поднимайся на ноги, олух!
Удивленный, Маршал поднялся.
— Я ищу украденный список. Прекрати зевать. Давай его сюда!
— Какой список?
— Не тяни время и не хлопай глазами. Неси наш список налогоплательщиков. Без лишних слов.
— Послушай, сверчок, — проговорил Маршал, набравшись храбрости. — Я сейчас возьму тебя и…
— Не возьмешь! Потому что заметишь, что парализован от шеи до пят. Подозреваю, что ты всегда был таким выше шеи. Где список?
— От-отослан в Вашингтон.
— Пучеглазый бегемот! Ты представляешь, какой это крюк? Уничтожить тебя, квинтэссенция глупости, будет одно удовольствие.
— Я не знаю, что ты такое и насколько реален, — сказал Маршал. — Даже не уверен, что ты принадлежишь этому миру.
— Не принадлежу миру? Да мы владеем миром! И можем показать свидетельство на право собственности. А ты можешь?
— Сомнительное свидетельство. Где вы его получили?
— Не у вас. Не стоило бы разглашать. Ну да ладно, мы получили его у основателя видов, на самом деле мошенника. Должен признаться, что нас обвели вокруг пальца, но в то время мы страдали из-за тесноты и нам нужен был мир. Он сказал, что крупные двуногие слишком глупы, чтобы быть нам помехой. Мы упустили, что чем глупее существо, тем больше от него неприятностей.
— Я сделал такой же вывод, только в отношении мелких существ. Возможно, следует засыпать дустом этот бардак в старых горах.
— О, ты не сможешь навредить нам. Мы достаточно могущественны. Зато мы можем уничтожить вас в одно мгновение.
— Ха! — взорвался Маршал.
— Говори „Ха, сэр“, когда обращаешься ко мне. Знаешь ли ты место в горах под названием Содом?
— Знаю. Образовалось в результате падения крупного метеорита.
— Оно образовалось в результате применения вот этого, — сказало маленькое существо и протянуло руки, показывая что-то размером с песчинку. — Там был еще один ваш город, пучеглазые бестии, — продолжал маленький держиморда. — Вы не знаете о нем. Он существовал несколько веков назад. Мы решили, что он расположен слишком близко к нам. А сейчас я решил, что слишком близко вы.
— Эта крошечная фиговина не расколет даже орех, — сказал Маршал.
— Ты, мямлящий хлыщ, она сравняет твой город с землей.
— Если она сравняет город, что случится с тобой?
— Ничего. Я даже не моргну.
— Как ты приводишь ее в действие?
— У меня нет времени объяснять тебе, что да как, пустоголовый тупица. Мне нужно в Вашингтон.
Возможно, Маршал думал, что происходящее — сон. Он явно не воспринял угрозу всерьез. Он оставался по-прежнему спокойным, когда человечек привел оружие в действие.
По завершении всех подсчетов Хай-Плейнс потерял самый высокий показатель прироста по стране. Фактически, он продемонстрировал убыль большую, нежели любой другой город, — с 7313 душ до нуля. Предполагали, что Хай-Плейнс был разрушен гигантским метеоритом. Однако восемь-девять человек знали точно, что произошло в действительности, но они не расскажут.
Сначала на этом месте собирались организовать лесной заповедник, но там не росло деревьев, достойных такого громкого названия. Теперь предлагается создать Национальный парк „Содом и Гоморра“ на месте двух загадочных разрушений, разделенных семью милями.
Это место интересно как самый малозаселенный регион, какой только можно отыскать. Рекомендуется для посещения людям, повидавшим все на свете.
Перевод С. Гонтарева
Сердитый человек
К человеку привязался жизнерадостный щенок — серия истеричных повизгиваний и виляющий хвост, которые порадовали бы сердце кого угодно. Трогательное ожидание и безграничная любовь в сияющих глазах и шерстистый крестец, — было на что полюбоваться. Весь мир обожает таких щенков.
Джордж Гневни мощным пинком отправил щенка высоко в воздух. Врезавшись в стену, разбитое существо издало душераздирающий визг, который расколол бы сердце каменной жабе.
Гневни почувствовал отвращение к себе.
— Всего на десять метров. А должен был послать на двенадцать. В следующий раз прибью блохастую шавку. Сегодня все идет наперекосяк.
* * *
Щенок был ненастоящий; он был лучше настоящего. В поведении настоящего щенка, в том, как он выражает радость или визжит от боли, есть что-то притворное. Но фиглярство этого щенка выглядело совершенно искренним. Устройство было сработано компетентным исполнителем, и сработано на совесть.
В любой момент щенок был готов повторить ту же самую сцену.
К Джорджу подошла старая разбитая параличом дама, трясущаяся от беспомощности. Ее лицо, еще хранящее признаки былой красоты, отражало спокойную уверенность в том, что боль никогда не покинет ее.
— Доброго вам утра, мил человек, — сказала она Гневни.
Он выбил из-под нее костыли.
— О, я уверена, это был несчастный случай, сэр, — задыхаясь, произнесла она после того, как пошатнулась и чуть не упала. — Не будете ли так добры подать мне костыли? Я совершенно беспомощна без них.
Гневни ударом сбил ее с ног. Потом он попрыгал на ее теле. После сильного удара обеими ногами в живот он оставил ее корчится на тротуаре.
И снова Гневни почувствовал отвращение к себе.
— Похоже, сегодня не мой день, — сказал он, — Не понимаю, что со мной творится.
Дама была настоящая. Мы опасаемся защитников собак, но не боимся защитников людей. Их очень мало. Поэтому женщина была не искусственная. Она состояла из настоящей плоти и крови, — минимального количества того и другого. Тем не менее, она не была ни калекой, ни старухой, она была женщиной атлетического сложения. И еще эффектной девушкой — до того, как нашла свое истинное призвание. Еще она была одаренной молодой актрисой и старательно играла роль старой дамы, разбитой параличом.
Гневни направился на работу в Институт кортикоидов,[7] прозванный в народе «Молочной фермой».
— Тащи мои вещи, глупая ворона, — проворчал он симпатичной помощнице. — Вижу, крысы снова копались в твоих волосах. Ты деформирована от рождения или поддерживаешь такую осанку с какой-то целью? Знаешь, существует предел, после которого неряшливая внешность перестает быть достоинством.
Юная помощница расплакалась, но не очень убедительно. Она ушла за вещами Гневни. Но она принесет только часть из них и не совсем то, что нужно.
— Старина Джордж с утра сам не свой, — заметил унтер-доктор Котрел.
— И верно, — согласился унтер-доктор Девон. — Придется что-нибудь придумать, чтобы разозлить его. Непозволительно оставлять его в таком настроении.
* * *
Необходимый пара-нексус оказалось невозможно синтезировать. Они опробовали множество субстанций и признали все их неудовлетворительными. Препарат требовался для претенциозного функционирования «запрограммированных», причем, нужен был препарат высшего качества. Существовал только один вариант наладить бесперебойные поставки.
Некоторое время назад они выделили из него компоненты кортин и адреналин и пробовали синтезировать по упрощенной формуле. Позже они выделили десяток других компонентов, а потом сотню. В конце концов они признали его таким, каков он был, — слишком сложным, чтобы синтезировать, слишком важным для «запрограммированных», чтобы пренебречь им, и слишком ценным в его наиболее эффективном варианте, чтобы получать из случайных образцов. Его можно было взять только у людей, а высококачественный — только у людей особого сорта. Очень сложная субстанция, но в институте ее прозвали «собачьим маслом».
«Peredacha» была приятным небольшим приспособлением — «сомнительным механизмом», или «женщиной» вида, который когда-то называли homo canventus или робот, а теперь — «запрограммированный человек».
Она имела систему распознавания звуков, намек на развивающуюся оригинальность, потенциал для роста и аккуратность механизма и облика. Она могла выполнять тончайшую работу, сопряженную с высоким риском. Она была одной их тех, в ком добавленная искра не пропадала зря.
Они всегда старались использовать все то лучшее, что было в обоих видах.
«Запрограммированные люди» во многих отношениях превосходили древних бекензионовых людей (или просто людей). Их отличало лучшее эмоциональное равновесие, большее усердие, отличная приспособляемость, более обширная память и превосходная способность к запоминанию, — соответственно, более быстрый поиск решений. Но была одна вещь, которой не имели даже наиболее способные из «запрограммированных» и которую часто можно было найти у самых посредственных из людей. Вещь, для которой трудно придумать название.
Она немного расширяла возможности; но «запрограммированные» и так обладали значительным превосходством над людьми. Она затрагивала процесс творчества, хотя «запрограммированные» были несомненно более креативными, нежели люди. Она была восхождением к случаю; «запрограммированные» могли сделать это более изящно, но иногда менее эффективно, нежели люди. Она была выходом за рамки, абсолютным отсутствием удовлетворенности, внезапным приливом силы или интеллекта, поразительной властью в моменте, вещью, которая создавала разницу.
Ее обнаружили сами «запрограммированные», потому что они чувствовали разницу более отчетливо. Их техники создали систему. Она ничего не стоила людям, и была очень выгодна «запрограммированным».
На многих из них, естественно, она оказывала незначительное воздействие; но избранных она возвышала до уровня гениальности. А многие из тех, кому не повезло стать гениями, становились специалистами высочайшего класса, — и все из-за особой добавки, извлекаемой из человека.
Произошло что-то вроде скрещивания двух рас, таких различных, что у них не могло быть настоящего гибрида, — у одной из них отсутствовала способность к воспроизводству. Изменения у «запрограммированных», иногда значительные, вызывала вытяжка из надпочечника человека.
Существовало лишь несколько постоянных источников высококачественной субстанции, — и каждый из них вызывал свой характерный побочный эффект. Часто «запрограммированный» начинал ощущать непосредственное родство, редко взаимное, с человеком-донором. Например, Передача, очень чувствительная «запрограммированная», остро ощутила родство с донором, когда ей ввели препарат.
— Я требую установления отцовства, — кричала она. Это была стандартная шутка «запрограммированных». — Требую как дочь своего донора! Я не верила в это раньше. Думала, это всего лишь слова. Доноры такие сердитые парни, что немедленно приходят в ярость, если кто-то из нас пытается познакомиться с ними под этим предлогом. Но я любознательна. Который из них?
Ей сказали.
— О, нет! Из всего выводка — только не он. Вы не разыгрываете? Мой новый родственник именно он? Хотя никогда раньше я не чувствовала себя настолько прекрасно. Никогда не работалось так легко.
* * *
Работа, которую поручили Джорджу Гневни, была технического характера. При обычном ходе вещей это было бы глупое назначение, ибо способностей к технике у Джорджа было меньше, чем у любого другого на этом свете. Джордж имел крайне ограниченные способности к чему угодно вообще — пока не открыли один его специфический талант.
Джордж Гневни был уродлив и неприветлив, и жил в нищете. Много было сказано о компенсации физического уродства — в основном то же самое, что и о нищете. Часто утверждалось, что эти два фактора способны образовать сплав за фасадом подонка, что подлинная личность может развиться и блистать наперекор превратностям судьбы.
Ложь! Эти факторы очень редко облагораживают человека. С простыми людьми этого не случается вообще. Уродливость, никчемность и одновременно нищета порождают в конечном итоге яростный протест против всего мира.
В этом и заключалась идея.
Гневни выделили скромное жилье и специальные продовольственные карточки. По ним он не мог получить то, что хотел, а только то, что числилось в его персональном списке, который злонамеренно охватывал все, что было ему противопоказано. В результате его мучили постоянные желудочные боли и бурление в животе. У него и так был скверный характер, а навязанный образ жизни лишь подпитывал и усугублял его.
Голос Гневни был груб и резок, хотя настоящие его качества проявлялись только в мощном реве, когда гнев Джорджа достигал точки кипения. Ему было отказано в привилегии жениться, хотя никакой женщины не светило ему в любом случае. Зато ему был разрешен низкосортный виски «Тпру, Джонни!» в объеме, достаточном чтобы поддерживать в Джордже раздражительность и недоброжелательность, но недостаточном, чтобы утешить его.
Он был неотесанный уродец — непристойная неприятная отрыжка рода человеческого. Он знал это и кипятился и клокотал от самого осознания этого факта. Он вел себя не лучше, чем барсук в клетке, а эти существа — ужасные грубияны.
В обмен на жалкие средства к существованию ему выдавалась ежедневная норма технических заданий, несмотря на отсутствие у него каких бы то ни было технических способностей. Это была несложная монтажная работа. «Запрограммированный» с соответствующей квалификацией мог сделать за минуту то, что отнимало у Гневни целый день. Большинство детей человеческой расы тоже справились бы с этими заданиями легко и быстро, — хотя и не все, потому что люди не единообразны по своим способностям в отличие от «запрограммированных».
Комплектующих, используемых Гневни при сборке, вечно не хватало, часть из них не подходила по каким-нибудь параметрам, некоторые были дефектные. «Запрограммированный» сразу же выявил бы некачественные комплектующие и отослал бы их назад, но уродливый Джордж не мог сказать, какие элементы были нормальные, а какие нет. Он злился и ругался день за днем на своей нелепой работе и превратился в самого раздраженного человека на свете.
Иногда вместо настоящих инструментов подкладывали «инструменты для розыгрыша»: отвертки со стержнями, гнущимися, как спагетти; пробойники с носиками мягкими как воск; наборы гаечных ключей, которые не подходили ни к чему на свете; паяльники с покрывающимися инеем жалами; немаркированные кронциркули с непроизвольным проскальзыванием; неправильные шаблоны; негодные обжимные щипцы; приборы для проверки целостности цепи, способные свести с ума любого.
Это сказка, что людей влекут механические устройства. У нормальных людей — врожденное отвращение к механизмам, а установившееся между ними примирение действует человеку на нервы. Проклятые устройства просто не функционируют должным образом. Ты ненавидишь их, они ненавидят тебя. История старая, как мир.
Свифт, старый мудрый сумасброд, однажды написал пьесу на тему «порочности неодушевленных объектов». Они действительно порочны, особенно с точки зрения больного, уродливого, невежественного, неумелого, несчастного человека, который сражается с ними в исступлении, — и они отвечают ему тем же.
На протяжении рабочего дня Джордж Гневни и несколько его товарищей по несчастью штурмовали свои задания — сквернословие вперемешку с многоэтажным богохульством и яростные танцы вокруг рабочего стола в стиле молний летней грозы. Время от времени приходили люди и вставляли в несчастных трубки, а также производили другие унизительные процедуры.
Пара-нексус — сложная субстанция, «собачье масло», необходимое для стимуляции «запрограммированных». Несмотря на то, что ее можно было взять у любого человека, в высшем качестве она встречалась только у испорченных, невменяемых «очень сердитых людей».
* * *
Но сегодня Джордж Гневни был сам не свой. Он выглядел угрюмым, но не выказывал ни грамма злости.
— Нужно его подстегнуть, — предложил унтер-доктор Котрел. — Мы не можем тратить на него весь день. Он раздосадован и испытывает достаточно сильное возбуждение. Почему он не взрывается? Почему он не злится?
— У меня идея, — объявил унтер-доктор Девон. — У нас помечено, что один из «запрограммированных» признал родство с ним. Помните, когда Ват впал в депрессию, мы вызвали «запрограммированного», который обнял его и назвал «дядюшкой Вилбуром»? То, как Ват взорвался, должны были зарегистрировать самые удаленные сейсмографы. Нам пришлось проявить прыткость, чтобы помешать ему наброситься на «запрограммированного». Ват продолжал злиться так долго, что мы смогли использовать его без перерыва более семидесяти часов кряду. Как же наши «очень сердитые» ненавидят «запрограммированных»! Они называют их «штуками».
— Отлично. То, что сработало с Ватом, с Гневни должно быть эффективнее вдвойне. Вызывай «запрограммированного». Натравим его на уродливого Джорджа.
— Ее. Она — «сомнительный механизм» и таким образом формально женщина.
— Еще лучше. Не могу дождаться. Гневни — самый продуктивный из них всех, когда действительно слетает с катушек. У него будет хорошая отдача.
* * *
Передача, маленькая талантливая «запрограммированная», пришла в Институт кортикоидов, «Молочную ферму». Она быстро разобралась в ситуации и получала от нее удовольствие. У «запрограммированных» был свой юмор — более изысканный, чем у людей, и более чем подлинный, — и они ценили забавность неуместного противопоставления.
В Передаче было немного актерского дара, ибо все Запрограммированные обладали талантом к имитированию. Она за секунду продумала роль и вложила в нее все свои способности.
И у нее получилось! Она изобразила самого жалкого пострела со времен «Спичечной девочки». Но она была «запрограммированной», а не человеком; это все равно, что надеть на коробку передач шаль беспризорника и повернуть толкатель.
Они впустили ее внутрь.
— Папа! — закричала Передача и бросилась к Гневни.
Обслуживающий персонал сомкнулся стеной, разделив их, чтобы избежать повреждений, когда низшего человека накроет девятый вал ярости.
Представление обещало быть грандиознее, чем то, которое устроил Ват в свое время на пустом месте. Гневни был крупнее и взрывоопаснее, а ситуация — нелепее. Будет побит рекорд по уровню децибелов, комната заполнится серой, а также обогатится словарь копрологии.
Но ничего не произошло.
Лицо Джорджа Гневни оставалось вялым, он печально покачал крупной головой.
— Уберите ребенка, — произнес он унылым голосом. — Сегодня я не буду нести ответственность за свое настроение.
* * *
Наступило новое утро, и Джордж Гневни должен был идти отрабатывать свой паек.
На улице к нему привязался жизнерадостный щенок — серия радостных тявканий и виляющий хвост в придачу.
— Привет, малыш, — сказал Гневни и нагнулся, чтобы потрепать щенка. Но щенок не был запрограммирован на такое обращение. Он был рассчитан на пинки раздраженных людей. Щенок закрутил серию обратных сальто под такой душераздирающий вой, как будто его пнули на самом деле.
— Бедная игрушка, — проговорил Гневни. — Она никогда не знала доброты.
— Послушай, Гневни, — обратился к нему подошедший человек низшего класса, — у собаки единственное предназначение — обеспечить возможность двенадцати или тринадцати таким, как ты, крутым красавцам пинать его каждое утро в целях создания у вас нужного настроения. А теперь пни ее.
— Не хочу.
— Тогда я доложу о вас.
— Мне все равно. Разве можно причинить вред этой бедной маленькой дворняжке?
Подошла старая разбитая параличом дама, трясущаяся от беспомощности.
— С добрым утром, мой милый, — сказала она Гневни.
— И вам доброго здоровья, леди, — ответил он.
— Что? Тебе не следует говорить так! Ты должен выбить у меня костыли, сбить с ног и втоптать в асфальт. Это поможет тебе настроиться на рабочий лад. Старые дамы-инвалиды — эффективный раздражитель для «очень сердитых»; они повышают градус их злости. Это общеизвестный факт.
— Не уверен, что буду делать это сегодня, э-э… Маргарет, так вас зовут? Прекрасного вам дня, дорогая Маргарет.
— Брось нести чушь про «прекрасный день»! Я обязана выполнить работу. Я кусочек твоего настроения. Ты, бычок, должен выбить костыли и сбить меня с ног, чтобы настроиться на рабочий лад. Нападай сейчас же, или я отправлю рапорт.
— Отправляйте, если вам так надо, дорогая Маргарет.
Гневни отправился на работу в Институт кортикоидов, но он был абсолютно к ней непригоден.
Раздражен? Он даже не сердился. Он был озадачен и мил, а когда кто-то из твоих подопечных становится мил с тобой, у тебя проблемы. Он был вежлив со всеми и заставил их всех понервничать. Он выполнил свою норму за час, — найдя задания значительно более легкими, если заниматься ими спокойно. Но он не должен был найти их более легкими.
Сотрудники отдела перепугались не на шутку. Они не могли позволить Гневни, лучшему производителю, продолжать в том же духе.
— Злись, черт тебя побери! — кричал унтер-доктор Котрел, тряся Гневни за плечи. — Мы не потерпим симуляции на работе. Злись и начинай вырабатывать гормоны.
— Кажется, сегодня я не в состоянии, — честно признался Гневни.
— Дважды черт тебя побери, тебе придется разозлиться, сволочь! — продолжал унтер-доктор Котрел. Но, казалось, он выводил из равновесия самого себя. — Унтер-доктор Девон! Обер-доктор Ратрейсер! Начальник Дагл! Мне нужна ваша помощь. Этот упрямый осел не желает злиться.
— Ему придется, — сказал унтер-доктор Девон. — Мы заставим вонючего ублюдка разозлиться.
— Он выглядит неважно, — сказал начальник Дагл. — Вчера его продуктивность снизилась наполовину, а сегодня он вообще никуда не годен. Ладно, пропустите его через стандартную процедуру. Нельзя, чтобы он киснул дальше.
Они пропустили. Процедура была зверская. Невиннейшего праведника она превратила бы в ревущего дьявола. Даже наблюдатели обычно багровели от ярости, глядя на происходящее, и не было предела для ответной реакции со стороны жертвы. Гневни перенес все со сдержанной грустью. А уж если не помогает стандартная процедура, что еще тут поделаешь?
Унтер-доктор Котрел набросился на Джорджа:
— Злись, грязный сукин сын! Злись, старая полоумная обезьяна! Злись, глупая свинья! Злись, упрямый осел!
Они позвали остальных. Они пригласили даже Передачу — в надежде, что она окажет на него более выраженное влияние, нежели днем раньше. Но Гневни, увидев ее, оживился.
— Ах, это моя дочурка! Я отсылал тебе сообщения весь вечер и всю ночь, но, полагаю, ты их не получила. Так чудесно увидеть тебя снова.
— Почему, старый бездельник? Так это ты слал мне сообщения? «С любовью, папа»? В цехе, где меня сделали, я никогда не слышала ничего подобного!
— Не будь жестокой, Передача. Ты — единственное, что заботит меня в этом мире. С тобой я могу стать новым человеком.
— Ладно, не будучи человеком, думаю, я могу быть человечной. Я присмотрю за тобой, уродливый папа. Но они не хотят, чтобы ты становился новым человеком; прежний ты устраиваешь их больше. А теперь позлись ради людей. Это твоя работа.
— Знаю, но я больше не могу. Я тут подумал, Передача, раз ты моя дочь, в некотором смысле — кортин от моего кортина и адреналин от моего адреналина, — мы могли бы сбежать куда-нибудь и…
— Святой свинтус! — унтер-доктор Котрел перешел на визг слишком высокого тона, чтобы его могло воспринять человеческое ухо, поэтому вероятно только Передача услышала его и покраснела. И тогда Котрел разошелся вконец. Он лягал Гневни и колотил его кулаками. Он визжал, рыдал и злобно бормотал. А когда издаваемые им звуки снова стали членораздельными, все услышали:
— Злись, черт тебя побери, злись!
Котрел был худощавый, но жилистый и мускулистый, и сейчас жгуты мышц и струны сухожилий вызывающе выделялись на его черно-фиолетовой коже.
Этот человек откровенно взбесился, будучи раздосадован на Гневни. Пузырящаяся пена с его губ запятнала комнату — такого вы не могли ожидать от унтер-доктора Котрела.
— Ну и ладно, — произнес начальник Дагл. — Продуктивный период Гневни все равно подходил к концу. Лучшие из них хороши только год или два, — темп ужасный. Нам повезло, что у нас есть замена.
— Замена? — прорычал Котрел, багровый от злости. — Он обязан разозлиться! Нет никакой замены. — И продолжил колотить Гневни.
— Думаю, начальник подразумевает вас, — вклинился обер-доктор Ратрейсер. — Да-да. Я уверен.
— Меня? Я унтер-доктор Котрел! Я зарабатываю 500 гузмандов в месяц!
— А теперь будете зарабатывать пять, — сказал начальник Дагл. — Беспросветная нищета — сопутствующее обстоятельство вашей новой работы. Раньше я лишь подозревал, что у вас есть дар. Теперь я уверен. Приступайте немедленно. Позже или, я надеюсь, раньше, вы станете лучшим среди «очень сердитых людей».
Котрел стал им, причем немедленно. Гневни был хорош. До него Ват считался одним из лучших. Но, если учитывать продолжительность крика и накал скандала в целом, то не было доселе таких представлений, какие давал теперь Бешенный Котрел, проникшийся духом новой работы.
Не было на свете человека свирепее его!
Перевод С. Гонтарева
Свинья в тюряге
Это случилось на Гипподамии.[8] Впрочем, название не столь важно. Десятки тысяч астероидных станций по всему свету мало чем отличаются друг от друга.
Неттер откинулся в кресле, отделанном мягким живым мхом, и открыл было рот, чтобы начать беседу с существом из тупика, но увидел крупную усатую голову на стене и похолодел.
Это была одна из вещей, ради поиска которых он прилетел, — точнее ее часть. Крупная, с бородой и усами голова капитана Кальбфляйша украшала стену гостиной, водруженная туда как трофей, среди прочих трофеев.
— Боже милостивый, это человек! — тот, к кому он обращался, не был человеком. — Вы повесили на стену человеческую голову, — произнес Неттер дрогнувшим голосом.
— Чей Боже милостивый, ваш или мой? — прохрюкал в ответ Порцелус. — Они не одно и то же, в противном случае их неверно описали. Да, человеческая голова. Я давно мечтал о такой. Вы заметили, что я выбрал для нее лучшее место в центре стены. Теперь у меня есть по меньшей мере по одной голове каждого интересующего меня вида. Некоторые из голов гораздо крупнее, чем у вашего друга Кальбфляйша, и, в отличие от него, имеют украшения. Жаль, что у людей нет размашистых рогов; тогда бы они были само совершенство. Но даже без них голова Кальбфляйша — лучшая в моей коллекции. Поистине великолепный экземпляр!
Так оно и было.
— Кальбфляйш носил прекрасную голову, — добавил Порцелус и хохотнул. — Несмотря на выдающуюся храбрость и характер, большой капитан не отличался сообразительностью.
Голова была огромная, с растрепанными волосами и застывшей на лице гримасой, как будто Кальбфляйш умер, терзаемый ужасом и отчаянием.
— Естественно, вы убили его, — произнес Неттер сухим тоном, в то время как его нервные пальцы плели ромал. — Поэтому, так или иначе, мне придется убить вас, или вам меня.
— Я не убивал, — возразил Порцелус, потное свинообразное существо. — Я не убил бы даже букашку. У вашего друга было горячее сердце, и в конце концов оно не выдержало. Он проявлял необычную активность, особенно в день смерти.
— Где его тело, жирная свинья?
— Мой переводчик содержит только грубое представление слова «свинья», и я предполагаю, что вы пытаетесь нанести оскорбление с его помощью; но у меня толстая кожа. Я не мог использовать его тело, Неттер, оно моментально испортилось. По-видимому, вы, люди, узнав о приближении кончины, должны начинать делать себе инъекции за три или четыре дня до смерти; тогда ваши тела не будут портиться так быстро. Не представляю, почему он пренебрег этим, я не ожидал такого развития событий. Но мне посчастливилось спасти его голову.
— Мы, люди, не знаем, когда умрем, — сказал Неттер. — Что за блюдо вы подали на стол? Очень вкусно.
— Да, припоминаю, Кальбфляйш говорил, что не знал, когда умрет, а я полагал, что он шутит. Поскольку вы говорите то же самое, это должно быть правдой для вашего вида. Название блюда не скажет вам ничего, однако у вас есть близкая аналогия для способа его приготовления. Я прочитал в земной книге, принадлежавшей капитану, про гусей, когда искал что-нибудь о свиньях. Иногда вы пускаете живых гусей… потанцевать на горячей сковородке перед тем, как отрубить голову. Это возбуждает и тревожит их, их печень увеличивается и приобретает качества деликатеса. Существа, чье мясо вы едите, тоже умерли в состоянии возбуждении и тревоги, поэтому они восхитительны во всех отношениях.
Да, безусловно, мясо было вкусное. Эта жирная свинья умела жить. Неттер завершил трапезу и отодвинул блюдо. Снова его руки плели ромал, пока он подбирал слова.
— Полагаю, все существа, чьи головы висят здесь, жертвы несчастного случая, Порцелус? — спросил он.
— Все, кроме одного, умерли своей смертью. Я не убивал их, — ответил Порцелус. — Один из них умер очень далеко отсюда; он завещал отослать мне свою голову, потому что я восхищался ею. Еще один из них, насколько я знаю, до сих пор жив. Это существо с мультиплексированной головой. Он вполне охотно отрубил одну из голов, когда я похвалил ее, сам же выделал и повесил на стену. Странный малый. Теперь он смотрит на вас сверху вниз, попробуйте угадать, которая из голов его.
В действительности Порцелус не говорил подобным образом. Он издавал серию хрюканий, некоторые из них горлом, некоторые брюхом. Однако консольный переводчик Неттера имел селекторный диск. Неттер мог переключать режим перевода по желанию на пиджин, на сленг, на напыщенный, на дипломатически-шутливый, на старый южно-американский диалект, диалект идиш или на литературный. Всякий раз, когда он встречал существо с отталкивающей внешностью, — например, как у Порцелуса, — он выбирал вежливый режим. Так было легче для ушей и нервов.
— Мы попусту тратим время, — сказал Неттер существу. — Я прилетел для исполнения заявки на этот астероид. Он нам нужен под дорожную станцию, а совместное использование станции двумя такими различными видами, как мы с вами, никогда не приводило ни к чему хорошему. Мы подавали первую заявку очень давно, но не использовали ее. Потом вы открыли здесь свою станцию; и также забросили ее.
— Ни в коем случае, — возразил Порцелус. — Заброшу ли я свой уютный дом и трофеи? Пожелает ли мое начальство отозвать такого прекрасного станционного смотрителя, каким являюсь я? Меня позвали домой неотложные дела. Я отлучился на один базисный год, и разногласия по поводу передачи станции в руки другого смотрителя были очень велики, пока меня не было.
— Правила гласят, что агент, будучи в здравии и рассудке, обязан постоянно присутствовать на месте предписания, иначе астероид может считаться брошенным, — сказал Неттер. — Астероид был явно брошен. Когда Кальбфляйш прибыл, вас тут не было. Так он и доложил наверх и заявил право на станцию для нас. Заявку одобрили и приняли к исполнению.
— Верно, — согласился Порцелус. — Что за вещь вы вертите в руках? Тем не менее капитан Кальбфляйш через некоторое время после моего возвращения также покинул станцию в результате смерти. Я тоже доложил о его смерти и вторично заявил право на станцию для нас. Заявка была одобрена и принята к исполнению. Сейчас вы находитесь здесь исключительно в качестве гостя, и, — говорю это со всей любезностью, — гостя незваного.
— Доказанное убийство аннулирует вашу заявку, — сказал Неттер.
— Тогда докажите, мил человек, — предложил Порцелус. — У вас голова меньше, чем у Кальбфляйша, но имеет некоторые отличия. Я нашел бы место для нее среди моих трофеев. Наши отчеты различаются, дело на стадии разбирательства. В то же время, случайная смерть любого из нас аннулирует его заявку и разрешит спор. Мы не можем убить открыто. Следователи уже в пути, и мы оба — главные подозреваемые; кроме нас здесь никого нет. Что за кожаную вещицу вы вертите в руках?
— Это ромал, Порцелус. Короткий арапник, сплетенный в уздечку. Их делают в старой Мексике, Калифорнии и Техасе, главным образом для декоративных целей.
— Все три места находятся на Земле, подсказывает мой транслятор. Они предназначались для животных?
— Для лошадей и пони.
— Разве я не натыкался на информацию, что лошади вымерли?
— Да. Плетение подобных вещичек — мое хобби.
— Хобби, согласно моему комплексному транслятору, что-то вроде чужого коня — интеллектуальный суррогат, вызывающий зависимость. Это верно?
— Верно, Порцелус. У вас есть хобби?
— Мое хобби — головы, — ответило существо.
Неттер поднялся, чтобы попрощаться с хозяином и идти к себе в лагерь.
— За скорую и неожиданную смерть одного из нас, — произнес он тост, подняв последний бокал с напитком, которым угощал Порцелус.
— Шолс! — поддержал тост Порцелус. — Думаю, это земное слово. И предостережение: держитесь подальше от невысокого купола на равнине. Он опасен.
Неттер направился в свой лагерь.
Итак, Порцелус хотел, чтобы он пошел к странному куполу — иначе бы он не упомянул о таящейся в нем опасности. Действительно ли опасен купол? Или тварь просто хотела отвлечь его внимание? Порцелус должен был понимать, что человек изучит каждую деталь ландшафта небольшого астероида. Возможно, он сказал это для того, чтобы внушить человеку чувство беспокойства, поскольку сам Порцелус выглядел озабоченным. А что в свином раю может беспокоить свинью? Неттер понял это через секунду.
— Он знает дату своей смерти. Он удивился, что люди не владеют подобным знанием. Но могу ли я рассчитывать на этот факт? Это всего лишь смутная догадка.
Неттер решил осмотреть купол в последнюю очередь. Он обошел астероид, шагая семимильными шагами, и не обнаружил ничего примечательного. В глубокой задумчивости он пришел к куполу на равнине.
Высшая точка купола находилась на уровне головы Неттера, его размер был не более 60 футов в диаметре. Купол выглядел симметричным во всех направлениях, его поверхность — слегка шероховатой. Он был скорее всего искусственного происхождения.
— Думаю, это старый направляющий маяк форсинов, — сказал Неттер. — Без сомнения, купол — это видимая часть заброшенной сферы, большая часть которой скрыта под землей. Ненадежные устройства. Думаю, мы ими пользовались когда-то.
Неттер осторожно шагнул на сферу. Ее поверхность была достаточно твердой. Не было ощущения, что он может провалиться внутрь. Он взобрался по склону купола выше, потом крутизна стала меньше, и он оказался в центре возвышения.
— Прекрасно, — произнес он, — однако ничего интересного.
Потом он почувствовал, что сфера активировалась.
— Значит, Порцелус все еще использует ее, — сказал он. — Я не отдавал себе отчет, настолько они отсталые.
Он сделал несколько шагов вокруг центра сферы, и она мягко провернулась под ним, компенсируя его перемещение. Он шагнул вниз, и сфера немедленно перенесла его обратно на вершину.
— Забавно, — произнес он.
Он мог сделать три-четыре быстрых шага прочь от вершины купола — и по-прежнему оставался наверху. Он мог напрячься, чтобы прыгнуть в сторону, — и сфера компенсировала его перемещение прежде, чем он отрывался от поверхности; он приземлялся точно в центре купола, в какую бы сторону ни прыгал. Сфера вращалась легко и бесшумно, немедленно реагируя на любое его движение. Он ходил, бегал, смеялся, припустил рысью, пробежав полмили, — но по-прежнему находился там же, где был прежде.
— У тебя свои уловки, у меня — свои, старая сфера, — воскликнул Неттер, — давай посмотрим, кто умнее.
Он делал финты, внезапно останавливался, петлял, ускорялся, как будто вел мяч через футбольное поле. Он обходил полузащитников, он потерял счет забитым мячам, но все его движения всегда заканчивались в самом центре купола.
Он лег и начал кататься, пытаясь спуститься вниз по склону купола, как будто это был травяной откос. Он перестал кататься и лег на спину все там же на вершине сферы, компенсирующей его движения.
— Не веселился так с тех пор, как ездил в детстве в развлекательный парк.
Веселился? Тогда почему он дрожит? Почему начал насвистывать так фальшиво, если не был испуган?
— Каменные стены еще не тюрьма, железная решетка еще не клетка… — именно этот блюз он насвистывал. Неттер замолчал.
Он был надежно заперт в незримой клетке на небольшой возвышенности посреди равнины. Никаких барьеров в поле зрения. Никакого мыслимого способа убраться с купола.
Он сидел в тюрьме на самом высоком и наиболее открытом участке астероида. За час прыгания и скаканья он не сдвинулся с места ни на шаг, и не было никакой возможности сделать это.
Он размышлял об этом весь гипподамийский день и всю ночь — 45 минут базового времени. Но не смог придумать ничего.
— Если бы у меня была веревка, а у тебя пень, — сказал он, разговаривая сам с собой, — я бы заарканил пень, — в этом я мастак, — и выбрался со сферы по веревке.
Но у него не было веревки, а на равнине точно не было пня. Даже камни были едва ли крупнее его ногтя.
— Здесь умер Кальбфляйш, — проговорил Неттер. — Ты правильно заметил, человек-свинья, у моего друга было горячее сердце, и оно в конце концов разорвалось. Тебе не пришлось убивать его своими руками. Ты позволил ему загнать себя до смерти. Он был необычайно энергичен, как ты сказал, и особенно в день смерти. Теперь я понимаю. Он не мог оставаться лишенным свободы. По-видимому, он взбесился, когда обнаружил себя заключенным на участке, который казался самым открытым местом на астероиде. Должно быть, он не успокоился, пока не надорвал в себе все. Не удивительно, что он умер с выражением ужаса на лице.
Это была тюрьма, сломать которую не удалось бы никому. Зачем придумывать еще какие-то уловки? Сфера компенсирует любой трюк.
Только существо, способное летать в нулевой атмосфере, сможет вырваться из этой ловушки, — размышлял он. — Даже червь не уползет отсюда, если только он не настолько мал, чтобы не воздействовать на компенсаторы. Если бы у меня было два багра, я бы сумел обмануть эту штуку, но она без сомнения смогла бы компенсировать результирующую силу. Если бы я имел груз на шнурке, то мог бы озадачить ее, но не сильно. Жирдяй победил. Я умру от голода, или от перенапряжения, или от безумия, и расследование покажет, что я не был убит. «Почему два человека умерли здесь от сердечного приступа?» — максимум, что они могут спросить у жирдяя, на что тот, потирая руки, ответит «Вредный климат».
Но в действительности жирдяй Порцелус выразился иначе:
— Мил человек, зачем ты играешь, словно малое дитя, наверху этой штуки? Это какой-то способ для многообещающего астероидного агента управляться с делами?
— Порцелус, думаешь, поймал меня в ловушку? — рассердился Неттер.
— Я поймал тебя? Мои руки чисты. Где тут моя вина, если два человека проявляют странную манию загонять себя до смерти в причудливой игре?
Насколько далеко стоял Порцелус от края купола? Слишком далеко. На несколько ярдов дальше, чем требовалось.
— Порцелус, что это за штука, на которой я стою? — воскликнул Неттер.
— Когда-то — излучающая сфера, как ты наверное догадался, но она устарела. Я ее переделал. Теперь это тест на сообразительность. Не пройти его значит умереть.
— Кому-нибудь удалось высвободиться отсюда? — спросил Неттер. Ему обязательно нужно заинтересовать Порцелуса. Он должен заставить его подойти на несколько футов ближе, прежде чем тот повернется, чтобы уйти.
— Только однажды, — ответило существо, — но он имел необычные естественные преимущества. Странный малый из породы Ларрик, навестивший меня несколько базовых лет назад. Он попросту расщепился на две части и пошел в противоположные стороны. Сфера не смогла компенсировать оба движения. Одна часть выбралась на грунт, принесла веревку и вытащила вторую половину; обе половины посмеялись надо мной, после чего воссоединились. Но у тебя нет такого преимущества, Неттер. Ты провалил тест.
— Я найду способ, — пообещал Неттер. — Придумаю какой-нибудь трюк.
Еще немного ближе, и он продемонстрирует его.
— Ты проиграл, Неттер, — сказал Порцелус. — На равнине нет ни одного закрепленного предмета, к которому ты мог бы привязаться, даже если бы у тебя был способ достать до него. Самая длинная вещь, которая есть при тебе, это то, что ты называешь ромалом, но он не длиннее твоей руки.
Теперь Порцелус был достаточно близко, почти на краю купола. Когда он отвернется, расстояние до него будет подходящее — в пределах 32-35-ти футов. Да, на равнине не было закрепленных предметов, зато было тело достаточно тяжелое, чтобы служить точкой опоры. Ромал Неттера был не длиннее его руки, но это был королевский ромал.
Порцелус отвернулся, торжествуя. Тонкое лассо взлетело и опустилось на его корпус. Неттер оказался вне купола быстрее, чем вы произнесли бы «Жирдяй Порцелус».
Жирный Халк был не чета Неттеру, пока стоял на твердом грунте. Неттер заарканил Свинтуса тонким кожаным шнурком и сдернул на купол. И Порцелус тотчас же оказался в центре возвышения, чтобы остаться там до тех пор, пока не помрет с голоду, нетипичного перенапряжения или свинского инсульта.
Неттер перевез вещи в прекрасный трофейный зал, который недавно унаследовал. Он вбил крепкий деревянный крючок в стену и повесил на него королевский ромал, к которому испытывал теперь особую привязанность. Королевский ромал плетется настолько хитро, что выглядит, как толстый арапник не длиннее руки; но развяжи пару узлов, и он тотчас превращается в тонкое сложенное лассо 40 футов длиной с петлей на конце. Вряд ли кто-нибудь знает в наши дни, как плетется такой ромал.
Неттер поменял местоположение многих предметов в трофейном зале. Он хотел, чтобы главная вещь висела на правильном месте. Он знал, какое место должна она занимать на огромной стене.
Расследование завершилось, — и заявка Неттера была принята к исполнению. Он стал смотрителем астероидной станции, — хорошая работа!
Голова была готова: законсервирована, выделана и обработана, а клыки — отполированы до блеска.
Порцелус носил поистине великолепную голову!
Перевод С. Гонтарева
Долгая ночь со вторника на среду
Молодую парочку, медленно бредущую по ночной улице, остановил попрошайка:
— Да сохранит вас ночь, — сказал он, прикоснувшись к шляпе, — не могли бы вы одолжить мне тысячу долларов? Этого мне вполне хватит поправить свои дела.
— Я же дал вам тысячу в пятницу, — ответил юноша.
— Точно, — произнес попрошайка, — и посыльный вернул ее вам в десятикратном размере еще до полуночи.
— Верно, Джордж, — вмешалась молодая женщина. — Дай ему, милый: по-моему, он такой славный!
Юноша вручил попрошайке тысячу долларов, тот выразил свою признательность, снова прикоснулся к шляпе и отправился поправлять дела. По пути к Денежному рынку от встретил Ильдефонсу Импалу — самую красивую женщину в городе.
— Ты выйдешь за меня замуж сегодня? — спросил он.
— Думаю, нет, Бэзил, — ответила она. — Я ведь не раз выходила за тебя, но сейчас у меня просто нет никаких планов. Впрочем, можешь сделать мне подарок со своего первого или второго состояния. Мне это всегда нравилось.
Когда они расстались, она все-таки задала себе вопрос: за кого же мне выйти сегодня?
Попрошайка звался Бэзил Бейгелбейкер, и через полтора часа ему предстояло стать богатейшим человеком в мире. За восемь часов он мог четыре раза сделать состояние и четырежды потерять его; причем не какую-нибудь мелочь, как заурядные люди, а нечто титаническое.
С тех пор, как в человеческом мозге был устранен барьер Абебайеса, люди научились принимать решения куда быстрее и качественней, чем раньше. Этот барьер был чем-то вроде интеллектуального тормоза, и когда пришли к выводу, что пользы от него никакой, его стали удалять в младенческом возрасте при помощи хирургической медицины.
С тех пор все преобразилось. Производство и доставка любых товаров стали практически мгновенными. То, на что ранее уходили месяцы и годы, теперь делалось в считанные минуты. Всего за восемь часов человек мог пройти все ступени головокружительной карьеры.
Фредди Фиксико только что изобрел манусную модулу. Фредди был никталоп, и подобные модулы были характерны для его типа. Все люди, в соответствии со своими наклонностями, делились на аврорейцев, гемеробианцев и никталопов, или, как их попросту называли, на рассветников, которые активнее всего работали с четырех часов утра до полудня; поденок, которым доставалось время от полудня до восьми вечера; и полуночников, чья цивилизация умещалась между восемью вечера и четырьмя часами утра. Культура, изобретения, рынок и все виды деятельности были у них различны.
Как и у всех никталопов, в эту долгую ночь на среду рабочий день Фредди начинался в восемь часов вечера.
Фредди арендовал контору и обставил ее. Переговоры, выбор мебели, ее расстановка почти совсем не заняли времени. Затем он изобрел манусную модулу — на это ушла минута. И тут же приступил к ее выпуску и продаже. Через три минуты новинка уже поступила к основным покупателям.
Модула «пошла». Через тридцать секунд посыпались заказы. В десять минут девятого не осталось ни одного видного деятеля, у которого не было бы модной новинки. Вскоре модулы расходились миллионами, они стали символом этой ночи или, по крайней мере, ее начала.
Практического применения у манусной модулы не было никакого, как и у стихов Самеки. Она была привлекательна, обладала психологически привлекательными размерами и формой, ее удобно было держать в руках, или поставить на стол, или приладить к любой модульной нише в квартире.
Естественно, что на Фредди посыпались деньги. Ильдефонса Импала, самая красивая женщина в городе, всегда интересовалась нуворишами. Примерно в восемь тридцать она зашла к Фредди взглянуть на него. Люди теперь решали быстро, и Ильдефонса приняла решение сразу же. Фредди тоже стремительно сделал выбор и развелся с Джуди Фиксико в Суде по малым искам. Молодожены отправились проводить медовый месяц на курорт Параисо Дорадо.
Это было чудесно. (Все браки Ильды были чудесны). Сногсшибательные окрестности, залитые лунным светом. Вода в знаменитых фонтанах подкрашена золотом, скалы — работы Рамблса, контуры холмов выполнены самим Спаллом. Пляж — точная копия мервальского. Самым популярным напитком в начале ночи был голубой абсент.
Но пейзаж — видишь ли ты его впервые или после перерыва — хорош только на время. И нечего засиживаться на одном месте. Заказанный и немедленно приготовленный ужин поглощался торопливо и радостно, и голубой абсент приносил удовольствие, пока был в новинку. Любовь для Ильдефонсы и ее спутников была делом стремительным и увлекательным; они с Фредди заказали медовый месяц «Люкс» продолжительностью один час.
Фредди не прочь был бы продолжить, но Ильдефонса взглянула на индикатор тенденций. Популярность манусных модул продержится только первую треть ночи. Те, кто более чутко следил за модой, уже начали от них отказываться. А Фредди не из тех, кого успех балует каждую ночь. Он преуспевал не чаще одного раза в неделю.
К девяти тридцати пяти они вернулись в город и развелись в Суде по малым искам.
Запасы манусных модул были распроданы по дешевке, а остатки предстояло сбыть любителям покупать уцененные товары. Рассветники раскупают что ни попадя.
— За кого я выйду теперь? — спросила себя Ильдефонса. — Уж больно медленно тянется эта ночь!
«Бейгелбейкер покупает!» — разнеслось по Денежному рынку. Но прежде, чем эта весть успела обежать всех, Бейгелбейкер уже снова продавал. Бэзил наслаждался, делая деньги, и смотреть на него было одно удовольствие, когда он заправлял всем рынком и цедил приказания армии посыльных и клерков. С его плеч сняли лохмотья попрошайки и облачили в тогу. Он направил посыльного, чтобы вернуть в двадцатикратном размере сумму, которую одолжила ему молодая парочка. Другой посыльный отправился к Ильдефонсе Импале с куда более значительной суммой: Бэзил высоко ценил их отношения.
Он разрушил дотла несколько возникших за последние два часа промышленных империй и неплохо погрел руки над их дымящимися руинами. Вот уже несколько минут как он стал богатейшим человеком на свете. Он был битком набит деньгами и уже не мог маневрировать с прежней ловкостью, как какой-нибудь час назад. Он зажирел, и стая матерых волков кружилась рядом, выжидая момент, чтобы схватить его за горло.
Вскоре ему предстояло потерять первое из состояний этой ночи. Бэзил отличался широтой: после того, как он готов был лопнуть от денег, Бэзил умел получать удовольствие, лихо спуская заработанное.
…Один глубокомысленный человек по имени Максуэлл Маузер создал труд по актинической философии. На это ему потребовалось семь минут. Для того, чтобы написать труд по философии, нужно использовать гибкие наброски и указатели идей.
Затем следует запустить все полученные формулировки в активатор. Глубокий знаток вводит туда еще материал по парадоксам и подключает смеситель поразительных аналогий, а также калибратор специфической точки зрения и характерного авторского почерка. Это, конечно, должна была быть высококлассная работа, ведь выдающееся мастерство стало уже автоматическим минимумом для произведений такого рода.
— Для остроты нужно добавить немножко пикантностей, — решил Максуэлл и нажал соответствующую кнопку. Просыпалась пригоршня оборотных словечек: «хтонический», «эвристический», «прозимеиды», — и теперь уже никто не мог усомниться в том, что держит в руках философский труд редкой глубины.
Максуэлл Маузер послал рукопись издателям, после чего она стала возвращаться обратно примерно через каждые три минуты. И всякий раз прилагался подробный анализ его труда с изложением причин, по которым рукопись не принята к печати, — главным образом потому, что такие работы уже выполнялись и на более высоком уровне. За тридцать минут Максуэлл получил десять отказов и впал в уныние.
И вдруг наступил перелом.
В следующие десять минут огромным успехом стал пользоваться труд Ладиона, и одновременно было признано, что монография Маузера может служить как ответом на ряд поставленных в труде вопросов, так и своеобразным дополнением к нему. Не прошло и минуты, как произведение Маузера было принято и опубликовано. В первые пять минут рецензии еще носили осторожный характер, а потом вспыхнул подлинный энтузиазм. Несомненно, это был воистину один из крупнейших философских трудов, увидевших свет в начале и середине ночи. Некоторые даже утверждали, что создано произведение, которое переживет часы и, может быть, даже на следующее утро найдет путь к сознанию рассветников.
Само собой, Максуэлл стал очень богат, и само собой, примерно в полночь Ильдефонса заглянула к нему. Он был революционно мыслящий философ, презирающий условности в любви, но Ильдефонса настояла на браке. Так что Максуэлл развелся с Джуди Маузер в Суде по малых искам и отправился вместе с Ильдефонсой в свадебное путешествие.
Эта Джуди, хотя и была не так красива, как Ильдефонса, но обладала феноменальной интуицией и постоянно опережала соперницу. Таким образом, Ильдефонса считала, что уводит мужчин у Джуди, а Джуди убеждала всех, что это она оставляет сопернице объедки.
— Но первая, кого он выбрал, — была я! — издевательски бросила она Ильде, пробираясь сквозь толпу в Суде по малым искам.
— Это невыносимо! — стонала Ильдефонса. — Скоро она начнет носить мою прическу раньше меня.
Максуэлл Маузер и Ильдефонса Импала отправились проводить медовый месяц на курорт Мюзикбокс-Маунтин. Это было чудесное место. Горные пики были отделаны зеленым снегом по мотивам Данвара и Фиттла. (А тем временем на Денежном рынке Бэзил Бейгелбейкер сколотил уже третье — самое большое состояние этой ночи, которое превосходило по размеру даже его четвертое состояние минувшего четверга). Шале, где поселились Максуэлл с Ильдефонсой, было пошвейцаристей самой Швейцарии, в каждой комнате жил настоящий горный козел. (А в это время стал возвышаться Стэнли Скулдуггер — создатель блестящих образов, ведущий артист середины прошлой ночи). Самым популярным напитком этого периода был глотценглуббер с рейнвейном, который полагалось охлаждать розовым льдом. (А между тем в городе видные никталопы собирались на полуночный перерыв в Клубе носителей цилиндров).
Конечно же, это было чудесно — как и каждый медовый месяц Импалы. Только вот она никогда не была сильна в философии, поэтому заказала специальный тридцатиминутный медовый месяц. Чтобы избавиться от сомнений, она сверилась с индикатором тенденций. Оказалось, ее супруг уже устарел, его опус стал предметом всеобщих насмешек, и называли его не иначе, как «ржавый маузер». Она вернулась в город и развелась в Суде по малым искам.
Состав Клуба носителей цилиндров был непостоянным. Чтобы оставаться членом Клуба, необходимо преуспевать. За одну ночь Бэзил Бейгелбейкер от трех до шести раз мог оказаться членом Клуба, стать его президентом и быть исключенным из состава. На членство могли рассчитывать только влиятельные лица — или те, кто пользовался в данный момент влиянием.
— Я, пожалуй, посплю утром, когда рассветники встанут, — сказал Оверколл. — Попробую-ка съездить на часок в новый Космополис. Говорят, там неплохо. А ты где будешь спать, Бэзил?
— Видно, в ночлежке.
— Думаю поспать часок по методу Мидиана, — сказал Бернбаннер. — Мне сообщили, что построена отличная клиника. А может быть, сначала посплю способом Прасенка, а потом — по Дормидио.
— А вам известно, что Крекл каждые сутки один час спит естественным методом? — спросил Оверколл.
— Я пробовал этот способ — на полчаса, — сказал Бернбаннер. — Но это уже слишком. А ты, Бэзил, когда-нибудь пробовал?
— Естественный способ и бутылочка виски — почему бы нет?..
На целую ночь Стэнли Скулдуггер стал яркой кометой на всем театральном небосводе. Естественно, он разбогател, и около трех часов утра Ильдефонса заглянула к нему.
— А я была первой! — послышался язвительный голосок Джуди Скулдуггер, которая выскакивала из Суда по малым искам после развода. И Ильдефонса со своим Стэнли отправились проводить медовый месяц. Ведь это так здорово — закончить ночь с ведущим мастером артистических образов! В актерах всегда есть что-то от подростка, какая-то неуклюжесть, что ли. И, кроме того, известность, что всегда импонировало Ильдефонсе.
Слава ширилась. Продержится ли она еще десять минут? Или тридцать? Или целый час? А вдруг этому браку суждено продлиться весь остаток ночи и дожить до дневного света? Ведь бывали же случаи, когда супружество длилось до следующей ночи!.. Браку удалось продержаться еще целых сорок минут — чуть ли не до конца периода.
Очень долгая была эта ночь со вторника на среду. На рынок выбросили несколько сотен новых товаров. В театрах состоялся добрый десяток сенсаций — трех- и пятиминутных капсульных драм и несколько шестиминутных постановок.
Многоэтажные здания возводились, заселялись, устаревали, сносились, чтобы освободить место для более современных сооружений. Только посредственность могла позволить себе жить в доме, оставшемся еще со времени поденок, рассветников или даже никталопов предыдущей ночи. За эти восемь часов город был перестроен чуть ли не полностью три раза.
Период близился к концу. Бэзил Бейгелбейкер — самый богатый человек в мире, президент Клуба носителей цилиндров — развлекался вместе со своими друзьями. Четвертое состояние, которое он заработал этой ночью, — это была целая бумажная пирамида, уходившая вершиной в небеса, и Бэзил только посмеивался, смакуя воспоминания о том, как он этого достиг.
Трое служащих Клуба носителей цилиндра приближались к нему решительным шагом.
— Убирайся отсюда, бродяга поганый, — свирепо накинулись она на Бэзила, содрали с него тогу и швырнули ему драные лохмотья попрошайки.
— Все пропало? — спросил Бэзил. — А я думал, минут пятнадцать дело еще протянет.
— Все рухнуло, — сказал посыльный с Денежного рынка. — Девять миллиардов в пять минут. Да кое-кого еще с собой прихватили.
— Вышвырните отсюда этого разорившегося подонка, — заорали Оверколл и Бернбаннер, а за ними и все остальные закадычные друзья.
— Погоди-ка, Бэзил, — спохватился Оверколл, — сдай сначала президентский посох, пока мы еще не спустили тебя с лестницы. Все-таки завтрашней ночью ты его снова получишь разок-другой.
Период закончился. Никталопы разбрелись по клиникам, чтобы поспать, и по разным тихим местечкам, где можно переждать отлив. За дело брались уже аврорейцы-рассветники.
Вот теперь-то жизнь закипит ключом! Рассветники — вот кто умеет быстро принимать решения. Они не мешкают ни минуты, затевая любое дело.
Сонный попрошайка повстречался на улице с Ильдефонсой Импалой.
— Да хранит нас нынешнее утро, — сказал он. — Следующей ночью пойдешь за меня?
— Наверное, Бэзил, — ответила она. — А ты женился этой ночью на Джуди?
— Не припоминаю… Одолжи-ка мне пару долларов, Ильди.
— Ну, конечно. Знаешь, Джуди Бейгелбейкер, наверное, получит звание самой роскошной женщины нынешнего сезона мод за весь период… А зачем тебе два доллара, дорогой?
Перевод Бориса Силкина
Время гостей
Им было немного тесновато там, откуда они пришли, — и поэтому они оказались здесь!
Винстон, гражданский служащий иммиграционного поста, был сильно озадачен, когда пришел утром на работу. Несколько сотен человек толпилось за циклоническими ограждениями, хотя никаких прибывающих рейсов в расписании не значилось.
— Какие корабли приземлились? — громко спросил он у персонала. — Почему совершили незапланированную посадку?
— Никаких кораблей не было, сэр, — отозвался Потхолдер, старший охранник.
— Тогда откуда эти люди? Свалились с неба? — придирчиво спросил Винстон.
— Да, сэр, полагаю, именно так. Мы не знаем, кто они и как прибывают сюда. Сами они говорят, что — со Скандии.
— У нас есть несколько скандинавских рейсов, но никогда не прибывало столько пассажиров, как сегодня, — сказал Винстон. — Сколько их там?
— Что ж, сэр, когда мы впервые обратили на них внимание, их было семеро, хотя за несколько секунд до этого там не было никого.
— Семеро? Вы сошли с ума! Их там сотни.
— Так точно, сэр. Я сошел с ума. Через минуту после появления первой семерки их стало семнадцать, но дополнительное количество не пришло откуда-либо и не было никаких рейсов в тот момент. Потом их стало семьдесят. Мы разделили их на группы по десять человек и стали внимательно наблюдать. Никто не переходил из группы в группу, никто не пришел со стороны. Но вскоре их стало по пятнадцать в каждой группе, потом по двадцать пять. За то время, что вы разговариваете со мной, мистер Винстон, их стало еще больше.
— Начальник Коркоран будет здесь с минуты на минуту, — сказал Винстон. — Он разберется, что делать.
— Мистер Коркоран уехал перед самым вашим приходом, сэр, — доложил Потхолдер. — Он наблюдал некоторое время за происходящим, а потом уехал, бормоча что-то под нос.
— Я всегда восхищался его умением мгновенно оценивать ситуацию, — сказал Винстон. И тоже покинул порт, бормоча что-то под нос.
В терминале скопилось около тысячи человек со Скандии, а некоторое время спустя их было уже в десять раз больше. Их нельзя было назвать неповоротливыми, но площадка не могла больше вместить никого. Ограждения пали, и скандийцы растеклись по городу и провинции. Однако это было только начало. Еще около миллиона человек материализовалось этим утром в том же терминале, потом то же самое произошло в десяти тысячах других портов Земли.
* * *
— Мама, — позвала Трикси, — тут какие-то люди просятся в наш туалет.
Это была Беатрис „Трикси“ Тракс, маленькая девочка из небольшого городка Винтерфилд.
— Что за необычная просьба! — удивилась миссис Тракс. — Но я думаю, такая чрезвычайная ситуация естественна. Впусти их, Трикси. Сколько их?
— Около тысячи.
— Трикси, не может быть столько.
— Хорошо, посчитай сама.
Люди вошли, чтобы воспользоваться туалетом Траксов. Их было несколько больше тысячи, и им потребовалось довольно много времени, чтобы воспользоваться удобствами, даже несмотря на то, что они ввели 15-секундный лимит на одну персону и назначили хронометриста с колокольчиком. Они делали все с громким смехом и удивительной сноровкой, но все равно потребовалось около пяти часов, чтобы прошла первая партия, а к тому времени на улице выстроилась длинная очередь из новоприбывших.
— Это немного необычно, — обратилась миссис Тракс к какой-то скандийской женщине. — Я никогда не отказывала в гостеприимстве. Но наши возможности ограничены. Вас так много!
— Не берите в голову, — ответила скандийская женщина. — Вы поступили великодушно. Было так любезно с вашей стороны, люди, пригласить нас. Нам редко выпадает шанс сходить куда-нибудь. Мы прибыли немного рановато, но основная партия будет здесь очень скоро. Разве вы не любите ходить в гости?
— О, да-да, — ответила миссис Тракс. — Я не понимала до сегодняшнего дня, как сильно я хочу пойти в гости.
Но когда она увидела улицу, заполненную из конца в конец новыми людьми, миссис Тракс решила, что лучше оставаться дома.
* * *
Труман Тракс делал подсчеты карандашом.
— Джессика, наш участок 50 футов на 150 футов, — сказал он. — Это или 7500, или 75000 квадратных футов в зависимости от того, сколько нулей прибавлять к результату.
— Ты всегда был хорош в математике, — сказала миссис Тракс. — Как тебе это удается?
— А знаешь, сколько людей проживает на нашем участке? — спросил Труман.
— Порядочно.
— Думаю, от шести до семи тысяч, — сказал Труман. — Утром я обнаружил еще несколько кварталов. У них целый город на нашем заднем дворе. Улицы два с половиной фута шириной; дома — восемь футов на восемь с семифутовыми потолками, и большинство домов девятиэтажные. В каждой комнате живет целая семья, и готовят там же. Они открыли магазины и рынки. Они даже построили заводы. Я знаю, что есть целый оптовый текстильный район на нашем дворе. Тринадцать закусочных и пять мюзик-холлов, насколько я знаю, а может быть и больше.
— Ну, некоторые из этих заведений очень маленькие, Труман. «Малое убежище» — это чулан «Большого убежища», и я не уверена, нужно ли его учитывать как отдельную закусочную. В клуб «Сайдвэйс» можно протиснуться только боком; клуб «Тинмэн» всего лишь девять дюймов от стены до стены, согнуть там колени — настоящий трюк; и «Маусрум» совсем крошечный. Но лучшие клубы выросли на нашем чердаке, Труман. Ты их посчитал? Кабаре «Чокнутый» и клуб «После работы». Большинство остальных чердачных клубов — закрытые клубы, а я не их член. Они построили театр искусств «Скандия» в нашем подвале, если ты знаешь, и постоянно дают там представления.
— Я знаю, Джессика.
— Их комедии такие смешные, я чуть не умерла со смеху. Единственная проблема заключается в том, что из-за тесноты можно смеяться только тогда, когда твой сосед выдыхает воздух. А на их трагедиях я плакала так же, как и они. Все их трагедии о женщинах, которые больше не могут иметь детей. Почему у нас нет кучи детей, Труман? На нашем заднем дворе больше двадцати магазинов, в которых продают только амулеты плодовитости. Интересно, почему не прилетел ни один ребенок со Скандии?
— А, они сказали, что это просто первый короткий визит, немногочисленный, они не предполагали брать с собой детей. Что это за непривычный шум, более громкий, чем обычно?
— О, это большой барабан и цимбалы. У них началась политическая кампания по избранию временной власти на период их визита. Империал-сити, городок на нашем дворе, и наш дом выберут делегатов, которые будут представляли весь этот квартал в Конгрессе; голосование сегодня ночью. Вот тогда мы услышим настоящий шум, сказали они. Большие барабаны на самом деле не занимают места, Труман. Люди живут внутри, и, когда нужно, колотят по ним изнутри. Некоторые наши соседи нервничают из-за гостей, но мне всегда нравился дом, полный народу.
— Сейчас он именно такой, Джессика. Никогда раньше не спал в кровати с девятью другими людьми, пусть даже не храпящими. Я люблю компании и новые впечатления, но становится тесновато.
— У нас больше гостей со Скандии, чем у кого-либо другого в квартале, за исключением Скирвейсов. Гости говорят, что мы нравимся им больше всех остальных. Мама Скирви принимает четыре вида таблеток плодовитости. Она почти уверена, что сможет иметь тройни. Я хотела бы тоже.
— Все магазины стоят пустые, Джессика, а также все лесопилки и лесохозяйства; а зерновые элеваторы опустеют через пару дней. Скандийцы платят за все деньги, но никто не знает, что обо всем этом думать. Я не привык шагать по мужчинам и женщинам, когда выхожу прогуляться, но этого не избежать, поскольку они покрывают весь грунт.
— Они не против. Они привыкли. Они говорят: тесно там, откуда они пришли.
* * *
«Винтерфилд Таймс Трибьюн Телеграф» поместила заметку о Скандии:
«Общеизвестный факт, что за два дня Земля приняла 10 миллиардов гостей со Скандии, где бы та ни находилась. Другой очевидный факт: Земля умрет из-за них в течение этой недели. Они появляются при помощи невидимого транспорта и пока не проявляют склонность исчезнуть тем же манером. Кончится продовольствие, кончится сам воздух, которым мы дышим. Они разговаривают на всех земных языках, они вежливы, дружелюбны и покладисты. Из-за них мы погибнем».
* * *
Высокий улыбчивый человек перебил Бар-Джона, который снова стал президентом Большого Объединенного Государства, бывших С.Ш.А.
— Я президент скандийской общины, — пророкотал он. — Мы пришли отчасти и для того, чтобы поделиться с вами, люди, нашими знаниями, и обнаружили, что вы в этом крайне нуждаетесь. Коэффициент вашей плодовитости плачевно низок. Вы едва удваиваетесь за 50 лет. Ваша медицина, продвинутая в других областях, никуда не годится в этой. Мы обнаружили, что некоторые патентованные препараты, продающиеся в аптеках, в действительности сдерживают плодовитость. Что ж, приезжайте в «Главную Хирургическую», и — несколько парней, и мы начнем исправлять ситуацию.
— Убирайся, — приказал президент Бар-Джон.
— Я уверен, вы не против, чтобы ваши люди получили благословение рождаемости, — сказал президент скандийской общины. — Мы можем помочь вам. Мы хотим, чтобы вы были так же счастливы, как и мы.
— Джарвис! Кугельман! Сапсакер! — крикнул президент Бар-Джон. — Расстрелять этого человека. Приговор я оформлю позже.
— Каждый раз вы говорите так, но никогда не делаете, — пожаловался Сапсакер. — У нас из-за этого куча неприятностей.
— Тогда ладно, не расстреливайте, раз из-за этого могут быть проблемы. Я скучаю по старым временам, когда простые вещи делались просто. Черт побери, ты, скандийский погонщик мулов, разве ты не в курсе, что в Белом доме находится девять тысяч ваших?
— Мы исправим это в ближайшие часы, — ответил скандийский президент. — Мы выстроим одну, две или даже три палубы в этих высоких комнатах. Счастлив сообщить, что уже этой ночью мы расквартируем в Белом доме 30 тысяч наших людей.
— Думаешь, мне нравится принимать ванну вместе с восемью другими персонами — причем даже не избирателями? — пожаловался президент Бар-Джон. — Думаешь, мне нравится есть втроем или вчетвером с одной тарелки? Или брить утром по ошибке чужие лица вместо собственного?
— Почему бы и нет, — пожал плечами президент скандийской общины. — Люди — самое драгоценное, что у нас есть. Президент должен любить своих избирателей.
— Ой, да ладно, парни, — сказал президент Бар-Джон, — Застрелите этого любвеобильного сына. Мы имеем право на один бесплатный расстрел время от времени.
Джарвис, Кугельман и Сапсакер дали залп по скандийцу, но пули не причинили тому никакого вреда.
— Вам следовало знать, что мы невосприимчивы к огнестрельному оружию, — сказал Скандия. — Мы проголосовали против его эффекта много лет назад. Ладно, раз вы не хотите сотрудничать, я обращусь непосредственно к вашему народу. Счастливого размножения, господа!
* * *
Труман Тракс, покинувший свой дом ради короткой смены обстановки, сидел на скамейке в парке.
В действительности он сидел не на ней, а в нескольких футах над ней. Конкретно на скамейке сидела словоохотливая скандийская дама. На ее коленях сидел крепкий скандийский мужчина, читавший «Спортивные новости» и дымящий трубкой.
На нем сидела скандийская женщина помоложе. Вот на этой женщине сидел Труман Тракс, а на нем — черная скандийская девушка, которая красила ногти и напевала мелодию. На ней, в свою очередь, сидел пожилой скандийский мужчина. В переполненном мире никто не мог рассчитывать на индивидуальное сидение.
Подошли парень с девушкой, прогуливавшиеся по отдыхающим на траве людям.
— Вы не против, если мы присядем? — спросила девушка.
— Абсолютно нет, — сказал престарелый мужчина сверху.
— Ага, — кивнула девушка, занятая ногтями.
— Конечно, — сказал Труман и остальные, а человек со «Спортивными новостями» пропыхтел в свою трубку, что он совершенно согласен.
Движение транспорта в городе полностью прекратилось. Люди передвигались по набитым битком улицам и тротуарам в три слоя. Самый нижний слой двигался медленнее, чем средний. Идущие по плечам среднего слоя и таким образом объединяющие скорости всех трех слоев двигались быстрее всего. На перекрестках движение становилось немного замысловатым, и люди иногда накапливались до девяти слоев в высоту. Однако жители Земли, которые продолжали выходить на улицу, быстро осваивали методы скандийцев.
Землянин, известный своими экстремальными взглядами, взобрался на памятник в парке и обратился к людям Земли и Скандии. Труману Траксу, который решил посмотреть и послушать оратора, удалось удобно устроиться в пятом уровне на плечах красивой скандийской девушки, которая сидела на плечах другой, — и так далее донизу.
— Вы нашествие саранчи! — ревел землянин. — Вы раздели нас донага!
— Бедняга! — сказала скандийская девушка, служившая основанием для Трумана. — Вероятно, у него не более двух детей, поэтому он озлоблен.
— Вы поглотили нашу сущность и украли саму атмосферу нашей жизни. Вы апокалипсические кузнечики, одиннадцатое бедствие.
— Вот амулет плодовитости для вашей жены, — сказала скандийская девушка и протянула его вверх Труману. — Может, вам он еще не нужен, тогда сохраните его на будущее. Он для тех, у кого больше двенадцати детей. Надпись на скандийском языке гласит: «Зачем останавливаться сейчас?». Он очень действенный.
— Спасибо, — сказал Труман. — У моей жены уже много ваших амулетов, добрые люди, но такого нет. У нас пока один ребенок, девочка.
— Какой стыд! Вот амулет для вашей дочери. Но не следует начинать использовать его слишком рано.
— Уничтожение, уничтожение и еще раз уничтожение всех вас! — кричал земной чудак с вершины памятника.
— Довольно убедительно, — заметила скандийская девушка. — К какой школе красноречия он принадлежит?
Толпа зашевелилась и начала расходиться. Труман почувствовал, что опустился на один уровень вниз, потом еще на один.
— Вам в какую сторону? — спросила скандийская девушка.
— Пока в эту, — сказал Труман. — Мы движемся в сторону моего дома.
— Зачем идти домой, парк почти очистился, — сказала девушка. — Вы не найдете ничего подобного дома.
Теперь они опустились на последний уровень, девушка шла только по горизонтальным телам тех, кто развалился на траве.
— Можете слезть и идти самостоятельно, если хотите, — сказала девушка. — Здесь зазор между пешеходами, вы можете втиснуться. Что ж, пок.
— Вы хотите сказать «пока»? — спросил Труман, сползая с ее плеч.
— Верно. Не могу запомнить последнюю букву.
Скандийцы такой дружелюбный народ!
* * *
Президент Бар-Джон и десяток других руководителей мирового масштаба приняли решение, которое потребовало от них решительности. Из-за смешения населения Земли и гостей со Скандии выполнение задачи было поручено малым и средним подразделениям. Казалось, будет проблематично собрать скандийцев всех вместе на открытых местах, но в назначенный день они начали стекаться в миллионы парков и площадей по всему свету. Это было то что нужно. Военнослужащие рассредоточились и вступили в бой.
Засвистели пули, застучали пулеметы. Но впечатление, произведенное на скандийцев, оказалось не таким, как ожидалось.
Вместо стонов раненых раздались аплодисменты.
— Больше пиротехники! — воскликнул скандийский лидер, взобравшись на памятник в одном из парков. — О, нас чествуют!
Однако, хотя скандийцы и не падали под автоматными очередями, они начали уменьшаться в количестве. Они исчезали так же таинственно, как и появлялись неделей ранее.
— Мы уходим, — произнес скандийская лидер с вершины памятника. — Мы наслаждались каждой минутой нашего короткого визита. Но не отчаивайтесь! Мы не оставим вас наедине с вашей пустотой. Наш символический отряд вернется домой и расскажет, как прошел визит. На следующей неделе мы вернемся в значительном количестве. Мы научим вас абсолютному счастью человеческой близости, полному восторгу плодоносности, благу адекватного заселения. Мы научим вас, как заполнить отвратительные пустоты вашей планеты.
Ряды скандийцев редели. Последние из них благодарно принимали прощальные аплодисменты несчастных земных друзей.
— Мы вернемся, — говорили они, передавая последние амулеты плодовитости в жадные руки. — Мы вернемся и научим вас всему, что знаем сами, чтобы вы были так же счастливы, как и мы. Значительного прибавления всем вам!
— И вам тоже значительного прибавления! — кричали земляне вслед исчезающим скандийцам. О, каким пустынным станет мир без всех этих милых людей! Они создавали чувство реальной близости.
— Мы вернемся! — пообещал скандийский лидер и пропал с памятника.
— Мы вернемся на следующей неделе, и нас будет гораздо больше. — И потом их не стало.
— …В следующий раз мы захватим с собой детей!.. — донесся с неба последний затухающий крик.
Перевел С. Гонтарев
Безлюдный переулок
В этом квартале хватало разных затейников.
Повстречав там Джима Бумера, Арт Слик спросил его:
— Ходил когда-нибудь вон по той улице?
— Сейчас — нет, а мальчишкой бегал к одному лекарю. Он ютился в палатке там летом, когда сгорела фабрика комбинезонов. Улица-то всего в один квартал длиной, а потом упирается в железнодорожную насыпь. Несколько лачужек, а вокруг бурьян растет — вот и вся улица… Правда, сейчас эти развалюшки как-то не так выглядят. Вроде и побольше их стало. А я думал, их давно снесли.
— Джим, я два часа смотрю на тот крайний домик. Утром сюда пригнали тягач с сорокафутовым прицепом и стали грузить его картонными коробками каждая три фута в длину, торец дюймов восемь на восемь. Они их таскали из этой лачужки. Видишь желоб? По нему спускали. Такая картонка потянет фунтов на тридцать пять — я видел, как парни надрывались. Джим, они нагрузили прицеп с верхом, и тягач его уволок.
— Что же тут такого особенного?
— Джим, я тебе говорю, что прицеп нагрузили с верхом! Машина еле с места сдвинулась — думаю, на ней было не меньше шестидесяти тысяч фунтов. Грузили по паре картонок за семь секунд — и так два часа! Это же две тыщи картонок!
— Да кто теперь соблюдает норму загрузки? Следить некому.
— Джим, а домик-то — что коробка из-под печенья, у него стенки семь на семь футов, и дверь на полстенки. Прямо за дверью в кресле сидел человек за хлипким столиком. Больше в эту комнатку ничего не запихнешь. В другой половине, откуда желоб идет, что-то еще есть. На тот прицеп влезло бы штук шесть таких домиков!
— Давай-ка его измерим, — сказал Джим Бумер. — Может быть, он на самом деле побольше, чем кажется.
Вывеска на хижине гласила: "ДЕЛАЕМ — ПРОДАЕМ — ПЕРЕВОЗИМ — ЧТО УГОДНО ПО ЗАМЕНЬШЕННЫМ ЦЕНАМ". Старой стальной рулеткой Джим Бумер измерил домик. Он оказался кубом с ребром в семь футов. Он стоял на опорах из битых кирпичей, так что при желании можно было под него заглянуть.
— Хотите, продам вам за доллар новую пятидесятифутовую рулетку? — предложил человек, сидевший в домике. — А старую можете выбросить.
И он достал уз ящика стола стальную рулетку.
Арт Слик отлично видел, что столик был безо всяких ящиков.
— На пружине, имеет родиевое покрытие, лента "Дорт", шарнир "Рэмси", заключена в футляр, — добавил продавец.
Джим Бумер заплатил ему доллар и спросил:
— И много у вас таких рулеток?
— Могу приготовить к погрузке сто тысяч за десять минут. Если берете оптом, то уступлю по восемьдесят восемь центов за штуку.
— Утром вы грузили машину такими же рулетками? — спросил Арт.
— Да нет, там было что-то другое. Раньше я никогда не делал рулеток. Только сейчас вот решил сделать для вас одну, глядя, какой старой и изломанной вы измеряете мой дом.
Арт и Джим перешли к обшарпанному соседнему домику с вывеской: "СТЕНОГРАФИСТКА". Этот был еще меньше, футов шесть на шесть. Изнутри доносилось стрекотание пишущей машинки. Едва они открыли дверь, стук прекратился.
На стуле за столиком сидела хорошенькая брюнетка. Больше в комнате не было ничего, в том числе и пишущей машинки.
— Мне послышалось, здесь машинка стучала, — сказал Арт.
— Это я сама, — улыбнулась девушка. — Иногда для развлечения стучу как пишущая машинка. Чтобы все думали, что здесь стенографистка.
— А если кто-нибудь войдет да и попросит что-то напечатать?
— А как вы думаете? Напечатаю, и все.
— Напечатаете мне письмо?
— О чем говорить, приятель, сделаю. Без помарок, в двух экземплярах, двадцать пять центов страница, есть конверты с марками.
— Посмотрим, как вы это делаете. Печатайте, я продиктую.
— Сперва диктуйте, а потом я напечатаю. Нет смысла делать две вещи одним разом.
Арт, чувствуя себя последним дураком, пробубнил длинное витиеватое письмо, которое уже несколько дней собирался написать, а девушка сидела, подчищала ногти пилочкой. И перебила только раз.
— Почему это машинистки вечно сидят и возятся со своими ногтями? — спросила она его. — Я тоже так стараюсь делать. Подпилю ногти, потом немного отращу, а потом опять подпилю. Целое утро только этим и занимаюсь. По-моему, глупо.
— Вот и все, — сказал Арт, кончив диктовать.
— А вы не прибавите в конце "люблю, целую"? — спросила девушка.
— С какой стати? Письмо деловое, и человека этого я едва знаю.
— Я всегда так пишу людям, которых едва знаю, — сказала девушка. Письмо на три страницы. Это семьдесят пять центов. Пожалуйста, выйдите секунд на десять. Не могу при вас печатать.
Дверь захлопнулась и воцарилась тишина.
— Эй, девушка, — крикнул Арт, — чем вы там занимаетесь?
Из домика донеслось: "Вам что, нужно еще и память подправить? Уже забыли о своем заказе? Письмо печатаю".
— Почему же машинки не слышно?
— Это еще зачем? Для правдоподобия? Надо бы за это брать отдельную плату. — За дверью хихикнули, и секунд пять машинка стрекотала как пулемет. Потом девушка открыла дверь и вручила Арту текст на трех страницах. Действительно, письмо было напечатано безукоризненно.
— Что-то тут не так, — сказал Арт.
— Да что вы! Синтаксис ваш собственный, сэр. А разве надо было выправить?
— Нет, я не о том. Девочка, скажи по чести, как твой сосед умудряется доверху нагрузить машину товаром из дома, который в десять раз меньше этой машины?
— Так ведь и цены заменьшены.
— Ага. Он тоже вроде тебя. Откуда вы такие?
— Он мой дядя-брат. И мы называем себя индейцами племени инномини.
— Нет такого племени, — твердо сказал Джим Бумер.
— Разве? Тогда придется придумать что-нибудь еще… Но звучит очень по-индейски, согласитесь! А какое самое лучшее индейское племя?
— Шауни, — ответил Джим Бумер.
— О'кей, тогда мы — индейцы шауни. Нам это пара пустяков.
— Идет, — сказал Бумер. — Ведь я сам шауни и всех шауни в городе знаю наперечет.
— Салют, братец! — крикнула девушка и подмигнула. — Это как в той шутке, которую я заучила, только начинается там по-другому… Видишь, какая я хитренькая: о чем ты ни спросишь, у меня уже ответ готов.
— С тебя двадцать пять центов сдачи, — сказал Арт.
— Да я знаю, — сказала девушка. — У меня из головы выскочило, что там на обратной стороне двадцатипятицентовой монетки… Заговариваю вам зубы, а сама стараюсь припомнить. Ну конечно, там такая смешная птичка сидит на вязанке хвороста. Сейчас я ее кончу. Готово. — Она вручила Арту Слику двадцатипятицентовик. — А вы, уж пожалуйста, рассказывайте, что здесь поблизости есть лапочка-машинистка, которая отлично печатает письма.
— Без пишущей машинки, — добавил Арт Слик. — Пошли, Джим.
— Люблю, целую! — крикнула им вслед девушка.
Рядом стояла маленькая убогая пивная под названием "КЛУБ ХЛАДНОКРОВНЫХ". Буфетчица была похожа на машинистку, как родная сестра.
— Мы бы взяли по бутылке "Будвейзера", — сказал Арт. — Но ваши запасы, я вижу, на нуле.
— А зачем запасы? — спросила девушка. — Вот ваше пиво.
Арт поверил бы, что бутылки она достала из рукава, но платье у нее было без рукавов.
Пиво оказалось холодным и вкусным.
— Вы не знаете, девушка, как это ваш сосед на углу делает товар из ничего и тут же грузит им машину.
— А вещи делаются из чего-то! — вставил Джим Бумер.
— А вот и нет! — сказала девушка. — Я учу вашего языка. Эти слова я знаю. "Из чего-то" собирают, а не делают. А он делает.
— Забавно, — удивился Слик, — на этой бутылке написано "Будвизер", а правильно — "Будвейзер".
— Ой, какая же я простофиля! Не могла вспомнить, как это пишется; на одной бутылке написала правильно, а на другой — нет. Вчера вот тоже один посетитель попросил бутылку пива "Прогресс", а я на ней написала "Прогеррс". Сбиваюсь иногда. Сейчас исправлю.
Она провела рукой по этикетке, и надпись стала верной.
— Но ведь чтобы печатать типографским способом, надо сперва сделать клише! — запротестовал Слик.
— Все проще простого, — сказала буфетчица. — Только надо быть повнимательнее. Как-то я по ошибке сделала пиво "Джэкс" в бутылке из-под "Шлица", и посетитель был недоволен. Я взяла у него эту бутылку, раз-два, поменяла вкус пива и дала ему, будто б новую. "Это у нас освещение такое, что стекло кажется коричневым", — сказала я ему. И тут сообразила, что у нас вовсе никакого освещения нет! Пришлось быстренько сделать бутылку зеленой. Еще бы мне не ошибаться, ведь я такая бестолковая.
— В самом деле, у вас тут нет ни лампочек, ни окон. А светло, — сказал Слик. — И холодильника у вас нет. Во всем этом квартале нет электричества. Почему же у вас холодное пиво?
— Прекрасное холодное пиво, не правда ли? Заметьте, как ловко ухожу от ответа. Добрые люди, не хотите ли еще по бутылочке?
— Хотим. Заодно поглядим, откуда вы их достаете, — сказал Слик.
— Смотрите, сзади змея, змея! — вскрикнула девушка. — Ого, как вы подпрыгнули! — засмеялась она. — Это же шутка. Неужели я стану держать змей в таком хорошем баре?
Перед ними тем временем появились откуда-то еще две бутылки.
— Когда же вы появились в этом квартале? — спросил Бумер.
— Кто за этим следит? — ответила девушка. — Люди приходят и уходят.
— Вы не местные, — сказал Слик. — И нигде я таких не встречал. Откуда вы взялись? С Юпитера?
— Кому он нужен, ваш Юпитер? — возмутилась девушка. — Там и торговать не с кем, кроме как с кучкой насекомых. Только хвост отморозишь.
— Девушка, а вы нас не разыгрываете? — спросил Слик.
— Я сильно стараюсь. Выучила много шуток, но еще не умею ими шутить. Я улучшаюсь, ведь хозяйка бара должна быть веселой, чтобы людям хотелось снова к ней зайти.
— А что в том домике у железной дороги?
— Сегодня моя сестра-кузина открыла там салон. Отращивает лысым волосы. Любого цвета. Я ей говорила, что она спятила. Пустое дело. Будь им нужны волосы, стали бы люди ходить лысыми?
— Она и вправду может отращивать волосы? — спросил Слик.
— А как же! Вы сами не можете, что ли?
В квартале стояли еще три-четыре обшарпанных лавчонки, которых Арт и Джим не заметили, когда входили в "Клуб хладнокровных".
— По-моему, этой развалюшки тут раньше не было, — сказал Бумер человеку, стоявшему у последнего из домов.
— А я ее только что сделал, — ответил тот.
Старые доски, ржавые гвозди… Он ее только что сделал!
— А почему вы… э… не построили дом поприличнее, раз уж вы взялись за это? — спросил Слик.
— Меньше подозрений. Если вдруг появляется старый дом, на него никто и не смотрит. Мы здесь люди новые, и пока что хотим осмотреться, не привлекая особого внимания. Вот я и думаю, что бы мне сделать. Как вы считаете, найдут здесь сбыт отличные автомобили, долларов по сто за штуку? Хотя, пожалуй, при их изготовлении придется считаться с местными религиозными традициями.
— То есть? — спросил Слик.
— Культ предков. Хотя все уже отлично работает на естественной энергии, у машины должны быть пережитки прошлого, бензобак и дизель. Ну что ж, я их встрою. Подождите, сделаю вам машину за три минуты.
— Машина у меня уже есть, — сказал Слик. — Пошли, Джим.
Арт с Джимом повернули назад.
— А я все гадал: что творится в этом квартале, куда никто никогда не заглядывает? — сказал Слик. — Уйма в нашем городе занятных местечек, стоит только поискать.
— В тех лачугах, что стояли здесь раньше, тоже жило несколько странных парней, — сказал Бумер. — Я кое-кого встречал в "Красном Петухе". Один умел кулдыкать индюком. Другой мог вращать глазами одновременно — правым по часовой стрелке, левым против. А работали на маслозаводе, сгребали пустые хлопковые коробочки, пока он не сгорел.
Приятели поравнялись с хижиной стенографистки.
— Эй, милая, а если серьезно, как это ты печатаешь без пишущей машинки? — спросил Слик.
— На машинке слишком небыстро.
— Я спросил не "почему", а "как"?
— Поняла. Но до чего ловко я увертываюсь от твоих вопросов! Пожалуй, выращу-ка к завтрашнему утру у себя перед конторой дуб, чтобы давал тень. Люди добрые, у вас в кармане желудя не найдется?
— Н-нет. А как же ты все-таки печатаешь?
— Дай слово, что никому не скажешь.
— Даю.
— Я печатаю языком, — сказала девушка.
Арт и Джим не торопясь пошли дальше.
— А чем ты делаешь второй экземпляр? — крикнул вдруг Джим Бумер.
— Вторым языком, — ответила девушка.
Из углового дома опять грузили товар в сорокафутовый трейлер. По желобу ползли связки водопроводных труб со стенками толщиной в полдюйма и длиной футов по двадцать. Жесткие трубы двадцатифутовой длины — из семифутовой развалюшки.
— Не понимаю, как он может загружать товаром из такой маленькой лавчонки целые машины? — не унимался Слик.
— Девчонка же сказала — по заменьшенным ценам, — ответил Бумер. Зайдем-ка в "Красный Петух". Может быть, там тоже что-нибудь затевается. В этом квартале всегда хватало разных затейников.
Перевод А. Графова
Прожорливая красотка
Джо Спейд меня кличут. А уж башковитее меня вам вряд ли отыскать. Это я придумал Вотто, и Воксо, и еще кучу других штучек, без которых нынче никто и шагу ступить не может. У меня этого серого вещества столько, что порой приходится к специалисту по мозгам обращаться. В тот день, помню, звоню, — все мозговые спецы, которых я знаю, на уик-энде. Что-то уж слишком часто они на уик-энде, когда я к ним звоню. Пришлось к новому врачу идти. У него на дверной табличке написано, будто он анапсихоневролог, — ну, это все равно, что спец по мозгам, ежели по-простому говорить.
— Меня кличут Джо Спейд, — человек, который изобрел все, — говорю я ему и хлопаю его по спине со свойственным мне добродушием. Тут какой-то треск раздается, мне даже поначалу показалось, что я ему ребро сломал. Потом замечаю, что это всего-навсего очки, стало быть — порядок.
— Я из тех, док, про которых говорят: гениальный парень, и никаких гвоздей, — говорю я ему. — И еще у меня в кармане куча этих зелененьких бумажек с такими кудрявыми завитушками.
Тут я беру у него со стола историю болезни и сам ее заполняю, чтобы времени не терять. Я так понимаю, что мне про себя больше известно все-таки, чем ему.
— Поимейте в виду, док, все ваши девятидолларовые слова я могу оптом купить за четыре восемьдесят пять, — беру я его на понт, и тут он смотрит на меня вроде как страдает от чего-то.
— Скромность не входит в число ваших недостатков, — говорит мне этот врач по мозгам. Это он уже, значит, мою карточку изучил. — Хм! Холостой… исключительно интересно…
Я сам написал "холостой", где положено. А что я человек исключительный, так это он и сам видит.
— Платежеспособный, — читает он в том месте, где речь идет о зелененьких. — Вот, — говорит, — это то, что мне нравится в людях. Уговоримся с вами о нескольких сеансах.
— Хватит одного, — говорю я ему. — Время летит, а плачу за него я. Провентилируйте мне мозги по-быстрому, док.
— Хорошо, я могу все сделать очень быстро, — говорит он. — Советую вам поразмыслить над старинным изречением: "Негоже человеку быть одному". Подумайте об этом. Надеюсь, вы сумеете сообразить, сколько будет один и один.
Потом он добавляет этак невесело: "Несчастная женщина"… То ли это поговорка такая в этом году, то ли он о другом пациенте подумал — мне невдомек. И опять добавляет:
— С вас три куска, выражаясь по-вашему.
— Спасибо, док, — говорю я. Отсчитал ему три сотни долларов и двинул вон. Этот спец по мозгам прямо в точку попал, в самую сердцевину.
Непременно надо мне подыскать себе компаньона.
Этого парня я приметил в баре у Грогли. Я сразу усек, что он мне в самый раз. Ростом он был вполовину меня, зато в остальном — вылитый я. Точно два ботинка с одной ноги. Одет шикарно, только на фасаде кое-где кровь подсыхает. Ну, у Грогли это со всяким может случиться, пяти минут хватит. Ребята, но до чего же мы с ним были похожи, ну что два твоих близнеца! Я уже наперед знал, что он на меня так похож.
— Э-хе-хе! Настоящие фугасы… — говорит мой новый компаньон с этакой грустинкой в голосе. Это значит: "Ну, братец, такой денек выдался, что на всю жизнь лая наслушался". В стакане у него было фэнси, а глаза сверкали, точно разбитое стекло.
— Он тут парочку раз схватывался на кулачках, — шепчет мне Грогли. — Только ему не везло. Уж очень медленно он кулаками машет. Я так думаю, что у него какие-то неприятности.
— С этим покончено, — говорю я Грогли, — он мой новый компаньон.
Тут я хлопаю своего нового компаньона по спине со свойственным мне добродушием, и из него вылетает один зуб, — плохо держался, наверно.
— Конец твоим неприятностям, Роско, — говорю я ему, — отныне мы с тобой компаньоны.
Он смотрит на меня вроде как-то болезненно.
— Меня зовут Морис, — говорит он. — Морис Мальтраверс. Ну, а как там делишки в пещере? Вы ведь троглодит, сэр, не так ли? Троглодиты всегда появляются после шакалов. Впервые мне захотелось, чтобы шакалы вернулись поскорей.
Чертова уйма народу меня троглодитом называет.
— Лишенный сочувствия человечества, — говорит этот Морис, — я, кажется, обретаю сочувствие низших подвидов. Интересно, сумею ли я втиснуть в ваши уши… ого-го! Вот эти корыта — это уши?! Что за устрашающий отологический аппарат!.. Мда, сумею ли я втиснуть в них все бремя моих забот?
— Я же сказал тебе, Морис, — конец твоим неприятностям, — говорю я. — Валяй за мной и займемся нашими компанейскими делами.
Тут я беру его за шиворот и выволакиваю из бара Грогли.
— Я сразу усек, что ты моего склада парень, — говорю я ему.
— Моего склада парень, — вторит он мне. — Ну и шутник же ты! Точь-в-точь, как я.
— Мои мыслительные структуры столь сложны и так ориентированы, — говорит этот Морис, когда я его отпускаю и даю ему поразмять конечности, — что я превратился в замкнутую систему, непонятную для экзокосмоса, а уж тем более для такого хтонического существа, как вы.
— Я такой понятливый, что аж страшно, Морис, — говорю я ему. — Нет такой штуки, которая нам с тобой не под силу.
— В данный момент мои неприятности состоят в том, что университет запретил мне пользоваться компьютером, — говорит мне Морис. — Без компьютера я не могу кончить свою Универсальную Машину.
— У тебя будет такой компьютер, — говорю я ему, — что все красные лампочки на университетской машинке позеленеют от зависти.
И вот мы с ним приходим в мою хибару, про которую один репортер напечатал, что это "перестроенное из бывшей конюшни и, наверное, самое необычное и неприспособленное под научную лабораторию помещение в мире". Я завожу Мориса туда, но он чего-то суетится, словно курица, которой голову отрубили.
— Вы живое ископаемое! — верещит он. — Я не могу работать в этом раю для жеребцов! Мне нужна вычислительная машина, компьютер, понимаете?!
Тут я слегка постукиваю себя по черепушке шестифунтовым молотком и улыбаюсь своей знаменитой улыбкой.
— Вот он, весь тут, внутри, Морис, — говорю я ему, — самый лучший компьютер в мире. Когда я работал у Карнивалов, они меня рекламировали как Гениального Кретина. Они мне скачки устроили — с лучшим компьютером города наперегонки. Двадцатизначные числа пришлось умножать в уме, ну, и прочие там мелкие фокусы. Я, правда, словчил немного. Изобрел себе приставку и в карман сунул. Эта приставка все реле их лучшего компьютера могла заклинивать и на целую секунду замедлять. А ежели мне секунду форы дать, так я что угодно в мире в каком угодно деле обгоню. Одно было плохо — довелось мне языком молоть и вообще держать себя, как Гениальному Кретину положено, уж таким они меня выставляли. Для человека моего интеллекта это слишком.
— Охотно вам верю, — говорит Морис. — Хорошо, можете вы справиться со свернутыми Маймонид-подобными матрицами из чисел третьего типа последовательности Коши, одновременно относящимися к вневременной области множества Фирши?
— Морис, — говорю я ему, — я не только могу с этим справиться, но я еще могу одновременно жарить яичницу на закуску. — Потом я подхожу к нему и смотрю на него в упор. — Морис, — говорю я, — не иначе, как ты хочешь рассчитать аннигилятор?
Тут он глядит на меня, будто в первый раз воспринимает всерьез. Он вынимает из пиджака кучу чертежей, и я вижу, что он в самом деле рассчитывает аннигилятор, этакую славную штучку.
— Это не совсем обычный аннигилятор, — замечает Морис, хотя я и сам уже вижу, как дело обстоит. — Какой еще аннигилятор способен выдвигать и обосновывать категории? Какой другой способен выносить моральные и этические оценки? Какой еще способен к подлинному различению сущностей? Это будет единственный аннигилятор, способный делать полные философские заключения. Можешь ты мне помочь его закончить, Проконсул?[9]
"Проконсул" — это все равно, что член муниципалитета. Отсюда я вывел, что Морис обо мне высокого мнения.
Тут мы выбрасываем все часы и приступаем к делу. Мы вкалываем по двадцати часов в сутки. Я все рассчитываю и тут же клепаю — из Вотто-металла, разумеется. Под конец мы с ним делаем в этой штуке целую кучу обратных связей. Мы ей даем самой выбирать, чего нам в нее сунуть, а чего нет. Наш же аннигилятор тем от всех прочих и отличается, что сам может принимать решения. Ну, так пусть себе принимает!
Через неделю мы его заканчиваем. Ребята, какая игрушка получилась — пальчики оближешь! Начинаем мы с ней играть немного, чтобы посмотреть, что она может.
Показываю я ей на полпуда болтов и гаек — на столе валяются. И задаю программу:
— Убери отсюда все, что в стандарт не лезет. Здесь любая половина в утиль годится.
И в тот же момент половину этого барахла ровно корова языком слизнула. Вот дает! Только назови ей, от чего ты хочешь избавиться, — и тут же от этого самого уже ни следа.
— Убери теперь подчистую все вокруг, что тут ни к чему, — задаю я ей программу. А у меня в хибаре, что называется, беспорядок. Тут машина только разок мигает, и готово — моя хибара становится вполне приличной. Да, эта игрушка сразу любую дрянь усекает, без промашки всякое барахло прямиком вышвыривает на свалку. Такой аннигилятор, который, что бы ни зацапал, подчистую слизал, — это проще пареной репы придумать. А вот чего именно подчистую слизать, а чего нет, — это только наш сам собой понимает. Мы с Морисом, ясное дело, квохчем над ним от радости, что твои наседки.
— Морис, — говорю я и хлопаю его по спине, у него даже кровь начинает чего-то из носа капать, — Морис, это же золотое дно, а не машина! Нет такой штуки, которую мы бы с ней не провернули.
Но Морис пока что вроде невеселый.
— Aqua bono? — спрашивает он, я так понимаю, что про какую-то минеральную воду. Раз так, я ему наливаю бренди, которое лучше всякой воды. Тянет он это бренди, но вид у него все равно задумчивый.
— Но что в этом хорошего? — спрашивает он. — Конечно, это победа, но под каким соусом мы ее можем продать? Ей-богу, я уже не один раз имел в руках замечательную штуку, которая потом оказывалась никому не нужной. Ты серьезно думаешь, что существует массовый спрос на машину, которая выносит моральные и этические оценки, выдвигает и обосновывает категории, которая способна к подлинному различению сущностей и может делать полные философские заключения? Выходит, я еще раз употребил свой мозг на изготовление великолепной безделушки?!
— Морис, эта штука — идеальное хранилище отбросов! — говорю я ему. Тут лицо у него становится зеленоватым, как у каждого, кому я, наконец, проясняю суть дела.
— Хранилище отбросов! — заводится он. — Целые эпохи накапливали знания, чтобы с помощью лучшего мозга в нашей эре — моего мозга! — породить такую машину, и вот этот двоюродный братец гориллы говорит мне, что это — идеальное хранилище отбросов! Тут передо мной новый аспект интеллекта, мысль будущего, плодоносящая в настоящем, а грязный каннибал заявляет, что это Хранилище Отбросов!! Созвездия склоняются перед моим творением, и само Время видит, что оно не прошло даром, а ты, — ты, косолапый свинопас, — ты называешь его ХРАНИЛИЩЕМ ОТБРОСОВ!!!
Так он, видать, увлекся моей идеей, что в этом месте даже слезу пустил. Ничего не скажешь, оно приятно, ежели с тобой соглашаются так долго и громко, как Морис. Потом у него уже, видно, слов не хватило, он эту бутылку бренди обеими руками обхватил и мигом вылакал, что в ней еще оставалось. После свалился и дрых — до тех пор, пока стрелка весь циферблат не обошла. Видать, работа его утомила.
Когда он, наконец, очухался, вид у него был слегка обалдевший.
— Теперь я себя чувствую гораздо лучше, — говорит он, — поверх того, что мне гораздо хуже. Ты был прав, это хранилище отбросов.
Для начала он ее запрограммировал, чтоб она ему всю дрянь удалила — из крови, из печенки, из почек, из сердца. Ну, это ей раз плюнуть. Заодно она его в два счета от похмелья избавила. Еще побрила вдобавок и аппендикс вырезала. Этой машине только мигни, — она тебе разом чего хочешь удалит.
— Назовем ее Прожорливой Красоткой, — говорю я, — в том смысле, что она что угодно жрет. И притом так она это делает, что просто красота.
— Так мы ее будем называть между собой, — соглашается Морис, — но в обществе она будет известна как "Пантофаг".
А это то же самое, что "Прожорливая Красотка", только по-гречески.
Под такое настроение решил я поделить на нас с Морисом один свой Воксо. Каждый берет себе половину настроенного аппарата, и можешь говорить друг с другом на каком угодно расстоянии. А вид у моего Воксо такой, что его никто и не заметит.
Сняли мы большой киоск и выставили нашу Прожорливую Красотку, нашего Пантофага, на торговой ярмарке.
Ну, это было представление, я вам скажу! Люди так и перли, и все смотрели и слушали, пока сплошная стена зевак не выстроилась. Мой Морис соловьем разливается, а что касается меня, то я, по-моему, еще хлеще. А уж вид у нас, ясное дело, как у заправских джентльменов, особливо после того, как мне Морис намекнул, что я вроде для этого случая слишком скромно одет — в одной ночной сорочке. Я его понял, сходил, еще рубаху сверху на себя напялил. А уж наша Красотка так вся и блестит, переливается, — все, что из Вотто-металла сделано, всегда так блестит.
Ребятишки швыряли в нее конфетными обертками, те исчезали прямо на лету. "Обыщи меня!" — орали они, и сразу у них, в карманах, что ни к чему не годилось, исчезало бесследно. Был там один тип с битком набитым портфелем, так этот портфель в одну секунду стал пустой. Кое-кто, конечно, визг поднял, как лишился усов или бороды, — ну, мы втолковали, что им эти заросли на лице ничего не прибавляли; ежели б все эти их украшения имели хоть мало-мальскую ценность, машина их ни за что бы не тронула. Мы им показывали на других, у которых кусты на лице остались в целости и сохранности; эти, что бы там за своим кустарником ни скрывали, но уж им-то шерстяной покров, видать, требовался.
— Могу ли я установить одну такую машину дома и когда? — спрашивает одна дама.
— Завтра, за сорок девять девяносто пять вместе с установкой, — отвечаю я ей. — Наша машина, мадам, избавит вас от всего бесполезного. Она ощиплет вам курицу и кости из мяса вынет вместо вас. Она вам все старые любовные записочки в вашем письменном столе изничтожит, оставит только письма от ребят, которые имели в виду именно то, что писали. Она избавит вас от тридцати фунтов лишнего веса в самых стратегических местах, так что, по справедливости, мадам, одно только это окупает ее цену. Она выбросит все старые пуговицы, которые ни на что не годны, и все семена, которые никогда бы все равно не взошли. Она вам ликвидирует все, что ни к чему не пригодно.
— Эта машина способна выносить моральные и этические оценки, — просвещает Морис народ. — Она способна выдвигать и обосновывать категории.
— Морис мой компаньон, — говорю я всем, — Мы выглядим одинаково и думаем одинаково. Мы даже говорим одинаково.
— Если не считать того, что я выражаюсь иератически, а он — демотически, — подтверждает Морис. — Перед вами единственный аннигилятор в мире, который способен делать полные философские заключения. Это непогрешимый судия, который сам определяет, что в мире приносит какую-либо пользу, а что — нет. И все бесполезное он аккуратно ликвидирует.
Ребята, люди все утро так и перли посмотреть нашу машину. Только после полудня это наводнение чуток пошло на убыль.
— Интересно, сколько народу побывало у нас в киоске за утро? — говорит мне Морис. — Я бы сказал, тысяч десять.
— А мне гадать ни к чему, — говорю я. — Вошло девять тысяч триста пятьдесят восемь, Морис, — говорю я ему, потому что я всегда машинально чего-нибудь считаю. — И вышло девять тысяч двести девяносто семь, — продолжаю я, — не считая тех сорока четырех, которые и сейчас здесь околачиваются.
Морис улыбается.
— Ты ошибся, — заявляет он, — у тебя цифры не сходятся.
И вот тут, чувствую, волосы у меня на затылке становятся дыбом.
Я, когда считаю, никогда не ошибаюсь, и вот я вижу, что наша Прожорливая Красотка тоже не ошибается. Порядок, сейчас уже поздно делать вид будто ошибся, особенно ежели к этому не привык, но, может, еще есть время убраться с пути урагана, пока он не налетел?
— Кончай куковать, — шепчу я Морису, — пишись в бродяги, выходи на щебенку!
— Же нэ компренэ[10], — отвечает Морис, что значит "сматываем удочки, ребята", только по-французски, и дает мне тем самым понять, что он все усек.
Тогда я на высокой скорости удаляюсь из помещения ярмарки, а мой Морис несется позади с такой легкостью, что его и не слышно. Тут как раз флаер-такси собирается отчаливать.
— Прыгай на подножку, Морис! — подаю я ему сигнал, и сам прыгаю, цепляюсь когтями за хвостовое оперение, и мои ноги уже болтаются в воздухе. Теперь надо глянуть, что там с Морисом. Что с Морисом, ха! Да его и в помине нету! Он вообще рядом со мной не бежал, оказывается! Я оглядываюсь, и тут вижу через окно, как он там опять заводит свои песни.
Ну и история! Чтобы мой компаньон, который на меня похож, точно две черепушки из-под одной шляпы, — и не понял мой намек!!
В аэропорту я ныряю на воздушный грузовоз, который как раз отлетает в Мехико.
Мне чемоданов паковать не приходится. Я так скажу: ежели человек не привык постоянно иметь при себе двухлетний прожиточный минимум — в виде этих зелененьких бумажек с кудрявыми завитушками в заднем кармане, — такой человек, значит, не приспособлен встретиться с Судьбой один на один! Через тридцать минут я уже сижу в отеле в Куэва Покита, и все удовольствия к моим услугам. Тогда я хватаю свой Воксо, чтобы послушать, что мне сигналит мой Морис.
— Почему ты мне не сказал, что Пантофаг аннигилирует людей? — говорит он вроде бы с испугом.
— Я тебе все сказал, — говорю я. — Девять тысяч двести девяносто семь прибавить сорок четыре не дает девять тысяч триста пятьдесят восемь. Ты это сам заметил. Как там дела в родных краях, Морис? Вот юмор получился!
— Тут не юмор! — говорит он вроде как с отчаянием. — Я заперся в маленькой кладовке, где ведра и веники, но эти люди собираются взломать дверь. Что мне делать?
— Э, Морис, да объясни ты им, что те, которых машина прибрала, все равно ни на что не годились. Ведь наша машина не ошибается.
— Сомневаюсь, удастся ли мне убедить в этом родственников пострадавших. Они жаждут крови. Они уже ломятся в дверь, Спейд! Я слышу, они там кричат, что повесят меня.
— Скажи им, что веревка должна быть новехонькой, иначе ты не согласишься! — говорю я ему. Это такая старая шутка. И выключаю свой Воксо, потому как Морис больше ничего не говорит, только вроде булькает там, а чего он этим бульканьем хочет сказать, мне невдомек.
Такие истории быстро сходят на нет, стоит людям повесить одного кого-нибудь для собственного удовлетворения. Так что я теперь уже опять в городе и опять ворочаю в голове всякие новые идеи, ровно кучу камней перекатываю. Только Прожорливую Красотку я больше делать не стану. Слишком у нее логика опасная, и вообще она свое время слегка опережает.
Я нынче ищу себе нового компаньона. Заглядывайте к Грогли, ежели вас это интересует. Я там появляюсь каждый часок или около этого. Мне нужен парень, похожий на меня, как две шеи в одной петле… тьфу, черт, с чего это у меня вдруг такие мысли! — нет, попросту парень, который выглядит, как я, и думает, как я, и говорит тоже, как я.
Вы прямо валяйте и спрашивайте Джо Спейда.
Только поимейте в виду — парень, которого я возьму в компаньоны, должен быть такой, чтобы сразу меня понимал, ежели придет время сматывать удочки.
Перевод Р. Нудельмана
Девять сотен бабушек
Керан Свисегуд, подающий надежды молодой Специалист по Особым Аспектам, имел, как и все Особые, одну раздражающую привычку. А именно, он все время задавался вопросом: «Каким образом все началось?»
У всех участников экспедиции, за исключением Керана, были крутые имена: Вырубала Крэг, Громила Хакл, Шквал Берг, Кровожадный Джордж, Двигло Манион (если Двигло сказал «Двигай», то так и делаешь), Баламут Трент. Им следовало быть крутыми, поэтому они взяли себе крутые имена. И только Керан оставил свое собственное — к негодованию командира Вырубалы Крэга.
— Невозможно быть героем с таким именем — Керан Свисегуд! — метал бывало громы и молнии Вырубала. — Почему бы тебе не взять имя Шторм Шэнон? Звучит превосходно. Или Потрошитель Барельхауз, или Рубака Слэйгл, или Нэвел Тесак. Ты же едва глянул на предлагаемый список имен.
— Я сохраню свое, — всегда отвечал Керан. И был неправ. Новое имя иногда выявляет новые черты характера. Так было с Кровожадным Джорджем. Хотя волосы на груди Джорджа появились в результате трансплантации, тем не менее, их наличие и новое имя превратили его из мальчика в мужчину. Возьми Керан себе героическое имя Потрошитель Барельхауз, и он, возможно, проявил бы образцовую целеустремленность и достойную человека ярость вместо нерешительности и вспыльчивости.
Они пребывали на крупном астероиде Проавите — планетном теле, которое почти звенело о потенциальной прибыли, которую из него можно было вытрясти. Крутые парни экспедиции знали свое дело. Они подписали длиннющие контракты на туземных бархатистых берестяных свитках и на своих выглядящих аналогично лентах. Они ошеломили, соблазнили и отчасти запугали неискушенный народ Проавита. Непрерывная двусторонняя торговля отнимала много сил и времени. Но все еще оставался целый мир диковин, которые сулили сказочный навар.
— Все заняты делом, кроме тебя, — Вырубала гудел, как отдаленный гром, обращаясь к Керану на четвертый день пребывания на астероиде. — Но даже Особые должны отрабатывать свой проезд. Устав обязывает нас держать одного человека твоей специальности, чтобы придавать делу культурный поворот, но это не причина для безделья. Каждый раз мы идем в поход, Керан, чтобы зарезать большого жирного борова, и не делаем из этого секрета. Однако, если вдруг окажется, что задняя часть борова скрывает какую-нибудь культурную особенность, тогда это оправдает твое присутствие. А если эта особенность принесет нам прибыль, мы вообще будем счастливы насчет всего этого. Можешь ты, к примеру, разузнать что-нибудь о живых куклах? Возможно, они заключают в себе как культурный аспект, так и торговую ценность.
— Живые куклы кажутся частью чего-то гораздо более глубокого, — ответил Керан. — Это целый клубок загадок, чтобы так просто их разгадать. Ключом может послужить утверждение проавитов о том, что они не умирают.
— Я думаю, они умирают достаточно молодыми, Керан. Те, что околачиваются вокруг, — молоды, а которые сидят по домам — всего лишь среднего возраста.
— Тогда где их кладбища?
— Может, они сжигают умерших.
— Где крематории?
— Они могут развеивать пепел или испарять останки. Может, у них отсутствует почтение к предкам.
— Другие факты свидетельствуют, что вся их культура построена на преувеличенном почитании предков.
— Вот и разберись, Керан. Ведь ты специалист по Особым Аспектам.
Керан побеседовал с Нокомой, которая с проавитской стороны выполняла те же функции, что и Керан, — в качестве переводчика. Оба были профессионалами и понимали друг друга с полуслова. Нокома была, скорее всего, женщиной. Существовала определенная неясность в отношении полов проавитов, но члены экспедиции предполагали, что проавиты все же делятся на мужчин и женщин.
— Не возражаешь, если я задам несколько прямых вопросов? — спросил Керан вместо приветствия.
— Конечно, не возражаю. Как же еще я освою разговорный язык, кроме как разговаривая?
— Некоторые из проавитов говорят, что они не умирают. Это правда, Нокома?
— Как не быть правдой? Если бы они умерли, то их не было бы здесь, чтобы сказать, что они не умирают. О, я шучу, шучу. Да, мы не умираем. Это глупый чужеземный обычай, имитировать который нет никакого смысла. На Проавите умирают только низшие существа.
— Но никто из вас?
— Нет, а зачем? Зачем кому-то быть исключением из правила?
— Но что происходит с вами, когда вы стареете?
— Мы становимся все меньше и меньше. Мы движемся к состоянию энергетического дефицита. Разве у вас не так?
— Разумеется. Но куда вы исчезаете, когда становитесь совсем старыми?
— Никуда. Мы остаемся дома. Путешествия — удел молодых.
— Попробуем с другого конца, — сказал Керан. — Где твои отец и мать, Нокома?
— Где-то ходят. Они еще не старые.
— А твои бабушка и дедушка?
— Кое-кто из них еще не вернулся. А те, что постарше, — дома.
— Попытаемся иначе. Сколько у тебя бабушек, Нокома?
— Кажется, дома девятьсот. Да, я знаю, что это мало, но мы сравнительно молодая ветвь семьи. У некоторых наших кланов очень много предков в их домах.
— И все они живы?
— А как же! Кто же станет держать дома неживых? Разве такие могут быть предками?
От возбуждения Керан начал подпрыгивать на месте.
— И я могу их увидеть? — спросил он прерывающимся голосом.
— С твоей стороны было бы неблагоразумно встречаться с теми, кто постарше, — предостерегла Нокома. — Посторонних это выбивает из колеи, поэтому мы их прячем. Но с некоторыми ты можешь увидеться, конечно.
Тут до Керана дошло, что, возможно, он нашел то, что искал всю свою жизнь. Его затрясло от возбуждения.
— Нокома, это же ключ! — воскликнул он. — Если у вас никто не умирал, значит, вся ваша раса все еще жива.
— Конечно. Это как задача с яблоками. Если ты не отдаешь их никому, то они по-прежнему у тебя.
— Но если самые древние из них живы до сих пор, тогда они должны знать о своем происхождении! Они должны знать, как все началось! Они знают? А ты знаешь?
— Ну, нет. Я еще слишком молода для Ритуала.
— А кто знает? Кто-то же знает?
— Ну да. Все старые проавиты знают, как это началось.
— Насколько старые? Столько поколений до тебя?
— Десять, не более. Когда у меня будет десять поколений детей, я тоже пройду Ритуал.
— Что такое Ритуал?
— Раз в году старые люди приходят к очень старым. Они будят их и расспрашивают, как все началось. И очень старые люди рассказывают им о начале. Замечательное время. О, как они смеются! Потом очень старые люди снова засыпают до следующего года. И так из поколения в поколение. Это и есть Ритуал.
Проавиты были негуманоидами. Еще меньше они были «обезьяномордыми», хотя именно этот термин прижился в жаргоне разведчиков. Они были прямоходящими, носили одежду, в которую пеленались, и предположительно имели пару ног, скрытых одеяниями. Хотя, как заметил Вырубала, с такой же вероятностью у них могли оказаться колеса вместо ног.
Их удивительные струящиеся руки, казалось, имели множество пальцев. Проавиты умели обращаться с инструментами или использовали сами руки как достаточно сложный инструмент.
Кровожадный Джордж был убежден, что проавиты все время носят маски и что члены экспедиции ни разу не видели их настоящих лиц. Он заявил, что их видимые лица — на самом деле не более чем ритуальные маски, и что люди не видели ни одной части тела проавитов, за исключением их удивительных рук, которые, возможно, и есть их настоящие лица.
Парни отреагировали потоком грубых шуток на сообщение Керана о том, что он близок к великому открытию.
— Малыш Керан все еще помешан на своей идее узнать, как все началось, — насмехался Вырубала. — Керан, а не задаться ли тебе вопросом, что появилось вначале: яйцо или курица?
— Очень скоро у меня будет ответ, — ликовал Керан. — Мне представилась уникальная возможность. Как только я узнаю, откуда появились проавиты, то смогу понять, откуда появилось все остальное. Все проавиты до сих пор живы, включая самое первое их поколение.
— Это только подтверждает, насколько ты глуп, — проворчал Вырубала. — Говорят, один в конце концов свихнулся из-за того, что был вынужден терпеть дураков. Господи, надеюсь, что никогда не дойду до такого.
Однако двумя днями позже Вырубала разыскал Керана Свисегуда именно по этому поводу. Он немного поразмышлял на досуге и обнаружил личный интерес.
— Ты специалист по особым аспектам, Керан, — сказал он, — но ты исходишь из неверной предпосылки.
— А именно?
— А именно, наплевать, как все началось. Важно то, что это может не иметь конца.
— Я хочу докопаться до начала, — сказал Керан.
— Дурень, способен ты понять хоть что-нибудь? То, чем обладают проавиты, настолько уникально, что мы даже не представляем, получили ли они это благодаря науке или благодаря дурацкой случайности.
— Скорее, благодаря их химии.
— Верно. Органическая химия достигла здесь совершенства. У проавитов есть всякие нексусы, замедлители, стимуляторы. Они могут отращивать и сокращать, складывать и удлинять что и как пожелают. Эти существа кажутся мне глупыми, как если бы они использовали эти штуки на уровне инстинкта. Но они у них есть, и это главное. С такими штуками мы станем королями патентной медицины Вселенной, так как проавиты не путешествуют и не стремятся поддерживать внешние контакты. Эти штуки могут делать что угодно и аннулировать что угодно. Я подозреваю, что проавиты умеют сжимать клетки, и подозреваю, что они способны кое-что еще.
— Нет, они не умеют сжимать клетки. Ты несешь чепуху, Вырубала.
— Неважно. Эти штуки уже превратили общую химию в нонсенс. С фармакопеей, которую можно купить здесь, человеку больше не обязательно умирать. Ты оседлал игрушечную лошадку на палочке, не так ли? Но сидишь на ней задом наперед. Они говорят, что не умирают.
— Кажется, они абсолютно уверены в этом. Если бы они умирали, то они были бы первыми, кто узнал бы об этом. Так сказала Нокома.
— Что? У этих существ есть юмор?
— Кое-какой.
— Как бы то ни было, Керан, ты не понимаешь важности открытия.
— Наоборот, я единственный, кто понимает ее пока. Если проавиты бессмертны, как они утверждают, тогда все еще должны быть живы самые старые из них. У них я смогу узнать, как начался их — и возможно любой другой — род.
Вырубала превратился в разъяренного быка. Он рвал на себе волосы и чуть не вытащил уши с корнем. Он раздул ноздри, взрыл копытом землю и издал бычий рев «Да наплевать, как это началось, идиот! Главное, что это может не кончаться!» так громко, что холмы вернули эхо:
— Да наплевать… идиот…
Керан Свисегуд шел к дому Нокомы, но без нее и без ее приглашения. Он пришел, зная, что ее нет дома. Это было подло, но в экспедиции подлость стала привычным делом.
Без сопровождающего будет проще разузнать о девятистах бабушках, о пресловутых живых куклах. Он выяснит, что происходит со стариками, раз они не умирают, и откуда появились самые первые из проавитов. Вторгаясь в дом, он рассчитывал на врожденную вежливость жителей астероида.
Дом Нокомы, как и все остальные дома, располагался в зарослях на вершине большого плоского холма — Акрополя проавитов. Дома представляли собой постройки из глины, хотя и выполненные с некоторым изяществом, и казались растущими прямо из холма, как бы являясь его продолжением.
Керан поднялся по извилистой мощеной тропинке и вошел в дом, на который однажды указала ему Нокома. Он вошел крадучись и столкнулся лицом к лицу с одной из девятисот бабушек… такой, скрываться от которой не было никакой надобности.
Бабушка была маленькой, она сидела и улыбалась ему. Они поговорили — без особого труда, хотя и не так легко, как с Нокомой, которая понимала Керана с полуслова. Потом на ее зов вышел дедушка, и он тоже улыбался Керану. Эти два старика выглядели немного ниже, чем проавиты средних лет. Они были любезны и безмятежны. Их окружала атмосфера, которой чуть-чуть не хватало запаха былого, — но не отталкивающая, а сонная, располагающая к воспоминаниям, почти печальная.
— Есть тут кто-нибудь старше вас? — наконец спросил Керан.
— Очень-очень много! Никто не знает, сколько, — ответила бабушка. Она позвала еще одну бабушку и еще одного дедушку, старее и ниже ростом, едва ли выше пояса проавита средних лет, — маленьких, сонных, улыбающихся.
Теперь Керан знал, что проавиты не носили масок. Чем они старше, тем выразительнее и интереснее у них лица. Только лицо неразвитого проавита средних лет могло вызывать сомнения. Маски не способны выражать такое спокойствие и улыбчивость старости, как эти лица перед ним. Странный текстурный материал и есть кожа их настоящих лиц.
Здесь должны были находиться десятки поколений таких старых и благожелательных, таких слабых и сонных, вплоть до самых старых и самых маленьких.
— Насколько стары самые старые? — спросил Керан у первой бабушки.
— Мы говорим, что все мы одного возраста, пока мы вечны, — ответила бабушка. — Конечно, это неверно, что все мы одного возраста, но спрашивать, насколько мы стары, бестактно.
— Вы не знаете, что такое лобстер, — сказал им Керан, дрожа, — но на свете есть такое существо, которое будет безмятежно вариться, если вода нагревается медленно. Лобстер не беспокоится, потому что не понимает того, что нагрев связан с опасностью. То же самое происходит здесь со мной. Я скольжу с вами с одной ступени на другую, и моя доверчивость не бьет тревогу. Существует опасность, что я поверю всему о вас, если буду получать информацию небольшими порциями, а оно так и будет. Я верю, что вы существуете, пока вижу вас и могу коснуться. Так что, я сварюсь, как тот лобстер, прежде чем вернусь назад. Есть тут кто-нибудь еще старше, чем присутствующие?
Первая бабушка приказала Керану жестом следовать за ней. Они спустились по наклонному полу в более старую часть дома, которая должна была находиться ниже уровня земли.
Живые куклы! Они были здесь — рядами на полках и сидящие в маленьких креслах в нишах. Действительно размером как куклы, несколько сотен.
Многих разбудило их вторжение. Другие просыпались, только когда к ним обращались или касались их. Они были невероятно стары, но их глаза были живы и любознательны. Они улыбались и сонно потягивались, но не как люди, а как очень старые малыши. Керан заговорил с ними, и они неожиданно поняли друг друга.
«Лобстер, лобстер, — напомнил себе Керан, — вода нагрелась до опасной температуры. Изменение трудно уловить. Если ты веришь своим ощущениям, тогда кипеть тебе живьем из-за твоей доверчивости».
Он знал теперь, что живые куклы реально существуют и что они — живые предки проавитов.
Многие из маленьких существ начали снова засыпать. Их бодрствование длилось недолго, но и их сон, казалось, занимал не больше времени. Керан все еще оставался в этом в помещении, когда несколько живых мумий проснулись во второй раз, проснулись освеженными после короткого сна и горели желанием продолжить разговор.
— Вы невероятны! — воскликнул Керан, и все маленькие и еще более маленькие и совсем маленькие существа заулыбались и согласно засмеялись. Конечно же, они невероятны. Любые создания где бы то ни было невероятны, но собирали ли их когда-нибудь так много в одном месте? Однако Керана съедала жадность. Полной комнаты чудес ему было недостаточно.
— Я хочу заглянуть в прошлое насколько это возможно! — воскликнул он жадно. — Где более старые?
— Есть более старые, и еще более старые, и еще раз более старые, — ответила первая бабушка, — и трижды более старые, но, возможно, было бы разумно не стремиться стать слишком разумным. Ты увидел достаточно. Старые люди спят. Пойдем обратно наверх.
Обратно наверх, отсюда? Ни за что! Керан видел проходы и наклонные рампы, уходящие вниз, в самое сердце великого холма. Целые миры комнат лежали у его ног. Керан пошагал вниз, и некому было его остановить. Ни куклам, ни существам меньше кукол.
Однажды Вырубала сравнил себя со старым пиратом, который наслаждается звоном монет в своем сундуке. Ну а Керан был юным алхимиком, который стремится найти философский камень.
Он спускался по рампе сквозь века и тысячелетия. Та атмосфера, которую он уловил наверху, стала здесь чистым ароматом — атмосфера полувоспоминаний, улыбок, печали, сонная и густая. Именно так пахнет Время.
— Есть более старые, чем вы? — спросил Керан у маленькой бабушки, держа ее на ладони.
— Настолько старые и настолько маленькие, что уместились бы в моей руке, — ответила бабушка на диалекте, который был похож на раннюю упрощенную форму языка проавитов.
Существа становились все меньше и все старее по мере того, как Керан проходил комнату за комнатой. Сейчас он точно был лобстером в кипящей воде. Он верил всему, что видел и чувствовал. Бабушка размером с птаху, улыбаясь и клюя носом, сказала, что есть гораздо более старые, чем она, — и, сказав это, провалилась обратно в сон. Керан вернул ее назад в нишу в улееподобной стене, где располагались тысячи других — миниатюризированные поколения проавитов.
Разумеется, он находился уже не в доме Нокомы. Он спустился в сердце холма, ниже уровня домов проавитов, и тут были предки всех живущих на астероиде.
— Есть кто-нибудь, кто еще старше вас? — спросил Керан маленькую бабушку, которую держал кончиками пальцев.
— Старше и меньше, — ответила она. — Скоро ты дойдешь до конца.
Она заснула, и он положил ее на место. Чем старее они были, тем больше спали.
Он добрался до сплошной скалы в основании холма и пошел по проходу, выдолбленному в камне. Внезапно он испугался, что существа могут стать такими крошечными, что у него не получится поговорить с ними и узнать тайну начала всего.
Но разве Нокома не сказала, что тайна известна всем старым людям? Конечно. Однако он хотел услышать ее из первых уст. Так или иначе, сейчас он все узнает.
— Кто из вас самый старый? Это конец? Это начало? Проснитесь! Проснитесь! — закричал он, когда понял, что оказался в самой нижней и самой древней комнате.
— Ритуал? — спросил кто-то спросонья. Меньше, чем мышь, не крупнее пчелы, но старее обоих.
— Это особый Ритуал, — объяснил Керан. — Расскажите мне, что было в начале.
Что это за звук, — слишком тихий, слишком рассеянный, чтобы быть шумом? Как будто смеется миллион микробов. Веселье только что проснувшихся малюток.
— Кто из вас самый старый? — требовательно спросил Керан. Их смех раздражал его. — Кто самый старый и самый первый?
— Я самая старая, самая главная бабушка, — весело ответил кто-то. — Все остальные мои дети. Ты тоже мой потомок?
— Разумеется, — сказал Керан, и тихий смех недоверия выпорхнул из множества крошечных ртов.
— Тогда ты должен быть самым последним ребенком, потому что ты не похож на остальных. Если это так, то это так же смешно в конце, как это было в начале.
— Как это было в начале? — проблеял Керан. — Вы самая первая. Как вы появились на свет?
— О, да, да, — засмеялась главная бабушка, и веселье малюток превратилось в настоящий шум.
— Как все началось? — требовательно повторил Керан. Он подпрыгивал и пританцовывал от возбуждения.
— О, это было так смешно, каким образом все началось, что ты не поверишь, — хихикнула бабушка. — Курьез, анекдот!
— Тогда расскажите мне про этот курьез. Если ваша раса возникла в результате курьеза, тогда расскажите мне этот космический анекдот.
— Расскажи сам, — прозвенела бабушка. — Если ты мой ребенок, то ты часть этой шутки. О, это слишком смешно, чтобы поверить. Как хорошо проснуться, посмеяться и снова заснуть.
Какая насмешка судьбы! Подобраться так близко к разгадке и получить отказ от хихикающей пчелы!
— Не засыпайте! Расскажите же мне, как все началось! — пронзительно крикнул Керан и зажал главную бабушку между большим и указательным пальцами.
— Это не Ритуал! — запротестовала бабушка. — Ритуал предполагает, что ты сам отгадываешь это в течение трех дней, а мы смеемся и говорим «Нет, нет, нет, это было в десять раз безумнее. Отгадывай дальше».
— Не буду я гадать три дня! Говори, наконец, или я тебя раздавлю! — пригрозил Керан дрожащим голосом.
— Смотрю я на тебя и диву даюсь, неужели ты способен на такое, — спокойно сказала главная бабушка.
Любой из крутых парней экспедиции раздавил бы бабушку не задумываясь, потом другую, и еще, и еще, пока тайна не была бы рассказана. Если бы Керан выбрал крутое имя и крутой характер, он сделал бы то же самое. Будь его имя Потрошитель Барельхауз, он сделал бы это без колебаний. Но Керан Свисегуд не смог.
— Расскажи мне, — простонал он. — Всю жизнь я пытался узнать, как все началось. Ты же знаешь!
— Мы знаем. О, это было так смешно. Такой курьез! Такая дурацкая, такая шутовская, такая гротескная шутка! Никто не догадается, никто не поверит!
— Расскажи! Расскажи! — Керан впал в истерику, его лицо побелело.
— Нет, нет, ты не мой ребенок, — усмехнулась главная бабушка. — Что за шутка — рассказать все постороннему. Мы не можем оскорбить незнакомца, рассказывая столь смешное и невероятное. Незнакомцы могут умереть от смеха. Я не приму такой грех на душу.
— Расскажи! Оскорби меня! Дай мне умереть от смеха! — Но Керан чуть не умер от крика и разочарования, которое вгрызалось в него, словно миллион хихикающих, смеющихся и улюлюкающих пчел.
— О, это было так смешно, как все началось!
И они смеялись, смеялись и смеялись … пока Керан Свисегуд, рыдая и одновременно смеясь сквозь слезы, тащился к выходу. Он возвратился на корабль, все еще смеясь. В следующем рейсе он сменил имя на Сверкающий Удар Грома и девяносто семь дней правил, в качестве короля, Островом Сладкого Моря в М-81, но это уже другая и гораздо более неприятная история.
Перевод Сергея Гонтарева
Школа на Камирои
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЪЕДИНЕННОГО ДОКЛАДА УЧИТЕЛЬСКО-РОДИТЕЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ (УРК) г. ДЮБЮКА, ПОСВЯЩЕННОГО АНАЛИЗУ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНЕТЕ КАМИРОИ, с критическими заметками о «параллельной культуре» иного мира и оценками иной системы обучения.
Отрывок из дневника участника экспедиции:
— Где находится офис местного УРКа? — поинтересовались мы в бюро информации сразу же по прибытии в космопорт Камирои-Сити.
— Нигде, — приветливо ответил служащий бюро.
— Вы хотите сказать, что в Камирои-Сити, главном городе планеты, нет УРКа? — недоверчиво переспросил наш председатель Пол Пайпер.
— Я только хотел сказать, что нет офиса. Но, принимая во внимание, что вы — всего-навсего убогие чужестранцы, мне, разумеется, следовало дать вам исчерпывающий ответ вне зависимости от того, способны вы правильно сформулировать вопрос или нет. Видите того почтенного господина, загорающего на скамейке? Идите к нему и попросите устроить вам УРК. Он поможет.
— Может быть, эта аббревиатура имеет здесь иной смысл, — предположила мисс Манч, наш первый зампред. — Мы понимаем под УРКом…
— Учительско-родительский комитет, а что же еще? Должен довести до вашего сведения, что разговорный английский входит в число шести земных языков, знание которых обязательно для всякого жителя Камирои. Не волнуйтесь. Это очень милый господин, и он будет рад услужить приезжим. Он с удовольствием устроит вам УРК.
Мы были в полном замешательстве, однако не оставалось ничего другого, кроме как направиться к джентльмену, на которого указал сотрудник бюро.
— Мы ищем местный УРК, сэр, — обратилась к старику мисс Смайс, наш второй зампред. — Нам сказали, что вы сумеете помочь.
— О, разумеется, — ответил пожилой камироец. — Пусть для начала один из вас арестует любого прохожего.
— Что сделает? — переспросил наш мистер Пайпер.
— Арестует, арестует. Кажется, смысл ваших собственных слов доходит до вас с трудом — удивительно, как же вы вообще общаетесь друг с другом? Арестует, сцапает, заметет, приведет сюда силой, используя любые физические или моральные аргументы.
— Есть, сэр! — неожиданно взвизгнула мисс Хэнкс, наш третий зампред. Она обожает все такое, поэтому ей не составило труда арестовать проходившего мимо камиройца и, используя частично физические, частично моральные аргументы, приволочь его сюда.
— Они всего лишь хотят создать УРК, Меандр, — обратился к арестанту пожилой камироец. — Захвати еще троих, и можно начинать. Советую воспользоваться помощью этой дамы — я смотрю, у нее здорово получается.
Итак, наша мисс Хэнкс и камироец по имени Меандр арестовали еще троих местных жителей и присоединили их к нашей группе.
— Пятеро, — подвел итог пожилой камироец. — Настоящим мы провозглашаем УРК созданным и готовым к действию. Итак, чем мы можем быть вам полезны, добрые земляне?
— Но легально ли все это? Я хочу сказать — обладают ли все пятеро достаточным уровнем компетентности, чтобы составить УРК? — усомнился наш мистер Пайпер.
— Любой гражданин Камирои компетентен абсолютно во всех видах деятельности, существующих на планете Камирои, — ответил один из пятерых арестованных (позже мы узнали, что его имя Таларий), — в противном случае не хотел бы я быть свидетелем того, что произойдет!
— Охотно вам верю, — с кислой миной произнесла наша мисс Смайс. — Тем не менее, боюсь, что все это слишком уж неформально… Скажите, а что, если кто-то из вас захочет стать президентом планеты?
— Держу пари, что и одному из десяти не придет в голову подобная мысль, — ответил пожилой камироец (его звали Филоксен). — Я единственный из присутствующих, кому довелось один раз послужить президентом этой планеты, и, должен сказать, та неделя, что я провел в президентском кабинете, была восхитительной… Однако к делу. Итак, чем мы можем быть полезны?
— Мы хотели бы осмотреть одну из ваших школ, причем в самый разгар учебного процесса, — начал наш мистер Пайпер, — а так же пообщаться с учениками и преподавателями. Дело в том, что цель нашего приезда сюда — сравнить две системы образования.
— Сравнивать нечего, — ответил старый Филоксен. — Чтобы не обижать вас, скажу так: почти нечего! Здесь, на Камирои мы даем образование. На Земле же тратят время на игру, которой почему-то дано такое же название. Отсюда и недоразумения. Как бы то ни было, следуйте за мной — мы покажем вам нашу школу в разгар учебного процесса.
— Только, пожалуйста, самую обычную, бесплатную государственную школу, — с подозрением в голосе попросила мисс Смайс. — Не пытайтесь подсунуть нам вместо таковой какой-нибудь престижный частный пансион!
— Вы ставите меня в затруднительное положение, — сказал Филоксен. — В Камирои-Сити нет бесплатных государственных школ, а на всей планете их осталось только две. Таким образом, число учащихся в системе государственного обучения составляет незначительную часть процента. Мы полагаем, что учить детей в бесплатной государственной школе в той же мере разумно, как растить их в бесплатном государственном приюте. Конечно, мы в курсе, что у вас на Земле институт бесплатного образования превращен в своего роды священного буйвола.
— Священную корову, — поправил наш мистер Пайпер.
— Когда дети и земляне произносят слова без четкого понимания смысла, и тех, и других следует вовремя поправить, — заметил Филоксен. — Иначе как они узнают точный смысл слов? То животное, которое в вашем земном Востоке признано священным, принадлежит скорее к виду bosbudalus, нежели к bosbos, иначе говоря, скорее буйвол, чем корова. Так мы идем в школу?
— Если вы не можете показать нам бесплатную государственную школу, — не унималась наша мисс Смайс, — пусть это будет хотя бы типичная школа.
— И это невозможно, — ответил Филоксен. — Каждая школа на Камирои в каком-то смысле нетипичная.
И мы отправились в нетипичную школу.
Инцидент:
Так случилось, что наше первое знакомство с камиройскими школьниками оказалось сопряжено с насилием. Один из них, мальчик лет восьми, пронесшись рядом с мисс Манч, задел ее и разбил ей очки. Опомнившись, он произнес какую-то тарабарщину на незнакомом языке.
— Это камиройский? — заинтересовался мистер Пайпер. — Совсем не похоже на то, что я слышал до сих пор.
— Вы хотите сказать, что не узнали его? — не скрывая изумления, спросил Филоксен. — Не ожидал услышать это от работника системы образования… Мальчик еще юн и несмышлен. Видя, что вы с Земли, он заговорил с вами на хинди, потому что этим языком пользуется больше людей, нежели каким-то иным. Нет-нет, Ксипет, — обратился он к школьнику, — они принадлежат к меньшинству, говорящему на английском. Мог бы и сам догадаться по бесцветной коже и узкому строению черепа!
— Я всего лишь хотел сказать вам, леди, что у вас совершенно отсутствует реакция, — извинительным тоном произнес маленький Ксипет. — Даже у недочеловеков реакция должна быть получше. Вы же просто стояли, раскрыв рот, и наблюдали, как я несусь прямо на вас. Хотите, я выясню причину вашей медлительности?
— О нет! Нет!
— Кажется, при падении вы серьёзно не пострадали, — продолжал мальчуган, — но, если я сделал вам больно, позвольте мне исправить неловкость. От вас ничего не требуется, просто разденьтесь догола, и я быстро определю, все ли цело.
— Н-е-е-ет!!!
— Не волнуйтесь, — вмешался Филоксен. — Все камиройские дети изучают основы медицины в первом классе. Они умеют вправлять суставы, лечить контузии и все такое…
— Нет-нет, прошу вас, со мной все в порядке! Но он разбил мои очки.
— Пройдемте со мной, земная леди, и я сделаю для вас другие, — предложил мальчик. — С такой вялой реакцией, как у вас, просто непозволительно иметь еще и дефект зрения. Хотите, я поставлю вам контактные линзы?
— Нет. Я хочу очки в точности такие же, как носила до сих пор. Боже, что же мне теперь делать?
— Вам ничего не нужно делать, только пойти со мной, — продолжал уговаривать мальчик, и мисс Манч подчинилась. На всю нашу группу произвело большое впечатление то, как всего за три минуты маленький мальчик смог осмотреть глаза мисс Манч, отшлифовать линзы и изготовить оправу! — Я тут кое-что изменил по сравнению с теми очками, что вы носили, — сообщил он мисс Манч, — это скомпенсирует вашу плохую реакцию.
— Все ли камиройские школьники обладают такими же талантами? — поинтересовался мистер Пайпер. Видно было, что он также находится под впечатлением от увиденного.
— Нет, Ксипет исключение, — ответил Филоксен. — В возрасте до девяти лет большинство школьников вряд ли сможет соорудить пару очков — по крайней мере, они не сделают это столь же быстро и умело.
Опросы школьников:
— С какой скоростью ты читаешь? — спросила мисс Манч школьницу.
— Сто двадцать слов в минуту, — ответила та.
— На Земле некоторые девочки твоего возраста умеют читать со скоростью пятьсот слов в минуту, — с гордостью вставила мисс Хэнкс.
— Когда я только приступила к изучению дисциплинированного чтения, я читала со скоростью четыре тысячи слов в минуту, — объяснила девочка. — Им пришлось со мной здорово повозиться, устраняя этот дефект. Мне было предписано излечивающее чтение, и родителям было стыдно за меня. Но теперь я уже умею читать помедленнее.
— Ничего не поняла, — призналась мисс Хэнкс.
— Что ты знаешь о земных истории или географии? — спросила мисс Смайс паренька среднего роста.
— Знаете, леди, нам их преподавали достаточно поверхностно. Да там ведь и изучать-то особенно нечего, правда?
— Так что о Дюбюке ты не имеешь ни малейшего представления?
— Нет, почему же. В свое время меня очень заинтересовал граф Дюбюк, а вот о городе, названном в его честь, я, к сожалению, знаю мало. Граф, как мне представляется, отлично справился с этой тяжбой из-за отводов земельных участков, решив спор в пользу французов и испанцев и в то же время удовлетворив требования индейских племен соук и фокс… Что касается города, то припоминаю только, что его название стало нарицательным и часто упоминается в юмористическом контексте, как синоним «глуши» и «деревни». А выражение «учитель из Дюбюка» и вовсе вошло в фольклор[11]…
— Благодарю, — перебила его мисс Смайс. — Хотя за что, собственно?..
— Чему вас учили по сравнительной антропологии? Вам рассказывали о сходстве и различиях между землянами и камиройцами, об их происхождении? — спросила мисс Манч местную школьницу.
— Четыре других обитаемых мира — Земля (Гея), Кентавр Микрон, Даная и Астроб — были заселены с Камирои. Так нас учили. Нам также шутливо предложили: если все это на самом деле было не так, мы все равно можем считать это правдой до тех пор, пока не найдем объяснение получше… С исторической точки зрения, это мы открыли все четыре планеты, а не они нас. Если мы и не осуществили первые высадки на указанные планеты, то во всяком случае первыми официально заявили о своем приоритете. И землю тоже первыми колонизировали мы — вы называете это событие вторжением дорических греков…
— Где их площадки для игр? — спросила мисс Хэнкс Талария.
— О, везде, весь мир отдан им в распоряжение. Ограничить их какими-то загородками было бы равносильно помещению домашнего аквариума на дно океана. Полная бессмыслица, согласитесь.
Конференция:
В заключение визита состоялась дискуссия, участие в которой приняли четверо землян (точнее, жителей города Дюбюка, штат Айова) и пятеро членов камиройского УРКа.
— Как вы добиваетесь соблюдения дисциплины? — спросил мистер Пайпер.
— Индифферентно, — ответил Филоксен. — А, вас интересуют подробности? Знаете, разными методами: иногда предпочитаем закручивать гайки, иногда полностью отпускаем поводья. Как только дети выучат, что они должны повиноваться до определенного предела, с ними проблем не будет. Что касается малышей, то их часто помещают в яму, где держат без еды до тех пор, пока они не поймут свои обязанности.
— Но это бесчеловечно, — заявила мисс Хэнкс.
— Естественно. Однако маленькие дети и не являются в полной мере «человеками». Если ребенок не научится дисциплине к третьему или четвертому классу, то его повесят.
— Как, буквально? — изумилась мисс Манч.
— А как вы можете повесить ребенка фигурально? И какой воспитательный эффект это произведет на других детей?
— За шею? — все еще не могла поверить своим ушам мисс Манч.
— За шею, до тех пор, пока не умрет[12]. Дети всегда воспринимают подобный наглядный урок близко к сердцу и в дальнейшем стараются вести себя лучше. Впрочем, мы не часто прибегаем к таким методам — повешен бывает в среднем один ребенок из ста и даже меньше того.
— А что это за история с медленным чтением? — перевела дискуссию на другой предмет мисс Хэнкс. — Я ничего не поняла.
— Как раз недавно мы разбирали дело одного третьеклассника, упорствовавшего в скорочтении, — рассказал Филоксен. — Ему также преподали наглядный урок. Он должен был прочитать книгу средней трудности — и прочитать быстро, а затем отложить ее в сторону и повторить прочитанное. Можете себе представить — на первых же тридцати страницах он пропустил четыре слова! К середине книги было уже целое утверждение, которое он понял абсолютно неверно, и еще сотни страниц, на которых он допустил незначительные грамматические ошибки. Если он так скверно усвоил только что прочитанный материал, вообразите, что сохранится в его памяти спустя сорок лет?
— Вы хотите сказать, что камиройских школьников учат запоминать все, что они прочитают?
— Все камиройские дети и взрослые на протяжении жизни помнят каждую деталь из прочитанного, увиденного или услышанного. Мы, камиройцы, лишь ненамного умнее вас, землян, и не можем себе позволить тратить время на забывание и вспоминание — все это блуждание в пустоте, обычно приводящее к необходимости заново перечитать, пересмотреть, переспросить…
— Скажите, вы бы могли назвать ваши школы либеральными? — спросил мистер Пайпер.
— Я бы мог. Вы — нет, — ответил Филоксен. — На Камирои мы не используем слова для обозначения их противоположностей, подобно вам, землянам. В нашей системе образования, как и вообще в нашем мире, нет ничего, что могло бы соответствовать той причудливой форме раболепства, которую вы на Земле называете либерализмом.
— Хорошо, тогда можете ли вы назвать вашу систему образования прогрессивной?
— Нет. На вашем арго «прогрессивный» значит «инфантильный».
— Какова система финансирования школ? — спросил мистер Папер.
— О, добровольная «десятина» на Камирои обеспечивает средствами решительно все — работу правительства, религию, образование, общественные работы. Разумеется, мы не верим в налоги и никогда не перерасходуем средства.
— А насколько добровольна эта система «десятин»? — поинтересовалась мисс Хэнкс. — Не подчиняющихся вы тоже время от времени вешаете?
— Не думаю, чтобы к подобным мерам воздействия прибегали слишком часто, — ответил Филоксен.
— А ваше правительство на самом деле организовано столь же небрежно и неформально, как и система образования? — продолжал вопросы мистер Пайпер. — Ваши высшие чиновники на самом деле выбираются массами и на короткие сроки?
— О да. Вы в состоянии вообразить себе человека настолько больного, чтобы у него возникло желание оставаться на высоком посту в течение долгого времени? Еще вопросы?
— У нас их сотни, — заявил мистер Пайпер. — Но нам трудно облечь их в нужные слова.
— Если вы не можете найти слов для формулировки вопросов, мы не сможем ответить на них. УРК распущен.
Заключения:
А. Камиройская система образования уступает нашей по ряду параметров, как то: организационная основа, состояние школьных помещений и площадок для игр, учительские конференции, финансирование, участие родителей в школьных делах, наблюдательные советы, сочетание классного и внеклассного обучения. (Так, ряд камиройских школьных зданий поразил нас откровенно гротескной архитектурой. По поводу одного из них, вызывающе безвкусного, мы задали соответствующий вопрос сопровождающим. «А что вы хотите от второклассника? — услыхали мы в ответ. — Если не считать несколько кричащий экстерьер, здание построено надежно и по всем правилам. Что касается художественной стороны проекта, то во втором классе ребята еще не успевают овладеть всеми тонкостями». — «Вы хотите сказать, что дети сами спроектировали это здание?» — изумились мы. «Конечно, — отвечали нам. — Спроектировали и построили. Не так плохо для их возраста». На Земле ничего подобного не допускается).
В. Каким-то образом камиройская система образования приводит к лучшим результатам, чем земная. Мы вынуждены были признать это под влиянием данных, которыми располагали.
С. Существует определенное и до сих пор необъясненное противоречие между пп. А и В.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЪЕДИНЕННОМУ ДОКЛАДУ
Ниже приводится список предметов, изучаемых в средних школах Камирои, как представляющий несомненный интерес.
1-й класс
Игра на одном духовом инструменте.
Рисование (предметы и числа).
Пение. (Это важный момент: многие земляне поют, не имея к тому ни малейших способностей. На Камирои сделали выводы.)
Простая арифметика (вручную и на машине).
Акробатика (элементарная)
Первые загадки и логика.
Мнемоническая религия.
Первые опыты в танцах.
Ходьба по низконатянутой проволоке.
Простейшие электрические цепи.
Разведение муравьев (эомптов — не земных муравьев.)
2-й класс
Игра на одном клавишном инструменте.
Рисование (лица, буквы, движение).
Оперетта.
Сложная арифметика (вручную и на машине).
Акробатика (сложная)
Первые шутки и логика.
Квадратичная религия.
Сложные танцы.
Простая диффамация. (Яркие, пламенные атаки на характер и манеру поведения одноклассника с элементарной фальсификацией и приемами «убойной журналистики»).
Представление на проволоке, натянутой на средней высоте.
Плетение электрических проводов.
Разведение пчел (галелей — не земных пчел.)
3-й класс
Игра на одном струнном инструменте.
Чтение вслух. (Именно на этих уроках корректируют школьников, подверженных дурной привычке читать быстро.)
Скульптура (мягкий камень).
Ситуационная комедия.
Простая алгебра (вручную и на машине).
Гимнастика (элементарная)
Усложненные шутки и логика.
Трансцендентная религия.
Сложные акробатические танцы.
Сложная диффамация.
Представление на высокоподвешенной проволоке и под куполом цирка.
Изготовление простых радиоприемников.
Разведение, кормление и анатомирование лягушек (караколей — не земных лягушек.)
4-й класс
История, камиройсккая и галактическая (изначальная и геологическая).
Декадентская комедия.
Простая геометрия и тригонометрия (вручную и на машине). Занятия на велотреке и на спортплощадке.
«Бородатые» анекдоты и «кучерявая» логика.
Простые непристойности.
Простой мистицизм.
Образцовые фальсификации.
Работа на трапеции.
Электроника средней сложности.
Анатомирование человеческих тел.
5-й класс
История, камиройская и галактическая (технологическая). Интровертивная драма.
Сложные геометрии и анализ (вручную и на машине).
Занятия на велотреке и на спортплощадке (установление рекордов для 5-го класса).
Простые мудрости и логика.
Первая степень алкогольного опьянения.
Сложный мистицизм.
Установление интеллектуальных климатов, диффамация в трех измерениях.
Простая оратория.
Сложная работа на трапеции.
Неорганическая химия.
Развитая электроника.
Сложное анатомирование человеческих тел.
Курсовая работа.
После 5-го класса ребенок наполовину завершил школьное обучение. Он еще полуживотное, но уже научился учиться.
6-й класс
Курс медленного чтения.
Простая феноменальная память.
История, камиройская и галактическая (экономическая). Искусство верховой езды (на патрушках — не земных лошадях.) Сложное шитье, вручную и на машине — художественное и практичное.
Литература (пассивно).
Математический анализ, олимпиады (вручную и на машинах).
Сложная мудрость и логика.
Вторая степень алкогольного опьянения.
Дифференциальная религия.
Первые опыты в бизнесе.
Сложная оратория.
Стенолазание. (Здания на Камирои выше, а сила притяжения больше, чем на Змеле. Поэтому умение взбираться по стене здания наподобие мухи — предмет гордости камиройских детей.) Ядерная физика и пост-органическая химия.
Простая сборка псевдогуманоидов.
7-й класс
История, камиройская и галактическая (культурная).
Сложная феноменальная память.
Производство и управление простыми транспортными средствами. Литература (активно).
Астрогностика, предсказания и программирование.
Сложные олимпиады.
Сферическая логика (вручную и на машине).
Высшая степень алкогольного опьянения.
Интегральная религия.
Банкротство и восстановление финансового положения в бизнесе.
Искусство тратить деньги (конструирование тенденций).
Пост-ядерная физика и универсалии.
Попытки трансцендентной атлетики.
Сложная роботехника и программирование.
8-й класс
История, камиройская и галактическая (зачаточная).
Совершенная феноменальная память.
Производство сложных транспортных средств (наземных и водных).
Литература — сжато и окончательно. (Творческое сожжение книг как следствие камиройской философии, гласящей, что все ординарное не достойно существования.)
Космическая теория (окончательно).
Конструирование философии.
Сложный гедонизм.
Лазерная религия.
Искусство легко тратить деньги (основы).
Достижение простейшего статуса гения.
Пост-роботехническая интеграция.
9-й класс
история, камиройская и галактическая (будущая и продолжающаяся).
Изобретение категорий.
Производство сложных транспортных средств (способных достигать околосветовых скоростей).
Конструирование простых астероидов и планет.
Матричная религия и логика.
Простые подходы к человеческому бессмертию.
Достижение сложного статуса гения.
Первые опыты брака и размножения.
10-й класс
Конструирование истории (активно).
Производство транспортных средств (способных достигать сверхсветовых скоростей).
Панфилософское просветление.
Конструирование жизнеспособных планет.
Достижение простого статуса святости.
Харизматический юмор и пентакосмическая логика. Гипогироскопическая экономика.
Пенентаглоссия. (Совершенствование в пятидесяти языках, которые обязан знать каждый образованный камироец, включая шесть земных. Разумеется, в этом возрасте ребенок уже владеет каждым из них, но еще не в полной мере.) Конструирование сложных общественных систем.
Мировое правительство. (Курс под таким названием преподается и в ряде земных школ, однако ничего общего не имеет с камиройским. На Камирои школьник должен управлять миром — правда, не самым сложным, — в течении трех-четырех месяцев.) Курсовая работа.
КОММЕНТАРИИ АВТОРА К ПРИЛОЖЕННОМУ СПИСКУ:
Итак, камиройский ребенок полностью завершил программу обучения в средней школе. Ему исполнилось пятнадцать, и во многих отношениях он превосходит земного сверстника.
Во-первых, камиройский ребенок более развит физически: в состоянии голыми руками убить земного тигра или буйвола, в то время как его земной сверстник скорее всего откажется даже от мысли предпринять нечто подобное. Камиройский мальчик или девочка смогли бы составить конкуренцию любому земному атлету в любом виде спорта; а также побить все существующие на Земле рекорды. Правда, в данном случае все в конце концов упирается во внутреннюю уравновешенность, силу и скоростные качества, которые можно натренировать при правильной организации учебного процесса.
Что же касается сферы искусства (на преимуществе в которой иногда настаивают земляне), то камиройский ребенок способен с легкостью создавать неповторимые шедевры в любой области. Что более важно, он уже понимает относительную несерьёзность такого времяпрепровождения.
В десятилетнем возрасте камиройский ребенок терпит фиаско в бизнесе — но один-единственный раз, научившись терпению и выработав способность объективно учиться на ошибках. Он овладел техникой фальсификации и искусством легко тратить деньги, поэтому его уже никто не проведет — ни в одном из известных миров. Камиройский ребенок достиг простых статусов гениальности и святости; последнее обстоятельство сводит уровень преступности на Камирои практически к нулю. Женитьба и обзаведение семьей и домом приходится именно на этот, наполненный беззаботной радостью период юности.
Камиройский ребенок способен построить сверхсветовое транспортное средство из подручных материалов, какие легко найти вокруг каждого дома на планете. Более того, он может управлять этим транспортным средством и самостоятельно наметить цель путешествия и проложить курс. Он способен с величайшей тщательностью собрать квази-гуманоидного робота; обладает совершенной памятью и способностью к разумным суждениям — и отныне неплохо подготовлен к восприятию конкретных новых знаний. Он освоил, как использовать свой ум в полную силу, до самых глубин подсознательного (подсознательного для нас — не для него).
Короче, все его существо отныне прекрасно организовано для выполнения любых социальных функций. И в том, как добиться столь впечатляющих результатов, большого секрета нет: все в жизни надо делать достаточно медленно — и в надлежащем порядке. Именно этим способом камиройцы избегают повторов и зубрежки — самого страшного зла, превращающего скоротечный и приятный процесс непосредственного восприятия новой информации в тоску смертную.
Список камиройских школьных предметов может показаться излишне переусложненным для детской психики, однако в нем нет ничего невозможного или отталкивающего. Все новое базируется на уже изученном. Например, пока ребенку не исполнится двенадцать, его не будут пичкать постядерной физикой и универсалиями, которые могут оказаться ему не по силам. До достижения им тринадцатилетнего возраста нечего и думать о преподавании ему такой дисциплины, как изобретение категорий (несмотря на простое название, многим этот курс дается с трудом). И только в четырнадцать его ожидает панфилософское просветление — дисциплина, чреватая столькими опасностями для незрелого ума; после этого он еще на протяжении двух лет будет конструировать логически непротиворечивые философские системы, пока не овладеет достаточным базисом для окончательного просветления.
Как нам представляется, мы должны очень внимательно присмотреться к этой, отличной от нашей системе обучения. В некоторых отношениях ее приходится признать более успешной, чем та, которая практикуется на Земле. Немногие наши школьники способны сконструировать органического разумного робота в течение пятнадцати минут после получения задания; большинство за это время не справится и с созданием обыкновенной живой дворняги. Ни один из пяти земных детей не сможет построить сверхсветовой аппарат и слетать на нем на другой конец Галактики и обратно, причем обернуться до наступления темноты. Ни один из ста не способен создать планету и содержать ее в пристойном состоянии хотя бы неделю, ни один из тысячи — постичь пентакосмическую логику.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
А. Похитить пятерых средних камиройцев и образовать из них на Земле общепланетный УРК.
Б. Произвести небольшую конструктивную акцию по сожжению книг, особенно тех, что относятся к педагогике.
С. Осуществить выборочное повешение отдельных нерадивых учеников.
Перевод Константина Михайлова
Планета Камирои
Из отчета полевой экспедиции по изучению внеземных обычаев и законов, подготовленного для Совета по реорганизации правительства и реформированию законодательства.
Источник: дневник Поля Пиго, политического аналитика.
Назначать встречи с Камирои — примерно то же самое, что строить дом из ртути. Мы поняли это очень быстро. И тем не менее у них действительно самая развитая цивилизация из всех населенных человечеством миров. Мы получили приглашение посетить планету Камирои и изучить местные обычаи. При этом нам твердо обещали, что немедленно по приезде над нами возьмет шефство группа адаптации.
Но никакой группы не оказалось.
— Где же встречающие? — спросили мы барышню в справочном бюро.
— Спросите на посту номер один, — посоветовала она. Выражение ее лица было при этом довольно игривым.
— Попробую, — согласился наш шеф Чарльз Чоски. — Алло, пост, мы должны были попасть на попечение группы адаптации. Где же она?
— Дежурный! Дежурный! — закричал пост девичьим голосом, который почему-то показался знакомым. — Троих в группу! Давай, давай, назначай поживее!
— Я войду в группу, — вышел к нам симпатичный камирои.
— И я тоже! — сказал подросток, похожий на брюссельскую капусту.
— Еще один! Еще один! — кричал пост. — О, вот что: я сама войду в эту группу. Ну, ну, давайте же приступать к делу. С чего вы хотите начать осмотр, господа?
— Мы ждали профессионалов, — грустно сказал Чарльз Чоски.
— Какие вы странные, — заметила барышня из справочного бюро. Она вышла из кабинки и присоединилась к группе. — Сидеки и Наутес, теперь мы группа сопровождения землян, — обратилась она к своим собратьям. — Надеюсь, вы слышали это забавное название, которое они дали нашей компании?
— А вы уполномочены сопровождать гостей? — поинтересовался я.
— Каждый гражданин Камирои уполномочен давать любую информацию по любому предмету, — парировал Брюссельская капуста.
— Единственная трудность — в нашем слишком либеральном подходе к предоставлению гражданства, — пояснила мисс Диагея, девица из справочного бюро. — Каждый человек может стать гражданином Камирои, если он пробыл здесь один УДЛ. Был случай, когда гражданство предоставили космонавтам, побывавшим на орбите планеты. Правда, теперь гражданство дается только тем, кто отвечает нашим высоким причинно-информационным стандартам.
— Спасибо! — сказала мисс Холли Холм и поинтересовалась: — А чему равен УДЛ?
— Пятнадцати минутам, — ответила мисс Диа. — Если хотите, пост уже сейчас может вас зарегистрировать.
Мы посоветовались и захотели. Пост тут же зарегистрировал нас, и мы стали гражданами Камирои.
— Ну, сограждане, чем же мы способны вам помочь? — спросил Сидеки.
— Наши отчеты о законодательстве Камирои — это смесь туристских баек и анекдотов, — сказал я. — Мы хотели бы узнать, как принимаются законы на Камирои и как они работают.
— Ну так придумайте какой-нибудь закон и посмотрите, как он работает, — предложил Сидеки. — Теперь вы полноправные граждане нашей планеты, а значит, собравшись втроем, можете издать любой закон. Нужно только спуститься в Архив. А за время пути подумайте хорошенько, какой именно закон вам нужен.
Мы шагали по восхитительным затейливым паркам и рощам, разбитым на крышах городских домов. Повсюду сверкали брызгами многочисленные фонтаны и водопады, берега маленьких речушек соединялись причудливыми мостами, один прекраснее другого. Ничего подобного никто из нас в жизни не видел.
— Я думаю, что могу создать пруд и плотину ничуть не хуже этих, — сказал наш шеф Чарльз Чоски. — А вместо этих куп я бы посадил красивые кусты, как это принято на Земле. А еще я раздвинул бы эти скалы и поставил между ними…
— Похвально, похвально, — перебил его Сидеки. — Вы быстро осознали свои гражданские обязанности. Все это вы должны завершить сегодня до захода солнца. Вы должны выстроить задуманную конструкцию наилучшим, с вашей точки зрения, способом и после этого снять висящую там табличку. Потом вы можете заказать любому рекламному агентству свою собственную табличку, которую изготовят в точном соответствии с вашими пожеланиями и повесят на указанном месте. Обычно пишут: "Моя композиция лучше твоей", но иногда к этому добавляют и что-нибудь веселенькое, ну, скажем: "Моя собака самая кусачая". В том же агентстве вы можете заказать все необходимые материалы. Но большинство граждан предпочитает все делать своими руками. Некоторые работы Консенсус признает шедеврами, и они могут существовать годы. А ординарные вещи заменяются другими. Вот того дерева, например, сегодня утром еще не было, и я бы сказал, его не должно быть к вечеру. Я уверен, что кто-нибудь из вас может создать дерево получше.
— Я могу, — сказала мисс Холли. — И сделаю это сегодня же.
— Вы уже продумали новый закон? — спросила мисс Диа, когда мы подошли к дверям Архива. — Мы не ожидаем чего-нибудь особенно яркого и необычного от новых граждан, но все же рассчитываем на изобретательность.
Наш шеф Чарльз Чоски выпрямился во весь рост, посуровел и сообщил:
— Мы объявляем Закон об учреждении постоянной группы для выработки правил организации временных и случайных групп граждан с целью повышения ответственности этих групп.
— Все понятно? — прокричала мисс Диа какому-то аппарату в Архиве.
— Принято! — ответил аппарат. Загудев, он с силой выплюнул из себя отлитый в бронзе Закон, который тут же перекочевал на стеллаж, где хранились законодательные акты планеты Камирои.
— И что теперь? — осторожно спросил я.
— Теперь ваш закон вступил в силу, — ответил молодой Наутес. — Он уже значится в инструкциях, с которыми новый магистрат (обычно каждый гражданин должен отработать в магистратуре один час в месяц), ознакомится, прежде чем приступит к работе. Возможно, предстоящая сессия обсудит эту проблему в течение десяти минут и выработает поправки или пояснения к вашему Закону.
— А если какая-то группа граждан предложит глупый закон? — поинтересовалась мисс Холли.
— Ну что ж, такое случается. Но его быстро отменят, — ответила мисс Диа. — Если гражданин предложил три закона, которые признаны Генеральным Консенсусом нелепыми, он на год лишается гражданства Камирои. Житель, лишенный гражданства дважды, приговаривается к искалечению, трижды — к смерти. На мой взгляд, это очень гуманно. Ведь к моменту смертного приговора он уже поработал над девятью законами. Этого вполне достаточно.
— Но тем не менее его Закон остается в силе? — спросил мистер Чоски.
— Вовсе не обязательно, — ответил Сидеки. — Процедура отмены Закона следующая: каждый гражданин может пойти в Архив и забрать оттуда любой, оставив вместо него записку с указанием причин изъятия. После этого он обязан хранить изъятый Закон в своем доме в течение трех дней. Иногда граждане, принимавшие этот Закон, приходят домой к своему оппоненту. Они могут до смерти драться на ритуальных мечах, отстаивая свою правоту, но чаще всего оппоненты находят мирные пути разрешения возникших проблем. Например, соглашаются на отмену Закона или на его восстановление, или вместе вырабатывают новый Закон, который удовлетворяет обе стороны.
— Значит, любой Закон Камирои может быть опротестован без всякой причины?
— Не совсем так, — сказала мисс Диа. — Закон, который не был отменен в течение девяти лет, становится привилегированным. Гражданин, желающий отменить его, должен оставить в Архиве не только декларацию, но и три пальца правой руки в доказательство серьезности своих намерений. Однако члены магистрата или гражданин, желающий восстановить этот Закон, должен пожертвовать только одним пальцем перед началом переговоров.
— Довольно варварский способ решения юридических проблем, — отметила мисс Холли. — А что, на Камирои нет министерства юстиции, сената, президента?
— Почему же, президент есть, — ответила мисс Диа. — Но наш президент это диктатор, или, если хотите, тиран. Он избирается большинством голосов на одну неделю. Любой из вас может быть избран на очередной срок, который начнется завтра, хотя шансов на это, надо сказать, немного. У нас нет постоянно действующего сената, но в случае необходимости мы избираем временный сенат, который наделяется всей полнотой власти.
— Именно подобные структуры мы и хотели бы изучить, — подал голос я. Когда же будет избран очередной сенат?
— Можете выбрать его сами, — посоветовал молодой Наутес. — Просто скажите: "Мы назначаем себя Временным Сенатом Камирои со всей полнотой власти" — и зарегистрируйте его в любом регистрационном бюро. Тогда вы легко сможете понять все механизмы работы этого органа.
— А сможем мы устранить диктатора-президента? — поинтересовалась мисс Холли.
— Разумеется, — ответил Сидеки. — Но большинство немедленно изберет нового. А ваш сенат с этого момента потеряет свои полномочия на весь срок правления вновь избранного президента. Но на вашем месте я бы не стал создавать сенат только для того, чтобы устранить главу государства. Он мастер борьбы на ритуальных мечах.
— Значит, граждане все-таки сражаются с президентами? — спросил мистер Чоски.
— Да, каждый гражданин может в любое время и по любой причине, а также безо всякой причины вызвать другого гражданина на дуэль. Иногда, хотя и не часто, они сражаются не на жизнь, а на смерть, и никто не имеет права прервать их битву. Такие схватки мы называем Судом Последней Инстанции.
Основываясь на положении, согласно которому каждый гражданин Камирои должен быть способен выполнять любую порученную ему работу, общество до минимума сократило организационные структуры. После знакомства с этой системой я бы уже не рискнул назвать ни один из законов Земли либеральным. По крайней мере, у граждан Камирои это не вызвало бы ничего, кроме смеха.
С другой стороны, в законодательстве Камирои есть положения, которые я считаю консервативными. Например, ни одно собрание на Камирои, вне зависимости от его цели, не должно насчитывать более тридцати девяти членов. Даже на спектаклях, концертах или спортивных мероприятиях не может собираться больше указанного количества зрителей. Это сделано для того, чтобы люди ощущали себя организаторами и участниками мероприятий, а не просто зрителями. Поэтому никакая печатная продукция, за исключением довольно редких официальных документов, не может издаваться тиражом свыше тридцати девяти экземпляров. Все это, на наш взгляд, старомодные правила, сдерживающие энтузиазм масс.
Отец семейства, который дважды в течение пяти лет обращается к специалистам по таким пустякам, как элементарная хирургическая операция или юридическая, финансовая, налоговая или медицинская консультация, лишается гражданства. Ведь он вполне мог бы все это выяснить и сделать сам. Нам кажется, что это правило лишает Камирои плодов науки и прогресса. Однако камирои утверждают, что это побуждает каждого члена общества быть специалистом во всех вопросах и тем самым служить развитию общего интеллектуального потенциала.
Если избиратели выбрали гражданина руководителем научного проекта, военной операции или торговой сделки, но он отказался от выполнения этих обязанностей, то по закону Камирои он лишается гражданства и должен быть искалечен. Если же он приступил к исполнению возложенных на него обязанностей, но не справился, то наказание следует лишь после второй неудачи.
Если избиратели решили, что гражданин должен выдвинуть какую-либо радикальную идею по переустройству общества, но не справился с возложенной на него задачей, его приговаривают к смерти. Правда, он может быть помилован, если найдет решение другой проблемы, не менее значимой для общества.
Обязательная смертная казнь установлена за непочтение. Но на вопрос о том, что понимается под непочтением, мы получили следующий ответ:
— Если вы спрашиваете об этом, значит, вы уже виновны. Почтение есть соблюдение основных норм. Недостаток убежденности в исключительности Камирои — самое страшное из всех возможных непочтении. Так что будьте бдительны, новые граждане! Если бы ваш вопрос услышал кто-нибудь из более категоричных камирои, вас казнили бы еще до захода солнца!
Впрочем, как мы установили, камирои — большие мастера розыгрыша. Лица их настолько серьезны, что невозможно понять, шутят они или говорят серьезно. Мы не поверили в реальность смертной казни за подобные прегрешения, но нам настоятельно советовали воздерживаться от сомнительных вопросов (правда, здесь возникает новый вопрос: что считать сомнительным вопросом?)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В настоящее время мы не в состоянии дать однозначную оценку системы законности планеты Камирои. Однако мы представляем теперь, с каких позиций ее следует изучать, что уже немаловажно. Рекомендуется организация постоянно действующей экспедиции для изучения этой проблемы на месте.
Источник: полевой журнал Чарльза Чоски, руководителя экспедиции.
Основополагающий принцип государственного устройства Камирои состоит в том, что каждый гражданин должен быть способен выполнить любую работу на планете или за ее пределами. Камирои считают, что если какой-либо гражданин не в состоянии выполнить порученное ему дело, это порочит и делает недееспособной и неэффективной всю общественно-политическую систему.
— Разумеется, в связи с этим наша система рушится несколько раз в день, — объяснил мне один камирои, — но не до основания. Это как идущий человек: с каждым шагом он теряет равновесие, но тут же обретает его вновь и делает следующий шаг. Наша государственная система всегда в движении. Если она остановится, то тут же погибнет.
— Есть ли на Камирои религия? — спрашивал я многих граждан.
— Думаю, есть, — ответил мне наконец один из них. — Мне кажется, что у нас есть только религия и ничего больше. Проблема лишь в понимании этого слова. На Земле это слово может происходить либо от religionem, либо от relegionem и означать, соответственно, законность или откровение. У нас же получилась смесь этих двух понятий. Разумеется, у нас есть религия. Что же нам еще иметь, если не религию?
— Можете вы провести параллель между верой землян и вашей религией? — спросил я его.
— Нет, не могу, — ответил он резко. — Не сочтите за невежливость. Я просто не знаю, как.
Но один образованный камирои выдал мне кое-какие идеи на этот счет.
— Лучше всего это объясняет легенда, которую мы, камирои, передаем из уст в уста в течение многих столетий. Когда-то давно было объявлено соревнование мужчин (или, скажем так, местного населения мужского пола, если слово "люди" к ним не подходит) всех известных науке планет. Мужчины нескольких планет победили в соревновании и в награду получили милость Всевышнего, а вместе с ней и определенные привилегии. Населенные ими миры стали трансцендентными, поглотили свои солнца и превратились из планет в звезды. Наиболее развитые из них настолько для нас закрыты, что об их сути мы можем только догадываться. И свет не доходит до нас — они наглухо закрыли все двери.
— Но вот миры, подобные земным, — продолжал камирои, — проиграли состязание и не добились милости Всевышнего. В этих мирах каждое создание имеет свое внутреннее содержание, рост, вес и прочие материальные характеристики. Согласно нашей легенде, их жители после смерти должны прожить тридцать тысяч поколений в телах животных, и лишь после этого они начнут долгий и сложный путь к Первозданной Личности.
Но в случае с камирои дело обстоит иначе. Мы не принадлежим ни к одному из этих миров. Мы не знаем, есть ли для нас другая жизнь после смерти. В том состязании люди Камирои не потерпели поражения, но и не победили. Они колебались. Они не могли решиться. Они все думали, оценивали ситуацию, взвешивали "за" и "против" и в конце концов оказались обречены на вечные раздумья. Так мы стали вечно сомневающимся народом, постоянно ломающим голову над своими проблемами, но никогда не рискующим принять окончательное решение. Конечно, нам хочется и роста, и веса, которых нам не хватает. Не сомневайтесь, наша Золотая Середина, или, если хотите, Золотая Посредственность, выше самых высоких высот многих других миров — и выше вершин Земли в том числе. Но нас это нисколько не утешает, потому что мы знаем, что способны достичь иных высот.
— Но вы не верите в легенды, — заметил я.
— Легенда — это высшая научная истина, если нет других истин, — ответил мой собеседник. — Мы народ разумный, даже рациональный. Живем, как видите, неплохо, но не хватает остроты. У вас, землян, есть Утопия. Вы высоко цените утопические идеи, хотя согласитесь: им тоже не хватает перчинки, они пресные, как яйцо, которое забыли посолить. А мы — в соответствии с земными стандартами — самая настоящая Утопия. Мы полностью отвергли упоение властью. Правда, иногда нам не хватает толики здорового безумия, и поэтому на Камирои приживается кое-что земное: плохая земная музыка, скверная живопись, отвратительная скульптура, бесталанная драма и прочее. Хорошее мы можем создать сами. Плохое мы произвести не в состоянии и вынуждены его импортировать.
— Если все это правда, то вы просто завидуете нам, — сказал я.
— Только не вам, — ответил он. — Хотя вы, пожалуй, почти совершенны в том смысле, что обладаете обеими половинами и наделены своим местом в жизни. Конечно, мы знаем, что Создатель никогда и никому не дает жизнь напрасно и что все рожденное или созданное должно сыграть свою роль. Но мы бы желали от Создателя большего великодушия и именно в этом можем завидовать Земле. Основная наша трудность состоит в том, что мы вершим самые важные дела в юности, часто — на других планетах. Годам к двадцати пяти мы удаляемся на покой, покидая эти миры. Мы возвращаемся домой, на нашу комфортабельную цивилизованную планету, чтобы жить удобно и красиво. Разумеется, это замечательно и прекрасно, но скучно. У нас есть все. Все, кроме одной маленькой вещи, для которой нет названия…
Во время нашего короткого пребывания на Камирои я разговаривал со многими гражданами этой планеты. И всегда было очень сложно сказать, говорят ли они серьезно или водят собеседника за нос. Так что мы затрудняемся что-либо сказать определенно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рекомендуется продолжение исследований.
Источник: дневник Холли Холм, антрополога.
Цивилизация Камирои более механизирована и имеет лучшую научную базу по сравнению с земной, но она более закрыта для непосвященных исследователей. "Идеальная машина", по мнению камирои, не должна иметь движущихся частей, более того — она вообще не должна быть похожей на машину. По этой причине даже в самых густонаселенных районах Камирои ощущается всеобщий покой.
Камирои очень повезло с естественным обустройством планеты. Ландшафты словно подтверждают идею о том, что все должно быть уникально и не может повторяться. Только один основной континент и один маленький континент с совершенно другими характеристиками; одна прекрасная островная гряда, каждый из островов которой имеет свой неповторимый стиль; одна великая континентальная река с семью притоками; один комплекс вулканов; одна огромная горная гряда; один титанических размеров водопад с тремя не похожими друг на друга маленькими водопадами; одно внутреннее море, один залив, один пляж длиной в триста пятьдесят миль, один лес, одна пальмовая роща, одна лиственная роща, одна вечнозеленая роща и одна роща рододендронов; один фруктовый сад, одно пшеничное поле, один парк, одна пустыня, один огромный оазис и один город — единственный большой город на планете.
Каждое из этих мест не похоже на остальные. На Камирои просто нет ничего одинакового!
Поездки здесь занимают немного времени, и любой гражданин вполне может позволить себе съездить из противоположной точки планеты поужинать на Грин Бич, причем поездка займет меньше времени и будет стоить дешевле, чем сам ужин. Быстрота и легкость путешествий превращают все население планеты в одно сообщество.
Камирои убеждены в необходимости границ. Они контролируют множество примитивных миров, причем обходятся со своими колониями довольно жестоко. Губернаторы этих колоний обычно очень молоды, чаще всего моложе двадцати лет. Камирои делают карьеру и одновременно совершают все ошибки молодости за границей. Предполагается, что на родину они возвращаются уже зрелыми, опытными и образованными людьми.
На Камирои довольно забавны принципы оплаты труда. Физический труд здесь оплачивается выше интеллектуального. То есть менее образованный и способный камирои получает больше материальных благ, чем более талантливый. "Это справедливо, — убеждали нас, — потому что тот, кто не в состоянии получить моральную компенсацию за свой труд, должен получить хотя бы материальную". Земная система оплаты, при которой один имеет лучшую работу и зарплату, а другой теряет и в том, и в другом, им кажется дикой.
Решение о том, на какую должность назначить конкретного гражданина, принимается на Камирои большинством голосов, но каждый имеет право претендовать на любой пост. На некоторые места, например, директора торгового представительства, где можно быстро сколотить состояние, объявляется конкурс. Мы стали свидетелями нескольких соревнований между соискателями, и, нужно признаться, это было любопытное зрелище.
— Мой оппонент — "три" и "семь", — сказал один кандидат и сел на место.
— Мой оппонент — "пять" и "девять", — ответил другой кандидат. Немногочисленные зрители захлопали в ладоши, и на этом дебаты завершились.
На другом подобном мероприятии один из претендентов сказал:
— Мой оппонент — "восемь" и "девять".
— Мой оппонент — "два" и "шесть", — парировал другой, и оба вышли из зала.
Мы ничего не поняли и решили пойти на еще одно подобное мероприятие. На этот раз в зале чувствовалось легкое волнение. Видимо, ожидался захватывающий поединок.
— Мой оппонент — "старый номер четыре", — выпалил один из кандидатов на эмоциональном подъеме, и аудитория застыла от удивления.
— Я не буду отвечать на этот выпад! — сообщил другой кандидат, дрожа от гнева. — Это удар ниже пояса!
Вскоре мы нашли разгадку этой шараде. Камирои — большие мастера клеветы и компромата, но для экономии времени они создали словарь сплетен, в котором каждой сплетне соответствует свой номер. Выглядит это следующим образом:
МОЙ ОППОНЕНТ:
1) страдает слабоумием;
2) абсолютно необразован;
3) выбивает всего три очка в игре Чуки;
4) ест семена Му до наступления летнего солнцестояния;
5) идеологически неустойчив;
6) физически несостоятелен;
7) бездарен в области финансов;
8) извращенец;
9) морально нечистоплотен.
Попробуйте это сами на ваших знакомых. Работает безотказно. Мы рекомендуем испробовать этот список на земных политиках, исключив из него пункты 3 и 4, которые в условиях Земли лишены смысла. Впрочем, список этот можно дополнить и другими пунктами, вполне понятными для землян.
У камирои есть Свод Пословиц. Мы нашли его в Архивах вместе с приставленной к нему машиной с сотней одинаковых рычагов. Мы нажали на рычаг с надписью "Земной английский" и получили вариант пословиц, приближенный к земному контексту.
"Нельзя стать богатым, выращивая коз" — выплюнула машина. Пожалуй, это могло бы сойти за вполне земную поговорку. По крайней мере, это имеет какой-то смысл.
"Даже звонок иногда замолкает". Это тоже звучит по-земному.
"Это прекрасно, как ощипанная курица".
— Не уверена, что поняла смысл, — отметила я.
— Думаешь, так уж легко переводить на понятный землянам язык? — огрызнулась машина. — Тогда попробуй сама! В пословице говорится о неприятных, но необходимых, а потому общественно полезных и, соответственно, прекрасных функциях.
— Да-да… — Поспешил сгладить неловкость Поль Пиго. — Давайте попробуем еще. Вот эту, например.
"Синица в руках лучше журавля в небе", — выдала машина.
— Но это же слово в слово земная пословица, — сказала я.
— Не спешите, мадам, вы же еще не знаете ее окончания, — произнесла машина-переводчик. — К этой пословице в ее классической форме обычно прикладывается рисунок, на котором птица улетает из рук человека, сердито вытирающего туалетной бумагой испачканные руки. Человек при этом говорит: "И все же — какая это гадость, синица в руках".
— Похоже, на сей раз машина утерла нам нос, — засмеялся Чарльз Чоски.
— Еще что-нибудь, — попросила я машину.
И она выдала: "Когда вы удалитесь, никто не заплачет".
Мы поняли, что пора уходить.
— У меня серьезные трудности, — сказала я как-то знакомой камирои. Но она молчала, будто я обращалась вовсе не к ней. И тогда я не выдержала: — Вам не любопытно, в чем дело?
— Нет, — честно ответила она. — Но вы можете рассказать, если вам это интересно.
— Я никогда не слыхала о подобных вещах, — начала я. — Большинство выбрало меня командиром военного десанта, который должен освободить плененные войска камирои на планете, о которой я никогда не слышала. Я должна собрать и экипировать эту экспедицию, как мне сказано, за счет моих собственных средств, причем в течение восьми УДЛов, то есть всего за два часа. Что же мне делать?
— Разумеется, делать то, что велено Большинством, мисс Холли. Теперь вы — гражданка Камирои и должны гордиться тем, что вам дали такое ответственное и важное задание.
— Но я же ничего этого не умею! А если я скажу им, что не знаю, как выполнить это задание?
— О, вас лишат гражданства и чуть-чуть покалечат. Вы же изучили наши законы, милочка.
По чистой случайности (я надеюсь, что это не более чем случайность) Большинство поручило нашему политическому аналитику Полю Пиго произвести обследование канализационной системы столицы Камирои. Лично, немедленно и всесторонне, как следовало из директивы. А нашему шефу Чарльзу Чоски то же Большинство повелело подавить восстание аборигенов на одной из планет-колоний и в доказательство успешного завершения операции привезти на Камирои правую руку руководителя мятежа вкупе с его правым глазом.
…Мы сильно нервничали, когда сидели в космопорте в ожидании рейса на Землю. Особенно когда к нам подошла группа знакомых камирои. Но они нас не задержали, а лишь попрощались, причем без особого энтузиазма.
— Мы здесь пробыли так недолго, — заметила я с надеждой в голосе.
— Я бы этого не сказал, — ответил один из них. — Как гласит одна из пословиц Камирои…
— Мы ее уже слышали, — перебил его наш шеф Чарльз Чоски. — Мы тоже не льем слез по поводу предстоящей разлуки.
И мы бегом отправились занимать места на нашем космоплане.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
1. Организовать новую, более масштабную полевую экспедицию для детального изучения планеты Камирои.
2. Особое внимание уделить юмору Камирои.
3. В состав новой группы исследователей не включать никого из членов первой полевой экспедиции.
Перевод Михаила Комаровского
Дыра на углу
Этим вечером Гомер Хуз вернулся домой, в привычный уютный круг, куда входили: пес неизвестной породы, считавшийся его личным другом; прекрасный дом, где всегда царила веселая суматоха; любящая и непредсказуемая жена; и, наконец, пятеро детей — идеальное количество (еще четверо было бы чересчур много, минус четверо — чересчур мало). При виде хозяина пес в ужасе взвыл и ощетинился дикобразом. Потом все же уловил запах Гомера и, узнав его, стал лизать пятки, грызть пальцы и всячески выражать радость по случаю появления главы семьи. Хороший песик, хоть и дурак. Впрочем, кому нужны умные?!
Гомер немного замешкался с дверной ручкой. Далеко не во всех книгах имеются описания подобных устройств, знаете ли, а у него к тому же сегодня было некое странное ощущение то ли потерянности, то ли растерянности… короче говоря, состояние, именуемое «не в своей тарелке». Но он разобрался в чем дело (если не получается тянуть, следует повернуть) и открыл дверь.
— Ты не забыл принести то, о чем я просила, Гомер? — осведомилась любящая жена Реджина.
— Что именно ты просила принести меня этим утром, о быстровыпекаемый черничный бисквит моего сердца? — поинтересовался Гомер.
— Если бы я помнила, сформулировала бы вопрос иначе, — пояснила любящая жена. — Но знаю, что точно просила тебя о чем-то, о забродивший кетчуп моей души. Гомер! Взгляни на меня, Гомер! Да ты на себя не похож! НЕ ПОХОЖ! Ты не мой Гомер! На помощь! В мой дом забралось чудовище! Помогите! А-а-а!
— До чего же приятно быть женатым на женщине, которая тебя не понимает, — объявил Гомер, ласково обнимая Реджину и бросая на пол. Не успела несчастная опомниться, как он придавил жену к ковру огромными ласковыми копытами и начал (так, по крайней мере, казалось со стороны) ее пожирать.
— Где ты раздобыла этого монстра, мама? — удивился вошедший сын Роберт. — И почему он запихнул твою голову себе в пасть? Можно я возьму на кухне яблоко? Он что, убивает тебя, ма?
— Ай-ай, — ответила мама Реджина. — Одно яблоко, Роберт, не больше, с тебя хватит… Да, думаю, он решил меня съесть.
Сын Роберт взял яблоко и выбежал во двор.
— Привет, папа, что это ты делаешь с мамой? — удивилась вошедшая дочь Фрегона. Ей уже исполнилось четырнадцать, правда, для своего возраста она была ужасно глупа. — Похоже, ты задумал ее убить. А мне всегда казалось, что прежде чем проглотить человека, с него сначала сдирают кожу. Ой! Да ты совсем не папа, верно ведь? Какое-то чудище. Я сначала приняла тебя за папу. Выглядишь совсем как он, если не считать того, как ты выглядишь.
— Ай-ай, — сообщила мама Реджина сильно приглушенным голосом.
Ничего не скажешь, в этом доме умели повеселиться.
Этим вечером Гомер Хуз вернулся домой, в привычный уютный круг, куда входили: п. н. п.; п. д.; л. и н. ж.; п. д. (еще четверо было бы чересчур много).
Собака приветливо виляла хвостом и ластилась. Сын Роберт жевал сердцевинку яблока на переднем газоне.
— Привет, Роберт. Что сегодня нового?
— Ничего, папа. Здесь вечно такая скукотища. Ах, да, в доме монстр. Чем-то на тебя смахивает. Пожирает заживо маму.
— Пожирает заживо, говоришь? Как это? — расспрашивал Гомер.
— Уже заглотил ее голову.
— Смешно, Роберт, ничего не скажешь, здорово смешно, — похвалил Гомер, входя в дом.
Одного у деточек Хуз не отнимешь: они по большей части режут правду-матку в глаза. В доме действительно оказался монстр! И он действительно пожирал жену Реджину. И это не было обычным вечерним развлечением. Тут что-то посерьезнее.
Гомер-человек был сильным и проворным парнем. Он набросился на чудовище, молотя его кулаками и пустив в ход приемы дзюдо. Монстр оставил женщину и двинулся на мужчину.
— Чего тебе, безмозглый монстр? — рявкнул он. — Если ты разносчик, то и входи через задние двери! И нечего тут кулачищами размахивать! Реджина, может, ты знаешь, кто этот осел?
— Ничего позабавились, верно? — пропыхтела розовая довольная Реджина, поднимаясь с пола. — Ты о нем? Господи, Гомер, ведь это мой муж… Но как это может быть, если ты уже дома?! Теперь все так смешалось, что я в толк не возьму, который из вас мой Гомер!
— Бестолковая чокнутая курица! Хочешь сказать, что я похож на него? — возопил Гомер-чудище, едва не лопаясь от злости.
— Голова кругом идет, — простонал Гомер-человек. — Бред какой-то! В мозгах мутится! Реджина! Немедленно изгони этот кошмар, раз уж умудрилась его вызвать!.. Так я и знал! Говорил же тебе, не стоило совать нос в эту книгу!
— Послушай-ка, мистер замороченные мозги, — накинулась Реджина на Гомера-человека. — Сначала научись целоваться, как он, прежде чем указывать, кого и откуда изгонять! Все, о чем я прошу: немного внимания и любви, а этого в книге не найдешь!
— Но как мы узнаем, который из них папа? Их не отличить, — зазвенели колокольчиками впорхнувшие в комнату дочери Клара-Белл, Анна-Белл и Моди-Белл.
— Адские кузнечики! — взревел Гомер-человек. — Как они узнают, видите ли! Да у него кожа зеленая!
— А что плохого в зеленой коже, если, разумеется, ее вовремя чистить и смазывать? — парировала Реджина.
— У него вместо рук — щупальца! — настаивал Гомер-человек.
— Да неужели? — пропела Реджина.
— Но как мы узнаем, который тут папа, если их не отличить? — хором заныли все пятеро детишек.
— Уверен, старина, есть какое-то простое объяснение, — заметил Гомер-чудовище. — Будь я на твоем месте, Гомер… а сейчас не совсем ясно, на твоем я месте или нет, то наверняка отправился бы к доктору. Вряд ли стоит идти обоим, раз у нас одна проблема на двоих. Есть у меня один неплохой специалист…
Он что-то начертил на листочке бумаги.
— Это его имя и адрес.
— Я с ним знаком, — удивился Гомер-человек. — А откуда ты его знаешь? Он все же не ветеринар. Реджина, я иду к доктору, попробую разобраться, что творится со мной… или с тобой. Постарайся к моему приходу загнать этот кошмар в тот угол подсознания, откуда он появился.
— Спроси доктора, стоит ли мне дальше принимать те розовые таблетки, — велела Реджина.
— Я не к нему иду, а к лекарю по мозгам.
— Тогда спроси, долго ли еще я должна видеть приятные сны. Надоели досмерти. Я хочу вернуться к своим прежним. Погоди, Гомер, оставь перед уходом семена кориандра, — велела Реджина, вынимая пакетик из его кармана. — Ты и в самом деле не забыл их купить. Не то, что мой другой Гомер.
— Разумеется, — кивнул Гомер-чудовище. — И немудрено, если ты сама не вспомнила, что велела мне принести.
— Я скоро вернусь, — пообещал Гомер-человек. — Доктор живет на углу. А ты, парень, держи свои планктоносгребательные полипы подальше от моей жены.
Дошагав до угла улицы, где располагался дом доктора Корта, Гомер Хуз постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Доктор оказался на месте, правда, вид у него был несколько отрешенный.
— У меня проблема, доктор Корт, — начал Гомер-человек. — Пришел домой сегодня вечером и увидел, как монстр поедает мою жену… так я сначала подумал.
— Да, знаю, — рассеянно обронил доктор Корт. — Гомер, нам просто необходимо заделать эту дыру на углу.
— Я не знаю ни о какой дыре!.. Оказалось, что этот тип вовсе не глотает мою жену заживо, это у него такой способ выказывать любовь. Все твердят, что монстр — точная моя копия, но, доктор, у него зеленая кожа и щупальца. Когда мне показалось, что он и в самом деле на меня похож, я тут же побежал к вам разобраться, что тут неладно — то ли со мной, то ли с остальными.
— Ничем не могу помочь, Хуз. Я психолог, а не специалист по необычным явлениям. Единственное, что осталось — замуровать эту дыру на углу.
— Доктор, на углу нет никакой дыры.
— Я не про улицу, Гомер. Видите ли, я только что вернулся совершенно потрясенным. Ходил к психоаналитику, который лечит психоаналитиков. «Ко мне явилась целая дюжина людей с одной и той же историей, — сказал я ему. — Они приходят вечером домой и обнаруживают, что все изменилось: либо они сами, либо домашние. Или, когда они добираются до места, оказывается, что это место уже занято! Ими же самими! Что бы вы сделали, доктор Дибел, — спросил я его, — если бы к вам заявилась куча народа с одной и той же идиотской сказкой?» — «Не знаю, Корт, — ответил он. — Что мне делать, когда один пациент приходит десять раз с одной и той же идиотской историей? Десять раз в течение часа — и при этом сам называется доктором?.. Да-да, это вы и есть, — сказал он мне. — За последний час вы прибегали двенадцать раз с тем же вздором. Причем каждый раз вы смотритесь немного по-другому и каждый раз ведете себя так, словно мы месяц не виделись! Черт возьми, старик, да вы, должно быть, разминулись с собой, когда шли сюда! Или все же столкнулись нос к носу?» — «Так это был я? — ахнул я. — То-то мне подумалось, что прохожий кого-то напоминает… Да, вот так проблема, доктор Дибел! И что вы собираетесь предпринять?» — «Пойду к психоаналитику, который лечит психоаналитиков, которые лечат психоаналитиков, — решил он. — Он дока в своем деле». С этими словами доктор Дибел, можно сказать, вылетел из дома, а я вернулся к себе. Тут и вы подоспели. Но я вам ничем не могу помочь. Кстати, Гомер, нужно что-то срочно предпринять насчет этой дыры на углу.
— Никак не соображу, о чем вы толкуете, доктор, — заверил Гомер. — Так вы говорите… неужели здесь уже побывала целая толпа, и все с теми же жалобами?
— Да, буквально каждый житель этого квартала мелет одну и ту же чушь, если не считать… Именно каждый, за исключением старого двухголового Диогена! Гомер, клянусь: он, который знает все на свете, увяз в этом деле по самую макушку. Это он все подстроил! Вчера ночью я видел его на электрическом столбе, но ничего такого не заподозрил. Он обожает воровать электричество, прежде чем оно дойдет до его счетчика, и таким образом экономит кучу денег, ведь в его лаборатории тратится куча энергии! Но, оказывается, он проделал дыру на углу! Это его работа! Давайте скрутим его, приведем в ваш дом и заставим все исправить.
— Да уж, человек, знающий все, должен разбираться в дырах на углу. Но я, честное слово, не видел никакой дыры, когда шел сюда.
Человека-всезнайку звали Диогеном Понтифексом. И жил он как раз рядом с Гомером Хузом. Незваные гости нашли его на заднем дворе, где тот сражался со своей анакондой.
— Диоген, пойдем с нами к Гомеру, — настойчиво предложил доктор Корт. — У нас тут пара вопросов, которые могут даже вам оказаться не по зубам.
— Моя гордость задета! — пропел Диоген. — Когда психологи начинают практиковать свою психологию на тебе, нужно сдаваться. Минутку, я только прижму эту крошку.
Диоген провел захват головы, несколько раз ударил кулаком в челюсть твари, скрутил ее двойным замком, закрепил победу захватом на «ключ» и оставил, беспомощно извивающуюся и укрощенную, а сам последовал за Гомером и доктором.
— Привет, Гомер, — поздоровался он с Гомером-чудовищем, входя в дом. — Вижу, вас тут двое. Понимаю, это вас немного смущает.
— Доктор Корт, скажите, долго мне еще видеть приятные сны? — осведомилась жена Реджина. — До чего же они мне надоели! Хочу вернуться к старым ужастикам, от которых мороз по коже.
— Думаю, сегодня ночью вам это удастся, Реджина, — пообещал доктор Корт. — А пока я пытаюсь вызвать Диогена на откровенность. Пусть скажет, что тут творится. Уж ему-то наверняка это известно. И если вы пропустите первую часть, Диоген, насчет того, что все остальные ученые, по сравнению с вами, просто дети малые, это значительно ускорит дело. По-моему, перед нами один из ваших экспериментов, вроде… о, нет! Лучше не думать об этом. Расскажите лучше о дыре на углу и о том, что из нее лезет! Объясните, почему люди приходят домой два или три раза, а когда переступают порог, обнаруживают, что уже сидят за столом. Растолкуйте, как потрясающая воображение тварь через секунду становится такой знакомой, что ее не отличишь от хозяина дома. Дошло до того, что я не уверен, который из этих Гомеров приходил в мой офис полчаса назад и с кем я вернулся в этот дом. С одной стороны, они двойники, с другой — совсем нет.
— Мой Гомер всегда странновато выглядел, — вмешалась Реджина.
— Если руководствоваться визуальным наблюдением, они совершенно различны, — пояснил Диоген. — Но ведь никто не принимает во внимание визуальный показатель, разве что в первый момент. Наше восприятие персоны или вещи куда сложнее, и визуальный элемент занимает в нем весьма малое место. Итак, один из них Гомер в гештальте-два, а другой — в гештальте-девять. И не делайте глупости: не воображайте, что это одна и та же личность.
— Господи, сохрани и помилуй! — взмолился Гомер-человек. — Ладно, валяйте, Диоген, делайте, что хотите.
— Попытаюсь объяснить. Начну с моих комментариев к Филановым Выводам о силе тяжести. Я беру их противоположный вариант. Филан никак не может понять, почему сила тяжести так мала во всех мирах, кроме одного. Он утверждает, что сила тяжести этого отдаленного мира типична, а сила тяжести во всех остальных мирах — атипична в результате математической ошибки. Но я, основываясь на тех же данных, заключил, что сила тяжести нашего мира не только не ослаблена, но даже слишком велика. Раз в сто больше, чем необходимо.
— Но с чем вы ее сравнивали, когда решили, что она чересчур велика? — вмешался доктор Корт.
— Мне не с чем сравнивать, доктор. Сила тяжести всех, кого я смог проверить, больше, чем нужно, раз в восемьдесят — сто. На это есть два возможных объяснения: либо мои вычисления и теории неверны, что маловероятно, либо в каждом случае в наличии имеется около ста тел, обладающих массой и объемом и занимающих одно и то же место в одно и то же время: Стулья Старого Кафе-Мороженого! Теннисные Туфли в Октябре! Запах Скользкого Ильма! Ярмарочные Зазывалы с Чирьями на Носах! Рогатые Жабы в Июне!
— Я довольно легко следовал за вашей мыслью… до стульев в кафе-мороженом, — перебил Гомер-чудовище.
— О, я сумел проследить связь, даже когда дело дошло до теннисных туфель, — заверил Гомер-человек. — Мне даже понравилась эта штука с космической теорией. Но вот на скользком ильме я споткнулся. В толк не возьму, каким это образом он иллюстрирует дополнительную теорию силы тяжести.
— Последняя часть была заклинанием! — воскликнул Диоген. — Вы заметили во мне какие-то перемены?
— На вас, разумеется, другой костюм, — объявила Реджина, — но что тут особенного? Многие люди взяли привычку переодеваться по вечерам.
— Вы похудели и посмуглели, — вставил доктор Корт. — Но я ничего бы не увидел, не попроси вы присмотреться внимательнее. Собственно говоря, не знай я, что вы Диоген, ни за что бы не сказал! Вы совершенно другой человек, но все же я бы повсюду вас узнал.
— Сначала я был гештальтом-два. Теперь я гештальт-три… пока. Итак, вполне очевидно, что около ста тел, обладающих объемом и массой, занимают одно и то же место в одно и то же время. Это уже само по себе является переворотом в обычной физике. Давайте рассмотрим характеристики этих сосуществующих миров. Они действительно населены людьми? И будет ли это означать, что сотня или около того личностей занимают в одно и то же время место, занятое каждой отдельной личностью? Итак, я доказал, что по меньшей мере восемь человек занимают место, принадлежащее каждому из нас, а впереди еще столько работы! Голые Ветви Белого Сикомора! Только Что Забороненная Земля! Коровий Навоз Между Пальцами Ваших Ног в Июле! Глина Горы Пичер в Старой Трехглазой Лиге! Ястреб-Перепелятник в Августе!
— Борона до меня не дошла, хотя насчет веток сикоморы все ясно, — обронила жена Реджина.
— А я все понял, если не считать перепелятников, — вставил Гомер-чудовище.
— Ну так что же во мне поменялось на этот раз? — спросил Диоген.
— На руках выросли перышки, как раз в тех местах, где были волоски, — осенило Гомера-человека. — Да и на ногах тоже — вы босой. Но я ничего бы не заметил, если бы не искал чего-то странного.
— Теперь я гештальт-четыре, — объявил Диоген. — Вполне возможно, мое поведение станет несколько экстравагантным.
— Можно подумать, когда-то было иначе, — буркнул доктор Корт.
— Но не таким, как будь я гештальтом-пять, — возразил Диоген. — Иначе мог бы, подобно Пану, скакнуть на плечи юной Фрегоны или, фигурально говоря, пройтись босыми ногами по волосам прелестной Реджины. Многие нормальные гештальты-два становятся во сне гештальтами-четыре или пять. Похоже, Реджина с этим согласится.
Итак, я нашел тень (но не сущность) в психологии Юнга. Юнг послужил мне во всей этой истории вторым элементом, ибо именно ошибки Филана и Юнга в совершенно различных областях навели меня на путь истины. Юнг считает, что в душе каждого из нас существует множество личностей. По-моему, это глупость. Что-то в подобных заумных теориях меня возмущает. Правда заключается в том, что наши двойники входят в наше сознание и сны только по случайности, поскольку находятся в то же время и в том месте, которое занимаем мы. Но все мы отдельные и независимые личности и способны находиться в одно и то же время в одном и том же окружении или рядом. Но не в одном месте. Примером тому служат гештальт-два и гештальт-девять присутствующих здесь Гомеров.
Я долго экспериментировал, чтобы узнать, как далеко смогу зайти, и пока что остановился на гештальте-девять. Я нумерую гештальты не по степени их необычности по отношению к нашей норме, но в том порядке, в котором их обнаруживал. Убежден, что существует не менее ста концентрических и конгравитационных миров.
— Признавайтесь, на углу улицы есть дыра? — допытывался доктор Корт.
— Да, я сам ее создал рядом с автобусной остановкой, как наиболее подходящее место появления для жителей квартала, — кивнул Диоген. — За последние два дня мне представилось немало возможностей изучить результаты.
— Но каким образом вам это удалось? — не отставал Корт.
— Поверьте, Корт, потребовалось немалое воображение, — вздохнул Диоген. — Я почти истощил запасы своей психики, чтобы соорудить одну штуку, зато теперь в моем распоряжении имеются самые разносторонние психологические образы любого моего знакомого. Кроме того, я установил усилители по обе стороны улицы, но они лишь концентрируют мои исходные представления… Я вижу здесь необъятное поле для исследований.
— Но что это за заклинания, которые переносят вас из одного гештальта в другой? — поинтересовался Гомер-чудовище.
— Это всего лишь одна из десятков возможных моделей входа, но иногда она кажется мне самой легкой, — пояснил Диоген. — Сохраненная в памяти Безотлагательность или Вербальный Бред. Вызов Духов, интуитивный или харизматический вход. Я часто использую его в Мотиве Бредмонта, название которого прочел у двух забытых писателей двадцатого века.
— Вы говорите так, словно… разве мы живем не в двадцатом веке? — удивилась Реджина.
— А это двадцатый?! Да ведь вы правы! Точно, двадцатый! — согласился Диоген. — Видите ли, я провожу эксперименты и в других областях, так что иногда в голове мешаются времена и эпохи. Насколько я понимаю, у всех вас случаются моменты особой яркости и непосредственного восприятия. Все кажется невероятно свежим, словно мир создан заново. И объяснением этому служит то, что для вас это и в самом деле новый мир. То есть на мгновение вы переместились в новый гештальт. Существует множество случайных дыр или моделей входа, но мой метод — единственный, который я сумел придумать сам.
— Тут какое-то несоответствие, — возразил доктор Корт. — Если, как вы утверждаете, личности отдельны и независимы, как же можно перевоплощаться из одной в другую?
— Но я вовсе не перевоплощаюсь из одной в другую, — отмахнулся Диоген. — Здесь вам читали лекции три Диогена подряд. К счастью, я и мои коллеги — единомышленники, мы работаем в тесном контакте. Только сегодня вечером мы провели на вас успешный эксперимент по признанию замен. О, какие результаты! Какие перспективы исследований! Я выведу вас из узкого круга гештальта-два и покажу новые миры. Миллионы новых миров!
— Вы говорите о комплексе гештальт-два, к которому мы обычно принадлежим, — сказала жена Реджина. — А также о других — до гештальта-девять, а может, и до сотни. Но разве гештальт-один не существует? Обычно люди начинают считать с одного.
— Почему же, он есть, Реджина, — заверил Диоген. — Я обнаружил и дал ему номер еще до того, как осознал, что обычный мир большинства из вас подпадает под категорию гештальта-два. Но я не собираюсь снова посещать своего двойника из первого мира. Невероятно напыщенный занудный тип. Правда, одна грань его заурядности достаточно полезна. Люди типа гештальта-один именуют свой мир повседневным. Пусть нижайшие из нас никогда не падут так низко! Хурма После Первого Заморозка! Стулья Старой Цирюльни! Розовые Бутоны Кизила в Третью Неделю Ноября! Реклама Сигарет «Мюрад»!
Последнюю фразу Диоген выкрикнул в тихой панике и при этом казался чем-то встревоженным. Он превратился в другого, и этому новому Диогену не понравилось то, что он увидел.
— Запах Мокрого Сладкого Клевера! — продолжал он, — Сен-Мэри-Стрит в Сан-Антонио! Клей для Моделей Аэропланов! Лунные Крабы в Марте! Не вышло! Крысы набросились на меня! Гомер и Гомер, хватайте третьего Гомера! По-моему, это гештальт-шесть, а они самые подлые!
Гомер Хуз был не особенно подлым. Он только что вернулся, опоздав на несколько минут, и увидел двух типов, смахивающих на него и обхаживающих его жену Реджину. Мало того, тут же торчали эти краснобаи, доктор Корт и Диоген Понтифекс, которым нечего было делать в его доме в его же отсутствие!
Он размахнулся. А как бы вы поступили на его месте?
Эти три Гомера были парнями сильными и проворными. Да и крови в них было хоть отбавляй. Вот она-то и текла ручьями, под крики людей и треск ломающейся мебели, бледно-желтая кровь, жемчужно-серая кровь… у одного из Гомеров даже оказалось что-то вроде красноватой крови. Да, эти трое мальчиков устроили настоящий погром!
— Дай мне пакет кориандрового семени, Гомер, — велела жена Реджина последнему Гомеру, вынимая у него пакет из кармана. — Что же, я не против иметь в доме сразу троих! Гомер! Гомер! Гомер! Перестаньте пачкать кровью ковер!
Гомер всегда был бойцом. И Гомер тоже. Не говоря уже о Гомере.
— Стетоскопы, Лунный Свет и Воспоминания… э-э-э… в Конце Марта, — провозгласил доктор Корт. — Не сработало, верно? Я выберусь отсюда обычным способом. Гомеры, мальчики, приходите ко мне, когда закончите, и я подлечу вас, как могу.
С этими словами доктор Корт вышел из двери походкой человека, не слишком уверенно державшегося на ногах.
— Дурацкие Старые Комиксы Гарри! Конгресс-Стрит в Хьюстоне! Лайт-Стрит в Балтиморе! Элизабет-Стрит в Сиднее! Лак на Пианино в Старом Баре! Думаю, мне лучше удрать домой, по крайней мере, до него недалеко, — протараторил Диоген и действительно метнулся к двери бодрой припрыжкой человека, уверенно державшегося на ногах.
— С меня хватит! — проревел один из Гомеров, правда, неизвестно какой, когда его вырвали их кучи-малы и швырнули о стену. — Мир и покой — все, о чем мечтает человек, возвращаясь вечерами домой! Мир и покой — все, что ему нужно, и что же он находит в собственном жилище?! Парни, я собираюсь снова прийти домой и стереть из своей памяти все это безобразие. И когда сверну за угол, буду громко насвистывать «Дикси» и вести себя как самый миролюбивый человек в мире. Но как только открою дверь… вам, парни, лучше к тому времени исчезнуть!
И Гомер шагнул к порогу.
Этим вечером Гомер Хуз вернулся домой в п. у. к.: все было на месте. Он нашел жену Реджину в приятном одиночестве.
— Ты не забыл принести кориандровые семена, Гомер, легкая паутинка моей души? — осведомилась жена Реджина.
— Вроде бы не забыл их купить, Реджина, но почему-то в кармане ничего нет. Лучше не спрашивай, где я успел их потерять. Я и без того пытаюсь что-то забыть. Реджина, я случайно не приходил уже перед этим домой?
— Не помню такого, маленькая трехцветная фиалка.
— И здесь не было двух парней, похожих на меня, как капли воды, только чуточку других?
— Нет-нет, крошка. Я люблю тебя, и все такое, но никто и никогда не может выглядеть, как ты. И никого, кроме тебя, здесь не было. Дети! Ужинать! Папа пришел!
— Порядок, — кивнул Гомер. — Просто замечтался по пути домой, так что все это мне привиделось. И вот я здесь, в своем прекрасном доме, со своей женой Реджиной, и через секунду прибегут дети. Раньше я и не сознавал, как все это замечательно. А-а-а-а… ТЫ НЕ РЕДЖИНА!!!
— Ну, конечно, Гомер, я Реджина. Ликоза Реджина, название моего вида. Ну же, идем, ты ведь знаешь, как я обожаю наши вечера вдвоем!
Она подхватила его, медленно, любовно переломала ноги и руки, чтобы было легче управляться, разложила на полу и принялась пожирать.
— Нет-нет, ты не Реджина, — всхлипывал Гомер. — Ты похожа на нее и еще на огромного чудовищного паука. Доктор Корт был прав, нужно заделать ту дыру на углу!
— Этот доктор Корт сам не знает, что говорит, — промычала Реджина, энергично жуя. — Все твердит, что я патологическая обжора.
— Опять ты ешь папу, мама? — строго спросила вошедшая дочь Фрегона. — Зачем это? Ты ведь знаешь, что сказал доктор?
— Это паук, который во мне сидит, — пожаловалась мама Реджина. — Жаль, что ты не принес кориандр. Я так люблю приправлять тебя кориандром!
— Но доктор сказал, что тебе полезно сдерживать аппетит, мама, — вмешалась дочь Фрегона. — Потому что папе в его возрасте все труднее и труднее так часто отращивать конечности. Доктор сказал: кончится тем, что папа рано или поздно разнервничается, и что тогда?
— Помогите! Помогите! — вопил Гомер. — Моя жена — гигантский паук, пожирающий меня заживо! Мои ноги и руки уже съедены! Если бы я только мог превратиться в первый кошмар. Ночные Горшки под Кроватями в Доме Дедушки на Ферме! Натертый Канифолью Шнур для Изготовления Трещоток на Хэллоуин! Свиной Рынок в Феврале! Паутина на Банках с Компотами в Подвале! Нет-нет, не это! Ну да, разве получится, когда нужно! Да никогда! Этот Диоген совсем зарвался со своими штучками!
— Все, что мне нужно — это немного любви и внимания, — промямлила Реджина с полным ртом.
— На помощь, на помощь! — сказал Гомер, когда от него осталась одна голова. — Ай-ай.
Перевод Татьяны Перцевой
Все фрагменты речного берега
Когда-то существовал очень длинный, очень изрезанный, невероятно извилистый берег реки. Потом с ним случилась странная вещь. Его разорвали, разрезали на куски. Часть этих кусков сложили и связали в тюки. Часть скатали в рулоны. Часть разрезали на еще более мелкие кусочки и пользовались ими как украшениями, и индейские знахари с их помощью лечили от разных недугов. Свернутые и сложенные куски берега, в конце концов, очутились в амбарах и старых сараях, на чердаках и в кладовках.
А река продолжала существовать, как и ее берега, и можно пойти и посмотреть на них. Но берег, который вы увидите сейчас, чуть-чуть отличается от старого берега, который был разрезан на куски и свернут в рулоны, отличается от тех кусков, которые можно найти на чердаках и в кладовках.
Его звали Лео Нейшн, это был известный в округе богатый индеец. Богатство его заключалось в собранной коллекции — он был человек дотошный и добычливый. Лео владел скотом, пахотными полями, некоторым количеством нефти и тратил на коллекцию все свои доходы. Имей он больше доходов, собрание было бы еще обширнее.
Лео Нейшн собирал древние пистолеты, старинные пули, жернова, старые ветряные мельницы, молотилки на конной тяге, чесалки для льна, фургоны переселенцев, бочки с медными обручами, одежду из буйволовой кожи, мексиканские седла, ковбойские седла, наковальни, калильные лампы, шлагбаумы, печи для сжигания мусора, недоуздки, клейма для скота, походные кухни, рога лонгхорнов, расшитые бисером серапе, штаны из оленьей кожи, бусы, перья, браслеты из беличьих хвостов, наконечники стрел, замшевые куртки, паровозы, трамваи, мельничные колеса, парусные шлюпки, вагонетки, воловью упряжь, старинные фисгармонии, дамские романы, цирковые афиши, бубенчики от сбруи, мексиканские телеги, рекламных деревянных индейцев, что ставятся перед табачными лавками, очень крепкий испанский табак столетней давности, плевательницы (четыреста штук), колеса обозрения, ярмарочные фургоны, ярмарочный реквизит любого вида, в том числе зазывные вывески, написанные маслом на холсте. Теперь ему хотелось собирать кое-что еще. Он завел об этом разговор с одним своим другом, Чарлзом Лонгбэнком, который знал все.
— Чарли, — сказал он, — ты что-нибудь знаешь о "Самых длинных картинах в мире", которые обычно показывают на ярмарках и ипподромах?
— Немножко, Лео. Это весьма интересное проявление американского стиля: увлечение пустынными районами страны, характерное для XIX века. Считается, что на них изображен берег реки Миссисипи. Их обычно рекламируют, указывая длину: одномильная картина, пятимильная, девятимильная. Одна из них, мне кажется, и вправду была более ста ярдов в длину. Они нарисованы плохо, на скверном холсте — грубо выполненные деревья, илистый берег, упрощенные фигуры. И все повторяется, словно на обоях. Любой крепкий человек, если ему дать толстую кисть и в достатке самой скверной краски трех цветов, намалюет за день несколько ярдов такой мазни. Тем не менее это настоящий американский стиль… А ты собираешься их коллекционировать, Лео?
— Да. Только настоящие картины совсем не такие, как ты говоришь.
— Лео, я видел образчик подобной живописи. Просто грубая мазня.
— У меня двадцать холстов таких, про которые ты рассказывал. А три — совершенно другие. Вот старая ярмарочная афиша, в которой упоминается один из них.
Лео Нейшн умел быть красноречивым; вот и сейчас, рассказывая, он помогал себе жестами. А потом развернул старую пожелтевшую бумагу и любовно разгладил ее. Там было написано:
Арканзасский Путешественник, Лучшая Ярмарка в Мире, Восемь Фургонов, Колесо Обозрения, Звери, Танцующие Девушки, Удивительные Фокусы, Чудовища, Азартные Игры. Имеется также Самая Длинная Картина в Мире, четыре мили Превосходной Живописи. Это Живопись из Подлинной Панорамы, а не дешевая имитация.
— Видишь, Чарли, полотна бывают разными: часть из них — подлинные, часть — грубая подделка.
— Возможно, некоторые сделаны немного лучше остальных; сделать хуже было бы затруднительно. Разумеется, коллекционируй их, если хочешь. Ты уже насобирал кучу менее интересных вещей.
— Чарли, у меня есть фрагмент панорамной картины, когда-то принадлежавший арканзасской ярмарке. Я ее тебе покажу. Смотри, вот другая афиша.
Королевская ярмарка. Истинно королевская. Четырнадцать фургонов. Десять тысяч чудес. Смотрите Резинового Человека. Смотрите Пятерых Акробатов. Смотрите Самую Длинную Картину в Мире, смотрите Слонов на Реке Миссисипи. Это Подлинное Изображение Берега, а не мазня, которую показывают другие.
— Говоришь, у тебя двадцать обыкновенных картин и три совсем другие?
— Да, Чарли. Я надеюсь раздобыть еще настоящих. Надеюсь собрать ВСЮ РЕКУ.
— Давай посмотрим, Лео, чем они отличаются.
Они пошли в один из сенных сараев. Лео Нейшн хранил свои коллекции в сараях для сена, поставленных в ряд. "А что мне делать? — сказал он как-то. — Позвать плотника и велеть ему построить для меня музей? Он скажет: "Лео, я не построю музея без чертежей и без помощников. Дай мне план". А где мне взять план? Поэтому я всегда предлагаю построить еще один сарай для сена размером сто на шестьдесят футов и высотой в пятьдесят футов. Потом сам делаю четыре или пять полок, и настилаю пол, и оставляю место для высоких предметов. Кроме того, думаю, что сарай для сена обходится дешевле, чем музей".
— Это будет серьезная задача, Чарли, — говорил Лео Нейшн, входя в один из сараев-музеев. — Тебе понадобится вся твоя наука во всех областях, чтобы ее разрешить. Каждая из трех подлинных картин, что у меня есть, около ста восьмидесяти ярдов длиной. Думается, это какая-то стандартная длина, хотя могут встретиться и картины, которые во много раз длиннее. Они считались живописью в те годы, когда их показывали, Чарли, но ведь это не живопись?
— А что тогда?
— Я нанимаю тебя, чтобы это выяснить. Ты человек, который знает все.
В сарае стояли два ворота с барабанами высотой в рост человека, поодаль было еще несколько таких же.
— Старинный приводной механизм; похоже, он гораздо ценнее картины, — заметил Чарлз Лонгбэнк. — Такие штуки на мельницах крутили мулы, ходили по кругу и тянули за дышла. Возможно даже, это восемнадцатый век.
— Да, но я поставил электрический мотор, — сказал Лео. — Единственный мул, который у меня есть — мой личный друг. И я не заставляю его работать больше, чем он предлагал бы мне, будь я мулом. Я намотал картину так, что на полной катушке вроде бы оказался северный конец, а на пустой — южный. Сейчас мы это запустим. И прогоним, и рассмотрим с юга на север, как бы следуя против течения лицом к западу.
— Интересный холст и интересная живопись, намного лучше всего, что я видел, — заметил Чарлз Лонгбэнк. — И кажется, совсем не пострадала за все эти годы.
— Это не холст и не живопись, — вставила Джинджер Нейшн, жена Лео, внезапно появившаяся в сарае. — Это картина.
Лео Нейшн включил мотор, картина начала перематываться. На ней был изображен лесистый берег реки. Известняковый и песчаный берег, местами илистый. Близко, на самой кромке, росли мощные деревья.
— Действительно, отлично сделано, — признал Чарлз Лонгбэнк. — Судя по тому, что я видел и читал, трудно даже предположить, что может быть так здорово.
На перематывавшейся картине не повторялось ничего; казалось, что перед глазами настоящий речной берег.
— Это девственный лес, по большей части лиственный, — сказал Чарлз Лонгбэнк, — не думаю, что сейчас в умеренном климате мог бы существовать такой прибрежный лес. Должно быть, его давно уже вырубили. Не думаю, чтобы много таких участков могло сохраниться хотя бы до девятнадцатого века. И все же у меня ощущение, что это написано с натуры, а не выдумано.
Берег двигался мимо них: трехгранный тополь, ежовая сосна, сикаморы, ржавый вяз, дерево каркас, снова сосна.
— Когда я соберу много таких картин, Чарли, ты их все сфотографируешь и проанализируешь, или воспользуешься для этого компьютером. По углу падения солнечных лучей ты сможешь понять, в каком порядке должны идти картины и как велики между ними пробелы.
— Нет, Лео, на них на всех будет одно и то же время и день.
— Но это и был один и тот же час того же самого дня, — вмешалась Джинджер. — Как можно сделать одну картину в разное время и в разные дни?
— Она права, Чарли, — подтвердил Лео Нейшн. — Все подлинные картины — куски одной и той же. Я это давно понял.
Берег разматывался дальше: сосны, дуб лавролистный, серый калифорнийский орех, хурма, снова сосны.
— Потрясающее воспроизведение, что ни говори, — похвалил Чарлз Лонгбэнк. — Но боюсь, какое-то время спустя оно начнет так же повторяться, как рисунок на обоях.
— Ха! — воскликнул Лео. — Такой умник, как ты, должен подмечать детали. Ни одно дерево не похоже на другое, каждый лист другой. К тому же это молодая листва. Наверное, изображена последняя неделя марта. Хотя все зависит от того, какая часть реки перед нами. Может, конец марта, а может, начало апреля. Птицы, старый мудрый Чарли, почему мы почти не видим птиц на этом фрагменте? И какие птицы нарисованы?
— Странствующие голуби, Лео, а они исчезли несколько десятилетий назад. Почему не видно других птиц? У меня есть на это ответ, но только если мы предположим, что эта вещь очень давняя и подлинная. Мы не видим других птиц потому, что у них великолепная защитная окраска. В Северной Америке сейчас рай для орнитологов, потому что из Европы относительно недавно было завезено множество ярких птиц, которые заменили ряд местных. Они еще не приспособились к окружающей среде, и поэтому заметны. Да-да, Лео, это так. Птицам требуется всего четыреста — пятьсот лет, чтобы приспособиться. А здесь все-таки есть птицы, если присмотреться как следует.
— Я уже давно присмотрелся, Чарли, и теперь хочу, чтобы это сделал ты.
— Это лента холста или какого-то другого материала высотой шесть футов, Лео, и я думаю, масштаб примерно один к десяти, исходя из высоты взрослых деревьев и тому подобного.
— Да, Чарли, я согласен. Думаю, на каждой из моих подлинных картин изображено около мили речного берега. Но в этих картинах есть еще кое-что, о чем я просто боюсь тебе сказать. Я не совсем уверен в твоих нервах. Но ты и сам увидишь, когда рассмотришь подробней.
— Скажи, в чем дело, Лео, — я должен знать, что искать.
— Да во всем, Чарли. В каждом листе, в каждом куске коры, в каждой пряди мха. Я рассматривал части картины под микроскопом, увеличивая в десять, в пятьдесят, в четыреста раз. Так подробно невооруженным глазом ничего нельзя увидеть, хоть засунь нос в самую середину картины. Под микроскопом можно даже разглядеть клетки листа или мха. Если при таком увеличении рассматривать обычную картину, видны частички краски, видны горы и пропасти, оставленные мазками кисти. А здесь, Чарли, не найти никаких следов кисти, ни одного мазка!
Весьма приятное занятие — путешествовать вверх по течению реки, лениво, со скоростью, соответствующей четырем милям в час, в масштабе один к десяти. На самом деле картина перематывалась со скоростью около мили в час. Мимо проплывали берег, деревья, дуб болотный, американский ильм, сосна, черная ива, лоснящаяся ива.
— Кстати, откуда здесь лоснящаяся ива, Чарли, и почему нет ветлы, ты можешь сказать? — спросил Лео.
— Если это Миссисипи, Лео, а картина подлинная, то изображен какой-то самый северный ее участок.
— Не-ет. Это Арканзас, Чарли. Я-то узнаю Арканзас в любом виде. Откуда там взялась лоснящаяся ива?
— Если это Арканзас, а картина подлинная, значит там было холоднее.
— А почему нет ветлы?
— Ветлу завезли из Европы, хотя очень давно, и распространилась она очень быстро. На этой картине есть слишком уж убедительные свидетельства. Твои три остальные картины похожи на эту?
— Да, но на них немного другой участок реки. Солнце падает под иным углом, там другая почва, травы, цветы.
— Думаешь, сможешь достать еще таких картин?
— Смогу. По-моему, на всей картине было изображено больше тысячи миль реки. Наверное, добуду больше тысячи фрагментов, если стану искать, где надо.
— Может, большинство из них давно пропало, Лео, а осталась дюжина или около того, их-то и показывают на ярмарках. К тому же, возможно, в этой дюжине тоже есть повторы. На ярмарках часто меняют оформление, и возможно, остались только три твои картины. Картины могли демонстрировать на нескольких ярмарках и ипподромах в разное время.
— Нет, Чарли, их больше. У меня еще нет картины со слонами. Мне сдается, по разным местам их можно найти около тысячи. Я дам объявление — относительно подлинных картин, а не дешевой мазни — и начну получать ответы.
— Сколько их было, столько и осталось, — вдруг заявила Джинджер Нейшн. — С ними ничего не делается. У одной из наших катушка обгорела, а сама картина целехонька. Они не горят.
— Лео, ты можешь истратить уйму денег на кучу старых холстов, — сказал Чарлз Лонгбэнк. — Но я изучу их для тебя сейчас или когда решишь, что с тебя довольно.
— Погоди, пока не соберется побольше, Чарли, — отозвался Лео Нейшн. — Я уже придумал, как составить объявление. "Я освобожу вас от этих вещей" — напишу я, и, наверное, люди будут рады избавиться от старья, которое не горит и не ветшает, а весит больше тонны вместе с катушкой. Не ветшают только подлинные. Посмотри на эту большую зубатку вот здесь, под водой, Чарли! Посмотри, какой у нее злобный глаз! Река не была такой мутной, как сейчас, хотя изображена весна и вода стоит высоко.
Берег раскручивался дальше: сосна, кизил, можжевельник виргинский, дуб крупноплодный, орех-пекан, снова сосна, гикори. Тут картина докрутилась до конца.
— Чуть больше двадцати минут, я засек время, — сообщил Чарлз Лонгбэнк. — Конечно, всякая деревенщина в прошлом веке могла верить, что картины по миле в длину, а то и по пять или девять миль.
— Не-а, они были умнее, Чарли, они были умнее. Скорее всего, они вовсе не считали, что картина такая уж длинная, хотя она им нравилась. К тому же могли быть куски и пятимильные, и девятимильные. Зачем бы иначе их рекламировали именно так? Думаю, что сумею разнюхать и разыскать эти картины. А иногда буду звонить, и Джинджер расскажет, кто откликнулся на объявления. Возвращайся через полгода, Чарли. У меня к тому времени будет достаточно фрагментов реки, чтобы ты мог начать работу. Ты не заскучаешь без меня в эти полгода, Джинджер?
— Да нет. Здесь будут косари, и народ с аукциона скота, и те, кто добывает нефть, и Чарли Лонгбэнк приедет, и еще есть люди в городе и в баре "Вершина холма". Не заскучаю.
— Она шутит, Чарли, — посчитал нужным объяснить Лео. — На самом-то деле она за парнями не бегает.
— Нисколько не шучу, — возразила Джинджер. — Уезжай хоть на семь месяцев, мне-то что.
Лео Нейшн пропутешествовал около пяти месяцев и за это время объездил множество мест. Скупил больше пятидесяти подлинных фрагментов реки, потратив не одну тысячу долларов. Эти деньги он добывал несколько лет. Лео мог бы потратить и больше, если бы некоторые не отдавали ему картины даром, а многие — за очень низкую цену. Но попадались и упрямые люди, которые требовали больших денег. При коллекционировании всегда существует риск — едва ли не самое привлекательное во всем процессе. Все эти предложенные по высокой цене фрагменты были действительно первоклассными, и Лео не мог от них отказаться.
Как Лео Нейшн разыскал столько фрагментов, осталось тайной, но у него и вправду был нюх на такие вещи — он просто чуял их. Все коллекционеры, что бы они ни собирали, должны обладать подобным нюхом.
В городке Ролла, штат Миссури, Лео нашел профессора, дом которого был весь застелен и завешен "коврами" из подлинных картин.
— Это очень прочный материал, Нейшн, — сказал профессор. — Ковры лежат у меня вот уже сорок лет и ничуть не истерлись. Посмотрите, какие яркие деревья! Мне пришлось разрезать холст цепной пилой, и должен вам сказать, он оказался тверже любого дерева, несмотря на гибкость.
— Сколько вы хотите за все ковры, за куски кусков, которые у вас есть? — спросил Лео с чувством неловкости. Ему казалось, что использовать фрагменты картины в качестве ковров дурно, но этот человек вроде казался вполне приличным.
— Ну нет. Я не стану продавать свои ковры, но дам вам оставшиеся кусочки картины, поскольку вы этим интересуетесь, а также пожалую большой фрагмент, которым совсем не пользовался. Вообразите, ни разу не удалось никого заинтересовать этой живописью. Мы в колледже подвергли анализу материал "холста". Это оказался очень сложный пластик. Странное дело, ведь этот пластик изготовлен по крайней мере на несколько десятилетий раньше, чем в мире начали производить пластические материалы. Большая загадка — для человека достаточно любознательного, чтобы начать в этом разбираться.
— Я достаточно любознателен и уже начал разбираться, — заявил Лео Нейшн. — Вот кусок, что у вас на стене… Похоже на… если бы можно было взглянуть под микроскопом…
— Разумеется, Нейшн. Похоже на пчелиный рой, да это он и есть. У меня имеется слайд части этого куска. Пойдемте посмотрим. Я его показывал многим умным людям, но они твердили: "Ну и что?". Не могу понять такого отношения.
Лео Нейшн с наслаждением рассматривал слайд под микроскопом.
— Да-а… — сказал он. — Вижу волоски на ножках пчел. А в одном месте заметны даже луковицы волосков. — Он долго то уменьшал, то усиливал увеличение и вдруг заметил: — Но пчелы какие-то странные. Отец мне рассказывал про таких пчел, но я думал, это выдумки.
— Современные медоносные пчелы довольно позднего европейского происхождения, Нейшн, — объяснил профессор. — Местные американские пчелы действительно были странными и малопроизводительными на европейский взгляд. Но они еще не совсем вымерли. На некоторых картинах видны насекомые, кажется, очень древние.
— А что это за смешные звери на куске, который устилает пол в кухне? — спросил Лео. — Такие большущие?
— Земляные ленивцы, Нейшн. Судя по ним, вещь действительно старинная. Если это мистификация, то самая грандиозная из всех известных. Художник должен был обладать богатым воображением, чтобы наделить именно таким мехом вымершее животное — мехом, которого нет у ныне живущих в тропиках ленивцев, но который, возможно, был у ленивцев в более холодном климате. Но сколько потребовалось бы человеческих жизней, чтобы написать хоть один квадратный фут такой картины со столь микроскопическими деталями? Здесь нигде нет обмана, Нейшн: каждый квадратный сантиметр холста насыщен изумительными подробностями.
— Почему лошади такие маленькие, а бизоны огромные?
— Не знаю. Чтобы во всем разобраться, нужен специалист, изучивший сотню наук — если, конечно, перед нами не мистификация, совершенная человеком, познавшим сотню наук. Но мог ли такой человек существовать триста лет назад?
— Вы отсылаете свой фрагмент к столь давним временам?
— Да. Но такой пейзаж мог существовать и пятнадцать тысяч лет назад. Говорю вам, здесь какая-то тайна. Хорошо, забирайте с собой эти лоскуты, а большой рулон я перешлю вам домой.
В Арканзасе Лео отыскал человека, который хранил фрагмент картины в пещере. Пещера была оборудована для туристических экскурсий, но картина, изображавшая берег реки, оказалась не слишком привлекательной.
— Люди думают, я установил здесь, в пещере, какой-то кинопроектор, — объяснил этот человек. — "Кому надо забираться так глубоко, чтобы смотреть кино? — говорят туристы. — А если нам захочется полюбоваться берегом реки, мы за этим не полезем в пещеру". Я-то думал, что это будет хорошая приманка, но ошибся.
— Как вам удалось затащить сюда картину? — спросил Лео Нейшн. — Проход явно маловат.
— Да она уже была тут пятнадцать лет назад, когда я пробил лаз и пробрался в пещеру.
— Значит, картина здесь с незапамятных времен. За это время сформировались породы, образовавшие стену.
— Известняковые занавесы нарастают очень быстро оттого, что отовсюду струится влага. Эту штуку притащили сюда, наверное, лет пятьсот назад. Конечно, я ее продам. Даже обвалю еще кусок стены, чтобы ее вытащить. Мне все равно надо пробивать широкий коридор для свободного прохода туристов. Им не нравится ползать на животе по пещерам. Не знаю, почему. Мне всегда было по душе такое занятие.
Это был один из самых дорогих фрагментов, что приобрел Нейшн. А мог бы оказаться еще дороже, если бы Лео обнаружил интерес к тому, что виднелось между деревьями. Сердце у коллекционера подпрыгнуло до горла и едва не выскочило. С трудом удалось сохранить невозмутимый вид. На картине были изображены слоны у берега реки Миссисипи.
Слон (Mammut americanum) на самом деле был мастодонтом. Это Лео узнал от Чарлза Лонгбэнка. Да, вот теперь у него были слоны; в его руках оказался один из ключевых фрагментов головоломки.
Множество картин можно было обнаружить в Мексике. Все перемещается в Мексику, как только немного устареет. Лео Нейшн вел беседу с богатым мексиканцем — индейцем, как и он сам.
— Нет, я не знаю, откуда появилась Длинная Картина, — сказал собеседник, — но она была привезена с севера, откуда-то из тех мест, где течет эта река. Во времена де Сото[13] существовала индейская легенда о Длинных Картинах, которой он не понял. Вы, северяне, как дети. Даже племена, отличающиеся памятливостью, наподобие кэддо[14], помнят о событиях, которые произошли пятьсот лет назад.
Мы помним дольше. Что касается твоих дел, мы знаем, что каждый известный род привез с собой фрагмент Длинной Картины, когда мы перебрались на юг, в Мексику. Это было, наверное, лет восемьсот назад — мы пришли на юг как завоеватели. Сейчас эти картины для старинных индейских родов, как сокровища, как тайные сокровища, как память об одном из наших прежних домов. Ни один член старинного рода не станет говорить о них с пришельцем и не признается, что у него есть картина. Я с тобой разговариваю о картине, я даже отдал ее тебе — потому что разочарован в жизни, потому что я отступник, не такой, как все остальные.
— Скажите, дон Каэтано, не говорилось ли в древних индейских легендах, откуда взялась первая Длинная Картина или кто ее нарисовал?
— Говорилось. Картина — дело рук странного огромного существа, а имя его было Великий Живописец Речного Берега. Думаю, это знание тебе пригодится. И не надо презирать поддельные картины — дешевые имитации, как ты их называешь. Они не то, что тебе кажется, они написаны не ради денег. Их сделали для новых богатых родов, которые пытаются подражать старым и знатным в надежде сравняться с ними. К сожалению, эти работы сделаны довольно поздно, когда искусство пришло в упадок, но в любом случае разница огромна: всякая живопись покажется жалкой рядом с искусством Великого Живописца Речного Берега.
Дешевые имитации были захвачены в качестве трофеев солдатами-гринго армии Соединенных Штатов во время мексиканской войны, так как их высоко ценили в некоторых семьях Мексики. От солдат они попали на ярмарки середины века в Штатах.
— Дон Каэтано, вы знаете, что, рассматривая при большом увеличении фрагменты картины, можно заметить детали, не видимые невооруженным глазом?
— Рад, что ты это сказал. Я всегда думал, что это так, но опасался проверять. Да, мы всегда верили, что глубина этих картин неизмерима.
— Почему здесь изображены мексиканские дикие свиньи, дон Каэтано? Словно у этой части картины какая-то особая мексиканская направленность.
— Нет. Пекари водились по всей Америке, до самого севера. Потом их вытеснили европейские свиньи — везде, кроме наших диких мест. Тебе нужна эта картина? Сейчас велю своим людям погрузить ее на корабль и отправить в твой дом.
— Но, разумеется, я вам заплачу…
— Нет, Лео, тебе я отдам ее даром. Мне нравятся такие люди, как ты. Бери ее, и Господь с тобой! Да, Лео, при расставании — и потому что ты собираешь всякие странные вещи — я хотел бы показать тебе коробочку с блестящими штучками, которые, думаю, могут тебе понравиться. Мне кажется, это всего-навсего ничего не стоящие гранаты, но разве они не хороши?
Гранаты? Нет, не гранаты. Ничего не стоящие? Тогда почему взгляд Лео ослеплен их великолепием, а сердце едва не выскакивает из груди? Дрожащими руками он поворачивает камни и восхищается ими. А потом, когда дон Каэтано отдает камни за символическую сумму в тысячу долларов, сердце Лео трепещет от радости.
И вы знаете, это действительно были дешевые гранаты. Но почему же Лео Нейшн думал иначе в тот роковой момент? Какое заклятие наложил на него дон Каэтано, чтобы он принял их за другие камни?
Ну что ж, в одном месте приобретаешь, в другом теряешь. А дон Каэтано действительно отправил ему драгоценную картину даром.
Лео Нейшн вернулся домой после долгого путешествия.
— Я выдержала без тебя пять месяцев, — заявила Джинджер. — Я бы не выдержала полугода и уж точно не выдержала бы семи месяцев. Шучу. Я не бегала за парнями. Наняла плотника, и он построил еще один сарай, чтобы хранить там куски картины, которые ты присылал. Сейчас их больше пятидесяти.
Лео Нейшн и его друг Чарлз Лонгбэнк вели беседу.
— Пятьдесят семь новых фрагментов, Чарли, — сообщил Лео. — С теми тремя, что уже были, получается шестьдесят. Думаю, у меня теперь есть шестьдесят миль речного берега. Изучи их, Чарли. Выкачай из них знание и засунь в свои компьютеры. Прежде всего я хочу понять, в каком порядке они идут с юга на север и как велики пробелы между ними.
— Лео, я уже пытался тебе объяснить: для этого нужно принять (помимо того, чтобы посчитать их подлинными), что все они сделаны в один и тот же час одного дня.
— Допусти все это, Чарли. Они все были сделаны в одно и то же время — или мы должны предполагать, что были. С такой мыслью мы и должны работать.
— Ах, Лео… я надеялся, что тебе не повезет с этим коллекционированием. Я все еще думаю: лучше бы это оставить.
— А я надеялся, что мне повезет, Чарли, и вышло, что я надеялся сильнее, чем ты. Почему ты боишься непонятных вещей? Мне они попадаются на каждом шагу. От них воздух делается свежее.
— Я действительно боюсь, Лео. Ладно, привезу завтра кое-какое оборудование, но я боюсь. Черт возьми, Лео, кто здесь был?
— Никого здесь не было, — вмешалась Джинджер. — Говорю тебе, как говорила Лео, я просто шутила, не крутила я ни с какими парнями.
На следующий день Чарлз Лонгбэнк привез оборудование. Он выглядел неважно — может быть, выпил виски больше нормы, а кроме того, двигался Чарли странно, резко и время от времени оглядывался через плечо, словно у него на загривке сидела сова. Но несколько дней он исправно работал, прокручивая фрагменты картины и сканируя их. Затем запрограммировал компьютер и ввел в его память отснятый фильм.
— На нескольких фрагментах присутствует какая-то тень, что-то вроде легкого облачка, — сказал Лео Нейшн. — Не представляешь себе, что бы это могло быть, Чарли?
— Лео, вчера ночью я вылез из постели и пробежал две мили туда и обратно по вашей каменистой проселочной дороге, чтобы встряхнуться. Боюсь, я начинаю представлять себе, что такое эти легкие облачка. Господи, Лео, кто же здесь был?
Чарлз Лонгбэнк снял всю информацию, поехал в город и ввел ее в свои компьютеры.
Через несколько дней вернулся с ответами.
— Лео, все это пугает меня еще больше, чем прежде, — сказал он и выглядел при этом так, словно умирал от страха. — Давай бросим эту затею. Я даже верну тебе аванс.
— Нет, старина, нет. Ты взял аванс, я тебя нанял. Ты понял, в каком порядке они идут с юга на север, Чарли?
— Да, вот список. Но не делай этого, Лео, прошу тебя, не делай.
— Чарли, я только разложу их по номерам, приведу в порядок. Мне понадобится не больше часа.
Через час все было готово.
— Теперь давай посмотрим сначала один южный фрагмент, затем один северный.
— Нет-нет, Лео, нет! Не делай этого.
— Почему?
— Мне страшно. Они действительно идут по порядку. Они действительно могли быть сделаны в один и тот же час в один и тот же день. Кто здесь был, Лео? Кто тот великан, что выглядывает из-за моего плеча?
— Да, он действительно великан, ты прав, Чарли. Но он был хорошим художником, а художники имеют право на странности. Он часто смотрит и из-за моего плеча.
Лео Нейшн поставил перематываться самый южный фрагмент Длинной Картины. Это была вперемешку суша и вода, остров, рукав дельты и болото, устье реки и воды океана, смешанные с мутной водой реки.
— Красиво, но это не Миссисипи, — бормотал Лео, пока картина перематывалась. — Другая река. И я узнаю ее, хотя с тех пор прошло столько лет.
— Да, — Чарлз Лонгбэнк сглотнул. — Это река Этчафалайя. Сравнивая угол падения солнечных лучей на хорошо идентифицированных фрагментах, компьютер смог показать местоположение всех фрагментов. Это устье реки Этчафалайя, которое в геологическом прошлом несколько раз служило устьем Миссисипи. Но откуда он мог узнать, если его здесь не было? Ох, этот великан снова смотрит через мое плечо. Я боюсь, Лео.
— Послушай, Чарли, мне кажется, что человек должен испугаться хоть раз в день, тогда он будет хорошо спать ночью. Я боюсь уже целую неделю, но мне нравится этот здоровенный малый… Ну что ж, это один конец — или близко к концу. А теперь посмотрим северный конец. Да, Чарли… Тебя пугает, что все это настоящее. Хотя я не понимаю, зачем ему было смотреть нам через плечо, когда мы перематывали картину. Если он тот, о ком я думаю, он уже все это видел.
Лео Нейшн начал прокручивать самый северный фрагмент реки.
— Как далеко на севере мы оказываемся, Чарли? — спросил он.
— Примерно там, где теперь реки Сидар и Айова.
— Это самый северный кусок? Значит, у меня нет ни одного фрагмента северной трети реки?
— Да, это самый северный кусок, Лео. О Господи, это последний.
— На этом фрагменте тоже есть облако, Чарли? Кстати, что оно собой представляет? Смотри, какой прекрасный весенний пейзаж.
— Ты плохо выглядишь, Лонг-Чарли-бэнк, — объявила Джинджер Нейшн. — Как ты считаешь, глоток виски с кровью опоссума тебе не повредит?
— А можно просто виски? Ладно, давай свою смесь, может, это то, что надо. И поскорей, Джинджер!
— Меня не перестает изумлять, что живопись может быть настолько хороша, — не сводя глаз с картины, говорил Лео.
— Разве ты еще не понял, Лео? — Чарли била дрожь. — Это не живопись.
— Я вам с самого начала говорила, только вы меня не слушали, — заявила Джинджер Нейшн. — Я говорила, что это не холст и не живопись, а просто картина. И Лео однажды со мной согласился, а потом забыл. Выпей, старина Чарли.
Чарлз Лонгбэнк выпил целебную смесь из доброго виски и крови опоссума. Картина продолжала крутиться.
— Еще одно облако на картине, Чарли, — заметил Лео. — Похоже на большое пятно в воздухе между нами и берегом.
— Да, и сейчас появится еще одно, — со вздохом сказал Чарли. — Значит, мы приближаемся к концу. Кто они были, Лео? Как давно это произошло? Ах, боюсь, что довольно хорошо знаю эту часть — значит, они еще не могли быть людьми, верно? Лео, если это пустяковые явления, почему они до сих пор висят в воздухе?
— Спокойно, старина Чарли, спокойно. Река становится мутной и пенной. Чарли, ты не мог бы снять со всего этого микрофильм и ввести в компьютер, чтобы получить ответы на все вопросы?
— О Господи, Лео, уже!
— Что — уже? Эй, а что это за туман, что за дымка? А эта голубая гора за туманом?
— Это ледник, тупица, ледник, — простонал Чарли, и в этот момент самый северный фрагмент картины закончился.
— Смешай-ка еще виски с кровью опоссума, Джинджер, — сказал Лео Нейшн. — Похоже, это всем пойдет на пользу.
— Отлично, правда? — спросил Лео Нейшн немного спустя, когда они втроем прикончили крепчайшую смесь.
— Отлично, — подтвердил Чарли Лонгбэнк, хотя его била дрожь. — Но кто здесь побывал, Лео?
— Да, Чарли, ты недавно сказал — "уже". Что ты имел в виду?
— Это уже микрофильм, Лео, их микрофильм. Бракованный кусок, как я думаю.
— Ну-ну, теперь я понимаю, почему виски с кровью опоссума никак не войдет в моду, — заметил Лео. — Скажи-ка, а тогда старина опоссум уже был здесь?
— Старина опоссум-то был, а нас не было. — Чарлз Лонгбэнк дрожал, не переставая. — Но мне кажется, что кто-то постарше, чем опоссум, снова тут что-то вынюхивает, а нос у него гораздо длиннее.
Чарлз Лонгбэнк отчаянно трясся. Еще одно слово, и он сломается.
— А эти облака на… ну, на пленке, Чарли, что это? — допытывался Лео Нейшн.
И Чарли сломался.
— Господи Боже мой! — крикнул он, и лицо его исказилось. — Хотел бы я, чтобы это действительно были облака! Ах, Лео, Лео, кто был здесь, кто они такие?
— Мне холодно, Чарли, — отозвался Лео Нейшн. — Откуда-то дует, просто до костей пробирает.
Следы на пленке… они казались очень знакомыми, но слишком большими: завитки и петли были не меньше восемнадцати футов длиной…
Перевод Валентины Кулагиной-Ярцевой
Лягушка на горе
Он проснулся для гор, как говорит поэт. И впрямь они уникальны. Согласно легенде, океаны и низменности созданы давным-давно. А вот горы обновляются каждое утро.
Потребовалась некоторая подготовка. Гарамаск проделал ее.
— Ненавижу космос, — заявил он, когда принял решение.
Члены экипажа удивились.
— Почему, мистер Гарамаск? — спросил капитан. — Вы провели в космосе больше времени, чем я, и где только ни побывали. Вы заработали на космическом бизнесе огромную кучу денег. Я не встречал никого с такой тягой к путешествиям и новым мирам. Вы настолько экспансивный человек, что, по-моему, вам должна нравиться бесконечность космоса.
— Да, я люблю движение и люблю путешествовать, — ответил Гарамаск. — Мне нравятся разнообразные миры. Но в космосе чувство движения и вкус путешествования пропадают. И космос не бесконечный. Он все сжимает. Скажем, мне понравилась какая-нибудь гористая планета, но космос убивает мое чувство, потому что я видел, как эта планета возникла на экране внешнего обзора словно микроб, и буду наблюдать, как она исчезнет с экрана опять же словно микроб. Я рассматривал эпические горы под микроскопом. А когда убирал микроскоп, то знал, что они слишком малы, чтобы различить их невооруженным глазом. Все неистовые, буйные миры, которые мне нравятся, слишком ничтожны в масштабах космоса, чтобы увидеть их или поверить в них. Я люблю большой мир и ненавижу космос за то, что тот уничтожает его величественность.
— Парават не такой уж большой мир, мистер Гарамаск, — заметил капитан.
— Большой, большой! Он огромный! — возразил Гарамаск. — Не надо принижать его. Это крупнейший мир по меркам человека, и я не позволю этому масштабу страдать от сравнения. Он обширен настолько, насколько человек может освоить его территорию, не теряя при этом связь с цивилизацией. Сила притяжения в полтора раза больше земной бросает вызов нашим мускулам. В атмосфере достаточно кислорода, чтобы наполнить мышцы силой. Там есть горы в десять тысяч метров высотой: самые высокие горы, на которые человек может взобраться самостоятельно, без помощи устройств и машин. Не надо принижать его в моих глазах! Я достаточно богат, чтобы вы не относились ко мне как к досадному недоразумению. Я оставил необходимые инструкции. Пожалуйста, следуйте им.
— Мистер Гарамаск, вы когда-нибудь были молоды? — спросил капитан.
— Я и сейчас молод, капитан. Я в лучшей физической форме, нежели любой на этом корабле. Идея, которую я осуществляю, тоже весьма юна и честолюбива.
— И вы никогда не были другим, мистер Гарамаск, не таким молодым и менее ловким?
— Не понимаю, о чем вы, капитан, но полагаю, что не был. Следуйте моим инструкциям.
Инструкции Гарамаска предписывали погрузить его в управляемый сон, доставить на планету и, пока он спит, поселить поближе к горам. Он не увидел ни когда Парават появился на экранах — размером с микроба, ни когда он вырос в сотни миллионов раз — до величины горошины. Он не увидел, как планета на экране стала вдвое больше Земли. Он пропустил посадку.
Из порта его перевезли за сто километров в домик в горной местности. Там его устроили так, как подобает состоятельному человеку. Гарамаск проспал запланированное количество часов и проснулся ранним утром. Он проснулся для гор.
Гарамаск вышел наружу, на свежий воздух Паравата, и очутился посреди небольшого городка Маунтин-Фут. В его бумажнике лежал ордер на арест и смертную казнь. Его целью был сбор информации о мире, чья жизнеспособная цивилизация внезапно остановилась в развитии и чей народ рогха (элита, высшая раса) исчез, или почти исчез, уступив место глупым оганта, — и все это на глазах одного поколения.
Гарамаск собирался принять участие в охотничьей экспедиции на трехъярусную гору: его ждала охота на ягуара Сайнека, медведя Риксино, орла-кондора Шасоуса и еще на Батер-Джено, скальную обезьяну или человека-лягушку (в зависимости от перевода). Говорили, что это самая сложная охота в галактике. И вероятнее всего, что он не вернется с трехъярусной горы, потому что еще ни одному охотнику-человеку не удавалось убить всех четырех тварей и остаться в живых; хотя охотники-оганта, как говорили, добивались своего.
Попутно Гарамаск охотился за ответом на загадку: что случилось с элитой общества? Способны ли те немногие рогха, что остались в живых, усилить свое влияние? Можно ли придать импульс их цивилизации? Не случится ли так, что сомнительное доминирование глупых оганта сведет на нет остатки рогха? Почему высшая раса пала (говорят, добровольно) перед занимающими более низкую ступень на лестнице эволюции?
Вдобавок Гарамаск охотился за убийцей — будь тот из рода оганта или рогха, зверем или человеком, — за тем, кто убил Элина. Гарамаск не осознавал, насколько близким другом был для него Элин, пока не случилось несчастье. Официально Элин погиб на охоте во время схватки с Батер-Джено, скальной обезьяной или человеком-лягушкой. Но некоторое время назад Элин явился Гарамаску в рапсодия-сне и заявил, что его убил проводник и напарник по охоте — оганта по имени Окрас, который в настоящий момент мог уже не существовать как оганта.
— Я верю, что мы были друзьями, — сказал Элин, — хотя никогда не говорили о наших отношениях. Отомсти за меня, Гарамаск, и разгадай тайну Паравата. Я сам почти добрался до нее.
— Что ты нашел, Элин? — спросил Гарамаск, но призраки в снах часто изображают из себя слабослышащих, они говорят, но не слушают.
— Разгадай тайну, Гарамаск, — повторил Эллин, — и отомсти за меня. Я был так близок к разгадке. Окрас впился зубами мне в основание черепа. Когда я умер, он выел мой мозг.
— Так что ты нашел, когда почти добрался до разгадки? — переспросил Гарамаск. — Расскажи, что произошло, тогда я буду знать, что искать.
— Я был так близко, когда умер, — промолвил Элин.
Призраки глухи как пробки. Они проговаривают свое сообщение, но ничего не слушают. Вам, возможно, довелось убедиться в этом лично.
Гарамаск не то чтобы шибко верил в вещие сны, но и сам давно хотел попасть на эту охоту; он даже планировал присоединиться к вылазке Элина, да помешали дела. И во сне он узнал то, чего не знал, пока не проштудировал отчет о происшествии, — что по факту Элин умер в результате выедания черепа. Теперь Гарамаск проверял полученную во сне информацию.
— Моим проводником будет Окрас? — спросил он у долговязого оганта, управляющего охотничьим домом.
— Окрас? Нет, он больше не проводник. Он перевелся из этой жизни.
— Но проводник с таким именем был?
— Да, однажды, но только один раз. Вашим сопровождающим будет Чаво.
Значит, проводник по имени Окрас когда-то существовал. А ведь Гарамаск не знал этого имени, пока не услышал его в рапсодия-сне. Потом он увидел одного из уцелевших рогха, величественно прогуливающегося по каменистому склону свежим ранним утром, и сразу же поспешил к нему.
— Меня очень интересуете вы и весь ваш род, — начал Гарамаск. — Вы ключ к разгадке тайны. Выглядите импозантно, у меня бы так не получилось; я понимаю, почему вас называют элитой, высшей расой. Вы столь поразительно отличаетесь от оганта, что во всех мирах недоумевают по поводу случившегося. Вы короли. Они болваны. Почему они доминируют?
— Полагаю, наступил день болвана, странник, — ответил рогха не задумываясь. — Меня зовут Треорай, а вы — человек Гарамаск, который приготовился проснуться для гор. Вы бросили вызов трехъярусной горе. Это высокое устремление — убить четырех тварей. Тот, кто достигнет цели, претерпит глубокое изменение.
— Как Элин?
— Я знал его, когда он был здесь. Он не убил четырех тварей. Четвертая оказалась сильнее его.
— Он сообщил мне во сне, что погиб иначе.
— Элин не стал бы лгать, даже во сне. Вы неверно его поняли. Говорил ли он, что завершил охоту, убив всех четырех тварей?
— По его словам, он прикончил ягуара Сайнека, медведя Риксино и орла Шасоуса; но нет, он ничего не сказал про Батер-Джено. Тем не менее он заявил, что его убил некто другой.
— Нет, Гарамаск, его убила четвертая тварь. Мы часто храним смутные воспоминания о своей смерти. Однако же Элин был замечательным парнем, для человека.
— Треорай, почему ваша цивилизация пришла к такому нелепому концу? Почему вы, рогха, обладающие очевидным превосходством, вымерли? Почему грубые, стоящие на задних лапах оганта победили? Десяток оганта не смог бы одолеть и одного из вас. Ваш внешний вид, стать способны остановить любого нападающего. Я назвал бы это магнетизмом. Может, случившееся — следствие генетических проблем?
— Генетика, призраки, сегрегация — все верно, Гарамаск. Но это еще не конец, и нет никакой апатии. То, что мы, рогха, потеряли, мы вернем обратно, любыми средствами. Период упадка пройдет.
— Почему бы вам просто не уничтожить оганта?
— Вы образованный человек, Гарамаск, но ваш параватский язык несовершенен. Я не понимаю вашего вопроса. Я знаю немного мировой английский, если это поможет.
— Треорай, почему вы, рогха, просто не уничтожите оганта? — повторил вопрос Гарамаск на мировом английском.
— Нет, Гарамаск. Оказывается, я знаю не так много идиом, — посетовал Треорай. — Ваш вопрос кажется мне бессмысленным, на каком бы языке ни произносился. Ага, вон выглядывает ваш проводник, проверяет, готовы ли вы. Хватайте его быстрее, или он завалится обратно в кровать. По характеру оганта не ранние птахи. Солнце не должно застать вас в Маунтин-Фут. Вам следует встретить его на высоте по меньшей мере двухсот метров. Взгляните на тот уступ! Чудесное место, чтобы наблюдать восход.
— Вижу, действительно чудесное, — сказал Гарамаск. — Нужно поспешить, чтобы успеть туда. Если я останусь в живых, мы встретимся снова, превосходный.
— Удачной охоты, Гарамаск! Решительному охотнику и надежному проводнику первые три твари вполне по силам. Чтобы убить четвертую, охотнику потребуется превзойти самого себя.
Гарамаск начал восхождение на гору Домба, первую гору трехгорного комплекса, в компании с оганта Чаво, болтливым проводником. Оганта — крепкие мускулистые парни, наделенные силой и выносливостью от рождения. Говорите, что хотите, о шумных болванах, но они классные альпинисты! Гарамаск тоже был далеко не новичком, имея за спиной опыт восхождения в мирах с повышенной силой тяжести. И да, иногда бывает польза от неглубокого знания параватского языка: Гарамаск мог спокойно игнорировать болтовню Чаво. Понимание его речи требовало максимума внимания, которое, к счастью, отвлекало множество других вещей по мере того, как они поднимались в гору. А еще Чаво смеялся и беспрестанно гремел — как будто булыжники стукались друг о друга.
Чудаковатое, неотесанное создание этот болтун. Оганта карабкался, цеплялся когтями, вонзал кинжалы, ухватывался клыками и ловко использовал доспехи. Впрочем, это был лучший способ. Человек делал то же самое. Он не завидовал Чаво, его молодости и неистовой силе. Гарамаску тоже хватало силы, и он получал удовольствие, испытывая ее. Но человек немного завидовал клыкам оганта. У Гарамаска не было таких огромных зубов, чтобы поддерживать гигантские саблезубые клыки. У него не было такой бычьей шеи, такого массивного черепа, такой усиленной гряды верхней челюсти. Но он надел очень хороший комплект клыков и надеялся, что сумеет правильно их использовать.
На одном из крутых изгибов перед ними открылся головокружительный вид на Дэйнджин-сити далеко внизу. Превосходные рогха были строителями по крайней мере не хуже людей. Теперь их в городах почти не осталось, неотесанные оганта устроили там свои берлоги. Потом изгиб стал более крутым, и Гарамаск не мог позволить себе еще один взгляд на город.
Охотники поели войлочного и клобучкового лишайников и стручков тигровой травы. Пожевали зеленых орехов койлл, чтобы смочить рот. Они взбирались все выше и тратили все больше сил. Потом Гарамаск уловил слабый запах и заметил следы призрачных животных, знание о которых поднялось из подвала памяти.
— Ах, это мир, в котором вы живете, — выдохнул он. — И вы вовсе не выдумки. Животное, которое не животное, я знаю, чем ты являешься на самом деле. — Гарамаск брызгал слюной, когда выкрикивал слова, из-за больших клыков, насаженных на зубы. — Древние греки называли тебя всезверем и изображали состоящим из разных частей других животных. Люди считали тебя либо азиатским львом, либо леопардом, либо тигром, либо барсом, либо американской пумой. Но все время ты был собой, легендарный зверь.
— С кем ты говоришь, Папа Гарамаск? — спросил Чаво с тревогой в голосе. — С дедушкой Сайнека?
— С прапрадедушкой Сайнека, болван. В дождливых лесах беднякам сказали, что имя твое ягуар, но бедняки знали лучше. На старом юге Объединенных Государств сказали, что имя твое пума или пантера, но несчастные бедняки всегда знали твою настоящую породу. Зверь-призрак, я иду за тобой!
— Папа Гарамаск, просто брось камень в кусты, и он скроется. Это всего лишь один из сайнеков, это не сам Сайнек. Он редко охотится так низко и так рано. И не разговаривай с дедушкой Сайнека, не то он явится во сне и перегрызет твое настоящее горло.
— Черт тебя побери, болван, это Сайнек собственной персоной! Сегодня он охотится низко и рано. Прародитель всех животных, выходи на бой! Ягуар!
И Гарамаск бросился вверх по скользкой покрытой лишайником скале в высокие заросли тигровой травы и кустарника койлл, чтобы сразиться со зверем, существующим только в легендах или как ошибочное употребление термина. На Паравате он использовал имя Сайнек.
Это был длинный черный самец. Не сайнек, который упрыгал бы прочь, а сам Сайнек. И Гарамаск понял, почему в одно время мог быть только один Сайнек. Призрак, дух целиком вселился в этого зверя, не оставив ни капли себя ни для кого другого.
Гарамаск первым бросился в бой, наугад нанося удары когтями по черному ягуару и попав локтевым кинжалом ему в пасть. Он старался держаться внутри зоны захвата передних лап зверя. Ягуар вцепился зубами в голову человека сбоку над доспехами, прикрывающими шею, но не сумел удержать ее в пасти. Клыки скользнули по коже, оставляя кровавые раны, и аккуратно оторвали ухо. Зверь весил сто пятьдесят килограмм, что было эквивалентно ста килограммам на Земле, примерно столько же, сколько весил Гарамаск. Ягуар ударом оттолкнул человека, и тот заскользил по голому камню и лишайнику к краю горы.
Потом они замерли друг против друга: Сайнек — чуть выше человека на краю твердой скалы и Гарамаск — на покатой полосе щебня, который скользил под ногами, оползал волнами и перетекал через край пропасти, словно вода. Чаво, болван оганта, жевал тигровую травинку и смеялся.
С изумлением Гарамаск заметил интеллект, полноценный интеллект в глазах ягуара. Это была личность, разумное существо, безотносительно того, к какому виду оно принадлежало. Разумный взгляд был почти дружелюбен, и двое поняли друг друга. Им предстоит драться не на жизнь, а на смерть, но они опознали один в другом, кем они были. Представители высшей расы — Ягуар, Человек, Рогха — первородные, не подлежащие сравнению с оганта, свинами или ленивцами.
Гарамаск сделал попытку соскочить с полосы скользящего щебня. Он обменялся мощными ударами с Сайнеком, пропустил несколько самых сильных и едва не свалился с обрыва, когда, потеряв равновесие, сползал по щебню спиной вперед.
— Тебе нечего бояться, Папа Гарамаск, — крикнул оганта Чаво откуда-то сверху, куда он успел вскарабкаться. — Я буду сталкивать валуны на Сайнека и убью его.
И Чаво покатил валуны — спешно, неточно, рискованно. По его придурковатому смеху Гарамаск понял, что Чаво целится не столько в Сайнека, сколько в него, стараясь или сбить его с ног, или вызвать оползень щебня, который смыл бы человека вниз.
Со смесью безотчетного ужаса и нарастающей отваги, что было характерно для него в моменты глубокого кризиса, Гарамаск сражался со скользящими камешками, помогая изо всех сил руками, и снова сошелся с ягуаром.
— Я такой же большой, я такой же сильный, я такой же опасный, черт побери, я как зверь, — невнятно бормотал Гарамаск. — Мы совсем рядом, добрый друг. Если я полечу с горы, то ты полетишь вместе со мной.
Но Гарамаск ошибся. Ягуар оказался лучшим зверем. В ближнем бою он превосходил человека по всем статьям, хотя доспехи, защищающие Гарамаску шею и промежность, озадачили Сайнека.
— Кто ждет внизу, чтобы выесть мой череп, Чаво? — свирепо проревел Гарамаск. — Кто ждет внизу, чтобы расколоть мне голову и сожрать мозги? Это не Сайнек. Это падальщики подо мной, и еще один наверху — ты!
— Папа Гарамаск, — хихикнул Чаво сверху, — ничего не бойся. Я столкну валуны на Сайнека и убью его.
И он продолжил скатывать валуны на них обоих, сцепившихся в драке, целясь сразу в двоих.
Гарамаск проигрывал, сползая к краю. Клыки-насадки обломились, вырвав один из его собственных клыков, и теперь он пытался рвать сухожилия ягуара зубами, давясь своей кровью. Он рубил зверя налокотными и наколенными кинжалами, бил передними и задними шпорами, но был почти распотрошен задней лапой Сайнека, которая одна заменяла ему все холодное оружие. В последний раз он освободился от кромсающего, сокрушающего ягуара и завертелся в потоке щебня, пытаясь удержаться на горе.
Чаво нацелил на человека валун покрупнее, чтобы помочь ему преодолеть расстояние до обрыва. Ягуар изогнулся для завершающего удара, и, когда он метнулся, перебирая ногами в хитром танце, вдоль края твердой скалы, валун угодил ему прямо в середину корпуса. Сайнек не сумел остановиться, после того как сильный удар скинул его в скользящий каменный поток, скатился с горы и рухнул в пропасть.
— Папа Гарамаск, я спас тебе жизнь, — обрадованно закричал Чаво сверху. — Но я должен убедиться, что Сайнек действительно мертв. Я сброшу еще больше валунов вниз на него и буду сбрасывать до тех пор, пока не удостоверюсь, что с ним покончено.
И Чаво покатил валуны на Гарамаска, стараясь сбить его с горы, а тот метался по скользящему щебню, уклоняясь от камней. Три, шесть, девять валунов пронеслись мимо него, потом Чаво замешкался, выталкивая огромный валун из углубления. Гарамаск нащупал скрытый выступ твердого камня и быстро выбрался на спасительную поверхность.
Чаво повернулся, и они оказались лицом к лицу. Гарамаск, окровавленный, израненный, лишенный одного уха, мокрый от пота и полный призрачности, ибо часть призрака из Сайнека, когда тот летел вниз навстречу смерти, перешла в Гарамаска… И Чаво. Что вам сказать о болване Чаво из рода оганта? Мог он посмотреть в глаза Гарамаску? Нет, но он никогда и не смотрел — все оганта косоглазые. Трусил ли он во время схватки? Трудно утверждать, когда речь идет об оганта. Но легкий голубой румянец — привычный цвет его лица — потерял немного своей яркости.
— Что же ты мешкаешь, проводник Чаво? — спросил Гарамаск, как спросил бы готовый к извержению вулкан. — Вперед, вперед! Мы еще не достигли вершины первой горы. Мы убили только одну из четырех жертв. Продолжаем наш путь!
Они продолжили путь. Они потратили остаток дня, взбираясь по склону. Они видели много сайнеков, которые прыжками уносились прочь, не останавливаясь. Но ни разу в течение дня не встретили самого Сайнека. Некоторое время Сайнек будет мертв. Гарамаск отцепил оружие и часть доспехов и повесил на пояс. Подниматься стало легче. С последними лучами заката охотники добрались до вершины Домбы, первой горы Тригорья.
Высокогорное плато служило основанием для следующей горы: из него вырастала Гири, вторая гора Тригорья. Они съели горький горный паек и пожевали зеленые орехи койлл, чтобы утолить жажду. Потом устроились на ночлег — так подумал Гарамаск.
Но Чаво вынул из рюкзака струнный инструмент и начал производить гнусавейший, отвратительнейший шум, когда-либо слышанный человеком. Когда же оганта начал своим самоуверенным пронзительным голосом издавать леденящие душу крики, Гарамаск понял, что не заснет.
— Ты убедил меня, волчонок, — прорычал он. — Ты установил новый всемирный рекорд — самый хриплый звук. Но так ли необходимо продолжать упражняться?
— Тебе не нравится? — удивился Чаво. — Я горжусь своей музыкой и пением. Мы считаем, такое исполнение позволяет раскрыть всю силу и полноту звука.
— Мне кажется, что нечто иное. Рогха известны как самые музыкальные существа во вселенной. Как могли их сожители, вы, оганта, стать самыми немузыкальными?
— Я надеялся, моя музыка придется тебе по душе, — опечалился Чаво. — Я по-прежнему хочу понравиться тебе. На самом деле мы приятные существа. Даже некоторые из рогха признали это, правда с раздражением. Честное слово.
— Вы грубые невоспитанные бычки, Чаво, я понимаю твой мир все меньше и меньше. Почему и как вы убиваете рогха? Поскольку я уверен, что это имеет место.
— Но их осталось совсем немного, Папа Гарамаск! И становится все меньше и меньше. Так ли обязательно убивать рогха, особенно если мы уважаем и любим их?
— А если бы их было несколько миллионов, вы бы убивали их?
— Конечно, нет. Это же отвратительно. Зачем нам убивать их, если бы их было много? Они настолько возвышеннее нас, что мы готовы делать для них все что угодно.
— Даже убьете их, Чаво, чтобы показать, как сильно вы их любите? И почему ты пытался убить меня во время схватки с Сайнеком?
— По ряду причин. Во-первых, у тебя благородный внешний вид, и ты выглядел для меня почти как рогха, когда находился в боевой готовности. Я уважаю и люблю тебя почти так же сильно, как любого из рогха. Вдобавок к этому обнаружилось, что люди Мира будут действовать на нас так же, как и рогха, поэтому мои компаньоны ждали внизу под скалой, готовые разорвать тебя на части, если бы ты упал. Еще мы, оганта, испытываем побуждение убивать тех, кого видим в положении потенциальной жертвы. Очень часто мы убиваем других оганта только потому, что находим их в уязвимом положении. И это, думаю, не поддается объяснению.
— Я думаю так же, Чаво. Там, на склоне, танцуют несколько маленьких камней. Если мои глаза не обманывают. Или это резвятся мелкие животные, очень похожие на камни?
— Нет, это танцующие камни, Папа Гарамаск. Твои глаза не обманывают. Сейчас я сыграю на хитуре еще, и они будут танцевать под него. Слушай! Смотри! Разве это не животворная музыка, Папа Гарамаск?
— Я бы назвал ее иначе. Черт возьми, Чаво, почему я должен задавать очевидные вопросы? Что заставляет камни танцевать?
— Я заставляю, Папа Гарамаск, или мой темный спутник. Чему ты удивляешься? Разве в Мире не так?
— Если и так, я об этом не слышал.
— Но это так. В Мире, как мне рассказывали, у каждого десятого молодого человека есть темный компаньон, и этому дано название на всемирном немецком. Но в обоих случаях темный компаньон — это спутник самого себя. В Мире, говорят, факт часто скрывается или отрицается. Но здесь, где большинство способно мысленно переносить темного спутника, способа скрыть его нет. К тому же это забавно. Смотри, как я раскачиваю и трясу тот куст, как будто я ветер. Видишь?
— Ну, сверхъестественный болван, ты управляешь полтергейстом! — Гарамаск интересовался этим явлением.
— Да, это слово из твоего Мира. Нет, я сам полтергейст. А также я видимое существо. Когда-то было так, что со временем мы отбрасывали одну или другую сущность: очищались от темного тела и становились только видимыми существами или же разрушали тело и превращались в призраков. Но теперь, в эпоху ожидания, мы существуем в обеих формах и не в состоянии выйти за пределы этих форм.
— Эпоха ожидания? Для вас, Чаво? И чего вы ждете?
— Узнать, что случится с нами. Очень тревожное время. Настолько узкая лестница, что только считанные оганта могут подниматься по ней одновременно. И наверху все не так, как раньше, не так, как должно быть.
— Я собираюсь спать, Чаво, и не хочу больше слушать твой жуткий инструмент, — устало произнес Гарамаск. — Но откуда мне знать, что ты не прикончишь меня во сне?
— Папа Гарамаск, стал бы оганта осквернять ночь!
— Черт, откуда мне знать, на что ты способен! Все, я сплю.
И он, сердитый, уснул быстро и крепко. В самой глубокой фазе сна неясно маячил Элин немного выше по склону горы.
— Следи за этим волчонком Чаво, — крикнул маячащий Элин вниз Гарамаску. — Он не такой умный как Окрас, но и ты не такой умный, как я.
— Ничуть не глупее тебя, — отозвался Гарамаск. — А теперь расскажи мне, что такое ты почти узнал перед смертью. Дай мне хоть какую-то зацепку, чтобы двигаться дальше.
Но Элин не услышал Гарамаска. Он явился говорить, а не слушать.
— Я был очень близок к разгадке, — снова крикнул Элин. — Отомсти за меня Окрасу, каким бы он теперь ни был. Я бы сделал это для тебя.
— Я продолжу сон, Элин, — сказал Гарамаск, — не хочу больше загробных разговоров на сегодня, если у тебя нет ничего нового сообщить.
И Гарамаск продолжил сон.
Он проснулся легко и быстро на заре. «Первые лучи солнца не должны застать меня у подножья горы, — напомнил он себе беззвучно. — Я вижу уступ, где должен встретить появление солнца. Всегда есть какой-нибудь уступ сверху, иначе восхождение не было бы восхождением. Треорай сказал, что оганта не ранние птахи. Проверим».
Гарамаск свистнул и окликнул Чаво, потом разбудил его пинком. Понаблюдал с улыбкой, как болван проваливается обратно в сон, потом пнул его снова. «Должно быть, это мой темный спутник, я бы не смог так поступить, — усмехнулся про себя Гарамаск. — Но это забавно». В конце концов он растолкал сонного Чаво. Они съели горький горный паек.
С пристегнутыми когтями, кинжалами и шипами, облаченные в доспехи, охотники начали восхождение на гору Гири. Первые лучи солнца они встретили на том самом уступе, который присмотрел Гарамаск, и там отдохнули. Потом стали взбираться дальше.
Не всецело неприятный для много путешествовавшего человека с крепким носом, не такой уж отвратительный, но сильный, чрезмерный, резкий, всепроникающий, надоедливый, действующий на нервы, с привкусом могильной гнилости и предсмертной рвоты запах начал сопровождать их восхождение. Так давала о себе знать особь, обитающая в этих местах, — Риксино, пещерный медведь, мускусный медведь, хозяин средней горы. Он был у себя дома, на своей территории, о чем и предупреждал посредством запаха.
— Нет нужды спрашивать, откуда вонь, — заметил Гарамаск. — Он заявляет о себе. Если бы я и не знал о его существовании, то, уверен, смог бы угадать даже его имя из этого зловонного послания. Его легко будет отыскать, и не понадобится особых ухищрений, чтобы зайти ему в тыл. Какова лучшая тактика? Двигаться прямо на него, как он ожидает, и атаковать?
— Папа Гарамаск, нет никакой лучшей тактики, чтобы победить Риксино, — ответил Чаво с дрожью в голосе. — Я боюсь этого зверя и всегда боялся. Он гораздо крупнее и сильнее, нежели Сайнек или Шасоус, и даже сильнее, чем Батер-Джено. Убить его возможно. Его уже убивали, у меня была картина с заключительной сценой охоты на него. Но каждый раз это большое чудо, что его можно убить вообще.
— Это перехват, болван, — отрезал Гарамаск. — Мы обойдем его сверху и атакуем.
Но Гарамаск и сам не чувствовал уверенности, его азарт в отношении данной части охоты постепенно угасал. С самого утра его лихорадило. Из-за потери клыка, вырванного в битве с Сайнеком, лицо опухло от глаза до шеи. Вся голова ныла, шея причиняла боль, он пускал слюни через нештатные щели в щеке. Вдобавок беспокоила рана на месте откушенного уха. Даже очень крепкий человек будет страдать из-за повышенной силы тяжести, если он нездоров.
Оказалось, что обойти Риксино сверху, чтобы атаковать его из выгодного положения, было не так-то просто. Медведь двигался вверх с той же скоростью, что и они. Его персональное зловоние поднималось все выше и выше, вполне точно указывая местоположение зверя, хотя охотники по-прежнему не могли его видеть. Так они потратили несколько утомительных часов и одолели большую часть горы.
— Похоже, это Большой Риксино, король риксино, — заметил Чаво. — Никто другой не устраивает логово так высоко. А Риксино принимает бой только у своей берлоги. Это первое возвращение Большого Риксино с тех пор, как его убили последний раз более двух эквивалентных лет назад.
— Ты и вправду веришь, что те же самые животные возвращаются к жизни? — спросил Гарамаск.
— Рогха не верят в это, Папа Гарамаск, а мы, оганта, верим. Хотя может быть, что, когда какой-нибудь риксино становится крупнее и сильнее остальных, он поднимается к вершине горы и занимает старое логово Большого Риксино в знак того, что теперь король — он. Мне приходилось охотиться на всяких риксино, но никогда на Большого Риксино, и теперь мне страшно. Можешь не сомневаться, он окажется очень крупным и свирепым.
— Я вижу его, — прошептал Гарамаск, когда они поднялись немного выше. — Он огромный. Я атакую, пока он не напал первым.
— Это не Большой Риксино, — возразил Чаво, — и никто другой не вступит в схватку, пока король на горе. К тому же, если ты заметил, его зловоние недостаточно сильное.
— Для меня достаточно сильное, — прохрипел Гарамаск воспаленным горлом. — Я атакую.
И он бросился на зверя. Тот заревел и встал на дыбы, ростом в полтора раза выше человека. Разинув огромную пасть, он молотил огромными лапами по воздуху. Гарамаск пригнулся и нанес рубящие удары шпорами и наколенными кинжалами по задним лапам зверя, одновременно пропарывая брюхо шипом, закрепленным на голове, и вонзая когти в поясницу. Зверь опрокинулся на спину, перевернулся, вскочил и с воем помчался прочь. Гарамаск поковылял было за ним — без единого шанса догнать, если только зверь не замедлит бег.
— Не преследуй его, Папа Гарамаск, — крикнул Чаво. — Это не Большой Риксино. Всего-навсего медвежонок, он и улепетывает как медвежонок. Не трать время на преследование неопытного детеныша.
— Такое впечатление, что я несколько дней лез в гору в одиночку, — сказал Гарамаск, задыхаясь. Он чувствовал усталость и раздражение из-за дурацкого положения, в котором оказался. Реальное зловоние, королевский смрад, по-прежнему исходило сверху. А он всего лишь поранил скулящего детеныша.
Гарамаск карабкался дальше, больше не отвлекаясь по сторонам. Потом смрад сгустился и перебил все остальные запахи. Риксино поджидал их совсем рядом.
— Мы почти на вершине, — сказал Гарамаск. — Вряд ли его берлога выше. Вон у того гребня свернем налево и будем ползти вдоль него, пока не окажемся над его логовом. Вверху голая скала. Берлога должна быть где-то в зарослях у подножия.
Они ползли по опасному осыпающемуся выступу, испытывая неудобство из-за притороченных шпор и наколенных кинжалов. Гарамаск, двигавшийся впереди, ощутил присутствие очень крупного животного. Он различал его тяжелое дыхание и клацанье зубов и почти задыхался от его смрада. Слышал, как оно скребет огромными клыками по скале; даже мог расслышать толчки крови в его сосудах. Но первое, что он увидел парализующе близко, были внутренности зверя.
Гарамаск зачарованно глядел прямо в раскрытую пасть метрового размаха в двух метрах под собой. Он неосмотрительно сильно перегнулся через край — и в одно мгновение лишился половины носа: распластавшийся по скале зверь тянулся передними лапами вверх, и один из его взмахов достиг лица охотника.
У Гарамаска тоже были когти. Взбешенный, он полоснул ими по лапам Риксино, когда большой медведь протянул их вверх. Используя свое окровавленное лицо как приманку, Гарамаск наносил удары когтями каждый раз, когда медведь вытягивался вверх к нему. Зверь показался ему медлительным и глупым. В какой-то момент Риксино захлопнул зияющую пасть, опустился на землю и стал зализывать окровавленные лапы. Гарамаск перекинул ноги через край и, полусвесившись, с размаху ударил по морде животного шпорой-кинжалом. Он наполовину ослепил медведя, распоров ему глаз или повредив его до такой степени, что из-за текущей крови зверь ничего им не видел. Гарамаск успел забраться на выступ прежде, чем Риксино смог нанести ответный удар.
Риксино опустился на четыре лапы, подобрался и прыгнул вверх на выступ. Ухватившись огромными передними лапами за край скалы, медведь повис. Гарамаск полоснул по мясистым лапам шпорами-кинжалами, а потом со всей силы по морде зверя — и еще раз, и еще, и еще, не останавливаясь, пока тот висел. Лапы соскользнули, и животное съехало вниз по скале. И все же оно было такое огромное, в нем было так много крови и мышц, что царапины, нанесенные человеком, не могли серьезно повредить зверю.
— Медведь, ты глупый увалень, точнее, большой глупый увалень, — заговорил Гарамаск. — Что-что? У тебя есть в резерве что-то еще? Еще больше выделений для усиления смрада? Что ты сделаешь, медведь?
Риксино снова встал на дыбы и разинул огромную пасть. И теперь от него разило влиянием на ином уровне.
— Папа Гарамаск, не свались! — крикнул Чаво. — Не упади в пасть Риксино!
— Что ты несешь? Зачем мне падать медведю в пасть? — удивленно спросил Гарамаск. — Медведь-медведь, ты задействовал свой резерв, не так ли? Кто ты — гипнотизер-самоучка? Это поможет тебе добыть птичку или лишнюю козырную карту, но не человека. Вруби свой резерв, медведь, на полную мощность! Тебе никогда не зачаровать Гарамаска настолько, чтобы он свалился тебе в пасть.
И Гарамаск полетел вниз головой прямо в пасть Риксино.
Сверху донесся еще один крик, устрашающий и истеричный, и вниз грузно скатилось третье тело. Из недр Риксино вырвался мучительный стон, и Гарамаск почувствовал, как затрещали его кости. Но он не умер в одно мгновение. Ему помог шип на голове. Его налокотные кинжалы, когда он влетал зверю в пасть, тоже выполнили свою кромсающую службу. Потом Гарамаска сдавило со всех сторон, и его голова начала раскалываться. А потом давление прекратилось — поглощающий его космос обмяк.
Некоторое время спустя Гарамаск продолжал подниматься к вершине горы Гири. Он был жив, более или менее, ошеломлен и не мог отдышаться из-за нехватки кислорода. Была ли схватка с Риксино галлюцинацией, вызванной кислородным голоданием? Чаво издавал обычный раздражающий шум. Но схватка не была галлюцинацией.
— Я спас тебе жизнь, Папа Гарамаск, — загремел Чаво. — Разве я не замечательный? Я убил Большого Риксино ударом в шею, пока он тужился, чтобы раздавить тебя в глотке. Большой Риксино может думать только о чем-то одном в каждый момент, а Большой Чаво может очень быстро пробивать ножом даже каменные сухожилия и мышцы, если ему обеспечить свободный доступ. Нет другого способа победить Риксино, кроме как подобным образом с участием двух охотников. Правда, охотник-наживка в пасти почти всегда погибает.
— Ты пытался убить меня, Чаво, после того как Сайнек упал с горы и разбился, — проговорил Гарамаск, задыхаясь. — Почему же ты не позволил Риксино покончить со мной, раз уж желаешь моей смерти?
— Твоя смерть в пасти Риксино не принесла бы нам пользы, — ответил Чаво. — Он пожирает слишком быстро.
— А в ином случае моя смерть принесла бы вам пользу?
— Мертвый, только что умерший или еще умирающий ты принесешь нам величайшую пользу, — произнес Чаво ласковым голосом. — Мертвый или умирающий ты будешь представлять нашу последнюю надежду.
Как раз к закату солнца они достигли вершины Гири, второй горы Тригорья. Они съели горький горный паек, и Чаво обработал раны Гарамаска.
— Если ты выживешь на этой охоте (чего не случится), то сможешь заказать новый нос и снова стать красивым, — сказал Чаво. — Пока же тебе придется жить безносым до самой своей смерти завтра на закате. Или я могу попробовать изготовить тебе суррогатный нос из древесины этого колючего кустарника.
— Не беспокойся, Чаво. Я уже сплю.
Но Гарамаск не заснул. Чаво достал из рюкзака струнный хитур, заиграл свою ужасную музыку и запел.
— Чаво! — окликнул его Гарамаск. — А знаешь, почему жители Испании — есть такая страна в Мире — превратились из самой сильной нации в Европе в самую слабую всего за одно поколение?
— Может, они оскорбили лягушку-бога?
— Нет, у нас нет лягушек-богов.
— Не может быть! Ты уверен? Нет лягушек-богов? Ты разыгрываешь меня.
— Один коварный араб, возмущенный изгнанием арабов из Испании, привез в эту несчастную страну гитару, и та прижилась. В итоге несчастная страна пала, ее когда-то благородная душа усохла до жалкой плаксивости.
— Понимаю, Папа Гарамаск, — отозвался Чаво, по-прежнему бренча. — Они пали, как если бы благородные рогха должны были пасть, чтобы стать нами, оганта.
— Хорошая аналогия, Чаво. А некогда в Тихом океане Мира существовало благородное королевство Гавайи. Один морской дальнобойщик привез туда гитару — и вскоре благородное королевство умоляло, чтобы его колонизировала сухопутная нация.
— Да, конечно, это возымело бы эффект, Папа Гарамаск. Мы, оганта, согласились бы на такую колонизацию с радостью, но нет никого, кто принял бы нас.
— Моя родина, Конгломерат Штатов, пала аналогичный способом, — печально произнес Гарамаск. — А когда-то была благородная страна.
— Благородные рогха, ясное дело, презирали инструмент, — посетовал Чаво. — Но для нас он — Шетра, святая вещь. Он наша религия и наша любовь.
— Он — источник шума общепризнанной неполноценности во всех смыслах.
— Это само собой, Папа Гарамаск. А кто более неполноценный, чем мы, оганта? Но мы откажемся от него, обещаем, если когда-нибудь будем способны отказаться, оставаясь оганта.
— Ох, ложись спать, Чаво!
— Ты сказал, что в твоем мире нет лягушек-богов, зато есть простые лягушки. А у нас, наоборот, есть лягушки-боги и нет простых лягушек, за исключением привозных. Маленьких импортных лягушек. Самая большая из них легко уместится на двух ладонях. Иногда я размышляю о лягушках Мира. Насколько они велики, Папа Гарамаск? Такие же, как большой Риксино?
— О, нет. У тебя совершенно неверные представления, Чаво. Лягушки в Мире точно такие же, как и те, которых поставляют из Мира сюда. Для большинства из них хватит одной ладони.
— Ты уверен? Они меньше, чем я? Даже меньше, чем ты?
— Да нет же, Чаво. Они совсем маленькие. Я часто задавался вопросом о лягушачьем культе Паравата. В чем его суть?
— Ты опять разыгрываешь меня, Папа Гарамаск. Обязательно должны быть лягушки большого размера. Как же иначе? Лягушка самое чудесное существо на свете! Она единственная способна совершать лягушачий прыжок без труда. Может быть, эта способность когда-нибудь возвратится и к нам!
— Спи, чертов болван.
Чаво глубоко вздохнул.
— Я все время думаю о лягушках, — пробормотал он. И вскоре, похоже, заснул.
Потом пришел Элин, более разреженный и более нереальный, чем во время предыдущих сеансов.
— Орла-кондора Шасоуса не очень трудно убить, — сказал Элин. — Он атакует, когда ты будешь висеть на отвесной скале. Самый удобный момент для нападения. Если ты подстрахуешься веревкой и не поддашься страху, у тебя будет хороший шанс. Если сможешь, сверни ему шею, как курице, ибо курица он и есть. Он будет рвать тебя на куски, чтобы добраться до почек и селезенки. Не позволяй ему этого! Он постарается выклевать тебе глаза. Не дай ему это сделать! По крайней мере не оба глаза — иначе ты проиграл.
— Элин, я пойду до конца, как и ты, — сказал Гарамаск. — Я не хуже тебя. Скажи, что за тайна в конце, которую ты не успел раскрыть? Что особенного в последней жертве — Батер-Джено? К чему ты шел, Элин?
Но призраки, как известно, туги на ухо.
— Постарайся ослабить мост, после того как ты им воспользуешься, и следи за своим затылком, — посоветовал мертвец Элин. Потом он стал еще прозрачней и исчез.
И снова Гарамаск проснулся легко и быстро в предрассветных сумерках. Лицо и шея болели не так сильно, как накануне. Несмотря на отсутствие одного уха и носа, он был счастлив. Он вознес свое сердце навстречу утру и с удовольствием отвесил пинка Чаво, ибо тот не ранняя птаха.
Они съели горький горный паек, прикрепили кинжалы, когти и шипы, надели защитные доспехи и начали подъем на гору Биор, третью и самую высокую гору Тригорья. Биор, крутая, местами отвесная, походила на саблю, поднимающуюся из ножен, которыми служила гора Гири.
Впереди их ждал иной вид охоты и восхождение в иной стихии.
Их окружали наклонные скользкие поверхности скал, растущая под углом скользкая трава и стелющийся лишайник. Траву и лишайник поедали грызуны и травяные змеи, которые лениво ползали по камням. С высоты пикировали большие птицы и поедали грызунов и змей. Самой большой из этих птиц был Шасоус, орел-кондор.
— У шасоусов та же иерархия, что и у двух предыдущих тварей: множество особей и одна из них главная? — спросил Гарамаск.
— Да, атаковать будет сам Шасоус, другие не будут. Нам нужно бояться Большого Шасоуса, который гнездится на третьей луне.
— Блаженный магледун! А где гнездятся другие шасоусы?
— На второй луне. Менее благородные из крупных птиц гнездятся на первой луне, а всякая мелочь — на самом Паравате. Мне говорили, в Мире нет таких больших птиц, как Шасоус.
— Таких больших, как эти три, парящие над нами? Таких нет. Они шасоусы?
— Нет, Папа Гарамаск, они из менее благородных птиц, это птицы сейер. Взобравшись немного выше, мы доберемся до охотничьих угодий Шасоуса. Сейчас я поднимусь, здесь опасный участок, и спущу веревку. Впереди у нас много таких участков.
Неуклюжий Чаво умел лазить по скалам. Он прилип к нависающей скале как вязкое масло и карабкался со всеми своими доспехами, уверенно цепляясь за камень, скользкий от лишайника.
Через сорок метров он скинул веревку, и Гарамаск поднялся с ее помощью — очень утомительное занятие.
— Что удержало тебя от того, чтобы отпустить веревку вместе со мной? — спросил Гарамаск, когда они добрались до следующего намека на выступ в скале.
— Стал бы оганта осквернять святость веревки.
Это был очень долгий и трудный день. Гарамаск много раз поднимался по длинной веревке на вселяющие страх выступы над бездной. Синевато-серые облака внизу укрыли Парават от прямого взгляда. Трава и лишайники выглядели здесь крепче, их корни разрушали скалы, делая те рыхлыми и опасными. Грызуны и змеи стали крупнее, а поохотиться на них пикировали с пустынного неба более крупные птицы. Ошеломительная высота при отсутствии страховки порождала восторг, исполненный ужасом. Первая луна с рябой поверхностью, неуместная на дневном небе, казалась ближе, чем проблески Паравата внизу. На самом деле расстояние до маленькой первой луны было всего лишь в восемь раз больше, чем до Маунтин-Фут.
— Вверху много шасоусов, — сказал Чаво, когда они переводили дух на еле заметном выступе, почти что полосе выцветшего камня. — Но среди них нет самого Шасоуса. Хотя он появится очень скоро.
Гарамаск преодолел вслед за Чаво несколько очень тяжелых пролетов, стараясь полагаться не только на веревку. А потом над ними замаячил длиннейший и сложнейший отвесный участок, который, Гарамаск знал, ему нипочем не одолеть.
— Снова веревка, Чаво, — сказал он. — Ненавижу зависеть от тебя. Сможешь взобраться по этой стене?
— Смогу. Это самое трудное место. Но сначала я должен кое-что сказать. Именно здесь, когда ты будешь подниматься по веревке, состоится схватка с Шасоусом. Сейчас он далеко, просто неподвижная черная точка в небе, спит на сложенных крыльях. Но он спит с одним открытым глазом и все видит. Он атакует тебя на середине пролета. Будет вырывать из тебя куски мяса, чтобы добраться до почек и селезенки, и выклевывать глаза.
— Меня уже предупредили об этом, Чаво. Вспоминаю птиц из легенды, поедающих селезенку и печень у человека, прикованного навечно к скале.
— Я подозреваю, Папа Гарамаск, что птицы Мира и боги Мира едят селезенку, чтобы пройти через стадию превращения. Здесь же нам требуется другая пища.
Чаво, удивительный оганта-скалолаз, полез вверх по самому длинному и опасному участку, перетекая как масло вверх по скале. Он несколько раз исчезал из поля зрения и появлялся вновь, следуя контуру скалы, потом он, похоже, добрался до реальной основы. Тут же сверху упал тонкий шнур, метров сто длиной, и Гарамаск начал изнурительный подъем.
К середине пути он устал и натер руки, когда услышал свист с неба. Это рассекали воздух крылья Большого Шасоуса, мчащегося прямо к нему. Гарамаск обмотал ноги веревкой так, чтобы она поддерживала его, и ждал атаки, отблескивая металлом кинжалов и шипов.
— Как Прометей, прикованный к скале перед атакой огромных птиц! — сказал он. — Теперь понимаю, что он был прикован к скале высоко в небе.
Размах крыла у Шасоуса был метров двадцать, огромную голову венчал серповидный клюв. Тело птицы по размеру было сравнимо с телом человека.
Шасоус без промедления полоснул Гарамаска клювом по нижней части живота, нанеся глубокую рану, а Гарамаск оставил птице еще более глубокий разрез на задней части головы. Веревка завертелась, увлекая за собой человека. Во второй заход Шасоус неглубоко рассек спину Гарамаску, а встречный удар, снова более эффективный, опять пришелся по голове птицы. В новый заход Шасоус распорол Гарамаску бок, вскрыв таким образом его от носа до кормы, задержался там и, возможно, съел кусочек селезенки. Но Гарамаск вонзил кинжал птице в голову, и Шасоус закачался в воздухе.
— Теперь ты мой, — взревел Гарамаск. — Ты подыхаешь на лету. Но сейчас ты сделаешь последний заход, и целью будут глаза. Ты вырвешь их, не так ли? «Не дай ему сделать это с обоими глазами, или проиграешь», — сказал мертвец Элин. Ко мне, цыпа! Пришел твой черед.
Шасоус ударил по глазам Гарамаска, и что-то заскользило вниз по щеке человека. Было ли это веко, кусок плоти или само глазное яблоко, Гарамаск не знал. Он вонзил когти в горло Шасоуса, в длинную упругую шею, сухую и твердую, как кабель. Гарамаск напрягся изо всех сил, и сухожилия поддались. В следующий момент они уступили полностью. Человек свернул Шасоусу шею, как курице, ибо курицей тот и был. И большая смертельно раненая птица упала кувыркаясь в синевато-серые облака внизу.
— Я распорот как консервная банка, — пробормотал Гарамаск, — но из раны ничего не свисает. Я всегда был крепким на внутренности. Снова подъем наверх, и найти четвертую жертву, которая пока остается тайной для меня и стала причиной смерти Элина.
Итак, Гарамаск завершил очень утомительный подъем по веревке. Наверху его встретила глупо ухмыляющаяся физиономия Чаво. Они стояли на вершине горы Биор, последней горы Тригорья.
— У меня приятный сюрприз для тебя, — загудел Чаво. — Я приготовлю его, пока ты отдыхаешь.
— У меня два сюрприза для тебя, — отозвался Гарамаск, — и они будут готовы в должное время.
«Постарайся ослабить мост, после того как ты им воспользуешься, и следи за своим затылком», — сказал мертвец Элин. Чаво был занят подготовкой сюрприза. Гарамаск ослабил мост — надрезал веревку, по которой поднялся. Он не оборвал ее совсем. Она все еще выдержит, как он надеялся, его вес при спуске, если он неправильно все понял и если не придется искать другого пути вниз. Но теперь веревка вряд ли выдержит вес, в несколько раз превышающий его собственный.
— Я припаиваю устройство к глубоко сидящему валуну, — объяснил Чаво. — Вы из Мира ничего не смыслите в пайке камня, зато ты не сможешь оторвать устройство, чтобы скинуть его с горы, и ты не заставишь его замолчать.
— А у меня сюрприз собственной разработки, — отозвался Гарамаск. Он срезал небольшое деревце телеор и теперь зачищал его когтями. — Мы на вершине горы Биор, Чаво, и это небольшая ровная площадка. Здесь никого нет, кроме нас. Где четвертая жертва — Батер-Джено, называемая также скальной обезьяной или человеком-лягушкой?
— Батер-Джено здесь, — ответил Чаво. — Признаки его присутствия столь же очевидны, как и признаки Риксино ниже по склону.
Гарамаск наспех срезал кусок веревки с рюкзака Чаво, когда раздался звук, даже более невыносимый, чем смрад Риксино. Веревкой Гарамаск примотал к концу телеорового шеста кинжал, снятый с одного из колен. В это время вокруг перекатывались мерзкие волны тошнотворной какофонии оганта. Чаво припаял воспроизводящее устройство к камню, зато у Гарамаска теперь было достаточно длинное копье.
— Ты не сможешь выключить музыку, Папа Гарамаск, — засмеялся Чаво. — Наслаждайся ею в свой последний час. Батер-Джено здесь. Это я. Или ты. Иди сюда, и мы выясним, кто из нас.
Гарамаск ударил Чаво торцом телеорового копья. Чаво даже не заметил. Тогда Гарамаск ткнул острием в грудь Чаво, прямо под лату, защищающую шею.
— Ты нарушил оружейный кодекс, — обиделся Чаво.
— Совсем нет, Чаво. Я выброшу копье и даже сражусь с четвертой бестией, но только после того, как мы поговорим. Если и правда близок мой час, я не хочу уйти в непонятках, как Элин. Теперь быстро, Чаво. Говори! Где сейчас Окрас, убийца Элина? Он умер?
— Умер? Нет, Папа Гарамаск, он преобразился. Окрас стал Треораем, благородным рогха. Ты беседовал с ним. Это он съел задний мозг твоего друга Элина, в результате чего произошла трансформация.
— Чаво, эта чертова музыка и вытье сведут меня с ума! Что за дикости ты рассказываешь? Оганта становится рогха? Вы одного и того же вида?
— Отбрось неприязнь к моей музыке, Папа Гарамаск, и наслаждайся. Мы одного и того же вида: благородные рогха и неблагородные оганта. Мы превращаемся в рогха, хотя с некоторых пор этого больше не происходит. Мы потеряли способность совершать лягушачий прыжок, кроме как под действием специального стимула.
— Седьмой круг ада! Такой же шум, как и там. Господи, не дай пасть так низко! Что за лягушачья тайна, болван? Рассказывай.
— Лягушачий прыжок — это наша трансформация из оганта в рогха. Какое еще существо, кроме святой лягушки, может изменять форму столь невероятно и внезапно? Чужаки уверены, что мы две различные расы, так же как они были бы уверены, что головастик и лягушка — два различных вида. Мы почитаем лягушку как высший символ, олицетворяющий нас самих.
— Что пошло не так, болван? Что случилось с трансформациями? Какие трудности в настоящий момент? Объясни. Милое копье, не правда ли?
— Милое копье, Папа Гарамаск, но оно вне правил. Трудности… скорее, катастрофа. В течение ста эквивалентных лет ни один оганта не обратился в рогха без специального стимула. Мы рождаемся как оганта и проживаем наши жизни как оганта, не способные поддерживать высокий уровень цивилизации рогха. Мы потеряли нашу взрослую форму и пытаемся обрести ее снова.
— Каким образом, Чаво? Что требовалось убийце Элина для этого? Как оганта Окрас стал рогха Треораем? Какой специальный стимул он использовал?
— Поедание затылочной части мозга рогха способствует трансформации оганта в рогха, если оба сильны и дееспособны. Мы рассчитали, что там достаточно мозга, чтобы трансформировать четырех оганта. Еще мы обнаружили (точнее, это обнаружил Окрас в процессе превращения в Треорая), что поедание затылочной части мозга некоторых достаточно развитых людей Мира тоже способствует трансформации — таких людей, кто сумеет продержаться на горной охоте до четвертой твари.
— Лежи тихо, болван! Я же проткну тебя насквозь. Что будет дальше с Треораем, который был Окрасом, убившим Элина?
— То же, что случится с Чаво, убийцей Папы Гарамаска. Время Треорая истекло, как истечет мое через аналогичный промежуток времени. У Треорая было два эквивалентных года, чтобы расти в мудрости как рогха. На этой самой неделе (он не будет знать точного времени) на него нападут и убьют, и его затылочный мозг будет съеден.
— Мертвец Элин посоветовал мне внимательно следить за своим затылком, — задумчиво проговорил Гарамаск. — Однако Окрас-Треорай не умрет так просто. Закончив здесь, я спущусь и арестую парня за убийство, как того требует закон.
— И вместо одного рогха будет четверо, — продолжал Чаво, как будто не слыша Гарамаска. — По этой схеме мы восстановим численность рогха и сократим время ожидания. Когда рогха станет достаточно, они, используя свою мудрость, сумеют разобраться, почему трансформации дали сбой, и найдут менее абсурдный способ поддерживать свою численность. И ты тоже, Папа Гарамаск, сделаешь благое дело, умерев сегодня на закате. В результате твоей смерти возникнут четыре новых рогха.
— Ты сам нарушаешь кодекс, Чаво. Умирающий или только что умерший, я принесу тебе благо. Тебе одному? Или четверым таким, как ты? Я слышу, как три твоих компаньона поднимаются по веревке прямо сейчас. И ты уверен, что получишь меня свеженьким? Удержит ли веревка троих, как ты думаешь, Чаво?
— Удержит. Папа Гарамаск, ты же не нарушил еще и кодекс веревки?
— Лежи тихо, болван. Называй это как хочешь. Ага, они приближаются, но я не буду резать веревку еще раз. Остаюсь на своей ставке. Веревка трещит, Чаво, пока немного, а первый из них уже так близок к вершине! Веревка трещит сильнее! Она рвется! Она лопнула! Они упали, Чаво!
Оганта шумно всхлипывал на земле, оплакивая смерть друзей, а абсолютная неуместность грохочущей записи создавала атмосферу панихиды, соответствующую случаю. Гарамаск зло рассмеялся и убрал копье с груди Чаво. Он отвязал наколенный кинжал и вернул его на законное место. Потом посмотрел на оганта.
— Вставай, Чаво. Как же зовут четвертую жертву?
— Это ты, скальная обезьяна, Папа Гарамаск, ибо люди Мира кажутся нам смешными, поэтому мы вас так называем. А может, это я, человек-лягушка, если убью тебя здесь и сейчас, съем твой мозг и исполню лягушачий прыжок. Мы бьемся, Папа Гарамаск, и я съедаю твой мозг! Слушай запись моего боевого гимна. Тебе не выключить его! Разве не здорово он орет?
— Чертовы вечные подростки! — проревел Гарамаск, когда они сошлись в бою не на жизнь, а на смерть. — Неприязнь между нами с самого сотворения мира! Я раздавлю тебя! Задушу струной с твоего хитура.
— Папа Гарамаск, ты врешь насчет размера лягушек. Я стану очень большой лягушкой здесь. Очень скоро.
Они дрались на закате дня на вершине скалы высоко в небе, скрипя зубами и рассекая воздух лезвиями в эсхатологической ярости. Один из них будет мертв, когда погаснут последние лучи солнца.
Перевод Сергея Гонтарева
«Первая Междугородняя»
— В 1907 году я достиг совершеннолетия и получил доступ к приличному по размеру наследству, — начал рассказ старик. — Мне хватило ума понять, что я мало что смыслю в инвестициях. Поэтому я обратился к хорошо осведомленным людям за советом, куда вложить наследство.
Я поговорил с банкирами, скотоводами и новыми нефтепромышленниками. Эти парни не промах. Они смотрели в будущее, и все их мысли и чаяния были о приумножении капитала. В тот год образовалось наше государство, и над новой страной витал дух процветания, в которое я и желал вложить родовые деньги.
В конце концов я сузил инвестиционный выбор до двух компаний с примерно одинаковыми, как мне тогда казалось, перспективами, хотя сегодня такое сравнение способно вызвать только улыбку. Первой из них была акционерная компания некоего Харви Гудрича, связанная с торговлей каучуком, поэтому, учитывая рост популярности новомодного автомобиля, логично было предположить, что резина станет товаром будущего. Второй из них была транспортная компания, планировавшая проложить железную дорогу между небольшими городками Кифер и Моундс. Также она намеревалась (в перспективе) бросить ветки на Гленпул, Биксби, Кельвиль, Слик, Бристоу, Беггз и даже в Окмулги и Сапульпу. В тот момент казалось, что у этих небольших междугородних линий может быть большое будущее. Междугородка уже функционировала между Тулсой и Сэнд-Спринг, и еще одна ветка строилась между Тулсой и Сапульпой. Всего по стране действовало более тысячи этих маленьких троллейных дорог, и вдумчивые люди верили, что когда-нибудь все это разрастется до масштабов общенациональной сети и, возможно, станет главной транспортной системой.
Но в тот год старик Чарльз Арчер был еще юношей. Он выслушал Джо Элайза, банкира из маленького, но быстро растущего, городка:
— Задали вы мне загадку, молодой человек, — сказал Элайз. — Мы прикупили бумаги обеих компаний, рассчитывая получить от каждой курочки по яичку. Я начинаю думать, что мы ошиблись. Перспективы этих компаний — это два варианта будущего, и только один из них реализуется. После открытия в нашей стране новых месторождений нефти может казаться, что следует отдать предпочтение резине, которая завязана на автомобиль, который завязан на топливо, производимое из нефти. Но не обязательно. Я уверен, что основное предназначение нефти — снабжение новых заводов энергией, поэтому я считаю, что резина уже переоценена в части ее промышленного применения. А кроме того строится новая транспортная система. Между лошадью и магистральными железными дорогами грандиозный разрыв. Я абсолютно уверен, что от лошади откажутся, как от главного способа транспортировки. Мы больше не выдаем кредитов ни производителям карет и телег, ни изготовителям упряжи. А в автомобиль я не верю. Он разрушает что-то во мне. Междугородка придет в маленькие городки и так разрежет магистральные железные дороги, что оставит не более полудюжины протяженных линий в Америке. Юноша, я бы с полной уверенностью вложил деньги в междугородку.
Чарльз Арчер выслушал скотовода Карла Бигхарта:
— Скажи, юноша, сколько голов крупного рогатого скота войдет в автомобиль? Или даже в то, что они называют грузовиком или фургоном? А теперь скажи, сколько войдет в вагон для перевозки скота, который можно прицепить к любому составу на любой междугородней линии? Междугородка станет для нас, скотоводов, спасением. По правилам мы не можем гнать скот даже 20 миль до железной дороги; но маленькие междугородки протянутся вглубь территории, проходя через каждую вторую или третью милю. Скажу тебе еще одну вещь, молодой человек: у автомобиля нет будущего. Мы не можем позволить себе такой путь развития! Рассмотрим человека верхом на лошади, — а я провел верхом на лошади большую часть жизни. Ну, в целом это хороший человек, но он меняется, как только взбирается на лошадь. Любой наездник становится высокомерным, каким бы вежливым он не был на земле. Знаю это по себе и другим. В свое время человек на лошади был нужен, однако, я уверен, это время заканчивается. От человека верхом на лошади всегда исходила повышенная опасность. Но человек на машине, поверь мне, юноша, в тысячу раз опаснее. Милейший в быту человек напускает на себя невероятное высокомерие, стоит только ему сесть за руль автомобиля, и это высокомерие станет еще больше, если позволить машины более мощные и более изощренные. Уверяю тебя, распространение автомобиля породит в человеке абсолютный эгоизм. Породит насилие в масштабах, невиданных прежде. Обозначит конец семьи, какой мы ее знаем, — три или четыре поколения, живущие в одном доме. Разрушит добрососедские отношения и само чувство единой нации. Разрастутся громадные язвы городов, фальшивое изобилие пригородов, произойдет разрушение традиционного сельского уклада и вредная концентрация специализированного сельского хозяйства и производства. Это породит отрыв человека от своих корней и безнравственность. Сделает каждого деспотом. Я уверен, частный автомобиль будет выдавлен из жизни. Должен быть! Это нравственная проблема, а мы нравственная нация; мы предпримем высоконравственные действия против него. А без автомобиля резина не имеет никаких перспектив. Делай ставку на акции междугородки, юноша.
Молодой Чарльз Арчер выслушал нефтепромышленника Нолана Кушмана:
— Не стану тебе врать, парнишка, я люблю автомобиль, моторизованную карету. У меня их три, изготовлены на заказ. Когда я за рулем, я император. Черт, я император в любом случае! Летом я приобрел замок, в котором жили императоры. Я перевез его, камень за камнем, на свою родину в Оусэйдж. Теперь, что касается автомобиля, я вижу, как следует его усовершенствовать. Сначала — улучшить дороги, сделав их ровнее, с покрытием из щебня или бетона, а потом — машины, сделав более низкими и более быстрыми. Мы бы так их и усовершенствовали, будь мы какой-нибудь другой расой, не людьми. Это логичное развитие, но я надеюсь, что этого не случится. Это привело бы к широкому распространению автомобиля, а человечеству нельзя доверять такую мощь. Кроме того, мне нравятся большие машины, и я абсолютно не желаю, чтобы их было много. Владеть ими нужно позволить только людям чрезвычайно богатым и способным. Что случится, если даже рабочим разрешить пользоваться машинами? Это будет катастрофа, мир превратится в ад, если они попадут в руки обычных людей и все станут такими же высокомерными, как я! Нет, автомобиль никогда не будет ни чем иным, кроме как предметом гордости богачей. Каучук останется ограниченным придатком к этому особому изделию. Инвестируй в свою междугородку. Это наше будущее, в противном случае грядущее меня страшит.
Молодой Чарльз Арчер понял, что мир стоит у развилки. От выбора направления будет зависеть судьба страны, мира и человечества. Он глубоко задумался. Потом принял решение, пошел и вложил все деньги.
— Я взвесил оба варианта и сделал выбор, — закончил рассказ старик Чарльз Арчер. — Я вложил все, что у меня было, — 35 тысяч долларов, солидная сумма по тем временам. Результат вам известен.
— Я часть этого результата, прадедушка, — заметила Энджел Арчер. — Если бы ты вложил деньги по-другому, то изменил бы свое финансовое положение, женился бы иначе, и я бы была другой или вообще не родилась. Мне нравится, какая я есть. Мне нравится все в моей жизни.
Трое решили прокатиться ранним субботним утром: старый Чарльз Арчер, его правнучка Энджел и ее жених Питер Брэйди. Они ехали через квази-город, богатую сельскую местность. Ветка, по которой они следовали, не была основной, но даже она открывала красоты (частично естественные, частично придуманные), волнующие и одновременно умиротворяющие.
Вода, постоянно рядом с железнодорожным полотном, вот в чем секрет! Пруды с карпами — один за другим. Станции разведения рыбы. Танцующие по камням ручьи, которые в менее просвещенную эпоху могли бы быть не более чем сточной канавой или чередой болот полосы отчуждения. Мелкие и быстрые ручьи, в которых мальчишки ловили крупную форель.
Вокруг густой кустарник: сумах, гамамелис, лавровый сассафрас — благовонные деревья, которыми они могли почти быть. И сами огромные деревья: пекан, гикори и черный орех, — высокие колонны на заднике сцены; а между ними деревья поменьше: ивы, тополя, платаны. Якорцы, осока и тростник торчали из самой воды, а высокая суданская трава и бородач покрывали берега. И всю дорогу — клевер и запах влажного донника.
— Мое решение было ошибочным, — добавил старый Чарльз Арчер, в то время как мимо проплывал благоустроенный ландшафт. — Сегодня понятно, насколько нелепым оказался мой выбор, но я был молод. По прошествии двух лет компания, в акции которой я вложился, обанкротилась, и я потерял все. Так я избежал раннего и легкого богатства, зато приобрел ироническое хобби: я отслеживал курс акций компании, в которую побоялся инвестировать. Акции, которые я мог купить на свои 35 тысяч, сегодня принесли бы мне 9 миллионов долларов.
— Ах, не стоит говорить о грустных вещах в такой прекрасный день, — запротестовала Энджел.
— Они слышали еще одного этой ночью, — произнес Питер Брэйди. — Они слышали его несколько раз в течение недели, но пока не поймали.
— Я всегда хотела, чтобы их не убивали после поимки, — вздохнула Энджел. — Мне кажется, это не совсем правильно.
Девочка-пастушка собирала в кучу белых галдящих гусей, пожирающих сорняки на полях зеленого лука. Цветущая листовая капуста полыхала зелено-пурпурным, а стебли окры торчали, целясь в небо. Коровы джерсейской породы паслись по обочинам железнодорожного полотна, покрытого узорчатым пластиком, по рисунку почти не отличимым от травы.
Облака желтой пыли в воздухе. Пчелы! Искусственная порода, у которой нет жала. Но самой пыли не было. Никакой пыли больше вообще!
— Отыскать бы и ликвидировать тех, кто клепает драндулеты, — сказал старик Чарльз Арчер. — Блокировать яд в источнике.
— Их слишком много, и денег замешано много, — отозвался Питер Брэйди. — Да, мы убиваем их. Одного нашли и убили в четверг. И уничтожили три почти готовых драндулета. Но у нас не получается ликвидировать их всех. Такое впечатление, будто они лезут из земли, как змеи.
— Я не хочу, чтобы их убивали, — повторила Энджел.
Ярко раскрашенные фляги с молоком стояли на погрузочной платформе молочного депо. Куры громко протестовали в девятиэтажных клетках, ожидающих отправки, но им никогда не приходилось ждать долго. Здесь — десятки тысяч яиц в рефрижераторном отделении; там — выводок поросят или розовых бычков.
Саженцы томата были подвязаны к шестам двухметровой высоты. Кукуруза стояла еще не выпустив кисточки. Они миновали огуречные лозы и лозы с дыньками канталуп, потом сине-зеленые холмы с рядами картофеля. Ах, виноградники на тесных акрах, поля люцерны, живые изгороди из оранжевой маклюры и боярышника. Ботва моркови ткала живое зеленое кружево. Скот пасся на полях, засеянных кашкой и земляным орехом. Мужчины косили сено.
— Я слышу его! — внезапно произнес Питер Брэйди.
— Навряд ли. Сейчас же день. Не морочь себе голову, — возразила Энджел.
В прудах возле пути и в прудах возле ферм утки искали корм, опуская головы под воду. Дубы подпирали небо в придорожных парках. Овцы жевали сено из кормушки, которая возвышалась над их головами; они казались маленькими белыми островками на ее фоне. На небольших стендах были выставлены местное вино, шоколадное пиво и сидр на продажу наряду с известняковыми скульптурами и раскрашенной резьбой по дереву. Козлята на погрузочной платформе скакали по небольшим почтовым металлическим ящикам, а козы лизали пласт аспидного сланца в поисках дополнительных минералов.
Субботние путешественники миновали придорожный ресторан, в котором столики стояли прямо под листвой деревьев и под навесом небольшой скалы. Метровой высоты водопад плескал водой в центре заведения, двухметровой длины мост, сложенный из сланцевого камня, вел на кухню. Их взгляды метались по никогда не надоедающим видам богатого и такого разнообразного квази-города. Виды железнодорожного полотна, проплывающие мимо хозяйства, участки земли, отведенные под ягоды! По сезонам: ирга, черника, голубика, дикая малина, бузина, клюква, красная малина, девять сортов ежевики, ежемалина, малижевика, клубника, крыжовник.
Фруктовые сады! Разве может быть фруктовых садов много? Слива, персик, песчаная слива и дикая вишня, черешня, яблоня и яблоня-дичка, груша, папайя, хурма, корявая айва. Дынные бахчи, скопления ульев, участки разносолов, сыроварни, посевы льна, сбившиеся в кучу деревеньки (по 20 домов в каждой, по двадцать человек в доме, двадцать небольших поселений на каждую милю пути), сельские забегаловки, а также клубы по интересам, уже открытые и заполненные посетителями с самого утра; придорожные часовенки с местными скульптурами и с коробками «богатый-бедный» (бросаешь монету в верхнюю прорезь, если у тебя есть лишние деньги и настроение поделиться, или выуживаешь монету снизу, если нуждаешься в ней), небольшие холодильные ниши с хлебом, сыром, говяжьим рулетом и обязательным початым бочонком деревенского вина: голодных на дороге не будет больше никогда!
— Я слышу тоже! — громко объявил старый Чарли Арчер. — Высокий звук, и движется влево. И запах выхлопного газа и… фу… резины. Кондуктор, кондуктор!
Кондуктор тоже услышал, как и другие в салоне. Он остановил вагоны, чтобы прислушаться. Потом он доложил по телефону и передал как можно более точные координаты места, консультируясь с пассажирами. Пересеченная местность, уходящая влево, скалы и холмы, — кто-то гонял там на автомобиле в разгар ясного дня.
Кондуктор выломал винтовки из оружейного шкафа, передал их Питеру Брэйди и еще двум юношам в вагоне, потом отнес по три винтовки в два других вагона. Мужчина авторитетного вида взял на себя связь, переговариваясь с людьми, находящимися левее от них, с другой стороны от свихнувшегося водителя, и они зажали его в тиски, оцепив пространство протяженностью не более полумили.
— Энджел, ты остаешься, и ты, дедушка Арчер, — приказал Питер Брэдли. — Здесь есть небольшой тридцатый карабин. Воспользуйтесь им, если безумец приблизится на расстояние выстрела. Сейчас мы его выследим.
Затем Питер Брэйди побежал за кондуктором и вооруженными мужчинами, — десять человек, несущие смерть. Еще четыре группы присоединились к охоте, стягиваясь к завывающей, кашляющей цели.
— Зачем нужно их убивать, прадедушка? Почему просто не отдать под суд?
— Суды слишком снисходительны. Максимум, что они дают, пожизненное заключение.
— Ну и хорошо, этого должно быть достаточно. Они больше не смогут ездить на машинах, а кто-то из несчастных даже может быть реабилитирован.
— Энджел, они величайшие взломщики тюрем. Всего лишь десять дней назад безумец Гадж прикончил трех охранников, перебрался через стену тюрьмы штата, оторвался от погони, ограбил сыродельный кооператив на 15 тысяч долларов, обратился к тайному изготовителю драндулетов и уже через 30 часов после побега гонял на машине по пустынным местам. Через четыре дня его нашли и убили. Они невменяемы, Энджел. Психушки переполнены ими. Ни одного из них не удалось реабилитировать.
— Что плохого в том, что они ездят на машинах? Обычно они ездят по очень пустынным местам пару часов глубокой ночью.
— Их безумие заразно, Энджел. Их высокомерие не оставит места ни для чего другого во всем мире. Наша страна находится в состоянии равновесия. Наш обмен информацией и путешествия — незначительны и почти идеальны, благодаря замечательным троллеям и тем, кто на них работает. Все мы соседи, одна семья! Мы живем в любви и сочувствии, почти без разделения на богатых и бедных. Высокомерие и ненависть ушли из наших сердец. У нас есть корни. И вагончики. Мы — одно целое с нашей землей.
— Кому повредит, если у водителей будет собственное место, где они будут делать, что хотят, лишь бы не беспокоили нормальных людей?
— Кому повредит, если болезнь, безумие и зло получат собственное место? Энджел, они не останутся в отведенных границах. В них дьявольское высокомерие, безудержный эгоизм и отвращение к порядку. Не может быть ничего более опасного для общества, чем человек в автомобиле. Позволь им расцвести буйным цветом, и снова вернется нищета и голод, Энджел, а также богатство и стяжательство. И города.
— Но города — самое чудесное, что есть на свете. Я люблю в них ездить.
— Я не имел в виду наши чудесные экскурсионные города, Энджел. Могут быть города иного, зловещего рода. Однажды они почти подмяли нас под себя, после чего мы ввели ограничения. Они лишены уникальности; простое скопление людей, оторванных от своих корней, высокомерных, обезличенных, людей, потерявших человеческую сущность. Нельзя позволить им ограбить нашу землю и наши квази-города. Мы не совершенны, но то, что в нас есть, мы не предадим ради кучки дикарей.
— Запах! Невыносимый!
— Выхлопные газы. Понравилось бы тебе родиться при этом запахе, прожить в нем каждый момент твоей жизни и умереть в нем?
— Нет, только не это!
Зазвучали ружейные выстрелы — разрозненно, но серьезно. Завывание и кашлянье незаконного драндулета стало приближаться. Потом он возник в поле зрения, подпрыгивающий на ходу, несущийся из района скал на томатное поле прямо в сторону вагончиков междугородки.
Драндулет горел, выделяя ужасный запах горящей кожи и резины, угарного газа и опаленной человеческой плоти. Человек, держащийся за сломанный руль, выглядел безумцем и выл что есть мочи. Он был молод, но с запавшими глазами, небрит, со следами крови на левой стороне головы и левой стороне груди, и источал ненависть и высокомерие.
— Ну, убейте, убейте меня! — хрипло кричал он, и звук его голоса был подобен отдаленному грому. — Будут другие! Мы не перестанем ездить, пока останется хотя бы один пустынный участок и хотя бы один создатель машин!
Человек вздрогнул. Еще одна пуля попала в него. Но он будет умирать, завывая.
— Будь проклят ваш трамвайный рай! Человек в автомобиле стоит тысячу пешеходов! Он стоит миллиона человек, сидящих в троллее! Вы никогда не чувствовали, как черное сердце поднимается в груди, когда берешь на себя управление одним из чудовищ! Вы никогда не чувствовали, как дикая ненависть клокочет в горле, когда ты в упоении глумишься над всем миром из своего трясущегося центра вселенной! Будьте прокляты, пристойные людишки! Лучше я поеду в ад на автомобиле, нежели на небеса в троллейчике!
Переднее колесо с погнутыми спицами лопнуло со звуком приглушенного винтовочного залпа. Драндулет зарылся носом в землю, встал на дыбы, перевернулся и взорвался, выплюнув языки пламени. Но все еще можно было видеть два гипнотических глаза в центре огня и слышать безумный голос:
— Коленчатый вал в порядке, дифференциал не пострадал, создатель сможет снова использовать запчасти, и часть этой машины помчится вновь… ааааааа!
Некоторые напевали, когда трамвайные вагончики уезжали с места происшествия, а некоторые были тихи и задумчивы. Происшествие никого не оставило равнодушным.
— Не могу вспоминать без содрогания, что я когда-то вложил все свое состояние в такое будущее, — вздохнул прадедушка Чарльз Арчер. — Что ж, лучше так, чем жить в таком будущем.
Молодая пара радостно погрузила свои пожитки в багажный вагончик и теперь покидала один из экскурсионных городов, намереваясь пожить у родственников в квази-городе. Население данного экскурсионного города (с его замечательными театрами и мюзик-холлами, изысканными ресторанами и литературными кафе, алкогольными оазисами и развлекательными центрами) достигло 7 тысяч душ — установленный лимит для любого города. О, существовали тысячи экскурсионных городов. Все они восхитительны! Но их размер имел предел. У всего должен быть предел.
Чудесный субботний день. Птицеловы ловили птиц раскладными сетями, прикрепленными к бумажным змеям. Дети ехали бесплатно на спортивные площадки, чтобы играть в бейсбол Троллейной Лиги. Старики везли голубей в клетках, чтобы выпустить их и посмотреть, как быстро они долетят домой. Береговые ловцы собирали креветок в полусоленом озере Малая Креветка. Кавалеры пели под банджо серенады девушкам на травяных лугах.
Мир был песней бронзового гонга, одного на всех, с мелодичным звяканьем вагончиков, обвивающих страну по зеленым рельсам, с искрами, сыплющимися сверху при движении троллея, с отблесками солнца на медных корпусах вагонов. По закону троллейная линия должна была быть через каждую милю, но они проходили чаще. По закону ни одна троллейная линия не могла иметь протяженность более 25 миль. Это должно было создавать ощущение локальности. Но переходы между линиями были выполнены идеально. Если кому-то хотелось пересечь страну, он использовал около 120 различных линий. Магистральных железных дорог не осталось. Они также порождали высокомерие, и им также пришлось уйти в прошлое.
Карпы в прудах, хрюшки в клевере, уникальный коровник или конюшня в каждой деревушке, и каждая деревушка уникальна, пчелы в воздухе, пряности на грядках, и целая страна, сверкающая, как провода над троллеем, и прямая, как рельсы.
Перевод Сергея Гонтарева
Прокатись в жестянке
Это мои записки об очень неприятном деле. Они не форма протеста, потому что протест бесполезен. Холли больше нет, а через день-два погибнут и все шелни, если кто-то из них еще жив. Записки сделаны просто для истории.
Благодаря содействию старика Джона Холмберга, я, Винсент Ванхузер, и Холли Харкел получили финансирование и разрешение на запись фольклора шелни — совершенно неожиданно для нас. Все фольклористы считают Джона своим злейшим врагом.
Я помню его слова:
«В конце концов мы потратили большие деньги, чтобы записать свиное хрюканье, шорохи земляных червей и писки сотен разновидностей грызунов. У нас целые библиотеки голосов птиц и псевдоптиц. Добавим к нашему списку шелни. Я не верю, что их стучание по древесным корням или выдувание воздуха из высушенных тыкв — музыка. Я думаю, что это является языком не в большей мере, нежели скрип дверей. Кстати, мы записали звук свыше тридцати тысяч скрипучих дверей. Так давайте запишем и шелни, раз вам этого хочется. Но вам нужно поторопиться. Шелни почти исчезли.
И еще позвольте мне добавить от всего сердца, что всякий, кто выглядит как мисс Холли Харкел, заслуживает исполнения желания. Всего лишь простая справедливость. К тому же счет оплатит компания по производству завтраков «Поющая свинья». Время от времени эти компании кусает крошечная блоха раскаяния, и тогда они готовы потратить несколько монет на какой-нибудь фонд. Денег никогда не бывает много — блоха раскаяния для этого слишком маленькая. Тем не менее на ваш проект должно хватить, Ванхузер…»
И вот мы получили ассигнования и отправились в путь, я и мисс Холли.
У Холли Харкель сомнительная репутация из-за ее утверждения, будто она понимает язык различных существ. И особенно на нее сердились, когда она говорила, что поймет язык шелни. Вообще-то это странно. Капитан Шарбонне не приобрел дурную репутацию, когда заявил, что понимает обезьян планеты, а если и существовало когда-нибудь вздорное утверждение, то именно это. Не бранили и Мейровича, когда он сказал, что отыскал тайный смысл в расположении экскрементов полевок. Но утверждение гоблинолицей Холли Харкель все сочли невероятным — утверждение, что она не только полностью понимает шелни, но и что они вовсе не низкоразвитые животные, питающиеся падалью, а настоящий народ гоблинов, и у них есть своя гоблинья музыка и гоблиньи песни.
У Холли Харкель душа была слишком велика для тела гнома, а мозг слишком мощный для такой маленькой головы. Я думаю, именно это и делало ее такой неуклюжей. Она целиком состояла из любви, заботы и смеха, и все это выпирало из ее маленькой фигурки. Ее уродливость была совершенно необыкновенной, и, мне кажется, Холли с радостью демонстрировала ее миру. Она любила змей и жаб, любила обезьян и незаконнорожденных и когда изучала их, становилась на них похожа. Когда изучала змей, сама становилась змеей; она была жабой, когда жабы были предметом ее изучения. Она изучала всех существ изнутри. А здесь, даже для нее, оказалось совершенно невероятное сходство.
Холли сразу полюбила шелни. Она сама стала шелни, и ей для этого не пришлось идти очень далеко. Она ходила, бегала и лазила на деревья, как шелни. Она спускалась с деревьев головой вперед, как белка — и как шелни. Мне она всегда казалась немного отличающейся от человека. И теперь она страстно хотела записать фольклор шелни — «прежде чем они исчезнут».
Что касается самих шелни, некоторые ученые называли их гуманоидами и сразу готовились к воплям и ударам. Если шелни и были гуманоидами, то, несомненно, самыми низкими по уровню развития. Но мы, фольклористы, интуитивно знали, кто они такие. Они гоблины, подлинные и настоящие, и прилагательные эти я использую не просто как клише. Самые высокие из них достигали трех футов роста, самым старым было семь лет. Вероятно, это были самые уродливые существа во Вселенной, но уродливость у них была какая-то приятная. В них не было зла. Ученые, изучавшие их, утверждали, что шелни не обладают разумом. Но они дружелюбные и открытые существа. Слишком дружелюбные и слишком открытые, как выяснилось. Их привлекало все человеческое, и это привело их к гибели. Но они были не больше гуманоиды, чем феи или людоеды. И гораздо меньше, чем обезьяны.
— Здесь их логово, — заявила Холли в первый же день (это было позавчера). — Там, внизу, их целый ковен, и вход под корнями этого дерева. Когда я писала докторскую диссертацию по музыке примитивных народов, я и не подозревала, что однажды буду навещать домовых под древесными корнями. И должна сказать, что никогда на это не надеялась. Они многому нас еще не научили. Должна признаться, что в моей жизни был период, когда я не верила в гоблинов.
В это я не поверил.
Неожиданно Холли нырнула в нору в земле, головой вперед, как суслик, как шелни. Я последовал за ней, он осторожно и не головой вперед. Сам я изучал шелни снаружи. Я никогда не мог забраться в их зеленую гоблинью шкуру, не мог овладеть их скрипучим обезьяньим языком, не понимал, почему у них выпучиваются глаза. Я не мог даже почувствовать их логово.
На дне норы, у входа в логово, произошла встреча, в которую я не поверил, несмотря на то, что все видел собственными глазами и слышал собственными ушами. Лягушачий разговор между Холли Харкель и пятилетним стариком, который охранял ковен, и тем не менее разговор происходил на чем-то вроде английского и я его понял.
— Тук, тук (это Холли).
— Перестук (это стражник).
— Вогс и волли.
— Кто ты?
— Холли.
— Есть дело?
— Захотелось.
И нас пропустили. Но если вы думаете, что сможете попасть на ковен шелни, не обменявшись предварительно рифмованным вздором с пятилетним стариком, значит вы никогда у них не были. И хотя филологи говорят, что речь шелни — это набор бессмысленных звуков, эти звуки никогда не были бессмысленными для Холли, да и я иногда понимал их значение.
Холли утверждала, что шелни говорят по-английски в пределах возможностей своего речевого аппарата. А сами шелни при первой встрече рассказали ей, что у них раньше не было языка, «потому что никто его для нас не придумал», поэтому они стали пользоваться английским, как только его услышали. «Мы бы вам за него заплатили, если бы у нас было чем платить», — сказали они. Это лягушачий английский, но только человек с чистым слухом его понимает.
Я включил запись, а Холли начала разговаривать с шелни. Скоро она уже играла на их тыквенных флейтах. Лягушачья музыка. Невыразимо печальная, как песни рака. Мелодия грача, вороны, галки. Приятные небольшие музыкальные отрывки, хотя исполнялись под землей. Трудно представить себе их снаружи.
Мотивы простые и короткие, как всегда у детей. Никакой оркестровки, хотя можно было ее сделать с семью по-разному настроенными флейтами. Но они были совершенны, эти короткие замкнутые мелодии, совершенны по-гномьи. Подземные фуги, полные крови червей, и холодные, как сок корней. Мелодии саранчи, хрущей и кузнечиков.
Потом Холли уговорила одного из самых старых шелни рассказать сказки под музыку флейт. Вот две из них, записанные в первый день. Тот, кто сегодня слушает эту запись, говорит, что слышит только лягушачье кваканье. Но я слушал их вместе с Холли Харкель, она помогала мне понять и перевести, поэтому я и сейчас их понимаю.
Послушайте их, отвратительные потомки! Я не уверен, что вы заслуживаете получить их от шелни.
Как шелни потерял погребальный зуб
Рассказывают так.
Жил некогда шелни, который потерял свой погребальный зуб еще до смерти. Каждый шелни начинает жизнь с шестью зубами и теряет по зубу в год. А когда становится стариком и у него остается только один зуб, он умирает. Он должен отдать свой последний зуб гробовщикам скоки как плату за свое погребение.
Но либо этот шелни потерял за год два зуба, либо прожил слишком долго.
Он умер. А зуба, чтобы заплатить за погребение, у него не было.
— Я не стану тебя хоронить, если ты не заплатишь зубом за погребение, — сказал гробовщик скоки. — Разве я должен работать бесплатно?
— Тогда я сам похороню себя, — ответил мертвый шелни.
— Ты не знаешь как, — сказал гробовщик скоки. — Не знаешь, где осталось место. Ты увидишь, что все места заполнены. У меня соглашение: все должны говорить всем, что места нет, и хоронить может только гробовщик. Это моя работа.
Тем не менее мертвый шелни отправился поискать для себя место. Он копал ямы на лугу, но везде находил мертвых шелни, скоки и лягушек. и они всегда заставляли его вернуть на место выкопанную землю.
Он копал ямы в долине, и там было так же. Он копал на холме, и ему сказали, что холм тоже полон. И он плакал, потому что не мог найти места, где ему можно лечь.
Он спрашивал у энлайт, может ли он остаться с ними, в их дереве. Они сказали, что не может. Они не хотят, чтобы мертвецы жили в их дереве.
Он спрашивал эйси, может ли остаться в их пруду. Они сказали — нет, не может. Они не допустят мервецов в свой пруд.
Он спрашивал сионна, может ли лечь спать в их логове. И они сказали — нет, не может. Живой он им нравился, но у мертвеца не может быть друзей.
И до сих пор бродит этот бедный мертвый шелни и не находит места, где мог бы сложить голову. И будет бродить вечно, если не найдет другой погребальный зуб и не заплатит за похороны.
Так рассказывают.
Одно примечание к погребальному рассказу. У шелни нет погребальных обрядов. Но могилы для них выкапывают действительно не шелни с их шестью пальцами, а скоки с семью клешнями. Что-то они от этого получают, скоки. Больше того, хотя скоки по уровню развития выше шелни, своих мертвецов они не хоронят.
И еще. Встречаются останки шелни не старше тридцати лет. Окаменевших останков шелни вообще нет.
А вот и вторая сказка (записанная в первый день).
Как шелни превратился в дерево
Рассказывают так.
Была женщина — не шелни, не скоки и не лягушка. Она была небесная женщина. Однажды она пришла с ребенком и села под деревом шелни. А когда встала, оставила своего ребенка — он в это время спал — и по ошибке взяла ребенка шелни. Потом пришла женщина шелни за своим ребенком и посмотрела на него. Она не поняла, что в нем не так, но это был ребенок небесных людей.
— О, у него розовая кожа и плоские глаза! Как это возможно? — спросила женщина шелни. Но она взяла ребенка, и он жил с нею, и все забыли о разнице.
Никто не знает, о чем подумала небесная женщина, когда принесла домой ребенка шелни и посмотрела на него. Тем не менее ребенок остался у нее и вырос, и стал красивей всех небесных людей.
А потом, когда ему исполнился год, молодой шелни ушел в лес и сказал:
— Я не чувствую себя небесным человеком. Но если я не небесный человек, то кто я? Я не утка. Я не лягушка. И если я птица, то какая? Ничего не остается. Должно быть, я дерево. В этом есть смысл. Мы, шелни, действительно немного похожи на деревья.
И вот шелни выпустил корни и отрастил кору, и очень старался стать деревом. Он перенес все трудности жизни дерева. Его грызли жуки и гобню. Его листву поедали скот и кром. На него нападали улитки и оскверняли безымянные животные. Больше того, от него отрубали части на костёр.
Но он все время чувствовал, как музыка флейт ползет по нему от пальцев ног под землей до волос, и знал, что именно эту музыку он всегда искал. Это та самая музыка, которую вы слышите сейчас.
Потом птица рассказала ему, что он на самом деле не дерево, но для него было уже поздно. Его братья, сестры и родители живут в норе под корнями, сказала птица, и если он перестанет быть деревом, у них не будет дома.
Это дерево, в корнях которого наше логово, то самое, в котором мы сейчас. Это дерево — наш брат, который потерялся и забыл, что он шелни.
Так всегда рассказывают.
Удивительно, как сильно Холли стала походить на шелни на второй день. Ростом она едва ли выше них. Я никогда не осознавал, какая она маленькая. Да, конечно, она начинала походить на любое существо, которое мы с ней изучали. Холли настаивала, что шелни разумны, и я почти согласен с ней. Но параграф из руководства по этой планете против нас:
— «…тенденция приписывать шелни разум, которым они не обладают, возможно, связана с их необычным сходством с человеком. Лабиринт они проходят гораздо хуже грызунов. Засовами и застежками овладевают хуже земных енотов и роджонов с астероидов. В овладении инструментами и в способности к мимикрии много уступают обезьянам. По инстинкту самосохранения и способности прожить стоят ниже свиньи или харзла (способность сохранять индивидуальный или коллективный опыт — при. пер.) примерно на уровне черепах. В их «речи» отсутствует правдоподобие, которое есть у попугая, а их «музыка» по уровню ниже, чем у насекомых. Их них получаются плохие сторожа и пугала. Похоже, что запрет на употребление их в пищу плохо обоснован. Хотя один из ранних астронавтов выразился так: «А на что еще они годятся?»
Что ж, приходится признавать, что шелни не так умны, как крысы, свиньи или харзлы. Но я, несомненно под влиянием Холли, чувствую склонность к ним, какую не испытывал к крысам, свиньям, воронам или енотам. Но не бывает существ беспомощней шелни.
Как они умудряются выжить? У шелни много разновидностей песен, но никаких романтических легенд в нашем смысле. Их сексуальные отношения либо абсолютно бессознательны, либо крайне скрытны.
— Не понимаю, как они размножаются, Винсент, — сказала Холли на второй день (это было вчера). — Они здесь, значит они каким-то образом родились. Но как эти застенчивые и легкомысленные трехлетки умудряются это сделать? Ни в их легендах, ни в обычаях я ничего не нахожу. в легендах все их дети подкидыши. Они рождаются или находятся в чернике — это мой перевод их слова спионам. Или — в других циклах — их находят под рябиной или на огуречной грядке. В обычном смысле мы должны считать их плацентарными и живородящими. Но можно ли применять обычный здравый смысл к гоблинам? У них также существуют легенды, что они грибообразные и, подобно грибам, вырастают из земли за ночь. И если женщина шелни хочет ребенка, она должна отыскать грибной побег скоки и посадить его в землю. И тогда на следующее утро и нее будет ребенок.
Вчера утром Холли была в депрессии. Она прочла рекламу нашего спонсора — компании по производству завтраков «Поющая свинья», и эта реклама ее встревожила.
«Поющая свинья! Ее любят дети! Питательная новинка! Детские стихи на банке для вашего удобства! Подлинное мясо подлинных гоблинов! Ни жира, ни костей. Если на вашей этикетке счастливое число, вы получите подлинную флейту шелни. Первым в вашем квартале попробуйте мясо настоящих гоблинов! С кукурузным крахмалом и питательными добавками».
Ну что ж, это всего лишь реклама, какая часто бывает у нас, на Земле. Нам нужно заниматься своими записями.
— Винсент, я не знаю, как они сюда попали, — сказала Холли, — но знаю, что скоро их здесь не будет. Быстрей, быстрей, нужно все записать. Я заставлю их вспоминать.
На второй день (это было вчера) Холли уговорила их поиграть на вилках. Она сказала, что вчера это было невозможно. На вилках можно играть только на второй день знакомства. У шелни нет струнных инструментов. Играют они на зубцах вибрирующих, поющих вилок. У этих вилок много зубцов, играют на них как на арфе, а древесные корни используют в качестве резонатора. Сами вилки делают тоже из дерева, очень твердой породы, а зубцы заостряют известняком или сланцем. Мне кажется, что это дерево на ранней стадии окаменения. Обычно музыка на вилках следует за музыкой на флейтах, и баллады, которые поются под эту музыку, необычайно грустны и соперничают с детскими по простоте текстов.
Вот две таких баллады, которые мы записали на второй день (это было вчера).
Как скоки потерял жену
Рассказывают так.
Однажды ночью скоки услышал музыку флейты шелни.
— Это голос моей жены, — сказал скоки. — Я знаю, это она.
Скоки пошел на болота искать жену. Он спустился в нору, из которой доносился голос его жены. Но нашел в ней только шелни, играющего на флейте.
— Я ищу свою бедную заблудившуюся жену, — сказал скоки. — Я слышал ее голос из этой норы. Где она?
— Тут нет никого, кроме меня, — ответил шелни. — Я сижу один, играю, и лунный свет падает на стены моего дома.
— Но я слышал ее, — настаивал скоки, — и хочу ее забрать.
— А какой у нее голос? — спросил шелни. — Такой? — И он заиграл на флейте.
— Да, это моя жена, — сказал скоки. — Куда ты ее спрятал? Это ее голос.
— Это ничья не жена, — ответил шелни скоки. — Это просто моя музыка.
— Ты играешь голосом моей жены; должно быть, ты ее проглотил, — сказал скоки. — Мне придется разорвать тебя на части и поискать.
— Если я проглотил твою жену, прости, — сказал шелни. — Давай.
И скоки разорвал шелни на части и разбросал их по всей норе, а некоторые выбросил на траву снаружи. Но своей жены он не нашел.
— Я ошибся, — сказал скоки. — Кто бы мог подумать, что тот, кто не проглотил мою жену, извлекает из флейты ее голос?
— Все в порядке, — сказал шелни, — если только ты меня снова соберешь. Я немного помню, ты вспомнишь остальное и соберешь меня.
Но никто из них не помнил достаточно хорошо, каким был шелни до того, как его разорвали на части. Скоки собрал его неправильно.
Для некоторых мест не хватило частей, а у других остались лишние.
— Позволь мне помочь, — сказала оказавшаяся поблизости лягушка. — Я помню некоторые части. К тому же я думаю, что на самом деле он проглотил мою жену. Это был ее голос во флейте. А не голос скоки.
Лягушка помогла, они вспоминали, но ничего не получилось. Некоторых частей шелни не смогли найти, а другие никуда не подходили. Когда закончили, шелни было очень больно, он не мог пошевелиться и не был похож на шелни.
— Я сделал все, что мог, — сказал скоки. — Таким ты и должен быть. А где лягушка?
— Я внутри, — сказал лягушка.
— Там тебе и придется остаться, — сказал скоки. — Хватит с меня вас обоих. Достаточно — а эти части пусть остаются. Может, я сделаю из них кого-нибудь другого.
Вот почему этот шелни до сих пор составлен неправильно. И потому он ходит по ночам и стыдится дневного света. Многие пугаются, встречая его, потому что не знают этой истории. Шелни по-прежнему играет на флейте голосом заблудившейся жены скоки и голосом лягушки. Послушайте, вы и сейчас его услышите! Шелни ходит в печали и боли, и никто не знает, как собрать его правильно.
А скоки так и не нашел свою жену.
Так рассказывают.
А вот еще одна история, которую мы записали вчера, последняя история, хотя когда мы ее записывали, мы этого не знали.
Поющие свиньи
Рассказывают так.
У нас есть древняя легенда о поющих свиньях, которые поют так громко, что улетают в небо на хвосте собственного пения. А теперь мы сами, если сможем громко петь, громко играть на флейтах и на вилках, станем поющими свиньями из легенды. Многие из нас уже ушли, как поющие свиньи.
Приходят люди с колокольчиками, они приезжают на музыкальных повозках. Они играют звучную небесную музыку. Они приходят из любви к нам. И когда они приходят, мы бежим к ним изо всех сил, чтобы улететь на небо в жестянках.
Бонг, бонг, вот опять пришел небесный человек с колокольчиком. Все шелни, торопитесь! Сегодня вы сможете улететь. Собирайтесь, шелни, со всей долины и с ручьев и прыгайте в тележки для бесплатного проезда. Приходите, шелни, с лугов и лесов. Приходите от древесных корней и из нор в земле. Скоки не пойдут, лягушки не пойдут, пойдут только шелни.
Плачьте, если тележка переполнилась и вы сегодня не сможете улететь, но плачьте не очень долго. Люди с колокольчиками говорят, что вернутся завтра и будут возвращаться ежедневно, пока не останется ни одного шелни.
— Идите, маленькие поющие свинки шелни! — кричит человек с колокольчиком. — Приходите, чтобы бесплатно улететь в жестянках на Землю! Эй, Бен, а что еще за животное прыгает в повозку, когда ты звонишь в колокол? Приходите, маленькие поющие свинки шелни, у нас есть место еще для десяти. Это все, все. Завтра придет еще много повозок. Мы вас всех заберем, всех! Эй, Бен, ты видел, как плачут эти свиньи, что не осталось места в фургоне с бойни? — Такие замечательные слова говорит человек с колокольчиком из любви к нам.
И нам даже не надо отдавать погребальные зубы. Лягушки не могут ехать, скоки не могут ехать, едут только шелни!
И вот что замечательно! Из фургонов шелни попадают в большую комнату, где из них извлекают все кости. Такого с шелни никогда не случалось раньше. В другой комнате шелни кипятят, так что они сжимаются вдвое и становятся размером с детей шелни. И тут они начинают играть и забираются в маленькие жестяные банки. И тогда они могут бесплатно в этих жестянках лететь на Землю. Прокатитесь в жестянке!
Вытрите липкие слезы те, кто не попал сегодня в музыкальную повозку. Ложитесь спать пораньше и раньше вставайте. Завтра пойте громче, чтобы люди с колокольчиками знали, что вы здесь. Громче играйте на флейтах, пусть станут звучнее ваши вилки, кричите громко: «Мы здесь, люди с колокольчиками!»
Все смеются, когда забираются в музыкальные повозки людей с колокольчиками. Но говорят, какая-то женщинам шелни не смеялась, когда ее забирали, а плакала. Что с этой женщиной, почему она плачет? Она кричит: «Будьте вы прокляты! Это убийство! Они разумны! Нельзя их забирать! Они такие же люди, как я! Будьте вы прокляты, почему вы забираете меня? Я человек! Я знаю, что кажусь смешной, но я человек! О, о, о!» Это самое смешное в рассказе.
— О, о, о! — говорит женщина.
— О, о, о! — повторяют флейты. — Что с этой женщиной шелни, почему она не смеется, а плачет?
Это последняя история. И когда ее расскажут в последний раз, историй больше не будет, потому что не будет шелни. Кому нужны истории и игра на флейте, если можно прокатиться в жестянке?
Так рассказывают.
Мы вышли (в последний раз, как оказалось) из норы шелни. И, как всегда, вход охранял рифмующий пятилетний старец.
— Кто идет?
— Нам вперед.
— Джинкс он джолли.
— Голли, Холли!
— Где другой?
— Он со мной.
— Джолли плачет?
— Ничего не значит.
— Что впереди?
— Проходи.
И вот что замечательно. Холли Харкель плакала, когда мы вышли из норы (как оказалось) в последний раз. Она плакала большими гоблиньими слезами. Я почти ожидал увидеть их зелеными.
Сегодня я не устаю думать, как поразительно покойная Холли Харкель стала в конце концов походить на шелни. Она была шелни.
— Со мной все кончено, — сказала она мне тем утром. — Разве это любовь, если они уйдут, а я останусь?
Неприятная история. Я пытался жаловаться, но эти люди по-прежнему приходили и говорили:
— Эй вы все, маленькие свинки-шелни-певцы, прыгайте в повозку. Прокатитесь в жестянке на Землю! Эй, Бен, смотри, как они прыгают в фургон бойни!
— Это непростительно! — говорил я. — Вы ведь можете отличить человека от шелни!
— Не в этот раз, — ответил человек с колокольчиком. — Говорю вам, они прыгают в фургон охотно, даже эта странная, которая плакала. Конечно, можете забрать ее кости, если сумеете их отличить.
У меня кости Холли. И это все. Такой, как она, никогда не было. И теперь с нею все покончено.
Нет, не покончено!
Берегись, компания «Поющая свинья!» Наступит и время мести.
Так рассказывают.
Перевел Александр Грузберг
Раз по разу
Барнаби позвонил Джону Кислое Вино. Если вы посещаете такие заведения, как "Сарайчик" Барнаби (а они есть в каждом портовом городе), то наверняка знаете Кислого Джона.
— У меня сидит Странный, — сообщил Барнаби.
— Занятный? — осведомился Кислый Джон.
— Вконец спятивший. Выглядит так, будто его только что выкопали; но достаточно живой.
У Барнаби было небольшое заведение, где можно посидеть, перекусить и поболтать. А Джона Кислое Вино интересовали курьезы и ожившие древности. И Джон отправился в "Сарайчик" поглазеть на Странного.
Хотя у Барнаби всегда полно приезжих и незнакомцев, Странный был заметен сразу. Здоровенный простой парень, которого звали Макски, ел и пил с неописуемым удовольствием, и все за ним с удивлением наблюдали.
— Четвертая порция спагетти, — сообщил Коптильня Кислому Джону, — и последнее яйцо из двух дюжин. Он умял двенадцать кусков ветчины, шесть бифштексов, шесть порций салата, пять футовых хот-догов, осушил восемнадцать бутылок пива и двадцать чашек кофе.
— Ого! — присвистнул Джон. — Парень подбирается к рекордам Большого Вилла.
— Друг, он уже побил большинство этих рекордов, — заверил Коптильня, и Барнаби утвердительно закивал. — А если выдержит темп еще минут сорок, то побьет их всех.
— Я вижу, ты любишь поесть, приятель, — завязал беседу Кислый Джон.
— Я бы сказал, что мне это не вредит! — со счастливой улыбкой прочавкал Странный, этот удивительный Макски.
— Можно подумать, что ты не ел сто лет, — произнес Кислый Джон.
— Ты здорово соображаешь! — засмеялся Макски. — Обычно никто не догадывается, и я молчу. Но у тебя волосатые уши и глаза гадюки, как у истинного джентльмена. Я люблю некрасивых мужчин. Мы будем говорить, пока я ем.
— Что ты делаешь, когда насыщаешься? — спросил Джон, с удовольствием выслушавший комплимент, пока официант расставлял перед Макски тарелки с мясом.
— О, тогда я пью, — ответил Макски. — Между этими занятиями нет четкой границы. От питья я перехожу к девушкам, от девушек — к дракам и буйству. И наконец — пою.
— Превосходно! — воскликнул Джон восхищенно. — А потом, когда кончается твое фантастическое гулянье?
— Сплю, — сказал Макски. — Мне следовало бы давать уроки. Мало кто умеет спать по-настоящему.
— И долго ты спишь?
— Пока не проснусь. И в этом я тоже побиваю все рекорды.
Позже, когда Макски с некоторой ленцой доедал последнюю полудюжину битков — ибо его аппетит начал удовлетворяться, — Кислый Джон спросил:
— А не случалось, что тебя принимали за обжору?
— Было дело, — отмахнулся Макски. — Это когда меня хотели повесить.
— И как же ты выкрутился?
— В той стране — а это случилось не здесь — существовал обычай дать осужденному перед смертью наесться, — пробасил Макски голосом церковного органа. — О, мне подали отличный ужин, Джон! И на заре должны были повесить. Но на заре я еще ел. Они не могли прервать мою последнюю трапезу. Я ел и день, и ночь, и весь следующий день. Надо отметить, что я съел тогда больше обычного. В то время страна славилась своей птицей, свиньями и фруктами… Ей не удалось оправиться от такого удара.
— Но что же случилось, когда ты насытился? Ведь тебя не повесили, иначе бы ты не сидел здесь.
— Однажды меня повесили, Джон. Одно другому не мешает. Но не в тот раз. Я одурачил их. Наевшись, я заснул. Все крепче, крепче — и умер. Ну не станешь же вешать мертвеца. Ха! Они решили убедиться и день продержали меня на солнцепеке. Представляю, какая стояла вонь!.. Почему ты так странно на меня смотришь, Джон?
— Пустяки, — проговорил Кислый Джон.
Теперь Макски пил: сперва вино для создания хорошей основы, затем бренди для ублажения желудка, потом ром для вящей дружественности.
— Ты не веришь, что все это достигнуто таким обычным человеком, как я? — внезапно спросил Макски.
— Я не верю, что ты обычный человек, — ответил Кислый Джон.
— Я самый обычный человек на свете, — настаивал Макски. — Я слеплен из праха и соли земли. Может быть, создавая меня, переборщили грязи, но я не из редких элементов. Иначе бы мне не придумать такую систему. Ученые на это не годны — в них нету перца. Они упускают самое главное.
— Что же, Макски?
— Это так просто, Джон! Надо прожить свою жизнь по одному дню.
— Да? — неожиданно высоким голосом произнес Кислый Джон.
— Гром сотен миров разносится в воздухе. Мой способ — дверь к ним и ко всей Вселенной. Но, как говорят: "Дни сочтены". И это налагает предел, который нельзя превзойти. Джон, на Земле были и есть люди, до которых мне далеко. И то, что проблему решил я, а не они, значит только, что она больше давила на меня. Никогда не видел человека, столь жадного на простые радости нашей жизни, как я.
— Я тоже не видел, — признался ему Кислый Джон. — И как же ты решил проблему?
— Хитрым трюком, Джон. Ты увидишь его в действии, если проведешь эту ночь со мной.
Макски кончил есть. Но пил он, не прекращая, и во время развлечений с девочками, и во время драк, и в перерывах между песнями. Мы не будем описывать его подвиги; но их детальный перечень имеется в полицейском участке. Как-нибудь вечерком выбирайтесь повидать Мшистого Маккарти, когда у него дежурство, — прочитаете. Это уже стало классикой. Когда человек имеет дело с Мягкоречивой Сузи Кац, и Мерседес Морреро, и Дотти Пейсон, и Маленькой Дотти Несбитт, и Авриль Аарон, и Крошкой Муллинс, и все в одну ночь — о таком человеке складывают легенды.
В общем, Макски взбудоражил весь город, и Кислый Джон с ним на пару. Они подходили друг другу.
Встречаются люди, чья утонченная душа не выдерживает необузданных выходок товарища. Это те, кто морщится, когда друг поет слишком громко и непристойно. Это те, кто пугается, когда мерный гул "приличной" жизни переходит вдруг в грозный рев. Это те, кто спешит спрятаться при первых признаках надвигающейся битвы. К счастью, Кислый Джон к ним не относился. У него была утонченная душа — но широкого диапазона.
Макски обладал самым громким и, несомненно, самым неприятным голосом в городе, но разве настоящий друг может из-за этого изменить?
Эти двое подняли много шуму во всех отношениях; и немало бывалых ребят, потирая ладони и сжимая кулаки, таскались за ними из одного кабака в другой: и Неотесанный Буффало Дуган, и Креветка Гордон, и Коптильня Потертые Штаны, и Салливан Луженая Глотка, и Пай-мальчик Кинкейд. Факт, что все эти великолепные мужчины хотя и сердились, но все же не осмеливались близко подойти к Макски, красноречиво говорит о его достоинствах.
Но временами Макски прекращал пение и хохотал чуть потише. Как, например, в "Устрице" (что напротив "Большой Макрели").
— Первый раз я пустил свой трюк в ход, — информировал Макски Джона, — скорее по нужде, чем по собственному желанию. Было это в стародавние времена; я плыл на корабле и слишком надоел своим приятелям. Они сковали меня, прицепили груз и выбросили за борт.
— И что же ты сделал? — поинтересовался Кислый Джон.
— Друг, ты задаешь глупейшие вопросы!.. Захлебнулся, естественно, и утонул. А что мне оставалось делать? Но утонул я спокойно, без всяких там бесполезных воплей. Вот в чем суть, ты понимаешь?
— Нет, не понимаю.
— Время на моей стороне, Джон. Кто хочет провести вечность на дне? Морская вода — весьма едкая; а мои цепи, хотя я не мог порвать их, были не очень массивны. Меньше чем через сто лет цепи поддались, и мое тело всплыло на поверхность.
— Немного поздновато, — заметил Кислый Джон. — Довольно странный конец, учитывая все обстоятельства; или это не конец?
— Это был конец той истории, Джон. А однажды, когда я служил в армии Александра Македонского…
— Минутку, дружище, — перебил Кислый Джон. — Надо кое-что уточнить. Сколько тебе лет?
— Ну, около сорока — по моему счету. А что?
— Да нет, ничего.
Ночью, малость помятые и слегка окровавленные, Макски и Кислый Джон оказались в полицейском участке. Нужно заметить, что только арест спас их от недвусмысленной угрозы линчевания. Они весело провели время, болтая с полицейскими, ибо Кислый Джон был там своим человеком. Слову Джона верили; даже когда он врал, он делал это с честным видом. По прошествии некоторого времени, когда линчеватели разошлись, Кислый Джон принялся действовать.
Они давали самые страшные клятвы, что будут вести себя, как все примерные граждане, что отправятся спать немедленно и без криков, что не будут больше куролесить этой ночью и не оскорбят действием ни одной порядочной женщины, что они будут безоговорочно придерживаться всех законов, даже самых глупых. И не будут петь.
Полиция не устояла.
Когда они вдвоем вышли на улицу, Макски нашел бутылку и немедленно швырнул ее. Вы бы и сами так поступили — она просто идеально подходила к руке. Бутылка описала высокую красивую дугу и попала в окно участка. Это был восхитительный бросок!
Снова погоня! На этот раз с сиренами и свистками. Но Кислый Джон стреляный воробей: ему были известны самые укромные закоулки.
— Вся штука в том, чтобы сказать себе: "Стоп!" — продолжал Макски, когда они оказались в безопасности в баре, еще менее пристойном, чем "Сарайчик", и еще более тесном, чем "Устрица". — Я тебе кое-что расскажу, Кислый Джон, потому как ты славный парень. Слушай и учись. Умереть может каждый, но не каждый может умереть, когда ему хочется. Сперва надо остановить дыхание. Наступит момент, когда твои легкие запылают, и просто необходимо будет вдохнуть. Не делай этого, иначе тебе придется начинать все сначала. Затем останавливай сердце и успокаивай мозг. Выпускай тепло из тела, и на этом конец.
— Что же дальше?
— А дальше ты умрешь. Но надо сказать — это непросто. Требуется дьявольски много практики.
— Зачем практиковаться в том, что делаешь только раз в жизни? Ты имеешь в виду умереть буквально?
— Джон, я говорю просто. Раз я сказал умереть, значит, я имел в виду умереть.
— Есть две возможности, — произнес Кислый Джон. — Либо я туго соображаю, либо твоя история не стоит выеденного яйца. Первую возможность смело исключаем.
— Знаешь что, Джон, — сказал Макски, — дай мне двадцать долларов, и я докажу, что твоя логика неверна. Кажется, мне пора. Спасибо, дружище! Я провел полный день и полную ночь, которая близится к концу. У меня были приятная еда и достаточно шуму, чтобы позабавиться. Я отлично провел время с девушками, особенно с Мягкоречивой Сузи, и с Дотти, и с Крошкой Муллинс. Я спел несколько своих любимых песен (к сожалению, не всем они нравятся) и участвовал в парочке добрых потасовок — до сих пор гудит голова. Кстати, Джон, ты почему не предупредил меня, что Пай-мальчик Кинкейд — левша?! Это было здорово, Джон. Теперь же давай допьем то, что осталось в бутылках, и пойдем к побережью, поглядим, что бы такое устроить напоследок. Ведь недаром говорят: конец — делу венец!.. А потом я буду спать.
— Макски, ты несколько раз намекал, что у тебя есть секрет, как взять от жизни все, что она дает, но так и не открыл его.
— Эй, парень, я не намекаю, я говорю прямо!
— Так что за секрет?! — взревел Джон.
— Живи раз по разу, по одному дню. Вот и все.
Макски пел песню бродяги — слишком старую, чтобы быть известной сорокалетнему мужчине, неспециалисту.
— Когда ты ей научился? — спросил его Джон.
— Вчера. Но сегодня я узнал много новых.
— Я обратил внимание, что в начале нашего знакомства в твоей речи было нечто странное, — заметил Джон. — Теперь странности нет.
— Джон, я очень быстро приноравливаюсь. У меня отличный слух и превосходная мимика. Кроме того, языки не слишком сильно меняются.
Они вышли на пляж. "Приятно умирать под звук прибоя", — заметил Макски. Все дальше и дальше от огней города, в чернильную тень дюн. О, Макски был прав, здесь их ждало приключение; вернее, оно за ними следовало — возможность последней славной схватки.
То была тесная группа мужчин, так или иначе задетых и оскорбленных за день и ночь буйного разгула. Наша пара остановилась и повернулась к ним лицом. Макски прикончил последнюю бутылку и кинул ее в центр группы.
Мужчины так неуравновешенны — они воспламеняются мгновенно, а бутылка попала в цель.
И началась битва.
Некоторое время казалось, что правые силы возьмут верх. Макски был великолепным бойцом, да и Кислый Джон всегда проявлял компетентность в таком деле. Они раскидывали противников на песке, как только что выловленную трепыхающуюся рыбешку. То была великая битва — на долгую память.
Но их было слишком много, этих мужчин, как и ожидал Макски, ибо успел он сделать себе необычайное количество врагов.
Неистовое сражение достигло своего пика и взорвалось, как гигантская волна, громоподобно ниспадающая в пене. И Макски, достигнув высшей славы и удовольствия, внезапно прекратил биться.
Он издал дикий вопль восторга, прокатившийся по побережью, и набрал волную грудь воздуха. Он стоял, улыбаясь, с закрытыми глазами, как статуя.
Сердитые мужчины повалили его. Они втоптали его в песок и долго молотили руками и ногами, выбивая последние остатки жизни.
Кислый Джон понял, что Макски ушел, и поступил так же. Он вырвался и убежал. Не из трусости, но по соображениям личного характера.
Часом позже, с первыми лучами солнца, Кислый Джон вернулся на поле боя. Макски уже окоченел. И еще — от него пахло. По одному запаху можно было определить, что он мертв.
Детским совком, валявшимся на песке, Кислый Джон вырыл у одной из дюн могилу и здесь похоронил своего друга. Он знал, что у Макски еще оставалось в штанах двадцать долларов, но не тронул их.
Затем Кислый Джон вернулся в город и вскоре обо всем забыл. Он продолжал скитаться по свету и встречал интересных людей. Наверняка он знаком и с вами, если в вас есть хоть что-то любопытное.
Прошло двенадцать лет. Кислый Джон снова оказался в этом портовом городе, но… Наступил тот неизбежный день (молите бога, чтобы он не пришел к вам), когда Кислый Джон отцвел. Тогда, с пустыми карманами и пустым животом, он вспомнил о былых приключениях. Он думал о них со счастливой улыбкой…
"То был действительно Странный, — вспоминал Джон. — Он знал один трюк — как умереть, когда захочется. Он говорил, что для этого требуется много практики, но я не вижу смысла упражняться в вещи, которую делаешь только единожды".
Затем Кислый Джон вспомнил о двадцатидолларовом билете, захороненном в песке. Незабвенный образ Макски встал перед его глазами. Через полчаса он нашел те дюны и вырыл тело. Оно сохранилось лучше, чем одежда. Деньги были на месте.
— Я возьму их сейчас, — грустно произнес Кислый Джон, — а потом, когда немного оклемаюсь, верну.
— Да, конечно, — сказал Макски.
Слабонервный мужчина, случись с ним такое, вздохнул бы и отпрянул, а то и закричал бы. Джон Кислое Вино был не из таких. Но, будучи просто человеком, он сделал человеческую вещь. Он мигнул.
— Так вот, значит, как?.. — проговорил Джон.
— Да, дружище. Живу по одному дню!
— Готов ли ты подняться снова, Макски?
— Разумеется, нет. Я же только недавно умер. Пройдет еще лет пятьдесят, прежде чем нагуляется действительно хороший аппетит. А сейчас я умру, а ты вновь похорони меня и оставь в покое.
И Макски медленно отошел в другой мир, и Кислый Джон опять укрыл его в песчаной могиле.
Макски, что на ирландском означает "Сын Дремоты", — замечательный мастер бесчувствия (нет-нет, если вы так думаете, то вы ничего не поняли, это настоящая смерть), который жил свою жизнь по одному дню, а дни эти разделялись столетиями.
Перевод Н. Трегубенко
«Маленький к.»
Карл Картелл был не самым приятным человеком на земле, а как Великий Замбези — не лучшим из фокусников. Тем не менее, это был очень сообразительный малый, в чем-то даже трогательный, но обликом и манерами напоминавший надутого индюка. К тому же он выглядел страшно серьезным, самоуверенным и респектабельным человеком. Он изучил, кажется, все, что можно было изучить в его деле, и собрал такой полный репертуар разных трюков, что претендовал на звание настоящего мастера. И, конечно, как и у других фокусников, у него был собственный коронный номер — незамысловатый, но надежный трюк с исчезновением. На первый взгляд, ничего особенно сложного, но на самом-то деле номер оставался загадкой даже для тех, кто участвовал с Картеллом в шоу. Собственно, именно этой загадочности Картеллу и хватало для того, чтобы сравняться с истинными корифеями. А в последний раз у него действительно получился величайший трюк… Но об этом чуть позже.
Так вот, Картелл не исчезал сам. Обычно он помещал Веронику в специальный ящик, закрывал, а потом открывал его — и хлоп, ящик оказывался пустым. То же самое могли проделать многие — с теми или иными вариациями. Но в том-то и дело, что Карл «Великий Замбези» Картелл не признавал никаких «вариаций». Он не использовал ни потайной люк (однажды он подвесил ящик с Вероникой на высоте 20 футов), ни двойное дно, ни прочие известные уловки. Он всегда разбирал ящик, доска за доской, и передавал их зрителям, чтобы те могли удостовериться, что все без обмана. Потом он повторял всю процедуру в обратном порядке, а когда, наконец, открывал ящик, оттуда, как ни в чем не бывало, выпархивала Вероника.
Великий Буффо клялся, что девчонки с самого начала не было в ящике. Великий Буффо, однако, не мог повторить трюк. Не могли также ни Великий Гауматургос, ни Великий Зебдо. То есть, каждый из них был способен показать то же самое, так что публика даже не заметила бы разницы, но сами маги знали, что разница есть. Их хитрости были известны каждому из них, как и любому профессиональному фокуснику вообще. Но как все это получалось у Замбези-Картелла, было совершенно непонятно, что и позволило Картеллу занять соответствующее положение среди фокусников. Более того, хотя маги, наверное, единственные люди на земле, которые даже в глубине души не верят в чудеса, после сеансов Великого Замбези они начинали испытывать сомнения. Великий Веспо, правда, заявлял, что он знает, в чем дело. Но Веспо, в то время уже старик, частенько делал экстравагантные заявления.
Мы не будем приводить здесь объяснения, которые давал своим зрителям сам Карл «Великий Замбези» Картелл. Вы, скорее всего, не поверите и будете смеяться, а мы очень чувствительны. К тому же, нам просто не хватает способностей Замбези, чтобы выступать с такими странными объяснениями, даже если они истинны (а это, возможно, так и есть!). Ну, впрочем, ладно, попробуем: он говорил что-то примерно в том духе, что послал Веронику вниз, в океан, а затем позвал ее обратно… М-да.
Однако мы собирались рассказать вовсе не об исчезновении Вероники, а совсем наоборот. То есть, наоборот не в том смысле, что кто-то еще исчез, а наоборот в смысле, что появился — некий тип, который совершенно не был похож на Веронику.
Это случилось во время Тройной Ярмарки, на Новой Сцене, когда она еще действительно была новой. Роскошное освещение, порядком взвинченная толпа — и Великий Замбези в превосходной форме. Вероника, сияющая, словно драгоценный камень, входит в ящик. Замбези закрывает его, и зрители замирают от предвкушения того удивительного, что должно сейчас произойти. Наконец, Картелл, выдержав паузу, начинает снимать крышку, чтобы все могли убедиться, что ящик пуст.
Но провалиться нам на этом месте, если так и было. Однако, как вы уже поняли, ящик оказался занятым, и отнюдь не Вероникой. То, что выкатилось на сцену, походило на клоуна, — жалкое чучело с самым печальным выражением лица, которое вы только можете себе вообразить.
— Святые гамадриды, откуда ты явился, каракатица? — выдохнул Замбези-Картелл, не понимая, что происходит.
На человечке были спадающие штаны, стоптанные ботинки и куртка с оторванными рукавами. Он плакал и вытирал нос ладонью. Он был смешон, этот маленький клоун, в нем был настоящий пафос!
— Ты что, не понял, что должен убраться отсюда, крокодил?! — шипел Картелл на коротышку. — Кто ты? Как ты здесь оказался? Да убирайся же, карапуз, ты все мне испортишь!
Но странный субъект не обращал на Картелла никакого внимания, кажется, решив, что Картелл, несмотря на ярость, не посмеет пришибить его прямо на месте.
В конце концов в полном отчаянии Картелл с грохотом проделал свое «открыл — закрыл ящик» (а что ему оставалось?) и вывел оттуда Веронику. Но это, конечно же, не помогло ему избавиться от маленького клоуна. Тот продолжал разгуливать по арене — и, правда же, был великолепен! Вот послушайте: сначала на нем были нижняя рубашка и старые черные брюки на одной подтяжке, затем откуда-то появились красный свитер, хулиганская кепка и темные очки. Потом оказалось, что он одет в роскошный смокинг, а на цепочке у него болтается монокль. Такого прежде не делал никто!
Потом он стал похож на Джо Коллега, затем превратился в противного развязного старикашку. При этом мелькнули черный фрак, жемчужно-серая сорочка и желтые перчатки. Наконец, он опять стал бродягой, только еще более грязным, чем раньше.
— Убирайся, кисляк, — зло шептала Вероника, — ты не должен быть в номере! Кто ты вообще такой?
Да, никто еще не менял полностью свой костюм в течение одной минуты, да еще прохаживаясь по арене, да еще держа руки в карманах! Никто не превращал свои ботинки из коричневых в черные, не снимая их! Но выражение лица у человечка оставалось все таким же печальным, отчего у многих на глаза даже навернулись слезы.
Но прежде чем представление начало затягиваться, коротышка покачнулся и неожиданно рухнул лицом в ящик. Замбези-Картелл быстро захлопнул крышку. Замерев на несколько секунд от страха и надежды, Картелл медленно приоткрыл коробку — коротышки там не было!
С облегчением Картелл начал разбирать доски. Да, это было хорошее представление, и даже с новинкой. Правда, Карл «Великий Замбези» Картелл не знал, как все это получилось. А, может быть, был единственным, кто знал. Просто человечек не был предусмотрен…
— В любом случае, черт с ним, с этим Каллиостро, — бормотал Картелл. Он был озадачен, ему почему-то казалось, что он знает малыша — и в то же время он определенно не встречался с ним раньше.
Вечером вся труппа отправилась ужинать в ресторан: сам Картелл, Вероника, капитан Картер, укротитель медведей, и сестры Лемон: Долли, Молли и Полли. И вдруг появился этот маленький клоун, подошел к ним и засопел носом. Как появился — никто не заметил, в двери он не входил, да и в окна, конечно же, тоже.
— Хочешь, я закажу тебе что-нибудь? — придвинулась к нему Молли.
Но перед странным субъектом уже стояла полная тарелка, и он незамедлительно начал жевать. Одновременно он жутко усмехался и гримасничал, но вдруг заулыбался так робко и неуверенно, как будто делал это впервые. Кстати, за это время роговые очки на нем сменило пенсне.
— Котик такой славный! — сказала Долли Лемон. — Мы примем его в наш номер, если Картелл откажется от него.
На столе лежала пустая коробка из-под сигарет. Человечек взял ее — и она оказалась полной. Ну, положим, Картелл мог бы повторить этот нехитрый трюк, да и вы сами, возможно, тоже, хотя все равно вам потребовались бы кое-какие приготовления. Коротышка вытащил сигарету, дунул на нее, и она задымилась. Да, это тоже известный прием. Лишь несколько трюков компания увидела впервые.
— Если хочешь присоединиться к нам, каннибал, а похоже, так и есть, — протянул, морщась, Картелл, — ты должен хотя бы умыться.
— Правда? — спросил коротышка, но не замедлил превратиться в изысканнейшего денди.
— Капитан Картер, — заговорил он, — судя по вашему оттопыренному карману, вы не принадлежите к ярым сторонникам трезвости. Нельзя ли попросить вас угостить компанию?
— Посудина уже целый час как пуста, — печально проговорил капитан Картер, доставая фляжку.
— Но она не всегда была пустой, — протянул руку коротышка-клоун. — Позвольте мне попробовать: вдруг я смогу восстановить ее содержимое.
— Последним, кто восстанавливал мне виски, был старина Замбези Картелл, но получилась самая отвратительная сладкая дрянь, когда-либо дистиллированная человечеством.
— Вам понравится, — заверил человечек и наполнил фляжку.
Содержимое, действительно, было великолепно и, естественно, вызвало, веселое оживление. А если вы сомневаетесь, что так оно и было, при том, что там присутствовали восстановленное виски, Вероника и три сестры Лемон, вы, вероятно, имеете чересчур старомодные взгляды на веселье.
— Все хорошее когда-нибудь кончается, — заметил капитан Картер, когда ночь уже приближалась к рассвету.
— Все хорошее не должно кончаться никогда! — возразил куртуаз-коротышка, сидя на коленях у Полли. — Мир, наверное, содрогнулся, когда ваша фраза была произнесена впервые. Хорошие вещи должны длиться вечно, они могут быть разве что временно отложены. И до тех пор, пока мы понимаем это, перерывы будут лишь мгновеньями.
— О, как мы понимаем это, милый кафр, — воскликнули хором все три сестры Лемон.
И все временно продолжили вечеринку. Но позже, а это было уже после восхода солнца, Картелл и Калибан остались наконец одни.
— Мы должны объясниться, — сказал Картелл. — Кто ты?
— А что, Карло, ты не догадываешься? Разве не ты вытащил меня из ящика? Я думал, ты ждал этого. Разве не ты вызывал меня?
— Сомневаюсь… И не пытайся меня одурачить, старый капустный кочан. Откуда ты заявился в первый раз? Моего ремесла для этого мало, а люка на арене нет.
— Правда? Но ты же сам рассказываешь публике, как это у тебя получается. Вот ты и вызвал меня из океана.
— Ерунда!.. Черт, колибри, откуда ты взял китайский халат? А как отрастил бороду? Нет, кашалот, нет, я никогда не вызывал из океана такую рыбку, как ты!
— В таком случае я ухожу, раз я здесь в результате недоразумения.
— Погоди немного, крошка. Все, что я делаю, касается исчезновения девчонки. Ты здесь ни при чем.
— Карло, я слышал твои объяснения тысячу раз. Человек еще не в ящике, но чуть-чуть позже будет там. Так что мы сдвигаем время в более близкое будущее — и дело в шляпе.
— Э-э, здесь у тебя неувязочка, кукольник… Эй, как это ты превратился в гугенота? М-да, и не в настоящего, а в какую-то пародию на него!
— У тебя всегда было хорошее воображение, Карло, — оценил коротышка. Он взял пустой стакан и потряс его — стакан наполнился.
— Да, на эти штуки ты мастер, кудесник, — усмехнулся Картелл. — Я так не могу, а ты делал это уже трижды. Но как, а?
— Да все по нашей же схеме. Я только немножко сдвигаю вещь во времени — и дело сделано. Все, что когда-нибудь было полным, может быть наполнено вновь, если перенести это назад, в полноту.
— Твои объяснения мне ничуть не помогают, командир. Но если это работает, надо думать, идея хорошая.
— Это работает, Карло. Я думал, ты знаешь. Мы ведь давно используем это.
— Слушай, ты говоришь и говоришь, кавардачер, а мне нисколько не становится понятнее, как ты можешь, например, так быстро меняться?
— Ну что ты, Карло, мы же живые люди, — ответил клоун. — Уж такие мы есть.
В тот же день Финнерти, хозяин шоу, разговаривал с Картеллом о коротышке:
— Знаешь, твой брат из Старой Страны дал новую жизнь представлению, — сказал он. — Оставь его в шоу. Мы можем поговорить о деньгах — подумай о цифре. И как платить — ему или вам двоим?
— Платить мне, — сразу же ответил Карл «Великий Замбези» Картелл. Он был смущен, но не настолько, чтобы потерять счет деньгам.
— Тебя приняли за моего брата из Старой Страны, — говорил Картелл немного позже колоброду, — и ясно почему. Я все удивлялся, кого же ты мне напоминаешь… Эй, прекрати превращаться в индюка!.. Знаешь, если бы ты был побрит и причесан, — надо же, вот это скорость, кунштюкин! — сходство было бы еще больше. Ты очень похож на меня. И вообще, чертовски привлекательный малый. Я, правда, не знал, что у меня есть брат, и понятия не имею, где эта Старая Страна. Лично я родился на Эльм-стрит в Спрингфилде.
— Может быть, «брат» означает какую-то иную близость, Карло? А «Старая Страна» может значить что-то особое для нас. Послушай, а вдруг так называется место на другой стороне твоего океана?
— Король болтунов, ты такое же трепло, как… ну, я не знаю… такое же трепло, как я, — сказал Карл Картелл.
Иногда коротышка пугал своими дикими выходками, но не специально, а по наитию. Для него «подумать» и «сделать» означало одно и то же. Хорошо, что все любили его, иначе они бы его просто повесили.
Еще коротышка постоянно размножал вещи. Картелл умолял его открыть секрет:
— Мы можем быть богаты, мой маленький Крез, по-настоящему богаты, — ныл Картелл.
— Но мы и так богаты, Карло. Мир не видел еще таких ротшильдов, как мы! Неужели ты не способен оценить всю уникальность того, что мы делаем! Да, мы готовились годы, зато это — величайший из трюков, а мы теперь — жители безграничного мира, где все принадлежит нам.
— О-о, крокодилий коготь, я не просил тебя читать лекцию! Я просил лишь научить меня, как заставить плодиться стодолларовые бумажки.
— Да я же показывал тебе сотню раз, а ты все ждешь чего-то иного, — удивлялся коротышка. — Ты просто берешь старый тощий бумажник, который знавал когда-то лучшие времена, и возвращаешь его в то прежнее состояние, а деньги забираешь. Потом можешь повторить все снова. Только зачем тебе деньги?
— Ну, скажем, у меня такое хобби — собирать деньги.
— Это я понять могу. Положим, мы могли бы иметь купюры в 5, 10, 50 долларов, но зачем нам множество их близнецов? Нет, Карло, в тебе нет истинной страсти коллекционера.
— Страсть-то во мне есть, кролик. Только мне она не помогает повторить твои фокусы…
— Знаешь, Карло, боюсь, единственная причина в том, что ты слишком глуп, хотя мне очень больно говорить это об одном из нас.
Озарение пришло к Замбези-Картеллу, когда он увидел очередной трюк клоуна со старой шляпой. Это случилось на распродаже, на которую коротышка заглянул из любопытства, — он был фантастически любопытен.
— О, что за фея, должно быть, носила ее, — воскликнул он. — Что за фея!
Пока маленький к. держал шляпку в руках, появилась сначала очаровательная головка, такая, что ее вполне можно было сравнить с головкой феи. Наконец, дорисовалось и все остальное, принадлежащее молодой леди. Куртуаз очень нежно поцеловал ее и прижал к своей груди — ведь для него «подумать» означало «сделать».
— В общем, я не против, но вы испугали меня. Кто вы? И кто я? И каким образом, о проклятье, я очутилась здесь? — запищала девица.
— Вы — фея, — ответил купидон. — И, будучи таковой, имеете право появляться в любом месте. У меня была ваша шляпка, и что же удивительного в том, что я вызвал вас дополнить ее?
— Я только иногда фея, в остальное время я, кажется, домохозяйка. Боже мой, плита! Как мне попасть обратно?!
— Вы уже там… — печально сказал кифарист. И так оно и было. Во всяком случае, девицы не стало.
Вот это и оказалось предвестием беды — не для к. и не для молодой феи. Это было началом больших неприятностей для Карла «Великого Замбези» Картелла.
Картелл знал теперь, что и как получается у коротышки. Да и трудно представить себе, чтобы кто-нибудь мог демонстрировать так часто свой трюк без опаски, что такой ловкий малый, как Картелл, рано или поздно не выучит его. Беда в том, что, выучившись, он не смог остановиться.
В глубине души Картелл был неплохим человеком, но на поверхности он оказался человеком скверным. Естественное качество, скажем так, здоровой бережливости чудовищно разрослось в нем. Его индюшачья надменность стала непереносимой, скаредность завладела им целиком — вместе со злобой и мстительностью. Теперь у Картелла был ключ к богатству, причем такой, что открывал двери перед ним, одновременно захлопывая их перед другими.
Для начала он задумал взять в свои руки шоу. Для этого ему надо было разорить Финнерти, владельца и управляющего, и вывести его из игры. Бизнес в это время шел хорошо, и Финнерти каждый вечер снимал полную кассу. Но ведь известно, что прежде чем вещи стать полной, она бывает полна наполовину, а еще раньше — лишь на четверть. И вот каждую ночь, перед тем как Финнерти отправлялся считать выручку, Замбези-Картелл проделывал свой трюк с кассой, опустошая ее на три четверти. Остатка не хватало даже на покрытие издержек.
Финнерти никогда не отличался особой бережливостью и часто балансировал на краю банкротства. Так что теперь он разорился в две недели. Он продал свое шоу Картеллу за 10 тысяч долларов. Получив условленную сумму и идя вечером домой из цирка, который больше не принадлежал ему, он хотя бы ощущал приятную тяжесть в кармане. Но вы недооцениваете Картелла, если полагаете, что он мог ограничиться достигнутым. Конечно, он опустошил бумажник Финнерти, вернув его (бумажник) в состояние получасовой давности. Почувствовав некоторую легкость, Финнерти понял, что произошло, но и не подумал возвращаться.
— Хорошо еще, что мне оставили штаны, — сказал он, — если, конечно, оставили — боюсь смотреть вниз.
Плохие времена настали для счастливого семейства, которым было когда-то шоу. Вероника чувствовала себя оскорбленной и имела на то причины. Три сестры Лемон тряслись от придирчивости нового хозяина. Примерно то же самое происходило и с певцом Каруччи, и с капитаном Картером, и даже с его медведями. И к., коротышка, который стал нечаянной причиной всего несчастья, пытался держаться в стороне от буйствующего Картелла.
Замбези-Картелл стал жаден до безумия. Он не упускал любой возможности использовать свой трюк, он просто грабил всех и вся.
— Он же в глубине души совсем не такой, — стонала Вероника, — правда же, нет!
— Да, в глубине он прекрасный человек, — отвечал к. — Кто может знать это лучше меня?
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Вероника.
— То же, что и ты. Картелл плохой только на поверхности, внутри он отличный парень.
Ну, возможно, где-то там так оно и было, но на поверхности Замбези-Картелл просто зверел на глазах. Он унижал, он оскорблял, он внушал страх. В нем росла ненависть, в труппе — отчаяние. Вдруг Картелл стал сторонником жесткой дисциплины, а поскольку привязывался ко всякому пустяку, то превратился буквально в кровопийцу.
Но выглядеть он пытался солидно, приобрел страховку, перешел на дорогие сигары, честное виски предал ради вероломного мартини. И смеяться он стал как-то не по-человечески — то хихикал, то ржал, как лошадь.
— О-о, коростель, — мучилась Вероника, — мы должны сделать что-нибудь, чтобы спасти его от его самого! Мы не можем бросить его, мы всем связаны с ним…
— Кому, как не мне, знать это? — отвечал король клоунов печально.
Вскоре Картелл вообще стал пить только чай, есть только вегетарианские завтраки, сменил лосьон "Тумбо" на бриллиантин, стал читать В.Липмана, говорить только высоким слогом, обсчитывать актеров при выдаче зарплаты, а из бывших болельщиков благородной «Национальной Лиги» переметнулся к жалким «Американо». Конечно, раз поддавшись такой порче, человек не может остановиться, а у Картелла, как вы поняли, была «зеленая болезнь» — патологическая любовь к деньгам.
Он выбивал их сначала всеми честными и нечестными способами, потом только нечестными. Некоторые думали, что он дьявол.
— Но внутри же он совсем не такой плохой! — настаивала Вероника.
— Кто знает это лучше, чем я? — соглашался клоун.
Великий Каньон в своем начале выглядит как дыра в собачьей будке. Так же и падение Картелла началось с ерунды, с десятицентовика, из-за которого рухнуло все здание — и его богатство, настоящее и будущее, и его репутация — то, что многие принимают за счастье.
Все началось с драки Картелла со слепым торговцем газет из-за монеты. А закончилось тем, что Картелл сел в тюрьму, всеми проклятый, оплеванный и упавший духом. Десятицентовик, который Картелл стянул у слепого, был отнюдь не единственным обвинением. Он был уличен во многих случаях воровства, мелких и крупных карманных кражах «с помощью неустановленного приспособления», в десятках случаев мошенничества с зарплатой, в подделке чеков, владении ворованным имуществом и еще Бог знает в чем.
— Похоже, вы не занимались разве что кражей цыплят, — саркастически заметил как-то судья на слушании.
— Нет, этим тоже, — уточнил помощник прокурора. — Пять случаев, сэр.
А между тем, Картелл в тюрьме изменился. Он был пристыжен, у него постоянно болело сердце, он чувствовал себя совершенно одиноким. В одну из ночей он попытался повеситься в камере. Это ему не удалось по непонятным причинам, однако не из-за недостатка усилий с его стороны. Здесь я замечу только, что люди, покушавшиеся когда-либо на себя, должно быть, очень серьезные люди.
— Мы должны пойти к нему, Кристофер, — решила Вероника. — Мы должны показать ему, что все еще любим его. Он, конечно, вел себя, как последний шакал, но на самом деле он не такой. Внутри он…
— Тс-с, Вероника. Ты смущаешь меня, когда говоришь так, — остановил ее кларнетист. — Я знаю, внутри он настоящий принц.
В один из дней маленький к. пришел к Великому Замбези в его камеру.
— Самое время поговорить, — сказал он.
— Нет-нет, слишком поздно для разговоров…
— Ты опозорил нас обоих, Карло, — продолжал маленький к. — Это зашло слишком далеко, так что касается и меня.
— Я даже не знал никогда, кто ты такой, маленький к. Ты живой, настоящий — и все же какой-то неправдоподобный.
— Ты сам вызвал меня и до сих пор не знаешь, кто я? А ведь получился великолепный трюк! Мы сами стали нашими шедеврами, Карл, а ты не понял даже, когда это случилось. Ты — маг, но и я — маг, идущий своим путем. Так всегда получается лучше всего.
— Скажи мне, клест, кто ты? Кто я? — взмолился Картелл. — Что со мной?
— Что с НАМИ, Карло! НАША беда в том, что один из нас стал слишком серьезен. Быть серьезным — единственное настоящее преступление. За это один из нас должен умереть — но только не так, как будто это что-то трагическое. Каждый человек состоит, по крайней мере, из двух людей, но обычно оба одновременно не могут иметь два тела и две жизни. Теперь, конечно, наш величайший трюк испорчен, но он был чудесен, пока длился.
Коротышка к. просигналил Веронике, и она пришла, держа под мышкой доски. Удивленный тюремщик пропустил ее.
Мы не можем больше существовать вместе, это будет неправильно, — убеждал кифарист Карла Картелла.
— Ах, мне горько, что ты уходишь, — сказал Картелл. — Но кто ты? Знаешь, я никогда не мог запомнить твое имя, к тому же в нем есть что-то странное. Ты же меняешь его все время вместе с внешностью. Кто ты, маленький к.?
— Только это. Только маленький к. Или, скажем, суб. к. Но, послушай, мы же не такие дураки, чтобы сейчас вдаваться в детали. Сейчас не время, Картелл. И помни: мы сами и есть наша лучшая работа, даже если все заканчивается так.
— Что мы должны делать? — скучно спросил Картелл.
— Простая трансференция, — объяснил кудесник. Он строил ящик, доска за доской.
— Я неплохой внутри, — протянул Картелл. — Я просто не понят.
— Да, мы замечательные люди внутри, Картелл. Я — твой внутренний человек, — сказал к. — Влезай в ящик.
— Я? Мне влезать? Я — Карл "Великий Замбези" Картелл! Ты только маленький суб. к., какая-то часть меня. Я не полезу!
— Влезай, Карл, — повторил Конфуций. — Ошибка была сделана с самого начала, не ты должен был увидеть свет. Но, неправильный, ты жил своей неправильной жизнью.
— Я буду драться, я буду царапаться и проклинать вас!
— Это как раз то, что должно делать здоровое подсознание, — сказал к. — Залезай.
— Я не пойду! Это убийство!
— Ничего подобного, Карло, ведь я-то останусь здесь!
Потом маленький к. и Вероника запихали Великого Замбези К.Картелла внутрь ящика и закрыли крышку. Пока они делали это, маленький к. сам превратился в Великого Замбези. Когда он открыл ящик, там, естественно, было пусто. Тюремщик начал было возражать, что у него должен быть заключенный, но Вероника протянула ему оставшиеся доски.
— Все там, приятель, — сказала она. — Найдешь себе там кого-нибудь…
И Великий Замбези с Вероникой ушли.
Замбези не был величайшим магом в мире, но, возможно, он стал им после того, как начал относиться к делу более просто. Публика не знала представлений более легких, веселых, смелых. После своей странной промежуточной жизни он достиг, конечно, новых вершин.
— Я ужасно рада, что ты преодолел свои внутренние трудности, — говорила ему любящая Вероника. — Уф! Я всегда знала, что внутри ты замечательный парень!
Перевод Евгении Диллендорф
Небо
Небом торговал лично мистер Фуртиф, с лицом лисы, глазами хорька, скользящий, словно змея, и живущий под Скалами. Скалы давно перестали быть символом процветания. Грандиозный комплекс построили на вредном участке земли (чтобы преобразить его), но вредная земля одержала победу. Апартаменты Скал теряли свой блеск по мере того, как их делили, вновь и вновь, на каморки. Скалы выветрились. Их прежние пастельные тона сменились на скучно-серые и коричневые.
Пять подземных уровней, служивших в лучшие времена парковкой для автомобилей, теперь были превращены в перенаселенные клети и ниши. Продавец неба жил в самой нижней, самой маленькой и самой дальней из них.
Он выходил исключительно ночью. Дневной свет убил бы его: мистер Фуртиф это знал. Он торговал под покровом самых темных ночных теней. У него было всего несколько (причем странно подобранных) клиентов, и никто не знал, кто его поставщик. Сам он утверждал, что не имеет поставщика, что собирает и производит товар сам.
Велкин Алауда, пышная, но легкая в движениях девушка (говорили, что ее кости пустотелые и заполнены гелием), пришла к торговцу небом перед самым рассветом, когда он уже начал нервничать, но еще не сбежал в подземелье.
— Мешочек неба от слабонервной мыши. Беги, или солнце поглотит твой дом! — пропела Велкин. Она была уже выше самих небес.
— Скорее, скорее! — поторопил торговец небом, протягивая ей мешочек. Его черные глаза дрожали и поблескивали (если бы настоящий свет когда-нибудь отразился в них, он бы ослеп).
Велкин взяла мешочек с небом и сунула купюры в мохнатые ладони продавца. (Правда? Да, правда.)
— Будь плоским, мир, будь мягким, воздух, там, где небо растет под землей, — пропела речитативом Велкин, пряча мешочек и упархивая вприпрыжку (у нее не было излишка веса, ее кости были полые). А продавец неба ринулся головой вперед в черный колодец шахты.
Этим утром на скай-дайвинг пришли четверо: сама Велкин, Карл Влигер, Икарус Райли и Джозеф Олзарси. Плюс пилот — нет, не тот, на кого вы подумали, тот уже пригрозил сдать их всех; они больше не пользовались его услугами, — плюс пилот Рональд Колибри со своим маленьким самолетом для опыления посевов.
Но самолет-опылитель не поднимется к морозным высотам, откуда они любили прыгать. Да нет же, он поднимется — если все на небе. Но он не герметичен и не оснащен запасом кислорода! Не имеет значения, если все на небе, если самолет на небе тоже.
Велкин приняла небо с газированным «Маунтин Весс». Карл втер его в губу, как нюхательный табак. Икарус Райли скатал и засмолил. Джозеф Олзарси вколол, смешав с алкогольным напитком, в самую большую вену на пенисе. Пилот Ронни — слизывал и жевал, словно сахарную пудру. Самолет по имени Сорокопут принял небо через топливопровод.
Пятьдесят тысяч футов — вам не подняться так высоко на кукурузнике. Тридцать ниже нуля — ах, это не холодно! Воздух слишком разрежен, чтобы дышать вообще, — с небом кому нужны такие дополнительные услуги, как воздух для дыхания?
Велкин шагнула наружу — и полетела вверх, не вниз. Она часто демонстрировала этот фокус. Она мало весила и всегда могла подняться выше, чем остальные из ее компании. Она поднималась все выше и выше, пока не растворилась в небе. Потом она спустилась обратно, полностью замкнутая в сферу из ледяного кристалла, сверкая внутри него и строя рожи остальным.
Ветер завывал и обжигал кожу, и дайверы прыгнули. Они все пошли вниз, планируя, скользя по воздуху и кувыркаясь; иногда замирая неподвижно — так казалось; даже поднимаясь немного вверх. Они спустились к облакам и рассыпались по ним; темно-белые облака с солнцем внутри, покрывающим их румянцем и сверху, и снизу. Они раскололи ледяную сферу Велкин, и она выбралась наружу. Они ели тонкие кусочки льда, очень холодные, хрупкие, с запахом озона. Олзарси снял футболку и загорал на облаке.
— Сгоришь, — крикнула ему Велкин. — Нигде так не сгорают, как на облаке.
Это точно.
Они провалились сквозь темную белизну облаков и вылетели на безграничный голубой простор с облаками сверху и снизу. Это было то самое место, которое использовала Гипподамия[15] для забегов на колесницах ввиду отсутствия подобного простора на земле. У горизонта нижние облака загибались вверх, а верхние облака загибались вниз, образуя замкнутое пространство.
— Здесь у нас собственная область неба, — сказал Икарус Райли (это были их ненастоящие, скай-дайверские имена), — и она обособлена от всех миров и людей. Миры и люди не существуют до тех пор, пока мы утверждаем, что они не существуют. Ось нашего нынешнего пространства — его собственная гармония. Следовательно, пока оно в идеальной гармонии, время не движется.
По крайней мере, все их часы остановились.
— Однако внизу есть мир, — сказал Карл. — Жалкий мир, и мы можем сохранять его таким вечно, если пожелаем. Хоть и призрачно, но он существует, и мы из сострадания позволим ему позже стать реальным. Пока же он — плоский, и мы должны настаивать, чтобы он таким и оставался.
— Это важно, — произнес Джозеф с глубокой значительностью человека, вещающего на небе. — До тех пор пока наше собственное пространство искривлено и замкнуто, мир должен оставаться плоским или вогнутым. Нельзя позволить ему выгнуть спину обратно. Если это случится, мы в опасности. До тех пор пока он истинно плоский и жалкий, разбиться о него невозможно.
— Как долго могли бы мы падать, — спросила Велкин, — если бы не остановили время, если бы позволили ему течь в его собственном темпе или в нашем? Как долго могли бы мы падать?
— Гефест однажды падал сквозь пространство целый день, — ответил Икарус Райли, — и дни были более чем длинные.
Карл Влигер вышел окосевшим из внутренней сексуальной страсти, которую он часто испытывал во время дайвинга; Икарус Райли как будто надышался веселящим газом — явные признаки окончания действия неба. Джозеф Олзарси почувствовал спиной холодный ветер и серию отрывистых коротких предчувствий.
— Мы не совершенны, — сказал Джозеф. — Завтра или послезавтра мы такими станем, ибо приближаемся к совершенству. Мы выигрываем раунд за раундом. Давайте не упустим нашу сегодняшнюю победу из-за легкомыслия. Земля немного выгнула старую спину, поэтому приготовьтесь! Теперь, парни, теперь!
Четверо (или, может быть, только трое) дернули за кольца. Парашюты вышелушились, распустились и рванули стропы вверх. Во время беседы они держались рядышком, как пучок. Но, внезапно, на подходе к земле, их разбросало на расстояние свыше пятисот ярдов.
Они снова собрались вместе. Упаковали парашюты. Дайвинг на сегодня закончился.
— Велкин, как ты смогла упаковать парашют так быстро? — спросил Икарус с подозрением.
— Я не знаю.
— Ты же самая медлительная из нас и самая неаккуратная. Кому-то все время приходится перепаковывать твой парашют. Плюс ко всему ты приземлилась последней. Как ты умудрилась сложить парашют быстрее всех? При этом свернуть его так хорошо? Он выглядит, как моя укладка, именно так я свернул его тебе перед сегодняшним вылетом.
— Я не знаю, Икарус. Ой, кажется, я поднимусь еще раз, прямо вверх.
— Нет, ты плавала и ныряла достаточно для одного утра. Велкин, ты точно раскрывала парашют?
— Я не знаю.
Они снова поднялись следующим утром, уже будучи высоко на небе. Маленький самолет, носивший имя Сорокопут, летел ввысь, как ни один самолет не летал раньше, вверх сквозь бурю. Охваченная бурей земля съежилась до размера горошины.
— Мы проделаем с ней фокус, — сказала Велкин. — Будучи на небе, ты можешь проделывать этот трюк с любым объектом, подчиняя его себе. Я скажу, что горошина, которая была миром, — ничто. Смотрите, она исчезла. Потом я выберу другую горошину, вон ту например, и назову ее миром. И это мир, в который мы скоро спустимся. Я переключила миры в мире, и он не понимает, что случилось с ним.
— Все же он встревожен, — Джозеф Олзарси говорил, раздувая ноздри. — Ты встряхнула его. Неудивительно, что у мира бывают моменты неуверенности в себе.
Они поднялись до уровня миллион футов. Альтиметр не был рассчитан на такую высоту, но пилот Рональд Колибри подрисовал дополнительные деления мелком. Велкин шагнула наружу. Карл, Икарус и Джозеф — следом. Рональд Колибри тоже шагнул наружу, но вовремя вспомнил, что он пилот, и вернулся в самолет. На такой высоте небо черное и звездное, а не голубое. От сильного холода пустое пространство было полно трещин и выбоин. Они нырнули на полмиллиона футов вниз за долю секунды и остановились со смехом.
Прыжок бодрил тело и дух. Они топтали облака, и те звенели как мерзлый грунт. Это была родина всего заиндевевшего, снежно-зернистого и сверкающе-ледяного. Место, где обитали создатель погоды и ветер-сын. Они вошли в пещеру изо льда, смешанного с мореной;[16] они нашли топоры из оленьих рогов и кости хемициона;[17] они нашли угли, еще горячие. Ветры лаяли и стаями охотились по ущельям. Это были холодные мезосферные облака, а их местоположение обычно очень высоко.
Они спустились ниже бури в поисках нового солнца и нового воздуха. Здесь было бабье лето, глубокая небесная осень.
Они нырнули еще ниже, сквозь мили и тысячелетия, в настоящее небесное лето: воздух здесь был настолько голубой, что покрылся фиолетовой патиной. И снова вокруг них образовалось их собственное пространство, как это происходило каждый раз, и время остановилось.
Но не движение! Движение для них не прекращалось. Или вы не в курсе, что ничто в пустоте все же может двигаться? А уж тем более они в собственном пространстве! Там была динамика; был поддерживающий вихрь; там была полная безмятежность стремительного перемещения.
Но разве движение не является простым взаимоотношением пространства и времени? Нет. Это общая идея для людей, живущих в мирах, но это субъективная идея. Здесь, за пределами возможного влияния любых миров, существовало безотносительное движение.
— Велкин, ты выглядишь сегодня как-то иначе, — удивленно произнес Джозеф Олзарси. — Почему?
— Я не знаю. Чудесно быть иной, и я чудесная.
— Как будто чего-то не хватает, — сказал Икарус. — Думаю, не хватает какого-нибудь изъяна.
— Но я лишена изъянов, Икарус.
Они были в главном, вечном моменте, и он не кончался, не мог кончиться, он все длился и длился. Если бы теперь что-то и случилось, то только в скобках к данному моменту.
— Пора обсудить еще раз, — задумчиво произнес Икарус спустя некоторое время. (Нет времени или промежутка времени в моменте, есть только в скобках.) — Надеюсь, это последнее обсуждение. Мы, разумеется, находимся в нашем собственном пространстве вне времени и его касательной. Однако земля, какой бы она ни была, приближается с большой вероятностью и скоростью.
— Но она ничто для нас! — внезапно взорвался Карл Влигер изнутри хтонической и фаллической страсти. — Мы можем расколотить ее вдребезги! Мы можем разнести ее на куски, как глиняную мишень! Она не может мчаться на нас, как бешеная собака. Стоять, мир! Рядом, ты, шавка! Рядом, я сказал!
— Мы приказываем одному миру «Восходи!», и он восходит, а другому «Рядом!», и он следует по пятам, — небо-высказался Икарус в своей динамичной безмятежности.
— Пока еще нет, — предупредил Джозеф Олзарси. — Завтра будем готовы абсолютно. Сегодня пока нет. Возможно, мы могли бы разбить мир, как глиняную мишень, если бы пожелали, но мы не станем его хозяевами, если разобьем.
— Мы всегда можем создать другой мир, — разумно заметила Велкин.
— Безусловно, но этот — наш тест. Мы пойдем к нему, когда он склонит перед нами голову. Мы не можем позволить ему наброситься на нас. Стоять! Стоять там, тебе говорят!
И стремительно приближающийся мир испуганно замер.
— Мы спускаемся, — сказал Джозеф. — Мы позволим ему подняться, только когда он будет как следует разрушен.
(«И наклонили они небеса и сошли».)
И снова трое из них дернули за кольца. Парашюты вышелушились, распустились и рванули стропы вверх. Все были вместе, как пучок, в их главном, вечном моменте; но теперь, на подходе к земле, их внезапно разбросало на расстояние более пятисот ярдов.
— Велкин, сегодня у тебя вообще нет парашюта! — Икарус глазел на нее с некоторым благоговением, когда они собрались снова вместе. — Вот чем ты отличалась от нас.
— Да, кажется, у меня его не было. Зачем брать с собой парашют, если он не нужен? На самом деле у меня никогда не было причин таскать с собой подержанный парашют.
— Али, мы были сегодня абсолютно готовы и не знали этого, — Джозеф осмелел. — Завтра никто не надевает парашюты. Это проще, чем я думал.
Ночью Велкин пришла к продавцу неба, чтобы купить новую порцию. Не найдя его в тени Скал, она пошла вниз. Она спускалась все ниже и ниже, окруженная фунгоидным запахом и гулкой сыростью подземелья. Она шла по проходам, сделанным руками человека, по проходам естественного происхождения и по проходам неестественного происхождения. Некоторые из этих коридоров — это правда — были когда-то построены людьми, но потом обветшали и стали самыми неестественными подземными пещерами. Велкин спускалась в абсолютную темноту, туда, где росли маленькие создания, которые безмолвно выжимали из себя бледный белый цвет; но это был неправильный белый цвет, и создания все были неправильной формы.
Мертвенно-белая призрачность ткани мицелия, гротескность шампиньона, деформированность бледной поганки и сморчка. Серо-розовый млечник светился фонариками в темноте; голубовато-белым отсвечивали говорушки и желто-белым — кесарев мухомор. Нездоровый призрачно-белый свет исходил от самого опасного и эксцентричного из всех из них — мухомора, и его собирал крот.
— Крот, принеси неба для ржавого Безоблачного Неба, для гордых фаворитов и королевы воздуха, — нарушила тишину Велкин. Она была все еще высоко на небе, но оно уже начало покидать ее, и Велкин испытывала все более реальное прикосновение опустошающей слабости.
— Неба для королевы жужжащих трутней с ее пустотелым сердцем и пустотелыми костями, — произнес нараспев глухим голосом продавец неба.
— И посвежее. О, я хочу свежего, свежего неба! — воскликнула Велкин.
— Для этих созданий не существует такого понятия, как свежесть, — возразил продавец неба. — Ты хочешь его плесневелый. О, такой плесневелый! Проросший, старый, с плесенью внутри.
— Который из них? — требовательно спросила Велкин. — Как называется тот, из которого ты добываешь небо?
— Мухомор.
— Но разве это не просто ядовитый гриб?
— Не совсем. Он сублимирован. Его простой яд при повторном брожении образует наркотик.
— Но это же так банально — просто «наркотик».
— Не просто наркотик. Это что-то особое в самом наркотике.
— Да нет же, совсем не наркотик! — запротестовала Велкин. — Это освобождение, это сокрушение мира. Это абсолютная высота. Это движение и сама отрешенность. Это венец. Это мастерство.
— В таком случае это мастерство, леди. Это самое высшее и самое низшее из всего созданного.
— Нет, нет, — снова запротестовала Велкин, — не созданного. Это не рождено и не сделано. Не могу выразить словами. Это наилучшее из несозданного.
— Бери, бери, — проворчал продавец неба, — и уходи. Что-то мне совсем плохо.
— Иду! — воскликнула Велкин — И вернусь еще много раз!
— Не вернешься. Никто не возвращался за небом много раз. Ты больше не вернешься. Максимум еще разок. Думаю, ты вернешься еще один раз.
Они вновь поднялись в небо на следующее утро. Последнее утро. Ну зачем говорить, что это было последнее утро? Потому что больше не будет никаких времен суток для них. А будет один последний вечный день, который ничто не сможет прервать.
Они поднялись на самолете, который некогда носил имя Сорокопут, а теперь назывался Вечный Орел. Самолет перекрасил за ночь борта и нанес новое имя и новые символы, часть из которых не сразу можно было понять. Самолет всосал небо через топливопровод, ухмыльнулся, взревел и поднялся в воздух.
О, святой Иерусалим небесный! Как он пошел вверх!
Они, несомненно, стали совершенными, им больше не требовалось небо. Они сами были небо.
— Какой крошечный мир! — прозвенела Велкин. — Небольшие городки как пятнышки мушиных фекалий, а мегаполисы как мухи.
— Несправедливо, что такое низкое существо, как муха, носит такое возвышенное имя, — пожаловался Икарус.
— Это исправимо, — пропела Велкин. — Повелеваю: все мухи на земле, умрите!
И все мухи на земле умерли в один момент.
— Не думал, что ты справишься, — сказал Джозеф Олзарси. — Несправедливость устранена. Теперь благородное имя мух принимаем мы. Нет больше мух кроме нас!
Все пятеро, включая пилота Рональда Колибри, выпрыгнули из Вечного Орла без парашютов.
— У тебя все будет в порядке? — спросил Рональд у бесшабашного самолета.
— Как пить дать, — ответил кукурузник. — Мне кажется, я знаю, где летает еще один Вечный Орел. У меня будет пара.
Было безоблачно, а может, они изобрели способ видеть сквозь облака. Или из-за того, что земля превратилась в такой маленький кусочек мрамора, облака вокруг нее стали несущественны. Чистый свет со всех сторон! (Солнце тоже стало несущественным и светило еле-еле.) Чистое стремительное движение, которое не имело привязки к местоположению и никуда их не перемещало (они уже были везде, или в суперзаряженном центре всего).
Чистая лихорадка от холода. Чистая безмятежность. Аморальная гиперпространственная страсть Карла Влигера, а потом и всех их; но это было во всяком случае чистое неистовство. Потрясающая красота всего окружающего наряду со вздымающейся скалистостью, которая была как раз достаточно уродлива, чтобы вызвать исступление.
Велкин Алауда превратилась в мифическое существо с кувшинками в волосах. И не обязательно говорить, что носил в своих волосах Джозеф Олзарси. Всегда мгновенные миллион или миллиард лет!
И никакой монотонности, нет! Представление! Живые съемочные площадки! Декорации! Сцены создавались для осколка момента; но они создавались навсегда. Целые миры, созревшие в беременной пустоте: не только сферические миры, но и додекасферические, и еще гораздо более сложные. Не просто семь цветов, чтобы поиграться, а семью семь и еще раз на семь.
Звезды, ясные в ярком свете. Вы, которые видели звезды только в темноте, молчите! Астероиды, которые они поедали как арахис, теперь превратились в метафорических гигантов. Галактики как стадо буйных слонов. Мосты, такие длинные, что оба их конца выступали за края скорости света. Водопады чистейшей воды, которая отскакивала от скоплений галактик, словно те были валунами.
Из-за некоторой неумелости в обращении Велкин погасила старое Солнце одним таким отскакивающим потоком.
— Ну и фиг с ним, — сказал ей Икарус. — Миллион или миллиард лет минул, считая по временной шкале людей, и, естественно, Солнце уже начало гаснуть. Ты всегда можешь создать другое.
Карл Влигер отливал молнии-болты миллионы парсеков длиной и скреплял галактики скоплений в форме спирали.
— Вы уверены, что мы не тратим время? — спросила Велкин с некоторым опасением.
— О, время по-прежнему тратится само, но мы в безопасности, вне досягаемости всего этого, — объяснил Джозеф. — Время — всего лишь неэффективный метод подсчета. Он неэффективный, потому что ограничен в своих числах и потому что счетчик такой системы должен умереть, когда достигнет конца серии. Один этот аргумент доказывает бессмысленность времени как математической системы.
— Значит, нам ничто не угрожает? — Велкин желала определенности.
— Нет, ничто не может добраться до нас, кроме как внутри времени, а мы — вне его. Ничто не может столкнуться с нами, кроме как в пространстве, а мы пренебрегли пространством. Стоп, Карл! Когда ты делаешь так, это содомия.
— У меня червь в моем собственном тракте, и он грызет меня слегка, — сказал пилот Рональд Колибри. — Он в моем внутреннем пространстве и движется с приличной скоростью.
— Нет, нет, это невозможно. Ничего не может достичь нас или нанести нам вред, — повторил Джозеф с настойчивостью в голосе.
— У меня червь в моем собственном еще более внутреннем тракте, — сказал Икарус, — тракт, который не найти ни в голове, ни в сердце, ни в кишечнике. Может быть, этот тракт всегда был вне пространства. Да, мой червь не грызет меня, но он шевелится. Может быть, я устал от того, что я вне досягаемости всего.
— Откуда эти сомнения? — произнес Джозеф недовольным тоном. — У тебя их не было мгновение назад, у тебя их не было недавние миллионы лет. Как они могут быть у тебя сейчас, когда нет никаких «сейчас»?
— Ну, что до этого… — начал Икарус (и миллион лет минул), — что до этого, то у меня что-то типа огромного любопытства по поводу объекта в моем прошлом, — (и еще один миллион лет минул), — объекта под названием «мир».
— Ну тогда удовлетвори свое любопытство, — огрызнулся Карл Влигер. — Или ты не знаешь, как сотворить мир?
— Конечно, знаю, но будет ли он тем же самым…
— Будет, если хорошенько потрудиться. Он будет тем же самым, если ты сделаешь его тем же самым.
Икарус Райли сотворил мир. Он недостаточно потрудился, и мир не был полностью тем же самым, но чуточку походил на старый мир.
— Я хочу посмотреть, есть ли там кое-какие вещи, — потребовала Велкин. — Придвинь его поближе.
— Вряд ли то, что ты ищешь, все еще там, — сказал Джозеф. — Вспомни, сколько миллионов лет прошло.
— Они будут там, если я помещу их туда, — возразил Икарус.
— И ты не сможешь придвинуть его ближе, поскольку все расстояния теперь бесконечны, — поддержал Джозефа Карл.
— По крайней мере, я могу изменить фокус и навести резкость, — возразил Икарус и так и сделал. Мир оказался совсем рядом.
— Он помнит нас, как щенок, — сказала Велкин. — Смотрите, он прыгает на нас.
— Скорее, как лев, старающийся допрыгнуть до охотника, который сидит высоко на дереве вне пределов досягаемости льва, — сказал Икарус, испытывая недоброе предчувствие. — Но мы-то не на дереве.
— Он никогда не достигнет нас, а он хочет, — Велкин вошла в пике. — Давайте спустимся к нему.
(«И наклонили они небеса и сошли».)
Очень странная вещь приключилась с Рональдом Колибри, когда он коснулся земли. Казалось, у него начался припадок. Его лицо обмякло, потом на нем появился ужас. Он не отвечал остальным.
— Что случилось, Рональд? Ответь! — умоляла Велкин со сходным выражением страдания на лице. — Ой, что это? Кто-нибудь, помогите ему!
Потом с Рональдом Колибри стала происходить еще более странная вещь. Он начал складываться и ломаться, снизу вверх. Кости медленно раскалывались и протыкали кожу изнутри, его внутренности хлынули наружу. Он плющился. Он дробился. Он расплескивался. Как может человек расплескиваться?
Такой же припадок настиг Карла Влигера: идентичная вялость и ужас на лице, идентичное разрушение снизу, та же самая отвратительная последовательность.
Потом очередь дошла до Джозефа Олзарси.
— Икарус, что с ними произошло? — завопила Велкин. — Что это за медленный громкий «бум»?
— Они мертвы. Как такое возможно? — Икарус лихорадочно соображал, трясясь от страха. — Ведь смерть — во времени, а мы — вне его.
Икарус сам испытал течение времени, когда врезался в землю, разрушаясь и разливаясь более одиозно, чем любой из них.
И Велкин коснулась земли, врезалась, и что потом? Она слышала свой собственный замедленный громкий «бум», пока сплющивалась о землю.
(Еще один миллион лет минул. Или несколько недель.)
Трясущаяся старуха на костылях ковыляла вниз темными проходами в глубине Скал. Слишком старая, чтобы быть Велкин Алауда, но не слишком старая для Велкин, которая прожила миллионы лет вне времени.
Она не погибла. Она была легче, чем остальные, и, кроме того, она делала это уже дважды, прежде без каких-либо последствий. Но это было до того, как она познала страх.
Естественно, ей сказали, что она больше никогда не будет ходить; и теперь очень неестественно она передвигалась с помощью костылей. Сопровождаемая фунгоидным запахом и гулкой сыростью, она ковыляла в абсолютную темноту, туда, где маленькие создания неестественной формы источали неестественный свет. Она желала только одного, без чего не могла жить.
— Неба ради спасения старой разбитой карги! Неба на благо моих пустотелых костей! — потрескивала она старушечьим голосом. Но только ее собственный голос возвращался к ней эхом.
Разве должен продавец неба жить вечно?
Перевод Сергея Гонтарева
Вначале был костыль
Рядом с ними он выглядел набитым дураком.
С кем это — с ними? С гениальными творцами? С титанами мысли? Рядом с теми, чьи открытия определили будущее?
Вовсе нет. Просто он был глупее всех дураков.
Дети, родившиеся одновременно с ним, оказались сметливее, как, впрочем, и те, кто появился на свет позже. Он был самым тупоголовым из всех маленьких тупиц, когда-либо подавших голос. Даже его мать была вынуждена признать, что Альберт немного недоразвит. Что еще можно сказать о ребенке, сказавшем первое слово в четыре года, научившемся пользоваться ложкой в шесть, а дверной задвижкой в восемь лет? Как иначе можно назвать мальчика, который не может правильно обуться и ходит с натертыми ногами? И который, зевнув, постоянно забывает закрыть рот?
Сущность многих предметов навсегда осталась выше его понимания, как, например, назначение большой стрелки часов. Но эта тайна не занимала Альберта. Он никогда не стремился узнать точное время.
В возрасте восьми с половиной лет Альберт достиг большого успеха: он научился различать правую и левую руки. Для этого ему пришлось выдумать для себя сложную систему подсказок. Учитывалось помахивание собачьего хвоста, направление смерчей и водоворотов, а также с какого бока надо подходить к корове, чтобы подоить ее, и с какого к лошади, чтобы оседлать. Имели значение форма дубовых и платановых листьев, узоры мха, расположение слоев в известняке, направление полета ястреба, описывающего круги в небе, движение охотящегося скорпиона и свертывающейся в кольцо змеи (причем, надо было помнить, что гремучая змея является исключением из правил), очертания ветвей сосны, особенности норы скунса или барсука (не забывая, что скунсы иногда пользуются заброшенными барсучьими норами). Итак, Альберт наконец научился различать «право» и «лево», но надо заметить, что нормальный ребенок сумел бы освоить эту науку и без подобной чепухи.
Альберт так никогда и не научился писать разборчиво. Чтобы избежать неприятностей в школе, ему пришлось схитрить. Используя велосипедный спидометр, миниатюрный моторчик, крошечные грузики со смещенным центром тяжести и батарейки, тайком вытащенные из отцовского слухового аппарата, Альберт смастерил машинку, которая стала писать вместо него. Она была не больше муравьиной личинки и закреплялась на карандаше или ручке, так что Альберт мог спрятать устройство между пальцами. Машинка выводила буквы — Альберту же оставалось только выбирать шрифт в соответствии с образцом, данным в учебнике. Конечно же, это было мошенничество, но что еще может предпринять мальчишка, который слишком туп, чтобы научиться писать мало-мальски сносным почерком.
Альберту абсолютно не давался счет. И потому он был вынужден сделать еще одну машину — ту, что считала за него. В результате получился механизм величиной с ладонь, способный складывать, вычитать, умножать и делить. В следующем году, когда Альберт был уже в девятом классе, учебная программа усложнилась, и незадачливому ученику пришлось усовершенствовать свое изобретение. Теперь новинка справлялась с квадратными и кубическими уравнениями. Если бы не все эти хитрости, Альберт не получил бы ни одной удовлетворительной отметки.
Когда подростку исполнилось пятнадцать лет, его ожидала очередная трудность. Ах нет, читатель! Сказать «трудность», значит, ничего не сказать о проблемах Альберта. Дело в том, что он робел перед девушками.
И что же делать в таких случаях?
«Сконструирую-ка я машину, которая не боится девчонок», — сказал себе Альберт и принялся за работу. Устройство было уже почти готово, когда одна мысль начала беспокоить изобретателя: «Но ведь любая машина не боится девчонок. Может ли мне это помочь?».
Но тут его размышления зашли в тупик, метод аналогий не сработал. И Альберт сделал то, что делал всегда. Он схитрил.
Из старой пианолы, найденной на чердаке, он извлек программирующий ролик; потом отыскал подходящую коробку передач; вместо перфорированных нот, свернутых в рулоны, он использовал намагниченные платы, а в матрицу поместил экземпляр «Логики» Уормвуда — и получил логическую машину для ответов на различные вопросы.
— Почему я боюсь девчонок? Что происходит со мной? — задал Альберт вопрос своей логической машине.
— С тобой ничего не случилось, — ответила машина. — Вполне логично бояться девочек. Они и на меня нагоняют страх.
— Но что мне делать?
— Подожди, пока наступит время и возникнут должные обстоятельства. Придется набраться терпения. Если только ты не хочешь перехитрить…
— Да-да, хочу, и что же мне делать?
— Создай машину, Альберт, которая будет похожа на тебя и станет говорить так же, как ты. Только пусть она будет потолковей и решительней. И — о, Альберт — вложи в нее одну вещицу на всякий случай. Я прошепчу ее название. Это опасная штука.
И Альберт сделал Малыша Денни — робота, похожего на него и внешностью, и голосом, но только более смышленного и решительного. Он ввел в память своего изобретения шуточки и остроты из журналов «Псих» и «Насмешка», а потом они отправились на поиски приключений.
Альберт и Малыш Денни нанесли визит Элис.
— Ах, какая прелесть! — сказала Элис. — Почему ты не можешь быть таким же, Альберт? Ты и вправду так мил, Малыш Денни! Ах, Альберт, отчего ты так глуп, тогда как Малыш Денни такой славный?
— Я, гм… я не знаю… — только и смог пробормотать Альберт.
— Похоже на рыбью икоту! — к месту вставил Малыш Денни.
— Вот умора! — радостно воскликнула Элис. — Альберт, почему бы тебе не выражаться так же остроумно, как Малыш Денни? Почему ты такой рохля?
Робот явно вел подрывную работу, однако Альберт не отказывался от него. Он снабдил Малыша Денни новой программой. Теперь тот мог играть на гавайской гитаре и петь. Элис по-прежнему была без ума от Малыша Денни и третировала Альберта. Но в один прекрасный день ему это надоело.
— За-заче-зачем нам нужна эта кукла? — спросил Альберт. — Я сделал ее только затем, чтобы раз-развле… чтобы рассмешить тебя. Давай уйдем и бросим его.
— Уйти с тобой, Альберт? — возмутилась Элис. — Но ведь ты глуп! Мы поступим по-другому. Уйдем с Малышом Денни, а тебя оставим. Так будет гораздо веселее!
— Правда, кому он нужен? — подхватил Малыш Денни. — Чеши отсюда, приятель!
И Альберт ушел. Его радовало лишь одно: по совету своей логической машины он кое-что вложил в Малыша Денни. Изобретатель удалился от машины на пятьдесят шагов. Потом на сто. «Достаточно», — решил он и, сунув руку в карман, нажал на кнопочку.
Никто, кроме Альберта и его логической машины, не объяснил бы причину последовавшего взрыва. Крошечные колесики и шестеренки из туловища Малыша Денни фонтаном брызнули во все стороны.
Альберт хорошо усвоил урок, преподанный ему логической машиной: «Никогда не создавай того, от чего нельзя избавиться!»
Альберт был слишком бестолков, чтобы зарабатывать на жизнь своим трудом. Ему ничего не оставалось, как продавать свои хитроумные изобретения ловким посредникам и фирмам сомнительной репутации. Но все же он приобрел некоторую известность и даже скопил кое-какое состояние.
Нерасторопность мешала Альберту решать финансовые проблемы, но он смастерил машину-бухгалтера, которая сумела выгодно вложить его деньги. Порой пройдоха-машина пускалась в такие аферы, что ее создатель и сам был не рад.
Не сказать, чтобы Альберт был таким уж одиноким. Среди его соратников был карфагенянин, который в силу тупоумия не сумел освоить иероглифическое письмо и выдумал уродливый короткий алфавит, доступный даже кретинам. Был и безымянный араб, способный считать только до десяти и создавший десятичную систему исчисления для младенцев и идиотов. Был немец со своим печатным станком, превратившим изящные манускрипты в грубые стандартные книги. Альберт оказался в этой жалкой компании.
Сам по себе Альберт был ни на что не годен. Но он умел создавать машины, способные абсолютно на все. Вам, конечно, известно, что с давних пор наши города задыхаются от смога. Но воздух можно очистить достаточно простым способом. Все, что для этого требуется, — это помпа. И Альберт создал откачивающую машину. Он включал ее по утрам. Машина очищала воздух в радиусе трехсот ярдов вокруг его дома и за каждые 24 часа накапливала в своей утробе около тонны осадка. Этот осадок, богатый полифункциональными молекулами, шел на корм одной из его химических машин.
— Почему бы вам не очистить весь воздух? — спрашивали люди.
— Потому что Кларен Дезоксирибонуклеиконибус не нуждается в большем количестве осадка, — отвечал Альберт. Так он называл свою химическую машину.
— Но смог убивает нас, — жаловались люди. — Смилуйтесь!
— Ну, хорошо, — смилостивился Альберт. И скомандовал одному из своих воспроизводящих агрегатов сделать столько машин-помп, сколько необходимо.
С годами у Альберта развился комплекс неполноценности. Заявлял о себе он в основном тогда, когда Альберту приходилось общаться со своими машинами, особенно с теми, которые имели человеческий вид. У изобретателя не было и доли их остроумия, живости или сообразительности. Он был просто дубиной рядом с ним, и они недвусмысленно давали это понять.
Одна из машин Альберта заседала в кабинете министров. Другая была членом Главного совета Всемирной организации наблюдателей, обеспечивающей мир во всех уголках земли. Третья председательствовала в обществе «Богатство без границ» — неправительственном органе, гарантирующем умеренные материальные блага каждому человеку. Еще одна занимала руководящий пост в Фонде здоровья и долголетия, который снабжал всех желающих и тем, и другим. Почему бы таким замечательным и преуспевающим особам не смотреть сверху вниз на своего захудалого родича?
«Я разбогател из-за курьеза, — однажды подумал Альберт, — и мое благосостояние — результат ошибки. Но на всей Земле нет машины или человека, который был бы моим настоящим другом. У меня есть книга о том, как приобрести друзей, но я не умею следовать ее советам. Но я сам создам себе друга!»
И Альберт принялся за его изготовление.
Он сотворил Беднягу Чарльза, робота, такого же глупого, бестолкового и непутевого, как он сам. «Теперь у меня будет товарищ», — решил Альберт, но его надежды не оправдались. Сложите два нуля — и вы все равно получите нуль. Недотепа Чарльз был слишком похож на Альберта.
Бедный Чарльз! Лишенный способности мыслить, он сделал машину (все та же надоевшая история, не так ли?), которая могла думать за него и…
Понятно без лишних слов! Среди всех машин Альберта один лишь Бедняга Чарльз решился на подобный шаг.
Но что сделано, то сделано. Однажды Альберт оказался невольным свидетелем беседы двух роботов. Неприятный сюрприз: оказалось, что машина, созданная Беднягой Чарльзом, полностью овладела ситуацией и вертит им как хочет. Машина машины, устройство, созданное для того, чтобы думать за изобретателя, читало настоящую лекцию, да притом в выражениях, способных унизить кого угодно.
— Выживут только придурки и слабоумные, — бубнила эта чертова машина машины. — Греки не знали изобретательства в период расцвета. Они не знали ни усилителей энергии, ни станков. Они поступали так, как всегда поступают умные машины или думающие люди, — они использовали труд рабов. Эллины не опускались до выдумок. Они, с легкостью решавшие трудные задачи, не искали простейших путей. Но безголовым суждено изобретать. Простофилям суждено изобретать. Дуракам суждено изобретать. И мошенникам суждено изобретать.
Альберт в порыве внезапного гнева уничтожил и Чарльза, и его изобретение. Но он знал, что машина его машины сказала правду.
Альберт был подавлен. Умный человек наверняка понял бы, что с ним происходит. Но Альберт лишь интуитивно догадывался, что у него нет и никогда не будет никакой интуиции. Не видя выхода, он произвел на свет машину, которую назвал «Озарение».
По всем показателям это была наихудшая машина из всех когда-либо сделанных им. Не зря все другие его машины собрались вокруг и освистали изобретателя.
— Эй, парень, ты сдурел? — насмехались они, — что за примитивная вещь! Поглощать энергию из окружающей среды! Еще двадцать лет назад мы убедили тебя выбросить подобные идеи из головы и снабдить всех нас кодированной энергией.
— А о социальных волнениях вы подумали? — слабо отбивался Альберт. — Ведь вас отрежут от источников питания… Озарение будет функционировать, даже если человечество сметут с лица Земли.
— Но оно даже не подключено к нашей информационной матрице, — не отставали машины. — Оно хуже Бедняги Чарльза!
— Зато вполне вероятно, что оно войдет в моду, — защищался Альберт.
— Оно писается! — продолжали атаку машины, к слову сказать, всегда отличающиеся изысканными манерами. — Взгляни! По всему полу — лужи смазочного масла!
— Я хорошо помню детство и понимаю бедолагу, — сказал Альберт.
— И все-таки, на что оно нужно? — задали машины вопрос по существу.
— Ну… у него интуиция, — промямлил Альберт.
Машины разразились негодованием:
— Ну вот что! Мы проведем выборы и заменим тебя на посту Главного координатора.
«Босс, я интуитивно догадываюсь, как можно сорвать их план», — прошептало Озарение. Надо отметить, что машина в этот момент еще не была окончательно собрана.
«Они блефуют, — прошептал в ответ Альберт. — Моя первая логическая машина учила меня не делать машин, от которых нельзя избавиться. Они у меня в руках, и им это известно».
«Возможно, придут трудные времена, а тогда и я на что-нибудь сгожусь», — сказало Озарение.
Только однажды, уже будучи стариком, Альберт подчинился внезапному порыву и поступил прямодушно. В тот вечер Альберту вручали Приз Финнерти-Хохмана — самую почетную награду, которой научный мир удостаивал лучших своих представителей. Странно, конечно, что они остановили свой выбор на Альберте. Однако куда ни кинь — почти все значительные изобретения последних тридцати лет так или иначе были связаны с его именем.
Как выглядит этот приз — известно. Статуэтка изображала Эврему, многоликую греческую богиню изобретателей. Вскинув руки, она словно готовилась к полету.
У Альберта было заготовлено выступление, написанное его машиной для составления речей. Но по неясным причинам он решил на этот раз обойтись без чьей-то помощи. Дело завершилось катастрофой. Когда Альберт услышал свое имя, он поднялся и, заикаясь, принялся молоть ерунду.
— Только в больном молюске зарождается жемчужина, — начал он, и все изумленно уставились на него. — Но, может быть, мне подсунули другой приз? — неуверенно продолжал Альберт, тараша при этом глаза на скульптуру. — Эврема выглядит по-другому. Нет, это не она. Эврема ходит задом наперед, и к тому же она слепа. А ее мать — безмозглая корова.
Собравшиеся наблюдали за ним с выражением сочувствия.
— Для роста необходима закваска, — пытался объяснить Альберт. — Но дрожжи сами по себе — не что иное, как проявление грибкового заболевания. Все вы скроены по одному стандарту, блистательны и величавы. Но вы не можете обойтись без тех, кто не соответствует вашим нормам. Кто же будет изобретать, если не станет ни ущербных, ни глупцов? Что вы будете делать, когда не останется ни одного из нас, неполноценных? Кто будет месить тесто?
— Вы нездоровы? — тихо осведомился церемониймейстер. — Может, лучше закончить? Вас поймут.
— Конечно, я не здоров. Да никогда и не был здоровым, — согласился Альберт. — Иначе что бы из меня получилось? Вам представляется, что все должны быть нормальными и приспособленными к жизни. Нет и нет! Если бы было по-вашему, человечество погрязло бы в косности и вымерло. Естественный порядок жизни на Земле существует благодаря нескольким не совсем нормальным личностям, которые держатся в тени. Не мотыга, не долото и не лом были первыми орудиями человека. Прежде всего появился костыль, и тот, кто смастерил его себе в помощь, был, конечно, немощным калекой.
— Скорее всего, вам лучше отдохнуть, — тихо обратился к Альберту распорядитель. Никогда еще эти стены не слышали подобного вздора!
— Вы, конечно, уверены, что впереди стада шествует могучий бык, а следом — самые крепкие животные, — продолжил Альберт. — Нет, дорогу выбирают увечные или больные телята! Все, что выживает вопреки тяжелым обстоятельствам, покоится на несуразностях. Послушайте, как говорят женщины: «Мой муж кретин, но я всегда терпеть не могла Вашингтон в летние месяцы».
Все остолбенело уставились на Альберта.
— Это была моя первая шутка в жизни, — нескладно объяснил оратор. — Моя машина-шутник острит гораздо удачнее. — Он остановился, бросил взгляд на присутствующих и набрал побольше воздуху. — Дураки! — страстно провозгласил он. — Что вы будете делать, когда умрет последний из дураков? Как вы продержитесь без нас?
Альберт замолчал, но, по обыкновению, забыл закрыть рот. Он так и замер с выпученными глазами. Изобретателя отвели на место. Его машина по связям с общественностью пояснила, что Альберт переутомился, и раздала копии речи, с которой тот должен был выступить.
Печально, что великие мира сего только на то и годны, чтобы быть великими.
В тот год был издан указ о проведении переписи населения всей страны. Декрет был подписан Чезаре Панебьянко, президентом государства. После предыдущей переписи прошло десять лет, и поэтому в указе не было ничего необычного. Тем не менее, поступило специальное распоряжение охватить переписью людей без определенных занятий и недееспособных. Раньше эти несчастные никого не интересовали. Но теперь из гуманных соображений ими решили заняться. Таким образом Альберт попал в сферу интересов правительства. Да и вряд ли кто-нибудь больше, чем он, подходил на роль отверженного.
И вот Альберт оказался в компании с другими никчемными людишками. Чиновники помогли ему усесться и стали задавать разные вопросы.
— Как вас зовут?
Он всегда путал свое имя, но тут сосредоточился и ответил:
— Альберт.
— Который час?
Это был удар ниже пояса. Где часовая стрелка, а где минутная? Он разинул рот, но ничего не ответил.
— Вы умеете читать?
— Только с помощью моей… — начал Альберт. — Я не захватил с собою мою… Нет, я едва умею читать.
— Попытайтесь.
И они протянули ему листок с текстом, в котором он должен был найти правильные и ошибочные утверждения. Он отметил все утверждения как верные, надеясь, что таким образом справится хотя бы с половиной задания. Но все положения оказались неправильными. Потом Альберт получил задание вставить слова в пословицы.
«Семь бед —… ответ» — эта фраза требовала массы математических операций. «Имеются три неизвестных, — лихорадочно размышлял он про себя, — и только одна положительная величина — семь. Слово «ответ» мало что говорит. Я не могу решить это уравнение. Я даже не уверен, что передо мной уравнение. Вот если бы со мной была моя…»
Но все его машины и устройства были далеко. Пришло время действовать самостоятельно. Он не заполнил ни одного пропуска в пословицах. Но вдруг перед ним забрезжила надежда.
«…— мать изобретательства», — гласила очередная пословица.
«Глупость» — вывел Альберт, как курица лапой. И выпрямился, ощущая себя победителем. «Уж я-то знаю эту самую Эврему и ее мать, — хихикнул он, — о, Господи, как хорошо я ее знаю!»
Но они не засчитали и этот ответ. Альберт провалился по каждому вопросу всех тестов. Тогда они решили направить его в передовой приют для умалишенных, где он мог бы научиться делать что-нибудь руками — было очевидно, что его голова ни на что не годилась.
Две машины пришли за ним и вызволили его оттуда. Они сказали: да, конечно, он тунеядец и доходяга, но очень богатый тунеядец и доходяга и даже пользуется некоторой известностью.
— Хотя в это трудно поверить, но он — великий человек, — объяснила одна из чудесных машин. — И хотя, зевнув, он забывает закрыть рот, это не помешало ему стать обладателем Приза Финнерти-Хохмана. Мы берем его под свою ответственность.
Альберт чувствовал себя очень несчастным, когда машины вели его домой. Но он вконец расстроился, когда роботы попросили его отстать от них на три-четыре шага, сделав вид, что не имеют к нему никакого отношения. Они потешались над Альбертом и поддевали его. Альберт улизнул от своих неблагодарных детей и отправился в укрытие, которое давно приготовил для себя.
«Я пущу пулю в свою безмозглую голову! — поклялся Альберт. — Терпеть подобное унижение выше моих сил. Однако самому мне будет трудно справиться с этой задачей. Надо, чтобы кто-нибудь помог мне». И, сидя в своем убежище, он принялся за изготовление нового устройства.
— Чем занимаешься, босс? — спросило его Озарение. — Интуиция подсказывает мне, что ты работаешь над очередной новинкой.
— Мастерю машину, которая пустит пулю в мою тупую голову, — крикнул Альберт. — Я слишком ничтожен, чтобы справиться с этим в одиночку.
— Босс! Интуиция подсказывает, что есть более подходящее занятие. Давай-ка немного развлечемся.
— Кажется, я на это не способен, — задумчиво ответил Альберт. — Как-то раз я изобрел увеселительную машину. Она вдоволь потешилась, пока не взлетела на воздух, но не принесла мне ни капли радости.
— А теперь мы будем развлекаться вдвоем. Представь, что весь мир пред тобой, как на ладони. Что ты видишь?
— Этот мир слишком хорош для меня, — ответил Альберт. — Он слишком совершенен, все люди прекрасны и одинаковы и все преуспевают. Они овладели мирозданием и толково распорядились им. В этом мире нет места для такого недотепы, как я. Поэтому я выхожу из игры.
— Босс, догадываюсь, что тебя подводит зрение. Но ведь ты не так близорук. Посмотри вокруг без досады и раздражения! Что ты видишь теперь?
— Ах, Озарение, неужели это возможно? Я не ошибаюсь? Интересно, почему я раньше не замечал этого? Вот как, оказывается, обстоит дело, если быть внимательнее!
Шесть биллионов простофиль, которые только и делают, что ожидают пастыря! Шесть биллионов безынициативных ничтожеств! Уж будь уверен, мы заставим их плясать под дудку усовершенствованной конструкции Альберта.
— Босс, интуиция подсказывает, что я создан для подобных дел. Мир скисает, как застоявшееся молоко. Пора заняться им всерьез. Дружище, какую кашу мы заварим!
— Мы положим начало новой эры! — торжествовал Альберт. — Мы славно позабавимся, Озарение. Мы возьмем их голыми руками! Мы слопаем их, как удав кролика… Как же я мог раньше не понимать этого? Шесть биллионов ничтожеств!
На этой странной ноте начался двадцать первый век.
Перевод Любови Папериной
Однажды на Аранеа
Способна ли тонкая паутинная нить толщиной не более 1:80000 дюйма обездвижить и убить человека? Скоро он узнает это. Любопытная будет смерть — от тонкой паутинной нити.
— …Впрочем, жизнь у меня тоже была любопытная, — выдавил Скарбл из сжатого горла, — и может вдобавок получить ироничный конец. Сомневаюсь, известно ли вам, любвеобильные паучки, — с трудом повысил он голос, — что любая смерть иронична. Хотя паучья ирония очень тонка.
Все началось неделей раньше на Аранеа. Экспедиция занималась обследованием наиболее крупных астероидов — малых планет Пояса Керкиона. У команды было обыкновение — после завершения первичного базового обследования оставлять одного из участников экспедиции на астероиде на непродолжительное время.
Расчет был прост: враждебная сила, не готовая действовать против группы людей, вполне могла выступить открыто против одинокого человека. На практике же результаты получались разнообразные.
Доннерс заявил, что ничего необычного не случилось ни на планете, пока он оставался там один, ни лично с ним. Но он вернулся оттуда с нервным тиком, а в его манере вести себя и разговаривать появилась чудаковатость. Что-то произошло с ним там, о чем он не отдавал себе отчет.
Прокоп просто исчез с астероида, на котором его оставили, — сгинул целиком, без остатка. Он не осилил бы пешком и сотни километров за время, что имел распоряжении, тем более что у него едва ли была причина пройти даже десять. После него должны были остаться хоть какие-то следы: кальция, который не встречался в том мире, клеток тканей его организма, аминокислот. Останься после него на планете хотя бы грамм в любом виде, сканеры нашли бы его, а они не нашли ничего. Но исследовательские отряды привыкли к таким загадкам.
Бернхайм заявил, что сразу же расклеился, как только оказался в одиночестве. Он не знал, совершались ли странные события в действительности или только в его мозгу. Когда за ним прилетели, он с большим трудом поднялся на ноги, сказал он. Бернхайм славился исключительной правдивостью.
Манн рассказал, что, хотя это и не было похоже на приятное времяпрепровождение — после того, как его оставили одного, в то же время не произошло ничего такого, чему он не сумел бы найти объяснения, будь у него тысяча лет в запасе. Манн заявил, что это больше походило на испытание человека, нежели на испытание среды. Тем не менее отряд должен был использовать этот тест для подтверждения безопасности планет.
При обследовании Аранеа подошла очередь Скарбла проводить тест. На Паучьем астероиде водилось два вида живности, поначалу принятые за три. Но два из них оказались одним и тем же видом на разной стадии развития.
На планете обитали, во-первых, маленькие четвероногие существа, юркие и вездесущие, во-вторых, двуногие, двурукие создания размером с человеческий палец, совершающие колебания вверх-вниз. И, наконец, двенадцатиногие пауки, самые крупные — размером с чайную чашку. Двуногие мальки со временем превращались в пауков, проходя через процесс трансформации.
Бернхайм читал вслух выдержки из своего отчета, который завершал первичное базовое обследование:
— Основная эмоция мелких четвероногих Scutterae Bernheimiensis — раболепие. Они демонстрируют повиновение паучьему племени и готовность служить им.
— Значит, тут у нас два вида, один в услужении у другого, — заметил Марио. — Распространенная модель.
— Двуногие мальки, личинки Arachnida Marin, не сознают своего родства с пауками, — продолжил Бернхайм. — Когда наступает пора превращения, они переживают сильный испуг.
— Я бы тоже испугался, — заметил Скарбл. — А какая основная эмоция у взрослых пауков, Arachne Dodecapode Scarble?
— Материнская любовь, в последнее время переориентированная и многократно усиленная вследствие вторжения.
— Какого вторжения? И что значит — усиленная? — спросил Манн.
— Нашего вторжения. Мы причина усиления их активности, — пояснил Бернхайм. — Они в состоянии сильного возбуждения с момента нашего прибытия. Это бормотание и щебетание миллионов особей, — это все для нас. Я бы сказал, материнская любовь, переходящая в истерику!
Команда взорвалась дружным хохотом — первый настоящий смех на Аранеа, и даже пауки захихикали в ответ хором миллиона голосов.
— Ох уж эти заботливые мамочки! — стало любимой присказкой в экспедиции на время пребывания на астероиде, и это должно было попасть в отчет.
В хорошем настроении трое из них (Бернхайм, Манн и Доннерс) улетели и оставили Скарбла в мире пауков одного, хихикающего каждый раз, когда он вспоминал о пауках, переполняемых материнской любовью. Компанию ему составил пес по кличке Пес, то есть Кион, — это была классическая собака.
Трудностей не предвиделось. Скарбл любил пауков и даже чем-то смахивал на них: высокий и худой жилистый мужчина с темными волосами, покрывающими почти все тело, за исключением затылка; с длинными руками и ногами и коротким туловищем. Когда он жестикулировал во время разговора, казалось, что рук у него больше, чем две. Даже чувство юмора было у него паукообразным.
Что могло испугать человека при золотистом свете дня Аранеа? За Скарблом закрепилась слава бесстрашного человека; он заботился о своей репутации. Храбрость — стандартное качество любого самца. Исключения могут встречаться у каждого вида, но они — отклонение от нормы. Скарбл не был исключением.
На случай же, если стандартная храбрость даст сбой, ему оставили запас голландского мужества, а также французского, шотландского и канадского, а также производства Кентукки[18], а также дистиллированного в полете напитка под названием «Красная ракета». Они всегда снабжали испытателя хорошим бутилированным запасом.
Именно этого первоклассного запаса коснулась сначала тень грядущего, но Скарбл не внял намеку. Он был восхищен, когда проснулся после своей первой ночи на Аранеа и увидел свое имущество до такой степени покрытым паутиной, как будто оно пролежало в подвале сто лет. Он опробовал образцы с исключительным удовольствием. Выдержка! Даже «Красная ракета» показала крепость и аромат выдержанного напитка.
Потом он прогулялся с собакой Кион по просторам Аранеа. Золотистая паутина покрывала всю планету; это напомнило Скарблу о песне «Человек пешком». Здесь был целый раскатистый мир для пения! Громкий голос — еще одно стандартное качество самца. У Скарбла был голос (дурной хотя), который мог заполнить мир.
Космонавт резвился со своей возлюбленной,
Хотя никто из друзей терпеть ее не мог.
Она была милашка, красавица-жемчужина,
Пригожая паучиха о двенадцати ног.
Скарбл присовокупил еще с десяток куплетов, в большинстве своем неприличных, в то время как паучья аудитория щебетала и бормотала, выражая признательность миллионами голосов. Он насвистел им мелодию из «Субботней ночи на Ганимеде», единственную, которую знал, и спел все свои баллады под этот мотив.
Манн ошибся; несмотря ни на что это было приятное времяпрепровождение. Скарбл уселся на край одного из окольцованных шелком паучьих водоемов и мило побеседовал с заботливыми паучками. Их жизненный цикл, как он узнал, был таков:
Двуногие мальки появляются на свет в чем-то вроде оболочки. Чаще всего водная оболочка плода окутывает их, и дети борются за то, чтобы выбраться из нее, и вступают в жизнь. Иногда при рождении у них такой видок, будто на них надеты космические шлемы. Но случается, что детеныши — истинно живорожденные, они появляются на свет всего лишь с прилипшими клочками оболочки, в которой должны были родиться.
Новорожденные двуногие отвергают заботу взрослых пауков и живут абсолютно независимо на этом этапе своего существования. Они портят все паучьи сети и сооружения, которые способны испортить, а взрослые пауки относятся к ним с терпением и неизменной материнской любовью.
Через некоторое время, когда наступает пора перемен, взрослые одурманивают детей, связывают их, оплетают шелковой оболочкой и водружают сверху на них «шапку». В эту шапку (которая является крышкой кокона) помещают только что убитую четвероногую особь, которая начинает быстро разлагаться. Единственное предназначение четвероногих — служить питанием для куколок пауков.
Долгое время куколка находится в состоянии забытья. Потом она начинает поедать гниющую в «шапке» плоть и изменяться. У нее вырастает по четыре небольших зубца с каждой стороны тела. С их помощью она распиливает кокон и появляется на свет уже как новое существо. Вскоре зубцы вырастают до размера полноценных конечностей — и тогда особь занимает свое место в ряду взрослых представителей паучьего племени.
Пауки были искусными инженерами, система созданных ими прудов покрывала всю планету Аранеа. С помощью своих шелковых запруд, плотин, дамб и перемычек они контролировали воду этого мира. Пауки относились к прибрежным существам и поэтому должны были поддерживать определенный уровень воды.
Шелковые перемычки делили озера и пруды на небольшие участки. Одни участки густо заросли сине-зеленой растительностью и выглядели как пышные луга. Другие, смежные с ними, поражали кристальной чистотой воды. Пауки сеяли семена и собирали урожай. По верху некоторых крупных плотин проходили стягивающие канаты более дюйма толщиной. Скарбл прикинул, что для изготовления такого каната требовалось не менее семи миллиардов шелковых нитей.
Скарбл развалился на шелковом краю одного из таких водоемов, наблюдая за мириадами пауков и слушая их щебет. Потом их экспертная команда исполнила некие ритуалы в бассейне, после чего вода в нем стала абсолютно прозрачной и словно приглашала испить ее.
— Благодарю, — сказал Скарбл, наклонился к воде и сделал большой глоток. Затем растянулся на шелковом берегу и задремал.
Ему снилось, что идет снег, но снег необычный, приятный. Он был непохож на земной снег и совсем непохож на колючий снег Монашей планеты или на голубой смертоносный снег на Аресторе. Это был теплый снег, пушистый, искрящийся, а снежинки походили на крошечные кометы с хвостами. Теплый снег укутал Скарбла с головы до ног сияющим светом.
Он проснулся и понял, что это был не сон. Пауки покрыли его тело тонкой паутиной и шелком, как дети на пляже засыпают друг друга песком. Они выстреливали через него шелковые нити, словно миллионы узких лент серпантина. Это был званый прием в его честь; пение пауков достигло точки ликования.
Скарбл хотел поднять голову, но обнаружил, что не может этого сделать. Тогда он покорно расслабил мышцы. В состоянии покоя было что-то новое. Спал он или бодрствовал, ощущение было одним и тем же. Приятное времяпрепровождение несмотря ни на что. Так приятно быть одурманенным… быть что? Тревожная мысль закралась Скарблу в голову, но он прогнал ее. Она закралась вновь и устроилась, словно маленький черный зверек, на краю его золотой грезы.
Почему он не мог поднять голову?
Скарбл подавил поднимающийся приступ паники.
— Эй! — крикнул он. — Вы засыпали меня слишком сильно чертовым песком. Веселье — хорошо, но должна быть мера.
Однако, в отличие от песка этот материал не был сыпучим. А может, происходящее — лишь легкий полуденный сон, который вот-вот ускользнет прочь. Увы, нет. Это была суровая полуденная реальность. Пауки привязали его к земле миллионами шелковых уз, так что он не мог двинуть ни рукой, ни ногой.
Маленькие любвеобильные твари одурманили его, отравив питьевой бассейн. Привкус во рту напомнил ему о валящих с ног каплях, которые, бывалыча, раздавали в Нью-Шанхае бесплатно, как воду.
Пение пауков усложнилось. В нем выделилась тема великой перемены: мотивы одного мира, чахнущего и исчезающего, сменялись мотивами другого мира, нарождающегося. Золотистый дневной свет Аранеа пошел на убыль. Скарбл наслаждался роскошным наркотическим сном дольше, чем ему казалось. Вконец утомленный борьбой с путами, он провалился обратно в сон; а пауки продолжали трудиться всю ночь.
Первое, что увидел Скарбл на следующее утро, — краем глаза, потому что не мог повернуть голову, — пауки, тянущие в его сторону большой золотистый шар. Они кантовали его с помощью канатов, закрепленных на верхушках кронблоков. Пауки перемещали шар на некоторое расстояние, потом переустанавливали оснастку и двигали шар дальше.
В коконе из шелка лежал мертвый пес Кион. От него исходило невыносимое зловоние. Пес был не только мертвый, но и сильно разложившийся, почти жидкий под густой шерстью.
Скарбла охватил приступ тошноты, но он уловил суть происходящего. Будучи натуралистом, он знал, что ярость — неестественная реакция для мира животных, а убийство и разложение — естественные явления. Однако Кион был не просто собакой, он был другом.
Скарбл не имел возможности повернуться, чтобы разглядеть находящееся позади его головы, там, где пауки трудились над чем-то всю ночь. Теперь он догадался, что это было: сетка, капюшон наподобие монашеского, крышка его собственного кокона. Он с ужасом осознал, чей труп они закатывали сейчас в эту крышку, и каким образом крышка будет присоединена к его кокону. Все произошло стремительно.
Крики Скарбла утонули в почти жидкой массе; они звучали барабанообразно у него в ушах, как будто шли из-под воды, и органично слились с музыкой пауков, которая как раз предназначалась для этого вопящего вокала.
Когда кокон закрылся и разложившаяся собачья плоть полностью обволокла его лицо, Скарбла охватила внезапная слабость, и он провалился в забытье.
Как долго может выдержать человек в таких условиях? Скарбл приготовился умереть как можно скорее, но он был слишком крепок для этого. С наступлением второй ночи он все еще был жив и рад темноте. Собачий труп стал еще запашистее, и страдания Скарбла заиграли новыми гранями. Он жаждал сойти с ума и чувствовал такой голод, что был готов съесть все что угодно, — или почти все.
Его тревожило, что теперь он мог понимать логику пауков так ясно. Пауки сработали по аналогии. Они решили, что Скарбл, незавершенная двуногая личинка, явился к ним со своим четвероногим рабом, единственное предназначение которого — служить ему пищей, когда он войдет в стадию куколки для превращения в гигантского императорского паука. Да, они решили, что Скарбл — императорский паук, обещанный им еще на заре времен.
Пение пауков звучала как погребальная песнь, фуга уходящей жизни, смерти и разложению. Но в комплексе погребальная песнь была лишь вступительной частью, после которой следовал более радостный фрагмент: анастасис, песня воскрешения.
— Эй, любвеобильные мамочки! — крикнул Скарбл вне себя от ярости. — Рассчитываете, что я съем Киона и превращусь в паука? Вы ошибаетесь, уверяю вас! Это биологически невозможно, но как объяснить биологию пауку?
Умирать от жажды — и не иметь никакой жидкости в пределах досягаемости, за исключением этой! Страдать от голода — и не иметь доступной еды, кроме рыхлой гнили, прижатой к лицу!
Ритм паучьей песни снова изменился. Она перешла в раскатистое крещендо, символизирующее кульминацию превращения, и разозлила Скарбла.
— Мелкие колченогие букашки, вы слишком торопитесь! Не подсказывайте, что мне делать! Не ведите себя так, будто я уже сделал это!
Но время взяло свое, и Скарбл прошел сквозь безумие в мир по другую его сторону. Он не понял, когда началось изменение, но пауки узнали об этом на исходе третьей ночи. Паучьи заклинания вознеслись к новым высотам, и Скарбл смог последовать за ними. Он слышал тоны за пределами диапазона человеческого уха.
Скарбл начал есть разложившуюся массу — и меняться. Песнопения паучьего хора разрослись до пространной симфонии.
«Пособие космонавта по выживанию» содержало инструкцию, которую некоторые считали шуткой: «Не умирай, пока не перепробовал все альтернативы».
Хорошо, тогда каким образом человек мог бы выбраться из текущей ситуации?
Никаким.
Ладно, тогда каким образом паук выбирается из подобной ситуации?
Он отращивает восемь небольших зубцов — зачатки будущих ног, начинает совершать колебательные движения внутри кокона и распиливает зубцами его стенки.
— Стоит попытаться, — пробормотал Скарбл. — Посмотрим, превратился ли я в паука.
Он превратился. Скарбл распилил кокон. Идея сработала.
Скарбла отстранили от исполнения обязанностей. Он не мог предоставить разумный отчет о пребывании на Аранеа. Он не рассказывал ничего, кроме тошнотворных замечаний типа:
«Кион был хорошим псом, однако впоследствии сильно испортился» и «Пауки связали меня и заставили есть собаку, а потом превратили в паука».
Скарбл был явно невменяем, но при этом очень любезен. От пса не осталось ничего, кроме странно размягченных костей.
Они вернули Скарбла на Землю и поместили под наблюдение. К подобным людям всегда относились с сочувствием. В палатах его называли человеком-пауком. Но со временем симпатия ослабла. У Земли возникли собственные проблемы с пауками.
— Никогда не встречал ничего подобного, — сообщил Скарблу земной доктор на осмотре, вычищая из глаз летающую по воздуху дрянь. — Наросты не злокачественные, но они будут причинять вам неудобства. Поскольку они не злокачественные, у меня нет права удалить их без вашего разрешения, Скарбл. Но, знаете, они увеличиваются в размерах.
— Конечно, они увеличиваются, — согласился Скарбл. — Я очень доволен тем, как они растут. Они должны стать по размеру такими же, как другие ноги паука. Не вздумайте их удалять! Скорее я потеряю одну из своих конечностей, нежели какой-нибудь из этих наростов! Они спасли мне жизнь, без них я бы не выбрался из кокона.
— И все же их следует удалить, Скарбл. Вы слышали раздраженные репортажи о пауках? Разве они не расстроили вас?
— Почему они должны расстроить меня, доктор? Все идет гладко, как… хм, паучья нить. Разумеется, у меня есть собственный центр информации по этим вопросам. И тот факт, что вы ссылаетесь на новости как на «раздраженные репортажи», еще больше радует меня. Я наверху кучи, доктор. У кого еще есть сто миллиардов солдат, готовых к бою? Мы живем в уникальное время, не так ли?
— Что касается вашей болезни, Скарбл, я с радостью передаю вас психиатру; как раз сейчас у него часы приема. Но я настаиваю, чтобы вы согласились на ампутацию наростов прежде, чем они разрастутся. Они выглядят почти как дополнительные конечности.
— В точности как, — согласился Скарбл. Он вышел из кабинета величественной походкой в ниспадающих одеяниях, в которые он теперь драпировался, и прошествовал по коридору в другой кабинет. Одеяния служили определенной цели. Они скрывали болезнь Скарбла — странные наросты, по четыре на каждом боку. А также:
— Император всегда носит ниспадающие одеяния, — заявил Скарбл. — Вы не можете ожидать, что он станет одеваться как простолюдин.
Доктор Моска, другой лечащий врач Скарбла, был спокойным и терпеливым человеком. И в то же время глуповатым малым, которому приходилось объяснять простые вещи по нескольку раз.
— Кто вы сегодня, Скарбл? — в очередной раз спросил доктор Моска, вычищая из глаз летающую по воздуху дрянь.
— По-прежнему я император пауков Аранеа, — любезно ответил Скарбл. — Я объясняю вам это каждый раз, доктор, но, кажется, вы не способны запомнить. Еще я чрезвычайный префект для пауков Аранеа. И проконсул для пауков Земли.
— Скарбл, буду откровенен. Ваш опыт исследования планеты (что бы там ни стряслось на самом деле) привел у вас к нарушению работы мозга. Каким-то образом вы увязали произошедшее на Аранеа с недавними событиями на Земле, в которых замешаны пауки. Согласен, что некоторые из этих инцидентов необычны и бессмысленны…
— Нет-нет, доктор, не бессмысленны. Они абсолютно оправданы, — согласно Высшей справедливости. Они организованы, они управляются и идут строго по плану. Назвать происходящее безрассудным — это то же самое, что назвать безрассудным меня.
— Мистер Скарбл, мы держим вас здесь не из-за ваших способностей к скоростному плаванию, хотя у вас здорово получается. Мы держим вас потому, что вы психически не вполне здоровы. Теперь слушайте меня внимательно: вы человек, а не паук.
— Рад, что вы так думаете, доктор. Наш высший совет решил, что будет лучше, если я сохраню внешний вид человека до тех пор, пока не закончится наша текущая военная операция. Это произойдет сегодня.
— Скарбл, возьмите себя в руки! — требовательно произнес доктор Моска. Он смахнул со стола ворох осевших паутинок. — Вы человек, и разумный человек. Мы обязаны избавить вас от аномальных наростов. И это не по моему ведомству, но кто-то должен избавить и весь мир от его наростов. Каждый год характеризуется своей разновидностью помешательств, однако паучьи инциденты стали выглядеть откровенно глупо. Знаете ли вы, что в связи с недавним астрономическим ростом численности пауков…
— Вы произнесли нечаянный каламбур, — прервал врача Скарбл.
— …есть основания считать, что только в одной нашей стране их около сотни миллиардов?
— Умножьте эту цифру на тысячу, если хотите, — произнес Скарбл. — Последняя ночь была Ночью великого вылупления. Юные особи вырастают до стандартного размера за считанные часы, теперь все стадии протекают быстрее. Времени осталось мало.
— О, кары небесные! — взвыл доктор Моска. — Как больно! Еще один укус паука.
— Не просто укус, — сказал Скарбл. — Это был критический укус. Примите мои извинения за боль: в связи с необходимостью оплодотворения огромного количества людей у меня не было возможности оснастить всех моих помощников безболезненными зондами. Однако сейчас станет легче, чувствуете? Инъекция содержит наркотик и снотворное.
Инъекция подействовала. Доктор Моска задремал. Ему снился падающий снег, но снег необычный: теплый, пушистый, искрящийся, а у снежинок были хвосты, отчего они походили на крошечные кометы.
Внезапно возникшие ниоткуда пауки покрывали доктора Моску невесомой паутиной, как дети на пляже засыпают друг друга песком. Точно так же они покрывали многие миллионы других укушенных спящих людей миллиардами узких лент шелкового серпантина.
Было так восхитительно безмятежно лежать, откинувшись в кресле, и слушать, как умалишенный Скарбл продолжает бубнить про то, что он больше не человек, — (доктор Моска обнаружил, что не способен пошевелить головой, и это было немного странно), — что Скарбл не человек, как бы он не выглядел внешне, и что он действительно император пауков Аранеа, как, впрочем, и всех остальных пауков на свете.
Перевод Сергея Гонтарева
Планета медведей-воришек
Минуй меня судьба лихая
И вороватых мишек стая
Джон Чансел1
То, что происходит на планете медведей-воришек, явно нуждается в объяснении. Потому что, как однажды сформулировал великий Реджиналд Хот: "Аномалии — это непорядок".
Примерно раз в десять лет кто-то, одержимый страстью к систематизации, затевал масштабную работу с целью составления каталога "Указатель планет и их расположения" и предпринимал новое исследование аномалий. Это исследование никоим образом не могло миновать планету медведей-воришек.
"Планета не представляет опасности ни для человеческой жизни или деятельности, ни для его телесного здоровья, и лишь некоторую — для его душевного равновесия, — так написал великий Джон Чансел около века тому назад. — Здесь почти повсеместно идеальный климат, но это не то место, где легко разбогатеть. Окружающая среда спокойна и экологически сбалансирована, а красоты природы просто зачаровывают. Планета оказывает странное воздействие на прибывших, в результате чего они вынуждены писать строки, не являющиеся истиной, что и происходит со мной в данный момент". Для судового журнала запись довольно необычная.
И еще одна старинная запись, другим почерком: "Здесь нечего покорять. Это довольно бедная и непредсказуемая планета. Все на ней происходит не так. Я бы сказал: все происходит восхитительно не так. Но тем не менее — не так".
И вот еще одна экспедиция из шести исследователей. Джордж Махун (видом он напоминал борца, и ум у него был борцовский — ищущий, цепкий, просчитывающий самые выгодные ходы); Элтон Фэд (с глубокими знаниями, но не блестящий ученый); Бенедикт Крикс-Краннон (смуглый красавец, мастер на все руки); Льюк Фронза (он считался в отделе "многообещающим", но что-то слишком долго задержался на этой стадии); Селма Ласт-Роуз (она была совершенством, можно ли что к этому добавить?); Гледис Макклейр (милая, одаренная, но не гений, а исследователь обязан быть гением) и Дикси Лейт-Ларк (воплощение духовности!) — все они высадились на планете медведей-воришек. Они не были учеными с большим опытом, это было новое поколение. Тем не менее члены команды уже успели проявить себя специалистами по исследованию аномалий.
— Неплохое местечко, хотя мало на что пригодно, — заявил Джордж Махун, не пробыв на планете и десяти минут. — Почему же никто из прежних исследователей не сказал просто, что планета "пригодна лишь для маргинального и субмаргинального использования; при предварительных исследованиях оценивается как бедная основными, радиоактивными и редкоземельными металлами; ее запасы топлива невелики, планета не рекомендуется к освоению в этом столетии, поскольку существуют места гораздо более перспективные". Почему в отчетах столько непонятной белиберды? Хотя мне тут нравится. Приятное местечко для краткого отдыха.
— Да, и мне тут тоже начинает нравиться, — произнесла Селма Ласт-Роуз своим характерным "барабанным" голосом, — здесь кроется загадка, а я люблю разгадывать загадки. Есть какая-то тайна в этой Долине старых космолетов. Я не прочь заняться ею.
Они сели на равнине в Долине старых космолетов. Здесь были удивительные изображения древних космических кораблей в натуральную величину. Двенадцать изображений — от самого первого до самого последнего — занимали две трети круга, образуя подобие циферблата. Каким способом эти схемы были сделаны, оставалось загадкой, но прочерченные линии не зарастали густой травой, зеленый ковер лишь подчеркивал их. Можно было легко проследить округлые очертания космических кораблей, их носовые и кормовые обтекатели. Внутренние переборки также тщательно обозначались. Настоящий музей кораблей, которым не хватало лишь объема.
— Мне вспомнились два фрагмента из судового журнала "Чародея" относительно этой долины, — сказал Элтон Фэд. — В первом утверждается: "Некоторые члены нашей экспедиции верят, что Долина старых космолетов была сооружена медведями-воришками в качестве некоей исторической вехи, но сам я не верю, что эти мелкие существа настолько разумны". А другой, написанный иным почерком, звучит так: "Медведи-воришки действительно соорудили эти схематические памятники на траве всем прилетавшим сюда кораблям, но они выполнили это таким способом, который мы не можем даже представить". Последняя запись, как и последующие, сделана не чернилами, а чем-то другим.
— Прекрасно, я могу предположить несколько способов, которыми маленькие негодяи сделали это, и как-нибудь сумею проверить свою гипотезу. Спрошу их, как они соорудили подобный бред. И если эти нахалы обладают хоть каплей разума, я найду возможность потолковать с ними.
Медведи-воришки по виду не сильно напоминали медведей. Они больше смахивали на белок-летяг: скользили по воздуху — по всей видимости, для забавы. Создания напоминали земных Neotoma cinerea, серых неотом с пушистыми хвостами, как по виду, так и воровскими замашками, но были крупнее их. Имя — Ursus furtificus (медведи-воришки) — дал им сам старик Джон Чансел.
Да, в первые же пять минут после высадки исследователи убедились в том, насколько вороваты медведи. Эти существа залезли в корабль и проникли в такие места, которые, казалось бы, для них были недоступны. Они утащили конфеты Селмы и нюхательный табак Дикси. Они украли (выпив на месте) тринадцать флаконов лосьона "Настоящий мужчина" с ароматом корицы, принадлежавших Джорджу Махуну, но не тронули ни одного флакона с иным запахом. От горчицы они пришли в восторг и мгновенно уничтожили все запасы, постанывая от удовольствия. Элтон Фэд пробовал прогнать их тяжелыми металлическими прутьями. Медведи-воришки спланировали прямо на палки, которыми он размахивал, и тут же сгрызли их до самых его рук. Они стащили шесть французских триллеров у Дикси Лейт-Ларк. Это не слишком огорчило Дикси — триллеров у нее в запасе было предостаточно.
— Медведи-воришки хотят познакомиться с нами поближе, — сказала Дикси (она сама чем-то напоминала обитателей этой планеты). — Считайте это своеобразным тестом. Если они прочитают и поймут эти книжки, — значит, перед нами разумные существа, чей литературный вкус лучше, чем у моих товарищей по экспедиции. Это и станет отправной точкой их изучения, и нам будет что занести в наши портативные компьютеры.
Умеют ли медведи-воришки разговаривать? На этот вопрос невозможно было ответить так сразу.
— Скажи "доброе утро", пушистая мордашка, — обратилась Селма к одному из этих созданий.
— Скажи "доброе утро", пушистая мордашка, — проворчало в ответ существо. Все слова были произнесены правильно, в нужном ритме и с нужными ударениями. И ворчание напоминало монотонный голос Селмы. Кто бы ни обращался к медведям, они, отвечая, воспроизводили его собственную манеру говорить. Медведи мгновенно принялись подражать людям.
К тому же они еще и хихикали! Да, довольно скоро их хихиканье стало надоедать. Хихикающие бесстыдники, иначе и не скажешь.
Могут ли медведи-воришки читать? Возможно, это скоро станет понятно. Медведи залезли в запертые шкафы, где хранились комиксы, и утащили целую охапку. Эти комиксы с торговых планет предназначались для коллекционеров на Старой Земле, торговля ими давала неплохую прибыль. Удивительные вещи всегда пользуются спросом.
Взрослые медведи-воришки "читали" комиксы медвежатам-воришкам, ворча на свой лад, а медвежата время от времени ворчали восхищенно или недоверчиво и лезли разглядывать картинки и слова, вылетающие изо рта персонажей. И все это сопровождалось хихиканьем!
Несомненно, взрослые медведи полагали, что читают, а медвежата — что понимают. Но надписи в комиксах были на но-пиджин наречии торговых планет, а оттуда ни разу никто не прилетал на планету медведей-воришек. Впору было считать, что "синдром интуитивного перевода Сэнгстера" обнаружен у животных, стоящих ниже уровня концептуального мышления. Затем медвежата принялись инсценировать отдельные эпизоды комиксов (весьма сложные, по словам Бенни Крикс-Краннона, знавшего все комиксы, хранившиеся в корабельных шкафах). Да, объяснить все это было непросто.
Спустя час после прибытия на планету, убедившись, что все идет как следует, участники экспедиции приступили к праздничному обеду. Это была традиционная земная пирушка, хотя яства доставались из пакетиков — специальных упаковок для торжественной трапезы, производившихся на торговой планете-4. На столе появились десятисантиметровой толщины бифштексы, на которые пошла говядина, привезенная с Кейпа, горы мидландских грибов, изюм, яблоки с Астробы, нежные угри, ржаной хлеб, козье молоко "Галакси", кофе с Дождливых Гор, рамбоутские крепкие напитки и несравненные ганимедские сигары (о них принято говорить: "Подобный аромат переживет Вечные холмы").
— Судя по записям прежних исследователей, на планете медведей-воришек нельзя получить истинного удовольствия от еды из-за этих самых медведей, — с некоторым злорадством произнес Бенни Крикс-Краннон. — А вот я получил удовольствие от нашего обеда — пожалуйста, Льюк, еще стаканчик крепкого рамбоутского — и охотно поглядел бы на того, кто лишит меня этого удовольствия.
И все же удовольствие да и самый вкус праздничного обеда начали исчезать почти в тот же самый момент. Каким образом? Да просто все, что доставляло им удовольствие, было таинственным образом похищено.
— А теперь медведи украли остаток нюхательного табака Дикси, — сообщила Гледис. — Ужасно. Ей так нравилось нюхать табак. Если все причуды Дикси исчезнут, нам будет казаться, что исчезла она сама.
— Медвежата стащили еще тридцать французских триллеров Дикси, — проворчал Элтон Фэд. — Дикси страшно расстроилась. Надо заставить медведей вести честную игру.
— Ее золотые табакерки тоже пропали, — с сожалением заметила Селма Ласт-Роуз. — Медведи просто подлецы. Табакерки — это ценность, хотя бы потому, что сделаны из золота.
— И ее трубка-наргиле тоже, — посетовал Льюк Фронза. — Что на очереди?
— Этого я не знаю, — промолвил в изумлении Джордж Махун, — но, кажется, украли и саму Дикси Лейт-Ларк. Во всяком случае, она куда-то исчезла. Она не могла уйти незамеченной, поскольку включены все системы безопасности. И в то же время корабельный монитор показывает, что на борту ее нет. Она ведь сидела между Селмой и Гледис, правда?
— Да, минуту назад она сидела на стуле между нами. А сейчас и стула никакого нет… Наверное, она находилась где-нибудь еще. Ох, эти хихикающие мерзавцы! Интересно, как они ее украли и что с ней сделали.
— Поразмысли, Гледис, — возразил Льюк. — Ведь у маленьких медведей не было никакой возможности похитить Дикси Лейт-Ларк.
— Куда же она делась? И каким образом?
— Я этого не знаю, — признался Махун, — и не думаю, что кто-либо из нас знает. В конце концов это не так уж важно. Что-то я скверно себя чувствую. И к тому же я голоден. После замечательного праздничного обеда этого не может быть. По счастью, я ввел свои данные в корабельный компьютер, ведь в отчетах наших предшественников об аномалиях на планете медведей-воришек говорилось об исчезновении хорошего самочувствия и интеллекта исследователей. Ну, компьютер, что со мной неладно?
И корабельный компьютер начал выдавать информацию. Она была закодирована, но, как однажды заметила Дикси, "все мы впитали этот код с материнским молоком". Члены команды внимательно слушали, и каждый автоматически переводил кодированную информацию в слова.
— Основные пищевые ценности внезапно были похищены из потребленных продуктов, — докладывал компьютер. — Из желудка пропал пепсин, из таламуса исчез таламатит, из щитовидной железы похищен тироксин, экстракт кейпских бифштексов улетучился из пищевода и желудка, грибы и изюм украдены из нижней части желудка и тонкого кишечника, алкоголь похищен из желудка, подвздошной кишки и кровеносной системы, украдены также содержащийся в крови сахар и алкоголь. Жидкая смесь ржаного хлеба, масла и кофе извлечена из полости желудка. Оттуда же изъят экстракт угрей. Одновременно из поджелудочной железы улетучились инсулин и глюкоген, из желчных протоков и двенадцатиперстной кишки исчезла желчь; а из различных областей мозга были извлечены слова, мысли и элементарные понятия.
— Спасибо, корабельный компьютер, — сказал Джордж Махун. — Что ж, кажется, меня поразил какой-то микроб, или бактерия, или вирус. Надо принять таблетки, чтобы подавить инфекцию.
— Какие таблетки, Джордж! — в сердцах воскликнул Элтон Фэд. — Нам нужно взять прутья и поучить как следует этих негодяев. Меня тоже атаковали микробы, бактерии и вирусы, только они ростом мне до пояса и зовутся медведями-воришками. Пропади они пропадом, эти хихикающие мерзавцы! Они стали слишком бесцеремонны и посягают на самое сокровенное. Это наглость: забраться так глубоко и столько всего съесть. Иногда я думаю, что лучше бы мне не становиться исследователем, а продолжать семейный бизнес. (Семейство Элтона процветало, занимаясь разведением угрей).
Неожиданно на стол, за которым члены экспедиции только что закончили праздничный обед, уже утративший всякий смысл, приплыла по воздуху и опустилась тряпочная кукла с восковой головкой. Ее тело пронзали иглы и шипы, а горло перерезала рана. У изуродованной куклы было лицо Дикси Лейт-Ларк. Ее широко открытый рот застыл в беззвучном вопле.
— Во всяком случае, теперь мы знаем, что медведи читают на земном французском и понимают его, — рассмеялась Гледис Макклейр, а за ней и все остальные. — Им неоткуда было узнать, кроме как из французских триллеров Дикси, о куклах-фетишах. Ведь это же вопящая Мими. Хотелось бы мне, чтобы Дикси была здесь и взглянула на свое забавное изображение! Закрой-ка рот, куколка-Дикси!
И Гледис поднесла указательный палец ко рту куклы-фетиша, чтобы закрыть его, но кукла вдруг сильно и злобно куснула палец, так что брызнула кровь. Когда Гледис удалось освободить палец, кукла вновь раскрыла окровавленный рот в беззвучном вопле. Уже давно было замечено, что куклы-фетиши живут своей собственной жизнью.
Это маленькое забавное приключение немножко развеселило членов экспедиции, и они встали из-за стола, приободрившись. А затем решили выйти из корабля.
Да, медведи-воришки любили пошалить, ничего не скажешь! Конечно, исследователи могли бы обставить их, проникнув в их тайны. Но приходилось признать, что эти создания не так просты и что они гораздо ближе к разумным существам, чем считалось до сих пор.
По размерам медведи-воришки представляли собой нечто среднее между полицейской собакой и датским догом. У них не было ни когтей, ни зубов, и на вид они казались совершенно безвредными. Стоило ли всерьез принимать во внимание этих хихикающих существ?
— Скорее! Скорее сюда! — в голосе Селмы Ласт-Роуз слышалась паника. — Идите скорее! Я нашла Дикси.
Хотя медведи-воришки были довольно крупными, на самом деле они почти не имели веса. Иначе они не смогли бы так легко планировать по воздуху. Похоже, что они почти целиком состояли из мягкого пуха, под которым скрывалось небольшое тельце.
— Идите сюда хоть кто-нибудь, идите сюда! — продолжала взывать Селма монотонным "барабанным" голосом. — Дикси погибла.
Мертвая Дикси Лейт-Ларк была точной копией куклы-фетиша, только в натуральную величину. На ее шее зияла такая же ужасная рана. Те же самые шипы и иглы пронзали ее, но теперь шипы были метровой длины, а иглы достигали двух метров. Рот ее, как и у куклы, был широко открыт; и так же, как кукла, Дикси замерла в беззвучном ужасном вопле.
А изо рта и из жуткой раны на горле неслись звуки, напоминающие хихиканье медведей-воришек. Просто кошмар!
Ужас перешел в оторопь, когда все услышали низкий рокочущий голос Бенни Крикс-Краннона:
— Вот еще одна. О, да эта даже лучше. Просто красавица!
Да, это была еще одна погибшая ужасной смертью Дикси Лейт-Ларк с горлом, которое пересекал еще более страшный разрез, с телом, утыканным еще более длинными шипами и иглами, с еще более мерзким хихиканьем, несущимся из широко открытого рта.
Всего они обнаружили семь Дикси Лейт-Ларк в натуральную величину, умерщвленных самым ужасным ритуальным образом. И вдруг все семь вскочили, превратившись в довольно юных медведей-воришек, и, хихикая, убежали. Казалось, камни планеты хихикали вместе с ними.
Но где же сама Дикси Лейт-Ларк? Этот вопрос даже не так уместен, как другой: почему члены экспедиции перестали интересоваться тем, что же все-таки случилось с их коллегой? Почему они почувствовали, что ее исчезновение не имеет значения?
— Я потерял способность рассуждать, — пожаловался Джордж Махун. — Я еще владею кое-какими понятиями, но сопоставить их никак не могу. Руководство экспедицией должен взять на себя кто-то другой.
— Какое там руководство экспедицией! — отмахнулась Гледис Макклейр. — Экспедиция ничуть не станет хуже без руководства. Да и ты вряд ли мог потерять то, чего никогда не имел, Джордж. Давайте попробуем разобраться в ситуации и подумаем, почему никто до нас этого не сделал. Эта планета размером с Землю, но удивительно однообразная. На ее одинаковых континентах раскинулись десятки и сотни небольших низменностей и равнин, схожих с Долиной старых космолетов. Почему же тогда абсолютно все экспедиции высаживались именно в этом радиусе, на расстоянии километра одна от другой? Правило определения места посадки исследовательской экспедиции звучит так: случайный выбор, контролируемый разумом. А другое правило гласит: изучай новую планету всесторонне. Почему же все экспедиции садились в одном и том же месте? Ах да, Джордж, ты же стал хуже соображать и не так красноречив, как прежде! Что если не все территории этой планеты проверены?
— Мы произвели шестнадцать оборотов, сканируя поверхность планеты медведей-воришек, перед тем как произвести посадку, — ответил Джордж Махун. — И получили прекрасные снимки. К тому же прежние экспедиции проделывали полные шестьдесят четыре оборота, а тщательное сканирование не должно было упустить ничего существенного.
— Как вы думаете, Джордж, эти медведи обитают на всей территории планеты?
— Не знаю. Каково ваше мнение, Бенни?
— Полагаю, медведи-воришки представляют собой малораспространенный вид с определенным ареалом распространения. Их странности, их нестандартное поведение свидетельствует, что они слишком специфичны, чтобы иметь большую численность. Они должны обитать в близком соседстве друг с другом, чтобы выжить.
— Что касается меня, я потерял больше, чем способность рассуждать, — печально сообщил Льюк Фронза. — Я растерял все мысли. Кто-то вытянул их прямо из моей головы, осталась одна шелуха.
Отличительным свойством медведей была игривость. Иногда они прилетали по воздуху и, если свет на них не падал, оставались совершенно невидимыми. Передвигались легко, и такими же легкими были их прикосновения. Однако касания их всегда оставляли следы — красноту, как от ожога крапивой. Кто-то из членов экспедиции сказал, что медведи-воришки — это вид гигантских насекомых, насекомых со странными склонностями и вечно голодных.
Семь дней и ночей пронеслись быстро. Это в некотором смысле была головокружительная планета, она вращалась с большой скоростью: семь дней и ночей на планете медведей-воришек составляли всего лишь восемнадцать часов на Старой Земле или шестнадцать на Астробе. Быстрое вращение планеты определило своеобразие ее условий; здесь не было ни растений, напоминавших деревья, ни разросшихся кустов. Здесь были лишь небольшие кустики и голая земля.
2
"Люди без сопровождения призраков — это ущербные люди. Они вынуждены погружаться в глубины "восточных" философий, следовать либо модным суевериям, либо выводам порочной астрологии, лишь бы скрыть факт, что они утеряли свои призраки.
Призраки без сопровождения либо без "соседства" людей в той же степени неполноценны и вынуждены играть самые странные роли или же принимать самые причудливые формы в попытках найти себе компанию.
Обе ситуации пагубны".
Введение к "Историям с призраками" сектора 24.
Терренс Тейбси.
Бурные атмосферные явления на планете медведей-воришек не позволили растениям подняться высоко — поэтому кусты остались низкими. А быстрое вращение планеты обусловило некую особенность ее рельефа. На большинстве планет холмы "растут". На планете медведей-воришек они становятся ниже.
Вершины континентов планеты плоские и покрыты буйной растительностью, по временам там дуют ураганные ветры. У подножия простираются пастбищные равнины, или луга, или округлые долины (наподобие Долины старых космолетов), и там, внизу, ветер не так силен.
Последние из двух коротких ночей на планете были грозовыми, а в такие ночи любят являться призраки. Небо ярко освещалось плазменными вспышками и зигзагами молний. Молнии скапливались на вершинах с громом, подобным львиному рыку, а затем, как водопады, низвергались на равнины и луга, образуя то там, то здесь горячие разливающиеся лужи.
Призраки обитали здесь всегда, но часть их выглядела обычно, как пустая оболочка воздушного шарика. В грозовые ночи они наполнялись молниями и становились видимыми. Другие призраки были почти незаметны и коротали бесконечную череду ночей и дней до того дня, пока в конце концов не поблекнут окончательно.
Возле корабля появился призрак Джона Чансела, одного из исследователей планеты медведей-воришек, которого обычно считали ее первооткрывателем. Правда, сейчас он опроверг это мнение. Вторую грозовую ночь призрак Чансела просидел в кокпите космолета вместе с членами экспедиции, любовно поглаживая множество ручек, колесиков, рычагов, кнопок и клавишей, необходимых для управления кораблем. В его дни летательные устройства не были столь сложными.
— Я разобрался во всех этих новых замечательных рычагах гораздо скорее, чем смог бы он, — мягко сказал призрак Чансела. — Разумеется, мозг был при нем, я же обладал интуицией. А это главное, доложу я вам.
— А как можно стать призраком? — поинтересовалась Гледис Макклейр. — Я имею в виду, если не после смерти. Существует ли какой-нибудь иной способ?
— Довольно часто это случается задолго до смерти. Я был призраком Чансела в течение двадцати лет до того, как он где-то умер. Он оставил здесь свой (мой) призрак во время второго посещения планеты. После этого он прилетал сюда за мной несколько раз, но я отказался следовать за ним. У него к тому времени появились свои причуды, у меня — свои. Если бы мы оказались вместе, то беспрестанно конфликтовали бы. Но для нас обоих (для него сильнее, чем для меня) разлука была мучительной.
Не редкость, когда живой человек и его призрак существуют порознь. Я вижу, что двое из вас шестерых обладают призраками, которые находятся не с вами вместе, и вам никогда не догадаться, о ком идет речь. Очевидно, на планете медведей-воришек условия благоприятствуют подобному расколу. У покинутых призраков развивается страшный голод (да, да, физический голод). Но у каждой планеты собственная призрачность, отличающаяся от призрачности других мест. Даже на Старой Земле существуют остатки и клочки призрачности, хотя это вовсе не голодная планета. Как сказал пророк: "Блажен мир, где есть железные луга и богатые экстракты, которыми духи могут насытиться и уснуть". Но здесь мы, духи, по большей части проводим время без сна.
— А что произошло с Дикси Лейт-Ларк? — спросила Гледис Макклейр у словоохотливого призрака.
— Она была призраком другого вида. Дело в том, что никакой Дикси Лейт-Ларк как человека никогда не существовало. Вы прибыли сюда вшестером. Дикси была вашим esprit de group, вашим групповым портретом и к тому же проявлением вашего недотепства. Мы впервые сделали ее видимой для вас. А вы узнали и приняли ее, как обычно, не раздумывая. Это "нераздумывание" составляет часть окружающей среды планеты медведей-воришек. Она была весьма приятным образным экстрактом всех вас, воплощением вашей причудливости и детскости, что сделало ее очень аппетитной. Мы любим экстракты. Они весьма питательны.
— Зачем же вы сделали ее видимой? — задала вопрос Селма.
— Затем, что мы любим видеть то, что едим.
— Что представляют собой медведи-воришки? — спросил Льюк Фронза у призрака Чансела.
— О, это особый вид перекати-поля, вид крапивы. Призраки иногда используют их, чтобы побродить вокруг. Я и сам часто бываю медведем-воришкой. Только в грозовые ночи мы можем, наполнившись плазмой, обрести собственный облик. Мы много бродим здесь, потому что нас вечно мучает голод и бессонница. В местах, более богатых органикой, металлами и минералами, процесс питания призраков сродни познанию, и они гораздо меньше двигаются и бродят. Они спят целыми столетиями. Активность призраков отмечается только в бедных пищей областях. Один из моих двойников подает признаки жизни, быть может, раз в столетие. Я ощущаю своих двойников, но чувствовать там почти нечего.
— Откуда появились медвежата-воришки?
— Это случилось в одно из первых посещений планеты, возможно, в самое первое, потому что, когда я появился здесь, они уже были. Экспедицию, состоявшую из мужчин, женщин и детей, плохо снарядили. Все они умерли от голода, потому что не знали, как использовать местную буйную растительность в качестве пищи. Они оказались первыми голодными призраками. Это их голодный крик подманивал корабли садиться в одном и том же месте. "Идите сюда, чтобы мы могли съесть вас", — взывали они, и этот мощный клич действует до сих пор.
— Вы только что сказали о своих двойниках, — произнес Джордж Махун. — Выходит, у Джона Чансела был не один призрак? А что сам он тоже страдает от голода и бессонницы?
— Ну, я (основной Джон Чансел) достиг вершин славы. Но каждый из нас, великих, имеет множество призраков. Он, то есть я, оставил, кроме меня, два других призрака. Но мы слабо ощущаем друг друга. Он обладал истинным величием, а я нет. И все же вот парадокс: он наблюдал себя, в целом, снаружи, и оставался доволен увиденным, я же видел нас изнутри, и на меня это не производило впечатления. И мы не были первооткрывателями стольких планет, как это принято считать. Здесь мы тоже не были первыми. Когда мы высадились на планете, на ней уже существовали медведи-воришки, призраки наших предшественников. Но Джон Чансел был великим человеком, а его предшественники — нет. Поэтому и считается, что Чансел был первооткрывателем многих планет.
Пусть вам сопутствует удача, леди и джентльмены, когда вы поднимете в воздух вашу капсулу завтрашним грозовым утром. Вам следует сделать несколько записей в корабельном журнале сразу же после взлета, позже вы забудете о своем намерении. Для этого вам придется воспользоваться не чернилами, а чем-то иным.
— Почему мы должны подняться в воздух на капсуле? — спросил Элтон Фэд. — Мы используем капсулу лишь в том случае, когда корабль неисправен.
— Он уже никогда не будет исправен, — ответил призрак Джона Чансела. — Да, это хороший корабль, он утолит голод многих из нас. Вам лучше поднять в воздух капсулу, и как можно скорее. Мы пытаемся играть честно, но вскоре съедим и ее, если она останется здесь.
Хороший парень — этот Джон Чансел, пусть и в слабом, призрачном виде.
Гораздо более мощным призраком (он появился грозовым утром после второй грозовой ночи) оказался Головорез Крэг. К концу второй ночи Головорез из чистого упрямства решил остаться видимым. Все члены экспедиции одновременно ощутили его мощное присутствие.
— Я пришел сюда один, — голос призрака-Головореза раскатывался львиным рыком. — Я не из тех, кто превращается в какую-нибудь крапиву или перекати-поле. Я не из тех, кто становится маленьким хихикающим медвежонком или другой игрушкой. Я не призрак и не персонаж истории с привидениями. Я просто мертвец, голодный и бессонный, на этой планете, бедной минералами. В грозовые ночи я разыскиваю свою собственную шкуру там, где ее оставил, влезаю в нее и заполняю ее гремящими молниями и статическим электричеством. Я голодный мертвец, и у меня крутой нрав. Не связывайтесь со мной!
— Это ты, парень, не связывайся с нами, — довольно резко ответил Джордж Махун. — Наш корабль оказался в весьма плохом состоянии, и нам нужно быстро улетать. Отойди с дороги, замогильное чучело, и не мешай. Элтон, заостри-ка вот эту штуку и принеси мне, да прихвати молоток потяжелее. Мне кажется, я знаю, как обращаться с голодными мертвецами.
И Джордж Махун протянул Элтону Фэду толстый и тяжелый нагель из твердого дерева. По длине и весу он был примерно с бейсбольную биту.
— Другие, настоящие призраки, для собственной безопасности рассказывают всякие байки, пока кормятся людьми и их пожитками, — продолжал старый голодный мертвец Головорез Крэг. Голос его рокотал. — Они говорят: "Мы не утащим у вас из разума ничего важного. Только всякую ерунду. Таким серьезным людям, как вы, это только на пользу. Так будет лучше и нам, и вам". Но это вранье. Мы выедаем из ваших мозгов самые ценные и серьезные вещи. И из ваших тел мы утаскиваем и съедаем самое вкусное. Мы приходим пировать вами. Из ваших кораблей и ваших складов мы извлекаем самое питательное, самое сложное: металлы, микросхемы, базы данных, кодированную память и компьютерные программы. Мы съедаем все, потому что голодны. А я еще ненасытнее, чем все остальные. Я поглощаю самую суть разума, оставляя лишь невнятицу и идиотизм. Я съедаю людей в один присест.
— Перенесено ли все необходимое с корабля в капсулу? — спросил широкоплечий, мощный Джордж Махун.
— Да, — ответило несколько голосов.
— Я съем внутренности вашей капсулы точно так же, как мы съели внутренность вашего корабля, — взревел мертвый Головорез Крэг.
— Заострил? — спросил Махун, принимая толстый нагель из рук возвратившегося Элтона Фэда.
— Конечно, — ответил Элтон, — только что-то с этой штукой не так. Она стала легче, пока я нес ее. Наверное, они могут есть на расстоянии.
— Ну ты, костлявый капитан, мне думается, я проглочу тебя на месте, — прорычал мертвец Головорез капитану Махуну. — Ты, конечно, большой кусок, но я не подавлюсь.
Огромный Джордж Махун одним мощным ударом сбил с ног огромного (больше себя ростом) мертвеца Головореза Крэга. Затем он приставил острие нагеля (конечно, Элтон, они выгрызли всю сердцевину этой штуковины, но что тут поделаешь?) к сердцу Головореза и крепко ударил по нему тяжелым молотом. Но деревянный нагель разлетелся на щепки и куски источенного червями (или призраками) дерева.
— Ладно, оставим его так, — сказал Махун, — я не знаю другого способа убивать мертвецов.
Шесть членов экспедиции погрузились в капсулу и взлетели. Внизу они увидели свой оставленный корабль, который на глазах рассыпался в прах, оставшись существовать лишь в виде силуэта корпуса и общей схемы. Он стал еще одним знаком-космолетом на напоминающей циферблат равнине, носившей название Долина старых космолетов. Эти очертания старых космических кораблей оказались самими старыми космическими кораблями. Должно быть, они послужили призракам отличной пищей.
— Берите судовой журнал! — жалобно воскликнул Джордж Махун. — Я просто чувствую, как быстро все это ускользает из моей памяти! Пусть каждый вырвет из журнала страницу и пишет как можно скорее. Давайте же, пока с нами не произошло то же, что и с нашими предшественниками.
— Нет смысла горевать, что ни в одной ручке не оказалось ни чернил, ни пасты, — "барабанным" голосом произнесла Селма. — Не стоит сокрушаться по поводу того, что электронная запись тоже невозможна. Вкусы медведей-воришек необъяснимы. В старых судовых журналах, помнится, было несколько строк, написанных не чернилами. Если мы все примемся быстро писать, у нас может получиться больше, чем несколько строк. Мы сумеем даже дать объяснение случившемуся, пока вся эта история еще не совсем испарилась из нашей памяти.
И все члены экспедиции вскрыли себе вены и принялись исписывать длинные страницы судового журнала собственной кровью. Кровь еле текла — из нее было изъято столько свободно циркулирующих веществ, что она стала вязкой и клейкой. Но они не сдавались. Они записали объяснение происходящему на планете, хотя потом, когда им показывали их записи, едва могли вспомнить, как это сделали.
Объяснение тому, что происходит на планете медведей-воришек было необходимо. Поскольку, как однажды сформулировал великий Реджиналд Хот: "Аномалии — это непорядок".
Вот это объяснение и приведено здесь примерно в том виде, в каком оно было записано в судовом журнале липкой и тягучей кровью.
Перевод Валентины Кулагиной-Ярцевой
Вл. Гаков Неописуемый чудак из глубинки
Именно таким был недавно ушедший Р.А.Лафферти, всего двух лет не доживший до своего девяностолетия. Как всякий чудак (многие, впрочем, не колеблясь, называли его гением), он нередко попадал в поле зрения критиков.
Однако, основательно «покопавшись» в его корнях и его творчестве, большинство отступалось, разводя руками. Решительно невозможно описать эту странную личность! Тем более не поддается рациональному анализу еще более «неописуемое» творчество Лафферти. Но с тем, что без этого автора современная фантастика заметно поблекла бы, сегодня согласны все.
В биографии писателя при всем желании не отыщешь ничего, что дало бы исследователю хоть малюсенький ключик к его творчеству.
Родился Рафаэль Алоизиус Лафферти 7 ноября 1914 года в маленьком городке Ниоле, затерявшемся в одном из самых «деревенских» штатов Америки — Айова. Отец будущего писателя владел небольшой фермой (к землице его потянуло только после того, как он в пух и прах проигрался на бирже), а мать работала учительницей в сельской школе. В 1918 году семейство Лафферти перебралось еще дальше на запад — в штат Оклахома, сначала в деревушку Перри, а потом в город Талсу. В Талсе Рафаэль Лафферти прожил всю оставшуюся жизнь, почти никуда из своей глубинки не выезжая. У него даже машины не было — не потому, что не на что было купить, а потому, что за почти девять десятков лет жизни Лафферти так и не удосужился обзавестить правами. В Америке одно это гарантирует постоянное внимание прессы — чудак, эксцентрик! Но писатель и журналистов не жаловал, что уже делало его личностью подозрительной.
Впрочем, один «ключик» все же имелся. Родители Лафферти были ревностными католиками и своих детей воспитали соответствующе. Как вспоминал потом писатель, в его детстве было только два ярких события — первое причастие и горящий крест куклуксклановцев на соседнем пустыре. Вообще-то ревностный католицизм среди американских фантастов — явление не менее редкое, чем отсутствие автомобильных прав. Кордвайнер Смит, Уолтер Миллер да Джин Вулф — вот первые, кто приходит на ум, и во всех этих редких случаях научная фантастика тоже получается редкая, "штучная".
После католической школы жизнь его была исключительно приземленной, если не сказать рутинной: незаконченная учеба в местном университете, затем заочные инженерные курсы и работа в компании по производству электрооборудования. В эту рутину вторглась война: в 1942-м после Перл-Харбора рядовой Лафферти отправился сражаться с японцами на Тихом океане. Он дослужился до сержанта и вернулся в Талсу с боевой медалью за участие в кампании по освобождению Новой Гвинеи. После этого почти тридцать лет проработал на одном месте и ушел на пенсию в 1971-м. Впрочем, к этому времени у Лафферти появилась и другая работа, по душе. Это была литература.
Писать он начал также необычно поздно — по американским стандартам.
Первая публикация 45-летнего дебютанта увидела свет в провинциальном литературном журнале, издававшемся в соседнем штате Нью-Мексико. Это был реалистический рассказ «Повозки». А в следующем, 1960 году вышел и первый научно-фантастический рассказ Лафферти — "День ледника". За последующие два десятилетия писатель опубликовал более 200 рассказов, составивших два десятка сборников, и более двадцати романов.
Казалось бы, неплохой творческий «выход»… Но беда в том, что большинство произведений Лафферти увидело свет в так называемых «малых» издательствах, выпускавших книги и сборники небольшими тиражами, как правило, посвящая их экспериментальной прозе, не рассчитанной на коммерческий успех.
А проза Лафферти вся от начала до конца была экспериментальной. Он за двадцать лет перепробовал все, что мог, ни разу не соблазнившись уютным в материальном плане "плаванием по течению". Потому его так любили печатать составители авангардных антологий (типа серии «Orbit» под редакцией Даймона Найта), но редко отмечал премиями американский фэндом. Как точно заметил легендарный американский составитель антологий Мартин Гарри Гринберг:
"Лафферти — самый причудливый, заковыристый, смешной и в то же время совсем не «центровой» писатель в истории научной фантастики. Хотя он собрал достаточное количество самых превосходных эпитетов в свой адрес и даже завоевал одну премию «Хьюго», ему явно не светит коммерческий успех многих из тех, кто недостоин таскать за ним его пишущую машинку. Сдается, что в этой стране странность — все еще не лучший товар для продажи".
Славу Лафферти принесли рассказы, а не романы — еще одна из длинного списка его странностей в мире англоязычной НФ. Рассказ "Плотина Евремы" (1972) принес писателю его единственную высшую премию — «Хьюго»[19]. А такие шедевры научно-фантастической короткой формы, как хорошо известные читателям "Долгая ночь со вторника на среду", "Планета Камирои", "Вначале был костыль", а также "Продолжение на следующем камне", стали украшением не одного десятка антологий.
Сам Лафферти охотно и подробно говорил о своем отношении к романам и рассказам. Позволю себе длинную цитату — пусть сам автор хоть частично облегчит критику нелегкую задачу анализа произведений Лафферти: "Мои романы, которые я писал с большой натугой, получили намного больше читательского и критического внимания, чем мои рассказы, которые сочинялись как бы сами по себе, без моего участия. Тем не менее рассказы представляются мне куда значительнее, чем романы… Я исповедую ту теорию (считая ее безусловно истинной), что хорошие рассказы пишутся сами, иначе говоря, они являются независимыми и представляют собой какие-то сущности (или даже живых существ), которые время от времени являются людям. Иногда это люди, обладающие свойством резонировать на все необычное, что им является и что проникает в них помимо их воли; как раз с помощью таких людей эти неведомые нам сущности проявляют себя — так и остальные узнают об их существовании. Вы уже догадались, что эти «резонантные» люди называются писателями. И я не могу не испытывать радости оттого, что несколько таких рассказов-сущностей когда-то явились не кому-нибудь, а именно мне.
В жизни каждого человека случается не так уж много действительно ярких встреч с чем-то абсолютным, совершенным. Я лишь однажды встретился "лицом к лицу" с горной львицей — и это стало для меня открытием. Лишь однажды видел, как кит выпрыгивает из океанских волн. Лишь раз наблюдал за рогатым горным козлом на краю скалы. Лишь раз любовался розовым фламинго в полете… И лишь по разу встречался с каждой из тех сотен удивительных сущностей-историй, которые и стали впоследствии моими напечатанными рассказами. Они приходили ко мне столь же незаметно и непредсказуемо — и производили в моей душе такой же переворот, — как и та львица, и тот фламинго… Я верю, что существует Вселенское Бессознательное, которое подобно пещере Али-Бабы, освещенной 999 светильниками, существует во всех людях и прочих тварях. И вот каменные глыбы, закрывавшие пещеру, внезапно открываются перед вами, и вас ждет встреча с необычным, ужасным, прекрасным или смешным… Тот, кому посчастливилось заглянуть в пещеру и повстречаться с ее диковинами, не может вечно держать это новое знание — или откровение — внутри себя. И тогда начинается поиск людей, с которыми хочется разделить удивительное открытие".
Рассказы Лафферти только маскируются под "простые и легкочитаемые истории" — в них всегда полно вторых планов и скрытых смыслов, которые легче всего теряются в переводах. И хотя лишь немногие из его произведений точно ложатся в рыночный трафарет science fiction story, no сути, ни один рассказ Лафферти не может быть назван и реалистическим — даже тот, в котором, на первый взгляд, не происходит ничего фантастического. Если это реализм — то особый, магический, сродни прозе Маркеса, Борхеса, Касареса и других мастеров латиноамериканской прозы. В причудливой вселенной Лафферти все не так, как в нашем мире, даже если рассказ писателя и был опубликован под ярлычком mainstream. Потому что Лафферти — фантазер в душе, а не холодный ремесленник, пишущий фантастику. А еще он — заразительный юморист, хотя и не сказать, что светлый и легкий. И изощренный мифотворец. И глубокий, не без религиозной истовости, философ. И отличный стилист и рассказчик.
Писал Лафферти и традиционную НФ, если под этим понимать самое популярное пространство-время этой литературы — будущее и иные миры. Другое дело, как именно писатель использует уже порядком затоптанный в фантастике «футурокосмический» полигон. Взять, к примеру, роман "Космический морской запев" (1968). Внешне это традиционная космическая опера, однако эрудированный читатель легко обнаружит здесь остроумный и парадоксальный пересказ гомеровской «Одиссеи». А несколько рутинная сюжетная завязка романа "Анналы Клепсиса" (1983) — историк прибывает на другую планету для сбора научной информации — неожиданно оборачивается сложной и многоплановой философски-религиозной притчей: ученый обнаруживает, что никакой «истории» в этом мире пока нет, а окружающая его реальность — лишь прелюдия к истинному "началу времен", которое произойдет по воле Создателя Вселенной.
Слова «религия» и «Создатель» упомянуты не ради красного словца. Самый известный роман Лафферти — "Властелин прошлого" (1968) — не только и не столько история великого гуманиста и основоположника литературной утопии сэра Томаса Мора, которого некие силы «извлекли» из прошлого и послали возглавить правительство на далекой планете (тоже претендующей на звание "утопической"). Лафферти более волнует образ великого религиозного упрямца Томаса Мора, "человека на все времена", который, как и герой Стругацких, не воспользовался подаренной ему "попыткой к бегству". И снова с той же последовательностью готов заплатить жизнью за свою свободу — свободу совести. Если кто забыл: Мора казнили не за "социалистическую утопию", а за отказ публично признать право короля на развод и повторный брак. И даже не за критику этого поступка, греховного, с точки зрения всякого уважающего себя католика, а всего лишь за «преступное» молчание…
Религиозные мотивы присутствуют и в других романах Лафферти. Неудачей заканчиваются попытки инопланетных «мессий» утвердить гуманность на нашей «падшей» планете в "Рифах Земли" (1968) и в более поздней «Аврелии» (1982); а в пиротехнической философской притче "Четвертые резиденции" (1969) извечная битва Добра и Зла все еще продолжается — с переменным успехом и неясным финалом. И даже в цикле произведений об Институте Нечистой Науки (многие из них собраны в книгах "Прибыв в Эстервайн: автобиография машины Ктистек" и "Элегантным взором: рассказы об Астро и о людях, которые знают все"), внешне совсем не похожих на тяжеловесные морально-назидательные притчи, в самом названии места действия заложена главная моральная проблема, мучившая Лафферти всю жизнь — проблема взаимоотношений науки и этики.
Вообще для Лафферти (как и для такого же католика Уолтера Миллера) вопросы истины и морали, как понимают их религиозные люди, архиважны и фундаментальны. Моральная составляющая, пусть и не сразу, обнаруживается даже в самых язвительных и абсурдистских рассказах, в которых, на первый взгляд, Лафферти камня на камне не оставляет от всех и всяческих "абсолютных истин". И писатель поневоле от года к году мрачнел, наблюдая, как в окружающем его мире высшие ценности размываются и исчезают, подменяются ценниками на товарах. В своей "Иллюстрированной энциклопедии научной фантастики" (1995) Джон Клют сказал об этом исчерпывающе точно: "Религия по-прежнему не играет существенной роли в современной научной фантастике: обычно сюжет и проблематика произведения мало связаны с тем, к какой религиозной конфессии принадлежит автор. В этом отношении — как и во многих других — Лафферти фигура уникальная. Он католик, и, если копнуть под внешний слой его нарочито игривых историй, в них всегда обнаружится "моралите".
Лафферти в душе — моралист. И даже более того — самые дикие полеты его фантазии не только подтверждают те или иные постулаты, которые, с точки зрения правоверного католика, должны направлять поведение, но еще и представляют собой амбициозную попытку морально «выправить» саму Вселенную.
Иначе говоря, представить дело так, что вся окружающая нас материальная реальность — не более чем некая вселенская театральная сцена, а наши поступки включены в действие развертывающейся космической моральной драмы".
Он в общем сумел не так мало написать за двадцать лет. Кроме НФ Лафферти писал еще и фэнтези (в 1990 году он получил Всемирную премию фэнтези за общий вклад в развитие жанра), а также произведения, которые можно условно обозначить как "исторические фантазии". Такова его дилогия, состоящая из романов "Зеленое пламя" (1971) и «Полнеба» (1984), действие которой разворачивается в позапрошлом веке, а сюжетные коллизии движет борьба героя-ирландца и его интернационального воинства, называющих себя "зеленой революцией", с революцией «красной», которую возглавляет сын дьявола! Обращался Лафферти и к истории коренных жителей Северной Америки, согнанных со своих земель белыми поселенцами (роман "Окла Ханнали").
Но с 1980 года он стал писать гораздо меньше — перенесенный инфаркт приковал Лафферти к постели. А в 1994-м последовал второй. Но Лафферти прожил еще восемь лёт — не покидая дома для тяжелобольных и престарелых при францисканском монастыре в Оклахоме. Когда 18 марта 2002 года писатель умер и был похоронен на католическом кладбище в Пери (там, где прошло его детство), выяснилось, что он всю жизнь прожил фактически один, убежденным холостяком (долгие годы с ним жила его сестра, пока не умерла), и весь круг общения Лафферти составляли книги. А также виски, запасы которого поражали редких друзей и знакомых затворника, когда они еще посещали его дом. На фантастических конвенциях он появлялся редко — и всегда держался особняком.
У него, дипломированного инженера-электрика, никогда в жизни не было компьютера — все свои произведения Лафферти по старинке «отбивал» на разбитой механической пишущей машинке.
Нет, правда, чудак неописуемый.
24.10.2009
Источники
Шесть пальцев времени
«The Six Fingers of Time» © If, September 1960
2011 — пер. С. Гонтарев
Роковая планета
«The Weirdest World» © Galaxy, June 1961
2011 — пер. С. Гонтарев
Главное открытие Рейнбёрда
«Rainbird» © Galaxy, December 1961
1997 — журнал «Если» № 1, с. 31–44, пер. К. Михайлов
Семь дней ужаса
«Seven-Day Terror» © If, March 1962
1965 — журнал «Юный техник» № 8, с. 51–54, пер. И. Бернштейн ("Семь страшных дней")
1965 — журнал «Сельская молодёжь» № 9, с. 21–22, пер. И. Бернштейн ("Семь страшных дней")
1968 — сборник «31 июня» Москва, Мир (Зарубежная Фантастика), с. 71–79, пер. Р. Померанцева ("Неделя ужасов")
1971 — сборник «Антология сказочной фантастики» Москва, Молодая Гвардия (БСФ, т.21), с. 355–363, пер. И. Почиталин
1989 — сборник «ЧАО (Час активного отдыха)» Москва, Прометей, с. 40–47
1991 — сборник «Невероятный мир» Москва, Юный техник, с. 129–135, пер. И. Бернштейн ("Семь страшных дней")
1992 — сборник «Неделя ужасов» Москва, Ф. Грег, с. 47–53, пер. Р. Померанцева ("Неделя ужасов")
1995 — сборник «Сражение» Минск, Тивали-стиль (Navigator/Навигатор), с. 136–144, пер. И. Почиталин
1998 — сборник «Самое мощное оружие» Москва, Армада (Библиотека юмористической фантастики), с. 154–161, пер. Р. Померанцева ("Неделя ужасов")
2003 — сборник «Чёрный человек. Американская готика ХХ век» Москва, АСТ, СПб., Terra Fantastica (Классика литературы ужасов), с. 403–416, пер. И. Почиталин
Содом и Гоморра, штат Техас
«Sodom and Gomorrah, Texas» © Galaxy, December 1962
2011 — пер. С. Гонтарев
Трансцендентальные тигры
«The Transcendent Tigers» © Worlds of Tomorrow, February 1964
2005 — пер. Э. Кийг („Трансцендентные тигры“)
2011 — пер. С. Гонтарев
Ох уж эти мне ребята
«Enfants Terrible» © Ellery Queen's Mystery Magazine, June 1971
1974 — журнал «Сельская молодёжь» № 10, с., пер. Н. Колпаков
1991 — сборник «Смерть в особняке» Москва, "Политиздат", с. 339–354, пер. Н. Колпаков
Сердитый человек
«Mad Man» © If, October 1964
2011 — пер. С. Гонтарев
Свинья в тюряге
«Pig in a Pokey» © If, December 1964
2011 — пер. С. Гонтарев
Долгая ночь со вторника на среду
«Slow Tuesday Night» © Galaxy, April 1965
1992 — журнал «Если» № 3, с. 87–90, пер. Б. Силкин
1992 — сборник «Фата-Моргана 3» Нижний Новгород, "Флокс", с. 412–418, пер. И. Невструев ("Медленная ночь со вторника на среду")
Время гостей
«Guesting Time» © If, May 1965
2011 — пер. С. Гонтарев
Безлюдный переулок
«In Our Block» © If, July 1965
1986 — журнал «Знание-сила» № 6, с. 47–48, пер. А. Графов
Прожорливая красотка
«Hog-Belly Honey» © The Fantasy & Science Fiction, September 1965
1974 — журнал «Знание-сила» № 2, с. 56–58, пер. Р. Нудельман
Девять сотен бабушек
«Nine Hundred Grandmothers» © If, February 1966
1992 — сборник «Не только мёртвые» Омск, Верзилкин и Ко, ЛТД., Алма-Ата, РГЖИ "Дэуiр", с. 283–297, пер. С. Гонтарев
1994 — журнал «Если» № 5–6, с. 59–62, пер. В. Кулагина-Ярцева ("Девятьсот бабушек")
Школа на Камирои
«Primary Education of the Camiroi» © Galaxy, December 1966
1998 — журнал «МЕГА» № 1, с.14–18, пер. К. Михайлов
Планета Камирои
«Polity and Custom of the Camiroi» © Galaxy, June 1967
1995 — журнал «Если» № 1, с. 29–34, пер. М. Комаровский
Дыра на углу
«The Hole on the Corner» © Orbit 2, ed. Damon Knight, Berkley Medallion, 1967
2002 — журнал «Если» № 5, с. 61–72, пер. Т. Перцева
Раз по разу
«One At A Time» © Orbit 4, ed. Damon Knight, G.P. Putnam’s, 1968
1990 — сборник «АЛЬФА-1» Москва, СП "Бук Чембэр Интернэшнл", с. 83–92, пер. Н. Трегубенко
1991 — сборник «Предел желаний» Москва, СП "Бук Чембэр Интернэшнл", с. 187–198, пер. Н. Трегубенко
Все фрагменты речного берега
«All Pieces of a River Shore» © Orbit 8, ed. Damon Knight, G.P. Putnam’s, 1970
2000 — журнал «Если» № 10, с. 73–88, пер. В. Кулагина-Ярцева
Лягушка на горе
«Frog on the Mountain» © Nine Hundred Grandmothers, ACE, 1970
2011 — пер. С. Гонтарев
Великая междугородняя
«Interurban Queen» © Orbit 8, ed. Damon Knight, G.P. Putnam’s, 1970
1993 — журнал «Миры» № 2, c.203–211, пер. А. Воеводин
2011 — пер. С. Гонтарев ("Первая Междугородняя")
Прокатись в жестянке
«Ride a Tin Can» © If, April 1970
1998 — журнал «МЕГА» № 1, с. 8–13, пер. А. Грузберг
Маленький к.
«The Man Underneath» © If, January 1971
1992 — журнал «Если» № 5, с. 87–92, пер. Е. Диллендорф
Небо
«Sky» © New Dimensions I, ed. Robert Silverberg, Doubleday, 1971
2011 — пер. С. Гонтарев
Вначале был костыль
«Eurema's Dam» © New Dimensions II, ed. Robert Silverberg, Doubleday, 1972
1991 — журнал «Костер» № 10, с. 16–17, пер. К.Васильев ("Двойник")
1993 — журнал «Если» № 8, с. 69–73, пер. Л. Паперина
Однажды на Аранеа
«Once on Aranea» © Strange Doings by R.A.Lafferty, Charles Scribner's Sons, 1972
2011 — пер. С. Гонтарев
Планета медведей-воришек
«Thieving Bear Planet» © Universe 12, ed. Terry Carr, Doubleday, 1982
1997 — журнал «Если» № 8, с. 217–231, пер. В. Кулагина-Ярцева
Примечания
1
Полидактилия — анатомическое отклонение, характеризующееся большим, нежели обычно, количеством пальцев на руках или ногах человека. — Прим. пер.
(обратно)2
Rainbird — так же пишется и фамилия героя рассказа. — Прим. пер.
(обратно)3
Трансцендентальное — в послекантовской философии слово стало обозначать любое содержание, соединяющее разные реальности, в которых существует это содержание.
(обратно)4
Гомодинамичная — с повторяющимися элементами.
(обратно)5
Гомохиральная — идентичная по форме.
(обратно)6
Гомоеотелеутичная — имеющая такое же или схожее окончание.
(обратно)7
Кортикоиды — гормоны, вырабатываемые корой надпочечников. — Прим. пер.
(обратно)8
Гипподамия — астероид в Солнечной системе. — Прим. пер.
(обратно)9
Проконсул — название одного из видов вымерших обезьян, предполагаемых предков человека; в древнем Риме — звание.
(обратно)10
Я не понимаю (франц.)
(обратно)11
Это действительно так. Ближайшими аналогами в русском языке могут послужить «Тьмутаракань», «пимы сибирские», «мы — пскопские» и т. п.
(обратно)12
Камироец обыгрывает формулу старинного английского судопроизводства.
(обратно)13
Эрнандо де Сото (Hernando de Soto, ок. 1498–1542) — испанский конкистадор, который возглавил первую завоевательную экспедицию европейцев к северу от Мексики.
(обратно)14
Кэддо — конфедерация нескольких индейских племён северо-запада США, которые в 16 в. населяли территории нынешних штатов Техас (восток), Луизиана (запад) и частично юг Арканзаса и Оклахомы в историческом регионе, известном как Сосновые леса.
(обратно)15
Гипподамия — дочь Эномая, царя Пизы в Элиде, который заставлял женихов дочери состязаться с ним в ристании на колесницах на огромном расстоянии от Олимпии до Коринфского перешейка. Побежденных убивал. — Прим. пер.
(обратно)16
Морены — обломки пород, перемещаемые ледником, а также отложенные им осадки.
(обратно)17
Хемицион — нечто среднее между собакой и медведем. Жил в эпоху миоцена. — Прим. пер.
(обратно)18
Имеются в виду традиционные напитки разных стран: джин «Dutch Courage» («Голландское мужество»), французский коньяк, шотландский скотч, канадский виски и бурбон из штата Кентукки. — Прим. пер.
(обратно)19
Писатель разделил ее с Фредериком Полом и покойным Сирилом Корнблатом — соавторами другого премированного рассказа, «Встреча». Кроме того, на премию «Пебьюла» номинировались "Долгая ночь со вторника на среду" и "Продолжение на следующем камне", а также романы "Властелин прошлого", "Четвертые резиденции" и "Дьявол мертв", а на Премию имени Филипа Дика — рассказ "Железные слезы". — Прим. авт.
(обратно)


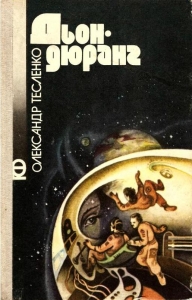
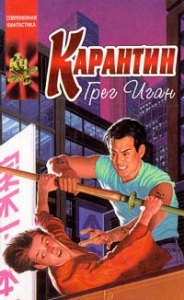
Комментарии к книге «Сборник рассказов», Рафаэль Алоизиус Лафферти
Всего 0 комментариев