ИСКАТЕЛЬ № 3 1979
Сергей НАУМОВ ВЗВЕДЕННЫЙ КУРОК
Рисунки П. ПАВЛИНОВА
КАПИТАН СТРИЖЕНОЙ
— На девятом непонятное, товарищ капитан… Обнаружен след в наш тыл…
Старшина Ива Степанович Недозор стоял навытяжку, напряженно. Знаменитые на весь отряд запорожские усы чуть шевелились. Начальник заставы Андрей Стриженой знал эту привычку старшины после доклада бормотать еще что-то неслышное.
Капитан проснулся мгновенно, как только скрипнула дверь. С тех пор как уехала Нина, он не запирал двери на ночь. Стриженой взглянул на часы — четыре часа ночи.
— Так что же непонятного на девятом, Ива Степанович?
— След непонятный, товарищ капитан… В единственном числе… И опять же вроде шаровая молния границу нарушила…
— Кто у нас на девятом?
— «Эстет»… простите, товарищ капитан, Агальцов — десять минут тому назад он включил в розетку и доложил, что видел своими глазами удивительное и редкое явление природы — шаровую молнию больших размеров на расстоянии примерно полукилометра.
— След на контрольно-следовой полосе?.
— КСП на участке проходит по ложбине, там и и сухое-то время мокро, а сейчас — озеро должно быть… След обнаружен у сломанной ольхи, что над ручьем. Агальцов решил молнию проследить. Пока бежал, молния исчезла в лесу, тогда он немного углубился в тыл, тут и увидел след. Он его лапником закидал, чтобы не смыло, и к розетке бегом. Задача ему поставлена: держать след, пока не прибудет Гомозков с Мушкетом.
— Так…
«На девятом — это плохо. — думал Стриженой, — плотный лес с густым кустарником, два оврага, ручей, выводящий к старому замку. И Агальцов… Молодой, неопытный солдат… «Эстет» … Придумают же…»
Капитан быстро оделся, оглядел старшину. Тот стоял, выпятив грудь, всем видом показывая, что готов возглавить поисковую группу.
«Не потянет, — мелькнула мысль, — пятьдесят два года, три ранения, две контузии. Пойду сам. Обидится старик. Отца вспомнит. Потом объясню…»
— Ива Степанович, — мягко сказал Стриженой, — останетесь за меня. Оповестите все пограничные наряды, позвоните соседям. Сообщите в отряд о нарушении. И вот еще что — Гордыню с Даниловым к старому замку…
Старшина опустил голову.
— Есть…
— А я с «тревожной»… Буду звонить…
Туман и мелкий моросящий дождь. Хуже погоды не придумаешь. А ведь еще не шумела осенняя ярмарка листопада, не кричали в небе журавли, хотя осень и чувствовалась в звонкости воздуха по утрам, в шорохе усыхающих на болоте камышей, в легкой багряности осиновых листьев. А дни-то какие стояли — тихие, солнечные. И вдруг, словно по чьему-то приказу, погода изменилась в одну ночь. Заволокло небо и заморосил нудный затяжной дождь. Из распадков и низин хлынул туман и укутал горы в плотную вату.
Пятый год пошел, как Стриженой принял заставу, а все не привыкнет к таким вот природным метаморфозам.
Внезапный порыв ветра рванул космы тумана, и провода антенны натянулись и тягуче заябедничали ветру: «Сты-нем, стын-ннем». В тумане прошелестели чьи-то большие крылья.
И аистам не спится. Тревога разбудила птиц. Счастливая застава, говаривали в отряде, — на трубе гнездо аисты свили. А оно, гнездо это, еще до войны было, а потом при отце, когда он принял заставу, аисты вернулись.
Мысли об отце знакомым теплом толкнулись в сердце, и оно защемило застарелой болью.
Отец. Он погиб здесь такой же дождливой осенью.
Случилось это в тысяча девятьсот сорок девятом году. Пограничники и истребительные отряды из местных комсомольцев теснили и дробили банды националистов-бандеровцев. Самолеты выслеживали дымы костров в глухих лесах, местные люди проводили воинские подразделения сквозь непроходимые болота, крестьяне отказывали бандитам в продовольствии.
Осенью сорок девятого их разгромили. Отдельные банды стали прорываться через границу. Целью ставилось — пробиться в Западную Германию. Самый короткий путь туда был через территорию Чехословакии. Прорыв границы осуществлялся сразу в нескольких местах.
Удар одной из банд пришелся на заставу капитана Павла Стриженого. Высланное подкрепление задержалось в пути — бандеровцы взорвали мост через горную реку. Застава, поднятая в ружье, заняла оборону на участке от старого замка до стыка с соседней заставой. Два часа длился неравный бой. Бандитов сдерживал ручной пулемет, за которым лежал сам начальник заставы. Его поддерживал огнем автомата сержант Ива Недозор. Древняя разрушенная башня замка прикрывала пограничников.
Оуновцы открыли по башне огонь из минометов, а выкатившийся невесть откуда грузовичок, обложенный мешками с песком, почти вплотную приблизился к развалинам замка, и оттуда застрочил из двух спаренных пулеметов.
Капитан приказал Недозору подорвать грузовичок с пулеметами гранатами, сам же сменил позицию и внезапно ударил по врагу из-под козырька сохранившейся крыши.
Двумя связками гранат сержант подорвал бандеровский «броневик», но был ранен в плечо и в голову и потерял сознание.
Стриженой, трижды раненный залетавшими под каменный козырек осколками, продолжал сдерживать банду, пока пущенная бандеровским снайпером пуля не сразила его.
А вскоре подоспела помощь из отряда, и банда была почти вся поголовно уничтожена.
…«Тревожная» группа ждала во дворе заставы — лучший следопыт отряда Гомозков с неразлучным Мушкетом, рядовые Заборов и Колашник. Во дворе урчал мотором «газик». Капитан заметил в кабине водителя Хачика Месропяна.
Через минуту они уже мчались сквозь косую пелену дождя.
«Так что же случилось в девятом квадрате, — думал Стриженой, — вода скрыла следы на контрольно-следовой полосе. И каким же чудом заметил единственный отпечаток у ручья рядовой Агальцов? На девятом много воды — вот она разгадка; болота, ручей и дальше три озерца и еще дождь, который сделал ручей полноводным, а болотце почти непроходимым. Почти — на границе нет такого понятия. И не с божьей помощью перемахнул нарушитель КСП. Агальцов заметил след, когда, увлекшись погоней за шаровой молнией, вышел к ручью. Ручей на девятом близко подходит к КСП. Значит, нарушитель прошел по воде с сопредельной стороны и, пользуясь непогодой, дошел до ручья. А может быть, он даже заметал след. И вот ошибся. Один-единственный раз. И не заметил этого. Или не захотел заметить, не придал столь незначительному факту внимания. А вот глазастый Агальцов заметил след и поднял тревогу».
Капитан думал о совпадении. Агальцов увидел молнию и затем в том же квадрате обнаружил след. Какой же он давности? След не мог быть старым, иначе его бы смыло дождем. Значит, след мог появиться сразу вслед за молнией. Уж не с ней ли связано нарушение границы?
Стриженой в запрошлом году сам видел шаровую молнию. Перед грозой. Огненный шар величиной с футбольный мяч, словно живое существо, медленно двигался над склоном горы, пока не пропал в ущелье.
«Нужно расспросить Агальцова, что же он видел с расстояния в пятьсот метров, да еще в тумане. Но это потом. Главное сейчас — перекрыть выходы к шоссе, ведущему в город. Именно туда и будет стремиться нарушитель. Район заблокируют. Если нарушитель не успеет за полтора часа добраться до шоссе, что мало вероятно, то он в мышеловке. На что же он надеется? Может быть, на шоссейке его ждут с машиной и он идет по самой короткой прямой. И все равно ночью в лесу быстро не пойдешь. За полтора часа к дороге не выйти. Тогда что же?…»
Стриженой ставил себя на место нарушителя, искал выход. И не находил.
Капитан годами приучал свой мозг в минуты наивысшего напряжения выполнять только одну работу — сопоставлять, анализировать, делать неторопливые выводы. Мысли образовывали как бы замкнутый круг: слышу, вижу, вспоминаю, сопоставляю и думаю, думаю, ищу единственно верное решение.
Стриженой никогда не считал нарушителей глупыми — и тут сказывается опыт его предшественников и его собственный опыт, он проштудировал сотни документов, лаконично повествующих о задержании, просмотрел огромное количество стенограмм допросов пойманных нарушителей, в свое время подивился их изощренности в подготовке перехода границы, их остроумным внезапным ходам. И теперь Стриженой понимал, что имеет дело с хитрым и коварным врагом, скорее всего человеком местным, возвращающимся из-за кордона.
На небольшом, в сущности, клочке земли поведется ожесточенная борьба умов, характеров, опыта и интуиции. Капитан предполагал — нарушитель имеет резервный вариант на случай неудачи, возможен и обратный прорыв границы, поэтому он и поднял заставу по тревоге. Через час пробудится весь район и круг замкнется. Отряды колхозных дружинников заблокируют непроходимые чащи, протянутся цепью вдоль скалистых склонов, как бы отрезая полный тайн мир пограничной полосы от шумного, многолюдного мира городов и сел, от вечно живых артерий — дорог.
Солдаты из пограничного отряда, поднятые по тревоге, закроют все проходимые и непроходимые черные тропы, умело замаскировавшись, замрут, застынут в ожидании, чутко вслушиваясь в шорохи, отыскивая среди них тот единственный, который рождает шаг человека.
Стриженой знал, как редко случается на границе задержать настоящего матерого нарушителя. Иной прослужит всю жизнь, но так и не столкнется с человеком, который долгие годы готовился к переходу. Асы разведки не каждый день прорывают границу. Но ты готовишься к этой встрече всю жизнь и, если настал твой час, отдаешь всего себя борьбе, поиску, схватке.
— Агальцов… — сказал Гомозков, нарушая раздумья командира.
— Где?
— Справа, в сорока метрах от поворота.
Капитан приказал остановиться и выскочил из машины. На темной стене леса тускло мерцала яркая точка. — «Курит!»
Капитан выслушал доклад подошедшего пограничника, спросил:
— Курили?
— Курил, товарищ капитан, — опустил голову солдат, — захолодился на одном месте, — вода кругом.
— Гомозков, займитесь следом… А вы… — Стриженой смерил Агальцова строгим взглядом, — покажите место, где видели шаровую молнию.
— Есть…
Агальцов повел рукой в сторону болотца.
— Сперва она пришла от границы, а дальше — я не видел.
— Какая она была, когда вы ее обнаружили? Опишите…
— Когда увидел, вроде как фара у «газика», только больше в размерах и поярче. Туман был, товарищ капитан… Много не увидишь. Хотя по манере все это напоминает Клода Моне, знаете, есть такой французский художник. Так вот, у него Нотр-Дам написан в сплошном тумане, получилось вроде видения, ирреально все — вроде есть и вроде пригрезилось.
— А если без Моне, — усмехнулся капитан, — не пригрезилась вам, Агальцов, эта самая молния?
— Никак нет. Я в том месте, где молнию засек, лес обследовал. Деревья в округе подпалены… Слышите, пахнет…
«Вот тебе и первогодок, — подумал Стриженой, — и с обонянием у него полный порядок, и времени даром не терял». Во влажном воздухе стойко держался запах горелого дерева. Подошедший Гомозков доложил:
— След часовой давности, товарищ капитан, размер обуви сорок три, сапоги с подковами, новые. Рост нарушителя за метр восемьдесят пять, вес… вес за сто сорок, товарищ капитан, остальное только Мушкету известно.
— Так… Говоришь, с подковами сапожки. На счастье подковки приколотили, Гомозков, а? И вес… А может быть, нес он что-нибудь… След нужно искать, Глеб. По ручью ведь пошел.
— По ручью, товарищ капитан.
— Значит, где-нибудь выйдет. Возьмешь Агальцова и вверх. Я еще побуду здесь. И вниз спущусь…
— «Попрыгунчик», товарищ капитан?
— Не знаю, Гомозков. Нужно посмотреть, что на КСП в ложбине. Держи связь с заставой. Там Недозор…
— Есть держать связь с заставой.
Агальцов и Гомозков с Мушкетом неслышно растаяли в тумане.
ГОМОЗКОВ И АГАЛЬЦОВ
Теперь они бежали, отстав друг от друга на добрую сотню метров. Впереди Гомозков с Мушкетом на длинном поводу, за ним худой, жилистый Агальцов.
Собака взяла след, едва пограничники прошли полкилометра вверх по ручью. Два часа без передышки шел поиск. И вот надо же: Мушкет потерял след, кружил по поляне с тремя стогами сена, тыкался носом то в один стог, то в другой, жалобно скулил, потом сел вывалив язык и тяжко дыша, словно бы моля об отдыхе.
— Ищи, Мушкет, ищи!.. Ну, Мушкетик, милый, уйдет ведь он!..
Гомозков уговаривал собаку, поглаживал ее мокрую голову.
Далеко, в горах высверкивали молнии, здесь в долине ровно шумел дождь.
— Что? — выдохнул подбежавший Агальцов.
— Похоже, Мушкет след потерял, — угрюмо отозвался проводник.
Агальцов сразу поскучнел.
— Значит, спрашиваем — отвечаем… Как звали моего предка, который жил при Иване Грозном? Ответ — Лифантием…
— Ты бы лучше осмотрел местность, чем трепаться, — не то приказал, не то попросил Гомозков.
— Ладно. Я сейчас залезу вон на ту сосенку и гляну разок на синий город Севастополь.
Агальцов слыл мастером турника. Вскоре его жилистое тело замелькало где-то возле самой вершины.
Гомозков присел на поваленный бурей старый дуб.
Надежда, что Мушкет снова возьмет след, не оставляла следопыта. Дождь, конечно, мешает собаке, но и что-то еще. Ведь след-то свежий.
Гомозков знал, на какие ухищрения идут нарушители, чтобы замести след. Табак, рассыпанный на тропе, — самое простое. Гомозков встал, потянул ноздрями влажный плотный воздух. Его настораживал сам воздух. В нем таился какой-то запах, незнакомый, совершенно чуждый лесным запахам. Словно жгли здесь недавно, не то пробку, не то…
«Газ, — пришла внезапная мысль. — Вот что мешает Мушкету».
Агальцов шумно спрыгнул на землю.
— В полумиле, курс зюйд-вест, большая поляна и на ней опять же три стожка сена. Надо бы посмотреть…
— Посмотрим. Обязательно. Отдохнем чуток… Мушкет выдохся.
Агальцов удивленно уставился на товарища.
— Здесь он, твой дядя с подковками. И недалеко… Достанем… Ты вот лучше мне скажи, Алеша. Вроде ты и грамотен… Биографии великих людей читал, разные картины видал, а живешь не думая.
— А чего думать, если все понятно… К примеру, на сей момент: Мушкет твой едва плетется, потому что старшина лишний кусок мяса пожалел собачке.
— Потяни-ка своим длинным носом. Потяни как следует…
Агальцов шумно, со свистом вдохнул в себя воздух.
— Чуешь что-нибудь?
— А что? Костром вроде пахнет.
— В котором сжигали пробки из-под «Прасковейского» портвейна…
— Вроде так…
— Значит, не померещилось, — пробормотал Гомозков.
Теперь следопыт был уверен — нарушитель где-то рядом. Он тоже не двужильный, устал и явно сбавил обороты, а чтобы сбить собаку со следа, пустил в ход последнее средство — баллончик с газом.
Гомозков взглянул на Мушкета. Тот зябко вздрагивал всем телом, лежа в кустах, и грустными глазами смотрел на хозяина.
— Нужно идти, — сказал человек собаке, и она послушно встала.
— Еще немного, и мы достанем его, Мушкет. Алексей, смотри в оба, автомат с предохранителя и… тихо. Пойдешь следом, дистанция пятнадцать метров… Вперед…
ГОНДА
Он исходил здесь каждую тропинку еще в детстве. В Мюнхенском центре знали, кого посылать для прорыва границы. Каких только кличек для этого человека не придумывали за рубежом, сколько псевдонимов и фамилий сменил он за четверть века, работая по заданию службы серого генерала Голена на территории Польши и Чехословакии! В сорок девятом с остатками разбитой оуновской банды он бежал из родных мест через территорию Чехословацкой республики, пробрался в Мюнхен и работал в штабе Бандеры. Он и сам иногда забывал свою настоящую фамилию. И имя. Но не было человека на земле, по которой он сейчас шел, кто бы забыл его последнюю кличку Марко-Палач.
Он хорошо знал, как будут действовать пограничники. Ничего нового они не придумают. Заблокируют зону, перекроют дороги, обшарят старый, полуразвалившийся замок. Найдут тело Цацуры, если он не успел уйти обратно и умереть на территории так любимой им Чехословакии. И начнут свой знаменитый прочес. Сеть будет плотной — тут и весь погранотряд, и застава, и дружинники, и местная милиция. Может быть, и еще кто-нибудь. А он не будет торопиться. У него есть время. Продукты. Уютный спальник на гагачьем пуху. А главное — логово, в котором он будет заниматься гимнастикой и спать, строго соблюдая режим, предписанный добродушным веселым немцем по фамилии Веттинг.
В центре позаботились, чтобы он не походил на прежнего Гонду. Две пластические операции — пустяки в сравнении со страхом быть узнанным.
Гонда не доверял никому. Не доверял и не верил. Это стало законом его жизни давно. Может, поэтому он и решился на довольно рискованный шаг — подслушать разговор тощего американца, прикатившего в дом под Мюнхеном перед самой заброской. Он предчувствовал, что разговор пойдет о нем. В тот день Гонда должен был бежать девятнадцатикилометровую дистанцию. Это входило в подготовку к переходу. Веттинг доверял ему и не контролировал. Гонда пробежал половину дистанции и скрытно вернулся к спрятанной в густом лесу вилле. Обмануть охрану не составило большого труда — давно уже он изучил систему постов на подходе к дому. Рисковал ли? Безусловно, он рисковал. Но он хотел знать, что думают о прорыве границы и о нем самом Веттинг и тощий американец. И он полз, затаив дыхание, к распахнутым окнам кабинета шефа мюнхенского отделения разведки Аларда Веттинга, словно переходил границу.
Разговор записался в памяти дословно. Тогда же он узнал фамилию американца — Фисбюри. Впрочем, это могла быть и не настоящая фамилия.
Фисбюри: Я хотел бы повидать агента.
Веттинг: Получите его в полдень после кросса…
Фисбюри: Вы словно готовитесь к чемпионату мира по боксу…
Веттинг: В нашем деле и одна недотренированная мышца может все разрушить.
Фисбюри: И все же, почему — он?
Веттинг: Наш лучший агент. Знает местность — рожденный в тамошних местах. Опасность быть узнанным мы ликвидировали. Две операции сделали его неузнаваемым.
Фисбюри: И все же риск…
Веттинг: Он не сдастся. В любом случае пограничники получат только тело.
Фисбюри: Еще бы… такие грехи не замолить. Но я не об этом. Риск быть узнанным — риск провала всей операции. Почему бы не попробовать в другом месте?
Веттинг: Именно на этом участке границы у агента личный схрон. Никто, кроме Козырного, как мы предполагаем, об этом не знает. Запас продовольствия рассчитан на две недели. Потом Козырной спокойно покинет убежище и, замаскированный под грибника, Черным бором уйдет к шоссе. Иохим, когда нужно, умеет стать невидимым, хотя риск определенный есть… но ведь он есть всегда.
Фисбюри: С какого года существует схрон? И кто его построил?
Веттинг: Никто. Козырной нашел его еще в 1947 году. Схрон — это скрытая пещера с тайным лазом. Лаз же служит и вентиляционной трубой. Кое-что Иохим за годы оуновского движения там переделал, но без свидетелей. Кстати, этот схрон дважды спасал его от «ястребков»…
Фисбюри: Кроме ненависти в Советам, что еще стимулирует Козырного?
Веттинг: Деньги. На его счет в Мюнхенском банке…
Фисбюри: Понятно.
Веттинг: Но это не все. Козырной вернется и… станет легендой, героем…
Фисбюри: Вы хотите расшифровать агента? Не рано ли? В случае удачи — годовой отпуск — пусть съездит в Штаты. Кстати, там и потратится… Соблазнов много. Вернувшись, он захочет заработать. И тогда…
Веттинг: У него огромные заслуги и опыт, которого недостает молодым агентам. После возвращения Козырной останется работать инструктором в одной из разведшкол.
Фисбюри: Вы неисправимый альтруист, Алард… Но оставим это… Козырной пойдет с прикрытием?
Веттинг: Да. Сразу же контрольной полосой агент прикрытия двинется в противоположную маршруту Козырного сторону. Вода скроет следы. Через час он должен совершить обратный прорыв границы, чтобы дезориентировать пограничников, отвлечь их…
Фисбюри: А если его схватят?
Веттинг: И это тоже предусмотрено, сэр…
Фисбюри: Не слишком ли громкое кодовое название операции — «Взведенный курок»?
Веттинг: Романтично и изящно… И соответствует действительности — у моего агента реакция взведенного курка. Вы можете убедиться в этом сами. К операции привлечены, кроме «носильщика», еще двое: связной в городе, кличка Чибис — база и канал информации, и наш резидент в регионе Южного Урала. Но основная тяжесть по выполнению задания ложится на Козырного. Он должен проникнуть в расположение интересующего нас объекта, взять пробу грунта и ночью сфотографировать новостройку… А сейчас я хочу показать вам место перехода. Пройдемте к карте.
Гонда отполз от окна и вернулся на кроссовую тропинку. То, что он услышал, обрадовало его. Ореол героя, который прочил ему Веттинг, его не волновал. А вот годовой отпуск с хорошими деньгами вполне устраивал агента. Гонда устал рисковать, хотя и не хотел признаться в этом даже себе самому.
Вот и сейчас нервы на пределе. Ручей, по которому шел Гонда, уводил в сторону от КСП. До схрона двадцать минут пути. Больше всего Гонда боялся сейчас, как бы не кончился дождь. Погода для прорыва была выбрана лучше не придумаешь. Дождь и туман. И все же Гонда прихватил с собой и специальный порошок, и небольшую металлическую щетку для затирания следов. До замаскированного лаза от ручья нужно сделать пятьдесят шагов по горному склону. И каждый след…
АГАЛЬЦОВ
Взвизгнул Мушкет, ткнулся мордой в землю. Гомозков мгновенно вскинул автомат и тотчас почувствовал острейшую боль в левой руке, той, которой успел прикрыть сердце: пуля рикошетом от приклада ударила по кисти. Он упал между кочек так, как падают сраженные наповал точным единственным выстрелом в десятку.
«Бесшумный пистолет», — успел подумать, и тут же мысли его метнулись назад — ведь Агальцов идет шагах в двадцати за ним и через несколько секунд выйдет на кочкарник, на открытое пространство.
«Я не могу пошевелиться — он меня видит и думает, что я убит, иначе вторая пуля. Что же делать?»
Он вдруг представил себе широкоскулое курносое лицо Агальцова с чуть раскосыми, всегда смеющимися глазами и совсем уж некстати вспомнил, как в первый же день своего появления на заставе Алексей заработал взыскание от старшины Ивы Недозора.
Стена, возле которой стояла койка Агальцова, буквально на следующий день оказалась оклеенной вырезанными из «Огонька» репродукциями.
— Это что? — спросил старшина, увидев «уголок эстета».
— Вершина эстетического наслаждения, товарищ старшина, — невинно улыбаясь, с готовностью пояснял солдат, — люблю, знаете, портретную живопись. Особенно XVIII–XIX века. Какие люди жили. Ведь все в глазах прочитать можно… Умные глаза, знаете ли. И с достоинством. Рокотов, например… его серия-портретов.
— Это шо таке? — грозно повторил свой вопрос старшина.
Агальцов молчал. И тогда старшина приказал пограничнику выйти во двор заставы. За ними потянулись любопытные.
Во дворе заставы Ива Недозор, торжественный и строгий, вскинул руку и обратил внимание солдата на сложенную из красного кирпича трубу. На трубе было гнездо аистов.
— Когда летит аист или даже стоит — это красиво. Живая красота, товарищ Агальцов. А знаете ли вы, товарищ эстет, что аисты жили здесь и до войны. Немцы заставу сожгли, а труба и печь остались. Мы вернулись — заставу отстроили… И красота в лице аистов обратно прилетела.
Агальцов смотрел на аистов и посмеивался.
— А теперь, товарищ боец Агальцов Алексей Иванович, идем до казармы, биографию будешь рассказывать.
— Да ведь она ж у меня в анкете изложена, товарищ старшина.
— В анкете — это правильно. Меня интересуют подробности.
На заставе знали эту привычку старшины въедливо интересоваться жизнью человека до призыва в армию. Наводящих вопросов у Ивы Степановича было великое множество, и беседы продолжались с перерывами не одну неделю. Такой уж был у Недозора принцип — знать о солдате как можно больше.
Жалобно и протяжно, как человек, застонал Мушкет.
«Живой! — мелькнула радостная мысль. — Где же Агальцов? И вдруг… Не померещилось ли?»
В стороне от стожков, на правом фланге отчетливо послышался треск и шорох, словно там разыгрывалась кабанья схватка.
«С ума он, что ли, сошел?» — ругнулся про себя Гомозков и внезапно понял — Агальцов отвлекает на себя нарушителя, он обо всем догадался, когда взвизгнул Мушкет.
Ближний стожок вздрогнул. Маневр Агальцова удался. Нарушитель переключился на второго преследователя. Но шевельнуться Гомозков все равно не мог. Он лежал на открытом месте, и всякое движение было бы замечено.
А треск уходил вправо, вроде бы затихая, пока не смолк совсем. Гомозков догадывался, что сейчас сделает Агальцов — он ползком вернется к стожкам и затаится, ожидая, пока враг обнаружит себя. «Он вернется потому, что совсем не уверен, что я убит».
И не так прост этот ершистый смешливый парень. Есть в нем и хитринка, и сообразительность, и отчаянность, без которой не обойтись на границе.
«Не умирай, пока живешь», — вспомнил вдруг Гомозков любимую поговорку Агальцова и решился. Осторожным неуловимым движением протянул правую руку к выпавшему автомату.
— Глеб, живой ли? — услышал Гомозков откуда-то сбоку еле слышный шепот.
Следопыт не успел ответить. В наступивших сумерках от крайнего стожка метнулась высокая нескладная фигура человека. И тотчас ударил автомат Агальцова.
— Бей в ноги! — крикнул сержант и, вскочив, рванулся к нарушителю.
Человек бежал, словно пьяный. Его шатало, он делал неверные движения и, не оглядываясь, стрелял из пистолета наугад, посылая раз за разом пули в небо.
«Ранен, что ли?» — мелькнуло у Гомозкова. И тут преследуемый обернулся, тяжело взмахнул руками, выронил пистолет с длинным стволом, качнулся и рухнул на колени.
— Иезус Мария, они меня убили, — услышал подбежавший Гомозков предсмертный шепот человека в толстой непромокаемой куртке. И увидел его лицо. Оно было искажено страшной внутренней болью. Гримаса боли не разгладила черты и после смерти.
— Пуля? — спросил подошедший Агальцов. — Неужели моя?
— Нет. Скорее всего цианистый калий, — угрюмо отозвался следопыт, — а может… Постой-ка…
Гомозков наклонился к мертвому нарушителю, достал нож.
— Похоже, здесь работал другой яд, — сказал он через минуту. На его ладони лежали две целехонькие ампулки с прозрачной жидкостью. — Побудь тут. Я к Мушкету, он живой был, перевязать нужно…
Гомозков с сожалением осмотрел свою распухшую руку и достал индивидуальный пакет.
Мушкет был жив, но потерял много крови. Пуля скользнула по черепу, разорвала кожу и сильно контузила животное. Перевязав собаку, следопыт подключился к замаскированной в зарослях розетке и доложил на заставу о случившемся.
— Добро, Глеб, — сказал Недозор, — жди капитана, он рядом.
Гомозков вернулся на поляну, где Агальцов, сидя на корточках, рассматривал — холодное, безжизненное тело.
«А ведь для него все это впервые», — вдруг подумал сержант и спросил:
— Обыскал?
— Не-е. Вот пушку осмотрел… Стрельнуть бы из нее… Интересные игрушки делают на Западе.
Гомозков прикрыл утомленные глаза, поморщился от ноющей боли в руке, негромко обронил:
— Спасибо тебе, Алексей, за выручку…
— Да ну, чего там, обыкновенное дело, спрашиваем — отвечаем: сколько будет дважды три умноженное на девять…
Сержант усмехнулся, достал фляжку, глотнул холодной воды.
— Ты знаешь, что однажды сказал один умный и старый человек о нашей службе?
Сержант помолчал, собираясь с мыслями, а может быть, вспоминая сказанное:
— Нигде, как на границе, не чувствуешь, насколько дорог простой миг бытия, дорог друг, глоток свежей воды. Нигде, как на границе, не познаешь, как неестественны трусость, ложь и лицемерие, — их бессмысленность. Только на границе людям случается видеть собственную смерть в облике ли респектабельного цивильного человека, или озверевшего, готового на все бандита. За годы службы на границе этот человек видел много смертей…
— Недозор, что ли? — догадался Агальцов.
— Да. Ива Степанович… Вот ты сегодня первый раз видел свою смерть. — Гомозков кивнул на мертвого нарушителя. — Он мог тебя убить…
— А тебя?
— И меня. Но не в первый раз…
— Ладно. Что не случилось, то не считается, — весело сказал Агальцов. — Думаю, что этот гигант был не один, товарищ сержант, а изображал из себя Буцефала, проще говоря, лошадь Александра Македонского. Но седок не оставил ля трас…
— Чего не оставил? — вскинулся Гомозков.
— По-французски ля трас — след. Так седок его не оставил.
— Разбираешься… — задумчиво протянул следопыт.
ГОМОЗКОВ И КАПИТАН СТРИЖЕНОЙ
Дожидаясь капитана, Гомозков не сидел без дела. Укутал Мушкета в бушлат, обшарил на всякий случай поляну в поисках следов. Не обнаружив таковых, вернулся к мертвому нарушителю и тщательно обыскал его. Две полные обоймы к бесшумному пистолету, плитка черного шоколада, белые таблетки в целлофановом пакете, сигареты, стеклянная плоская фляжка с коньяком. И никаких документов. Похоже, на прогулку собирался человек.
Для Гомозкова сегодняшний поиск — повторение пройденного. И все же этот долгий бег по лесу и короткая схватка на поляне как бы заново волновали следопыта, заставляли взглянуть на себя со стороны, оценить каждый шаг, выявить ошибки. На поляну он выскочил опрометчиво, то, что торопился достать нарушителя, не оправдание. Возможность засады нужно было предвидеть и обойти стожки по кромке леса. Капитан, конечно, выскажется по поводу контузии и ранения Мушкета.
Строг Стриженой, но справедлив. А последнее время совсем засуровел капитан. И тому есть причина. Уехала жена. Красивая женщина, ничего не скажешь. Полгода всего и прожила на заставе. По его, Гомозкова, рассуждению, женщине на границе делать нечего — никаких тебе развлечений. Пообщаться, поговорить — разве что с Агальцовым. Капитан весь в делах и заботах, участок-то трудный, ох, трудный. Гомозков знает это по себе, на таком участке не заскучаешь.
И опять же привычка. Кто вырос в большом городе, к пограничной тишине трудно привыкает, тут иной раз комара слышна. Случаются тревоги — тоже для городского человека не сахар. Шум среди ночи, «газики» ревут, солдаты топают, команды рвут эту самую пограничную тишину. Захочешь потом уснуть — не успеешь. Все равно ждать будешь — что там, как там. Большой город, большой город… Гомозков и сам тосковал по своему Саратову.
С капитаном у сержанта сложились дружеские, добрые отношения, вместе решали шахматные задачи, до которых Стриженой был охоч, вместе думали, как плотнее закрыть границу, вместе бегали тренировочные кроссы — готовились к тому, что случилось сегодня.
Серьезный, хитрый и дерзкий прорыв. И то, что нарушитель отравлен медленно действующим ядом, подтверждало опасения следопыта — где-то затаился второй, тот, что не оставил следа.
Придется вызывать отрядного проводника с собакой. И пройти по обеим сторонам ручья. Дождь и время — вот что работает на второго. А может быть, вспугнутый боем на поляне, он уже выскользнул за рубеж.
Обследовать контрольно-следовую на всем протяжении — такую задачу поставит капитан, если уже не распорядился осмотреть КСП.
Капитан с Заборовым вынырнули из зарослей с юга, откуда Гомозков их не ждал. Привалились к крайнему стожку, давая отдых, натруженным ногам, не спеша закурили, первым капитан, потом солдат.
Стриженой выслушал доклад Гомозкова, недовольно нахмурился, узнав о ранении Мушкета, и подошел к лежавшему на боку нарушителю.
— На пикник собирался… И заметь, Гомозков, погоду для этого выбрал подходящую. «Лошадка», что и говорить, мощная… И все же не поверили там, что при крайней необходимости человек этот воспользуется ампулами с цианом, подстраховались… ровно настолько, чтобы дать второму уйти, а «носильщику» наследить,…
— Выходит, «рядовой» тут лежит, а «генерал» ушел, — вставил Гомозков.
— Выходит так, Глеб. Отряд поднят по тревоге, дружинники тоже не спят… — Капитан аккуратно спрятал окурок в портсигар, — Куда ж ему деваться…
— Возьмем, товарищ капитан, — улыбнулся Гомозков, — вот только дождь некстати.
ГОМОЗКОВ
Дождь размыл контрольно-следовую полосу до стыка с соседней заставой. В низинах стояли огромные лужи, и ни о каком прочтении следа не могло быть и речи. В двух местах дикие свиньи так вспахали полосу, что даже Гомозков только развел руками, глядя на глинистое месиво. Отрядный следопыт Тарас Карун с собакой Найдой метался вдоль КСП, поглядывая на высокое начальство с опаской, но все это были пустые хлопоты. Собака, как и предполагалось, след не взяла.
Офицеры из отряда во главе с начальником штаба подполковником Жуховым поглядывали на Гомозкова, ожидали, что скажет лучший следопыт. Они прошли пешком весь участок, подолгу ждали, пока сержант колдовал над мало-мальским отпечатком на залитом водой КСП. То он долго измерял и исследовал лунку, образовавшуюся на самой середине полосы, то уходил немного в тыл и просил Каруна поработать с Найдой. Гомозив едва не стер колени, ползая вдоль размытой КСП.
Он двигался впереди группы, чтобы видеть дозорную тропу чистой, незатоптанной, и остро чувствовал отсутствие Мушкета.
Нет ничего хуже слепого поиска. Гомозков не верил в обратный прорыв. Предчувствие подсказывало ему, что второй где-то рядом, затаился и ждет, пока затихнет шум, поднятый дерзким нарушением.
А шуметь бы не нужно. Все должно быть наоборот, тихо, незаметно, без суеты. Засады на тропах, ведущих в тыл, наглухо закрытые подходы к шоссе. И ждать. Второй сам обнаружит себя. Сколько можно сидеть в убежище — день, два, неделю? Выходить-то все равно придется. Прочес силами отряда, соседних застав и сельских дружинников не дал желаемого результата. Ни следа, ни даже намека на след, ни малейшей детали, которая хоть как-то сказала бы, что второй здесь, в этих четырех квадратах леса, гор и болота.
Гомозков все чаще возвращался мыслями к ручью, куда первоначально направился «носильщик». Разгадка исчезновения второго крылась где-то здесь. Но ведь сержант сам пропахал чуть ли не на животе пространство, примыкающее к ручью. Проклятый дождь…
— Ну что? — спросил Жухов, как только следопыт вернулся к кабаньим следам.
— Обратной дороги не было, товарищ подполковник, — твердо сказал Гомозков.
— Может быть, ты и прав… — задумчиво произнес Жухов, — но все же стопроцентных гарантий нет. А?
— Их почти никогда нет, товарищ подполковник, но в данном случае… такую погоду использовали для прорыва и вдруг обратно… И смерть «носильщика»… Человеком пожертвовали…
— Все правильно, сержант, — сказал подполковник, — боюсь только, не спугнули ли вы с Агальцовьм второго стрельбой у стожка. Ведь прорыв-то рассчитан был чисто, шум в планы не входил.
Гомозков слушал Жухова и думал о Мушкете. Ему нужно было подтверждение своей версии, а подтвердить ее мог только старый четвероногий друг, которого он так неосторожно подставил под пулю.
ПОВАЖНЫЙ
Начальник отряда Серафим Ильич Поважный сидел в комнате Стриженого напротив хозяина и сокрушенно покачивал крупной бритой головой.
— Что же получается, Андрей Павлович, — хитро помаргивая большими чуть навыкате глазами, говорил Поважный, — нарушитель глотнул яду на сопредельной стороне, а к нам пошел умирать…
— Он всего лишь «носильщик», товарищ полковник, — спокойно сказал Стриженой, — спасенного человека пес. Думаю, ему не хватило времени нарушить границу в обратном направлении…
— Все это так, товарищ капитан. Но где второй?
Полковник быстро взглянул на Стриженого, насупился.
— Выкладывай свои соображения и без фантазий.
— Есть выкладывать соображения, — подчеркнуто серьезно сказал Стриженой, — тщательное изучение обстановки, данные поиска, анализ следов на контрольно-следовой полосе — все говорит о том, что второй нарушитель проник далеко в наш тыл до того, как был заблокирован участок.
— На крыльях он летел… — сыронизировал Поважный.
— Может быть, и на крыльях, — невозмутимо отозвался капитан, — а может быть… ему ведь важно было выиграть время. И если он местный, а Гомозков считает его таковым, то к шоссейке нарушитель бежал кратчайшим путем.
— Так уж и бежал все двадцать километров… — проворчал полковник.
— Гомозков это расстояние покрывает за час с небольшим, тренированный человек с хорошо поставленным дыханием сможет пробежать дистанцию быстрей…
— Ночью, в дождь, по скользким тропам, — усмехнулся Поважный, — фантазируешь, Андрюша… Вари свой знаменитый кофе и прикажи принести сюда карту участка. Будем ставить точки на уязвимых местах, искать и думать. Я не верю, как, впрочем, и твой Гомозков, что нарушитель ушел обратно за кордон. Не затем его посылали. Твоя версия ближе к истине, но и в ней не все сходится. Есть думка, что он затаился и сделал это так хитро, что мы прошли мимо. Нужно бы как следует посмотреть все крупные деревья, пригодные для оборудования «гнезда». На участке много столетних грабов с большими дуплами. А кое где прощупывать землю, как делали это в сорок седьмом и сорок девятом, когда искали оуновские схроны. И развалины замка. Они хоть и на виду, но стены простучать еще раз нелишне. Кстати, в хозяйстве Недозора есть сарай для сена или чего там еще. Стоит на отшибе. Небось не догадались заглянуть?
Стриженой улыбнулся.
— Не шучу, — сказал полковник, — загляни, и сделай это осторожно. Не было в твоей практике? А в моей было. Так что считай, что я приказал осмотреть сарай.
— Есть, осмотреть сарай…
Поважный наблюдал, как Стриженой разжигал крошечную спиртовку и потом колдовал с джезвой, засыпая в нее из банок смолотый кофе и сахар.
— По-турецки, товарищ полковник?
— Давай по-турецки… Главное, чтобы покрепче… Когда еще к тебе в гости выберешься?…
Начальник отряда маленькими глотками отпивал кофе и разглядывал карту участка, принесенную расторопным Агальцовым.
Поважный служил в отряде с конца войны. Начинал начальником заставы. Как говорится, знал службу изнутри. Порой был резок, вспыльчив, но вряд ли кто за долгие годы сделал для границы столько, сколько он. Рассказывали, что Поважный мог нарисовать словесно, как выглядит каждый погранзнак района и когда его подновляли последний раз. Лощинки, бугорки и неглубокие ущелья в счет не шли. Граница долгие годы лепила и закаляла этого человека, учила выдержке и воле.
И сейчас он сидел и хмурился, растирая бугристый лоб ладонью, словно хотел стереть многочисленные глубокие морщины — следы давних ночных раздумий. И Стриженой подивился внезапно переменившемуся лицу Поважного, на нем застыло выражение твердости и холодной вдумчивости.
— Расширим петлю на двадцать километров по окружности и будем снова тщательно прочесывать местность, каждую щель, каждую копешку и каждое дупло. Шоссе закроем до конца поиска. Щупы привезут саперы. Гомозков возглавит поиск, пусть ищет так, как подсказывают ему опыт и интуиция. Выделить ему в помощь двух следопытов с собаками.
Поважный положил тяжелую руку на карту.
— Нет у нас другой альтернативы, Андрей Павлович. Волк заброшен к нам матерый, и, по всему видать, живым не дастся.
— А если повторный прочес окажется холостым? — осторожно спросил Стриженой.
— Не окажется. Не должен оказаться. Будем искать, если нужно, неделю, а то и две. Мы отвечаем за границу. И должны использовать все средства…
Поважный запнулся, по лицу его прошла легкая судорога, и он, стряхивая с себя суровость, улыбнулся и весело спросил:
— Ксения Алексеевна в гости не собирается?
— Мама написала, что приедет в конце месяца, перед выездом даст телеграмму.
— Опять Недозор встречать будет?
— Он, Серафим Ильич. У них с матерью традиция — обязательно пройти через Черный бор.
— Да-а, — протянул полковник. — Такая уж удивительная женщина Ксения Алексеевна. Всегда завидовал твоему отцу… Рад буду встрече. Меня-то она первого навестит, тоже, знаешь, по традиции — первому представляться начальству. Давай-ка еще по чашечке твоего знаменитого, да поеду к соседям…
АГАЛЬЦОВ И ГОРДЫНЯ
Прошло двенадцать суток, как поднятые по тревоге пограничники вели поиск. На тринадцатые пришел приказ отряду вернуться на исходное. Массированные прочесы, засады на тропах не дали результатов. Но заставы продолжали жить напряженной жизнью. Стриженой патрулировал близкий тыл, оставив секреты на лесных потайных тропах, сам спал урывками, проводя все время на участке. Он не верил установившейся тишине. Гомозкову прислали Барса, широкогрудого красивого пса, и он пропадал с ним у разбухшего от дождей ручья, на что-то надеясь, а может быть, просто приучая собаку к заболоченному квадрату земли.
После длительных проливных дождей наконец установилась теплая, солнечная погода. Ефрейтор Иван Гордыня и Агальцов совершали очередной дозорный поиск в ближайшем к КСП тылу. Молчаливый неулыбчивый Гордыня шел впереди головным дозора и всматривался в полегшую, уже начинавшую жухнуть траву. Всякую пограничную работу он делал сосредоточенно и добросовестно. А работы этой на границе Иван переделал за два года столько, что вспомнить приятно. У себя в колхозе Гордыня слыл отличным трактористом, и здесь, на заставе, никто лучше его не мог вспахать и заборонить ленту земли, называемую контрольно-следовой полосой.
Иван умел сложить печь, поставить дом, настлать пол, сварить отменный обед на всю заставу. Он пользовался безграничным доверием старшины Недозора и уважением всех, кто жил с ним бок о бок.
Сзади бесшумно скользил Агальцов. Почти две недели поиска иссушили его и без того поджарое тело, под главами залегли синие тени. Он сдружился с Гомозковьм и по его рекомендации стал «верхолазом». Следуя по маршруту, он выбирал самое высокое дерево и делал его своеобразной обзорной вышкой, взбирался на самую вершину и замирал там с биноклем надолго. Придумка Гомозкова позволяла вести наблюдения за обширным квадратом территории, где всякое движение должно быть замечено.
Агальцов облюбовал старый в три обхвата бук с раскидистой кроной.
— Стой! Смири гордыню, о Гордыня, ты будешь рядовым отныне… — громким шепотом продекламировал пограничник.
— Ну и трепач, — восхищенно пробормотал ефрейтор.
Захлестнуть веревочную петлю на толстом суку было делом привычным и не заняло много времени. Когда Агальцов исчез среди ветвей, Гордыня бесшумно лег в траву.
Агальцов устроился на вершине бука почти с комфортом — крона оказалась своеобразным зеленым, слегка пружинящим креслом. Алексей подстраховал себя веревкой и крутнул на бинокле барабанчики наводки. Сильные линзы мгновенно приблизили дальнюю кромку Черного бора, блеснувшее зеркальце небольшого озерца. Некоторое время Агальцов всматривался в просеку, ведущую к шоссе, потом развернулся в «кресле» и обратил свой взор на юг. Взгляд его заскользил вдоль ручья и дальше, дальше, к знакомой ольхе, где он две недели как обнаружил след.
С такого ракурса Алексею еще не приходилось просматривать склоны вдоль ручья. Он взял выше, где склоны холма падали почти отвесно, и увидел щель. Она лежала как рубец на теле горы. Ее словно нарисовали. Агальцов увидел и большие царапины на гладкой, каменистой поверхности склона и догадался, что все это проделал камнепад, вызванный ливневыми дождями. Камнепад что-то сдвинул в огромном теле горы и образовал щель, Агальцов был уверен, что сможет просунуть туда руку по локоть. Смутная догадка пронзила мозг: «Может быть, это…»
Алексей заспешил вниз. Он только и сказал, отвечая на удивленный вопросительный взгляд Гордыни:
— Теперь быстро…
Никогда в жизни Агальцов не бегал так быстро. Тяжелый ефрейтор безнадежно отстал. Алексей успел крикнуть ему, чтобы он подключился в розетке и сообщил на заставу о возможном убежище второго нарушителя на крутом склоне возле ручья.
Агальцов не был до конца уверен, что открыл убежище второго, но что-то подсказывало ему — тревога будет поднята не напрасно.
Чувство опасности заставило его залечь на подходе к склону.
Остаток пути Алексей проделал ползком, сняв автомат с предохранителя. Пограничник уже поднялся, чтобы сделать последний рывок к щели, когда увидел след. Он был еле заметен на скользкой хвойной подстилке, но дальше, в низине где подстилку смыло дождем, след отчетливо пропечатался, и, припав к земле, Алексей различил то, чему его учил Гомозков, — след уводил от склона в наш тыл. Значит, второй ушел и бункер пуст. Все еще не веря в неудачу, Агальцов взбежал по склону и рванул сдвинутый камнепадом обломок скалы, скрывающий лаз в пещеру. Заглянул внутрь и отшатнулся — таким смрадом, ударило из каменного схрона. И все же, преодолевая тошноту, он спустился в пещеру.
Она была пуста, если не считать спального мешка и десятка пустых консервных банок…
Агальцов выбрался наружу, достал из подсумка ракетницу. Две подряд выпущенные красные ракеты вонзились в небо, оповещая границу о новой тревоге.
СТАРШИНА НЕДОЗОР
Ива шел ходким ровным шагом, радуясь возможности побыть наедине с лесом. Извечное чувство пограничника — тревога — не оставляло старшину, и поэтому Недозор заметил след, ведущий к росстани. Там, где земля не была прикрыта прошлогодней листвой, четко, словно печать, выделялся совсем свежий след. Человек, обутый в спортивные туристские ботинки сорок четвертого размера, прошел здесь каких-нибудь десять минут назад.
«Лесничий», — подумал Ива и тут же прогнал нелепую мысль. Лесничего Ивана Сороку старшина знал едва ли не с молодых лет, и, сколько Ива помнил, тот всегда был в сапогах. Может, кто из приезжих забрел… По грибы… Надо бы поговорить в сельсовете, а может, и на общем собрании, чтобы приезжих гостей без сопровождения местных в лес не пускали. Так, чего доброго, и к контрольно-следовой прибредут. Опять же тревога, выяснение личности и все прочие формальности. Прав капитан Стриженой, сказавший на прощанье: «Черный бор сейчас не тыл, а самая что ни на есть граница. Быть внимательным и осторожным. Считать себя в поиске».
Трава в лесу не успела пожухнуть, но была вся покрыта палым листом — желтым, буровато-красным. Та же листва, которая осталась на деревьях, сильно поредела и истончилась, и только кусты стояли нетронутыми — иногда темно-зеленые, как летом, а иногда багряные или с оттенком меди.
Ива вошел в чащобу. Лес обласкал его влажным теплым дыханием. Гущар-гущаром лес, полон загадок и тайн. В самой середине его открылось озерцо. Солнце сюда не доставало — такой рослый дубняк с разлапистыми грабами вокруг, — и озерцо лежало притемненное, таинственное, как сказка. И совсем уже как в сказке, бродили на другом берегу две белые кобылицы и рыже-огненный жеребенок. Чуть позвякивали колокольца.
Ива застыл от восхищения. Он не знал и не понимал живописи, зато умел ценить живую красоту природы. А то, что он видел, было прекрасно — тихое прозрачное озерцо и белые лошади с неспутанным, резвящимся, рыжим как огонь жеребенком.
Ива подошел к озерцу, зачерпнул в пригоршню воды, умылся, а потом и напился.
Лошади были с кордона, Иван Сорока выпустил их на луг полакомиться последним разнотравьем.
От солнца ли, томливо висевшего в безоблачном синем небе, от лесных ли осенних запахов, оттого ли, что увидел он двух кобылиц и рыжего жеребенка, по всему телу Ивы тихо разлилась нежащая лень. И мысли его неспешно вязались в нехитрый узор. Вспоминалось прошлое. Настоящее-то, повседневное, было просто как необходимость. А думать о прошлом он любил. Да и человека он шел встречать из прошлого — породнились они в том памятном бою пролитой кровью, а она, может быть, та кровь, роднее родной.
Ксения Стриженая приезжала на заставу каждый год и всякий раз осенью. Для Ивы ее приезд был настоящим праздником. И по давнему уговору встречал он ее на развилке трех дорог, где Ксения Стриженая высаживалась из отрядного «газика» и ждала его у столетнего граба, выбежавшего на большак да так и застывшего часовым на перекрестке.
Потом они вместе шли к заставе, пересекая угрюмоватый Черный бор, разговаривая о новостях, о жизни и о разных разностях, накопившихся за целый год. И если бы кто увидел их со стороны, подумал бы — вот встретились брат с сестрой, и нет у них другой заботы, как наговориться вдосталь, полюбоваться друг другом, порадоваться, что живы еще и держатся на земле крепко.
Ива любил осень грустью своего одаренного счастливого сердца. Любил слушать начальный монотонный шум дождя. Когда он шумит, всегда думается: как хорошо, что есть крыша над головой, молодые веселые ребята вокруг, с упругими сильными телами.
Может, потому, что Ива вырос в деревне и детство его прошло возле тихой и теплой реки, любил старшина желтое жнивье, сосновые перелески и робкие незаметные тропки в чащобах.
Но больше всего на свете любил Ива лошадей. Когда он видел лошадей, он вспоминал детство, ту счастливую раскованную пору, когда мир кажется светлым и чистым, а люди в нем красивыми и добрыми.
Когда же это было, и было ли все так, как представлял себе свое детство старшина сейчас, отгороженный от него четырьмя десятками лет, кровопролитной войной и строгой беспокойной службой на границе?
«Самый старый я в отряде, — думал о себе Недозор, — и полковник Поважный давно приглядывается ко мне, но что-то мешает ему сказать прямо и строго: «Пора уходить в отставку, товарищ Недозор».
И то правда, пора. Последние три года Ива чувствовал себя неважно. Не то, чтобы где-то болело, — так, легкое недомогание, после бессонной ночи ныло в левой стороне груди.
«Неужели сердце сдает? — думал Недозор. — Отдохнуть бы надо, на курорт, что ли, съездить?»
В последнем поиске, когда старшина возглавлял «тревожную», случился конфликт. Искали забредшего с сопредельной стороны крестьянина (это уже потом выяснилось, что он крестьянин), час длился поиск. Мушкет взял след, и Гомозков оторвался от группы. Старшина знал способности следопыта вести «куцевский» бег, но далеко отставать нельзя, и Недозор приказал прибавить ходу. На втором километре он остановился, удивленно посмотрел на догонявших его пограничников и рухнул на землю, так и не поняв, что же произошло.
Но все обошлось. Придя в сознание, Ива приказал обоим пограничникам следовать за Гомозковым и, может быть, впервые в жизни соврал, что подвернул ногу. Старшина лежал на мокрой после дождя земле с таблеткой валидола под языком и слушал свое сердце. Оно билось натужно, словно кто-то сдавил его сильными пальцами и забыл потом разжать их.
Ива впервые за долгую жизнь испугался. Съездил в город в платную поликлинику. Врач, низкорослый тщедушный человек с неправдоподобно белой седой шевелюрой, долго и внимательно слушал бухающее в груди сердце, потом так же тщательно исследовал длинную бумажную ленту с непонятными Недозору чернильными закорючками и наконец изрек: «Страшного пока ничего нет. А вот покой нужен, покой, понимаете, милейший? Пора. Займитесь огородничеством, больше спите. У вас есть семья?»
Ива не ответил, поблагодарил доктора, взял выписанные рецепты, а перед самым уходом спросил: если выдерживать режим, пройдет ли болезнь? На что доктор вежливо ответил, что болезнь Ивы — это возраст и что неприятные ощущения останутся теперь до конца дней.
«А в каком дне он, этот конец?» — сердито подумал Недозор и решил жить просто, как жил. Только для лекарств вшил Ива внутрь бриджей небольшой карманчик и заполнил его самыми эффективными современными препаратами. А чтобы сберечь их подольше, сделал старшина нечто вроде кожаного кисета и не расставался с ним ни днем, ни ночью.
Недозор снова углубился в чащобу. Набухшая влагой старая кора сосен и грабов здесь была черной. И весь лес казался подкрашенным сажей до половины своей высоты. А там, где кора была молодая, деревья казались бронзовыми.
Ива шел теперь не спеша и тихонько напевал полюбившуюся еще с войны песню:
Матули, я тут завтра не буду, Искай меня, где сонейко взойдет, Буду за него я биться, Чтоб в полон не отдать, Иль могилу мне отроешь, Иль ворог туда войдет.На примятую траву старшина и не обратил бы внимания, если бы не пепел, сразу сделавший травинки седыми. Он склонился над ними и увидел на земле характерное, едва заметное углубление. Человек сидел здесь, отдыхая, и курил. Нет, не курил, а что-то сжигал — для одной сигареты слишком много пепла.
За долгие годы, проведенные на границе, у Недозора выработалась привычка — придавать значение пустякам. Вот пепел. И не где-нибудь, а в самой чащобе Черного бора. Вроде бы и от границы далеко, а если прикинуть, то и не так уж далеко.
Знакомый след старшина обнаружил не скоро. Человек, оставивший пепел, шел по густотравью, пока мог, обходя лысинки и взгорбки, где исходила легким парком голая влажная земля. Может быть, он нарочно брел вот так наугад по разнотравью. Если он городской житель, то его понять можно. Обалдел от тишины и первозданности природы, почувствовал себя робинзоном и рванул по чащобе, чтобы трава по колено.
И все же старшине хотелось увидеть след. И он увидел его снова на краю оврага, где трава была скошена до самой кромки, и обойти эту своеобразную КСП «робинзон» не мог. Если он, конечно, хотел спуститься в овраг. А он это и сделал. Ива склонился над жнивьем. Все тот же след от спортивных ботинок с низкой рифленой резиновой подошвой — сорок четвертого размера. Вот ведь как устроен человек. Теперь Иве захотелось увидеть владельца столь шикарной спортивной обуви.
Ничего предосудительного не было в том, что человек решил спуститься в овраг. Только Недозор подумал о том, что оврагом можно и скрытно выйти к ближнему проселку, а такое может знать только человек местный или хорошо знающий такую возможность. Нет, Ива не стал смеяться над своей подозрительностью. Он принял всерьез возможность встречи с незнакомцем и переложил макаровский пистолет из кармана брюк в карман кителя, предварительно сняв с предохранителя и дослав патрон.
Теперь старшина, осторожно ступая, шел вдоль оврага, стараясь держаться за кустарником. Он знал, что рано или поздно незнакомец станет выбираться из этого похожего на гигантский туннель оврага. Можно было бы опередить «робинзона», прибавить ходу и перекрыть ему выход на проселок. Но старшину останавливала мысль, что незнакомец может раньше покинуть овраг и тогда все ожидания его на выходе будут напрасными.
Ива даже почувствовал нечто вроде легкого азарта. «Увижу, проверю документы и… спрошу про пепел. Судя по размеру обуви и по глубине следа, мужчина крупный. Гомозков бы точно определил и рост и вес, он ведь профессор по этой части», — думал Недозор.
Вначале старшина услышал легкое отдаленное вжиканье — так отмахиваются ветками от комаров. Потом услышал треск и шорох, а вскоре и тяжелое дыхание человека, слегка запыхавшегося от быстрой ходьбы.
Ива лег в кусты так, чтобы видеть край оврага.
Широкоплечий плотный человек вырос из овражного полусумрака, не спеша отряхнулся и, не оглянувшись, твердо зашагал едва заметной тропкой по самой кромке.
Ива успел хорошо рассмотреть его, пока незнакомец не повернулся спиной. Одет он был как истый горожанин: в синий недорогой джинсовый костюм, на голове легкая белая пляжная фуражка с длинным козырьком; в руках лукошко, полное грибов.
«Вот так-то, бдительный старшина Недозор, — усмехнулся Ива, — человек грибы собирал, а ты его шпионом сделал».
И вдруг старшину будто током ударило. На незнакомце не было ботинок. Он уходил по тропе в обыкновенных резиновых сапогах, в которых ходят в лес все мало-мальски уважающие себя грибники…
«Что за черт, — думал старшина, — ведь ясно же видел след спортивного ботинка. Переобулся он, что ли? А где же ботинки?» Кроме лукошка, в руках человека ничего не было.
И все же, прежде чем броситься вдогонку за «грибником», старшина осмотрел этот второй, новый, след. Сомнений не было — человек переобулся. И сделал это в овраге.
«Робинзон»-то, видать, с заморских островов», — чувствуя привычный холодок в груди, подумал Ива. Он ускорил шаг, решив не окликать незнакомца, пока не подойдет к нему вплотную.
Ива, может быть, и не узнал бы никогда эти глаза, если бы однажды не видел их так близко. Тогда они смотрели в упор и полосовали старшину огнем ненависти, ибо не было в руках у Хонды оружия. А случилось такое тридцать лет без малого, когда пограничники вместе с отрядом «ястребков» брали банду Садового. Банда была прижата к непроходимому болоту, и деваться ей было некуда.
Тогда, в пылу боя, и после, когда гнали пленных к машинам, не знали, кто есть кто — все в ватниках, все бандиты. Опознать Гонду было некому, а если бы такое случилось, на три мушки сразу приказал бы взять его майор Кальянов, командир оперативной группы. А уж он-то, Ива, глаз бы не спускал с надрайонного «проводника» Иохима Гонды, прозванного за чрезвычайную изощренную жестокость Палачом.
И сейчас это были глаза хищника, готовившегося к прыжку. Они не изменились — узкие, как щели, белые от страха и ненависти глаза убийцы, хотя лицо было другое, совсем непохожее на лицо Иохима Гонды.
Ива отступил на шаг, и это спасло его. Гонда резко взмахнул рукой, и в ней блеснула сталь клинка. Он, конечно, слышал шаги сзади и давно приготовился к неизбежному оклику и встрече. До последнего момента, пока не скрестились взгляды, у Гонды не было уверенности, как ему поступить — догонявший его человек мог быть просто сельчанином, прохожим, лесничим, наконец. И на этот случай были разработаны различные легенды «кто он и откуда».
Гонда не узнал старшину, но он понял по выражению глаз пожилого пограничника, что узнан. Узнан! Случилось то, чего больше всего опасался один из бывших главарей бандеровской службы безопасности.
Пожилой сивоусый человек должен умереть быстро и тихо, без выстрела. Не для того он таился в «личном» схроне, чтобы будить Черный бор выстрелами. Крик не в счет — в этом лесу он глохнет, как в колодце. А то, что сивоусый будет кричать, Гонда не сомневался. Счет будет идти на секунды. Пауза и так затянулась. Гонда прыгнул вперед, словно его сильно толкнула земля. Нож полоснул пустоту. Неуловимым движением сивоусый сместился в сторону, и Гонда по инерции проскочил мимо, но тут же мгновенно развернулся и вдруг увидел холодный зрачок пистолета. Уже автоматически рухнул на край оврага, из которого выбрался минуту назад, рванул сильное тело в сторону, услышал запоздалый, сухо треснувший выстрел и покатился в спасительный сумрак оврага, набирая скорость, точно огромный валун, сброшенный с покатой горы, ломая кустарник, подминая под себя тонкие стволики берез.
Пауза в три секунды. Какое гигантское время уместилось в ней для Недозора. Целая жизнь. И еще ее продолжение. Он скатился в овраг вслед за Гондой и не успокоился, пока не увидел в полусумраке мелькающую тень человека.
Гонду выдавало движение. И ведь бандит знал, что стоит ему замереть, застыть на месте, и он растворится, исчезнет из поля зрения сивоусого пограничника. Но страх был сильнее, он толкал Гонду все дальше и дальше вдоль знакомого ручья.
Овраг перешел в пологий подъем, и Гонда выпрыгнул на свободное от кустов пространство, надеясь быстро достигнуть спасительного леса, и сразу, за какое-то мгновение, спиной почувствовал эту пулю. Она ударила в левое предплечье. Гонда повернулся, рванул из-под мышки бесшумный пистолет и разрядил в близкий кустарник всю обойму.
Распластавшись на сырой, пахнущей грибной прелью земле, Ива считал выстрелы. Девять. Значит, пистолет будет перезаряжать на ходу.
Недозор легко оторвал тело от земли и успел пересечь поляну, как снова задукали глухие частые удары.
«У него есть второй пистолет», — мелькнуло в сознании. Старшина ткнулся лицом в оказавшийся на пути большой трухлявый пень и тут же услышал, как в полусгнившее дерево вошла пуля.
«Бьет прицельно — значит, страх отпустил», — подумал Недозор.
Так оно и должно быть. Гонда — волк матерый. Тогда, в сорок восьмом, ушел быстро и проворно, обманув бдительность конвойных и выпрыгнув из грузовика на полном ходу со связанными руками. Сколько ни искали потом в лесу, исчез, растворился бесследно ловкий и хитрый бандит Иохим Гонда. Да, местность он знает лучше любого лесничего. Что-то у него с лицом, постарел, что ли? Нет, скорей помолодел, усы модные отпустил, телом усох немного, но все так же проворен, и силы в плечах на троих.
Если сейчас подняться, стреножит враз — в пятнадцати метрах затаился, гад. Где же он? За стеной леса никакого движения.
Недозор не мог знать, что ранил Гонду и теперь тот осторожно полз, прикрываясь кустарником, чутко прислушиваясь к шорохам леса, зажимая правой рукой рану в предплечье.
Сдерживая стон, Гонда вспомнил ледяную маску лица Фисбюри и его монотонную напутственную речь: «Вы перешагнете границу по воде. Вас прикроет наш человек. Случайности учтены и исключены все до единой. Вы отсидитесь в своем схроне, и, когда пограничники снимут осаду, достигнете шоссе, и прибудете в город по известному адресу. Вас встретит резидент, ом передаст вам инструкции. Нужно всегда помнить — вы выполняете особое задание шефа разведки, я подчеркиваю — особое…»
Плечо наливалось тяжестью, словно повесили на него пудовую гирю. Боль почти не чувствовалась, и Гонда понял, что кость задета скользом, пуля разорвала мышцы плеча и прошла навылет. Такие раны не страшны, только нужно остановить кровь.
Пластической операцией бывший эсбист был даже доволен. Теперь и свои из Центра не узнали бы его. Он внушал себе, что стал другим человеком, с другим лицом, привычками, манерами, с другой походкой. Он отпустил модные в России усы, концами к уголкам губ, привык носить темные элегантные очки, отрепетировал перед зеркалом особую, как ему казалось, располагающую улыбку.
И вот все полетело к дьяволу. Первый же пограничник узнал его. Такие у него были глаза, словно увидел ядовитую змею. Что же, выходит, они не сняли осаду, «держат зону», или это случайность, от которой его «стопроцентно» застраховал Фисбюри. Пожалуй, все-таки случайность. Иначе давно бы уже шум, поднятый в лесу, был услышан, и тогда… ампула с цианом. Но у каждой случайности своя закономерность. Не хватило каких-нибудь двух километров. А там — шоссе. И первая попутная машина унесла бы его в город. Впрочем, еще не все потеряно. Есть шанс оторваться от старика. Гонда вспоминал кроссы в парке под Мюнхеном. Не зря же он лил пот, черт возьми. Но сказывалось двухнедельное сидение в схроне. Прерывистое, сбивчивое дыхание отнимало у мышц силы.
Гонда слышал отдаленный топот, приглушенный прошлогодней листвой, и старался держаться за широкими, в два обхвата, грабами, но не оглядывался, боясь потерять и без того бесценные секунды.
Их разделяла какая-нибудь сотня метров. Ива не стрелял, берег последний патрон. Не стрелял и Гонда — одной правой рукой на бегу никак не мог перезарядить пистолет — левая же не слушалась, повиснув безжизненной плетью вдоль тела.
«Еще немного, и я достану его, достану… Он ранен…» — догадался старшина, все убыстряя и без того бешеный темп бега.
И вдруг… вмиг приподняло его и бросило. Ни боли, ни страха. Какая-то дремотная мягкость. И, сверкнув, погасла мысль: «Так вот она какая, смерть». И тотчас почти из небытия, как из вязкого утреннего тумана, появился отец, Степан Евдокимович Недозор. Черные глаза вприщур. И смеющееся лицо его как бы говорило: «День мой — век мой!»
«К чему это?» — забилась в мозгу Ивы тревожная мысль, и он понял, что жив и не пуля это вовсе ударила и бросила его на землю. В сердце что-то оборвалось и зазвенело долгой пронзительной болью. Боль несла гибель. Расцепив сведенные судорогой руки, прижатые к груди, Ива лихорадочно зашарил по карманам, он искал лекарства. И оттого, что так долго не мог найти его, старшину охватил озноб. Недозор сейчас не страшился смерти. Лекарства нужны были, чтобы продлить жизнь, ровно на столько, сколько потребует последнее, может быть, самое важное дело, которое задумал совершить Ива. Лекарства отыскались в боковом кармане пиджака. Он высыпал из узенькой пробирки на ладонь крошечные белые шарики и положил под язык сразу три штуки. Потом, когда они растаяли, еще три. Лекарство ударило в голову, словно бы даже обожгло мозг, но Ива знал, что так оно и должно быть и скоро он сможет вздохнуть полной грудью. «На войне как на войне», — подумал Недозор и вдруг увидел себя на раскаленном июльском доле и услышал стригущие землю пулеметные очереди. Его батальон лежит за железнодорожной, насыпью, и он один посреди поля, а из дота с холма бьет крупнокалиберный пулемет, и только чудо спасает пока человека. Он вскакивает и бежит к холму зигзагом, сбивая пулеметчиков с прицела. Сзади грохочет выстрелами железнодорожная насыпь. Пули и мины взвихривают перед дотом белую песчаную пыль, и, прикрытый этой, пылью, как дымовой завесой, он снова бросается к подножию холма, тяжело хватая воздух воспаленным ртом.
Старшина вспомнил, как командир полка обратился именно к нему, сержанту взвода разведки Иве Недозору. А случилось такое в боях за левобережную Украину. Тщательно замаскированный немецкий дот обнаружил себя в последнюю минуту, когда полк брал одну из тех господствующих безымянных высот, которые за время войны никак не удавалось взять «малой кровью».
Дот бомбили наши Илы, стволы десятков орудий раскалились, от стрельбы по вершине холма, дот же был как заколдованный, а может быть, немцы не пожалели бетона и стали, чтобы побольше пролилось славянской кровушки за выход к Днепру.
«Ну, граница — сказал подполковник, — на тебя надежда. Взорвешь дот, к ордену представлю».
«К ордену не обязательно, — тихо молвил тогда Недозор, — а вот огоньком прикройте, чтобы фрица с прицела сбить».
Весь батальон вел огонь по амбразуре дота. Связку толовых шашек тащил в вещмешке сержант Недозор — запалы держал под гимнастеркой, чтобы не зацепило пулей.
И не полз, а стелился худенький сержант последние двести метров по прошлогоднему жнивью. И каждый полынный куст был ему броней и укрытием. Может, и спасло его тогда от пули неровно вспаханное танками поле.
Горел уже сложенный Ивой костерок из сухих веток, что развел он под одиноко стоящей сосенкой, занималась уже кора на деревце, а старшине все виднелась белесая, изрытая танковыми гусеницами земля того бесконечного солдатского поля и глухие удары свинца в эту землю. Он как бы вновь ощутил и полынную горечь во рту, и жар полдневного ослепительного белого солнца, и свое хриплое страшное дыхание.
…У него еще хватило сил отползти от сосенки, но он уже не услышал того, что сказал или собирался сказать:
— Прости меня, лес…
КАПИТАН СТРИЖЕНОЙ
«Почему я бегу? — думал Стриженой. — Нужно заставить себя идти спокойно: сосна потушена, Недозора отвезли в больницу. Барс ваял след, Поважный в курсе всех дел, а я бегу, я бегу потому, что нарушитель — Гонда, и он повернул к границе. Я боюсь, что он снова канет в этих озерцах и болотцах, зароется в другую нору-схрон и бог весть сколько будет там отсиживаться».
Капитан вспомнил лежащего навзничь Недозора, его бледное заострившееся лицо с пепельными подглазьями, и в который уж раз повторил про себя лаконичный текст записки, нацарапанной карандашом на газетном клочке и намертво зажатой в кулаке: «Товарищу капитану Стриженому. Мною в Черном бору опознан Иохим Гонда. У него что-то с лицом. Ранил его, но не знаю куда. Уходит на север, думаю, к шоссе. Все. Прощайте. Сосну поджигаю, чтобы…»
Стриженой скрипнул зубами. Его не покидало странное ощущение своего тела. Оно словно слегка закаменело, стало жестким и непослушным.
С того момента, как нашли старшину и потушили пожар, капитан думал о Недозоре. Он вспоминал его в разные годы и в различных ситуациях, ворчливого, как многие пожилые люди, порой по-детски застенчивого и безмерно доброго к солдатам-первогодкам, и догадывался, за что любили его пограничники. Он всех их встречал и провожал как собственных детей.
Капитан поймал себя на мысли, что и сам думает о Недозоре как о близком, родном человеке…
Граница — это люди. Старшина Недозор умел создавать людей границы. И он был предан ей до конца. Не эту ли преданность чувствовали растерянные парни, прибывающие на пополнение, когда старшина выстраивал их на заставском дворе.
Он проникал в каждого нового человека так, словно тот был чем-то необыкновенно интересен. Он открывал таланты и характеры. Кто был лучший следопыт отряда Глеб Гомозков до встречи с Недозором — хулиганистый, разбитной парнишка с непомерно развитым честолюбием. Старшина разглядел в нем призвание следопыта, особое чутье, догадку на след, трогательную и властную любовь к животным.
А он, Андрей Стриженой, разве не учился сам у Ивы Степановича выдержке и терпению, доброте и строгости! И всем тонкостям пограничного дела, которому невозможно обучить ни в одной высшей школе?
— …«Атлас», «Атлас», я — «Сорочь», я — «Сорочь».
Мегафон трещит и хрипит, словно его пронзают десятки молний.
— Я — «Атлас», — спокойно говорит Стриженой, — иду по следу. Закройте правый фланг, — и после недолгого раздумья глухо добавляет: — всеми имеющимися людьми.
Сейчас важно отсечь Гонду от развалин старого замка. Интуиция подсказывала капитану, что Палач устремится к воде. Маневренная группа отряда, если она успеет, заставят Гонду повернуть на юг. Так опытные загонщики выгоняют волка на затаившегося стрелка.
ГОМОЗКОВ
«…Дыши в себя, если враг близко», — вспомнил Гомозков третью заповедь старшины Недозора и придержал Барса. После ранения Мушкета следопыт ревниво относился ко всему, что делал Барс. Понимал — собака работает хорошо, и все же не мог избавиться от ощущения недоверия к новому другу.
Теперь Гомозков ступал осторожно. Слух и зрение обрели особую остроту. Он вдруг ощутил необъяснимое беспокойство, которое заставляет горных змей уползать в долины накануне землетрясения. Было такое ощущение, что тебя разглядывают. Барс рвался с поводка.
«Он где-то рядом, — думал следопыт, — совсем рядом. Нужно дождаться отставших Агальцова и Гордыню. И может быть, капитана. Он с группой идет к ручью».
На краю заболоченной поляны Гомозков остановился и, чувствуя холодок в груди, лег за поваленное бурей дерево. Из этого чахлого болотца и вытекал тот злополучный ручей, который петлял вдоль КСП, где Агальцов увидел шаровую молнию.
На Золотце едва слышно всхлипнуло. Раз. Другой. Гомозков до боли в ушах вслушивался в эти вроде бы знакомые звуки. Легкий ветерок принес тихий шелест.
«Уходит или провоцирует, — подумал проводник, — пустить Барса?… Но ведь ребята вот-вот появятся. Пересечь открытую поляну и… наткнуться на пулю». У Гомозкова вдруг заныла левая, контуженная две недели назад рука. «Носильщик» Гонды стрелял как бог. Если бы не Агальцов.
Сзади накатился нестройный треск сухостоя. Следопыт трижды крикнул совой. Треск смолк. Вскоре Агальцов и Гордыня подползли к поваленному дереву и молча уставились на проблескивающее сквозь кочкарник болотце. Они ни о чем не спросили, знали — Гомозков зря землю обнимать не будет.
— Он пойдет по ручью, а мы следом, — шепнул следопыт солдату.
Плеск стал слышней. Уходит.
— Прикрой, — шепнул Гомозков, — потом за мной…
И выскочил на свободное пространство.
…Пятый час идет поиск. Кольцо сжалось до предела. Но след потерян. Гонда не вышел из ручья, возможно, он даже и не входил в него. Барс метался по обоим берегам, не находя привычного запаха, и жалобно повизгивал, словно жалуясь на собственную беспомощность. Гомозков стоял потупившись, понимая, что ошибся, уверовав в единственный, как ему казалось, вариант движения Гонды. Палач оказался хитрей. Он догадался, что тропа к КСП перекрыта, и избрал другой путь. Скорей всего сделал по болотцу петлю, пропустил мимо себя пограничников и снова вышел в наш тыл. Только вот в каком месте? Начальник отряда полковник Поважный развернул маневренную группу к югу, приказав Стриженому с «тревожной» вернуться к болотцу и прочесать весь квадрат в поисках следа. Застава же во главе с замполитом лейтенантом Крапивиным наглухо закрыла границу по всему участку.
ГОНДА
Обманув пограничников, Гонда долго кружил по болотцам, находя одному ему известные подводные тропки. Но он понимал — пограничники вернутся. Пора использовать запасной вариант, о котором Гонда умолчал в кабинете Веттинга. Для этого нужно было дождаться темноты и проникнуть на развалины замка. В запасе минимум два часа. День клонится к закату. Козырной не верил в засаду. Развалины на виду, и только дурак решится лезть в западню. Да и обшарили пограничники все вокруг. Развалины — тыл границы. И все же нужно быть осторожным, не выдать себя движением. Если на башне наблюдатель, он рано или поздно обнаружит его. Значит, по-пластунски от дерева к дереву. И на ближних подступах ждать сумерек. Поспешность может все погубить.
— Гут, — сказал он себе по-немецки и вдруг подумал, что еще вчера ему показалась бы нелепой даже мысль о том, что он будет утюжить животом эту ненавистную ему землю.
По тому, как дрожали пальцы, Гонда понял, что смертельно устал. Он пошарил в карманах и достал таблетки, завернутые в целлофан. «Они придадут вам бодрости и восстановят силы», — вспомнил Гонда наставления Веттинга.
— Сволочи, — пробормотал Козырной и тяжело, лег на густо растущую осоку.
У него было состояние полной безысходности. Хотелось вот так лежать, лежать, не поднимая головы, не вслушиваясь в шорохи и шумы близкого леса.
«Бойтесь абулии больше пограничников — она порождает апатию». А ведь верно. Немец прав. Мне сейчас все равно, что будет через час, через сутки. И только инстинкт самосохранения пока еще срабатывает. Ему вспомнилась одна из ночей большого города Франкфурта-на-Майне. Его и еще одного слушателя разведшколы послали «пообщаться» с туристами из Советского Союза. Туристы прибывали поздно вечером из Мюнхена на автобусе.
Гонда и Стрелец (под такой кличкой значился другой агент) долго кружили вокруг гостиницы, где остановились туристы. Они уже потеряли всякую надежду, когда в полночь из гостиницы вышли двое «советских» — парень в джинсовом костюме и широкоплечий, спортивного вида мужчина лет пятидесяти.
Франкфурт, этот «маленький Париж», как его любят называть немцы, засыпал рано, и двое русских шагали по пустынным улицам, залитым светом рекламы, останавливаясь у освещенных витрин, о чем-то оживленно переговариваясь… Гонда вышел из темного переулка с единственной целью, — напугать этих не в меру смелых путешественников. И ошибся…
Оба русских спокойно обошли их с разных сторон, словно и Гонда и Стрелец были дорожными указателями. И тогда Стрелец крикнул им вслед по-русски:
— Эй, земляки, хотим поговорить.
Оба «советских» остановились, несколько, быть может, удивленные тем, что их окликнули, да еще по-русски.
— Вы из Москвы? — спросил Стрелец…
— Из Москвы, — ответил тот, что был постарше. — А вы откуда?
— Мы?… Я — с Урала, а вот он — с Кубани…
— И живете в Западной Германии, — улыбнулся парень в джинсовом костюме.
— Да. Так вот случилось, — пробормотал Стрелец… — Поговорить захотелось, знаете ли, на родном языке.
— Понятно, — сказал тот, что, постарше, — и о чем же мы будем с вами говорить?
И Стрельца вдруг понесло.
— Я вот хочу на родину вернуться… Как это лучше сделать?
— Обратитесь в советское посольство, — ответил пожилой, — как все, кто хочет вернуться. Вам помогут…
— А КГБ?… — ляпнул Стрелец.
— Тогда возвращаться не стоит, — усмехнулся пожилой.
— Вы воевали? — спросил Гонда.
— Воевал, — разглядывая Стрельца, сказал пожилой, — с первого и до последнего дня…
И, не прощаясь, двое русских повернулись к ним спиной и не спеша зашагали к центру залитого светом огромного города.
— Вот теперь они какие… — растерянно произнес Стрелец.
Гонда зло усмехнулся.
— Домой захотелось? Они тебе построят дом с нарами на вечной мерзлоте.
— Что ты, что ты… — бормотнул агент, — мы тут, как галушки в сметане.
— Смотри из макитры не выпади. Подбирать с полу не станут.
Где он теперь, «маленький Париж», город Франкфурт-на-Майне? Вспомнилось же такое. Мюнхен вот не возник, а ведь он прожил в нем без малого пятнадцать лет.
КСЕНИЯ СТРИЖЕНАЯ
Колесов оторвался от бинокля.
— Зря мы здесь загораем. Нарушитель сюда не сунется, он сейчас другую дорожку ищет — за нашу КСП…
Ксения Алексеевна промолчала. Она думала о муже. Вот здесь, под этим разбитым козырьком, лежал Павел Стриженой и короткими очередями из ручного пулемета сдерживал балду. Лучшей позиции придумать было невозможно. Автомат Ивы Недозора и «Дегтярев» Павла держали на мушке подступы к границе.
В жизни человека бывают часы, когда прожитое как бы концентрируется, сжимается в короткие, как вспышки, мгновения. Они, эти мгновения, озаряют прошлое, дни и годы обыкновенного существования или даже войны. Павел прошел войну, а погиб здесь в осенний ночной час, и его наган с серебряной пластинкой холодит сейчас ей руку.
О чем он думал в те минуты, когда нажимал на спусковой крючок пулемета? У него не было времени для боли, для угрызения, для печали. Может быть, он думал о том, что хотелось прожить — ведь для него, веселого отзывчивого человека, сорок лет было только полднем жизни.
Познакомились они в предвоенный год. Ксения кончала консерваторию по классу фортепьяно. Тогда много выступали я парках, на открытых эстрадах. Она играла шопеновские ноктюрны. После концерта к окруженной подругами Ксении решительно подошел смуглый кареглазый — военный с двумя кубиками в петлицах. Он попросил уделить ему минуту времени.
Она чувствовала его молчаливый восторг и неуловимую робость перед ней.
— Вы хотите пригласить меня в кино? — игриво спросила Она.
— Куда хотите, — мягко и растерянно сказал он.
— А вы хитрый… — кокетливо заметила Ксения, оглядываясь на подруг.
— Не очень… А вот вы…
И он заговорил о музыке. Он заговорил о ней, как о своей неосуществимой мечте. И спустя много лет Ксения помнила этот удивительно страстный монолог, прерываемый лишь доверительным прикосновением к ее руке, в поисках, может быть, вдохновения.
Он открылся как самому близкому человеку. Ее поначалу огорошила такая откровенность и прямота, потом она поняла, что человек этот весь соткан из чистых, благородных помыслов, что он естествен и бесхитростен в каждом своем порыве.
Они встретились в следующую субботу и пошли в кино. Потом посидели в кафе, выбрались за город, бродили по лесу и вернулись в Москву поздно. Они дружили по-юношески светло и чисто. И уехали в Среднюю Азию, на границу, к месту службы Павла. А затем война, рождение Андрейки…
… — Поклонись своей любви, Ксения, — сказала себе Стриженая. Ей показалось, что она произнесла слова вслух. Взглянула на Колесова. Сержант, поджав губы, крутил барабанчики окуляров на бинокле. Она посмотрела на западную часть гигантского лесного массива. Там, над зубчатой кромкой, в розово светящемся небе застыл неправдоподобный красный шар солнца. «Оно похоже на этот сумасшедший тревожный день», — подумала Ксения.
Полковник Поважный любезно предложил провожатого. И молоденький сержант Константин Колесов, узнав, кого будет сопровождать на заставу, был сама предупредительность и внимание. И все же Ксении стоило большого труда уговорить сержанта подняться на башню разрушенного замка. Он уступил только после того, как Стриженая рассказала ему о ночном бое и гибели мужа. И все-таки, прежде чем подняться на башню, Колесов подключился к розетке, связался со штабом отряда и внезапно получил приказ остаться на башне и вести наблюдение до подхода «тревожной» группы.
Ксения ощутила в кармане плаща холод нагана. В нем семь патронов с войны. Полный барабан. Мужнин наган. Единственная вещь, которую Ксения оставила на память. Может быть, потому, что он именной. Тонкая серебряная пластинка на рукоятке. И на ней малопонятная гравировка: «От Гангута до Корсуни — 1945 год».
Сам Стриженой никогда не объяснял смысла надписи на пластинке, однажды только сказал: «Не знаю оружия надежнее, чем наган».
И вот пришла пора распрощаться с дорогой сердцу вещью. Ксения твердо решила подарить наган заставскому музею, где все дышало подвигом мужа и его бойцов.
— Мы здесь не зря, Костя, — запоздало ответила Стриженая, — даже у тренированного человека есть предел физических возможностей. К тому же, как тебе сказали, нарушитель ранен. Он может прийти сюда зализать свою рану и отдохнуть.
— Да ведь развалины-то эти с башней у всех на виду, — возразил Колесов.
— Ему нужно где-то укрыться… Он ушел по воде и сбил след. И он знает, где его ищут. К границе он не подойдет — умен. Вам известно, что такое схрон?
— Не видел пока. А слышал много, — ответил Колесов.
— Тайники и схроны строили немцы. Вы, конечно, знаете, что такое ОУН. Для этих бандитов и делались подземные квартиры. Сколько их еще на нашей земле осталось… В сорок шестом году у бандитов были далее свои бронетранспортеры и тяжелые минометы. Оуновцы — фанатики, хотя и среди них было немало обманутых бандеровской пропагандой простых крестьян.
— Нам рассказывали, — серьезно сказал Колесов и вдруг спросил: — А кто такой Гонда? Жухов сказал — нарушитель Гонда, и все…
Ксения Алексеевна прищурилась и взяла из рук сержанта бинокль. Долго рассматривала окрестности.
— Я не знаю, кто он сейчас… В ОУНе носил чин надрайонного «проводника»… Жестокий и страшный человек. Недаром его прозвали Палач. Говорят, только один вид горящего села доставлял ему огромную радость. Пыткам и зверствам Гонды нет числа…
Шар солнца скатился за лес, оставив призрачный слабый след. Зубчатая кромка бора уходила в сумрак, буквально на глазах исчезала, сливаясь с еще теплившимся мягким светом горизонтом.
— Все, — сказала Стриженая, возвращая бинокль, — через полчаса сюда явится Андрей с «тревожной». Теперь можно и на заставу. Иногда, Костя, человеку просто необходимо почувствовать, что он делает важное и опасное дело… Звездный час не случился, значит, не о чем и жалеть. Осмотри еще раз подходы, а я вниз. Подожду тебя под аркой.
Она спустилась по каменным стертым ступеням в узкий, стиснутый кирпичными стенами двор. Двор был глухой, и только в дальнем углу зиял пролом. И в нем стоял человек. В сумерках он казался вырезанной из фанеры черной мишенью. Стриженая вздрогнула. Инстинкт бросил ее на холодные плиты. И, тотчас глухо хлопнуло. И пуля, трижды срикошетив от стен, бесформенным комочком свинца подкатилась к самому лицу Ксении.
«Костя!.. Он же будет спускаться. Ему не сделать и двух шагов по лестнице. И он ничего не слышит там… наверху…» — молнией пронеслось в мозгу.
Снова глухо щелкнул бесшумный пистолет. И снова стены отозвались на выстрел тройным стуком.
«Он меня плохо видит. — серый плащ на серых плитах. Наган!» — вспомнила Ксения. Она успела рвануть из кармана оружие, когда осколки гранитной плиты ударили в лицо, обжигая нестерпимой болью. Ослепленная, она стреляла наугад в направлении пролома, предупреждая Колесова о появлении Гонды.
Козырной уже покинул двор. Только на миг его фигура еще раз появилась в проломе — тогда и прозвучала короткая автоматная очередь. Окрика Палач не слышал. Пуля ударила в голову выше левого виска, жестоко контузив того, кто именовался Иохимом Гондой по кличке Козырной.
ГОНДА
У него было странное ощущение не своего тела. Он видел и чувствовал, но не мог шевельнуться. Сквозь полуприкрытые веки Гонда различил склонившееся над ним лицо молодого скуластого парня. Тот сказал:
— Вот и все…
А Гонда думал об ампуле, вшитой в воротник джинсовой куртки. Вторая в перстне на безымянном, пальце правой руки. Нужно только дотянуться до одной из них и раздавить зубами. Мышцы отказывались повиноваться мозгу. Этого не мог предвидеть ни Веттинг, ни тощий американец по фамилии Фисбюри. Этого не мог предвидеть никто.
Кололо в висках. Тело казалось объятым пламенем. Внезапно он вспомнил себя в эсэсовском черном мундире с двумя молниями — готическими буквами С на левой петлице. Есть ли у них фотография того времени, когда он служил в военно-диверсионном подразделении «Нахтигаль». Его охватила бешеная злоба. Не хватало каких-нибудь пяти минут, чтобы нырнуть в подземелье. Он бы сдвинул плиту и одной рукой. Она в левом углу под лестницей. Никто, кроме атамана Солового и брата Сигизмунда, не знал о ходе в подземелье. Обоих давно нет в живых. А может быть, и этот тайный вход открыт пограничниками. Помнится, еще в сорок восьмом там крутилась группа войсковых саперов. Как бы там ни было, теперь и эта возможность уйти, раствориться в полузасыпанных галереях замка рухнула. Мелькнула слепая и беспомощная мысль о побеге. И тоже угасла — после такой контузии далеко не убежишь. Поздно. Он не смог продать жизнь дорого, теперь нужно попробовать ее купить. И пусть идут ко всем чертям и тощий американец, и Веттинг со своей любовью ко всему изящному. Он выложит все, что знает. И потребует гарантии. Он будет жить до последнего. Есть еще Его Величество Случай. Ведь ушел же он в сорок восьмом от «ястребков», из самого пекла вырвался. А умереть он всегда успеет.
КСЕНИЯ СТРИЖЕНАЯ
Дорога то взлетала на холм, то круто падала вниз, и тогда казалось, что она уходит под землю — такой туман стоял в низинах.
Андрей искоса взглядывал на мать. Ксения Алексеевна зябко куталась в домотканый гуцульский платок и грустно покачивала головой, утверждая себя в каких-то давно выношенных мыслях.
Леса на холмах сияли льдистой пустотой. Шофер-первогодок вел «газик» осторожно, словно вез бесценный хрупкий груз. Он тоже поглядывал на Ксению Алексеевну, и с лица его не сходило выражение плохо скрываемого восторга.
— Я возьму его к себе, — внезапно сказала Стриженая, — он будет жить в комнате Нины…
— В лесничестве ему предлагали работу, — осторожно напомнил Андрей, — он не сможет без границы…
— Когда не сможет, тогда и уедет, а пока поживет у меня, я за ним присмотрю.
Андрей смотрел на рваный глубокий шрам, тянувшийся от уха почти до самого подбородка, и узнавал свою мать. Она не менялась с годами, только серебристей становились волосы да лучики морщин делались гуще.
Ксения Алексеевна работала, была окружена людьми. Общительная по натуре, она быстро завоевывала расположение товарищей по службе. И все же родной человек один. Он, ее сын, плоть от плоти матери. Даже глаза и те с материнской едва приметной раскосинкой.
Ксения Алексеевна повернулась лицом к сыну.
— Не смотри на меня так. Красота мне все равно ни к чему. А дети привыкли. Ты ведь не знаешь, забыла тебе рассказать. Мы в школе ставили оперу, детскую, конечно. Пришлось мне на время стать композитором… Версификация безусловная, но и не совсем бесталанно.
«Мать все понимает, — подумал Стриженой, — о многом догадывается и о Недозоре заговорила неспроста. После того, что случилось в Черном бору, о службе не может быть и речи. И мать не верит в возвращение Нины. Две женщины, а такие разные. Он вдруг представил себе Нину во встрече с Гондой и не мог себе сказать, как бы она поступила. В ней слишком много было для себя, в матери — для людей. Вот и сейчас думает об одиноком больном Иве Степановиче».
«Газик» проскочил пригород, пересек центр а выкатился прямо к вокзалу. Стриженой помог матери выйти аз машины. Ксения Алексеевна прощально помахала рукой водителю.
Андрей решительно шагнул к привокзальному скверу.
— Посидим…
Они нашли свободную скамью, окруженную с двух сторон акациями. Некогда густо покрытые листвой, деревца проредились, с них то и дело срывались легкие истонченные листья, прихваченные первыми ночными заморозками.
Ксения Алексеевна молчала. Они сидели близко, рядом, и мать чувствовала, как труден сыну предстоящий разговор. И она первая начала его.
— Такие прорывы не каждый год, Андрей.
— Да, не каждый, — согласно кивнул Стриженой, — но я к нему готовился…
Ксения Алексеевна потерла виски и вдруг остро а озорно взглянула в лицо сыну.
— Ты устал… Последние недели были трудными и неудачными. А застава числится в отличных… В ошибках разберешься сам… Они для того и совершаются, чтобы на них учиться. Но вот что я скажу тебе на прощание. Нужно всегда помнить, что каждый из вас значит для государства здесь, на пограничной полосе. Что бы ни случилось с душой, как бы ни выворачивалась она от боли, твои тревоги ничто в сравнении с тревогами границы на всем бесконечном ее протяжении…
— …На всем бесконечном ее протяжении, — повторил Стриженой, — спасибо, мама…
Ксения Алексеевна достала из кармана револьвер.
— Хотела вот увезти обратно. Все равно, думала, нигде патронов для нагана теперь не достанешь. Ведь те, которые были, — с войны. Я счастлива, Андрюша, что стреляла из него по врагу. Оказывается, можно хоть на минуту вернуть молодость. И я поняла, что не имею больше права на это оружие. На границе оно должно передаваться по наследству. Возьми… Я его и везла в вашу комнату боевой славы. И пойдем на перрон, чтобы мне не сказали: «Ваш поезд давно ушел».
Ксения Алексеевна озорно, по-молодому рассмеялась и легонько шлепнула сына пальцем по носу, как это делала давным-давно, когда он пытался дотянуться рукой до макушки карликового карагача, росшего во дворе отцовской заставы.
Евгений ЗАГОРОДНИЙ ВСЕ РЕШАТ ПУШКИ…
Рисунки Ю. МАКАРОВА
Одним из возможных и очень интересных направлений военно-патриотической литературы являются историко-приключенческие повести. В них, в отличие от исторических романов, можно сузить число действующих лиц, ограничить рамки исследуемого периода и в динамичной литературной форме максимально приблизить к нам события прошлого.
Наша отечественная военно-морская история очень богата славными страницами. Ни один флот ни одной великой державы не одержал столько блистательных побед на море. Такой победой была и Гангутская, о которой рассказывается в повести «Все решат пушки…». Но, несмотря на то что в основе повести лежит подлинный факт, она все же не документальная, а именно «искательская», остросюжетная, приключенческая. Подобные литературные произведения имеют большое воспитательное значение и безусловно играют немалую роль в пропаганде героического прошлого наших Вооруженных Сил.
Вице-адмирал К. СТАЛБО, доктор военно-морских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР1
Мартовское низкое небо совсем придавило Лондон. Черные языки копоти и волны летучей сырости скрыла деревья парка, стены Сент-Джеймского дворца. Под окнами королевской резиденции туманные оттепели и грязная капель обнажили глинистую почву. Курфюрст Ганноверский, он же король Великобритании Георг I, никак не мог привыкнуть к островному климату туманного Альбиона. Приходилось скрепя сердце менять из-за этого старые привычки, заведенные еще в Ганновере. Вот и сегодня — пропади все пропадом! — нельзя даже выйти на утреннюю прогулку — за окнами едко-серый туман.
Однако не из-за одной мертвящей погоды его величество пребывал не в духе: бесило, что царю-азиату, Петру, видите ли, мало победы под Полтавой. Мало победы, которой могла бы гордиться любая армия Европы. Теперь доносят: царь московитов начинает строить новые корабли, ничуть не хуже английских… О, мой бог!
Петр явно готовится к морской войне со Швецией! Ведь писал же посланник — эти строки навязчиво лезли королю в голову: «Проживи русский царь еще несколько лет — и у него будет флот в сорок линейных кораблей и десятка два фрегатов…» А кто помешает Петру прожить несколько лет? Сегодня Петр тянет за собой Пруссию и Польшу, а завтра — упаси боже! — и со Стюартами договорится. Так вскоре все поразбегутся из-под руки Англии. Карл XII ослушничает уже сейчас. Пошел, подлый гордец, на явные переговоры с Петром! Щенок, тщеславный петух! Мир со Швецией может сделать Россию владычицей Балтики. И тогда лорды и купцы, имеющие лесные склады в Дании и Скандинавии, не простят оплошности своему монарху. Его упекут обратно в Ганновер, а в Лондон вернут Стюартов. Что нм английский король?! Их король — золото!
Георг заметался перед камином — часто задышал, сжал в исступлении маленькие кулачки.
В дверь осторожно постучали.
Король быстро просеменил в угол, отвернулся к огню. Белой тенью скользнул камер-лакей и вкрадчиво доложил в спину Георга:
— Статс-секретарь лорд Брайтон ждет позволения войти, ваше величество.
— Пусть войдет.
Лорд Брайтон шагнул через порог и так низко поклонился, что коснулся рукой щегольских туфель. Георгу показалось… нет, похоже, высокомерия не было на лице лорда. Но, возможно, он так необычно кланялся, чтобы скрыть плутоватые глаза?
Среднего роста, огненно-рыжий, лорд выглядел высоким рядом с маленьким ганноверцем, виновато смотрел на короля сверху вниз — смущался своего роста?
— Здоровы ли вы сегодня, ваше величество? Спокойно ли спалось?
Брайтон всегда начинал беседу этими заботливыми вопросами, действовавшими на мнительного Георга как зубная боль.
— Неважно, мой друг, неважно со здоровьем. Садитесь! — Георг говорил мягко — и продолжал немигающе смотреть на вельможу. — Погода тело мертвит.
— Да, да! — слишком поспешно согласился лорд. — Погода сегодня до невозможности скверная. Я не советую вашему величеству выходить на прогулку… к тому же, есть некоторые вопросы…
Лукавый статс-секретарь продолжал стоять, ожидая повторного приглашения.
— Ваше величество! Сэр Дженкинс прибыл с важными вестями: Петр достраивает последние галеры и, похоже, ждет начала навигации в Финском заливе, чтобы с моря осадить Стокгольм.
Георг задохнулся — в левой стороне груди, под сердцем, кольнула боль.
— Ваше величество, в этом для Англии еще нет беды… Может сократиться вывоз наших товаров в Россию.
Король с тревогой и ожиданием вгляделся в лицо вельможи, который молчал о главном — об опасности трону.
— Это небезущербно для лесных компаний королевства, все это так, — тянул Брайтон, следя за королем. — Но у меня есть план срыва замыслов Петра…
— Что за план? — Король сильно наморщил узкий лоб.
— План весьма щекотливый, — льстиво наклонил голову Брайтон. — Суть его такова: Рой Дженкинс еще в Швеции близко сошелся с неким корабельным мастером — не то немцем, не то голландцем, выдающим себя за датчанина. Этот слуга двух господ весьма золотолюбив. За крупный чек в лондонском или стокгольмском банке он послужит и третьему господину — вам, ваше величество! Лорд вязал слова медленно. — Этот человек теперь в Петербурге — шляется по кабакам, выпытывает у пьяных моряков все о будущей кампании. Заодно строит на верфи галеры и будто бы взят переводчиком в поход… Когда выяснит замысел русских, он сбежит и предупредит обо всем шведского адмирала Ватранга. Флот Петра, несомненно, будет разбит…
Брайтон не выдержал — накопилось много сдерживаемых чувств — и захлебнулся мелким смешком. Ноздри короля дрогнули после долгого напряжения, что-то изменилось в уголках его бледных губ, и он тоже выдавил кислую улыбку — вымученную, недоверчивую.
— Ваше величество, ваше величество! — Брайтон вытирал слезы платком. — Сэр Дженкинс уже представил подробные детали… Я понимаю возможные сомнения, но идея многообещающая. Что вы скажете на все это, ваше величество?
Король смежил рыжеватые ресницы, в раздумье тронул крупное ухо.
— План хороший. Даже очень хороший. Но его можно улучшить. — Король еле заметно пожал плечиками. — Желательно, чтобы царь Петр… погиб до битвы… Выпишите Розенкранцу чек покрупнее, пообещайте рыцарство ордена Бани… Так будет надежней.
— Ваше величество, вы сразу отыскали слабый пункт плана! — с отменной лестью заметил Брайтон.
Он присел без приглашения и отметил не без удовольствия, что Георг ни взглядом, ни жестом не выдал своего раздражения.
— Есть не менее важное, чем разгром русского флота… Сэр Рой Дженкинс с помощью красавиц давно сбивает с толку престолонаследника, царевича Алексея. Прибрав его к рукам, мы сможем в будущем превратить Россию в нашу колонию…
— Да, да, поручите сэру Дженкинсу и это!
2
На набережной Невы перед кабацкой избой остановились два морских офицера. Метлой у порога обмели снег с порыжелых ботфортов и широко распахнули тяжелую певучую дверь. Бригадир Бакаев, коренастый и широкий в плечах, с бычьей короткой шеей и золотистой гривой курчавых волос, вскидывая пшеничную бровь, сильно потянул ноздрями хмельной дух. С улыбкой покосился на своего спутника.
— Тут и отведем немного душу. — Помедлив, он многозначительно добавил: — Ляжем в дрейф.
— Ну что ж, эта гавань вроде ничего, — согласился командор Змаевич — тонкий и хрупкий, с косоватыми прорезями синеватых глаз. — Только выбери место потише да от любопытных глаз подальше.
Бакаев понимающе кивнул и, чуть прихрамывая, прошел в дальний темноватый угол.
Дверь кабака со ржавыми скрипами несколько раз бухнула — вошли англичане, шведы, разный суетный люд.
Меж столиков живо зашныряли два шута, стали приставать к кабацкому люду. Рядом с буфетом в сизых пластах табачного дыма разноголосо запели скрипки, гобой и волынка.
Проходя к буфету, Змаевич удивленно загляделся на сидевшего среди англичан человека в голландском платье. Оба обрадованпо уставились друг на друга, и капитан потащил иноземца к лавке, где скучал Бакаев.
Иноземец оказался юрким, невысоким, жидко-белесоватым, имел улыбку хитрую и скользкую.
— Эй, Яков, глянь, кого я встретил! — повеселел Змаевич. — Мой приятель, Лаэрт Розенкранц! Вот с кем я готов выпить пива хоть бочку!
Трактирщица — баба редкой толщины — поставила перед компанией три высокие оловянные кварты, положила несколько вяленых рыбок.
Розенкранц вытянул обметанные пупырышками простуды губы и весело глянул поверх горы белой пены. Изрядно отпив, достал полосатый платок, вытер широкое и дряблое с навислым носом лицо, повернулся к Змаевичу.
— А что, капитан-командор! Давно мы с тобой не виделись?!
— Да, почитай, с полтавской баталии. — Змаевич смотрел с затаенной насмешкой.
— Где же ты все это время был?
— Где? — Капитан-командор откинулся к стене, коснулся напомаженных, словно нарисованных черных усиков. — Не на лебяжьих перинах валялся! Разные были гавани…
— Это так, — с заметной ухмылкой подтвердил Розенкранц. — А я вот слыхал, ты и в свейских землях бывал…
— И там меня носило. Но не для разорения, конечно, государь нас туда посылал, а чтобы при споре о мире со шведами было чего уступить, окромя Выборга и Карелы. Так что, Лаэрт, не без хитрости тогда обошлось. Сказывают, государь так и отписал генерал-адмиралу Апраксину: «Ежели бог допустит летом до Абова, то шведская шея легче гнуться станет…»
Розенкранц неопределенно улыбнулся.
— Ну и как? С той поры гнется?
— Да не очень. Уж больно они, подлые, влакомились в Финляндию! Хотя оно и понятно — сия провинция вроде титьки — всю Швецию кормит… А под Абовом жарко было. Ух, как жарко! Но, правда, мы шибко потеснили шведа. От той баталии в нашем полку осталось, почитай, не более сотни.
— Вот как! — Датчанин отвернулся к шутам и сделал вид, что смеется над ними.
— Да оно и не то, чтобы очень мало нас осталось, — метнул Змаевич тяжелый взгляд. — К вечеру подъехал государь и зычно справился: «А много ли вас осталось, ребята?» Фланговый ему и ответил: «Да еще фортеции на две хватит, господин первый бомбардир!» Во как разошлись — до лютости.
— И в то же время мы под Штеттином, главным померанским городом, мира искали, — сказал Бакаев, пытливо вглядываясь в Розенкранца. Со злой услужливостью справился: — Это на Одере, знаешь?
— Как не знать! Там ведь и наши воевали.
— Да, ваши повоевали! — Бригадир так ударил по кремню, что целая туча искр брызнула из-под кресала.
Шуты затеяли потешную драку. Яростно вцепившись друг в друга, лаяли, мяукали. Неистово лупили по столам пузырями с горохом, опрокидывали пустые лавки. Английские шкиперы, дивясь необыкновенному развлечению, топотом и свистом подзадоривали шутов.
Бакаев, бледный от злости, наклонился к Змаевичу, леденисто зацедил:
— Кабак, кажись, русский, а от иноземного комарья не продохнуть! На черта ты еще этого Лаэрта звал? Уж больно он что-то крутит — по всему видать.
Змаевич заискрился белозубой улыбкой.
— Да брось ты спьяну нести околесицу! Датчанин в пашем флоте служил. Заслуги от государя имеет, ко двору близок. — И зашептал, понуро горбя плечи: — Слыхал, вчера Адмиралтейская коллегия по всем рапортам о повышении в чинах резолюции учинила. Не иначе, как скоро в поход…
— Скорей бы, — вздохнул Бакаев, вытаскивая трубку. — А я-то думал — пошто моих гренадеров во флот переписали?
Он отпил пива, неожиданно поднялся и легонько потащил подслушивавшего датчанина к себе за рукав.
— Шел бы отсель, герр майстер… А то, ей-богу, перешибу!
У датчанина запрыгали губы. Не понявший в чем дело Змаевич вскочил, удивленно задрожал бровью.
— Стой, Яков, ты уже хватил лишнего! Даже союзников перестал признавать. Иди-ка, я тебе суну под нос кое-что. — Он подвел упиравшегося приятеля к стене, где красовался грозный петровский указ. — Видишь? Сие — табель поведения! Ноне и не за то легко угодить в четыре царские стены. Крут государь!
Бакаев, пряча в карман трубку, глянул со злобой и отвращением. Шевельнул было могучим плечом, но Змаевич уже выталкивал его из кабака.
3
Пустив рысью снежно-белого коня, принцесса Ульрика-Элеонора выехала на прогулку в окрестности Стокгольма. Обычно ее сопровождала пышно разодетая свита. Но в этот раз спутником был лишь английский посол при русском дворе Рой Дженкинс.
Все утро принцессу не покидало чувство смутной тревоги. Высокомерное выражение ее лица стало каменным, когда доложили о приходе Роя Дженкинса, — таким оно было и сейчас. С тоской думалось о брате, Карле XII, который после срама под Полтавой находился где-то далеко-далеко — за этим пятнисто-пегим балтийским небом, за бесконечными русскими далями, за Черным морем — в Турции… Сладко замирало сердце — туда уносились мысли пылкой и гордой Ульрики.
Ульрика-Элеонора резко осадила коня, чуть не подняв его на дыбы. Неторопливо обернулась к своему спутнику.
— Ваше высочество! Я вам должен сообщить очень важную весть, — сказал он.
Ульрика-Элеонора шумно вздохнула и натянула поводья.
— Я должен сообщить, — повторил посол, — появились довольно неприятные вести… Барон Герц поехал в Петербург заключать мир между Голштинией и Россией… через супружество сестры Петра с герцогом Карлом-Фридрихом…
Делая вид, что ничего не ведает, принцесса остановила белоснежного коня.
— Похоже, Голштиния да и Россия метят наследовать шведскую корону?
— Да, ваше высочество, — глаза дипломата сверкнули ясным блеском молодости, — именно для этих целей Петр и построил флот.
— Вот как! — Принцесса окаменела.
— Если Герц уладит с Петром спорные вопросы, — внешне невозмутимо брюзжал посол, — то Голштиния уступит России почти все земли, завоеванные вашим братом…
— Но ведь это измена! — вырвалось у принцессы.
— Главное не это, ваше высочество. Русские морские офицеры в кабаках уже говорят про поход на Стокгольм.
Рой Дженкинс вкрадчиво продолжил, намеренно отвлекая Ульрику-Элеонору от тревожных мыслей.
— Ваше высочество, вы простите меня, что в такую минуту… однако я не могу не сказать… Вы сейчас ослепительны. Гнев и весенний мороз так красят ваше лицо… За то, что я вижу, можно отдать всю казну моего короля…
Посла трудно было уличить в игре: он явно волновался. Но принцесса почти не слушала — она находилась в том нервном возбуждении, которое вот-вот могло прорваться слезами.
«Какой слабый огонь нужен этому воску!» — злорадно подумал старый ловелас и заговорил дельно, скупо и властно — о главном:
— Летом адмирал Ватранг встретится в море с Петром. Это неизбежно. Перед битвой мой перебежчик сообщит адмиралу о планах русских. Это решит исход сражения. Сами назовите пароль. Слово, от которого будет зависеть судьба Швеции…
Ульрика-Элеонора, бледная, жадно глотая воздух, покорно выдавила чужим голосом:
— «Месть принцессы!»
4
Перед походом царь Петр, как и многие флотские офицеры, подал прошение в Морскую коллегию о повышении его в чине. Он числился в звании шаутбейнахта, то есть контрадмирала, под именем Петра Михайлова. Собравшись с утра зайти на верфь, где заканчивалась постройка последних галер, он решил попутно завернуть в Адмиралтейство — узнать о постановлении на его прошение.
Составив расписание войск по судам, Петр энергично поднялся из-за письменного стола. На нем был мундир полковника Преображенского полка — линялый зеленый кафтан с красными отворотами, перетянутый портупеей. На длинных крепких ногах — зеленые чулки и разбитые, изношенные башмаки. В этом мундире царь победил Карла XII под Полтавой. Прихватив шляпу-треуголку, простреленную в том же бою, Петр быстро сбежал по лестнице бревенчатого дворца, вышел к Неве.
Весна стояла ранняя. Белыми медлительными лебедями проплывали облака. Редкие дома, желтые мысы Невы и множество островов казались плывущими в дымчатом отсвете, невесомыми. Над серым разливом гребнистых волн белизной вспыхивал хоровод неутомимых чаек — стремительных и легких, радостно-крикливых. Рощи на берегах еще были голые, зеленели лишь сосны — одна другой выше, стройнее.
Большое деревянное здание в начале Невской перспективы, под высоким шпилем с изящным корабликом, и прилегавшая к нему верфь были обнесены с трех сторон добротным крепостным валом. В сторону воды глядели жерла пушек… «К походу, почитай, все готово, — думал Петр на ходу, — сухопутная армия, парусные корабли и даже суда с огневым боем. Для галерного флота и тактика почти создана. Только бы выступить в срок — никак не позже начала навигации в Финском заливе…»
Караульный, стоявший у будки возле мостика, перекинутого через ров, посторонился и застыл без шевеления — мушкет перед собой, нос задран, глаза вытаращены — едят царя. Петр задумчиво шагнул мимо него в ворота верфи.
Весь задворок между Адмиралтейством и берегом реки был завален корабельным лесом, бочками с ворванью, канатами, железом, щепками и мусором. У пристани приткнулись старые суда, швы у них заново конопатились и просмаливались. От огромных котлов несло гарью, черной густой копотью. Пахло дымом, свежерубленным деревом, ноздри щекотал горьковатый дух окалины.
Галера, готовая для спуска, высилась на стапелях. Плотники еще не начали выбивать стрелы — пока смазывали жиром киль и, видимо приустав, сидели на бревнах, тихо переговариваясь.
— Так, значит, Антон, стоит наняться в команду-то галерную? — гудел басом кряжистый мужик.
— Очень даже стоит, Никола Иванович, — лукаво отвечал ему светло-русый матрос. — Это тебе не лаптями торговать, аль ложками да свистульками.
— Оно б ничего, — суживая глаза под огромными бровями, смекал мужик.
— Куда ж лучше! — насмешливо подзадоривал матрос. — С жиру морду разнесет — почище боярской станет.
— А все ж как-то несподручно, — туговато соображал мужик. — Одна пагуба людская от той войны. Омерзла в самый корень!
Матрос воровато стрельнул глазами по сторонам.
— Штой-то язык у тебя, как собачий хвост, стал ходить!
— Что ж, разве то кривда? — качал головой Никола. — Един хлеб гнилой знаем да ломотой болотной крючимся. А за какие такие благодеяния?
— Смолкни, полоумный! — прошипел матрос, зажимая плотнику рот ладонью. Ткнул Николу кулаком и поспешно принялся за работу. Огляделся опасливо и похолодел — со всем рядом увидел царя.
Царь медленно шел по верфи — оглядывал доски, — уголь, ворвань. Остановился и кое-что услышал из перебранки. Гневно засопел. По загорелому лицу пошли малиновые пятна. Задумчивость слетела — взгляд стал пронизывающий, властный — с огнем. Надвинулся на Николу зеленой тучей и сверху, окидывая его огромными продолговатыми глазами, жестко спросил:
— Пошто сидишь? Ленишься?
— Я-то? — сердито отозвался мужик, разламывая краюху хлеба. — Я-то опосля трудов закусываю, а ты вот, мил человек, зряшным делом прохлаждаешься. Многие здесь ходят, которые сухопутные, а тут дела корабельные…
Петр гневно, а потом уже безразлично скользнул взглядом по плотнику: что с мужика взять? Скинул полковничью куртку, остался в суконном жилете и, подойдя к галере, взялся за огромный чугунный молот.
Плотники испуганно переглянулись: все, кроме Николы, узнали царя.
Петр оглядел судно и крикнул плотникам: «Готовься!» Те забегали, засуетились у крутого днища. Оглядел всех — готовы ли — и широкими взмахами молота стал выбивать подпорки. На спине царя буграми заходили мышцы, лицо покраснело. Мужики дружно заколотили по бревнам, подпиравшим галеру. Удивленный Никола поднялся.
— Ишь ты! Ладно бьет. Сразу видно — ране плотничал.
Галера понемногу осела на салазках и сползла на бревна, густо смазанные ворванью. Теперь судно с боков удерживали только поперечные балки. Петр прошелся вдоль пахучего борта, придирчиво осмотрел днище и киль, постоял у кормы, прикидывая что-то линейкой.
— Судно доброе, — коротко заключил он. — А вот как окрестить его — пока не ведаю. Тебя как звать, отец? — блеснул глазами Петр.
— Меня-то? Никола. А тебе чего?
— Ну вот, так и назовем галеру — «Святой Николай», поелику ты ее срубил. Согласен, чай?
— Ишь ты, так тебе и дозволят! Да ты кто таковский? Лучше бы дырку на шляпе-то зашил, — обиделся мужик, полагая, что его опять задирают в шутку.
Никола озорно глянул на плотников и по их лицам понял, что происходит что-то страшное. Еще не понимая, в чем дело, споткнулся на полуслове и стал внимательно разглядывать круглое с торчкастыми усиками строгое лицо. Неожиданно ахнув, он закрестился дрожащими руками и бухнулся в ноги царю.
— Ох, государь, не погуби! По скудоумию не признал!
Петр, думая, как поступить, немного помедлил, глядя на сведенные судорогой лопатки плотника, на гнилые лапти, рваную, латаную-перелатаную сермягу. Вздохнув, легко поднял Николу за шиворот, встряхнул и поставил на ноги.
— Ин, да ладно! Коль день сегодня красный, то и быть по твоему. Но впредь! — царь метнул обжигающий взгляд, — угодишь в Тайный приказ не за скудоумие, а за словоблудие.
Мужик стоял ни жив на мертв: и пасть на колени страшился, коль сам государь поднял, и глаза мозолить дураком боялся — не приходилось вот так запросто перед его величеством стоять.
Но Петр уже не смотрел на Николу.
В воротах верфи в сопровождении корабельных мастеров, музыкантов и гребцов появился генерал-адмирал Апраксин — степенный, важный, с брюшком и серебряной бородой. Все на нем сияло: парадная форма, ордена, белейшие кружева, длинный ряд пуговиц адмиральского мундира.
Приблизясь к Апраксину, Петр, улыбаясь одними глазами, снял перед ним треугольную шляпу.
— Прошу дозволения, господин генерал-адмирал, поднять на форстеньге готовой галеры, названной мною «Святой Николай», вымпел российского флота!
— «Святой Николай»? Ну что ж… Сейчас осмотрим.
Апраксин, выдерживая серьезную мину, — в полнокровных губах таяло веселье — прошествовал к галере мимо молодцевато отступившего в сторону Петра. Обошел судно. Холеными пальцами любовно тронул борт, погладил. Остался доволен. Ловко сощелкнул щепочку с кружевного рукава. Повернулся к царю и просиял.
— Ну, коли готова, то можно поднять со господом!
Генерал-адмирал не по-стариковски молодо шагнул к царю, желая сказать что-то радостное и подобающее случаю, но словно споткнулся о тяжелый взгляд Петра.
— Поставщиков повесил? — проговорил Петр, немигающе уставясь выпуклым взглядом: — Нет? Почему?… Доски сырые, ворвань — гниль одна! Уголь плох! Смотри, Матвеич, самого повешу на рее!
Что-то бормоча, Апраксин открыл было рот, каменея и обмякая телом. Но Петр, зло улыбнувшись, уже взмахнул рукой. На форстеньге новой галеры плеснулся флаг с белым полем и голубым Андреевским крестом.
— Вашими руками сегодня срублена галера! — звонким ясным голосом обратился Петр к мастеровым и плотникам. — Пусть же и это судно послужит во благо отечества!
Громкое «ура» перекатами загуляло над Невой.
Из-за штабеля досок выскочил Розенкранц, приказал плотникам стать к канатам. Сам подбежал к толстой, почти полуметровой толщины балке. Покосился на близко стоявшего царя.
Петр заблестел белозубой улыбкой, приблизился к галере и снова стремительно махнул рукой. Плотники, отталкивая бревна, рванули канаты. Датчанин, сверкнув глазами, толкнул балку на царя. Петр, радостно увлеченный, опасности не заметил. Оторопелый Никола, бросив канат, с шальной легкостью подлетел к царю, сгреб его, потянул в сторону.
Огромное бревно с гулом легло на то место, где только что стоял царь.
И тут же судно тронулось с места, медленно, а потом все быстрее и быстрее заскользило по натертым ворванью стапелям. Задымило сало. Раскидывая две высокие волны, галера шумно вошла в воду и, тотчас выровнявшись, плавно закачалась.
Музыканты протяжно заиграли на рожках. Прыгнула носовая пушечка, пыхнув дымом. Еще одна галера вступила в строй русского гребного флота.
Петр, чуть побледневший, насупленный, поднял руку и вытер мокрый лоб. Шагнул к Николе, похлопал плотника по плечу.
— Молодец! Сегодня, похоже, мы спасли друг друга…
К царю робко приблизился Розенкранц — беспокойно замигал.
— Ваше величество, — голосом, сползающим на сладкий шепот, обратился датчанин. — Вопрос… Навигацкий…
Петр безразлично кивнул.
— Бондари затребовали весь дуб на квасные бочки, а я не отпустил. Надо ли столько бочек? Если выход флота в море близок, тогда другое дело… А то ведь дуба не хватает на ремонт трюмов и шпангоутов…
Петр взглянул недоверчиво. Ответил гудящим густым басом:
— Вопрос не навигацкий. Когда и куда идти флоту — не дело иноземных корабелов. Что до трюмных бочек — следует справиться у генерал-адмирала Апраксина…
Розенкранц низко поклонился и засеменил к выходу.
Неожиданно Петр тепло улыбнулся: увидел Змаевича и Бакаева. Поняв, что оба здесь по тому же делу, что и он, царь повернулся и шагнул к секретарю. Молча взял из его деревянных рук бумагу и, справляясь о фамилиях офицеров, пробежал глазами длинный список повышения в чинах. Подошел поздравить — молча протянул узкую мозолистую ладонь. Сообщая новые должности, пожал руки — крепко, быстро. Улыбнулся, над губой поползли в стороны щеточки усов.
— Устроим шведам на море Полтаву — видать вам и адмиральские чины…
5
Увидев множество парусов на Неве, Петр распахнул окно дворца. Пахнуло сыростью, терпким духом весенней земли и немолчным шумом игристых волн.
К пристани, видневшейся невдалеке, подходил нарядный галиот — резной, с круглой кормой в цветных стеклах, с легко и изящно вынесенным вперед форштевнем.
— Кто это там маячит? — пристально вгляделся Петр.
Генерал-адъютант схватил подзорную трубу, разглядел на палубе галиота сэра Роя Дженкинса, напыщенного и разряженного.
— Английский посланник, ваше величество, — ответил Ягужинский. — Каждый день променад совершает до Котлина острова и обратно — с подзорной трубой, записывает что-то. Повадился, видимо, не только от телесной слабости да праздности. Запретить бы, ваше величество. Соглядатайство явное.
— А пускай тешится. Все будут решать пушки да храбрость моих моряков и гренадеров, — задумчиво улыбнулся Петр. Постоял, пощипывая ус, и вернулся к столу, продолжил диктовать Ягужинскому. — «В конце недели всех людей посадить на галеры и скампавеи, ночевать там, быть в полной готовности. Ждать указу в марш…»
У дверей царского кабинета сэр Рой Дженкинс услышал последнее — «в марш!». В марш? От волнения визитер уронил перчатку на пол. Легко, не по-стариковски, наклонился, прислушиваясь. Прожив несколько лет в Санкт-Петербурге, он хорошо понимал по-русски.
Петр приветствовал английского посланника сдержанно и сухо.
— Считаю долгом заметить, ваше величество, — произнес Рой Дженкинс, — мой король был весьма обеспокоен столь близко стоявшим к Англии бедствием…
— Какому еще такому бедствию? — Петр недовольно су зил глаза.
— До ушей моего короля дошло, что ваше величество имели намерение заключить с Испанией наступательный союз против Великобритании. Такими слухами полна Европа…
— Я? — весело удивился Петр. — С Испанией? — переглянулся с Ягужинским, повел недоумевающе плечами.
— Да, ваше величество. Я к вам пожаловал как раз с этим вопросом. Говорят, вы с Мадридом сносились через голштинского министра Герца, он недавно посетил вас с визитом…
Повисла неловкая тишина. У Петра дернулся на лице мускул.
— Вот как! — Царь засмеялся зло, баском, округляя губы и резко оборвав смех, глянул угрюмо — перешел на спокойный тон. — Герц, верно, был у меня. Но его прожектам я не внял, ибо не мог поступить несходно с интересами Англии. Чем зря перекладывать с больной головы на здоровую, — мрачно продолжил Петр, — лучше взгляните, мистер Дженкинс, на британских послов в Европе. При всех дворах: цесарском, прусском, в Варшаве, особливо в клятвопреступной Порте, они всячески стараются во вред России. В озлобе прямо лезут из штанов и шотландских юбок. А почему? Ваши корабли ходят по Балтийскому морю, будто торговые, а на деле — шведам боевые припасы возят?! Это как понимать?
Лицо английского гостя притворно вытянулось — удивление разыграл отменно.
— Ваше величество! Дело, видимо, в том, что в Англии люди непозволительно свободны… И если некоторые британские капитаны позволяют себе иногда… — Дженкинс высоким голосом подчеркнул последнее слово, — то парламент его величества никак не отвечает за такие действия.
Петр по достоинству оценил увертливость дипломата и незаметно подмигнул Ягужинскому.
— А не русскими ли товарами вам захотелось торговать по всему свету? Россию Ирландии тщитесь уподобить? — Русский царь вырос во весь свой огромный рост перед тщедушным старичком, Широко расставив ноги, смотрел на бледного гостя в упор. — Впредь лучше начинайте без хитрости и сразу выкладывайте дело. Вы, господин посланник, с чем ко мне пожаловали? Не водки, чай, выпить зашли?
Насупясь, Дженкинс нервно поправил завитки огромного парика. С притворной непринужденностью быстро заговорил:
— Ваше величество, разрешите закончить предыдущий разговор… Я думаю — и это бесконечно искренне — все интриги исходят от Карла. — Дипломат поднял на Петра твердый взгляд. — Ваше величество! Англия решительно намерена развеять ваши сомнения! В войне со шведами она и впредь будет на стороне России! Я зашел вас заверить в этом…
— И впредь? Интересно! А какие же услуги вы оказывали нам до сих пор?
— Король Георг… — Дженкинс растянул бескровные губы в вымученной улыбке. — Король Георг, — снова споткнулся он, — не мешал вам делать завоевания на Балтийском море, так как…
— Так как не было возможности помешать тому!
Царь так глянул на непрошеного гостя, что тот невольно опустил глаза. Ягужинский смотрел на Петра с любовью и легкой укоризной — поймал ответный взгляд: а шут с ним, надоело церемониться!
— Такое понимание сожаления достойно, — усилием воли Дженкинс обрел видимое спокойствие. — Однако мы непреклонны в желании остановить шведское пиратство на морях. Англия тоже жаждет поставить Швецию на колени, — Голос англичанина сильно истончал.
— Лестно слышать сие! — неожиданно развеселился Петр, хохотнул, повел глазами на Ягужинского. — Может, на том и составим письменный трактат?
Дженкинс чувствовал себя неловко, изворотливость сильно изменила ему. Царь повернулся к дипломату спиной.
Оставшись, один, Петр задумчиво повертел серебряный глобус, стоявший на, трех китах. Царапнул ногтем от Санкт-Петербурга через Финский залив. Закурив коротенькую трубочку-носогрейку, присел к столу, потянулся за гусиным пером и замер, вспомнив недавний разговор с Алешей, с сыном.
«…России назначены определенные пределы на лице земли, — говорил Алексей. — Всякий раз, когда персы и ассирияне хотели перенести свои границы за Геллеспонт, они терпели поражение… Для древних римлян предельной границей на востоке был Евфрат, на западе — Эльба, за кои они напрасно тщились распространяться… А турки! Они не смогли утвердиться на западе и два раза тщетно осаждали Вену… Не подбивает ли нечистая сила и Россию на то же самое на Балтике?…»
«Сравнил! Сравнил хлябь с Иоанном Великим! — выдохнул Петр. Гнев был где-то глубоко, жег невыносимо, но прорваться не мог. — Совесть ты до дыр износил! Добродетель, без разума пустота есть…»
«Бесы тебя толкают на разорение храмов, на воздаяние неприятелю мщения, — Алексей повел прозрачной ручкой, сделал книксен. — Но мудрым смирением можно возвернуть куда больше, чем мечом! Не меч, а мудрое смирение надобно России…»
«Умаялся ты от праздности, — сказал тогда Петр отцовски твердо. — Пошлю-ка я тебя в армию, засажу за артикулы. Делом настоящим займешься».
«Не снесу я воинских трудов. Телом слаб».
«Тогда отправляйся в Новгород — лес дубовый готовь для флота. В том и будет твоя польза Отечеству».
«В Новгород не поеду. Наипаче всего желаю чина монашеского».
Очнувшись, Петр принялся быстро писать. Сказал тихо вошедшему Ягужинскому:
— Вот, Павлуша, свези поживей Апраксину. Указ в марш!
6
На окраине Санкт-Петербурга — в черепичных крышах, острых кровлях, утыканная ветряными мельницами с флюгерами, вся в подстриженных деревьях раскинулась Немецкая слобода.
В эту слободу, воровски озираясь в темноте, шел царевич Алексей. Шел осторожно, прислушиваясь, часто спотыкаясь. Подойдя к невидимому домику, тихо стукнул в ставень. Когда мсье Буланже отворил, царевич вошел спешно, почти вбежал.
— Никак за вами следят, ваше высочество? — елейно справился Буланже, проверяя засовы.
— Следят! Смотрельщиков за мной много, — долго не мог отдышаться Алексей. — Худо мое житье, худо! Пришел я в последний раз, иначе схватят…
Глаза царевича стали мглистыми, лицо позеленело, руки не знал куда девать. Француз, однако, был доволен. Усадив Алексея в кресло, подлетел к конторке, заваленной чертежами и ландкартами, освободил место для бутылки рейнского и двух бокалов. Подумав, плутовато и недобро глянул на гостя — с ласковой насмешечкой. Достал из створчатого шкафчика вторую бутыль — бургундского. Неслышно, по-кошачьи, приблизился что-то спросить. Алексей вскинулся, задрожал. Француз затараторил, жестикулируя маленькими ручками:
— Ваше высочество, у меня можете быть покойными, — взгляд преданный, собачий, прыгающий по лбу, волосам, изучающий.
Алексей, широко раскрыв глаза, смотрел в разноцветные прыгающие зрачки. Успокаиваясь, безвольно зашептал.
— Сегодня не надобно пить, не надо. Вино ум отягощает…
— Что вы! Напротив. Придает мыслям ясность и живость. Старое бургундское! Ваше высочество! Это вино из солнца и огня, божественная амброзия — напиток римских цезарей!..
Мягкий вкрадчивый голос мсье Буланже бередил душу, старое бургундское огнем ударило в голову.
— Богом России начертано быть сухопутной державой, — заговорил Алексей. — Пагубно переделывать природу государства и натуру людей. Зачем вести тяжкую войну за эти больные и простудные места? Народ морится голодным кормом, монахи учатся прядению, в казну забираются серебряные оклады с икон. В церквах отменены крестные ходы! Военные походы — то к Черному, то к Балтийскому морю… России нужна вода, говорит батюшка. А зачем? Ведь жили без этих дьявольских морей — благочестиво, по православному древнерусскому чину, по византийским канонам. Пятьсот лет жили!..
Царевич поднял к небу дрожащие руки, безвольно уронил. Откинувшись в кресле и полузакрыв тяжелые от хмеля глаза, непрерывно говорил:
— Капитан Измайлов послан зачем-то в Китай… В Индию собирается экспедиция Бухгольца. Ротмистр Волынский отправляется в Персию, князь Бекович-Черкасский — в Хиву… А еще батюшка думает снарядить корабельную экспедицию. Хочет проложить северный морской путь… далее Сибири, к Чукотке, а то и в Америку или до самой Японии…
Мсье Буланже украдкой все записывал — под уголком ландкарты, малюсеньким карандашиком. Не отрываясь от затуманенного взгляда царевича, зорко следил за ним, как за опасным зверем.
Возбужденный недавним страхом, вином — в бургундское француз подсыпал какое-то зелье, — Алексей вздрагивал, силился овладеть плывущим сознанием. Перечислял уже сонно, мягким голосом, что не надобно России: все новоманерное заводское и корабельное строение, дикие сборы холстинного полотна для бумажной фабрики, пивоварение… Русскому человеку водка больше по душе! Закладка каких-то плавилен на Урале противна богу — литье-то надобно батюшке не на колокола малинового звона, а для кораблей, пушек, ядер…
— Ваше высочество! — притворно восхищался мсье Буланже. — Сам Иоанн Златоуст не выражался так мудро, изобличая пороки византийской императрицы! Народ вас любит, зовет российской надеждой. — И, перейдя на сладкий полушепот, затаив дыхание, спросил: — Ваш двор будет в Москве, когда вы вступите на престол?…
— В Москву-матушку! — умильно-плаксиво произнес Алексей. — В Москву златоглавую! Там церковь святая православная, всякое благолепие и благочиние! Кремль там… — зашмыгал носом, — в Москве снова начнется византийская Русь!..
Француз облегченно вздохнул, успокоился довольный, сыто улыбнулся.
— А Санкт-Петербург?
— Быть ему пусту!
— Нынешнее войско и флот?
Царевич перебил — нетерпеливо, раскрывая сивые от слез глаза:
— Флот нам неприличен! Да, неприличен! А войску быть малым — стоять ему только на границах. Моря России не надобны! Земли же у нас с избытком — дай бог и с тем порядок навести… а батюшке все чудятся на Балтике призраки торговых кораблей…
— В покое заживет при вас Россия: ни воинских тягот, ни суетных тревог! — Мсье Буланже блеснул улыбкой. Писать бросил, вкрадчиво перешел к другому: — У вас такие нежные белые руки! Они вовсе не созданы для шпаги. Они созданы для любви, — француз утомленно вздохнул — уже одолевала скука. — О, если бы я был женщиной…
Мысли царевича покатились, куда — мсье Буланже это сразу заметил. Снова показал остренькие зубки, глазки смежил.
— Мадлен до сих пор вас любит…
Употреблять «высочество» француз бросил. Уже было не надобно: видел, в глазах высокого гостя стоят сладчайшие слезы от дурмана незабытой ласки.
— Откуда вы все знаете? — вскричал в изумлении Алексей.
Мсье Буланже вертко и быстро вдел ступни в восточные загнутые туфли. Проскользил мимо по-кошачьи.
Стало совсем тихо. Царевич невидяще и тупо уставился в потолок. На душе было горько и пусто. И страшно. Страшнее страшного. Почудилось, кто-то идет. Кто? Подхватился, хотел бежать и… увидел женщину.
Она была в тончайшем голубом платье, расшитом по подолу розами и золотом. Не человек — дивное привидение, плыла или шла — сразу не понять. Брови подвижны, светло-рыжие волосы распущены, как у русалки, глаза зовущие, изумрудные — летели навстречу. Она шла и быстро, и медленно. На ходу платье облегало тугобедрую фигуру несказанного соблазна. Подошла легко, воздушно, обдала ароматом. Коснулась нежными пальчиками оцепеневшего лица царевича.
— Мадлен?! — сладко, в приливе счастья простонал Алексей, ничего не понимая.
— Это я, мой милый царевич. Я приехала в Россию, чтобы вас спасти…
Он затрепетал в изнемогающей нежности. Увидел совсем близко блестящие глаза, свежие приоткрытые губы. Потянулся к ней и застыл, вспомнив, как досталась ему ее первая сладость. Такими глазами она смотрела на него там — в Карлсбаде, тогда…
Он понимал, ее губы говорили что-то недовольно, даже зло, но все равно было сладко видеть их так близко.
— …И в такое время думать про монастырь, бросать наследство одного из величайших престолов! Нет, и тысячу раз нет! — Она растроганно схватила его за руку, близко заглянула в глаза. — Надо бежать за границу… Ну хотя бы в Вену, к цесарю, он вам свояк, а затем…
«Затем» — для него было уже неважно. С покалывающим ужасом и горячим восторгом впитывал он ее дерзновенные речи…
В нем и самом давно зрели мятежные мысли. Одолевало лишь давящее вынужденное смирение — иной защиты не придумал от незримого надзора грозного отца.
Он отвел глаза.
— Сейчас ничего не скажу, — произнес глухо, скорее простонал, — надо помыслить гораздо. Помыслить надо…
И Мадлен видела, понимала — он уже помыслил и все будет, как она пожелает. Поэтому не отступала. Не скупилась на льстивые слова, опьяняющие ласки…
7
Перед рассветом Мадлен вошла в маленький кабинетик. Уже не томно-красивая, а деловито-сухая, остывшая и холодная. Прислонясь пальчиками к теплой изразцовой печи, печально-внятным голосом сообщила Дженкинсу все, что слышала, сидя еще за ширмой.
— Русские послы обольщают китайского богдыхана, ищут пути в Персию, Афганистан и Индию…
— Опасности эти еще слишком отдаленные, чтобы беспокоиться, мадам. Лучше скажите, как у вас подвигается дело с Алексеем?
По губам Мадлен поползла ехидная улыбочка.
— Царевич не так уж прост и глуп, как вы думаете, милорд. Он, я бы сказала, медленнодум. В этом трудность.
На улице послышался шорох шагов. Кто-то остановился возле дома, потом удалился мелкой поступью. Англичанин почувствовал легкий озноб, молодо вскочил и надолго прилип к окошку. Вздохнув, тяжело сел.
— Царевич сказал, — чуть насмешливо продолжила невозмутимая Мадлен, — Петр построил большой гребной флот. Девяносто девять галер. Задумал кампанию в Финском заливе, собрался идти на Стокгольм…
— На Стокгольм? — неожиданно для себя встрепенулся Дженкинс. Притворялся по привычке, но спазма липко перевила горло — откашлялся.
— Разве вы не вместе? Вот так вечная дружба с Россией! — Глаза красавицы холодно блеснули.
— Мадам! — дипломат взглянул торжественно-значительно. — У нас нет ни вечных друзей, ни вечных врагов. Есть только вечные интересы Англии.
В ставень осторожно поскребли. Постучали и снова поскребли. Мадлен выпорхнула в другую комнату, обдав дипломата тонкими французскими духами, — легкие ноги неслышно пролетели по ковру. Англичанин устало засеменил открывать. Вошел мужчина, закутанный в черный плащ. Откинул капюшон — лицо желтое, с нависшим носом, скучное — Дженкинсу даже захотелось зевнуть. Пришелец, разглядев в полупотемках англичанина, согнулся в поклоне.
— Я к вашим услугам, сэр!
— Какие новости, герр Розенкранц?
— Очень важные, сэр. Матросы и солдаты ночуют на галерах. Флот вот-вот выйдет в море.
Англичанин неожиданно для себя потерял выдержку — присвистнул.
— И куда собрался этот самый флот?
— Тайны пока не знаю, — датчанин недовольно засопел: ему не подали руки, не предложили сесть.
— Вы уходите в плавание с флотом?
— Да, сэр, как корабельный мастер и переводчик.
Дженкинс помедлил и, словно спохватившись, вытянул руку, ткнул пятерней в сторону кресел, приглашая сесть.
— Перед сражением вы должны предупредить обо всем адмирала Ватранга. Предупредить в море! Чего бы это ни стоило!
Розенкранца резануло слово «должен». Он недовольно посмотрел на патрона, но, вспомнив богатые приманки, покорно ответил:
— Мне интересно знать, где будет стоять эскадра шведского короля?
— Ватранг намерен крейсировать возле мыса Ганге-удд. — Дженкинс порылся в кармане, вынул сложенную карту. Развернул и ткнул пальцем. — Это в конце Финского залива, вот здесь… Пароль для встречи с адмиралом — «Месть принцессы!». На шведских сторожевых судах пароль будет известен. Все! Желаю удачи! Спешите, пока не выглянула проклятая луна.
8
Со стен Петропавловской крепости прогремели пушечные залпы — салют в честь российского флота, уходившего в поход.
Над Невой реяли вымпелы. Галеры, скампавеи, шхерботы, провиантские суда медленно выстраивались в кильватерную колонну. По всей Неве множество судов вспенивали веслами зеленоватую воду.
Впереди гребного флота, сверкая холщовыми парусами, шла корабельная эскадра — пятнадцать больших судов. Тридцатипушечный фрегат «Полтава» нес на фор-стеньге вымпел контр-адмирала Петра Михайлова — андреевский флаг с красной полосой внизу полотнища. В строгом порядке, трепеща зелеными штандартами и красно-бело-голубыми вымпелами, за корабельной эскадрой вытягивались гребные суда — каждое с двумя косыми парусами.
Гребной авангард с пехотными полками — в должности адмирала от синего флага вел генерал Вейде; кордебаталию — генерал-адмирал от белого флага Апраксин, командующий всем галерным флотом. Эскадра арьергарда шла под началом адмирала от красного флага — генерала Голицына.
Багровые облака, как горы, быстро надвигались с моря. Ветер посвистывал в снастях. Шурша и пенясь, вода лизала белесый песок устья Невы. От множества судов, казалось, реку покачивало. Вправо и влево сколько хватал глаз вдоль полосы вскипающего прибоя тянулась иссиня-зеленая шуба леса.
Апраксин стоял на носу флагманской галеры и напряженно всматривался из-под треуголки в свинцово-серую даль. Знакомый путь! Но никогда еще генерал-адмирал не отправлялся в море с пехотой. На душе было неспокойно.
Все дальше и дальше отступал глянцевитый шелк леса. Серебристыми прядками расплывалась кайма берегов. Пора было ставить паруса, но Апраксин медлил, давая гребцам пообвыкнуть.
Отгоняя невеселые мысли, генерал-адмирал повелел приготовить для инспекции четырехвесельный баркас. Спустился по штормтрапу степенный, задумчивый. Оживился лишь возле борта галеры «Святой Николай». На палубу поднимался долго.
Приняв рапорт командора Змаевича, Апраксин прислушался к разговору свободных от вахты матросов и солдат, сидевших возле надраенной до блеска пушки.
— Ну что, солдат, заскучал? Или жалеешь, что в море ушел? — спросил он одного из них.
— Да как тут жалеть? Коли сам государь моим худородным именем галеру назвал, мыслимо ли дело на берегу оставаться? Прилепился я сердцем к своему строению. Только вот гляну на енту пушку, так и сдается мне — перелита она из церковных колоколов. Не чистое все же дело, думаю, с войной ентой…
Апраксин нахмурился и повернулся багровея. Гаркнул, словно выстрелил.
— Старшина! Пошто дозволяется пустословие нижнему чину?
Виновато моргая, марсовый старшина Антон молчал, зверем зыркал на вскочивших матросов. Генерал-адмирал приблизился, взглядом пронизал Николу.
— На море служил?
— Сроду не приходилось! — заробел Никола.
— Худо совсем. — Генерал-адмирал пожевал в раздумье губами. Покряхтывая и тяжело передвигая зеркально начищенные ботфорты, спустился в каюту Змаевича.
Как только Змаевич с Апраксиным ушли с палубы, от бочки с квасом отделился Розенкранц — тенью скользнул к матросам.
— Поняли? Худо дело! — плутоватые глаза переводчика пучились — не мигали.
Никто не отозвался. Казак сильно задымил чубуком. Антон смотрел назад — на уходящие под воду берега. Тихо объяснял молодым матросам:
— Конец Невы скроется — скоро пройдем мимо Котлина острова. Потом — Кроншлот и Толбухина коса, далее будут Березовые острова, а там и Выборг завиднеется…
— А за Выборгом пойдут шхеры, — вставил свое Розенкранц. — Трудно там плавать. Фарватер извилист и узок, легко на мель наскочить. Без хорошего лоцмана там не пройти.
— Лоцман есть — не беда.
— Финн тот? — повел глазами Розенкранц на угрюмого увальня у мачты. И отошел, спрятав ухмылку.
9
Миновав Транзудский рейд, весельный флот подошел к Выборгу. Быстро выгрузили провиант и порох для местного гарнизона и снова ушли в море. Корабельная эскадра держалась мористей — на случай нападения шведов.
Петр дотянул конвой до островов Питкоопаса. У начала мелководья шхерной полосы он круто повернул корабельную эскадру в сторону.
Никола, бледно-зеленый от морской качки, вытягивал шею, всматриваясь в море.
— Господи Иисусе! Воды-то сколько! Одно мучение от ентого плавания. И пошто царь так далеко ушел?
— Видать, государь уплыл в Ревель, для соединения с тамошней эскадрой, — догадывался Антон. — Галеры-то теперь охранять не надобно — вот они, шхеры. Швед в такие норы не полезет. К тому ж по всему берегу наши посты.
— А все же боязно и сумнительно без главных кораблев, без государя… И в коленях заломило — стреляет, словно черт лучину колет. Продуло, видать, — Никола тяжко посапывал, говорил басовитым стоном.
— Ничаво, — тянул Антон, бухая приятеля кулаком по спине. — С нами генерал-адмирал. Который всыпал тебе за собачий язык. Боле не гавкай на ветер.
— Сам, как цепной кобель — всякого обрешешь!
С флагманской галеры просигналили — Апраксин вызывал к себе Змаевича, Розенкранца и лоцмана-финна.
На баркасе, зарываясь в белопенные гривы, быстро нагнали флагман. По веревочной лестнице все трое вскарабкались на борт, гуськом прошли в каюту генерал-адмирала.
— Как бы нам, господа, безвестно не въехать в рот неприятелю? — Апраксин встретил вызванных сидя, заводил белым пальцем по карте. — Где тут можно блудить или наскочить на камни? Разве здесь, с вестовой стороны — меж островов Мустома, Курсала, Вадегольм… Остальные помельче — и на карте не указаны… А многие и вовсе под водою.
— Трудновато придется, — согласился Змаевич. — Но рулевые наши — хоть куда. Надо будет — и на глазок пройдут без огреха.
Апраксин заскрипел голосом, гонял комки желваков по скулам.
— На глазок уж со времени Олеговых ратей не ходим. Пора, где можно, прибегать к картам и лоциям…
Змаевич покраснел.
— Как его звать? — снизу вверх кивнул Апраксин датчанину, внимательно разглядывая финна.
Человек, от которого многое зависело, был долговязым и светловолосым. Лицо красное, лоб безбров, морщинист, водянистые глаза расставлены широко.
— Фритиоф Суоконен, — ответил Розенкранц.
— Скажи господину Суоконену, что ежели без крушений проведет флот шхерами, сразу и все деньги по уговору ему дам, и домой отпущу.
Розенкранц перевел натужно, словно поднимал тяжесть — дробящимся голосом:
— Адмирал сказал: если в шхерах случится что-либо самое малое… если поломается даже весло — тебя повесят на рее.
Финн покорно склонил угрюмое лицо — обмякшее, ставшее свекольно-бурым. Маленькие глазки пыхнули недобрым огнем. На лбу разбежались морщины — от страха или удивления. Лоцман с трудом разодрал обветренные губы.
— Постараюсь, никакой беды не случится… ни одно весло не сломается. Можно использовать лот, но я и так хорошо знаю фарватер.
— Он ни в чем не уверен, — перевел Розенкранц. — Нужно, говорит, одной скампавее идти вперед и лотом измерять глубину — разведывать фарватер…
— Ну что ж, — помедлил Апраксин, напряженно перехватывая взгляд переводчика, — в этом, чай, есть некий резон, хоть и невеликий. Как мыслишь, Матвей Христофорович?
Змаевич с затаенным сомнением посмотрел на Розенкранца, ответил глухо.
— Эскадра сильно замедлит ход, если фарватер проверять лотом…
— Ничего, — генерал-адмирал задумчиво побарабанил продолговатыми ногтями. — Иногда не грех спешить и медленно. Видимо, тот случай сейчас. Соберись-ка с этим лоцманом на малой скампавее и выйди вперед. Особо погляди в шхерах за Гельсингфорсом: опасно там — берега изрезаны, камни, отмели. А вы, герр Розенкранц, внушите финну сему, что мы к нему всем сердцем благоволим… пугается он зря.
Выйдя с лоцманом из каюты, Розенкранц облегченно перевел дух. Притворно печалясь, долго морщил лицо улыбкой. Оглянувшись по сторонам, засопел финну в самое ухо.
— Не дай бог! И впрямь повесят… Русские, — давился горячим шепотом, — идут сейчас, видимо, к Аландским островам. Им не миновать мыса Ганге-удд, где Апраксина наверняка ждет шведская эскадра. Фритиоф будет большим дураком, если не сбежит у мыса от русской веревки к королевскому адмиралу Ватрангу…
— Эй, Розенкранц, что за беседу ведешь с лоцманом? — пробасил рядом Змаевич. Покинув каюту Апраксина, он внимательно наблюдал за датчанином.
— Он очень малопонятлив, — дернулся Розенкранц. — Пришлось снова растолковывать. Герр командор, будьте с ним осторожны, финны — такой народ…
Змаевич почувствовал что-то неладное, раздраженно заторопил.
— Скажи этому жердястому — мы сейчас же идем на промер фарватера.
Розенкранц перевел точно, незаметно подмигнул Фритиофу и добавил:
— Вот тебе и случай — не зевай!
У финна впалые щеки густо набухли краской.
Усиливался ветер. Лица гребцов покрывала серая пелена усталости. Галеры, полугалеры, скампавеи и бригантины неиссякаемой вереницей скользили по узким протокам. Позади, теснясь среди множества скалистых островков, шли транспортные суда, малые бригантины, боты и ладьи, а на буксирах — баркасы и прамы — с грузом провианта и боевыми припасами, взятыми для армии, уже действующей в Финляндии.
Солнце пекло нещадно. От палуб несло густым запахом смол, крутым квасным духом. На изгибах фиордов и проток бились седые гривы пены.
— Эдак еще можно плавать, — хмурился и веселел Никола, беззаботно поглядывая на кипенный след за галерой.
— Еще бы! — по-старому с издевкой скалился Антон. Сидел босой, подставив ветру черные подошвы ног. — С моря шведу никак не достать — и на берегу свои. — Помолчав, задумчиво добавил: — Похоже, Гельсингфорс уже позади. Значит, скоро будет Порккалауд. Немного морем проскочим, и за Березундом опять пойдут шхеры — снова будешь, Никола Иваныч, как у Христа за пазухой. А там, глядишь, — и к Гангуту станет рукой подать — до носа Финского залива…
Никола запустил мозолистую руку в густую, как войлок, бороду. Недвижно глазел на вздыбленные ветром прозрачные облака, на сине-перламутровые воды у берегов.
За бухтами веревок и штабелем абордажных топоров стоял Розенкранц, прислушиваясь, огляделся, тихо сполз в трюм. Долго что-то искал в укромном месте, нашел. С тихим озлоблением зубами и потными пальцами развязал шнурок на небольшом мешочке, насыпал на ладонь кучку сероватого порошка. Криво ухмыляясь, подошел к бочке, приподнял крышку и сыпанул порошок в солонину…
10
Апраксин с задержками получал вести от царя из Ревеля. Петр писал о прибытии двух фрегатов с Архангельской верфи, о подходе из Англии еще одного «приемыша» — семидесятипушечного корабля «Веферм», о болезнях среди матросов из-за не свежей, а может, и отравленной солонины, о том, что он неусыпно смотрит за неприятелем, наряжая в дозоры малые суда. Последнее письмо было тревожным — о слухах, будто бы английские военные корабли под видом торговых идут в Балтийское море и уже миновали пролив Зунда. Петр в подлинности сообщения уверен не был, так и отписывался — «нахожусь в сумнении!..».
«Могут быть и подметные слухи, — подумав, заключил Апраксин. — Но травленая солонина… и на галере Змаевича матросы стали мучиться странными болестями живота. С начала похода провиант не менялся, все были здоровы, а теперь болеют… И еще на трех судах то же самое. Десять человек умерло. Баталия еще не началась, а уже потери…»
К вечеру отписал царю, что идет «со господом, поелику возможно», проверяя фарватер; узкий пролив Березунда уже остался позади, скоро Гангут…
Мимо проплывали островки с меловыми отмелями и галечными обрывами. В дымке жаркого дня тонули далекие зубчатые берега. Там стояли мачтовые боры на низких дюнах, а за ними начиналось буреломное чернолесье — вотчина сов, кукушек и всякого зверья.
Вдали, за разрывами дымки, показался полуостров, лесистой хребтиной похожий на огромное чудовище, припавшее мордой к воде.
Антон вскинул руку.
— Это и есть опасный Гангут! — ткнул он пальцем в голубоватую марь. — Пошлет бог — обойдем и его, укроемся в Абоские шхеры. Тогда считай, что мы уже в Ботническом заливе…
«А дальше куда?» — думал Розенкранц, всегда настороженно ловивший разговоры матросов. Посиживая на носу галеры, у самой пушки, он перебирал в уме возможные планы Петра.
Вернувшись после многодневной разведки шхерных фарватеров, Змаевич взволнованно доложил Апраксину, что, следуя впереди флота, он благополучно подошел на малой скампавее к самому Гангуту и оттуда увидел в открытом море шведские корабли… Насчитал более двадцати вымпелов…
Той же ночью финн куда-то исчез. Змаевич поискал его на всякий случай в трюме — вдруг заболел? — и тяжко задумался. Но разбираться было некогда.
К утру шведская эскадра приблизилась, и генерал-адмирал без труда различил неприятеля в подзорную трубу. Длинная цепь кораблей грозно перерезала путь…
Змаевич срочно был отослан в Ревель с донесением — Апраксин просил Петра подойти к Гангуту с корабельной эскадрой.
11
В просторной кают-компании фрегата «Полтава» густо чадил светильник, подвешенный к закопченному потолку. Словно масляное пятно на бумаге расплывался в табачных пластах дыма бледный язычок пламени. Терпко пахло густым настоем красок, смолы.
На просторном столе в беспорядке лежали готовальни, военные карты, лоции. Отдельной грудой высились непрочитанные жалобы, грамоты, челобитные и подметные письма.
Ягужинский, ругаясь, докладывал разбойные дела. Одновременно теребил огромный ворох бумаг — искал для прочтения самое спешное. Петр сидел молчаливый, небритый, с тревожным сердцем. В каюте ждал с докладом прибывший с Гангута Змаевич.
Продолжая слушать генерал-адъютанта, Петр подвинул к себе груду писем. Начал спешно просматривать жалобы, перескакивая красноватыми глазами со строки на строку. Совал гусиное перо в каменную чернильницу и наискось писал резолюции или недовольно откладывал челобитную.
Наконец, Ягужинский выловил нужную бумагу и, далеко относя разглаженный свиток от глаз, зачитал крамольный донос:
«Промышленным людям, и всем посадским, и купцам, и гостям, и гостиные сотни в Санкт-Петербурге от разбоя неведомых воров в торгах их и во всяких промыслах чинятся убытки и разорение. По розыску многие люди взяты со дворов, да не виновники…»
Петр бросил писать, отшвырнул гусиное перо. Лицо побледнело до синевы. Растопыренными пальцами вцепился в рытый бархат, рванул к себе скатерть.
— И там плетут паутину! Как только я уехал — сразу за кистени взялись! — и уже жалующимся голосом: — Царевича с толку сбивают… Солонина на кораблях отравлена… Тайная канцелярия с ног сбилась, но розыску пока конец не виден…
Ягужинский поддакнул:
— Истинно разбойничают, ваше величество! — со скрипом почесал бровь, выждал, чуть бледнея, — читать далее? К тому же есть еще спешные отписки Разбойного приказа, Берг-коллегии, Синода, Адмиралтейства и Земского приказа…
Петр остановил на нем тревожно-тяжелые глаза. Кисло покривился в безмерной устали — такой вдруг тошнотой его окатило от всей этой горы известной волокиты. Повел рукой.
В каюту врывался нарастающий свист ветра. Первые порывы шторма уже вздымали пенные клокочущие валы. Волны накатывались на борт фрегата, гулко разбивались и захлестывали палубу шипящими потоками.
С мрачным лицом, утюжа тылом ладони непокорные усы, Петр выслушал Змаевича. Быстро записал что-то в дневнике, швырнул гусиное перо. Спросил жестко, напирая на слова:
— Так, значит, голым морем неприятеля миновать никак нельзя?… Боярские отговорки! — и другим голосом: — А много ли там шведов?
— Да почитай, государь, весь флот их стоит поперек пути. Как раз при Гангуте, у самого мыса… Как бы не пришлось зимовать в Тверминском бае…
Каюта сильно пошла из-под ног. Затем страшный вал налетел на борт — с пушечным гулом разбилась волна. Фрегат задрожал.
— Зимовать?! — Петр потемнел, жилистые кулаки тяжело давили лоции. Долго молчал.
— Ежели не помочь корабельным флотом. — робко продолжил командор.
— Каким флотом? — оборвал царь. — У меня боевых — всего два фрегата! А протчие — покупная дрянь! Ходоки никудышные. Пушек нет, команды не обучены. Годны только издали показаться — для числа вымпелов. Но и это лишь малая малость противу других досад…
Палуба ходила ходуном, Петр прошагал ровно, тяжело вынося левый ботфорт, — хрястнул дверью.
— Дозорный! — ветер сносил и рвал голос царя. — Сколько насчитал?
— Еще три корабля! — рассыпался ответ с верха мачты.
— Зорче глядеть! — Петр перекричал шторм.
— Есть глядеть… о-рче!
Петр вернулся — весь в зернистых брызгах. Ботфорты мокрые, в следах пены. В кольцах волос — бусинки воды.
— Друзья объявились, — сплюнул. — Англичане…
— На подмогу пришли? — робко понадеялся Змаевич.
— От той подмоги пришлось отойти в гавань — под заслон крепостных батарей…
— Союзники ведь. Может, все же купцы? — Командор улыбнулся недоуменно, даже сконфуженно.
Петр не ответил. Помолчав, приказал Ягужинскому выйти в море на фрегате и проведать, с каким намерением пожаловали союзники. Генерал-адъютант прошелестел по ковру — полубегом бросился из каюты. Змаевич продолжал вопросительно смотреть. Царь заговорил:
— Кто их знает? Честь у них, что одежда, — легко скидается. А купец ихний — солдата похлеще при оказии. Ненадежны они в дружбе и весьма завистливы.
Вдоль переборки каюты послышались скребущие, будто крадущиеся шаги. Петр, ухмыляясь, потянулся к светильнику, хотел потушить. Но в дверь уже вежливо стучали. Царь проскрипел Змаевичу шепотом:
— Опять этот надоеда Рой Дженкинс! По пути в Лондон занесли его черти в Ревель — и вот набивает оскому визитами. Скользок, каналья!
Получив дозволение, дипломат долго скрипел дверью и не мог войти — каюту сильно качало. Петр, морщась, поднялся встретить, но Дженкинс уже входил на нетвердых ногах. Жалко улыбаясь, держался рукой за плывущий косяк.
— Я зашел проститься, — вкрадчиво начал посланник, быстренько прилипая к указанному креслу. — Хочу также спросить ваше величество, не угодно ли передать что-либо моему королю?
— Моему любезному другу? Передам! Пошто шлет сюда боевые корабли под видом торговых?
— Видите ли, ваше величество… Цель их прибытия, думаю, не расходится с политикой Великобритании, принципы коей неизменны, как течение времени… Но я догадываюсь, — дипломат витийствовал свистящим простуженным горлом, — дело в том… Не кажется ли вам, ваше величество, — превращение Швеции в миролюбивое государство тянется уж очень долго? И не оттого ли, что Россия слишком много желает получить от Карла XII?
Петр уставился тяжелым остановившимся взглядом, словно окатил ледяной водой. Дженкинс невольно опустил глаза.
— Ваше величество! — опередил дипломат вскинувшегося царя. — Не все в моей власти! — Сожаление разыграл отменно, покачал головой.
Петр понимающе-разочарованно кивнул. Скрывая желчную улыбку, поправил тяжелые кольца густых волос. Некоторое время не слушал воркотню Дженкинса.
— …есть прожект об учреждении посреднического суда, коим можно замирить вас со Швецией… Вы хотите вернуть провинции, шведы их не отдают. Так войне не будет конца. Суд же вынес бы медиацию: условия мира, полезные для всех государств-интересантов, торгующих на северных морях…
— Игра втемную! Все будет тогда по мало скрытой воле Англии — какая тут медиация? А как же наш досельный навечный договор, коли за суд взялись? — Скулы царя, туго обтянутые смуглой кожей, зарозовели.
— Ваше величество! — на лице дипломата застыла полоска горячей улыбки. — Я вам скажу простую, как хлеб, правду… Великобритания еще не связывала себя навечно ни с кем и ни с чем… Это — откровение, за подобное головы скатываются с плах… К тому же у нас нет точных обязательств по трактату о Северном союзе…
Петр встал — заслонил светильник. Резко обозначился чеканный профиль лица. В возмущенном голосе пробился гортанный клекот.
— Точных, верно, не было! От оных вы ужом ускользнули!
Набатно раскатилась волна, сотрясая фрегат, — затрещали снасти. Слышно было, как с палубы по бортам с плещущим гулом потекла вода. Светильник качнулся — резкий профиль лица Петра расплылся, заходил черной тенью по степе. Царь продолжил:
— Вот что! Было время, когда я предлагал шведскому сенату умеренные претензии. Тогда я хотел возвращения только Ингрии, Эстляндии и Выборга. Но вольнолюбивые шведы, не знаю, но чьему совету, — Петр сделал многозначительную паузу, — на то не согласились. Теперь же, пусть хоть вся Европа запоет вслед за вами — я от своих требований ни на шаг но отступлюсь!
— Ах, ваше величество! — искушенный в лицемерии дипломат не справился с волнением. — Вы изнуряете нас своей гордой твердостью. И разрешите заметить — у вас очень мнительный нрав.
Петр махнул рукой и открыл походный винный погребец.
— Ладно уж! Расстанемся по-нашему. Дабы вас сырым ветром еще больше не продуло.
— Избавьте, ваше величество!
— Нет, нет! Непременно! А то вам пути не будет… да и меня обидите. — Плеснул в чарки водки, с шутливой грозностью поднес. — Лечебный дигет — от простуды!
Дженкинс мучительно выпил, закашлялся. Уходить не спешил. Оказалось, ждал не зря. Появился Ягужинский, весь мокрый, с пакетом в руках. Генерал-адъютант вопросительно молчал — было слышно, как с его одежд канала вода.
— Читай! — Из-под вздыбленных бровей Петр метнул сокрушающий взгляд. — Не мне — я с адмиралом Норрисом не переписчик. Ему читай! — он ткнул локтем в сторону Дженкинса, — дабы уразумел, зачем здесь появился британский флот.
Ягужинский засветился внутренним смехом. Скользнул по горько-кислой физиономии англичанина и с треском разорвал пакет — без почтения, небрежно.
— Так… вначале неподобающее государю приветствие… Вот дело… «Я имел честь принять вашего царского величества министра сэра Ягужинского и был уведомлен, что вы не желаете ссоры между вашим величеством и моим августейшим королем.
Позвольте заверить — я прибыл с эскадрой в Балтийское море исключительно для протекции английского купечества от шведского пиратства и защиты нашей древней дружбы. Искренне ваш — адмирал Ян Норрис».
— Ну как, ваше величество? — Дженкинс ласково заморгал, — Надеюсь, теперь не осталось сомнений? Адмирал Норрис, как видите, — рыцарь!
— Оставляю сие писание безответным, поскольку оно не от самого короля, — под черными бровями Петра медленно стыл блеск зрачков. — Счастливого плавания, мистер Дженкинс.
Прощание было подчеркнуто сухим и холодным — царь не ответил на поклон, не послал Ягужинского проводить. Дипломат с трудом одолел путь до дверей: ноги неуверенно танцевали на плывущем полу. Генерал-адъютант откровенно насмехался. Петр подошел к квадратному люку — долго вслушивался в гул ветра и воды.
— Шторм не утихает, — осторожно заметил Ягужинский.
— Зови, Павлуша, командора Змаевича, — думал о чем-то своем Петр, раскуривая трубку. — И лисий хвост, и волчьи зубы видны! Что за глупая дипломатия?… И невыгодно, и срам!
Неслышной тенью появился Змаевич.
— Так, значит, галеры в опасности? — спросил Петр. И добавил резко, язвительно: — Ахтительные авантажи! Благодарствую Апраксина за вести!
У Петра сильно разболелась голова — ломило затылок, тупая боль сжимала виски и лоб. Перед глазами качалась красная паутина.
— Понеже мне отсюда ничего не видно, я на Гангут прибуду самолично. Отплываем на бригантине «Принцесса» сегодня же, сейчас, пока темно.
— Ваше величество! — вскричал Ягужинский, молитвенно поднимая руки. — Вы рискуете жизнью! В такую погоду!..
Петр помолчал, только глянул как-то необычно. Сказал строго и собранно, но тихо, разбитым голосом:
— Писем на мое имя не принимай. Впрочем, смотри и решай все своим умом. Где я — строгий секрет… — И уже весь в неведомой радости глянул на Змаевича: — Поплыли!
Ягужинский скачками бросился на палубу. Сквозь разбойничий свист ветра донеслись его команды.
Шторм порывисто стонал в снастях. Закипающая вода ревела и металась по палубе пенными языками. Раскачиваясь, трещали и скрипели мачты. Гулко хлопало полотнище сорванного паруса. Высоко на спины разъяренных волн вползала и отвесно падала резная корма, мерно погромыхивала якорная цепь. Близкого берега не было видно — все утонуло в мутной бурлящей темноте.
12
Сколько раз возносилось солнце и западало в зеленый убор лесов Богемии — не считал.
Жалкий трус с ликующим сердцем, зарывшись в полутьму летящей кареты, Алексей не по-царски суетливо обнимал Ефросинью. Все было позади: исходящая пушечным гулом Россия, бешеная постройка кораблей, его пустоцветная жизнь при дворе.
За окном в тусклом тлеющем свете плыло серебряное от рос утро, широким шагом пробегали золотистые сосновые стволы, стекленела лазурь. Рядом грешно и нежно смотрела голубыми глазами дева, лепетала, просветленная и счастливая:
— Все в народе говорят: как де будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович, тогда де государь наш царь Петр убирайся и прочие с ним голощекие вон! Он, царевич, душой о старине горит — богоискательный он человек!..
Держателям вирцгаузов Алексей выдавал себя то за польского полковника Кременецкого, то за купца русской армии, то за тайного советника Посольского приказа. Но ему казалось, что лакеи, фурманы, ландкучера, почтмейстеры — все знают, что он русский царевич и бежит от отца в Вену.
Та сила страха, которая ранее цепко удерживала возле отца, теперь гнала от него. И он, так давно бежавший в душе, теперь бежал во сне от вскормившей его земли. Бежал безудержно — позади мерещилась погоня. Грохот колес казался приглушенным разноголосьем мушкетных выстрелов. На экстрапочтах щедро сыпал отцовскими деньгами, наспех ел, и лучшие кони уносили его во весь опор все дальше и дальше — и днем и ночью…
Фурман, седой и взъерошенный, страшный в своей нелюдской худобе, просунулся в окошечко и что-то крикнул. Царевич понял, когда, взглянув вперед, увидел развилку дорог.
— Вена! Вена! На Вену!
Карета рванула влево, вздымая пыль.
Лишь Ефросинья мягчила сердце, не давала копиться дорожным обидам — сгорел бы без нее от напрасной злобы. И он снова припадал к алым губам и упругой груди, успевая неистово ласкать ее, словно был четверорукий.
Щетинистыми хребтинами сутулились не по-русски жидкие леса. По синему пологу неба, напоминавшему ветристую лазурь над Невой, в кружевном дымосвете плыли австрийские облака. Темнота близких оврагов таила молчаливую угрозу — снова стало не по себе, горячим удушьем залило грудь.
Алексей громко забормотал:
— Я достану российскую корону!.. Достану через иноземную помощь…
Фурман сильно потянул вожжи волосатой ручищей. Кони резко повернули в сторону — и карета с грохотом опрокинулась в глубокую канаву. Со звоном посыпались стекла, от летело и покатилось колесо. С храпом и ржанием вздыбились лошади…
Царевич вскочил, заходил по спальне — бледный, потерянный — как лунатик.
13
Всю ночь бригантина «Принцесса» пересекала Финский залив. Форштевень часто зарывался в гребни валов. За борт посносило лодки, бухты канатов, смыло трех матросов. Под утро, разбивая в ощепья поручни, рухнула грот-мачта. Под вольным разгулом ветра пушечным гулом хлопали паруса. Возле берегов Финляндии бригантину понесло к отмели, где белой гривой неистово колотился прибой.
Петр, в ночной рубашке, босой, с красными от сна глазами, выскочил на палубу, свирепо закричал растерявшемуся капитану:
— Бом-кливера ставить! Фор-стеньга-стакселя ставить! Три селя!
Матросы справились быстро. Бригантина задрожала, накренилась, залопотала парусами. Петр, насупясь, глядел суженными глазами, молчал.
«Принцесса» медленно стала отваливать от берега, где в громовых раскатах каталась крупная галька.
На второй день к вечеру море погрузилось в лиловые сумерки. По небу медленно рассыпался свет молодых звезд.
Лишь поздней ночью Петр высадился в бухте Тверминне, где стоял русский галерный флот.
В адмиральском шатре, раскинутом под навесом скалы, Петр и Змаевич выжали свои одежды прямо на хивинский ковер. Апраксин, от спешки нелепо одетый — в исподнем, но в парике, развел руками, запричитал:
— Воистину чудо, что не потонули! Нептун спас! Ах ты господи! Примите по чарке водки — простуду вышибет.
Генерал-адмирал из темного угла достал розовый графинчик, отлил против свечи, степенно поднес два серебряных стаканчика, огурчики, маковый крендель.
— Понимаешь, Матвеич, к Тверминскому баю на бригантине никак нельзя было подойти, — будничным голосом говорил Петр. — Да и лодка текла… Хорошо еще, нас ударило о песок, а то плавать бы нам сейчас стерлядками.
— Лихо было! — покивал головой Змаевич, вздрагивая от холода. — Но добрались, черт возьми! Может, и Нептун помог, да наш государь тоже не плошал.
Петр уже угрюмо стоял перед зеркалом и большим гребнем расчесывал непокорные волосы. Небрежно бросил сушиться мундир возле раскаленной печки, за мундиром полетела и треуголка. Остался в короткой куртке из лосиной кожи и башмаках на босу ногу, которые подвернулись ему на глаза в адмиральском шатре. Поднятой рукой остановил Апраксина, кашлянул трескуче и сердито.
— Зови генералов, Матвеич, не мешкай. И так в отписках дело проволочил.
— Государь! — Генерал-адмирал широко развел руки, веки его заметно дрожали. — Подсушиться бы сперва, ей-ей простуду схватить легко.
— Военный совет со мной будет, а не с моим видом!
Апраксин выглянул из шатра, помахал рукой. Голицын и Вейде, стоявшие в ожидании, тотчас вошли…
Петр встретил их молча. Лицо непроницаемо — не поймешь: не то сердит, не то притворно весел.
Полуодетый царь смутил — таким еще не видали, — не знали, куда девать глаза.
— Ну как вам живется, господа генералы? — справился царь, выпучивая взгляд.
— На беды не жалуемся, ваше величество, — учтиво улыбнулся Голицын — князь, вельможа по роду и обхождению. — Неприятеля стережем да и конфузию ему исподволь готовим. Погода военным делам сподручная. Теплынь, благодать. Как под Москвой-матушкой в конце лета.
— Швед поставил капкан, но и сам стреножен позицией, — подхватил долговязый Вейде.
— Значит, Ватранг сам себя стреножил? — недоверчиво и затаенно-зло покосился Петр, снимая куртку: в шатре становилось жарко. — Уж больно добычливо выходит! А мне сдается — русский флот остановлен шведами без единого пушечного выстрела! Скоро вся Европа будет смеяться!
— Никак нет, ваше величество! — глуповато выпалил Вейде, конфузясь от недовольства Петра. — Все не так!
— Тогда похвально весьма, — Петр не смотрел — до времени прятал гнев: сердиться было некогда… Вейде смущенно передернул плечами, забегал глазами с Апраксина на Змаевича и опять на Петра — пугался и недоумевал.
Попыхивая трубкой, Петр растопыренной ладонью указал на стулья вокруг походного стола. Входившие усаживались молча. Вейде, успокаиваясь, коротко коснулся висков. Петр не торопясь, в который раз высекал кресалом искру. Молчал, подрагивая ногой, еле заметно улыбался своим мыслям. Раскуривал отсыревшую трубку необычно долго. Ждал, не глядя, пока садились генералы, бригадиры и командоры. Яков Бакаев юркнул к Змаевичу и незаметно пожал его руку: наконец-то опять встретились!
Петр медленно поднялся, обвел всех свечой, словно каждого видел впервые. Из трубки дымом пушечного выстрела поползло густое облако.
— Ну-с, любезные генералы, бригадиры и капитаны! Извольте советы давать — как без конфуза уйти от столь стыдного стояния? А тебе, Змаевич, — повернулся грозно и зло, — велю всякое мнение брать на письмо, дабы потом никто не сказал, что иначе мыслил.
Быстро достав из канцелярского ларчика нефритовую чернильницу, капитан-командор изготовился писать.
— Так как же, любезные мои? — Петр каждому норовил заглянуть в глаза. — Федор Матвеич, для бога, придется тебе молвить первому, — и сразу тверже, жестче, — думать и говорить надлежит с поспешностью, для чего велю ставить песочные часы.
Генерал-адмирал, поправляя наспех накинутый мундир, поднялся необычно легко и медленно заскользил пальцем по разостланной карте. Подняв голову, обмяк лицом, начал глухо, с остановками:
— С генералом Вейде, дабы лишне праздным не быть, я сам ходил на рекогносцировку. Подошли мы на малой скампавее к самому носу Гангута — были от оного примерно в миле. Видели воочию неприятельский флот в пятнадцать линейных кораблей, два бомбардирских судна, один прам и восемь галер. Сколько провиантских судов и чухонских лайб — подлинно не рассмотрели. Посему, весьма желая пройти в Абоские шхеры с галерным флотом, почитаю то превеликою трудностью, ежели консилий не постановит произвести диверсию корабельной эскадрой.
— Не постановит, — сухо отрезал Петр и посмотрел страшно, отчаянно — как из омута.
— Тогда разве что, сверх чаяния, — голос повысил, задышал чаще, — повелишь идти большим морем — в обход неприятельской линии. О том давно думаю. Но и то, ежели штиля не будет, учинить зело опасно, — закончил Апраксин и вытер платком вспотевший лоб.
На лицо Петра легло напряженное, слегка ожидающее выражение. Безмерная усталость, недовольство и надрыв делали его взгляд отталкивающим и тяжелым.
— Я считаю, — молодцевато подхватился Вейде, — и при тихой погоде большим морем идти нельзя, поскольку у шведов тоже есть гребные суда. Нас могут перехватить и в штиль. Не исключена и буксировка фрегатов на пушечный выстрел…
— Стало быть, — с глухой злобой произнес Петр, — нам остается прятаться в Тверминском бае, как глухарям на токовище. — Взглядом посадил Вейде, словно прижал к месту. — Михайло Голицын! При столь великих наговоренных трудностях твой войсковой опыт был бы весьма кстати. Что скажешь, князь?
Голицын подпрыгнул, надвигая на переносицу лохматые брови.
— Вспомни, князь, как мы с тобой, начав с потешных полков, до шляхетских воинских хитростей одной русской смекалкой доходили! Вспомни, как ты славно командовал под Полтавой! — Петр сильно затянулся и пустил через стол длинную струю дыма. — Неужто Гангут — орешек покрепче?
— Не крепче, государь! — отозвался Голицын, краснея от похвалы.
— Неужто, раздобрев, надев звезды и ленты, мы стали менее храбры и не столь искусны в воинской доблести?
— Нет, государь, — князь выдержал испытующий взгляд царя. — И на сей случай смекалка найдется, — пятериком поставил руку на карту. — А не устроить ли нам по берегу Гангутского плеса батареи и транжементы? Орудийным огнем можно отогнать шведов в море и самим прорваться вдоль берега, хотя бы и с частью галер…
Петр сильнее пыхнул трубкой, заметил без оживления, почти недовольно:
— Вот, чай, первый резон, над коим можно мыслить.
Апраксин заволновался. Пламя свечи качнулось — блеснул густой ряд пуговиц адмиральского мундира. Он встал, царапая карту кружевным отворотом рукава.
— Полагаю, это не лучший резон, — генерал-адмирал за смотрелся на струйку песка, опять начавшую течь в перевернутой Змаевичем колбе. — Начальнику арьергарда недостаточно ясны здешние грунты. Строить батареи и транжементы было легко в Азовских степях. А тут камень, скалы — чем их взять? К тому же нет верности, что ядрами отгоним корабли. Да и Ватранг спать не будет, под его пушками много не настроишь.
Голицын натянуто улыбнулся — понимающе и слегка конфузясь.
— Извини, Федор Матвеич, какая была диспозиция на уме, такую и выложил.
Вейде, виновато глянув на царя, вырос во весь свой огромный рост. Просыпая пудру с буклей парика, сказал робея:
— Дозволь, государь, у меня три особливых плана.
— Три? — недоверчиво переспросил Петр. Разрешил благодушно, налегая на стол острыми локтями: — Выкладывай, что за планы? Нам бы и одного по бедности хватило.
Капитан-командор вскинул гусиное перо, приготовился записывать.
— Первый, — подбодренный Вейде загнул мизинец, — ждать, пока у неприятеля кончится пресная вода, — тогда он сам уйдет.
Петр поперхнулся дымом и недовольно хмыкнул, рассыпая по плечам еще влажные волосы.
— Крепко! Крепко ты хватил шведа! А я бы на месте Ватранга отправил три шхербота за водой, хотя бы и в Копенгаген! Ты ведь все равно стал бы ждать.
— Второй, — сильно пунцовея, генерал согнул безымянный палец. — Звать на помощь датчан, хотя бы и за великие деньги.
Петр нервно дернулся головой, устало откинулся на кресле и выпустил в усы ворох дыма. Долго молчал.
— Всуе на то надеяться. Король датский хоть и бедный, но гордый. Сам не ведает, куда ему приклониться. И опять же главное — потеря времени.
— Тогда и третий план негоден. — Вейде недогнул средний палец. — Ждать осенних бурь, тогда Ватранг сам оставит халерный фарватер…
— План гож был бы, да одним не вышел — терпения нет!
Царь рывком выхватил трубку изо рта — в воздухе повисла синеватая дуга. Шагнул к другому концу стола, где Змаевич и Бакаев, тыча пальцами в карту, тихо препирались между собой.
— Извольте, господа, и вы говорить, чтобы все слышали!
Бакаев и Змаевич вскочили, переглянулись.
— Государь! — капитан-командор крепко поставил указа тельный палец на угол карты. — Я тут был при первой разведке фарватера. Здесь, по остовую сторону от Тверминне, возле мыса Лапвик — самое узкое место полуострова — перешеек. Вот я и думаю — можно, чай, устроить помост и легкие галеры переволочь сюда, — пальцем повел на другую сторону Гангута.
— Вот как! — Петр оживился, простудная поволока сошла с глаз. — Так, так… Шведы нас ждут вокруг мыса — иначе как же? А мы задумали и вовсе их миновать…
— Даже видимость того, что мы начали строить переволоку, может привести неприятеля в конфузию! — браво добавил Бакаев, весело поглядывая то на царя, то на Змаевича. — Только я ему толкую — дело-то многотрудное, да и в скрытности работы нелегко держать.
— Ничего, ничего. — Все больше увлекаясь планом, Петр круто повернулся к Апраксину. — А в какой срок можно наладить переволоку?
— Если возьмемся как следует, — генерал-адмирал хмурился, в затею не верил, — то в несколько дней управимся.
— Толковый совет! Надо обдумать! — засмеялся. — Изрядный был бы шведам афронт.
Петр вопросительно уставился на Апраксина. Тот сидел, мрачно насупясь. Старик понимал негодность плана и его конечный неуспех. Но царь за него ухватился — посему надо было избежать хотя бы больших нелепостей.
Петр уже не ждал.
— А что, генерал-адмирал, — лукаво подмигнул, повеселел. — Птенцы-то стариков смекалкой обскакивают? Вот где, чай, первый резон! — И улыбнулся довольный.
— Если то согласно постановит военный совет…
— Постановит, — нетерпеливо перебил Петр, добродушно поглядывая на Апраксина.
— Тогда первоначально так, — слегка споткнулся генерал адмирал, как бы борясь с собой, — командору Змаевичу и бригадиру Бакаеву, не мешкая, отбыть к мысу Лапвик. Высмотреть место, пригодное для устроения переволоки. С господом! — распустил он совет.
Младшие командиры разошлись, обсуждая дерзкий план. В шатер долго доносились их удаляющиеся голоса. Задержались генералы да Змаевич с Бакаевым — обговорить работы по лесоповалу. Апраксин, начав излагать порядок наведения бревноспуска, остановился на полуслове: к шатру кто-то бежал. Бежал торопко, неровно переводя дух. У полога загремела галька. Рука, царапая, искала отстежку. Все удивились: караульные не остановили и даже не окликнули ночного гостя.
Без треуголки, в мокрой одежде с пятнами зелени на коленях, — видимо, падал — в шатер ввалился Ягужинский. Понес несуразное:
— Едва добрался из Ревеля на шняве… Сам с парусами управился… Чуть не утонули… — Голос свистящий, с перебивом тяжелого дыхания.
Апраксин ласково улыбнулся.
— Адъютант под стать государю!
У Петра гулко отозвалось сердце — горячо ударило в голову. Лизнув пересохшие губы, заговорил строго:
— Добро, что не утонул. А с чего тебя подвинуло на такую оказию?
— Государь! — Ягужинский медлил, перекатывая неистовые глаза с генералов на Петра. — По отплытию «Принцессы» сэр Дженкинс целый день шнырял по Ревелю. Кого б ему искать, кроме русского царя? Отчаявшись найти, убыл на остров Наргин, а к вечеру оттуда вашему величеству доставили письма.
Каюсь — принял, не удержался. Одно от британского посланника при шведском дворе, другое от Норриса. Найдя в них оскорбления вашего величества, оба воротил назад без ответу…
Петр заметил, что генерал-адъютант говорит не главное.
Все было не новым, обычным, но в глазах Ягужинского стоял страх — он еле заметно вздрагивал.
Царь повел рукой по лицу, словно снимая какую-то паутину. Руки подрагивали, быстро белел: от лица отливала кровь. Прыгающими губами что-то говорил беззвучно, потом появился голос.
— Павлуша, неужели?…
Все поразились перемене царя — внезапной, страшной. Ягужинский отрешенно кивнул.
— Царевич Алексей кричал во сне… — у него застревали в горле слова, — царевич тщится о российской короне… через иноземную помощь…
Генерал-адъютант в беспамятстве выдавил что-то и далее, но Петр уже не слышал — голос Ягужинского ударил в уши колокольным набатом. Гулко застучало в висках — царь снова становился черно-красным, кровью палились даже глаза. Смотрел немигающе. Перед расширенными зрачками поплыло воспоминание: повешенные стрельцы качаются на красных кремлевских стенах, мерзлые трупы постукивают на ветру… Ярым огнем полыхнул в лицо забытый гнев. Закусив губу, силился сделать какое-то движение, но не мог. Со стоном повалился на стол.
Долгое время стояла тишина. Дрогнув, потянулась рука Петра, что-то искала — нащупала гусиное перо, сломала, так я не найдя нужное. Медленно стал подниматься.
Ягужинский осторожно продолжил:
— Ваше величество! Не в самом только царевиче Алексее Петровиче суть дела, но и в его советниках-шептунах, коих должен указать розыск. Запрятались они, как тараканы, иноземные и свои шептуны, и грызут заодно с подлыми врагами, пакости разные творят. Пора то выводить с корнем…
Царь медленно покивал. Долго сидел неподвижно. Неожиданно спросил спокойным голосом:
— Павлуша, а как там матросы? Не скорбят ли духом иль животами? Травленая солонина выброшена, как я велел?
— Не скорбят, ваше величество! Духом и животами бодрые. Травленая солонина выброшена в море. На кораблях ведется тайный розыск.
Петр уже приходил в себя. Снова долго сидел неподвижно, отдыхал — только мигали глаза. Шумно вздохнул и поднялся… Тихо бросил Апраксину:
— Звать Змаевича и Бакаева — иду переволоку смотреть. — И как был — в лосиной куртке — шагнул за полог.
14
Еле видимый в сизых тенях, попыхивая трубкой, Петр размашисто шагал вдоль пепельно-зеркальной бухты — клонился на ходу, словно шел против сильного ветра. Под ботфортами с треском и скрипом похрустывали ракушки. Змаевич и Бакаев торопко шли следом.
Остановились, глядя на росную, исполосованную следами траву. Редкий туман медленно плыл, цепляясь за верхушки сосен, миновав лес, прозрачным валом припадал к воде.
В жидких строчках ольшаника мелькнул проворный горностай. Петр надул щеки, фыркнул, глядя ему вслед, поставил ногу на плоский валун. Загляделся на пустынный морской залив, покрытый широкими полосами света, — где-то там, за горизонтом, проходила великая морская дорога. Утро входило в полную силу. Быстро отлетал мглистый рассвет, по зеркальной бухте прошла череда красок — сейчас вода была уже малахитовой. Из моря показался красный диск солнца, сплюснутый скорым подъемом. Петр длинными тонкими пальцами тронул сосну.
— Материала для помоста в избыток, — заключил коротко. — Ну что ж, начнем рубить. Переволока не выйдет, так Ватранг страху наберется — может, и глупость какую сотворит. А тогда мы снова хитрость измыслим — так дело и сдвинется… — Петр оживленно посмотрел на офицеров, горделивый, радостный и уставший.
На опушку высыпали матросы, солдаты. Прапорщики, вышагивая, стали разбивать вырубку на полосы.
Вскоре тонким серебряным звоном запели пилы, дробно и густо застучали топоры. В нескольких местах дрогнула земля — со стоном и гулом повалились сосны спелого корабельного бора. В воздухе поплыл терпкий смолистый дух, хмельной запах рубленого дерева.
Никола и Антон, вызванивая длинной пилой, стояли на коленях у толстенной, в два обхвата, сосны. Притомившись, оба встали передохнуть.
Никола, задрав войлочную бороду, оглядывал дерево скупым хозяйским глазом.
— Ну и высотища, едрена корень, — в самое небо уперлась! — Он обошел сосну. — А куды станет падать — и не понять.
Среди лесного зверья и птицы начался переполох. По кронам в разные стороны скакали белки-огневки, тревожно свистели перепархивающие стайки желтогрудых синиц. Красной тенью метнулась в чащу лисица.
Антон проводил взглядом стрекочущих сорок. Разбойно свистнул и несколько раз бросил шишкой в глазастого филина, взлетевшего невысоко на сук.
Никола сладко улыбнулся в бороду.
— Во лешего-то спугнули! Ночью проклятый гудонит — страсть одна!
Солдаты, поснимав кафтаны, махали топорами. Блестели потные спины. От поваленных стволов со звоном летели сучья.
Прикорнув час-полтора в адмиральском шатре, Петр уже размашисто шагал по лесосеке — посвежевший, розовый от сна, с поблескивающим взглядом.
— А кто из вас, ребята, — приблизился царь, — сани умеет мастерить?
— Сани? — вскинулся Никола. — Да у нас вся округа — санники. Ентим и промышляем. А пошто сани средь лета, великий государь? — топор вогнал в свежий пахучий пень. Глядел смирно.
— Галеры на них поставим да и потянем по настилу, — окинул его блестящими глазами Петр — мужика узнал.
Никола усомнился, заскреб сбитыми ногтями в затылке. Помаявшись, сказал:
— Ого! Тяжесть-то каковская, потянем ли без снегу? — И, ловя сердитый блеск Петровых глаз, заробел, поддался царе вой воле. — Потянем! Выдюжим! Эка невидаль!
Петр медленно одобрительно кивнул и, ощутив прилив сил, навалился плечом на подпиленное дерево. Выждал, когда оно с тяжким гулом легло вдоль просеки, кликнул Бакаева.
Тот любовался царем: спит где придется — да, почитай, совсем и не спит. Пьет натощак с матросами, что попало ест — и сноса нет. Двужильный! Крепок, ровно железо!
— Бригадир! Переволоку держать в строгом секрете! Посему всех жителей Тверминне переписать поименно и велеть никуда не отлучаться. Нарядить стражу. Ослушников казнить на месте.
Бакаев побежал искать переводчика.
С другой стороны вырубки острыми лезвиями блеснул огонь — поджигали лес. Ветер вихрями понес вверх искры. Густые дымы, отгоняя висевшие над людьми комариные столбы, потекли к морю.
Петр пытливым взглядом посмотрел на семенивших за Бакаевым Розенкранца и финна, презрительно поморщился: черт возьми! — без паскудных иноземцев не обходится ни одно дело, даже самое пустое! После доноса о замыслах Алексея он перестал верить всем этим юрким прислужникам. Затем, хрустя валежником, пошел следом. Все трое обернулись на шаги и робко остановились.
— Пошто он так немощен и слаб? — еле заметно ухмыльнулся Петр, кивая на финна. — Заморыш, да и только. И одежда — рванье! Лапти не чисто сплетены. Смотреть тошно.
Царь играл глазами — во взгляде не то веселье, не то бешенство. Датчанин презрительно кивнул в сторону финна.
— Лучше не умеют плести, ваше величество, обленились, завшивели. Кнут здесь, видать, только понаслышке знают.
— Бригадир! — Петр смотрел мимо Розенкранца, словно не слыша его ответ. — Повелеть обучить здешних чухонцев плетению добротных русских лаптей!
Царь осмотрелся из-под руки на валку леса, молча зашагал назад, с храпом сминая тонкую поросль. Бакаев проводил его взглядом, скосил глаза на Розенкранца.
— А где здесь лыка надрать на лапти? Спроси финна — липа тут есть?
— Есть, я сам видел, — заторопился датчанин. — Могу лыко устроить с помощью солдат.
— Ладно, займись, — медленно решился Бакаев, — только без бомбардирады — чтоб тихо все было!
Объяснив финну повеление царя, Розенкранц заспешил к солдатам. Сминая голубоватую от росы траву и продираясь сквозь смоляно пахнущие ели, Бакаев и финн пошли к деревне.
Розенкранц лихорадочно заметался от одной страшной мысли к другой. Потел, бледнел, — путь к тому, что внезапно осенило, нащупывал опасливо, как в топком месте. Петр ходит без опаски. Подстеречь, выстрелить из кустов… Под ногами датчанина грузно проседала болотная тропа, выступала бурая вода. Уверенность пропадала… Он задержался у сосны, злобно поглядывая на следы, оставленные царем. Собираясь с новыми думами, отколупывал дрожащими пальцами липкие сосульки смолы. Облегченно вздохнул — решился — и надолго засмотрелся уже в другую сторону, в сторону моря, словно прикидывая путь через болотные кочки, заросшие мхом и багульником. Где-то там, за непролазным древесным подростом, по слитному гулу прибоя угадывался залив…
…Густая вечерняя роса уже клонила травы. Осторожно ступая по лесной прели, Розенкранц вороватыми кругами заходил вокруг матросов, взблескивавших топорами. Зорко вглядывался, что-то прикидывая и выбирая, шевелил сухими губами.
Пожилой солдат, мастеривший здоровенные сани, показался чем-то недовольным и злым — двигал густыми с проседью бровями, глухо ругался. Мушкет солдата был прислонен у толстого дерева, шагах в десяти от саней…
Розенкранц, обойдя подвижное кружевное пятно света, стал пробираться к дереву, надеясь незаметно достать мушкет из-за ствола. Когда он был уже почти у цели, под ногой треснула сухая ветка. Солдат повернулся, и Розенкранцу ничего не оставалось, как выйти из-за дерева.
— Что, брат, тяжело? — спросил участливо.
Никола, отдуваясь, выпрямился, метнул острый взгляд из-под бровей.
— Тяжко! — толчками перевел он дух. — На последних силах…
— Вижу, надрываешься! — датчанин затаил под опущенными веками волчий блеск.
— Не я один, сударь. Вся как есть Расея вконец умучилась войной.
Иноземец махнул рукой — по лицу зыбью протекла растерянность. — Ладно, пойду я лыко драть.
— Лыко! Какое такое лыко? — солдат криво улыбнулся. — А на что оно надобно тебе?
— Велено обучить здешних чухонцев лапти плести.
— Лапти? — совсем удивился Никола, потирая натруженные руки. — Да что ты, аль рехнулся? Сам высох и ум у тебя тож. До того ли теперь? Лезет тебе в голову — неудобь сказать…
— Царь так велел, — тяжело расклеил губы датчанин, — видать, сани твои не к спеху, раз такое дело велено.
— Ой ли не к спеху? — Никола стал оглядываться, словно собрался кого-то позвать.
Напряженно следя за солдатом, датчанин юркнул под спасительные лапы елей.
— Вот выползень змеиный! — выругался Никола. По понизовью разливалась прохлада. Повеяло вечерним настоем смол, терпкой гарью выгоревших просек, запахами обожженной земли. На небо наползла темень.
Розенкранц, рывками хватая воздух, остановился. Оглянулся взбешенный и пошел назад, по своим же следам на примятой траве. Ступал след в след. Вот и толстое дерево. Мушкет был на прежнем месте. Подкрался, качаясь тенью.
Солдат отдыхал — шумно переводил дух, засунув руку под густую бороду. Глянул в небо, взялся за топор и с кряком стал отесывать бревно. Вытянув руку, Розенкранц схватил запотевший мушкетный ствол и бледным привидением пропал в густеющих сумерках.
Дав большой круг по лесу, Розенкранц успокоился и стал пробираться к лесосеке. Выбрал нехоженое буреломное место, залег, изготовил мушкет. Просека была видна как на ладони. Под злым прищуром датчанина сновали матросы, солдаты — носили бревна, тянули к морю огромные сани. Матерно покрикивали прапорщики. Простоволосый полковник распекал за что-то небольшой замерший строй. Совсем рядом, звякая саблей и придерживая треух рукой, пробежал капитан.
Густея, растекалась темнота. Датчанин вглядывался в расторопную суету на лесоповале, со злобой ощущая, что глаза все чаще увлажняются слезой. Неистово тер глазницы кулаками, снова напряженно всматривался. Но рассудок уже подсовывал резонные сомнения: работы налажены, все идет своим чередом, и царь, видно, сегодня на лесосеку не придет, темно уже…
«А если подобраться к шатру Апраксина? Нет… не удастся. Кругом охрана, караулы, до утра будут тлеть костры…»
Розенкранц поднялся, охваченный ненавистью, в тисках дурных предчувствий. Злобно воткнул мушкет стволом в землю. Быстро заскользил от опасного места в сторону темной прозелени парного болота.
С трудом миновал болото. В кровь порезал руки осокой, намок по пояс и перепачкался липкой грязью. Впереди, отбрасывая густые тени, заредел лес, налитый шорохами, духом близкого моря и тревогой.
Под ногами заскрипел перемолотый волнами ракушечник, загремела обкатанная морем мелкая галька. Добежал к большой гранитной глыбе, постоял, прислушиваясь, и сполз спиною по камню к земле. Песок вокруг гранитного обломка был пересыпан блестящими чешуйками. Вышелушивали их из камня цепкие корни мхов, выбивали крепкие удары солнца и мороза. И уже волны и ветры разносили окрест искрящееся слюдяное богатство.
…И зыбко закачалась перед глазами Розенкранца приманка, о которой горячим шепотом заливал уши английский посланник. Она виднелась такой же искрометной, но только звонкой и тяжелой, мягкой на зуб и даже сладкой на привкус. И уже не слюдяные блестки взвихривались ослепительными прядями из-под обода закатного солнца — перед смеженными ресницами плясали золотые луидоры, рубли, кроны, франки… От близости этого червонного огня датчанину стало жарко. Он уже не чувствовал холода, источаемого ослизлым камнем…
Когда над морем тускло вызвездило, Розенкранц осторожно стал пробираться по песчаным наволокам к западной оконечности мыса, откуда за качавшимся туманом были видны россыпи света шведских кораблей.
Теплая ночь обещала погоду. Под неярким светом месяца бархатно заблестела на земле темнота. В этой темноте и пропал беглец.
Русских постов поблизости не оказалось. Послушав текучий шум воды, датчанин окунулся по пояс. Плыл долго и тихо, без всплесков, потом различил впереди силуэт сторожевой шлюпки, растянутый неясным лунным светом. Глухой простуженный голос окликнул по-шведски из вязкой темноты:
— Кто плывет?
— Свои! — захлебываясь, отозвался Розенкранц, хватаясь за борт рубчатыми и пухлыми, как у утопленника, пальцами.
Поджидавшие в лодке матросы проворно вытащили его из воды. Лица шведов были суровы и недоверчивы — готовые на все.
— Пароль? — спросил угрюмый длиннолицый матрос, держа руку на рукоятке кинжала.
— Месть принцессы! — пролепетал Розенкранц, стуча от холода зубами.
15
Сэр Рой Дженкинс угрюмо осмотрелся.
Каюта шведского адмирала Ватранга на фрегате «Бремен», пропахшая морем, кнастером и одеколоном, напоминала кабинет редкостей: дорогая мебель, бронза, штофные и гобеленовые обои, итальянские картины.
Ватранг, надменно-гордый, стоял у клавесина — в синем суконном камзоле с блестящими пуговицами, при кружевном галстуке и в ботфортах с твердыми негнущимися раструбами. На бедре — длинная, в дорогих ножнах, шпага, руки заведены за спину. И одежда и поза — точь-в-точь Карл XII на портрете, такие же и глаза — строгие и несколько рассеянные.
Снимая перчатки, Дженкинс холодно улыбнулся.
— Адмирал! Мой приезд для команды фрегата должен оставаться в тайне. Я — частное лицо, скажем, торговец шерстью. Мистер Гаукинс или кто-то в этом роде…
Ватранг снисходительно оглядел англичанина.
— Хорошо, хорошо.
— На корабле есть пастор, господин адмирал? — в глазах британца блеснула хитрость.
— Кажется… Да, есть, недавно прибыл из Стокгольма.
— Я с ним хотел бы повидаться.
Адмирал тихо и властно позвал дежурного офицера. Мягко скрипнула дверь каюты.
— Прислать ко мне пастора! — приказал Ватранг, не поворачиваясь к вошедшему.
Толстый офицер оглядел гостя и, звякнув саблей, вышел.
— Вы, мистер Гаукинс, прибыли ради встречи с пастором? — спросил Ватранг.
— Скажите, господин адмирал, — ответил Дженкинс вопросом на вопрос, — вы внимательно наблюдаете за Петром?
— Еще бы! — у адмирала заметно порозовели щеки: вопрос был бестактным. — Мне известен каждый его шаг.
— Где же сейчас этот незадачливый мореход?
— А разве этого не знает английский король? В Ревеле.
— Вы в этом уверены? — дипломат ладонью прикрыл лицо, чтобы скрыть смеющиеся глаза.
— Из порта не выходил ни один корабль.
— И все-таки его там нет.
— Не может быть! — горласто и трубно вырвалось у Ватранга.
— Странная у вас уверенность, господин адмирал, — избегая испепеляющего взгляда Ватранга, Дженкинс рассеянно за гляделся на итальянские картины.
Ватранг потянулся за табакеркой, жадно втянул ноздрями острую пахучую пыль и едко пошутил:
— Значит, он в другом месте! — чихнул громко, неуважительно — в сторону Дженкинса, в удовольствии блеснул слезой и помял переносицу пальцами. И, теряя самообладание, продолжил, скрытно злобясь. — Это вы, англичане, помогаете ему во всем! Почему продаете Петру свои корабли?
— Продажа — суть дело коммерции, господин адмирал, — с кислой физиономией ответил дипломат. — А политика начинается там, где купленный фрегат идет ко дну… Почему вы до сих пор не перетопили русские корабли?
— Почему?! — швед вскочил и зашелестел по коврам тяжелыми ботфортами. — Потому, что до этого лета у России не было флота! И, во-вторых, до сих пор мы возились с войсками Петра на суше. Вы забыли, мистер Дженкинс… то есть Гаукинс, Нарву!
— И ославились под Полтавой, — бесстрастно ввернул Дженкинс.
Ватранг задохнулся — по щекам пополз бледный разлив.
— Я перетоплю русские галеры! Клянусь священным именем короля! Про Полтаву все забудут!
Дженкинс молодо засмеялся.
— На Руси справедливо говорят — не хвались, идучи на рать! Мысль проста и мудра чрезвычайно, не правда ли?
— На суше — может быть, — с холодной язвительностью отрезал Ватранг. — Но Тацит писал: «Каково начало войны, такова и слава о ней!» — швед явно смаковал ответ. — Положение галерного флота Петра напоминает судьбу зверя, попавшего в яму.
Дверь каюты плавно и широко открылась. В плохо освещенном проеме забелело удлиненное лицо, обрамленное вьющимися волосами. Тускло блеснула широкая пасторская сутана. Сафьяновый носок сапожка медленно и величаво пересек на полу черту света и тени. Пастор величественно приблизился, ослепительно засияла пышная сутана, осветились волосы, разметанные по точеным плечикам. Изумрудные, чуть удлиненные глаза святого отца смотрели отрешенно, поверх голов.
Ватранг встал и деревянно подошел под благословение. Напустив непроницаемый вид, произнес вяло:
— Знакомьтесь, святой отец, — мистер Гаукинс, купец из Манчестера, торгует шерстью.
Дженкинс подхватился и увалисто засеменил навстречу.
— Весьма, весьма приятно, сын мой, — проворковал пастор и, блеснув плотной белизной зубов, протянул для поцелуя узкую холодную ручку.
Англичанин склонился, обволакивая космами парика раззолоченный широкий рукав. Сухими губами коснулся, не целуя, молочной кожи надушенных пальчиков: дрогнувшими ноздрями втянул аромат тончайших французских духов.
Ватранг стоял хмурый — ушел в себя; белые пальцы, перебиравшие по табакерке, мелко подрагивали.
— Дорогой адмирал! — сказал пастор, медленно поворачиваясь к Ватрангу. — Сторожевая лодка выловила в море беглеца с Гангута. Он знает пароль… Видимо, важные вести.
— Я давно их жду. — Ватранг взглядом поблагодарил пастора и тяжело заспешил из каюты.
Неожиданно резво пробежав на цыпочках, Дженкинс плотно прикрыл за адмиралом дверь. Прислушался, так же молодо вернулся и схватил пастора за узкие плечи.
— Мадлен! Вы… вы… у меня нет достойных слов…
Красавица засветилась недоверчивой улыбкой. Она-то прекрасно знала цену искренности своего патрона.
— Ваша школа, дорогой Рой.
— А забавно, черт возьми! — Дженкинс хлопнул себя по бокам. — Мы здесь оба инкогнито.
— Что ж здесь забавного, милорд, — ведь это наши неизменные амплуа?
Проворно сунув пальчики за отворот-рукава сутаны, Мадлен быстро вытащила сложенную бумажку — протянула Дженкинсу.
В каюте зелеными переливами играл утренний свет. Одна за другой срывались и угасали вызревшие за ночь звезды. Отлетающая темнота желтилась редкими огоньками шведских кораблей.
— Я уже в четвертой роли, сэр, — недовольно сказала Мадлен.
— Увы, такова судьба прекрасной Франции… — глаза Дженкинса стали печальными: играл ли, расчувствовался ли всерьез — не понять.
Но в душе он был доволен Мадлен. Вначале через ее посредство удалось сильно натянуть отношения царевича Алексея с отцом. Следующие две роли были довольно серенькими: выполняла в Париже щекотливые поручения английского посланника и путешествовала по Голштинии, собирая сведения об отношениях епископа-регента с Петром. Теперь пронырливая красавица стала протестантским проповедником на кораблях шведской эскадры.
— Ласкаюсь надеждой, — примирительно улыбнулся он, — это поручение будет для вас последним.
— Кто знает? — Красавица села в кресло. От длинных опущенных ресниц на щеки пали резкие полукружья теней.
— Вы стали невнимательны к чужим мнениям, — недовольно заметил Дженкинс.
Мадлен мило и совсем простодушно рассмеялась.
— Послушайте пасторскую речь, с которой я обращусь к русским, как только шведы высадятся на их земле.
Недовольство, досада — все было привычно забрано под маску легкомыслия и веселости.
— О православные! — гортанным смешком залилась Мадлен. — Зачем вам гавани на чужих морях? Не проще ли сбывать свои товары заморским купцам? О россияне, глас божий вопиет во гневе: походы Петра на запад дерзновенны, се — святотатство! Обратите свои взоры на восток…
— Туда нельзя! — встрепенулся Дженкинс.
— Почему? — притворно удивилась Мадлен. — Ах да! Там Индия…
Дженкинс промолчал и пожевал бескровными губами. Наморщив лоб, сухо сообщил:
— Русские уже в Хиве. Кто из нас быстрее двинется в глубь Азии — неизвестно. Посему не следует торопить Россию на восток. Прошу замечание принять всерьез.
— Тогда я провозглашу иначе: «О верующие! Дома лучше всего. Дома и солома съедома, как говорит ваш государь царевич Алексей…»
Дженкинс нетерпеливо вскинул сухую руку.
— Манифест никуда не годится! К обращению надо готовиться всерьез. — Постучал пальцем по вынутой бумажке, глянул пронизывающе. — Здесь все подробно? Ведь мне придется писать королю.
Мадлен молча кивнула, остановив на патроне большие печальные глаза. Добродушие и наигранная веселость отошли сразу.
Вернулся Ватранг — углубленный в себя, подошел к столу с картой.
Без доклада вахтенного офицера и без стука быстро вошел шаутбейнахт Эреншильд, дверь каюты открыл резко, не церемонясь — спешил. Взглянул на дипломата и пастора, поприветствовал их одним кивком тщательно причесанной головы.
Адмирал выпрямился, немного смущенный, выдержал паузу.
— Господа! Петр находится на Ганге-удд! — мятым голосом пробрюзжал он. Покашливая и борясь с тугой спазмой в горле, окинул благодарным взглядом Дженкинса. — В шторм на малой бригантине ночью уплыл из Ревеля… К берегу мыса Ганге-удд добрался в лодке… Петр намерен волоком перетащить галеры через узкую часть мыса и уйти мимо нас в Або-Аландские шхеры.
Ватранг посмотрел с тревогой и горькой улыбкой одновременно. Пошел от стола как слепой — прощупывающей и неуверенной походкой.
Дженкинс развязно хмыкнул. Заговорил с напускной озабоченностью, обращаясь сразу к двум адмиралам:
— Господа! Меня больше беспокоит ваша растерянность. Да пошлите вы в шхеры любую из ваших трех эскадр — Лилье или Эреншильда. Пусть они покажутся с пушками напротив переволоки!
Ватранг недовольно и суетливо втянул голову в плечи. Пухло-белый палец его заелозил по карте.
— Пожалуй, здесь, господин шаутбейнахт… Эскадра шхерных судов этой же ночью должна пройти западными протоками и утром появиться в Рилакс-фиорде.
— Есть! — выпалил Эреншильд сочным спелым баритоном и сверкнул взволнованной улыбкой.
— Вторую эскадру под командой Лилье я посылаю сюда, к устью бухты Тверминне. Этим маневром будет отрезан возможный отход к Гельсингфорсу главных сил русского галерного флота. Я с корабельной эскадрой остаюсь на прежней позиции.
Эреншильд, надувая жилами бычью шею и оголяя звероватые зубы, внезапно выхватил в исступлении шпагу:
— Клянусь славой великих викингов, топтавших берега Испании и Африки! Клянусь честью! Я верну Швеции победу, потерянную под Полтавой!
16
Ругаясь и выбиваясь из сил у спущенных в воду лежней, солдаты втаскивали на бревенчатый помост первую галеру. Исказясь лицом и блестя зубами, Змаевич тянул канат вместе с Бакаевым.
Галера медленно подалась из воды, выросла вдвое — крутобрюхим чудовищем вползла на сани. Громыхая на бревнах и обдавая солдат острой сыростью, судно со скрипучей тугостью подавалось вперед. Над головами напряженного клубка людей красноватым огнем засияла пушка, надраенная кирпичным порошком.
Более тысячи саженей протащились, надрывая спины и глотки, раскатываясь матом, сбивая в кровь руки.
Генерал Вейде, бряцая саблей, бегал вдоль крутого борта, — заляпанный грязью, без парика, с порванным рукавом. Яростно округляя глаза, свирепо покрикивал, требовал держаться середины бревноспуска — сани легко могли сползти в болотную топь.
— И здесь — одним вожжи и кнут в руки, а другим — хомут на шею, — глухо бубнил Никола в разопревший затылок Антона.
Антон больно лягнулся и злобно отозвался, угрюмо глядя в землю.
— Цыц ты, раздолба! Прищеми паскудный язык!
В узком коридоре просеки показалось море.
Вейде, постукивая палкой, забежал вперед проверить лежни. Остановился и, похоже, качнулся от неожиданности — в оторопи замахал руками. Змаевич, почувствовав недоброе, подлетел к генералу и остолбенел. Не разжимая зубов, крепко выругался. Вокруг них быстро сгрудились возбужденные солдаты. Все ошалело смотрели на море.
Фрегат и девять больших шхерных судов величественно скользили по заливу, приближаясь к переволоке. Их силуэты, палубные надстройки и в особенности форштевень фрегата со сложной носовой фигурой, не оставляли сомнений — шведы!
— Проклятье! — изумленно и яростно шептал Вейде.
Фрегат сбавил ход напротив бревноспуска, корабли быстро убрали паруса. У бортов вспухли беловатые всплески, суда становились на якорь.
— Как же они, сволочи, пронюхали?! Я ведь всех жителей переписал! Беглых нет… — спрашивал себя Бакаев.
Борт фрегата блеснул красным кинжальным огнем — укутался синеватым дымом. Со звоном и шипом рассекая воздух, пологой дугой понеслась пристрельная бомба. Зеленоватое пламя рвануло перед задранным носом галеры, с грохотом взметнулись доски и сухая суглинистая земля. Залопотали по кронам осколки. Получился недолет.
Солдаты по приказу Вейде бросились в лес, залегли. Змаевич и Бакаев зашли за толстую сосну. Бригадир, глядя на клубы дыма, раздираемые ветром у борта фрегата, спросил с растущим беспокойством:
— А где этот, твой приятель Розенкранц? Второй день его не вижу…
Змаевич ожег его колючим взглядом, сипло рявкнул:
— Ты мне эту вошь за пазуху не пускай! У него перед государем заслуги — не передо мной! — дышал хрипло и отрывисто. — Упустили соглядатая — это точно! Он к Ватрангу сбежал. А еще раньше лоцман-финн куда-то делся. Искали в деревне, не нашли…
С моря донесся гулкий раскат пушечного залпа, разъяренное эхо звонко хлестнуло тишину. Высоко через головы со стонущим свистом полетели бомбы, встали пунцово-черные столбы разрывов. На галере с грохотом рухнули мачты, разлетелись в ощепья надстройки, судно заволокло огнем и дымом. Последняя бомба пробила развороченную палубу и попала в пороховой погреб. Содрогнулся мыс, натужисто охнуло море, грохочущим взрывом встрясло воздух…
Черной тучей подошел Петр, на потном лбу вздулась толстая жила.
Вейде вытянулся и, стараясь побороть в голосе дрожь, залепетал побелевшими губами:
— Ваше величество!..
Петр остановил его поднятой рукой и вскинул подзорную трубу.
— Восемнадцатипушечный бомбардирский гребной фрегат «Элефант» и девять шхерных судов…
Две пули свистнули над головой царя — даже не шевельнулся. Третья пуля полоснула у ног Петра, ошкребками брызнул седоватый камень. И тут же еще одна пуля сочно чмокнула в сосновую мякоть ствола.
Вейде позеленел и тенористо выкрикнул:
— Ваше величество! Вы под прицельным огнем! Вы хорошо видны с фрегата в подзорную трубу!
Генерал рывком бросился к царю, охваченному каким-то столбняком, и ошалело потащил его с просеки. В гущине леса отпустил, отошел по уставу на два шага, вытянулся — ни жив ни мертв — руки плясали мелкой дрожью.
Снова плеснул залп, со стоном высоко над головами поплыли бомбы.
Петр судорожно вздохнул. Белея, вскрикнул, словно плеснул кипятком в лицо генерала:
— Предательство?!
17
Близилось утро. В адмиральской палатке пластался едкий табачный дым. Выбивая трубку об отсыревший ботфорт, Петр буравил Апраксина суженными глазами.
— А что, Матвеич, побаловались с переволокой — и хватит. К тому же Ватранг уже попался на нее, как щука на крючок. Думаю, чтобы научиться флоту как следует плавать, придется ему теперь лезть в воду…
Адмирал согласно закивал.
— Да, надобно прорываться морем, дабы захлопнуть Эреншильда в ловушку. И безветрие тому способствует. Но позволь, государь, работы на бревноспуске продолжить, не то неприятель возомнит, что там дело стало.
Петр встал, улыбаясь стиснутым ртом, в глазах блики озорных мыслей.
— Ежели переволока тебя веселит, играйся со шведами до появления наших галер в Рилакс-фиорде.
Авангардный отряд под командой Змаевича получил приказ: используя штиль, прорваться мористее, обойти эскадру Ватранга вне досягаемости пушечного огня и запереть в фиорде корабли Эреншильда.
Рассвело. Широко шагая по грохочущей гальке, царь подошел к зеркально-неподвижному урезу воды. К нему, покряхтывая, приблизился адмирал Апраксин. Оба вскинули подзорные трубы.
В пенных бороздах, резко отдаляясь от берега, в море уходили двадцать галер. Издали они были похожи на черных водяных жуков, взмахивающих белыми ножками.
С флагманского шведского фрегата паучьими щупальцами протянулись высокие дымные дуги. Полоснули красноватые клинки разрывов, взметнулись шапки плотных дымов — канониры взяли большой прицел. Серое округлое туловище фрегата шевельнулось и снова выметнуло тающие щупальца. Тяжко и крикливо охнул простор, поднялись пенные высокие столбы — получился недолет. Фрегат затрясся и скрылся за вскипевшими дымовыми клубами. Бескровные полосы, круто забирая в небо, понеслись к суетливым галерам.
Шведская эскадра, используя легкий ветер, подняла паруса и, вытягиваясь за отрядом Змаевича, отдалилась от Гангута. Однако прорыв русского авангарда удался успешно. Вслед за Змаевичем, еще мористее, так как неприятель подошел на выстрел, был послан отряд бригадира Лефорта — пятнадцать скампавей. Скоро и они обогнули линию шведских кораблей.
Слабый ветер постепенно стихал. Волны на море улеглись, словно разглаженные тяжелым туманом. Наступал полный штиль.
18
Поставив на якорь эскадру, шаутбейнахт Эреншильд пребывал в приподнятом расположении духа. Еще бы! Он почти воочию представлял себе, как ленивой пушечной пальбой похоронит замысел русских.
Сладкое течение мыслей нарушил какой-то шум на палубе. К полуюту бежал вахтенный матрос.
На ходу, пропуская уставное обращение, перепуганный матрос выпалил:
— Русские галеры! Смотрите на корму!
Эреншильд недовольно, но с королевским достоинством повернулся спиной к переволоке.
Из-за кромки полуострова, заслоняя плотным строем устье фиорда, выплывали галеры. Гнулись длинные весла. Матросы гребли отменно — это сразу отметил шаутбейнахт. Подзорная труба дрогнула в холеной руке. Эреншильд машинально протер глаза и, чувствуя предательский озноб, снова вжал медный окуляр в глазницу. Сомнений не было — на переднем судне плескался андреевский флаг.
Число галер все росло и росло. Длинные тени от судов ложились на воду и медленно шевелились на мертвой зыби. Заходящее солнце окрашивало концы теней в мрачный темно-кровавый цвет.
И хотя Ниле Эреншильд, много раз глядевший смерти в глаза, ничем не выдал своего волнения, — сердце его зачастило и тошнотворный страх подступил к горлу.
Вахтенный офицер — высокий, бравый, громыхая ботфортами, помчался к капитану «Элефанта» с приказом поднять паруса. Поднятые по тревоге матросы бросились на ванты, бешено закрутили шпиль, выбирая якорь-цепь.
Слабый ветер слегка наполнил большие паруса фрегата. На бизань-мачте взвился сигнал эскадре: «Курс — норд-вест! Следовать за мной!»
Капитан «Элефанта» Андрис Сунд резко развернул корабль, намереваясь по шхерному фарватеру выйти в море у рыбацкого поселка Хасткар.
Очнувшись от забытья, Эреншильд заметил, что перепуганный Сунд, забирая севернее, попал в Нитлакс-фиорд, который в струистом мареве высокого берега заканчивался глухим тупиком…
Молчаливому бешенству шаутбейнахта не было границ. Темные воды фиорда набухали густым туманом. Галер вскоре не стало видно. В негодующем утешении Эреншильд тер побелевшую щеку. «При такой видимости русские не смогут начать боя — значит, впереди целая ночь. Можно будет что-то и решить…»
19
Черные воды Нитлакс-фиорда сливались с пятнистыми скалами и тремя белесовато проступающими островками. С заросшей вершины Гангута были видны в тумане лишь верхушки мачт шведской эскадры. Ветер доносил сырость и терпкий йодистый дух гнилых водорослей. На фок-мачте «Элефанта» красновато-распухшим светом мигнул сторожевой фонарь.
Короткая ночь быстро наливалась пурпуром молодой зари. Перед рассветом в палатке Апраксина заканчивался военный совет. Вокруг ящика из-под сухарей на свежих пахучих пнях сидели Петр, Голицын, Вейде и генерал-майоры Головин и Бутурлин.
Увидев вошедшего в палатку Ягужинского, Петр оживился и перебил степенно-витиеватую речь Апраксина.
Генерал-адъютант вытащил из-за обшлага конверт из Ревеля, прошитый ниткой, запечатанный воском. Поклонился, подал Петру, отступил. Петр зубами перекусил нитку, ногтем сколупнул печать, глянул в письмо в двух-трех местах и, темнея, отложил.
— Прамы да карбасы для провианту требуют… И опять про травленую солонину… Ладно, потом…
Апраксин откашлялся и закончил речь скороговоркой — де после долгого и зрелого размышления он пришел к тому же выводу, что и государь: резонно чинить прорыв всем галерным флотом, используя штиль. На сей раз двигаться следует вдоль самого берега, от которого Ватранг неосторожно отдалился…
Генералы без лишних слов одобрили план.
Сразу же все направились к Тверминской бухте.
На кормовом флагштоке адмиральской галеры полетел вверх сигнальный флаг — приказ приступить на судах к молебну.
Громогласно загудели дьяконы. Жидкобородый, хилый попик на Николиной галере молча плакал, упав на колени и воздев ладони к небу. За ним плотной толщей медленно опустились на колени капитан, матросы и десантные солдаты.
На соседнем судне огромный огненно-рыжий поп, багровея я надувая жилы на шее, возгласил «Победы-ы-ы!», перекрыл тягучий монотонный гул молебна.
Жидкобородый попик зачастил лбом о палубу перед черными ликами святителей в золоченых окладах. Никола, путаясь перстами в бородище, отрешенно зашевелил губами, истово кладя поклоны. Молебен был короток.
Петр нетерпеливо махнул рукой Апраксину, и тот подал сигнал к отплытию. Музыканты ударили в литавры и барабаны, заиграли трубы. Капитаны и поручики повернули головы в сторону флагманской галеры. Сигнальный флаг медленно сполз вниз, и на его месте взвился желтый: всей эскадре следовать в кильватерной колонне!
Офицеры почти в один голос подали команды. Гребцы навалились на весла — и все шестьдесят четыре галеры, вытягиваясь в линию за головной, двинулись из бухты, поворачивая вдоль полуострова на север.
Петр задумчиво стоял на носу адмиральской галеры, плотно уминал крошки табака в короткой трубке и не отрывался глазами от черты между морем и небом, где застыли в штиле шведские корабли. Крепкие нервные руки чуть подрагивали, правая снова и снова опускалась в карман — никак не мог отыскать трута с кресалом.
20
Вереница галер, взбивая высокую волну, опасливой змеей вплотную оползала Гангут.
Шведские корабли открыли бешеную беспорядочную стрельбу. С плачущим стоном полетели ядра. С русской стороны басовито загудели орудия. Начали дробный перестук мушкеты.
Гребцы взмахивали веслами изо всех сил — гудели руки и спины, глаза застилал пот. Но опасный путь, как в тяжелом удушливом сне, казался нескончаемо длинным. Наплывали и удалялись людские голоса, роились невнятные выкрики команд.
Прижимаясь чрезмерно к берегу, галера «Святой Николай» напоролась на подводный камень. Круто задирая нос, судно быстро погрузилось кормой. Огненно зевнула пушка и в последний раз раскатилась грохотом, послав высокое бесполезное ядро в сторону шведских дымов. Ответная бомба, с шипением отжимая воздух, взметнула у борта малиновый смерч — гулко хлопнули сорванные паруса, разлетелись в ощепья поручни, рухнула мачта.
Петр оглянулся, губы закусил добела, хотел закричать, приказать повесить капитана — и не смог; лишь так глянул, что Апраксин растопырил руки и отшатнулся в сторону. Генерал-адмирал — сердце простецкое — сроду ни на кого не серчал, тревожно-растерянный, передал по колонне приказ: проходящим судам снимать людей с тонущей галеры. Петр отвернулся, на спине судорожно сходились я расходились лопатки.
…Адмирал Ватранг оторвал молитвенный взгляд от света последней звезды. Отрешенно загляделся на пепельно-сизый, уже трижды проклятый Ганге-удд, бугрившийся летучим туманом. Клял адмирал и удравшего в Стокгольм Дженкинса, сейчас бы он поговорил с ним шпагой! Злобно думал о его шпионе Розенкранце, почему-то не прибывшем вторично с мыса, что несколько спутало все планы… Однако надо было действовать, но ясности не было ни в чем. К тому же кровь необычно била в голову, пугающей темнотой заволакивало глаза. Нервно схватясь за черный галстук на горле, он вяло приказал застывшему рядом офицеру:
— Передать по эскадре! Обстрел продолжать и буксировать корабли к месту прорыва! — Помолчал и добавил: — Принесите на мостик из моей каюты кресло…
Офицер, округлив глаза, загремел ботфортами по трапу. Адмирал оторвал от поручней затекшие пальцы и безучастно закрыл глаза. «Ничего, ничего… Короля Карла под Полтавой несли в бой на носилках…» Под Полтавой? От горячего, как ожог, слова потемнело в глазах и зноем налился рот. Ужас сковал все тело. Внезапно — параличом — нахлынуло обморочное удушье. Ватранг уже начал падать, но вернувшийся офицер бережно его поддержал и усадил в кресло.
В кресло на мостике! Адмирал падает в обморок во время боя! От этого стало бы не по себе даже изуверски невозмутимому Карлу XII! Кажется, такой морской баталии не знала история… Но обманывать себя становилось все труднее. И не с опытом Ватранга было ясно, что это — поражение.
Разноголосо скрипели блоки — плюхались в воду тяжелые баркасы. Истошно кричали капитаны, рулевые, гребцы. Заливались свистками боцманы.
Бесполезная пушечная стрельба продолжалась, но русский флот, потеряв лишь одну галеру, уже огибал северную оконечность Гангута.
21
Ночь отступала. Быстро прошли предутренние сумерки. Луна отбросила на залив узкую голубоватую тень. Поднимаясь, багровое солнце легло на воду алым отсветом. Встали два светила — дневное и ночное, скрестили между эскадрами гигантские мечи.
Закончив развертывание эскадры, Петр послал Ягужинского с ультиматумом к Эреншильду. Царь предлагал сдаться без боя, дабы не проливать напрасно крови.
Пока малая скампавея под белым флагом пересекала зеркальную гладь залива, Петр разглядывал шведские корабли в подзорную трубу.
Шаутбейнахт расположил свою эскадру полумесяцем, внутренним прогибом к противнику. На флангах полукружьями выдавались вперед по три шхербота, в центре — фрегат. Позади него тоже три шхербота — разошлись полуподковой. Вокруг шведских кораблей хорошо просматривались высокие скальные острова.
— Диспозиция не из лучших. В бой можно ввести чуть более половины пушек. Задние шхерботы смогут стрелять разве что при абордировании от наших, — заметил Петр.
Апраксин, жмурясь от солнца, воспаленно блеснул запавшими глазами.
— Верно, государь: из ста двух пушек неприятеля нас поначалу встретят только шестьдесят. Но и то превысит огонь нашего авангарда втрое…
— Да, фиорд узок, негож нашему количеству галер. Однако из него добрый каменный мешок вышел, — глухо ответил Петр.
Быстро летело утро.
Скампавея генерал-адъютанта лихо пришвартовалась к неприятельскому флагману. В подзорную трубу было хорошо видно, как Ягужинский в повседневном мундире, но со строгим достоинством поднялся на борт «Элефанта».
Эреншильд, разряженный, как на параде, каменно застыл на палубе, прижав к зеркально начищенному ботфорту подзорную трубу.
Русский генерал, приблизясь твердой походкой, остановился. Поклонился кивком головы и спокойным голосом прочитал ультиматум.
Невысокий офицер в форме капитана королевского флота, чеканя шаг, приблизился к Эреншильду. Сухо и бесстрастно перевел ультиматум.
Гордый шаутбейнахт замерцал глазами, губы сошлись в тонкую нить. Ответил напряженно-ровно, хищно оголяя в угрожающей улыбке крепкие зубы.
— Я всю жизнь служил с неизменной верностью своему королю и отечеству. И как до сих пор жил, так и умирать собираюсь. Царю от меня нечего искать, кроме сильного отпора. И ежели он решился нас заполонить, я с ним поспорю шаг за шагом до последнего дыхания!
Пока юркий капитан переводил, Ягужинский напряженно к нему приглядывался. Генерал-адъютанту показалось, что он где-то видел этого человека. Тот смущенно вытащил большой полосатый платок. Вытер пухлые губы, затем широкое лицо с нависшим носом и ответил русскому генералу змеино-звероватым усмехом. Ягужинский внутренне вскрикнул: да ведь это сбежавший переводчик! Тренированная память сразу подсказала — датчанин, герр Розенкранц!
Нахватавшись новых манер у нового хозяина, Розенкранц смотрел горделиво и неприступно. Когда флагман замолчал, он вызывающе заметил:
— Шаутбейнахт его величества шведского короля продолжает вас слушать, господин генерал!
— Скажите господину шаутбейнахту, что я отдаю должное его воинской доблести, и спросите его — могу ли я задать приватный вопрос лично вам?
Посеревшие щеки Розенкранца передернуло судорогой, но просьбу перевел точно: кое-кто из команды фрегата немного знал русский — могла выйти неприятность… Эреншильд великодушно кивнул.
— Лаэрт Розенкранц! Ты давно стал слугой двух господ?!
Предатель ответил с жалкой бодростью:
— Я… вы что-то путаете, господин парламентер! Я верноподданный и морской офицер его величества шведского короля Карла Двенадцатого!
— Верноподданный, пока какой-нибудь Георг Тринадцатый не предложит больше!
Генерал-адъютант щелкнул каблуками и резко направился к трапу…
Доклад Ягужинского Петр слушать не стал — все понял по его лицу. Заметно бледнея, глянул с суровой жалостью и махнул Апраксину. На флагманской галере полетел вверх синий флаг — сигнал к атаке. Нетерпеливо подбежав к пушке, царь выхватил у канонира тлеющий фитиль и выстрелил по фрегату.
Под скалами торжественно прокатился серебристо-чистый гул. У форштевня «Элефанта» взметнулся высокий пенно-гривастый столб.
И разом заговорили орудия обеих эскадр. Скрежет и стонущий звон ядер выросли до предела и слились в единый гул. Русский галерный арьергард, стреляя на ходу, ринулся вперед в гудящую круговерть смерти.
Петр взлетел на капитанский мостик. Его глаза залучились безумным блеском, лицо сияло трепетной радостью.
Пропустив галеры поближе, по сигнальному выстрелу с флагмана шведы встретили атакующих плотным перекрестным огнем.
Протяжный залп белыми дымами лизнул громаду воды и со страшным грохотом расколол небо. В бурлящем гуле жалко повисли частые мушкетные хлопки. Тяжелый пороховой дым сразу заволок узкий фиорд. Среди непроглядной зависи бледными взблесками замигали отдельные пушечные выстрелы.
Злее закричали матросы, мушкеты затрещали чаще. Галеры, оставляя за собой кривые пенные следы, одна за одной исчезали в грохочущем дыму.
Ядра густо накатывались одно за другим, крутились на палубах, взрывались. Разлетались в ощепья надстройки, трещала парусина, лопались пеньковые канаты. Тихо вскрикивали люди.
Когда дым немного поредел и рванул оглушительный залп с «Элефанта», Петр, холодея, понял — что-то случилось. Пушкари забухали реже, мушкетная трескотня поубавилась. В тающем дыму галеры повернули назад.
Царь потемнел. Кровь бросилась в голову, затмила все перед глазами, и он ватными руками схватился за перила мостика…
На расходившихся красноватых волнах с криками барахтались люди. Несколько галер виднелись над водой лишь задранной кормой или форштевнем. Одно судно уже полностью погрузилось, в воду косо уходил с мачтой андреевский флаг. Петр яростно закричал в рупор:
— Вперед! За отечество! Вперед!
Заслышав в паузах пушечного грохота знакомый голос, уцелевшие гребцы зло налегли на весла. Огибая тонущие суда и покачиваясь от оседающих взметов воды, в атаку пошли другие галеры. Вслед за ними Апраксин бросил вперед плотный строй кордебаталии.
Вода закипела от весел. Над фиордом покатился негодующий гул. Шведы всполошились, закричали; бомбы, настильно снижаясь синими дугами, понеслись гуще и гуще.
Шальная бомба со свистом ударила в бухты канатов. Петр кинулся, оттолкнул неуклюжего офицера — бомба вместе с бухтой каната полетела за борт. Рванул взрыв. Обдало жаром, дымом, холодными брызгами.
Многие галеры кордебаталии от тесноты бились бортами, мешали друг другу и замедляли атаку. Трещали весла, ухали мушкетные залпы. Вспыхивая красной копотью, прыгали носовые пушки.
Но вскоре напряженный гул боя снова начал спадать и перемежаться паузами. Поняв, что и вторая атака будет отбита, Петр на малой скампавее отбыл в глубь эскадры.
В наступившем затишье выстроились поредевшие ряды галер и скампавей. На носах лихо стояли офицеры — руки на отведенных в сторону шпагах, левый ботфорт вперед. Петр оглядывал багрово-масленые изможденные лица.
— У кого жалобы, ребята? — Глаза Петра, разбитого усталостью, казалось, были со слезой.
Капитаны и прапорщики яростно повернулись к рядам.
— Нет жалоб! — пошло нестройно.
— То добро! Работы будет много, ребята. Надо одолеть Эреншильда. Сейчас пойдем в третий раз. Не одолеть никак нельзя. Сия баталия — почитай, Полтавская — только на воде! Понятно?
— Как не понять? — солдаты приободрились. — Дадим Эреншильке огоньку! Возьмем на абордаж!
Петр загляделся, блеснул улыбкой, сужая глаза.
— Господа капитаны! Извольте выдать людям по тройной чарке водки! Хвалю за службу, ребята!
— Рады стараться, господин первый бом-бар-дир! — гаркнули бодро, все разом.
Заводя руки за спину, Петр поднял лицо, смотрел немигающе, тепло и строго.
На галерах долго стояли не шелохнувшись, устали не дышать. Сбоку подошла лодка, на носу Апраксин. Петр повернулся, взглянул пустыми, словно незрячими глазами. Спросил не то сердито, не то участливо:
— Пошто флот бросил?
Генерал-адмирал щурил на царя слезящиеся от солнца и старости глаза.
— Знаю! В лоб не возьмем! — Петр повернулся к солнцу сверкнувшими яростью глазами.
— Петр Алексеич, надобно приналечь на фланги… Они теперь сильно выдались вперед. Перекрестный огонь неприятеля собьем вдвое — по своим стрелять не станет. Да и откладывать дело не следует — швед вымотан до предела.
…Третья атака началась люто. Начальники отрядов и отделений обнажили шпаги и стояли на носах кораблей под градом ружейного огня. У пушек грозно изготовились усатые гренадеры — терпеливо поджидали дистанцию. Чадно дымили фитили. Сплошная масса галер медленно раскололась надвое и яростно пошла на фланги шведской эскадры.
Передние суда неслись все быстрей и быстрей, Петр это видел по тому, как чаще и чаще вскидывались весла; по тому, как резко стала истаивать зеркальная полоска воды между фронтом кордебаталии и нестройным полумесяцем шведских кораблей.
На «Элефанте» стали отводить стволы пушек с первых галер: ядра могли поразить свои фланги, которые еще теснее сомкнулись вокруг фрегата. Царь посветлел. На миг оторвал глаз от подзорной трубы, словно смакуя увиденное, — и снова вжал медный окуляр в глазницу.
В это время пушки прорвавшихся галер сначала справа, а потом слева полыхнули плотными синеватыми клубами. Неслышно блеснули мушкетные залпы — пули рванули вокруг шхерботов серебряную чешую воды.
Под заслонами порохового дыма на правом фланге сразу был окружен шхербот «Флюндра». Пушкарей деловито и быстро отогнали и перебили мушкетным огнем. Забросив с галер планширы, гренадеры густо полезли на высокий борт, ругаясь и рубя шпагами. Оставшуюся команду перекололи молча, зло; раненых безжалостно побросали за борт. Шведский прапорщик — суетливый и маленький — был зарублен тут же, у борта, — он хотел броситься в лодку к матросам. Потопили и лодку, грохнув по ней в упор из предельно наклоненной неприятельской пушки.
Шведы почти прекратили стрельбу: в дыму невозможно было отличить своих от русских. Огрызался лишь флагман. Бомбы летели через головы, Эреншильд стрелял наугад по тылам атакующих галер. Каждый шхербот брался лютым абордажным боем.
Петр, широко раздувая ноздри, шумно втягивал пороховую гарь. Распахнутыми глазами — шире нельзя — уже видел близкую победу. Кричать, командовать бросил: матросы и гренадеры разошлись до крайности, ни своим повелеть, ни шведам остановить. Апраксин деловито и спокойно слал на лодках одного вестового за другим: что-то видел в дыму, что-то поправлял, приказывал. От копоти резало глаза, густо посвистывали пули, изредка с высоким шорохом пролетало над головой одинокое ядро.
Перед Петром блеснуло, грохнуло, в лицо ударил горячий обжигающий дух. Но он устоял, увидел в подзорную трубу широкие спины ингерманландцев, расторопно работающих багнетами на палубах еще трех шхерботов. Солдаты широко крестили воздух саблями — рубили с левого и правого плеча. Крепче, крепче покатился крик. Яростнее стало нарастать хрипловатое страшное «ура-а-а!».
Слух Петра резанул нечеловечески страшный крик: «Алексей!» Матросы бросились к падающему командору, стоявшему возле царя.
От ослепительного удара солнца перед глазами Петра на минуту заполоскалась черная тишина. Он вцепился в поручни мостика, забыл обо всем, ничего не слышал. «Алексей возжаждал престола через иноземную помощь!..» Как искра, на миг вспыхнуло чувство испуга, сменившееся бессильным гневом. Словно за стеклом или водой услышал липкий голос сына, огненный змей сразу обвил сердце, ядовито ожег — задохнулся…
Когда Петр очнулся, поведя налитыми кровью глазами, к командору еще не успели добежать. Где-то вдали сверкнули синие, одетые холодом искры, и вода обнажила свою серебряную грудь… Вернулся слух — ликующими вскриками долетели из дыма голоса.
«Элефант» уже густо облепили галеры. Тонкими струйками поблескивали мушкетные выстрелы. По закинутым лестницам гренадеры с разных сторон лезли на фрегат. Одна шведская пушка громыхнула в упор, разметала в ощепья подходившую малую скампавею.
Под ружейным огнем Змаевич одним из первых пробился на палубу. Крутясь чертом, начал отбиваться шпагой сразу от трех шведов. Перед глазами замелькали красные щетинистые усы, потное восковое лицо. Изловчился, присел и достал мгновенным уколом красные усы. Набежали гренадеры, стало легче. Припадая, сделал обманный выпад влево. Швед на миг растерялся, и Змаевич неожиданным ударом полоснул его. Швед мешковато осел. Отшвырнув сломанную шпагу, командор бросился за убегавшим королевским капитаном. Догнал и толкнул в спину. Капитан растянулся на палубе, вскочил с диковинным проворством и, выхватив нож, бросился на командора.
На какой-то миг затмило от ярости глаза, Змаевич узнал Розенкранца. Вишнево пунцовея, люто крикнул в черные оскаленные зубы:
— Вот ты где, оборотень! Я тебя давно ищу!
Поймав руку Розенкранца, Змаевич ловко выбил нож и со страшной силой кинул предателя себе на плечо; нагнулся, перебрасывая датчанина назад, рванул руку вниз, ощущая по хрустящему звуку, как ломаются в локте суставы. В исступлении долго бил его ботфортами. Дико вращая бешеными глазами, остановил трех солдат, повелел связать бесчувственного Розенкранца и срочно отправить его к Апраксину.
К Петру обессиленно пробился с каким-то докладом Ягужинский — лицо смугло-синее, как из олова, но запавшие глаза с проступившей радостью. Генерал-адъютант одной рукой растирал по щекам полосы копоти, другой подавал прошитый конверт.
Царь неожиданно легко повернулся всей своей массивной фигурой. Сияя глазами, выгнутой вверх гибкой ладонью остановил руку Ягужинского, сказал просветленный:
— Павлуша, не на то надобно время сейчас тратить. Наперво пиши реляцию для всех наших посланников в Европе о дотоле не бывшей у нас виктории на море…
Битва стихала. Серебряные дымы тянулись к солнцу. На шхерботе, плохо видимом из-за чадящей громады фрегата, взметнулось ослепительно-молочное зарево взрыва. Глухим стонущим громом зарокотала вода. Рев орудий замер, и в редеющей пороховой дымке последний раз брызнула лучистая картечь.
В обильности спокойного солнца до самого неба встала звенящая тишина. Скалистые опаловые острова, зеленое пламя леса, весь огромный тысячеверстный простор неба медленно и величаво озарился жгучими лучами. Над плавающими обрывками снастей, над крошевом досок и разбитых бочек, над черными точками голов, чистыми голосами заплакали чайки.
Петр не по-царски суетно сбежал с мостика и размеренным шагом пошел по палубе — спешил пересесть на быстроходную лодку, чтобы уплыть туда, где уже родилась победа.
Геннадий МАКСИМОВИЧ СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ
Рисунки Г. СУНДАРЕВА
Рано утром в полицейское управление сообщили, что ночью сгорела вилла профессора Реймона. Заняться этим делом комиссар Брюо поручил инспектору Тексье. Пожары — вещь нередкая, единственно, что смущало и комиссара и инспектора, — это то, что на месте пожарища обнаружено два трупа, хотя, по словам полицейского, обслуживающего этот район, на вилле находился один профессор.
Тексье побывал в шестом квартале и осмотрел виллу, а точнее, то, что от нее осталось, — обгоревший остов некогда красивого трехэтажного здания.
— Что, сильно обгорела? — спросил подошедший пожилой полицейский. — Но вы не удивляйтесь. Этот самый Реймон был химиком. И, судя по рассказам соседей и племянника, наверху у него была лаборатория. А уж там-то наверняка было чему взорваться или вспыхнуть…
Побродив еще какое-то время по дышащим гарью остаткам виллы, инспектор понял, что ему больше здесь делать нечего — все было залито водой и затоптано пожарными. Остается надеяться на беседы с людьми и на собственную интуицию.
— А когда приблизительно начался пожар? — спросил Тексье у полицейского, доставая трубку и закуривая.
— Где-то среди ночи, часа в два или три. — Полицейский взглянул на инспектора, достал пачку сигарет и тоже закурил. — Пожарные приехали довольно скоро, но это не помогло — соседи заметили пожар, когда огонь уже охватил третий этаж. Потом они услышали сильный взрыв. Гасили долго. Знаете, старое дерево горит основательно, а все внутренние перекрытия этой виллы были деревянными. А около двенадцати дня приехал племянник Реймона. Он ужаснулся, когда увидел, что здесь произошло. Ну постоял немного, а потом сказал, что пока обоснуется в «Аисте».
— Но это же очень дорогая гостиница! — удивился Тексье.
— А что ему! Дядя был человеком богатым. Сами посудите — в гараже стоят две машины, а парень этот примчался на «ягуаре». От бедности столько не заведешь…
— Вы давно служите в этом районе? — спросил Тексье у полицейского.
— Да лет, наверное, двадцать. А точнее: девятнадцать с половиной. А что?
— Я в том смысле, хорошо ли вы знаете эту семью?
— Немного знаю. Раньше-то племянничек Анри доставлял некоторые хлопоты. Бедовый был. Но потом поуспокоился, так что особенно интересоваться им было ни к чему. Знаю только, что Реймон взял его к себе, когда у того умерла мать. А насчет отца не скажу, может, не было, может, сбежал еще раньше. Да вы лучше у соседей порасспросите. Они-то, наверное, больше скажут.
Прежде чем встретиться с племянником профессора, Тексье опросил соседей, но и они не могли сообщить ничего интересного. В этих богатых загородных районах люди мало знали друг друга. Все жили замкнуто, обособленно. И инспектор смог записать в блокнот только следующее: «Анри Лаперо — племянник Роберта Реймона. Около тридцати лет. В доме жили садовник и кухарка — муж с женой, а также горничная. Супруги уехали к сыну, у которого родилась девочка, а горничную хозяин на несколько дней отпустил к подруге». Вот и все. О том, кто мог быть на вилле, кроме хозяина, соседи ничего определенного сказать не могли.
— Анри Лаперо? — переспросил инспектора портье «Аиста». — Анри Лаперо… Ах да, сорок седьмой номер. Ключ он не сдавал, так что скорее всего Лаперо здесь.
Тексье нашел нужный номер, постучал. Никто не ответил. Постучал сильнее. Через минуту дверь распахнулась. На пороге стоял высокий, чуть подвыпивший парень в джинсовом костюме.
— Чем обязан? — спросил Лаперо.
— Инспектор Тексье. Может быть, мы все-таки пройдем в номер?
— Вы что, по поводу этого пожара? — Лаперо не двигался с места. — Так я же ничего не знаю. Приехал, когда все сгорело. А кто мог быть у дяди — представления не имею.
— Все-таки давайте пройдем в номер, — спокойно сказал инспектор. — В коридоре я разговаривать не намерен.
— Ладно, проходите, — нехотя произнес парень, отодвигаясь и пропуская Тексье. — Так что же вас интересует?
— Я был бы вам признателен, если бы вы рассказали мне все по порядку, то есть как попали к своему дяде, как жили у него и все такое прочее. Не возражаете?
— Нет! Конечно же, нет. Мне совершенно все равно, с чего начинать. — Лаперо на какую-то секунду задумался, заговорил негромко: — Так вот… Дядюшка был братом моей матери. Хотя до того, как увидел его, о существовании каких бы то ни было родственников я и не подозревал.
Отец исчез в неизвестном направлении, когда мне исполнился год или чуть больше. Через несколько лет скончалась и мать.
Я даже не представляю, как бы сложилась моя дальнейшая судьба, если бы сердобольная соседка не обнаружила моего дядюшку. Не прошло и месяца со дня смерти матери, как к подъезду нашего дома подкатила шикарная спортивная машина. Из нее вышел моложавый рослый человек с седеющими висками. Тогда он мне почему-то казался скорее ковбоем из фильма, чем ученым-биологом, кем он был на самом деле. Соседка сложила мои нехитрые пожитки, и мы поехали. Как только мы миновали черту города, мой милый дядюшка совершенно спокойно открыл окно машины и выбросил узелок с моими вещами. Я чуть не заплакал. Но он похлопал меня по плечу и, улыбнувшись, сказал: «Не горюй, Анри. Все, что было там, — барахло, и пусть им поживятся нищие. У меня ты будешь иметь только самое лучшее. Ну а на что тебя приспособить, мы потом посмотрим…»
Так я поселился у профессора Реймона. Прислуги в доме было немного: кухарка, ее муж — дворник, он же садовник, и горничная. Мною занималась горничная — молоденькая симпатичная девушка. Как я потом понял, дядя больше всего на свете любил машины, хорошую компанию и смазливеньких девочек.
На первом этаже виллы располагалась столовая, кухня и комнаты для прислуги. Мы с дядей жили на втором. А на третий он не пускал никого, даже горничную, и убирал сам. Мне он объяснил, что это его лаборатория, и приказал не совать туда свой нос.
Жил я как в сказке. Мне была предоставлена полная свобода. Дядя не обращал на меня никакого внимания. Но при этом я имел, все, что мог пожелать мальчишка в моем возрасте. Я прекрасно понимал, что дядя это делал для того, чтобы я просто не мешал ему, и поэтому если не был в школе, то пропадал или в саду, или где-нибудь на улице. Благо дядя совершенно не интересовался моими школьными делами.
Лишь когда я кончил школу, дядюшка спросил меня, не надумал ли я, что делать дальше. Как сейчас помню, это было в тот день, когда мы побывали у него в институте. Я ответил тогда, что собираюсь поступать в университет, но не знаю, на какой факультет.
«Слушай, Анри, — сказал он мне, — не думай ни о чем. Захочешь учиться, поступай куда угодно — я это устрою. А лучше погуляй, пока молодой. Сам знаешь, деньгами я тебя не ограничиваю, так что развлекайся. А учиться еще успеешь. Главное — живи только для себя. Знаешь, думать о людях — занятие, быть может, и благородное, но совершенно ненужное. Люди нужны нам только для того, чтобы выполнять наши желания. И если ты будешь думать так, то всегда будешь счастлив…»
Для начала дядя решил отправить меня отдохнуть в Ниццу. Я, естественно, согласился и стал собираться. За два дня до моего отъезда нашему дворнику и кухарке пришла телеграмма, что у них тяжело заболел сын, который работал где-то далеко на севере. Дядя отпустил и их. Не хочу рассказывать, как я отдыхал. Все было великолепно. Деньги у меня водились, и я мог ни о чем не думать. Так я прожил месяца три. Но пора было и домой возвращаться.
Приезжаю, подхожу к дядиной вилле. Дверь мне открыла молодая девушка, точно в дядином вкусе.
«Вы Анри? — спросила она, нежно улыбаясь. — Я новая горничная. Оставьте вещи здесь, я разберусь…»
Он посидел какое-то время молча, глубоко затягиваясь сигаретой и полузакрыв глаза. Казалось, будто он вспоминает что-то. Потом как бы встрепенулся и продолжал:
— А где-то через полгода на вилле появился брат прежней горничной. Он о чем-то объяснялся с дядей, и, судя по раздававшимся выкрикам, разговор был весьма бурный. Я понял одно: брат не мог найти свою сестру после того, как она от нас уволилась. Ну и у него, естественно, возникли какие-то подозрения. Когда он уходил, я слышал, как он сказал, что не оставит этого дела, пускай дядя не рассчитывает.
Я уж не знаю, предпринимал ли чего-нибудь этот парень или нет, так как вскоре опять уехал отдыхать.
Так беззаботно я прожил лет десять. Пытался было учиться, но вскоре бросил, так как мне надоело. Но последние годы дядя что-то начал чахнуть. Я подумал, что возраст все-таки берет свое, уж больно он осунулся, похудел, а кожа стала напоминать пергамент. Хотя глаза все равно оставались, как и раньше, решительными и злыми. Я было пытался спросить у него, что с ним, он же успокаивал, говоря, что все в порядке и, наверное, просто устал… И вот недавно, когда я был в Венеции, пришла телеграмма. Дядя срочно просил меня приехать. Причем он выслал мне денег и хотел, чтобы я обязательно купил машину и приехал на ней. Меня удивило такое желание, да и уезжать не очень-то хотелось, но ослушаться его я не мог. Я купил «ягуар» и сегодня около двенадцати был здесь. Но, как видите, опоздал.
Анри Лаперо налил себе джина, откинулся на спинку дивана. Он казался совершенно спокойным, но инспектор видел, что он скорее всего пьян, а в таком состоянии бывают уравновешенными даже мелкие воришки.
— Та-ак, ну и чем же конкретно занимался ваш дядя?
Лаперо глотнул джина, сказал безразлично:
— Знаете, рассказ мой вам ничего не даст. Я советую посмотреть все самому, уверен, что на вас это тоже по действует, как на меня когда-то. Вы наверняка поймете, что такой человек, как он, не мог кончить хорошо, ведь существует же справедливость. Я был у него в лаборатории давно, но не думаю, чтобы дядя Реймон изменил тему своих работ. Он несколько раз приглашал меня к себе и потом, но я не мог, а вернее, просто не хотел… Такие вещи достаточно увидеть один раз… А теперь извините, мне надо немного отдохнуть. Что-то измотался за последние сутки.
Если же я буду вам нужен, то вы меня легко найдете.
Видеться мне ни с кем не хочется, так что в ближайшее время покидать гостиницу я не собираюсь…
Они попрощались, Пьер спустился на первый этаж и вышел из гостиницы. Сев в машину, он задумался. Разговор с Анри Лаперо дал ему, в общем-то, немного, а точнее — почти ничего. Хотя… если племянник и не причастен к случившемуся, то уж наверняка знает многое, о чем не пожелал рассказать инспектору. Это Тексье чувствовал интуитивно. Но все это было где-то подспудно, сейчас же надо было разрабатывать версию: профессор — исчезнувшая горничная — ее брат, обещавший отомстить.
— Ну как, нашли племянника профессора? — услышал инспектор знакомый голос, едва только успев перешагнуть порог полицейского участка. Обернувшись, он увидел того самого полицейского, с которым познакомился у обгоревших руин виллы.
— Да куда он денется? — весело ответил Пьер, явно радуясь хоть немного знакомому человеку. — Все было так, как вы сказали.
— Тогда, что же вас привело к нам? — поинтересовался полицейский.
— Нужно кое-что выяснить. Кстати, хорошо, что я встретил именно вас. Думается, что вы можете мне во многом помочь, — сказал Пьер, ища глазами, где бы им лучше расположиться.
— Знаете что, давайте пройдем в комнату рядом с дежурной, — предложил полицейский, поняв его взгляд. — Там в это время никого быть не должно.
Они прошли по полуосвещенному коридору и, свернув направо, оказались в небольшой комнате, вся обстановка которой состояла из длинного старого стола и не менее старых стульев.
— Так о чем вы хотели поговорить со мной? — с нескрываемым интересом спросил он, когда они уселись друг против друга. — Мне кажется, я рассказал вам все, что знал.
— Может быть, очень может быть, — не спеша ответил Тексье, медленно набивая трубку табаком, — по крайней мере, вы рассказали мне обо всем, что интересовало меня именно тогда. Но ведь время-то идет, — тихо произнес он, прикуривая. — Разговор с племянником этого самого Реймона, как вы сами понимаете, вполне мог заставить меня повидаться с вами еще раз. Вы же сами говорили мне, что служите в этом районе чуть ли не двадцать лет. Следовательно, вы не могли не знать горничную, которая служила у профессора.
— Симону Мантено? — спросил полицейский. — Знал немного.
— Расскажите мне о ней, — попросил Тексье.
— Многого я вам не расскажу, — подумав, сознался полицейский. — Одно знаю: спокойной и ласковой девушкой она была. Да это часто бывает у тех, кто рано осиротел. Ведь у нее с детских лет никого, кроме брата, не было…
«Вот брат-то меня и интересует больше всего, — подумал Пьер, — но о нем потом».
… — Если самого Реймона не было, то она и на виллу приглашала. Всегда угостит чем-нибудь, — продолжал полицейский. — А то и нальет стопку-другую. Поболтаем немного и про хозяина, и про племянника. Правда, сама она таких разговоров никогда не начинала. Разве что только я ее об этом спрашивал…
— И что же она говорила о них? — перебил его Тексье.
— Что о племяннике, так это я вам еще в первый раз рассказывал. А вот о самом Реймоне… Чаще всего хвалила его, хотя и не согласен я с ней был. Честно говоря, недолюбливал я его… Нет, не думайте чего такого. Со мной, а я с ним встречался несколько раз, он всегда вежлив был.
Так что тут придраться я не могу. И все-таки… холодный он, что ли, был какой-то. Я чувствовал, притворяется он все время. Наплевать ему на меня было, да и на всех вокруг.
Но с Симоной я не спорил. Нравится ей хозяин, так не мое это дело…
— Она что, была влюблена в своего хозяина? А может быть, и не только влюблена? Такое, знаете, в кварталах, подобных вашему, не такая уж большая редкость.
Старый полицейский задумался. Но Пьер по выражению его лица понял, что угадал, и поэтому спросил тут же:
— Кстати, а куда она могла исчезнуть? Неужели так никто и не знает?
— Непонятно мне все это. Исчезла, и все тут. Реймон тогда говорил, что она рассчиталась и куда-то уехала. Но ведь я-то видел ее всего за несколько дней до этого, и она мне ничего о своих планах не говорила. Вот это-то и смущало меня больше всего. Я так и сказал обо всем, когда меня тогда расспрашивали.
— Кто расспрашивал?
— Как кто?… — не сразу понял полицейский. — Да из управления. Через несколько месяцев после того, как Симона исчезла. Брат ее, что ли, разыскивать стал… Тогда со многими беседовали — и со мной, и с соседями, и с самим Реймоном. Но, насколько я понял, так ничего и не выяснив, прекратили дело. А вообще-то, кто его знает, может, что-то они и узнали тогда, да разве с таким человеком, как этот профессор, можно было тягаться, особенно такому простому парню, каким был брат Симоны. Силы-то совершенно неравные. А вы сами знаете, что это такое… — Старый служака безнадежно махнул рукой. — Ну а Реймон… Я почти и не видел его после этого. Разве что только мельком… И все же мне показалось, что ему все было нипочем. Даже вроде бы и помолодел…
— Это в каком смысле? — не понял инспектор.
— Да в прямом. Помню, я как раз мимо ворот виллы проходил, когда он выезжал. Ну, отдал честь по привычке. В нашем районе это любят, а мне разве трудно, — оправдывающимся голосом произнес полицейский. — Так вот, он высунулся из машины, улыбаясь как всегда, что-то сказал мне. А я смотрю и глазам своим не верю. Помолодел он чуть ли не раза в два. Меня аж передернуло. Стою и сказать ничего не могу. Нет, что бы мне ни говорили, а темной личностью был этот самый Реймон. Не знаю, чем уж он занимался, но верить такому человеку было нельзя… Я всегда так считал…
Старый полицейский продолжал что-то говорить, ругал Реймона, а Тексье лихорадочно выстраивал логическую цепь, приведшую к трагическому концу на вилле.
Горничная, влюбленная в своего хозяина. Роман мог длиться у них довольно долго, да и результаты его могли рано или поздно появиться. Естественно, они не устраивали ни девушку, ни профессора. Правда, здесь смущало одно: не верилось, что профессор решил сам избавиться от наскучившей любовницы. Откупиться ему было гораздо проще. Но ведь могло случиться, что она сама, разочаровавшись в своей любви, покончила с собой. Причем так, что и следов никаких не осталось. Такое встречалось часто. А если все было действительно так, то остальное гораздо проще. Брат Симоны, который вполне мог знать о связи своей сестры с профессором, узнает, что она бесследно исчезла. Естественно, первой же его мыслью было, что Реймон просто-напросто решил избавиться от нее. Это вполне объясняет и разговор брата с профессором, и мотивы убийства. Месть за сестру. И все-таки один момент оставался в этом случае неясным. Зачем было ждать столько лет?
Почти весь следующий день ушел на изучение дела об исчезновении Симоны Мантено, возбужденного ее братом Бернаром. Инспектор просмотрел протоколы опросов, показаний Бернара, профессора Реймона, но ничего интересного из всего этого так и не вынес. Профессор все время твердил, что горничная сама подала на расчет и куда-то уехала. Брат же повторял, что дело это нечисто и профессор просто избавился от Симоны. Соседи тоже не могли сказать ничего конкретного.
Но одно обстоятельство бросилось в глаза сразу: дело было явно не закончено. И, обратив на это внимание, инспектор вдруг вспомнил слова старого полицейского: да разве с таким человеком, как этот профессор, можно тягаться. И понял, что скорее всего он был прав. Тексье нашел инспектора, который когда-то вел это дело. Тот долго не мог понять, что интересует Пьера, а когда наконец-то осознал, то просто повел плечами и доверительно сказал:
— Сам же знаешь, как бывает. Вызывает начальство и приказывает закрыть дело. И остается тебе только одно — подчиниться. А дело любопытное было.
После этого разговора инспектор понял, что ему остается одно — попытаться найти следы Бернара Мантено.
Тексье не раз бывал в районах, где сдаются дешевые меблированные квартиры, и знал, что особой чистоты там ждать не приходится, но такой грязи и столь едкого букета запахов, как на этой улице, он еще не встречал. Создавалось впечатление, что здесь не убирали уже несколько лет и что жильцы весь свой мусор выбрасывали прямо на улицу. В парадном дома, где жил Мантено, было еще хуже.
Перешагивая через груды мусора, Пьер наконец нашел необходимую квартиру. Нажав кнопку звонка, он услышал его звук за дверью. Но открывать ему явно никто не собирался. Инспектор подождал минуту и позвонил опять. Результат был тот же. Тексье уже направился к выходу из этого благоухающего здания, как вдруг столкнулся со сгорбленной старушкой, волочащей что-то в непомерно больной сумке.
— Извините, мадам, — галантно наклонившись, обратился к ней Тексье, — не знаете ли вы Бернара Мантено?
— А в чем дело? — спросила старушка, поставив сумку на пол и подозрительно взглянув на инспектора.
— Да вот хотел с ним парой слов перекинуться, а его нет дома.
— А, знакомый, значит, — со вздохом произнесла старушка, — как же мне не знать его, мы ведь соседи. Он в шестнадцатой квартире живет, а я в пятнадцатой. Только не вижу я его в последнее время. Может, уехал куда.
— А когда вы видели его в последний раз? — поинтересовался инспектор.
— Да не знаю, наверное, неделю назад.
После этого Тексье уже не удивило сообщение о том, что Мантено уволился из авторемонтной мастерской. И как раз неделю назад. Но совсем не ложились в наметившуюся версию итоги осмотра его квартиры.
«Что же тебя смущает, дорогой инспектор? — уж в который раз задал себе вопрос Тексье. — Начнем разбираться по порядку. Первое — холодильник. Да, именно он, Холодильник в квартире Мантено был отключен. Но как-то не верится, что человек, решив свести счеты, будет думать о таких мелочах. Что еще? Начнем с передней. Старый плащ на вешалке, не менее старые, стоптанные туфли, замасленная кепка… Вот, пожалуй, и все. Дальше. Комната. Стол с клеенкой, которую давно не мыли, шкаф, полный нестиранного постельного белья и грязных сорочек… Да, но ведь ни одной чистой вещи. Это уже странно. Хотя что-то должно быть. Книжная полка. Книг почти нет. Штуки три по эксплуатации автомобилей да несколько брошюр по судовым двигателям…
«Болван, о чем же я думал раньше?! Ведь от автомеханика до судового механика не так уж и далеко. Может быть, он сейчас в плавании, а я считаю его погибшим во время пожара?»
Более трех часов потратил Тексье на выяснение одного вопроса — не заключил ли Бернар Мантено контракт с одной из судовладельческих фирм и не ушел ли он в плавание. Не очень веря, что узнает хоть что-то, он позвонил по телефону.
— Бернар Мантено? Он принят помощником старшего судового механика на сухогруз «Бернадетта». Думаю, название его вполне устраивало. — Человек, находящийся на другом конце провода, засмеялся. — А когда они выплыли? Так это я сейчас посмотрю… Вот, точно. Пятнадцатого…
Он говорил еще что-то. Но Пьеру уже все было ясно. Бернар Мантено ушел в плавание за сорок восемь часов до того, как загорелась вилла профессора Реймона. Поблагодарив служащего компании, Тексье повесил трубку.
«Вот так-то, господин инспектор, — подумал Пьер. — Вы всегда спешили с выводами. А что получилось? Да ничего хорошего. И время уходит. А шкуру с вас сдерут, если вы во всем этом не разберетесь. Начинать-то надо с самого начала. Итак, что есть у нас: сгоревшая вилла, два трупа (хотя по логике вещей должен быть один), и больше ничего».
…Попасть в институт Реймона оказалось труднее, чем это предполагал Пьер. Тщательно проверив удостоверение Тексье, охранник вызвал по телефону заместителя директора института.
— Понимаете ли, — объяснил он Пьеру, — мне был дан приказ, чтобы вас сопровождали.
В проходную вошел высокий седой человек лет пятидесяти. Белый халат делал его похожим на врача, но большие роговые очки придавали лицу вид хищной птицы.
— Вы инспектор Тексье? — спросил он, обращаясь к Пьеру. — Меня попросили, чтобы я познакомил вас с теми работами нашего института, которые вел сам профессор Реймон. Пойдемте. Хочу вам сказать, — продолжал он, уже поднимаясь по лестнице, — что Реймон был великим ученым, настоящим гением генетики. Я не преувеличиваю. То, что удавалось ему, насколько я знаю, не получалось больше ни у кого. Надеюсь, вас предупредили, что все, что вы узнаете здесь, является государственной тайной?
Они вошли в комнату, сплошь уставленную клетками, банками и непонятными для Пьера приборами. Запах стоял жуткий, инспектору хотелось зажать нос, но он взглянул на своего провожатого и решил этого не делать.
— Вот видите, вроде бы и обыкновенная крыса, — показал заместитель директора на одну из клеток, — но на самом деле это просто чудо. На нее не действуют никакие яды, она способна приносить каждые пять дней по два десятка крысят и съедает за день в два раза больше, чем весит сама. Если запустить десятка два таких крыс в какую-нибудь сельскохозяйственную страну, то всего лишь за год они полностью разорят ее. А это, — заместитель директора указал на огромную стеклянную банку, — комары. Да, да, обыкновенные комары, но укус их смертелен.
Далее Тексье увидел овода, после укуса которого любое животное перестает давать молоко и приплод. Есть и пчелы, которые, собирая мед, раз и навсегда уничтожают растения…
От всего увиденного Тексье стало не по себе, и, когда заместитель директора предложил ему пройти к нему в кабинет, он с радостью согласился.
— Вы понимаете, что увидели? — не без самодовольства сказал заместитель директора. — Нет, явно не понимаете! Это же новое оружие, изобретенное Робертом Реймоном! Представьте только, что будет, если применить все это. Любое государство не только разорится, но и вымрет. И знаете, все в этом оружии учтено. Вот возьмите комаров. Они сконструированы так, что всегда обитают на одном и том же месте, где-то в радиусе ста километров. И мало того, срок их жизни всего десять дней. Человек же от укуса такого комара умирает через пять минут. Вы, наверное, удивитесь, что я сказал слово «сконструированы». Вроде бы оно и не подходит к живым тварям. Но я сказал совершенно правильно. Роберт Реймон научился менять наследственность любого живого и растительного организма в нужном направлении. Теперь мы умеем вмешиваться в наследственные структуры и вносить туда необходимые гены или же изымать те, которые не нужны.
Тексье с ужасом представил, как в ста километрах от границы какого-либо государства кто-то выпустит миллионы таких комаров. Бояться нечего, ведь даже если их снесет ветер, они все равно будут жалить лишь тогда, когда вернутся на тот участок, где были выпущены. А сделав свое дело, они через десять дней умрут. И пожалуйста, путь для завоевателей свободен. Мало того, не страшно и разложение трупов, которые некому будет убирать, за «уборку» территории примутся крысы. А сожрав трупы, они начнут пожирать друг друга. И придется потом уничтожить только нескольких крыс. То есть завоеватель придет практически на чистое место.
Заместитель директора откинулся на спинку кресла, многозначительно улыбнулся. Инспектор с ужасом наблюдал, как этот человек с гордостью и даже некоторой завистью рассказывает о «великих» открытиях своего покойного шефа. А ведь, в сущности, все то, чем они здесь занимались, было преступлением. Тексье знал, что в различных секретных лабораториях министерства обороны нередко творятся страшные вещи, но такое ему и в голову не приходило. Инспектор поймал себя на мысли, что ему в общем-то и не жалко Роберта Реймона, которого постигла такая участь.
— Скажите, а вы не знаете, были у Реймона враги? — спросил Пьер.
— Да нет, что-то не припомню, — ответил, чуть помедлив, заместитель директора. — Сами понимаете, враги бывают только у тех, чьи работы могут вызвать зависть. А работы Реймона были засекречены. Правда, некоторую зависть вызвало одно его открытие… Понимаете ли, Реймон каким-то образом научился омолаживать себя.
При этих словах Пьер вздрогнул. Ему вспомнился рассказ старого полицейского о помолодевшем после исчезновения горничной профессоре.
… — Как он это делал, я не знаю, но факт был налицо. Лет десять назад или где-то около того Реймон помолодел сразу лет на двадцать пять. Не только я, многие просили его открыть секрет, но он отвечал, что это его самое великое открытие и продавать его кому бы то ни было он не собирается.
«Омолаживался… Но как? Бред какой-то, — рассуждал сам с собой Тексье, выходя из мрачного Здания института. — И почему Анри Лаперо ничего не рассказал об этом? Интересно-о… Ведь о такой вещи он обязательно должен был рассказать, если, конечно, за этим не стоит что-то такое, о чем он предпочел бы умолчать. Надо все-таки проверить, когда он попал в город. «Ягуар» — машина, которую нельзя не заметить. А из Венеции он мог попасть сюда только по южному шоссе…»
Опрос полицейского, который дежурил той ночью на южном шоссе, превзошел все ожидания.
— По-моему, я видел ее рано утром… Да, да, серебристо-розовый «ягуар» с черной полосой выезжал из города, едва начало рассветать.
— Куда… куда он ехал? — переспросил пораженный инспектор.
— Из города, — ответил полицейский, удивленно подняв брови. — А в город он въехал что-то около двенадцати ночи, я только-только на смену заступил. «Ягуар» — машина приметная, а тут вдруг туда промчалась, потом обратно…
Итак, Анри Лаперо.
Портье гостиницы «Аист», когда Тексье осведомился у него насчет Лаперо, ответил, что тот находится а ресторане. Тексье вошел в зал и сразу же увидел племянника Роберта Реймона. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, и читал газету. Перед ним дымилась чашечка кофе и стояла недопитая бутылка джина.
— А, инспектор, — отложив в сторону газету, произнес Лаперо, когда инспектор подошел к его столику. — Как идут дела?
— Да так, помаленьку.
— Может быть, хотите перекусить? Я, правда, уже закончил, но могу еще раз поесть за компанию.
— Разве что чашку кофе.
— Хорошо, сейчас закажу. Ну как, побывали в лаборатории покойного дядюшки или не удалось?
— Удалось. Но, честно говоря, я пришел не за тем, чтобы говорить о работах вашего родственника…
— А-а о чем?… — замялся Лаперо.
— О вас. Меня интересует, что вы могли делать в городе с полуночи до рассвета? Почему умчались из города и не сказали мне, что первый раз приехали не в двенадцать дня, а в двенадцать ночи? Если вы хотели скрыть это, значит, имели какое-то отношение к тому, что произошло на вилле.
Анри Лаперо молчал и смотрел на инспектора. Тексье почувствовал, что, кажется, вышел на верный след.
Лаперо открыл бутылку джина, наполнил стакан. Руки его заметно дрожали. Он залпом опорожнил стакан и устало полузакрыл глаза. Прошло несколько минут, прежде чем он заговорил:
— Да, вы были правы, когда говорили, что обязательно выясните, когда я приехал в город. И мне не остается ничего, кроме как сознаться. Но не потому, что вам удастся что-то доказать, а оттого, что мне самому врать противно. Однако, чтобы вы поняли все, я начну не с той ночи, когда сгорела вилла, а с тех чудес, которые происходили с моим дядей гораздо раньше…
Он еще раз налил себе джина, разбавил его тоником и, отхлебнув немного, продолжил:
— Первый случай произошел, кажется, года через два после того, как я поселился у Реймона. Из-за своей привычки носиться на машине с дикой скоростью дядя попал в аварию. Отделался он сравнительно легко. Правда, левая нога была изуродована так, что ее пришлось отнять.
Вы даже представить себе не можете, какой он приехал из больницы. Был зол, как тысяча чертей. Мы все боялись попадаться ему на глаза. Так продолжалось, наверное, с неделю. Потом как-то к вилле подъехал небольшой грузовичок с мешками, ящиками и бутылями. Все это отнесли на третий этаж. Дядя заперся там и спускался только обедать. И с каждым днем настроение у него улучшалось.
А однажды вечером к дому подъехала белая крытая машина. Из нее вышли два здоровенных парня в белых халатах и врач-хирург, один из немногочисленных друзей дяди.
Через некоторое время двое молодцов вынесли какой-то длинный ящик, а врачи взяли дядю под руку, и они сели в машину.
Вернулся дядюшка через месяц и уже, как говорится, на своих двоих. Он рассказал нам, что его друг пришил ему ногу от какого-то попавшего под машину бедняги, которого привезли в госпиталь полумертвым. Все мы были рады, и никто не заподозрил ничего плохого. Я тогда и значения не придал тому, что дяде моему так везет. У других и менее сложные операции по пересадке не удаются, а тут целую ногу пришили.
Другой случай произошел с дядюшкой лет через пять после первого. Что-то вдруг он начал с лица спадать, стал весь какой-то не то желтый, не то серый. Я ему советовал отдыхать больше, а он говорил, что работы у него много, мол, некогда. Хорохорился он так, хорохорился, да и слег. Ну, тут врачи забегали, целые консилиумы собрались. И пришли к выводу, что у дяди не то цирроз, не то еще что-то в этом роде, в общем, печень отмирает. Понятно, это мало кого бы обрадовало. А я смотрю, дядя вроде бы и не очень переживает. Все только твердит, что он обязательно поправится. А дальше все повторилось как в первый раз… Приехал к нам такой же грузовичок со всякой дрянью. Потом дядя опять заперся у себя, почти не показывался. Через некоторое время его увезли в больницу. Не помню, сколько времени прошло, а как-то утром смотрим — привезли дядю, и он веселый такой, прямо-таки счастливый.
«Ну, Анри, меня теперь вылечили, — сказал он. — Печень как новая».
Вот тогда-то и повез он меня в лабораторию. Не знаю, что видели вы, но мне того, с чем познакомил меня дядя, было вполне достаточно, чтобы понять, сколь мерзкими делами занимается это милое учреждение… И все твердил мне: «Поверь, Анри, все, что ты видел, — это не самое великое, на что я способен. Только об этом пока никто не знает. Знаешь, я могу стать практически бессмертным».
С того нашего разговора прошло какое-то время. Я все гадал, что имел в виду дядя, когда говорил, что он практически бессмертен. Но так и не пришел ни к какому выводу, решил, что он приврал. Потом я поехал отдыхать на три месяца. Так мне посоветовал дядя. Да я вам уже рассказывал об этом. Помните, когда я вернулся и застал на вилле новую горничную?…
— Да, да. Помню. Продолжайте, пожалуйста…
— Так вот, эта новая горничная сказала, что дядюшка ждет меня в своем кабинете. То, что я увидел, открыв дверь, невольно заставило меня остановиться. За столом сидел… дядя, но не такой, каким я его оставил, уезжая, а такой, каким он был, наверное, лет тридцать назад.
«А, Анри, входи, — сказал он, подняв голову. — Я вижу, ты удивлен. В первый момент у всех подобная реакция. Ты садись, я сейчас объясню тебе, в чем дело. Помнишь, я когда-то говорил тебе, что могу стать практически бессмертным. Так вот, я добился этого. Результаты, как видишь, налицо. Я омоложен. Попробуй скажи после этого, что я не гений».
Он продолжал говорить еще что-то в этом же духе, но я не мог его слушать — так был потрясен тем, что увидел… Что было потом, вам уже известно. Теперь вы знаете обо мне все… Ну а неделю назад или чуть больше я получил от дяди ту самую телеграмму, о которой говорил в прошлый раз. Как вы видели, его просьбу я выполнил, купил «ягуар» и приехал сюда. Вы правы, я приехал ночью. Дверь мне открыл он сам. На мой удивленный вопрос он ответил, что горничная уехала на пару дней к подруге, а кухарку и дворника отпустил к сыну, у которого родилась девочка. Когда мы вошли к нему в кабинет, я заметил, что выглядит он хуже, чем до моего отъезда. Он усадил меня в кресло и начал свой последний рассказ.
«Для того чтобы ты все понял, Анри, — сказал он, — начну с самого начала. Ты помнишь, когда я попал в аварию и мне отрезали ногу? Еще в больнице, а потом и здесь, дома, я думал, что же можно сделать, чтобы вернуть потерю. Советовался с хирургами. Помнишь того Гарро, который меня оперировал? Так вот он мне и объяснил, что сделать практически ничего нельзя. Врачи еще не научились полностью подавлять реакцию отторжения, так что если бы и была подходящая нога, то все равно меня бы это не спасло. Он же мне сказал, — что пока удачные операции по пересадке бывали только тогда, когда от одного однояйцового близнеца пересаживают что-то другому.
Эта фраза сразу же взбудоражила меня. Я ведь ужа тогда занимался выращиванием целого организма из одной клетки. Понимаешь ли, ученым известно, что организм можно вырастить из одной, причем любой клетки, если суметь разбудить в ней всю наследственную информацию, а не только относящуюся к деятельности того органа, откуда эта клетка взята. Конечно, необходимо еще создать и специальную питательную среду, где эта клетка сможет делиться и размножаться.
Я приготовил питательную среду, вырезал у себя маленький кусочек кожи, отобрал самую лучшую клетку, обработал ее и положил в смесь. Деление началось, да еще в каком темпе! Мне приходилось менять сосуды на большие, наливать свежую смесь. На последнем этапе мой двойник лежал уже в ванне.
Когда, по моим расчетам, ему стало около 20 лет, я решил, что пора приступать. Гарро приехал за мной. Его мальчики взяли ящик, куда я упаковал усыпленного двойника, и через несколько часов я был уже с ногой».
«Значит, вы отрезали ногу у живого человека? — не выдержал я. — Как мог Гарро пойти на это?»
«Ну, во-первых, Гарро должен был делать все, что я приказывал. Он был полностью в моих руках, поскольку я знал о нем кое-что. А потом, что страшного в том, что мы сделали? — равнодушно сказал дядя. — Ведь я же сам создал этого двойника. Из собственной клетки».
«Но ведь это был настоящий, живой человек!»
«Живой — да, но разве это был человек? Он еще ничего не понимал, он, так сказать, был отключен от внешнего мира, и мозг его был чище мозга новорожденного. Поверь, страшного в этом ничего нет».
Я не мог прийти в себя от охватившего меня ужаса. Дядюшка, мой дядюшка Роберт… Неужели он способен на такое?!
«Как ты понимаешь, — продолжал дядя, — когда у меня болела печень, пришлось поступить таким же образом. Ведь первого я вынужден был усыпить окончательно. Не возиться же с этим одноногим недоумком всю жизнь только из-за того, что когда-нибудь тебе может потребоваться от него еще какая-то запасная часть. Гораздо проще сделать новою.
Но когда Гарро вскрыл меня, пересаживая печень, он обнаружил, что организм мой внутри весь поражен метастазами рака. Спасти меня уже было невозможно, хотя месяц-другой я мог еще протянуть. Да, тут было над чем подумать. Я знал, что могу создать себе двойника, но в данном случае помочь он мне, в общем-то, не мог. И все-таки я должен был использовать то, что умел. И тут, сейчас уже не помню в связи с чем, я неожиданно вспомнил О компьютерах. Если бы ты проторчал в университете подольше, то знал бы, какая это замечательная штука. Я вспомнил, как однажды, когда я заказывал какие-то приборы в одной фирме по производству электронно-медицинского оборудования, директор рассказал мне об интересном заказе, который они получили от некоего Рене Деллэна. Так вот, этот самый Деллэн разработал так называемый психошлем, помощью которого компьютер мог бы улавливать биотоки, выделяемые как работающим, так и находящимся в покое человеческим мозгом. Нужен был только дешифратор импульсов, чтобы ввести эту информацию мозга в компьютер. Фирма взялась изготовить и его».
Тогда этот прибор не заинтересовал дядю. Но потом, когда он узнал, что жить ему осталось всего ничего, он вспомнил об этом изобретении. Дядя понял, что с помощью такого шлема и дешифратора он сможет ввести в компьютер не только находящуюся в мозгу информацию, но и свое самосознание.
«Так вот, вспомнив все это, — продолжал дядя свой рассказ, — я решил объединить эти приборы. Я знал, что могу создать себе двойника с совершенно нетронутым, чистым мозгом, потом передать в компьютер всю свою мозговую информацию и самосознание, а компьютер вложит все это в мозг моего двойника. И он ничем не будет отличаться от меня, разве только возрастом. Так это даже хорошо. Мысли будут мои, то есть он будет мною. Короче, это буду я, в другой, более молодой оболочке, не подверженной недугам.
Сложность заключалась в одном. Нас не могло быть двое. Я знал свой характер и понимал, что сам не допущу существования меня второго и сделаю все, чтобы остаться одному. Но беда в том, что я, второй, буду мыслить так же и, значит, конфликт неминуем. Меня, старого, должен был кто-нибудь убить, как только передача интеллекта и самосознания закончится.
Двойника я вырастил довольно быстро. За это время удалось достать компьютер, и мне сделали два специальных шлема, ведь передача должна была состояться сразу в двух направлениях — от меня, старого, в компьютер и от компьютера в меня, нового. Когда все это было готово, я отправил тебя в Ниццу, а тут еще вовремя сын вызвал кухарку и дворника.
Как только мы остались вдвоем с горничной, я популярно рассказал ей все и, вручив пистолет, приказал ей выстрелить в меня, старого, как только на шлеме зажжется лампочка, показывающая, что из мозга взято уже все, что только в нем было. Она сначала отказывалась, но я долго уговаривал ее, и она поддалась. Да иначе и быть не могло, ведь она любила меня и готова была выполнить все, что я прикажу. Ну и… вернувшись из Ниццы, ты увидел меня помолодевшим и здоровым…»
«А что же было дальше с горничной? Ты ее уволил?» — зачем-то спросил я, уже догадываясь, как мой миленький дяденька Реймон поступил с ней.
«Нет, — ответил он совершенно спокойно. — Когда я снял шлем, она сидела на полу и рыдала. Пистолет валялся рядом. Я поднял его и выстрелил… Она могла проболтаться.
Но я, как ты, наверное, понимаешь, вызвал тебя не для того, чтобы покаяться в грехах. Дело в том, что в моих расчетах произошла досадная ошибка. У меня опять рак. Не знаю точно, возможно, мой организм генетически предрасположен к нему или же это просто совпадение, но это так. И, значит, я вынужден проделать все в самого начала. А поможешь мне в этом ты».
Я был настолько поражен всем услышанным, что даже не стал возражать. Мы поднялись на третий этаж, и он открыл дверь. В полумраке, который царил там, я разглядел огромные столы, заставленные многообразными колбами, мензурками неимоверных форм и размеров и большим количеством приборов, совершенно непонятных мне. Мы прошли в следующую комнату. Там стояли два одинаковых дивана, стулья, стол и компьютер в углу. На столе, возвышались два шлема, очень похожие на те, которыми женщины в парикмахерских пользуются для сушки волос. На одном из диванов кто-то лежал.
«Взгляни-ка на меня, нового, — сказал мне дядя таким спокойным голосом, как будто он и не рассказывал только что обо всех мерзостях, которые совершал. Он повернул выключатель. — Вот видишь, он совершенно такой же, каким был я, когда ты вернулся из Ниццы. Сейчас он спит. Так и должно быть. В таком состоянии он лучше все воспринимает. Минут через пятнадцать после того, как все закончится, он проснется. Ты понял, что должен делать? Как только на моем шлеме зажжется вот эта лампочка, — он указал на маленькую лампочку рядом с проводами, соединявшими шлем с металлическим ящиком, — ты застрелишь меня, старого. Да! — спохватился дядя. — Ты умеешь стрелять?»
Я сказал, что умею. Тогда он встал, надел шлем на спящего, потом зачем-то улыбнулся мне и, надев второй шлем, лег на соседний диван. Мне было не по себе. Держа пистолет в правой руке, я спустился в дядин кабинет, налил в стакан джина, выпил. В голове теснились различные мысли. Я был в ужасе от того, что услышал, но не знал, что могу предпринять, хотя прекрасно понимал, что делать что-то нужно. Нельзя же допускать, чтобы мой дорогой дядюшка Реймон и дальше продолжал творить все это.
Неожиданно мелькнула мысль, а не собирается ли он и со мной поступить так же, как с той горничной? Уж не по этой ли причине он приказал мне приехать на машине? Кто меня видел? Да никто. Прилети я самолетом…
Все, что произошло дальше, я помню смутно. Я был как во сне. Когда я поднялся в лабораторию, лампочка на шлеме еще не зажглась. И все же я выстрелил… Два раза… Ни тот, ни другой не успели даже охнуть. Потом я сбежал на первый этаж, рванулся было к двери, но… вернулся и щелкнул зажигалкой…
И не думайте, что я жалею об этом. Когда я вспоминаю все, что увидел в лаборатории, и то, что рассказал дядя в последнюю ночь, то понимаю, что не мог поступить иначе. Любое зло должно быть наказано.
Анри Лаперо замолчал. Глаза его горели, и Тексье видел, что племянник действительно не жалеет о том, что совершил.
Алексей АЗАРОВ ОСТРОВИТЯНИН[1]
Рисунки П. ПАВЛИНОВА
14
Человека можно запугивать до известного предела. После чего наступают апатия и безразличие. Я перешел рубеж страха, и теперь мне все равно. Угрозы Петкова попросту не доходят до меня; я пропускаю их мимо ушей и всматриваюсь в темное пятнышко на стене — след от выпавшего гвоздя. Когда оно исчезнет, все на какое-то время кончится. Так уже было — три или четыре раза, — и всегда исчезновение следа предшествовало потере сознания.
— Воды, Бисер!.. Живо!
Ледяные струйки льются мне на голову, попадают за шиворот. Рубашка давно уже мокра и липнет к телу. Я перевожу взгляд с пятна на свои колени, низ живота; красные полосы и потеки на белом полотне бледнеют, смываемые водой, и розовые капли ползут по коже.
— Багрянов, — раздельно произносит Петков. — Прекратите упрямиться. Вы слышите меня, Багрянов?
Я слышу, но не хочу говорить. Петков сидит на перевернутом стуле — подбородок на спинке — и, не мигая, смотрит поверх моего плеча. Я точно знаю, что за моей спиной нет ничего интересного и значительного: там Марко и Бисер, они возятся с удавкой. В последний раз петля из сыромятной кожи, опоясавшая голову и закрученная до предела, едва не раздавила мне височные кости, и пятнышко исчезло надолго, возможно, на целый час.
— Багрянов, — повторяет Петков. — Не упрямьтесь! Умереть я вам не дам, а то, что было, — всего лишь начало. Если понадобится, Марко сточит вам зубы — здоровые, один за другим; Марко изувечит вас, Багрянов… и кому вы будете тогда нужны?
«Сволочь!» — хочу сказать я, но не говорю. Ругательства мне не помогут… Искра провалилась — и всему конец.
Марко выдвигается из-за моей спины, наклоняется к Петкову, бурчит что-то, почтительно отгораживаясь ладошкой.
— Хорошо, прервемся, — говорит Петков. — Сколько, по твоему?…
— Минут двадцать…
— Хорошо! Бисер, можешь пойти перекусить.
Углубление в стене невелико. Когда-то здесь, наверно, висела картинка. Потом сняли. Или упала. Я думаю об этом, совсем не радуясь, что сохранил способность соображать. Лучше бы я сошел с ума… Лучше бы… Ведь пройдет всего-навсего двадцать минут, и все начнется сначала. И как знать, не захочу ли я говорить? Внизу, в подвале, должна находиться Искра. Если, конечно, еще жива. Ее привезли под утро, и я тогда не знал, что это она. Просто проснулся, услышав сначала звук автомобильного мотора и тормозов, а потом хлопанье дверц, возню и сдавленный женский крик. Ночная пустота удесятеряла звуки, делала их гулкими и вибрирующими. Я сел в постели, вслушался. Где-то залаяла собака и умолкла. Автомобильный мотор работал, и снег скрипел под тяжелыми шагами. Все продолжалось недолго, несколько мгновений, но рубашка моя успела намокнуть под мышками. Божидар, несший дежурство, встал и вытянулся у двери. Пробормотал:
— Спи. Чего вскочил? Это господин начальник приехали…
Он, как и я, не слышал голосов, только шаги, и я подумал, что Божидар, точно пес, по походке узнает хозяина.
Звуки — шаги, кашель, скрип дверей — переместились из прихожей куда-то вниз. Я затаил дыхание, пытаясь разобраться, в чем дело, но больше ничего не происходило — домом распоряжались не люди, а предутренняя тишина. Тяжелая, гнетущая — такая же, как сейчас…
— Багрянов!.. Слушайте меня, Багрянов!
Я отвожу взгляд от пятнышка на стене и гляжу на Петкова.
— Не понимаю вас, — говорит Петков с досадой. — Пойми те же наконец, черт дери, что Искру взяли с поличным. Объявление в «Вечер» сдала она; заведующий редакцией, конторщица и кассир ее опознали. Знакомые вашей приятельницы нам известны наперечет, и Галкина среди них нет.
Петков подкладывает под подбородок ладонь. Скашивает глаза на наручные часы, высовывающиеся из-под манжета.
— Прошло пять минут. В запасе у вас пятнадцать. Ничто вам не поможет, Багрянов, кроме признания. Поверьте на слово… Вы слышите меня?… Так вот, я уважаю вас именно за трезвый ум. Это редкий дар в наши дни, и дай вам господь возможность пользоваться им подольше. Ну чего вы, собственно, добиваетесь? Быстрой смерти? Ее не будет. Спасения Искры? Поздно… Какой смысл молчать?… Не думаете ли вы, что вас обманывают, заверяя, что с Искры не спускали глаз ни на минуту? Каждый ее шаг известен, и я могу хоть сейчас пригласить сюда Гешева. Да, да, пригласить и сунуть носом в дерьмо! Не знаю пока, как она там его обошла, но что обошла — это точно. Гешев по ее милости сидит сейчас в выгребной яме и не скоро из нее выберется. Так что — слово чести! — Искру из подвала не выручит и господь бог!.. Разве что вы поможете ей? Слышите: ее жизнь в ваших руках. Я не шучу.
Да, Искра окончательно провалилась, и будь он проклят, этот Петков, подловивший ее! А я-то… я-то хорош! Радовался, прочитав объявление… Выходит, седоусый уцелел, и я был кругом не прав, подозревая Искру в двойной игре… Что будет с ней?
— Пятнадцать минут, — лениво говорит Петков и поправляет манжет. — У вас осталось пять. Я передумал, Багрянов. Вас больше и пальцем не тронут. Сейчас придут Марко и Бисер, и мы отправимся в подвал. Там вас привяжут хорошенько, а Марко возьмется за девочку. Все, что стоило бы проделать с вами, он проделает с ней… Вы согласны, Багрянов?
Язык у меня распух и еле ворочается.
— Нич…о…ест…о!
Петков вцепляется пальцами в спинку стула. Косточки на руке белеют, а голос все так же тих.
— Ничтожество, сказали вы? О нет! Я полицейский и моему царю слуга. А ты — мразь!.. Марко! Божидар! Бисер!
Трое вошли, а мне не страшно. Совершенно не страшно. Будь что будет. Я единственный, кто знает Багрянова до конца. До самого сокровенного. Рубеж перейден еще в самом начале, и теперь Петков ничего не получит… Ты уж прости меня, Искра…
Марко тащит меня, почти волочет за конец веревки, привязанной к скрученным за спиной рукам. Петков идет впереди, чуть отступясь — Божидар.
— Гы! — говорит Бисер и награждает меня таким пинком, что я лечу головой вперед; Божидар еле успевает прервать мой полет.
Новый пинок, и ноги мои цепляются за порожек, скользят по ступенькам; плечо, которым я защищаю голову от соприкосновения с камнем, уже не плечо — мышцы без кожи, сплошной кровоподтек.
Петков отодвигает засов и распахивает дверь. Марко коротким толчком вбрасывает меня в комнату, а Бисер и Божидар держат за локти, мешая упасть.
— Смотри!.. Тебе говорят, сволочь! Ну!.. Марко, открой ему фары, пусть видит!
Ручища Марко раздирает мне веки. Пальцы давят сильнее и сильнее, впиваясь в углы глазниц у висков.
— Ну как она вам, Багрянов? Нравится?
Комок окровавленного тряпья в углу — это Искра?! Ноги мои подгибаются, но я не могу отвести глаз от красных полос на плечах и груди девушки. Бурая маска заменяет ей лицо. Из коричневой впадины в маске несется крик — жалкий, бессильный.
— Бисер, успокой ее, — говорит Петков.
Я скольжу, обвисаю в руках Божидара и не успеваю подставить ножку Бисеру, ринувшемуся выполнять приказ. Петков подходит ко мне, загораживая Искру.
— Тебе не жаль ее, Багрянов?
Что-то сломалось во мне. Я перестал быть тем, кем был. Страха нет, но и воли нет. Петков прав: чужая боль — не для меня… Я — слабый человек… Дрянь я, ничтожество… Но иначе не могу…
— Не надо, — говорю я. — Не надо ее трогать.
Петков двумя пальцами берет меня за подбородок.
— А взамен? Искра — женщина не дешевая!
— Да… — говорю я.
— Что — да? Я правильно понял: вы даете все?
— Да…
— Ладно, пошли, Бисер! Останешься здесь и вызовешь к ней Фотия. Пошли, Багрянов.
Ничего не соображая, я ковыляю из подвала на второй этаж. Куда-то вхожу, на что-то сажусь. Пью. Воду или вино? Все туманится, пляшет перед глазами, и только коричневая маска не желает пропадать.
— Начинайте, Багрянов, — говорит Петков.
— Да… — говорю я. — Сейчас…
Каждый слог дается мне с трудом.
— Адресат? — спрашивает Петков. — Кому адресовано объявление?
— Нельзя… не при них…
— Мои люди мешают? Хотите, чтобы вышли?
Все равно. Какое мне дело? Выйдут — не выйдут. Нет, пусть выйдут. Это же важно. Разве нет?… Сейчас скажу — и все кончится. Больше не будут бить…
— Багрянов! Вы слышите меня?… Мы одни. Говорите же. Кто адресат?
Я открываю рот.
— Лул…чев… Это Лулчев… Да…
Человек слаб, а я человек…
15
Допрос идет уже третий час, и ровно столько же я жарюсь под палящим лучом переносной ривальты. Ослепленный, почти испеченный заживо, я все-таки не теряю сознания, и Петков, сидящий в прохладной тени, не торопясь вытягивает из меня имена, подробности, факты.
Сколько я еще выдержу? Час? Два?… Бесконечность…
— Итак, — говорит Петков и поправляет ривальту. — С Лулчевым мы разобрались. С объявлением тоже. Очередь за рандеву — кто и когда придет?
— Не знаю, — говорю я, пытаясь облизнуть губы.
— Знаете! — Пауза. — Багрянов! Еще немного, и я верну вас вниз и переломаю все кости! Мало вам было?
— Достаточно…
— За чем же остановка? Сказав «а», переходите к «б». Вы продали нам Лулчева…
— Я не продавал.
Петков присвистывает из своей прохладной тени.
— Не в термине суть! Факт остается фактом, и Лулчеву — один черт: продали ли вы его ДС, выкупая жизнь, или назвали по соображениям альтруизма… Откуда вам известно, что он работает на англичан?
— На немцев тоже.
— Оставьте немцев в покое. Мне нужны англичане! Что вы знаете об этом и из каких источников?
Три часа! Три долгих-предолгих часа ривальта выжигает мне кожу на лице, а Петков долбит одно и то же. Лулчев и англичане. Англичане и Лулчев. Кто, что и когда?
— Выключите свет, — прошу я. — Я же сдохну… На кой черт вам покойник?
— Сначала ответ. Просьбы потом. Что вы знаете о связях Лулчева и СИС?[2]
— Ничего. Только то, что он работает на нее… Давно.
— Общие слова: «знаю», «давно»… На чем же вы собирались его подловить? На этой болтовне?
— Мне должны переправить документы. Со связником.
— Кто связник?
— Не знаю.
Петков снова коротко и выразительно присвистывает.
— Багрянов! Мы же вроде бы договорились? Ну же, Багрянов! Раскошеливайтесь! Адрес резидента СИС, пароли и все такое прочее!
— Не знаю… Связник…
— Опять легендарный связник? Где он? Когда придет? Где рандеву?
— В храме Александра Невского, в воскресенье. Во время службы. Он должен подойти и сказать…
— Слышал! Почему вы решили, что связник знает вас в лицо?
— Предупредили. В Центре. Сказали: он сам подойдет.
— Есть опознавательный знак?
— Нет. Только маяк… если провален… перчатки в правой руке… Дайте же воды, Петков. Умоляю вас!
Глоток… Еще один. Господи, хорошо-то как!
— Спасибо, — говорю я с надеждой получить новую порцию воды. — Я не обманываю вас, Петков. Лулчев связан с англичанами и немцами. Документы, компрометирующие Лулчева, должен переправить связник после того, как объявление появится в «Вечере». Я надеялся через Искру передать тем, кто с ней связан, чтобы они доделали дело. Искра получила бы документы…
Где-то в глубине, в недоступной мне прохладе скрипит кресло. Тоненько звенит, сталкиваясь с графином, стакан. И так же тихо, почти неслышно, смеется Петков.
— Искра? Связник нацелен исключительно на вас, а документы передаст ей?
Вот это и называется — загнать в угол. Теперь надеяться не на кого. Все дело в одном — выдержу ли? Побои, ривальта, отсутствие воды… Что еще придумает Петков?
Я собираюсь с силами и выпрямляюсь, насколько могу.
— Налейте воды, Петков. И выключите свет! Клянусь, это сейчас важнее для вас, чем для меня… Да, я знаю связника! Знаю! Знаю! Только что толку для вас? Его я вам не дам; не дам — и точка. Делайте что хотите, но без меня вам не обойтись. Думаете, не понимаю, зачем вы бьете в одну мишень? Я вам связника, а вы мне — пулю в затылок. Так?… Колотите себя в грудь или рвите волосы, но с Искрой вы поспешили и упустили шанс обойтись без Багрянова. Теперь извольте сами считаться с фактами. Я один знаю связника, и одному мне удастся получить компроматы на Лулчева…
Минута тишины — и тьма кромешная. Так всегда бывает, когда переходишь от ослепительного света к мягкому полумраку.
— Так, — говорит Петков, и я слышу звук воды, льющейся в стакан. — Допустим, все так. Полагаете, переиграли?
— Кое в чем.
— Не будьте самонадеянны, Багрянов.
— Разве похоже? — Я смотрю на стакан и мысленно пью. — Хотите предложение?
— Разумеется, да.
— Разумное. — Мысленно я пью еще один стакан. — Я даю вам Лулчева; вы мне — свободу. На такой базе мы договоримся. Нет — делайте что хотите, но я умру немым. Не считайте это громкой фразой. Так будет.
Я долго шел к этой минуте, и вот она настала. Все произнесено, добавить больше нечего, и не мне решать, как пойдет дальше…
Скрип, треск половицы под ногой Петкова, и край стакана упирается в мои губы. Я запрокидываю голову и пью…
— Ладно, — говорит Петков. — Вам повезло, что здесь сижу я, а не Гешев… Так вот, час я вам дам. Не вы мне, а я вам, ровно час.
— Зачем?
— Соберитесь с мыслями и поточнее обрисуйте связника. Полный словесный портрет, характеристика физических и моральных данных. Особенности.
Стакан все еще висит в воздухе где-то возле моих губ, не отдаляясь и не приближаясь.
— Нет, — говорю я. — Так не пойдет…
— Подумайте… И — через час!
Конец? Или удастся еще потянуть?… Мне нужно пять суток. Ровно пять, ибо через сто двадцать часов — в случае, если Слави не появится в храме Александра Невского — Центр получит сообщение, что Багрянов провалился.
Пять суток… Любая цена мала, чтобы получить их!
16
Час — срок короткий, однако его хватает, чтобы с Петковым успела произойти разительная, а потому загадочная для меня перемена. Он сидит передо мной спокойный, благожелательный — ни дать ни взять тот давний Атанас, который возник перед бай-Слави в самом начале знакомства.
Один час… И, судя по всему, за это время что-то произошло… Но что?…
Усевшись, Петков поправляет брюки, придвигает к себе графин, наливает стакан — щедро, до самых краев.
— Пейте, Багрянов. Еще?… Или лучше кофе?… Марко! Сходи приготовь кофе. Вам, конечно, с тмином, Багрянов?
Ах вот оно в чем дело! А я-то гадал…
— По-варшавски, — отвечаю я. — Раскололи Искру?
— До самого конца!
Петков улыбается, и на щеках у него проступают ямочки Если бы не щетина, то заместитель начальника отделения В запросто сошел бы за моложавого ангела, спустившегося с небес.
— Хватит, — говорит Петков, видя, что я собираюсь допить воду. — Заболеете. После ривальты врачи не рекомендуют. Слышали об обезвоживании организма?
— Так, кое-что.
— Ну что, полегче? — Платок исчезает в кармане. — Между прочим, странная погода: то снег с дождем, то дождь со снегом…
— Источник тот же? — говорю я.
— Разумеется.
— Вы преуспеваете.
Сказав это, я окончательно успокаиваюсь. «Опоздал ты, Петков…» Показания Искры уже ничего не могут изменить, поскольку один Багрянов знает связника… Багрянов. То есть я.
Тень колебания — едва заметная — проскальзывает по лицу Петкова.
— Гляньте-ка сюда, Багрянов.
Серый бумажный прямоугольник, плохо заглянцованный и словно бы выцветший, — позитив мгновенной фотографии, сделанной, судя по качеству, портативным аппаратом и в невыгодных условиях. Я всматриваюсь в него: улица, в панораме — дома; слева — вполоборота — человек. Все снято мелко, но не настолько, чтобы в человеке нельзя было признать седоусого, обладателя «Патека».
— А вот и связник, Багрянов!
— Этот? — Я качаю головой. — Чушь собачья!
Так… Выходит, седоусый арестован и, очевидно, погиб. Скорее всего под пыткой. Он начал было говорить, но дальше пароля не пошел… что-то помешало… Прощай, товарищ! Имя твое мне неизвестно, и все, что мне когда-то сказали про тебя, уложилось в два слова: «Надежный работник». Это была высшая аттестация, и ты оправдал ее. Больше того, даже погибнув, ты помогаешь мне, и помощь твоя неоценима — Петков представления не имеет, как много говорит фотография, которую я держу в руке… Дом, на чьем фоне ты снят, стоит на углу, рядом с особняком миллионера Бурева — у него один из лучших в Софии частных садов… Да, да, я уверен: это не улица Царя Калояна! А следовательно, тебя сфотографировали до связи со мной. В противном случае наружник постарался бы поймать в кадр и бай-Слави, и Петков сейчас предъявил бы фотографию совсем не для того, чтобы проследить мою реакцию, а как точную улику… Прощай, товарищ! И еще раз — спасибо. Ты помог мне в главном сейчас — до конца разобраться с Искрой… Прощай, друг!
Я прекращаю мысленный разговор и кладу на стол фотографию.
— Это не связник.
Марко, старательно балансируя подносом, вносит две дымящиеся чашки и все, что к ним полагается. Сахарница, поджаренные хлебцы, джем на блюдечке.
— Валяйте, Багрянов, — поощрительно говорит Петков и подает мне пример — тонким слоем намазывая джем на похрустывающий тост. — Поговорим как друзья. Без оскорблений и сведения счетов. Дело ваше дохлое, и отступать вам некуда.
— Это почему же?
— А потому, что ваши связи, ваши легенды, все, что имеет хоть малейшее касательство к Багрянову, отработано до конца. Если вы заметили, любой ваш шаг, начиная с приезда в гостиницу, был просвечен.
Я отставляю чашку и киваю.
— Мерси за сообщение. Значит, вы засекли меня в день въезда в номера, не раньше.
— Не ломайте комедию! — Петков отрывается от чашки, смотрит на меня в упор. — Можно подумать, что вы это толь ко сейчас сообразили.
— Нет, конечно. Но вы подтвердили факт…
— А какой смысл скрывать? — говорит Петков просто. — Опыта у вас хватает, вы это доказали.
Петков надкусывает хлебец и аппетитно хрустит корочкой. Челюсти его работают равномерно, и глаза чисты.
— Три легенды, — говорит он.
— Почему три, а не сто три?
— Считать умеете? Первая — модный магазин и все, к нему относящееся… Вторая…
В нашем разговоре довольно много пауз; они позволяют мне отвлекаться и, больше того, вооружиться кое-какими догадками относительно перемен, происшедших за истекший час с заместителем начальника отделения В.
— Вы остановились на легендах, — говорю я и, поколебавшись, беру сигарету из пачки Петкова. — Первую вы назвали. Вторая?…
— Не торопитесь, Багрянов, — говорит Петков терпеливо. — У вас скверная привычка забегать вперед. — Он вытирает губы салфеткой и на миг прикрывает глаза. — Не так уж важно, сколько было легенд. Существеннее другое — уровень вашего профессионализма при их использовании и умение перестраиваться на ходу. Проанализировав эти и кое-какие иные компоненты, можно прийти к выводу…
— Какому? — не удерживаюсь я.
— Вы пришли не на связь с разовым заданием… Это — с одной стороны… С другой же — Багрянов не годится на роль резидента, ибо резидент с «подмоченным» паспортом — это, извините, нонсенс! Что такое резидент? Своего рода посол. С его внедрением нет смысла спешить и уж совсем ни к чему задействовать его сразу. А связь у вас была. Да, была. На вторые сутки. На улице Царя Калояна, не так ли?
— Вы спрашиваете или утверждаете?
— Утверждаю. Я бы не показал вам фотографию, если б не был уверен… Никола Бояджиев — так звали вашего связника. Пароль: фраза о снеге и дожде, отзыв — любой набор слов со вставленным в него «туманом». Аварийный сигнал: перчатки в одной руке. Я не ошибся?
— Вам виднее.
— Бояджиев — паспортное имя. Вам известно настоящее?
Прежнее состояние — вялость и апатия — подбирается ко мне. Я теряю нить разговора, тогда как Петков свеж и бодр.
— Его знал только он, — говорю я, следя за тем, чтобы голос был ровен. — А он не скажет… Он же умер, Петков! Умер час или полчаса назад… Потому вы и принесли фото… Пока он жил, было бы невыгодно. Вы ждали: а вдруг заговорит. Он что, был без сознания, да?… — Хлеб ложится на стол — есть я не могу. — Коротко: Бояджиев умер, и расстановка сил изменилась. У вас больше нет ничего в запасе, Петков. Один я. Один! И, кроме меня, никто не даст вам правды о явке в церкви. Вот так. Вы теперь и пальцем меня не тронете, Петков!
— Ой ли?
— Не тронете. Наоборот, будете холить и лелеять. Легенд было три, вы правы. Правы и в том, что я не курьер. Я приехал из-за Лулчева, и только я могу дать вам его… Лулчев работает на немцев и англичан. Немцы, конечно же, вас не волнуют — про них в ДС известно без меня. Зато связь советника царя с СИС для вас дар божий. На таком деле любой сделает карьеру. Верно?… Не отвечайте, Петков. Будем считать, что я просто размышляю вслух… Так вот, сдается мне: вы и раньше подозревали, что Лулчев работает не только на Берлин, но и на Лондон. Однако доказательств у вас пока нет. Если Делиус[3] платит Лулчеву в своем бюро на бульваре Евтимия и не бог весть как маскирует это, то англичане действуют с максимумом предосторожностей. Делиус в Софии почти бог; резидент СИС — нелегал, разыскиваемый вами. Отсюда и разница во всем, что связано с ними, отсюда же и другая разница — в их отношении к Лулчеву. Попадись он на сделке с Делиусом, это не вызовет даже семейной сцены у царя, тогда как работа на англичан может стоить ему головы… Берегите меня, Петков. Я для вас — курочка, несущая золотые яйца. Пока жил Бояджиев, вы надеялись получить явку в церкви от него — бесплатно, в подарок. Теперь Бояджиева нет… Слушайте, Петков! Хотите разочарую вас? Бояджиев ничего не мог бы вам рассказать о храме и встрече в нем. Он не был об этом осведомлен.
Я преодолел вялость; она ушла, и я спокоен.
— Сейчас я кончу, Петков, потерпите. Остался пустяк, и он сбивает вас с толку. Вы ломаете голову над вопросом: если Багрянов шел сюда, чтобы прибрать к рукам советника царя, какого черта он стал звонить во дворец с бульвара Дондукова? Так?
— Продолжайте…
— Хорошо. Второй вопрос — почему я доверился Искре?
— Почему же?
— Начнем с телефона. Крайне просто и сводится к глупому просчету… Я недооценил вас, Петков. Ваша шляпа, дурацкое знакомство… Я потащил вас к телефону, полагая, что вы рядовой агент и имя Лулчева нагонит на вас страху. Сознаюсь, неумно. Особенно, если вспомнить, как я хватал вас за шею и подсовывал трубку.
— Сцена была захватывающая!
— Не язвите: вы тоже выглядели не лучше. Я слишком поздно раскусил, зачем вы приставили ко мне демаскированных хвостов и всячески старались показать, что я провален. Однако и я, в свою очередь, попортил вам крови, сунувшись на бульвар Дондукова и не дав довести до конца идиллическую линию Искра — Багрянов. Насколько я понял, вы очень на нее надеялись?
— Более или менее.
— Ну что ж, она принесла вам, что могла: текст объявления и явку у Бююк-Джами.
— Фальшивую явку!
— А вы как хотели? Надо же хоть в чем-то подстраховаться!.. Вы совершили только две ошибки…
— Просветите?
— Маленькая — не стоило давать объявление, не выйдя к Бююк-Джами вторично. Покрупнее — слишком трогательно все было в подвале. Эти полосы на плечах, обнаженная грудь… Никогда не передоверяйте исполнителям черновую работу. Марко все же не ас, а вы поздно стали исправлять ошибку. Помните? Попытались встать между мной и Искрой, отгородили ее, когда догадались, что я могу распознать инсценировку.
— Распознали?
— Увы!.. Только сейчас сообразил.
Да, с Петковым надо держать ухо востро. Ответь я по инерции, что заметил в подвале неладное, и все полетело бы вверх дном. Ибо и в этом случае история с Лулчевым начала бы рисоваться в новом свете… Рубашка под мышками намокает — так бывает со мной всегда, когда удается не сверзиться в яму, но картина возможного падения еще слишком свежа, чтобы ее можно было отнести к безвозвратному прошлому…, Отвлекаясь, я заставляю себя переключиться с дня нынешнего на день минувший и вспомнить то утро, — когда фырканье автомобильного мотора разбудило меня. Что меня тогда поразило? Шаги и сдавленный женский крик. Точнее, несоответствие крика, в котором угадывался страх, со спокойной отчетливостью шагов. Тук-тук-тук. Равномерно и звонко. Женщина кричала и в то же время беззаботно шла к подъезду…
Петков покачивает ногой и молчит. В умении слушать он корифей, и я с огорчением понимаю, что напрасно жду вопросов. Их не будет. Придется все делать самому, уповая на то, что мое «только сейчас сообразил» не насторожило Петкова.
— Поздно, — говорю я с видимым огорчением. — К сожалению, поздно удается разобраться в мелочах… Ничего не исправишь… Ладно, черт с ним! Перейдем к сути или же хотите еще о чем-нибудь спросить?
— Предпочту послушать.
— Тогда об условиях? — спрашиваю я осторожно, готовый в любой миг затрубить отбой. — Первое — свобода.
— Помню. Еще что?
— Чистый паспорт. Без имени. Я его сам впишу.
— Допустим… еще?
— Двести пятьдесят тысяч левов. Можно предъявительским чеком.
— Все? — Голос Петкова звучит ровно.
— Не совсем. Нужен еще пропуск. Наверняка в ДС есть такие пропуска или удостоверения. Нет? Клочок бумажки либо жетон, гарантирующий свободный проход, проезд и все та кое прочее.
— Не знаю. Надо навести справки…
— Вы — и не осведомлены? Ни за что не поверю!
— Хорошо. Когда вы хотите получить вашу галантерею?
— Утром перед визитом в храм.
— После визита.
Я развожу руками, и сигаретный пепел сыплется мне на брюки.
— До! Гарантии — так уж гарантии!
— Чистый паспорт. А фото? Не прикажете ли вас здесь сфотографировать?
— Переснимите со старого.
— Я подумаю, — холодно говорит Петков.
Он встает — подтянутый, свежий, будто и не было никакого разговора. Уверенным жестом прячет в карман сигареты и идет к двери.
Негромкий хлопок, и я остаюсь один. «Я подумаю…» Теперь уже ничего не изменишь. Остается одно — ждать.
17
…После решительного объяснения с Петковым я заставил себя выползти из кровати, куда меня уложил Фотий, и теперь брожу по комнате, время от времени держась за стенку. Врач, привезенный Петковым, наложил мне на поясницу тугую повязку и, не сказав ни слова, покинул виллу. Это было позавчера, и двух суток мне хватило, чтобы отлежаться и почувствовать себя более или менее здоровым. Если бы не мысль о чемоданчике, то Слави Багрянов был бы почти счастлив — настолько, насколько может быть счастливым человек в его положении. Постель, еда, отсутствие наручников и допросов.
Петков уехал вместе с Фотием и с тех пор не появляется на вилле. Исчез куда-то и Божидар, и Бисеру с Марко приходится туговато. Они по очереди стряпают, подметают этажи, смахивают тряпкой пыль с мебели, дежурят у дверей комнаты — словом, совмещают обязанности тюремщиков с хлопотным ремеслом прислуги.
Завтра воскресенье. Следовательно, завтра и поход в храм. Правильно ли я поступил, дав Петкову Лулчева? Да или нет?
Тихо ковыляя по комнате, я вновь и вновь — в который раз! — восстанавливаю в памяти ход событий и склоняюсь к мысли, что иного выхода, пожалуй, не было. С чего началось? С того, что, выходя из номеров на бульваре Евтимия, я заметил наружника, потом другого и понял, что оторваться не удастся. Для порядка я помотал их по городу, но они висели у меня на пятках с упорством бульдогов. В течение суток число филеров удвоилось, и я потихоньку терял остатки спокойствия при мысли, что рандеву на улице Царя Калояна назначено и отменить его нет никакой возможности. Положение утяжелялось тем, что, таская наружников по Софии, я рано или поздно мог наткнуться на людей, знавших меня по конторе на улице графа Игнатиева, и, хотя правила предписывали нам не заметить друг друга, никто не поручился бы, что в каком-то случае из правила не будет сделано исключение. Выходило так, что поднадзорная свобода, дарованная мне ДС, становилась опасной не для одного Багрянова.
Будь я всего лишь курьером, выход оставался один — самоликвидация. Но я не был им, и мысль о чемоданчике останавливала меня. Рация и деньги лежали в нем. Бесценный груз! Он был крайне нужен, его ждали, и, следовательно, я обязан был вручить его адресату.
Все, что мог сделать Центр, снаряжая меня в вояж, — подстраховать запасной явкой в храме. Шифровка, трижды повторенная в часы радиоприема, ушла в Софию еще до моего отъезда… Рискнуть или нет? Времени для колебаний у меня почти не было, и я решил, что игра стоит свеч.
Вот так и вышло, что я «подставился», и Петков, бросив текущие дела, примчался на бульвар Дондукова. Судя по всему, ему весьма не хотелось этого делать. Интимная дружба Искры и Слави в ближайшем будущем обещала принести плоды, но я — грубо, в лоб! — сунулся с запиской и паролем и, наломав, таким образом, дров, вдобавок преспокойно завалился спать. Я спал, а Искра названивала в ДС, и Петков, надо понимать, не сиял от радости, слушая ее. Еще бы! Ведь все шло так мило и благородно: агент ДС в роли подруги Слави, из любовных соображений предупреждающая его о том, о сем; сам Слави, обязанный, судя по всему, прибегнуть к ее содействию; совместная их работа под контролем ДС, разумеется. Идиллия!.. А вместо этого?
Я ковыляю по комнате и не без удовольствия представляю, как Петков в кабинете у Львова моста потел, решая задачу. До звонка Искры все развивалось по его сценарию. Агенты топали за мной, беспрепятственно позволяя дешифровать себя: напуганный слежкой, я, как и надлежало, суматошно мотался туда-сюда; записка вела меня к Искре и просьбе оказать ту или иную услугу; и вот на тебе! Афронт, сущий афронт, как говаривали наши деды. Старый пароль!.. Что сие означает? Беспредельную глупость Слави или провал Искры? Если первое, то пора кончать игру: туповатый объект того и гляди полезет не в мышеловку, а под колеса трамвая, и тогда — прости прощай тонкие замыслы! Если второе, то и тут не легче. Надо срочно страховать Искру и попытаться сберечь ее для новых комбинаций. А Багрянова брать; брать в любом случае.
Словом, мы оба — Петков и я — разными тропинками шли к одному, и встреча на бульваре Дондукова состоялась. Вспоминая всякую всячину, я — без особой радости! — признаю, что Петков и там и позже оказался на высоте. Легенду, обосновавшую метаморфозу Искры, он разработал почти безупречно. Зная о распрях между Гешевым и Праматоровым, я обязан был поверить, что Петкову — нож острый, появление Искры в особняке. А трюк с паролем?
Небо свидетель — Петков мастак на выдумки. Накладки с сигаретами и шагами в ночи, в конце концов, не имели значения, ибо я в полной мере оценил их лишь после того, как текст объявления попал к Искре. Лев Галкин проник на четвертую полосу «Вечера», и Слави Багрянов мог сколько угодно кусать локти и посыпать пеплом седеющую голову, упрекая себя в доверчивости и иных смертных грехах. Помнится, я так и делал, и хочу надеяться, что выглядело это достаточно убедительно.
Объявление… Здесь Петков впервые по-крупному рискнул. Или нет? Или он и в данном случае не прогадал?
Я останавливаюсь и, припав щекой к холодной стене, устраиваю привал. Семнадцать тысяч шагов — примерно девять километров. Еще тысячи три, и на сегодня хватит. Сердце кувалдой молотит в ребра, не хочет успокаиваться, и стена под щекой теплеет, начиная согреваться. Я касаюсь ее рукой и скашиваю глаза в сторону стола. Там поверх пепельницы лежит конверт из плотной коричневой бумаги. Моя индульгенция и подорожная в будущем. Вручая мне его вчера, Петков не изображал колебаний.
— Берите, Багрянов, — сказал он серьезно. — Проверьте: паспорт, пропуск, чек. Все на месте…
Я взял конверт, полистал паспорт; все было в порядке.
— Теперь, когда товар у вас, позвольте дать совет. Играйте по-крупному и постарайтесь разумно им распорядиться. — Он помолчал. — На вашем месте я не стал бы терять с нами дружбы. Как знать, не пригодится ли вам ДС!
— Это совет или угроза?
— В Болгарии, знаете ли, неспокойно. И… и не поручусь, что вас не возьмут на прицел партизаны или боевики подполья.
— Или ваши люди? — спросил я в тон.
Петков помедлил, усмехнулся.
— И это возможно. Сдается мне, что дирекция не проявит рвения при поисках убийц. Так вы подумайте.
— Подумаю, — сказал я угрюмо и положил пакет на пепельницу.
Пакет. Так он и лежит на столе, ни разу с вечера не потревоженный. Зачем? Все было без фальши — чек, пропуск, паспорт. В любом варианте для Петкова не имело смысла подсовывать мне «бронзу» и настораживать. Напротив. Он — если уж говорить о намерениях — не должен был дать мне повода заподозрить ДС в данайском значении даров, отнюдь не гарантировавших Слави Багрянову свободу. В свою очередь, и я совсем не обязан был делиться с кем-либо подозрениями по части конца операции в храме… Словом, мы оба вели себя так, будто и не предвидели, что после ареста связника Цыпленок или там Божидар в ближайшем укромном месте, вполне возможно, прихлопнут Слави Николова Багрянова, а конверт со всем содержимым вернется куда положено — в сейф Петкова…
Я отвожу взгляд от конверта и заставляю себя продолжить прогулку. Осталось всего три тысячи шагов. Пустяки.
«Ладно, — говорю я себе. — Не вешай носа, Слави!..» Надежды… Всяк волен не терять оптимизма, даже когда судьба готовится произнести скорбное аминь. Вот и Слави — ему совсем не улыбается сложить ручки на груди в предвиденье краха, и он готов цепляться за любую отсрочку. Если бы Искра не подыграла ему в свое время с объявлением, пришлось бы поломать голову и изобрести иной способ добраться до «Вечера»… Какой?… Ну, здесь так сразу не ответишь. Может быть, я впрямую предложил бы Петкову сделку в отношении Лулчева, а, может быть, нашел другой ход. Все дело в том, что Петков ничем не рискует, делая вид, будто тащится у Слави на поводу. Даже если связь Лулчева с СИС — очередной миф изобретательного Багрянова и объявление в газете означает не вызов на рандеву, а набат тревоги, адресованный кому следует, то и тогда все складывается для ДС сравнительно неплохо. «Кто дает яд, тому известно противоядие», — гласит пословица. Следуя ей, Петков превосходно соображает, что у Багрянова, помимо сигнала «беги!», должен быть в запасе другой — означающий «приходи на встречу».
Кроме того, по-моему, Петков уверен, что с Лулчевым я не лгу. И не зря. Его превосходительство Любомир Лулчев действительно работает на англичан. Я установил это еще тогда, когда процветал в конторе на улице графа Игнатиева. Мои люди наткнулись на агентурщиков СИС случайно, а со временем добыли доказательства, что Лулчев ведет двойную игру. Деньги, получаемые им от британской короны, нисколько не мешали верой и правдой служить немцам, и информация для резидента СИС составлялась в бюро Деппуса. Этот господин, носивший в списках абвера имя Отто Вагнера и чин майора, завербовал советника еще в сороковом, и он же, нащупав резидента Интеллидженс сервис, стал подкармливать Лондон первоклассной «бронзой».
Все это я и выложил Петкову, скрыв от него, разумеется, кое-какие детали. У любой откровенности должны быть разумные пределы, и ДС совсем не следовало знать, кто и когда рассказал Багрянову о Лулчеве. Другое дело — технические подробности, всякие там справки о суммах, полученных советником от англичан. Попроси их Петков от меня и прояви настойчивость, я бы, пожалуй, выложил все, что помнил, но заместитель начальника отделения В, очевидно, располагал какой-то своей информацией о проделках Лулчева, и дело ограничилось констатацией факта.
…Девятнадцать тысяч двести. Десять километров с гаком. Еще совсем немного, и конец. Ничто так не помогает думать, как ходьба… Я закрываю глаза и приваливаюсь к стене.
Так о чем я? Ах да, о Лулчеве и Петкове.
На сей раз заместитель начальника отделения В дважды не прогадал: в отношении явки в храме и связей его превосходительства. И то и другое — сущая правда. Зато Петков, в свой черед, поступил в высшей степени некорректно, мороча голову бедняге Слави. Ах, Петков, Петков! Я готов держать пари, что действует он не на свой страх и риск! Да директор полиции Павел Павлов шею тебе свернет как цыпленку, дружище Атанас, дай лишь ему пронюхать о нашей с тобой частной договоренности… Кто стоит за тобой? Кто вручил тебе конверт для передачи мне? Кто позволил держать Багрянова столько дней на вилле, не прибегнув ни к одному из методов регистрации — фотометрической, дактилоскопической, арестантской? И наконец, кому перепродал ты дело Лулчева, выхлопотав себе вознаграждение? Павлу Павлову? Начальнику военной разведки полковнику Нешеву? Министру внутренних дел?…
Двадцать тысяч шагов. Все…
Марко — унылый Санчо Панса — бочком протискивается в дверь и становится у порога. За его плечом молчит Бисер.
— Извольте побриться, господин, — говорит Марко тоном слуги из хорошего дома. — Господин Петков приказал вас постричь и побрить.
18
…Я волнуюсь.
Не за себя волнуюсь, за дело. Наверное, так чувствует себя командир, посылая людей в атаку — вперед, в неизвестность, к притихшей до поры черной линии чужих окопов.
Нервничает и Петков.
Мы стоим на трамвайной остановке недалеко от школы запасных офицеров. Идет тихий крупный снег и тут же тает; в углублениях рельсов скапливается темная подвижная вода. Снег пошел где-то с полуночи, сопровождаемый капелью. Она звенела под окнами, обваливала сосульки и с трудолюбием дятла клевала жестяные подоконники. Петков, незадолго до того прибывший на виллу, в мокром плаще сидел в углу и безостановочно, одну за другой, истреблял сигареты. Пепел, похожий на цилиндрики артиллерийского пороха, был рассыпан где попало — на столе, на полу, в складках брюк. Мы обговорили все, глаза у меня слипались, но Петкову было мало — он раз за разом возвращался к одному и тому же, не уставая и не повышая голоса. В конце концов, мне надоело, и я запротестовал.
— Сколько можно? Я все понял — и о вас и о себе. Надо ли повторяться?
— Считаете, не надо? — сказал Петков. — Как знать. От повторения вреда не будет; зато, если что-нибудь напутаете, пеняйте на себя… Главное, ведите себя смирно.
До этого Петков битый час объяснял мне, чем все кончится, если я попытаюсь отступить от инструкций. Я слушал его вполуха и радовался, что все скоро кончится. Капель обрабатывала подоконники, и сосульки ухали, мягко взрываясь в сугробах; для ощущения благополучия не хватало мурлыкающей кошки.
Волнение пришло ко мне только сейчас, на остановке. Мы добрались сюда на двух автомобилях — в головном ехали агенты, в другом — мы с Петковым.
Ноги у меня мерзнут, и я тихонечко постукиваю каблуками, украшая брюки стоящего рядом Петкова серыми точками грязи. Агенты — их четверо — зябнут поодаль, одинаковые, в плащах с поднятыми воротниками. Им еще предстоит померзнуть, околачиваясь возле храма. Заутреня протянется не менее часа, и я, думая об этом, испытываю некоторое удовлетворение.
Трамвая все нет и нет. Я выплясываю ритмический танец и рассматриваю забеленный снегом склон напротив. Трамвайная линия проложена у подошвы невысокого холма, за которым — если взять вправо — лежит Лозенец, самый что ни на есть респектабельный квартал Софии. О том, что за моей спиной расположен стрелковый полигон, я стараюсь не думать. На полигоне расстреливают.
Петков вплотную придвигается ко мне, берет под руку. Он неестественно оживлен; губы растянуты в улыбке.
— Замерз, бай-Слави?
— Опоздаем к заутрене, — говорю я и пристукиваю каблуками.
— Не о том беспокоишься, — говорит Петков и берет меня под руку. — Моли бога, чтобы он пришел.
— Трамвай?
— Твой человек.
— Придет. Послушай, надо ехать в машине. Ручаюсь, нас некому засекать.
Остановка пуста — только мы шестеро, и я говорю громко. Агенты поворачиваются на голос, а Петков изо всей силы сжимает мой локоть.
— Потерпим. Христос и тот терпел.
Один из агентов длинно, с присвистом зевает. На лице у него скука и томление. Он мелко крестит рот и, не отнимая пальцев от губ, дует на них. Глядя на него, зеваю и я, и как раз в эту минуту с воем раздавленной собаки возникает трамвай — желто-красный вагончик, не спеша скатывающийся вниз, под уклон. Пальцы Петкова впиваются в мой локоть, и по мышце до плеча молнией проскакивает судорога. Я невольно вырываю руку, заставив агентов встрепенуться. Тот, что зевал, делает шаг ко мне и лезет в карман.
— Ты чего? — окликает его Петков. — А ну на место. И чтобы не лезть к нам в вагоне. Держитесь поодаль, поняли?… А ты не дергайся, бай-Слави. Они могут не понять, в чем дело… Ну с богом!
Я сжимаю зубы и карабкаюсь на обледенелую подножку подошедшего трамвая. Петков подталкивает меня в спину, помогает не соскользнуть. Рука у него твердая.
В трамвае пусто. Лишь у будочки вожатого дремлет, кивая при толчках, пожилая крестьянка в шопском плате. Плат в нескольких местах заштопан; я успеваю заметить это, пока Петков, звеня стотинками, расплачивается и садится, притиснув меня к стенке.
Плечо Петкова наваливается на мое. Губы приникают к уху.
— Бай-Слави… Ты слышишь меня? Не вздумай глупить в храме. Уйти тебе не дадут. Ты понял?
— Угу, — говорю я, чувствуя на щеке капельки слюны.
— Ты узнаешь его?
— Откуда? Говорил же тебе: он сам меня узнает.
Петков отодвигается, чтобы через секунду вновь придавить меня к стенке. Шепот буравит перепонки.
— Наступишь мне на ногу, когда он подойдет. Два раза.
— Помню.
— Веди себя так, словно меня нет.
— Хватит, — говорю я сердито. — Сколько можно? Если ты в чем-то не уверен, давай вернемся.
Я вытираю со щеки слюну и раздраженно отстраняюсь. Я что ему — железный, каменный, бетонный, кирпичный? Египетская пирамида, что ли? И когда только настанет конец? Знал бы кто-нибудь, как я устал.
А Петкова все несет. Он не может или не хочет остановиться. Слова выскакивают из него, стертые, не имеющие смысла. О чем говорить, если все решено? Если все, до самой последней запятой, обговорено еще там, на вилле? Я выстраиваю глухую стену, отгораживаюсь ею и пытаюсь жить сам по себе — шевелю пальцами в ботинках, отогревая ноги, считаю штопки на плате крестьянки.
— Вставай, бай-Слави! Пересадка… Живее!
Стена, воздвигнутая с немалым трудом, рушится, и я, поднявшись, двигаюсь к выходу. Один из агентов прет за мной через весь трамвай и выскакивает уже на ходу. Прыгает он неловко, подворачивает ногу, и Петков, услышав вскрик за спиной, не оборачиваясь, рычит:
— Болван! — И ко мне: — Не отставай, бай-Слави.
Спотыкаясь, я перехожу пути; останавливаюсь, и почти сразу же подходит вагон — череда светящихся квадратов, опушенных инеем. Желто-красные бока посеребрены. Дошагивая до подножки, я провожу по серебру растопыренной пятерней и оставляю на нем волнистую нотную строку. «Ля!» — вызванивает трамвай. «До!» — протягивают, сдвигаясь с места, колеса. «Соль!» — чистенько тренькает колокольчик в будке водителя. Не трамвай — музыкальная шкатулка.
Не хочу думать. Ни о чем.
— Бай-Слави! — толкает меня в бок Петков. — В храм зайдем вместе. Не забудь снять шапку и перекреститься.
— Без креста нельзя?
— Хватит!
Рука Петкова, просунутая под мой локоть, сигналит, что пора подниматься. По зыбкому полу мы идем к задней площадке, и я рассматриваю темные от грязи планки настила. Между ними поблескивает монетка. Я нагибаюсь, поднимаю и, зажав в кулаке, кожей пытаюсь определить — орел или решка.
Мы выбираемся на улицу, и сырость темного, непрогретого утра заставляет меня задрожать. Площадь перед храмом полна народу, мы вклиниваемся в толпу, нас толкают, бранят; зубы у меня клацают, а Петков что-то говорит мне, но я не слышу, все еще стараясь понять, какой стороной лежала монетка — решкой или орлом.
Ступень. Еще ступень. До разверстой двери храма рукой подать. Оттуда тянет теплом, сладким воздухом хорошо протопленного жилья.
Служба еще не началась, огни пригашены, и лики святых — темные на темном — прячутся в полутьме. Сотни и тысячи маленьких свечек отражаются в золоте риз. Они горят ровно и спокойно, освещая самих себя, и люди — лица их, одежды, руки — тенями скользят, приникая друг к другу, благостно призрачные и отрешенные ото всего.
— Свечи, — нервно говорит Петков. — Возьми же свечи!
Две тонкие восковые тростинки покорно сгибаются у меня в руке. Воск податлив, пальцы сминают его; я смотрю на огоньки свечей и ничего не понимаю. Где я? Кто я? Зачем я здесь?
Призрак среди призраков.
Я резко встряхиваю головой, и тени превращаются в людей. Мужчин и женщин. Они окружают нас с Петковым — дышат, сопят, кашляют, сморкаются, что-то пришептывают — сотни богомольцев, братьев и сестер во Христе, словно бы приросшие к полу и отделяющие нас от аналоя и царских врат.
«Ну?» — спрашивает глазами Петков.
Я пожимаю плечами и взглядом указываю вперед.
Петков кивает.
Плечи у него чугунные, и прихожане, уступая напору, без протестов очищают дорогу. Нам надо туда, в глубь храма — поближе к вызолоченным царским вратам. Я верчу головой, пытаясь найти агентов, но толпа густа, и, если они есть, то отличить и выделить их не удастся. Четверо охранников остались на улице; здесь должны быть другие, чьи лица мне незнакомы, и я, подумав об этом, воздаю Петкову должное. Он, как всегда, предусмотрителен — не зная никого, я должен бояться всех.
«Не отставай!» — сигналит Петков глазами.
«Иду!» — отвечаю я и двигаюсь к аналою.
Где-то здесь должна произойти встреча.
Золото, бархат, серебро лампад. Удлиненные лики на досках и тяжкий запах пота, идущий от людей. Я сжимаю незажженные свечи и кошусь в сторону одной из богомолок. Черный платок, черное пальто… Искра!
Петков больно толкает меня локтем. Шепчет сквозь зубы:
— Где?
На миг я отвлекаюсь и теряю женщину из виду. Искра или нет? Мало ли в мире черных пальто?
Мы останавливаемся на свободном пятачке — слева от огороженного квадрата, предназначенного для священника. Впрочем, может быть, не для священника, а для кого-то еще — я плохо разбираюсь в тонкостях богослужения и знаю только одно: стоим мы там, где надо.
Все должно начаться одновременно со службой.
Через несколько минут.
Теперь ничто уже не зависит от меня. Если шифровки Центра попали по назначению, если половина прихожан не является агентами ДС, если мне удастся превозмочь слабость, если тот, кого я знаю как Густава, окажется рядом и ответит на сигнал, то тогда я получу шанс — первый и последний реальный шанс! — превратить желаемое в сущее… Как много «если», а шанс — один.
Я оглядываюсь — аккуратно, не поводя головой. Рядом почти нет мужчин, а те, что есть, непохожи на агентов. Впрочем, черт их разберет, кто есть кто. Не проворонить бы Густава.
Дыхание мое пресекается. Горло перехвачено, и тугой комок у кадыка никак не хочет сглатываться. Три свечки в протянутой руке возникают из-за спин, и я поднимаю повыше две.
Густав!
— О! — говорит Петков и не успевает докончить.
Я вижу его округленный рот, немыслимо вздернутые брови и что есть силы наотмашь рублю ребром ладони по ненавистной шее. По адамову яблоку. Изумление возникает на лице Петкова и исчезает — вместе с лицом, телом, самим Петковым, кулем оседающим к моим ногам.
Кто-то хватает меня за плечо… Я вырываюсь… Крик…
— Сюда!
Опять рука на плече, но теперь я уже соображаю, что это Густав, и, не рассуждая, устремляюсь туда, куда он меня тащит, волочет, тянет, расшвыривая людей. Что-то выпадает из моего разжатого кулака. Что?… Ах да, монетка. Пропади она пропадом!
Огромная икона возникает на пути, и я не успеваю уди виться, увидев на ней дверную ручку. Дверь? Чертовщина какая-то!.. Густав ногой пинает ее, вбрасывает меня в черный зияющий подвал; я едва успеваю пригнуться; попадаю в чьи-то руки и, безотчетно доверяясь им, бегу, увлекаемый невидимыми мне людьми, по неосвещенному коридору.
— Скорее!.. — задыхаясь, орет Густав.
Он огромен и тяжел, гораздо выше и тяжелее меня; я знаю, что у него астма, и, как о чем-то постороннем, думаю, что ему, должно быть, очень трудно бежать… А эти с ним — кто они?… Двое.
Поворот. Снова поворот. Еще один. Меня разворачивают, подталкивают, направляют — и все это молча, тяжело дыша.
— Стой, — запаленно командует Густов. — Боян, проверь.
— Ты где? — говорю я, едва держась на ногах.
— Здесь. Тише… Ну что, Боян?
— Там женщина. Та самая…
— О черт… Вперед, ребята. Боян, прикроешь!
— Понял!
— Слави, за мной…
Мокрая от пота рука вцепляется в мою и тянет. Опять идти? Я же не могу!..
— Слави. Да не упирайся, мать твою!..
Я бегу — нет, лечу! — из последних сил. Сиплое дыхание, мое собственное или чье-то, бьется в уши.
— Не могу…
— Можешь!.. Давай сюда…
Неестественно беззвучно открытая дверь — и улица. Не развеянная рассветом темнота. Холод валится на меня, снежным кляпом забивает рот.
— Перебегай, — неожиданно спокойно говорит Густав из за спины.
— Куда?
— На ту сторону. Боян прикроет.
Я ступаю на тротуар, пытаюсь оглядеться и оскальзываюсь. Балансирую на одной ноге, только бы не упасть!
— Берегись! — кричит Густав.
Темнота улицы, темнота одежд. Удержавшись на ногах, я на миг, на десятую секунды столбенею — черное пальто, белый овал… Искра!.. Значит, я не ошибся там, в церкви? Как она попала сюда?
— Стой, бай-Слави!
— Искра? — говорю я и делаю шаг к ней.
— Назад! — ревет Густав.
Кто-то выпрыгивает из-за моей спины, а я стою, стыну на месте, глядя, как медленно — слева направо — рассекает нож сначала мрак, потом черное пальто, и женщина падает, совсем уже медленно, клонится ко мне, длинно всхлипывает и, отбросив телом мою руку, скорчившись, ложится в снег.
— Что? — говорю я. — Что?
Другие слова не идут на язык. Я забыл, как они произносятся.
— Что? — шепчу я на бегу, подхваченный Густавом и одним из боевиков. — Зачем?… Куда?
Ничего не понимаю… Кажется, мы стоим во дворе. Или в подворотне. Или — нет — в парадном… Стоим. Живем. Дышим.
— Слави! Ты как?
— Ничего.
— Сейчас, старина.
— Ничего, — твержу я и ощупываю рукав — мокрый, теплый.
Кровь? Чья? Искры?… Ну да, не моя же. Я-то жив!
— Тише, — говорит Густав. — Ну и задал ты нам работы, старина.
Где-то далеко — в тридевятом царстве — начинают надрываться полицейские свистки. Поздно…
— Порядок, — говорю я. — Чего ждем?
— Сейчас. Помолчи, старина.
Густав треплет меня по плечу, и я закрываю глаза. Ничего нет — пустота. Темное тепло неосвещенного подъезда. Остров. Ну да, остров. А я островитянин и скоро поеду на материк. Вот только отдам чемоданчик и поеду…
— Где ты, Густав?
— Здесь, старина. Потерпи немного.
Старый товарищ, мы работали с ним. Иногда — не чаще раза в месяц — пили кофе в моей конторе на улице… на улице… Как она называлась, эта улица?… Забыл.
— За что вы ее? Зачем?
— Она из ДС.
— Знаю.
— Ничего не поделаешь, старина.
Почему Искра? Почему не Петков? Она была еще молода и могла начать жизнь иначе. Была… Я стою и не могу заставить себя открыть глаза. Я взрослый несентиментальный мужчина, многое перевидевший на своем веку. Почему же мне так больно, хотя убит враг? Кто скажет, почему?
— Пора, — говорит Густав обыденным голосом. — Прикроешь нас, Боян. Пошли!
— Пошли…
Все еще темно, и в небе — ни одной звезды. Зимой не видно звезд. Я стою на тротуаре, а в глубине переулка тигриными зрачками мерцают притемненные фары автомобиля.
Примечания
1
Окончание. Начало в предыдущем выпуске.
(обратно)2
СИС — Сикрет интеллидженс сервис — разведывательная служба англичан.
(обратно)3
Делиус (Отто Вагнер) — резидент гитлеровской разведки в Софии.
(обратно)
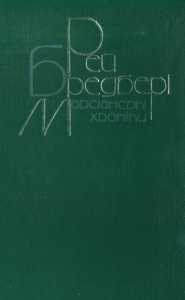




Комментарии к книге «Искатель, 1979 № 03», Геннадий Васильевич Максимович
Всего 0 комментариев