Юрьев Зиновий Юрьевич
ДАРЮ ВАМ ПАМЯТЬ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН
"Дарю вам память" фантастический роман, повествующий о том, как несколько советских людей разных профессий оказываются волею случая в обстоятельствах, при которых они смогли помочь далеким братьям по разуму. В романе затрагиваются проблемы нравственности и технического прогресса.
- Чем больше мы знакомимся с другими, тем глубже познаем себя.
- Простите, дорогой, но это довольно банальная истина.
- Истина не может быть банальной, ибо она неисчерпаема, банальным может быть только ее понимание.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Было время, когда различного рода авторские предисловия и предуведомления считались признаком хорошего тона и книга без них почиталась чуть ли не легкомысленной. Ныне же они вышли из моды, и это, по-видимому, очень хороню, поскольку то, что писатель не смог сказать в книге, он не скажет и в предисловии, а если в предисловии ему это удастся все-таки сделать лучше, чем в книге, то не стоило и писать саму книгу.
И тем не менее я не мог обойтись без предисловия, ибо хотел рассказать о первом знакомстве с человеком, рассказ которого и стал основой этой книги.
Итак, все началось с того, что мы с сыном приехали на недельку-другую на большое озеро, расположенное на Средне-Русской возвышенности. Здесь, по слухам, была изумительная рыбалка, всегда для городского любители призрачная и ускользающая, как некое рыбное Эльдорадо.
Мы остановились в маленькой чистенькой деревушке недалеко от озера. Мне бы хотелось добавить к ее описанию еще и слово "тихая", но по шоссе, серым аккуратным пробором разделявшем деревню на две равные части, почти сплошным потоком текли "Жигули" и "Москвичи" с номерами всех областей европейской части страны. Похоже было, что слухи о хорошей рыбалке доходили не только до нас.
Мы вытащили из рюкзака три донки моей собственной конструкции, на изготовление которых ушла вся зима, и помча лнсь к озеру. Я расписывал сыну преимущества моей снасти и жалел, что наша портативная коптильня была, пожалуй, маловата для здешней чудо-рыбы, которая сразу же ринется на столичные донки.
- Ты бы лучше посмотрел на берег, - сказал сын.
Увлеченный описанием наших предстоящих триумфов, я и не заметил, как мы подошли к озеру. Я осмотрелся. Берег был многослойно усеян разноцветным и палатками. Между палатками бесцельно бродили собаки и дети, а у самой воды с интервалом в полметра сидели рыболовы. Время от времени кто-нибудь вскидывал удилище, но, увы, ни одна серебряная тушка не прочерчивала воздух. Рыболовы сосредоточенно поправляли червячков, стараясь взбодрить их и представить рыбе в самом соблазнительном виде, но в медленных их движениях чувствовалась обреченность неудачников, примирившихся еще с одним крахом иллюзий.
- Д-да, - сказал сын, и в голосе его послышалась безжалостная ирония молодости, - может, все-таки коптильня окажется не мала?
Я вспомнил, как его классная руководительница жаловалась, что он своим тихим, вежливым голоском умеет вывести из себя даже самого кроткого преподавателя.
- Ладно, пойдем исследовать берега, не везде же так, без особого убеждения сказал я.
Километрах в шести-семи от деревни мы наткнулись на ворота, перегородившие узенький, но укатанный проселок. На воротах красовались две таблички. Одна гласила, что здесь находится лесопитомник, другая строго настрого запрещала проход и проезд. Запрет подействовал на нас гипнотически. Мы посмотрели друг на друга, разом кивнули и вошли в лесопитомник. Мы миновали несколько аккуратных домиков и пошли к озеру. Пo обеим сторонам дорожки были разостланы яркие ковры посадок. Маленькие деревянные таблички сообщали, что более светлый ковер состоял из крошечных сосенок Finns Silvestris четырехлетнего возраста, а ковер потемнее соткали Piceaрhies, то есть елочки.
Дорожка привела нас к узенькому полуострову, заросшему ольхой, березой и крапивой. Крапива была чудовищная: густая, в рост человека, свирепая. Похоже было, что мы попали в краиивопитомник республиканского значения.
- Может быть, пойдем обратно?- неуверенно спросил сын.
- Я никогда не отступал перед крапивой, - надменно сказал я, надел куртку, которую нес на руке, и начал пробираться сквозь заросли.
Через несколько минут и полдюжины крапивных укусов мы попали на крохотную прогалинку у самой воды. Глубина здесь оказалась подходящей, дно - песчаным и чистым, и настроение у меня поднялось.
- Сейчас подкормим рыбку, привадим ее сюда, а завтра раненько уже начнем ловить.
Дрожа от холода и клацая зубами, мы вошли в воду и поплыли, стараясь удержать в поднятых руках пластиковые, с дырочками, мешочки, набитые сваренной накануне кашей.
- Понимаешь, привлеченная кашей, сюда соберется крупная рыба. А тут как раз им на выбор деликатесы на крючках: червяк, онарыш, хлеб.
- Ладно, посмотрим, - сказал сын.
Назавтра мы явились в свой крапивопитомник чуть свет и снарядили все три донки.
- Пап, - сказал сын, - а можно, я потащу домой всю рыбу?
- Пожалуйста, но особенно не хвастай.
Минут через десять сын начал проявлять признаки нетерпения:
- Ну, где же твоя рыба?
- Терпение, друг мой. Напряги немножко свою скудную фантазию и постарайся вообразить, что происходит там, в глубине. На чистом песчаном дне лежат два пакета с кашей. Вода неспешно разносит божественный аромат. Рядом - настоящая выставка-распродажа деликатесов: отборные жирные черви, неутомимо танцующие на крючках, степенные онарыши, аппетитные хлебные шарики. А вокруг, разинув рты от эдакого изобилия, застыли в трансе огромные окуни, пучат глаза лещи, дивится жирная пелядь. С чего начать? За что хвататься? На почтительном расстоянии - кольцо зрителей низкого звания: всякие там красноглазые плотвички, щунленькие неврастеники ерши, неразумные подлещики и прочий рыбный плебс.
- Если бы ты только умел так ловить, как рассказываешь! вздохнул сын.
К концу первого часа леска, пропущенная через колокольчик одной из донок, слегка дернулась. Толчок был такой слабый, что колокольчик не только не звякнул, он едва шелохнулся. Я подождал немножко, подсек и вытащил донку. За один из четырех крючков зацепился крошечный окунек. На него было больно смотреть.
Часом и двумя плотвичками позже сын демонстративно заснул, положив под голову рюкзак. Я сидел, уставившись в неподвижные колокольчики. Стало совсем тепло. Миллиарды солнечных бликов петоропли во купались в заливчике, переворачиваясь с боку на бок. С противоположного берега ветерок приносил обрывки игрушечного голоска, певшего про Арлекино.
Внезапно в этот теплый и дремотный мир ворвалось тарахтение лодочного мотора. В заливчик влетела "казанка" с "вихрем", описала плавную дугу и, чихнув, замолкла где-то неподалеку. Хотелось верить, что навсегда.
Минут через двадцать я услышал чьи-то шаги и обернулся. Из крапивных джунглей вышел мрачноватого вида человек лет двадцати пяти тридцати., аккуратно перешагнул через моего сына и подошел ко мне.
- Доброе утро, - сказал я.
Должно быть, человек уловил в моем приветствии какой-то упрек, потому что пристально посмотрел на меня, едва заметно пожал плечами и сказал:
- Доброе утро. Как успехи?
- Так себе, - неохотно пробормотал я, - не о чем особенно говорить. Окуньки, плотвички, одни подлещик, которого правильнее было бы назвать субподлещик...
- Как вы сказали? Субподлещик? - Незнакомец вдруг улыбнулся: - Отличное словечко! Субподлещик. Субподрядчик.
Теперь незнакомец казался мне уже симпатичным: живые, смеющиеся глаза, приятные черты липа.
- Позвольте представиться, - сказал человек, который сумел оценить моего субподлещика, - Павел Пухначев, сотрудник здешней районной газеты. Разрешите пригласить вас позавтракать, тем более, похоже, я распугал мотором всю рыбу.
- Спасибо, - сказал я и отметил, что человек мне нравится еще больше: во-первых, мне давно уже хотелось есть, а во-вторых, он снимал с меня ответственность за плохой улов. Спасибо. Принимаю ваше приглашение с благодарностью. Позволые и мне представиться. Я назвал себя и церемонно наклонил голову.
Я разбудил сына, и мы пошли к еще одной прогалинке. Привязанная к кривой ольхе, у берега сонно ворочалась старенькая "казанка". Внезапно в лодке что-то сильно дернулось, сочно шлепнуло.
- Что это у вас там? - спросил я.
- Да ничего, поймал кое-какую мелочь...
- А можно посмотреть? - спросил сын.
Мы подошли к "казанке". На деревянном настиле лежали три бурых длинных полена. Внезапно одно из них сжалось пружиной, подпрыгнуло, распрямилось, и я понял, что поленья - здоровенные, килограммов по пяти-шести, щучины. Последний раз я видел таких в книжке "С блесной на хищных рыб".
- О-о-о! - восторженно затрубил сын, бросил на меня быстрый иронический взгляд, и я понял, что сейчас он мысленно сравнивает моих анемичных крошечных плотвичек и этих великолепных хищников. Остатки моего родительского авторитета гибли под ударами щучьих хвостов.
- Потрясающие щуки, поздравляю, - сказал я. - А что-нибудь еще поймали?
- Да вот несколько пелядей, это ведь наша, так сказать. местная гордость.
Павел достал из-под скамейки две пузатые серебряные рыбины, которые могут являться такому рыболову, как я, только во сне.
- Могу поделиться, - сказал он.
- Спасибо, - выдохнул сын, прежде чем я успел открыть рот.
Наверное, он уже представлял, как будет идти сквозь палаточное туристское население, небрежно неся в руке серебряную красавицу. А сопровождать его будут восторженные и завистливые взгляды.
- Вы просто виртуоз, - сказал я.
Я даже не завидовал его улову. Завидовать можно чему-то соизмеримому с тем, что есть у тебя. Если бы он показал мне десять окуньков граммов, скажем, по сто, я бы, наверное, возненавидел его...
- Да что вы! Я просто знаю здесь каждую яму, каждое место, где стоит крупная рыба. Я ведь вырос здесь... Ладно, давайте завтракать. С рыбой возиться - дело долгое, а вот крутые яйца, хлеб с маслом и кофе из термоса к вашим услугам.
- Скажите, только честно и не обижаясь, вы пригласили нас потому, что вам не хотелось есть одному, или вам хотелось похвастаться? Только, еще раз повторяю, честно, потому что я литератор, и мне это интересно...
Павел быстро взглянул на меня и улыбнулся:
- Пу, раз вы литератор, обманывать не буду и то и другое. А что вы пишете?
Я сказал, что пишу в основном фантастику, назвал не сколько своих книг. Павел виновато пожал плечами:
- К сожалению, не слышал... - Он нахмурился и принялся молча есть.
Странно, подумал я, как будто я его ничем но обидел.
Внезапно он внимательно посмотрел на меня, чуть наклонив голову набок, словно оценивал, и усмехнулся:
- Скажите, вот вы, писатели-фантасты, выдумываете разные необыкновенные вещи, всякие там роботы, вечные двигатели, описываете инопланетян и прочие занятные штуковины. Прекрасно. А как бы, интересно, реагировал писатель-фантаст, сам встретив нечто необычное? Так же недоверчиво, скептически, как большинство людей, или он в большей степени готов к встрече с тайной?
- Как вам сказать... Мне трудно отвечать за весь наш цех, но я знаю одно: я могу быть настроен как угодно скептически - все-таки мы приучены нашей эпохой мыслить рационально, но я никогда не смеюсь над тем, чего не понимаю. Людям вообще не следовало бы забывать вердикт Французской Академии наук о небесных камнях...
- А что за вердикт?
- В свое время это почтенное научное учреждение постановило, что падающие с неба камни - это предрассудок, что подобного явления быть не может.
- Забавно, - пробормотал Павел.
Он помолчал, еще раз бросил на меня оценивающий взгляд, молча кивнул, как будто решился на что-то, и вдруг сказал:
- Ну, посмотрим. Точнее, посмотрите вы.
Он достал из лодки куртку, вынул бумажник, извлек из него фотографию и протянул мне. На фотографии девять на двенадцать не слишком опытным мастером была снята деревенская улица. На переднем плане - собака.
- И что я должен здесь увидеть? - спросил я.
- И вы не видите здесь ничего необычного? - недоверчиво спросил повелитель щук.
- Да н-нет как будто,- неуверенно пробормотал я и еще раз взглянул па фотографию. И тут только я заметил, что собака была необычной. На фотографии она была снята сбоку, и легко можно было заметить, что у пса пять ног: три спереди и две сзади. - Отличный монтаж, - сказал я. - Для чего собаке пятая нога, и тому подобное...
- Удивительно, как все люди думают одинаково!..
Я почувствовал себя несколько обиженным, хотя, честно говоря, пятая нога действительно лежала на поверхности.
- Даже молодой человек, пославший это фото в "Литературку" для раздела "Что бы это значило?", сам предложил точно такую же подпись.
- И что, напечатали? Что-то я не помню...
- Да нет, даже не ответили. Впрочем, представляю, сколько они получают всякой ерунды. По дело вовсе не в этом. Дело в том, что это не монтаж, не коллаж и вообще не подделка.
- То есть?
- То, что я вам говорю. Объектив аппарата "Зоркий-5" зафиксировал только то, что видел: собаку о пяти ногах.
- Интересно. И где же этот монстр?
- Его нет.
- И куда же он делся? Согласитесь, что пятиногие собаки встречаются не каждый день.
- Наверное. Но дело в том, что пятая нога у этой собаки исчезла через несколько секунд после того, как был сделан снимок.
- Как это - исчезла?
- Так и исчезла. Бежала собака о пяти ногах. В этот момент ее сфотографировал очень серьезный юноша, в то время ученик восьмого класса... впрочем, можно считать девятого, поскольку дело происходило летом и он уже перешел в девятый. Кстати, отличник. Он щелкнул, собака, должно быть, заметила это, на мгновение замерла, и тут же пятая нога, по словам Сережи Коняхина - так зовут мальчика, который сделал фото, как бы втянулась, исчезла. Он тут же перевел пленку и успел щелкнуть еще раз. Вот второе фото, смотрите: ног уже четыре.
Журналист искоса взглянул на меня, очевидно изучая мою реакцию. Выражение лица у него при этом было снисходительное. Щуки потрясающие, подумал я, тут ничего не скажешь, но это насмешливое превосходство, сквозившее в его словах, раздражало. Наверное, комплекс неполноценности провинциального журналиста, желающего показать столичному литератору, что и он не лыком шит.
- И вы хотите уверить меня, что это было именно так, как вы описываете?.. Отличный, кстати, у вас кофе.
- Спасибо. Да, все было именно так.
- Вам рассказал об этом фото... как его имя, этого мальчика?
- Сергей Коняхин. Да, он. И еще одна старушка, которая сидела на лавочке. Вот она. видите? И, наконец, мне рассказала об этом сама собака...
Я рассмеялся и тут же осекся, потому что в глазах моего собеседника не было смеха. Куда только делось все его превосходство! Он смотрел на меня с напряженным вниманием, весь сжавшись, побледнев. В "казанке" снова подпрыгнула щука. О господи, такой симпатичный парень... в таком возрасте...
Павел медленно покачал головой, словно отвечая моим мыслям.
- Нет, - сказал он, - это не то, что вы думаете. Я не болен. Просто я оказался свидетелем и участником событий, которые... которые... как бы это сказать... не вписываются в рамки нашего опыта. Понимаете? Я ведь не прошу, заметьте, вас верить, тем более авансом.
И вдруг, не знаю почему, я почувствовал, что верю, вернее, хочу верить этому человеку, что должен во что бы то ни стало выслушать его историю. Нет, я, конечно, не верил в собак, выпускающих и втягивающих запасные конечности, но я верил, что сидящий передо мной человек абсолютно нормален.
- Паша, - сказал я торжественно, - вы расскажете мне все. Черт с ними, с моими хилыми плотвичками, пусть живут и плодятся. Рассказывайте все по порядку. Здесь или где вам угодно. Я буду вас слушать, пока вам не надоест.
- Спасибо. - Журналист вдруг улыбнулся и протянул мне руку; в улыбке было облегчение и радость. - Но учтите, что это длинная история, очень длинная...
ПРЕДИСЛОВИЕ ПАВЛА ПУХНАЧЕВА
Издательство и автор попросили меня написать коротенькое предисловие к этой книге, в котором я бы изложил свое отношение к ней. Мне трудно судить о ее литературных достоинствах и недостатках, так как вся эта история для меня - то, что я видел, узнал, почувствовал, пережил. Для автора же это в первую очередь художественное произведение, предназначенное для читателя. Для издательства это просто еще один фантастический роман.
И тем не менее, несмотря на некоторые литературные красоты, которые мне не очень по душе, я должен сказать, что автор постарался по мере своих сил точно передать мой рассказ. В некоторых местах ему пришлось что-то додумывать, но это ни в какой степени не искажает общей картины.
По причинам, которые, надеюсь, станут понятными после прочтения книги, мое настоящее имя, равно как и имена остальных участников событий, а также названия озера, города, газеты, в которой я работаю, изменены.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 1
В крошечном кабинетике было душно. Павел подошел к окну, открыл его, но с улицы пахнуло плотным июльским зноем. К тому же возле универмага через площадь у кого-то не заводился "ЗИЛ", и надсадное завывание прокручиваемого вхолостую двигателя назойливо лезло в уши. "Хоть бы побыстрее у него сел аккумулятор", - подумал Павел и закрыл окно.
Он вставил чистый лист бумаги в старенький "рейнметалл". Машинка была своенравна. Иногда она вела себя примерно, строго соблюдала положенные интервалы, а то вдруг по своей прихоти увеличивала их или сокращала. Время от времени Павел заводил разговор о том, что машинку пора выкинуть, но в глубине души знал, что разговоры так и останутся разговорами, потому что "рейнметалл" был редакционным ветераном, а ветеранов в утиль не сдают.
Надо было написать небольшой фельетончик о работе химчистки. Мало того, что клиентов заставляли спарывать пуговицы и пришивать бирки, - они должны были сами отыскивать свои готовые вещи, сами упаковывать их.
Павел представил себе реакцию тети Маши, заведующей приемным пунктом, на фельетон. Огромная, черная, как жук, с капельками пота на верхней губе, она наверняка тут же примчится в редакцию, усядется в кабинете редактора, жалобно скрестит полные, в детских перетяжках руки на необъятной груди, склонит голову набок и начнет причитать скороговоркой: "Что ж он меня позорит на весь город? Давайте штаты, будет этот... сервис. Нету штатов - нету обслуживания. А Пашка стыдиться должен: я его еще махонького знала, когда он не фельетоны писал, а дул в штаны..."
Павел улыбнулся. Общая структура фельетона была ясна: метод доведения до абсурда. Начать с пуговиц, поисков, потом предложить клиентам самим заполнять квитанции и, наконец, самолично чистить свои вещи. Оставалось начало. Допустим, так: самообслуживание - прекрасная вещь, но все на свете должно иметь разумные пределы, в том числе и самообслуживание. Нет. Претенциозно, громоздко и не слишком остроумно, мягко выражаясь.
Он вдруг вспомнил, как кто-то у них на факультете рассказывал, будто у одного столичного фельетониста есть пособие, как писать фельетоны. И будто это пособие похоже на такой картонный круглый фотоэкспонометр - такие же в нем кружки, которые надо совмещать друг с другом. Допустим, нужно сочинить фельетон о крыше, которую жэк никак не желает отремонтировать. На одном кружке находишь быт, на другом - ремонт, на третьем - крыши. Все совместишь и видишь: ничто не вечно под луной, кроме крыши, которая нуждается в ремонте.
Утробный вой заводимого двигателя, смягченный закрытым окном, внезапно стих. Слава богу, наверное, аккумулятор в конце концов сел. Навел вытер пот со лба и подумал, что надо все-таки открыть окно, но в этот момент в комнатку вошел редактор. Как и всегда, он показался не сразу: вначале возник его длиннющий мундштук, затем наиболее выдающая с я точка живота, а затем уже и все остальные детали, из ко торых был собран редактор районной газеты "Знамя труда" Иван Андреевич Киндюков.
Редактор навел мундштук на Павла и спросил:
- Вы что делаете?
- Да вот пытаюсь фельетончик сочинить о химчистке. Два письма с жалобами.
- Прекрасно. А скажите мне, Павел Аристархов сын, сколько раз за последние годы мы писали о химчистке? Молчите? То-то же. Есть вещи, прекрасные в своей неизменности, например плохая работа химчистки, и не нам с вами покушаться на вечный распорядок вещей. То-то же. Я вам могу предложить темку поинтереснее. Вы ничего не слышали о всяческих нелепостях, якобы имеющих быть в нашем Приозерном?
- Что вы имеете в виду? - осторожно спросил Павел, пытаясь сообразить, чего хочет от него редактор.
- Увы, как настоящий газетчик, обо всем узнаешь последним. Даже Сергей Ферапонтович, когда я у него был сегодня, расспрашивал меня о каких-то дурацких слухах, циркулирующих в нашем прекрасном городке. Будто кто-то видел не то двойника, не то привидение, собаку не то с пятью, не то с шестью ногами. Вот такая текущая информация. Сергей Ферапонтович и предложил, чтобы мы, а точнее вы, остро и едко высмеяли глупые предрассудки.
- Предрассудки?
- Так сказал Сергей Фераионтович. Срок - два дня. Размер - неограниченный. Действуйте, Павел Аристархов сын. И вообще... - Редактор сделал неопределенный жест и вышел из комнаты.
- Иван Андреевич! - крикнул Павел, бросаясь к двери. Чье хоть привидение?
- Будто бы мужа Татьяны Осокиной, - отозвалось редакторское эхо, - бухгалтера из инспекции Госстраха...
По-крайней мере, можно хоть не томиться в этой жаре, подумал Павел, выходя из двухэтажного домика редакции. Из недвижимого "ЗИЛа" у универмага свисали две вялые ноги водителя, нырнувшего под поднятый капот и, судя по всему, уснувшего там. От райотдела милиции к "ЗИЛу" медленно и неотвратимо шел младший лейтенант Охабкин, и Павел впервые за утро посочувствовал незадачливому водителю. Кокетливая Верочка Шилохвостова, продавщица киоска Союзпечати, протирала, став на табуретку, свой стеклянный кубик. Вокруг маялось несколько молодых людей, делавших вид, что их интересует пожелтевший экземпляр гедеэровской газеты "Фрайе вельт", невесть каким образом очутившийся в киоске. Но взгляды их скользили мимо "Фрайе вельт" и останавливались на загорелых Верочкиных ножках.
И Павел вдруг подумал, что поступил правильно, приехав после окончания факультета журналистики в родной город. Вначале он решил сделать это ради тяжело заболевшего отца, но потом понял, что это вовсе не было жертвой с его стороны: где-то в самой глубине души ему всегда хотелось вернуться сюда. Конечно, в больших городах, в их кипении и бурлении была своя привлекательность: напряженный ритм работы и жизни, день, до отказа заполненный впечатлениями. Зато здесь, в приозерной тиши, все было мило его сердцу, от заглохшего "ЗИЛа" и его водителя, что-то испуганно объяснявшего сейчас суровому младшему лейтенанту, до загорелых ножек Верочки Шилохвостовой под коротенькой красной юбочкой, от серповидного, протянувшегося на восемнадцать километров озера до тихих улочек, на которых новенькие "Жигули" пока еще мирно уживались со старыми, пожелтевшими от лет козами. Козы долго и задумчиво смотрели в полированные автомобильные бока и забывали даже о травке. Что видели они в сиянии синтетической эмали - свое ли просто отображение или контуры будущего, в высшей степени для коз неопределенного? Павел перешел площадь, свернул направо, на Колхозную улицу, и вошел в здание районной инспекции Госстраха.
- Привет, Павел Аристархович! - сказал заведующий, когда он зашел к нему в комнату. - Решили наконец застраховать свою жизнь? Очень правильно. Вот смотрите, какие выгодные условия...
- Спасибо, - сказал Павел, - с вашего резрешения, в другой раз.
- Ну, как хотите, - обиделся заведующий.
- Скажите, а Татьяну Осокину можно сейчас увидеть?
- А зачем она вам? - настороженно спросил заведующий.
Не прошло и года, как он в Приозерном, подумал Павел, а все уже видят в нем в первую очередь фельетониста. В общем, если говорить честно, это было приятно.
- Да так, скорее по частному вопросу...
- В случае чего, Павел Аристархович, - веско сказал заведующий, - я вас настоятельно прошу обсудить ваш будущий фельетон со мной...
- Да я вовсе...
- Цель и задачи нашей печати - всячески пропагандировать работу органов Госстраха, а не...
Что "не", Павел так и не дослушал, потому что прошел в соседнюю комнатку с табличкой "Бухгалтерия". Все четыре женщины в бухгалтерии не обратили на него ни малейшего внимания: они азартно гонялись за басовито гудевшим шмелем, который из-за глупости никак не желал вылететь в распахнутое окно, а истерически метался над головами раскрасневшихся в охотничьем азарте дам. Наконец шмель вылетел, и бухгалтерия принялась поправлять свои тяжелые шиньоны.
- Татьяна Владимировна, - спросил он буратинообразную даму, - у вас есть свободная минутка?
- Спросите, есть ли у Таньки хоть одна занятая минутка в день, - пробасила седая дама и негодующе дернула ручку арифмометра. "Феликс" жалобно звякнул под суровой рукой хозяйки.
Буратино метнула раскаленный от ненависти взгляд на обидчицу, и Павел подумал, что та сейчас задымится.
- Ладно, девочки, хватит, - хлопнула рукой по крышке стола самая молодая из сотрудниц, - к нам пришел корреспондент газеты, а вы... Что за народ!..- Она безнадежно махнула рукой.- У вас есть к нам какие-нибудь вопросы?
- Да нет, уважаемая бухгалтерия, я хотел кое-что спросить у Татьяны Владимировны... вопрос сугубо неделовой. Может быть, мы выйдем, чтобы не мешать работать?
- Да чего уж, - вздохнула Татьяна Владимировна, прерывисто выпуская из себя неизрасходованный боевой задор. - Спрашивайте, у меня, в отличие от некоторых, - она бросила многозначительный взгляд на седую даму с арифмометром, - секретов от коллектива нет.
- Татьяна Владимировна, я слышал, что вы будто бы... видели нечто вроде призрака? - краснея от глупости вопроса, спросил Павел. - И я, как журналист...
Все бухгалтеры тут же закивали, как будто они видели призрака все вместе. Удивительно, подумал Павел, как быстро примиряет женщин любое суеверие.
- Почему "будто бы"? - поджала губы Буратино. - Я точно видела его. Как вас сейчас вижу.
Женщины снова согласно закивали.
- И кого же вы видели?
- Кого? Известно кого - своего благоверного, Петра Данилыча. Да вы его знаете, шофер он на автобазе. В газете еще про него как про передовика писали. Вспомнили?
- Ну конечно.
- Ну, так вот как дело-то было. Я дома мою окна, летом страшное дело, как быстро стекла грязнятся, а я, знаете, человек очень чистоплотный... - Буратино бросила быстрый взгляд на седую даму с арифмометром, как бы приглашая всех сравнить ее безупречную чистоплотность с неряшеством своего врага. - Ну вот, мою я, значит, окно и вдруг чуть с подоконника не скатилась - по улице идет мой благоверный!
- И что же здесь необычного? - спросил Павел.
- А то, что Петр Данилыч в этот самый момент преспокойно дрыхнет на диване. Прикрылся "Советским спортом" и высвистывает. Такие дрели выводит, что газета над ним колышется...
- Не дрели, а трели, - сухо сказала дама с арифмометром. - Дрелью дырки делают.
"Пожалуй, насчет примирения через суеверия я поторопился", - подумал Павел.
- Это еще смотря у кого какие дрели, - вся передернулась Буратино, а самая молодая из бухгалтеров сокрушенно покачала головой. - Ну так вот, мой, значит, супруг на диване дрыхнет и в то же самое время как бы по улице идет.
- И вы его отчетливо видели? Может быть, вы просто обознались?
- Как это обозналась? - Буратино с таким достоинством вскинула голову, что ее шиньон сбился набок. - Что я, своего мужа узнать не могу? Слава богу, семнадцать лет прожили! Петр Данилыч и был. И личность его и одежда - ну все точно.
- И что же делал этот двойник?
- Как - что? Шел себе по улице.
- И что же вы сделали?
- Я чувствую, все у меня перед глазами закружилось. Как же, думаю, так: один муж на диване под "Советским спортом" валяется, другой в это время по улице прогуливается? "Петя!" - кричу. Да где там! Он как заснет, его пушкой не подымешь! Тогда я в окно тому, что на улице, кричу: "Петя, что ты там делаешь?" Он поглядел на меня-и ходу. Я хочу на улицу кинуться - что ж, думаю, это такое, что он от меня бегает, а у самой ноги как бы к подоконнику приклеились. Наконец на улицу выскочила, глянула - нету. Ну, думаю, примерещилось. И тут как раз Егорьевна ползет. Это старушка такая, соседка моя через два дома, с дочерью замужней живет. Я ей: "Егорьевна, говорю, ты, случаем, моего Данилыча только что не видела?" - "Зачем же, говорит, не видела? Я, слава господу нашему всемилостивейшему, на глаза не жалуюсь. Только что как раз его и видела. Навстречь мне ишел. Я ще поздоровалась с ним, и он мне кивнул". Да, думаю, вот тебе и благоверный, двойника себе завел. Это какие ж он безобразия творить сможет? Выпить там или что еще? Растолкала мужа, а он смеется. "Мистика все это, говорит, и поповщина!" Вот тебе и мистика! Да какая ж это мистика, если коняхинский парень, говорят, пятиногую собаку снял?
- Какой парень?
- Да Коняхиных. Отец-то у них еще два года назад номер, а мать в библиотеке работает. Они где-то у пляжа живут. Сережка все время на пляже крутится около Надьки Грушиной. Записалась, бесстыдница, в спасатели и целыми днями чуть не голышом на башне торчит, в бинокль смотрит.
- Как вам не стыдно! - сурово сказала дама с арифмометром. - Что вам до этой девушки?
- А вам что она, родственница?
- При чем тут родственница?
- А при том, что не для девушки это дело - целый день ляжками сверкать!
- О господи! - простонала молодая бухгалтерша.
- Вот тебе и "господи"! - торжествующе сказала Буратино. - Совесть надо иметь.
- А я так думаю, - вставила сонная особа, молчавшая до сих пор, - может быть, все это от науки?
- Что от науки? - выкрикнула Буратино. - Ляжками в семнадцать лет сверкать - это от науки?
- Я говорю о раздвоении твоего мужа. И потом, Татьяна, я бы на твоем месте проверила, все ли у Петра Данилыча в порядке.
- В каком это смысле? - подозрительно спросила Буратино.
- А в смысле закона сохранения вещества, - важно сказала сонная особа. - Двойника-то из чего-то надо было делать? То-то и оно-то, девочки.
Буратино не ошиблась. На невысокой башне, возвышавшейся над лодочной станцией и пляжем, стояла девушка в зеленом бикини. Она была смугла, как мулатка, и светлые ее длинные волосы казались кукольными на темно-коричневой спине. Девушка стояла, перегнувшись через перила, и разговаривала с явно приезжим парнем в модных темных очках и ярко-оранжевых плавках.
- Как вы можете жить здесь, в этой... - парень сверкнул темными очками и сделал широкий жест рукой, - когда вы такая...
- А какая я? - спросила Надя с башни.
- Скажу, когда спуститесь с вашего пьедестала, - зазывно проворковал парень и почесал одной ногой другую.
- Простите, - сказал Павел, приказывая себе не слишком пялить глаза на спасательницу, - у вас тут случайно нет Сергея Коняхина?
- Как это нет? - изумилась мулатка. - Он всегда здесь. Сережа! - позвала она.
С песка встал худенький мальчик лет пятнадцати. На груди, спине и руках у него висели лохмушки лупившейся кожи. Он походил на змею в период линьки.
- Сережа, - сказала мулатка, - с тобой хочет поговорить наш знаменитый фельетонист Павел Пухначев.
- Вы меня знаете? - спросил Павел и почувствовал, что выглядит, должно быть, глупо и задает дурацкие вопросы.
Не хватало еще флиртовать со школьницей! Любовь моя, а ты сделала уже алгебру? Парень в оранжевых плавках с небрежным и скучающим видом стал на руки и медленно отошел от башни.
Мулатка хихикнула:
- Эй, вы так и не сказали мне, какая я!..
Оранжевые плавки элегантным кульбитом стали снова на ноги.
- Слезьте.
- Не могу, я на работе.
- Я подожду.
"И ведь будет ждать, дрянь такая!" - с неожиданной неприязнью подумал Павел.
- Здравствуйте, - сказал мальчик с лупившейся кожей. - Вы хотели меня видеть?
- Да. Я корреспондент "Знамени труда" Пухначев Павел Аристархович.
- Я слышал, - сказал мальчик, подышал на стекла очков и начал протирать их плавками, оттягивая их от плоского живота, - Надя назвала вас.
Умный и серьезный мальчик, подумал Павел, чувствуя прилив симпатии к облупленному, щуплому человечку.
- Я не представляюсь, - продолжал Сережа, - потому что вы спросили Надю, где меня найти. Стало быть, вы знаете, как меня зовут.
- У тебя развито умение мыслить логически.
- Да, - сказал Сережа, - я стараюсь мыслить логически. Вот сейчас, например, я все время думал, зачем я вам мог понадобиться. Я проанализировал все, что так или иначе могло бы вызвать у вас интерес ко мне.
- И к какому же выводу ты пришел?
- Вывод однозначен. Вам, наверное, рассказали, что я послал фотографию пятиногой собаки в "Литературную газету". Правильно?
- Поразительно! - сказал Павел. - Могу я пожать руку такого логика?
- Пожалуйста, - улыбнулся логик и протянул руку Павлу.
- Так ты можешь рассказать мне об этой пятиногой собаке? Сам понимаешь, что для газетчика...
- С удовольствием. Надь! - крикнул он зеленобикиниевой сирене на башне. - Я поговорю с товарищем Пухначевым.
- Иди, иди, Сереженька, - ответила девушка.
- Это ваша сестра? - спросил Павел.
- Нет. - Сережа внимательно и серьезно посмотрел на Павла, нахмурился и вдруг сказал просто и твердо: - Я ее люблю. Она меня не любит, но это не имеет значения, потому что со временем она меня полюбит.
Он сказал это с таким спокойным убеждением, что у Павла почему-то на мгновение сжалось сердце, и он непроизвольно бросил взгляд на башню. Парень в оранжевых плавках рассказывал, наверное, что-то смешное, потому что Надя заливисто хохотала, резко откидывала голову, и вся тяжелая копна ее овсяных волос перелетала с груди на спину и обратно.
Сережа присел на корточки у своей одежды, вытащил из кармана рубашки фотографию и протянул ее Павлу:
- Вот, пожалуйста. Я их напечатал несколько штук и одну всегда ношу с собой, потому что иногда мне начинает казаться, будто никакой пятиногой собаки я и не видел.
Павел взял фотографию. Отпечаток был не слишком высокого качества, но собака видна была отлично. Обыкновенная средних размеров дворняжка, деловито идущая по тихой улочке по своей собачьей надобности. За исключением того, что у собаки было пять ног.
ГЛАВА 2
- Отличный монтаж, - сказал Павел. - Ты как его делал? Подклеил ногу на отпечатке и потом снова переснял?
- А почему вы решили, товарищ Пухначев, что я делал монтаж?
- Во первых, товарищ Коняхин, если можете, не называйте меня так официально, а то у меня впечатление, что меня к начальству призвали для ошкурения, как говорит один наш сотрудник. Лучше называйте меня Павлом Аристарховичем или, еще лучше, Павлом. Это первое. Второе. Если ты не делал монтаж, значит, по Приозерному преспокойно разгуливают пятиногие собаки. Логично я мыслю?
- Вполне, - великодушно согласился Сережа и поправил на облупленном носу детские, в круглой оправе, очки. - И вы не ошиблись. Я действительно сфотографировал собаку, у которой было пять ног. Три спереди и две сзади.
- Прелестно, - сказал Павел. - И можно ее увидеть?
- Кого?
- Эту собаку.
- Я думаю, можно, но, скорей всего, сейчас у нее только четыре ноги.
- Умница, - сказал Павел. - Это весьма правдоподобное предположение.
Сергей поднял голову, внимательно посмотрел на Павла и сказал:
- Мне кажется, вы смеетесь надо мной. Я не обижаюсь, потому что у вас есть все основания мне не верить: я ведь видел эту собаку, а вы - нет.
И тут Павлу пришла в голову простая мысль:
- Ну хорошо, допустим, что ты прав. А негатив твой можно посмотреть? Может быть, на негативе видны будут следы фотомонтажа.
- Я послал негатив вместе с отпечатком в "Литературную газету". Знаете, там есть такой замечательный раздел на последней странице: "Что бы это значило?"
- Сергей, я начинаю в тебе разочаровываться... - сказал Павел.
- Почему?
- Суди сам. Ты утверждаешь, что сделал снимок пятиногой собаки. Допустим, это так. И ты посылаешь этот снимок вместе с негативом в юмористический раздел, где печатают всякие забавные и нелепые вещи, которые никто, разумеется, всерьез не принимает и не должен принимать. Другими словами, ты скомпрометировал крупнейшую научную сенсацию нашего времени. Ты слышал про чудовище озера Лох-Несс - Несси?
- Да, читал.
- Ну вот, представь себе, что первый четкий снимок Несси посылают... ну, скажем, в журнал, печатающий снимки самодельных игрушек. Теперь ты меня понимаешь?
- Да, - тихо сказал Сергей и опустил голову.
- С другой стороны, если ты вклеил собачонке дополнительную ножку и послал фото в "Литературку", ты умный и предприимчивый мальчик с хорошо развитым чувством юмора. Теперь, надеюсь, ты признаешься, что ты умный и предприимчивый парень и что твои друзья должны гордиться тобой?
- Нет, - сказал Сергей. - Я бы с удовольствием признался, но дело в том, что у собаки было пять ног.
Павел пристально поглядел на мальчугана. Он начинал раздражать его. Какая-то смесь развитости и детского нелепого упрямства. И эти круглые дурацкие очки, делающие его похожим на сову. Упрямая ученая сова.
- Ну ладно, Серж, я думал, мы поговорим как мужчина с мужчиной... Но если у тебя нет настроения...
Внезапно подбородок у Сергея начал морщиться, губы растянулись и, увеличенные стеклами очков, в глазах набухли слезинки. Он шмыгнул носом и отвернулся.
При его отношениях с этой девой на башне, подумал Павел, он скоро будет рыдать с раннего утра и до вечера. И что-то в нем вдруг мягко повернулось, наполнило грудь теплым щемящим чувством жалости к этому щупленькому цыпленку в нелепых старомодных очках, вступающему в огромный, безбрежный мир, в мир, в котором Нади вовсе не обязательно полюбят именно его. и где всякие встречные-поперечные допекают недоверчивыми вопросами.
- Ладно, Сережа, - сказал он, - бог с ней, с этой собакой, пять ли у нее ног или шесть...
Сергей еще раз шмыгнул носом и сказал, не поворачиваясь:
- Четыре.
- О господи, вразуми и наставь меня! Из-за чего сыр-бор? Признался наконец.
- Нет, вы меня не поняли, Павел Аристархович. - Сергей уже забыл о слезинках, которые, впрочем, высыхали прямо на глазах. - Сначала у дворняжки было пять ног, как и получилось на фотографии. Когда я щелкнул затвором...
- А почему, собственно, у тебя был наготове аппарат? Или ты специально охотился за этой собакой?
Сергей медленно покачал головой, и в этом движении Павлу почудилась укоризна: ты большой, сильный, ты уверен в себе, ты не страдаешь из-за Нади, и ты подсмеиваешься над маленьким.
- Нет, Навел Аристархович. В этом году, когда мне исполнилось пятнадцать лет, мама подарила мне "Зоркий-5". И я решил, что обязательно научусь хорошо фотографировать. И я взял за правило ("Какие у него забавные книжные обороты", подумал Павел.) не выходить из дому без заряженного аппарата. Вот он и сейчас со мной.
- Хорошо, Сережа, я ловлю себя на том, что слишком уж вхожу в роль следователя, так что ты меня прости за допрос с пристрастием. Просто мне поручили написать кое о чем, и я, как журналист, должен сначала убедиться в подлинности информации. Ты меня понимаешь?
- Понимаю.
- Ну и отлично. Так сколько же было конечностей у пса, пять или четыре?
- Сначала пять. Я ж начал вам рассказывать. Когда я щелкнул затвором, собака замерла на мгновение, посмотрела на меня и побежала. И тут же втянула ногу.
- Втянула?
- Ну, может, не втянула, а просто убрала. Во всяком случае, я видел, как лишняя нога исчезла. Я успел еще раз щелкнуть. На втором снимке собака чуть вышла из фокуса, но все равно видно, что ног теперь только четыре.
- Да-а, друг Сережа, задал ты мне задачу. Как по-твоему, что я должен о тебе думать?
- Вы должны думать, что я жалкий обманщик.
Это было сказано с таким серьезным и рассудительным видом, что Павел прыснул. Странный паренек. Но что-то в нем есть. "Я жалкий обманщик". Гм!..
- А скажи мне, жалкий обманщик, ты, по-видимому, довольно начитанный человек. Ты сам-то как объяснишь то, что ты мне рассказал?
- Как не известный науке феномен природы, - твердо сказал Сергей и гордо поднял голову.
Формулировка, но крайней мере, четкая, подумал Павел, и заранее заготовленная.
- Я, знаете, сам иногда думаю, а не приснилось ли мне все это, - доверительно сказал Сергей. - Кто знает, может, галлюцинация какая-нибудь? Но фотоаппарат-то не страдает галлюцинациями. Я даже поймал эту собаку...
- Что-о?
- Так я ее сразу узнал, это Мюллер.
- Что-о-о?
- Да мы так прозвали собачонку. Она похожа на Мюллеpa. Ну, шефа гестапо из "Семнадцати мгновений". Это собака Сергеевых, они на нашей улице живут.
- И что же ты обнаружил?
- Ничего. Абсолютно ничего. Я начал почесывать ей пузо. Мюллер очень ласковый пес. Он тут же лег на спину и начал дрыгать лапамн. Я гладил ему живот и искал место, где была убирающаяся лишняя нога.
- И что же ты обнаружил?
- Результаты эксперимента оказались негативными, - улыбнулся Сергей. - Обнаружены два репейника и несосчитанное количество блох.
- Ну, теперь признаешься, экспериментатор?
- В чем?
- В монтаже.
- Да нет же. Навел Аристархович, я вам сказал. Я не умею это все объяснить, но я никакого монтажа не делал, я даже не знаю, как делаются фотомонтажи.
- Ну как? - спросил Павла главный редактор, нацеливая в него гигантский свой мундштук. - Готов фельетонец?
- Нет, Иван Андреевич.
- Почему же?
- Понимаете, я должен сначала разобраться во всех этих призраках.
- То есть?
- И Осокина и Сергей Коняхин абсолютно убеждены, что не ошиблись. Осокина видела двойника своего мужа, а мальчик настаивает, что сфотографировал собачонку, по кличке Мюллер, в тот момент, когда она бежала на пяти ногах.
- И вы хотите убедиться, уважаемый Павел Аристархов сын, что на самом деле не было ни двойника, ни пятиногой собаки. Правильно ли я вас понял, коллега? - Голос редактора сочился сарказмом, как откормленный гусь - жиром на противне в духовке.
- Вы изволили меня понять совершенно точно, - сказал Павел, и редактор слегка поморщился: он считал высокий архаический стиль своей привилегией и не любил, когда подчиненные отвечали ему в тон.
- И сколько же вам нужно для этого времени? Может быть, закроем пока газету и придадим вам всех в помощь? Это ведь очень трудное задание - убедиться в том, что духи не существуют в природе. Почитайте лучше "Естествознание в мире духов" Энгельса.
- Но я же должен разобраться!
- В чем, в чем? Вы понимаете, что говорите? Я обещал Сергею Ферапонтовичу, что вы напишете фельетон, а вы меня подводите! Что я должен сказать Сергею Ферапонтовичу, если он меня спросит? Я скажу ему: уважаемый Сергей Ферапонтович, наш сотрудник Пухначев все еще проверяет факты появления в Приозерном духов. Так, по-вашему, Павел Аристархов сын?
Пожалуй, подумал главный редактор, он чересчур резок с Павлом, но, с другой стороны, этот мальчишка своей демонстративной независимостью мог вывести из себя кого угодно. Удивительное дело, как один человек может вызывать одновременно два прямо противоположных чувства: симпатии и раздражения. Следить, следить за собой нужно, сделал себе мысленный выговор Иван Андреевич, не хватало еще превратиться на старости лет в брюзгу.
- Разрешите мне идти? - спросил Павел.
- Идите и пишите фельетон. А если вам мало фактов, пойдите в больницу к Бухштаубу, это там такой старичок невропатолог есть, поговорите с ним. Он мне вчера рассказывал, что кто-то приходил к нему с подобной же белибердой.
Главный редактор щелкнул зажигалкой. Щелчок получился сухой и неодобрительный.
- Здравствуйте, доктор, - сказал Павел, входя в крошечный кабинетик.
- На что жалуемся? - весело пропел седенький старичок, не отрываясь от истории болезни, которую заполнял тоненькой красной ученической ручкой.
- Я ни на что не жалуюсь, я сотрудник газеты Павел Пухначев, и я хотел бы несколько минут поговорить с вами, если у вас они есть.
- Кто "они"? - спросил доктор, отложив ручку и смотря на Павла снизу вверх.
- Несколько свободных минут.
- А... да. - Доктор прикрыл глаза, помассировал виски и веки короткими, в морщинистом пергаменте пальцами и спросил: - Как вы думаете, сколько человек я сегодня принял?
- Не знаю, - пожал плечами Павел. - Пять, десять?
- Сорок два человека! - победоносно выкрикнул доктор и показал на груду историй болезни. - Сорок два! Это еще не рекорд, но совсем недурно в мои годы. А сколько вы дадите мне лет, молодой человек?
Павел посмотрел на седой венчик волос, на пятна пигментации на руках, на куриные лапки морщинок на лице.
- Ну, может быть, шестьдесят пять.
Доктор хитро сощурился и рассмеялся:
- Вы вежливый молодой человек. Вам не хотелось обп жать старого Бухштауба, и вы решили сделать ему комплимент. Так? Только не лгите, молодой человек, вы ведь газетчик!
- Да, - виновато развел руками Павел.
- И сколько же вы скостили мне лет?
- Лет пять.
- Значит, вы даете мне семьдесят?
- Да.
- Вы все-таки ошиблись, молодой человек, потому что мне восемьдесят один, и ни один больной еще никогда не пожало вался на меня. И запомните, молодой человек: люди стараются скостить себе годы до известного возраста, потом тщеславие меняет знак, и глубокие старики любят даже прибавлять себе, но я вам могу показать свой паспорт.
- Господь с вами, доктор, я вам верю.
- Так чем я могу быть вам полезен? Прием уже окончен, и я не против поболтать с интеллигентным молодым человеком. Хотите, сейчас мы устроим себе кофе. С тех пор как я выле чип нашего уважаемого завмага Ивана Ивановича Жагрина, у меня всегда есть растворимый кофе.
- Спасибо, Яков Александрович. Мой главный редактор сказал, что вы что то слышали о неких... как бы это выразить... странных явлениях в нашем городе... всякого рода привидения, двойники и тому подобное...
- А... Да, я рассказывал Ивану Андреевичу. Действительно, в последние дни ко мне обращалось несколько человек с какими-то нелепыми жалобами.
- Какого рода жалобами?
- Одна дама якобы видела двойника своего мужа...
- Татьяна Владимировна Осокина?
- Нет, если не ошибаюсь, некая Шундрикова. Одна девочка ее еще матушка ко мне привела - обнаружила у себя в комнате копию своей Мурки. Причем при встрече одна Мурка удрала, а вторая просто исчезла. Самое смешное, что все это не имеет ни малейшего отношения к моей специальности. Все эти галлюцинации скорей проходят по ведомству психиатрии, а психиатрия и невропатология - совсем разные вещи. Но в районной больнице психиатра нет, до области далеко, и вначале все идут к Бухштаубу.
- И какое у вас все-таки сложилось впечатление?!
- А! - Старичок пренебрежительно махнул рукой. - Не о чем говорить. Вы, наверное, слышали о летающих тарелках?
- Конечно.
- Время от времени начинаются настоящие эпидемии. Появляются сотни очевидцев, самолично видевших эти летающие тарелки и даже маленьких зеленых человечков на них. Потом эпидемия проходит, и слухи на время утихают.
- А может быть, просто тарелки иногда улетают, чтобы потом снова возвратиться?
Доктор вынул электрокипятильник из большой металлической кружки и разлил кипяток по двум чашкам.
- Я вас понимаю. Считается, что старикам положено быть скептиками. Так я вас могу уверить, что это нонсенс. Больше всех на свете жаждут чуда именно старики. Зачем молодому человеку чудо? Разве молодость - это не чудо? Впрочем, у старости тоже есть свои преимущества: например, право на болтливость... Как кофе?.. Так вот, у нас в Приозерном сейчас своя маленькая эпидемия летающих тарелок в виде двойников. Где-то какой-то женщине почудилось, что она видела двойника мужа, как будто ей одного мало. Второй обидно: у Катьки два мужа, ходит всем рассказывает, а у меня один, и из того слова домкратом не выжмешь, почему бы и мне видение не встретить? А тут и дети включаются со своими мурками. Механизм до крайности прост.
- Значит, можно считать, что все это просто-напросто фантазии, где, одна фантазия вызывает наподобие цепной реакции другую? Так сказать, соревнование фантомов?
- Отлично сказано, молодой человек! А то у меня иногда складывается впечатление, что нынешние молодые люди знают слов двадцать, от пол-литры до шайбы. Впрочем, это уже традиционное брюзжание.
- Спасибо, доктор, за консультацию.
- Пожалуйста, пожалуйста.
Странный все-таки этот Сережа парень, думал Павел, идя домой. Для чего ему меня обманывать? Впрочем, вспомни, чего бы ты в пятнадцать лет не придумал, чтобы привлечь к себе внимание какой-нибудь девочки. Сказал бы, что твой отец знаменитый разведчик и что ты после школы пойдешь в самую-самую секретную разведшколу, что ты... снял собаку с пятью ногами. Логично. Абсолютно логично. За одним маленьким исключением: никак не было похоже, что он выдумывает. Стоп, сказал себе Павел, это глупость. Ребята не просто выдумывают, они искренне верят в свои фантазии.
Он свернул на улицу Гоголя, прошел квартал и вошел в маленький домик с зеленой крышей. Белый Шарик с радостным лаем подкатился ему под ноги.
- Ты, Пашенька? - послышался голос матери из кухни.
- Я, мать.
- Есть хочешь?
- Как всегда.
- Сейчас котлеты будут готовы, потерпишь? - Мать выглянула из кухни и улыбнулась Павлу.
- Что уж с тобой делать...
Как она сдала после смерти отца, подумал он, глядя на поблекшее, постаревшее лицо матери с седой прядкой, постоянно лезущей на правый глаз. Сердце его сжала уже успевшая стать привычной жалость. Боже, как она может жить, она, которая еще недавно была статной, цветущей женщиной, которую все за глаза звали полковницей и за властные манеры, и из за отца, который был полковником. Как-то недавно она сказала ему: "Пашенька, если ты не женишься и не заведешь детей, я, наверное, с ума сойду... Если бы папа мог дожить до внуков..."
- Сейчас несу, сынок. А то ты всегда был нетерпелив, когда хотел есть.
Он вспомнил, как мать рассказывала ему о его, Пашином, кормлении, когда ему было меньше года. Отец служил тогда где-то в богом забытом месте на Дальнем Востоке. Время было трудное, послевоенное, и во всем поселочке была одна корова, которая давала пол-литра молока в день. А у матери вскоре после Пашиного рождения почему-то пропало молоко, и она договорилась с несколькими кормящими матерями, чтобы ей за определенную, конечно, мзду сцеживали молоко. А маленький Паша, то есть он, был необычайно прожорлив и иногда на рассвете подымал такой крик, что вот-вот весь гарнизон разбудит. И тогда папа, капитан инженерной службы, шел к кормилицам, чтобы жалкий маленький комочек, который со временем должен был стать фельетонистом газеты "Знамя труда", смог, жадно причмокивая, мигом высосать бутылочку.
Папа, папа, это просто нелепость какая-то, что его больше нет. Абсурд какой-то, не укладывающийся в сознании. Сейчас он войдет в комнату, как всегда что-то насвистывая, подойдет к нему, похлопает по спине и спросит: "Ну, как дела, что сегодня было интересного?"
Он вздохнул и принялся за котлеты, которые мать поставила перед ним. Удивительное дело, подумал он в тысячный раз, почему дома котлеты вкусные, а в столовых наоборот? Увы, в мире есть много тайн, тайн более таинственных, чем пятиногие собаки, придуманные безнадежно влюбленными мальчиками.
Тайны - тайнами, а нужно было писать фельетон, потому что, в общем, Иван Андреевич был прав, тянуть было нечего.
ГЛАВА 3
Иван Андреевич Киндюков, редактор районной газеты "Знамя труда", открыл глаза и взглянул на часы. Было уже без четверти десять. Он проспал и программу "Время", и сводку погоды. Годы, годы, все-таки пятьдесят девять, не шутка. Скоро и на пенсию... Пенсия и пугала его и манила. Двадцать лет преподавания истории научили его смотреть на многие вещи с философским спокойствием, но даже философское спокойствие не могло помешать сердцу сжаться иной раз от внезапной и острой, как спазм, печали. Что делать, сказал он себе, всегда, во все времена люди не хотели стареть. Он вспомнил вдруг исполненную пронзительной горести жалобу древнего автора, которую когда-то выписал себе в блокнот: "Аки сень проходит живот наш, аки листвие падают дни человечьи". Аки листвие...
И вдруг Иван Андреевич понял, что пристально смотрит на свою кошку Машку и давно уже думает про опадающие листья человеческой жизни только по инерции. Машка лежала на диване, стоившем рядом с письменным столом, и, казалось, дремала. Иван Андреевич вдруг покрылся холодным потом.
"Спокойно, Иван Андреевич, - сказал он себе (он всегда называл себя в мыслях полным именем), - главное - спокойствие".
Он взял трясущимися руками свой мундштук, с трудом вставил в него сигарету и торопливо затянулся, словно надеялся, что дым изгонит из его кабинета галлюцинацию. Галлюцинация же заключалась в том, что у Машки не было ушей. Было туловище, лапы, хвост, серая с черным шерстка, не было только ушей. Нет, не то чтобы кто-то порвал ей уши, нет. Не было даже намека на уши, как будто Машка была уродцем. Но кошке было уже три года, и три года она была снабжена самыми обыкновенными серенькими с черными полосками кошачьими ушами.
Иван Андреевич понимал, что случилось что-то ужасное, но где-то на самом дне сознания все еще теплилась надежда: а вдруг он все-таки спит?
- Тонечка! - крикнул он через стенку жене. - Что там передают?
- Какой-то концерт из ГДР. Чай пить будешь?
- Нет, спасибо.
Привычные слова на мгновение спугнули кошмар, но он тут же надвинулся снова, как только взгляд его уперся в Машкину страшную голову. Надо позвать жену, подумал Иван Андреевич, но сделать это не смел. А что, если она скажет: "Да что ты, Ваня, придумываешь? Машка как Машка"? И тогда что? Больница? Можно ли доверять газету больному человеку? И ведь действительно нельзя. Сегодня у его кошки пропали уши, а завтра он напечатает в газете черт знает что!
Спокойно, Иван Андреевич, спокойно, может быть, все это просто галлюцинация какая-то, может быть, у него температура просто, съел, наконец, что-то не то. Где-то в уголке сознания проскочила мысль, что это безумие, возможно, как-то связано с привидениями и двойниками, которые появились в Приозерном, но мысль эта ни за что в его голове не зацепилась и вылетела так же стремительно, как и появилась.
Надо было что-то делать.
- Маша, - заискивающе сказал он, - что у тебя с ушками?
- Что ты там говоришь? - спросила жена через стенку.
Но Иван Андреевич не отвечал. Он не мог бы сейчас ответить никому на свете, даже Сергею Ферапонтовичу, потому что кошка посмотрела на него и выпустила из головы уши. Вначале уши выросли огромные, сантиметров в пятнадцать, но Машка, подумав немножко, втянула их несколько, придав своей голове более или менее нормальный вид. Кошка снова посмотрела на Ивана Андреевича, тяжело спрыгнула с дивана, причем произвела при этом громкий звук, словно спрыгнула на пол не грациозная, почти невесомая кошечка, а здоровенный пес, подбежала к двери, прошмыгнула в щель и исчезла.
- Да, - громко сказал Иван Андреевич, - этого следовало ожидать.
- Чего ожидать? - спросила жена из-за стенки, приглу шая телевизор, который в это время баритонально воспевал чьи-то бляу ауген.
- Ожидать нечего, - твердо сказал Иван Андреевич и вспомнил, что он часто применял эту формулу, учительствуя и служа потом директором школы.
Когда ученик или ученица получали двойки или попадали в какие-нибудь переплеты, Иван Андреевич говаривал: этого следовало ожидать. Формула была безупречная, поэтому с ней никто не спорил.
Но, может быть, мне все это только причудилось, подумал снова Иван Андреевич и взглянул на то место, где только что лежала Машка с отросшими ушами. Машки не было. Но на жестком диване осталось еще углубление. Такое, словно не кошка на нем лежала, а гиппопотам. Углубление можно было измерить, описать, сфотографировать. "Существо, похожее на кошку Машку и умеющее мгновенно отращивать уши, оставило на диване, обыкновенно довольно жестком, углубление столько-то на столько-то сантиметров и глубиной во столько-то. Из чего можно сделать вывод, что вес кошки составлял от восьмидесяти до ста килограммов".
Отличный получился бы акт. Да, Иван Андреевич, так-то вот. Палата номер шесть и прочее. "А редактор-то наш, слышали?" - "А что?" - "А того, тю-тю! Чокнулся. На ушах споткнулся. Этого следовало ожидать".
Иван Андреевич снова закурил. Должно быть, жена услышала щелканье зажигалки, которая щелкала у него, словно боевой пистолет.
- Ваня, ты опять дымишь, как паровоз? - спросила она с привычным осуждением.
Господи, тут решается вопрос, быть ли человеку в своем уме или решиться разума, а она его сигареты считает!
Итак, дилемма была ошеломляюще проста. Или Иван Андреевич находится во власти галлюцинаций, поразительных иллюзий и^ стало быть, сошел с ума, или он только что видел Машку, которая забыла вовремя выдвинуть уши и весит к тому же минимум несколько пудов. Куда ни кинь - везде клин.
Жаль, жаль, жаль было рушившейся жизни. Аки листвие падают дни человечьи. Если бы падали... Интересно, как теперь лечат психов? И Тоне придется ездить в область, куда его положат. Она, конечно, будет скрывать, но тут разве чтонибудь скроешь? Тут, в городке, тебя насквозь видят, рентгена не нужно.
Боже, какая чушь лезет в голову, мелочная, суетливая чушь! Иван Андреевич обвел глазами свою небольшую комнатку: портрет Блока, сделанный инкрустацией по дереву (подарок учителей к пятидесятилетию). Большая советская энциклопедия с пропавшим двадцать восьмым томом (какое это теперь имеет значение!), диван... И так стало пронзительно жаль Ивану Андреевичу всего этого привычного антуража, всей своей нелегкой и вместе с тем складной жизни, что из глаз его выкатилось несколько слезинок. Он чувствовал, что все это ускользает от него, покачиваясь, уплывает, а он идет на душное дно, где нечем дышать.
И он судорожно дернулся, вынырнув на поверхность. Нет, нет, нет! Не может же быть, чтобы полгорода сразу сошло с ума, это же нонсенс! Абсурд! И Осокина и пятиногая собака! И чем пятиногая собака лучше или хуже его безухой Машки? Да, но этого же не может быть!.. Может, может, может!
Он вдруг сообразил, что стремительно сбрасывает пижаму и натягивает брюки.
- Куда ты, Ванечка? - спросила из-за стены жена. - Уже одиннадцатый в начале.
"В начале, в начале"! - передразнил про себя жену Иван Андреевич. - Преподает, дура, литературу и говорит, как героиня Островского".
Он выскочил из домика и помчался по тихим улочкам Приозерного, сопровождаемый эстафетой собачьего брёха. Уже совсем запыхавшись, он подбежал к домику на улице Гоголя, толкнул калитку, в два прыжка подлетел к двери и позвонил.
За дверью послышались шаги, тоненький лай, и дверь распахнулась.
- Иван Андреевич! - изумленно воскликнул Павел. - Что с вами?
- Входите, входите, Иван Андреевич! - послышался женский голос. - Ты, Паша, совсем с ума сошел - держать человека в дверях!
Он-то не сошел, подумал Иван Андреевич, жмурясь после улицы от яркого света.
- Паша, - сказал он, - прошу прощения за это позднее вторжение, но мне нужно срочно поговорить с вами.
Ага, теперь Паша, а не Павел Аристархов сын, с каким-то необязательным злорадством подумал Павел и провел редактора в свою комнатку.
- Пожалуйста, пожалуйста, - трепыхалась на всем недолгом пути от крыльца к комнате Анна Кузьминична, - сейчас я вам чаю принесу.
- Не беспокойтесь, - сказал Иван Андреевич, - я ведь не с визитом. - Он посмотрел на настороженное лицо фельетониста и вдруг почувствовал облегчение и даже уверенность, что разум не покинул его.
Павел усадил редактора в кресло и сказал:
- Вот, мыкаюсь с фельетоном. Глупость какая-то получается...
- Паша, - прервал его редактор, - скажите, только честно, что вы думаете о всех этих чудесах в Приозерном?
"Что бы это значило? - подумал Павел. - Этот поздний визит, взъерошенный, словно у воробья, вид... Наверное, опять Сергей Ферапонтович устроил ему головомойку за то, что до сих пор нет фельетона".
- Я был у Якова Александровича Бухштауба... - начал он.
Но редактор нетерпеливо прервал его:
- И что старик говорит?
- Он считает, что это своего рода эпидемия самовнушения, как это не раз, например, бывало с людьми, которые якобы видели летающие тарелки.
- А вы что думаете?
- По-моему, с этим нельзя не согласиться. Вы же сами...
- Я знаю, что я сам... Но у вас лично какое складывется впечатление? Вы же разговаривали с людьми...
- Как вам сказать, Иван Андреевич...
- А вы скажите, не стесняйтесь.
- Я ловил себя на том, что непроизвольно начинал верить и Татьяне Осокиной, и особенно Сергею Коняхину. Он произвел на меня впечатление очень серьезного парня. Да и это фото... Чушь какая-то, совершенно не похоже на монтаж. С другой стороны, когда знаешь, что этого не может быть, невольно относишься к рассказам и фото скептически...
- Значит, и Осокина, и коняхинский парень уверены, что видели двойника и собаку?
- Угу.
- И нисколько в этом не сомневаются?
- Нисколько.
- И не думают, что свихнулись?
- Нет.
- Спасибо, Паша, - проникновенно сказал Иван Андреевич. Спасибо, дорогой.
- За что же?
- Понимаете ли, Паша, я только что видел свою кошку Машку...
- Тоже пять ног? - почтительно улыбнулся Павел и тут же пожалел о фамильярности, потому что редактор смотрел на него серьезно и не улыбаясь.
- Нет. У нее были положенные ей четыре ноги, но у нее не было ушей. Совершенно не было ушей. Как будто их никогда и не было. Представляете? У кошки, которая живет в доме три года и которую я вижу каждый день.
- А вы уверены, что это была именно ваша Машка? Может быть, это был похожий на нее уродец?
- Во-первых, это была Машка, а во-вторых, это не имеет никакого значения.
- Почему же?
- Да потому, что, когда я вслух подивился отсутствию ушей у кошки, она вдруг выпятила из головы пару ушей, да еще раза в три длиннее, чем обычно, тут же втянула их и удрала.
- Гм!..
- И еще. У меня сложилось впечатление, что этот монстр был во много раз тяжелее обычной кошки.
- Почему?
- По звуку, с которым она спрыгнула на пол, по углублению, оставленному ею на диване. Я все понимаю, Паша, но войдите в мое положение. Для меня это уже не вопрос фельетона. Это гораздо серьезнее. Или у меня какие-то безумные галлюцинации, или... или я это видел на самом деле, и тогда я могу смело предположить, что и Осокина, и Сергей Коняхин тоже не ошибались. А это, как мы с вами знаем, невозможно... Что вы зажмурились?
- Пытаюсь наступить на хвост одной мыслишке, а она все ускользает... Ага, поймал! Видите ли, Иван Андреевич, Сергей Коняхин рассказывал мне, что, когда он щелкнул затвором своего фотоаппарата, собака на мгновение остановилась, посмотрела на него и втянула - заметьте, втянула - лишнюю ногу. Так сказать, исправила ошибку.
- Вы хотите сказать, что моя Машка также исправила ошибку? Втянула чересчур выдвинутые уши?
- Вот именно!
- Но это же чушь! Что они, надувные, эти лишние ноги и уши? Это же не резиновые игрушки.
- Не знаю, - пожал плечами Павел. - Я уже ничего не знаю. Я знаю только, что мне нужно написать фельетон.
- Бог с ним, с фельетоном. Пошли.
- Куда?
- Я хочу показать вам, Паша, ямку в диване, которую оставила кошка.
- Я вернусь через полчаса, - сказал Павел матери, которая внесла в этот момент две чашки чая и блюдечко с халвой.
- Что-нибудь случилось? - встревоженно спросила Анна Кузьминична.
- Да ничего не случилось, мама...
Они вышли на улицу. К вечеру стало прохладнее, и с озера потянул свежий ветерок, принося с собой неясную мелодию. Мелодия казалась необыкновенно прекрасной и печальной в ночной тишине, и сонный лай собак подчеркивал ее неземную эфемерность. Глупость какая, подумал Павел. Достаточно далекого магнитофона на берегу, как сжимается сердце от ощущения, что жизнь проходит где-то по совсем другим дорогам, а ты стоишь на обочине, глядя ей вслед.
Они подошли к дому Ивана Андреевича.
- Я уже начала было беспокоиться, - сказала его жена, когда они вошли. - А что же ты не предупредил меня заранее, что приведешь гостя?
"Хорошо хоть, что сказала "предупредил", а не "предуведомил", - подумал Иван Андреевич.
- Ложись, матушка, спать, поздно уже, - сказал Иван Андреевич и отметил про себя, что он тоже начинает говорить, как персонаж из пьес Островского. Матушка... Может быть, все-таки не придется Тонечке везти его в больницу...
Они вошли в кабинет, и Иван Андреевич плотно прикрыл за собой дверь. Он приложил палец ко рту и показал Павлу ямку на диване. Павел осторожно надавил ладонью в противоположном конце - диван действительно был жесткий.
- Да... - протянул он. - А где теперь ваша Машка?
- Не знаю, я как-то совсем не подумал о ней, - сказал Иван Андреевич. - Тоня, - повысил он голос, - кошка у тебя?
- Да, а что?
- Принеси-ка ее сюда, если тебе не трудно.
Антонина Григорьевна внесла небольшую серенькую кошку и с любопытством взглянула на Павла:
- Что это вы замыслили?
- Да ничего, Тоня, ничего, - сурово и нетерпеливо сказал Иван Андреевич, взял Машку из рук жены и погладил ее.
Кошка с готовностью тут же замурлыкала и сладострастно выгнула спину под рукой хозяина. Он осторожно потянул сначала за одно ухо, потом за другое. Кошка перестала мурлыкать и с некоторым неудовольствием взглянула на хозяина: это еще что за фокусы?
Иван Андреевич положил кошку на диван, но она тут же соскочила на пол. Ни малейшего углубления на ковровой поверхности дивана не осталось.
ГЛАВА 4
Сергей Конях ин вошел в библиотеку.
- Здравствуй, мам, - сказал он возившейся с каталогом женщине. - Что-нибудь прислали?
- О, наказание ты мое, - с шутливой жалобой в голосе сказала женщина, - и когда ты только выкинешь из головы эту глупость? Прислали, прислали. Эн Эс Александровский. Призрение прокаженных в России. Санкт-Петербург. Тысяча девятьсот двенадцатый год. Иди, я тебе на своем столике положила.
Лет в одиннадцать, после того как он перестал панически пугаться грозы, Сережа прочел рассказ Джека Лондона "Кулау прокаженный" и понял, что опасность притаилась совсем в другой засаде - он, Сережа Коняхин, может заболеть проказой и у него, как у Кулау, один за другим отвалятся пальцы. Каждое утро он пристально рассматривал себя в зеркале, с замиранием сердца искал первые признаки болезни - львиную маску. Маски не было, и Сережа понял, что болезнь играет с ним в кошки-мышки, старается усыпить его бдительность.
Он взял у матери в библиотеке том Медицинской энциклопедии, нашел проказу и с содроганием принялся читать. По-английски "лепрози", - французски "лепр", - немецки "аусзатц", - китайски "ма-фунг", - индийски "кушт". Была распространена в Египте еще за тысячу триста лет до нашей эры... Это не страшно... Занесена в другие страны Средиземного моря финикийцами... Делать им было нечего, не занесли бы - и не сжималось бы сейчас сердце от ужаса... Так, так, это все история... Япония, Персия... Во многие страны Европы попала с римскими завоевательными войнами... Завоеватели проклятые, сидели бы себе дома...
А вот и сам враг, гоняющийся за ним, Сережей Коняхиным, чтоб поразить его, как Кулау - бацилла Гансена-Нейсера. Бр, какая противная! Залезет в него - и давай грызть.
Добило его то, что инкубационный период длится в среднем около шести лет. "Если мне сейчас одиннадцать, - высчитал быстро Сережа, - тогда до окончания школы, может, и не будет никаких признаков".
Прошел месяц, другой - энциклопедия не обманывала, бацилла Гансена-Нейсера продолжала коварно дремать в своем инкубационном периоде, чтобы спустя годы проснуться и остервенело кинуться на него. Но время есть, проказу обязательно научатся лечить.
Потом он узнал, что, во-первых, в России проказы практически давно уже не было, а во-вторых, ее действительно научились лечить. Можно было бы, казалось, вздохнуть спокойнее, но доверять бацилле Гансена-Нейсера, имеющей прямую или слегка изогнутую форму, было опасно. Что бы там ни писали, угроза вовсе не миновала...
С годами страх перед проказой у Сережи ослабел, но он уже успел стать специалистом, заставив мать выписывать ему необходимую литературу по межбиблиотечному абонементу.
Интересно, не раз думал Сережа, что они там представляют в Москве, когда из маленького Приозерного приходят заказы на книги по проказе? Может быть, что там вспыхнула эпидемия?
Он сел за мамин столик между двумя последними стеллажами и посмотрел на книгу. Призрение. Почему призрение? Ах да, он ведь уже смотрел у Даля; это не презрение, а призрение, то есть забота.
Он осторожно раскрыл книгу и в этот момент услышал Падин голос:
- Здравствуйте, Ирина Степановна, Сергей здесь?
- А в чем дело? - спросила мама, и голос ее прозвучал сухо и неприязненно.
Зачем, зачем она так говорит с Надей, как ей не стыдно! Как будто он маленький мальчик и она может ему указывать, с кем дружить...
- Я хотела с ним поговорить...
Сереже показалось, что Надин голос дрогнул.
- Надя! - крикнул он, высовываясь в проход между стеллажами. - Я здесь.
Надя нерешительно помялась, думала, наверное, уйти или остаться, и прошла по проходу к Сереже. Она была в зеленой рубашке с закатанными рукавами и расстегнутым воротом и в джинсах. Волосы стягивала зеленая ленточка. В пыльном и прохладном полумраке хранилища она, казалось, излучала свет и жар, впитанные ею на спасательной башенке пляжа. Она остановилась около Сережи и уставилась на полку с атеистической литературой. От нее пахло озерной свежестью, каким-то горьковатым, травяным запахом.
Сережино сердце бухало в ребра копром для забивания свай, но он стоял неподвижно и молчал. Если бы только можно было стоять так всегда... Больше ничего, просто стоять так около Нади и молчать под аккомпанемент сердечного копра.
- А это интересная книжка? - почему-то шепотом спросила Надя.
- Какая?
- Вот эта. - Надя слегка наклонила голову, и тяжелый овсяный хвост тут же отклонился, как отвес.
- Я спрошу у мамы...
- Твоя мама меня не любит.
- Ну что ты, - без особой убежденности вяло запротестовал Сережа.
- Сереж... - сказала Надя и посмотрела на него, - скажи мне честно, я очень плохая?
В первый раз Сережа заметил, что глаза у Нади зеленоватые с черными крапинками.
- Что ты... Разве ты плохая? Ты очень хорошая. Очень.
- Нет, я плохая, а ты помолчи. Раз говорю - плохая, значит, знаю. А ты... Ты меня хоть немножко любишь?
Любишь... Как она могла спрашивать об этом? Хоть немножко! Он чувствовал, как в груди его взрывается раскаленная до атомного жара нежность, выплескивается, заполняет эту длинную тихую комнату, клубами выкатывается из окоп и затопляет весь город, весь мир.
Сережа попытался проглотить комок, стоявший в горле, но он, как поплавок, не желал тонуть; опускался и снова подпрыгивал.
- Я тебя очень люблю, Надя, - тихонько прошептал Сережа.
- О господи, - прерывисто вздохнула Надя, и верхняя пуговка на вороте ее туго натянутой зеленой рубашки расстегнулась, - почему нельзя любить сразу несколько человек?
Она вдруг качнулась вперед и поцеловала Сережу в щеку. Губы у нее были теплые и немножко шершавые.
- Ты хороший, - сказала она. - Ты очень хороший.
За стеллажом скрипнула половица.
- Кто там? - тихонько спросила Надя.
Не может быть, чтобы мама подслушивала, подумал Сережа и почувствовал, как лицу его вдруг стало жарко. Как она ничего не понимает! Зачем, зачем она не любит Надю?
Он осторожно заглянул за стеллаж. В узком проходе стояла Надя и внимательно рассматривала какую-то книгу.
- Кто там? - тихо прошептала Надя и наклонилась к нему.
Он почувствовал прикосновение ее руки. Стеллажи дернулись и начали плавно вращаться, и разноцветные корешки книг слились на мгновение в карусельную рябь.
- Чего ты молчишь? - еще раз спросила Надя и высунула голову из-за Сережиного плеча. - Ай! - тихо взвизгнула она и схватила Сережу за шею.
Карусель остановилась, потому что сзади стояла Надя, испуганно прижималась к нему и горячо дышала в затылок. Сережа вдруг почувствовал, как на него накатилось удалое, озорное веселье. В полутемном зале с длинными стеллажами, где тонко пахло многолетней пылью и сыростью, повеяло необычным, и это необычное вовсе не пугало, потому что его обнимали за плечи узенькие и твердые Надины ладони.
- Кто это? - прошептала Надя.
- Это... это твой двойник.
- Ой, я боюсь!
- Не бойся.
- Но ведь привидений не бывает.
- Все бывает. У нас в городе уже видели двойников.
- А я что-то слышала такое и не поверила. А почему она, то есть я... стою... стоит?
Вторая Надя, с книгой, подняла голову, внимательно посмотрела на молодых людей, подняла палец и поднесла к губам.
- Она... я... чтоб мы молчали? - пробормотала Надя.
- Угу, - сказал Сережа.
Надин двойник еще раз поднес палец к губам, положил книгу на полку и направился к выходу.
- Пойдем за ней, - прошептал Сережа.
Ирина Степановна куда-то отошла, и они беспрепятственно проскользнули на лестницу. Двойник уже выходил на улицу.
Сережа сжал узенькую Надину ладошку в руке. Он чувствовал себя большим и бесстрашным, и добрый мир был полон счастья и манил неслыханными приключениями.
Они выскочили на улицу. Двойник уже успел отойти метров на двадцать, по теперь это была не Надя, потому что фигура впереди стала выше, сменила джинсы па темную юбку-макси, а овсяную Надину копну волос, перехваченную зеленой ленточкой, па две толстые черные косы.
- Но поймите, - сказал Александр Яковлевич Михайленко, заведующий аптекой, - нет у нас альмагеля.
- Я понимаю, - согласно кивнул старичок, сидевший напротив него в его крошечной, без окна каморке. - Но мне нужен альмагель. У меня дуоденит и повышенная кислотность. - Старичок поднял голову и с надеждой посмотрел на заведующего аптекой.
- У вас дуоденит и повышенная кислотность, но у меня нет альмагеля. В этом месяце его еще не завозили.
- Но вы заведующий аптекой...
- Заведующий аптекой? Можете называть меня заведующим аптекой. А можете - завларьком по продаже патентованных средств. Было время, когда слово "провизор" звучало гордо. Мы делали сложнейшие микстуры, и на нас смотрели, как на волшебников. А теперь вы приходите жаловаться, почему вовремя не завезли альмагель и ношпу или папаверин с дибазолом. Картофель и дамское белье завезли, а корвалол - нет. И Александра Яковлевича Михайленко кроют последними словами.
...И вдруг Александр Яковлевич почувствовал, что не может почему-то отвести глаз от шеи посетителя. В шее была явная несуразица. Александр Яковлевич несколько раз поморгал глазами, потом прикрыл веки и помассировал их пальцами. Человек сидел тихо и больше не нудил его своим треклятым альмагелем. Устал, устал ты, Александр Яковлевич. Сорок два года в аптеке - не фунт изюма. Пора отдыхать, а еще верцее - собираться на тот свет. Если уж начинает всякая чушь мерещиться, дело швах. Жаль только, что работать некому, кто сейчас хочет быть провизором? А почему, кстати? Прекрасная работа, требующая четкости, собранности, внимания. Дающая ощущение, что ты делаешь что-то нужное людям.
И Александра Яковлевича пронзила вдруг мысль, что никогда больше не увидит он аптеки, ставшей ему за долгие годы вторым домом. Да не вторым, поправил он себя, а первым, первым и единственным.
Он открыл глаза и снова посмотрел на шею человека. Галлюцинация была какая-то стойкая. А может быть, дело не в галлюцинации, а в глазах?
- Простите, пожалуйста, - сказал он и нагнулся к посетителю.
Фантастика! Воротничок светлой, в дурацких синих кубиках рубашки посетителя не охватывал его шею, не прижимался к ней, а являл собой как бы часть шеи.
- Простите, пожалуйста, - сказал еще раз Александр Яковлевич, - я, конечно... я не могу понять... это, разумеется, не мое дело, но ваш воротничок...
- Что мой воротничок? - спокойно спросил посетитель.
- Он у вас... в некотором смысле являет собой часть тела...
- А он должен быть отдельно? Как странно, однако. Покажите мне, если вас не затруднит, как это у вас устроено?
- Извольте, - сказал Александр Яковлевич и нагнул голову, словно поклонился.
- Благодарю вас, - сказал посетитель. - Значит, воротничок должен быть отдельно от шеи. Непростительная ошибка с моей стороны. Сейчас мы сделаем зазор.
И Александр Яковлевич увидел, как светлый, в синих кубиках воротничок посетителя слегка отделился от шеи, образовав зазор.
- Иван Андреевич, - сказал редактору газеты директор кирпичного завода Куксов, - вот вы написали в газете, что я, мол, только жалуюсь на свой коллектив, не обеспечивая в то же время должного уровня руководства. Но ведь вы сами прекрасно знаете, что у нас за народ...
- Между прочим, Петр Поликарпович, всегда находились руководители, которые любили жаловаться на подчиненных. Я даже в свое время выписал из одной старинной книги... одну минуточку... вот здесь она у меня лежала, эта цитатка... Из русской летописи. Ага, нашел: "Бояре меньшими людьми наряжати не могут; а меньшие их не слушают. А люди сквернословны, плохы; а пьют много и лихо. Только их бог блюдет за их глупость".
- Я вас не совсем понимаю, Иван Андреевич, - сказал директор завода и снял очки. Без очков глаза его стали сразу маленькими и злыми. - Мне кажется, сравнение довольно странное... Сравнивать каких-то средневековых пьяниц и коллектив современного предприятия, это, простите...
- А я и не сравниваю. Я говорю лишь о тех, кто жалуется на своих людей...
- Боюсь, мы с вами не найдем общий язык.
- Вам виднее, Петр Поликарпович.
Директор кирпичного завода вышел, не прощаясь.
Сам бы поменьше пил, подумал Иван Андреевич о директоре. Пойдет сейчас жаловаться, раззвонит во все колокола. Хорошо, что Паша использовал в статье лишь часть фактов и кое-что осталось в резерве. Одна текучесть у него чего стоит...
- Иван Андреевич,- в двери показалось веснушчатое лицо секретарши Люды, - к вам кто-то пришел. Вроде нездешний, добавила она заговорщическим шепотом.
ГЛАВА 5
- Разрешите? - сказал посетитель, молодой человек богатырского сложения в нарядном светло-сером костюме.
- Пожалуйста, - кивнул на стул Иван Андреевич, зарядил свой мундштук половинкой сигареты, закурил и привычно подумал, что давно нужно было бы бросить.
Несколько раз он совсем уже было собрался поставить крест на курении, но мысль о том, что между ним и миром исчезнет защитное облачко табачного дыма и руки окажутся лишенными оружия - мундштука и зажигалки, - заставляла его откладывать окончательное решение. Трус ты, Иван Андреевич, говорил он себе, мучился, потому что возразить было нечего, но продолжал курить.
- Если не ошибаюсь, - сказал молодой человек, - ваш рабочий день уже кончился. Ваша секретарша сказала мне, что вы собрались уходить...
- Какое это имеет значение? - с легчайшим нетерпением в голосе спросил Иван Андреевич и прицелился мундштуком в посетителя. Промахнуться было невозможно, потому что тяжелоатлетическая грудь молодого человека была более чем обширной мишенью. - Итак, я вас слушаю.
Даже спустя много лет после того, как Иван Андреевич перестал учительствовать, он иногда ловил себя на том, что хочет сказать посетителю или собеседнику: "Отвечайте, Иванов, не мямлите. Лучше нужно готовиться, давайте дневник". Но дневника у штангиста с собой явно не было, и Иван Андреевич обреченно поставил дымовую завесу.
- Видите ли, товарищ редактор, наш разговор может несколько затянуться, и, кроме того, я думаю, было бы лучше, если бы нам никто не помешал. Я специально выбрал такое время...
Последние несколько дней, с того самого момента, когда нелепая кошка тяжко спрыгнула с его дивана, оставив на жесткой ковровой поверхности четкое углубление, Иван Андреевич чувствовал, что раскачивается на неких качелях.
Взлет в одну сторону - и привычное ощущение привычной жизни: беременная машинистка Клавочка, которая собирается в декрет и которой нужно найти замену, а на редакционную невысокую ставку, да еще временную, охотниц мало; проклятая коробка передач единственного "уазика", которая отказывает через день и которой, так же как и беременной Клавочке, нет замены; косые взгляды директора кирпичного завода, который всем нашептывает, что Иван Андреевич наш что-то не тянет...
Но вот качели полетели в другую сторону - и привычный, четкий мир сразу размылся, стал неопределенно-зыбким. В этом мире собаки выпускали из себя и убирали лишние ноги, многопудовые кошки на глазах отращивали уши, по городу, бросая вызов заведенному порядку вещей, бродили двойники, духи, привидения, фантомы и прочие синонимы абсурда.
От этих качелей Иван Андреевич стал больше курить, забывал принимать свой резерпин от давления и иногда застывал в трансе, крепко держась за черный длинный мундштук.
Сейчас он находился в реалистической фазе качелей, но широкогрудый молодой человек, терпеливо ждавший его ответа, вдруг показался ему как-то связанным со вторым, фантасмагорическим взлетом. Чего он, интересно, хочет от него?
- Так я вас слушаю, - сказал Иван Андреевич.
- Иван Андреевич, давайте только условимся, что вы будете чувствовать себя со мной максимально раскованным.
- Что-о? - спросил Иван Андреевич и негодующе взмахнул мундштуком. - Соблаговолите мне объяснить, почему я в своем собственном кабинете должен чувствовать себя скованно или раскованно и в какой степени, молодой человек, это касается вас? Кстати, я был бы признателен, если бы вы представились.
- Видите ли, Иван Андреевич, я ни в коем разе не хочу вас обидеть. Наберитесь несколько терпения, и вы поймете, что я имею в виду. Что же касается моего имени... ну, допустим, Иван Иванович Иванов.
- Что значит "допустим"? Это ведь не ваше имя?
- Нет, разумеется.
- Послушайте, дорогой мой, - терпеливо сказал Иван Андреевич, - уже без нескольких минут восемь, меня давно ждет дома обед, который я, хочется надеяться, заслужил сегодня. Поэтому - и это вполне естественно - я не очень расположен шутить. Кто вы и что вы?
- Я вам уже представился Иваном Ивановичем Ивановым...
Дверь приоткрылась, и в щели показалась Людочкина головка в красной косынке.
- Иван Андреевич, так я пошла.
- Хорошо, Люда, иди. В редакции кто-нибудь еще есть?
- Нет, сегодня же у нас тихий день. До свиданья.
- До завтра...
- Я вам представился под этим именем, потому что вы моего имени уяснить себе не сможете.
- Скажите, пожалуйста! - буркнул Иван Андреевич и подумал, что перед ним, очевидно, все-таки сумасшедший, "чайник" на редакционном жаргоне. Хорошо, если смирный...
- Дело в том, - продолжал незнакомец, - что у нас нет имен в вашем понимании. Мы, разумеется, прекрасно различаем друг друга, но не по имени, а по индивидуальному полю.
- Так, так, так, так, - выбил дробь на крышке стола редактор газеты. - Индивидуальное, говорите, поле? А сельскохозяйственные машины у вас тоже индивидуальные? Или общие?
Незнакомец укоризненно посмотрел на Ивана Андреевича и покачал головой:
- Ирония при встрече с непонятным - защита малоразвитого ума.
- Благодарю вас, - сказал с облегчением Иван Андреевич, вставая. Удачно все получилось: "чайник" неосторожно оскорбил его, давая возможность уйти. - Я думаю, наша несколько странная беседа закончена, товарищ Иванов Иван Иванович. Он выговорил фамилию и имя отчетливо, как диктор, вложив в голос весь сарказм, на который был способен.
- Напротив. Она, к сожалению, еще не началась, - спокойно сказал тяжелоатлет, продолжая сидеть. - Вы, по-видимому, принимаете меня за сумасшедшего. Смею вас заверить, товарищ редактор, это ошибка. Я ведь тоже сталкивался с некоторыми не совсем понятными вещами в вас, но я никогда не позволял себе иронии...
- Вы? Сталкивались? Где это, например?
- А кошка? - напомнил посетитель.
- Что - кошка?
- В вашей комнате однажды присутствовала кошка.
Иван Андреевич почувствовал, что стол с полированной крышкой - гордость секретаря редакции, доставшего егр, медленно и плавно покачивается, вот-вот отплывет, и он крепко ухватился за него и опустился в свое креслице. На мгновение возникла уже посещавшая его уверенность, что он сошел с ума. Но он тут же вспомнил, что Наша Пухначев и он пришли к выводу, что речь идет не о безумии, а о совершенно необъяснимых фактах.
- Кошка? - бессмысленно переспросил Иван Андреевич и принялся вставлять в мундштук зажигалку. Зажигалка почему-то в мундштук не лезла.
- С вашего разрешения, это был я, - сказал молодой человек, слегка повел могучими плечами, отчего тонкая серая ткань пиджака натянулась.
"Не мудрено, что ты продавил мне диван", - подумал редактор и отметил про себя, что почти уже перестал удивляться. Лимит на изумление был израсходован, как бензин на редакционный "уазик" к концу месяца.
- Я еще запамятовал, что нужно было сделать Машке уши, буднично сказал молодой человек извиняющимся тоном, словно просил прощения, что не вытер как следует у входа ноги.
Иван Андреевич вдруг громко рассмеялся. Он представил себе почему-то, что бы сказал директор кирпичного завода, услышав этот разговор. "Да, - сказал бы он, - наш-то Иван Андреевич, слышали? С котами беседует. Верный признак, что заработался человек, отдохнуть-с пора".
Смех показался Ивану Андреевичу каким-то очень удобным спасательным кругом в обезумевшем, смытом мире, и он судорожно вцепился в него.
- Так, может быть, прикажете называть вас Машкой, по имени моей кошки?
- Удивительно вы все устроены, - мягко сказал человек, побывавший безухой Машкой, - вы готовы без устали перебирать любые варианты, от безумия до сна, кроме одного очевидного объяснения, которое зияет перед вами, но которого вы упорно бежите...
"Странно он как-то говорит, - подумал Иван Андреевич. Совсем как Тоня. Наверное, пока был у нас в виде Машки, поднабрался архаизмов".
- И каково же это объяснение?
- Оно очень просто: вы столкнулись с существами, совершенно не похожими на людей и обладающими совершенно другими свойствами и возможностями. На Земле таких существ нет, стало быть, эти существа не земляне.
Иван Андреевич аккуратно раскатал сигарету, разминая табак, не спеша подобрал со стола несколько табачных крошек, бросил их в стеклянную пепельницу. Пока он был занят простыми, будничными делами, можно было отгородиться ими от гигантского, невероятного события, вставшего перед ним чудовищной стеной. И самое смешное, что пришелец был абсолютно прав: объяснение давным-давно напрашивалось само собой, но все прятались от него, играли с ним в прятки. Да, вот тебе и безухая Машка, вот тебе и Пашин фельетон, вот тебе критика директора кирпичного завода...
- Вы правы, - наконец сказал Иван Андреевич. - Мне бы давно следовало догадаться. Значит, это и есть контакт, о котором столько говорилось и писалось?
- Вот в этом-то все и дело, что не совсем, - сказал пришелец. - Мы прилетели сюда не для того, чтобы устанавливать контакт между нашими мирами.
- Но для чего же?
- Нам нужна ваша помощь.
- Но это же и есть контакт.
- Нет, не совсем. Я не буду сейчас подробно рассказывать вам, почему нам понадобилась ваша помощь, я надеюсь, что вы узнаете это со временем. Скажу лишь, что никто не должен знать о нашем нахождении на Земле, за исключением тех нескольких человек, к которым мы обращаемся. Да и те, ответив "да" или "нет" на нашу просьбу, забудут о ней.
- Как это - забудут?
- Это уже наша забота. Но не подумайте, что мы причиним кому-либо из вас малейший вред. Мы просто сделаем так, чтобы вы забыли об этой встрече. Но прежде о предложении.
Тяжелоатлет встал и пристально посмотрел на Ивана Андреевича. Он молчал, и редактор вдруг почувствовал, как медленным, размеренным прибоем накатываются на него волны печали, исходившие от пришельца. Печаль была безбрежна, бесконечна, темна. Она подхватывала сердце, поднимала, пыталась унести его с собой, тянула, не отпускала.
Но вот в этом печальном и томительном мраке родилась светоносная ниточка, она протянулась к Ивану Андреевичу, и в ее пульсации и изгибах угадывалась мольба,
- Мы, жители неведомого вам мира, - сказал пришелец, просим помочь нам. Вам вовсе не трудно исполнить нашу просьбу: вам достаточно согласиться отправиться с нами в наш мир... Вы не покинете вашу Землю, и вместе с тем вы сможете вернуться с нами в наш мир. Еще немножко терпения - и вы поймете меня. Когда мы наметили несколько человек, к которым собирались обратиться с просьбой, мы начали изучать их. Мы умеем читать мысли, мы умеем принимать любое обличье. Мы репетировали создание двойников, которые в случае вашего согласия отправятся с нами с Земли.
- Но почему я? И здесь, в Приозерном, в нашей, так сказать, глубинке? - пробормотал Иван Андреевич, чувствуя, что говорит глупость.
- Мы случайно оказались на вашей Земле и случайно приземлились в вашем городке. С таким же успехом мы могли попасть в любую другую точку вашей планеты. Но мы, повторяю, оказались здесь, и нам кажется, что впервые за время нашего путешествия мы нашли то, что ищем. Мы давно ищем тех, кто может нам помочь, кто поможет нам спасти наш всесильный и умирающий мир.
- И я должен это сделать? - недоверчиво спросил Иван Андреевич.
- Не "должен", а "могу". И мы надеемся, что сможете, Иван Андреевич. Вы и те несколько человек, которых мы ^выбрали.
- А кто еще?
- Вы знаете их всех. Пока этого достаточно, потому что вы должны принять или отклонить нашу просьбу совершенно самостоятельно. Только вы и никто другой должны решать. Ни рекомендаций, ни поручительства, ни уговоров со стороны. Решаете только вы, Иван Андреевич Киндюков. Вы не можете ни с кем советоваться. Мы знаем, это очень тяжело, и именно поэтому мы делаем так, чтобы никто из тех, к кому мы обращаемся, даже не помнил о просьбе.
- Но что же я должен сделать? Конкретно.
- Я - ваш дублер. Если вы скажете "да", я стану Иваном Андреевичем Киндюковым, зеркальной копией вашего индивидуального. "я". Я буду помнить все то, что помните вы, знать то, что знаете вы, обладать тем же характером, теми же эмоциями. Лишь тело будет иным. Оно может быть похоже на вас, это не имеет значения, но может быть и иным. Для нас нет застывших, постоянных форм материи, для нас она всегда пластична, и мы свободно лепим из нее все, что пожелаем. При этом вы, земной Иван Андреевич, ничего не потеряете, вы останетесь таким, как были. Ведь от того, что вы смотритесь в зеркало и видите там свое отображение, вы не теряете своего "я". Вы не совсем убеждены, ваши чувства в смятении, и это понятно. Разрешите, я на всякий случай запру дверь и постараюсь показать вам, что я имею в виду.
Пришелец встал, подошел к обитой коричневым дерматином двери и повернул ключ. Он повернул ключ, Иван Андреевич отлично слышал щелчок, но не спешил повернуться к собеседнику. "Что он там делает", - подумал редактор, но тут же увидел, что человек начал как бы сужаться на глазах, причем пиджак сужался вместе с плечами. Пришелец обернулся, и Иван Андреевич увидел себя.
Несколько лет назад его сын, приехав в отпуск из Владимира, где заведовал районо, привез проектор и несколько любительских кинопленок, которые он отснял в Приозерном годом раньше. Иван Андреевич смотрел на экран, сделанный из простыни, и никак не мог соединить немолодого, чуть сутулого человека, двигавшегося по нему, с тем Ваней, каким видел себя своим внутренним взором. Тот, экранный, был намного старее, меньше ростом, пузатее, каким-то неловким и не очень симпатичным. На следующий день, бреясь, Иван Андреевич долго рассматривал свое отображение в зеркале над раковиной. Пожалуй, киноаппарат не врал, решил он, а потом вдруг понял, что внешность уже, пожалуй, не играет и не сыграет в его жизни большой роли, разве что вдруг влюбится под старость, как Гете. Но он был явно не Гете, и запоздалая любовь, пожалуй, ему не угрожала.
Вот и теперь, глядя на Ивана Андреевича, стоявшего перед ним в чужом сером костюмчике с какими-то нелепо широкими бортами, он отметил, что это, увы, Иван Андреевич с экрана, да еще более постаревший, а не его Ваня. И все-таки это был он, он, Иван Андреевич Киндюков. И в голову вдруг пришла совсем ничтожная детская мысль о том, что хорошо было бы оставить себе двойника здесь, на грешной Земле. Один бы работал, а другой собрался бы наконец порыбачить, побродить за грибами, благо, говорят, уже белые появились...
- Ваня, - тихо сказал двойник, - Ваня, это я...
- Я не знаю, - сказал Иван Андреевич, - может быть...
- Я - это ты. Это не сон. Я понимаю, что мы должны сейчас с тобой чувствовать... Проверь меня и убедись, что я - это ты. Между прочим, ты замечаешь - я почему-то решительнее тебя. А это, наверное, потому, что я знаю, что я - Иван Андреевич Киндюков, и знаю, что ты, стоящий за своим столом в позе Наполеона, - ты редактор одной из лучших в области районных газет. Ты же еще сомневаешься во мне.
- Не знаю, - усмехнулся Иван Андреевич, но сел. - Прежде всего я не знал, что столь говорлив...
- Ноблес оближ, как говорят французы. Положение обязывает. Я только что появился на свет, и мне все интересно. А если говорить серьезно, Ваня, у меня голова кругом идет. Ты только представь на секундочку - смотреть на себя самого и разговаривать при этом... Впрочем, какую же ахинею я несу, ведь ты чувствуешь то же самое... Ну, так проверь же меня.
- Что я делал в тысяча девятьсот сорок третьем году?
- В сентябре сорок третьего я, младший лейтенант Киндюков, был ранен...
- Куда? - спросил Иван Андреевич.
- Как - куда? Осколочное ранение правой ноги. Госпиталь в Омске, где я, между прочим, познакомился с Тоней. Какая была озорная девчушка! Помнишь, как она выбросила в окно кусок веревки и я вскарабкался по ней на второй этаж общежития, где она жила? А комендантша, похожая на усатую жабу? Потом она почему-то прониклась ко мне доверием и говорила лишь, чтобы я не обидел Тонечку. Помнишь?
- Помню ли я? - усмехнулся Иван Андреевич. - До чего ж мы с тобой оба глупы! Если помнишь ты, значит, помню и я. Мы это один человек... Что с тобой? Ах да...
Двойник опять начал расплываться, лицо деформировалось, как резиновая маска, натягивалось, нос укоротился, глаза разъехались один от другого. На Ивана Андреевича снова смотрел тяжелоатлет-пришелец.
- А вы? - спросил Иван Андреевич. - Где же вы были все это время, пока я разговаривал с двойником?
- О, я вам уже сказал, что нам трудно даже понять идею застывшей формы. Я, то есть моя индивидуальность, - тот же пластичный материал для меня, как и все в нашем мире. То, что вы называете мозгом, я могу расширять, сужать, выгибать - все это для нас не имеет, повторяю, ни малейшего значения. Мы всегда принимаем ту форму, которая удобнее всего для нас в этот момент. Но дело не в этом. Я еще раз прошу вас решить: согласны ли вы помочь нам? К сожалению, ваш язык слишком беден, чтобы передать ту мольбу, с которой я и мои братья обращаемся к вам. Я постараюсь еще раз донести до вас эту мольбу, потому что вы очень нужны нам.
И снова заструилась в маленьком кабинете редактора районной газеты "Знамя труда" темная, плотная печаль, и снова сквозь бездонный бархат этой печали протянулась к нему невесомой рукой светоносная тоненькая ниточка. Она дрожала, тянулась к нему, звала, просила о помощи, и Иван Андреевич вдруг почувствовал, ито слышит музыку, и музыка рассказывала как раз то, что чудилось ему в эти секунды.
Но вот печаль схлынула, и ниточка, свернувшись в последнем призывном аккорде, погасла. Пришелец молчал, опустив голову.
По-всякому жил Иван Андреевич Киндюков, пятидесяти девяти лет от роду, уроженец города Приозерного. Бывали периоды легче, бывали годы потяжелей. Кое-чем сделанным в жизни мог гордиться, кое-что рад был бы забыть. Но никогда, ни разу не отказывал он ближнему в помощи, если мог помочь.
- Я согласен, - сказал Иван Андреевич.
- Благодарю вас, - сказал пришелец. - А сейчас я сделаю так, чтобы вы забыли о нашем разговоре.
- А это... необходимо? Мне кажется, я мог бы жить, даже гордился бы, зная, что часть меня отправилась помогать каким-то далеким космическим братьям...
- Нет, Иван Андреевич, это исключается. Оставшись наедине с памятью о вашем раздвоении, вы раньше или позже испытали бы соблазн рассказать кому-нибудь об этом или жили бы мыслью о своей исключительности. И в том и в другом случае ваша психика не выдержала бы. За то время, что мы здесь и изучаем вас, мы уже усвоили кое-какие ваши представления о том, что такое нормальная психика и ненормальная. Вообразите: где-то в разговоре вы между прочим бросаете: "А знаете, дорогой, я отправил своего двойника в космос". - "В космонавты?" - "Да нет, какие уж космонавты в моем возрасте! Отправил на одну планетку, просили помочь..." - "Ну и как, условия ничего? в тон спрашивают вас. - Кормят прилично?" Или вы должны засмеяться и превратить все в шутку, или вас сочтут больным. Ежели вы будете блюсти тайну своего раздвоения, денно и нощно вы будете спрашивать себя: "Неужели это правда? Нет, наверное, мне это померещилось. А может быть, все-таки правда?" Результаты этих постоянных сомнений представить, как я вам уже сказал, нетрудно.
- Но вы могли бы оставить мне какие-то доказательства...
- Нет, на Земле не останется ни малейшего доказательства, ни малейшего следа нашего посещения.
- Но почему?
- Мы не хотим никаких контактов... Потом вы поймете...
- Но вы же прилетели...
- Это просьба о помощи, и о нашей просьбе никто никогда не узнает, даже вы...
Иван Андреевич почувствовал, как в его голове кто-то быстро стирает влажной тряпкой школьную исписанную доску. Чистая влажная поверхность блестит и высыхает тут же, обретая свою матовость. Этот пришелец... странный человек... как он... Иван Андреевич помнил, что человек делал нечто поразившее его воображение, но что... и кто он... просто смешно. Только-только сейчас он назвал его каким-то словом, стало быть, он знал, кто перед ним, а сейчас - хоть кол на голове теши, невозможно вспомнить. Вспомнить... минуточку, что-то связанное со словом "помнить"... А что помнить? Помнить... помнить... Да нет, ничего такого не вспоминается... Нелепость какая-то; ему кивает человек в сером костюме, протягивает руку, он жмет эту руку. Кто это был, зачем, почему он не помнит? А может быть, это тоже как-то связано с... чем? Только что он помнил нечто такое, случившееся с ним, что могло иметь касательство к только что ушедшему посетителю, что-то необычное...
Иван Андреевич прикрыл глаза и произвел мысленную ревизию своей памяти. Да нет, как будто бы он помнил все: кто он, где он, чем занимается, что предстоит завтра. И даже довольно тягостный разговор с директором кирпичного завода.
Он открыл розовую папочку с не читанными еще материалами. "Вовремя подготовиться к уборочной". Оригинальный заголовок, нечего сказать. Он взял из деревянного стаканчика красный карандаш и подчеркнул название. Привычка осталась еще со школы, и в редакции шутили, что в один прекрасный день Иван Андреевич начнет возвращать авторам статьи с проставленными отметками.
ГЛАВА 6
Суббота всегда вызывала в Татьяне Владимировне Осокиной двойственное чувство. За неделю накапливалось обычно множество безотлагательных хозяйственных дел, от стирки до штопки носков, и, чтобы никто ей не мешал, она старалась спровадить в этот день из дома и мужа и дочь. Помощи от них на грош, только под ногами мешаются.
Но когда она оставалась одна и принималась за свое хозяйственное коловращение, ей начинало казаться, что никто ей не желает помогать, что все ее эксплуатируют, пользуются ее трудолюбием и добросовестностью. И для чего она, спрашивается, крутится с утра до вечера, как белка в колесе, кто ей за это спасибо скажет, кто оценит? Петя? Ему бы только свой футбол-хоккей в ящике посмотреть, а потом залечь на диван с газеткой дрели пускать. Мужик, называется. "Я, Танечка, за баранкой за день так намаюсь, что сил не остается..." А в бухгалтерии, выходит, мы только прохлаждаемся... Да здесь в тысячу раз больше внимания нужно, чем за рулем. Ну повернул он свой "ЗИЛ" туда или сюда, задний ход дал - какая разница? А попробуй в документах задний ход дать - нанимай потом адвоката, как Лопухина Катька в прошлом году...
И так вдруг стало Татьяне Владимировне жалко себя, что выключила она стиральную машину "Рига", подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Господи, и это ты, Танька? Да как же это может быть? Ведь только вчера наглаживала коричневую короткую юбочку школьной формы... Только вчера. И вся жизнь расстилалась впереди, надейся и жди.
А тут смотрит на нее какая-то остроносенькая загнанная тетка. Ты ли это, Танька? Ты ли? Это что же происходит? Это кто же у нее двадцать лет из кармана вытащил? Да так ловко, что и не почувствовала.
Она ощутила на глазах слезы, подняла фартук и высморкалась.
В дверь постучали. Татьяна Владимировна недовольно подумала, кого еще там несет, и громко сказала:
- Входите!
В комнату вошла незнакомая женщина с двумя черными косами. Узбечка, наверное, подумала было Татьяна Владимировна, но лицо незнакомки было чисто русским. Женщина кивнула и сказала:
- Вы не возражаете, если я отниму у вас несколько минут?
- Простите, но я даже не знаю, кто вы... - неуверенно сказала Татьяна Владимировна и вспомнила, как три года назад у Приозерного неделю стоял цыганский табор и по городу ходили самые невероятные слухи.
Хотя лицом и одеждой женщина на цыганку не походила, но две черные косы вызывали у Татьяны Владимировны глухое беспокойство.
Женщина тем временем уселась, не дожидаясь приглашения, и сказала:
- Я к вам по делу.
- По какому это делу? - подозрительно спросила Татьяна Владимировна.
И бесцеремонность, и эти две косищи у взрослой бабы, и дурацкое какое-то канареечное платье - все в посетительнице вызывало у нее какую-то настороженность.
- Вы помните, некоторое время тому назад вы увидели в окно мужа, и в это же самое время он лежал на диване и спал, прикрывшись "Советским спортом"?
- Ну, допустим. Вас-то это каким боком касается?
Мало того, что баба мешала ей заняться стиркой, она еще лезет не в свои дела. И вдруг Татьяна Владимировна испугалась: а если это... если Петька завел себе какую-нибудь... Устает, говорит, за баранкой. С этой канареечкой устанешь. Ишь ты, распустила косы...
- Это была я.
Женщина произнесла эти слова совершенно спокойно и посмотрела на хозяйку.
Татьяна Владимировна неприязненно покачала головой и сказала:
- Не понимаю, чего здесь смешного. Вы уж простите, не знаю вашего имени и фамилии, но у меня нет времени шутки с вами шутить.
- А я и не собираюсь шутить, - довольно развязно сказала дама с косами. - Я просто сообщила вам: это я была Петром Данилычем. Не верите? Смотрите.
Женщина в канареечном платье начала вытягиваться, раздаваться в плечах, косы светлели и укорачивались, и у Татьяны Владимировны вдруг мелькнула в голове совершенно дурацкая мысль, будто бы она слышит шорох наподобие того, что слышен в театре при подъеме занавеса. Она совершенно оцепенела и только повторяла про себя: "Господи, господи, господи!.." Набожной она не была, о религии никогда не думала, а тут вдруг невесть из каких глубин вдруг всплыло материно слово, и она схватилась за него, как хватаются в автобусе за ручку при крутом повороте.
Женщина уже перестала шуршать собой и являла теперь Петра Данилыча как раз в том обличье, в каком он обычно возвращался с работы: серый модный костюм, синтетика, правда, но симпатичный, с металлическими пуговками, купленный в прошлом году за семьдесят два рубля, и красная с синим рубашка. Из приозерских шоферов одевался Петя аккуратнее всех, тут спорить было нечего. Нет, все-таки мой Петечка лучше всех, с гордостью подумала Татьяна Владимировна и вдруг осознала, что смотрит не на настоящего мужа, а на двойника, который только что был женщиной с двумя черными косами. Голова у нее пошла кругом. Как-то все это было сомнительно: чужая женщина, Петр Данилыч, и вместе... Что-то в этом было неприятное, брезгливо подумала Татьяна Владимировна. Хотя, -с другой стороны, нечего было накликать беду, представляя, будто у этой тетки с Петей что-то есть. А если бы не было, как она могла бы его представить? Нет, разобраться в этом было невозможно.
- Теперь вы верите? - спросил Петр Данилыч голосом Петра Данилыча.
И это непривычное "вы" страшно напугало Татьяну Владимировну.
- Петь, ты...
- Что, Танюшка?
- Петь, я...
- Да ты не стесняйся, это я...
- Как же ты... и с этой...
- Да нет, ты не беспокойся...
Голова у бедной Татьяны Владимировны начала вращаться все быстрее и быстрее, и, чтобы не упасть, она схватилась за косяк двери. Петр Данилыч аккуратненько свертывался в женщину в канареечном платье. Самым удивительным было даже не превращение мужа в незнакомую женщину, а серого хорошего костюма, выбранного ею самой еще в прошлом году, в платье, которое и в отделе уцененных товаров никто бы не взял. Как-то это было обидно...
- Татьяна Владимировна, - сказала посетительница уже своим голосом, - вы же женщина с образованием, вы кончили техникум, почему вы не спрашиваете, как я это делаю? Ведь это же невозможно. На ваших глазах творилось чудо, а вы, простите, думали о всякой ерунде...
"Ишь ты, - неприязненно фыркнула Татьяна Владимировна, выворачивается туда-сюда и еще выговаривает!.. Хотя, конечно, действительно всякая ерунда в голову лезет".
- Вы думали когда-нибудь о пришельцах? - строго спросила тетка в канареечном платье.
- О ком, о ком?
- О пришельцах из других миров, об инопланетянах?
Татьяна Владимировна пожала плечами. Она и сама не знала, думала она о них или не думала. Скорее всего, все-таки не думала, потому жизнь ее шла заведенным порядком и без инопланетян. Она скосила глаза на ходики с кукушкой. Ого, уже половина одиннадцатого, а она еще за обед не принималась. Скоро Верка пожалует с пляжа, голодная, как зверь. Инопланетяне... И как она превращается?
Татьяна Владимировна и хотела бы настроить свои мысли на возвышенный космический лад, но тут же увязла в привычных земных вещах: обед, белье, Верка, куртку ей надо на осень...
- Мы хотим просить у вас помощи. Мы, жители далекого мира, просим вас о помощи.
- Меня? Да вы что? Как же я могу помочь?
- Подобно тому, как я сейчас представила вам двойника вашего мужа, мы сделаем ваш двойник, и этот двойник улетит с нами...
- Да вы что, смеетесь? Чем я могу помочь? Нашли тоже... У нее вдруг мелькнула догадка: - У вас там что, есть страхование жизни, имущества?
- Нет, Татьяна Владимировна, - сказала женщина в канареечном платье, - у нас нет страхования. Нам нужны вы. Лично вы. Вы как личность.
- Я? Как личность?
Может, все-таки она смеется, эта пришелица? Но нет, смотрит на нее серьезно, даже печально, и эта печаль темной водой беззвучно накатывается на нее, холодит сердце, томит его. И музыка непонятная звучит, точно молит ее, тянется к ней. Нет, не смеется странная эта женщина. Глядит грустно, так грустно, что горло сжимается. Скорбит человек. И просит о помощи. Просит о помощи. И из всех, всех людей, из Чубукова, из всей бухгалтерии, из всего Приозерска ее выбрали. Как личность. Из всех ее выбрали. Ее, Татьяну Владимировну Осокину. Нет, не самую красивую, знала она и про свой нос буратиний и про глаза. Нет, не самую образованную, не раз замечала, что знаний ох как не хватает. Не самую умную, не самую счастливую и не самую богатую. Как личность выбрали! И дернулось что-то в Татьяниной груди, потянулось навстречу светлой ниточке, что рвалась к ней из темной печали. Оценили ее. Как личность! Нет, не провалились к черту двадцать лет и тысячи сваренных обедов, тысячи пар заштопанных носков и сводок по выполнению плана страхования. Как личность! Уехать, помочь. Вылететь птичкой из кухни, только тебя, Танечка, и видели!
И тут же тоненько и жалобно пискнула мыслишка: а как же Петр Данилыч и Верка? И, словно в ответ, услышала:
- Вы останетесь здесь, дома, и даже никогда не будете вспоминать об этом разговоре, но копия ваша улетит с нами. Никто и никогда не узнает об этом, не будете знать и вы. Но мы ведь просим помощи не за награду. Решайте.
Как личность... И казалось Татьяне Владимировне, что ошибается пришелица, недоговаривает чего-то. Не может того быть, чтобы сделал человек что-то в жизни и не осталось бы у него от этого следа в душе.
- Я согласна, - прошептала она.
- Спасибо, - сказала женщина в канареечном платье и пошла к выходу, прикрыла за собой тихонечко дверь - и будто не было ее.
Татьяна Владимировна подняла глаза на ходики. Вот те на: настучали уже одиннадцать, а она все стоит задумавшись. Сколько же она так простояла? Минут, наверное, сорок. Точьв-точь как Верка, когда моет посуду: шевельнет рукой и замрет, уставившись в грязную тарелку. И зло ее, Татьяну, берет, и смеяться хочется.
На мгновение ей почудилось, что она не просто замечталась, что кто-то будто бы приходил к ней. Нет, это только показалось. Подогреть воду и быстрее постирать, а то весь день прокрутишься на кухне.
Но странное дело: хотя думала она о самых что ни на есть будничных делах, настроение у нее было почему-то просветленное и в самой глубине души тепло плескалась светлая печаль.
С того самого момента, как увидел Александр Яковлевич Михайленко у себя в каморке старичка, у которого воротничок и шея являли одно целое, он жил в состоянии постоянного ожидания. Чего ждал, сказать он не мог, но старичок, назойливо требовавший альмагель, мгновенно взорвал всю привычную жизнь заведующего аптекой. Взорвано было все: от аптеки до ежесубботнего преферанса с невропатологом Бухштаубом, заведующим инспекцией Госстраха Чубуковым и завмагом Жагриным. Все взорвал старичок в детской светлой рубашечке с синими кубиками. А может быть, и не детской, кто ее знает, эту безумную нынешнюю моду. Взорвал, поднял все кверху, перемешал. Все перепуталось, стало зыбким и неопределенным, как бы вокзальным. Вещи потеряли присущую им солидность, а люди - свою безусловность.
Несколько дней Александр Яковлевич ловил себя на том, что пристально всматривается в шеи людей.
- Что вы на меня так смотрите? - спросил его завмаг Иван Иванович Жагрин, когда они играли в преферанс.
- А как это я на вас смотрю?
- Да так как-то... странно... - Завмаг пожал плечами и приблизил карты к груди. Прятать, впрочем, ему особенно нечего было, потому что карта ему упорно не шла и на руках был унылый набор всякой мелочи, как детский новогодний подарок за рубль в целлофановом пакетике, перевязанном ленточкой.
Александру Яковлевичу остро захотелось рассказать о странном посетителе, умевшем неким таинственным образом отделять воротник от шеи, но он представил себе реакцию партнеров и замолчал. Он сдал карты и смотрел поочередно на шеи своих партнеров. У Бухштауба между воротником рубашки и морщинистой шеей можно было всунуть детский кулак, Чубуков, казалось, уже много лет не снимал свою серую рубашку и черный галстук, а сизую шею завмага не мог удержать ни один воротничок.
Александр Яковлевич прожил долгую жизнь и давно приучил себя ничему не удивляться. Пусть люди волнуются, шустрят, он-то знает: суета сует, всё суета!
И вот теперь, впервые за долгие, долгие годы, он чувствовал себя безоружным перед явившимся ему старичком. И даже слова о том, что нет ничего нового, никак, пожалуй, не могли отнестись к человеку, у которого воротничок рубашки рос прямо из шеи.
Александр Яковлевич налил себе стакан чаю. Заварка была совсем жиденькая, казенная, но лень было заваривать новую. Он размешал сахар и подумал, что надо, пожалуй, лечь сегодня пораньше, потому что предыдущую ночь спал дурно и проснулся совсем разбитым.
Жена Александра Яковлевича умерла вскоре после войны. Несколько лет он прожил с дочерью, заменяя ей мать, потом она уехала в Ленинград учиться, и с тех пор он всегда жил один. Разве что два или три раза гостила у него внучка. Но тихий Приозерный тяготил ее, и Леночка уезжала через несколько дней.
Впрочем, он привык к одиночеству. Немудреное стариковское хозяйство вести было нетрудно, а настоящим домом была для него аптека. Иногда он ловил себя на мысли, что ворчит на кассиршу Галину Игнатьевну точно так, как ворчал когда-то на жену-покойницу, что переживает за бесплодные пока романы провизора Люсеньки и продавщицы ручного отдела Наташи, как переживал когда-то первые увлечения дочери. Нет, если честно говорить, не совсем так. Сейчас он был корыстнее. Со всей своей стариковской хитростью он рассчитал, что, если бы Люсенька и Наташа вышли замуж в Приозерном, они бы, скорее всего, остались в аптеке. Пока не родили бы, во всяком случае. А так что-то слишком часто стали они поговаривать о сибирских стройках, о дальних дорогах.
В дверь позвонили, и Александр Яковлевич машинально посмотрел на часы - уже пол-одиннадцатого, кого это принесло в такой час? Он подошел к двери и спросил, кто там. Не то чтобы он боялся воров, красть у него было нечего, но скорее так, для приличия.
- Я у вас был на днях, спрашивал альмагель, - послышался из-за двери тот самый стариковский голос, который Александр Яковлевич, казалось, запомнил на всю жизнь.
Он нисколько не удивился. Он почему-то был уверен, что странный старичок обязательно пожалует еще раз и снова принесет с собой какую-то озорную нелепость, которая и так уже поставила все дыбом в его размеренной жизни. Он распахнул дверь. Так и есть, тот самый старичок, у которого воротничок рос из шеи. Александр Яковлевич понимал, что это невежливо с его стороны, но ничего поделать с собой не мог - наклонился и уставился на щею посетителя. На этот раз все было в норме.
- Могли бы и поздороваться вначале, - проворчал посетитель.
- Да, конечно, - смешался Александр Яковлевич и почувствовал, что покраснел. - Простите. Прошу, садитесь.
Старичок неторопливо оглядел четырнадцатиметровую скромную комнатку заведующего аптекой и так же неторопливо сел, слегка отодвинув стул от стола.
- Так что, альмагеля так и нет до сих пор? - строго спросил он.
- Во-первых, есть. И обычный альмагель, и альмагель "А". А во-вторых, с каких это пор за лекарством приходят домой к заведующему аптекой, да еще близко к полуночи?
Сердце у Александра Яковлевича колотилось, весь он пылал. Неясные предчувствия реяли по комнате, дух замирал в томительном ожидании. Но чего? Он вовсе не собирался выговаривать странному посетителю, тем более что он вполне мог оказаться порождением больной его фантазии, но почему-то обиделся за аптеку. Для аптеки в районном центре у них снабжение вовсе недурное, грех жаловаться, случалось, даже приезжие из области находили у него дефицит, не всегда доступный и у них. А здесь "так что, альмагеля так и нет до сих нор"! Господи, что за чушь в голову лезет, подумал Александр Яковлевич. И это вместо того, чтобы предложить что-нибудь гостю.
- Чаю выпьете? - спросил он старичка.
- Простите, никогда не пробовал, - строго ответил гость и пожевал губами.
- Как, вы никогда не пили чая?
Александр Яковлевич тихонько засмеялся. И не только потому, что перед ним сидел старичок, никогда - если этому можно поверить - не пивший чая, а еще и потому, что он не ошибся: все на свете перевернулось вверх дном, и это вовсе не пугало его, а наполняло нетерпеливым детским томлением - вот сейчас, сейчас придет дед-мороз и принесет что-то необычное. Вот сейчас вылетит волшебная птичка, взмахнет крылом, и все завертится в веселой кутерьме, в которой не будет ни шестидесяти семи лет, ни стариковского одиночества с казенной жиденькой заваркой.
- Да, я никогда не пил чая, - с вызовом отчеканил старичок. - Как, впрочем, и кофе, алкогольные и безалкогольные напитки, а также воду. Я вообще никогда ничего не пил и не ел и более того - не собираюсь.
- Позвольте, позвольте, - принимая игру, сказал Александр Яковлевич, - а альмагель, который вы требовали у меня с настойчивостью ошалевшего от безделья пенсионера?
- И альмагеля я никогда не пил.
- А чем же вы лечите свою кислотность и свой, если не ошибаюсь, дуоденит?
- У меня нет ни повышенной, ни пониженной кислотности и нет воспаления двенадцатиперстной кишки, потому что у меня нет двенадцатиперстной кишки.
- Это вы серьезно?
Александр Яковлевич хотел было прыснуть - человек без дуоденума не может жить, это же элементарно, - но тут же вспомнил шею старичка и удержался.
- Вполне. Я вам скажу даже больше: у меня вообще нет ни одной кишки, ни толстой, ни тонкой, ни прямой.
- А желудок? Желудок, надеюсь, у вас есть?
- Боже упаси! Никаких желудков и прочей ерунды.
- Зачем же вы терзали меня альмагелем и лгали насчет болей и изжоги?
- Мы готовили вас.
- Готовили? К чему?
- К тому, о чем я собираюсь просить вас.
- Странная, однако, у вас подготовка...
- Нисколько. Просто просьба наша настолько по вашим земным понятиям необычна, что мы старались как-то расшатать подпорки обычного, смешать координаты привычного.
- Тогда вы преуспели, - весело сказал Александр Яковлевич. - После вашего посещения мне все время кажется, будто я без устали катаюсь на аттракционе "мертвая петля". Все перевернулось вверх дном.
- Прекрасно. Тогда я могу изложить вам нашу просьбу. Вы обратили внимание на выражение, которое я только что употребил: "по вашим земным понятиям"?
- Да, конечно. Вы же не отсюда, я это сразу понял. Вы оттуда. - Александр Яковлевич поднял палец и показал на потолок, туда, где над ним жили Рябушкины.
У главного Рябушкина, человека хотя и пьющего, но тихого, была одна странность: он любил передвигать мебель, причем делал это в самое неподходящее время. Вот и сейчас в ночной тиши вдруг послышалось громыхание. Шкаф, автоматически определил Александр Яковлевич.
- Вы не ошиблись, - сказал старичок. - Вы нам нужны.
- Там? - спросил Александр Яковлевич и снова показал пальцем на потолок.
- Да.
- Отпадает, - вздохнул заведующий аптекой.
Нет, он, конечно, не собирался так сразу отказываться, но нельзя же, с другой стороны, с места в карьер кричать "ура". Да и аптеку жаль. Назначат заведующим, конечно, Люсеньку. Девушка славная, спора нет, но, к сожалению, безынициативная, вяловатая. С таким характером из облуправления аспирин не выбьешь...
- Почему?
- Я не могу бросить аптеку. Я отдаю себе отчет, что аптека в районном центре - не бог знает какая важная вещь по космическим масштабам, но я проработал в ней всю жизнь. Я прожил свою жизнь не в космосе, а в Приозерном, а это, согласитесь, не совсем одно и то же.
- Вам и не придется бросать свою аптеку, где не всегда, между прочим, есть альмагель...
- А где он есть всегда? Вы скажете, в Москве? Ничего подобного! Далеко не всегда! Может быть, у вас там? - Он показал на потолок, грохот над которым внезапно стих.
- Увы, у нас там тоже нет альмагеля. Но дело не в альмагеле. Как я вам уже сказал, вам не придется бросать свою аптеку, получившую, насколько я знаю, в прошлом году переходящее знамя областного аптекоуправления.
- Вы хотите поручить мне какое-нибудь дело здесь? Отпадает. Поработайте на моем месте да плюс еще все общественные нагрузки - уверяю вас, в шестьдесят семь лет остается не так уж много сил.
- Вы все время не даете мне закончить мою мысль. Вы улетите с нами и одновременно останетесь здесь.
- Раздвоение личности?
- Мы заберем с собой вашего двойника.
- Отлично! - вскричал Александр Яковлевич. - А скажите, у меня тоже не будет кишок?
- Не будет, - серьезно покачал головой посетитель.
- Стало быть, не будет и колита?
- Не будет, - еще решительнее подтвердил пришелец.
Александр Яковлевич не раз уже подозревал, что человек он, в сущности, отчаянный. Окружающие, правда, этого не замечали. Разве что партнеры по преферансу пожимали плечами и поднимали изумленно брови, когда он вдруг ухарски объявлял мизер на карте, на которой человек нормальный скромно бы спасовал. Вот и сейчас он нисколько не колебался, не сомневался, не боялся и не терзался странностью предложения. Двоиться так двоиться. Лететь так лететь. И неважно, что все это сильно смахивает на бред, на галлюцинацию, - может быть, он рожден вовсе не для аптеки, а для космоса.
Четырнадцатиметровая комнатка в доме номер семь по улице Максима Горького гудела от предвкушений дальних странствий.
- После того как я уйду, вы, то есть остающийся Александр Яковлевич, тотчас забудете о нашем разговоре. Так нужно.
- Раз нужно - значит, нужно.
Посетитель кивнул и пошел к двери. Александр Яковлевич закрыл за ним дверь и тут только сообразил, что принимал гостя в ночной пижаме. А почему бы ему не быть в ночной пижаме в собственной комнате в начале двенадцатого, когда дом уже спит и даже старший Рябушкин перестал двигать мебель? И почему вообще он должен думать о пижаме? И почему не ложится спать, когда собирался это давным-давно сделать?
ГЛАВА 7
Скоро на озере надо будет светофоры ставить, подумал Павел, поворачивая свою "казанку", чтобы не задеть неуклюжую надувную лодку.
- Возьмите нас на буксир, дяденька! - озорно крикнула ему девчушка в голубом купальнике.
- Тороплюсь, тетенька! - буркнул Павел и направил лодку в заливчик.
Это было единственное место, куда добраться по берегу было трудно - заливчик и полуостров выходили на земли лесопитомника - и где поэтому можно было найти местечко пристать и посидеть часок-другой у костерка. Во всех других местах орали дети, ревели транзисторы и "Жигули" и визжали в воде юные купальщицы, подманивая к себе юных купальщиков. Хорошо, что он выбрался наконец на озеро. Ему позарез нужно было побыть наедине с собой, чтобы хоть как-то рассортировать, разложить по полочкам целый ворох каких-то странных, ни на что не похожих фактов, которые обрушились на него за последнюю неделю. Факты были настолько нелепые, что не влезали ни на одну полку в его сознании и торчали в голове вкривь и вкось, мешали нормально работать и думать.
Они тем более раздражали Павла, что но натуре он был склонным к порядку человеком, и набросанные в беспорядке вещи раздражали его. А в голове его образовалась настоящая свалка: и двойник мужа Татьяны Осокиной, который вопреки доктору Бухштаубу никак не походил на летающую тарелку, и фотография пятиногой собаки, и ночной визит шефа, испуганного безухой кошкой.
Рыба сегодня не брала. Он постоял на двух своих самых заветных ямах, побросал спиннинг, но за три часа поймал всего одну щучку, скорее даже щуренка. А может быть, он был слишком рассеян. Рыба не любит, когда ей дарят лишь часть внимания. Рыба любит, когда думают только о ней. Но сегодня даже самые отборные окуни и похожие на ихтиозавров щуки не могли бы соревноваться с многопудовой кошкой, которая, так же как и многоногая собака, по кличке Мюллер, умела вытягивать и втягивать в себя разные части тела.
В сотый раз он пытался рассортировать весь этот фантастический набор, и в сотый раз его сознание отказывалось работать. Оно пробуксовывало на месте, как бульдозер, который не в силах сдвинуть чересчур большую груду земли.
Или все это бред, чушь собачья, или эти фантомы сошли со страниц Гофмана или какого-нибудь фантастического романа. Или они сошли не со страниц книги, а с космического корабля, прибывшего из далекого мира.
Самым приемлемым вариантом была, нет слов, чушь. Точнее, чушь собачья. Вариант этот был необыкновенно привлекательным, даже соблазнительным. Он так и манил к себе. Да вот беда: фото и ямка на твердом, как доска, диване Ивана Андреевича. Эти вещи он видел сам, а Павлу вовсе не хотелось приходить к выводу, что не следует доверять своим глазам.
Оставались пришельцы. Но пришельцы в Приозерном, шурующие, так сказать, в районном масштабе, - это тоже была чушь. И тоже собачья.
Он направил "казанку" к упавшей в воду ольхе, заглушил мотор, и нос лодки влажно чиркнул по песку. Он спрыгнул за борт, вытащил нос на берег и достал рюкзак с едой.
- Может быть, вам помочь? - послышался женский голос, и Павел вздрогнул от неожиданности.
В кустах стояла Надя Грушина. Она стояла неподвижно, в узеньком зеленом бикини, в котором он видел ее на спасательной башенке на пляже. На темно-зеленом фоне кустарника ее волосы, схваченные светло-зеленым шнурком, казались совсем светлыми. В глазах прыгали чертики, и нижняя губа ее слегка подрагивала - вот-вот прыснет от смеха.
- Вы... как сюда попали? - с трудом спросил Павел.
Сердце его колотилось. "С ума ты сошел, старый пес, строго сказал он себе. - Девчонка, школьница". Перед глазами его встало серьезное Сережино личико с лохмушками лупившейся на носу кожи и упрямо сжатыми губами. "Я ее очень люблю", так как будто он сказал.
Павел набрал побольше воздуха в легкие и шумно выдохнул его. Он всегда делал так, когда хотел успокоиться.
- Как я попала сюда? Какое это имеет значение? Сразу видно: вы журналист - все вы должны знать. Или, может, вы недовольны, что встретили меня? - Надя обиженно выпятила нижнюю губу, отчего лицо ее сразу помолодело и она превратилась из кокетливой девицы в девчонку. - Чего ж вы молчите?
Павел хотел сказать ей что-нибудь очень остроумное и веселое, показать ей, на что он способен, и вместе с тем подчеркнуть ту ничейную землю, которая разделяет его солидные двадцать пять лет и положение с ее школьными семнадцатью. Вместо этого он по-идиотски кашлянул и спросил:
- Ладно. Есть хотите?
- Ой, очень!
- Сейчас посмотрим, что мне матушка в рюкзак засунула. Он начал расстегивать выцветший зеленый рюкзак. - А Сережа где?
- Сережка? Где ему, бедному, быть. Сидит, наверное, меня на пляже караулит.
- А вы, значит, удрали от него?
- Во-первых, я вовсе не обязана сидеть около каждого мальчика, который вбил себе в голову, что любит меня... А во-вторых, я сейчас дежурю и сижу на своей башенке, а снизу кто-нибудь обязательно глазеет на меня...
- Очень остроумно, - сказал Павел, вытаскивая бутерброды с сыром и перышки зеленого лука.
Надина самоуверенность помогла ему стряхнуть оцепенение. Тоже мне соблазнительница, все прямо глаз оторвать от нее, видите ли, не могут!
- А я и не пытаюсь острить, - сказала Надя и взяла бутерброд, - это вы фельетоны пишете. Дело в том, что я не совсем Надя, я ее двойник. Доказать вам?
- Ну-ну, попробуйте...
- С удовольствием.
С этими словами Надя начала расширяться, грузнеть, черты ее лица на глазах менялись, волосы втянулись в голову.
Как уши у кошки шефа, мелькнуло у Павла в голове, и тут он увидел, что из скомканного Надиного личика начинает проглядываться лицо Ивана Андреевича. Главный редактор в зеленом бикини. Но насладиться этим зрелищем Павел не сумел, потому что шеф был уже в брюках, тех самых темносерых брюках, в каких он всегда являлся в редакцию. За брюками появился и пиджак.
- Ну как? - спросило существо, стоявшее перед Павлом, голосом Ивана Андреевича. - Надеюсь, вы все поняли? Ведь вы уже не раз и не два приходили в своих логических выкладках к единственному возможному варианту. И каждый раз в нерешительности останавливались. Точно так же, между прочим, как Иван Андреевич.
Павел крепко зажмурился. "Я сплю, сплю, сплю, - заклинал он себя. - Поплавал по озеру, зацепил щуренка и вот соснул немного. Сейчас открою глаза и увижу свою добрую старую "казанку", которую, между прочим, давно уже пора подкрасить. Раз, два, три!"
Он открыл глаза и увидел "казанку", на треть вытащенную из воды. И рядом - Ивана Андреевича, который стоял и смотрел на него. Нет, сниться все это не могло. Космические пришельцы? Мысль укладывалась в сознании с трудом, неохотно, но на нее давил Иван Андреевич, только что бывший Надей, и мысль о пришельцах, возмущенно скрипнув, легла на место. И сразу все закружилось и понеслось в сумасшедшем вихре: кошки, собаки, двойники, Надины смуглые плечи и взгляд Ивана Андреевича...
Цепляясь за знакомые предметы, чтобы не всосал и не унес этот вихрь, проползла по-пластунски в голове неожиданная дурацкая мысль: вот ведь как может получиться - ехал в Приозерный, в глушь, чтобы быть около больного отца, а попал... а попал на встречу с инопланетянами. "Внимание, передаем прямой репортаж нашего специального корреспондента Павла Пухначева, установившего первый в истории человечества контакт с братьями по разуму..." О господи!..
- Так вы... не Надя и не Иван Андреевич?
- Как вам сказать, Павел... Я могу так к вам обращаться?
- Конечно... вы... я... это...
- В некотором смысле я и Надя и Иван Андреевич, потому что их точные копии во мне. И, конечно же, я не они, потому что сейчас с вами говорит представитель далекого, неведомого вам мира. Мы просим вас о помощи, вашей и еще нескольких человек. Я понимаю, из вас так и рвутся вопросы, мне уже пришлось говорить с несколькими людьми, которых мы выбрали, и я знаю, что их волновало: почему я? Кто еще? Почему здесь, у нас? И тому подобное. Если вы согласитесь, вы узнаете все.
- Но двойники...
- Они необходимы. Никто не улетит с нами, никто не будет знать, что мы были на Земле и что несколько людей согласились расстаться со своим миром и довериться нам, взывающим о помощи. И вы, оставаясь на Земле, не будете знать о своем двойнике. Так нужно, таков закон. Я жду вашего решения. Те, кто послал нас, просили, чтоб мы передали зов каждому из вас...
И Павел услышал зов. Он был исполнен печали, этот зов, и обращен к нему. Он не требовал, даже не просил. Он вибрировал в его сердце и походил на далекий, почти неслышный крик, когда не знаешь, кто зовет, зачем, но угадываешь призыв о помощи...
И Павел не мог и не хотел пройти мимо этого слабого крика, донесшегося до него сквозь невообразимые бездны. Потом, потом можно и нужно будет разобраться в тысяче вопросов, испуганными шмелями гудевшими в голове. Потом можно и нужно будет как то залатать лопнувший привычный мир... Все это потом. Сейчас звучал лишь слабый крик, звавший его. И он кивнул.
- Спасибо, - сказал Иван Андреевич и пошел по едва заметной тропинке, которая вела к лесопитомнику. Хрустнула ветка под его ногами, качнулась еловая лапка.
Задремал, наверное, подумал Павел и поковырял ногтем серую краску "казанки". Краска отставала целыми пластами, и под ней виднелись остатки желтой краски, которой покрыл лодку еще отец. Папа, папа, почему ты умер? Павлу вдруг стало бесконечно жаль себя, такого маленького в огромном мире. Он вспомнил, как садился верхом на отцовский начищенный сапог. От отца пахло кожей, табаком, бензином и всем тем огромным миром, куда он уходил по утрам и откуда приходил поздно вечером. Отец поднимал ногу, и он, визжа от восторга, подлетал вверх. Он не боялся, потому что отец держал его за руки, а когда отец держал его, ему не страшно было ничего на свете. У отца был пистолет, и он был сильный...
Щуренок вдруг звонко шлепнул хвостом о деревянный настил лодки. Павел встрепенулся и посмотрел на часы. Пора было возвращаться.
Дома мать протянула ему конверт со штампом "Литературной газеты". Уважаемому товарищу Пухначеву сообщали, что редакция получает большое количество снимков в раздел "Что бы это значило?" и не имеет возможности хранить отвергнутые материалы.
Какие материалы? Он же ничего не посылал. Ах да, верно, он написал в редакцию с просьбой вернуть негатив Сережиного снимка пятиногой собаки.
- Что поймал? - спросила мать. - Ты у меня теперь добытчик...
- Щуренка граммов на триста - четыреста.
- Не ловилось?
- Да нет, вообще какой-то пустой день...
Сергей Коняхин пропалывал картошку на их крошечном огородике. Земля была сухая, и тяпка поднимала облачка тонкой пыли, которая тут же садилась на потные плечи, руки, лицо.
Мысль его, вернее обрывки мыслей были короткие и жили не дольше двух взмахов тяпки. Привычно томящая мысль о Наде, совсем коротенькая мысль о том, как хорошо бы сейчас окунуться в воду и нырнуть в зеленый полумрак с открытыми глазами, и скучная мысль о том, что надо пройти еще два ряда.
По тропинке от дома деловито семенил Мюллер, приветливо помахивая хвостом.
- Ну что, псина, как жизнь? - спросил Сергей. Спина у него изрядно замлела, и он бы с удовольствием поговорил сейчас даже со столбом, лишь бы разогнуться.
Мюллер серьезно кивнул, как-то неловко попытался почесать ухо задней лапой и сказал:
- Спасибо, ничего.
Все маленькие, истомленные жарой, пылью и тяпкой мыслишки разом почтительно отступили, освободили путь главной мысли, которую Сергей обдумывал последние дни.
- Ну, наконец-то, - сказал он собаке.
- Что - наконец? - Мюллер посмотрел на Сергея и поморгал. На правом ухе в грязной черно-серой шерсти болтался репей.
- Вы пришли.
- Кто это "мы"?
- Пришельцы, известно кто.
- Откуда ты знаешь? - настаивала собака.
- Как это - откуда? - обиделся Сергей. - Вы уж совсем меня за идиота считаете. Двойник Мюллера, который но ошибке отрастил себе пятую ногу, - это раз. Двойник Нади Грушиной, который за секунду превращается в другую женщину. И теперь наконец вы со мной заговорили. Разве этого мало? Или у вас есть другие объяснения? Я все обдумал, вывод неизбежен: или в городе творятся чудеса, или в Приозерном появились пришельцы. В чудеса я не верю, стало быть, логически рассуждая, остаются пришельцы. Правильно?
- Правильно, - кивнул пес. - Кстати, ты не можешь вытащить у меня какую-то дрянь из уха?
- С удовольствием, - сказал Сергей и осторожно вытащил из шерсти репей.
- Молодец!
- Да это ерунда...
- Я о твоих выводах. Тебе одному не пришлось объяснять.
- Значит, вы обращались и к другим?
- Да.
- И к Наде?
- Да.
- И как она? Я имею в виду, как она восприняла.
- Спокойно. Так, значит, Сережа, требуется помощь.
- О чем разговор...
- Не торопись. Ты останешься на Земле, а твой двойник отправится с нами.
- А Надя?
- Она согласилась.
- Когда летим?
- Спасибо, Сергей, - сказала собака, - скоро. - Она повернулась и не спеша затрусила по тропинке, которая вела мимо дома к воротам.
"Что-то я почти не устал сегодня, - подумал Сергей, заканчивая последний ряд. - Как будто уже отдохнул". Он метнул тяпку в сарай и вышел на улицу. Из дома Жарковых, что жили напротив, кубарем выкатился маленький Шурик. На толстый его живот был надет надувной зеленый крокодил.
- На озело? - спросил он. - Возьми меня.
- Не могу, - сказал Сергей, - твоя мама заругается.
- Не залугается, - начал канючить Шурик, - она говолит с Сележей можно. Я уже клокодила надел... - Мальчуган со страхом и надеждой смотрел на Сергея. Губы его подрагивали, готовые растянуться в счастливейшей улыбке или выгнуться в скорбном плаче.
Сергей тяжело вздохнул. Ну как сказать человеку, что ты балласт, что ты не нужен, что тебя берут из жалости?
- Ладно, Александр, давай руку.
Мальчик с готовностью вставил в Сережину руку маленькую ладошку. Ладошка была шершавая и вибрировала от нетерпения.
Что-то он хотел рассказать мальчугану интересное, но вспомнить не мог и строго спросил:
- Счет повторял?
- Повтолял. Лаз, два, тли, четыле, пять...
- Молодец! Будешь купаться два лаза, как ты говоришь. Смотри только, не уплыви в Африку.
Мальчик подумал немножко, пошмыгал носом и сказал без особой убежденности:
- Не уплыву.
На спасательной башенке Нади не было, а был главный спасатель дядя Коля. Он крепко спал, опустив на лицо дамскую летнюю шляпку из светло-серой блестящей соломки. В тулье была огромная дыра, сквозь которую виднелся закрытый глаз спасателя. В позе угадывалась непринужденность человека, привыкшего спать в самых разных ситуациях.
- Садись здесь и никуда не двигайся, понял? - сказал Сергей и пошел за башенку.
Около спасательной лодки стояла с ведерком краски в одной руке и кистью в другой Надя. Она смеялась. Рядом стоял парень в модных темных очках и оранжевых плавках. За плавки была засунута пачка сигарет "Аполлон ~ Союз". Парень поднял руку, по плечу его медленно перекатился мускульный шар и остановился, потому что рука легла на Надино плечо.
Сережа повернулся и пошел к Шурику. Комок в горле все рос и рос, и нужно было дышать медленно и осторожно, чтобы не задохнуться. Он это хорошо знал.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА 1
Павел открыл глаза. Несколько секунд мир был не в фокусе, размазан, но вот он осознал себя, и все вокруг, словно обрадовавшись обретенным координатам, весело встало на свое место.
Но минуточку. Почему он сидит в кресле, если только что стоял на полуостровке, что примыкает к лесопитомнику, и смотрел на Надю, которая улыбалась ему?
Да, но потом... Взрыв. Еще один взрыв, и еще один. Неужели же это свершилось? Не может быть. Не может же он быть своим двойником. А почему бы и нет?
Он замер, прислушался к себе и облегченно рассмеялся. Ну конечно же, это сон. Даже смешно было бы усомниться в этом. Он не дышал. А рот, интересно, у него есть или он вовсе безротый, как была безухой кошка у Ивана Андреевича. Нет, рот был. И губы. Он провел языком по ним. Гм, и язык есть. Попробовать вдохнуть. Воздух в рот втягивался, но как-то странно. Потребности в нем никакой не было. А голос? "Павел Пухначев, специальный корреспондент", - сказал он. Голос как будто есть. О, есть еще одна проверка, подумал Павел и обрадовался, как будто сделал важное открытие: пульс. Он сжал пальцами запястье. Здесь как будто. Или здесь? Пульса не было. Он приложил руку к груди - сердце не билось.
На мгновение им овладел тягостный, томительный ужас. Он вскочил с кресла. Мышцы повиновались легко и упруго, и движение успокоило его. Значит, все-таки двойник?
Он огляделся. Небольшая комната. Такого же, пожалуй, размера, как комнатка ответственного секретаря в редакции. Кресло, на котором он только что сидел, столик. В комнате была странность, которую он не сразу осознал: в ней не было окон. Но Павлу было не до окон.
Значит... значит, все это свершилось? Значит, он не настоящий Павел Аристархович Пухначев, а его копия? Мысль не укладывалась в сознании. Она была просто слишком велика, и никак нельзя было засунуть ее в голову. И вообще было нелепо даже думать, что к ней можно привыкнуть, не то что засунуть в голову.
И все-таки... Как-то интересно он встал с кресла. Ну-ка, еще раз. Забавное какое движение, какое-то текучее, без усилий. А мышцы-то у него есть? Должны быть, раз он может двигаться. Он сжал то место, где должен был вздуться бицепс, и согнул руку. Рука была довольно твердая, но никакого бицепса не было и в помине.
И снова прибойная волна слепого ужаса, снова прыжок пойманного в ловушку зверя. Выходит, он заключен в этой бездыханной и бессердечной оболочке? И где вообще он? Наверняка они еще не увезли его из Приозерного. Только бы вырваться из этой чужой плоти, вернуться к привычному миру, соединиться со своим живым, теплым телом, в котором успокаивающе бьется сердце и в котором перекатываются под упругой кожей бицепсы, накачиваемые каждое утро пятикилограммовыми гантелями.
И из далекого детства пришел вдруг плач, сотряс плечи. Захотелось уткнуться носом в толстую вязаную материну юбку, слабо пахнувшую нафталином, и ощутить на затылке знакомую руку. Рука ласково взъерошит на макушке волосы, и мама скажет: "Нет-ту, нет-ту", - и сразу страхи, как побитые псы, уползут от него, и мир снова обретет привычную приветливость.
И в этот момент он услышал знакомую мелодию. Ту, что слышал в заливчике, стоя рядом с облупленной "казанком". И снова из чужой печали рождался зов, слабый крик о помощи, тянулись к нему далекие руки. И как-то сам по себе ушел страх, потому что стыдно за свой детский ужас, если к тебе с мольбой протягивают руки, если ты силен, могуч и обещал защитить слабых.
И когда, как в далеком детстве, отпустили его псы страха, удрали из комнаты, изгнанные беззвучной музыкой, ощутил вдруг Павел редкостную умственную прозрачность, в которой мысль легко и мощно устремлялась в любом направлении. Стройная, четкая, бесстрашная.
Он пришел, чтобы помочь. Величайшее благо из доступных человеку - помочь ближнему. И он, Пашка Пухначев, журналист районной газеты "Знамя труда", одарен невероятной, незаслуженной удачей: он может помочь братьям по разуму.
И с гордостью пришло спокойствие, а мысль о том, другом Павле Аристарховом сыне, который мучается сейчас, наверное, над фельетоном о плохой работе бани, наполнила его легкой, 'летучей грустью. Как ты там, Пашка? Как ты там, дурачок? Как мама? Помни, эгоист ничтожный, что она жаждет внуков, не будь слишком переборчив. Люба, например, вовсе недурна собой. Преподает в музыкальной школе, так что снобизм твой университетский будет улещен таким союзом.
Павел поймал себя на мысли, что подталкивает свое земное "я" к браку с эгоизмом свахи, а ведь земной Пашка не очень-то торопился каждый день слушать фортепьянные экзерсизы в исполнении Любы.
Ну, раз вспомнил ты, брат, Любу, значит, начинаешь понемножку осваиваться. Мысль эту как будто тут же услышали, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошла, отчетливо цокая коготками по твердому полу, собака.
- Ну, как самочувствие, Павел Аристархович? - спросила собака. - Мы вас некоторое время не беспокоили, чтобы вы могли собраться с мыслями...
- Спасибо, немножко очухался, - сказал Павел и вдруг подумал, что это, наверное, та самая собака, с пятой ноги которой все началось.
- Простите, вы... - он на секунду замялся, вспоминая, как звали пятиногого пса, - Мюллер?
- В некотором смысле да. - Мюллер церемонно кивнул ему бело-черной мордочкой.
- Что значит "в некотором смысле"?
- Ну, во-первых, я - это я, житель моей планеты. Я, к сожалению, не могу вам назвать свое имя...
- Совсем как в шпионских фильмах...
- Шпионских?.. Ах да. Нет, дело не в этом, - усмехнулась собачонка. - Дело в том, что у нас нет имен в вашем понимании этого слова. Зато каждый из нас имеет свое поле, и в это поле включен отличительный сигнал, мой собственный сигнал, по которому все, кто соприкасается своим полем с моим, сразу же определяют, с кем они встретились.
- Но можно же просто увидеть?
- Конечно, но мы уже говорили вам, что неизменность формы - это свойство вашего мира. В нашем же почти нет застывших форм, поэтому вид предмета или живого существа вовсе не являемся его важной характеристикой. Впрочем, об этом мы еще поговорим.
Все это необыкновенно важно и интересно, подумал Павел, но спросил совсем о другом:
- А почему вы сделали себе пять ног?
- Пять ног?
- Ну, тогда, когда вас сфотографировал Сережа Коняхин.
- А, тогда! Во-первых, по рассеянности. Вы не представляете себе, как это трудно - все время держать в памяти множество неизменных форм вещей. А кроме того, мы решили вначале немного расшатать, так сказать, ваши привычные представления. Подготовить к нашему предложению. Мы отдавали себе отчет, что для цивилизации, никогда не встречавшей представителей иных миров, наша просьба была не простой. Тем более, что эта просьба была обращена к самым обычным людям, которые сами должны были решать, ответить на нее или нет.
- Понимаю, - сказал Павел.
- А теперь, с вашего разрешения, позвольте пригласить вас в соседнюю комнату; по-моему, все уже немножко освоились с новой обстановкой.
Павел поднялся с кресла и еще раз подивился текучей легкости, с которой он двигался в этом мире. Он прошел за псом в соседнюю комнату, в которой было с десяток кресел. Большая часть из них была занята.
- Павел Аристархов сын! - воскликнул Иван Андреевич, протягивая Павлу руку. - Как вы, дорогой мой?
- Спасибо, а вы?
- Изумительно! В первый раз за последние пять лет я абсолютно не чувствую своего сердца, даже намека нет на мой ревмокардит.
- Какой может быть ревмокардит, когда у нас нет сердец, сказал Александр Яковлевич Михайленко, заведующий аптекой. Он был в белом застиранном халате, и от верхней желтой пуговки осталась только половина. - Представляете, здесь нет лекарств! Я, признаться, вначале думал, что меня пригласили сюда, так сказать, в качестве фармацевта-консультанта. И вот на тебе - нет ни лекарств, ни болезней.
- Это как же нет болезней? - подозрительно спросила Татьяна Осокина и не ответила даже на кивок Павла. - Это как же без болезней? - уже почти взвизгнула она. - А у меня ишиас, спросите хоть Бухштауба!
- Бухштауб далеко, - сказал Александр Яковлевич, - и к тому же вспомним, что сказал по этому поводу...
- Опять поучать собрались? - недовольно наморщила лоб Осокина.
- Друзья мои, - сказал Иван Андреевич, - не будем начинать наше новое существование с ссор и свар. Наши нервы напряжены...
- Если они у нас есть, - пожал плечами Александр Яковлевич, и половинка пуговицы на его халате вылезла из петли.
- У меня нервы никуда, - сказала со спокойным достоинством Татьяна Осокина. - И аллергия. На пух и на перо.
- Значит, ни пуха вам ни пера, - важно молвил Александр Яковлевич, и Надя Грушина, молча сидевшая рядом с Сергеем, вдруг прыснула.
- И ничего смешного нет, - обиженно поджала губы Татьяна Владимировна. - Молода еще смеяться!..
- А я и не смеюсь, - вздернула плечи Надя.
- Тш-ш! - прошипел Сергей Коняхин. - Тихо, Надь.
- Друзья, - сказал Иван Андреевич и покачал головой,- не забывайте же, мы не одни. Что же подумают о нас наши хозяева?
И тут только Павел обратил внимание на кошку, лежавшую в кресле, молодого, тяжелоатлетического вида человека в светло-сером костюме и старичка, наполовину утонувшего в кресле. Все они молчали и внимательно следили за землянами.
- Друзья, - медленно и торжественно сказала маленькая черно-белая дворняжка, - друзья, мы, как вы слышите, выучили ваш язык. Похоже, что вас он вполне устраивает, хотя нам иногда казалось, будто чувства ваши глубже, разнообразнее, тоньше, чем слова, которыми вы пользуетесь. Но мы остро ощущаем нехватку ваших слов, чтобы описать свою благодарность вам. Вот и сейчас я перебрал мысленно множество подходящих слов, и ни одно из них не удовлетворяет меня. Они все гладкие, эти слова, отполированные миллионами и миллионами людей, которые эти слова обкатывали, словно волны - камешки на пляже. И поэтому мы попытаемся выразить вам благодарность по-своему.
И в комнате поднялась знакомая уже землянам волна темной, мохнатой печали, покатилась на них тяжким прибоем, но вдруг остановилась, затрепетав. Она трепетала, светлела, истончалась, теряла пугающую мохнатость, и печаль уходила, вытаивала из нее. И вот уже снова покатилась волна, но не сжимала больше грудь, не томила, а наполняла надеждой.
Все молчали, и Мюллер наконец произнес:
- Позвольте теперь сказать вам еще несколько слов, прежде чем мы перейдем к тому, для чего мы просим прийти на помощь.
Вы уже обратили, наверное, внимание на свои тела. Они лишь внешне напоминают вашу прежнюю оболочку. И это не случайно. Мы ведь не похожи на вас. Наши тела представляют собой синтез живого и неживого, человека и машины, как сказали бы вы. Мы не нуждаемся в пище, потому что наши поля, поле каждого из нас, впитывают все формы энергии, разлитые вокруг, от гамма-излучения до гравитационных волн. Мы не нуждаемся в воздухе, потому что миллионы лет назад перешли от примитивного дыхания к универсальному накоплению энергии. Наши тела - своего рода аккумуляторы энергии. Мы уже говорили вам, что идея неизменности формы странна для нас. У нас нет тел постоянной формы. Мы явились вам сейчас в обличье, в каком вы видели нас на Земле. Но это обличье не есть нечто для нас постоянное и неизменное. Мы просто хотели дать вам ощущение связи с вашими последними днями в Приозерном.
- А какие все-таки наиболее характерные формы вы принимаете? - спросил Сергей и поправил свои круглые школьные очки.
Надя гордо посмотрела на него, а потом на другие: вот он к а к о й у м е н я у м н ы й.
- Когда мы работаем, мы принимаем наиболее удобную для этой работы форму. Например, когда мы строили это здание, в котором сейчас находимся, мы тоже меняли форму в зависнмостн от конкретной задачи. Когда мне нужно было поднять детали крыши, я вытягивался в высокий столб. Когда я монтировал стены вот этой комнаты, я был похож на тумбу с широким основанием и с тремя руками. Три рабочие конечности, между прочим, наиболее удобны для всякого рода сборки. Когда мы думаем, мы чаще всего принимаем форму камня или какого-нибудь плоского растения...
- Плоского, чтобы легче было поглощать энергию? - спросил Сергей.
- Да, конечно. Мы уменьшаем тогда интенсивность своего ноля и тихо лежим. Мы чувствуем себя тогда частью нашего древнего мира, частицей Вселенной, обкатанной временем. Мы думаем...
- О чем же? - спросил Александр Яковлевич.
- О том, что время течет неумолимо, и реки времени ни когда не меняют направления до тех пор, пока вся Вселенная не вытечет в них, а потом время поворачивает вспять, и устья становятся истоками, а истоки - устьями.
Мы думаем о том, как прошелестели над нами миллионолетия, пронеслись - и словно не было их. И мы думаем о том, как была молода наша раса и полна чванливой самоуверенности. Нам казалось, что мы постигаем великую тайну бытия. Все нам было подвластно - и наша планета и космос. Мы создали себе новые тела, потому что не хотели смириться с теми, что дала нам природа и что были подвластны тлену.
Мы создали себе новые тела и стали независимы от природы. Мы смеялись над временем. Оно текло в своих реках, а мы, объятые юной гордыней, скакали на берегу и бросали камешки в неспешное течение. Мы были молоды, и Вселенная, покорно свернувшись в клубок, лежала у наших ног. Так мы думали, по крайней мере.
Мы строили и перестраивали свою планету, наши корабли уходили в космос, и планета дрожала от их могучих двигателей.
Мы торопились познать как можно больше, потому что мы упивались своей силой и знания опьяняли нас. Мы не знали. куда идем и к чему стремимся. У нас не было цели, и те, кто говорил о ней, казались нам жалкими брюзгами, у кого недостает сил участвовать в нашем пиршестве. Какая нужна цель, когда мы и так сильны? Зачем нам думать, куда мы идем, когда мы радовались самому движению?
Они увещевали нас, они призывали нас смотреть не только в космос, но и в себя. Они заклинали нас создать себе то, что вы бы назвали сердцем. Они проповедовали, что знание само по себе, без цели и любви, сухо и бесплодно, и гордыня, порождаемая им, опасна.
Они призывали нас к вере в то, что жизнь наша имеет смысл, к вере в радость бытия, к вере в то, что бы вы назвали добром.
Но мы смеялись над ними. Кому нужна была вера в какие-то там идеи, когда мы познавали пространство и время, проникали в самую суть вещей!
Они говорили, что мы должны научиться жить, научиться радости бытия, радости стремления к общей цели, но зачем, думали мы, учиться жить, когда мы и так живем, когда мы всесильны и могущественны?
Они заклинали нас, они без устали повторяли, что будет поздно, что бесцельное знание само по себе бездушно, что оно отравит нас, но нам было скучно слушать их.
Мы узнавали все больше и больше. Наша мысль проникала в безбрежные просторы Вселенной, туда, откуда начинаются реки времени, и туда, куда они впадают. Она проникала в глубь материи, пока материя не исчезала под нашими взорами и не сливалась с потоками времени.
И тогда, когда нам казалось, что мы познали все, мы стали замечать, что не познали ничего, потому что мы так и не узнали, кто мы и зачем мы.
Мы стали замечать, что скучаем на нашем пиршестве познания. Мы стали понимать, что гордыня наша смешна, ибо все чаще и чаще мы застывали в странной недвижимости, глядя на реки времени.
И тогда мы вспомнили, как давным-давно некоторые из нас призывали заглянуть в себя и создать в себе мир добра, дружбы, веры в радость. И как мы не пошли этим путем.
И мы поняли, что ошиблись. И что было уже слишком поздно, потому что в нашем сухом и скучном мире не было уже ни воли, ни материала, из которого мы могли бы создать в себе оазис радости и добра. Было поздно.
Мы познали многое, но потеряли еще больше. Одно маленькое слово подтачивало нашу древнюю и великую расу. Одно маленькое словечко, но, как жук-древоточец или термит, пользуясь вашими сравнениями, подтачивало оно фундамент нашей цивилизации, пока это великое здание не стало оседать. О нет, оно не рухнуло вдруг, оно оседало, трескалось, рушилось не сразу, а незаметно, постепенно.
Самые мудрые из нас поняли, что за страшный враг подтачивает наши силы. Этим врагом было одно маленькое, простое слово: "Зачем?"
Мы познали тайны рек времени, мы вырвались из его пут только для того, чтобы остановиться в замешательстве перед одним маленьким вопросом. О, если бы мы когда-то прислушались к словам далеких предков! Мы бы не цепенели сейчас перед неразрешимым вопросом "зачем". Мы бы выстроили гигантскую и несокрушимую плотину из веры в добро, дружбу, любовь, и эта плотина остановила бы безбрежный океан бессмысленности. Но мы не сделали этого вовремя, когда еще были в силах, и теперь одно маленькое словечко отравляло нас, нас, давным-давно победивших и время и материю.
И тогда мы снова отправились в космос, к бесконечно далеким и редким соседям, чтобы узнать у них ответ. Но те, кто далеко отстал от нас, предлагали нам детские и смехотворные ответы, а те немногие, что были мудры, говорили, что готового ответа на этот вопрос нет и что каждая цивилизация должна сама найти ответ.
И мы перестали искать. Нас больше не радовали новые тайны, вырванные у Вселенной, потому что они ни на йоту не приближали нас к ответу, а лишь удаляли от него. И печаль окутывала нас. Она, как туман, поднималась от рек времени, как ядовитые испарения, растекалась по нашей планете. Она сковывала нас, лишала воли. И воцарялось среди нас странное безразличие. Да, мы видели, как рушилось то, что мы создавали миллионами лет. Но у нас не было воли, чтобы броситься снова строить, потому что мы были стреножены простым маленьким словом "зачем", потому что у нас не было против него противоядия.
И все большее и большее число наших братьев принимали форму камней и выключали свое поле. Навсегда. Потому что, став камнем, ты уже больше не ты. Ты - никто и ничто, и тебя больше не мучает маленькое слово "зачем".
А потом, когда сведения о том, что мы стали слабы и безвольны, начали проникать всё дальше и дальше в космос, на планету прилетали те, что живут чужими силами и чужими трудами. Они грабили нас и некоторых из нас увозили с собой, чтобы заставить служить себе наши знания. Но немного пользы получили они от нас, потому что выключить навсегда свое поле - на это еще у нас хватало воли...
И вот, когда нас осталось совсем мало, когда у нас не было уже ничего, кроме нескольких преобразователей, которые необходимы для рождения новых наших братьев, и потому уже давно стали никому не нужны, когда мы превратились в скопище полуодичавших мудрецов, бродящих бесцельно по нашей древней планете, мы поняли, что конец близок.
И тогда одному из нас пришла в голову мысль. Он предлагал отправить в космос корабли. Это должна была быть последняя попытка найти путь к спасению. Нет, мы больше не надеялись узнать ответ на вопрос "зачем". Мы хотели найти разумные существа, которые согласились бы научить нас, что делать. Нам не нужны были их знания, ибо мы и так задыхались под обломками нашей цивилизации, не нужны были холодные советы. Нам являлись в наших грезах существа умные и одновременно глупые, знающие и одновременно наивные, волевые и одновременно добрые, мыслящие логически и одновременно верящие. И самое главное - готовые помочь горстке гибнущих далеких существ, которые так и не узнали за миллионы лет, для чего они живут.
Мы знали, что найти сон и грезу нелегко. Но последним волевым актом мы снарядили три корабля и проводили их в Бесконечность. Два из них не вернулись. Они не нашли того, что искали, и те, кто странствовал на них, навсегда выключили свои ноля. Третий же...
- Ой, это же тот, который... - пискнула Надя.
Но Сергей сжал ей руку и прошептал:
- Тш-ш!
- ...Третий же после многих неудач попал на вашу планету. Как и обычно, мы сжали корабль в пылинку, чтобы не быть замеченными, и приземлились. Прежде всего нас поразила огромная эмоциональность существ, которых мы увидели. Они буквально заряжали своими чувствами пространство вокруг себя, они были постоянно окружены бушующим ореолом.
Мы начали изучать их. Мы потеряли почти все в нашей гордыне, но мы сохранили способность усваивать новую информацию со скоростью, которой так гордились наши предки. Мы выучили ваш язык за несколько дней, мы слушали плеск ваших чувств, метание ваших мыслей.
Мы никогда не встречали таких существ. Мы не могли понять их, потому что они, то есть вы живете но совсем другим меркам.
Мы были ошеломлены напором ваших эмоций, бушующими вихрями ваших переживаний. Вы пугали нас, забывших, что такое чувство, и одновременно манили, притягивали.
Мы поняли, что завидуем вам, потому что вы живете так, как призывали нас жить те далекие предки, кого мы не послушались. Вначале мы подумали, что ваши страсти рождены малым знанием, но потом поняли, что это не так. Вам нечего бояться знаний, потому что у вас есть сердце и цель.
Мы не верили себе, это была слишком большая удача. Но мы выбрали десять человек, которые, как нам казалось, поймут нашу мольбу. Четверо отказались. Шестеро оказались здесь.
Мы понимали, что по вашим земным меркам, по меркам вашей страны вы самые обыкновенные люди, которые меньше всего думали о помощи далеким братьям по разуму. Но вы потрясли нас яростной своей жизненной силой, тончайшим настроем вашей духовной жизни, способностью сопереживать. И мы решили ввериться случаю, приведшему нас в ваш городок и столкнувшему с вами.
Мы решили, что ваша необыкновенная обыкновенность - это как раз то, о чем мы мечтали. Вы даже не знаете, на что вы способны, вы даже не знаете, кто вы.
- И все-таки так странно, - сказала Надя, - мы и... Мы все такие люди...
- Помолчи, - степенно возразил Сережа. - Почему мы так привыкли считать себя заурядными существами? Вы только отрешитесь на секундочку от привычных своих представлений, и тогда вы увидите, что мы все необыкновенные люди... - Сережа с вызовом оглядел своих товарищей, ожидая возражений, но все почему-то молчали, и вид у всех был задумчиво-серьезный.
Ушла куда-то фантастичность происходящего, и все исполнились гордостью за себя и за всех землян, оставшихся где-то в необозримой дали. Наверное, в жизни каждого из них бывали дни, когда вели они себя не по самым высшим стандартам, но вот пришла минута, когда нужно было мобилизовать в себе все лучшее, что таилось в запасниках души, и никто из них не дрогнул. Наверное, всю жизнь исподволь собирает человек по крупицам неприкосновенный запас храбрости, самопожертвования и величия духа, чтобы в решающий момент израсходовать его. И этот момент настал.
- Спасибо, - сказал просто Мюллер. - Я еще раз вижу, что мы не ошиблись в своем выборе. Сережа прав. Нет обыкновенных людей. Есть просто существа, которые не догадываются о своей неповторимости. История всегда делается руками так называемых простых людей. Спасибо вам за то, что вы так великодушно согласились помочь нам. Мы, те, кто остался из нашей расы, взываем о помощи.
ГЛАВА 2
- Но что же мы можем для вас сделать? - спросил Иван Андреевич. - Что мы можем сказать вам, чего вы уже не знаете? Мы ведь самые обыкновенные люди нашей страны, нашей планеты... И почему все-таки вы не захотели вступить в контакт в более, так сказать, официальной форме? Ведь коллективный наш опыт...
- Я думал, вы уже поняли. - Мюллер немножко помолчал и продолжал: - Мы прокляты. Мы несем в себе заразу. Заразу всезнания, бессилия и печали. Мы много думали и поняли, что мы можем заразить юный мир, знающий меньше нас. Этот юный мир, взглянув на нас, мог бы усомниться: так что же впереди? И стоит ли идти туда, откуда пришли к ним мы, скорбные и опустошенные, знающие все и не знающие ничего. И тогда мы поняли, что должны избегать контакта в официальной, как вы говорите, форме. Нам нужна была помощь, но такая, чтобы о ней не знали даже те, кто согласился бы нам помочь... Вы поведете нас, вы вдохнете в нас жизнь.
- Мы - вас? - изумился Иван Андреевич.
А Надя даже ойкнула и тут же закрыла ладошкой рот, потому что Сережа строго прошипел:
- Тш-ш!
- Да. Вы - наша последняя надежда.
- А спросить можно? - Надя подняла руку, как делала это девять лет подряд в школе, хотя и не очень часто.
- Меня? - повернулся к ней Иван Андреевич.
- Нет, песика... Простите, я совсем забыла...
- Пожалуйста, пожалуйста, - галантно взмахнул лапой Мюллер. - Меня устраивает любое имя: Мюллер, собака, дворняжка, песик, псина и даже Кабысдох. Слышал я и такое словечко в Приозерном от одной почтенной дамы. Так какой у вас вопрос, Надя?
- Вот вы говорили, что умеете менять формы тела...
- Да, - кивнул Мюллер и внимательно поднял черно-белое мохнатое ухо.
- А мы? Я не поняла, вы как будто сказали, что у нас тела как у вас, так?
- Совершенно верно.
- Значит, и мы можем меняться?
- Безусловно.
- И можно попробовать?
- Конечно.
- А как это делается? - спросил Сергей и уставился на Мюллера, завороженно открыв рот.
- Очень просто. Нужно только ясно представить в уме тот облик, который вы хотите принять, и захотеть принять его. Ну, кто из вас хочет попробовать?
- Я! - решительно сказал Сергей.
Он встал с кресла, закрыл глаза, сжал кулаки и напрягся, словно делал изометрические упражнения. Сначала он вытянулся на добрый десяток сантиметров вверх, потом разъехались плечи. Голова его осталась прежней и казалась теперь совсем маленькой и детской на мощном торсе.
Надя качнулась вперед от смеха, выпрямилась и закинула голову, отчего копна ее овсяных волос перелетела с груди на спину.
- Ой, не могу! - причитала она.
Заулыбались все, и даже Татьяна Владимировна засмеялась, так неумело, как будто никогда в жизни этого не делала.
- Ну чего, чего? - спросил Сергей. - Обыкновенной трансформации тела не видели?
- У тебя... - заливалась Надя, - у тебя... головка стала совсем птичья!
- И всего-то? - небрежно сказал Сережа. - Сейчас увеличим на пару номеров. Надь, скажешь мне, когда хватит...
Сергей снова зажмурился, надул щеки, и голова его, словно детский воздушный шарик, начала увеличиваться, растягивая черты лица.
Очки, которые до этого момента надежно сидели на Сережином носу, дрогнули. Дужки соскочили с разъехавшихся ушей, и очки упали на пол. Одно стекло осталось целым, второе брызнуло радужными осколками.
- Что же делать? - прошептал Сергей.
- А ничего, - беспечно ответил Мюллер. - Забудь, что у тебя были когда-то очки. Ну-ка, взгляни вокруг!
- Правда, - изумился Сергей, повернул голову направо, налево, как будто хотел убедиться, что видит одинаково хорошо во всех направлениях. - Ну конечно же, - улыбнулся он, - уж если делать новое тело, зачем же вставлять глаза минус три? Интересно как... Надь, а вообще, в целом я как?
- Лучше, - сказала Надя и склонила голову на плечо, критически рассматривая Сергея нового размера. - Потом доведешь перед зеркалом...
- Гм... зеркалом. А где его взять, зеркало? Забыла ты, где мы находимся?
- Ой, правда! А как же без зеркала, это же невозможно! Скажите, - она повернулась к Мюллеру, - у вас действительно нет зеркал?
- О, это совсем не так сложно, уверяю вас. Нам зеркала обычно не нужны, мы всегда храним в сознании свое точное отображение на данный момент, но, если вы представите себе, что ваша ладонь отполирована до зеркальной поверхности, вы сможете в нее посмотреться, как в зеркало. Ну, смелее!
- Боюсь! - сказала Надя и спрятала руки за спину.
- Экая ты у меня дурочка! - сказал покровительственно Сергей.
То ли и голос его претерпел определенную трансформацию, то ли это всего лишь показалось землянам, но заговорил теперь Сергей почти басом. Он вытянул перед собой руку, повернул к себе ладонью, и ладонь вдруг стала зеркальной.
- Может, мало тебе зеркало? Сейчас сделаем побольше.
Он прикрыл глаза, и ладонь его разъехалась, одновременно делаясь все более плоской.
- О господи, - вздохнула Татьяна Владимировна, - это что ж такое творится?
Она закрыла глаза, качнулась вперед, выпрямилась, снова качнулась и вдруг буратиний ее нос явственно втянулся, кончик его стал толще и задорно закурносился. При этом лицо ее покраснело, как у девчонки.
- Браво! - сказал Александр Яковлевич и стал с видимым интересом рассматривать лицо женщины.
Павел внезапно почувствовал веселое спокойствие. Спасти миллионолетнюю цивилизацию - это вам не фельетончиками пробавляться о службе быта. На секунду мелькнула было мысль о невообразимых пространствах, отделяющих его от того, настоящего Павла, стеснила грудь, но тут же исчезла, отогнанная фантастичностью окружающего.
- Ну так что же, друзья? - спросил Иван Андреевич, обращаясь сразу к собаке и молчавшим до сих пор Старичку, Штангисту и кошке. - Что прикажете нам делать?
- Позвольте мне извиниться за моих братьев, - Мюллер кивнул на молчаливую троицу, - но они сейчас выступают в качестве передатчиков. Старичок транслирует на всю планету каждое слово нашей беседы, кошка передает изображение, а молодой человек - анализ ваших эмоций. Еще немного - и все жители нашей планеты будут знать ваш язык так, как знаете его вы. Теперь о вопросе, который вы задали, Иван Андреевич. Собачонка, казалось, слегка улыбнулась. - Боюсь, что вы не совсем поняли: не мы будем приказывать вам, что делать, а вы нам. Вы будете решать, что делать, как и когда. Вы и только вы. Иначе, уверяю вас, незачем было и огород городить.
От этой домашней, далекой фразы повеяло на Павла уютом. Огород городить. Хорошо, что уговорил мать не сажать в этом году картошки. Сколько им вдвоем, в конце концов, нужно...
Никто не уполномачивал Ивана Андреевича возглавлять их группку, не был он даже самым старшим по возрасту, но роль эту он принял на себя как нечто само собой разумеющееся. Раз нужно помочь - помогут. Они же советские люди, интернационалисты, и сердца их всегда открыты чужой нужде и чужому горю. Иван Андреевич вдруг вспомнил, как рвался еще до войны в далекую Испанию помочь республиканцам, что сражались тогда с Франко и международным фашизмом.
Но на Земле он всегда знал, что делать и когда. Конечно, не всегда все получалось так, как ему бы хотелось, и в Испанию его не пустили, но это было, в конце концов, в порядке вещей.
А тут... тут он никак не мог сообразить, с чего начать. Провести собрание? Нацелить на самокритику? Призвать хозяев оптимистичнее смотреть вперед?
У него было ощущение, будто он голый вылез на трибуну и все с трудом сдерживают смех.
- Да-а, - сказал он, - заданьице, я вам скажу... С чего же начнем?
- И думать особенно нечего, - решительно сказала Татьяна Владимировна, гордо вздернув голову так, чтобы все видели ее новый нос. - Раз просят помочь - пожалуйста! Я так думаю от безделья все это. Вот покрутились бы они, как наши женщины - и на работу, и по дому, и детей воспитывать, - посмотрела бы я, чего у них от их печали осталось бы! А то, конечно, брякнешься, как камень, на землю - ни забот, ни хлопот. Лежи и думай. Ну, подумал, подумал, а там и ерунда всякая в голову поперла: зачем, и так далее. А зачем это вам знать зачем?
Новый курносый носик совершенно преобразил Татьяну Владимировну.
- Я точно говорю, - продолжала она уверенно. - Вот в прошлом году муж уехал с дочкой погостить к своей матери, она в колхозе имени Тельмана живет, может, слышали? Так вот, я места себе не находила. Все какие-то глупости в голову лезут. И что будет, если мой Петр Данилыч другой увлечется, и как сделать, чтобы Верка моя больше об учебе думала, а не о парнях... Ну прямо кругом голова идет! И это, заметьте, при том, что я на работу ходила, перестирала все, что в доме было. И за неделю! А что было бы, если бы я камнем сто лет на солнышке пожаривалась? Я бы такую печаль развела, что на весь космос завыла бы!
- А что вы думаете, - улыбнулся Иван Андреевич, - в словах нашей Татьяны Владимировны есть определенный смысл.
- Ну спасибо, похвалили! - сурово сказала Татьяна, но кончики губ слегка поползли в улыбке.
- Нет, нет, не все так просто, - покачал головой Александр Яковлевич. - Если бы все на свете можно было лечить при помощи стирки...
- А вы бы попробовали, - буркнула Татьяна.
- Татьяна Владимировна, дайте ему договорить, вы рта не даете никому раскрыть, - укоризненно покачал головой Иван Андреевич.
- Это я-то? - удивилась Татьяна. - По-моему, это вы больше всех...
"Поразительно мы все-таки устроены, - подумал Павел.- Я начинаю понимать эти существа, которые долго не могли найти таких, как мы. Мы попали в совершенно, абсолютно невероятные обстоятельства. Мы - это не мы, а наши синтетические двойники. Судьба занесла нас в глубь Вселенной, и мы должны помочь древнейшей цивилизации спастись, и при этом мы темпераментно спорим, кто сколько раз открыл рот. Таких наверняка во всей Вселенной не сыщешь, не произвела Вселенная таких чудаков!"
- Татьяна Владимировна, - улыбнулся Павел, - а как же вы конкретно все себе представляете?
- Ну... как вам сказать... Работать надо!
- А точнее?
Всю жизнь - что в школе, что в техникуме, что на работе выполняла Татьяна Владимировна чужую волю: Осокина, чего стенгазеты уже две четверти нет? Осокина, подумай, кому бы поручить изготовление учебных пособий. Осокипа, представь завтра директору списки студентов, имеющих спортивные разряды. Осокина, составьте сводку выполнения плана по страхованию транспортных средств за прошлый год. Мам, там сапожки завезли английские...
Все. Хватит. Может, оттого, что очутилась она далеко от наезженной колеи ее земной жизни, может, оттого, что увидела она в Сережкиной отполированной ладони не свое, а совсем другое лицо-носик вздернутый, который девчонкой во сне каждую ночь видела, глаза большие, - но вдруг почувствовала Татьяна, что всю Вселенную перевернуть может.
- Точнее, говорите? - протянула Татьяна и вдруг выпалила: - Дайте мне сколько-нибудь этих... людей, я уж сама с ними разберусь! Сама, понимаете?
- А что, - сказал Павел, - это совсем недурная идея. Я всегда был за личную ответственность.
- Ну, знаете, Павел Аристархов сын, не ожидал я от вас такого легкомыслия! Мы все вместе представляем, так сказать...
- Вместе, вместе, вот вы им свою газету и выпускайте, буркнула Татьяна. - Привыкли... К чему, по ее мнению, привык Иван Андреевич, она не сказала, только махнула рукой.
- Татьяна Владимировна, - досадливо поморщился Иван Андреевич, - я в таком тоне разговаривать не привык, и впредь прошу вас...
- Да ладно уж, Иван Андреевич, вы тоже хороши, не можете промолчать, - укоризненно покачал головой заведующий аптекой.
Гнев быстро улетучивался из Ивана Андреевича. Черт возьми, и чего вспылил?
- Знаете что? - пожал плечами Иван Андреевич. - Раз мы начали со споров, может быть, действительно имеет смысл попробовать сделать так, как предлагает Татьяна Владимировна? Скажите, пожалуйста, - повернулся он к Мюллеру, - сколько вас всех душ?
- Душ?.. Лх да, понимаю, - кивнула дворняжка. - Три тысячи двести двенадцать.
- Вот давайте и прикрепим нашу столь воинственно настроенную Татьяну Владимировну к пяти сотням... граждан... Но при всех обстоятельствах не забывайте, Татьяна Владимировна...
- Не беспокойтесь за нее, - улыбнулся заведующий аптекой, взглянул на Татьяну и отметил про себя, что смотреть на нее стало почему-то приятно. И дело не только в носе. Глаза горят, брови нахмурены, грудь бурно вздымается - воительница, вспомнил аптекарь старинное слово.
- Дорогой... - обратился Иван Андреевич к собачонке и поймал себя на том. что чуть было не сказал: "Дорогой товарищ Мюллер". - Скажите, а можно ли как-то выделить пятьсот человек для нашей сердитой Татьяны Владимировны?
- Разумеется. Старичок, - она кивнула на Старичка, который молча сидел в кресле, - все устроит.
- Но как же мы все-таки решим проблему имен? - спросил Павел. - Вы уже объяснили нам, что произносимых вслух имен у вас нет. Как же нам обращаться к вам, как различать вас? Мы даже не знаем, как называть вас: люди, товарищи, граждане?
- Мы были бы горды стать когда-нибудь вашими товарищами, - сказал Мюллер, - но пока мы недостойны этого слова...
- Нет, это вы неправильно говорите! - воскликнула Надя и от волнения перебросила копну своих волос с груди на спину. - Если вы, выходит, в беде, значит, вы не можете быть нашими товарищами? Это как-то нехорошо получается. А я считаю вас всех своими товарищами, и вы все очень милые.
Она вскочила с кресла, чмокнула сначала Штангиста в нос, потом Старичка в лысину и погладила кошку, которая с глухим стуком испуганно соскочила с кресла на пол.
- Браво, Надин! - закричал Александр Яковлевич.
А Сергей захлопал в ладоши и расплылся в широчайшей и горделивой улыбке, которой не хватило даже нового его лица.
- Отлично сказано! - сказал Павел. Он забыл на мгновение о том, что у этого существа нет ни сердца, ни легких, ни крови, наверное. Он забыл, что перед ним двойник, и любовался стройной, цветущей девушкой, и неясное волнение виновато шевельнулось где-то в самых глубинах его сознания. - Отлично сказано, милая Надя. Предлагаю отныне считать всех наших хозяев нашими товарищами. Все согласны?
- Все! - раздался нестройный хор.
- Но вернемся к именам, - продолжал Навел.
- Мы уже думали над этим вопросом, - сказал Мюллер.- И вот к чему мы пришли. Поскольку у нас нет имен и есть лишь индивидуальные различия в наших полях, которые вы различать не можете, так как у вас нет полей, вы сами будете давать нам имена. Для того чтобы вы могли различать нас, нам придется принимать в вашем присутствии какую-нибудь более или монете постоянную форму, и эту форму вы будете знать под тем именем, что ей дадите. Так, например: вы знаете меня в виде собаки и зовете Мюллером. Это, очевидно, единственное решение. Что же касается названия нашей планеты, оно звучит, если попробовать выразить его звуками, как Оххр.
- А вам не обидно будет, если мы будем звать вас оххрами? - спросил Сергей.
- Нисколько, - покачал головой Мюллер.
- А как же получается, что название планеты можно выразить нашими звуками, а ваши имена - нет? - спросил Сергей, и Надя с гордостью посмотрела на него.
- Логичный вопрос. Но наши имена, как мы уже говорили, это вариации в индивидуальных полях. Они разнятся, как разнятся, скажем, напряжение тока в вашем земном понимании, частота электромагнитных колебаний. Ведь вы вполне могли бы, допустим, не давать названия радиопередатчику, если б все знали, что он всегда генерирует волны какой-то определенной, частоты. Частота и была бы его, так сказать, именем. Так и наши поля...
- Но вы здорово знаете нашу технику, - сказал Сергей.
- Да, нам пришлось основательно просмотреть ваши книги...
- Скажите, - вдруг спросил Сергей, - а это не вы были в читальном зале? Мама говорила, какой-то незнакомый мужчина четыре дня сидел там с утра до вечера.
- Нет, не я, - сказал Мюллер, - это была Машка, - он кивнул на кошку. - Но все, что она усваивала, она тут же передавала и нам.
- Если бы у нас так было на Земле, - вздохнула Надя,- я бы, наверное, была отличницей. Сережа бы передал мне все свои знания. Передал бы или пожалел?
Она кокетливо посмотрела на Сергея, и тот серьезно кивнул. В глазах его нестерпимым блеском сияла нежность, и Навел подумал, что любовь - удивительная все-таки штука, раз она может бушевать в синтетическом теле в невообразимой дали от Земли.
ГЛАВА 3
Татьяна Осокина медленно шла в сопровождении Старичка, и четыре тени, отбрасываемые их телами от двух солнц, не спеша ползли за ними по каменистой почве.
- Все готово, Хоттабыч? - спросила она спутника.
- Все, Татьяна Владимировна. Строительство преобразователя начинаем завтра.
- Все знают наши правила?
- Все.
Они помолчали, и вдруг Хоттабыч остановился.
- В чем дело? - спросила Татьяна Владимировна.
- Почувствовал поле. Слабое, по отчетливое. Вот он, Хоттабыч кивнул на мясистое, похожее на кактус растеньице, мерно покачивавшееся на легком ветру.
- Я ж сказала, чтоб никто поля не ослаблял и в дремоту свою не впадал. Сколько раз повторять надо!
Опять, опять они за свое! Свернутся в клубок и дрыхнут на своих двух солнышках. Медитацией зовут, размышлением, а поди определи, где он медитирует, а где дрыхнет. И кому нужна эта медитация? Миллион лет все думают, а к чему пришли? Дрыхнуть без просыпу?
Татьяна Владимировна чувствовала, как раздражение все больше и больше охватывает ее. Все в этих лежебоках вызывало в ней неприязнь. Вся ее суть, все клеточки тела, казалось, ощетинивались неприязнью к этим вялым существам, приглушавшим свои поля и замиравшим в вечном свете двух незаходящих солнц. И в самой бесформенности оххров было нечто, что наполняло ее сердце неясным отвращением. Эта бесформенность, неопределенность, зыбкость была чужда ее жаждавшей четкости и симметрии порядка душе.
Она вдруг вспомнила, как сказала раз дочери, чтобы та положила ножницы, которые брала, на место. "Ну какая тебе разница, - пожала плечами Верка, - здесь лежат твои ножницы или там? Все равно на виду". Как, как могла она объяснить ей, что порядок прекрасен, что он веселит сердце, наполняет его покоем. Как передать это чувство?
Послышалось слабое шелестение, кактус начал пухнуть, выпустил пару коротких человечьих ножек, приобрел туловище, голову, пару не очень равных по длине рук. Получился довольно неприятный гномик.
- Имя уже получил? - спросила его строго Татьяна Владимировна. - И форму?
"Черт те знает что за оххры, - подумала она, - сколько раз одно и то же повторять приходится!"
- Нет, - сказал гномик писклявым голоском.
- Будешь тогда Гномик. Гном или Гномик. Форму эту запомнишь?
- Да! - пискнул гномик. - А что такое Гном? Я этого слова еще не встречал в передачах о вашем языке.
- Маленький такой человечек...
- Ребенок?
- Нет, он только в сказках бывает... Ты знал о приказе не приглушать поле и не погружаться в эту вашу... медитацию?
- Знал, - как-то вяло, словно позевывая, ответил Гном.
- Почему ж ты не выполнял приказа?
Гном посмотрел снизу вверх на землянку и пожал узенькими плечиками - почему-то жест этот очень понравился ему во время передач о землянах. Что он мог сказать этой женщине, как передать ей глубочайшее безразличие, которое владело им? Приглушать поле, усиливать поле, выключить его навсегда какое это имело значение? Что значило это ничтожное шевеление по сравнению с неумолимым течением рек времени? Что значила жизнь на берегах этих рек по сравнению с их течением? Для чего, зачем? Для чего в ней, в этой женщине, бьется сейчас гнев? Неужели она не понимает, что гнев ли, печаль ли, довольство ли - все тень, проплывающая над берегом? Проплыла, скользнула в оранжевом небе и исчезла. И не оставила по себе следа, ибо ничто не оставляет следа в реках времени.
- Почему ты не выполнил приказа? - еще раз спросила Татьяна.
- Я не знаю... я думал о реках времени...
- Слышала я про ваши реки и про ваше время! - закричала она. - Врете вы все, врете, безделье свое оправдываете!
Она замолчала, тяжело дыша. Сколько раз давала она себе за последние дни слово не выходить из себя, называть оххров на "вы". Так и делала, начинала обращаться на "вы", но, как только сталкивалась с непонятным детским упрямством, с вязким каким-то равнодушием, выходила из себя. И оххры начинали ей казаться капризными, неразумными детьми.
Говорил, говорил ей ее Петечка, что наживет она своим языком себе неприятности, да и товарищ Чубуков выговаривал ей, бывало, за невоздержанность, да что с собой поделаешь, натура такая. Да и не могла терпеть Татьяна разгильдяйство. Вот пожалуйста, полюбуйтесь, стоит, даже руки подровнять не мог, одна другой сантиметров на десять короче.
Может, плюнуть? Чего, собственно говоря, пузыриться? Что она им, мать, что ли? Но это были пустые, ненужные слова. Не таким была она человеком, чтобы отступать перед делом. Стараясь держать себя в руках, она сказала:
- Посмотрите, товарищ Гном, на себя. Я не против вашей внешности в целом. Это, в конце концов, дело ваше. Но неужели же нельзя было подровнять себе руки, а?
- Руки? - переспросил Гном. - Пожалуйста, я могу это сделать, мне нетрудно, но какое имеет значение длина моих рук? Если бы я что-нибудь должен был делать этими руками, и разная длина мешала бы мне эту работу выполнить хорошо, тогда другое дело...
- Не будем спорить, - сухо сказала Татьяна. - Все наши разговоры, я заметила, упираются в одно и то же: а какое это имеет значение? А вот я говорю: имеет! Я на вашу голову не навязывалась, сами пригласили: помогите, Татьяна Владимировна, погибаем! Раз погибаете, тогда не доказывайте мне, что все на свете трын-трава. Поняли, товарищ Гном?
- Да, - сказал Гном.
"Странные существа, - подумал он, - полные бешеной юной энергии, слепой, глупой энергии. Что я ей, если я и себе ничто, даже меньше чем ничто?"
- Завтра начинаем строительство нового преобразователя, передало ему поле Старика. - Ты отвечаешь за гравиоулавливатели.
Александр Яковлевич быстро шел по направлению к поднимавшейся на горизонте башне преобразователя. Можно было, конечно, превратиться в круг и заскользить над поверхностью Земли, как показывал ему Штангист. Но и идти было приятно. Сами движения были текучими, плавными, упругими. В нем как бы переливалась давно забытая им в его шестьдесят семь лет сила, и он смаковал каждый шаг, как гурман - изысканное блюдо.
Внезапно легкой тенью скользнула к нему белобрысенькая девчушка лет пятнадцати. Глаза синие, льняные косички торчат, как у куклы. Дернулось что-то в груди у старого аптекаря. Эта пигалица что еще здесь делает? И тут же улыбнулся сам себе. Татьянина работа. Формирует своих последователей.
- А, это землянин, - сказала девчушка, - тогда можете пройти.
"Это что еще за контрольно-пропускной пункт? - подумал аптекарь. - Ну и Татьяна!"
- А что было бы, если бы я был оххром?
- Если бы вы были из нашей группы, я бы вас пропустила, чужих Татьяна Владимировна пускать не велела.
- М-да, порядочки, - покачал головой аптекарь. - А где сама?
- Татьяна Владимировна?
- Да.
- На строительстве.
Нашел он ее невдалеке от строившейся башни, на которой копошились оххры преимущественно человеческого обличья. Рядом с ней стоял Старик и что-то говорил. Она увидела Александра Яковлевича, сделала своему собеседнику знак, чтобы он замолчал, и аптекарю показалось, что в ее глазах мелькнуло удовольствие.
Ему-то ее видеть было, безусловно, приятно. Лицо у нее помолодело, вся она словно выпрямилась, сбросила что-то с себя и полна была какой-то привлекающей властности - бой-баба, глаз не отвести. Могла бы и улыбнуться ему, подумалось с обидой, наверное, неделю не виделись, не меньше. Хотя, конечно, какой интерес он может для нее представлять? Петр ей ее нужен, это для нее.
- Что случилось? - вместо приветствия спросила сухо Татьяна, и аптекарь подумал, что ничего у нее в глазах не мелькнуло, что все он, старый дурак, придумал. И что в его годы нужно поменьше думать о женщинах, особенно о таких, как Татьяна.
- Добрый день, дорогая Татьяна Владимировна. Могли бы хоть поздороваться со стариком.
"Фу ты черт, опять я глупости какие-то говорю! - подумал Александр Яковлевич. - На жалость набиваюсь, мелко спекулирую годами. Никак не могу с ней нормально разговаривать. Ишь, важной какой стала, настоящий прораб. А спроси, что такое этот преобразователь, она в этом ни бельмеса не смыслит".
Строго говоря, Александр Яковлевич и сам не понимал принцип работы преобразователей, но это дела не меняло.
- Старик, тоже скажете вы! - вдруг улыбнулась Татьяна, и настроение у аптекаря сразу поднялось. - Здесь стариков нет. Чего вы себе что-нибудь новое не сделаете?
- А мне, дорогая Татьяна Владимировна, менять ничего не надо, - сказал он бестактность, намекнув тем самым на новый, с иголочки, так сказать, Танин курносый нос. Экая напасть, хоть молчи в ее присутствии!
- Вам виднее, - сухо сказала Татьяна. - Так что вам нужно, а то у меня дел по горло.
- Понимаете, я, Иван Андреевич, Паша - все мы, признаться, несколько обеспокоены вашим, так сказать... стилем работы, что ли...
- А откуда вам известно о моем, так сказать, стиле? насмешливо спросила Татьяна, упирая руки в бока.
- Это не имеет значения. Важен факт...
- Как раз имеет. Я знаю, что ваш надутый редактор и вы шпионите за мной. Сами-то побаиваетесь сюда нос сунуть, вот и посылаете своих оххров.
- Позвольте...
- А чего мне позволять? Факт - он и есть факт, хоть в Приозерном или на Оххре. Сами, наверное, бездельничаете, как эти, что приглушают поля, этой своей медитацией занимаетесь, а у меня, конечно, вам не нравится, как дело поставлено. Что, не так, скажете? Как Петр мой Данилыч говорит, квакать - не работать.
А хорошо бы ей пощечину дать, сочную такую, вдруг подумал Александр Яковлевич и тут же устыдился этой мысли. Нечего сказать, джентельменские у него замашки, хотя, с другой стороны, она ее заслужила. Ей-богу, заслужила.
- Ну, как хотите, я с вами ругаться не собираюсь, - сказал Александр Яковлевич.
Он повернулся и пошел обратно. Но странное дело: упругие, быстрые шаги уже не доставляли ему такого удовольствия, как раньше, и две его тени, скакавшие, как собаки, по обеим сторонам, не забавляли.
И вспомнилась Александру Яковлевичу его аптека, крохотная каморка без окна, что служила ему кабинетом, и вечные Люсины жалобы, что в рецептурном некому работать. Днем в каморке было душно, и он предпочитал помогать провизору или становился за прилавок ручного отдела. Зато вечером делалось прохладнее, и он любил подолгу сидеть там за столом с треснувшим толстым стеклом, под которое клал всякую чушь, от квитанций подписки на "Медицинскую газету" до графика отпусков. График был невелик, и его, Александра Яковлевича, отпуск всегда приходился на ноябрь. Ноябрь вполне его устраивал, потому что ездить он никуда не любил, а ноябрь в Приозерном был вовсе не хуже любого другого месяца. Во всяком случае, гулять в это время было замечательно. То первый снежок ложился в лесу на опавшие листья, то последние, самые упорные листья с берез падали на снег - в любимом его лесочке было светло и печально. Лес был тих, и ему казалось, что шорох листьев под его резиновыми сапогами слышен далеко-далеко. И мысли его о прожитой жизни были такие же светлые и печальные, как осенний лес: "Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное".
Удивительное дело, подумал вдруг Александр Яковлевич и даже остановился, отчего остановились и две его верные тени: как это он мог обидеться на Татьяну? Тем более, если быть честным с собой, Татьяна в отличие от него все же что-то делает...
Гном окончил работу и медленно брел к холму, на котором привык покачиваться под двумя солнцами Оххра низеньким кустиком. Вот и его место. Он хотел было, как обычно, обернуться в куст, но вспомнил о запрете. Как хорошо было бы сейчас приглушить поле и медленно погрузиться в созерцание! И увидеть себя на берегу реки времени, на высоком обрыве, с которого далеко видно все вокруг...
Гном стоял у холма. Для чего, для чего эта башня? Для чего еще один преобразователь? Сколько их он уже построил и сколько разрушились на его глазах, подмытые током реки и унесенные в океан забвения!
Для чего, для чего это странное существо вносит хаос в тихое их созерцание тайны всего сущего? Для чего смущает она их покой?
Можно, конечно, ослушаться запрета и приглушить поле, но кругом рыщут ее подручные и нащупывают погруженных в медитацию. И тогда снова придется просыпаться и выныривать из привычного покоя в сумбурный мир действий и слов, хаоса и смущения. Для чего? Чтобы снова стремиться погрузиться? И снова быть вытащенным на поверхность?
Странное, странное существо нарушает их покой. Ну хорошо, ее раса молода и не отравлена еще ядовитыми испарениями, что поднимаются из долины познания, и туманом, плывущим над реками времени. Она полна сил и энергии, она далека от мудрости, и это - кто знает? - может быть, и есть мудрость. Но зачем же ей тянуть за собой его? Что ей до него? Странное, странное существо...
Что движет ею? Для чего она с такой яростью старается вывести их из привычного созерцания? Может быть, в этом-то как раз и кроется разгадка того, перед чем отступили оххры?
Но не было ни сил, ни воли попытаться понять это бесконечно загадочное существо. И утешительной привычной горечью нахлынула печаль.
Привычная печаль сочилась отовсюду, заливала все окрест. Есть ты, нет тебя - все едино.
Гном медленно оглянулся. Прощай, Оххр, прощай, мир, прощай, печаль. Есть ты, нет тебя - все едино. Он выключил поле. Стало тускнеть оранжевое небо, голубые солнца сделались багровыми и померкли, печаль исчезала вместе с миром. Здравствуй, небытие, подумал Гном, и это была последняя его мысль.
- Татьяна Владимировна, - сказал Старик, входя в комнату Осокиной, - я хотел сказать вам... - Он замялся.
- Ну, что там? - нетерпеливо спросила Татьяна, поднимая голову от каких-то листков, лежавших на столе.
- Вы помните Гнома? Того, у которого одна рука была короче другой. Вы сами дали ему это имя...
- Ну, помню.
- Он выключил поле. Он и еще двое...
- Ты точно знаешь? Это не ошибка? Ты же сам мне говорил, что тех, кто выключает поле, найти нельзя, они становятся неотличимы от кустов, камней. Говорил? - уже громче спросила Татьяна.
- Да, Татьяна Владимировна, - грустно кивнул Старик. - И все-таки это правда. Мы проверили весь Оххр. Они выключили поле.
Предатели, слабые предатели, думала Татьяна, бьешься с ними, бьешься, из шкуры вон лезешь, тащишь, как говорит Петя, на себе весь "ЗИЛ", а они - поля выключать!
Первая вспышка ярости у нее прошла, и стало ей до слез жалко себя. Одна бьется здесь, у черта на куличках, под дурацкими двумя синими солнцами, воюет с невидимками... Танька, Танечка, Танюха - ты ли это? Для того ли мама тебя пестовала, для того ли десятилетку кончала, в техникуме стипендию получала, чтобы всякие гномы поля тут выключали!
И горько-горько стало Татьяне, жалко себя, и сморщился ее новый задорный носик, и на глазах показались слезинки. Как занесло ее сюда, в такую даль? Ишь ты, ловкий какой, выключил поле - и все дела. Тебе-то хорошо, с тебя взятки гладки. А мне каково? Ну нет, так легко Татьяна еще не сдавалась. Не из таких. Не привыкла руки складывать.
- Старик, я помню, там, когда с нами разговаривали первый раз, собака сказала, что вы были передатчиками. Ты можешь передать всем вашим то, что я скажу?
- Конечно, Татьяна Владимировна.
- Товарищи оххры, я, Татьяна Осокина, взяла на себя обязательство вытащить вас из вашей спячки, растормошить... Мы решили выстроить еще один преобразователь. Мне говорили некоторые, что, мол, особой необходимости в нем пока нет. Может, и правда сегодня нет, но не сегодня, так завтра он понадобится. Точно понадобится! Я знаю, что труд для человека - это все, и я верю, что для вас - тоже. И поэтому мы будем трудиться, что бы кто там ни говорил! Товарищи оххры! Только что мне сказали, что трое из вас проявили слабость - выключили свои поля. - Татьяна сжала кулаки от переполнявших ее чувств, голос ее дрожал. - Жизнь, товарищи, - это долг, который нужно выполнять честно. Выключить поле - это проще всего...
Нет, не те слова она говорила... Разве взорвешь ими это сонное, грустное царство... Эх, знать бы такие слова, чтоб жгли, чтоб звали! Огромная древняя жалость, материнское сострадание наполняли ее. Все, кажется, отдала бы им, глупым, только бы растормошить их. Как могут уходить они сами из жизни, когда жизнь так прекрасна...
И невдомек было Татьяне, что древняя планета внимала ее словам и мыслям с величайшим изумлением: чужая неукротимая воля вырывала оххров из привычного оцепенения, боль и сострадание к ним казались загадкой.
Но ни о чем таком и думать не могла скромнейшая женщина Татьяна Осокина, и в этом, наверное, была ее сила.
ГЛАВА 4
- Сереженька, - сказала Надя и начала водить пальцем по Сережиной макушке.
Сережа по-кошачьи зажмурился и промурлыкал:
- Что, Надюшенька ты моя единственная?
- А ты помнишь, как я пришла в библиотеку... ну, когда мы моего двойника увидели?
- Помню, я все помню. Все, что связано с тобой, все-все помню. Даже шнурок зеленый, которым ты волосы подвязывала...
- Правда? А я думала, ты такой... умный... Щупленький такой, как цыпленок полупотрошеный, в очках...
- Да ну тебя!..
- Нет, я правду... Ты же зато теперь... вон какой... Надя широко развела руки, показывая, какой огромный стал Сергей.
- Во всяком случае, не меньше того хмыря в оранжевых плавках.
- А, ты о Вадиме... - Она задумалась и глубоко, прерывисто вздохнула: - Ленинградец... С матерью приехал... На "Жигулях" собственных... - Она оживилась: - Знаешь, как он водит? Он меня катал...
- Ты начала рассказывать о библиотеке, - нежно сказал Сергей, поднял рукой тяжелые Надины волосы и провел губами по белому, беззащитному затылку.
- Щекотно, - томно сказала Надя.
- Ничего не щекотно, я осторожно, - сказал Сергей.
Мир был прекрасен. В высоком оранжевом небе плыли два синих солнца и отбрасывали от Нади две тени крест-накрест, как на футбольном поле при электрическом освещении.
Мир был прекрасен, потому что Сергей был полон нежности к этому непостижимо прекрасному существу с зелеными, в черную крапинку глазами. В нем было столько этой нежности, что ее, казалось, хватило бы на всю Вселенную, и даже те несчастные, что никогда не смотрели на своих Надь, как он на свою, и те поняли бы, как прекрасна любовь.
- Да ну тебя, Сережка! - сказала Надя и капризно выпятила нижнюю губу. - Чего ты на меня так смотришь...
- Ты начала говорить о библиотеке, - улыбнулся Сергей.
Что за чудо - все, абсолютно все в этой девчонке приводило его в трепетное умиление, даже то, что она всегда начинала разговор про одно и тут же сворачивала куда-то в сторону.
- А, вспомнила... Я еще сказала тогда тебе, что я плохая, помнишь?
- Я все помню, все...
- А знаешь, почему?
- Нет.
- Потому что Вадим поцеловал меня...
Конечно, ленинградец Вадим с шарообразными бицепсами, модными очками и "Жигулями" был серьезным соперником, но сейчас у Сергея было довольно важное преимущество: Вадим был далеко. Возможно, там, в Приозерном, Вадим сейчас и одерживает верх над полупотрошеным, как она сказала, цыпленком, который прячет свою робость под индейской невозмутимостью, но здесь, на Оххре, ленинградские "Жигули" были не страшны. И, стало быть, можно было быть великодушным.
- Ну и что? - небрежно спросил Сергей и почувствовал, что, несмотря на все, в горле вынырнул знакомый комок.
- Как это - что? Значит, тебе все равно, с кем... кто меня целует? Ну хорошо, я буду знать...
- Ты меня пугаешь? - улыбнулся Сергей.
- Тебя? - надменно вскинула голову Надя и царственным жестом отбросила волосы за плечо. - С какой стати? Но не забывай, дорогой Сереженька, что не ты один...
- На Оххре?
- Да, представь себе, и на Оххре!
Неужели она имеет в виду Павла Аристарховича? Ну конечно же, кого еще? Вот чертовка... Комок в горле окреп и мешал уже дышать. И Павел Аристархович тоже...
К их дому, подле которого они сидели, неслышно скользнули два круглых, похожих на сложенные вдвое тарелки существа, мягко опустились на землю и вытянулись в маленьких массивных гибридов - нечто среднее между пингвинами и сусликами.
- Здравствуйте, - сказали гибриды.
- Здравствуйте, - сказала Надя, и Сережа заметил, как она быстро превратила ладонь в зеркало и украдкой бросила на него взгляд.
- Добрый день, - сказал Сережа. - Как прикажете вас называть?
- Как хотите, - сказал один из гибридов, который больше походил на пингвина.
- Отлично, вы будете Пингвином, а вы - Сусликом. 0'кэй?
- О'кэй! - закивали оххры.
- Чем можем служить? - Фраза была старинная, и Сережа гордился ею.
- Мы хотели спросить вас, - пискнул Суслик, - о ваших чувствах. Мы давно слушаем ваши беседы...
- Каким образом?
- В вашем доме живет кошка Мурка.
- Ну и что?
- Она и транслирует на весь Оххр ваши разговоры.
- Это просто безобразие! - вспыхнула Надя.
- Но почему же? - спросил Пингвин. - Разве вы скрываете свои чувства?
- Но мы думали, что мы одни, - пробормотал Сергей.
- Значит, у вас есть разные чувства для узкого круга и для широкой публики? - спросил Суслик и уставился на Сергея маленькими, как бусинки, черными глазками.
- Пожалуй, не совсем так. Чувства, наверное, одни, но мы не привыкли выставлять некоторые чувства напоказ.
Только не Надя, подумал при этом Сергей. Она-то уж особенно не стесняется.
- Скажите, а как называются те чувства, что вы испытываете друг к другу? - спросил Суслик, и Сергей улыбнулся: Суслик был чем-то похож на соседского Шурика, когда тот начинал мучить Сергея вопросами.
- С моей стороны по отношению к Наде это, безусловно, любовь...
- Сережка, - сказала Надя, - как ты можешь?
- А почему я не должен мочь? Я же тебя люблю? Люблю.
- Ну чего ты заладил: люблю, люблю!
- Ты меня можешь не любить, это дело твое, но любить тебя мне ты запретить не можешь, и по мне, так весь Оххр может это знать и даже вся Вселенная.
- Скажите, - спросил Пингвин, - а в чем смысл вашей любви? Что это такое?
- Это, - засмеялся Сергей, - очень трудный вопрос.
- Но почему? Наверное, это очень редкое на вашей Земле чувство?
- Вовсе нет. Наоборот, любят миллионы. И все-таки определить его пока никому еще точно не удалось...
- Почему это - не удалось? - подозрительно спросила Надя. - А это вот: "Любовь, как радуга над полем?"
- Это Эдита Пьеха поет, - сказал Сергей. - Кроме Пьехи, о любви говорили, писали и пели многие, от Гомера до Большой советской энциклопедии. Вы простите, товарищи, что я говорю так непонятно...
- Но что же, по-вашему, главное в этом странном чувстве, которое знакомо многим и которое невозможно точно определить? - спросил Пингвин.
- Нежность..
- Нежность? А что это такое?
- Вот видите... Я смотрел Большую советскую энциклопедию, Малую, Медицинскую, старую энциклопедию Брокгауза и Ефрона и нигде не мог найти точное определение.
- А зачем ты искал? - подозрительно спросила Надя.
- Хотел поставить мои чувства к тебе на научную основу.
- Дурак!
- Скажите, значит, для того чтобы двое испытывали эту вашу любовь друг к другу, один из них должен быть дураком?
- Это почему же?
- Потому что Надя только что назвала вас так.
- Это она пошутила. Вообще-то у нас принято считать, что любовью не шутят.
- Мы ничего не поняли, мы не понимаем ваших шуток, - жалобно сказал Суслик и беспомощно развел лапками.
- "Любовь нечаянно нагрянет, - сказала Надя, - когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош..."
- Но на Оххре нет вечеров, - еще печальнее сказал Суслик.
- Понимаете, о любви очень трудно говорить...
- Это правда, - обрадовалась Надя, - даже в песне поется: "О любви не говори, о ней все сказано, сердце, полное любви, молчать обязано".
- Это же у нас, Надь, - укоризненно сказал Сергей. Здесь о ней еще ничего не сказано. Я думаю, лучше всего сформулировать любовь так: стараться сделать для того, кого любишь, все, чтобы сделать его счастливым. Ты согласна, Надюшенька?
- Я не знаю, - сказала Надя, - я еще никого не любила. Просто так - может быть... А любить - не любила... Ты не обижайся, Сережа. Я ведь тебя очень уважаю. И благодарна за все, ты только не обижайся.
- Я не обижаюсь, - бодро сказал Сережа и поправил машинально давно не существующие очки на носу. - Ты еще меня полюбишь.
- Это очень красивое чувство, так, как вы его описываете, - сказал Пингвин, - и оно нас очень интересует. Но даже если и не иметь точного определения, возникает вопрос: кого любить и как полюбить? Вы можете объяснить, почему вы полюбили именно это существо, по имени Надя, а не другое? Возможно, Надя лучше всех?
- Ну как вы можете? - с притворным негодованием вскричала Надя.
- Конечно, Надя лучше всех в Приозерном. Да что там Приозерный! В мире, во Вселенной! Вы только посмотрите на эти глаза, эти волосы...
- Сережа, прекрати!
- Мы с вами согласны, - важно кивнул Суслик, внимательно рассматривая Надю, - это, наверное, действительно лучшая землянка. Но тогда ее должны любить все? А те, кто хуже, лишены любви?
- Надя - самая лучшая только для меня! - пылко сказал Сергей.
- Вот и ничего подобного! - Надя вдруг выставила язык. Мне и Вадим говорил, что я особенная, и Коля...
- Это еще какой Коля?
- Что в волейбол как бог играет.
- Ну уж как бог... Простите, мы все время отвлекаемся.
- Нет, нет, пожалуйста, это очень интересно, мы изучаем вас. Мы просим разрешения остаться здесь, около вас. Мы хотим понять, как можно полюбить и кого, потому что это очень интересное чувство. Оно совершенно нелогично, и нам необыкновенно трудно уловить его нюансы.
- А вы из чьей группы? - спросил Сергей. - А то если вы из группы Татьяны Владимировны, Она такой крик подымет...
- Нет, мы из группы Александра Яковлевича.
- А он вас не хватится?
- Нет.
- Ну хорошо, оставайтесь, все равно нам группы не выделили...
- Друзья мои, - сказал Александр Яковлевич группе оххров, сидевших перед ним, - мне хотелось бы поговорить с вами по душам. Вы просили нас помочь - мы согласились. Но как? Я не могу, подобно уважаемой Татьяне Владимировне, навязывать вам свою волю. Я вовсе не убежден, что обладаю для этого моральным правом. Мне хотелось бы, чтобы я мог донести до вас хотя бы частицу нашей земной мудрости.
Оххры сидели неподвижно, одни похожие на людей, другие на животных. Человекообразные, как он называл их про себя, походили по большей части на него, и он присвоил каждой своей копии порядковый номер. Александр Яковлевич первый, второй, третий... Проще, конечно, было бы называть их короче, Александр Первый, Второй, но мысль о том, что его могут обвинить в приверженности монархическому строю, была неприятна.
Что сказать им, этим всесильным и вместе с тем обреченным существам? Где, в каких тайниках души найти то, чего ждали они от него? Да и есть ли в нем эти тайники? Или это лишь стариковская гордыня? Цепляние за книжную засушенную мудрость и за книжную скорбь?
А может быть, все не так? Может быть, это лишь кокетство старого дурака аптекаря, которому давно уже нечем больше кокетничать? Потому что настоящая мудрость должна множить не печаль, а радость. Ибо какая же она мудрость, если несет только печаль, которой и без нее, слава богу, хватает на нашей грешной Земле.
И у Александра Яковлевича стало весело на душе.
А действительно, как же живем мы там, на родной Земле? Только ли потому полны мы жизни и движения, что не успели еще познать мудрость? Нет, это было бы слишком просто. Наша мудрость сегодня простирается неимоверно дальше и глубже, чем в древние времена, и нет у нас страха перед познанием, и не содрагаемся мы при мысли о будущем. Потому что мы знаем, куда идем и что хотим принести в этот мир, унаследованный от бесчисленных поколений предков.
Но как, как объяснить это оххрам, в молчаливой покорности судьбе смотрящих на него и ждущих от него спасения?
И только теперь, на шестьдесят восьмом году жизни, заброшенный в виде своей копии к черту на кулички, понял вдруг Александр Яковлевич, что всегда был маленьким трусливым моллюском, который прятался от всего на свете в раковину. О, чужая древняя мудрость была сладка, с тонкой улыбкой позволяла она следить за тем, что происходило вокруг, - с веселой безжалостностью судил он свою жизнь, ведь он-то знал, что все это суета сует.
И когда нужно было что-то делать, чтобы удержать дочку, а потом и внучку, он и тогда нашел оправдание отступлению: не говорил он себе - я трус, а говорил - я мудр.
И вот теперь смотрит он на неподвижных оххров и не знает, что сказать.
Выходит, за все надо расплачиваться. И за трусость свою, что так долго и ловко маскировал он чужой, взятой взаймы мудростью, приходится теперь расплачиваться. Рад бы сжечь, да не горят старинные цитатки... Будь они прокляты, эти цитатки, все эти страшные словечки о суете сует и о прочей чепухе. Как вериги, висели они на нем всю жизнь. Как пауки из пойманной мухи, высасывали из него волю, энергию, смелость. Будь они прокляты, эти шоры на глазах и душе!
Взять да и сказать прямо и честно: извините, ничем помочь не могу. Даже и это было бы актом мужества, и даже на это он не способен.
Дни у Ивана Андреевича были заполнены кипучей деятельностью. Надо было составить списки своих оххров, каждому дать форму, имя, дело. Программа строительства предполагалась им большая, но вначале нужно было познакомиться, как говорил про себя бывший редактор, с сотрудниками и подчиненными.
Знакомиться было нелегко, на самые простые вопросы не сразу можно было добиться ответа, но зато списки получались замечательные.
Ты, братец, сказал себе Иван Андреевич, становишься первым внеземным бюрократом. И оттого, что смог он подшутить над собой, настроение у редактора сразу улучшилось. Бюрократ, сознающий себя бюрократом, уже не бюрократ. Тем более космического масштаба.
С помощью кошки Машки он сам изготовил бумагу и письменные принадлежности, красиво расчертил листы, каллиграфически вписал туда все сведения о своей группе.
И вот подошел момент, когда можно было начинать составлять планы строительства. Строительство же - здесь он был целиком и полностью согласен с Татьяной Осокиной, хотя и не одобрял ее методов, - строительство было единственным путем встряхнуть оххров.
Он вызвал к себе в кабинет Машку. Конечно, каждый раз, когда, тяжело ступая, в комнату входила кошка и говорила: "Добрый день, Иван Андреевич!", он отмечал про себя определенную дикость, но привык к обличью своего помощника, и о том, чтобы поменять его, не помышлял.
Вот и сейчас Машка деликатно поцарапала коготками дверь, и Иван Андреевич, отложив списки, сказал:
- Войдите.
Машка, как всегда, промурлыкала:
- Добрый день, Иван Андреевич.
Вначале она норовила вспрыгивать на стол. Но Иван Андреевич попросил ее отказаться от этой привычки. Во-первых, его пугал грохот, производимый прыжком тяжелой кошки. Во-вторых, вид помощника, сидящего на столе со всеми четырьмя конечностями, был ему неприятен. Была в этом раздражающая фамильярность.
Разумеется, Иван Андреевич был вовсе не глупым человеком и отдавал себе отчет в некоторой юмористичности своих действий. Но юмор ли, не юмор - а коль скоро решил он что-то делать, почему бы не делать это в привычном для себя стиле, если даже ты и являешься собственным двойником?
- Вернулся Увалень? - спросил Иван Андреевич.
- Только что.
- Пусть войдет.
Иван Андреевич плотнее уселся в кресло. Кресло было тоже собственного изготовления. Чтобы сделать его, ему пришлось во всех деталях представить себе то редакторское, на котором он привык сидеть.
- Ну чего ж ты не зовешь его?
- Я уже передал, что вы ждете.
- Ах да, все время забываю о ваших полях.
В дверь постучали, и Иван Андреевич удовлетворенно подумал, что довольно быстро добился соблюдения порядка - теперь оххры уже не входили к нему без стука.
Увалень походил на мультипликационного медвежонка.
- Ну что? - спросил Иван Андреевич. - Удалось побывать у Татьяны Владимировны?
- Да, - сказал Увалень.
- Сделал, как я тебе говорил?
- Да, Иван Андреевич. Я им сказал, что здесь у нас ничего не делается, что я слышал, будто в их группе происходит что-то интересное и что я хочу остаться у них. Потом, когда я все разузнал, мне удалось незаметно удрать.
- И что же вытворяет там наша уважаемая товарищ Осокина?
- Татьяна Владимировна хочет поделиться с оххрами своими воспоминаниями.
- Как это - поделиться? Она выступит с рассказами?
- Нет, они хотят ввести ее память в свои поля.
Иван Андреевич даже потер руки от изумления. Ай да Татьяна, отколола номер...
Конечно, он и сам мог бы придумать такое, но в отличие от Татьяны Владимировны понимал, что не все так просто, что нельзя заниматься голым администрированием. Разумеется, составляя списки своих, так сказать, оххров, он понимал, что списками не отделаться и за списками был обрыв. То есть не обрыв в физическом смысле этого слова, а скорее терра инкогнита, неизвестность. Что делать, с чего начать, как? Одно время ему казалось, что все как-нибудь само собой образуется, что машина будет вращаться и без его, Ивана Андреевича, конкретных указаний, как вращались школа, где он директорствовал, и газета, где был редактором. Надо было только довериться опыту окружающих тебя людей, а там, глядишь, и начнут математики преподавать математику, биологи - основы дарвинизма, завхоз - завозить краску для летнего ремонта, журналисты - писать статьи, а наборщики - набирать их.
Но здесь, на этом проклятом Оххре, все смотрели на него, посланца Земли, с молчаливым ожиданием, и никто решительно сам по себе ничего не желал делать.
И вот в этот-то тягостный момент и дошли до него слухи, что Осокина уж чересчур азартно принялась за своих оххриков. А тут еще собралась, ни с кем не согласовав, делиться, видите ли, с ними своими бесценными воспоминаниями. Да еще в прямом смысле этого слова.
Ох, уж эта Татьяна! Смешанные чувства вызывала она у Ивана Андреевича. Как ни тяжело ему было признаться себе в этом, но он, очевидно, завидовал ее бесшабашной решимости. И в то же время его раздражали ее упрямство и скрытность. Легко представить себе, какой она была ученицей. Отнюдь не отрада классного руководителя...
Ну и ну, Татьяна Владимировна, придумала, матушка!
ГЛАВА 5
Павел задремал. Стоял уже ноябрь, выпал снежок, ударили первые морозы, но он продолжал спать с открытой форточкой. И вот, когда он еще спал, он услышал сквозь сон вороватый шорох, озорной трепет крыльев. Он открыл глаза и увидел синичку, сидевшую на люстре. Люстра слегка раскачивалась, - должно быть, синичка только что устроилась на ней. Она смотрела на Павла внимательно и лукаво, склонив головку чуть набок, и эти доверчивые бусинки глаз в призрачном белесом свете раннего ноябрьского утра вдруг наполнили его острой, пронзительной радостью бытия.
- Фюить! - сказал он синичке. - Сейчас найду что-нибудь для гостьи.
Синичка укоризненно покачала головой. Фи, фи, фи, все вы горазды на обещания, и выпорхнула в форточку.
- Гм! - сказал Мюллер, и Павел открыл глаза, вздохнул.
Где ты, доверчивая земная птица с лукавыми черными бусинками-глазками?
- Что, задремал я, товарищ Мюллер? - спросил он со вздохом.
- Я не хотел вас будить, но я только что узнал одну печальную вещь: Мартыныч собирается выключить поле...
- Как ты узнал?
- Мне передали те, что были недалеко.
- Быстрее!
Павел расплылся в плоский круг, как делал не раз, и скользнул в дверь за Мюллером, который уже несся впереди него дрожащим серым диском.
Каменистая оххристая земля стремительно неслась навстречу, и две овальные тени черными снарядами летели по бокам. Он скользил над самой поверхностью, и траектория его полета в точности повторяла рельеф каменистого плато.
Некогда было думать, все было вложено в скорость. Но вот наконец мерцающий диск впереди плавно опустился на землю, обернулся собачонкой. А за ним и Павел стал на землю.
- Ты можешь говорить, он только приглушил поле, - сказал Мюллер.
- Где он?
- Вот видишь плоский камень? Это он.
- Мартыныч, выслушай меня, - сказал Павел, - выслушай меня. Хотя бы потому, что мы с Мюллером очень торопились к тебе. Хорошо? Я не буду тебя ни в чем убеждать, я только прошу выслушать. Согласись, забраться сюда, к вам, бог знает куда, только для того, чтобы перед самым твоим носом выключали поле, - это не очень приятно.
Павлу вдруг почудилось, что что-то изменилось, и он крикнул Мюллеру:
- Он выключил поле?
- Нет, - покачала головой черно-белая собачонка, - поле еле мерцает, но он не выключил его.
- Мартыныч, - взмолился Павел, - я знаю, что не могу поделиться с тббой тем, что зовется у нас радостью бытия. Я мог бы тебе рассказать о птице, которая называется синичкой и которая любит влетать по утрам в форточки и будить людей шелестом маленьких крыльев.
Я мог бы тебе рассказать о копне овсяных волос, которые девчонка, гордо задрав нос к солнцу, перебрасывает через смуглое плечо.
Я мог бы тебе рассказать, как ты получаешь отличный пас от товарища, взмываешь над сеткой и гвоздем вбиваешь мяч через двойной блок в площадку. А потом, в душе, возбужденно кричишь сквозь мыльную пену: "А что, ребятки, с такой игрой мы бы и за мастеров сыграли!"
Я мог бы тебе рассказать, как человек бьется над фельетоном о каком-нибудь бюрократе. Как ему кажется, что никогда ни за что не сможет он написать больше ни строчки, что он вообще ошибся в выборе профессии. И как в конце концов происходит чудо и как ты потом гордишься этим маленьким однодневным шедевриком. Потому что ты преодолел себя.
Ты всего этого не поймешь, дорогой Мартыныч, потому что слова вообще никого не убеждают. Но давай тогда поговорим по-другому.
И снова Павлу показалось, что что-то изменилось, и он закричал:
- Мюллер, он жив?
- Жив.
- Мартыныч, подожди еще немного, не уходи. Я хочу сказать только одну вещь. До сих пор вы просили нас помочь вам. Теперь я прошу тебя помочь мне. Ты можешь выключить свое поле в любую секунду, и нет в мире силы, которая могла бы тебе запретить это сделать. Подожди. Я прошу тебя подождать для меня, понимаешь - для меня лично. Для Павла Аристарховича Пухначева, литсотрудника приозерской газеты "Знамя труда", двадцати пяти лет от роду, неженатого.
Я не умею поделиться с тобой тем, что дает нам силы жить, радость жить, волю жить. Но я могу разделить с тобой то, что гнетет тебя. Ты знаешь, вы решили не давать нам поля, потому что поле это не только ваша сила, но и ваша слабость. Оно дает мудрость, и оно гнетет. Но я хочу, понимаешь, хочу разделить с тобой твое бремя!
- Ты действительно хочешь получить поле? - испуганно спросил Мюллер. Маленькие его собачьи глазки растерянно моргали.
- Да.
- Поле тяжело, и, получив его, ты уже никогда не сможешь снять его, только выключить. Паша, я...
Паша... "Удивительно, - промелькнуло в голове у Павла, он никогда не называет меня Пашей..."
- Я решил.
- Хорошо, - сказал Мюллер, - сейчас я позову товарищей.
- Зачем?
- Неужели ты думаешь, что один оххр может дать поле? Для этого нужно множество братьев.
- Но Мартыныч... он подождет?
Павлу казалось, что этот невидимый Мартыныч идет, судорожно балансируя, по канату. Под канатом бездна. И он, Павел, никак не может протянуть ему руку, только обрушивает на него водопад слов, будто за слово можно уцепиться. Подожди, странный, непонятный человечек, дай мне часть твоей печали, я хочу разделить ее с тобой. Мы же не чужие, в конце концов, черт побери, мы же думаем, значит, мы не чужие! Подожди!
- Ты готов? - спросил Мюллер, и Павел подумал, что никогда еще голос маленькой черно-белой лохматой дворняжки не звучал так торжественно и печально.
- Быстрее, быстрее! - крикнул Павел.
Мартыныч балансировал на канате, изгибался, еще мгновение - и рухнет, прочертит пространство последним призрачным пунктиром.
И в этот момент Павел почувствовал огромную тяжесть, которая легла на него. Нет, она, пожалуй, не давила, земные слова не могли описать эту тяжесть, это ощущение бремени, она скорее пронизывала его, уходила от него во все стороны.
Мысленным взором он увидел свое поле. Оно трепетало вокруг него бесцветным муаром северного сияния. И, трепеща, ощущало трепет чужих полей.
Мартыныч, где ты, где твое поле, если не погасил ты еще величайшее чудо из чудес - свой разум? Где ты?
Ага, вот я чувствую тебя, ты правда, еле мерцаешь, и я чувствую, как балансируешь ты на границе дня и ночи.
Но теперь я знаю, я чувствую, как тяжек груз, что давит на тебя, как беспредельна печаль.
Павлу казалось, что он стоит на высокой горе и взгляд его не ограничен горизонтом. Он уходит все дальше и дальше, в невообразимую даль, и одна сторона сливается с другой: начало - с концом, конец - с началом.
И он понял, что значит слова оххров о реках времени и о их всепожирающей алчности, которой ничто не может противостоять. Ничто? А синичка, что раскачивала ноябрьским белесым утром металлический светильник на три рожка (один колпак треснул)?
А летящие тяжелые овсяные волосы, похожие на кукольные?
А папина неловкая рука на спине: "Как дела, Паша?"
А странные воспоминания, что выпадают в драгоценный осадок на самое дно души?
Папина племянница выходила замуж. Она была в белом длинном платье, которое стояло на ней колом, как боярский кафтан. Лицо ее пылало, и она почему-то не смотрела на белобрысого могучего паренька, который очень медленно двигался. Боялся, наверное, что от неосторожного движения все швы в его жениховском черном пиджаке разом лопнут.
Гости произносили разные замысловатые тосты, а потом папа, который был в штатском, сказал, что просвистит в честь новобрачных арию из оперы Глюка.
Павел видел, как взлетели брови у женщин, как пополз сразу вокруг стола шепоток: отколол номер родственничек, пьяный, наверное, а еще полковник, ишь, свистун... У Павла сжалось сердце. Куда бы спрятаться от мучительного стыда за отца? Но вот отец засвистел. Он слабо улыбался, и лицо его было сосредоточенно. И шепоток сразу стих, и в душной комнате лилась прекрасная мелодия, и все сразу поняли, что это был замечательный подарок. И могучий белобрысый жених благоговейно замер, глядя на папу, и забыл, наверное, про пиджачные швы, что вот-вот могли лопнуть.
А у Павла почему-то набухли в глазах слезы, но их никто не видел, потому что все хлопали и что-то кричали.
Разве это глупое воспоминание тоже подвластно реке времени?
Он снова ощутил трепет чужих полей, но прикосновение их было холодно, сухо, печально.
А ты, Мартыныч? Твое поле? Ага, вот оно. Я зову тебя "Мартыныч" только по привычке. Теперь я умею отличать вас всех по полю, это действительно удобнее имени. А может, нет?
Оно стало сильнее, твое поле, маленький оххрик, или мне показалось? Сильнее, сильнее. Спасибо, Мартыныч, спрыгни смелее с каната, я протянул тебе руку, держись. Черт с ней, с печалью, как-нибудь управимся. На свете не так много простых истин, и одна из них - радость помощи. Радость идти вдвоем. Смелее, Мартыныч, вместе мы посмеемся над вашими реками времени. Твое поле действительно стало сильнее? Спасибо, Мартыныч, спасибо.
- Вы получили мое письмо, Павел Аристархов сын? спросил Иван Андреевич, садясь в кресло. - Я отправил его еще вчера с Машкой. Знаете, я ловлю себя на мысли, что уже практически перестал удивляться таким фразам: "Я послал его с Машкой". Или: "Сейчас я спрошу у кошки". А вы?
- Я? А... о чем вы говорите? - Павел попытался сосредоточиться.
В его нынешнем мире, в котором смешалась безбрежная печаль древней расы, тяжесть поля и теплые, желанные, как огонек в ночи, земные воспоминания, не было места для каких-то необязательных слов Ивана Андреевича. Они просто не вписывались в этот мир, словно принадлежали другому измерению.
- Как - о чем? - обиделся Иван Андреевич и перестал плотоядно умывать руки. - Вы... может быть, нездоровы? Хотя это чепуха, мы же не можем заболеть здесь. Вы говорите так, будто у вас обширная корреспонденция. Я же склонен полагать, что вряд ли вы получили здесь хотя бы еще одно послание, кроме того, что я послал вам с Машкой.
- Ах да, конечно. Это ваше письмо о Татьяне Владимировне...
- И что вы думаете по поводу ее художеств?
- Да ничего не думаю.
- Как это - не думаете?
- Да так. Просто не думаю, и все.
- Простите, Павел Аристархович, - обиженно нахмурился Иван Андреевич, - я вас решительно отказываюсь понимать. Мы здесь, на далекой планете, стремимся помочь аборигенам, так сказать, а наша Татьяна Владимировна позволяет себе черт знает что! Она же может таким образом скомпрометировать нас! Я считаю, что она должна была получить нашу... ну, если не санкцию, не будем применять такие грозные слова, то, по крайней мере, ей следовало заручиться нашей поддержкой.
- А почему, собственно говоря, она должна, как вы говорите, заручиться нашей поддержкой?
- Как это - почему? Она же не в вакууме, в конце концов, действует. Мы же коллектив.
- Прекрасно. Но мы ведь решили для пользы дела, чтобы каждый работал со своей группой. Вот она и работает. Почему она должна спрашивать у вас разрешение, а не вы у нее?
Вообще-то он, конечно, прав, подумал Иван Андреевич, но накопившееся недовольство самим собой требовало выхода и выплеснулось маленьким горячим гейзером обиды на Павла. Вот оно, новое поколение! Какая смелость! И благородство! Когда Пухначев пришел в газету желторотым цыпленком, он не разговаривал так со своим редактором. Обаятельный молодой человек, сама скромность, помноженная на вежливость. Разрешите, Иван Андреевич, я попробую фельетончик написать? Пожалуйста, пиши. Прекрасно обходились, слава богу, и без них, но раз тебе хочется - пиши. А теперь пожалуйста!
- Татьяна Владимировна заканчивает строительство нового преобразователя, - продолжал Павел.
- Преобразователя? - механически переспросил Иван Андреевич и покачал головой.
Странный, странный человек. Откуда в ней такая непоколебимая уверенность в своей правоте? Только ли простотой ее можно объяснить такую одержимость?
- Иван Андреевич, - с какой-то оскорбительной нежностью сказал Павел, - да поймите же вы, что здесь многие наши земные мерки неприменимы. Вот вы говорите, что привыкли давать кошке Машке поручения и совсем этому не удивляетесь, и вместе с тем продолжаете цепляться за все эти "согласовать", "разрешать" и тому подобную чепуху. Сегодня я спас оххра от самоубийства. По крайней мере, сегодня он этого не сделал. И знаете, на что мне пришлось пойти?
- Ну? - угрюмо спросил Иван Андреевич.
- Я получил поле.
- Поле? Это вы серьезно?
- Вполне.
- Но мы же все решили, что это слишком большое испытание. Сами оххры считают, что, если мы приобретем поле, мы не сможем помочь им, потому что станем слишком похожи на них. А вы... Я просто слов не нахожу!
- Поразительное у вас, однако, устройство ума! Я говорю вам, что приобрел поле, одно из самых странных свойств наших хозяев, а вы, вместо того чтобы броситься меня расспрашивать, что это такое, как я себя с ним чувствую, вы вместо этого тут же начинаете мне выговаривать.
- Я вижу, нам будет довольно трудно договориться с вами, - сухо сказал Иван Андреевич. - Тем более, что ваше поле, насколько я заметил, особой мудрости вам не придало.
- Ну, что делать! Мудрость ведь вообще понятие довольно относительное. Мудрость одного часто воспринимается другим как глупость.
- Не спорю, не спорю. До свиданья, Павел Аристархович.
- Счастливого пути.
Надутый дурак, подумал Павел. Подставить ему подножку полем? Нет, еще грохнется, просто придержу его слегка, - может быть, он станет чуточку менее напыщенным. Глупость, конечно, но трудно удержаться. Как мальчишка, каждую секунду вытаскивающий из кармана новенький ножичек.
Он протянул поле к двери, обвил редактора, сжал и слегка потянул к себе. Иван Андреевич остановился, посмотрел под ноги, пожал плечами, снова сделал попытку выйти, и снова поле не пустило его.
- Это вы развлекаетесь? - спросил он.
Павел вдруг почувствовал, как оскорблен сейчас Иван Андреевич. Зря, зря он так уж резко говорил с ним, даже жестоко. Ведь он, в сущности, добрый человек. Сколько раз прощал он ему мелкие редакционные его прегрешения. Инициалы перепутал раз у директора совхоза. На всю жизнь запомнил: не Николай Сергеевич, а Сергей Николаевич Грушин. Другой раз обвинил завмага Жагрина в торговле дефицитом из-под прилавка, но факты не подтвердились. То есть в верности этих фактов никто не сомневался, и меньше всех, естественно, сам Иван Иванович Жагрин, но подтверждающих документов не было, и Павел горел бы синим журналистским пламенем, если бы не Иван Андреевич. А теперь оскорбил старика и еще играет с ним, как кошка с мышкой...
- Простите, Иван Андреевич, - сказал он.
Но редактор, ничего не ответив, вышел из комнаты.
Поле придавило Павла с новой силой. Невесомое, оно лежало на его плечах безмерным грузом, и Павел впервые понял, что имели в виду оххры, когда говорили о бремени поля. Сухая, бесплодная печаль исходила от него, теснила грудь.
ГЛАВА 6
- Татьяна Владимировна, - грустно сказал Старик и отвел глаза, чтобы не встречаться взглядом с Осокиной, - сегодня еще двое выключили поле...
Татьяна схватилась рукой за стул. Комната поплыла в сторону, пол встал дыбом. Еще обморока не хватало, мелькнуло в голове. Она изо всех сил зажмурила глаза. Тупая боль сжимала грудь. А еще говорили, что здесь нет боли.
...Татьяна Владимировна мягким, бескостным кулем рухнула в кресло. Нисколько не было ей жаль этих безвольных оххриков: хочешь отбросить копыта - твое дело. Себя было жалко, до слез, до головокружения, до сосущей пустоты в сердце жалко. Одна в этой оранжевой каменистой пустыне под дурацкими голубыми солнцами, вечно под стражей двух теней, совсем одна-одинешенька. За что ж это тебе, Танька, чем прогневила судьбу?
- Татьяна Владимировна, - печально сказал Старик, - не нужно так расстраиваться. Вы прямо на себя не похожи.
- А что же мне, Старик, радоваться прикажешь? Бьешься, бьешься с вами - и все без толку! Что, что я вам еще дать могу? Все слова, что знала, все сказала. Что еще у меня есть? Обе тени свои отдать - пожалуйста! С удовольствием! Берите, не жалко. Чего ж ты молчишь? Вы ж мудрые, а уцепились за бабу с финансовым техникумом. Ну, все, хватит! Как говорит наш завотделением Чубуков, если человек не хочет застраховать свою жизнь, значит, он не ценит ее.
- Простите, Татьяна Владимировна, я вас не совсем понял. Что вы хотите этим сказать?
- Что хочу, то и сказала!
Татьяна и себе не могла бы объяснить, почему вспомнила Чубукова, поэтому покорный вид Старика еще больше разозлил ее.
- Что хочу, то и сказала! И все. Черт с вами со всеми выключайте свои поля, гасите свет, закрывайте контору. Как говорит мой Петя, вольному - воля, а водителю - путевой лист.
Петя, Петр Данилыч, как ты там? Машину дали новую или до сих пор со старой мучаешься? Но только прошу тебя, Петечка, не приклеивай в новой на приборный щиток картинки с девчонками. Неудобно же, ты ведь женатый человек. А то твой Ковальчук вечно ко мне с подковырочкой: "Да, Татьяна Владимировна, еще у вас одна соперница появилась - глаз не отвесть. Губки - с ума сойти и в столб врезаться! Волосы - описать невозможно!
Знала Татьяна, что дурачится Ковальчук, а все равно испуганно проваливалось в живот сердце. "Это кто ж такая?" - "Из журнала, - покатывался Ковальчук, - из журнала вырезал югославского: "Практична жена".
Вот тебе и практична жена, сиди на Оххре, смотрись в зеркальную ладонь и думай, зачем ты здесь и кому нужен твой новый курносый нос. А оххрики пока выключаются и выключаются. Не оправдала, Татьяна, не сумела. Так крути в голове слова, эдак, а факт-то остается - не справилась...
- Татьяна... - позвал Старик, и Татьяна отметила, что первый раз обратился он к ней без отчества. - Татьяна, я много думал о вас... Вы необыкновенная женщина, в вас прямо бьет ключом воля и жажда жизни...
- Ну уж вы скажете! - сказала Татьяна и пожала плечами, но сделала это скорее для порядка, потому что в глубине души была вполне согласна со Стариком.
- И вот я подумал: вы стремитесь отдать нам все, что у вас есть. Спасибо, Татьяна. Но слова - это очень мало. Мы вообще не ценим слов. Слова - это шелуха на губах. Если бы вы могли поделиться с нами своей душой...
- Души нет, - твердо сказала Татьяна. - Религия - это опиум для народа.
- Душа есть, - покачал головой Старик, - душа - это память.
- Не знаю, это все по части нашего Александра Яковлевича. Это у него все суета сует и томление духа.
Они замолчали оба, и Татьяна вдруг почувствовала, что где-то не то в сердце, не то в голове у нее слабо шевельнулась неясная мысль. В первый раз шевельнулась она еле заметно, потом толкнулась сильнее, как Верка, когда она носила ее. Беспокойная была девчушка - ужас!
И вдруг мысль резиновым мячом, отпущенным под водой, пружинно выскочила на поверхность, и странно было, как это она так долго сидела на дне молча. А мысль была проста: если может она поделиться с оххрами только своей душой, а душа это память, то, стало быть, надобно попробовать поделиться с ее оххрами памятью, воспоминаниями.
А Старик, словно услышал ее радостную мысль, скорбно покачал головой и сказал:
- Ты не понимаешь, Татьяна...
На "ты" назвал, подумала Татьяна, первый раз...
- Чего я не понимаю?
- Вы, земляне, чаще всего думаете категориями слов. Когда вы говорите "поделиться воспоминаниями", вы имеете в виду слова, описывающие эти воспоминания. Когда мы говорим "поделиться воспоминаниями", мы думаем именно о том, что это значит: поделиться самими воспоминаниями, памятью, а не словами.
- Ну и пожалуйста.
- Ты не совсем понимаешь...
- Что ты заладил: "не совсем понимаешь" да "не совсем понимаешь"! По-моему, все понятно.
- Когда ты делишься воспоминаниями, ты их теряешь. Ты их отдаешь.
- Как это - отдаешь?
- Ты отдаешь мне свое воспоминание, и оно становится моим, а не твоим. У тебя его просто больше нет.
Татьяна рассмеялась. Ну и народ!..
- И вы хотите, чтобы я отдала вам свои воспоминания, память свою, чтобы выдрала из себя и преподнесла вам на блюдечке: ешьте, вкусненько? Так, что ли? Не-ет, я, может, и дура, не спорю, всю жизнь была такой, всю жизнь о себе не думала. В школе стенгазету сидела рисовала, пока другие на танцы бегали, в техникуме общественной нагрузки такой не было, чтобы на Осокину не взвалили. А чего не взваливать, если она везет? Даже не кряхтит, стесняется, по своей деревенской дури. Пусть тащит, она же у нас здоровая! Пусть тащит, все равно с ее носом ей больше делать нечего. Так вот, Старик, хватит! Не буду больше дурой. Хотите, значит, чтоб последнее вам отдала? Нет, поищите других!
- Успокойся, Таня, - ласково сказал Старик. - Я вовсе не хочу, чтобы ты страдала...
Но Татьяну уже нельзя было остановить. Она кричала, все повышая голос, и не знала, что лишь приводит себя в состояние экстаза, который, наверное, необходим всегда, когда совершаешь подвиг.
А она готова была его совершить, потому что была простым человеком и, взявшись за дело, уже не могла остановиться...
И вдруг, словно почувствовала инстинктивно, что пора, Татьяна разом успокоилась и в страшной, безмерной тишине сказала:
- Я готова, чего уж говорить. Ладно... Дарю вам память. Ты передаешь для всех?
Старик не удивился. Он тоже знал, что спорить теперь с Татьяной было бессмысленно, потому что она вышла за ограду привычного здравого смысла и дух ее, презрев земную тяжесть, воспарил.
- Да.
И было Татьяне и печально и сладко, и сердце замирало, и гордо было. Эх, Танька, Танька, видно, правильно говорят: каков в колыбельке, таков и в могилку. Или как Петенька ее шоферским словом "яма" называет. Чудак... Всегда шутником был.
...Так и познакомились. На последнем курсе была техникума, приехала домой на зимние каникулы. Попить деревенского молочка да отоспаться. А январь завернул - вспомнить жутко, градусов под тридцать, как в космосе, и метет. Вылезла из поезда, а автобуса нет. И очереди привычной на него нет. Ушел, наверное, раньше времени.
Капрон в ноги так и вмерзает. Еще минут десять - и с кожей снимать придется. А тут открывается дверца грузовика, и парень орет:
- Чего стоишь, коза, прыгай в кабину!
В другой раз, наверное, и не посмотрела бы в его сторону. Коза! Сам козел. А тут при этом морозе к черту бы полезла, не то что к парню.
Подошла к грузовику - и не то что прыгнуть, а залезть даже не может, руки в перчатках кожаных венгерских (сестра в Москве купила, да, как назло, на размер меньше, еле натягивала) закоченели. Парень нагнулся, подхватил ее под мышки и, как куль, втянул в кабину. А в кабине благодать: постукивает мотор, шипит горячий воздух, из печки струёй идет.
Парень смеется:
- Губы-то целы?
- Целы, - шепчет.
- Покажи.
Она и возьми, как дура, протянула ему губы, совсем рехнулась с мороза. А он обнял ее, и не грубо, а нежно так, неожиданно. Неожиданно. И поцеловал в губы.
- Ну, носатенькая, поедем?
На все промолчала бы - все-таки подобрал человек ее с мороза, спас, можно сказать, но только не на носатенькую. Уж очень ей обидно стало. Только что поцеловал, нежно так, не грубо, как никто ее никогда не целовал, и сразу же носатенькая! И ведь правда же носатенькая. Была б она такая, как картинка у него на щитке: смеющаяся, курносенькая, блондиночка. А тут - носатенькая!
И так ей стало обидно, что не успела опомниться, как шоферу по морде съездила. Не сильно, конечно, да и не развернешься в тесной кабине, а все ж таки съездила. И - дверцу открывать.
А он руку ее от дверцы отвел, откинулся в свою сторону и зааплодировал:
- Правильно, так их, нахалов!
И тут спохватилась Татьяна: ну-ка, посмотрим, как это с воспоминаниями? Что у нее остается? Значит, начал он аплодировать. А с чего это? Как это - с чего? Только что ж помнила, да так явственно, как на экране. Сейчас, сейчас вспомнит, как очутилась в Петином "ЗИЛе"...
Воспоминание о воспоминании еще жило в ней, но само воспоминание уже ушло, точно смытое дождем. И грустно и сладко. Эх, да чего уж говорить теперь...
Гуляли они совсем мало, фактически только эти каникулы, потому что в конце их, провожая Татьяну на станцию, Петя вдруг сказал:
- Значит, будет у меня жена с образованием...
У Татьяны сердце екнуло и остановилось. Неужели же... Страшно было даже поверить. Не подавай виду, дура, приказала она себе, молчи.
- Это кто ж такая? - не удержалась она.
- Так... - будто бы неохотно, сказал Петя и небрежно махнул рукой, - одна...
И страшно было Татьяне, и весело, как на качелях в городском парке.
- Это кто ж такая?
- Да так... финансистка одна...
Ей бы промолчать как-нибудь, как мать ей вдалбливала, не показывай ему, черту, что нравится, а она на шее у него повисла и слова сказать не может.
И сейчас горло перехватило, как вспомнила ту острую радость. Ее Петенька, ее, только ее...
И снова устроила себе мысленный учет: что теперь, интересно, помнит? Ну как же, сделал ей, стало быть, предложение. Но как? Эх, еще один кусочек откололся от сердца и уплыл куда-то, унесло его. Да уж теперь все едино.
И в веселом каком-то отчаянии снова вернулась Татьяна в Приозерный.
Рожала она Веруню тяжело, помучилась. Был момент, увидела она глаза доктора над собой, и почудилось ей сквозь тянущую, острую боль, что были глаза какие-то нехорошие.
- Смелее, смелее, Осокина, - сказали глаза, - покричите, если хочется.
И она заорала в первый раз, потому что до этого все кусала себе губы и молчала.
А потом, когда принесли ей показать какой-то пакетик, она никак не могла сообразить, что это и есть ее ребенок, из-за которого так мучилась.
Купал Верун первый раз Петя. Мама говорила:
- Да ты ж ее уронишь, дай я.
- Вы, Пелагея Сергеевна, недооцениваете мои руки. У вас ладонь что? Так, пустяки женские, а у меня глядите! Это ж кресло для дочки.
Верка, Верка, как же ты выросла такая непутевая, в кого? Отец-мать работают, а ты с четырнадцати лет парням глазки строишь!
Юбочку наденет свою из коричневой выворотки, короткая смотреть страшно, волосы ладонями взбодрит перед зеркалом, на мать смотрит, улыбается.
В отца. Высоченная, в четырнадцать лет метр шестьдесят восемь было, в школе, рассказывала, измеряли. Ножки длинные, стройные - загляденье. Глаза Петины; не поймешь, то ли шутит, то ли серьезно говорит.
- Ты, мама, не огорчайся, что у меня одни тройки. Тройка - отметка солидная, удовлетворительная. Поняла? У-довле-тво-ри-тель-ная!
- Что ж ты с этим удовлетворением делать будешь?
- А ты чего со своим техникумом добилась?
И ответить-то трудно на тот ее грубый вопрос. Можно, конечно, было в крик: да как ты смеешь, да я, да ты, и так далее. Так она не раз и делала. Но в том случае, что вспомнила сейчас, промолчала. И то верно: чего добилась? В бухгалтерии Госстраха сидит за невеликие, прямо сказать, деньги, и в бумажках копается...
Что ж, добилась, не добилась - жила честно, как знала, как могла. Сердце, слава богу, не пустовало. И любовь была, и беспокойство, и заботы томили, и за Петра Данилыча исстрадаешься, когда он одно время на дальних рейсах междугородних мотался. Машина тяжелая, с прицепом, чуть что - не удержишь. И встречается народ по дороге разный. А кабина просторная... Что-то она хотела вспомнить, что было связано с кабиной, и не могла.
Петя, Петенька любимый, Петр Данилыч... И невыразимая и как бы горьковатая на вкус нежность облила Танину душу. Зачем, зачем сердилась на него за "Советский спорт"? Ну что ж тут такого? Ей уже казалось необыкновенно умилительной картина: муж, лежащий на диване. Лицо прикрыл газетой, дышит ровно, не храпит, никогда, слава богу, не храпел. И газета в такт дыханию опускается и поднимается. И какая-нибудь там надпись видна вроде "Хоккеисты ведут спор" или что-нибудь в этом духе.
И Верка. Непонятная, вроде бы и далекая, а как подумаешь - свой комочек теплый. И страшно за нее делается: как-то определится она в жизни, не обидел бы кто...
Ну вот, навспоминала на целую планету. Осталось ли что самой? Муж, дочь. Помнит, конечно. Но - как на фотографии. Стоят, смотрят, молчат. Спокойные, неподвижные. Муж и дочь. Как, что, когда - ничего не осталось. Как в анкете: замужем, один ребенок. И все. Как будто не для живой памяти. Щелкни дыроколом, сунь в папочку, просунь две железки, согни, придави ползунками и надпиши фломастером на картоне: "Жизнь и деяния Осокиной Татьяны Владимировны. Начато тогда-то... Окончено..." Да, считай, что окончено, что осталось-то?
Но нет, нет, неправда это! Жила честно, среди людей, не пряталась от трудностей, кривые тропочки не выбирала. Разве мало это, где б ни считать, что там, дома, что здесь, на другом конце Вселенной?
Татьяна почувствовала страшную усталость, как тогда, когда... С чем-то хотела сравнить она свою усталость, но не могла вспомнить, с чем. И не было даже сил огорчиться.
Все, все, что было, отдала оххрам. Может, и глупо, да такая уж, ничего не поделаешь. Была усталость, бесконечно было жаль потерянного, но было и сладостное чувство пустоты - все отдала, что могла. Память и ту подарила. А нужна ли им ее память-то? Что могла вспомнить, ерунду какую-то, у кого такого нет?
Но древний Оххр, раздавленный сухой, никчемной мудростью, с трепетным изумлением впитывал необыкновенные ее воспоминания. И не казалось им смешным, что далекие ее будничные переживания будоражили их мыслями о чем-то забытом, о чем-то, что было так не похоже на пустую печаль их существования. И не казалось им смешным, что нежность, жалость и любовь простой женщины с далекой маленькой планеты мудрее стерильной мудрости, которая душила их.
- Спасибо, Танечка, - сказал Старик.
И Татьяна лениво, сквозь усталость, подумала, что Старик сегодня не похож на себя: стал сначала звать ее без отчества, потом на "ты", а теперь вот назвал даже Танечкой. Еще бы! Поди, заслужила не только Танечку...
ГЛАВА 7
Мартыныч нашел Мюллера, когда тот неподвижно сидел на холме, закрыв глаза. Их поля коснулись друг друга в молчаливом приветствии, и Мюллер спросил:
- Значит, ты не выключил поле?
- Нет.
- Почему?
- Потому что я оказался нужен другому. Павлу. Это было очень странное чувство: я, я и никто другой, кому-то нужен. Я никогда не испытывал его. Это очень и очень странное чувство. Оно даже не сразу укладывается в сознании. Подумать только: ты - и вдруг зачем-то нужен другому. Ведь в каждом из нас есть все: и знание, и опыт, и умение. Мы, каждый из нас, знаем всё и умеем всё, зачем же нам другой? Все, что мне может сказать другой, я знаю. Все, что есть у меня, есть и у другого. Зачем же мы друг другу? Но вот оказывается, что я, кого он называет смешным и нелепым именем "Мартыныч", нужен ему. И это не слова. Не что-нибудь нужно ему от меня, а я. И это не слова. Чтобы убедить меня в этом, он взваливает себе на плечи поле, а мы знаем, что это такое, как оно пригибает несущего его к земле, давит миллионолетней мудростью и печалью. И он знал, его не раз предупреждали. И все-таки, не задумываясь, он надел на себя поле. И только потому, что я собирался выключить свое.
- Да, они странные существа, - сказал Мюллер и задумчиво почесал себе бок задней лапкой, - к ним очень трудно привыкнуть...
- Я не знаю, что происходит во мне, - продолжал Мартыныч, - но, когда я думаю о Павле, мысли мои теряют теперь свою обычную холодную текучесть, а мозг - прозрачность. У меня нарушается теплообмен, мне становится слишком жарко. Впечатление такое, что я поглощаю своим полем чересчур много энергии. Но нет, на самом деле температура нормальная...
Я анализировал себя. Логика подсказывает, что я не могу быть благодарным Павлу, ибо тот, кто помешал мне выключить поле, не сделал мне ничего, за что я должен бы быть ему благодарен. Включенное поле - это бремя, которое я устал нести. Все, что было, - будет; что будет, - было, и приходит миг, когда реки времени меняют свое направление, и истоки становятся устьями, а устья - истоками.
И все-таки я благодарен ему. И мне хочется сделать что-то, что было бы приятно Павлу. Когда он стоял около меня, я смутно улавливал своим полем его мысли. Он думал о какой-то маленькой птичке, которая влетела в форточку и смотрела на него. Мне трудно разобраться в этих образах. Что они значат? Может быть, это символы чего-то значительного? Ведь нельзя же себе представить, чтобы разумное существо, попав в другой конец Вселенной, действительно вспоминало какое-то маленькое низшее животное.
Мюллер, ты был на Земле, ты понимаешь их обычаи. Объясни мне, что значит эта птичка, влетающая в окно? Может быть, птичка - это символ, живого, проникающего в неживое? Как это случилось давным-давно у нас, когда стерлись грани между живым и неживым, подвижным и неподвижным. Как ты думаешь?
- Мне кажется, ты, скорее всего, ошибаешься. Они редко оперируют в мыслях символами. Их мышление гораздо более конкретное, чем наше.
- Значит, птичка, скорее всего, - это другая часть Павла. Помнишь, мы видели на планете нескольких разумных существ, каждое из которых состоит из нескольких отдельных и не похожих друг на друга частей?..
- Не думаю, - покачал черно-белой головой Мюллер. - Ничего похожего на Земле мы не видели. Но возможно и другое объяснение. Земляне думают не только более конкретно, чем мы. При этом мысли их часто разбредаются в стороны, случайно цепляются то за одно, то за другое...
- Как могут мысли двигаться в другом направлении, кроме того, что ты им задаешь? Разве это возможно? Хотя теперь я вспоминаю, чжо на шестьсот тринадцатой планете, помнишь, где целых семь солнц, мы видели существа, мысли которых постоянно перескакивали с предмета на предмет. Но, с другой стороны, их трудно считать действительно разумными существами, тем более что они постоянно пели и танцевали.
- Ты можешь судить сам, разумное ли существо Павел.
- Это не так просто. Действительно, его поступок по отношению ко мне трудно, строго говоря, назвать разумным. Разве это разумно, когда одно существо яростно сражается, чтобы другое не выключило поле? Мало того, что он пытался сбросить с себя тяжесть поля, он изо всех сил пытался приподнять и мое, чтобы мне было легче. Разве это разумно - разделить с кем-то бремя поля? Он был как в бреду, в мозгу его метались обрывки мыслей и образов. И - странное дело! - это, казалось бы, бессмысленное борение с полем наполняет меня благодарностью. И эта птичка, что все время оживала в вихре его мыслей... Может быть, этот образ не случаен?
- Это вполне возможно.
- Тогда я хочу принести Павлу эту птичку. Птичку и такое же существо, как он, но с длинными светлыми волосами, которые перелетают через смуглое плечо. Это, наверное, тоже случайное воспоминание. Я думаю, эти два предмета были бы ему приятны. Помоги мне изготовить птичку. В потоке воспоминаний Павла я различил лишь маленький желтый комочек с трепещущими крылышками и крохотными круглыми глазками.
- Попробуем, хотя я не изучал на Земле устройство птиц вообще и тех желтеньких, что влетают в окно, в частности. Что же касается существа с длинными светлыми волосами, то это, безусловно, Надя.
- Надя?
- Да, Надя.
- Я не узнал ее в его воспоминаниях. Был лишь взмах головы, короткий полет тяжелых светлых волос через смуглое маленькое плечо.
- Это она, я знаю. Ты можешь побыть около нее, подержать ее в своем поле и превратиться в ее копию. Не знаю, будет ли, правда, Павел рад...
- Почему?
- Не знаю... Все отношения людей так нелогичны, так запутанны...
- Александр Яковлевич, - сказал Иван Андреевич, - я доволен, что вы пришли ко мне, мне очень нужно было поговорить с вами.
- Вот и прекрасно. И я, знаете, соскучился по себе подобным. А то смотрят на тебя оххры с ожиданием, и ты должен постоянно быть мудрым. А ведь трудно быть мудрым, а? Ей-богу, трудно. Особенно когда мудрости-то кот наплакал.
- Ну, дорогой мой, что-то вы в меланхолию впали...
- Да какая ж тут меланхолия, если ничем не могу я им помочь, а они сидят, смотрят на меня и ждут, чтобы пожилой провинциальный аптекарь вдохнул жизнь в древнюю мудрую расу, которая познала суть всех вещей, кроме одной: зачем жить. Смешно, не правда ли? И специально такого парадокса не придумаешь. У меня знаете достижение всей жизни в чем?
- Нет...
- Всю жизнь эту я отдал районной аптеке.
- Не так уж и мало...
- Может быть, но не так уж и много, чтобы повести за собой цивилизацию, которая знала и умела все, когда мы, простите, еще с деревьев не слезли и наши с вами предки висели на сучьях, уцепившись хвостами, и грызлись из-за банана.
- Вы просто в самокритическом расположении духа. А я так вовсе не потрясен всемогуществом оххров.
- Как же так?
- А очень даже просто. Всесилие, я думаю, тоже слабость.
- Парадокс.
- Нисколько. Всесилие лишает тебя ощущения силы, потому что тебе не надо преодолевать себя, сравнивать свои силы с силами других.
- Гм... не знаю, никогда не был всесильным. А теперь так даже наоборот. И я как раз хотел с вами посоветоваться насчет моего решения. Я решил объявить оххрам, что ничего сделать для них не могу и слагаю, так сказать, с себя полномочия спасителя их цивилизации.
- Вы с ума сошли!
- Почему же? Разве честное признание - это акт безумия?
- Я не Татьяна Осокина и не собираюсь подтрунивать над вами, но вы, батенька, напоминаете мне иногда человека, который ходит исключительно на ходулях.
- В каком смысле?
- В самом прямом. Вы, надеюсь, знаете, что такое ходульность?
- Ловко вы повернули.
- Не будем ссориться. Я прошу вас не торопиться. Успеете еще сойти с дистанции. Придет, глядишь, второе дыхание, и всех нас вы еще позади оставите. Сказать вам откровенно? Я сам не раз в жизни испытывал острейшее желание сойти с дистанции. Ну ее, думалось, к чертовой матери, эту дистанцию, сейчас остановлюсь и лягу на травку. Вот будет славно!
Назначили меня директором школы, на что уж для постороннего спокойная работа: Волга впадает в Каспийское море, а квадрат плюс бэ квадрат, Иванов, предупреждаю в последний раз, если не исправишь двойки и не пострижешься... И ведь что интересно: был же до этого в той же школе, историю преподавал, а стал директором - и пожалуйста, совершенно другой, так сказать, ландшафт раскрылся из директорского кабинета. У этой слишком маленькая нагрузка, у той - большая. Эта заглядывает в глаза и доверительно шепчет: Иван Андреевич, я всегда видела в вас... другая испепелила бы. Физик был у нас один такой железный старичок довоенной закалки - в глаза правду-матку режет: вы, говорит, нерешительный человек. Молодой химик, наоборот, обличает: у вас авторитарные замашки. Жена - она у меня словесница - каждый день скандалы закатывает: всех подруг из-за тебя растеряла, одни подлизываются, другие разговаривать перестали.
А я один среди этой круговерти, и пожаловаться некому. Если бы там транспорт попросить надо было или рабочих для ремонта, тогда другое дело. А здесь чего просить? И у кого?
И мысль такая соблазнительная все чаще появляется: а зачем, собственно говоря, все это мне нужно? На кой, простите, пес? Как хорошо раньше было. Битва на Чудском озере, Соляной бунт, основание Петербурга, зарождение капитализма в России. Все ясно, понятно и спокойно.
И знаете, совсем уже было решил уползти с ковра, как наткнулся в одной старинной книжке на забавную цитатку, на жалобу, так сказать, начальству. Я ее почти наизусть запомнил да еще недавно перечел директору кирпичного завода, знаете его!
- Нет.
- Тоже не может, бедняга, с коллективом ужиться. Так послушайте цитатку: "Бояре меньшими людьми наряжати не могут; а меньшие их не слушают; а люди сквернословы, плохы; а пьют много и лихо; только их бог блюдет за их глупость".
Прочел я и рассмеялся. И тогда, значит, существовала проблема руководителя и коллектива. И подумал: не торопись. Великое правило. Стиснул зубы и продолжал работать. И что же вы думаете? Понемножку да полегоньку все образовалось. На пятидесятилетие мое такой мне юбилей учителя устроили, сидел - носом хлюпал, а Тоня моя ревела белугой.
А вы - не могу больше. Вам кажется, что вы не можете, а пройдет время - и сможете. Вот Татьяна Владимировна как раз другой тип - активистка. Черт те знает что там она натворила, а оххры продолжают выключать поля.
- Что делать? И у меня тоже несколько душ погасили свои огоньки...
- Так вы хоть не делали ничего, а она... - Иван Андреевич в волнении вскочил с кресла и принялся вышагивать по комнате, и высокий прозрачный стакан со множеством карандашей и ручек тихонько позвякивал, когда хозяин комнаты тяжело ступал около стола. - Она своей повышенной и неразумной активностью только ускоряет их конец! Понимаете, что это значит? Да, бывали у них случаи самоубийства и до нас, это бесспорно. В конце концов, они именно из-за этого и обратились к нам за помощью. Но количество выключивших поле увеличилось с момента нашего появления. Понимаете вы, что значат эти страшные слова? Наш Павел прочел мне целую лекцию, для чего, мол, Татьяне Владимировне нужна ваша санкция: вы привыкли к земным порядкам. А по глазам видел, что он мне еще хотел сказать: ты старый идиот и бюрократ, ты отсталый ретроград и консерватор, как ты смеешь вообще судить о нас?
- Ну, Иван Андреевич, вы уж слишком...
- Нет, нет, не слишком, не утешайте меня! Знаете, что сделал этот мальчишка?
- Нет...
- Он принял на себя поле. Мы же твердо договорились все не делать этого.
- Но зачем?
- Он утверждает, что спас таким образом одного оххра от самоубийства. Но ведь это один! А скольких он не сможет спасти из-за того, что поле делает его слишком похожим на оххров, придавливает, лишает воли? Ему кажется, что он смел и благороден, что он утер нос старому ретрограду, а по сути дела, его мальчишество может нам стоить новых выключений... Э, да что там говорить... - Иван Андреевич махнул рукой. - В одном Пухначев, безусловно, прав: мы здесь - это продолжение наших земных, так сказать, оригиналов.
Александр Яковлевич поймал себя на том, что давно уже не слушает собеседника, а старается определить закономерность, с которой позвякивает стакан на столе. Трудно, трудно разобраться, все сложно так, запутано. И в том, что говорит редактор, есть правда; и Павел наверняка навьючил на себя бремя поля не для того, чтобы утереть нос ретрограду, как утверждает Иван Андреевич, и Татьяна старается изо всех сил и не виновата, что оххры не хотят жить. И, может быть, действительно хорошо, что он сам пока ничего не делал. Обождать, осмотреться, пока не созреет в голове четкий план, а не хвататься очертя голову за первую попавшуюся идею, не торопиться.
- Я предлагаю, Александр Яковлевич, чтобы мы вместе с вами поговорили с Осокиной. Я думаю, она, в конце концов, достаточно умная женщина, чтобы понять: мы ведь не пытаемся унизить ее, а лишь помочь. Это наш долг. Наш долг - помешать ей своей неразумной суетливостью ускорить гибель еще нескольких оххров.
Может быть, это действительно наш долг, думал Александр Яковлевич. А может быть, и не так все? Чепуха! Честнее нужно быть. Хотя бы с собой. И признать, что болит у него душа, или, если быть точным, как положено провизору, копия души. Потому что хочется ему, ох, как хочется, помочь жалким этим мудрецам, а как это сделать, не знает.
Так ли поступает Татьяна, сяк ли, но что-то она хоть делает. Посмотреть бы... Да и увидеть эту воительницу было Александру Яковлевичу приятно. И упрямый ее подбородок, гордую голову с забавным курносым носиком, сжатые кулаки. Он мысленно усмехнулся. А что, может быть... Чепуха, ответил он себе, но вторая его половина тут же проворно и лукаво пропела беззвучно: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь..." Господи, только этого не хватало... -Пойдемте, я с удовольствием составлю вам компанию.
Шли они не спеша, и Александр Яковлевич не уставал поражаться странному и безостановочному кружению двух голубых солнц в оранжевом небе и быстрому скольжению теней, прыгавших вслед за ним по сухой, каменистой почве.
Все-таки поразительно, как быстро ко всему привыкаешь. Только что, только что на Земле он прислушивался с постоянной тревогой к колотью в сердце и постоянно утешал себя, что колотье в левой части - это еще не страшно, куда хуже была бы боль загрудинная... И вот он идет по чужой планете, в жарком, разреженном воздухе, и его нисколько не беспокоит, что никакого сердца у него вообще нет, нет никакой крови, а есть нечто совершенно непонятное, полуживое-полумашинное, черпающее извне самую разную энергию и не боящееся никаких хворей.
Сама ходьба была здесь делом удивительным. Александр Яковлевич не делал никаких усилий, он как бы лишь управлял самодвижущимся своим телом, был как бы его седоком. А тело двигалось замечательно: плавно, сильно, без толчков, словно безостановочно переливалось, текло.
- Если не ошибаюсь, - сказал Иван Андреевич, - границы страны Татьянии начинаются вон за тем холмиком. Я его приметил по высокому ноздреватому камню... - Иван Андреевич вдруг засмеялся.
- Что вы? - спросил его Александр Яковлевич.
- Да вот, представляете, поймал себя на мысли, что волнуюсь. А вы?
- Я? Не знаю...
Александр Яковлевич опять покривил душой. Он знал. Он тоже волновался. Как-то встретит его воительница? Не их, а его, вот что волновало старого аптекаря, потому что совершенно против его воли какой-то дурацкий ухмыляющийся голос продолжал бубнить: "каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь... И ты поешь... И ты поешь..." Чтобы заглушить этот старый мотивчик в голове, Александр Яковлевич начал было привычно подбирать приличествующую случаю цитатку, но с удивлением отметил, что ничего подходящего на ум не приходит. Гм... странно, странно... "И каждый вечер сразу станет удивительно хорош...". О господи!
Они поравнялись с высоким камнем. Он действительно был какой-то ноздреватый, как губка, и поры его, в которые не проникало голубое сияние двух солнц, источали, казалось, черную прохладу.
И тут увидели они девчушку с забавно торчащими косичками. Где она была, откуда взялась, совершенно непонятно. Пограничник с косичками. "Пионерка помогла задержать двух нарушителей границы", - прошмыгнула в голове Александра Яковлевича совершенно никчемная фраза.
- Добрый день, - сказала девчушка. - К сожалению, дальше пропустить вас не могу.
- Как это - не можете? - изумился Иван Андреевич. Он горообразно возвышался над ней и оторопело смотрел сверху вниз не жесткие косички.
Что поделаешь, подумал Александр Яковлевич, директор школы... Не привык, чтобы ему что-то запрещала какая-нибудь пятиклассница.
- Так, не могу. Мы приняли решение временно никого к нам не пропускать.
- Кто это - мы?
- Оххры Татьяны Владимировны.
- Но мы все-таки пройдем.
- Нет. Как говорит Петя, "близок локоть, да не закусишь".
- Что-о? - подпрыгнул Иван Андреевич.
Он явно не рассчитал силу прыжка и подпрыгнул самое меньшее на метр, и Александр Яковлевич рассмеялся.
- Что? - недоуменно переспросил еще раз редактор газеты.
- "Близок локоть, да не закусишь", - гордо повторила девчушка и задорно тряхнула головой, отчего косички ее, словно на пружинах, качнулись и тут же приняли прежнее положение.
Вот оно, вот когда это случилось, печально подумал Иван Андреевич. Настигло все-таки его безумие. Все вытерпел, все перенес, не дрогнул: и своего двойника, и Оххр, и тело без сердца, кишок и гипертонии, и знакомство со странной скорбной расой, - все перенес. Но всему приходит конец. Прощай, Ваня. Что ж, никто не скажет: "Какой молоденький, мог и пожить". Пятьдесят девять, вся жизнь позади.
Но и в безумии, может быть, есть своя логика, кто знает.
- А как это можно закусить локтем? - спросил Иван Андреевич. - И кто такой Петя? И надо говорить: "близок локоть, да не укусишь".
- Нет, - упрямо сказала девчушка, - надо говорить именно так. Тем более, что локти никто не кусает. Я пробовала.
- Вы... ты кусала локти? А ты знаешь, что такое кусать локти?
- Да. Я попробовала укусить его, и ничего не получилось.
- Кусают локти с досады.
- С досады? А я не досадую. С чего мне досадовать?
- Ну хорошо, девочка, а кто такой Петя?
- Петя, Петенька. Петр Данилыч. У него ладонь знаете какая? Как кресло. А губы? Поцелует - и голова сразу кружится.
- Девочка, что ты говоришь?
- Иван Андреевич, вы говорите с ней так, будто это ваша ученица, - прошептал Александр Яковлевич. - Не забывайте, что она в любую минуту может обернуться, например, в крокодила Гену.
- Нет, - сказала девчушка, - я не хочу быть крокодилом. Я буду Веркой.
- Вер-кой?
- Да, - гордо воскликнула девчушка. - Я сделаю себе коротенькую юбочку, совсем коротенькую, из коричневой выворотки, стройные ножки, я буду бегать с парнями и получать только тройки.
- Господи спаси и помилуй! - пробормотал вдруг Иван Андреевич невесть как попавшие ему, редактору газеты, на язык слова. - Это уж не Татьяна ли Владимировна понарассказывала вам про свою семейку?
- Нет, она не рассказывала.
- А как же вы познакомились с Петром Данилычем и Верой?
- Татьяна Владимировна подарила нам свою память.
- Подарила?
- Да. - Девчушка вдруг стала серьезной, и голос ее зазвучал недетской печалью. Но печаль была земной, а не печалью Оххра. - Она отдала нам свою память, и больше у нее ничего не осталось. У нее остался один Чубуков и сводки страхования, но никто из нас не хочет брать себе эти воспоминания. Они очень пресные, серые и неинтересные.
- Ну и ну! - воскликнул Иван Андреевич.
И Александр Яковлевич тоже произнес эти слова, но с другой интонацией. В его восклицании было и восхищение, и гордость за Татьяну, и жалость, и теплая, немножко стыдная мысль, что он бы с удовольствием отдал ей свою память. Хотя что осталось у него? Дочь с внучкой - и тех практически давно забыл...
- И вы согласились на это - лишать человека памяти? спросил Иван Андреевич.
- Мы не соглашались. Она не спрашивала нас. Она передала нам свою память, и у нее ничего не осталось. Кроме Чубукова. Это ее начальник.
- Это вы мне объясняете! Я прекрасно знаю Чубукова.
- Я играл с ним в преферанс, - сказал зачем-то Александр Яковлевич. - Финансист, а соображает на редкость медленно. Мука одна, когда с ним играешь. Прямо страдает человек, краснеет, бледнеет, и уши горят фиолетовым огнем. А всего-то дел - рубля на два от силы. Которые, если сегодня проиграешь, завтра выиграешь.
"Для чего я говорю всю эту чушь?" - удивлялся Александр Яковлевич, но тут же понял. Преферанс и Чубуков с его фиолетовыми ушами были вещами привычными, за которые он хватался в мире Оххра и подаренной памяти, как малыш хватается за мамину юбку. Или брюки, по нынешним временам.
- Мы все изменились. Оххры и Татьяна Владимировна. Мы, оххры... как бы это выразить вашими словами... наш горизонт немножко сузился... мы перестали проникать все время мысленным взором туда, где реки времени делают поворот... Наш мир... то, что у нас, в нас, в нашем сознании... он стал меньше, но... теплее, может быть... И мы... мы... - Девчушка крепко зажмурила глаза и сморщила лоб. - Мы даже не знаем... Там теперь не так одиноко, там Петя и Верка. Они... они все время разговаривают с нами. Это очень странно... ведь мы почти никогда не разговариваем друг с другом просто так... без цели... А Петя... он все время говорит нам какие-то необязательные слова... Но их интересно слушать. Знаете, что я вспомнила... нет, не вспомнила, а услышала, когда разговаривала с вами?
- Что? - спросил Александр Яковлевич.
- "Мо-лод-цы!" Я не знаю, кто такие молодцы, но мне почему-то было приятно услышать эти слова.
Иван Андреевич почувствовал, что что-то мешает ему смотреть на девочку, и понял, что это, наверное, слезинки, набухшие на глазах.
Может быть, он был неправ. Может быть, правы те, что меньше осторожничают и выжидают. Может быть, прав этот старый аптекарь, который хотел сойти с дистанции.
Стар стал, стар. Жизнь обогнала. А ведь и он мог дать оххрам свою память. Мог. И было бы в ней кое-что и поинтересней, чем Петр Данилыч с его перекрученными пословицами и поговорками и Верка со стройными ножками. Мог - и не дал. Не сообразил. В голову не приходило. Ждал указаний. А мимо проле-тают поезда... Павел, Пашка - сосунок, в сущности, еще, университетское молоко на губах не обсохло, а напялил на себя поле. Не думал, не размышлял, не взвешивал...
Как же жить дальше? Ведь неважно же, черт возьми, где ты живешь, в Приозерном, в Москве или на Оххре, от себя-то не ускачешь. Строил, строил, казалось - выстроил. Зла людям не делал, помогал, когда мог, не шустрил... Ну, положим, подшустривал иногда... Ведь вспомни, как Пашку отчитывал за ненаписанный фельетон, потому что Сергей Ферапонтович сказал ему и о суевериях. Суеверия! Хороши суеверия, из-за которых стоит он сейчас на неведомой планете, стоит под голубыми двумя солнцами, стоит своим двойником без внутренностей и без сердца, а сердце болит, потому что проводит он сейчас переучет душевного своего имущества и обнаруживается недостача. А мимо пролетают поезда...
- Вы сказали, - тихо произнес Александр Яковлевич, обращаясь к девчушке, словно она прислушивалась к голосу Петра Даниловича, который вполне мог бы крикнуть ей: "Молод-цы!" Вы сказали, что изменилась и Татьяна Владимировна.
- Да, - кивнула девчушка печально.
- И какая она теперь?
- Она... тихая... Она больше не кричит...
- А оххры? Я хочу спросить, выключил ли кто-нибудь из группы после этого поле?
- Нет, никто.
- Мы хотели поговорить с ней... Мы шли, чтобы ссориться с ней. И вы не пустили нас. Наверное, правильно. Но сейчас мы хотим помочь ей. Ей нужна помощь. Необходимо, чтобы она не оставалась наедине со своим Чубуковым...
Девчушка испытующе посмотрела на Александра Яковлевича, и ему почудилось, что кто-то осторожно перебирает мягкими пальцами его мысли, мягко, плавно, словно течение ручейка водоросли.
Девчушка повернулась к Ивану Андреевичу, и тот совсем по-детски недоуменно сморщил лоб.
- Хорошо, - кивнула девчушка. - Мы договорились никого не пускать в нашу группу, но мне кажется, что Петя сейчас крикнет мне: "Мо-лод-цы! Шай-бу!" - Она застыла, зажмурила глаза и через несколько секунд расплылась в улыбке. - Так и есть. Идите.
ГЛАВА 8
Тук-тук-тук-тук... Кто еще там может быть? Павел открыл дверь. В двери стояла Надя. Именно такая, какой он часто представлял себе ее: губы полуоткрыты в улыбке, в зеленых глазах маленькие темные бесенята прыгают.
- Надя?
- Как это вы меня узнали, Павел Аристархович? - Надя изумленно раскинула руки ладошками кверху. - Я уж думала, вы меня забыли...
- Нет, как же... я вас не могу забыть, - пробормотал Павел.
Удивительное дело: каждый раз, когда он разговаривал с этой девочкой, он чувствовал себя совершенно растерянным, смущался и конфузился.
- Не можете... Прямо - не можете. Так я вам и поверила! Только смеетесь надо мной...
Чуть обветренные Надины губы начали подрагивать - вот-вот рассмеется, а Павел почувствовал, что не может отвести от них взгляд. Нижняя полная губка слегка выдавалась вперед, отчего казалось, что Надя поддразнивает его.
- Надя, - сказал Павел, и голос его был совершенно чужим, непохожим, - я... рад, что вы пришли...
Привычная уже печаль, принесенная ему полем, истончалась, становилась невесомой, переставала давить на него. Только раскрыть руки и сжать ее в объятиях, спрятать лицо в овсяной копне и ощущать ее тело, прижатое к твоему... Только раскрыть руки. Она сама сделает шаг навстречу... Как она смотрит, не в глаза, а как-то между ними, в переносицу, и взгляд этот вытаивает из него печаль последних дней...
Уходит, сворачивается необъятный горизонт, открывшийся его внутреннему взору вместе с полем. Сужается безбрежный мир, в котором ты - невообразимо малая пылинка. Расплывается, уходит клочьями тумана беспощадное знание. Приглушается мерный гул рек времени. Раскрыть только руки - и запахнет прокаленным июльским солнцем песком приозерского пляжа, влажной прохладной кожей, дымком костра...
Ну же, смелее... Но Сергей... Ну и что же, он только мальчик. Пятнадцатилетний мальчик, и больше ничего. И с каких это пор в таких делах следует думать о других? Кто знает... И все-таки не раскрывались его руки, как он ни приказывал им.
- Что это вы такой...
- Какой? - спросил Павел и почувствовал, что краснеет. "Чепуха, как я могу покраснеть, - тут же подумал он, - это же невозможно..."
- Такой... глупый вид у вас. - Надя фыркнула и сразу же закусила нижней губкой верхнюю, чтобы не расхохотаться. - И почему вы на меня так смотрите?
- Как?
О боже, простонал мысленно Павел, стоило очутиться собственным двойником на Оххре, стоило получить поле и приобщиться к древней мудрости оххров, чтобы вести самый идиотский на свете разговор и мычать влюбленным кретином!
- Так... На мои губы... Как будто вы хотите меня поцеловать. Вы такой серьезный человек и Сережа... - При слове "Сережа" она вдруг недоуменно нахмурилась, потом пожала плечами. - Даже не верится, что у вас может быть такое желание. А может, я ошибаюсь?
Маленькие темные бесенята в ее зеленых глазах прыгали, подсмеивались над ним.
- Н-н-нет, - промычал Павел и зажмурился.
- Почему вы зажмурились? - Надя играла с ним в кошки-мышки и получала от игры явное удовольствие.
- Я? Зажмурился?
- А я знаю. Вы меня просто боитесь, вот и все. Струсили, чего тут говорить. А я вот - нет.
С этими словами она сделала шаг к Павлу, обняла его за шею и прижала свои губы к его губам. Они были точно такие, какими он их представлял: горячие и чуть шершавые.
Он целовал и целовал ее, пока она наконец не оттолкнула его.
- А я думала, - сказала она, - что вы тихоня, даже целоваться не умеете...
- Спасибо, что вы пришли, Надя...
- Пришла? - Надя недоуменно наморщила лоб. - Пришла? Странно! Вот вы сказали "пришла", а я даже не помню, как очутилась у вас... Помню, как мы с Сережкой разговаривали с Пингвином, Сусликом и еще двумя оххрами... Они к нам теперь все время ходят. А потом сразу у вас очутилась. Сережка меня, наверное, ищет... Ничего, поищет, - улыбнулась она и быстрым движением головы перебросила свои волосы через плечо. - А это кто у вас?
Павел повернулся и увидел маленькую желтую птицу, похожую на цыпленка. Цыпленок вошел через неплотно закрытую дверь и теперь бродил по полу, тыкал коротким клювиком. Павел машинально развернул свое поле, чтобы узнать, кто перед ним. Но поле не встретило другого поля. Перед ним был не оххр.
Птица захлопала крыльями, попыталась взлететь, но не смогла, и Павел увидел, что это скорее не цыпленок, а что-то среднее между синичкой и цыпленком. Синичка и Надя, Надя и синичка. И вдруг Павел понял. Если он не ошибся, Мартыныч должен быть где-то поблизости. Он повернул поле к Наде. Так и есть. Он коснулся поля Мартыныча. Вот тебе и Надя.
- Tы хотел сделать мне подарок? - спросил он полем.
- Да, - ответил Мартыныч. - Больше я ничего не мог сделать.
- Ты сделал мне другой подарок.
- Какой?
- То, что ты не выключил поле.
- Теперь, когда я знаю, что тебе это неприятно, я никогда не сделаю этого.
- Спасибо. А как же ты сделал Надю? - Он спохватился, что сказал это не полем, а обычно, вслух, но было уже поздно.
- Как это "сделал Надю"? - спросила Надя. - Меня никто не делал.
- Я пошел к Сергею и Наде. - Теперь это говорила уже не Надя, а Мартыныч. - К ним ходит много оххров, потому что они проповедуют любовь.
- Мы? Проповедуем? Любовь? Что это вы говорите? Не понимаю. - Надя от негодования перебросила волосы с такой силой, что они хлопнули ее по груди.
Надя снова стала Мартынычем:
- И Пингвин и Суслик рассказали, что вы очень интересно рассказываете про чувство, о котором никогда не слыхал ни один оххр. Мы много странствовали но Вселенной, особенно раньше, когда это еще было нам интересно. Мы видели разные разумные существа, разные обычаи, но ни в одной цивилизации не встречали ничего столь же абсурдного и интересного.
- Гм... смелое заявление, - пробормотал Павел.
- Я пришел к Сергею и Наде, потому что видел Надю в мыслях Павла. Я долго перебирал ее...
- Перебирал? - спросила Надя.
Светловолосая юная красавица говорила то за себя, то за Мартыныча, и Павел улыбнулся. Отличный эстрадный номер чревовещания.
- Изучал. И вот...
- Значит, я там осталась, с Сережей?
- Да, ты - точная копия.
- Копия с копии, - фыркнула Надя.
- Но копия замечательная.
- Правда? - спросила Надя.
- Ты меня не обманываешь? - спросил Мартыныч.
- Нет, я вас обоих не обманываю...
Копия с копии. Копия с копии копии. Зеркальный мир открывался перед мысленным взором Павла, зеркала, отражающиеся друг в друге и уходящие в дымку бесконечности. Мир, населенный Надями. Тысячами, миллионами Надь с теплыми шершавыми губами. О господи, что же с ней делать?
- Что вы чувствуете, Наденька? - спросил Павел.
- Ничего особенного. Я даже успокоилась теперь. Мне жалко было немножко Сережку. Он бы, глупый, с ума сошел, если бы я ушла. - Она пожала плечами. - И зря, между прочим, потому что жить с такой идиоткой... я бы точно не стала...
- Что же с вами делать?
- Ничего особенного, оставить меня...
- Как оставить?
- Так, самым обыкновенным образом. И не смотрите на меня с таким ужасом, пожалуйста, - Надя дернула головой, и волосы шмякнули ее по спине, - я вовсе не собираюсь оставаться у вас.
- Но куда вы пойдете? Не забывайте, что вы не только Надя. В вас также живет Мартыныч.
- Мартыныч? Не очень-то это прилично для чужого человека залезть...
- Но это скорее вы к нему...
- Я не просилась, это он...
- Я думаю, он примет скоро свое привычное обличье и вы просто... исчезнете...
- Я? Исчезну? Как бы не так! Нет уж, фигушки, создал он меня - пусть теперь и отвечает. Не исчезну ему назло! Нашли дурочку! Как же! Хочу домой...
- Домой?
- Ну конечно, домой. К Сереже.
- Но там же есть уже Надя. Боюсь, что двух Надь в одном месте будет многовато. С вашим характером...
- Наверное, так. Я себя действительно долго не выношу. Сумасшедшая девка, как говорит мама, - сказала Надя, успокаиваясь.
- Это вы уже кокетничаете.
- Наверное. О, у меня идея! Мартыныч, а что, если я буду жить у вас?
- У меня? - сказала Надя голосом Мартыныча. - Как это - у меня? У меня же ничего нет. У нас нет домов, потому что они нам не нужны. И потом, мы - это же...
- Как хотите, - Надя опять повысила голос, - или делитесь и родите меня, или...
- С удовольствием!
- Надо будет только предупредить Первую Надю, чтобы не было никаких недоразумений...
- Таня, - тихонько позвал Александр Яковлевич.
- Что? - не поднимая головы, спросила Татьяна. Она лежала на кровати, повернувшись к стене.
- Это я, Александр Яковлевич.
- Я узнала, - сказала Татьяна, и голос ее прозвучал тускло.
- Я все знаю... О том, что вы сделали... Отдали... Александр Яковлевич прерывисто вздохнул и продолжал: - Иван Андреевич и я... Я, конечно, слабый и никчемный старик...
- Хватит вам, Александр Яковлевич, на себя наговаривать. Слабый, никчемный... Скажете тоже! Вас вон весь город как уважает, и аптека ваша лучше, чем в области.
Татьяна прерывисто вздохнула. Она лежала, отвернувшись к стенке, со слегка подогнутыми ногами и казалась маленькой обиженной девочкой. И Александр Яковлевич вдруг почувствовал такой взрыв нежности к этому опустошенному существу, что она начала теснить грудь - вот-вот вырвется наружу. Нужно было бы, наверное, найти сейчас какие-то необыкновенные слова, чтобы передать ей эту нежность, чтобы она ощутила ее тепло, но где, где найти их? И губы его прошептали:
- Танечка!..
Ему показалось, что Танины плечи несколько раз вздрогнули. Он попытался представить себе ее одиночество, но не мог. Он не мог даже представить себе, чтобы он не помнил своей комнаты, каморки в аптеке, лица всех сотрудников, от кассирши, старушки Галины Игнатьевны, которая считает на счетах даже тогда, когда ее просят выбить пять копеек и протягивают десятикопеечную монетку, до накрахмаленной и надменной Серафимы Григорьевны, которая работает через день в оптике и смотрит на всех остальных свысока. Даже без них он не мог представить себя, а Таня отдала мужа и дочь.
Александр Яковлевич протянул руку и положил осторожно на Танино плечо. Плечо чуть заметно вздрогнуло. Боже, вдруг пронеслось у Александра Яковлевича в голове, какая у меня старая рука! Кожа сухая, морщинистая, как у ящерицы, и эти пятна пигментации. А ведь можно было сделать себе новую кожу, упругую и блестящую, надо только захотеть. Ему и в голову это даже не приходило раньше. Наверное, это и есть настоящая старость, когда тебе уже не хочется быть молодым. Но сейчас Александру Яковлевичу очень хотелось быть молодым, и он стыдился пятнистой, морщинистой руки на Танином плече.
Осторожно, бесконечно медленно он сдвинул руку и погладил замершее плечо. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется.
- Танечка, - сказал он и ощутил на губах непривычную малость и нежность имени, - я знаю, вы отдали самое дорогое, что у вас было. Если бы у меня были самые лучшие в мире воспоминания, я бы обязательно поделился ими с вами, я бы с радостью отдал их вам...
Но что ей сказать? В голову, как назло, лезла всяческая чепуха вроде того, что в аптеке практически нет подсобных помещений и, когда привозят тюки с ватой, повернуться совершенно невозможно. Или что не очень давно он получил взятку. Привез одной старушке из области новое венгерское лекарство от паркинсоновской болезни, и ее сын презентовал ему индийский чай в большой жестянке, на которой был изображен Тадж-Махал. Конечно, надо было жестянку вернуть, но благодарили его с такой искренностью, хотя никакое лекарство, по всей видимости, старушке уже не поможет, и так он любил чай, что оставил жестянку у себя.
Ну что он за человек, что у него за жизнь, если нечего вспомнить и нечем поделиться! Даже дочь и внучку не смог удержать он. Ни в жизни, ни в памяти. Отдалились, ушли, по два письма в год в полстранички - все, что осталось... Прошла, прошелестела жизнь незаметно. И вот сидит он на кровати у женщины, скорбно отвернувшейся к стене, и беспомощно поглаживает ей плечо своей старой, морщинистой рукой с некрасивыми пятнами пигментации.
А может быть, не так уж и незаметно? Ведь честно жил, чисто, для людей, ничего не нажил - все на виду, без забора... И вот теперь, в самом уже конце, наградила его за что-то судьба зарядом нежности, что распирает его изнутри, тянется к Татьяне. А может, и действительно не так уж он ничтожен, каким привык считать себя? Ну, не был он героем, но не всем же быть героями, кому-то и в аптеке работать надо...
В дверь тихонько постучали, и в комнату вошел Старик. Он кивнул Александру Яковлевичу и сказал Татьяне Владимировне:
- Впервые за долгое-долгое время мы решили сложить нового оххра. В вашу честь. Вас ждут. Татьяна...
- Как это - сложить нового оххра? - удивился Александр Яковлевич.
- У вас дети рождаются, у нас по-другому. Когда мы чувствуем, что нам нужны новые оххры, мы собираемся по двадцать -тридцать оххров вместе. К этому времени на преобразователе уже изготовлен прообраз будущего оххра. Это еще не оххр, это лишь его тело. Дальнейшее вы сейчас увидите. Пойдемте, Татьяна, - мягко и настойчиво сказал он.
- Хорошо, - вдруг сказала Татьяна и села. Лицо ее осунулось и глаза были пусты.
Они вышли на улицу.
- Начнем, - тихо сказал Старик и встал в круг, образованный оххрами.
В центре круга на земле лежал похожий на плоский камень предмет. Старик почувствовал, как напрягаются поля его друзей, и сам сосредоточил свои усилия на центре круга. Поля напряглись, как струны, и тихо вибрировали. Гудение становилось все громче и громче, пока не превратилось в музыку. Пора было отдавать частицу себя. Музыка набирала силу, росла, и в такт ей поля собравшихся в круг несли жизнь тому, кто еще не начал мыслить.
Давно уже не собирались в круг оххры. Зачем давать жизнь кому-то, когда и своя давно уже потеряла смысл? Больше оххром, меньше - какое это имело значение? Реки времени неудержимы, и всё, кроме них, - призрак.
Но теперь появилась надежда, и собравшиеся в круг в едином мощном усилии оторвали от своих полей частицу и отдали тому, кто еще не начал мыслить.
И предмет в центре шевельнулся, и все в круге почувствовали рождение нового оххра.
В этот момент к Татьяне Владимировне подошла тихонько девчушка с двумя торчащими косичками и сказала:
- Новый преобразователь заметил появление постороннего предмета вблизи Оххра. Предмет замедляет скорость полета, это скорей всего корабль...
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА 1
Лик увидел ее в первый раз за месяц до своей очередной метаморфозы. Она медленно опускалась по стене дома. Может быть, Лик и не обратил бы на нее внимания - мало ли кто спускается или поднимается по стене, - но она делала такие мелкие пугливые шажочки, так неуверенно замирала перед каждой щелью в камне, что он остановился и стал смотреть на незнакомую асу. Аса в конце концов все-таки спустилась на тротуар, по очереди почистила каждую из четырех своих ножек и собралась было уже идти, но заметила, что на нее смотрят.
- Почему вы на меня так смотрите? - спросила она Лика. Это нехорошо, это невежливо.
- Почему невежливо? - спросил Лик.
Странная какая-то аса, подумал он. Гм! Невежливо, скажите пожалуйста!.. Манеры - словно из какого-нибудь пятого сектора, а у самой на шее знак девятого сектора, всего на сектор выше, чем у него.
- Потому что смотреть на незнакомого аса, не будучи представленным, невежливо, - рассудительно сказала аса. Разве вы не знали этого?
- Слышал, - буркнул Лик.
Конечно, в школе им говорили об этом, но кто в десятом секторе думал о хороших манерах?
- Разрешите, пожалуйста, я пройду, - сказала аса и посмотрела на Лика.
Передние глаза у нее были большие, влажные, и Лику показалось, что она задержала взгляд на нем дольше, чем нужно было.
- А вы здесь живете? - спросил он. Почему-то ему не хотелось, чтобы эта чистенькая, стройная аса с забавным разговором ушла просто так.
Аса опустила свою крошечную головку и тихо прошептала:
- Да. Нас только что перевели в девятый сектор. Но раньше мы были в восьмом. Папа надеялся, что в очередную метаморфозу его переведут в седьмой, а получилось... - она глубоко вздохнула, - а получилось совсем наоборот...
- А чего, - сказал Лик, - девятый сектор ничего. Мы вот десятый и тоже живы. - Это были слова матери, и Лик подумал, что даже произнес их с той же интонацией, что мать,
- Десятый? - спросила аса и посмотрела на кольцо со знаком на шее Лика. - А я даже не знала, что этот фиолетовый цвет означает десятый сектор.
- Неужели никогда не видели? - насмешливо спросил Лик.
Тоненькая аса вызывала в нем одновременно и желание позлить ее, и стремление защитить. Ножки как проволочки, прямо покачивается на них от ветерка. Как она на них но стене лазит...
- Нет, - покачала головкой аса, нашем секторе иико гда не было асов десятого сектора... Она это и печально вздохнула. - Я сказала "в нашем", потому что никак еще не могу привыкнуть, что мы живем теперь в девятом секторе. Тут даже стены другие. Я, знаете, думала, что никогда не сползу вниз, такие ужасные трещины в камне. У нас в восьмом секторе камень на стенах гладкий... Вот видите, опять я сказала "у нас в восьмом секторе"... Никак не привыкну. А мама уже третий день ничего не ест, все молчит. Я сначала думала. что это из-за нового, непривычного рациона, а потом поняла: она расстроена. А Нана говорит, что при очередной метаморфозе его обязательно вернут в восьмой сектор или даже сразу переведут в седьмой. Нана говорит, что такие случаи бывали, когда машина, да будет благословенно ее имя. переводила сразу через сектор. Вы слышали об этом? Она доверчиво посмотрела на Лика своими большущими передними глазами.
- Прямо! Так она возьмет и перейдет через сектор! Жди такого от машины!
- Ой! - испуганно пискнула аса. - Разве можно так?
- Чего можно? - спросил Лик.
- Когда упоминаешь машину, надо обязательно говорить: "да будет благословенно имя ее". Вас разве не учили?
- Мало ли чему учили! - Лик презрительно фыркнул. - Чего там...
- Надо говорить не "чего", а "что", назидательно сказала аса. - Вы так говорите, будто не хотите подняться в следующий сектор.
Аса снова принялась чистить ножки, потирая их одну о другую. Она посмотрела на шейное кольцо Лика, потом подняла взгляд, и Лика снова поразило влажное мерцание ее передних глаз. И тут то он брякнул фразу, которую вовсе не собирался произносить. У него и в голове такого никогда не было, даже во сне не видел. А тут вдруг возьми да и скажи фразу, которая. как он потом понял, перевернула всю его жизнь.
- Чего мне секторы, - выпалил он и раздул шею так, что кольцо со знаком врезалось в нее, - я буду программистом! Да, а может быть, даже великим программистом! Или смотрителем.
- Ой, - пискнула аса, - я никогда не видела живого программиста!.. - Она подумала немножко и протянула Лику руку; рука была такая же тоненькая, как и ножки. Меня зовут Чуна. А то мы так долго разговариваем, а разговаривать с незнакомыми нехорошо, это невежливо. А вас как зовут?
- Лик.
Он усмехнулся мысленно. У них в секторе не было ни одной такой воспитанной асы. От другой еды они там, что ли, другие? Он слышал, что в каждом секторе полагается особая еда, но даже не представлял, какая еще может быть еда, кроме того рациона, к которому привык в своем десятом секторе.
Он посмотрел на Чуну. Наверняка будут над ней смеяться. Ну, пусть только попробуют, он им покажет, ноги повыдирает...
И тут он сказал вторую фразу, которая тоже в огромной степени предопределила его судьбу. Тогда, разумеется, он этого не знал. Он просто сказал то, что ему захотелось сказать. А захотелось ему сказать вот что:
- А знаешь, Чуна, давай... встречаться...
Чуна кокетливо склонила головку набок.
- Я не знаю, - протянула она.
- А кто же знает? - настойчиво спросил Лик. - Машина, может, знает?
Он произнес последнюю фразу насмешливо. Он не хотел злить Чуну, он просто забыл про ее воспитанность. Она опять вздрогнула, слабо улыбнулась и прошептала:
- Да будет благословенно имя ее... Знаете, - добавила она и серьезно посмотрела на Лика, - если вы не возражаете, я буду говорить это каждый раз, когда вы упомянете ее. Хорошо? Так мне как-то спокойнее.
- Значит, будем встречаться? - спросил Лик и подумал, что говорит как-то грубо и неинтересно.
Надо было бы пошутить, быть уверенным, легким, обаятельным, а он заладил одно и то же: будем встречаться, будем встречаться. Прямо как какой-нибудь булл из пятнадцатого сектора, который, как известно, и говорить-то толком не умеет, а только мычит.
- Я бы с удовольствием встречалась с вами, - улыбнулась Чуна, - но... я не знаю, вы ведь из десятого сектора, а я из девятого... Мама говорила, что встречаться с асами из другого сектора нехорошо, невежливо. Что это значит ставить под сомнение мудрость машины, да будет благословенно имя ее, которая дает всем нам заслуженный нами сектор.
- Но ведь девятый и десятый секторы совсем близко друг от друга, - настаивал Лик. Он сам не понимал, почему уговаривает эту тонконогую асу, вместо того чтобы быстро взбежать вверх по ближайшей стене и бросить в нее куском штукатурки. - Вон мой дом, он даже виден отсюда.
- Я спрошу у мамы, - сказала Чуна неуверенно.
- И потом, я буду программистом! Или главным смотрителем. А главному смотрителю плевать на все секторы, потому что он вхож к самой машине!
- Да будет благословенно имя ее, - вздохнула Чуна.
- Так будем встречаться?
- Вы мне нравитесь, - сказала Чуна. - И я никогда не видела аса, который собирался бы стать программистом или смотрителем. До свидания, Лик.
Она быстро скользнула за угол, а Лик остался стоять. Он еще долго стоял у старого дома на углу между девятым и десятым секторами. Никогда еще в жизни не чувствовал он себя так странно: ему было и весело, и грустно, и сжималось отчего-то сердце.
- Мам, - сказал он через несколько дней после встречи, а могут встречаться асы из разных секторов?
Мать отодвинула доску, на которой мелко резала травы, чтобы высушить потом их, подняла медленно голову и посмотрела на сына. Передние ее глаза были совсем не такие, как у Чуны. У Чуны они были большие и влажные, словно только что умытые, а у матери совсем сухие.
- А что?
- Да так...
- Врешь, - уверенно сказала мать.
- Да почему...
- Да потому, что врешь. Ты всегда врешь. Хорошо еще, что машине не врал, а то б сейчас сам знаешь кем был...
Лик содрогнулся. Если ас пытался врать машине, то при очередной метаморфозе ему предписывался рацион пятнадцатого сектора. Чем уж там их кормят, не знал никто, но только они быстро превращались в буллов, животных, которые только то и могут, что мычать да делать самую простую и грязную работу. Нет, лучше не врать машине, да будет благословенно имя ее.
- Ну, что молчишь? - спросила мать. - Опять какую-нибудь глупость в голову свою вбил непутевую? А? У других дети как дети, учатся, стараются, а у тебя на носу метаморфоза, а ты шляешься по стенам, засматриваешь в чужие окна и задаешь всякие глупые вопросы.
- Почему глупые?
- Вот-вот. Почему, видите ли, глупые! Да потому, что любой ас знает: встречаться полагается только с асами своего сектора.
- А почему?
- Ты что, окончательно спятил? "Почему, почему"! Заладил, как мычащий из пятнадцатого сектора. Почему? Да потому, что так заведено, понял? Машина так устроила, да будет благословенно имя ее! Одни - хозяева, владеют всякими там предприятиями, живут в высоких секторах, а возьми, например, твоего отца. Ты что думаешь, он большего заслуживает, чем десятый сектор? Скажи машине спасибо, что у нас и это есть, - она обвела рукой крохотную комнатку. - А то при очередной метаморфозе загремим в одиннадцатый или, упаси нас, машина, от этого, и в двенадцатый!
- Да ладно тебе беду накликать! - буркнул Лик.
Всегда так. Придет домой, принесет с собой что-то новое в сердце ли, в голове, а мать сразу все перевернет. Ишь, выкатила передние глаза, сухие, злые. Век бы ее не видеть...
- Ты куда? - взвизгнула мать. - Метаморфоза на носу, а ты опять шататься? Сел бы лучше...
Конца фразы Лик не слышал, потому что выскользнул из окна и побежал вниз по стене. А вон вдали виден дом, где живет Чуна. Чуна. Он вспомнил, как забавно она спускалась вниз: ножки тонкие, подрагивают. Останавливается перед каждой трещинкой, ощупывает края. Смешная...
И вдруг в голову ему пришла необыкновенная мысль: а что, если спросить машину, можно ли ему встречаться с Чуной? Машина же, да будет благословенно имя ее, все знает. Она знает, что девятый и десятый секторы рядом, она знает, что он никогда ей не врал, что... Он задумался, но больше никаких достоинств за собой вспомнить не мог. Разве то, что никогда никого не боялся и не спускал ни одному асу насмешек, которые были в ходу среди его товарищей. И все равно машина разрешит. Он положит руки на контакты, как всегда делают при метаморфозе, и машина, да будет благословенно имя ее, сразу определит, что у него к Чуне только хорошее в сердце. И он будет стараться. Машина точно узнает, что он будет стараться. И, может быть, не только разрешит ему встречаться с Чуной, но и переведет его родителей в девятый сектор.
Он понимал, что в голову ему лезет всякая глупость, что никогда еще не было такого случая, чтобы родителей переводили в другой сектор из-за успехов их детей в школе. Но остановиться уже не мог. Вот он небрежно так влезает в окно. Мать, как обычно, молча толкает в его сторону тарелку с какой-нибудь бурдой, а он обводит глазами их крохотную каморку и говорит: "Пора расставаться с этой дырой. Не дом, а наказание! Пока влезешь, пять раз ноги переломаешь". - "Тише ты! - зашипит мать. - Ты что, рехнулся, что ли? Отца разбудишь, а он после работы..." - "Ничего, - улыбнется Лик, - проснется так проснется. Тем лучше даже, потому что пора менять его дурацкую работу - таскайся целый день да проверяй кабели чьей-нибудь компании".- "Спятил!" - взвизгнет мать. А он пожмет плечами: "Да, забыл сказать, только что меня перевели сразу в восьмой сектор. И вас заодно".
Он спрыгнул со стены и помчался к ближайшему храму контакта, который был расположен напротив Чуниного дома. Он влетел в прохладный тихий зал и остановился. После уличного света ему показалось, что здесь совсем темно, и он даже открыл боковые глаза, которые обычно держал закрытыми. Но вот он адаптировался к слабому освещению и огляделся. Две из трех кабин были свободны, а в третьей сидела совсем старая и скрюченная аса. Нетрудно было представить, что она просила у машины, да будет благословенно имя ее.
На мгновение сердце его сжали дурные предчувствия, но он постарался выкинуть их из головы. Ни в какой, конечно, сектор, его не переведут, но почему машина может запретить ему встречаться с Чуной? Кому от этого вред?
Только совсем недавно встретил ее, а, кажется, всегда она была. Ножки тоненькие, покачиваются. А глазки большие, влажные. "Это нехорошо, это невежливо". Чуна... Чуна. Имя было такое же аккуратное, как и она сама... А может быть, все-таки лучше не спрашивать? Встречаться просто так, ведь до метаморфозы целый месяц, а там видно будет. Но он был уверен, что Чунина мать ни в коем случае не разрешит им встречаться, а сама Чуна мать не ослушается. Что же делать?
Скрюченная аса тихонько застонала. Красный огонек на пульте погас, а она продолжала стонать, жалобно, как маленький опослик, выброшенный кем-нибудь на улицу.
Может быть, все-таки не идти? Вон старуха стонет, - видно, отказала ей в чем-то машина, да будет благословенно имя ее. Так то ж совсем старая аса, сказал себе Лик, чего ей давать, ей и так жить мало осталось, а он молод, полон сил. В будущем году он окончит школу, и тогда... Он тряхнул головой, зажмурил все четыре глаза и шагнул в кабинку.
"Перед тем как обращаться к машине, - начал читать он инструкцию, - внимательно прочтите инструкцию. Для достижения контакта нажмите большую красную кнопку на пульте перед собой. Если на панели загорается красная лампочка, значит, контакт установлен. Возьмите контактный ключ на проводе и прикоснитесь им к отличительному знаку на своей шее. Если зажжется зеленая лампочка, можете излагать свою просьбу. Говорите четко и ясно. Ответ прочтете на экране, что находится напротив вас".
С бьющимся сердцем, словно в трансе, Лик выполнил все предписания инструкции. Зажглась зеленая лампочка, и нежный голос, чем-то неуловимо похожий на голос Чуны, спросил:
- Чего ты хочешь, Лик Карк?
- Я прошу разрешения встречаться с асой по имени Чуна. Он вдруг сообразил, что не знает даже фамилии Чуны, но, наверное, машина знает, она все знает, да будет благословенно имя ее. - Она из девятого сектора, а я из... - если бы только можно было сказать: "я тоже из девятого", но машину обманывать нельзя. - А я, - твердо сказал он, - из десятого.
Он взглянул на экран. Сейчас он вспыхнет. Чего там будет написано? Наверное, так: "Лик, можешь встречаться". Или: "Встречайся, пожалуйста". Машина же добрая, что она может иметь против них?
- Ты говорил, что будешь программистом? - вдруг спросил тот же нежный голос, что напоминал ему голос Чуны, но звучал он теперь уже не так, как при первом вопросе.
- Да... но я...
- Тебя учили, что ни один ас никогда не может знать, кем он будет, потому что это знает только машина?
- Да, - совсем тихо прошептал Лик, - но я...
- Что ты хочешь сказать?
- Я сказал просто так... Я не знаю...
- Хорошо, Лик Карк. Прочти ответ на экране.
И в эту же секунду экран серебристо засверкал, и на нем появились четкие черные буквы: "Встречи не разрешаются".
Лик несколько раз моргнул передними глазами, чуть повернул голову, чтоб экран попал в поле зрения бокового глаза. Не может этого быть. Как это - не разрешается? Почему? Этого же не может быть! Как же теперь без Чуны? Тоненькие ножки, которые она постоянно чистит одну о другую. Влажные большие глазки. "Нет, Лик, это нехорошо, это невежливо".
В нем поднималась слепая ярость, которая всегда охватывала его, когда ему казалось, что товарищи подтрунивают над ним. Как это - не разрешается?
Зеленый огонек на панели погас, потемнел экран, выключилась красная лампочка. Лик знал, что нужно встать и выйти, но не мог. Из соседней кабины донеслись жалобные стенания старухи. Как голодный маленький опослик, пронеслось в голове у Лика. Значит, ему нельзя встречаться с Чуной, нельзя! Не понимая, что делает, он схватил контактный ключ и изо всех сил ударил по серевшему в полумраке кабины экрану. Посыпались осколки стекла и где-то тоненько задребезжал звонок. Старуха в соседней кабине перестала стонать.
Звонок дребезжал теперь уже громоподобно. Казалось, вотвот лопнут уши от нестерпимого шума, но и сквозь него Лик услышал топот множества ног. А может быть, ему показалось, но прислушиваться было некогда. Он выскочил из кабины с бешено колотящимся сердцем. Бежать в дверь было безумием: туда сейчас ворвутся стерегущие, схватят его.
Он стремительно помчался вверх по стене, больно ударился головой о какой-то выступ, замер. В дверь вбежало несколько асов. Даже в полумраке зала мерцали их красные шейные знаки. Шестой сектор. Стерегущие.
- Кто это сделал? - закричал один из них. - Ты? - Он вытащил одним рывком старуху из кабины. Одна нога у нее была высохшая и шея с фиолетовым знаком десятого сектора, сектора Лика, была кривая.
- Не-ет! - завизжала старуха.
- Как - нет? - грохотал стерегущий. - Как же нет, когда ты сидела без всякого контакта?
- Я ничего не знаю, я просила машину, да будет благословенно имя ее, чтобы она разрешила мне умереть, но получила отказ. Я сидела в горе и не могла встать...
- Что-то ты, старуха, юлишь, - подозрительно сказал второй стерегущий, огромного роста ас с могучей толстой шеей. Как это так: машина, да будет благословенно имя ее, не велела тебе, значит, сковыриваться до срока, а ты сидела в горе? - Он фыркнул. - Врешь ты все, старая. Зачем экран разбила?
- Но я же сидела в этой кабине, - жалобно заскулила старуха, - вы ж можете проверить! Зачем же мне нужно было бы бежать в другую кабину и чего-то там делать?
Старуха неловко согнула здоровую переднюю ногу и грузно рухнула на пол. Великан-стерегущий нерешительно почесал голову, осторожно пнул ногой простертое тело:
- Ладно, проверим. Мы вообще проверим, чего это ты о смерти просила, ясно? - Он засмеялся. - Если все начнут машину о таких пустяках просить, это представляешь, какая очередища вытянется?
- Ладно болтать! - угрюмо буркнул первый стерегущий.- Тебе бы только зубы скалить. Послушай, старая, а кто еще был, кроме тебя, в помещении?
- Откуда я знаю? Я вам говорила. Я сидела в своей кабине и просила, чтобы мне разрешили умереть, сил больше нет...
- Ладно болтать! Сил, видишь ли, нет. Вставай, мы тебя забираем...
- За что, господа стерегущие?
- Там разберутся.
- Я ж вам честно говорю, я...
- Все вы так! - фыркнул великан. - Сама, говоришь, ордер на смерть просила, а теперь боишься, что тебя арестовывают. Вставай, вставай! Ишь, развалилась!
Он поддел одной ногой старую асу и быстрым, неуловимым движением подбросил ее в воздух. Старуха испуганно пискнула, но он поймал ее и поставил на ноги.
- Пошли.
Стерегущие еще раз осмотрели зал. Боковые глаза у них были открыты, и головы их от этого казались прозрачными в полумраке.
Они вышли, и Лик хотел было броситься вниз, к выходу, но страх сковал его. Конечно, можно было бы успеть сейчас выскочить, пока не пришли другие стерегущие, но его наверняка узнают. Ведь машина-то точно знает, кто совершил величайшее преступление на Онире - поднял руку против машины, да будет благословенно имя ее. Вот тебе и благословенно. Заклинание звучало сейчас насмешкой. Если бы он мог, как старуха, стремиться к смерти... Он бы тогда не стал спрашивать разрешения. Он бы распустил тогда присоски на ногах и рухнул вниз, на каменный пол зала.
Он посмотрел вниз. Пол был далеко, и Лик представил, как лежит внизу с размозженной головой, со сломанными, вывернутыми в суставах ногами. И никто даже не пожалеет его. Кому он вообще нужен? Никому. Уж подавно ни отцу, ни матери. Он им и живой не нужен, а уж о мертвом и подавно не вспомнят. Чуна... Чуна... И вдруг остренькая, колючая мысль кольнула его. Мвшина знала о том, что он хотел стать программистом. Но он же никому никогда не говорил об этом, кроме Чуны. Значит, она предала его. Он же знает, что никто на Онире не имеет нрава хотеть. Хотеть может только машина. Только она может хотеть, одна за всех асов, за мать, отца, Лика, Чуну. Предала, предала... А может, сказала своей матери? Ну и что? То же самое предательство. Теперь он был уже совсем один в холодном и враждебном мире, совсем один.
И таким он показался себе маленьким и заброшенным, что вдруг в малую долю секунды понял кривую старуху, что молила машину о смерти. Как хорошо было бы умереть! И пусть его никто не вспоминает, кому он нужен? Он зажмурил глаза. Сейчас он отпустит присоски на всех четырех ногах и рухнет вниз, и серый холодный пол прыгнет навстречу ему. Ну, чего ж он не падает? Но он не мог упасть, потому что разжать присоски было свыше его сил.
Но так или иначе, сидеть па карнизе здания и ожидать, пока тебя найдут стерегущие, было глупо. Лик прислушался. Тихо как будто. Он уже напряг было мышцы, как услышал жужжание платформы. Жужжание стало громче и вдруг стихло у самой двери. Должно быть, платформа остановилась.
Сейчас войдут. Лик спрыгнул на пол, бросился к выходу и угодил прямо в великана-стерегущего, который уже был здесь.
- Ты что здесь делаешь? - спросил подозрительно великан.
- Я? Да вот услышал, здесь что-то произошло, вот и заглянул...
- Когда это ты услышал? От кого? - быстро спросил стерегущий. - Ну-ка, отвечай. Отвечай, я тебе говорю! - повысил он голос.
Смертный ужас объял Лика. Не понимая, что говорит, он забормотал:
- Господин стерегущий, я проходил по улице, дверь была открыта, я услышал голоса, старушечий голос и еще мужские. Они ссорились...
- Ссорились...
- Они ссорились. Я побежал в лавку, меня мать послала. А на обратном пути снова проходил мимо. Смотрю - никого... Вот я и зашел. Пустите меня, господин стерегущий.
- Помолчи. Пожалуйста, вот в этой кабине, - кивнул он двум асам с белыми знаками пятого сектора на шеях, - надо заменить экран.
- Хорошо, сейчас сделаем, стерегущий, - сказал старший из асов.
- Так, парень, значит, ты шел из лавки?
- Да, господин стерегущий.
- За чем же ты ходил?
- За... рационом.
- Где же он? Ага, молчишь? Думаешь, я ничего не понимаю? Я сразу понял, что ты врешь. Ну-ка, посмотрим сейчас на номер и портрет этого типа, что был в первой кабине. Сдается мне, что...
- Пустите, пожалуйста, меня мама ждет! - жалобно взмолился Лик.
- Подождет.
- Пустите меня, я вас очень прошу...
Но стерегущий не обращал на мольбы Лика никакого внимания. Он втащил его в кабину, надавил на кнопку контакта и проговорил:
- Покажите, пожалуйста, портрет аса, который обращался к машине, да будет благословенно имя ее, перед тем как был разбит экран.
Сейчас покажется его лицо. Стерегущий наклонился вперед, всматриваясь в еще не вспыхнувший экран, и Лик машинально одной рукой толкнул его в спину, а ту, что держал стерегущий, резко выдернул. Стерегущий весил, наверное, раза в три больше Лика, но он меньше всего ожидал сопротивления. Никто на Онире давно уже не сопротивлялся власти, и асы смотрели на стерегущих с трепетом и почтением.
- Ах ты негодяй! - заревел стерегущий.
Но Лик уже выскочил на улицу. Стерегущий был намного сильнее его, но никто не мог сравниться с Ликом в скорости.
Он юркнул за угол, проскочил прямо перед носом грузовой платформы, влетел в какой-то двор и помчался вверх по стене. Мимо проносились окна, а Лик все мчался сквозь чужие запахи, обрывки разговоров и музыки. Карниз крыши горизонтально выдавался в сторону, и Лик, уцепившись за него двумя ногами, вдруг почувствовал, что другие две ноги потеряли опору. Он висел, раскачиваясь, на огромной высоте, и смертное томление охватило его. Еще несколько секунд - и мышцы его не выдержат, расслабятся против его воли, и он рухнет вниз, снова пронесется мимо чужих окон, все быстрее и быстрее, пока не шмякнется о серый асфальт внизу. Нет, нет! Судорожным усилием он подтянулся и перевалился через край. Сердце его колотилось, ноги дрожали. Он отполз от края крыши и бессильно привалился к антенне.
ГЛАВА 2
Наступил вечер, а вместе с ним пришли и сырые, холодные ветры, которые всегда дуют по вечерам на Онире. Они мчались по пустым улицам, с злобным посвистом кружили обрывки бумаги, вздымали тучи пыли.
Лик сидел на чердаке. Здесь было не так ветрено, но все равно сквозняки гуляли по пыльному низкому помещению, и холод все больше сковывал его тело.
Удивительное дело, только что, совсем недавно, поднял он в слепой ярости контактный ключ и изо всех сил ударил по экрану, а кажется, что было это бесконечно давно, что бесконечно давно сидит он на промозглом, холодном чердаке, сидит в темноте, один, никому на всем свете не нужный. Может, только стерегущим, которые, наверное, все еще ищут его.
Хотелось есть. Лик представил себе полную горячего рациона тарелку, в который мать добавляла вкусную сушеную траву. Нет, нет, только не думать о еде. И все равно мысли о пище снова и снова приходили ему в голову, и спазмы в животе становились все мучительнее.
Внезапно Лик услышал какой-то слабый шорох. Он напрягся, готовясь к бегству. Шорох все приближался. Не похоже, чтобы это был ас, подумал Лик и в ту же секунду услышал жалобное повизгивание. Опослик коснулся одной из его ног и стал тереться о нее.
Такой же бездомный, как я, подумал Лик и поднял опослика. Опослик был худ и почти ничего не весил. Лик посадил его себе на грудь, и опослик, перебирая всеми своими шестью лапками, пополз вверх и лизнул его в шею. Его тонкий раздвоенный язычок был мокрый и холодный, и Лик вздрогнул.
Посвист ветра на улице начал стихать. Теперь до рассвета дуть больше не будет. Что же делать? Сидеть здесь и ждать, пока замерзнешь или умрешь с голоду? А что, интересно, случилось бы потом? Вот его находят стерегущие. "Смотрите, говорит тот здоровяк, - да это же Лик Карк, тот, что разбил экран. Совсем мертвый. О милосердная машина, он же ничего не весит. Высох совершенно..." Нет, пожалуй, он раньше замерзнет. Окоченеет, отвердеет, и даже чердачные опослики будут пугаться странного неподвижного аса...
Но пока что было холодно. Холод проникал до самых глубин его тела и заставлял мелко дрожать. Что угодно, только не сидеть здесь. Лик снял с себя опослика, и тот обиженно заверещал. Что делать, зверек, прости меня, ничем не могу тебе помочь, я такой же, как ты.
Лик попробовал присесть несколько раз, чтобы убедиться, держат ли его еще ноги, и начал осторожно пробираться к выходу на крыше. Он не ошибся: ветер уже улегся, и было совсем тихо.
Интересно, устроили ли стерегущие засаду дома? Конечно, скорее всего его уже давно там поджидают, да что ему там делать? Мать сама выгнала бы его на улицу, узнай она, что он совершил куда менее серьезное преступление.
Он бесшумно бежал по крышам, освещенным тремя лунами Онира, бежал быстро, чтобы хоть немножко согреться. Ему казалось, что он бежит просто так, но вдруг он понял, что находится на крыше дома Чуны. Интересно, спит ли уже она?
Он выполз на стену. Она была в густой черной тени, и лишь несколько окон ярко светились. Он подкрался к первому освещенному окну и услышал мужской голос:
- Если ты мне еще раз скажешь, что рациона тебе мало, я у тебя, подлеца, все ноги повыдергаю, понял?
"Наверное, отец сыну", - подумал Лик.
- Но я хочу есть, - жалобно заскулил детский голос.
- Тише, - зашипел женский голос, - еще соседи услышат! Представляешь, что о нас подумает машина, да будет благословенно имя ее, если нам не хватает рациона, заработанного для нас ею в ее бесконечном милосердии...
Везде одно и то же, подумал Лик. Грызутся и ругаются, трясутся перед машиной и дрожат за свои секторы... Еще одно освещенное окно. Он услышал тонкий голосок Чуны, и сердце его забилось.
- Не верю я, чтобы он разбил экран, - сказала Чуна, - Он такой хороший...
- Хороший! - иронически повторил женский голос. Должно быть, ее мать. - Как он может быть хорошим, если он сказал, что хочет быть программистом? Я уж не говорю о том, что этот маленький грязный звереныш и программист - совершенно несовместимые понятия. Самое отвратительное то, что он хочет, понимаешь - хочет! Подумай только о непристойности и бесстыдстве любого желания, как будто у нас нет машины, да будет благословенно имя ее, которая в своем бесконечном милосердии рассчитывает, что каждому из нас лучше всего. Как будто он может лучше знать, что ему больше всего подходит. Нет, Чуна, я нисколько не удивлена случившимся. От человека, который хочет, можно ожидать всего. Ты согласна?
- Я не знаю, мама. Я знаю, что мне грустно и я все время думаю о нем. Где он сейчас?
- Где он может быть? У стерегущих, где же он еще может быть? Давай-ка, кстати, послушаем машинные новости, мы и так пропустили начало.
Послышался щелчок, и машинный голос торжественно сказал:
- Лик Карк, ас десятого сектора, разбивший вчера экран в храме контакта между девятым и десятым секторами, задержан нашими бдительными стерегущими. Как и всегда, им понадобилось всего несколько часов, чтобы задержать опасного преступника...
- Видишь? - сказал женский голос, приглушив машинные новости. - Я ж тебе говорила...
- И что же с ним будет?
- Не знаю, но думаю, что в очередную метаморфозу его сделают буллом и переведут в пятнадцатый сектор.
- Но это же ужасно, мама! Буллы такие страшные... они же животные...
- А разбить экран не страшно? А хотеть не страшно? Ты только представь на секундочку, что стало бы с Ониром, если бы каждый стал хотеть! Один хочет того, другой этого, третий еще чего-нибудь. Это же был бы хаос, страшный мир, в котором нельзя было бы жить. Все довольство, все счастье исчезло бы в этом безумстве всеобщего желания! Подумай сама, ты же у меня умная асочка, может ас быть счастливым, если он чегонибудь хочет? Ведь хотеть можно только того, чего у тебя нет, а это значит, что ты несчастен. Вот нас перевели из восьмого сектора в девятый. Ты, может быть, думаешь, что папа и я очень хотим вернуться обратно? Ничего подобного. Раз машина, да будет благословенно имя ее, это сделала, значит, она считает, что так лучше для нас. Кто может это лучше знать: мы, простые асы, или машина, да будет благословенно имя ее?
- Ты так убедительно говоришь, мамочка! Ты у меня такая умная... И все-таки мне грустно...
- А вот это уже нехорошо с твоей стороны. Сегодня был прекрасный день. Когда ты рассказала, что этот Лик Карк хочет быть программистом, я тут же поделилась с отцом, а отец передал машине, да будет благословенно имя ее. Отцу это, безусловно, зачтется. Он уверен, что это ускорит наше возвращение в восьмой сектор.
- Но ты же говорила, что хотеть преступно. А сама стремишься в восьмой сектор...
- Ничего подобного, асочка. Я просто констатирую факт, не более. И давай спать. И не думай, пожалуйста, об этом преступнике.
- Ты говоришь, они сделают его буллом?
- Не знаю, заслуживает ли он и этой чести. Хоть они полуживотные-полуасы, но все-таки имеют свой сектор...
Лику показалось, что он услышал всхлипывание. И тут же его заглушил женский голос:
- Спи, спи, асочка...
Свет в окне давно погас, а Лик все стоял на стене, головой вниз, и глядел в густую темноту двора. Как же так, думал он, никто его не поймал, а машина объявляет в новостях, что он пойман. Ну, если бы это сказала Чунина мать, это было бы понятно: старуха брешет, как и его мать, как все. Но ведь машина-то не врет. Она - источник всего лучшего на Онире, дарователь равенства, справедливости, носитель высшего разума. Как же она может врать?
А может, он действительно уже схвачен стерегущими, только сам не знает об этом? Он огляделся. Луны сдвинулись за то время, что он находился у Чуниного окна, и верхняя часть стены мерцала уже синим лунным светом. Да нет, никого не видно. Как же это так? А может, он потерял разум и ничего не понимает? Он вспомнил, как в прошлом году в соседнем классе один ученик сошел с ума. Он бежал по коридору и вопил, что машина ничего не знает и не понимает, а ему все открылось. И все в ужасе отшатывались от него, а он бежал по коридору, и, когда наперерез ему кинулись учителя, он страшно вскрикнул, бросился в закрытое окно, пробил стекло и упал вниз.
Лик долго еще слышал по ночам этот крик. Снова и снова сумасшедший томительно медленно бросался в окно, с сочным хрустом рассыпались стекла, и он летел вниз, взмахнув ногой. Вот эту ногу, которая очерчивала в воздухе бесцельный полукруг, не встречая опоры, тоже запомнил Лик. Странно, сколько времени мог он видеть эту ногу? Ну, какую-то ничтожную долю секунды, а запомнил сцену во всех подробностях. Страшный взмах ноги, в ушах еще звенят осколки стекол, а боковые глаза фиксируют перекошенные лица учителей, с топотом мчащихся с обеих сторон к месту происшествия.
Луны поднялись еще выше, и, чтобы не оказаться на свету, Лик медленно опустился. Теперь, когда ветер улегся, было не так холодно, но еще больше хотелось есть.
Внезапно он замер. Прямо из открытого, но неосвещенного окна на него смотрело страшное морщинистое лицо, которое он уже где-то видел. Да это ведь та старуха, что просила машину о смерти. Старуха неподвижно сидела у окна и смотрела на него. Она, казалось, узнала его, потому что нисколько не удивилась и кивнула ему на подоконник.
Из окна тянуло запахом жилья, теплом, и, прежде чем он успел сообразить, что делает, Лик уже скользнул в окно.
Старуха, ковыляя, отошла от окна, закрыла его и тихонько спросила:
- Есть хочешь?
Лик молча кивнул.
- Сейчас, погоди.
Припадая на скрюченную ногу, старуха бесшумно двигалась по комнатке, и Лику показалось, что он слышит тихое хихиканье.
- На, ешь, - сказала старуха, - осторожнее в темноте. Разберешь, где тарелка?
- Спасибо, - прошептал Лик. Он не успел даже сообразить, что есть, потому что тарелка была уже пуста.
- Проголодался, - пробормотала старуха и снова хихикнула.
- А чего вы смеетесь?
- Значит, задержали тебя стерегущие. Сама по новостям слышала.
- И я тоже, - сказал Лик. - Слушал и ушам своим не верил...
- Это хорошо. Когда ас перестает верить своим ушам да глазам, это хорошо.
- Это почему же?
- Не понимаешь - и хорошо.
Странно как она говорит... Лик чувствовал физическое отвращение к старухе, к ее морщинистому лицу, едва различимому в темноте, но дополненному в воображении Лика сценой в храме контакта, к скрюченной высохшей ноге, и вместе с тем благодарность за кров и пищу, за блаженные мгновения, когда можно было не озираться по сторонам, расслабиться.
- Вырастешь - тогда, может, поймешь. А может, и нет. Хотя ты вряд ли вырастешь...
- Почему?
- Как - почему? Да потому, что поймают тебя, куда ты денешься? Кто тебя держать станет, если за это сам знаешь, что может быть.
- А что?
- В буллы, в пятнадцатый сектор переведут.
- В буллы? За это?
- Очень даже просто. Все, кто даже не укрывает тебя, а просто тебя видит, уже идут против машины, да будет благословенно имя ее.
- Как же так?
- Очень даже просто. Ты ведь где? Ты задержан стерегущими. Об этом объявила машина. И вдруг ты не задержан. Значит, машина ошиблась. А машина, нам каждый день вдалбливают, не ошибается. Вывод какой же? Ну?
- Не знаю...
- Глуп ты, Лик Карк, вот что я тебе скажу.
- Вы мое имя знаете?
- Почему только я? Его весь Онир знает. И портрет твой в новостях показывали. И код на знаке называли.
- Значит...
- А я тебе о чем толкую? Быть тебе, ас, буллом... - Старуха снова хихикнула.
- А чего ж вы меня впустили и даже накормили? - с вызовом спросил Лик. - Чего ж вы не боитесь, что вас сделают буллой?
- А чего мне бояться? Я бы им только спасибо сказала. Буллы-то, говорят, ничего не понимают, меня бы это вполне устроило.
- Вы хотите ничего не понимать?
- Это верно. Лучше всего, конечно, было бы помереть, да дочку жалко. Кончишь с собой без разрешения, ее в наказание на сектор или два понизят. У нас без спросу ни родиться, ни помереть не моги. А то я б давно, - старуха кивнула на окно, - раз - и сиганула бы.
- А почему?
- Как тебе объяснить? Хотя ты, может, и поймешь. Сам-то тоже... Дочь у меня за важным человеком, в пятом секторе они, белый знак на шее носят. А я вот, после того как муж мой помер, осталась в девятом. Пока могла, работала. Дочка меня стесняется, внуков ко мне не пускают. Ты, говорит, должна понять, они воспитаны в другой среде, и весь твой вид и жилье - все это ни к чему. Так и говорит: ни к чему. А я и сама знаю, что я ни к чему. Ни к чему и ни к кому. Так вот и торчишь целыми днями у окна...
- А почему вам не разрешают умереть?
- Да потому что раз я прошу смерти, значит, я ее хочу. А хотеть наша машина, да будет благословенно имя ее, нам не велит. Она сама за нас хочет. Думает. Живет.
Странные, странные слова, холодные мурашки пробегают от них по спине. Страшные слова, от которых сразу становится зябко и неуютно, будто вдруг снова потянуло сырым, холодным ветром, что подымается при закате и при восходе. И страшные это слова, обжигающие, как льдышки, и притягивают чем-то, как тот ас, что мчался с криком по школьному коридору в последнем своем беге.
Снова и снова безостановочным колесом проплывал в голове вопрос: как же так, он на свободе, он даже только что поел и сидит в тепле, а машина объявила, что он задержан? Раньше можно было подумать, что он сошел с ума, но ведь не могли они оба сразу со старухой сойти с ума?
И как она говорит о машине... С ухмылочкой, с хихиканьем... то скажет: да будет благословенно имя ее, то нет. А если и произнесет благодарственную формулу, то с насмешкой какой-то. Да и сам-то он... Лик поймал себя на том, что все чаще и чаще произносит мысленно имя машины без благодарственной ритуальной формулы.
Не поймешь, что все это значит. И вдруг Лик сообразил, что совершенно забыл о главном. Думая о старухе и ее словах, он забыл, что обречен, что весь Онир видел его портрет, что ему осталось, быть может, всего несколько дней, пока его не посадят после метаморфозы на особый рацион и не превратят в булла. У него отрастут на теле волосы, ноги станут толстыми и мохнатыми, он не сможет произнести ни слова, будет только мычать. Они, говорят, и не помнят ничего, буллы. Значит, забудет он и Чуну, ее тонкий голосок, это нехорошо, это невежливо, забудет все, даже того аса, что выпрыгнул в окно. Себя и то забудет. Даже не будет знать, кто он и кто его родители.
Чуна... Конечно, она его предала, но ведь она не зн^ла. Да и так все равно машина бы не разрешила им встречаться. Раз он захотел - это уже преступление. Машина сама знает, кто с кем должен встречаться. Когда ас или аса подрастают, они получают от машины разрешение встречаться, где указано точно, с кем и когда. Машина любит все знать.
Булл. Он будет буллом и будет подметать улицы и увозить мусор. Он будет когда-нибудь идти но улице и увидит Чуну. И даже но узнает ее, не промычит ничего. Он представил себе улицу в людный час. Он хотел представить и себя, но улица почему-то согнулась, дернулась, поплыла куда-то.
Он проснулся, когда в каморке было уже совсем светло. Наверное, уже не очень рано, подумал Лик, потому что за окном было тихо - значит, утренний ветер уже улегся. Старухи не было.
Лик тяжело вздохнул. Как хорошо было во сне! Не было ни разбитого экрана, ни стерегущих, ни кошмара хватающих тебя рук, ни мычащих медлительных буллов. Была Чуна, с которой они бежали бок о бок по бесконечной стене, смеялись, и Чуна пела: "Это нехорошо, это невежливо..."
О, если бы только можно было повернуть время назад! Зачем, зачем глазел он по сторонам! Сколько раз твердила ему мать, чтобы он не пялил все четыре глаза сразу во все стороны, чтобы смотрел прямо перед собой, как делают все воспитанные асы, а не идиоты вроде него. И. действительно, не увидь он тогда, как смешно она спускалась по стене, осторожно ощупывая ножками каждую трещинку, не заговори он с ней, ничего бы и не было. Да, но тогда не было бы и Чуны...
- Проснулся? - спросила старуха. - Я уж за рационом сходила. Давай завтракать, пока тебя еще не начали кормить тем дерьмом, которое превращает аса в булла.
Она приготовила завтрак и поставила тарелку перед Ликом.
- А вы? - спросил он.
- Да не хочется что-то есть, - вяло ответила старуха.
Врет, наверное, подумал Лик. Это она для меня. Рацион-то у нее на одного, вот она и делает вид, что не хочет. Надо было, конечно, отказаться или хоть заставить ее разделить рацион пополам, но, может, она и правда не хочет? И Лик, продолжая раздумывать, врет старуха или не врет, быстро умял утренний рацион.
- Ну, давай теперь залезай под стол.
- Под стол?
- Ты чего, не понимаешь? Время утренней благодарности, и ты что, хочешь, чтобы машина тебя увидела?
- А... - пробормотал Лик. Как он мог сразу не сообразить!..
Он заполз под стол и услышал, как старуха щелкнула выключателем контакта и забормотала:
- Я, Рана Раку из десятого сектора, приношу благодарность машине, да будет благословенно имя ее, за то, что она взяла на себя бремя наших мыслей и желаний и несет это бремя во имя нашего счастья и спокойствия.
Снова щелкнул выключатель, и в этот самый миг в окно постучали.
ГЛАВА 3
Он не помнил, когда попал на Онир. Вернее, он помнил, потому что никогда ничего не забывал и мог бы легко восстановить в своей памяти любое событие своей бесконечно долгой жизни, но для чего было вспоминать? Что могло бы измениться в неудержимом стремлении рек времени добраться туда, где начало становится концом, конец - началом, устья превращаются в истоки, а истоки - в устья?
Он мог бы вспомнить жаркую, сухую землю Оххра, оранжевое небо и быстрое кружение двух голубых солнц, отбрасывающих юркие короткие тени. Но для чего?
Он мог бы вспомнить тихий полуденный час, когда так сладко погрузиться в привычное созерцание, когда растворяешься мыслями во Вселенной и каждой частицей тела слышишь ток рек времени. Он распластался тогда плоским камнем на склоне холма и тихо дремал, когда вдруг почувствовал своим полем приближение двух незнакомцев, у которых не было полей.
- А вот еще оххр, - сказал один.
- Где?
- Да вот где-то здесь, индикатор показывает поле. Сейчас поищем... Ага, смотри, как отклоняется стрелка. Вон он!
- Ишь, как устроился!.. А этот не перекинется?
- Да нет. Если они сразу свое поле не выключают, потом не выключат, такой уж это народец... Давай подгоняй платформу.
- Осторожнее. Ран, зачем ты его ногой пихаешь? Все-таки живой...
- Ты это брось, ты в охотники только-только попал, а я уж не помню когда. Ты на Оххре не был, а я второй раз. Живой он, не живой - это не наше дело. Приказ простой: если он поле не выключил, мы его подбираем, выключил - черт с ним, другого недоумка найдем. Ну-ка, помоги мне поднять его, тяжелый, дьявол...
Все это он мог бы легко вспомнить. Он мог бы вспомнить, как попал на Онир и как был приставлен к машине, которая требовала постоянного присмотра и ремонта. Он мог бы вспомнить все, но зачем? Зачем вообще вспоминать в этом печальном мире, где все труды твои тщетны и плоды их уносят реки времени? Впитываешь ли ты лениво энергию на Оххре, греясь в лучах двух солнц в бесконечном созерцании, или обслуживаешь машину на Онире, машину, которую построили такие же оххры, как и ты, - какая разница? Мерцает ли твое поле здесь или там - какая разница? Все бессмысленно. Вся Вселенная полна печали, которую несут в нее миллиарды лет реки времени. Они отлагают ее, как обычно реки - ил во время разлива, пока не пропитает она все живое. Все живое подвластно этой извечной печали, ибо никто не знает, зачем ты и кто ты.
И вот он на Онире уже много-много лет. Каждый день, приняв форму аса, он ползет на своих четырех ногах к машине, входит в подземный зал, где мерцают пять гигантских кристаллов, соединенных между собой. Кристаллы - это мозг машины, и никто, кроме оххра, не мог бы разобраться в пульсации миллионов крошечных полей, что живут в каждом кристалле.
Он распускал свое поле, давая ему истончиться до предела, и бесконечно осторожно вводил его в кристалл. Он ощущал трепет и биение маленьких полей и сравнивал их с тем, как трепетали они вчера, позавчера, годы назад, как должны были трепетать по замыслу тех, кто построил машину.
Он проверял первый кристалл, второй, пока не прощупывал весь мозг машины. И когда дневная его работа была закончена, он заползал в свое помещение и погружался в оцепенение.
Иногда ему приходили на ум мысли о том, что хорошо было бы выключить поле. Он не взвешивал, не осматривал и не изучал эти мысли как кристаллы мозга машины, потому что мысли эти были просты, понятны и бесспорны. Их нельзя было оспаривать. Да и зачем? Какое преимущество имеешь ты, думающий, перед, скажем, скалой, которая не думает? Никакого. Наоборот. Если ты полон скорбной печали, сжимающей тебе грудь, то скала неподвластна рекам времени. Она, разумеется, подвластна в том отношении, что они быстро подтачивают ее, размывают, превращают в основу основ и уносят прочь, но скалы неподвластны печали. Нельзя быть подвластным тому, чего не ощущаешь...
Почему же он до сих пор не выключил поле? Это ведь так просто - одно волевое усилие и проклятый гул времени навсегда исчезнет из твоей души. Почему же? Он и сам не мог ответить на этот простой вопрос.
Сейчас за ним придут, пора было принимать форму аса: четыре ноги, круглое туловище, длинная шея с маленькой головкой, две руки.
В окно постучали, и в комнату тут же вполз ас с золотым знаком первого сектора на шее. Он был явно возбужден, потому что вместо обычного приветствия пронзительно закричал:
- Почему ты до сих пор не готов? Вчера было много жалоб на неправильную выдачу рационов, нехватку платформ на западе, три владельца заводов сообщили машине, что не имели достаточного количества буллов и работников тринадцатого и четырнадцатого секторов, имеется множество вакансий в высших секторах! Что я скажу Отцам? А ты валяешься тут в своей дурацкой медитации! Шевелись-ка побыстрее, оххр, пока жив!
Пока жив! Маленький смешной ас, подумал оххр, он пугает его небытием. Если бы он знал, как желанно ему небытие! Какой громкий голос, как может одно существо издавать столько шума... И вдруг мозг оххра пронзила мысль, не раз уже посещавшая его: а зачем ему нужно слышать эти угрозы,зачем нужно переливать свое тело в нелепую форму аса, зачем прощупывать своим полем все кристаллы машины? Зачем? Но если раньше эта мысль свободно проходила сквозь его мозг, как прох-одит поле сквозь стену, то теперь она вдруг застряла и, застряв, начала тут же расти, вытесняя все другие мысли. Как он мог так долго колебаться? Как он мог?
И впервые за долгое-долгое время его память воскресила оранжевое небо Оххра, теплые бока рыжих холмов, дремлющих под охраной двух голубых солнц. Незнакомое чувство шевельнулось в душе оххра и сказало ему: скорее. Он выключил поле. Голос аса затих и исчез.
- Ну, в чем дело? - крикнул ас. - Долго я должен тебя подгонять, проклятый оххр?
Злоба душила его, требовала выхода. Если бы он только мог размозжить эту безмозглую тварь, что валяется целыми днями в праздном безделье, пока он, ас первого сектора, должен мотаться по Ониру, готовясь к встрече с Отцами!
- Идешь? - крикнул он и почувствовал, как первая тревожная мысль юрким опосликом прошмыгнула у него в голове.
Раньше такого с оххром никогда не было. Когда он влезал в окно, оххр уже начинал медленно принимать форму аса: выпячивал сначала одну ногу, потом вторую, третью, четвертую. Потом уже вырастало туловище и все остальное. Всегда в одном и том же порядке. Пунктуальные существа. Нелепые, но точные. Время по ним проверять можно было, это уж точно.
И тут ас понял, что заслоняется этими жалкими словами от одной простой мысли, которая сразу наполнила его пронзительным, раскаленным ужасом: оххр выключил поле! О машина, да будет благословенно имя ее, пронеслась у него в голове дурацкая формула ритуального обращения, которой он уже давно не пользовался, о машина, что же мне делать? Ведь это был последний бесформенный!
С неумолимой и жестокой последовательностью его будущее разворачивалось перед ним. Вот он стоит перед Отцами и, запинаясь, бормочет, что не виноват, что ведь случалось такое и раньше, что оххры непредсказуемы, это знают все, что какнибудь они наладят обслуживание машины, что все обойдется, что можно, в конце концов, организовать еще одну охотничью экспедицию на Оххр, и тогда у них будет полным-полно оххров.
Отцы будут молча смотреть на него. Они не скажут ни слова. Отцы никогда не нисходят до споров. Они выслушают его до конца. И только тогда вынесут приговор. Метаморфоза превратит его, аса первого сектора с золотым знаком на шее, в булла. В булла, булла, булла, булла. Он будет мычать, огромный, покрытый шерстью, грязный, полуас-полуживотное. Он даже но будет помнить, что носил когда-то на шее золотой знак, что Они? трепетал перед ниМу и каждое утро, когда он вылезал из окна своей комнаты в первом секторе, на стене его уже ждали два стерегущих. Так они и спускались по стене: впереди он, а за ним два стерегущих, которые зорко следили, чтобы никто по помешал ему спускаться по отполированному до блеска камню.
Он будет буллом, и двое его сыновей, которые любят с веселым визгом ползать по нему, когда он отдыхает, тоже будут буллами и начнут жадно набрасываться на остатки рациона, выброшенные в канаву.
Не-ет, вдруг засмеялся ас, он не будет буллом, он обманет Отцов. Пусть отвечает его напарник Лони, пусть он, если ему нравится, становится буллом. А он не намерен, пусть мычат другие.
Он кинулся к окну. Важно было только не думать. Быстрее, быстрее. И не прижимать привычно присоски, а шагнуть в пустоту. Не-ет, он но будет буллом. Он что-то кричал, пока падал, но даже стерегущие, которые ждали его на стене, не могли потом определить, что именно он кричал.
В окно постучали, и старуха бросила быстрый взгляд на Лика. Что ж, говорил взгляд, мы знали, что пас ожидает. Она проковыляла к окну и распахнула его. В комнату вползли два стерегущих и ас девятого сектора.
- Видите, - закричал ас, показывая рукой на Лика, - я ж вам говорил, у старухи кто-то есть. Я слышал, она с кем-то разговаривала. Это он, он! Вчера его показывали по машинным новостям! - Ас был в страшном возбуждении. Он то вскакивал на стены, пробегал по потолку, то замирал наместо.
- Лик Карк? - угрюмо спросил стерегущий.
- Да, - ответил Лик. Он не понимал, как смог ответить. Он был в оцепенении. Ужас метался в его черепной коробке маленьким обезумевшим опосликом.
- Это я, я догадался, кто у старухи, - верещал ас, стремительно взбегая на стену. - Господа стерегущие, я надеюсь, мне это зачтется... У меня скоро очередная метаморфоза, и я надеюсь...
- Надейся, надейся, - усмехнулся старший стерегущий, это дело хорошее, но главное - не суетись, стой на месте.
- Хорошо, хорошо, я постою, я вам не буду мешать. У меня скоро очередная метаморфоза...
- Постой и помолчи, - сказал второй стерегущий.
- А ты, старуха, Рана Раку? - спросил первый стерегущий.
- А то вы не знаете? - фыркнула старуха.
- Что-то больно весела, не к месту вроде...
- А чего? Буллой меня сделают? Я этого не боюсь. Я за это вам еще спасибо скажу...
- Смелые слишком все стали! - буркнул старший стерегущий. - И ты, ас, пойдешь с нами, - кивнул он нетерпеливо подрагиваводему асу со знаком девятого сектора на шее.
- С удовольствием, господин стерегущий, но мне через полчаса надо на работу.
- Ничего, подождут. Они тебя долго ждать будут, - усмехнулся младший стерегущий.
- В каком смысле? - испуганно спросил ас.
- В самом прямом.
- Но я ведь проявил, так сказать... Сообщил... Я сразу понял, что у старухи кто-то есть. Она, правда, часто сама с собой бормочет, но тут я сразу понял...
- Ты машинные новости вчера видел?
- А как же, господин стерегущий. Как раз портрет этого бандита видел. А потом, когда услышал, что у старухи кто-то есть, я подкрался незаметно и заглянул в окно. А он пожалуйста, сидит как миленький...
- Ты машинные новости вчера видел, я спрашиваю?
- Я ж вам объясняю, господин стерегущий...
- Что тебе объявила машина, да будет благословенно имя ее?
- Как вы говорите?
- Что тебе объявили про этого Лика Карка? - зарычал стерегущий.
- Что он совершил страшное преступление и задержан нашими замечательными стерегущими.
- Правильно. За-дер-жан. Вчера. А ты что утверждаешь? Что его задержали только сегодня, только сейчас и с твоей помощью. Так? Чего затрясся, отвечайf
- Я... я...
- "Я, я"... Заякал! Соображать раньше нужно было, теперь поздно. Ты, оказывается, у нас умный. Умнее машины, да будет благословенно имя ее. Молчи. Пошли все.
Через два часа Лик уже сидел в храме судебного контакта. Так же как и в тот злосчастный день, когда он вздумал просить у машины разрешение на встречу с Чуной, он сидел и смотрел на серебристый экран. Только теперь рядом с ними, по обеим сторонам, стояло по стерегущему.
Булл, булл, билось размеренной болью в голове у Лика. И не было больше ни мыслей, ни чувств, ничего, кроме тупого отчаяния. Лик закрыл глаза. Только бы не видеть страшных слов на экране. Может быть, если он их не увидит, они и не появятся на самом деле...
И вдруг он услышал, как один из стерегущих пробормотал:
- Скажи-ка!..
Он открыл глаза. На серебристом экране четко выделялись черные буквы: "Отряд охотников".
"Что такое охотник?" - подумал Лик и не почувствовал даже радости. Охотник... он слышал такое слово, но никогда не видел ни одного охотника, даже не представлял, какого они сектора.
Его долго везли куда-то в закрытой платформе. В кузове было душно, платформу покачивало, и Лик задремал. И сразу явилась к нему Чуна. Личико ее было печально. Она была маленькая, как опослик, и, как опослик, уселась к нему на грудь, жалобно заверещала. Не может этого быть, чтобы Чуна была опосликом, подумал Лик. Наверное, он спит, потому что только во сне асы и все предметы теряют свою привычную форму. Но только он подумал, что спит, как тут же проснулся.
Платформа остановилась. Послышался лязг отпираемой двери, и голос сказал:
- Выходи.
Лик вышел из кузова платформы и увидел, что находится во дворе, обнесенном невысоким забором, по верху которого была протянута проволока. Рядом со стерегущим стоял коренастый ас с толстыми ногами. Лик уставился на его шею: ну и ну, первый раз видел он аса без знака своего сектора. Странный ас подписал какие-то бумаги, кивнул стерегущему, н платформа бесшумно выплыла со двора. Массивные ворота захлопнулись за ней с сочным металлическим чмоканьем.
Ас стоял и внимательно рассматривал Лика, как будто в нем было что-то интересное. Это было странно. Вот сам ас с непривычно голой шеей действительно являл собой зрелище необыкновенное, а что могло заинтересовать кого-то в Лике?
- Ну и дерьмо присылают! - пробормотал ас. - Смотреть противно!
Это он о нем, подумал Лик, вот булл паршивый. И весь ужас последних часов, все озлобление загнанного зверя бросилось ему в голову. Дерьмом его назвал голошеий. Ну, держись, булл!
Нагнув голову, Лик бросился на коренастого, но получил сильный удар в голову и отлетел в сторону. Он лежал в ныли у самого забора, вытянув длинную шею, и прикосновение прохладного камня забора было приятно. Казалось, оно вытягивает из пего боль.
- Ну, одного у тебя не отнять, - сказал ас, - упрямый черт. Это у тебя есть.
- Но почему... - хрипло сказал Лик.
- Запомни, Лик Карк, ты не имеешь права задавать здесь вопросы. Понял? Это очень просто. Ни одного вопроса. Раньше ты не имел права хотеть. Теперь ты не имеешь еще и права спрашивать. Разговаривать - сколько угодно. Ты можешь произносить целую кучу слов: "повинуюсь", "понял", "да", "нет", "господин старший охотник". Как видишь, слов предостаточно. Каждый раз, когда ты забудешь какое-нибудь из наших правил, тебя будут бить ногами другие рекруты. И при этом ты должен повторять уже только одно слово "повинуюсь". Понял, Лик Карк?
- Да, но как же...- сказал Лик, но страшный удар ногой подбросил его в воздух.
- Ты употребил сразу три запрещенных слова: "но", "как", "же". За это тебе полагается три удара. Два ты уже получил. Третий получишь, как только к тебе вернется способность чувствовать боль и унижение. Запомни: никогда не бей аса, если он не может испытывать боль или унижение, а еще лучше и то и другое вместе. Что толку в таких побоях? Ты, конечно, захочешь узнать, как определить, может ли ас испытывать боль в тот или иной момент. Правильный вопрос, но только не задавай его. Никогда не задавай никаких вопросов. На все вопросы, которые должны приходить тебе в голову, ты получишь простые, ясные ответы. А те, которые не должны попадать в твою башку, гони подальше. Понял? Подумай, прежде чем ответить, говорю это тебе как новичку. Понял?
Лик увидел, как ас поднял ногу для удара. До чего же толстая нога. Как, он сказал, следует говорить? Ага: "понял".
- Понял, господин старший охотник, - пробормотал Лик.
Ас нехотя опустил ногу.
- Это уже лучше. Но не бормочи, a говори ясно и радостно. Когда тебя бьют, ты должен радоваться, потому что тебя учат, тобой занимаются, на тебя тратят силы. Понял?
- Понял, - уже громче сказал Лик и не успел увернуться, как нога аса сделала неуловимое движение, и острая боль прострелила его туловище.
- Нет, нет, это не за ответ, - спокойно сказал старший охотник, - ответ был неплох. Для такого мозгляка, как ты, да еще в первый день ответ был совсем недурен. Это тот удар, что я остался тебе должен. Да, так на чем же мы остановились? Ага, как отличить, может ли ас испытывать боль и унижение и, стало быть, стоит или не стоит наказывать его в это время. Все дело в глазах. Заставляй смотреть тебе в глаза. Если глаза что передние, что боковые, неважно - ясные и в них виден ум, бей смело. Также бей, если в глазах видны ненависть, гнев, презрение, вопрос. Если увидишь мольбу о пощаде, повремени, потому что молящий тебя ас склонен воспринимать удары как нечто заслуженное, а заслуженное наказание не так эффективно, как незаслуженное. Почему мне было приятно бить тебя, Лик Карк? Да потому, что ты был возмущен, ты считал, что я сволочь, булл, издеваюсь над тобой. Так?
- Да, господин старший охотник, - машинально ответил Лик.
- Вот видишь, ты уже ответил правильно. Но я тебя сейчас не ударю за твое признание, что ты мысленно назвал меня буллом. И знаешь, почему? Потому что, как я уже объяснил, это воспринималось бы тобой как наказание справедливое и не такое обидное. А такие побои уже не так интересны. Согласен?
- Да, господин старший охотник, - автоматически ответил Лик.
- Молодец, парень. Смотри-ка - мозгляк паршивый, а соображает. И не щерься. Мы тебя еще научим. Мы будем твоими господами и повелителями, мы будем бить тебя, а ты будешь любить нас, старших охотников, и в твоих глазах будет сиять любовь. И не поддельная, не подневольная, а настоящая, потому что асы никого не любят так, как любят господина. - Понял?
- Да, господин старший охотник.
- Молодец, Лик Карк. Но ты пока что не любишь меня, ты даже меня ненавидишь. Так?
Лик замялся. О, с каким наслаждением он бросился бы на этого жирного булла, вцепился бы челюстями в его руку или, еще лучше, шею! Но тело все еще ныло от боли, и каждая клеточка вопила: нет, нет, больше не надо!
- Нет, господин старший охотник, - сказал Лик.
- Врешь, - радостно сказал ас. - Врешь. И хорошо, что врешь. Рекрут должен вначале ненавидеть старшего охотника, потому что только из ненависти может вырасти настоящая любовь. Понял?
- Да, господин старший охотник.
- Иди, тебе сейчас покажут твое место. Ты все запомнил, что я сказал?
- Так точно.
- Вот видишь, какие преимущества в нашей системе. Когда что-то можно, а что-то нельзя, ас всегда чувствует себя сбитым с толку: попробуй запомни. У нас все просто и ясно: нельзя ничего, кроме того, что тебе приказывают делать. Иди.
ГЛАВА 4
В комнате, куда отвели Лика, жили еще три рекрута. Он попытался заговорить с ними, но они угрюмо молчали. Перед сном один из них и скомандовал, чтобы они по очереди подходили к контакту для вознесения вечерней благодарности.
Как в тумане, Лик пробормотал знакомые с детства слова. Вместе с экраном контакта погас и свет в комнатке.
- Спать, - сказал тот же ас, что дал команду к вечерней благодарности.
Лик лежал в темноте с открытыми глазами. Ему казалось, что он страшно устал, что должен мгновенно заснуть, но сон все не приходил. Он жаждал сна, молил о его быстрейшем приходе, весь тянулся ему навстречу. Сейчас, сейчас он соскользнет в теплую долину, где вещи расплываются и меняют форму, где не будет стерегущих, хруста стекла экрана в храме контакта, безжалостных глаз старшего охотника и пронзительной боли от его жестоких ударов. В долине сна к нему придет Чуна, придет, смешно перебирая тонкими ножками, чистенькая, испуганная. Это нехорошо, Лик, это невежливо...
- Ты спишь? - услышал Лик тихий шепот.
- Нет.
- Я тоже...
- Ты только вчера прибыл?
- Нет, я уже два дня. Тебя как звать?
- Лик Карк. А тебя?
- Ун Топи. Ты в каком жил секторе?
- В десятом. А ты?
- В восьмом. Я знаешь за что сюда попал?
- Ну?
- Я сказал учителю, что не буду больше возносить машине благодарность...
- Ты с ума сошел! Как же это можно?
- Меня схватили, когда я шел из школы домой. Вот так. Но я все равно не жалею. Не буду я возносить машине благодарность, - упрямо прошептал Ун.
- Но почему?
- А за что я должен быть благодарен? За что?
- Тш-ш! - Лик протянул руку, нащупал в густой темноте комнаты голову Уна и прижал руку к его рту. - Ты что, буллом хочешь стать?
- Лучше быть буллом, чем охотником, - сказал Ун.
- Молчи!
Утром их выстроили во дворе.
- С сегодняшнего дня мы начинаем занятия, - сказал вчерашний старший охотник. Он стоял перед строем, слегка раскачиваясь и поворачивая голову так, чтобы охватить взглядом всех рекрутов. Боковые глаза у него были раскрыты. - Вы уже знаете наши основные правила. Теперь я расскажу вам, что вы такое, и что из вас должно получиться. Ун Топи, выйди из строя.
- Повинуюсь, господин старший охотник, - сказал Ун и шагнул из строя.
- Что вы из себя представляете?
- Дерьмо, господин старший охотник.
- Правильно. А что из вас выйдет?
- Охотники, господин старший охотник.
- Молодец. Стань в строй. Сейчас я вам объясню, кто такие охотники. У нашей страны есть множество врагов. Они завидуют нам, потому что нами управляет машина, да будет благословенно имя ее, которая дает нам всем счастье и свободу. Они завидуют нам, потому что мы лучше их. Да, мы лучше их. Мы лучше всех на свете, потому что в наших сердцах покой и счастье. Запомнили? Вер Крут, выйди из строя.
Маленький, но крепкий ас сделал два шага вперед и уставился на старшего охотника.
- Ты что-то забыл сказать, рекрут? - ласково спросил старший охотник.
- А что?
- Ты должен был сказать: "Повинуюсь, господин старший охотник", а не спросить: "А что?". Ты с кем в комнате? Познакомился с кем-нибудь?
- Да, господин старший охотник! - выкрикнул рекрут, явно довольный, что так легко отделался.
- С кем?
- Яром Комани и Петом Оликом, господин старший охотник! В голосе аса звучала гордость: он так недавно здесь, а у него уже есть товарищи, он не хуже других.
- Прекрасно. Яр Комани и Пет Олик, выйдите из строя.
- Повинуюсь, господин старший охотник, - раздались одновременно два голоса, и два аса шагнули вперед.
- Молодцы. Кто из вас Пет Олик?
- Я, господин старший охотник, - сказал высокий и худой ас с маленькой головкой на длиннющей шее.
- Как ты себя чувствуешь?
- Хорошо, господин старший охотник.
- А ты, Яр Комани?
- Хорошо, господин старший охотник.
- Ты хорошо отдохнул ночью?
- Да, господин старший охотник.
- Молодец. Сейчас ты и Пет Олик накажете вашего товарища Вер Крута. Бейте его так, чтобы он надолго запомнил про покой и счастье и как надо отвечать старшему охотнику. Если вы плохо выполните свой священный долг, вы сами займете его место. Поняли?
- Да, господин старший охотник.
- Начинайте.
Вер Крут переводил взгляд с одного рекрута на другого. В широко раскрытых глазах застыл ужас. Он дернулся, остановился, посмотрел на старшего охотника, сложил руки на груди, подогнул передние ноги и положил голову на землю.
- Ax! - выдохнули разом вместе рекруты, когда первый удар обрушился на лежащее тело.
Вер Крут дернулся. От второго удара он перевернулся на бок, и задние его ноги описали в воздухе нелепый, жалкий полукруг.
- Оттащите его к забору и станьте в строй, - сказал старший охотник. - Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы лучше всех в мире, потому что в наших сердцах покой и счастье. Все остальные, кроме нас, - презренные и жалкие существа, которые не заслуживают даже названия разумных.
Возьмите, например, ириков. Разве могут эти круглые отвратительные твари заслуживать название разумных, когда у них нет машины, нет секторов, нет личных метаморфоз? Они обуреваемы желаниями, беспокойством, они вечно к чемуто стремятся, что-то ищут, от чего-то бегут, что-то теряют. Они - порождение хаоса. Ни один настоящий ас не может спокойно смотреть на ириков. Ирики - это анархия, хаос, злобный индивидуализм, которые, как яд, разъедают любое общество, куда они только могут проникнуть. Поэтому асы всеми силами должны защищать свой мир от ириков. И именно вы, будущие охотники, должны выполнять этот долг. Ирик достоин только одной участи - смерти. Только один ирик имеет право на существование мертвый ирик.
Или возьмите наших извечных врагов оххров. Эти оххры, как вас учили, без сомнения, в школе, не раз пытались вывести из строя нашу замечательную машину, да будет благословенно имя ее. Они завидуют нам, и в своей черной зависти готовы на все. Теперь подумайте о существах, которые не имеют даже формы. Можете себе представить такое? Это трудно, потому что идея бесформенности отвратительна для сердца каждого аса. Ленивые и праздные, они принимают разные формы, копируя даже нас, асов. За одно это они заслуживают смерти. Нет, "смерть" - слишком торжественное слово. Слово "смерть" под разумевает предшествующую ей жизнь, а оххры не знают жизни. Поэтому их нужно просто топтать, растирать ногой, как дрянных, надоедливых дугов, которые так донимают нас в жаркие дни, жужжат над ухом и впиваются в наши тела.
Другой пример. Вы наверняка видели на картинках сунов-строителей. Но картинки не могут передать мерзкий облик этих тварей, постоянно строящих и перестраивающих свои города. Глаза их всегда лихорадочно блестят, и в них живет безумная мысль о том, что они счастливы. Жалкие, потерявшие разум твари! Они даже не могут усвоить простую мысль о том, что только асы имеют право на счастье. Поэтому, когда ас встречает суна-строителя, он всегда должен стремиться рассеять эту безумную иллюзию. Лучше всего это сделать, убив суна. Сделать это нетрудно, ибо суны-строители настолько глупы, что доверяют всем и каждому.
Вы, будущие охотники, как раз и будете защищать Онир от посягательств всех его врагов. Вы, будущие охотники, не будете иметь сектора, потому что вы защищаете весь Онир. Вы должны забыть свое прошлое, свои семьи и своих друзей. Вы должны жить только ненавистью к врагам Онира. Враг коварен, он притаился не только на своих планетах, он по стояние засылает своих шпионов к нам. Поэтому вы должны постоянно следить друг за другом, ибо нет соблазнительнее цели у наших врагов, чем проникнуть в ряды асов-охотников. Если вы услышите слова товарища, которые покажутся вам подозрительными, вы должны немедленно сообщить о них. Не вырванный вовремя сорняк может заглушить посевы.
А теперь, рекруты, мы немножко разомнемся. Вы еще не умеете пользоваться оружием, поэтому мы не даем его вам, но, чтобы вы чувствовали себя охотниками, вы наденете на себя походное снаряжение, вес которого точно соответствует тому, что вы будете в будущем брать с собой в походы.
Лик надел на плечи лямки и попытался встать на ноги. Груз, как якорь, тянул его к земле. Он напрягся изо всех сил и взвалил снаряжение на спину, покачнулся, но устоял. О машина, неужели с этой тяжестью можно двигаться?..
- Ну что ж, - сказал старший охотник, - теперь немножко разомнемся, потому что охотники должны быть крепкими и выносливыми асами. Идите за мной и не отставайте. Вперед!
Старший охотник вывел группу за ворота. Дорога была прямой и шла через невысокий кустарник. Тяжелое снаряжение оттягивало плечи, заставляло пошатываться. Нет, думал Лик, еще десять шагов - и он упадет. Просто невозможно тащить на себе такую тяжесть, это сверх сил нормального аса.
- Ну-ка, побыстрее! - заорал старший охотник. - Это что, марш рекрутов или похоронная процессия старух? Шевелитесь, кандидаты в буллы!
Сам старший охотник был без снаряжения и легко перебирал своими толстыми ногами. Он забегал в голову колонны, отставал, пропускал ее мимо себя, снова догонял.
- Эй, Нет Олик, ты чего отстаешь, это тебе не товарища колотить! Ну-ка, давай!
Лик открыл боковой глаз и увидел, как старший охотник изо всех сил ударил сзади передней ногой Пета. Чтобы не упасть, тот начал судорожно перебирать ногами.
О машина, почему же я до сих пор не упал, тупо думал Лик. Кровь билась в висках быстрыми болезненными ударами, перед глазами плыл розоватый туман. Лику казалось, что он давно уже бредет по облаку. Странно только, что облако выдерживает его и этот страшный груз на спине...
- Ну что, асы, устали? - бодро пропел старший охотник и в очередной раз быстро обогнал плетущуюся колонну.
- Да... гос... подин... стар... ший... охот... ник... забормотали хриплые, запыхавшиеся голоса.
- Тогда отдохнем, - сказал старший охотник, и вся колонна сразу остановилась; в наступившей тишине слышалось лишь судорожное, прерывистое дыхание. - Нет, нет, рекруты, - ласково пропел старший охотник. - Вы меня, асики, не поняли. Охотники никогда не отдыхают стоя. Это очень вредно для здоровья, отдыхать можно только во время бега. Поняли? Ну, бегом, быстрее!
Он смеется, подумал Лик. Бежать? Нет в Онире силы, которая заставила бы его сдвинуться с места, не то что бежать. Сердце его гулко колотилось о грудную клетку, рот с всхлипом хватал воздух, откуда-то из живота поднималась тошнота и устремлялась вверх по длинной шее, и он чувствовал ее движение.
- Вперед! - уже зло крикнул старший охотник. - Быстрее! Или вас подгонять бичом?
Колонна побежала. Лик не управлял своими ногами. Он не мог приказать им сокращаться в ритме бега, потому что уставшие мышцы давно уже не подчинялись его приказаниям. И все-таки он бежал. Тяжелое снаряжение с размаху било его но спине, и каждый удар, казалось, посылал его вперед. Он уже не хватал воздух короткими судорожными вдохами. Воздух сам врывался в его распятый в стоне рот, сам проникал в легкие. Время свернулось в тугую пружину, и каждый шаг, сопровождаемый тяжким ударом снаряжения по спине, тянулся вечностью. Правильно говорил Ун, в сто раз лучше быть буллом. Копаешься себе не торопясь в канаве, подбираешь объедки. Толстый, сонный, мохнатый... Ух, хух, ух, хух... О машина, хоть бы быстрее это снаряжение проломило ему спину... Ух, хух, ух, хух... Все, нет больше мочи. Пусть бьют, пусть убивают, любая боль лучше той, что сковывает мышцы. Все, останавливаюсь, больше не могу, не мо-гу, не мо-гу, не мо-гу, ух, хух, ух, хух...
- Ну вот, - пропел откуда-то из бесконечного далека голос старшего охотника, и Лик не сразу узнал его. - Отдохнули теперь можно и шагом идти.
О машина, какое это счастье больше не бежать, какое наслаждение медленно переставлять одна за другой дрожащие ноги, больше не сжиматься под страшными ударами снаряжения! И Лик почувствовал благодарность к старшему охотнику. "Как странно, - подумал он, - я должен был бы ненавидеть этого негодяя, что избивал меня вчера, что обрек нас на такую муку, а я... полон благодарности, как опослик, который трется о твои ноги за несколько крошек рациона".
Старший охотник шел вдоль колонны, засматривая в глаза рекрутам. Он поравнялся с Ликом, внимательно посмотрел на него, словно ощупал взглядом, молча кивнул.
Когда они вернулись домой, у них не было сил влезть в окна своих комнат. Они даже не сняли с себя снаряжения и рухнули прямо в нем на пыльную землю.
Сон охватил Лика прежде, чем он коснулся земли. И в первый раз за многие дни Чуна не явилась ему в долине сновидений.
Через месяц они уже стали охотниками, но занятия продолжались.
Утром старший охотник построил их во дворе.
- Сегодня, - сказал он, - вы займетесь охотой в загоне. Вы уже видели эти загоны. Они огорожены со всех сторон и заросли густым кустарником. Вы разобьетесь на нары и войдете в загоны, вооруженные спинками. Каждый получит по десять резиновых нуль. Убить они не могут, но хлопнут как следует! Охота продолжается три часа и прекращается по свистку, который вы все услышите.
Лику достался в напарники Ун Тонн. Они шли к своему загончику, и Ун вдруг сказал:
- Ты очень изменился...
- А что? - угрюмо спросил Лик.
- Ты... смотришь на старшего охотника так, будто он...
- Что - он?
- Будто молишься на него, на этого негодяя!
- Ничего я не смотрю! - буркнул Лик. - А ты все время говоришь, что предпочел бы быть буллом, а сам из кожи лезешь, чтобы угодить ему...
- Ты стал другой... А может, ты и был другой?
- Ладно, хватит. Я вообще не уверен, что ты не доносишь старшему на всех нас...
- Я? Да ты что?
- Ничего.
- Ну подожди, сейчас я тебе всажу пару резинок в лоб, за день не отдышишься!
- Это мы еще посмотрим, кто кому...
Они вошли в загон, не глядя друг на друга, и тут же скрылись в густом кустарнике. Донесся звук свистка, и Лик вытащил свою слинку. Он опустился на землю, стараясь, чтобы ни одна веточка не хрустнула под его телом. Главное, как учил старший, - подставить врагу как можно меньшую площадь своего тела.
Он медленно пополз в ту сторону, где, по его расчетам, должен был находиться Ун Топи. Осторожно, очень осторожно упереться одной ногой, чуть приподнять тело. Помочь второй. Оттолкнуться третьей. Продвинуться. Не забывать ощупывать присоском, прежде чем упереться, нет ли под ногой сухой веточки.
Послышался слабый звук, похожий на выдох, и над головой у него жикнула пуля, с сухим шорохом посыпались вe- точки. Ага, значит, этот Ун где-то впереди, замаскировался, как грязный оххр.
Лик почувствовал, как в нем поднимается ненависть к Уну. Вечно лезет со своими разговорами, не хотел, видите ли. возносить благодарение машине! Все хотят, а он, выходит, особенный. А неизвестно еще, не он ли настучал старшему, что Лик непочтительно говорил о машине. До полусмерти его тогда избили. Что ж, старший тут, можно сказать, ни при чем. Работа у него такая. А вот Ун, который настучал на него... Ну погоди, умник, вот я всажу тебе в лоб пару резинок, будешь знать, как задирать нас.
Ага, не стреляет, ждет, пока я подберусь, стало быть, поближе. Оглядеться надо...
Он медленно поднял голову. Кустарник был густой, и сквозь него почти ничего не было видно. Гм, эдак и не увидишь его в двух шагах. Лик поежился. Ему казалось, что со всех сторон сквозь листву на него смотрят бесчисленные Уны, поднимают длинные стволы слинок. Сжаться бы в комок. Подставить врагу как можно меньшую часть своего тела.
Нет, лежать так или ползти неизвестно куда - пустое дело. Надо что-то придумать. Сбить с толку этого умника. Буллом, видите ли, он готов стать, а сам подлизывается к старшему, все успевает, все он знает, все-то у него в порядке.
А что, если... Лик даже засмеялся про себя от простоты мысли, которая пришла ему в голову. Как это он раньше не догадался... Он достал из кармана тонкую веревку - он всегда носил ее с собой - и привязал один конец к толстому стволу, потом отполз в сторону, выбрал такое место, чтобы можно было видеть на несколько шагов вперед. Нет, как будто, Ун ничего не заметил.
Он отдышался и сильно дернул за веревку, ствол качнулся, зашелестела листва. Один за другим чавкнули два выстрела. Ун поднял голову только для того, чтобы выстрелить на звук, но и одного мгновения было достаточно Лику. Он даже засмеялся тихонечко про себя. Вон он, умник, думает, что его не видно. Он осторожно поднял слипку. Не торопись, учил его старший. С врагом надо соревноваться не в скорости, а в неторопливости. Так, теперь затаить дыхание и плавно нажать на спуск. Слинка вкусно чмокнула, и в ту же секунду Лик услышал глухой удар и стон.
Ишь, умник! Ты, говорит, Лик, изменился. Да, изменился! И не стесняется этого! Он знает теперь, что кругом все одни мерзавцы, которых надо убивать, убивать, убивать! И не учебными резинками, а настоящими пулями, которые рвут живое мясо, дробят кости. Ты убьешь - значит, ты останешься жив. Тебя убьют - что ж... таков удел настоящего охотника, аса, у которого нет сектора и нет друзей.
Он прислушался. Еще один слабый стон. А что, если этот Ун притворяется? Подманивает его к себе? Не сводя глаз с того места, где был Ун и откуда донесся стон, Лик начал медленно ползти. Пусть он попробует сейчас застать врасплох Лика, голову-то ему придется поднять для выстрела. Ему ее придется поднять, а у Лика она и так поднята. Разница в долю секунды. А ему больше и не надо.
Снова он услышал слабый стон. Совсем близко. Вот же он, лежит на боку, слипка на земле. Попал, попал, попал, пело все внутри у Лика. Что, получил, умник! Вот вам и Лик Карк!
Он осторожно протянул руку к лежащей слинке, готовый в любое мгновение выстрелить еще раз, но Ун не шевелился. Он лежал на боку и тихо стонал. Стоны были тихие и жалобные. Как голодный онослик, подумал Лик. Он схватил вражескую ел инку и вскочил на ноги. Победил, с первого выстрела всадил ему резинку в лоб! Ишь, стонет, умник.
До конца охоты было еще далеко, и Лик подумал, что можно будет сейчас спокойно посидеть, посмотреть, как будет приходить в себя Ун Топи. В восьмом секторе раньше жил, гаденыш. А теперь вот лежит и стонет.
Вдруг послышался пронзительный свисток, потом еще один и еще. Три свистка. Боевая тревога. Прежде чем он сообразил, что делает, Лик уже мчался сквозь кустарник к выходу из загончика. Боевая тревога!
ГЛАВА 5
- Итак, охотники, - сказал старший, - мы летим с вами на Оххр. Стало известно, что бесформенные замышляли совершить разбойничье нападение на нашу страну, и мы с вами призваны сорвать их черные планы. Поняли? - Старший охотник медленно обвел взглядом подчиненных, словно ощупал каждого. - Перед вылетом вам вручили приборчики, назначение которых я вам сейчас объясню. Я вам уже рассказывал на занятиях, что бесформенные имеют подлую привычку прикидываться камнями, комьями земли, кустарником. Вы спрашивали меня: а как же их найти, нельзя же стрелять в каждый камень. Вот для этого вам и выданы эти приборы. Называются они полеметрами. Каждый оххр, какое бы подлое обличье он ни принял, создает вокруг себя особое поле. Они используют его и для того, чтобы общаться друг с другом, исследовать все окружающее их. Оххр и поле неотделимы, есть поле - значит, где-то прячется и сам грязный оххр. Нет поля - нет и бесформенного. Направляйте полеметр в разные стороны и следите за стрелкой. Как только она показывает на красное, прибор чувствует поле. Чем ближе оххр, тем сильнее отклоняется стрелка. Наша цель - захватить живьем хотя бы несколько оххров, которых мы должны как можно скорее доставить на Онир. Таков приказ машины, да будет благословенно имя ее. Тот, кто найдет живого бесформенного, получит по возвращении серебряный знак третьего сектора. Понимаете, третьего! Он вам и не снился, третий сектор, охотнички.
Бояться бесформенных не нужно. Не раз уж наши корабли приземлялись па Оххре, чтобы сорвать их коварные планы нападения на Онир, и ни разу не было случая, чтобы оххр причинил кому-нибудь из охотников вред. Самая большая подлость, на которую они способны, - это выключить поле. Ты уже нашел бесформенного, вот он, мерзавец, притаился. И только подгоняешь платформу, чтобы погрузить его, как он, негодяй, раз и выключил свое ноле. Покончил, значит, с собой. А мертвый оххр цены не представляет...
"Как-то странно получается, - подумал Лик. - Собирались напасть на нас, а сами даже сопротивляться не могут". В этом было какое-то противоречие, но отупевший мозг Лика даже не попытался разобраться в нем, он давно уже отвык от решения самых простых задач. Ладно, чего там. Вот поймает он парочку-тройку этих слизняков, получит серебряный знак третьего сектора, а там, там уже... Что ждало его там, в серебряном блеске третьего сектора, представить себе он не мог. Все, что выходило за пределы конкретной сегодняшней задачи, казалось ему скрытым в тумане. Чем дальше пытаешься заглянуть мысленным взором, тем гуще туман. И мозг, онемевший от повседневной изматывающей муштры, страха и побоев, не умел даже вообразить этот мысленный ландшафт, задернутый туманным занавесом.
"Вот поймаю парочку-тройку бесформенных... - повторил он про себя. - Противные они только очень". Он вздрогнул от отвращения. Бесформенные слизняки... А еще хотели напасть на Онир... Ничего, они им покажут, как вынашивать в своих бесформенных тушах коварные планы! Это ж надо - быть бесформенным! Как же так? "Вот, например, я, Лик Карк, имею форму: четыре ноги, одно туловище, две руки, одну длинную шею и голову с четырьмя глазами. Даже только что родившемуся асу понятно, что это единственная разумная форма для мыслящего существа. А тут - камни..." Лик почувствовал, как его кожа покрылась мурашками от гадливости. Он вспомнил, что испытывал похожее чувство, когда смотрел на старуху. Ту, что приютила его, когда он разбил экран. Но та гадливость, что он испытывал, думая об оххрах, была в тысячу раз гуще, плотнее.
- Ну ладно, охотники, последний инструктаж закончен, пора впадать в спячку. В отсеке, в котором вы находитесь, сейчас начнет понижаться температура. Не бойтесь, это не так страшно, да и вы мало что успеете почувствовать. Оживете зато уже прямо на Оххре.
Старший охотник вышел из отсека и плотно закрыл за собой дверь. Металлическое колесо на ней повернулось, и послышался громкий щелчок, от которого Лик вздрогнул. Справа от него сидел Ун Тони. Все четыре глаза его были закрыты. Трусит, подумал Лик, точно трусит. Делает вид, что спит, а сам трясется. Но клюву видно, что трясется. Умником себя считает, а дрожит, как листья на кустах пори.
Лик поежился. Холод начал проникать внутрь тела, будто пропитывал его. Старший сказал, что это недолго. Старший все знает, никогда не обманывал. Строгий, это верно, но не о бм а н ы в а л н и к о г д а.
Холод просачивался все глубже и глубже. Сначала он кусал, сверлил, кромсал, потом начинал давить, пока постепенно Лик не перестал ощущать свое тело. Не было у него теперь тела, была тяжесть, которая медленно и неуклонно сжимала его, а его сознание плыло над ледяным прессом и молило лишь о том, чтобы забыться и не содрогаться больше от ужаса. Он звал забытье, стремился к нему. И оно пришло. Оно было милосердно, потому что, отдаваясь ему, Лик вырвался наконец из ледяных страшных тисков.
Пришел Лик в себя от голоса старшего охотника.
- Быстрее, - кричал он, - Быстрее шевелитесь, не дрыхните, как бесформенные! Надеть шлемы, взять оружие, полеметры. Ну-ка, шевелитесь, охотнички, оххры ждут вас с нетерпением. Идите парами, по номерам. Следите за показаниями манометров, что у вас на руках. Помните, недоумки, что вы можете дышать на Оххре только в шлемах и что, когда стрелка манометра на ваших руках показывает на цифру "один", запаса дыхательной смеси осталось на один час. Не успеете за этот час к кораблю, сами станете бесформенной падалью. Шевелитесь, шевелитесь, бездельнички!
Машинальными движениями, как на тренировке, Лик натянул на голову шлем, проверил давление в баллоне, перекинул через плечо слинку. И почему это он должен идти в паре с этим умником Уном Тони? Прямо как напасть какая-то этот Тони. С того самого момента, как оказались их кровати рядом, все время был Ун с ним. Прицепился, как голодный онослик.
Лик включил связь, и голос старшего охотника, заглушенный толстым шлемом, снова загремел с прежней силой:
- Вперед! И не бойтесь этой падали. Не было еще случая, чтобы бесформенные вздумали сопротивляться. Выключить поле это сколько угодно. А сопротивляться - этого у них и в помине нет, у недоумков. Вперед!
- Пошли, - толкнул его рукой Ун Тони, и они вышли из корабля по крутому и узкому трапу.
В первую секунду Лик испугался. Ему казалось, что он попал в огромную печь: со всех сторон на него изливались потоки света. Даже сквозь фильтры шлема небо сверкало нестерпимо ярким оранжевым пламенем, а маленькие голубые солнца плыли над головой с головокружительной быстротой, и густые маленькие тени зловеще шевелились у ног. Они все еще стояли у трапа.
- Вперед, я сказал, трусы поганые! Или я вас оставлю тут навсегда! - загудел в шлеме голос старшего, и Лик испуганно бросился в сторону от корабля.
- Меньше слушай этого олуха, - пробормотал Ун, - мы же теперь не в его школе, а на Оххре. Понимаешь, на Оххре...
- А ты, думаешь, один понимаешь?
- Дубина же ты, Лик Карк! Чего ты на меня дуешься все время... Да ладно, чего с тобой говорить...
- А нечего - и не говори! - буркнул Лик. Он подумал, что надо было, пожалуй, разойтись с Уном в разные стороны, но ему почему-то не хотелось отходить.
Они шли в нескольких шагах друг от друга, медленно поводя перед собой раструбами полеметров. Зеленые стрелки застыли па желтом секторе и никак не хотели отклоняться на красный. Может, он не годится, подумал Лик и потряс прибором. Стрелка нехотя качнулась и тут же вернулась на желтое. Да нет, работает вроде. И у Уна то же ведь показывает.
Впереди поднимался пологий холм, покрытый невысокими рыжевато-коричневыми кустами.
- Давай взберемся, может, сверху чего увидим, - сказал Лик.
- Увидишь, пожалуй, - пробормотал Ун. - Я вот знаешь чего думаю? Как же так выходит? Если оххры хотели напасть на Онир, почему же они не могут даже защищаться? Ведь для нападения нужно какое-то оружие, хоть что-нибудь. А старший сам признает, что бояться нечего. Как же так, а?
Ишь ты, какой умный, неприязненно подумал Лик. Неприязнь была тем более сильна, что Ун повторял неясно ворочавшиеся у него в голове мысли. У него они только ворочались, а этот выскочка разложил все, как рацион но тарелкам. Шустрый какой!
- Ты чего хочешь, чтобы я доложил старшему? Могу сделать! - крикнул он.
- Ты ж меня все время попрекал, что я на тебя стучу, сказал Ун. - Или ты мне приписывал, что сам делал?
Почему это так, пронеслось в голове у Лика, что все время хочется ему подковырнуть Уна, сказать ему что-нибудь обидное? Так сказать, чтоб слово шлепнуло, как резинка из учебной слинки. Чтоб застонал, чтоб скрючился на земле от боли... И вроде ведь он ас ничего, и идут они с ним сейчас в паре по Оххру, и крутят во все стороны полеметры. Никак не шевелится проклятая стрелка, прямо приклеилась на желтом. Вон впереди камушек, это уж точно будет оххр. Сейчас... Нет, пока он не будет смотреть на стрелку, подойдет сначала к камню. Подойдет, направит на него прибор - и пожалуйста, есть бесформенный! И поле не выключит. И второго добудут они тем же образом. То-то удивится старший. Посмотрим еще, кто дерьмо, а кто не дерьмо... До чего ж тяжело лезть наверх со всем грузом на спине, прямо как тогда, когда гонял их старший в первый раз... Еще пятьдесят шагов, и тогда передохнем. А красивые они, наверное, серебряные знаки. Подумать и то страшно: третий сектор. Тре-тий! Чуне такого и во сне не снилось. Хороша будет ее мамочка, клюв так разинет от изумления, когда увидит серебряный знак на его шее, что и захлопнуть не сможет... Вот и камень. Так, сейчас взглянем на стрелку.
Стрелка стояла на желтом. Он опустил плечи и остановился.
- Хорошая мысль, - сказал Ун. - Давай-ка отдохнем. Я, знаешь, все время думаю: а есть ли тут вообще оххры...
- Как так?
- А так, очень даже просто... Или ты веришь всякой чепухе, что нам суют в башку?
- Ты что имеешь в виду?
- Да хоть то, что оххры собирались напасть на нас. Или то, что нам дадут знаки третьего сектора...
- Как это - не дадут? - испугался Лик. Это что же, он, выходит, не сможет тогда прийти к Чуниной матери?
- Что-то никто никогда и не слышал, чтобы охотники получали сектор... Ну, двинемся дальше, что ли...
Как это он так говорит? Конечно, он действительно никогда такого не слышал, но, с другой стороны, что он мог услышать в своем паршивом десятом секторе? Рацион, работа, учителя, ваш долг никогда ничего не хотеть и не думать, потому что за вас хочет и думает машина, дающая... и всякое такое...
- А если оххры не собирались на нас напасть, зачем же нас замораживали и посылали сюда? - спросил Лик. - На экскурсию?
- Я и сам не пойму, на кой нам сдались бесформенные... И что они нам сделали? И почему я должен их ненавидеть?
Странный все-таки ас. И откуда у него такие мысли берутся? Как это у него получается?
- А ты что, сам-то к ним как относишься?
- К кому?
- К оххрам. Неужели ты их не ненавидишь?
- А почему я их должен ненавидеть? Что они мне, Уну Топи, сделали такое, что я должен их ненавидеть? А ты их ненавидишь?
- А как же, конечно!
- А за что?
- Как за что?
- Ну, за что? За что ты, Лик Карк, ненавидишь оххров?
- Ну... как тебе объяснить... Их же все ненавидят! - Лик нашел наконец объяснение и пожал плечами.
Дурацкие же вопросы у его напарника. Вроде простые по виду, а попробуй ответь! Хорошо, он сообразил, как отбрить этого умника.
- Все - это не ответ. То все, а мы говорим про одного аса по имени Лик Карк.
- Все их ненавидят - и я тоже, - упрямо сказал Лик.
- Тебе, выходит, голова вовсе и не нужна, - сказал Ун, и Лику показалось, что в голосе его появилась грусть. - Тогда выходит, что старший был прав, когда орал на нас, что никакие слова, кроме "повинуюсь", нам не нужны. Тогда выходит, что правы контакты, когда они нам каждодневно долдонят, что нам не нужно думать и хотеть, потому что за нас, за счастливых, думает машина. За счастливых и равных, но живущих в разных секторах...
О машина, да будет благословенно имя твое, как может ас произносить такие кощунственные слова и стоять при этом на ногах? Сердце проваливалось куда-то вниз от зябкого страха, что несли с собой эти слова. И все-таки... И все-таки... было в них что-то, что булькало и у Лика в голове, варилось на медленном огне глухого недовольства. Только у Уна сварилось, загустело в страшные слова, а у него только булькало... Но но может же... Но, с другой стороны... почему машина не разрешила ему встречаться с Чупой? Кому мог быть от этого вред: только потому, что они жили в разных секторах и машина уже подобрала Чуне другого аса? По тогда...
Лику казалось, что он приблизился к краю пропасти, куда ведет узкая, опасная тропинка. Из пропасти тянет промозглой сыростью, на дне ее бродят грязные клочья тумана. Ох, как не хочется спускаться в эту пропасть, куда тянет его Ун Топи! Наверху спокойно, наверху привычно, дорога наезжена, можно идти по ней не думая, не нащупывая ногой каждый камешек.
- Но все равно я ненавижу оххров, - упрямо сказал Лик. Как можно к ним относиться по-другому? Они же... у них нет формы... они омерзительные... и это их поле... Бр-р-р!
- Ты ненавидишь их потому, что они не такие, как мы с тобой. А они, выходит, должны ненавидеть нас за то, что у нас постоянная форма. Кругом одна ненависть получается... Что это?
- Где?
- Да вон впереди, правее...
- Будто что-то пронеслось над землей.
- Ага, и мне показалось.
Они постояли несколько минут, осматриваясь. Внезапно Лик увидел, как плоский мерцающий диск проплыл совсем близко от них и остановился у ноздреватой скалы.
Он сжал руку Уна, но Ун, очевидно, тоже заметил необычный предмет. Он замер и сделал знак Лику, чтобы тот молчал.
Мерцающий диск висел над самой землей, и под ним подрагивали две маленькие густые тени. Через несколько секунд он начал медленно удаляться от них. Отлетев на несколько шагов, он снова остановился.
- Такое впечатление, будто он поджидает нас, - сказал Ун Топи.
- А старший говорил, что они всегда лежат и ждут, пока их не подберут.
- Да хватит тебе за старшего цепляться! - зло сказал Ун. - Надоело!
Удивительное дело, отметил про себя Лик, он почему-то не разозлился на напарника.
- А знаешь что, - сказал Лик, - давай-ка подойдем поближе и определим, может, это вовсе не оххр. Или ты думаешь, что можно и отсюда засечь его поле?
- А чего мне думать, давай попробуем. - Он поднял полеметр и направил его на диск. Стрелка качнулась и двинулась к красному цвету. - Оххр!
- Быстрее! - крикнул Лик. Его охватило возбуждение. Серебряный знак на шее и разинутый клюв Чуниной матери.
- Ты думаешь, мы его догоним? - с сомнением спросил Ун.
- Конечно! Давай!
Они двинулись к диску, и тот, словно обрадовавшись, качнулся, поплыл от них. Они побежали, но диск, сохраняя дистанцию, легко прибавил скорость. Бежать было тяжело, и они быстро выбились из сил.
- Ну его к черту! - пробормотал Ун.
- Еще немножко! - взмолился Лик. Третий сектор и Чуна были совсем близко, в каких-нибудь трех десятках шагов, только руку протяни.
- Не догнать нам его, - покачал головой Ун.
- Болтать ты силен, вот что я тебе скажу, - заорал Лик, а как доходит до дела, проку от тебя чуть! Идем!
Диск повернул за огромную серую скалу, и охотники двинулись вслед за ним. "Ну оххр, - молил про себя Лик, - остановись! Ну хватит мучить нас. Вам же все равно, вы же никогда не сопротивляетесь, сам старший нам говорил. Ну что тебе стоит, оххрик, какая тебе разница, а мне..."
Он не успел закончить свои мольбы, потому что из-за скалы появились несколько странных существ. Ко всему был готов Лик, любые самые невероятные формы рисовало ему воображение, когда он пытался представить себе оххров, от камня до страшилищ, похожих на буллов, но то, что он увидел, заставило его оцепенеть. Прямо перед ними стояло существо на двух ногах, с маленькой головкой. На голове было только два глаза и клюв был маленький и мясистый. Но самым невероятным были две ноги! Как можно было вообще стоять на двух ногах и не падать? У другого существа было четыре ноги, но не было рук и все тело было вытянуто и покрыто черно-белыми волосами. Еще одно существо имело клюв, но что значит клюв по сравнению с жирным страшным туловищем, которое переваливалось на коротких двух ножках! Двух!
Жирный оххр сделал шаг навстречу Лику.
- О машина, да будет благословенно имя твое, спаси нас от кошмаров!
Сейчас, сейчас чудища набросятся на них. Что брехал там старший, будто они не умеют сопротивляться? И не убежать им, попробуй убеги, если этот проклятый диск заманил их в ловушку!
О машина! Камень в трех шагах от него зашевелился и с шорохом начал корежиться. Вот он выпустил из себя ногу, още одну. "О машина, да будет благословенно имя твое, спаси нас! Никогда, никогда не буду я сомневаться в твоей всеобъемлющей мудрости, только спаси! Благословенным буллом готов я всю жизнь конаться в канавах в поисках объедков, только спаси!"
Но нет, машина далеко. Их предали, послали сюда на растерзание. А те, кто послал, нежатся сейчас в своих высоких секторах. Нажрались, гады, сытного своего рациона, выползли из окон и греются на солнышке, присосавшись на стене вниз головой, и посматривают на улицу...
Он сдернул с шеи слинку. Что угодно, только бы унести отсюда живым ноги. Но прежде чем он успел прицелиться, Ун ударил кулаком по стволу, и слинка упала на песок.
- Ты что? - крикнул Лик.
Лик попытался было нагнуться, чтобы поднять слинку, но не мог. Какая-то сила не давала ему пошевельнуться. Его словно спеленали тугой эластичной тканью. Дышать он мог, с трудом втягивая воздух, но не больше. Он попробовал двинуть рукой. Нет, рука упиралась в нечто неосязаемое, но упругое.
Высокое двуногое существо подошло к нему, заглянуло в глаза. О машина, приди на помощь в этот последний миг, взмолился Лик. Двуногий похлопал рукой по шлему, но баллону с дыхательной смесью, поднял полеметр, повернул его, наблюдая за стрелкой, заметил на руке Лика манометр, осмотрел его, кивнул и вдруг сказал на языке асов:
- Не бойтесь.
ГЛАВА 6
- Не бойтесь, - повторил Павел. - Я чувствовал в вашем мозгу ужас, постарайтесь избавиться от него... Значит, Мюллер, - повернулся он к черно-белой дворняжке, - вы были правы, это действительно асы.
- Я был уверен в этом с самого начала, - сказал Мюллер.
- Но почему?
- Да потому что, кроме них, давно уже никто не прилетал на Оххр.
- Как вас зовут, асы?
- Ун Топи, - Ун ткнул рукой себя в грудь, потом показал на Лика: - Лик Карк. - Ага, теперь уже можно было двигать руками.
- Кто вы такие?
- Мы? Мы охотники с Онира.
- Для чего вы прилетели сюда?
- Нас послали, чтобы захватить как можно больше живых оххров. Нам обещали награды за живых оххров, доставленных на Онир.
- А для чего вам нужны живые оххры?
- Я не знаю.
- А кто-нибудь из ваших товарищей знает?
- Нет, наверное. У нас никто ничего не знает...
- Но кто-то же должен знать, кто-то должен руководить вами?
- О, машина знает.
- Машина? Что за машина?
Ун посмотрел на двуногое существо. Он уже почти привык к его нелепой форме. В конце концов, он знал, что бесформенные могут принимать самые неожиданные обличья, но не знать, что такое машина... А как же вообще можно без машины? Кто же будет за тебя думать, хотеть, кто обеспечит порядок? Хотя он же сам недавно втолковывал Лику, что нужно самому... У него закружилась голова, и он бы упал, если б не невидимые тугие подпорки. Как же объяснить ему, этому двуногому?
- У нас вся жизнь вращается вокруг машины. Это она в день метаморфозы решает, чем будет заниматься каждый ас и где соответственно он будет жить. Это она думает за нас, она награждает и наказывает. И ей мы каждый день должны возносить благодарение по нашим контактам.
- Хороша машинка, нечего сказать! - ухмыльнулся Павел. И что же она из себя представляет, ваша машина?
- Мы не знаем. Может быть, асы самых высших секторов... А мы... мы ничего не знаем и не ведаем. У нас ведь захочешь что-нибудь узнать, что тебе не положено, - и в буллы!
- А это еще кто такие?
- Полуживотные, в которых нас в виде наказания превращает машина, да будет благословенно имя ее.
- Это вы серьезно?
- Это ритуальное выражение. Его полагается употреблять каждый раз, когда произносишь имя машины.
- Да, хороши порядочки, нечего сказать. Но если я не ошибаюсь, Ун Топи, вы говорите о своем богоподобном машинном диктаторе без особого энтузиазма.
- Богоподобный? Диктатор? Простите, я не понимаю значения этих слов.
- Неважно. Скажем проще, дружище Ун: вы в восторге от своей машины? У меня почему-то складывается впечатление, что вы не самый примерный подданный своей машинной страны.
"Как он странно говорит, - подумал Лик. - Свободно, как будто он не знает страха, с шутками... Но ведь нас учили, что оххры отвратительны, что они внушают любому нормальному асу чувство омерзения... Как же так?"
- Не знаю уж как, - сказал Ун, - но вы проникли в самый тайник моего мозга. Я никогда никому не говорил о своих сомнениях, кроме своего товарища, - он кивнул в сторону Лика.
"Значит, он все-таки считает меня своим товарищем, - подумал Лик и почувствовал теплоту в сердце. - А ведь он должен был бы возненавидеть меня за все, что я ему говорил и делал". Он вспомнил радость, которую испытал, когда попал в Уна во время охоты в загоне, и ему стало стыдно.
- Сколько еще вы можете пробыть вне корабля? - спросил Павел.
Лик посмотрел на манометр на руке:
- Два часа.
- Ага, значит, нужно торопиться. Мне кажется, у меня есть хороший план, - сказал Павел.
- Какой? - спросил Мюллер.
- А почему эти двое милых молодых людей не могли бы найти пяток оххров?
- Пяток оххров?
- Ну да. Всех нас. И доставить к себе на корабль. Если я понял товарища Топи правильно, оххры интересуют интервентов преимущественно в живом виде.
- Нет, - сказал Мартыныч, - ты не должен попасть к ним.
- Это еще почему?
- Я пойду. А ты должен остаться. Тем более, что ты не оххр.
- Спасибо, но как раз сейчас нам было бы неплохо кое-что перенять у асов: тебе сказано, и ты без всяких споров и вопросов выполняешь волю священной машины. Я не машина и воля моя, как вы, наверное, уже успели заметить, далеко не священна, но я думаю, вам следует послушать меня.
- Хорошо, - сказал Пингвин. - Время идет.
- Как нам лучше сдаться в плен? - спросил Павел. - Мы можем превратиться в диски, как тот, что привел вас сюда, и вы погоните нас, как стадо гусей, к кораблю.
- Стадо гусей? Что это значит? - спросил Ун.
- Ничего, просто так. Воспоминания из другой жизни. Так как, годится?
- Не очень, - сказал Ун. - Нам говорили, что оххры, когда их находишь, лежат на земле и нужно вызвать платформу, чтобы перевезти их на корабль.
- М-да, вообще-то это верное наблюдение, - усмехнулся Пухначев, - особой живостью натуры оххры не отличаются. Так вызывайте транспорт, ладно.
- А что вы будете делать, когда попадете на корабль? спросил Лик.
- Там видно будет. Но вы согласны помалкивать, вам можно верить? - Навел внимательно посмотрел на обоих асов.
Но ведь то, что он говорит, пронеслось в голове у Лика, измена. Какие они ни есть, но оххры все-таки враги Онира. И тут же он представил себе, как Ун спросил бы его, если б узнал, о чем он думает: "А откуда ты знаешь, что они враги? Тебе, Лику Карку, они причинили какое-нибудь зло?"
Конечно, если все повернуть так, как выходит у Уна, тогда все получается по-другому. Совсем по-другому. Может, и правда не за что ему ненавидеть этих оххров?
- Да, - сказал Ун. - А ты как, Лик? Согласен?
- Да, - сказал Лик.
Страх и восторг боролись в нем. Он мелко дрожал, думая о том, что сделал и на что идет. И вместе с тем он чувствовал себя большим и смелым, полным тайны, переступившим порог. Все то, что казалось ему всегда огромным и незыблемым, сразу поблекло и уменьшилось в размерах.
- Тогда вызывайте платформу, - сказал Павел, - а мы примем вид камней, как вы того желаете. И запомните: мы можем переговариваться с вами так, чтобы никто нас не слышал.
- А как это? - спросил Лик.
- Очень просто. Подумайте обо мне и подумайте о том, что бы вы хотели сказать. И точно так же вы услышите нас.
- А что вы хотите делать на корабле? - спросил Лик.
- Слова не мальчика, но мужа, - усмехнулся Павел. - Там видно будет.
Он обернулся камнем. Удивительно, думал он, с того самого момента, как они узнали о приближении к Оххру корабля, печаль в нем исчезла, будто не было у него поля и никогда не давило оно его грузом миллионолетней мудрости. А может, просто пересилила его земная ненависть к врагу, к ворам, что прокрадываются на беззащитную планету, чтобы выкрасть всезнающих, но лишенных воли к сопротивлению оххров. Но оххры больше не безвольны. Самое смешное и нелепое - что они оказались действительно мудры. Приволочь шестерых случайных землян из невообразимо далекого и крохотного Приозерного с "целью перевооружения древней расы мудрецов - это было абсурдно. А оказалось, что не так уж и абсурдно. "Когда ищешь истину, - сказал ему как-то в разговоре Map- тыныч, - и находишь абсурд, это верный признак, что истина где-то недалеко. Мы, оххры, - добавил он, - уже давно поняли, что истина и абсурд бывают довольно близко друг от друга".
И вот получается, что абсурд обернулся точным расчетом. Конечно, ни на секунду не мог он подумать всерьез, что они лучшие из землян, что оххры не зря остановили свой выбор именно на них. Он мог назвать десятки, если не сотни людей, которые были если и не намного лучше, интереснее, то уж, во всяком случае, не хуже их группки. Дело, наверное, было в другом. Отчаявшиеся оххры положились на случай, и случай привел их на Землю, в Приозерный, к Ивану Андреевичу, Татьяне и остальным. Что ж, случай может быть и слепым. Но люди оказались не слепыми. Когда нужно было достойно представить Землю, они сделали это, они, такие простые, обычные люди из маленького русского городка.
Мюллер был прав, когда говорил, что нет обыкновенных людей, а есть люди, не осознавшие свою необыкновенность. Когда пришел их черед, все они достойно представили Землю. Ну кто бы мог подумать, что крикливая Татьяна Осокина обнаружит в себе столько самопожертвования, столько силы и любви, что первой начнет взламывать сухую кору отчаяния оххров? Кто бы мог подумать, что нерешительный старый аптекарь влюбится в Татьяну и станет настоящим воителем? Можно ли было представить, что степенный редактор районной газеты станет душой Оххра, возглавит сопротивление пришельцам? Что мальчик Сережа, этот худенький цыпленок, безнадежно влюбленный в Надю, будет учить мудрую древнюю расу спасительной любви?
А может, и нет в этом ничего удивительного? Просто оххры смогли рассмотреть в них все эти качества, давно исчезнувшие на их планете. Вот и объяснение того, почему выбрали именно их. Они просто оказались на передовой, как могли оказаться совсем другие. Как оказывались на передовой миллионы людей во время войны.
И не такая это уж метафора. Они не просто достойно представили здесь Землю, - они и оказались на своего рода передовой. Впервые за неимоверно долгое время оххры больше не валяются на теплых холмах, ожидая, пока их не похитят захватчики. Часть пошла с ним, чтобы выполнить намеченный план, остальные защищают преобразователи, потому что только преобразователи могут создавать новую материю, нужную для строительства и для рождения новых оххров. Как они там сейчас? Как Иван Андреевич, как Татьяна, как все?
Старший охотник испытывал легкое беспокойство. Охота шла более или менее нормально. Только что с кораблем связались Ун Топи и Лик Карк и попросили прислать платформу, но что-то казалось ему не таким, как бывало раньше.
Он снова перебрал все в уме: охотники все целы, все докладывают на корабль каждые четверть часа, всё вроде бы идет хорошо... И вдруг он понял, что отличало эту охоту от предыдущих. Нет, дело было вовсе не в количестве найденных живых оххров, пять - совсем недурная цифра. Дело было в другом. Ни один из охотников не доложил о том, что найденный оххр выключил поле. Это было необычно. Во всех охотах на Оххре, в которых он принимал участие, в шлеме только и слышались проклятия и ругань. Охота походила на вычерпывание воды руками, да еще с растопыренными пальцами. Стоило только найти оххра и испустить радостный вопль, как стрелка полеметра тут же вздрагивала и начинала сползать с красного на желтый. Поле исчезало, а это значило, что проклятые твари предпочитали испустить, так сказать, дух, чем отправиться на Онир. Хотя это было непонятно. Если ты уж так боишься, что тебя схватят, беги. Или сопротивляйся, или беги. Не можешь сопротивляться - тогда беги. А ведь они умели обращаться в мерцающие диски и нестись с бешеной скоростью над планетой... Оххр он всегда оххр, его не поймешь, и, стало быть, нечего ломать себе над этим голову.
Важно не это. Важно то, что сегодня ни один бесформенный не погасил поля при приближении охотников.
Старший охотник не любил неизвестности, новых, незнакомых вещей и явлений, беспорядка. Все должно быть в мире точно, гармонично, известно и, по возможности, неподвижно. Нет, положительно эта охота беспокоила его. Ни одного выключенного поля... И потом, никому не везло, никто не нашел ни одного бесформенного, зато Ун Топи и Лик Карк запросили платформу сразу на пять штук. А может быть, ему все это только кажется? Накликает заботы на свою голову? Был бы на его месте кто-нибудь из охотников помоложе, не таких добросовестных дураков, как он, он бы и внимания не обратил, выключают они свое дурацкое поле, не выключают - какое ему до этого дело, если есть целых пять живых бесформенных и можно собираться в обратный путь.
Старший вздохнул, надел шлем, кликнул с собой одного из двух охотников, поддерживавших связь с ушедшими, и вышел из корабля. Знакомый пейзаж, глаза б его не видели! Дурацкое это небо оранжевого цвета, бесконечные коричневые холмы с двумя башнями на горизонте... С двумя, он сказал? Ну да, тут всегда было две башни, одна на том вон пологом холме, а вторая налево от нее. Но ведь сейчас было три башни, он ясно видел. Гм, странно. Всем известно, что оххры ничего не строят. Стояли эти две башни с незапамятных времен, зачем - никто не знал. И вдруг - третья. Откуда она взялась? Надо, пожалуй, проверить. Может, подождать и взять с собой побольше охотников?.. Чепуха, не хватало еще бояться оххров, которые не только-то других тронуть, - себя оборонить, бесформенные, не могут.
Конечно, нужно было, пожалуй, обождать, пока освободится платформа, но, с другой стороны, не так-то уж тут далеко, если идти по прямой и не ощупывать по дороге каждый камень и кустик полеметром.
Он махнул рукой охотнику и быстро пошел к новой башне.
- А по-моему, - сказала Татьяна Осокина, - все это неправильно, все это Пашины хитрые планы. Собрать бы всех оххриков вокруг корабля да сжать бандитов полями... Вы что, Александр Яковлевич? Что это вы меня совсем обняли... Ну-ка, уберите руку!
Они притаились у новой башни. Павел и Иван Андреевич предупредили: скорей всего, никто у башен и не появится, но пост без команды не оставлять ни в коем случае. А Татьяне никакого прикава и не надо было. И без приказа перегрызла бы глотку каждому, кто попытался пальцем тронуть ее башню. Без нее, Татьяны Осокиной, и в голову бы никому не пришло строить, не то что на самом деле построить. А так стоит преобразователь. И не просто стоит. С его помощью и корабль этот бандитский вовремя заметили, и уж не одного нового оххра изготовили.
Да, дороговато, конечно, заплатила ты, Танька, за этот проект: самое дорогое из сердца вырвала, раздала оххрикам. Верно, остальные не бросили ее. Не то что делились, - прямотаки силой навязывали память сердца. Иван Андреевич, Паша, ребята, Сергей с Надькой и этот вот... Она гмыкнула. Ишь ты, человек немолодой, а ластится. И так руку положит и эдак, вроде случайно коснется. Чудак... Как это он не понимает, что не может она так, что у нее законный муж есть, дочка взрослая... А он... Чудак... Она поняла, что он засматривается на нее, когда вдруг заметила, что у него стали другие руки. Ни морщин, ни коричневых пятен. Она как увидела, чуть со смеха не покатилась, но вовремя спохватилась. Сама-то тоже... Начала с носа. уж очень ей хотелось посмотреть па себя не с буратипьим постылым носом, а с курносеньким, о котором всю жизнь мечтала. Потом осмелела и волосы себе подсветлила, попышнее сделала и посветлее. Нет, не блондинка, кто теперь поверит, что ты блондинка от природы, а не от химии, подсветлить в меру, - это совсем другое дело... Ишь, опять руку на плечо положил...
- Татьяна Владимировна, - прошептал Александр Яковлевич, - Танечка...
- Ну что, что?
Ну прямо как мальчишка, весь волнуется, прямо на глаз видно, как переживает, чудак...
- Танечка... Я хотел сказать вам...
- Что, Александр Яковлевич?
- Я никогда не думал... вернее, я там, - он показал носом на оранжевое небо, - я там... на Земле, никогда не думал, что судьба преподнесет мне еще... такой необыкновенный подарок...
Чуда-ак... Но трогательно так говорит, подумала Татьяна и чуть повела плечом. Но не так, как раньше, чтобы сбросить тяжелую его руку, а чтобы улеглась она поудобнее на плече, на впадинке около шеи, чтобы ощутить дрожь этой руки. Как мальчишка прямо, трепещет весь. Александр Яковлевич...
Необыкновенно щедрой вдруг почувствовала себя Татьяна. Вот ведь всю жизнь просидел человек в аптеке, неглупый притом человек, образованный, и не видел счастья. А она, Танька Осокина, не повела на этот раз плечом, не сбросила его руку, и сидит человек, дрожит, себе не верит, боится пошелохнуться. Чу-у-да-ак...
- Так какой же подарок? - спросила Татьяна.
Лукавила и знала, что лукавит, просто хотелось услышать, как будет он говорить. Красиво говорит, это верно.
- Я не умею сказать, Тапочка. Я знаю лишь, что не заслужил такого счастья...
- Какого? - направила Татьяна аптекаря на верный курс.
Какой бы ни был мужчина образованный и самостоятельный, а без женской направляющей руки, того и гляди, собьется с лыжни.
- Танечка, я счастлив, когда могу находиться подле вас, смотреть на вас, дышать одним с вами воздухом. Может быть, это выглядит глупо...
- Нет, - твердо сказала Татьяна.
- Что нет? - испуганно вскинулся Александр Яковлевич.
- Это не выглядит глупо...
И в первый раз за долгое время мучительное напряжение покинуло Александра Яковлевича. Слова Татьяны еще проявлялись в одуревшем от счастья мозгу, а на глазах уже дрожали слезинки. Или казалось ему, что дрожат, какая разница?
- Танечка, любовь моя, спасибо тебе за то, что ты есть... - Он склонился над ней, но не поцеловал, а прижал щеку к груди и начал тихо вздрагивать.
Чего ж плакать, подумала Татьяна, но и у нее сладко замирало сердце, тянуло куда-то...
Внезапно она увидела двух странных существ, приближавшихся к преобразователю. Четырехногие, с небольшим туловищем, снабженным детскими ручонками, и длинной шеей, увенчанной заключенной в прозрачный шлем головкой, они походили на каких-то нелепых пауков. Страха не было. Чудовища были столь нелепы, что вызывали скорее смех. Татьяна вдруг вспомнила детскую игру, когда каждый рисует на бумаге какую-то часть тела, заворачивает листок так, чтобы нарисованное им не было заметно соседу, который продолжает рисунок.
Она прошептала Александру Яковлевичу:
- Смотрите!
- Подождем, посмотрим, что они предпримут. Не думаю, чтобы они были очень агрессивны...
- А если они все-таки...
- У нас же здесь более двадцати оххров. Объединив поля, они бы танк остановили, не то что этих двух пауков...
Старший охотник и сопровождавший его Яр Комани остановились, не доходя нескольких десятков шагов до башни преобразователя.
- Мне кажется, господин старший охотник, я заметил какое-то движение вон за тем большим камнем, - прошептал Яр Комани.
- Чепуха, - неуверенно ответил старший охотник. - Оххры не шевелятся. Если они обернутся камнем там или чемнибудь другим, так они и остаются надолго. Давай-ка проверим полеметром.
- Слушаюсь, господин старший охотник. - Охотник вытащил прибор. Стрелка неподвижно стояла на красном.
- Ого, да их тут не один!
- А ты говорил, шевелятся, - уже увереннее сказал старший охотник. - Бесформенного заставить шевелиться - все равно что булла - произносить речи.
- А что в этой башне, господин старший охотник?
- Никто не знает, на кой им эти башни. Но эта вот новая. Давай-ка посмотрим.
Они осторожно двинулись к башне. Она была сделана из какого-то полированного материала, который отражал оранжевое небо и два маленьких голубых солнца. "Что за башня, на кой она бесформенным? Что они, так не могут валяться на своих холмах?" - подумал старший охотник и машинально схватился за слинку. Теперь и ему почудилось, что за ноздреватой скалой у подножия башни что-то пошевельнулось. Он выждал секунду и на всякий случай выстрелил. Пуля сухо цокнула о башню и отскочила рикошетом. В ту же секунду из-за скалы выбежало двуногое нелепое существо и пронзительно закричало, размахивая руками. Другое такое же чудовище, чуть покрупнее, дернуло первое за руку, потянуло вниз.
Старший охотник выстрелил еще раз.
- Вот гад! - закричала Татьяна Владимировна. - Я тебе покажу, как по башне стрелять!
- Да не по башне он стреляет, по нас!
- По нас? Да вы что, смеетесь?
Татьяне и в голову не могло прийти, что этот мультипликационный паук может стрелять в нее. Она вырвала руку из руки аптекаря и вскочила на ноги.
Уговаривать и спорить времени не было. Александр Яковлевич сбил Татьяну с ног и бросился вперед, петляя, как заяц.
Он не боялся. Все это абсолютно не имело никакого касательства к Александру Яковлевичу, к аптеке, в которой невозможно повернуться в те дни, когда привозят тюки с ватой, ко всей его тихой и размеренной жизни старого холостяка. Заведующие аптеками вообще не бросаются на четырехногих пауков в шлемах, которые к тому же стреляют из чего-то похожего на детские пистолетики.
Все это не имело никакого отношения к цитаткам, за которые прятался всю жизнь. Эти слова смирения и отчаяния не могли иметь отношения к человеку, который встал навстречу врагу.
Он бежал, и заклинания о суете сует больше не тревожили его. Он стал сильным и бесстрашным. Никто во всей Вселенной не мог теперь помешать ему защитить любимую.
Александр Яковлевич ударился обо что-то плечом и очень удивился, потому что зацепиться было ровным счетом не за что. "Ах, да, это же они в меня попали", - сообразил он, но раздумывать было некогда. Да и не нужно, потому что аптекарь перешел уже на управление инстинктами. Это они заставили его ударить ногой по тонким членистым лапкам одного паука и схватить за шею второго. Шея была мускулистой и билась в руках аптекаря, но он продолжал сжимать ее.
Внезапно оба паука замерли. Из-за башни бежал Штангист.
- Ну и напугали вы нас, Александр Яковлевич! Зачем вы выскочили? Еще несколько шагов - и мы все равно удержали бы их общим полем.
Как, как объяснить мудрому оххру, что погнал аптекаря вперед не разум, а древняя и вечно юная ярость воина защитника?
Ах да, он же ранен, подумал Александр Яковлевич и теперь испугался. Здесь же нет ничего дезинфицирующего, абсолютно никаких перевязочных материалов, да и без антибиотиков дело может быть дрянь.
Ранение, наверное, было нешуточное, потому что правое плечо так и скручивало, оно непроизвольно подергивалось. По-видимому, поврежден сустав. Александр Яковлевич осторожно потрогал плечо левой рукой. Что за наваждение, плечо было целым. Попробовал поднять руку - поднималась. Но он же ясно ощутил удар, когда бежал. Ах да, как же он забыл? Ведь не из земной плоти и крови он, а из бог знает чего, что и пули, оказывается, не боится...
И ощутил Александр Яковлевич вместе с радостью и сожаление, потому что успел уже где-то в самых глубинах сознания представить себе взволнованный испуг Татьяны, да вы же ранены, льстящие хлопоты женщины, перевязывающей воина, ничего, пустяки, я потерплю...
И вот пожалуйста, синтетическая плоть его подергалась, покрутило ее - и затянуло рану мгновенно, как будто ее и не было, попробуй убеди теперь Танечку, только посмеется.
- Что с вами? - кинулась к нему Татьяна Владимировна.
- Да, пустяки, ничего особенного, - небрежно сказал Александр Яковлевич и оттого, что не сказал ничего про рану, почувствовал себя настоящим мужчиной - сдержанным и сильным, будто всю жизнь был воином, защитником и никогда даже не слышал таких слов, как дибазол с папаверином, корвалол или экстракт крушины.
- Какие пустяки, когда они же в вас почти в упор стреляли! - сказала Татьяна.
Интересно, подумал Александр Яковлевич, почему это у нее дрожат губы? Неужели из-за меня испугалась? Нежность, целый водопад нежности обрушился на него, и он прерывисто вздохнул, чтобы не задохнуться. А не задохнуться было трудно еще и потому, что Татьяна висела на шее старого аптекаря и тело ее вздрагивало от беззвучного плача, настоящего бабьего плача, в котором были и радость, и горе, и чувство вины. Скоро сорок, муж законный дома остался, дочь Верка, а она здесь... Да что говорить, когда сказать нечего, а сердце так и схватывает, так и схватывает.
- М-да, однако, - послышался голос Ивана Андреевича,картина более чем неожиданная. На далекой планете под двумя голубыми солнцами обнимаются два, казалось бы, солидных человека, и на них смотрит десяток оххров и два оцепеневших паука...
Иван Андреевич хотел произнести этот маленький монолог эдак небрежно, шутливо, в нынешнем, так сказать, молодежном стиле, но сам заметил, что шутка еще и горчила почему-то. Уж не завидует ли он? Глупости, сказал он себе, еще не хватало ревновать призрак аптекаря к призраку бухгалтера. И кому? Призраку редактора. Уважаемые читатели, сегодня статьей "Призрак ревности" мы начинаем дискуссию "Откуда берутся предрассудки"...
Что, однако, за глупости лезут в голову! Чтобы преградить им .дорогу, Иван Андреевич помотал головой. Хватит, делом заниматься нужно.
- Так что будем делать с пауками? - спросил он.
- Придавить их, и дело с концом, - нахмурилась Татьяна Владимировна. - Они же стреляли в Александра Яковлевича!
Как, как он мог прожить целую жизнь, подумал Александр Яковлевич, между рецептурным и ручным отделом и не знать, даже не подозревать о том, что на свете существует такая горделивая и воинственная любовь, которую он испытывал к этой необыкновенной женщине с курносым прекрасным носиком и светлыми пышными волосами...
Нет, настоящим верующим он, конечно, никогда не был, но только теперь, пережив любовь и схватку с врагом, понял: его любимые цитатки и изречения вроде того, что все суета сует, все эти слова призывали лишь к трусливой пассивности. И бесконечно жаль было сухих своих, одиноких лет без любви и страстей, и бесконечно свободным чувствовал он себя сейчас.
- Придавить! Как это у вас просто все получается, - покачал иронически головой Иван Андреевич. Все-таки хорошо, что в этой группе землян есть люди, способные не забываться и смотреть на вещи в более широкой перспективе. - Боюсь, что вы несколько упрощаете ситуацию. Во-первых, вы забыли о нашем генеральном плане. Оххр не может жить в вечном страхе нового нападения. Значит, или нужно вооружиться, или постараться ликвидировать сам источник опасности. Поэтому-то Павел и четверо оххров отправляются в виде пленников на Онир. В том-то и заключается вся соль плана: пауки должны быть твердо уверены, что все идет нормально, что оххры такие же, как всегда. А вы - придавить!
- А что же с ними делать? - спросил Александр Яковлевич. - Они же теперь видели, что что-то не так...
- Позвольте, - сказал Штангист, - я думаю, вы недооцениваете наши возможности...
- А именно? - спросил Иван Андреевич.
- Сейчас я немножко покопаюсь у них в головах, и все будет в порядке.
- В каком смысле?
- Они ничего не будут помнить.
Удивительная все же штука эти эмоции, подумал Штангист, вытягивая поле. Вот стоят перед ним два паука с далекой планеты. Совсем еще недавно он бы не испытал ровным счетом ничего, глядя на асов. Сколько он видел их, жителей разных миров, двуногих, трехногих, четырехногих, десятиногих, безногих, ходящих, ползающих, плавающих, летающих, неподвижных... И вот теперь он стоит перед двумя жалкими асами, и ему хочется, да, хочется - какое, кстати, необыкновенное это чувство - хотеть! - причинить им боль, наказать за тупое и самодовольное их невежество, за исчезнувших братьев, за нападение на мирный Оххр...
Когда хочешь проникнуть в чужой мозг, главное - сделать поле, его края как можно более тонкими. Тогда оно легко проникает в самые глубины сознания. Так, еще немного... Он почувствовал, что края поля истончились до такой степени, что трудно было уже определить, где оно кончается.
Начнем со старшего. Он взмахнул полем, оно легко прошло через шлем, голову и мягко погрузилось в мозг. Какая удивительная бедность! Как мало знания и мыслей, как все жестко закреплено в дознании, сколько надменного презрения, ненависти и страха!
И опять Штангист подивился тому, как изменился. Раньше он бы бесстрастно перебирал этот мозг и содержимое его волновало бы не больше, чем песчинка, промелькнувшая тень. А сейчас он с трудом удерживается, чтобы не сжать этот злой разум, не выдавить, выкрутить его так, чтобы закапал на каменистую землю густой липкий страх, брызнуло чванливое невежество.
Он слегка двигал самым краешком поля, осторожно перебирал содержимое мозга старшего охотника. Ага, вот в его памяти зафиксировалось, как они вышли с корабля. Что-то беспокоит его. Что же именно? Вот в память улеглась мысль о появившейся новой башне. Мысль явно взволновала аса, поэтому она легла не ровной, разглаженной ленточкой, а сморщилась, Стереть ее. Дальше проще. Дальше можно не перещупывать все эти скучные серые полоски, склеенные в мозгу аса страхом, злобой, ненавистью. Стереть. Он потянул - и полоски с легким шорохом отслоились от сознания.
И тут впервые за бесконечно долгое время Штангист сделал то, что делать не намеревался. Он еще раз провел поле сквозь мозг аса и вышвырнул из него еще несколько ленточек, которые содрал, не рассматривая. За оххров, что исчезли с родной планеты, за выстрелы в землянина...
Второй мозг был и вовсе жалок: полупустая коробка, не успевшая еще заполниться ненавистью и презрением ко всему, что непонятно, неизвестно и не похоже на тебя.
- Все, Иван Андреевич, - сказал Штангист и снова отметил непривычные для себя чувства: он гордился проделанной работой и ждал похвалы.
- И вы уверены, что эти господа не будут помнить, что с ними произошло у башни? - недоверчиво спросил Иван Андреевич.
- Совершенно уверен.
- Вы просто волшебник! - сказал Иван Андреевич и тут же рассмеялся: слово "волшебник" звучало на Оххре юмористически. - Нy, давайте отправим их обратно на корабль.
- Я думаю, - сказала Татьяна Владимировна, - нужно их доставить если не к самому кораблю, то хоть подальше от башни - один раз она уже привлекла их внимание, - чтоб они снова не стали палить по ней.
- Разумно, - сказал Штангист и молча позвал товарищей.
Они подняли объединенными усилиями двух асов и заскользили с ними по направлению к кораблю.
Иван Андреевич долго смотрел на группу, пока она не скрылась за холмом, потом осторожно взглянул краем глаза на аптекаря и Татьяну. О господи, держатся за руки, как Сергей и Надя! И Александр Яковлевич-то хорош, в его возрасте... Заглядывает в глаза Татьяне... Ромео и Джульетта. Шестидесятисемилетний Ромео, только что вырвавшийся из аптеки, и сорокалетняя Джульетта, ошалевшая от нового курносого носика...
И тут же Ивану Андреевичу стало стыдно. Уж не от зависти ли у него ехидство? Кто знает... От зависти ли, не от зависти, но все равно воркующая парочка вызывала у него раздражение. Ну хорошо, нравитесь друг другу - дело ваше, но чего устраивать из этого театр двух актеров? Выставку для чего организовывать?
Завидовать, не завидовать - это все слова, да и не ему, пятидесятидевятилетнему солидному человеку, редактору районной газеты, завидовать этой клоунаде. Ну, а если не зависть, почему сжимается так сердце, томится дух? Может быть, протестует в нем старый солдат? Павел Аристархов сын отправляется в разведку в глубокий тыл врага, а он, человек, прошедший войну, остается здесь начальствовать над двумя влюбленными парочками.
Нет, не останется он здесь, здесь и Татьяна управится. И Александр Яковлевич оказался не так уж тих, как казался...
И сразу забилось сердце, задышалось по-другому. Ну, не задышалось, поправил он себя, так подумалось по-другому. И правда, в точности как тогда, в сорок третьем, как раз перед нашим наступлением на Курской дуге, когда шел он с Васей Абиюком и... как же звали этого долговязого, бухгалтером он был до войны в Новосибирской филармонии. Ага, Николай Малышев. Так же колотилось сердце, тот же озноб гонял стаи мурашек по спине, так же было страшно и так же жила в нем уверенность, что все равно он пойдет и сделает то, что было сейчас важнее всего на свете...
Старший охотник открыл глаза. Заснул с чего-то. Ему показалось, что он что-то проспал, и он быстро вскочил на ноги. Что за наваждение! Что у него на голове и что это за оранжевый свет бьет во все четыре глаза? Может, это сон такой снится, что он снова на охоте? На охоте, охота... Что такое охота?
Охота, охота... И слово как будто знакомое, и никак не вспомнить, что же оно значит. Охо-та... Да нет... О-хота? Тоже одни звуки, забавные какие-то звуки. Как музыка, как, например, вой закатного или утреннего ветра: звуков много, а они ничего не значат.
Старший охотник почувствовал страх. Страх поднимался снизу, холодный, цепенящий, тяжелый. Как же это может быть, чтобы он не помнил, как он попал сюда, под это оранжевое небо с двумя маленькими голубыми солнцами, что быстро скользили над головой. Он... Страх сразу накрыл его с головой, превратился в панику. Он... он не помнил, кто он. Кто же он? Он наклонил голову, посмотрел на свои ноги, вытянул руки... Кто же он? Что это у него сбоку на ремне? Приборчик какой-то со стрелкой, красное и желтое деления. Что за прибор такой?
Забыл, все забыл, застонал он про себя и закрыл все четыре глаза. Сон, сон это, страшный, тягостный сон. Надо только покрепче зажмуриться, так, чтобы даже больно стало, досчитать до десяти, и все станет на место. Он проснется, и кошмар пустоты сгинет, разнесется клочьями тумана, что гуляет по городу на рассвете, пока не выметет его утренний ветер. Раз, два, три... Ага, вот же он помнит счет, помнит, что в городе по ночам случаются туманы, что на рассвете их выгоняет утренний ветер. Вот, пожалуйста, помнит же он такие вещи, значит, сейчас досчитает он до десяти, проснется, и все станет на место, он вздохнет спокойно... Он вздохнул. И воздух втягивается как-то не так, как обычно... Ах да, он же в шлеме. А раз он в шлеме, пугливым опосликом мотнулась еще одна мысль, надо посмотреть обязательно на руку.
Ага, конечно же. Он даже засмеялся от радости.
О машина, да будет благословенно имя ее! Ну конечно, манометр. Раз ты в шлеме, нужно смотреть на манометр - на сколько еще дыхательной смеси. И на сколько же? О, еще много... Хватит, чтобы...
Радость была недолговечна. Смеси было много и ее могло бы хватить, если бы он знал, что должен делать. Впрочем, спокойнее. Главное - спокойнее! Раз он в шлеме и небо здесь такое непривычное, значит, он не дома. Дома - это там, где по ночам по улицам ползут туманы, где машина, да будет... Нет, нет, это-то он помнил, он знал, что он ас из Онира и находится сейчас не дома. Но вот кто он, где он и что ему сейчас делать...
Как, как заклясть страх, что опять окутывает его мокрым, зябким туманом? А... может быть, как-то выспросить аса, что стоит рядом с ним? Тоже в шлеме.
- Э... - замычал старший охотник, - ты не думаешь... Ты не думаешь, что нам... э...
- Повинуюсь! - вскинулся второй ас.
- Повинуешься?
- Повинуюсь!
Что он говорит? Что - повинуюсь? И слово-то какое-то знакомое, и смысл он понимает. Повинуюсь - это значит, что слушается. Когда ас хочет сказать, что слушается, он говорит "повинуюсь". И должен при этом выпрямить туловище и смотреть ему прямо в передние глаза. Это-то он помнит. Но вот зачем...
Справа, не очень далеко, на пологом холме он заметил знакомые очертания. Ага, это же корабль, на котором они прилетели. Ну конечно же, это корабль. Здесь - чужая планета. И небо чужое, и дышать нечем - все отлично укладывается в сознании. Одно к одному, так и подгоняется. Теперь только не торопиться - и все бессмысленные кусочки картины станут по своим местам, и он все поймет: и кто он, и где он, и зачем он здесь.
Раз он прилетел на корабле и раз у него на голове шлем, чтобы он мог дышать, значит, он вышел из корабля. И, значит, нужно вернуться на корабль.
В нем вдруг окрепла уверенность, что, попав на корабль, он все вспомнит.
- Пошли, - сказал он.
- Повинуюсь, - ответил его спутник.
Они двинулись к кораблю и вскоре подошли к нему. Перед ними открылся люк, и старший охотник с надеждой шагнул в темный овал. Сейчас он войдет и все вспомнит.
- Господин старший охотник, - вытянулся перед ним ас, Ун Тони и Лик Карк доставили на корабль пять оххров. Все оххры живые, и поля у них сильные.
Ас, стоявший перед ним, был без шлема. Стало быть, и он может снять шлем с головы. Как же это делается? Он поднял руки, задумался на мгновение, но пальцы сами собой отомкнули зажимы, и шлем откинулся на спину. Ас назвал его старшим охотником. Старший охотник... Очевидно, это как-то связано со словом "охота", которое уже приходило ему в голову. По что это такое - старший охотник? И на что им какие-то оххры, тем более живые? А что, если спросить? Похоже, что ас, который тянется перед ним, выпучив передние глаза, должен знать.
- Гм... А зачем нам оххры? И что это такое? - спросил он.
Молодой ас нерешительно открыл клюв, закрыл его, снова открыл.
- Оххры - заклятые враги Онира! - вдруг отчеканил он, и клюв его даже щелкнул от усердия. - Они замышляли коварное нападение на нашу мирную страну!
Вот как, вяло подумал старший охотник, что-то подобное он когда-то уже слышал, но это всё слова, слова, пустая шелуха, что падает с клюва, когда ешь спелые лапсы. Лапсы - какая у них бывает звонкая и колкая шелуха, когда они поспеют. Недаром их так любят мохнатые лапсуны. Иной раз, когда стайка лапсунов нападает на кусты со спелыми лапсами, только треск сухой стоит и шелуха слоями застилает землю...
- М-да... - протянул старший охотник.
Кругом стояли асы и почему-то молча смотрели на него. Чего они смотрят? Что он может им сказать? Что лапсуны обожают спелые лапсы? Это все и так знают. Лапсуны даже называются по названию плодов... или это плоды называются но названию лапсунов? Как странно, если вдуматься... И слово-то как странно звучит: "лап-сун". Не-ет, про лансунов все знают, это просто смешно. Каждый год, когда поспевают лапсы, почти все асы, и стар и млад, идут смотреть, как стаи мохнатых лансунов, строя уморительные рожи, ползают по кустам, жадно хватают лапсы и с бешеной быстротой разгрызают их. Только треск стоит. Иногда ветки надламываются, когда па них повисает сразу несколько животных, и лапсуны падают на землю, издавая негодующий визг. Они лежат на земле, неуклюже перебирают всеми своими восемью коротенькими ножками, и голые их надутые животики забавно отливают зеленым. Недаром говорят, что ты позеленел, как лапсуний живот...
Ну чего, чего они все стоят и смотрят на него? Не видели лапсуна, что ли? Нет, это он глупости говорит, лапсун не он, а он не лапсун, ас не может быть лапсуном, потому что у лапсуна зеленый живот. Фу, глупости какие... Надо молчать. "Молчать!" - крикнул он про себя. Очень знакомое слово. Прекрасное слово. Он его очень часто слышал. Вот он себе и будет каждый раз командовать, когда начнет рассказывать всем про лапсуньи животы: мол-чать!
- Господин старший охотник, разрешите повторить доклад? испуганно вытянулся перед старшим охотником дежурный.
- Когда лапсуны падают с веток, - сказал старший охотник, - можно видеть, что их животы голы и... Молчать! - рявкнул он, и дежурный отскочил от него на несколько шагов.
- Господин старший охотник, - испуганно пробормотал он и почувствовал, как клюв его дрожит, - разрешите...
- Их животы голы и отливают зеленым... Молчать! - Как он все-таки не удержался и выдал тайну зеленых животов лапсунов. Чепуха, тут же сказал он себе, какая же это тайна, если все видели лапсунов?
- Ун, Лик, - забормотал дежурный, врываясь в соседний отсек, - господин старший охотник... господин старший охотник...
- Ну, что случилось? - спросил Ун. - Доложил, что мы поймали пять живых оххров?
- Два раза.
- Ну, и что он? Мало, что ли? Требует еще?
- Да нет, он ничего не говорит.
- Как не говорит?
- То есть говорит... Начинает рассказывать глупость какую-то про лапсунов, потом вдруг орет "Молчать!". Что делать? Он... он... не как обычно...
Они прошли в соседний отсек, где стоял старший.
- Господин старший охотник, - сказал Ун, - разрешите доложить...
- Почему все спрашивают у меня разрешения? - спросил старший охотник. - Как я могу разрешать или не разрешать что-либо, если единственное, что я твердо знаю, - это то, что живот у лапсунов голый и зеленоватый... Я знаю, что не должен был говорить этого, - добавил он застенчиво, - но ничего не могу поделать с собой... Молчать!
- Вы знаете, кто вы? - спросил Ун, не спуская глаз с лица командира.
- Н-нет, в этом-то все и дело, хотя лапсуны...
- Что случилось, Яр? - спросил Ун у аса, который стоял рядом с командиром. - Ты ведь выходил вместе со старшим?
- Нет!
- Я спрашиваю, ты можешь объяснить, что с вами случилось?
- Повинуюсь!
- Так что же?
- Нет!
- Ты успокойся, подумай. Чего ты заладил "повинуюсь" да "нет"?
- Повинуюсь!
- Да, охотники, похоже, что они оба спятили.
- Да ты что, Ун, сам спятил - так говорить о старшем охотнике? - испугался Нет Олик.
- Хватит болтать! - рявкнул Ун Топи. - С этого момента отрядом командую я!
- А кто тебя назначал? - угрюмо спросил Вер Крут.
- Во-первых, кто нашел оххров? Мы с Ликом или ты? А во-вторых, если тебе не нравится, можешь оставаться здесь, на Оххре. И могу тебе для компании оставить старшего с Яром. Согласен?
- Что-то ты смелый слишком стал, - сказал Вер Крут. - Почему я должен тебя слушать?
- А вот поэтому!
Прежде чем Вер успел сообразить, что происходит, Ун уже сшиб его на пол. Вер вскочил и увидел перед собой слинку. Слинка в руках Лика смотрела ему в живот.
- Я не промахнусь, - тихо сказал Лик.
- На корабле не стреляют, - пробормотал Вер.
- Ничего, я не поврежу стены, пуля останется у тебя в животе. Смотри, какой у тебя симпатичный плотный животик. Как раз такой толщины, чтобы остановить пулю. Ну, так как?
Бандиты, подумал Вер, все они бандиты. Не успеешь отвернуться, как тебя уже оседлали. Ну что ему самому стоило объявить себя старшим охотником? Он же видел, что старший не в себе, тронулся, старый гад, но он не сделал этого, потому что он порядочный ас, не выхватывает на лету из чужого клюва. А Ун с Ликом выхватили. Им совесть не помеха... И пять оххров живых нашли. Таким всегда везет, а кто порядочный, тот со своей порядочностью - как с полным снаряжением на спине: вроде и идешь кое-как, но особенно-то не разбежишься. Ну ничего, мы еще посмотрим...
Не хотелось Ивану Андреевичу надевать на себя поле. Даже не мог объяснить себе, почему именно, а не хотелось ему. Пока был он без этого поля, оставался он тем знакомым себе Иваном Андреевичем Киндюковым, которого изучил за пятьдесят девять лет вдоль и поперек. Всяко, конечно, бывало, лукавил иногда с собой, но все равно знал себя досконально - не обманешь. А вот надень на себя этот невидимый плащ - и уж не тот он Иван Андреевич Киндюков. Придет знание, придет печаль оххров, их пассивность, а эта пассивность - не для его характера. Хотя Пашка Пухначев говорит, что не так уж страшно это поле. Оххров, может быть, оно и гнетет. а человеку есть что противопоставить его печали и тяжести.
И все-таки нужно было решать. Александр Яковлевич прав, и Сережка тоже все разложил по полочкам: если вы хотите идти в тыл врага, нужно как следует вооружаться. Что возразишь? Нечего.
Вот и пришлось надеть на себя на старости лет еще один хомут. Пашка оказался прав. Страшно, конечно, жутковато, даже голова кружится и подташнивает от безбрежности горизонта, от гудения Вселенной в голове, от безжалостного проникновения в суть всех вещей, но есть облегчение, Пашка был прав. Как только подумаешь о своем, земном, как только разволнуешься хоть немного, горизонт тут же сужается, гудение и печаль Вселенной уходят куда-то на второй план, и ты чувствуешь и думаешь почти так же, как и раньше.
М-да, усмехнулся он про себя, если бы Сергей Ферапонтович сейчас знал, что его редактор районной газеты лежит ноздреватым серым камнем на теплом песке под оранжевым небом с двумя голубыми солнцами и ждет, пока его подберут четырехногие пауки в шлемах, он бы вряд ли поверил этому. Что-что, а Киндюков всю жизнь был человеком солидным, глупостей старался не делать, знал и уважал порядок.
На мгновение Ивану Андреевичу стало не по себе: отправляется на такое дело - и практически сам по себе. Поговорил с Сережкой, Надей, обговорил все с Ромео и Джульеттой, уговорил кошку Машку поделиться с ним полем, и вот отправляется Иван Андреевич Киндюков уже на третью планету, считая, конечно, и родную Землю. Не туристом, заметьте, отправляется, а с особой, так сказать, миссией. Вот тебе и осторожный Иван Андреевич, вот тебе и пенсионный возраст, вот тебе и перестраховщик, как называл его за спиной кое-кто. Посмотрел бы на него сейчас директор кирпичного завода... А здорово он отбрил его тогда, как ловко подвернулась забавная старинная цитатка: а люди сквернословы, плохы... Плохы... Вот тебе и плохы. Кто плохы, а кто и нет.
И охватило вдруг Ивана Андреевича озорное, молодое веселье, молодая вера, что самое главное и интересное еще впереди, что жизнь только начинается. Какая там печаль, когда дрожишь весь от возбуждения, подумать только!
Господи, ведь он когда-то, в другой, можно сказать, жизни, увлекался такой ерундой, как советы домашнему мастеру. Направить бы сейчас письмо в редакцию: так, мол, и так, уважаемые товарищи, хочу поделиться, как удобнее всего обращаться в камни и другие предметы. Выбрав заранее нужное вам обличье, представьте себе его в уме по возможности во всех деталях, затем начинайте переливаться в него... А он еще обдумывал, как сделать дозатор для отмеривания равных порций зубной пасты, выдавливаемой из тюбика!
Иван Андреевич вдруг почувствовал, что к нему приближаются двое. "А как же я это определил?" - подумал он. Он не видел, не слышал, и, тем не менее, в мозгу сложилась четкая картина двух пауков, которые шли к нему. Ага, да он же чувствует их полем, вот оно как работает...
- Стой, - сказал Лик, - где-то здесь.
- Ага, - кивнул Ун, - и мой полеметр показывает, что чувствует поле.
- Может, этот камень?
- Судя по стрелке, похоже. И почему это они так любят превращаться в камни? Я бы, кажется, ни за что на это не согласился. Даже представить себе трудно, бр-р-р!.. Да, точно, оххр. Будем вызывать платформу?
- Да стоит ли из-за одного бесформенного? И почти рядом с кораблем. Дай-ка я попробую поднять его... Ого, какой тяжеленный! Помоги.
Вдвоем они с трудом дотащили Ивана Андреевича до корабля.
Все, больше ничего на Оххре их не держало.
- Приготовиться к старту. - приказал Ун Топи.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА 1
Гали Пун, один из Отцов Онира, внимательно посмотрел на аса, замершего перед ним в позе почтительного внимания. Голая, без знака, шея охотника, но глаза живые...
- Вы знаете, зачем я попросил прислать вас ко мне? - мягко спросил он.
"Как ответить лучше?" -пронеслось в голове у Уна Топи. Сказать "да" и показать себя сообразительным или рявкнуть "нет", как подобает настоящему тупому охотнику? Не угадаешь, но вообще-то лицо у Отца довольно умное...
- Да, господин Отец! - четко ответил Ун.
- Вот как, - с легким удивлением сказал Отец. - Гм... В таком случае, вы один из самых сообразительных охотников, которых я когда-либо встречал. Обычно ваши коллеги не отличаются большой сообразительностью. Впрочем, - добавил он и приоткрыл клюв в тонкой улыбке, - от них это и не требуется!.. Так для чего же я вас вызвал, Ун Топи?
- Я полагаю, господин Отец, что вы хотели бы узнать поподробнее о том, что случилось со старшим охотником.
Нет, вовсе не глуп этот молодой охотник. И скромен. Прикрыл, как полагается младшим в присутствии старших, боковые глаза, клюв держит чуть раскрытым: весь внимание...
- Вы не ошиблись. Меня действительно заинтересовал отчет о том, что случилось со старшим охотником. Насколько я понял, он потерял разум. Так?
- Не совсем, господин Отец. Он потерял его частично. Он не помнит, кто он, как его зовут, но помнит, что случилось с ним в детстве.
- Ну, это практически одно и то же. А скажите, вам ничего не показалось... ну, скажем, необычным в этом случае?
Пожалуй, имеет смысл играть ту же роль сообразительного молодого охотника. Готов на все, лишь бы заручиться благоговолением начальства. Так он добьется большего. Если, конечно, не вызовет подозрений. Только бы не переиграть...
- Вы четко сформулировали мои неясные подозрения, господин Отец...
- Не нужно, охотник, - поморщился Отец. - Возможно, в вашей казарьме льстят начальству именно так, но здесь я бы попросил вас либо воздержаться от лести вообще, либо льстить мне потоньше. Договорились?
- Так точно, господин Отец, - отчеканил Ун и подумал, что Отец и вправду не глуп и нужно держать с ним клюв начеку.
- Так что же привлекло ваше внимание?
- Во-первых, сам факт заболевания. До сих пор, насколько я знаю, никаких неприятностей во время охоты на Оххре не бывало.
- Да, это так. А во-вторых?
"Пожалуй, - подумал Ун, - я веду слишком опасную игру. Надо было просто гаркнуть "Так точно!", и все. Но тогда, возразил он сам себе, - Отец обратился бы к другому... К тому же он, по-видимому, и сам понимает...".
- Во-вторых, меня поразил тот факт, что господин старший охотник... потерял память одновременно с сопровождавшим его охотником.
- Разумно. И как же вы истолковываете это совпадение?
"Все, - подумал Ун, - хватит, не переигрывай".
- Не знаю, господин Отец.
- Скажите, если я правильно понял из отчета, оххров нашли вы?
- Так точно, господин Отец. Я и охотник Лик Карк.
- Молодцы. И вы же взяли на себя командование охотой, когда увидели, что старший охотник не способен выполнять свои обязанности?
- Да, господин Отец.
- Ну что ж, вы поступили правильно. Благодарю. Идите.
- Повинуюсь, господин Отец.
Ун Топи вышел, а Отец медленно прошелся по комнате. Странно, странно. Все факты, казалось бы, находят свое логическое объяснение, и все же в их узоре чувствовалась какая-то связь. Но какая? Если бы только понять ее, уловить некий замысел в узоре фактов...
Он вздохнул и вызвал помощника. Помощник замер, приоткрыв клюв.
- Какие последние сообщения?
- Отмечены странные метаморфозы...
- А точнее?
- Двенадцать асов высших секторов переведены машиной, да будет благословенно имя ее, в низшие секторы. Семнадцать асов переведены из низших секторов в высшие.
- С каких пор это стало новостью, которую нужно докладывать Отцу Онира? - раздраженно спросил Гали Пуы.
Он и не подозревал, что в нем скопилось столько недовольства. Очевидно, из-за неудавшейся пока попытки понять, что именно беспокоит его в последней охотничьей экспедиции на Оххр.
- Прошу прощения, господин Отец, но все семнадцать - из секторов с девятого по четырнадцатый...
- Ну и что же? Благодаря машине, да будет благословенно имя ее, наше общество достаточно подвижно в социальном плане, и каждый получает по заслугам.
- Прошу прощения, господин Отец, эти асы переведены сразу в высшие три сектора.
- Что-о? Да вы что, смеетесь надо мной? Перескочить сразу через десяток секторов? Вы что-то путаете...
Но он знал, что помощник не путает. Еще один непонятный, но зловещий штрих в странном узоре фактов. Он почувствовал, как у него заледенели ноги, словно он находился на наружной стене, когда дует промозглый вечерний ветер. Спокойнее, спокойнее, Гали, сказал он мысленно себе, десяток или два дурацких метаморфоз - это еще не повод впадать в панику. Бывали ошибки и раньше. Машина не безгрешна, он-то это прекрасно знает. Даже при самом тщательном уходе кристаллы принимают иногда непонятные решения. Было время, когда они пытались проверять решения машины, но выяснилось, что для этого нужна такая же машина, не меньше, и попытки были оставлены.
- К сожалению, господин Отец, факты проверены и перепроверены. Мало того, я по собственной инициативе посмотрел, нет ли каких-либо особых заслуг среди поднятых. Увы, сама машина, да будет благословенно имя ее, не смогла отыскать никаких заслуг.
И снова Гали Пун почувствовал, как у него мерзнут ноги и по спине начали разгуливать знобливые мурашки. Будь они все прокляты, бестолочи, не могут уже поддерживать нужную температуру у Отца Онира!
- Послушайте, вы! - крикнул Гали Пун. - Почему здесь такой холод? Вы что, хотите, чтобы я собственноручно отослал вас к буллам? Вы и так мычите!
Помощник склонил голову набок. Только не двигаться. Замереть, как, говорят, замирают оххры у себя на планете. Ждать, пока начальственный гнев пронесется, как утренний ветер по улицам города.
- Кто устанавливал температуру в помещении Отцов? - со зловещим спокойствием спросил Гали Пун.
- Простите, господин Отец, я не понял вашего вопроса...
- Ах, простите, господин помощник, я, разумеется, неясно выражаю свои мысли, - почти ласково прошептал Отец и тут же ударил кулаком по столу. - Кто, я спрашиваю, устанавливает температуру в моей комнате?
- Как - кто? Машина, господин Отец. Кроме того, с вашего разрешения, температура совершенно точно соответствует норме.
Ах да, конечно, сразу успокоился Отец, он же совершенно забыл, что теперь машина решает почти все. Хорошо хоть, что Отцы неподвластны этому чудовищу и только они могут истолковывать решения кристаллов. Не выходить из себя, пусть это делают глупцы и невежды. Он, Гали Пун, умеет сохранять присутствие духа и ясность ума в любых передрягах. Онир слишком велик и могуч, чтобы пугаться нескольких десятков необъяснимых метаморфоз...
И все же спокойствие не приходило, несмотря на все заклинания. Сегодня два или три десятка непонятных метаморфоз, два или три десятка сбитых с толку, потрясенных, ликующих асов, а завтра? Он вдруг ясно представил себе хаос, который может охватить прекрасный и стройный в своей гармонии мир, называемый Ониром, если в нем начнут происходить такие вещи. Гармония не может быть непредсказуема. Гармония гибнет от соприкосновения с хаосом, потому что хаос изначален, а гармония - это то, что вырвано в борьбе с хаосом поколениями его предков, предков, которые привезли на Онир первых оххров, построивших машину.
Гармония Онира была прекрасна в своем совершенстве. В центре ее - машина, знающая все, считающая и рассчитывающая все. Ее решения истолковывают Отцы, и в первую очередь он, Гали Пун. Он, именно он, ощущает на себе тяжкое бремя ответственности. Все, все смотрят на него, все ждут его решений, от владельцев заводов, чье богатство дает им наследственный высокий сектор, до тупого работника четырнадцатого сектора, стоящего в одном шаге от буллов.
И вся эта махина - на нем, на Гали Пуне. Хорошо хоть, что есть машина. Но много, пожалуй, даже слишком много в последнее время стало зависеть от работы пяти кристаллов в подземелье Совета Отцов. Практически все. Но что делать, это плата за невыразимо прекрасную гармонию, всеобщую сцепленность и четкость жизни Онира. И именно поэтому поломка даже одной шестеренки ужасна. Один сломанный зуб нарушает плавное вращение соседней шестеренки, та в свою очередь не войдет в зацепление со следующей, и в гигантском отлаженном механизме послышатся зловещий хруст и скрежет...
Как счастливы простые асы, верующие в непогрешимость машины, как спокойны и благостны их дни и ночи! А он, Гали Пун, один из Отцов Онира, должен страдать, оплачивая их спокойствие бременем знания и сомнений...
Он глубоко вздохнул, посмотрел на помощника, который по-прежнему неподвижно стоял перед ним, приоткрыв клюв.
- Что еще?
- Семь заторов в движении пассажирских и грузовых платформ, перебои с выработкой энергии, господин Отец.
Нет, все-таки в непонятных деталях узора вещей угадывалась зловещая закономерность. Выключение поля последним оставшимся оххром. Это странное безумие старшего охотника, сбои в работе машины, хотя ее обслуживают только что доставленные оххры... Проверить оххров? Никчемное дело. Никогда никому не удавалось вступить с оххром в контакт. Оххр или делает свое дело, или выключает поле. Он непроницаем.
Гали Пун вспомнил живые глаза охотника. Гм, пожалуй, слишком живые глаза. Опыт подсказывал ему, что слишком живые глаза плохо вписываются во всеобщую гармонию.
- Найдите в группе охотников, которые вернулись с Оххра, толкового аса. Пожалуй, я даже подскажу вам, кого именно прислать ко мне. В отчете я прочел, что один из охотников был недоволен, когда этот Ун Топи принял на себя командование. Я бы хотел с ним поговорить.
- Слушаюсь, господин Отец.
- Нет, ты только посмотри, мама! - кричала Чуна, перебегая из комнаты в комнату. - Целых четыре! Я никогда даже не предполагала, что у асов могут быть такие храмы! И в каждой комнате по контакту! Ой, смотри! - Она пробежала по стене, остановилась у самого потолка. - Ты не представляешь, какие гладкие стены! Присоскам прямо щекотно прижиматься к ним.
- Не бегай по потолку, асочка, - сказала мать Чуны, - это вообще неприлично для асы в твоем возрасте, а кроме того, не забывай, что мы теперь живем в первом секторе. Ты понимаешь, асочка, что это такое? Я так глазам своим не верю. Вот уже второй день, как мы здесь, а я от зеркала оторваться не могу. - Она подошла к зеркалу, посмотрела на золотой знак на шее, поправила его.
- Я сама не могу поверить, что мы теперь в первом секторе. Почему мы? Почему не кто-то другой? За что?
- Молчи, Чуна! Что ты понимаешь! - закричала аса. - Я знаю, знаю, что среди молодых асов сейчас ходят разговоры, что попасть в высшие секторы - это дело случая. Так вот, все это пустое щелканье клювами, поняла? - Мать Чуны говорила с тихой яростью, клюв ее подрагивал от возбуждения. - И если тебе будут нашептывать завистники, что, мол, вы попали в первый сектор случайно, выклюнь им глаза, бесстыжим этим буллам! Твой отец - достойнейший ас, и я всегда верила в него, знала, что раньше или позже машина, да будет благословенно имя ее, отметит его достоинства: и то, что он никогда не жаловался, никогда ни к чему не стремился, никогда ничего не хотел, никогда не высовывал клюв, никогда ни о чем не думал и всегда жил по правилам, поняла? Когда я сказала ему, что какой-то будущий булл, с которым ты познакомилась на улице, хочет быть программистом, разве он не помчался тут же к контакту, чтобы доложить машине, да будет благословенно имя ее?
"Лик Карк", - произнесла про себя Чуна. Слова были легкими, прозрачными, как туман. Они таяли, и в клюве почему-то ощущался горький привкус... Да, теперь мать расхваливает отца, а когда их спустили из восьмого сектора в девятый, на нее посмотреть было страшно, два дня к рациону не притрагивалась... А ведь отец такой же... Нет, мама, наверное, права, машина, да будет благословенно имя ее, всех оценивает по заслугам... Лик Карк... что с ним, где он сейчас? Какой он был... порывистый... грубый... Но как он смотрел на нее, широко открыв все четыре глаза... И жутко становилось от этого взгляда, и мурашки по спине начинали бегать, и сердце замирало, и все равно было так сладко, так необыкновенно, что хотелось плакать... Где ты, бедный Лик?
Она представила его в виде жирного, волосатого булла, ползающего по канавам, и почувствовала, что на глазах ее выступили слезы. Бедный, бедный Лик... Конечно, он сам виноват: зачем он хотел встречаться с ней, хотел стать программистом, ведь хотеть нехорошо, невежливо...
- Ты что, асочка? - нежно спросила мать Чуны и ласково потерлась клювом о шею дочери.
- Ничего, - ответила Чуна, - так просто...
- Мне тоже моментами становится грустно. Особенно когда я думаю о том, как долго мы ждали этого момента. Но это плохо, Чуна. Сегодня, как только я спустилась по стене на улицу, я увидела здоровенного стерегущего. И знаешь, что произошло? Угадай!
- Не знаю...
- То-то же, асочка! Он увидел мой золотой знак и тут же вытянулся передо мной! Вот что он сделал, асочка ты моя! Она гордо вскинула голову, так, чтобы подбородок не закрывал золотой знак на шее, и важно прошлась по комнате, так же важно и надменно поднялась по стене, медленно прошествовала по потолку.
- Ну вот, - сказала Чуна, - а мне говорила, что ходить по потолку нехорошо, невежливо.
- Все ты запоминаешь, лапсун глупый!.. О, сколько уже времени! Включи контакт, посмотрим машинные известия, потом вознесем вечернюю благодарность. Я думаю, отец придет с минуты на минуту. Поставь-ка рацион подогреть.
Чуна достала рацион. Целых три контейнера выдают им теперь, и какие тяжелые! Она даже понятия не имела, что у асов есть такая еда. Так прямо и тает во рту, не надо подолгу перетирать каждый кусок клювом, как их старый рацион.
- Ой, что это? - вскрикнула мать Чуны, когда экран контакта вспыхнул серебристым цветом.
Чуна чуть не выронила от испуга контейнер с рационом и посмотрела на экран. О машина, да будет благословенно имя ее! На экране контакта несколько буллов что-то мычали, ударяли себя грязными руками в волосатую грудь. Глаза их ничего не выражали, и они то и дело жалобно моргали.
- Что это? - повторила мать Чуны. - Сколько себя помню, сроду не показывали по контакту буллов.
- Какие ужасные!.. - прошептала Чуна.
Она смотрела на экран и почему-то не могла отвести взгляд от одного булла, у которого был обломан клюв. Ужас, отвращение и жалость переполняли ее, и она почувствовала, как поднимается к горлу тошнота. Сейчас мне будет плохо, подумала она, но все равно - продолжала смотреть на булла с обломанным клювом. Ей показалось, что он был моложе других и глаза его не такие пустые. Зачем, зачем показывают в машинных новостях буллов? Это же нехорошо, невежливо. Воспитанные асы о буллах не говорят. И тут Чуна сообразила, что критикует машину, да будет благословенно имя ее, потому что кто же еще решает, какие вещи показывать в машинных новостях, как не машина, да будет благословенно имя ее.
От этой мысли голова ее закружилась, она почувствовала, что вот-вот упадет. Тошнота неудержимо поднималась к горлу. Нехорошо, когда аса вырвет, невежливо, подумала она и потеряла сознание.
- Скажите, - Гали Пун пристально посмотрел на Вера Крута, вытянувшегося перед ним, - вы ведь принимали участие в последней охоте на оххров, не так ли?
- Так точно, господин Отец.
"Вот булл! - подумал охотник. - Знает же прекрасно, мерзавец, что я только что вернулся с Оххра, а играет, как с опосликом". О машина, сколько же можно его терзать? Ну хорошо, не подчинился сразу Уну и Лику Карку, когда старший рехнулся, так ведь, с другой стороны, они сами себя назначили, почему он должен был тянуться перед ними? Всегда так: все, кто ловчит, перед начальством выслуживаются, начальство первыми и предают. Он бы так не поступил. У него, у Вера Крута, есть принципы. Они, правда, мешают жить, эти принципы, без принципов шустрить сподручнее, но что делать, каждому свое. И, как уже случалось не раз в последние дни, было ему горько, но горечь была перемешана с гордостью. И видел он себя защитником крепости. Все ловкачи разбежались, а он, Вер Крут, стоит один со слинкой в руке. Одинокий, преданный всеми, но сильный верой.
- Мне хотелось спросить вас, охотник, не показалась ли вам охота на Оххре чем-нибудь необычной?
- Да, господин Отец, показалась.
- И чем же?
- Когда господин старший охотник... забыл свое имя, команду сразу захватили Ун Топи и Лик Карк, и я думаю...
- Да нет же, - досадливо пожал плечами Отец, - меня не интересует, кто там командовал отрядом во время возвращения на Онир, меня интересует сама охота.
"О машина, - пропел про себя охотник, - так, значит, меня вызвали к Отцу не для того, чтобы наказать? О машина, да будет благословенно имя ее, это же... это же..." Он не мог найти слова, чтобы выразить радость и благодарность, распиравшие ему грудь. И какой мудрый вид у Отца, и глаза какие добрые, сразу видно, что Отец... Значит, он спрашивает про саму охоту. Ну хорошо, наконец-то он выскажет все, что думал и что никто не хотел выслушать.
- Охота, господин Отец, была очень мне подозрительна.
- Почему?
- Потому что никто, кроме Уна Топи и Лика Карка, не нашел ни одного оххра. Сначала пять, а потом еще одного.
- И что же здесь необычного, что вызвало ваши подозрения? Может быть, они просто лучше искали?
- Никак нет, господин Отец, мы делали все, что могли. Мы все служим Ониру и машине, да будет благословенно имя ее.
- И все-таки я не вижу...
- Нас учили, господин Отец, что большинство оххров, когда их находишь, предпочитают выключать поле...
- Да, я знаю, я читал, - нетерпеливо прервал охотника Отец.
- Во время этой охоты не было ни одного оххра, который выключил бы поле. Ни одного. И всех шестерых оххров нашли Ун Топи и Лик Карк. И к тому же мне показалось странным, что сошли с ума сразу двое - господин старший охотник и сопровождавший его ас...
- Значит, вам эта охота показалась необычной?
- Так точно, господин Отец.
- Ну что ж, охотник, не могу вам отказать в известной проницательности...
Восторг распирал Вера Крута, еще секунда - и разорвет его. Он еще покажет этому Топи, еще узнают, кто такой Вер Крут. Жизнь свою отдаст Отцу, все для него сделает... Он посмотрел на Отца, который задумчиво поглаживал рукой свой желтоватый клюв.
- Вот что, Вер Крут, - наконец сказал он, - я хочу, чтобы вы сделали одну вещь: попробуйте определить, нормальны ли те оххры, которых привезла ваша экспедиция. У меня кое-что вызывает сомнение. В отличие от тех оххров, которые раньше обслуживали машину, эти, похоже, плохо справляются со своими обязанностями. Вчера, например, в машинных новостях показывали буллов - вещь совершенно неслыханная... Вы понимаете меня?
- Так точно, господин Отец!
- Задание, безусловно, непростое, но если бы вам удалось что-нибудь выяснить я лично обещаю вам серебряный знак на шею.
- Благодарю вас, господин Отец!
- Идите. Ду Пини, который сейчас заведует у нас оххрами, уже предупрежден.
- Слушаюсь, господин Отец!
Все, все сделает он для этого замечательного аса, выведет на чистую воду Уна Топи и Лика Карка. Подонки! Подонки!
Ду Пини действительно был уже предупрежден. Он чуточку поморщился, увидев, что у охотника нет на шее знака, но взял себя в руки. Как-никак, сам Отец Гали Пун предупредил, чтобы он во всем помогал охотнику. Пожалуйста, он поможет, но неужели же он, ас первого сектора, носящий на шее золотой знак, не может сделать то, что сделает какой-то хам охотник...
- Скажите, господин Пини, - спросил Вер Крут, - по каким признакам можно судить о состоянии оххров, которые находятся в вашем подчинении?
- Общеизвестно, - скучным голосом сказал старший смотритель оххров, - что оххры ни в какой контакт не входят. Они просто обслуживают машину, и все. Они понимают то, что им говорят, но никогда еще не было случая, чтобы оххр ответил. Рано или поздно все они выключают поля, но почему они это делают или когда, объяснить никому до сих пор не удавалось.
- А как вы определяете, жив ли оххр или выключил поле? Так же, как мы, при помощи полеметра?
- Совершенно верно.
- А известно ли вам, господин старший смотритель, какова нормальная сила поля оххров?
- Я не совсем понимаю. Известно, что обычно оххры находятся в состоянии как бы спячки и становятся активными, когда им предстоит идти к машине, да будет благословенно имя ее.
- Вот-вот. Есть ли разница в напряжении поля в то время, когда оххр пребывает в спячке и когда он работает?
- Не могу вам сказать.
- С вашего разрешения, господин старший смотритель, я бы хотел измерить разницу.
ГЛАВА 2
- Ну что, Павел Аристархов сын, давайте подведем первые, так сказать, итоги. Все-таки, как ни говори, уже три дня на Онире. Какие у вас впечатления?
Иван Андреевич представил себе, что, будь он сейчас в старом своем земном обличье, он бы обязательно легонько хлопнул фельетониста по спине. Показал бы, что все понимает, что сам в таком же положении, что нечего вешать нос. Но Павел будто всю жизнь только и делал, что копался полем в чудовищной машине, управляющей всей жизнью планеты.
- Электронный фашизм.
- Хорошо сказано, Паша. Мне уже тоже не раз приходило в голову, что наука и техника сами по себе ни в какой степени не гарантируют социального прогресса. Вы что смеетесь?
- Да вспомнил, что мне Александр Яковлевич рассказывал. Беседу свою с одним оххром передавал. Оххр ему говорит, что мы, мол, узнаем других только для того, чтобы лучше познать себя, или что-то в этом роде. А наш Александр Яковлевич ему возражает. Это, говорит, банальная истина. И знаете, что сказал ему оххр?
- Нет. А что?
- Сама истина не может быть банальна, потому что она неисчерпаема. Банально может быть только ее понимание. Здорово сказано, а?
- Интересная мысль. А вы это к чему?
- Насчет науки и прогресса. Поразительное тут сочетание технических достижений и чисто фашистской регламентации и контроля над мыслями.
- Так ведь и достижения-то не их. Машину-то не асы построили, а привезенные оххры...
- Фашисты тоже, между прочим, старались выжать что могли из пленных, так сказать, мозгов... У, прямо дрожь меня пробирает от ненависти...
- Не горячитесь, Павел Аристархов сын. У меня и так впечатление, что мы немножко торопимся.
- В каком смысле?
- А в самом прямом. Надо, чтобы вся их машинная государственность развалилась постепенно, незаметно, по частям.
- А по-моему, Иван Андреевич, надо сразу сломать к чертовой матери эту машину, вызвать хаос.
- Ну, а такой маленький вопросик, который мы с вами уже не раз обсуждали: а имеем ли мы (мы - это мы и все оххры), имеем ли мы моральное право делать это?
- Но мы помогаем оххрам защитить себя от агрессии. К тому же нас ведь просили Ун Топи и Лик Карк. Они же асы.
- Асы-то они асы, но ведь, кроме них, на Онире могут быть и другие, кому нравятся здешние порядки. Так ведь, Паша?
- Мне не хочется обижать вас, Иван Андреевич...
- Откуда вдруг такая деликатность? - обиженно спросил редактор. - Вы мне на Оххре уже раз высказали, когда мы говорили об Осокиной...
- Я ж извинился, Иван Андреевич, вспылил... Разве я могу всерьез вас обидеть? Вы ж мой первый редактор, пособник фельетонных грешков...
- Ладно, ладно, чего уж... - пробурчал Иван Андреевич и подумал, что нашли они с Павлом не самое обычное место для выяснения отношений: какая-то конура на неведомой планете, в которой они валяются бесформенными тушами на полу и беседуют при помощи колебания полей.
- Так что, Иван Андреевич, будем считать, что мы не навязываем им свои порядки, а лишь помогаем братьям по разуму, потому что, по-моему, всегда надо помочь тому, кто восстает против тирании, предстает она в виде усатенького фюрера или суперэвээм. Мы, конечно, не знаем, как пойдет у них развитие, когда рухнет у них машинный фашизм, но я уверен, что у Лика и Уна найдется много единомышленников и Онир пойдет по пути социальной справедливости. Вы согласны?
- Если бы я не верил в это, Павел Аристархов сын, я бы, наверное, нашел себе более пристойное занятие, чем прикидываться оххром. Я верю в прогресс, Паша. Я абсолютно уверен, что Онир вырвется из мертвящей хватки электронного фашизма. Как там будет называться их формация, я не знаю, это слишком сложный вопрос, но наверняка это будет более гуманное общество, общество, не застывшее в кастовой неизменности, более демократическое общество, общество гораздо более человечное, что ли, хотя я понимаю, что слово "человечное" звучит здесь довольно странно. Кто знает, может быть, то, что происходит у них сейчас, это их революция, а?
- Вы историк, Иван Андреевич, вы это отлично сформулировали.
- Ну уж отлично, скажете тоже, Паша! Но, кстати, все-таки торопиться, по-моему, не стоит. Наверное, не следовало устраивать эту путаницу с их...
- ...метаморфозами.
- Точно. Поднять сразу семейку этой девчонки в первый сектор...
- Так ведь Лик просил.
- Мало ли что просил, это может вызвать подозрения. Представьте себе, что вас, литсотрудника районной газеты, вдруг назначили главным редактором областной...
- А что, я бы не удивился: вы знаете, кого рекомендовать для выдвижения, Иван Андреевич... Кто-то идет сюда.
- Тш-ш!
- Как вы не привыкнете; они же нас не могут слышать. Так, Мюллер?
- Ну конечно, - ответил Мюллер, - мы же разговариваем при помощи полей.
- Положим, это мы разговариваем, а вы предаетесь медитации, - сказал Павел.
- Никакой медитации, - сказал Мюллер. - С тех пор как мы вместе, я забыл, когда последний раз размышлял о таких будничных предметах, как суть вещей и судьбы Вселенной.
- Ну вот, пожалуйста, - сказал главный смотритель оххров Веру Круту, - вот наши подопечные. Вот полеметр. Хотите сами измерить их поля?
Разговаривать так с охотником без знака, подумал Ду Пини, ему, асу первого сектора... Нет, что-то на Онире стало неладно. Что-то на Онире стало не так, если, вместо того чтобы вышвырнуть этого наглеца без роду и племени из окна, он вежливо беседует с ним и подобострастно протягивает ему свой полеметр. Все это так, поправил он себя, но попробуй свяжись только с Отцом Гали Пуном, мигом угодишь в мычащие.
Вер Крут взял полеметр. Стрелка дошла до края красного деления и остановилась. "Гм, а вдруг и во время спячки и во время работы поле у них имеет одинаковое напряжение?" - беспокойно подумал охотник. От недавнего воодушевления не осталось и следа. Как на него смотрит этот жирный старый ас с золотым знаком на дряблой шее! Так бы и испепелил его. Все они ненавидят его, все сговорились, каждый только и знает, что ловчить, подставлять ногу другому, чтобы забраться повыше... Обещал Отцу, что разберется, а как тут разобраться...
Ему вдруг стало необыкновенно жалко себя. Идет, бредет один, совсем один, по бескрайнему полю, а вокруг все орут, прыгают, пялят на него глаза, руками показывают: смотрите, вот идет честный ас, решил завоевать себе место своей порядочностью!
- Значит, вы не знаете, каково было напряжение поля у тех оххров, что были раньше, господин старший смотритель? вздохнул Вер Крут.
- Нет. Насколько я знаю, никто никогда не интересовался этим. Впрочем, я приставлен к бесформенным совсем недавно.
- А те, кто работал до вас? Могу я поговорить с ними?
- Боюсь, что нет.
- А почему?
- Видите ли, бывший старший смотритель покончил с собой, а его помощник Лони О был превращен в булла.
- В булла?
- Да, - пожал плечами старший смотритель.
- А за что?
- Я никогда не спрашиваю того, что мне не считают нужным сообщить, - вздохнул ас.
- А долго проработали с оххрами ваши предшественники?
- Очень. Много лет, насколько я понимаю.
Чтобы найти Лони, охотнику пришлось полдня бродить по пятнадцатому сектору, расспрашивая редких стерегущих. Наконец ему повезло.
- Лони, говорите? - задумчиво спросил неопрятного вида тощий стерегущий. - Бывший смотритель оххров? Ах да, да, помню. Я еще тогда подумал, когда его привели, какой он выхоленный да упитанный. Ничего, - рассмеялся он, - теперь про него этого не скажешь. От машины, да будет благословенно имя ее, не спрячешься. Не-ет, доложу я вам, не укроешься, никаким знаком на шее не прикроешься, всех, всех настигнет справедливость! Всех!
Все четыре глаза стерегущего зажглись маниакальным блеском, у основания клюва показалась пена. Похоже, он тоже скоро дождется справедливости, подумал Вер Крут.
- А вы можете показать мне его? - спросил он.
- А на что он вам? - подозрительно спросил стерегущий. Вы ничего такого не замыслили? А то приходят тут... развлекаются...
- Нет, нет, господин стерегущий, мне хотелось бы узнать у него кое-что.
- Узнать? Ну, это вам вряд ли удастся. Чего с них взять, мычащие - они и есть мычащие. А, вон как раз и Лони. Эй, Лони! - заорал стерегущий. - Иди-ка сюда!
Лохматый дюжий булл вздрогнул, испуганно завертел головой.
- Да ты не бойся, не бойся, иди сюда, - мягко сказал стерегущий и добавил, обращаясь к Круту: - Знаете, они пугливы, как опослики, даром что вон какие тела нажирают... Ну, вот вам ваш Лони, желаю успеха.
Стерегущий отошел, а Вер Крут все продолжал смотреть в пустые, бессмысленные глаза. О машина, да будет благословенно имя ее, неужели же этот грязный булл, от которого пахло всеми нечистотами городских канав, еще совсем недавно носил на шее золотой знак? Неужели при его появлении стерегущие вытягивались и замирали, и все почтительно приоткрывали клювы? Неужели совсем недавно он занимал роскошное помещение? Говорят, стены там такие гладкие, что щекочут присоски, когда по ним ходят...
- Ты Лони? - тихо спросил он булла.
Булл вздрогнул и мелко затрясся. Охотнику показалось, что в передних его глазах блеснули слезы. О, машина, да будет благословенно имя ее...
- Не бойся, - как можно ласковее сказал он, - я не ударю тебя, ничего не отниму.
Булл постепенно успокаивался. На мгновение Круту почудилось, что в его взгляде промелькнула искорка разума, но как раз в это мгновение булл радостно замычал, нагнулся и поднял с земли кусочек чего-то съедобного. Несколько секунд он рассматривал находку, потом сунул ее в клюв.
- Лони, ты помнишь, как ты работал с оххрами?
Булл перестал жевать и уставился на охотника.
- Оххры. Помнишь? Бесформенные.
Лони протяжно замычал и затряс головой. Шерсть, покрывавшая его туловище, была в комьях засохшей грязи, и один комок отвадился от резких движений.
Бессмысленно. Все бессмысленно. Недаром говорится: если уж ты стал буллом, то это навсегда. Все бессмысленно. Будь прокляты эти оххры, которые никогда ни с кем не входят в контакт! Гордые они слишком. Предавать своих собственных товарищей и отправляться на Онир - для этого они не слишком гордые. А чтобы ответить на вопрос аса - это нет, это ниже их достоинства. Взорвать бы их всех, уничтожить, так чтобы стрелка полеметра даже не шелохнулась...
Да, хорошо он будет выглядеть, когда придет к Отцу и доложит: так, мол, и так, ничего узнать не мог. Лони вы сделали буллом, и теперь он годится только мычать, так что ничего не вышло. И что же он получит вместо обещанного третьего сектора? А то он получит, что получил Лони. Отцы не любят, когда их подозрения не подтверждаются. Они не любят оставаться в дураках. Лучше на Онире появится десяток лишних буллов, чистящих городские канавы, чем один Отец окажется в дураках.
Он вышел из пятнадцатого сектора и медленно побрел по улице. Стерегущие провожали его подозрительными взглядами. Когда ас идет по улице, задумчиво опустив клюв, да на шее у него при этом нет знака, его, того и гляди, остановят. Можно было в этом не сомневаться. Удивительно, что его еще ни разу не окликнули.
- Эй, ас! - послышался ленивый окрик, и Вер Крут вспомнил поговорку: "Подумай о стерегущем, и он тут же подумает о тебе".
- Слушаю, господин стерегущий.
- Почему без знака?
- Охотник Вер Крут, по поручению Отца Гали Пуна, вот пропуск.
Стерегущий почтительно взял пропуск, посмотрел на подпись и вытянулся.
- Пожалуйста, - сказал он и подумал, что хоть и есть у охотника пропуск, но это непорядок, когда по улицам ходит ас без знака.
Вечерний промозглый ветер гнал мусор по улицам, подымал его вверх, закручивал с воем в маленькие смерчи, швырял в стены домов.
Только бы не сорваться, думал Лик, изо всех сил прижимая присоски к гладкой стене дома. Хорошо еще, что здесь стены такие, в девятом или десятом секторе ему ни за что не удалось бы удержаться на стене в такую погоду.
Ветер выл, свистел, кружился, и Лик остановился, чтобы перевести дух. Зато никто не увидит его, ни одному стерегущему и в голову не придет, что кто-то может быть на улице во время вечернего ветра.
Еще минутка - и он увидит Чуну. Слова были совсем простые: он увидит Чуну. Самый маленький ас мог бы произнести их. Но смысл их никак не вмещался в его сознании. Он увидит Чуну. Он и Чуна... Сколько раз думал он о ней в казарме охотников, во время полета на Оххр, даже замораживался он с мыслью о ней. Так и вмерзли в него огромные влажные глаза и тоненький голосок: это нехорошо, это невежливо...
И вот он ползет по гладкой стене прекрасного дома в первом секторе. Ледяной ветер с воем гонит мусор, с разбегу взлетает под самую крышу, и через минуту Лик увидит Чуну. Увидит Чуну. До чего просто и как невероятно! Она, наверное, испугается. Это нехорошо влезать к асе в такое время, невежливо...
Какую квартиру назвал ему Павел? Ага, вторая. Значит, второй ряд окон от крыши. Хорошо, что машина знает все, даже где кто живет. А что, собственно, он скажет Чуне? Да ничего он ей не скажет, только посмотрит на нее и, может быть, коснется клювом ее клюва.
Он заглянул в окно, и сердце сразу запрыгало, задергалось, словно его подхватил яростный вечерний ветер. Чуна сидела за столом и что-то читала. Нет, память не обманывала его, именно такой и видел ее, когда думал о ней.
Он осторожно постучал клювом о стекло, и Чуна сразу подняла голову.
- Это я, Лик Карк, - прошептал он.
Чуна вскочила, на мгновение застыла на месте, потом бросилась к окну, распахнула его.
- Это я, Лик... ты помнишь меня?
Лик почувствовал, что никак не может сделать вдох, будто на шею ему надели слишком маленький знак. О машина, дай мне хотя бы немножко слов, чтобы я мог рассказать, как я ее люблю, как все время думал о ней, жил ею.
- Это я, Лик... Лик Карк...
- О Лик! - прошептала Чуна, и глаза ее затуманились. Или Лику это лишь показалось? - Значит, тебя не сделали буллом? Это правда? Лик, это правда? О Лик... - Она все повторяла и повторяла его имя, как будто не он сам, а его имя давало ей уверенность, что перед нею не порождение ее воображения, а живой ас.
- Нет, Чуна, я не булл. Меня сделали охотником, я был на охоте на Оххре, я нашел живых оххров и подружился с ними.
- О Лик, это правда?
- Правда, Чуна. Говорить неправду нехорошо, невежливо... - Он посмотрел на Чуну, и они вместе засмеялись. - Конечно, правда. Как ты думаешь, за что вы получили первый сектор?
- Так это...
- Конечно, маленькая моя асочка... Я попросил одного из оххров, который обслуживал машину, и она...
- О Лик, ты упомянул машину, да будет благословенно имя ее, и не вознес ритуальной благодарности. Это нехорошо, это невежливо...
- Чуна, машина - это просто машина. Большая, сложная машина, и ничего больше. Это Отцы заставляют ее решать все за нас...
- О Лик, что ты говоришь? Как ты можешь?
- Если бы ты знала, сколько я хочу рассказать тебе... Ты не представляешь, что я узнал за это время! Как будто я заново родился, как будто мне добавили глаз и я увидел то, что было очевидно, что асы почему-то не замечают!
- Тише, тише, мама и папа могут услышать, они б мне никогда не простили... Тем более сейчас, когда у нас золотой знак на шее... Папа даже перестал разговаривать с мамой и со мной. Я видела, как он стоял перед зеркалом - он думал, его никто не видит, - и надувал шею, так чтобы знак был хорошо виден! О Лик, как я рада, что ты не булл! Может быть... может быть...
- Что, Чуна?
Если бы только можно было без конца повторять ее имя, чтобы звуки таяли в клюве, оставляли горькую нежность и невидимым знаком сжимали шею!
- Может быть, когда-нибудь нам разрешили бы встречаться... - Голос ее стал печальным, потому что она знала: легче асу полететь, чем дождаться, пока машина разрешит асе из первого сектора встречаться с охотником.
- Нам никто не должен разрешать...
- Как это - никто? А машина, да будет благословенно имя ее?
- Я же тебе сказал, машина - это только машина, почему нам нужно ее разрешение?
- О Лик, так нельзя... Ты так странно говоришь, так нельзя, Лик. Это нехорошо, это невежливо. Тебя ведь тоже учили, что машина, да будет благословенно имя ее, дает асам гармонию, порядок, справедливость, равенство, счастье...
- Ты всегда хорошо учила уроки...
- При чем тут уроки? Это же знают все! А ты... ты говоришь так странно... это нехорошо... Подумай сам, как можно жить без машины, да будет благословенно имя ее! Кто будет решать все за нас? Кто будет знать, что нам хорошо, что плохо? Ведь без нее... без нее будет хаос...
- Мы сами, Чуна, мы сами будем определять свою судьбу!
- Не говори так, Лик! Ты говоришь, как совсем маленький ас. Как мы можем сами определять свою судьбу! Кто сам по себе захочет быть буллом и чистить клювом городские канавы? Или жить на рацион четырнадцатого сектора? Или ползать в грязи тринадцатого? Ведь все тогда захотели бы носить на шее золотой знак первого сектора, а в первом секторе мест на всех не хватит. Кто-то ведь должен чистить канавы, смазывать платформы, грузить и выгружать рационы. Нет, Лик, не говори так, это нехорошо, это невежливо...
- Ты не понимаешь. Теперь все будет по-другому. Мы все будем свободны, и каждый сможет устраивать свою судьбу. Ты говоришь, кто будет работать, но ведь можно работать и без того, чтобы тебе приказывала машина и чтобы за тобой присматривали стерегущие...
- Как странно ты говоришь!..
- Чуна, - прошептал Лик, - я не умею тебе все объяснить. Мой друг Ун Топи мог бы все разложить по полочкам, но я думаю сейчас совсем о другом...
- О чем же?
- Я хотел бы коснуться своим клювом твоего...
- Это нехорошо, это невежливо, - сказала Чуна и потерлась клювом о клюв Лика.
Прикосновение было таким же, как и ее имя: горьковатая нежность нахлынула на него, подхватила, понесла, кружа, как вечерний ветер...
ГЛАВА 3
Вер Крут проснулся от завывания утреннего ветра. Он встал и подошел к окну. Серые клочья тумана, вращаясь, проносились мимо.
Он снова лег. Он лежал неподвижно. Его охватило ощущение, что вот-вот он поймет что-то очень важное. Это что-то барахталось в глубине его сознания, рвалось на поверхность. Главное - не вспугнуть мысль. Лежать тихонько и ждать. Набраться терпения. Вот, вот... На мгновение мысль всплыла, но он не успел осознать ее, и она, как мелькнувший на крыше опослик, снова скрылась. Не торопиться, лежать спокойно, ни о чем не думать. Вот всплыло имя Лика, тут же и Ун Топи... Не думать о них, не отвлекаться...
И вдруг он засмеялся, вскочил на ноги. Мысль все-таки выпрыгнула на поверхность сознания, и теперь он крепко держал ее. И как он только сразу не сообразил этого...
Он с трудом дождался, пока можно было направиться в Совет Отцов, и помчался к Отцу Гали Пуну.
Отец был сух и неприветлив, он долго молча смотрел на охотника, потом спросил:
- Что-нибудь удалось установить?
- Пока нет, господин Отец, но я вспомнил одну деталь охоты, которая, я уверен, объясняет многое.
- Что именно?
- Когда охота была уже закончена и пять живых оххров были на корабле, Ун Топи и Лик Карк вдруг сказали, что выйдут еще раз на охоту. Ровно через полчаса они вернулись с шестым оххром...
- Ну, и что же? Если уж везет, могло повезти и еще раз.
- Никак нет, господин Отец. Дело не в везении.
- А в чем же?
- Они знали, куда и зачем идут.
- То есть?
- Я уверен, что вся операция с шестым оххром заняла самое большее полчаса. Если посчитать, сколько времени ушло на то, чтобы они надели шлемы, вышли из корабля и вернулись обратно, на сами поиски останется буквально несколько минут. Другими словами, господин Отец, они не могли отойти от корабля далее нескольких сот шагов, а все пространство вокруг места посадки мы прошли не один раз.
- Вы хотите сказать...
- Совершенно верно, господин Отец, - перебил Гали Пуна охотник. Что будет, то будет. Церемонии потом. Либо мычать ему буллом, воняя разложившимися отбросами, либо... либо быть ему когда-нибудь... Отцом. - Ун Топи и Лик Карк знали, за чем выходят из корабля. Они знали, где лежит оххр. Вопрос заключается в том, как они могли это знать. Сначала я подумал, что они, может быть, не смогли захватить с собой всех найденных оххров. Но это предположение смехотворно. Во-первых, платформа может выдержать не менее десятка бесформенных, а во-вторых - и это самое главное, - они вначале вовсе не собирались снова выходить из корабля. Похоже, что они вдруг получили сведения о том, что около корабля. их ждет еще один оххр. Как вы думаете, господин Отец, от кого они могли получить такие сведения?
Вольно, вольно разговаривает охотник с Отцом, с неприязнью отметил Гали Пун, непочтительно. Но это потом, сейчас надо слушать, потому что в словах охотника угадывались вещи, о которых и подумать страшно, но еще страшнене думать о них.
- С вашего разрешения, я отвечу, господин Отец. Находясь в корабле, Лик Карк с Ун Топи могли узнать о появившемся новом оххре только от тех оххров, которые были уже на борту и которых, заметьте, нашли тоже они.
- А откуда вы знаете, что оххры могут передавать друг другу сведения на расстоянии?
- Я этого не знаю. Но я полагаю, господин Отец, что бесформенные, эти странные и непостижимые для нашего понимания существа вполне могут обладать и таким умением.
- Значит, вы хотите сказать, что оххры почему-то хотели попасть на Онир?
- Совершенно верно, господин Отец.
- Для чего же?
- Пока мы не знаем. Но мне кажется, вполне можно както связать неполадки в работе машины с появлением новых оххров...
Страшно, страшно даже подумать, что будет, если этот охотник с неприлично жадным блеском в глазах окажется прав. Никогда еще не угрожала Ониру столь ужасающая опасность. Все, все нити сходятся к машине, и стоит ей начать давать перебои, как остановятся все колесики гигантского механизма, называемого Ониром. Допустим, самые важные общие решения и так контролируются Советом Отцов, но кто, кто сможет дергать одновременно за миллионы нитей, что идут от каждого аса к машине? Что станет с метаморфозами? Кто сможет решать за каждого аса, кем ему быть, где жить, с кем что делать, что видеть в машинных новостях, что получать в дневном рационе?
- Это очень серьезная вещь, Вер Крут. Вы понимаете все последствия того, о чем вы говорите?
- Так точно! - гаркнул охотник.
Ему кажется, что он умен, смел, он уверен, что перед ним вся жизнь. Будут мелькать секторы, знаки на шее, пока не окажется на ней золотой обруч. Он не знает, глупец, того, что знает он, Гали Пун, старый Отец Онира. Только он один может представить себе все размеры катастрофы. Только он один из всего Совета Отцов понимает, что значит для Онира вышедшая из строя машина. И ведь не раз, не два посещали его тревожные мысли о том, что слишком уж они зависят от пяти кристаллов в подземелье Совета. Но зато какую гармонию принесли на Онир эти кристаллы! Какой невыразимо прекрасной, четкой, ясной, стройной стала жизнь на Онире! Асы избавились от жаркого хаоса сталкивающихся желаний, от изматывающей душу суеты. Нет, нет, не стоит жалеть. Что бы ни случилось, Онир познал высшую красоту государственности, и он, Гали Пун, стоял у ее истоков...
Он чувствовал, как сжалась у него шея, кольнуло в груди. Стар, стар он стал, отдал жизнь, ум, здоровье - все отдал Ониру, один, всегда один, потому что не с кем было поделиться тем, что видел он один...
- Так вы понимаете всю серьезность ваших заявлений, охотник? - усталым голосом спросил Отец.
- Так точно!
- Каким образом вы намерены убедиться в их справедливости?
- Я бы хотел получить разрешение установить круглосуточную слежку за Уном Топи и Ликом Карком, господин Отец.
- Для чего?
- Если они находятся в контакте с оххрами, мы сумеем, возможно, заметить в их поведении что-нибудь подозрительное. А тогда...
- Что тогда?
- Я подумал, господин Отец, что, если мы сможем контролировать этих двух охотников, мы сможем тогда контролировать и оххров. А через них уже и работу машины...
Колотье в груди утихло, дышать стало легче. Может быть, пропасть, что зияла перед Ониром, была не так уж бездонна. Может быть, и через нее можно перебросить мостик.
Отец посмотрел на охотника. Молодой, крепкий. Голодный, жадный, хищный блеск в глазах. Застыл перед ним, вытянулся, полон почтительности. А чуть расслабься - и вышвырнет тебя такой вот молодой негодяй и объявит, что такова была воля машины. Ас, узнавший цену машине, - это опасный ас. Особенно если у него такой острый ум, как у этого охотника. Пусть проследит за Карком и Топи, а когда они будут у него в руках и работа машины будет обеспечена, тогда можно будет подумать о будущем для бойкого охотника Вера Крута. На днях как раз он видел расчеты машины, что для поддержания чистоты на Онире в ближайшее время понадобится двести новых буллов...
- Хорошо, Вер Крут, мой помощник поможет вам установить слежку. Идите...
- Мама, - прошептала Чуна и осторожно дотронулась в темноте своим клювом до клюва матери, - ты спишь?
- Да, асочка. А почему ты не спишь? Уже поздно, вечерний ветер спал.
- Я не могу заснуть, мамочка. Я так полна... Ты не представляешь себе... Сначала я не хотела тебе рассказывать, но потом я подумала, что, кроме машины, ты одна у меня во всем мире, с кем я всегда могу поделиться. И потом, не сказать тебе было бы нехорошо, невежливо...
- Что случилось? Ты пугаешь меня! - Мать Чуны уже окончательно проснулась. - Зажги свет.
- Нет, мамочка, в темноте мне уютнее...
- Ну что, что случилось, асочка, не томи меня!
- Знаешь, кто ко мне приходил?
- Когда? Сегодня?
- Только что. Тебе ни за что не догадаться. Лик Карк. Помнишь?
О машина, да будет благословенно имя ее, застонала мысленно аса. Ее дочь - и булл! Как проклятье какое-то, преследует их этот Карк. Какая ирония судьбы - получить первый сектор и узнать, что единственная дочь, асочка ненаглядная, принимает по ночам булла! Сошла с ума, рехнулась совсем асочка. С бешеной скоростью пронеслось у нее в голове все, что их ожидает. Вот становится известным, что аса из первого сектора тайно встречается с буллом, и, не дожидаясь метаморфозы, их тут же вышвырнут в пятнадцатый сектор.
Как, как могло это случиться, ведь она всегда была такая спокойная, рассудительная асочка...
- Ты не представляешь, мама, что с ним случилось. Когда я вспоминала о нем, я всегда была уверена, что он стал буллом. А его сделали охотником, и он охотился на Оххре. Он подружился с оххрами, которых привезли на Онир, представляешь себе? Они могут все делать с машиной, да будет благословенно имя ее, а оххры слушают Лика, представляешь себе? И он ничего не боится. Он уже попросил своих оххров, и они устроили так, что нас перевели в первый сектор! Представляешь себе? А ты все ломала голову, почему машина, да будет благословенно имя ее, выбрала именно нас для столь высокой чести. Ой, мамочка, ты не представляешь себе, как страшно его слушать! Страшно и сладко. И дух захватывает. Как будто падаешь с высоты. Представляешь?
Она поверила сразу, как верят в то, что неизбежно: утренний ветер, что несет по улицам туман, рождение, смерть, метаморфозу. Наверное, она поверила в невероятный рассказ дочери потому, что уже была подготовлена к невероятному. Была подготовлена с той самой секунды, когда увидела на серебристом экране контакта странные слова: "первый сектор". Почему мозг запечатлевает в важнейшие мгновения всякую чепуху? Когда вспыхнули эти два невероятных, невозможных слова, она думала только о том, что обе буквы "р" почему-то помаргивают. То вспыхнут, то погаснут. То вспыхнут, то погаснут. Она еще решила, что сейчас оба слова исчезнут с экрана, потому что не могли они там быть. Первый сектор - и они! Даже в самых тайных мечтах своих, пряча сама от себя постыдное желание, не видела она себя выше седьмого сектора. Ну, шестого, и то кружится голова, как подумаешь о высоте такого положения. Но первый сектор, золотой знак на шее? Это было абсолютно невозможно. Зажмурить как следует глаза, открыть - и все станет на свое место. Обычная метаморфоза обычных рядовых асов. Конечно, хорошо бы снова вернуться в восьмой сектор, но хотеть - стыдно. Слова на серебристом экране не исчезли и не изменились. Первый сектор.
И вот теперь поняла она, как произошло чудо. А она еще уверяла себя, рернее пыталась уверять себя, что машина, да будет благословенно имя ее, оценила их семью... Как же жить теперь, зная, что живешь не так, как заслужила? По чужой милости. Как жить? Но что же делать?
- Глупость это все! - с тихой яростью прошипела она. - И чтоб я больше такой ереси от тебя не слышала! Поняла?
- Да, мама, но ведь Лик...
- Вот тебе! Вот!
В первый раз за всю жизнь ударила аса свою дочь. Ударила передней ногой, сильно, так, чтобы причинить боль. Ударила с тем большей злобой, что знала - бьет она дочь ни за что, ни в чем не виновата асочка. Виноват лишь слепой страх перед возвращением в постылый девятый сектор, да хорошо еще, если в девятый, а то загонят и туда, где жить не хочется. Где грязные стены пахнут сыростью, где рацион мал и груб, где усталые после тяжкой работы асы замирают по вечерам в тупом оцепенении перед контактами.
- И чтоб никогда никому не смела говорить о своем Лике! И чтоб никогда никому, даже машине во время метаморфозы, не рассказывала о его бреднях! Поняла? Иначе - убью! Сама убью!
Старший смотритель оххров Ду Пини уселся перед контактом. Начинались блаженные минуты перед экраном, когда можно было сладостно покачиваться на тихой полоске воды между сном и бодрствованием. "Почему ты не ляжешь спать?" - спрашивала его всегда жена. "О, это было бы слишком просто", - тонко улыбался он ей. - "Ты - аса, и ты не понимаешь, что немножко горечи лишь подчеркивает сладость, и, чтобы по-настоящему вкушать отдых, нужно немножко неудобства".
Наступило время вечерних машинных новостей, но экран контакта молчал. Ду Пини почувствовал, как слетает с него тихая сонливость. Не может же этого быть, экран включен, светится контрольная лампочка, а новостей нет. Неужели же машина, да будет благословенно имя ее, опять выкинула какой-нибудь фокус с новостями? Только что впервые в истории Онира на экранах появились буллы, а сегодня и вовсе ничего нет.
Он представил себе холодные глаза Отца Гали Пуна. Нет, лучше не думать об этом!
- Куда ты? - крикнула жена.
- Убирайся! - Он отшвырнул ее от себя и бросился к окну.
Надо было, конечно, вызвать платформу, но душившее его беспокойство требовало немедленных физических действий. Он ринулся вниз по стене, поскользнулся, чуть не упал. Начинался вечерний ветер. Он нес с собой промозглую сырость, холод, но Ду Пини не думал о холоде. Он мчался к зданию Совета, и сердце, казалось, колотилось не в груди, а где-то в горле, мешая дышать.
Дежурный стерегущий у входа не успел даже вытянуться в почтительном приветствии и ошалело проводил глазами старшего смотрителя. Кажется, добился золотого знака на шее, куда торопиться, сиди себе перед контактом дома на сытый желудок, не то что он... Ему-то не надо торчать на вечернем ветру у входа в Совет, а он, вишь, летит как сумасшедший...
Ду Пини вбежал в комнату оххров и привалился к стене. Сейчас, отдышусь только, подумал он. Оххры лежали, как обычно, на полу, все шестеро, похожие на грязные бесформенные камни. Почему его судьба и благополучие должны зависеть от этих жирных невозмутимых туш, которым все на свете безразлично? О машина, да будет благословенно имя ее, дай силы быть спокойным!
Ему хотелось броситься на бесформенных, бить их ногами, рвать клювом. Ему хотелось кричать, осыпать их проклятиями. Почему, почему эти молчаливые ленивые твари могут безнаказанно издеваться над ним, асом первого сектора, старшим смотрителем? Кто дал им такое право?
Но Ду Пини не зря прожил долгую жизнь и поднялся по сравнению с шестым сектором отца на пять ступенек. Он знал, что полагаться на свои чувства - верная дорога в стадо мычащих.
- Господа оххры, - сказал он, и голос его звучал спокойно и дружелюбно, - к сожалению, машина, да будет благословенно имя ее, работает в последнее время непривычно плохо. Цсщые поколения ваших предшественников никогда не допускали никаких поломок в кристаллах. Я уверен, что и вы поддерживаете эти прекрасные традиции оххров: эффективность, быстрота, четкость. Оххры также никогда не вступали с нами в контакт, не отвечали на наши вопросы и ничего не спрашивали асов, даже тех, кто, как я, всегда заботился о них. Что ж, мы уважаем другие обычаи, но я прошу вас, господа оххры, сделать все, чтобы машина, да будет благословенно имя ее, работала бесперебойно. Кто из вас пойдет со мной сейчас? Сегодня вечером впервые за время существования кристаллов Онир не увидел на своих контактах вечерних машинных новостей...
- Хочется плакать, - сказал своим полем Павел. - Еще чуть-чуть, и он уговорит меня взять на себя обязательство по безаварийному обслуживанию их эвээм...
- Откуда только берется вежливость у чел... фу-ты, - засмеялся Иван Андреевич, - опять поймал себя на том, что думаю об асах как о людях...
- Кто пойдет с ним? спросил Мюллер.
- Давайте я, если вы не возражаете, - сказал Павел. - Никак не могу привыкнуть к лежачему образу жизни.
- А мне ничего, - сказал Иван Андреевич.
- Вы редактор, - сказал Павел, - а редакторы испокон века отличались малоподвижностью. И у меня даже теория есть, почему это так.
- Редакторы,? Ах да... И они у вас действительно двигаются меньше других? - спросил Мюллер.
- Трудно сказать точно, но, во всяком случае, продвигаются они вне зависимости от того, сколько двигаются...
- Опять вы играете словами, - пожаловался Мюллер. - Никак я не могу привыкнуть к такому странному занятию. Все разумные существа стремятся иметь как можно более точные слова, у вас же столько слов, которые обозначают одно и то же...
- Они называются синонимами, дорогой мой мыслящий брат. Навел сделал свой голос торжественным. - И не будь у нас таких синонимов, у нас не было бы литературы и не было бы юмора. Мы же не виноваты, что у вас нет чувства юмора. Я даже склонен подозревать, что вы впали в свою печаль главным образом из-за его отсутствия...
- Ну, хватит, хватит, Наша, не обижай хорошего оххра, нарочито строго сказал Иван Андреевич. - Ты сказал, у тебя есть теория, почему редакторы всегда малоподвижны. Любопытно, почему же?
- Потому что мало кто умеет читать на ходу и тем более на бегу, а редакторы должны главным образом читать.
- Эх, Павел Аристархов сын, были бы мы сейчас на Земле!
- И что бы случилось?
- Ничего особенного, просто я бы посоветовал вам подыскать новую работу. А в характеристике написал бы: язвителен, к начальству не прилежен, пытается все время острить, причем не слишком удачно, имеет собственные теории...
- Бр-р-р! С такой характеристикой меня бы даже в буллы не взяли... - Он рассмеялся. - Видите, я тоже начинаю путать все три планеты...
- Пора идти, - сказал Мюллер. - Ас ждет. Значит, Павел, вы действуете, как договаривались.
- Хорошо, я помню.
Павел представил мысленно себя в виде аса и начал выпячивать ноги. Только не отвлекаться, напомнил он себе, а то отращу лишнюю ногу, как сделал тогда Мюллер...
ГЛАВА 4
Вер Крут зябко поежился. Будь он проклят, этот Лик Карк, нечего сказать, хорошенькое время он выбирает для своих прогулок, вот-вот подымется вечерний ветер. Он шел за ним в нескольких десятках шагов, стараясь держаться в тени домов. Только бы не потерять его из виду. Ага, интересно, поворачивает в третий сектор...
Охотник сразу забыл о холоде. Неужели же он не ошибся? Нет, не ошибся, не ошибся. Мы еще посмотрим, кто чаще ошибается и кто лучше соображает, эти выскочки или порядочные асы вроде него. Не-ет, он не ошибся, он не мог ошибаться. Что может понадобиться охотнику без роду и племени в третьем секторе? Да он и думать не смеет о третьем секторе, не то что идти туда, да еще в такое время. Ну, шел бы он в свой десятый сектор навестить отца и мать, это было бы понятно, так туда, на законное место, его, видите ли, не тянет...
Неясная тень впереди остановилась, и Вер Крут прижался к стене. Нет, не должен был Лик Карк его заметить. Луны, к счастью, нет, и первые порывы вечернего ветра с завыванием и шорохом подняли в воздух городской мусор. Странно, подумал Вер Крут, с каждым днем на улицах становится все больше мусора. Его тут, в третьем секторе, сейчас больше, чем было раньше в его одиннадцатом.
Тень впереди исчезла, и Вер Крут на мгновение поддался панике. Нет, он же не мог уйти. Вер поднял голову. Ну конечно же, вон он поднимается. Ползти за ним нельзя, на стене Карк может его увидеть. Заметить, в какое окно он полезет, а потом уже подняться. Ага, вон оно.
Вер быстро вскарабкался по стене и осторожно заглянул в окно. Лик стоял посреди комнаты и постукивал клювом по клюву страшенной старухи. У старухи была скрюченная нога, и она стояла, наклонившись на одну сторону. Она стояла неподвижно и глазела на Лика так, словно он явился не через окно, как это делают все асы, а вылез из стены.
- Рана, - сказал наконец Лик, - я рад, что нашел тебя...
- Лик Карк, - пробормотала старуха, - ты ли это? Мои глаза говорят, что это ты, а разум подсказывает, что они ошибаются.
- Я, я, Рана, - прошептал Лик, - тот самый Лик, которого ты одна приютила... Если бы ты знала, что случилось со мной!
- Тш-ш-ш! Ты помнишь моего соседа в старом секторе? Боюсь, ас, что и здесь может найтись любитель подслушивать. Сейчас я закрою окно, а ты, Лик, говори шепотом.
Старуха заковыляла к окну, и Вер Крут поднялся этажом выше, чтобы не быть замеченным. Эта карга может еще вылезть, чтобы осмотреться. Он снова спустился и прислушался. Нет, ничего нельзя было разобрать. Шепчутся, шепчутся по углам, подумал он с ненавистью. Порядочным асам нечего захлопывать окна и понижать голос, порядочным асам незачем выползать на улицу во время вечернего ветра и спешить украдкой в чужой сектор...
Ветер завывал теперь уже вовсю, и Вер напряг присоски, чтобы его не сорвало со стены. Спокойно, сказал он себе, меньше чувств. Чувства - это роскошь, которую можно себе позволить, когда ты всего добился. Он успеет еще ненавидеть и презирать вволю, сейчас же нужно думать.
Вер Крут начал спускаться, обходя освещенные окна. Он не хотел заглядывать в теплые, уютные комнаты, не хотел видеть сытых, спокойных асов, дремлющих перед серебристыми экранами с машинными новостями на них. Это все будет у него, будет, сейчас нужно думать. Почему Лик пошел к этой старухе, да еще потихоньку, во время вечернего ветра? И потом, старуха говорила что-то о старом секторе... Гм, да и по виду ее не похоже, чтоб она давно жила в третьем секторе. В третьем секторе живут асы солидные, неторопливые. Уж они-то наверняка не кидаются к окнам, чтобы захлопывать их во время разговора. У них наверняка и разговоры тоже солидные, неторопливые...
И вдруг в голове у Вера что-то щелкнуло, и он чуть не распустил от неожиданности присоски. О машина, еще мгновение - и он бы грохнулся вниз. Он перевел дух, ноги его дрожали. Ничего, ерунда, то, что пришло ему в голову, стоило минутного испуга.
Он спустился на тротуар и быстро помчался по улице, то и дело оглядываясь в поисках зеленого огонька ближайшего храма контакта. Когда надо, ни одного не найдешь, хотя их полным-полно на Онире. И открыты круглые сутки, чтоб каждый ас, если он вдруг узнает что-то важное или захочет спросить о чем-нибудь, мог бы установить контакт с машиной, да будет благословенно имя ее.
Ну вот, наконец-то и зеленый огонек. Вер вошел в зал, и вой ветра сразу стих. Было пусто, тихо и пахло сыростью, какой всегда пахнут храмы контакта.
Вер быстро установил контакт и сказал:
- Я бы хотел узнать, когда и откуда переехала в третий сектор пожилая аса по имени Рана. У нее скрюченная нога...
Экран на мгновение потемнел, словно кто-то взмахнул перед ним крылом, и снова засветился словами: "Рана Раку переехала в третий сектор четыре дня тому назад из девятого сектора".
Экран погас, а Вер все сидел в кабине. Он боялся пошевельнуться, ему казалось, что любое движение может спугнуть удачу, которая наконец-то спустилась к нему. Так, так, так... Вот оно как получается! Во всем Онире один он сумел разобраться в дьявольском заговоре. Чего уж теперь сомневаться... Лик Карк знал эту каргу, она его приютила. И это было в девятом секторе. Ну конечно, он вспомнил, как Лик ему рассказывал, точно, ведь он сам из десятого сектора, рядом. А теперь старуха оказалась в третьем. Как раз тогда, когда машина сделала какие-то странные перемещения, о которых говорил Отец Гали Пун. Так, так...
Ага, надо взять нескольких стерегущих и как следует потрясти старуху. После того, разумеется, как Лик Карк уйдет от нее. Да он уже, наверное, ушел. А тогда уже, когда старуха подтвердит его подозрения, можно бежать утром к Отцу. А может быть, даже не следует дожидаться утра. Разбудить Отца среди ночи. Он, конечно, будет недоволен: какой-то ничтожный охотник без сектора и знака будит самого Отца среди ночи. Но он скажет: "Господин Отец, Онир в страшной опасности, и я, Вер Крут, обнаружил эту опасность!" - "А вы что, не спите?" - спросит Отец. "Нет, господин Отец, когда Онир в опасности, ни один ас не имеет права..." Нет, так, пожалуй, не годится. Выходит, он тоже не имеет права спать, а спит. Я, выходит, лучше Отца. Это не годится, хотя на самом деле... Осторожнее, осторожнее, Вер Крут, не теряй головы, сказал он себе.
Нет, право же, сегодня ему везет. Как раз два стерегущих.
- Тихого вам вечернего ветра, господа стерегущие, - сказал он.
- В чем дело? - подозрительно спросил высокий и толстый стерегущий.
- Мне нужна ваша помощь.
- В чем дело, я спросил! - уже не сказал, а прорычал стерегущий.
- Вот, пожалуйста, документ, подписанный Отцом Гали Пуном. Мне нужна ваша помощь.
- А... Это другое дело, могли и сразу сказать, - буркнул стерегущий. - Что нужно сделать?
- Я должен поговорить в вашем присутствии с одной асой.
- Не знал, что в таких делах нужна помощь стерегущих, засмеялся второй стерегущий, совсем юный и тоненький ас.
- Помолчи! - оборвал его товарищ. - Где она?
- Сейчас я вам покажу.
Они прошли к дому, в котором жила старуха. Наверняка Лик уже ушел. Если же нет, они подождут. Подпись Отца Гали Пуна кое-что значит для стерегущих.
Вер заглянул в комнату. Так и есть, Лика Карка уже не было, а старуха неподвижно сидела у стола, опустив клюв на грудь. Ишь, задумалась старая...
Окно было закрыто, и Вер постучал клювом по стеклу. Старуха вздрогнула, подняла голову и заковыляла к окну.
- Что такое? - спросила она.
- Нам нужно кое о чем поговорить.
- Мне не о чем говорить, уже поздно, - буркнула старуха и хотела было захлопнуть окно, но Вер уже успел прыгнуть на подоконник.
- Не очень-то вы вежливы, Рана Раку, - сказал он и крикнул стерегущим, чтобы они вошли. - Не очень-то вы вежливы, а ведь, случалось, вы и пускали к себе молодых асов...
Молоденький стерегущий прыснул и тут же сконфуженно замолчал, когда старший дернул его за руку.
- Что вам нужно? - спросила старуха.
Прямо пылает вся ненавистью, подумал Вер Крут. Ничего, ничего, сейчас я тебя немножко остужу, Рана Раку. Сейчас я на тебя такой душ пущу, что ты зашипишь, как головешка, которую суют в воду.
- У вас был кто-нибудь сегодня вечером? - ласково спросил Вер Крут. Старуха была в его руках и можно было позволить себе роскошь быть терпеливым.
- Никого у меня не было.
- Вы в этом уверены?
- Я старуха, и я не привыкла лгать, - сказала Рана, и Вер подумал, что правда никогда не звучит так убедительно, как ложь.
- Я не сомневаюсь в вашем возрасте, Рана Раку, и хотел бы верить в вашу правдивость, которая, как нас учит машина, да будет благословенно имя ее, украшает каждого аса. Но что делал у вас сегодня Лик Карк из отряда охотников?
- Лик Карк? Первый раз слышу это имя... А кто это?
- Хватит, аса, всему есть предел. Ваш возраст достоин уважения, но он не дает вам права на ложь... Не валяйте дурака, я сам видел, как Лик Карк терся с вами клювами...
Молоденький стерегущий фыркнул. Должно быть, он и представить себе не мог, чтобы нашелся на Онире такой дурак, который стал бы тереться клювами с эдаким чудищем.
- Я ни о чем не хочу с вами говорить, - угрюмо сказала старуха.
- Ах, простите, мы не осведомились о вашем настроении сегодня, ах, простите, госпожа Рана Раку, ах, ах...
Теперь уже засмеялись сразу оба стерегущие. Действительно, смешно у него получилось, подумал Вер. Не хочет она, видите ли, говорить... Он посмотрел на старуху. И что она запирается? За дураков, что ли, их считает? Ну и порядки стали на Онире! Сюда бы их старшего охотника, он бы ей показал! Ничего, и он покажет. Уж что-то, а он не хуже старого идиота, который рехнулся на Оххре.
- Что тебе сказал Лик Карк? - крикнул Вер. - За что он устроил тебе перевод в третий сектор?
Боковым глазом он заметил, как у младшего стерегущего широко раскрылся от изумления клюв. Знал бы он, о чем речь идет, он бы его не так разинул.
Старуха молчала, с ненавистью глядела на Вера. Ну подожди, старая булла. Все, все они сговорились стать у него на пути, но они его не остановят, всю нечисть выведет он на чистую воду.
Он коротко ударил ее по скрюченной ноге передней ногой. Аса покачнулась, но не упала. Она раскрыла клюв, помолчала, снова закрыла его, заковыляла к окну.
- Куда? - крикнул Вер. 235
- Прикрыть окно, что-то холодно стало, - буркнула старуха и вдруг резким движением вскочила на подоконник. - Будьте вы все прокляты, шпики проклятые! - крикнула она и исчезла в темном проеме.
В наступившей тишине послышалось тихое постукивание, как будто кто-то просился в комнату. Вер открыл боковой глаз и увидел, как дрожит клюв у молоденького стерегущего.
- Да поймите же вы, кандидаты в буллы, - сказал Ун Топи трем охотникам, - что машина - это только машина, которую нам построили пленные оххры. Что вы благоговеете перед ней, как маленькие опослики? Вы же асы, черт побери, наделенные разумом! Как вы можете терпеть, чтобы за вас думали, за вас стремились к чему-то, за вас жили, за вас решали? Ну, что вы молчите?
- Ты говоришь страшно, - зябко поежился Пет Олик. - Как же это получается, что машина, да будет благословенно имя ее, - это только машина, если она дала нам справедливость и порядок?
- Это только в школе вам вбивают в голову и контакт вещает в каждых машинных новостях. Вот ты, Пет Олик, охотник без сектора и без знака, ты разве хуже какого-нибудь жирного аса из высших секторов, у которого есть все?
- Я не знаю...
- Но как ты думаешь, сам ты как считаешь?
- Если машина, да будет благословенно имя ее, дала им высокий сектор...
- Опять ты за машину прячешься! Я тебя не про нее спрашиваю, а про тебя самого, лапсунья твоя голова!
- Но ведь машина, да будет...
- Не повторяй, как попугай, "да будет", "да будет"!..
- Хорошо, Ун, я постараюсь, не сердись. Я хотел только сказать, что машина...
- Ну!
- Не буду, не буду... машина ведь умнее меня... У меня-то только мой мозг, мой опыт, а она вон сколько знает! Как же я могу сравнивать мой опыт с ее?
Невозможно, подумал Ун, невозможно пробить эту стену. Что угодно, но только не думать самим, отдать кому угодно право решать за тебя. Как назвал это Павел? Ага, фашизм...
- Но поймите, - терпеливо сказал он, - не в этом дело. Конечно, у машины опыт больше, чем у каждого из нас. Она, безусловно, умнее нас. Но не в этом же дело. Как только мы вручаем кому-то право думать и решать за нас, мы становимся просто детальками в механизме. Нами просто пользуются Отцы Онира...
- Но ведь для нашего же блага, - тихо проговорил Пет Олик.
- Ну какое же это благо, когда тысячи и тысячи асов бессмысленно расползаются каждый день, чтобы выполнять бессмысленную работу, назначенную им машиной! Они не знают, для чего нужна эта работа и нужна ли она вообще, они - те же лопаты, что держат в руках. И непонятно, держат ли они лопаты или лопаты держат их. Но мы же наделены разумом. А раз мы наделены им, мы должны им пользоваться!
- То, что ты предлагаешь, страшно, - еще тише сказал Пет Олик. - Это хаос... Представь себе сразу весь Онир, всех асов. И вот мы остались без машины. Исчезло сразу все: исчезли рационы, никто не знает, какую работу делать, никто не знает, где жить. Все бросятся в высшие секторы, потому что там, говорят, дома лучше и лучше стены. Как же мы сможем тогда знать в день метаморфозы, куда нам идти и как жить?
- Конечно, по-своему ты прав, Пет Олик, - терпеливым голосом учителя сказал Ун Топи. - Спору нет, с машиной жить спокойнее, если мы согласны быть буллами...
- Но ведь не все же у нас буллы, - пробормотал Гар Омани.
- Выходит, что все. Чем мы отличаемся от булла? Булл мычит, а мы вообще молчим, потому что нам но о чем говорить. И чего же мы достигли? Отцы, которые управляют нами через машину...
- Отцы тоже назначаются машиной, - неуверенно сказал Пет Олик.
- Как бы не так! Кто уж стал Отцом, Отцом и остается, у них вообще нет никаких метаморфоз.
- Как это нет метаморфоз?
- А так. Нет, и всё. Это простые асы регулярно идут в храмы контакта и выслушивают приговор машины, а Отцам не нужны никакие перемены.
- Ну, Ун, ты тоже...
- Я хотел вас спросить: что мы сделали за нашу жизнь на Онире, чего мы добились? Вы ответите: а что нам нужно? Конечно, если вы согласны быть простыми орудиями в руках Отцов, тогда говорить не о чем. Но если стремиться к лучшей, более полной и богатой жизни, жизни светлой и интересной, тогда нам есть над чем подумать...
- Ты с ума сошел, ас, - рявкнул стерегущий у Дома Отцов. - Сейчас ночь, а ты...
- Отец Гали Пун приказал мне являться к нему в любое время, если это нужно, вот подписанный им приказ.
Стерегущий взял в руки листок, повертел его:
- Здесь ничего не говорится о том, чтобы пускать вас в Дом Отцов ночью.
- Но поймите же, - взмолился Вер Крут, - это срочное дело государственной важности.
- У всех, кто входит сюда, дело государственной важности. Здесь буллы не пасутся.
- При чем тут буллы! Поймите же, мне необходимо сейчас же попасть к Отцу Гали Пуну. Через час может быть уже поздно.
- Приходите после утреннего ветра.
О машина, почему судьба постоянно подставляет ему в последнюю секунду ножку? Почему здесь должен стоять этот туполобый стерегущий, упрямый, как булл?
И вдруг он понял, что готов на все. Как учил их старший охотник. Постарайся отвлечь внимание врага и нанеси ему одновременно два удара. Ногами и руками. На секунду ему стало страшно. Поднять руку на стерегущего - это значило наверняка стать буллом. Но теперь все изменилось.
- Позвольте попросить вас, господин стерегущий... вкрадчиво пробормотал он.
- Что еще?
Два удара одновременно. Руками и ногами. Хорошо их всетаки учил старший охотник. Он не думал, что делает, а руки его сами вытащили у лежащего стерегущего слинку и засунули себе в карман.
Он вбежал в здание. Знакомый широкий коридор был полуосвещен. Кто это? О машина, опять стерегущий, опять разговоры, а тем временем придет в себя стерегущий, что лежит у входа.
- Стойте! - крикнул стерегущий и выхватил слинку, но, прежде чем он успел поднять ее, слинка в руках Вера Крута чмокнула, и стерегущий начал медленно падать.
Сначала у него подогнулась одна нога, он покачнулся, потом подломились еще две, но Вер уже бежал по коридору. О машина, где же комната Отца Гали Пуна? Ему вдруг стало бесконечно страшно. А что, если отца нет? Мало ли куда он мог уехать. Еще несколько минут - и стерегущий у входа подымет тревогу. За ним начнут охотиться, пока не загонят в угол. В глухой угол, без выхода, пахнущий пылью и смертью.
Сердце его замерло, и он постучал в дверь Отца. Никто не ответил. Громче, громче надо стучать, теперь не время деликатничать, сейчас раздастся сигнал тревоги, и множество ног застучит по полу и стенам. О машина!
- Кто там? - послышался голос Гали Пуна.
- Это я, Вер Крут, Отец. Я знаю, который сейчас час, но время не ждет. Меня не пускали. Я убил одного стерегущего и избил другого.
Дверь распахнулась. Отец Гали Пун молча смотрел на него.
- Что случилось? Вы знаете, что полагается за убийство стерегущего?
- Да, - твердо ответил Вер. - Но я считал, что опасность, угрожающая Ониру, больше, чем жизнь стерегущего.
- Говорите.
- Я проследил за Ликом Карком. Перед самым вечерним ветром он украдкой пробрался в третий сектор к некой Ране Раку. Полностью подслушать их разговор мне не удалось, но и того, что я узнал, оказалось достаточным. Эта аса раньше жила в девятом секторе и приютила Лика Карка. Третий сектор она получила после возвращения охотников вместе с другими странными метаморфозами. Вывод может быть только один: Ун Топи и Лик Карк вступили в контакт с оххрами, которые обслуживают сейчас машину. А это значит, что весь Онир практически в их руках.
"Почему до сих пор не подняли тревогу? - подумал Отец Гали Пун. - Нужно будет подумать, как организовать охрану Совета. Охрана... Разве дело сейчас в охране Совета? - поправил он себя. - Не Совет охранять, а Онир спасать, если еще не поздно..."
Он вдруг почувствовал глубочайшую усталость. Как сладко было бы заснуть, забыть все... Сон манил его, звал, соблазнял. Разжать пружину воли, отпустить присоски, упасть... Он помотал головой. Секундная слабость. Ничего еще не потеряно.
Он нажал на кнопку контакта, но контрольная лампочка не вспыхнула. Бежать за охраной - значит терять время. Он вытащил из ящика слинку.
- К оххрам! - скомандовал он, и они побежали.
Убитый стерегущий лежал на полу в полумраке коридора, и они перепрыгнули через него. Быстрее, быстрее! Когда же кончатся эти бесконечные переходы, гладкие стены коридоров, что бесшумно набегали на них, словно их бег вытягивал эти стены из полумрака.
Они ворвались в комнату оххров. Все шесть на месте, не все еще потеряно. Главное - отрезать их от машины и захватить этих двух охотников. Всех охотников, чтобы зараза не распространялась.
- Оставайтесь здесь, Вер! - приказал Отец. - Уничтожайте любого оххра, если они попытаются выйти отсюда. Они не должны касаться машины, пока Карк и Топи не будут в наших руках. Я же сейчас организую их поимку.
Что за наваждение, подумал Отец: он не мог сдвинуться с места. Или все это кошмарный сон, когда на тебя надвигается нечто чудовищное, а ты не можешь пошевельнуться, даже закричать? Сон, конечно же, сон. мелькнула яркой вспышкой безумная надежда и тут же погасла, потому что Вер Крут пронзительно закричал:
- Они держат меня, я не могу сдвинуться с места!
Все, отрешенно подумал Отец. Конец. Сколько раз думал он о последних своих минутах, верил, что сумеет встретить их с достоинством, знал, что справится с предсмертным ужасом. Что ж, он уйдет, но останется гармония всеобщего зацепления, великой стройности, которой отдал жизнь.
И вот они, последние минуты, и ужас вечерним промозглым ветром леденит тело, но нет утешения. Хрустят, трещат, ломаются шестеренки, летят осколки, вспыхивают пожары, ветер несет горький дым по пустым улицам, рушится все...
- Держите их, я побегу к машине! - крикнул Павел.
Дух захватывало от страшных этих и веселых мгновений. Пашка, ты ли это?
- Нет, Паша, пойду я! - твердо сказал Иван Андреевич.
Сказал он это так, как давно уже не говорил, с тех пор, наверное, когда последний раз поднимал свой взвод в атаку, когда нужно было вложить в привычное, простенькое и совсем мирное слово "вперед" все то, что могло поднять людей с такой милой и безопасной, сладко пахнущей сырой глиной земли и бросить под свинцовый дождь.
- Иван Андреевич! - взмолился Павел.
"Павел Аристархов сын, - подумал Иван Андреевич, чувствуя, как потеплело у него сердце или что там сейчас вместо него было. - Вот тебе и фельетонист..."
- Я пойду, Паша, и не спорь. А вы держите их, пока я не вернусь.
Он и не заметил, как принял земное свое обличье. Наверное, увидел себя молоденьким младшим лейтенантом, и оххровское хитрое тело послушно перелилось в того, далекого Ваню Киндюкова.
Давно он уже не бежал человечьими шагами. Постукивал по полу четырьмя ножками асов, поджав присоски, плыл мерцающим оххровским диском, но бегать по-человечески давно не бегал.
И вот бежит Иван Андреевич Киндюков, пятидесятидевятилетний - сразу и не выговоришь - редактор районной газеты "Знамя труда", бежит за год до пенсии по чужим коридорам чужой планеты, как бежал когда-то младший лейтенант Ваня Киндюков, насмерть сжав в потной руке рубчатую ручку ТТ.
Страха не было, как не было и тогда, на войне. Поднялись в душе откуда-то неприкосновенные запасы храбрости, вымыли из сознания все мелкое, несущественное и понесли вперед. Вперед, вперед!
Вот и помещение машины. Тяжелые двери заперты. Раньше, когда он приходил сюда со старшим смотрителем оххров, тот всегда отпирал замок, смешно выставив круглый жирный зад.
Иван Андреевич собрал поле и направил его на дверь, потянул. Дверь была тяжела, и он почувствовал, что не сможет один сломать ее. Если бы потянуть за нее всем вместе...
В конце коридора послышались торопливые шаги. Типичные шаги асов. Дробный цокот множества ног с поджатыми присосками о пол. Справится ли он один с ними или они помешают ему вывести из строя эту проклятую машину, электронное воплощение идеи фашизма, как здорово выразился Павел?
Он потянул еще раз. Дверь не поддалась. Дробный цокот ног превратился в барабанную дробь. И мгновенно помолодел человек предпенсионного возраста, превратился в Ваню Киндюкова. И пошел снова в атаку на врага, с которой начинал свою сознательную жизнь. Бей фашистских гадов!
Он начал сжимать поле. Миллионолетний опыт, заключенный в нем, знал, как это делать и для чего. Он сжимал поле, и энергия, заключенная в нем, уплотнялась и уплотнялась, пока не превратилась в чудовищно тяжелый и ослепительный комок. И тогда комок взорвался. Тугой волной вышиб он дверь, сорвал со своих мест кристаллы машины, разбил их, выжег бесчисленные крупинки, в которых была спрессована ее память и умение.
ГЛАВА 5
Тук, тук, тук... Чуна проснулась от стука. Тихо и серо за окном, утренний ветер еще не вымел из города ночной туман! Наверное, приснился ей стук. Сейчас снова закроет все свои четыре глаза и быстро нырнет в сон. Какой-то милый сон снился ей, помнила, что милый, а какой - уже успела забыть. Ничего, сейчас он снова придет к ней.
- Чуна!
Нет, это был не сон. Вскочила, кинулась к окну, распахнула.
- Лик!
О машина, да будет благословенно имя ее, совсем она сошла с ума - прямо так прижаться клювом к клюву, ночью, не получив разрешения на встречи... Это же нехорошо, невежливо.
- Чуна!
- Тише, Лик, тише, - прошептала она, - нас услышат!
От стыда и счастья совсем потеряла аса голову. Надо было вытолкать грубияна из комнаты, а она уцепилась за него руками, не пускает.
- Пускай слышат! - пропел громко Лик, и Чуна услышала, как в соседней комнате заворочалась мать. Только бы отец не проснулся...
- Что ты говоришь?
- Я ничего и никого не боюсь! Я люблю тебя, маленькая моя Чуна, твои тонкие ножки и большие влажные и глупые глаза! И я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешение на встречи с тобой, понимаешь, ни у кого!
О машина, он сошел с ума, подумала Чуна. Он сошел с ума, а я, наверное, тоже, потому что первый раз в жизни не употребила ритуальную форму благодарения... Почему судьба так жеетока? Почему она издевается над ней? То даст ей Лика, то отнимет. Или это машина, да будет... Не буду, не скажу, не хочу благодарить ее, если она отнимает у нее Лика!
- Уходи, Лик, уходи... - зашептала она, - мама позовет стерегущих...
- Ты не ошиблась! - прошипела аса. - Вот, смотри! - Она нажала на кнопку вызова на контакте, но контрольная лампочка не вспыхнула, экран не засветился.
Не может этого быть, подумала аса, как же так... Не может, не может, повторяла она про себя, а какой-то наглый и насмешливый голос возражал ей: может, может, ведь даже машинные новости не передавали. Понимаешь ли ты, что это значит - не передавать машинные новости?
- Не старайтесь, марана, никто не придет, - мягко сказал Лик.
- Марана? Ты назвал меня мараной? - взвизгнула аса.- Тебе никогда в жизни не разрешат не только встречаться с Чуной, тебе никогда не разрешат даже заходить в первый сектор, а ты назвал меня мараной, как назовет меня муж дочери! Один раз ты избег того, что заслужил, но теперь тебе не миновать пятнадцатого сектора!
- Мама!
- Молчи! Да, не миновать! Я сама буду приходить туда и смотреть, как ты, волосатый и вонючий, будешь ползать по ямам и канавам, собирая отбросы!
- Что случилось, Кера? - послышался сонный голос, и в дверях появился отец Чуны. - Неужели я не заслужил покоя в своем собственном доме? - Он высоко поднял голову, и даже в призрачном белесом полумраке видно было, как на шее у него блеснул золотой знак.
- Предоставляешь, опять приполз к нам этот Лик Карк, приполз к Чуне ночью, перед утренним ветром, и назвал меня... я даже не могу выговорить... мараной...
- Мама, он не хотел этого! - крикнула Чуна и рванулась к матери.
Но Лик удержал ее.
- Вызови стерегущих, - важно сказал глава семейства, пусть его уведут, мне нужно отдыхать.
- Я... - начала было мать Чуны, но запнулась.
- Что ты хотела сказать?
- Контакт не работает... - тихо пробормотала аса, и в голосе ее послышалось извинение, как будто она была виновата в том, что контакт не включался.
- Как это - не работает? - визгливо закричал отец. - Смогу я обрести когда-нибудь покой в этом доме?
- Дело не в вашем доме, - усмехнулся Лик, - контакт больше не работает нигде. Потому что машина больше не существует.
- Машина, да будет благо... - пробормотала пораженная мать Чуны, - не существует?
- Мы сломали ее, уничтожили! - гордо воскликнул Лик.
- Лик! Но это же нехо...
- Я знаю, Чуна, - засмеялся он, - я знаю, что ломать машины нехорошо и невежливо, но эту машину нужно было сломать. Пойдем Чуна, я увожу тебя...
- Из первого сектора? - недоверчиво спросил отец.
- Секторов тоже больше нет.
- Так, значит, ничего больше нет?
- Почему же, есть мы!
- Эй, Лик! - донесся с улицы крик. - Мы пришли и ждем тебя!
- Иду! - крикнул в окно Лик и нежно потянул Чуну за руку. - Идем, асочка моя маленькая...
- Но это же...
- Идем.
Он подвел ее к окну, вылез сам и потянул за собой. На улице послышался первый шелест утреннего ветра.
- Мама, папа... - хотела что-то сказать Чуна, но не успела, потому что уже бежала по стене за Ликом.
Дул утренний ветер, гнал по улицам клочья серого, грязного тумана. Было сыро, холодно, страшно, весело, и сердце озорно и щекотно летело куда-то в пропасть...
Корабль стоял на буром холме, и две тени от него скользили по песку и камням.
- Ну вот, - сказал Павел Мюллеру, - и приехали. Иди ты первый.
- Нет, ты.
- Хватит спорить, - тихо сказал Старик, - был бы с нами Иван Андреевич, он бы живо навел порядок.
Мюллер открыл люк, и в отсек пахнул родной сухой зной Оххра. Но он не заметил его, потому что вокруг корабля стояли оххры. Он никогда не видел столько оххров сразу. Казалось, весь Оххр собрался у корабля. Они не лежали обычными камнями, они стояли, окружив корабль огромным кольцом, и кольцо это состояло из сотен Павлов, Иванов Андреевичей, черно-белых дворняжек, Стариков, Штангистов и кошек.
Неведомое чувство сжало горло Мюллеру. Это в их честь собрались оххры, в их честь приняли их обличье и в их честь сложили мелодию, которая плыла сейчас над холмами и долинами, мелодия, которая дышала давно забытой радостью.
Мюллер хотел спуститься, но не смог. Мягко и властно его подхватило могучее поле, сложенное тысячами отдельных полей, и осторожно поставило на родную землю. Он смотрел, как попадают в объятия поля его товарищи, и голова кружилась от неведомых чувств. Хотелось что-то сказать, и хотелось молчать, хотелось видеть всех и быть одному, печаль и веселье неслись сквозь него странным ветром, и горизонт плыл, дрожал, приближался...
- Люди, - сказал Пингвин, - мне поручили сказать вам несколько слов. - Он высоко поднял голову и обвел взглядом Павла, Татьяну, Александра Яковлевича, Сергея и двух Надь. - Мы знаем, что вы любите произносить речи. Мы этого еще не умеем, поэтому я буду говорить как умею.
- Отличный заход, - пробормотал Павел.
- Что вы сказали? - спросил Пингвин.
- Тише! - сказала Татьяна Осокина.
- Я тоже так считаю, - кивнул Александр Яковлевич.
- Молчу, - сказал Павел.
- А вы, наверное, смеетесь надо мной, - сказал Пингвин. Это то, что вы называете чувством юмора.
- Нет, нет, - замахал руками Павел, - у меня не было и нет чувства юмора. Продолжайте, докладчик.
- Оххры поручили мне сказать вам, что вы спасли нас, и мы преисполнены благодарности. Прошло уже много времени с тех пор, когда оххр в последний раз выключил поле. Нам казалось, что мы познали все, и печаль окутала нас, лишила нас воли. Но вы научили нас надеяться, верить и любить, и мы благодарны вам. Вы не представляете, что вы сделали для нас, вы даже не знаете, кто вы. Вы дали нам свои чувства, подарили нам свою память, и в нашем пустом, печальном мире, где слышался лишь неумолчный гул рек времени, расцвели хрупкие и прекрасные цветы, и мы благодарны вам. Мы были могучи и слабы в своем всесилии, потому что печаль лишила нас воли к сопротивлению. И асы увозили нас на свою планету, где заставляли служить им. Вы научили нас бороться с врагами, и один из вас отдал за нас жизнь, и мы благодарны вам.
Мы много думали над тем, как выразить вам свою благодарность. Никто не хотел оставаться в стороне, и мы складывали поля в общем раздумье. И мы наконец решили. Те из вас, кто захочет вернуться на свою родную Землю, вернутся туда. Подумайте и скажите мне. Я жду.
Наверное, учебный год уже начался, подумала Надя Первая. Прощай привольная жизнь на спасательной станции, запах горячего сухого дерева башни, восхищенные мужские взгляды. Прощай ленинградец... как же его звали?.. И его "Жигули". И Сережкин серьезный и печальный взгляд, что хоть и слабой ниточкой, а тянул ее, попрекал, когда кокетничала, строила глазки и давала за собой ухаживать чужим, пугающим и привлекательным молодым людям.
"Надьк, опять ты за водой не сходила, - будет ворчать мать. - Как на танцы, так тебя как вихрем подхватывает, а помочь по хозяйству-так ты сразу инвалид".
Милая, милая мамочка! Как ты там, родная? Ну что я могу с собой поделать, если я такая дурочка и на танцы мне ходить интереснее, чем кормить поросенка. Ты не сердись.
Начался учебный год, думала Надя Вторая, начались уроки. Ну кто, кто придумал уроки? И зачем? Она же честно старается, всегда старалась выполнять домашние задания. Тетради всегда у нее аккуратные. Чем она виновата, что только положит перед собой математику, как все эти плюсы и минусы, тангенсы и катангенсы начинают шевелиться, расползаются, а вместо них в учебнике появляется длинное платье из сверкающей ткани, она видела такое раз на певице, которая пела в доме отдыха имени Горького. Сверкающее, переливается, как из сказки про какую-нибудь принцессу. А в платье она. Гордая, надменная, неприступная. Очень мне нужны ваши "Жигули", катайтесь в них сами... Садись, скажут ей назавтра в классе. Опять не знаешь. Знает, знает она, только не то что по их глупым программам требуется...
Не поеду, вдруг обрадовалась она. Пусть Надька земная разрывается там между тангенсами и мечтами. Хватит и одной!
"Зато здесь Сережка, вон какой! - горделиво посмотрела на Сергея Надя Первая. - А там? Головастик облупленный. Как же его здесь бросить!".
Не поеду, вдруг обрадовалась она. Хватит там одной Надьки двойки хватать и поросенка Сашку кормить.
Не поеду, сразу решил Сергей Коняхин. Решил, а потом уже стал думать. Конечно, если Надя захочет вернуться, тогда другое дело. Тот Сережка, земной близнец, без него, пожалуй, тогда не сумеет. С ней и так-то тяжело было, ой, как тяжело. А уж после космоса... Озорная, непутевая, не удержишь. А сердце млеет, мечется, рвется к ней, к зеленым шальным глазам с черными крапинками. Ох, тяжело тебе будет, Надя, Наденька, Надюшка.
Останься, мысленно взмолился он, здесь... здесь, конечно, тебе не так интересно, как там, в Приозерном, куда являются летом на озеро всякие там разные пижоны в заграничных очках и джинсах, но зато...
Нет, не поеду и ее не пущу. Тем более, что можно не бояться здесь проказы. Сергей мысленно улыбнулся детской своей глупости. Как ты там, Сережка? Выше нос, парень, все будет хорошо. Ты уже и так кое-чего достиг в жизни. Побольше, чем пижоны в джинсах "суперрайфл". Спасти целую расу мыслящих существ, даже если и не он один это сделал, шутка, согласитесь, не шуточная...
Сердце его сжалось от нежности к тому далекому Сережке, что упрямо накачивает по утрам гантельками мышцы и ищет ответы на вопросы, что задает ему жизнь, в Большой советской энциклопедии. Ему бы оххровское поле, он бы там натворил чудес... Как ты там, брат? Не бойся, выше нос, все еще у тебя будет, может, когда-нибудь и встретимся...
Ну, так что решила моя Надя?
- Не поеду, - сказала Надя Первая.
- Остаюсь здесь, - взмахнула решительно головой Надя Вторая, и копна овсяных волос перелетела через плечо.
- А я и подавно, в таком случае, - кивнул Сережа.
- Спасибо, - сказала Надя Первая.
- Подумаешь, - сказала Надя Вторая. - У меня есть один знакомый оххр, который все спрашивает, какой у меня идеал внешности... - При этом она посмотрела на Павла.
Конечно, напряженно размышляла Татьяна Осокина, надо было бы посмотреть, как там Петя и Верка без присмотра... "Как это без присмотра, ты что это, тетка, мелешь? - тут же поправила она себя. - Я же там". Ну конечно же, она там. Сто раз про это думала и сто раз путалась, а раз там, нечего и беспокоиться понапрасну. Не из тех она, которые только о себе думают, плюют на семью. Вроде Марьи Гавриловны из их госстраховской бухгалтерии. Муж оборванный ходит, а она за год два костюма из кримплена купила. Да хоть бы при этом еще сидели на ней, а то мешки мешками. Особенно тот зеленый с черным... Не-ет, у нее, у Татьяны Осокиной, и Петенька и Верка ухоженные. Себя не щадит. Жизни, можно сказать, не видит.
И представила себе Татьяна Владимировна земного своего оригинала, остроносенькую Таньку Осокину и Петра Данилыча с колыхающимся "Советским спортом" на лице. "Олимпийцам - достойную смену!"
И жалко, жалко стало ей ту Татьяну. Ну что, что видела в жизни? И как сможет она ходить каждый день на работу и видеть Марью Гавриловну в ее кримплене, если будет жить в ней воспоминание об Оххре, о себе, молодой и курносенькой, которая все отдала оххрам, поставила их, можно сказать, на ноги.
И Александр Яковлевич, Сашенька...
Стыдно, конечно, ей, замужней, но ведь она там, а я здесь. Сашенька, прошептала она про себя. Как бросился он тогда под пули, у нее словно глаза другие стали. То видела старика болтливого, а то мужчина предстал, который ее грудью прикрыл. Любит, как любит он ее, посмотрит - а в глазах как будто лампочки горят. И за что ее так любить можно? - кокетливо, скорее для приличия, подумала Татьяна, потому что в глубине души была уже давно согласна с заведующим аптекой, который уверял ее, что она женщина необыкновенная. И как уверял! Откуда только он такие слова находит, подумала Татьяна Владимировна. Оставить его? Да ты, Танька, тронулась совсем, если подумать даже могла такое.
И решила сразу, легко: остаюсь.
- Я остаюсь, - сказала она и посмотрела на Александра Яковлевича. - А вы как? - спросила, улыбнувшись. Хорошо спрашивать людей, когда наперед знаешь ответ. - Да вы подумайте как следует, может здесь вам скучно будет.
Ах, сладко, до чего же сладко кокетничать, когда видишь, что прямо трепещет человек. Смешной...
- Танечка, вы серьезно мне это говорите?
Спросил, а сам смотрит на нее, и губы дрожат, как у мальчишки. И в глазах такой немой укор, такой попрек во всем лице, что не выдержала Татьяна Осокина. Улыбнулась нежно, светло, легко:
- Да смеюсь я, глупенький. Счастливая я, вот и смеюсь.
- Танечка, жизнь моя...
Осторожно, словно до краев налитый сосуд, поднял Александр Яковлевич Танину руку, поднес к губам.
Мелькнул на коротенькое мгновение одинокий старик с пустой уже, наверное, банкой индийского чая "Тадж-Махал", забитые тюками с ватой помещения аптеки, с вашего разрешения, уважаемые товарищи, семь в бескозырях...
Вот и пришло его время. И все вокруг сияло сейчас, как Танечкины глаза.
- Мне кажется, - сказал Пингвин, - что это как раз то, о чем нам рассказывали Сережа и Надя Первая...
- А? Что такое? - рассеянно пробормотал Александр Яковлевич. - Вы что-то сказали?
- Он остается, - сказала Татьяна Владимировна.
- Почему только Надька Первая? - обиделась Надя Вторая. Я тоже могу кое-что рассказать о любви... - И она посмотрела многозначительно на Павла.
А Павел думал. Все остаются, думал он, и ниточка, что протянулась сюда с Земли, скоро совсем истончится, и память не выдержит, начнет блекнуть, выцветут земные воспоминания, потеряют вначале запах, потом цвет, потом трехмерность, превратятся в старые фотографии, а потом и вовсе в пустую шелуху слов: мама, Приозерный, синичка...
А здесь... Что ж, здесь, похоже, дело налаживается. И прекрасно обойдутся они без него. А он снова увидит Ивана Андреевича, и тот скажет: "Ну что, Павел Аристархов сын, что сочинили нового?"
"Как же я всегда его легко и быстро судил, - подумал Павел. - Бац - и уже проштемпелевал: безвредный провинциальный перестраховщик..." То-то и оно-то, товарищ фельетонист, не торопитесь судить. Еще неизвестно, какой штемпель сами на лоб получите.
И потом, потом... Как же это выразить? Может быть, если никто на Земле никогда не узнает, какие густые и быстрые две маленькие тени отбрасывают все предметы на Оххре, чем-то станет беднее и Оххр? И Земля?
Ну, смелее! Решай! Здесь бессмертие, бесконечность, сила и печаль поля и поющие камни, что несутся под тобой, когда ты, обернувшись мерцающим диском, мчишься на упругих подушках своего поля. Зато там глупая синичка, что влетает осенью в форточку. Ей бы попросить спокойно: дай поесть, а она, желтогрудка, надменно высвистывает: фюить, фюить.
А здесь оххры. Бесконечно могучие и беззащитные дети космоса, которых нужно учить делать самые первые шаги. И поле, поле, тяжкое и сладостное бремя, что всегда с тобой, что сжимает грудь бесконечной печалью всего сущего и приносит неумолчный гул рек времени. И которое ты учишь не парализовать тебя свинцовой тяжестью тупой мудрости, а трепетать радостью бытия...
Зато там, дома, мама, видя, что ты начинаешь возиться вечером со спиннингом, с роскошной безынерционной катушкой из Гонконга - подарок университетских ребят к двадцатилетию, спросит: на рыбалку с утра? Бутерброды готовить?
И вот ты на озере. Бродят над темной, еще спящей водой белесые туманные занавесочки, и ты зябко поеживаешься в старенькой отцовской телогрейке и смотришь на мокрые от росы серые борта своей "казанки". Краска уже лупится, к будущему лету нужно перекрасить.
Снова и снова, как некий сеятель, который ничего не сеет, а норовит лишь собрать урожай, ты взмахиваешь рукой, и блесна мелькает в воздухе с птичьим посвистом. И вдруг удар. И ты вздрагиваешь, как, наверное, вздрогнула щука, что ощутила во рту страшную твердость того, что еще мгновение назад мелькнуло таким завлекательным блеском. И ты лихорадочно крутишь катушку из Гонконга, и ее пощелкиванье сладостно, потому что конец лески живой, упрямый, тяжелый, охваченный паникой.
И вот оно бьется уже на деревянном настиле лодки, древнее чудовище с загадочными глазами...
Да, но там же и так есть один ты, не хватит ли? Не знаю, ничего не знаю, думал Павел. И Оххр почтительно молчал, потому что видел борение в его душе, поражался и учился. Потому что самые мудрые из мудрых оххров уже начали понимать, что готовое, преподнесенное кем-то решение всегда менее ценно, чем твое собственное.
Может быть, если бы все сказали, что хотят вернуться, Павел бы сказал: я остаюсь. Но все оставались, и Павел сказал:
- Я хотел бы вернуться домой.
- Нам жаль расставаться с тобой, но ты вернешься. Сейчас ты исчезнешь...
- Почему? Как?
- Ты не можешь вернуться на твою Землю вместе с полем, потому что поле сделает тебя не таким, как все, оно даст тебе власть над другими, способность проникать в чужие души. А земные души еще не готовы к тому, чтобы быть всегда открытыми. Поэтому твое поле останется здесь, мы же вернем на Землю лишь твою память. Это тоже тяжкое бремя, но ты его выбрал, Павел, и мы уважаем твой выбор. Ты будешь наедине со своей памятью, потому что мы еще не готовы к открытой встрече с людьми. Потом, когда мы будем готовы, мы придем. Но сейчас ты будешь один. Спасибо за все...
ЭПИЛОГ
В этот день я проснулся как обычно, ровно в семь. Я отдаю себе отчет, что хмои привычки ни для кого не представляют особого интереса, разве что для мамы, которая обязательно должна встать на полчаса раньше меня и приготовить мне завтрак, хотя я бы прекрасно мог сварить себе сам два яйца или подогреть вчерашнее пюре с котлетой.
Но поскольку день этот в моей жизни был довольно необычный, - если, конечно, можно считать необычным возвращение своего второго "я" после пребывания на двух чужих планетах, - я столь тщательно описываю все, что тогда случилось.
Фу-ты, перечитал написанные два абзаца и огорчился. Напыщенно, тяжело, претенциозно, с покушением на шутку. Да что это такое, в самом деле! Неужели же фельетонные замашки во мне столь уж неистребимы, что я не могу нормально описать свой день без всяких штучек!
Итак, я открыл глаза. Хмурое утро еще только намеревалось стать хмурым, потому что ноябрьское небо никак не хотело светлеть. Я полежал немного, с кряхтеньем сполз с кровати и схватился за гантели. Я испытываю такое глубокое и неистребимое отвращение к гантелям, что стараюсь взять их в руки прямо со сна, когда еще плохо соображаю.
Я продолжаю досматривать сны, а руки уже начинают
1. Эта часть книги написана Павлом Пухначевым, и я практически ничего не изменил в ней, если не считать небольших сокращений. (Примеч. автора.)
выбрасывать вперед металл. Сны какие-то путаные, связанные с Любой и еще одной девушкой, имя которой установить мне не удалось. Разобраться во всем этом чрезвычайно трудно, поэтому мне не остается ничего другого, как проснуться, тем более что после тридцати поклонов я уже дышу, как старый маневренный паровозик.
За окном мучительно медленно светлеет. Рассвет под аккомпанемент капели. Опять плюс, и опять надо будет вечером счищать с ботинок глину. Или с сапог, если придется ехать в район. Хотя нет, в совхоз имени Парижской коммуны, куда я собираюсь уже неделю, завтра едет Игорь Олегович из райисполкома и обещал захватить меня. (Кстати, очень симпатичный парень, хотя я и был разочарован, когда познакомился с его женой и узнал, что ее зовут Лариса. К его имени больше подошла бы, скажем, Ярославна или, на худой конец, Ольга.)
В редакции еще почти никого не было. Был только мой фельетончик, который я сдал тремя днями раньше. Не бог весть что, скорее даже не фельетон, а критическая заметка о срыве всех сроков строительства яслей и детского сада.
К первой страничке приколота записка. Почерк Ивана Андреевича: "Констатация, укажите причины явления".
О небо! Он бы мне еще написал красными чернилами, что не раскрыт образ прораба, четыре ошибки, тройка. Какие причины явления? Как будто их кто-нибудь не знает...
Ладно, бог с ним, со старым дураком, перепечатаю первую страничку. Я полез в стол за бумагой и нащупал глиняную фигурку. Я вытащил смешную нелепую помесь обезьяны и чего-то еще и поставил на стол. Было стыдно.
В последние месяцы своей жизни отец вдруг стал лепить. Почему он это делал, я додуматься не мог, а спросить мне и в голову не пришло бы, не такие у нас были отношения. Я знал, что он любит меня, единственного сына, я это видел по его глазам, когда иногда случайно перехватывал его взгляд, но он всегда стеснялся выражать вслух свои чувства.
Однажды - он таял и все это видели - он протянул мне две фигурки и попытался улыбнуться:
"Они только на вид непрочные, меня они переживут".
У меня сжалось горло, я ничего не смог сказать. И вот теперь я уже почти забыл об обезьяне и лишь иногда случайно натыкаюсь на нее...
Я перепечатал первую страницу, ответил на четыре письма, одно из которых было жалобой на меня. Герою моего фельетона не понравилось, как я пишу, и Иван Андреевич написал на листке, чтобы я дал ему просмотреть свой ответ.
Часов в пять я пошел домой. Игорь Олегович обещал заехать за мной в восемь утра, вечером передавали хоккей. Словом, жизнь продолжалась.
На углу Гоголя и Красногвардейской ко мне прицепилась какая-то облепленная глиной дворняжка. Такая, знаете, черно-белая маленькая псина, каких всегда можно встретить в русских деревнях и маленьких городках. Мне даже показалось, что я ее уже видел. Может быть, соседская, может быть, даже она была похожа на забавную фотографию собачки с пятью ногами, которую один наш школьник послал в "Литературку" в раздел "Что бы это значило?". Где-то она лежала у меня, эта фотография. Я помню, одно время собирал какие-то нелепые россказни, циркулировавшие в нашем городе. Собирался написать фельетончик о суевериях, да так и не написал. Советовался с доктором Бухштаубом. Старик был банален, помнится, но прав. Как летающие тарелки. Поговорили - и забыли.
Собачонка прошла рядом со мной почти целый квартал и вдруг сказала тихонечко так, не поднимая головы:
- Паша, это я, Мюллер...
О господи, подумал я, дописался ты, братец, фельетонов, они тебя, все предупреждали, до добра не доведут. Но тут я почувствовал, как мой мозг начал вдруг стремительно расширяться, наполняться цветом и звуком, будто в него быстро засовывали сразу массу вещей.
Ноги мои продолжали мерно ступать. День действительно выдался хмурый, теплый, и мои туфли на микропорке из черных стали коричневыми от глины. А в голову мою продолжали впрыскивать под давлением цветной калейдоскоп. С каждым новым моим шагом по улице Гоголя миллиарды цветных осколков складывались в новую картину, и каждая последующая была ярче, богаче, объемнее и естественнее предыдущей.
Бедные мои нейроны или молекулы, кто там ответственен за память в моем скромном мозгу! Как они работали в эти минуты, в каком безумном хороводе кружились, подгоняемые черно-белым лохматым Мюллером!
И я уже знал! Его поле вогнало в меня мое второе "я", то, что странствовало по Вселенной, вогнало легко, смешало обе памяти, как смешивают, стасовывают две колоды карт.
И в меня вошла печаль оххров, и Татьяна Осокина, отдавшая им свои воспоминания, и полет на Онир, и Лик Карк с Уном Топи, и последний бой Ивана Андреевича.
Я шел по дощатому тротуару, по которому ходил сотни раз, видел дома и лица, виденные сотни раз, но взгляд мой стал другим. Потому что мир стал другим. Он был бесконечно прекрасен, и населяли его изумительные существа. Суматошные, неспокойные, но ни на кого не похожие существа. Если бы мы только знали, какую несравненную ценность представляем мы для Вселенной! А может быть, мы именно потому такие, что не знаем себе цены? И не задираем нос от космического зазнайства?
- Привет, Паш! - помахал мне с противоположной стороны улицы завмаг Жагрин. - Задумался? Уж не фельетончик о нас сочинить хочешь?
Бедный, смешной завмаг, если бы он знал, где сейчас его партнер по преферансу!..
Я вдруг сообразил, что повернул и иду на улицу Гагарина, к аптеке. Неужели же я сейчас увижу Александра Яковлевича, пылкого Ромео, нашедшего свою сорокалетнюю Джульетту за столько-то световых лет?
- Скажите, могу я видеть заведующего?
- Что случилось? - испуганно спросила молодая женщина в белой шапочке, на которой красиво выделялись несколько темных локонов.
- Да ничего, мне нужен лично Александр Яковлевич.
О господи, вдруг испугался я, а может быть, с ним что-нибудь случилось, ведь прошло уже столько времени. Да нет же, поправила та часть моего "я", что не покидала города, все с ним нормально.
- Вот сюда, пожалуйста.
Он сидел в крошечной каморке и перебирал накладные или какие-то похожие на них бумажки. Боже, как он постарел! А может быть, просто на Оххре он помолодел.
- Слушаю вас, молодой человек, - сказал он и посмотрел на меня.
- Да я, собственно... просто так... - смешался я.
Для чего я пришел? Сказать ему: "Уважаемый Александр Яковлевич, а вы знаете, что вы сейчас страстно влюблены в некую Татьяну Осокину и весьма счастливы с ней на Оххре? Это не очень далеко, до Кассиопеи, потом направо два парсека".
Только сейчас я понял слова Пингвина, сказанные им при расставании: "Мы вернем на Землю лишь твою память. Это тоже тяжкое бремя, но ты его выбрал, Павел..."
Я смотрел на морщинистые с коричневыми пятнами пигментации руки и думал, что я, новый Павел Пухначев, состоящий из двух Паш, стал уже немножко другим - чуть печальнее, чуть умнее, чуть мягче, чуть терпимее и чуть добрее. Так, по крайней мере, мне хотелось думать.
- Так что вам угодно? - спросил Александр Яковлевич.
- Видите ли... меня зовут Павел Пухначев...
- Ах да, вы, кажется, из нашего "Знамени труда"? Чем могу служить?
- Понимаете... - я почувствовал, что уголки моего рта сами по себе начали растягиваться в глупой улыбке, - я... хотел купить альмагель...
Александр Яковлевич пожал плечами. В жесте сквозила обида за свою аптеку.
- Пожалуйста, нормальный и "А". Платите в кассу.
- Спасибо, - сказал я, - большое спасибо.
Должно быть, что-то не совсем обычное прозвучало в моем голосе, потому что, когда я уже выходил из крохотного кабинетика, я услышал, как Александр Яковлевич пробормотал:
- Странный молодой человек...
...Я шел по улице Гагарина, и сердце мое переполняли светлая печаль и любовь к людям. Мне нелегко было нести память об Оххре и Онире, но я никогда никому ничего не рассказывал. Во всяком случае, до встречи на озере следующим летом.
Конец.


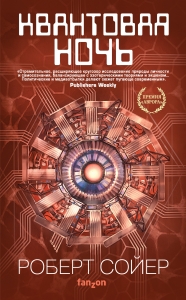

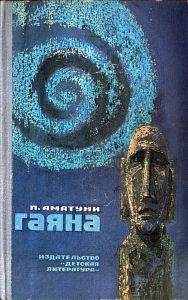

Комментарии к книге «Дарю вам память», Зиновий Юрьевич Юрьев
Всего 0 комментариев