ИСКАТЕЛЬ № 6 1981
Виктор ПШЕНИЧНИКОВ ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ
— Ковалев! Лейтенант Ковалев! Василий!
Он не оборачивался, продолжал пристально наблюдать за летным полем. Там, в невесомом мареве, то укорачиваясь, то удлиняясь от знойных испарений, набирал обороты «боинг». Едва заметные на расстоянии крапинки иллюминатора, дрожа, поблескивали на солнце. Казалось, толстобрюхий самолет никогда не взлетит, так долго длился его разбег. Наконец у самой кромки взлетной полосы, за которой начинался лес в июньской лаковой зелени, «боинг» тяжко поднялся, подобрал шасси и косо потянул в вышину, оставляя за собой грязно-бурый след и надрывный удаляющийся грохот.
— Вот и все. — Ковалев обернулся к Ищенко, надвинул на лоб фуражку с изумрудно-зеленым верхом, слегка дотронулся ребром ладони до кокарды. — Ну, чего шумишь?
— С тобой зашумишь, — недовольно отозвался Ищенко. — Гоняйся по всему полю, ори! Что я тебе, маленький?
— Микола! — Ковалев придержал друга за локоть, щуря глаза, невинно спросил: — А как по-украински сказать: цветные карандаши?
— Чохо?
— Да цветные карандаши. Такие, знаешь, в коробках. Которыми рисуют.
— От так и будэ: кольрови оливцы, — разом теряя ворчливость в голосе, ответил Ищенко. — А що?
— Да ни що! Хороший ты хлопец, Микола, только юмора тебе не хватает. А без юмора долго не проживешь.
— Ну и ладно, — покорно согласился Ищенко. — Мне долго не треба, главное — свое прожить справно.
Мимо них прокатил грузовик с ярко-оранжевыми бортами и длинным самолетным «водилом» на толстых шинах. Двое дюжих техников пробовали вручную сдвинуть с места забуксовавший электрокар, незлобно поругивали водителя, съехавшего с асфальта на вязкий газон. Визжа и как бы приседая на виражах, промчалась продолговатая «Волга» руководителя полетов, из окна кто-то приветливо помахал рукой. У каждого здесь была своя забота, свое дело. Все эти люди, машины, механизмы составляли законченную, едва заметную постороннему глазу картину жизни аэропорта. И офицеры-пограничники были хотя и малой, но неотъемлемой ее частью.
— Толкнем? — Ковалев показал Ищенко на электрокар.
— Треба трошки подсобить…
Вчетвером справились быстро, водрузили электрокар на место, пожелали техникам доброй работы.
— Чего искал-то, Микола? — Ковалев повернулся к другу.
— До шефа иди, зовет.
Ковалев на мгновение приостановился, оглянулся назад, словно растаявший в небе «боинг» мог каким-то чудом вернуться и занять прежнее место на полосе. Но от самолета не осталось уже и следа.
Ковалев обязан был проследить за отлетом «боинга», на борту которого находился выдворенный за пределы Советского Союза иностранный турист. Всего три часа пробыл он на нашей земле, а ощущение осталось такое… Неприятное ощущение.
Он прибыл утренним рейсом, в пору, когда остывший за ночь асфальт еще не успел накалиться до духоты, а трава на газонах до неправдоподобия натурально пахла травой, не сеном. Поначалу никто не обращал особенного внимания на общительного пассажира: мало ли восторженных людей путешествует по всем точкам земного шара?
Турист лип буквально ко всем: то надоедал разговорами своему пожилому соотечественнику, страдавшему одышкой; то радостно протягивал контролеру-пограничнику через стойку кабины пустяковый презент — пакетик жвачки, в приливе чувств даже готов был его поцеловать, то кинулся помочь какой-то растерявшейся старушке заполнить таможенную декларацию и вовсе запутал, сбил ее с толку. С таможенником, когда подошла его очередь предъявлять багаж на контроль, заговорил на едва понятном русском так, словно они были старинными приятелями, лишь вчера расстались после пирушки и теперь им необходимо вспомнить подробности весело проведенного вечера.
Багажа у него оказалось немного — чемодан да тяжелая коробка с пластинками. Таможенник перелистал конверты, словно страницы книги: Чайковский, Шостакович, Свиридов. Новенькие блестящие конверты отражали солнечные блики.
— Классика! — восторженно пояснил турист, постукивая твердым ногтем по глянцу картона.
Таможенник тоже оказался любителем классической музыки и, насколько знал Ковалев, по вечерам заводил в своей холостяцкой квартире старенький «Рекорд», внимая печальным органным фугам Баха… Только ему невдомек было, какая надобность туристу везти с собой в такую даль Шостаковича и Чайковского, если записей композиторов полно в любом музыкальном магазине? Другое дело поп-музыка или диск-рокко, в последние годы хлынувшие из-за границы, будто сор в половодье…
Дотошный таможенник знаком подозвал к себе Ковалева, сказал негромко:
— Кажется, это по вашей части…
Когда туристу предложили совместно послушать его диски, он в смущении оглянулся, изобразил пальцем вращение и сказал:
— Нет этой… фонограф.
— Найдем, — заверили его.
Наугад выбрали из пачки первую попавшуюся пластинку, поставили на вертушку. После нескольких витков знакомой мелодии в репродукторе послышался легкий щелчок, и мужской голос, чуточку картавя, провозгласил:
— Братья! К вам обращаюсь я…
Иностранец буквально взвился на своем стуле: это подлог, у него были записи настоящей классической музыки!..
Ковалев молча наблюдал за тем, как менялось, становилось злым только что развеселое лицо интуриста, и невольно сравнивал, вспоминал… Еще мальчишкой он жил с отцом на границе, в крошечном старинном городке под Калининградом. Из самых ранних детских впечатлений осталось в памяти, как они ловили в необъятном озере метровых угрей. Мрачная с виду рыба брала только на выползня — огромного червя длиной с толстенный карандаш, охотиться за которым надо было ночью, с фонариком. Мальчик сначала не решался к ним подходить, но отец сказал, что никакой земной твари бояться не надо, и он осмелел. А потом оказался даже добычливей отца. На свет выползень не реагировал, но шаги слышал чутко, лежал, наполовину вытянувшись из норки, посреди утоптанной пешеходной тропы, наслаждался ночной прохладой. Надо было осторожно, на цыпочках приблизиться к выползню, перехватить его жирное извивающееся тело у кратера норки и держать, пока он не расслабится, тянуть…
Чем-то иностранный турист напоминал Ковалеву скользкого выползня.
— Вы подсунули мне чужие диски, это подлог! — визгливо кричал иностранец.
Начальник смены пограничников, в кабинете которого велось прослушивание, провел ладонью по лицу, будто к нему пристала липкая паутина, спокойно спросил:
— Коробку вы несли сами? Сами. Кто же мог совершить подлог?
Турист закричал о произволе, о попранной демократии, нарушении принципов интернационализма, провозглашенных самим Лениным…
Начальник смены, майор, тяжело поднялся из-за стола, какое-то время в упор разглядывал иностранца.
— Послушайте, вы… — Голос майора звучал жестко. — Читайте, если вы грамотный человек. — Майор указал иностранцу на плакат у себя за спиной.
Медленно шевеля губами, тот прочел: «Мы стоим за необходимость государства, а государство предполагает границы. В. И. Ленин».
— У вас будет достаточно времени поразмыслить над этим у себя дома, — уже спокойней заключил майор. — Выездная виза сегодня будет передана с соответствующим заявлением вашему консулу. Для вас же путешествие закончено. Лейтенант Ковалев! Подготовьте материалы о выдворении гражданина за пределы СССР как нарушителя советских законов, задержанного с поличным… Проследите за его отправкой ближайшим рейсом…
И вот теперь Ковалев шел к начальнику контрольно-пропускного пункта, недоумевая, зачем он мог понадобиться так срочно.
— Не догадываетесь, зачем я вас вызвал? — спросил начальник КПП, когда Ковалев доложил о прибытии.
— Только что позвонили из роддома: ваша жена родила. Все благополучно. Дочь. Надо же, повезло! А у меня одни парни, трое. — Полковник встал, протянул лейтенанту обе руки. — Поздравляю, Ковалев, от души поздравляю. Можете смениться. — Он взглянул на часы. — Служебный автобус отходит через двадцать минут. Не опоздайте. Желаю счастья!.. Да, если нетрудно, передайте по пути начальнику аэропорта вот этот конверт. Там марки, — пояснил он смущенно, — наши сыновья затеяли обмен. Дружат, понимаете ли, до сих пор: раньше-то мы жили в одном доме…
Ковалев чуть ли не вырвал из рук начальника конверт.
На пути, перегородив узкий проход между двумя залами, попались неуклюже растопыренные стремянки маляров, затеявших косметический ремонт аэропорта, полные до краев ведра с побелкой и краской. Сами маляры — две девушки и парень в низко надвинутой на лоб газетной пилотке — работали на деревянных мостках под самым потолком, и оттуда летела на пол мелкая известковая пыль. Рискуя вывозиться в мелу, Ковалев вихрем помчался к лестнице, взялся за перила. И отдернул руку.
Прямо перед собой, чуть ниже ладони, он увидел пачку денег.
Деньги были свернуты в рулон и засунуты под фанерную обшивку, которой строители на время ремонта отгородили зону спецконтроля от общего зала, облицевали косыми листами перила и лестничный марш. В сумеречной тени шаткой некрашеной стенки, за которой находились таможенный зал и накопитель, свернутые в рулон деньги легко можно было не заметить или принять за продолговатый сучок, мазок краски, а то и за мотылька, распластавшего овальные крылья по яичной желтизне фанеры.
Даже на глазок, без подсчета, Ковалев мог сказать, что обнаружил крупную сумму.
«Сотни четыре, не меньше. Доллары? Фунты? Или в наших купюрах?»
Медленно, будто внезапно что-то вспомнив, он повернул обратно, сосредоточенно нахмурил лоб. За ним могли наблюдать, и Ковалев, чтобы не выдать себя, не показать охватившего его волнения, на ходу открыл клапан почтового конверта, достал из него блок марок.
В блоке оказалась серия аквариумных рыб диковинных форм и расцветок. Он выудил из пакета следующий блок, притулился к киоску «Союзпечати» наискосок от лестничного марша, и принялся углубленно изучать зубчатые бумажные треугольнички с изображением далеких солнечных стран. Под руки попался клочок с оторванным краем, на котором неподвижно застыла неправдоподобная в своей буйной зелени пальма, растущая среди знойных барханов, словно воткнутая в песок метла.
Время шло, а за деньгами никто не приходил. Ковалев просмотрел марки второй раз. Все эти сфинксы, райские птички, запеченный яичный желток солнца, унылые бедуины мало занимали его, но он старательно придавал своему лицу выражение неподдельного интереса.
Откуда-то сбоку вывернулся Ищенко, заговорил с подхода:
— Ну ты даешь, Василий! Лучшему другу — и не сказал. Хорошо, шеф просветил. Ну, поздравляю!
— Николай…
— Потом будешь оправдываться, за праздничным столом. Дуй скорей на автобус, осталось всего три минуты.
— Николай, слушай меня. И не оглядывайся. Под перилами лестницы — тайное вложение. Чье — пока не знаю. Сообщи начальнику смены. И пришли сюда кого-нибудь, хоть Гусева, что ли. Да объясни, пусть не бежит, как на пожар, а то все дело испортит…
Первогодок Гусев поначалу вызывал у Ковалева раздражение и даже неприязнь. Не давалась ему служба контролера, хоть плачь. Перевели его в осмотровую группу, и он в первый же день принес Ковалеву «добычу» — монету в десять сентаво, что закатилась под кресло салона авиалайнера. Мелочь? А для Ковалева эта монетка была дороже сторублевой бумажки, дороже награды, потому что дело не в ценности находки, совсем нет. Знаменитый гроза контрабандистов Кублашвили тоже начинал не с миллиона… Буквально через сутки Гусев после очередного досмотра самолета положил на стол начальника смены расшитый бисером дамский кошелек в виде кисета. Открыли его, пересчитали деньги — три тысячи лир, все состояние итальянки, горестно сообщившей пограничникам о пропаже. Ей предъявили искрящийся дешевым стеклярусом кошелек, спросили, тот ли, что потерялся. Итальянка всплеснула руками: «Мама мия!» — и принялась вслух пересчитывать деньги, потом отделила половину, долго подыскивала и нашла-таки нужное слово: «Гонорар». Ей объяснили, что у нас так не принято, но она никак не могла взять в толк такую простую истину и все подсовывала, передвигала по столу кипу бумажных денег.
Гусев вошел в зал вразвалочку, покачивая чемоданчиком с таким видом, будто получил десять суток отпуска и вот-вот уедет домой.
«Артист!» — восхищенно подумал Ковалев.
Гусев изобразил на лице, что безмерно рад встрече с лейтенантом, затем хозяйски, чтобы не мешал, поставил чемодан на прилавок закрытого киоска. Незаметно шепнул, что Ищенко ввел его в курс дела, и тут же начал рассказывать какую-то смешную нескончаемую историю про одного своего знакомого.
«Артист! — снова искренне поразился Ковалев. — Откуда что и взялось!»
Мимо них проходили люди, о чем-то говорили между собой, но Ковалев их почти не слышал, словно ему показывали немое кино.
Однажды, еще до училища, когда он служил рядовым на морском КПП и стоял в наряде часовым у трапа, ему тоже показывали «кино». В иллюминаторе пришвартованного к причалу океанского лайнера, на котором горели лишь баковые огни, вдруг вспыхнул яркий свет. Ковалев мгновенно повернулся туда и остолбенел: прямо в иллюминаторе плясали две обнаженные женщины, улыбались зазывно и обещающе. Он не сразу сообразил, что из глубины каюты, затянув иллюминатор белой простыней, специально для него демонстрировали порнофильм. А потом к его ногам что-то шлепнулось на пирс. Записка, в которую для веса вложили монету! Он немедленно вызвал по телефону дежурного офицера. Тот развернул записку, прочел: «Фильм блеф, отвод глаз. Вас готовят обман». Всего семь слов. Внизу вместо подписи стояло: «Я — тшесны тшеловек»… В тот вечер, усилив наблюдение за пирсом, наряд действительно задержал агента. Прикрываясь темнотой, тот спустился с закрытого от часового борта по штормтрапу и в легкой маске под водой приплыл к берегу. С тех пор Ковалев накрепко запомнил «кино» и неведомого «тшесного тшеловека», который, наверняка рискуя, вовремя подал весть. Где он теперь?..
Время шло. Гусев успел дорассказать свою историю и начал в нетерпении поглядывать на лейтенанта, потому что не привык на службе стоять просто так, без дела. Вот уже и маляры покинули свои подмостки, должно быть, отправились перекусить или передохнуть. Следом за ними спустился и паренек в легкомысленной газетной пилотке, поставил ведро со шпаклевкой к фанерной стенке, совсем неподалеку от денег. Ковалев напрягся. Малер повертел туда-сюда белесой головой, полез в карман, закурил. Снова оглянулся по сторонам, словно отыскивая кого-то.
В это время внизу, у самого пола, видимо, плохо прибитые фанерные листы, разгораживавшие два зала, разошлись, и в проеме показалась рука, сжимающая продолговатый сверток. В следующий миг пальцы разжались, пакет оказался на заляпанном побелкой полу, и рука, мелькнув тугой белой манжетой, убралась. Листы фанеры соединились.
Гусев даже подался вперед, готовый немедленно начать действовать, но лейтенант незаметно осадил его: стой, не спеши. Пограничник должен уметь выжидать.
Вот паренек докурил свою сигарету, затоптал окурок, еще раз, уже медленно, оглядел зал. Потом он подвинул ведро поближе к стене и заспешил вслед за ушедшими девушками.
— Наблюдайте за пакетом и деньгами, — приказал Ковалев солдату. — Потом обо всем доложите. Я — в накопителе.
Сдерживая поневоле участившееся дыхание, Ковалев вошел в накопитель, отгороженный от общего зала и различных служб временной фанерной перегородкой до потолка. Народу в накопителе было немного. Две дамы в строгих, неуловимо похожих деловых костюмах с глухими воротами под горло сидели в ожидании своего багажа на полужестком диванчике, будто в парламенте, и важно вполголоса беседовали.
«Не по погоде одежда, — посочувствовал им Ковалев. — Жарко сейчас в кримплене».
У той, что постарше, подремывал на коленях шоколадно-опаловый японский пикинес с приплюснутой морщинистой мордочкой и как бы вдавленным вовнутрь носом. Крошечной собачке не было никакого дела до журчащих звуков разговора хозяйки и ее собеседницы. Невнятный людской гомон, смешанный с заоконным аэродромным гулом, тоже мало беспокоил породистое животное, и пикинес невесомо лежал на хозяйских коленях, словно рукавичка мехом наружу.
Возле диванчика, неподалеку от дам, склонился над распахнутым кейсом тучный потный мужчина, по виду маклер или коммивояжер, а может, агент торговой фирмы. Зачем-то присев на корточки, он перебирал кипы бумаг в своем пластмассово-металлическом чемоданчике с набором цифр вместо замков; шевеля губами, вчитывался в развороты ярчайших реклам или проспектов и собственных раритетов. Галстук у него сбился на сторону, словно мужчина только что оторвался от погони и сейчас наспех ревизовал спасенное им добро.
На Ковалева, прошедшего неподалеку, коммивояжер даже не поднял глаз.
Широкое окно посреди накопителя было обращено к взлетно-посадочной полосе, и около него, сплетя за спиной длинные пальцы, неподвижным изваянием застыл человек спортивного склада. Ранняя седина путалась в его волнистой шевелюре, будто тенетник на осенних кустах. Рамное перекрестье окна, центр которого перекрывала седовласая голова мужчины, казалось артиллерийским прицелом, и за ним то и дело вихрем проносились самолеты различных авиакомпаний.
Вот мужчина повернулся, явив Ковалеву чеканный, как на медали, профиль лица, боковым зрением цепко окинул зал и опять вернулся к прежней позе, лишь сверкнули из-под обшлагов пиджака дорогие запонки. Во всем его облике ясно читалась уверенность в себе и полнейшее равнодушие к происходящему вокруг.
«Такие должны хорошо играть в гольф и лихо водить машину», — подумал Ковалев, вспомнив мимоходом какой-то не то английский, не то американский фильм. Он почти физически ощутил, как у себя дома, на площадке, пригодной для гольфа, незнакомец со вкусом выбирает из набора клюшек увесистый клэб, мощно, без промаха бьет им по мячу из литой вулканизированной резины, и мяч по трассе скатывается точно в лунку… Еще Ковалев представил, как довольный выигрышем игрок мчится по автобану в ревущем восьмицилиндровом авто, выжимая акселератор до отказа, — и удивился реальности этой несуществующей, увиденной лишь в воображении картины. Правда, нарисованный им образ мало в чем прояснял возникшую ситуацию и даже, наоборот, мешал Ковалеву сосредоточиться.
Не было у Ковалева ни малейшего желания угадывать среди прочих иностранцев единственного нужного ему человека, потому что в большинстве своем это были нормальные, здравомыслящие люди. Но кто-то из них, занятых сейчас своими будничными делами, пытался совершить нечто противозаконное, идущее во вред государству и, таким образом, во вред ему самому, Ковалеву.
Сцепленные за спиной узловатые пальцы иностранного пассажира напоминали те, что на мгновение мелькнули в отжатом проеме фанерного стыка, и в то же время были отличны от них. Чем? Размером, формой?.. Лейтенант, как бы фотографируя руки до мельчайших подробностей, до малейшей жилки, сравнивал и сравнивал запечатленное в памяти и видимое воочию: он боялся ошибиться.
Словно почувствовав на себе взгляд, мужчина расцепил руки, молча и, как показалось лейтенанту, презрительно скрестил их на груди.
Ковалев поспешил отвернуться.
Его внимание привлек сначала бородатый не то студент, не то просто ученого вида пассажир, по слогам читавший согнутую шалашиком книжку из серии «ЖЗЛ», об Эваристе Галуа, название которой Ковалев прочел на обложке. Время от времени «студент» поднимал глаза и, не переставая бубнить, исподлобья окидывал зал, находил какую-нибудь точку и на ней замирал, подолгу уходил в себя. Толстая сумка, висевшая у него через плечо, была раздута сверх меры.
Чуть скосив глаза, Ковалев увидел маленького вертлявого человечка в мягких замшевых туфлях и болотного цвета батнике, надетом явно не по годам. Заказав себе в небольшом буфете, набитом всякой всячиной, порцию апельсинового сока, мужчина сначала удивленно разглядывал отсчитанный ему на сдачу металлический рубль с изображением воина-победителя, а потом гортанно начал требовать себе лед.
— Эйс, битте, льёт, — тыча пальцем в стакан, требовал он попеременно на разных языках. — Льёт, а? Нихт ферштеен? Айс!
Явный дефект речи не позволял ему выговаривать слова четко, и Ковалев волей-неволей улыбнулся: уж очень похоже было английское «айс» на вопросительное старушечье «ась»! Сам иностранец тонкости созвучия не улавливал, и оттого еще забавней выглядело его лицо с недовольно надутыми губами и сердитым посверкиванием глаз.
Знакомая Ковалеву буфетчица Наташа, которой гордость не позволяла объяснить покупателю, что холодильник сломался и, пока его не починит монтер, льда нет и не будет, — эта Наташа безупречно вежливо, старательно прислушивалась к переливам чужого голоса, как бы не понимая в нем ни единого слова.
Недовольно бурча, иностранец в батнике побрел от полированной, сияющей никелем стойки буфета, на ходу сунул нос в стакан, подозрительно принюхался к его содержимому и на том как будто успокоился. Апельсиновый сок ему пришелся по вкусу.
Другие пассажиры были менее колоритны, почти ничем не привлекли внимание офицера, и, глядя на их обнаженную аэропортом жизнь, Ковалев напряженно думал: кто? Кто мог осуществить тайное вложение? Коммивояжер? Любитель гольфа? Или «студент»? А может, этот, в батнике? Все они с одинаковым успехом могли проделать нехитрую манипуляцию со свертком — и ни о ком этого нельзя было сказать с достаточной уверенностью. Любое предположение заводило Ковалева в тупик, а он все равно упрямо продолжал размышлять. Две чопорные дамы, сидящие в накопителе, словно в парламенте, естественно, отпадали, потому что с их надменным видом никак не вязалось понятие грязного дела, недостойного их высокого положения. Благодушный семьянин с двумя хорошенькими девочками-близнецами, расположившимися неподалеку от дам, или восковолицый священник в долгополой сутане, выхаживающий по периметру накопителя, тем более не могли быть отнесены к категории искомого Ковалевым человека.
И все же сверток поступил в общий зал именно отсюда, из накопителя…
Надо было как-то оправдать свое присутствие здесь, в месте, удаленном от пограничного и таможенного контроля, и Ковалев приобрел в буфете пачку каких-то разрисованных импортных сигарет, хотя терпеть не мог табачного дыма.
— Вы сегодня удивительно хороши, — сказал он Наташе.
Девушка поправила крахмальную наколку на пышно взбитой льняной прическе и, улыбнувшись, сообщила лейтенанту:
— К концу недели завезут «Мальборо». Оставить?
Ковалев покачал головой: нет, не надо, — и тоже широко улыбнулся. Со стороны можно было подумать, что лейтенант-пограничник зашел сюда с единственной целью — поболтать с хорошенькой буфетчицей. Не переставая улыбаться, он отдал Наташе честь и направился в самый угол зала, где в стороне от других примостилась на стуле сухопарая миссис, почти старуха, которой уже ни к чему были ни пудра, ни крем, ни прочие атрибуты молодости.
Она прибыла в Союз с предыдущим рейсом, минут тридцать назад, но все еще не отваживалась покинуть зал и выйти на воздух. При посадке самолета ей стало дурно, стюардесса без конца подносила ей то сердечные капли, то ватку с пахучим нашатырем.
В аэропорту занемогшую пассажирку ждал врач, но от помощи она отказалась, уверяя, что с нею такое бывает и скоро все само собою пройдет. Просто ей нужен покой — абсолютный покой и бездействие, больше ничего.
Она сидела под медленно вращающимися лопастями потолочного вентилятора, вяло обмахиваясь остро надушенным платком. Весь ее утомленный вид, землистый цвет лица, кое-где тронутого застарелыми оспинами, нагляднее всяких слов говорили о ее самочувствии. Возле ее ног дыбились два увесистых оранжевых баула ручной клади, и было любопытно, как она сможет дотащить их до таможенного зала.
Ковалев остановился напротив, учтиво спросил по-английски:
— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
Увядающая миссис натужно улыбнулась:
— О нет, благодарю, мне уже лучше. Весьма вам благодарна.
Белая батистовая кофточка колыхалась от малейшего движения иностранки. Но поверх кофточки, усмиряя воздушную легкость батиста, пряча под собой тщедушное тело, громоздилось нелепое черное кимоно с широкими рукавами, делавшее женщину похожей на излетавшуюся ворону.
Ковалев устыдился столь внезапного, неуместного своего сравнения, будто оно было произнесено вслух и услышано; но и отделаться от навязчивого образа оказалось не так-то просто. Он поспешно кивнул пожилой иностранке и легким шагом пересек по диагонали продолговатый зал накопителя.
Впервые у Ковалева не было никакой уверенности, что таинственный владелец пакета может быть обнаружен. Ему не в чем было ни упрекнуть, ни заподозрить в тайном умысле ни одного из находившихся в накопителе. И потому червячок неудовлетворения, почти юношеской досады точил и точил его душу.
И словно в утешение ему яркой звездочкой взошла в потемках души внезапная радость: теперь их на земле трое — он, жена и малышка. Дочь… Как они ее назовут? Кем воспитают?..
Хотя и с трудом, Ковалев заставил себя пока не думать о дочери, чтобы не расслабиться, не размякнуть, и он пошел к начальнику контрольно-пропускного пункта.
В кабинете «шефа», как называли молодые офицеры начальника КПП, по-прежнему стояла вязкая духота. Лопасти вентилятора шевелили на лбу полковника прядку волос. Закупоренные от аэродромного шума двойные окна в алюминиевых рамах лишь добавляли тепла, накаляя кабинет, как через увеличительные стекла.
Сбоку, за приставным столиком, низко склонялся к столешнице вызванный пограничниками офицер управления. Он сверялся с записями в коричневом добротном блокноте и на вошедшего не смотрел.
Ковалев коротко доложил, что установить, хотя бы предположительно, владельца пакета не удалось. Полковник сдул со лба спадавшую прядку волос, молча кивнул; указывая лейтенанту на стул. Ковалев втайне боготворил «шефа», чем-то напоминавшего ему отца, пограничного офицера, убитого бандитской пулей уже после войны. Оттого никогда и не позволял себе в присутствии полковника вольных поз, мало-мальски неуставных отношений, хотя совместная их работа не проводила резкой грани между начальником и подчиненным, а, наоборот, большей частью ставила их обоих почти в равное положение. Он и теперь вежливо, но твердо отказался от приглашения полковника сесть, стоял на удобном для разговора расстоянии в почтительной позе.
— Вот что, лейтенант Ковалев… — Начальник КПП несколько раз нажал и отжал голубую кнопку выключателя вентилятора, наблюдая за тем, как она глубоко утопает в круглой нише и вновь показывается оттуда. — Вот что… В свертке, доставленном Гусевым, оказались рулоны восковки. Все тексты на ней антисоветского, подстрекательского содержания.
Полковник на минуту умолк. Ковалев терпеливо ждал продолжения разговора.
— Деньги, по всей вероятности, никакого отношения к свертку не имеют: слишком далеко до них от пола, туда из щели не дотянуться. Видимо, кто-то решил избавиться от них таким образом. Бывает… И маляр тоже тут ни при чем — обыкновенный честный человек, хороший производственник, комсомольский секретарь бригады… Меня в данном случае беспокоит другое. — Полковник хмыкнул, взглянул за окно, где синим-сине расстилалось небо без единого облачка до самого горизонта. — Разберемся: почему в пакете оказались только восковки? Наши «опекуны» за рубежом слишком предусмотрительны, чтобы засылать столь далеко «неукомплектованного» агента… Либо… — Полковник перевел взгляд на офицера управления. — Либо агент — новичок, так сказать, попутчик, которого за плату уговорили доставить к нам эту мерзость с тем, чтобы потом передать ее по назначению.
Полковник с силой нажал кнопку вентилятора.
— Есть еще и третий вариант: трусость. Обыкновенная трусость, которой подвержены и опытные агенты. Обнаруженные восковки — не шапирограф, для них нужна специальная краска. Думается, надо искать недостающую часть «комплекта». Таможенников мы уже предупредили.
Начальник КПП откинулся на спинку стула.
— Вам все ясно, лейтенант Ковалев?
— Так точно!
Вернувшись в зону пограничного контроля, Ковалев некоторое время понаблюдал за работой контролеров. К ним в застекленные кабинки протягивали паспорта и визы недавно прибывшие пассажиры, пытались о чем-то заговаривать, путаясь в словах и дополняя их где улыбкой, где жестами. Нигде никакого ни затора, ни недоразумения. Ревнивое, сладостное чувство током пробежало по жилам лейтенанта: его питомцы! Не зря корпел с ними на занятиях по идентификации личности, приучал к тонкостям обращения с документами. Теперь любой работает как часы: поприветствует иностранца на языке его родины, окинет профессиональным взглядом паспорт, въездную визу владельца, проставит штамп — и встречай, земля русская, заморского гостя! Встречай и привечай, открывай богатства русской души и необъятных российских просторов!..
Гордостью наполнилась грудь лейтенанта, той чистой, первородной гордостью за свою землю, своих людей, что передалась нам от предков и, орошенная кровью и потом многих и многих миллионов безвестных и поименно перечисленных героев всех времен, на века составила частицу характера русского человека. И пока жив в человеке этот святой огонь любви к своему Отечеству — до тех пор он будет могуч и неодолим…
В таком счастливом, почти праздничном настроении наблюдал Ковалев за работой своих подчиненных. И единственное, что огорчало его в этот момент душевного подъема, это неоконченная история с пакетом, в которой пока реально существовали лишь обнаженные рулоны восковки да помнился быстрый, нервный промельк между желтых фанерин узкой руки с белой манжетой…
Когда пограничники уже заканчивали оформление пассажиров с прибывшего рейса, в дверях накопителя показалась прихворнувшая миссис. Видимо, она достаточно отдохнула, пришла в себя, потому что, хотя и пригибалась, несла свой груз сама.
Следом, вытирая лоб платком, спешил с прижатым к животу кейсом тучный коммивояжер.
Помахивая непонятно откуда взявшимся зонтом, вышел «любитель гольфа», как мысленно окрестил его Ковалев, мельком, ленивым полукругом окинул взглядом помещение.
Человек в молодежном батнике и обросший «студент» столкнулись в дверях и никак не могли разойтись — обоим мешала битком набитая заплечная сумка обладателя книги об Эваристе Галуа.
Две дамы в строгих черных костюмах вышагнули из двери накопителя, словно из кельи монастыря, храня на лицах прежнее недоступное выражение. У одной из них на руках по-прежнему подремывал разморенный жарой мохнатый пикинес. Сходство дам с монашенками усиливалось еще и тем, что они шли как бы в сопровождении священника в долгополой сутане, под его молчаливым взором не смели позволить себе даже лишнего шага.
Пожилая миссис, ближе всех оказавшаяся к стойке, подтягивала баулы поближе. Тяжелый груз чуть ли не вырывал из ключиц ее худые руки, жилы на шее напряглись — вот-вот лопнут. Ковалев хотел было ей помочь, но возле нее оказался пассажир в батнике, жестом предложил свои услуги. Однако пожилая миссис, с виду женщина бессильная, так шмякнула баулы об пол, так свирепо глянула на них сверху вниз, словно это были ее кровные враги, с которыми надлежало расправиться. Иностранец в батнике пожал плечами и придвинулся поближе к «студенту», переложившему книжку под мышку.
Еще не отдышавшись после такой нагрузки, увядающая миссис полезла в карман кимоно за сигаретами, густо задымила, выпуская в потолок едкие табачные струи.
Ковалев удивленно наблюдал за ней: так смолить — и впрямь никакого здоровья не хватит.
Пассажиры разбрелись меж высоких столиков, принялись заполнять таможенные декларации. «Любитель гольфа» писал быстро, почти не отрываясь, с высоты своего роста глядя на продолговатый листок декларации. «Коммивояжер» отчаянно потел, и высунутый наружу кончик языка выдавал его немалое старание. Человек в батнике оказался небольшого роста и потому писал едва не лежа подбородком на толстом пластике стола. Что-то не устраивало его в четких графах, он поминутно хмурился и комкал один лист за другим. Неподалеку от него заполнял документ сутуловатый «студент». Он так и стоял, не выпуская из-под руки, очевидно, понравившуюся ему книгу о великом математике, хотя она явно ему мешала.
Обладательница рыжих баулов справилась с декларацией быстро, одним махом. Ковалев подумал, что наверняка в ее руке перо трещало, отчаянно брызгало и рвало плотную бумагу — так быстро мелькала ее узкая ладонь. Сделав дело, сухопарая миссис выпростала худые руки из болтающихся рукавов кимоно, без надобности защелкала блестящей импульсной зажигалкой, поминутно прикуривая и без того подожженную длиннющую сигарету с темно-коричневым фильтром. Яркий румянец покрыл ее щеки, и Ковалев снова удивился, потому что видел всего несколько минут назад полустаруху, которая сейчас сбросила по крайней мере десяток лет.
«Любитель гольфа» тоже освободился, с невозмутимым видом стоял, опершись на длинный зонт-автомат с изогнутой ручкой, и поглядывал на озабоченных своих соотечественников. Поднимали головы и остальные пассажиры, еще недавно дожидавшиеся своей очереди на оформление въездных виз.
Знакомый Ковалеву таможенник, к низкому столику которого помолодевшая миссис подтаскивала по скользкому мраморному полу свои оранжевые крутобокие баулы, незаметно переглянулся с лейтенантом, даже, кажется, подмигнул: вот, мол, дает, такой и годы и хворь нипочем!..
Пора было предъявлять ручную кладь на таможенный контроль, но иностранка отчего-то не спешила браться за баулы, уступала место другим. «С чего бы это?» — насторожился Ковалев.
Иностранка стояла к нему в профиль — маленькая и растерянная. Пристальнее прежнего окидывая взглядом ее тщедушную фигуру, Ковалев интуитивно угадал на ее поясе едва заметное утолщение, тщательно укрытое тяжелой тканью просторного кимоно. Такая диспропорция сначала озадачила лейтенанта, когда-то изучавшего анатомию человека и знакомого с основами живописи. Затем тонкая ниточка рассуждений повела за собой мысль, подсказывая Ковалеву безошибочный вывод…
Насколько Ковалев мог определить, таможенник тоже что-то почувствовал. Лицо его вмиг стало серьезным, сама собой угасла веселая улыбка, и таможенник вновь обрел торжественно-деловой вид. Два кадуцея в эмблемах петлиц его форменного кителя сияли на солнце крошечными запрещающими светофорами.
Даже не взглянув на баулы, таможенник спросил у миссис, все ли деньги и ценности указаны в декларации.
Иностранка фыркнула, видимо, что-то не понравилось ей в старательном произношении этого человека, облаченного в темно-синий мундир.
— Еще раз повторяю, миссис…
— Миссис Хеберт, если угодно.
— Миссис Хеберт, все ли деньги и ценности вы указали в таможенной декларации? — настаивал служитель на своем.
— Все! — отрубила пассажирка хрипловатым от табака голосом.
— Ну что ж… — Таможенник протянул руку, требуя показать ему зажигалку, которую дама не выпустила из рук, даже когда заполняла декларацию и вздымала баулы на оцинкованный стол.
Осторожно он снял с блестящей безделушки заднюю крышку, выковырнул шилом комок ваты. На его подставленную ковшиком ладонь горошиной выкатился черный бриллиант, остро блеснул на свету отшлифованной гранью. Таможенник бережно взвесил, как убаюкал, его на руках, словно там было что-то живое, хрупкое и в любой момент могло рассыпаться на куски. Черный бриллиант! Редкость необычайная. Точную его цену трудно даже назвать…
— Вам придется пройти в комнату для личного досмотра, — объявил таможенник иностранке, от изумления потерявшей дар речи.
Она не сопротивлялась, не устраивала крикливых сцен. Брела вслед за неумолимым таможенником, будто в шоке, не видя ни дороги, ни собственных ног. Вдоль тела безжизненно, плетьми свисали руки с длинными пальцами, белые полоски манжет туго обхватывали запястья.
Вызванная в комнату для личного досмотра пожилая женщина-таможенник сняла с нее плоский набедренный пояс с фляжками, наполненными специальной типографской краской трех цветов.
Ей предъявили для опознания пакет, затем развернули и показали содержимое — рулоны восковок, спросили, признает ли она эти вещи своими. Женщина равнодушно подтвердила: да, пакет и находящиеся в нем восковки — ее. И вдруг расплакалась — безудержно, навзрыд.
— Я знала, знала, что все так и будет, — заговорила она вслед за первой, самой бурной волной слез. — Это они меня вынудили, они! Запугали, что к старости я могу остаться без крова и пищи, что меня вышвырнут на улицу или упекут в дом престарелых. Они все могут. О, теперь я вижу, что они со мной сделали! Сначала они убили моего мужа, подстроили, будто он погиб в автомобильной катастрофе. Но я-то догадываюсь, я убеждена, что это не так. Мой муж был осторожный человек, он никогда не переходил улицу в неположенном месте и всегда оглядывался, но он слишком много чего знал и всегда мог рассказать о них, всегда! А потом его не стало, и тогда они принялись за меня…
Женщина судорожно схватила протянутый ей стакан, сделала несколько торопливых глотков. Вода стекала по ее птичьей шее, пропитывала блузку — она ничего не замечала и говорила, говорила, захлебываясь словами от давно скопившегося гнева:
— После похорон ко мне пришли какие-то люди и сказали, что муж остался должен фирме, с которой сотрудничал, огромную сумму. Не знаю, что это была за фирма: муж не любил своей работы и никогда ничего мне о ней не говорил. И о долге тоже… Мой дом быстро опустел, потому что я привыкла во всем полагаться на мужа и сама нигде не работала. А как иначе, ведь я ничего не умела делать такого, что принесло бы доход. Долг не только не погашался, но и возрастал, уж не знаю, как это у них получалось. А потом… потом они выкупили мою закладную на дом и сказали, что теперь я у них в руках. «Как птичка, — сказали они, — которой можно подрезать крылышки». Они требовали, чтобы я согласилась работать на них, как это делал муж, и тогда у меня ни в чем не будет нужды…
Она сделала еще один торопливый глоток, бездумно начала перекатывать стакан с водой в ладонях. Ее никто не торопил, и женщина, вздохнув, продолжала:
— Однажды какой-то черный автомобиль промчался совсем рядом со мной, только чудо помогло мне остаться в живых. И тут я не выдержала. О, вы не знаете, что такое завтрашний день без куска хлеба и без надежды, что такое наши дома для престарелых, куда идут, чтобы умереть не на улице, не под чужим забором… Меня каждую ночь преследовали кошмары, будто я босиком ступаю по холодному полу этого гадкого дома. Б-р-р! Нет, вам многого не понять! Я всю жизнь прожила в достатке, мой муж неплохо зарабатывал, чтобы содержать и меня и дом. Детей у нас не было, так что разорять было некому. И вдруг — все кувырком!.. А те люди, что навещали меня после гибели мужа, сулили мне райскую жизнь, покой и обеспеченность до самой смерти. Они подарили мне бриллиант только за то, чтобы я поехала к вам по туру. И путевку в вашу страну тоже они приобрели! О, мой бриллиант…
— Кстати, миссис Хеберт, зачем вам понадобилось возить бриллиант с собой, да еще в такой, я бы сказал, оригинальной «оправе»? Насколько я понял, вы ведь не собирались его продавать?
— Разумеется, не собиралась. Я держала его, как у вас говорят, на черный день. Да, я пыталась спрятать его у себя дома, даже нашла для него ямку в стене, в кухне, под кафелем. Но у нас, знаете, слишком ненадежны дома, чтобы быть спокойным за свое добро.
— Тогда отчего вы не указали камень в таможенной декларации? Он был бы в полной сохранности, уверяю вас. Наши законы гарантируют неприкосновенность личной собственности.
Иностранка вскинула удивленные глаза, не понимая, шутят над нею или говорят правду.
— Вы что, не знали этого?
Она покачала головой…
— Чем вы должны были заниматься в Советском Союзе? — спросили ее. — Конкретно: ваши задачи и цели?
— Вот именно — заниматься, потому что делать я ничего не умею, — раздраженно произнесла иностранка. — Я кое-как научилась вязать, только кому сейчас нужны мои вязаные чулки, когда их полно всюду, в любой лавочке? А те господа научили меня обращаться с этими штуками, — кивнула она на фляжки и розовые восковки, ворохом сложенные тут же, на столе. — Я должна была намазывать формы краской, печатать, а потом засовывать эти дурацкие листовки в почтовые ящики по подъездам! И так все дни моего пребывания в любом вашем городе. Но в последний момент я чего-то испугалась и решила избавиться от пакета. Хорошо, что я нащупала ногой щель; это меня спасло. Я тут же почувствовала облегчение и успокоилась. В конце концов, меня никто не контролировал из тех господ, только я слишком поздно догадалась об этом. А тем людям всегда можно было сказать, что я сделала все, как они велели. О, позор! — Она закрыла лицо обеими руками. — Я — и какие-то почтовые ящики. Позор!
Присутствующие на первичном допросе переглянулись, осторожно спросили:
— У вас все, миссис Хеберт?
— А что у меня может быть еще? Что? С меня и так достаточно, довольно. Я устала и… и довольно.
Женщина снова закрыла лицо ладонями, горько, безутешно заплакала. Но слезы мало-помалу иссякли. Она подняла голову, с беспокойством спросила:
— Что мне за это будет?
— Вот протокол допроса. — Офицер управления протянул ей несколько листков. — Прочитайте и распишитесь.
— И… что со мной сделают? — напряглась иностранка.
— За попытку незаконного провоза антисоветских материалов вы будете выдворены за пределы Советского Союза. Остальное — дело вашей гражданской совести.
Иностранка обвила длинными пальцами голову, сжала ее, как обручем.
— Кстати, бриллиант вы можете забрать с собой. — Офицер протянул ей камень. — На память. Он все равно фальшивый. Вот заключение экспертизы. Обыкновенная красивая стекляшка. Как видите, ваши господа оказались не столь щедры.
Иностранка сидела оцепенев, потом начала что-то искать на столе среди других вещей.
— Закурите? — Ковалев ловко вскрыл пачку, выщелкнул из ароматной ее глубины длинную сигарету. — Пожалуйста, не стесняйтесь, — предложил он почти тем же тоном, каким разговаривал с «больной» иностранкой в закупоренном прямоугольнике накопителя.
Пожилая миссис, на глазах растерявшая остатки былой стати, жадно потянулась к протянутой сигарете.
— Можете оставить себе всю пачку.
Ковалев не выносил дыма.
Анатолий РОМОВ ПРИ НЕВЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Ровнин щелкнул выключателем, зашел в ванную. Стал разглядывать себя в зеркале. Двадцать восемь лет. Да. И уже черточки у губ. По две с каждой стороны. Стареем. Он вглядывался в себя тщательно, придирчиво. Его тело и лицо давно уже представлялись Ровнину не просто внешними данными, а чем-то вроде орудия производства. Он знал — есть лица, которые для наметанного глаза безошибочно выдают профессию. Выдают безжалостно, хотя ничем особенным не выделяются. Но ему совсем не хотелось, чтобы какой-нибудь урка, только взглянув на него, сразу же понял, в чем дело, и бросил понимающе: «Ментовка, хомут». Волосы русые, скорее даже темно-русые. Серые глаза. Нос в общем-то прямой, но с легким утолщением. Этакой пухленькой блямбочкой посередине. Да, Ровнин должен был отметить: лицо его в самом деле малоприметно. Но он знал тонкости. Знал, как выделяется, чуть ли не кричит с ходу, выдает себя опытному взгляду именно она, эта стандартная малоприметность. Знает он прекрасно эти малоприметные лица провинциальных «оперов», на которых будто плакат вывешен, где они работают. Лицо, для того чтобы быть незамеченным, должно обязательно хоть чем-то выделяться. Вот хотя бы этим — такой, как у него, продолговато-резкой ямочкой на подбородке. Или губами, чуть-чуть, самую малость выпяченными. Именно самую малость. Ровнин подмигнул себе. Спокойно оглядел плечи, торс, поясницу. Здесь все должно быть разработано в норму. Именно в норму. Не должно быть ни капли жира. Только мышцы и сухожилия. Пока в этом смысле все как надо. Метр восемьдесят один на семьдесят пять. Ровнин пустил душ, встал под струю. Он старался стоять подольше, а когда кожа заныла от холода — вытерся, быстро оделся, заварил чай, позавтракал по-холостяцки.
В девять утра он был на месте, на Огарева, 6. А в четыре дня его вызвали к генералу.
Ликторов потер ладони. Ровнин знал этот жест генерала и знал, что это от раздражения.
— Убитые? — спросил Ровнин.
— Двое. Проходящая женщина и наш сотрудник. Капитан Евстифеев.
— Алексей Евстифеев?!
Генерал молчал. Знал ли он, кем был для Ровнина Лешка? Конечно, нет. Собственно, Ликторов мог знать только то, что они с Лешкой учились вместе в высшей школе. Но ведь всего остального Ликторов не знал. Того, что Ровнин не смог бы ему никогда объяснить. И сейчас, конечно, не сможет. Лешка Евстифеев убит.
— Что, сразу? — спросил Ровнин.
— Нет. — Ликторов поморщился. — В перестрелке.
«В перестрелке» как будто означало, что Лешка умер не сразу. Может быть, был тяжело ранен и мучился.
— Простите, Николай Иванович.
— Андрей Александрович. — Казалось, Ликторов сейчас спокойно разглядывает свои ладони, лежащие на столе. — Туда направляетесь вы. Я считаю, что это лучшая кандидатура.
Ровнин попробовал приказать себе, чтобы вот это, вот эти слова, все это, все еще тупо бухающее в голове, еще кричащее: «Лешка убит… Лешка убит… Убит…» — чтобы все это ушло. Ушло.
— В мелочи я сейчас вдаваться не буду, — нарочито тихо сказал Ликторов. — С Бодровым согласовано. Утром явитесь к нему. Предварительные материалы возьмете у дежурного.
Это означало, что разговор окончен. Ровнин встал.
— Слушаюсь, товарищ генерал. Разрешите идти?
— Да. Идите.
«20 августа. Начальнику ГУУР МВД СССР. О нападении группы налетчиков на инкассаторов, перевозивших 150 тысяч рублей из Южинского Госбанка на завод «Знамя труда» для выдачи заработной платы. Сообщаем: 20 августа в 15 часов 15 минут на машину, перевозившую заработную плату и остановившуюся у проходной завода «Знамя труда» в г. Южинске, было совершено вооруженное нападение. После того как кассир завода Черевченко Б. П. с сумкой, в которой находились деньги, и сопровождавший его боец ВОХР Лукин С. Н. вышли из машины, по ним был открыт прицельный огонь из стоящей у проходной завода машины «Москвич» № 14–10. Стрелявшие сначала не были замечены, так как лежали на полу и сиденьях машины. Прицельным огнем Черевченко и Лукин были ранены в руки и дальнейшего сопротивления оказать не смогли. Захватив сумку с деньгами, четверо налетчиков в масках сели в машину «Москвич» № 14–10 и скрылись. Поиски налетчиков и машины результатов не принесли.
Начальник ОУР Южинского УВД Семенцов».«25 февраля. Начальнику ГУУР МВД СССР. О повторной акции вооруженной группы налетчиков в г. Южинске. Сообщаем: 25 февраля в 18 часов 05 минут во время доставки дневной выручки Центрального городского торгового комплекса из центра комплекса в машину на переносивших деньги инкассаторов Госбанка Ульясова В. М. и Мотяшова В А. и сопровождавшего их сотрудника ГУУР МВД СССР Евстифеева А. Д. было, совершено вооруженное нападение. По предварительным данным, нападение совершено четырьмя лицами, совершившими ранее налет на инкассаторов у завода «Знамя труда» 20 августа. Так же как и 20 августа, нападавших было четверо. Все четверо были в масках и вооружены. В то время как один из налетчиков, угрожая инкассатору Ульясову В. М. пистолетом, пытался вырвать у него сумку с деньгами, трое остальных держали под прицелом Мотяшова и Евстифеева, угрожая в случае сопротивления открыть огонь по ним и оказавшимся у места происшествия прохожим. После того как Евстифеев А. Д. попытался перекрыть налетчикам сектор обстрела, в завязавшейся вслед за этим перестрелке Евстифеев был убит, Мотяшов и Ульясов ранены. Убита также оказавшаяся у места происшествия женщина, Кривченко В. К.
Преступникам удалось скрыться на машине «Жигули» № 94–81 вместе с захваченными деньгами (138 тысяч рублей). Поиски налетчиков и машины пока результатов не принесли.
Начальник ОУР Южинского УВД Семенцов».Ровнин отложил оба листка. Эти донесения были уже изрядно перечитаны и оказались единственными в папке. Ровнин посмотрел на дежурного:
— А остальные материалы?
— Разве генерал вас не предупредил? — Старший лейтенант смотрел настороженно. — Остальные документы у полковника Бодрова. У меня было указание…
Ровнин вышел в коридор и остановился. Коридор пуст. «Перекрывая сектор обстрела…» Последний раз они виделись полгода назад, здесь же, на Огарева, в одном из коридоров. Они увидели друг друга еще издали, и Ровнин первым подошел, спросил: «Ты где? Что?» Лешка улыбнулся и вытянул губы трубочкой. Сказал привычно, как всегда чуть-чуть заикаясь, этими вот губами трубочкой: «У-уезжаю. А дела — л-лучше некуда».
Лучше некуда. После этого они сказали друг другу еще несколько слов и разошлись. Значит, Лешка тогда уезжал как раз в Южинск. Уезжал, чтобы вместе с Южинским ОУР раскрыть эту опасную группу. Двадцать пятого февраля. Сегодня двенадцатое марта. А ведь скоро Лешкин день рождения. Девятнадцатого. Значит, ровно через неделю Лешке исполнилось бы двадцать девять лет.
Ровнин спустился вниз и на улице Горького остановился. Кем был Лешка? Кем он был — с губами, вытянутыми трубочкой, с этим его легким заиканием? Если говорить честно, Лешка был непревзойденным человеком. Маэстро. Мастером своего дела. Он был всегда маэстро — во всем, за что бы ни брался. И вот сейчас он убит.
Ровнин пошел вверх по улице Горького, пытаясь найти хотя бы один свободный телефон-автомат. Как обычно в это время, все будки были заняты. Наконец он остановился у одной, там, где разговаривали две девушки. Все-таки он должен, просто обязан позвонить Евгении Алексеевне. Должен, как это ни будет трудно. Одна из девиц посмотрела на него, потом обе рассмеялись и вышли. Он вставил монету, снял трубку. Нет. Невозможно. Совершенно невозможно. Лешка был у нее единственным сыном. С семи лет рос без отца. И вообще нельзя даже представить, как все это перенесла Евгения Алексеевна. Ровнин начал набирать номер. Набрал пятую цифру — и повесил трубку. А ведь, собственно, Лешка в их дружбе всегда был первым. Лешка был живым и контактным, а он, Ровнин, стеснительным. Лешка был деятельным и инициативным, а он скорее инертным. Лешка его тянул. Да, он, Ровнин, по крайней мере сначала, только тянулся за Лешкой. Но не тянуться за Евстифеевым было невозможно. Даже в милицию после десятого класса его затянул Лешка. «С-старый, б-берут в школу следователей». — «Ну и что?» — «Ты что, очумел? Ты же не п-представляешь, это же ф-фантастика!»
Ни в какую школу следователей они тогда, конечно, не попали. А поступили в самое обычное училище младшего комсостава. Вот и все. С этого училища все и началось.
Утром полковник Бодров направил Ровнина в седьмую комнату, где на длинном канцелярском столе лежали четыре толстые папки. Рядом — большой пакет с фотографиями. Ровнин начал с них. Он вывалил плотные, двадцать на тридцать, листы на стол и стал их перебирать. Чего здесь только не было! Одних фотографий места ограбления около ста. Следы протекторов. Фото подозреваемых машин. Где-то примерно через полчаса, изучая эти фотографии, Ровнин наткнулся на фотографию мертвого Лешки.
Лешка в форме ВОХР лежал у выщербленной стены на сильно подтаявшем снегу, освещенный, видимо, уличным фонарем. Рядом лежали пистолет и фуражка. Вглядевшись, Ровнин, понял, что это проход к торговому центру. Волосы Лешки были растрепаны, одна рука подогнута к груди, другая вытянута вверх ладонью. Безжизненность тела подчеркивали ноги, вытянутые, со ступнями, скошенными в одну сторону. В лице Лешки всегда, всю жизнь была некая лихость, несмотря на не совсем правильные черты. На утиный нос и большой, можно даже сказать, слишком большой рот. Да, на лице Евстифеева, хотя оно, может быть, и было по строгим меркам некрасиво — на его лице всегда, вечно жило некое столкновение чувств. Соединение врожденной застенчивости и азарта. Лицо Лешки никогда не было простым. На нем пусть скрыто, но всегда ощущалась борьба. Здесь же, на этой сугубо служебной фотографии, лицо убитого ничего не выражало. Оно было удивительно спокойным. Растрепанные волосы. Бесформенный нос. Бесстрастные губы. Лешкино лицо выглядело заурядно спокойным. Лицо мертвеца, которых Ровнину пришлось столько видеть на фотографиях. Он пересилил себя и всмотрелся еще раз. Пистолет лежал стволом наружу. Выпал. Фуражка тоже наверняка упала при падении. Форма ВОХР. Значит, Лешка переоделся вохровцем и поехал именно с этой машиной. Пока не очень понятно почему. Почему он именно в этой форме оказался здесь, у торгового центра? Чтобы вместе с двумя инкассаторами участвовать в переносе дневной выручки? Нельзя же допустить, что Лешка знал, что второй налет будет совершен именно здесь, именно на эту группу. Нет, он не знал этого. Потому что тогда наверняка бы придумал что-нибудь получше. Скажем, элементарную засаду. Если же он ничего не знал о налете, то ради чего переоделся? Непонятно. В сущности, он нарвался на то же самое. Нарвался на налет без всякой подстраховки. На четырех вооруженных грабителей, да еще получивших возможность угрожать не только ему и тем, кто переносил деньги, но и прохожим. Ничем, как обычной глупостью, это не назовешь. Но Ровнин слишком хорошо знал Лешку. Он знал, что Евстифеев никогда бы не допустил неоправданных действий, даже неосторожности. Тогда что же? Значит, во всем этом надо разбираться. Во всем. И в том, почему Лешка оказался именно в этой группе.
Сложив фотографии и спрятав их в конверт, Ровнин занялся первой папкой. Сверху лежала копия приказа Ликторова о Лешке. В приказе все было как обычно: «Для усиления расследования по делу о налете в г. Южинске откомандировать сотрудника ГУУР МВД СССР Евстифеева А. Д. в распоряжение Южинского УВД. Особые полномочия подтвердить». Под приказом лежало заключение о Лешкиной смерти, «…причиной смерти Евстифеева А. Д. явились многократные тяжелые проникающие пулевые ранения в корпус и конечности. Наиболее серьезные: три в брюшную полость, два в грудную клетку с поражением обоих легких, три в шею». Значит, по Лешке выпустили несколько пуль, он упал и, наверное, еще жил. Минуту или две. Но почему он оказался именно в этой группе? Ровнин чувствовал, что определить это будет очень важно. Он стал просматривать остальные документы, лежащие в первой папке. Показания свидетелей. Новые фото, уже к показаниям. Связка докладных о разыскиваемых машинах. Ничего, что могло бы объяснить, почему переодетый Лешка оказался в группе ВОХР Госбанка, перевозившей выручку торгового центра, здесь не было. Но Лешка — он должен же был сам хоть до чего-то докопаться. Должен был. Обязан. Он уехал в августе—сентябре, а убили его в конце февраля. Ровнин подумал, что не может быть, чтобы Лешка, прожив в Южинске шесть месяцев, так ничего бы и не узнал. Хотя — а даже если бы и узнал?
Ровнин вздохнул и открыл вторую папку. Здесь было собрано все, что касалось собственно преступления. Описание почерка налетов, первого и второго. Описание оружия, машин, на которых преступники скрылись как в первый, так и во второй раз. Проверка номеров машин: дальнейший розыск показал, что как первый, так и второй номер были поддельными. Описание одежды, которая была на каждом из четырех налетчиков. Описание их сложения, черт видимой части лица, даже попытка с помощью свидетельских показаний описать походку, характер, движения и жесты каждого из налетчиков. Именно здесь, просматривая описание второго налета, Ровнин понял, что Лешка это уже описать не мог. Но так как в первом ясно чувствовалась Лешкина рука, то и второе шло по этому же пути.
«Словесные портреты налетчиков, совершивших вооруженное нападение на инкассаторов Черевченко Б. П. и Лукина С. Н. 20 августа у проходной завода «Знамя труда», г. Южинск. Составлено: Отделом уголовного розыска Южинского УВД после опроса я со слов свидетелей. Свидетели: инкассаторы Черевченко Б. П. (кассир завода) и Лукин С. Н. (боец ВОХР), непосредственно подвергшиеся нападению. Вахтер проходной завода «Знамя труда» Сокич Ю. Г. и проходившая мимо домохозяйка Милославская Е. К., наблюдавшие сцену нападения. А также гр. Губин Э. Д., учащийся 8-го класса, прож. ул. Некрасова, 27-а, кв. 54, гр. Кастельман Н. Н., пенсионер, прож. ул. Некрасова, 27-а, кв. 39, гр. Требилова О. В., домохозяйка, прож. ул. Некрасова, 27-а, кв. 109, наблюдавшие сцену нападения из окон своих квартир.
Условные обозначения участников банды: «Рыжий», «Длинный», «Маленький», «Шофер».
«Рыжий». Лежал вместе с «Длинным» в задней части машины. Открыв дверь, тут же повел прицельный огонь из пистолета по несшему сумку с деньгами Черевченко Б. П. После первых четырех выстрелов, ранив Черевченко в ногу и руку, выскочил через правую заднюю дверь машины и, убедившись, что Черевченко и Лукин ранены и не могут оказать сопротивления, жестом дал указание двум другим налетчикам. Судя по дальнейшим действиям налетчиков, эти жесты означали: «Длинному» взять сумку с деньгами, «Маленькому» держать под прицелом проезжую часть улицы. После того как «Длинным» сумка была взята, «Рыжий» сел в машину сзади справа.
Движения уверенные. Передвигается быстро и легко. Жесты повелительные и четкие. Это, а также замеченные указания сообщникам во время налета дают основания считать «Рыжего» главарем группы. Примерный возраст — около 30 лет. Телосложение плотное. Рост: примерно 1 м 75 см — 1 м 78 см. Вес — около 80 кг. Шея короткая. Верхняя часть лица округлая. Брови ближе к темным, волосы светло-каштановые, в рыжину. Форму ушей, носа, губ и подбородка определить не удалось. Одет: кепка св/коричневая, скорее х/б; туфли кожаные, светлого оттенка, скорее т/желтые. Нижняя часть лица закрыта куском черной материи (платок, шелковый или х/б).
«Маленький». Лежал вместе с «Шофером» в передней части машины. Открыв (одновременно с «Рыжим») свою, правую переднюю дверь, повел прицельный огонь по инкассатору Лукину С. Н. Ранив Лукина в ноги и руку несколькими выстрелами (три или четыре выстрела), затем уже выскочил из машины через правую переднюю дверь и, повинуясь жесту «Рыжего», встал у проезжей части улицы, держа оружие на изготовку. Как только сумка с деньгами была взята «Длинным», «Маленький» вернулся в машину и сел на прежнее место рядом с «Шофером».
Движения резкие, короткие. Передвигается не очень уверенно, часто оглядываясь. При остановке не стоял спокойно, а непрерывно поворачивался. Примерный возраст 24–27 лет. Телосложение худощавое, сухое. Рост примерно 1 м 58 см — 1 м 62 см. Вес около 55–58 кг. Шея тонкая, уши скорее оттопыренные, волосы темно-каштановые, острижены коротко. Нос скорее прямой, с горбинкой. Форму губ и подбородка определить не удалось. Одет: без г/убора, куртка темно-синяя, ношеная, рубашка серая, скорее х/б, брюки темно-синие, ношеные, джинсы, туфли кожаные, темного оттенка, скорее коричневые. Нижняя часть лица закрыта куском черной материи (платок, шелковый или х/б).
«Длинный», Лежал вместе с «Рыжим» в задней части машины. После того как «Рыжий» и «Маленький» открыли огонь, выскочил через левую заднюю дверь; нагнувшись к упавшему Черевченко, вырвал у него сумку с деньгами. После этого, вернувшись в машину, сел вместе с сумкой сзади с левой стороны.
Движения обычные. Реакция скорее замедленная. Передвигался широко, почти прыжками. Телосложение средней плотности, ближе к худощавому. Возраст около 30 лет. Рост примерно 1 м 85 см — 1 м 88 см. Вес около 75–78 кг. Шея обычной пропорции. Уши прижаты. Волосы скорее светло-русые. Цвет глаз, форму носа, губ и подбородка определить не удалось. Одет: кепка, светлая, беж, ношеная, х/б, пуловер темно-синий, скорее шерстяной, рубашка типа «ковбойка», в клетку, клетка скорее зелено-синих оттенков, брюки черные, вельветовые, туфли летние, матерчатые, синего цвета. Нижняя часть лица закрыта куском черной материи.
«Шофер». Лежал вместе с «Маленьким» в передней части машины. Сразу же после того, как был открыт огонь, выпрямился и включил мотор. Дождавшись, пока все участники нападения вернутся в машину, вывел ее на проезжую часть улицы и повел на большой скорости. Характер движений, жестов, а также черты лица определить не удалось. Телосложение скорее плотное. Одежда: без г/убора, в свитере. Нижняя часть лица закрыта куском черной материи».
Сразу за этим описанием в папке лежали четыре рисунка карандашом — на листках, вырванных из блокнота. Рисунки эти наверняка были сделаны Лешкой. И без буквенных пометок в углах можно было понять, что на них изображены «Рыжий», «Длинный», «Маленький» и «Шофер» так, как их описали свидетели, а затем представил себе Лешка Евстифеев. Все рисунки были выполнены по железному правилу составления фотороботов — на каждом были тщательно прорисованы верхняя, средняя и нижняя часта, с выделением контуров и расстановки бровей, глаз, носа, ушей, губ и подбородка. Как и следовало ожидать, среди четырех рисунков наиболее удачным выглядел тот, на котором был изображен «Маленький» — единственный бывший без головного убора и стоявший к тому же у мостовой. На Ровнина глядело лопоухое, пытливое и одновременно злое лицо.
После того как Ровнин просмотрел описание и рисунки, ему стало легче. Теперь он отлично понимал, что стояло за всеми этими «Рыжий», «Длинный», «Маленький», «Шофер», за зарисовками на листках из блокнота. За всем этим стоял Лешка, стоял его труд, и Ровнин отлично понимал, какой это был каторжный, скучный и нудный труд. Он знал, чего могло стоить хотя бы просто найти стольких свидетелей, хотя бы просто откопать всех этих людей, которые сейчас прозаически внесены в протокол как «гр. Губин», «гр. Кастельман», «гр. Требилова». Людей, которые случайно, вообще непонятно по какой причине увидели нападение на инкассаторов из окон своих квартир. Ровнин прекрасно знал, что только для одного этого надо было не только осторожно, как выражался Лешка, «нежно» обойти все квартиры в доме № 27-а, судя по всему, находящемуся как раз напротив заводской проходной. Эти квартиры надо было обойти грамотно, обойти не один, не два, а несколько раз. Надо было преодолеть осторожность, страх и бог весть еще какие чувства людей, живущих в этом доме. Людей, каждый из которых наверняка слышал что-то о налете с самыми невероятными добавлениями и преувеличениями. И к тому же еще наверняка с этими же преувеличениями обсудил все возможные и невозможные детали налета. И вот среди таких людей надо было не только найти и определить тех, кто действительно, а не в собственном воображении, видел налет. Надо было, найдя таких людей, разговорить их, а выслушав, отобрать из их показаний то, что действительно могло иметь ценность. То есть отобрать то, что в любом случае должно было не вызывать или почти не вызывать сомнений. Не в меньшей степени все это касалось и вахтера, и кассира, и бойца ВОХР, и случайной прохожей. И все это было сделано Лешкой, причем сделано на высшем уровне.
Он стал просматривать протокол осмотра места второго налета. Значит, здесь Лешки уже не было. Собственно, это описание, как и первое, было вполне квалифицированным и приемлемым. Даже составлено оно было примерно так же и в тех же выражениях. И все-таки Ровнин сразу увидел, что в нем чего-то не хватает. Прочитав его несколько раз, понял: здесь не было того, что обычно принято называть трепетом, дрожью в голосе. По крайней мере, так бы выразился Лешка Евстифеев. При всем своем уважении к Южинскому УВД Ровнин отметил, что в этом втором описании совершенно четко проглядывается неучастие Лешки. Оно было правильным повторением, и не более того. Без особых находок. И все-таки в нем было то, что никуда не должно было деться при любой записи. Во-первых, второе описание подтверждало, что налет на торговый центр был совершен теми же людьми, которые «брали» сумку у проходной завода «Знамя труда». Второе, и это уже Ровнин отметил только для себя, — зверские выстрелы в упор, оборвавшие Лешкину жизнь, выпустил не кто иной, как «Рыжий», Это было подтверждено всеми свидетелями.
Пролистав до конца вторую папку и не найдя в ней больше ничего особенно интересного, Ровнин взял третью, на которой было написано: «Дополнительные материалы». Развязал тесемки, открыл папку. Вошел Бодров. Поколебавшись, достал и положил перед собой пачку сигарет. Подумав, добавил спички.
— Я полностью в вашем распоряжении. Можете располагать мной хоть до конца дня.
— Спасибо, Сергей Григорьевич.
— Ну что? — Бодров улыбнулся. — Спрашивайте, я буду отвечать.
Конечно, у Ровнина были вопросы к Бодрову. Прежде всего он понимал, что полковник наверняка еще с августа в курсе всех дел, связанных с Южинском. А значит, сможет объяснить все, чего нет в бумагах. Потом все-таки Бодров голова и может посоветовать немало дельного. Но главное заключалось сейчас для Ровнина в том, что наверняка Бодров, именно Бодров, отправлял в Южинск Лешку.
— Сергей Григорьевич, Евстифеева отправляли вы?
Ясно, что полковник отлично понял смысл вопроса.
— Я, — сказал он.
Выработанным навыком в этом «я» Ровнин прочитал сейчас почти все о грустном завершении Лешкиной миссия. Все, что в общем-то уже было понятно ему самому. Во-первых, то, что Лешке, как, впрочем, и всему ОУРу Южинского УВД, не удалось реально напасть хоть на какой-то след. Второе в этом «я» касалось этической оценки полковником, а значит, всем ГУУРом этого факта. Никто даже намеком не собирался винить Лешку за то, что преступная группа до сих пор не раскрыта. Потому что раскрывать ее должны и будут должны в совокупности все сотрудники Южинского ОУРа. Все понимали, что Лешка был придан Южинскому отделу именно для усиления и геройски погиб на своем посту.
И все-таки, подумал Ровнин, это короткое «я», обычное в такой ситуации и в таком разговоре, его не удовлетворяет.
Потому что он ждет, что во всем этом окажется что-то. Пусть немногое, но то, что должно было обязательно стоять за пребыванием Лешки в Южинске и за его смертью. Но, кажется, ив материалам, а главное, по поведению Бодрова, за этим ничего существенного не стоит.
— Что, Евстифеев — он так ничего и не узнал?
Полковник усмехнулся. Вопрос был лишним. Но в то же время этот вопрос был очень важен для Ровнина.
— Ничего, — сказал Бодров, бесстрастно разглядывая стол.
— Совсем ничего?
— Ничего, если не считать, что он все-таки вышел на преступную группу.
Бодров посмотрел на Ровнина опять с легкой улыбкой.
— Как он на нее вышел, Сергей Григорьевич?
Ровнин понимал, что и этот его вопрос был лишним. Потому что и дураку ясно: Лешка вышел на группу случайно. Иначе он подумал бы о засаде.
— Не знаю, — сказал Бодров. — Не знаю, Андрей Александрович. Думаю, совпадение.
— Южинцы — они тоже так думают?
— Южинцы? — Бодров покачал головой. — Евстифеев делал так несколько раз. Несколько раз он переодевался в форму ВОХР и включался в группы по перевозке.
«Ладно, подумал Ровнин. — Может быть, именно так и было. Если нет фактов, надо переходить к лирике».
— Словесное описание первого налета он составлял?
— Конечно, — сказал Бодров. — Ну, само собой, вместе с отделом.
— Других прохожих не было?
Бодров вздохнул.
— Улица эта тихая. Фактически непроезжая. И не ходит по ней никто, магазинов нет.
— А с завода?
— С завода как раз в этот час никто не выходил. Смена не кончилась, да еще зарплаты ждали.
«Тихая улица, — подумал Ровнин. — Естественно. Судя по первым ощущениям, такая четверка должна была выбрать именно тихую улицу. И все-таки. Неужели после Лешки так ничего и не осталось? Только фотография, на которой он лежит рядом с упавшим пистолетом?» Ровнин поднял глаза и встретился с взглядом Бодрова. В глазах полковника было сейчас участие и желание помочь.
— Неужели Евстифеев даже предположений никаких не высказал?
— Предположений? А что, описания налета и участников группы вам мало? — Кажется, Бодров по-своему тоже защищал Лешку.
— Мало.
— Хорошо. У Евстифеева было предположение, что у налетчиков есть свой человек в банке, который и сообщает им о перемещении крупных партий денег.
«Свой человек в банке, — подумал Ровнин. — Ну, для этого не надо быть гением».
— Вам и этого мало? — сказал Бодров.
— Мало. Мне мало. Понимаете, Сергей Григорьевич? Понимаете — не мог такой человек, как Евстифеев, ничего не раскопать.
Бодров поднял брови.
— Вы что, его хорошо знали?
— Да. Он…
Ровнин остановился. Не нужно деклараций. Не нужно объяснять Бодрову, кем был для него Лешка. Собственно, что он может ему сказать? Что Лешка Евстифеев был для него другом? Но сказать это Бодрову значило вообще ничего не сказать. Во-первых, Лешка Евстифеев был для него больше, чем другом. А во-вторых… Во-вторых, он был Лешкой Евстифеевым.
— Ну как? — спросил Бодров. — Вижу, знали больше, чем просто по службе?
— Да. Я… Я его очень хорошо знал.
Бодров тронул первую папку.
— Вы как — все здесь просмотрели?
— Все. Но третью и четвертую папку я не смотрел.
— Третью и четвертую. — Бодров усмехнулся. — Так вы тогда самого главного не видели, Андрей Александрович. Записей.
— Записей?
— Да. — Бодров раскрыл третью папку. Порывшись, достал небольшой листок. Пробежал наспех и протянул Ровнину. Ровнин всмотрелся. Листок был нелинованным, маленьким, вырванным из самого простого карманного блокнота. Такие блокноты, стоящие копейки, покупают обычно «на раз». Чтобы, использовав, потом без всякой жалости выбросить. Записей на листке было немного. Так что листок был исписан примерно наполовину мелким и неразборчивым Лешкиным почерком.
— При нем нашли блокнот. Так вот, там был заполнен только первый лист. И еще четыре — под рисунки. Читайте, читайте.
Ровнин стал просматривать записи, сделанные на листке, и ощутил холодок. В общем-то, ничего особенного здесь не было. Но он знал Лешку и знал, что зря такие вещи Евстифеев писать не будет. Ровнин сразу понял, почему этот листок лежал в дополнительных материалах. Другого места для него и не могло быть. Собственно, разобрать эти закорючки не составляло особого труда. А разобрав даже часть, можно было понять: то, что здесь записано, для грамотного, квалифицированного оперативного работника ни под каким углом не может относиться к фактам. Все это относится к «выдумкам». К тому, что на служебном жаргоне принято называть «идеалистикой». Но Ровнин отлично знал, что Лешка никогда не занимался идеалистикой. Было ясно, что эти записи Лешка, делал для себя, а не для постороннего чтения. Фразы, даже после расшифровки, шли без всякой внутренней связи.
«Ш» — приз. кор. Если инт. б. — то туп. исп.?
ул. Некр. — тих. Выезды 20/VIII: ул. Гог. (оживл.) — 80 т, 2 ч.
ул. Мар. (оч. ож.) — 200 т, 3 чел., ул. Сад. (оживл.) — 110 т, 2 ч.
Ост. — мел. (?)
«М» — ст? раб? Обиж. судьб. зл. на всех (??).
«Р» — инт? Авт. сист. — инт! ИТР! Если — ИТР, тогда «Ш» р. там же.
«Ш»? (!!)
Сист? Тогда — св. чел. в г/банке? Родств? Тогда — св? (!!)
«Д» — ИТР?
Тонк. сист.
Тетя Поля! Пищ. тех.! «Св?»
Эта последняя запись — «Тетя Поля! Пищ. тех.! Св?» — была обведена.
— Ну что? — сказал Бодров.
— Расшифровали? — вместо ответа спросил Ровнин.
— Расшифровали.
— Легко?
— А что, вы считаете, что здесь нужна особая расшифровка?
— Считаю. — Ровнин подумал. Нет. Все-таки, ничего особенного здесь, кажется, не может быть. Хотя ему, например, не до конца ясно, то означают «инт» и «св».
— Что значит «инт» и «св»? — спросил он.
— «Инт» — вернее всего «интеллектуальный». «Св» может иметь два значения. Первое: «свой человек». Второе: «связь».
Все точно. Так, как и предполагал Ровнин. Потому и легко работать с Бодровым.»
— А это? «Тетя Поля! Пищ. тех.! Св?»
— Скорее всего «тетя Поля из пищевого техникума». В Южинске в техникуме пищевой промышленности действительно работает дежурной по общежитию Полина Николаевна Ободко.
— Значит, она уже проверялась?
Бодров вздохнул.
— Проверялась. Так как сокращение «св» может означать или «свой человек», или «связь». Эта самая «тетя Поля», Полина Николаевна Ободко, была основательно взята в работу Южинским ОУРом.
— А именно?
— Ну, времени прошло сравнительно немного. Пока южинцы проверяли все ее связи, знакомства, родственников и так далее.
— Ну и?
Полковник взял у Ровнина листок из Лешкиного блокнота. Просмотрел. Положил на стол.
— Ну и пока ничего. Боюсь, эта тетя Поля — пустой номер.
Бодров порылся в третьей папке, протянул Ровнину фотографию, наверняка переснятую из личного дела.
На Ровнина смотрела женщина лет пятидесяти. Лицо ее было простым, обычным, русским, с гладко зачесанными светлыми волосами. «Тетя Поля» подходило к этому лицу идеально. Ее волосы, казавшиеся на фото светлыми, могли быть и седыми. Как обычно на таких фотографиях, губы женщины были сложены в стандартную деловую складку. Впрочем, ни это обычное лицо, ни складка губ совершенно ничего не значат. Но у Лешки против этой тети Поли стоят два восклицательных знака. Да еще вся запись обведена кружком.
— Никаких выходов, Сергей Григорьевич?
— Никаких. Ни по поведению, ни по родственным и иным связям. Есть мнение, что она нигде и ни в чем не может быть связана с преступной группой.
— А с Госбанком?
— И с Госбанком.
— А поговорить с ней не пробовали?
— Поговорить…
Бодров надолго замолчал. Пожалуй, даже слишком надолго. Видно было, что полковник, как непосредственно курирующий в ГУУР южинское дело, уже не раз думал об этом.
— Боязно. А вдруг?.. Вдруг, Андрей Александрович, она как-то с ними да связана?
«Тоже правильно, — подумал Ровнин. — Цепляться здесь приходится за все. Так что вполне понятна боязнь южинцев и Бодрова, что здесь может оказаться это самое «а вдруг». Но с другой стороны: если проверка показывает, что она чиста, с ней надо поговорить. Другого выхода нет».
— Ну а в принципе?
— В принципе можете попробовать, — сказал Бодров. — Как говорится, хозяин — барин.
«И на этом спасибо», — подумал Ровнин. Эти слова полковника он мог считать прямым указанием, что в Южинске ему следует прежде всего заняться тетей Полей. Полковник посмотрел на оставшиеся две папки. Ровнин подтянул их к себе, посмотрел на Бодрова:
— Подождете?
— Конечно.
Ровнин стал не торопясь изучать все, что было в оставшихся папках. Материалов здесь было много. Сброшюрованные в несколько стопок копии экспертиз, заключений, справки, другие документы. Все это надо было прочесть. Пока Ровнин просматривал материалы, полковник несколько раз приходил и уходил. Ничего, что показалось бы ему интересным, Ровнин не нашел. Сложив все по порядку, он аккуратно вложил в папки фото и бумаги. Завязал тесемки.
— Ну так что? — сказал Бодров. — Я весь внимание, Андрей Александрович.
Он посмотрел на листок, который остался на столе. Это были Лешкины записи.
— Это вам нужно?
— Да. — Ровнин тронул листок. — Нужно. Это единственное, что мне нужно.
— Что — именно оригинал?
— Да, Сергей Григорьевич. Именно оригинал.
Бодров поморщился.
— Не положено, Андрей Александрович. Оригинал ведь.
— Это мне очень нужно, Сергей Григорьевич. Я могу даже написать докладную Ликторову.
— Ну хорошо, — сказал Бодров. — Берите. Что еще?
«Спасибо, — подумал Ровнин. — Спасибо, полковник. Вы даже не представляете, какой подарок вы мне сейчас сделали». Ровнин аккуратно сложил листок и спрятал в карман. Остальное, как любил говорить Лешка, приложится. Еще он любил говорить: «Что нам терять, если у нас за плечами одна высшая школа и десять лет безупречной службы?»
— Ну, в принципе мне нужно знать, что собой представляет начальник Южинского ОУРа Семенцов.
— Ох, Андрей Александрович! — Бодров усмехнулся. — Анкетные данные? Или прикажете все остальное? Не по уставу.
— Я понимаю, Сергей Григорьевич. Но мне ведь с ним работать.
— Работать. — Бодров почесал в затылке. — Полковник Семенцов. Семенцов Иван Константинович. Человек крайне аккуратный.
Ровнин вежливо улыбнулся.
— Небогато. Мы все аккуратные.
— Да нет, он в самом деле обязательный, Очень точный. В смысле если что сказал, обязательно сделает. Чисто человеческие качества, не буду врать, не знаю. Знаю только, что человек он смелый.
— А… — Ровнин помедлил.
— Что «а»?
— Давно он работает в угрозыске?
Этот вопрос значил: что собой представляет Семенцов как специалист по особо опасным преступлениям?
— Пять лет. До этого многолетняя безупречная служба на обычной оперативной работе.
Ответ Бодрова означал одно: профессиональные качества Семенцова полковник с Ровниным обсуждать не собирается.
— Что-нибудь еще?
— Нет, больше ничего, Сергей Григорьевич. Ровнин встал. Для него самого этот ответ означал, что ему теперь осталось только одно — оформить отъезд. То есть зайти в ХОЗУ и экспедицию, получить командировку, документы, деньги и билет. И еще адрес квартиры, в которой он будет жить в Южинске.
— Если вы о приказе — приказ на вас уже оформлен. Еще вчера.
Получив в бухгалтерии ХОЗУ деньги, а в экспедиции — авиационный билет и адрес, Ровнин, прежде чем выйти в коридор, остановился у окна в «предбаннике» ХОЗУ. Прежде всего он тщательно просмотрел адрес: «г. Южинск, ул. Средне-Садовая, 21, кв. 84, тел. 72-54-55. Квартира снята на 6 мес. с продлением». Очень хорошо. Для начала как раз то, что нужно. Несколько раз прочитав и запомнив адрес и телефон, Ровнин стал изучать авиационный билет. Билет взят идеально, на завтра, на первый утренний рейс. Если погода будет приличной, а, кажется, на юге она сейчас приличная, уже около девяти утра он будет в Южинске.
Дом двадцать один на южинской Средне-Садовой, в котором Ровнину предстояло жить, оказался девятиэтажным, блочным, с четырьмя подъездами, которые выходили во двор. Вдоль всей стены со стороны двора тянулся широкий палисадник с густо засаженными клумбами и низкими кустами акаций. По улице мимо дома проходила трамвайная линия; остановка была недалеко, метрах в двухстах. Сойдя на этой остановке и отыскав свой подъезд, Ровнин лифтом поднялся на четвертый этаж. Открыл дверь с табличкой 84, заметив при этом, что ключ входит с трудом, а замок скрипит. Вошел. Огляделся.
Квартира была однокомнатной, но довольно просторной. Прямо на него со стены глядел, огромный цветной плакат, занимающий треть прихожей: смуглая красавица в японском кимоно, улыбаясь, держит бокал. Все это перечеркивает надпись на английском: «Баккарди парти!» Ровнин поставил сумку на столик в прихожей. Открыл стенной шкаф. Шкаф был почти пуст, если не считать шубы, накрытой марлевым чехлом. Заглянул на кухню: она была маленькой, квадратной, но все, что нужно, в ней было. Стол, плита с двумя конфорками, холодильник. Он прошел в комнату, отдернул тюлевые занавески. В углу комнаты низкая и широкая тахта. Рядом с тахтой журнальный столик с телефоном. Два кресла. Телевизор, да еще цветной — в его положении это просто подарок. Книжный шкаф, и, кажется, в нем почти кет разрозненных книг — одни собрания сочинений. Золя. Куприн. Стендаль. Томас Манн. Толстой. На нижней полке рядом с Куприным стоят «Детская энциклопедия» и «Жизнь животных». Стандарт — обстановка для молодой пары. То, что здесь живет молодая пара, почти наверняка. Сейчас эта пара, верней всего, уехала в длительную командировку. Ровнин подошел к окну и осторожно открыл фрамугу. Пахнуло теплом. Он осмотрелся: окно выходило во двор. Прямо под окном была детская площадка — песочница, деревянная вертушка, качели. Чуть дальше гуляла девочка лет четырнадцати с эрдельтерьером. Еще дальше виднелась трансформаторная будка, за ней такой же окаймленный акациями дом-близнец. Ровнин прислушался: шума как будто нет, только изредка проходит трамвай. Пожалуй, в этой квартире ему придется жить долго, может быть, столько, сколько жил в Южинске Лешка.
Ровнин лег на тахту. Потолок низкий. Вспомнилось, как будто проскандировали хором: «Шэ — приз — кор! Если — инт — бэ! То — туп — исп! Ул — некр — тих!» Абракадабра. Но он теперь знает, что стоит за этой абракадаброй. Книги и телевизор — это уже кое-что. Честно говоря, он ожидал, что жить здесь ему будет хуже. А оказывается, жить вполне можно, даже жить можно роскошно.
Ровнин расстегнул сумку и стал не торопясь разбирать вещи. Свитер, легкая водолазка, три рубашки, нижнее белье, носки. Он вынул все это, сложил на тахту стопкой. Достал кеды и спортивный костюм. Черный пустой кейс. Летние туфли. Подумал и положил все это рядом с одеждой.
Неторопливо разбирая вещи, раскладывая на тахте мелочь, Ровнин наконец добрался до дна сумки.
Там, завернутые в куски плотной синей байки, лежали два главных предмета: личное оружие Ровнина, пистолет и короткий многозарядный автомат. Автомат этот был у него давно, служил верно, и про себя Ровнин называл его «малыш». Каждую деталь «малыша» он помнил, знал наизусть все сочленения автомата, так, будто это был некий предмет домашнего обихода, который он мог собрать и разобрать даже ночью, с закрытыми глазами. С этим автоматом он попадал уже в перекрест и в переделки, знал, как много от него зависит, и поэтому изучил вдоль и поперек, от прицела до отражателя. Автомат был пристрелян, подогнан и выверен по сердцу, руке и глазу.
Из двух свертков Ровнин достал подлиннее. Развернул байку. Тусклый, негусто, но хорошо смазанный автомат надежно темнел перед ним на куске синей ткани. Да, этот автомат в его глазах выглядел сейчас чуть ли не живым существом. Малыш, подумал Ровнин. Малыш. Малыш. Куда же его положить? Пистолет, ясное дело, вполне можно и нужно носить с собой, но автомат? Оставить в сумке? В прихожей? Нет, нельзя. Прихожая для таких вещей довольно уязвимое место. Конечно, он сегодня же врежет в дверь квартиры новый замок, но все-таки. В ванной? В туалете? В туалете. Нет. В туалете глупо. На кухне? Но где? Нет, и кухня не подходит. Остается одно: в комнате. Ровнин огляделся. Телевизор. Два кресла. Журнальный столик. Книжный шкаф. А что, вполне. Автомат идеально ляжет там. На нижней полке, как раз за Куприным и «Жизнью животных». Правда, на книжной полке нет замка, а если он положит туда автомат, замок нужен. Замок или запор. Впрочем, запор, скрытый и надежный, легко можно сделать самому, при помощи обыкновенного металлического гвоздя. Итак, решено, шкаф. Это удобно всем и даже хозяевам, которые когда-то вернутся. Аккуратно сделанный запор никому не помешает.
Ровнин не торопясь завернул автомат в тряпку. Так же не торопясь выдвинул крышку нижнего отделения в шкафу. Вытащил восемь томов Куприна и пять «Жизни животных». Положил книги на пол. Затем взял сверток с автоматом, примерил, вложил в образовавшуюся нишу. Убедившись, что автомат лежит на полке хорошо, стал не спеша заставлять его книгами. Закончив, опустил крышку, осмотрел нижнюю полку. Полка широкая, зазор перед стеклом остался, и никто не подумает, что за книгам» что-то лежит. Теперь осталось только сделать скрытый запор. И все — не подкопаешься.
Ровнин сел в кресло, взял трубку телефона. И вдруг в его голове возникла Лешкина абракадабра. Только теперь она звучала как нервные; странные, наполненные мало кому понятным смыслом стихи:
Ше приз кор, если инт бэ, То туп исп, ул некр тих, Выезды 25 VIII ул гог оживл, 80 тэ, 2 че, ул мар оч ож…Он крутанул диск. Пятьдесят-двенадцать-двенадцать. Эти стихи давно уже имели для него четкий и простой смысл. В них мучился, страдал и размышлял Лешка Евстифеев. Да, и сейчас, уже мертвый, Лешка продолжал мучиться, страдать и размышлять. И он, Ровнин, постепенно, слово за словом, разматывал эти оставшиеся ему Лешкины соображения и мысли. Вот, например, она, эта возникшая вдруг в нем первая строфа — от странного, то ли санскритского, то ли древнекитайского «Шэ приз кор», до какого-то марсианского, что ли, «ул мар оч ож». Строфа эта, как понимал теперь Ровнин, означала следующее:
«Андрюша, слышишь? Черт побери, как же понять, как выглядит этот «Шофер»? Бьюсь над этим — и ничего не могу сделать: Кажется, судя по обрывочным и не очень уверенным показаниям свидетелей (которых, уж поверь мне, я потерзал изрядно), он был приземистым и коренастым. Понимаешь, Андрюха, я все время исхожу из предпосылки, что это «интеллектуальная» группа. А «Шофер» приземистый и коренастый. Понял? Уж больно у них все четко разработано. «Рыжий», «Маленький» и «Длинный» — интеллектуалы. А «Шофер»? Не больно ли много интеллектуалов? Так вот, судя по почти неизвестному поведению этого «Шофера», может, он при них был просто тупым исполнителем? Виртуоз баранки и не более того? С этим, Андрюха, пока все. Теперь перехожу к закономерностям. Посмотри сам. Что за суммы перевозились в Южинске двадцать пятого августа? Улица Некрасова, где они взяли сто пятьдесят тысяч у проходной завода, — тихая, можно даже сказать, тишайшая. Ох, Андрюха, тут, в этом месте, по части «тишайшая» копать да копать! А теперь глянь, какими были остальные перемещения крупных сумм в этот день. Два инкассатора перевозили восемьдесят тысяч из районного Госбанка с улицы Гоголя — довольно оживленной улицы в центре. Три инкассатора перевозили двести тысяч, зарплату завода имени 26 бакинских комиссаров на улице Марата, еще более оживленной. Народу там — просто пруд пруди…»
Здесь, на «ул. мар оч ож», строфа кончалась. Первая строфа.
Все это, весь этот теперь уже ясный Ровнину смысл Лешкиной записки, весь расклад мелькнул перед, ним, когда он закончил набирать последнюю цифру — 12 из телефонного номера начальника ОУРа. Гудки, щелчок. Уверенный, отрывистый, пожалуй, даже злой голос:
— Семенцов слушает.
Мешкать с таким голосом никак нельзя.
— Иван Константинович, здравствуйте. Я к вам из Москвы, от Сергея Григорьевича.
Это была условная фраза. Ровнин вполне мог сейчас говорить с Семенцовым просто, открытым текстом. Но если уж он применил условную фразу, то и Семенцов должен ответить ему тем же. Слова же Ровнина означали: «Все в порядке, я приехал и разместился».
— Андрей Александрович? — Голос Семенцова помедлил. — Очень приятно.
Ровнин вздохнул. Фраза Семенцова означала: «Я все понял. Подтверждаю ваш приезд и готов встретиться для разговора». Во фразе начальника угрозыска Ровнину надо было проследить за порядком слов. Если бы он был нарушен, фраза не имела бы никакого скрытого смысла. Тут же Ровнин подумал: может быть, полковник недоволен, что он слишком темнит? Нет, Семенцов пока ничем не показал, что считает конспирацию Ровнина излишней.
— Как нам с вами встретиться, Иван Константинович?
— Пожалуйста, я жду вас.
— Прямо сейчас?
Вот оно, недовольство. В этой паузе — в ней четко проглядывается если не недовольство, то уж, во всяком случае, легкое раздражение.
— А что, вам сейчас неудобно?
Начальник угрозыска считает, что он, Ровнин, с конспирацией перегибает палку. Ровнин закрыл глаза и прислушался к шуршанию мембраны. Спокойно. Ау, Ровнин? Досчитай до пяти. Нет. В нем, внутри, сейчас нет никаких эмоций. Он спокоен. Главное для него — раскрыть опасную группу, он должен ее раскрыть и раскроет, а остальное пустяки. «Шэ приз кор, если инт бэ».
— Может быть, вы будете сегодня в городе?
— В городе?
«Да, в городе», — спокойно повторил про себя Ровнин. В конце концов, можно найти тысячи мест, где они могли бы встретиться. В городе, потому что он не хочет даже показываться у здания УВД. А тем более входить и выходить оттуда. Начальник ОУРа, да еще с многолетним стажем, должен все это понимать.
— Андрей Александрович, так заходите вечерком ко мне домой. Часиков в семь. Адрес ведь вы помните?
Кажется, с выводами насчет Семенцова он поторопился. Ровнин почувствовал облегчение. Вполне профессиональный поворот в разговоре. Семенцов все понял.
— Большое спасибо, Иван Константинович, я обязательно зайду. Не буду вам больше мешать. Всего доброго, до вечера.
— Всего доброго.
Ровнин положил трубку. Откинулся в кресле. Тихо. Очень тихо. И уже половина одиннадцатого. Сейчас бы позавтракать. Только чем? До семи вечера он, конечно, успеет сделать то, что задумал, если все будет хорошо и ему ничто не помешает. «Шэ приз кор, если инт бэ». Тогда, когда Лешка приставал к нему, а он все отмалчивался… В пятом классе Лешка все пытался выяснить, какая же марка самая дорогая в мире. И он, чтобы отвязаться, сказал: «Голубой Маврикий». Потом Евгения Александровна два раза приходила к его матери, плакала и жаловалась, что у нее исчезла кроличья горжетка. «Дело не в том, зима прошла, мне не жалко. Но поймите, он ведь никогда не воровал!» У Ровнина тогда залило марки — соседи наверху забыли закрутить кран. А примерно через неделю на переменке Лешка отвел его в сторону и показал марку. «Держи. Голубой Маврикий». Он, Ровнин, долго рассматривал марку. Потом спросил: «Где взял?» — «Купил за тридцатку» — небрежно сказал Лешка. Лешка не знал, конечно, что ему подсунули фальсификат. Но Ровнин определил сразу, что это чистая подделка, причем даже не очень умелая. Конечно, говорить об этом Лешке он тогда не стал.
Через час с небольшим он уже стоял на углу улицы Плеханова и Матросского переулка — именно здесь размещалось общежитие Южинского пищевого техникума.
Прежде всего он изучил подходы к переулку. Улица Плеханова оказалась довольно оживленной, движение на ней было четырехрядным в обе стороны. По улице проходил троллейбус номер третий; остановка, на которой сошел Ровнин, называлась «Матросский переулок». Сам Матросский переулок оказался чуть сзади, метрах в двадцати от остановки.
Сойдя, Ровнин огляделся. В общем, этот район оказался не очень далеко от центра, ехать ему пришлось всего около двадцати минут. Переулок был узким, тихим и тянулся далеко, до следующей улицы. Здесь, на углах улицы Плеханова, стояли два дома довольно старинной конфигурации: один шестиэтажный, красного кирпича, второй, с дальней от остановки стороны, был четырехэтажным, с лепными украшениями и светлой потрескавшейся штукатуркой. В этом доме на первом этаже размещался магазин «Молоко»; вход в магазин был с улицы Плеханова, но два окна выходили в переулок.
Ровнин не спеша двинулся по тротуару. Тротуар был старым, с проломами и щербинами. Над аркой ближнего к магазину дома висела табличка: «Матросский пер., д. № 14». Значит, номер шесть, в котором расположено общежитие, должен быть с этой же стороны. Если нумерация не перепутана, четвертый от улицы. Ровнин шел, вглядываясь в дома и дворы, и от нечего делать считал прохожих. Ему встретились только двое — старушка с кошелкой и девушка, несшая в руке большую папку. Четвертый дом с правой стороны открылся сразу же, и он вполне походил на общежитие. Желтый, трехэтажный, с фальшивыми, покрытыми трещинами колоннами. В центре здания, вровень с колоннами, выступала невыразительная дверь. Подойдя к дому, Ровнин увидел, что на стене рядом с этой потертой, обшитой коричневым стеганым дерматином дверью прилажена вывеска: «Южинский техникум пищевой промышленности. Общежитие».
Ровнин открыл дверь и вошел. За дверью оказалась небольшая прихожая со стенами, покрытыми голубой краской. Краска во многих местах посветлела, а кое-где просто сошла, открыв белесо-желтую штукатурку. Справа от входа в прихожей висел небольшой темный стеллаж для писем; в открытых ячейках, обозначенных буквами, лежало несколько конвертов и открыток. С другой стороны прихожей, слева, стоял пустой стол. Из прихожей, отделенной от входа в общежитие застекленной сверху перегородкой, вела еще одна дверь, тоже застекленная. За перегородкой справа, сразу у двери, Ровнин разглядел стол с телефоном. За таким столом у входа обычно сидит дежурная. Сейчас ни в прихожей, ни за столом дежурной не было.
Ровнин прислушался. Ни шагов, ни голосов. Помедлив, открыл застекленную дверь и остановился у стола. Рядом с телефоном лежали старые роговые очки. В общем, так и должно быть. Сейчас занятия, все в учебном корпусе. Наверх вела лестница, в обе стороны от стола расходился небольшой полутемный коридор с окнами в каждом конце. И с той и с другой стороны коридора Ровнин насчитал восемь дверей. Крайние двери с каждой стороны были чуть поменьше. Значит, служебные помещения. Обычно за такими дверями в общежитиях размещаются кухни, склады или туалеты. Ровнин осторожно кашлянул, но на его кашель никто не отозвался. «Тетя Поля! Пищ. тех! Св?» Эти слова, записанные в Лешкином блокноте, сейчас просто-напросто кричали, вопили и взывали к себе.
Если судить по оставленным на столе очкам, дежурная — пожилая женщина. Кто? Тетя Поля? Полина Николаевна Ободко? Но, может быть, сегодня дежурит не она, а сменщица. Постояв немного, Ровнин поднялся на второй этаж. Заглянул в коридор. Пусто. Прислушался. Где-то говорили, и скоро он понял, что женские голоса доносятся из-за двери ближней комнаты. Там, за дверью, негромко разговаривали, и голоса были молодыми. Значит, на занятиях не все, но это в порядке вещей. Ровнин поднялся на третий этаж, мельком осмотрел коридор, постоял несколько секунд. Здесь картина была такой же, как и на первых двух. Тишина. Хотя нет, в оконце коридора слышен звук шипящего масла. На кухне что-то жарят. Ровнин спустился вниз и еще с лестничного пролета увидел, что за столом теперь сидит пожилая женщина.
Женщина читала книгу. Услышав шаги, она лишь мельком взглянула на Ровнина и перевернула страницу. Тетя Поля? Похоже. Ровнин спустился до конца лестницы и увидел: нет, это явно не тетя Поля. Но если смотреть в фас, эту женщину можно было бы даже принять и за Полину Николаевну Ободко. За ту Полину Николаевну Ободко, которую он знал только по фотографии. Но нет, вблизи он понял, что это все-таки не тетя Поля: нос у женщины показался ему слишком крупным, такой нос на фотографии был бы заметен. И потом совсем другой рисунок лба и глаз. Ровнин кивнул и сказал негромко:
— Добрый день.
Женщина повела подбородком, продолжая читать, и он вышел на улицу. Постояв несколько секунд у обитой дерматином двери, вернулся. Не спеша прошел прихожую. Нарочно акцентируя приход, открыл застекленную дверь. Остановился. Женщина подняла глаза.
— Извините, а… — Ровнин постарался сказать это как можно мягче и легче. — Тетя Поля когда будет?
— А зачем тебе? — Женщина, перевернув книгу, положила ее на стол. — Что случилось?
— Ничего не случилось.
— Тогда зачем она тебе?
Ровнин медлил сколько мог.
— Надо.
— Надо. Ты что, наш, что ли?
Ровнин промолчал.
— Так наш или нет?
— Ваш, — сказал Ровнин.
— Что-то не припомню. — Женщина поправила очки и взяла книгу. — С третьего этажа? — Не дождавшись ответа, она хмыкнула и снова стала читать.
— Так когда будет тетя Поля?
— В двенадцать. — Женщина продолжала читать. — В двенадцать будет твоя тетя Поля.
— А, — сказала Ровнин. — Спасибо.
Женщина что-то буркнула, он повернулся и, стараясь идти как можно медленнее, вышел на улицу.
В общем, пока с этим общежитием ему все было ясно. Сегодня он даже мог не дожидаться прихода тети Поли.
Вечером без одной минуты семь он стоял у двери квартиры Семенцова.
Семенцов встретил его по-домашнему, в спортивном костюме и шлепанцах. На вид начальнику Южинского ОУРа было не больше пятидесяти. Он был сухощав, чисто выбрит, но его щеки все равно казались темными — до того густыми и смоляными были волосы. Глаза полковника тоже, выглядели темными и как будто бы злыми. Если бы Ровнин решил дать полковнику прозвище, он бы сказал, что Семенцов похож на жука.
— Андрей Александрович? — открыв дверь, спросил хозяин.
— Так точно, Иван Константинович.
— Прошу. — Семенцов посторонился, и Ровнин вошел в квартиру. Начальник ОУРа, пропустив Ровнина, прикрыл дверь, внимательно оглядел гостя и только после этого пригласил в небольшую комнату с книжной полкой, столом и диваном. Около дивана горел неяркий торшер с зеленым абажуром.
— Чаю? — спросил Семенцов. Глаза его были такими же, недоверчивыми и злыми.
— Спасибо, Иван Константинович. Нет.
— Может быть, выпьете?
— Нет, нет. Спасибо.
Семенцов показал рукой на диван. Подождав, пока Ровнин сядет, плотно прикрыл дверь в комнату и сел сам. Некоторое время они сидели молча. «Странно, — подумал Ровнин. — Кажется, полковник не знает, как вести себя с ним. Но в любом случае ясно, что это человек жесткий. И все, что говорил о нем Бодров, пока подтверждается».
— Хорошо, — наконец сказал Семенцов. — Попрошу документы.
Ровнин протянул Семенцову документы. Полковник долго изучал их. Проглядел на свету удостоверение, несколько раз прочел командировочное предписание. Наконец вернул бумаги, оставив себе лишь письмо Ликторова.
— Что вы собираетесь предпринять? — спросил он. — Давайте сразу договоримся: я хотел бы вас загрузить, потому что людей у меня мало. А тем более выпускников высшей школы.
— Это будет зависеть от нашего разговора, Иван Константинович.
Семенцов поморщился.
— От нашего разговора. Ну, во-первых, я не знаю, что вас интересует.
«Семенцов неразговорчив, — подумал Ровнин, — но это даже лучше». Спросил, стараясь придать вопросу нужный тон:
— Иван Константинович, вообще-то, как это все получилось?
— Что — это?
— Ну все. У торгового центра.
Семенцов подошел к окну, шаркая при этом шлепанцами. Долго стоял, разглядывая что-то в вечерних сумерках.
— А что именно у торгового центра? — сказал наконец он, не поворачиваясь, и, так как Ровнин ничего не ответил, добавил: — Вас что-то особо интересует?
— Да, особо, — ответил Ровнин. — Почему Евстифеев оказался именно в этой группе?
Полковник не ответил.
— Простите, Иван Константинович, — сказал Ровнин. — Просто я хорошо знал Евстифеева.
— Я вам отвечу. — Полковник повернулся. — Евстифеев включался в группы по перевозке денег по собственному усмотрению. А почему он в тот раз включился именно в, эту группу, для меня загадка.
— Может быть, он… о чем-то догадывался?
— Не знаю, — сказал Семенцов. — В тот день у нас было организовано три засады.
— Три засады?
— А вы что думаете? — Лицо Семенцова сморщилось. — Да вы поймите… Поймите, что это для меня значит — преступные группы в городе!
Семенцов отвернулся и стукнул кулаком по подоконнику. В следующую секунду, кажется, он уже пожалел, что сорвался. Сказал, на этот раз тихо, медленно, разделяя фразы так, будто увещевая маленького:
— Поймите, Андрей Александрович. С августа, с первого налета, наш ОУР и все УВД фактически на казарменном положении. Я не говорю уже там, что люди не уходят в отпуск, работают не отдыхая. Люди в предельной готовности. Каждый день! Вы понимаете?
— Понимаю, — сказал Ровнин.
— Для выявления группы разработан и утвержден целый ряд мер. Которые неуклонно проводятся в жизнь. Система ПМГ, СКАМ,[1] быстрое реагирование на сигналы. Скрытое сопровождение, засады и так далее. Особенно засады. Так вот, в тот день, двадцать пятого февраля, нами были организованы три засады. Тщательно скрытые. Выбор мест для них делался с учетом наибольшей вероятности нападения. То есть как и в случае двадцатого августа. Засады были поставлены там, где крупные суммы денег переносились или перевозились в тихих, относительно безлюдных местах.
«Все правильно, — подумал Ровнин. — Все абсолютно правильно. Но Лешка… Лешка-то оказался не там».
— Евстифеев, конечно, знал об этих засадах?
— А как же. Мы вместе с ним эти засады и наметили.
«Наметили, — подумал Ровнин. — Наметили, а после этого Лешка поехал к торговому центру. Почему именно он туда поехал, никто не знает».
— Вы лично были в одной из засад?
— Да, — сказал Семенцов. — Был.
— Засады со снайперами?
— Со снайперами.
— Вы уж простите, Иван Константинович, что я так, с расспросами. Просто мне хотелось бы знать: в тот день, двадцать пятого февраля. Евстифеев что-нибудь говорил вам?
Семенцов смотрел куда-то мимо Ровнина.
— В частности, о торговом центре?
— Ну…
Семенцов нахмурился.
— Он, между прочим, в таких случаях всегда говорил одно и то же. И в тот день, утром, он мне сказал, что лично он в засадах не нужен. А потому подстрахует… — Семенцов невесело усмехнулся. — Самое невероятное место.
«Невероятное место, — подумал Ровнин. — Невероятное место. Вообще-то, это чисто Лешкино выражение».
— Что, он так и сказал «невероятное место»? Именно этими словами?
Семенцов пожал плечами:
— Так и сказал. Именно этими словами.
Некоторое время они молчали.
— А… как его? — сказал Ровнин.
Глаза Семенцова, до этого бывшие спокойными, сузились. Теперь, после разговора, Ровнину было понятно, откуда берется это спокойствие. Кажется, Семенцов в самом деле профессионал. Железный профессионал. Поэтому и говорить с ним легко.
— Как… — Полковник взял карандаш, поиграл им и снова положил на стол. — А кто его знает как? Там же народу была тьма.
Народу тьма. В общем, подумал Ровнин, наверное, в такой ситуации любой опытный сотрудник поступил бы точно так же, как Лешка. И все-таки лично он, Ровнин, считает, что Лешка, помимо железно осознанной необходимости броситься на выстрелы, рассчитывал в тот момент и на свою реакцию.
— А с машинами что? — спросил он.
— С машинами ничего. Съемные номера, стандартная расцветка. Найди их. Прячут они их где-то, под землей, что ли.
— Я слышал, вы занимались пищевым техникумом?
— Занимались. — Семенцов посмотрел на Ровнина и сел рядом. Кажется, напоминание о пищевом техникуме показалось ему сейчас чем-то посторонним, лишним. — Вас интересует тетя Поля?
— Да, именно тетя Поля, — кивнул Ровнин.
Семенцов, кажется, что-то ощущает про себя, и смысл этого ощущения Ровнину как будто ясен. Пока тетя Поля для начальника Южинского ОУРа — загадка.
— Вы как действовали? Через кадры или скрыто? — осторожно спросил Ровнин.
— По-всякому мы действовали. И через кадры, и скрыто. — Семенцов мотнул подбородком. — Ничего. Пусто, Андрей Александрович. Никаких концов у этой тети Поли не найдено. То есть абсолютно ничего.
— А как она как человек?
— Человек? — Семенцов подумал. — Судя по всему, безобидный она человек, с самой безупречной репутацией. Вот так.
— Но запись же о ней у Евстифеева была?
— Была.
Кажется, у Ровнина появились сейчас какие-то сомнения, почему Лешка оказался именно в этой группе.
— Хорошо. Собственно, у меня осталось немного.
— Да перестаньте. — Семенцов поежился и улыбнулся, будто нехотя, через силу. — Перестаньте, Андрей Александрович. Сидите хоть всю ночь.
Он сложил письмо Ликторова. Спрятал в ящик стола.
— И не темните, пожалуйста. Говорите сразу, чем бы вы хотели заняться. А то не успеете оглянуться, как я вас загружу.
— Я хотел бы заняться именно этим самым пищевым техникумом.
Семенцов покосился, явно испытывая недоверие.
— Пищевым техникумом?
— Да. Тетей Полей. Ведь данных о преступной группе, как я понимаю, у нас до сих пор мало. А запись в блокноте Евстифеева все-таки есть.
Ровнин прислушался. В квартире тихо. Интересно, большая ли семья у начальника ОУРа?
— Хорошо, — сказал Семенцов. — Попробуйте. В общем, не знаю, есть ли в этом резон, но попробуйте. Мы ведь пока даже не говорили с ней. — Он повернулся к Ровнину. — Помощь вам нужна?
Деловой разговор. Хорошо, что Семенцов — лицо заинтересованное. В общем-то, помощи ему ведь почти и не нужно. И все-таки.
— Нужна, Иван Константинович.
— Пожалуйста, я слушаю.
— Вы знаете штатное расписание этого общежития?
Ровнину показалось, что вопрос повис в воздухе. Нет, не повис. Полковник скривил один глаз, будто припоминая.
— Знаю. Штатное расписание там такое: комендант общежития, воспитатель, трое дежурных. Дежурство суточное, с двенадцати до двенадцати. Сейчас, впрочем, кажется, место третьей дежурной свободно. Так что дежурных там работает пока две — Ободко и Зыкова, каждая на полторы ставки. Место воспитателя тоже как будто не занято.
Семенцов замолчал, постукивая по столу пальцами — с протяжкой, после каждого перестука будто поглаживая стол.
— Вы что, хотите туда устроиться?
— Да, хотел бы.
— Воспитателем? — спросил Семенцов.
— Ну если уж никак иначе нельзя, можно воспитателем.
— Почему «иначе нельзя»?
— Воспитатель должен что-то делать, а мне желательно иметь там побольше свободного времени.
— Что именно вы предлагаете?
— Вы ведь с кадрами в хороших отношениях?
Семенцов неопределенно пожал плечами.
— В крупных общежитиях есть должность помощника коменданта, — сказал Ровнин. — Это общежитие средних размеров. Но все-таки.
— Вы хотите сказать, вам нужно помочь устроиться помощником коменданта?
— Да. Только вы уж извините, Иван Константинович, что я занудил. Пусть об этом знает только начальник отдела кадров. И никто больше. Простите, как его зовут?
— Сейчас вспомню. — Семенцов осуждающе покачал головой. Это означало, видимо, «ну и ну». — Лосев. Лосев Игорь Петрович.
— Еще раз извините, Иван Константинович. Просто предупредите его обо мне. Не уточняя.
На другое утро Ровнин прежде всего отправился в общежитие. Он хотел попасть туда пораньше.
Выйдя из троллейбуса, Ровнин не спеша завернул в переулок и еще издали увидел, как из общежития выходят девушки. Сейчас он шел, стараясь не смотреть на них, делая вид, что рассеянно оглядывает дворы, мимо которых проходит. Дворы были южными, с кипарисами, пирамидальными тополями, бельем, висящим между деревьями и этажами на натянутых веревках. Ровнин посматривал в эти дворы, но девушек все равно видел. Они выходили из общежития парами, втроем, изредка по одной и сразу же поворачивали в его сторону. Девушки явно спешили — он уже знал, что учебный корпус на улице Плеханова всего через остановку, добежать туда можно минут за десять. Всем девушкам было примерно от семнадцати до двадцати; сейчас, проходя мимо, Ровнин почти физически ощущал, как они смотрят на него. Если же не смотрят, то явно обращают внимание, проходя мимо. Да, с этим будет тяжело, подумал Ровнин. Неужели в общежитии одни девушки? Нет. Вот из дверей вышел парень — невысокий, круглолицый. В задерганном сером свитере, джинсах и кедах. Прошел мимо, посвистывая. Вот еще двое парней. У всех сумки через плечо. Вот ребята что-то сказали девушкам — те рассмеялись. Ясно, все они тут друг друга знают наизусть. Парней, кажется, больше ни слухом, ни духом — опять одни девицы. Что называется, чистый девичник. Одеты, вот тебе и Южинск, — просто последний крик, даром что пищевой техникум. Никуда не денешься, порт, ведь здесь каждое лето до миллиона отдыхающих. Ровнин пропустил еще двух девиц, затянутых в узкие брюки и свитеры. Ощутил два скользнувших по нему изучающих взгляда. Вошел в общежитие и сразу увидел: за столом сидит тетя Поля.
В женщине, которая сидела за столом дежурной, он безошибочно узнал Полину Николаевну Ободко. Прежде всего у Ровнина была отличная память на лица. Поэтому в лице, которое мельком повернулось к нему, он уловил то характерное выражение, которое отличало изученную им до последнего миллиметра фотографию. В этом выражении совмещались сразу добродушие и недоверчивость. Волосы те же, что и на фотографии, соломенно-седые, стянутые назад тугим узлом. Когда-то, наверное, тетя Поля была пригожа собой, но сейчас от ее лица, от маленького носа и сложенных над сухим подбородком пухло-морщинистых губ исходили замкнутость и старческая настороженность. Тетя Поля будто все время пыталась понять, не скрыт ли во всем, что происходит вокруг, обман. Правда, это ощущение скрашивали глаза — широко расставленные, ясно-серые, смотревшие прямо и мягко. Тетя Поля была в цветастом, не раз стиранном платье; поверх платья была надета меховая овчинная безрукавка.
Ровнин остановился у стола. Кивнул. Так как тетя Поля молча смотрела на него, он широко улыбнулся, спросил:
— Полина Николаевна?
Тетя Поля медлила, будто не зная, признаваться ли, что она Полина Николаевна.
— Здравствуйте. — Ровнину сейчас нужно было только одно: произвести наилучшее впечатление. — Полина Николаевна, меня зовут Андрей. Я, наверное, работать с вами буду.
— Со мной? — Тетя Поля всмотрелась в Ровнина. Мимо прошли еще три девушки, кажется, последние. — Зачем же со мной?
Ровнин снова улыбнулся и снова на максимуме.
— А-а. — Тетя Поля вздохнула. — Что, в общежитии?
— В общежитии.
— Так, так. Ох ты сокол какой! — прищурилась тетя Поля. — Воспитателем? Воспитателя-то у нас нет.
Ей стало как будто легче. Да, человек она крайне недоверчивый.
— Не воспитателем — помощником коменданта.
— Это что же, должность новую ввели? — Тетя Поля, кажется, совсем уже поверила ему. Добродушно оглядела Ровнина с ног до головы. — Помощник-то нам нужен, нужен. А от кого вы?
— От Игоря Петровича.
— От Игоря Петровича? — В голосе тети Поля уже слышалось уважение. — Так, так. Ох ты сокол какой!
— Правда, я еще только присмотреться пришел.
— А что тут присматриваться? Варя-а! — Крикнув это, тетя Поля обняла себя за плечи, будто ей было холодно. Да, кажется, теперь уже в ней нет недоверия. — Присмотреться. Что присматриваться? Тут же здание небольшое. Народ у нас аккуратный, хороший. Правда, насчет здания… — не договорив, тетя Поля оглянулась. Крикнула: — Варя! Варвара Аркадьевна! Аркадьевна-а! Да где ты?
«Тетя Поля пищ тех — св?» — подумал Ровнин. Какая тут может быть «св» с такой тетей Полей?
— Сейча-ас, — раздалось сверху. — Ну что там?
— Варь, спустись на минутку. Дело. — Тетя Поля повернулась: — Комендант наш, Варвара Аркадьевна. Хорошая женщина.
— Полина Николаевна, вы что-то начали «правда, насчет здания» и не закончили.
— Да нет, — улыбнулась она. — Здание, я говорю, у нас небольшое, только, правда, запущено немного. Так вот вы и поможете.
— Это всегда, — сказал Ровнин. — Я ведь на все руки мастер. Штукатурю, белю, плитку кладу.
Сверху спустилась женщина в синем сатиновом халате, полная, пышущая здоровьем: лицо ее было кругло-розовым, волосы убраны под лиловую косынку. Сказать, сколько ей лет, было нелегко; после колебаний Ровнин дал ей от тридцати до сорока.
— Плитку? — сказала тетя Поля. — Ай-яй-яй! Неужто и плитку?
— Да я все. Сантехнику заменяю, краны. Приемник там, магнитофон поправить надо — сделаю. Телевизор есть — и телевизор подстрою. Все, что хотите.
— Неужто и телевизор? — спросила комендантша.
Ровнин незаметно оглядел ее. Она, конечно, чиста, как алмаз.
— И телевизор. Здравствуйте.
— Здравствуйте, я комендант общежития. — Женщина поправила косынку. — Варвара Аркадьевна.
— Работать он будет у нас, Варь! — Тетя Поля покачала головой, что означало: «Ну и дела!» — От Игоря Петровича он.
Варвара Аркадьевна несколько секунд смотрела на Ровнина изучающе. Надо побыть здесь хотя бы несколько дней, подумал Ровнин. Мало ли что может стоять за этими тихонями? Ведь раз он взялся за этот техникум, то с его стороны тоже все должно быть чисто.
— Я еще не знаю. Вот посмотреть зашел.
— А кем, интересно? — Комендантша опять поправила косынку.
— Вроде помощником вашим. Если подойду.
— Помощником? А не воспитателем? Что, должность новую ввели?
Врать так врать, подумал Ровнин. Да и потом вряд ли Семенцов его подведет.
— Да, как будто ввели.
— А что? — нахмурилась комендантша. — Если подойду… Ишь ты какой. Да вы тут бросьте выбирать. — Она улыбнулась, подбоченилась. — Чем мы плохи? Тетя Поль, а?
— Посмотреть все-таки надо, — сказал Ровнин.
— Идите, и все! У нас же тут… — Варвара Аркадьевна широко и театрально развела руками. — Здесь же, вы посмотрите только, одна молодежь! Работать — удовольствие. Николаевна? — Комендантша повернулась к тете Поле.
— Ну я и говорю, — подхватила дежурная.
— Ребята, девушки. И все учатся, все за собой убирают. Совет общежития у нас и вообще. Простите, вас-то как зовут?
— Андреем.
Кажется, пока все идет чисто. А может быть, слишком чисто?
— А по отчеству?
— Да ну! — Ровнин улыбнулся. — Я по отчеству не привык. Зовите просто Андреем.
— Договорились — Андреем. Сами-то местный? Южинский?
Проверка? Или от простоты душевной?
— Считайте, южинский. Родился здесь, ну потом уезжал, армия, то, се. Сейчас вот вернулся.
— Как хорошо-то! — тетя Поля сложила руки. — Ой, хорошо! И плитку умеет класть. Умеешь плитку-то класть, Андрей? Не врешь?
— Плитку? — Ровнин понял, что если это не наигрыш, то здесь «тепло». Ценные слова: впрочем, плитка — это всегда почти точно.
— Говорил ведь? — Тетя Поля добродушно нахмурилась.
— А как же, говорил. Какую надо: декоративную или простую?
— Да уж я не знаю. Любую.
— И телевизор? — сказала комендантша.
— И телевизор.
— Так, значит. — Варвара Аркадьевна взяла его за рукав. Перешла на полушепот: — Андрей! Андре-ей! Все-о! Все, молодой человек!
— Ну прям подарок, — сказала тетя Поля.
Неужели две такие чистые тети — и с преступной группой. Нет, невозможно. Но тогда почему у Лешки запись?
— Идите к Игорю Петровичу! Ну, мигом! — все так же шепотом сказала комендантша.
— А что, и пойду. — Ровнин открыл застекленную дверь.
— Идите и скажите, Варя, ну, Варя — это я. Варя, скажите, просит. Просит слезно, чтоб оформил.
— Хорошо, я быстро, и назад.
— Давайте, давайте, — сказала вслед комендантша.
Выйдя в переулок, Ровнин вздохнул. Кажется, пока без проколов. По крайней мере, представился он так, как хотел. И вот — так всегда бывает — на секунду возникло сомнение. Может быть, все это зря? Все это? Может быть, и общежитие, и тетя Поля пустой номер?
Через час, застелив стол в прихожей общежития газетами и надев черный комбинезон «хэбэ-бэу», Ровнин тщательно смывал с потолка старые белила.
Все это: облачение в робу и побелка потолка, может быть, и было лишним. И вообще, пока в техникуме ничем толковым даже и не пахло. К тому же помощник коменданта совсем не обязан сразу браться за мелкий ремонт. Но все-таки при всей сомнительности этой затеи было два важных момента, о которых Ровнин все время помнил. Во-первых, тетя Поля и все, что было связано с удочкой насчет плитки, которую он забросил еще утром. Если в самом деле она пригласит его к себе домой положить плитку и он сможет ее прощупать — это будет полный идеал. Во-вторых, надо же ему что-то выдумать здесь, фактически в женском монастыре, пансионе благородных девиц, чтобы не вызвать в первый же день особого интереса. Ведь вполне может быть, что ему придется сидеть здесь не один день, и, если он будет торчать на проходе со скучным лицом, всякой конспирации конец, его тут же засекут. В лучшем случае начнутся догадки, пересуды и так далее. Значит, он должен сразу сделать что-то такое, что погасит к нему всякий интерес. Сразу стать чем-то своим, привычным, обыденным, таким же обыденным, как потолок, стены, запачканный краской комбинезон.
Тщательно смыв с потолка в прихожей старые белила, Ровнин начал не торопясь купоросить ближний угол. За время, пока он работал, в общежитие с улицы вошли только две девчушки, два этаких курносика, одна в очках, другая в спортивном костюме. Потом появилась почтальонша, полная, с мужеподобным лицом. Она быстро разложила по ячейкам письма и ушла. Два раза проплыла мимо, на улицу и обратно, Варвара Аркадьевна. Первый раз комендантша, проходя, сказала:
— Вот молодец.
Второй раз спросила:
— Обедать с нами будешь?
Пообедать, конечно, было бы неплохо.
— Так что, обедать будешь? — повторила комендантша. — Андрей?
— Буду. Вот только купоросить закончу. А где?
— Да у нас тут, в дежурке.
Полное впечатление, что это чистые, кристально чистые тетки; но, с другой стороны, ведь есть Лешкина запись. Должна же она что-то значить.
— Спасибо, я сейчас приду, — сказал Ровнин.
— С тетей Валей тогда прямо иди. Теть Валь!
Уже знакомая ему дежурная, сменившая в двенадцать тетю Полю, повернулась и подняла очки. Она была все в том же повязанном крест-накрест пуховом платке.
— Ну? — сказала она.
Кажется, все это время она делала вид, что не замечает его.
— Это наш новенький, я говорила, работать у нас будет.
— Знаю. — Дежурная встала. — Виделись уже. Слезай, слезай, работник. Борщ доходит, сейчас принесу.
Дежурная комната была тут же, в начале коридора, небольшая, с диваном, квадратным столом и двумя аккуратно застеленными кроватями. «Хорошая комната, — подумал Ровнин. — Очень даже». Он сел на диван. Тетя Валя принесла из кухни борщ, разлила по тарелкам.
— Ешь, не стесняйся, на вот ложку. — Она сунула ему ложку. — Здесь если что, и заночевать можно. Звонок от стола проведен, что случится, позвони. — Тетя Валя, нарезав крупными кусками хлеб, придвинула к себе полную тарелку. — Мы здесь все свои.
Вернувшись в прихожую, он проверил белила, развел их пожиже, заправил в пульверизатор. Взобравшись на стол, для пробы легко провел первый слой. Кажется, белила ложились хорошо. Он стал не торопясь обрабатывать потолок. За первые полчаса входная дверь хлопнула всего два раза, но потом она стала хлопать все чаще. Когда же ему осталось только добелить угол, около четырех дня, дверь уже открывалась и закрывалась непрерывно — это возвращались из техникума девушки.
Ровнин продолжал работать, почти не оглядываясь на дверь. Входя, некоторые тут же исчезали в коридоре. Но большинство останавливались у стеллажа для писем. Проводя слой, он видел, как девушки стоят у ячеек и перебирают открытки и конверты. На него, кажется, пока никто не обращал особенного внимания. Сначала он пытался запомнить каждую — лицо, фигуру, походку, движения, но потом понял, что это бесполезно. Девушек было слишком много. Он поневоле оценивал их; в общем, ему казалось, в большинстве своем это были сначала самые обычные девушки. Но наконец, приглядываясь, он признался, что многие из них были просто хорошенькими — и в Москве таких не встретишь. «Юг есть юг», — подумал он. Потом Ровнин выделил четырех — не заметить и не выделить этих четырех было просто невозможно. Про каждую из них он мог бы сказать: королева. Особенно запомнились ему две: блондинка спортивного вида и староста общежития, статная черноволосая красавица, которую все звали Ганной.
На другой день, в субботу, обходя вместе с Варварой Аркадьевной и старостой общежития комнаты, Ровнин уже знал, кто где живет. Староста общежития, Ганна Шевчук, пояснявшая по пути, «где чего не хватает», оказалась как раз одной из четырех королев, — тех, кого он выделил накануне.
Ганна наверняка была красива — темноволосая, с большими светло-карими глазами. Правда, сейчас, когда они совершали обход, ее лицо постоянно хмурилось. Она казалась несколько тяжеловатой для своих двадцати лет, но явно обладала тем, что принято называть статью. Ровнин отметил про себя: почему-то его именно такая красота, вот с этой самой статью, никогда особенно не трогала. Эта стать всегда казалась ему чем-то вроде египетской пирамиды, тяжелым и почти принудительным ассортиментом.
Они проходили комнату за комнатой, и Ровнин со слов Ганны старательно записывал: где сломана кровать, где не хватает лампочки, где разбито и пока заставлено фанерой или закрыто картоном окно. Ганна и говорила медленно, весомо, тяжело, добавляя обязательно «пожалуйста».
— Андрей, пожалуйста… Андрей, пожалуйста, посмотри сюда… Девочки, пожалуйста, откройте кровати…
Когда они обошли все общежитие, Ровнин зашел в дежурку, достал блокнот, и в это время в двери показалась тетя Поля. Она смотрела на него нерешительно. «Что эта она?» — подумал Ровнин и тут же спросил с непонятной тревогой:
— Да, тетя Поль?
— Андрюш. — Тетя Поля вздохнула. — Уж ты извини, что обращаюсь. Но ты вот сказал. Помнишь, вчера-то еще? Насчет плитки.
Кажется, точная десятка. Теперь только не упустить.
— Это насчет какой плитки, тетя Поль? — равнодушно спросил он.
— Да мне, Андрюш. Завтра как раз воскресенье. А, Андрюш? Плитку дома положить в кухне. За плитой и над раковиной. И все. Я бы не стала тебя беспокоить, да тут как раз…
Тетя Поля замолчала.
— А, — сказал Ровнин, — плитку.
— А я эту плитку давно уже хотела.
— Где вам плитку-то? За плитой, говорите?
— За плитой, за плитой. И над раковиной.
— Далеко ехать-то до вас?
— Да какой далеко. Зеленковская, сорок девять, квартира сто шесть. Только плитки этой у меня нет, понял? Я тебя, Андрюш… — Сказав это, тетя Поля сузила глаза. — Я тебя не обижу.
— Ну вот еще, не обижу. Нам же, тетя Поль, работать вместе, а вы — не обижу.
На другой день утром, в восемь, Ровнин уже стоял на лестничной площадке по адресу: Зеленковская, сорок девять. С собой он прихватил небольшой бидон с синей масляной краской и ящик плитки, заранее взятый у завхоза. Дверь после его звонка тут же открылась; тетя Поля, увидев Ровнина, заулыбалась, заохала:
— Ой, Андрюшенька, ой, молодец! Ну входи, входи. — Она взяла его под руку, осторожно ввела. — Заходи, заходи, вот сюда. Ставь, ставь. Помочь? Ой, прям не знаю, как благодарить. Да дай помогу. Ой, Андрюш, тяжесть небось. Иди сразу на кухню, сейчас поешь, я тебе горяченького приготовила.
— Ладно, ладно, тетя Поль. — Ровнин поставил ящик. — Есть я не буду, спасибо. А вот кухня, где она у вас?
— Это как «не буду»? Это ты брось, я тебе и бутылочку вчера купила. — Тетя Поля повела его на кухню. — Садись. Да садись же.
— Нет, тетя Полечка, и пить я не буду. — Ровнин успел заметить — квартира однокомнатная, обставлена небогато. — Спасибо. Я сразу лучше за работу.
— И пить не будет. Что ж я, зря старалась? Ну, рюмочку-то выпьешь?
— Нет, тетя Поль, никак. Вы что, одна живете?
— Одна, Андрюшенька, одна. — Она силой усадила его за стол. — Садись. Да хоть яишенку-то съешь? А?
— Нет, тетя Поль, спасибо. Что, и детей нет?
— Как нет? Дочь взрослая, работает под Южинском в санатории.
— А, — понимающе кивнул Ровнин.
— Двое у нее: мальчик и девочка. Я к ним каждую неделю езжу. А то, бывает, они. Ну что ж ты, так ничего и не будешь есть?
— Не буду, тетя Поль. — Он встал и наскоро оглядел стену. Посмотрел, пройдет ли за плитой кисть. Как будто кисть проходила. Работы будет немного. А живет тетя Поля одна. Кажется, лучше всего сейчас с ней поговорить напрямую. К тому же вполне может быть, что Лешка в свое время именно так и сделал. Другого здесь просто не придумаешь.
— Ну что? — озабоченно спросила тетя Поля. — Получится? А?
— Получится, как не получится. — Ровнин погладил стену. — Я, тетя Поль, долго думал, как вам плитку класть. Можно на спецпасту, можно на цемент. Но вы ведь, наверное, красиво хотите?
— Ой, Андрюш. — Тетя Поля зажмурилась, покачала головой, вздохнула. — Кто ж красиво не хочет?
— Ну вот. Так я вам сделаю декоративно, на масляную краску, с зазором. Краска синяя, а плитка у меня белая, да еще квадратиков двадцать есть голубой, для симметрии. А, тетя Поль?
Тетя Поля приложила руку к сердцу:
— Ой, Андрюш, прямо не знаю.
— Ну, ну, тетя Поля, я же еще не сделал. А теперь займитесь чем-нибудь. Ну там в комнату пойдите, чтобы здесь не мешаться.
— Может, тебе помочь что, убрать?
— Не нужно ничего, тетя Поль, я сам. Вы побудьте где-нибудь.
Часа через три, последним, легким притирающим движением закончив работу, Ровнин выпрямился. Да, кухня стала лучше. Белая плитка, посаженная с редкими вкраплениями голубой на слой темно-синей масляной краски, гляделась. Невыразительная до этого бурая кухонная стена за газовой плитой и над раковиной теперь сверкала белизной, а голубая плитка и полусантиметровый зазор прямых линий придавали этой белизне нужную живость. Ровнин обернулся:
— Тетя Поля, вы где? Все-о! Принимайте работу.
Тетя Поля остановилась в дверях. Зажмурилась, заохала.
— Ой, ой, Андрюш! Ой, красота! Ой, прям не знаю! — Она подошла к стене.
— Только руками пока трогать не надо, тетя Поль. Высохнет краска, тогда пожалуйста.
— Ну прям красота. Уважил, Андрюшенька. Проста уважил. Когда высохнет-то?
— Денька три для верности придется подождать.
Кажется, сейчас самый момент. Да, именно сейчас. Он достал из внутреннего кармана Лешкину фотографию. Лешка на ней был снят для личного дела, незадолго перед тем, как уехать в Южинск.
— Тетя Поля.
— Да?
Она обернулась, увидела фотографию и глянула на Ровнина. Это явно было неожиданностью для нее, и она сейчас будто спрашивала: «Что это?» Ровнин протянул фото:
— Посмотрите, тетя Поля. Вам этот человек не знаком?
Тетя Поля взяла фотографию. «Нет, — подумал Ровнин, — ведет она себя абсолютно чисто».
— Что-то знакомое, — вглядываясь, сказала тетя Поля. Закусила губу. — Знакомое. А вот вспомнить не могу. Где же я его видела?
Не нужно ее торопить. И пугать не нужно.
— Вспомните, тетя Поля. Это очень важно. Очень.
— Так это ж Леша. — Тетя Поля еще раз всмотрелась в фотографию. — Ну да. Леша-милиционер. Он. Ну точно.
Леша-милиционер. Значит, она знает, кем был Лешка. Ну прежде всего уже само по себе это новость. Тетя Поля все знает. Откуда?
— Леша-милиционер?
— Ну да. Леша. Он ко мне зимой заходил.
— Куда к вам?
— В общежитие. Куда же еще?
Тетя Поля внимательно всмотрелась в Ровнина.
— Что, тетя Поля?
Он понял: маскироваться теперь уже не имеет смысла.
— Та-ак. — Это она сказала протяжно-утвердительно. — Та-ак. Значит, ты тоже милиционер. Ну и ну!
Крутись не крутись, хитрить бессмысленно.
— А я-то думаю, что это он? Плитку положить, то, се. Милиционер, значит?
— А откуда вы знаете, что он… — Ровнин помедлил, — этот Леша… был милиционером?
— А сам-то ты тоже ведь милиционер?
— Ну милиционер.
— Как это откуда? — Тетя Поля взяла тряпку, провела по столу, отложила. — А что тут не знать? Он же ко мне пришел, и сам, ну это… рисунки мне показал.
— Рисунки?
— Ну да, рисунки.
Лешка показал ей рисунки. Из третьей папки? Вот это номер!
— Какие рисунки?
— Какие! На рисунках этих четыре парня. Нарисованы, значит. Ну, трех-то я даже и не видела. А четвертого…
— Что — четвертого?
Тетя Поля вздохнула.
— Худенький такой, лопоухий. Его я признала. Вроде похож.
— Подождите, подождите, тетя Поля.
Ровнин чувствовал, как все в нем сейчас колотится. Да, он хорошо знал, что это. Это чистый нервный колотун. Причем с ним давно уже такого не было. Ну-ка, Ровнин, успокойся. Ну, Ровнин.
— Подождите, тетя Поля. — Он отвел взгляд, чтобы она не видела, и зажмурился. — Да вы сядьте. Сядьте, пожалуйста.
Кажется, мандраж прошел. Да, как будто бы.
— Расскажите все по порядку. Не торопитесь. С самого начала.
Она нахмурилась.
— Ну прежде всего, когда он к вам пришел?
Молчит. Значит, что-то забыла. Вполне.
— Точную дату хотя бы можете вспомнить? Тетя Поля?
— Точную? Дай бог памяти. Было это… В конце зимы. Да, в конце зимы.
— А когда точно?
— Да недавно совсем, недели три.
Она раздраженно замолчала, будто злясь на то, что не может вспомнить точной даты.
— В конце зимы, значит, в феврале?
— Ну да, в феврале.
— А день?
— День… Ах ты, прямо затмение! Не помню дня. В конце месяца.
— Вспомните, тетя Поля. Пожалуйста.
Тетя Поля с сожалением улыбнулась:
— Может, после Дня Армии… Да, после праздника.
После праздника. Это уже много.
— Праздник двадцать третьего февраля. Значит, двадцать четвертого?
Тетя Поля застыла, вспоминая.
— Может быть. Двадцать четвертого. Или двадцать пятого. Да, так примерно. Нет, двадцать пятого. Я как раз дежурила двадцать пятого. Дежурство заканчивала. — Она с облегчением улыбнулась.
Двадцать пятого. Ну и ну! Лешка приходил к ней в день своей смерти.
— А в котором часу?
— Утром. Да, утром, часов в десять. Все уже в техникум ушли.
— Он пришел к вам, и что дальше?
Тетя Поля покачала головой.
— Дальше? Дальше вошел, значит, он, я и не думала сначала, что милицейский. В курточке такой, сам худенький. Подошел, значит. «Здравствуйте, — говорит, — я из милиции». Ну что ты, Андрюш, смотришь-то так?
— Вы, тетя Поль, подробней.
— А чего подробней, уж куда подробней. Книжку показал. Красненькую. Ну, я книжку эту не стала даже смотреть. Мне это ни к чему.
— А потом?
— Потом он их и достал, эти рисунки. Карандашиком так на бумаге нарисованы. Показывает. Я гляжу, четверо парней. А он, посмотрите, говорит, у вас тут не болтался на входе кто-нибудь похожий на этих?
— Что, именно так и сказал?
— Да, говорит, не болтался ли, говорит. Особенно, говорит, около стеллажа для писем.
Вот это да! Около стеллажа для писем. Это связь.
— Ну а вы?
— А что я? Я же говорю, как раз накануне вроде видела одного, похожего на этого лопоухого.
Ровнин достал из кармана бумажник, порылся в нем, выудил фотокопии Лешкиных рисунков. Выбрал и положил на стол изображение «Маленького». Тетя Поля испытующе посмотрела на Ровнина. Подтянула к себе фотографию.
— Вот те на, и фото даже есть! Ну он это, этот самый, которого Леша мне показывал. Он.
Ай да Лешка! Ай да Лешка молодец? Значит, он ухитрился определить лопоухого. «Маленького». Вот тебе на! «Маленького» засекли. Ну и Лешка! Черт, ну и Лешка!
— Вы что, в самом деле его видели? — Ровнин спрятал фото. Подумал, что проверить лишний раз не помешает.
— Кого?
— Ну, лопоухого?
— Да я же говорю, видела. Накануне, как раз то ли в праздник, то ли за день до праздника. Нет, в праздник.
Ровнин почувствовал, что он сейчас готов закричать: «Лешка! Лешка, ты молодец!»
— Я же своих-то всех знаю. А он, лопоухий-то этот, как раз днем, часа в четыре, входит.
В это время приносят вторую почту.
— Входит. Я его сразу заприметила. Такой вертлявый, щуплый. Только я не поняла, зачем он. Потому что обычно у нас тут, знаешь, молодежь как на мед. Девки ведь, женское-то, считай, общежитие. Да еще праздник.
— Понятно, тетя Поля. А вы что, раньше его никогда не видели?
— Нет, не видела.
Не видела. А может быть, и видела, но не замечала.
— Так что этот лопоухий?
— Ну просто вошел так, я-то вижу, что чужой, но подумала, мало ли чего. Всех, кто к нашим девкам постоянно ходит, я в лицо будто знаю. А этого никогда не видела. А он так, по прихожей, вроде у ящика с письмами покрутился. Покрутился, и вроде ничего.
Вроде ничего. Значит, она не увидела, как он брал письмо.
— Покрутился — и что дальше?
— Ну и назад, на улицу.
— А он из ящика ничего не брал?
Тетя Поля вздохнула. Задумалась. А может быть, он и в самом деле не брал? Может быть, вообще это был не тот лопоухий?
— Ну, тетя Поль?
— Да вот Лешка-то, он ведь тоже про письмо интересовался. Брал ли, говорит, этот лопоухий письмо? Все допытывался.
— Ну так что же все-таки, брал?
Пусто. Прокол. Ясно, что лопоухий, если это был тот лопоухий, письмо брал. И взял он его так, что тетя Поля этого не увидела. Впрочем, взял ли он письмо, теперь уже не так важно. Жаль, конечно, так можно было бы определить букву ячейки. Если, конечно, письмо вообще там лежало. А если лежало, то, верней всего, на нем должна была быть вымышленная фамилия.
— Ну и дальше что?
— А что дальше? Леша этот, он поговорил со мной. Я, конечно, все ему сказала. Ну про этого лопоухого. Как оно все было.
— А он?
— А он говорит: «Спасибо, тетя Поля. Я к вам, — говорит, — еще зайду». Приятный такой парень.
Зайти снова Лешка, конечно, уже не успел. Его убили. Если это было двадцать пятого февраля, то Лешка после этого разговора сразу же поехал вместе с группой ВОХР перевозить выручку торгового центра. Потом была перестрелка. Наверное, именно поэтому он только и успел записать неразборчивое: «Тетя Поля! Пищ. тех! Св?» И все. Значит, Лешка вышел на тетю Полю, но как? Как именно он на нее вышел? Вариантов много. Но прежде всего, да и скорей всего, Лешка мог просто обходить все общежития. В смысле все общежития, в которых есть вот такие открытые для каждого желающего стеллажи для писем. А такие стеллажи есть практически в каждом общежитии. Сколько же этих стеллажей в Южинске? Институты, училища, техникумы, интернаты. Потом есть еще стройобщежития. Но как Лешка вышел именно на эти стеллажи? Ясно, он искал связь. Безусловно, искал связь. Он перебирал все варианты связи, которые трудно контролировать. И пробовал. Может быть, он пробовал что-то еще.
— Ох, Андрюша! — тетя Поля сложила ладони. — Ой! Значит, и ты из милиции? Вы что ж, ищете, что ль, кого? Этих четырех? Которые на рисунках?
— Тетя Поля. — Ровнин улыбнулся. — Ведь плитку-то я вам разве плохо положил?
Она покачала головой, улыбнулась.
— Андрюш, да о чем ты говоришь. Да мне из милиции, не из милиции, лишь бы человек был хороший.
— Я из милиции, И ищем мы этого лопоухого.
— Ну да, я сразу поняла, жулик он. Крутился-то прямо как уж.
— Теперь скажите мне, этот Леша, он предупреждал вас, просил никому об этом не рассказывать? Что вы отворачиваетесь?
Все ясно. Наверняка она кому-то все рассказала — и о Лешке, и о лопоухом. Да, судя по тому, как она сейчас отвернулась, рассказала. Если комендантше и сменщице, это еще ничего. Но ведь те тоже могли кому-то рассказать. Ладно, придется исходить из того, что есть. Только не нужно ее сейчас пугать. Ни в коем случае. И вообще от этой тети Поли теперь зависит довольно много, почти все, она и сама не представляет даже, как много от нее зависит.
— Только вы, тетя Поля, правду мне скажите. Если он просил не говорить, а вы об этом кому-то сказали — ничего страшного в этом нет. Просил?
Тетя Поля повернулась к Ровнину.
— Просил. Откуда же я знаю? Мало ли таких бродяг? Он сказал, Леша-то, что придет, а сам не приходит. Ну я Вале Зуевой, сменщице своей, рассказала. Говорю, вот, мол, жулика на днях видела. У нас тут крутился. Знай поди, кто жулик, а кто нет.
— А про Лешу? Про то, что из милиции приходили, вы тоже Зуевой сказали?
— Сказала. — Тетя Поля нахмурилась. — Милиция, говорю, даже приходила, интересовалась. И Варе сказала, комендантше. Да какое это значение-то имеет? Не скажут они никому, я же их знаю. Они и забыли давно.
— Вот что, тетя Поля. Вы мне вроде бы поесть предлагали. Так вот, как там насчет поесть? Стена, она затрат требует.
— Поесть? Ой! — Тетя Поля приложила руки к груди. — Ой, Андрюш! Ну конечно. У меня же тут и борщ, и вареники, и огурчики маринованные…
Пока она возилась с духовкой, раскладывала на противне пирожки, Ровнин попробовал прикинуть, что и как будет происходить дальше. Прежде всего надо решить, далеко ли выплыла информация о Лешкином появлении и его разговоре с тетей Полей. Конечно, для комендантши и сменщицы сообщение тети Поли не бог весть какая байка. Но только при условии, что обе, и Зуева и комендантша, чисты. Допустим, что они чисты и что лопоухий не мог к ним относиться никаким боком. Тогда остается одно: принять на веру, что волны от Лешкиного появления никуда не распространились. Ну принял. Значит, южинцы, в смысле Южинское УВД, ничего пока не знают о Лешкином появлении в общежитии. Ну да, ведь им, как и всем, был неясен истинный смысл этой Лешкиной записи. Что ж, в первую очередь он должен сказать об этом Семенцову. Но что именно? Хорошо, сегодня он заедет к Семенцову и все расскажет. Что Евстифеев был двадцать пятого февраля в общежитии и зацепил связь. Или захотел зацепить. Должна же быть у налетчиков связь с Госбанком. Ну естественно, если у них в самом деле есть там свой человек. Правда, ориентировка по почти вымышленным портретам, конечно, не ориентировка. Кто был, как взял, что взял? Письмо от своего человека в банке? А может быть, все это туфта. В некоем общежитии у неких стеллажей болтался некий лопоухий? Что это значит?
Значит. Это значит. Значит, потому что он, Ровнин, знает Лешку Евстифеева как самого себя. В поисках скрытой связи Лешка мог перепахать весь город. Да что там город, дай Лешке волю, он бы не по рисункам, а по воздуху, по запаху раскрутил бы всю группу. Да он ее и раскрутил — почти, если бы его не убили.
— Тетя Поля. Я… хотел с вами поговорить.
— Ну? — Кажется, она поняла его взгляд. — Слушаю.
Как будто она его поняла. А раз поняла, то, хочет он того или нет, у него не остается ничего другого, как полностью довериться ей. Полностью, до конца, иначе ничего не получится.
— Тетя Поля, вы не представляете, как важно нам найти этого лопоухого. Понимаете — как важно.
Тетя Поля опустила глаза, провела ладонью по столу. Сказала:
— Я слушаю, Андрюш.
Судя по всему, она прониклась. Прониклась как будто бы.
— Что же он… — Она подняла глаза. — Такого натворил?
Сказать, что он убил Лешку? Нет, не нужно будить сейчас ее воображение. Ни к чему.
— Зло натворил. Много зла.
Он должен довериться. До конца. Полностью. Иначе все будет впустую.
— Ну вот, тетя Поля. Это преступник. Опасный преступник. А мы — мы с вами вдвоем, понимаете, мы попробуем его поймать.
— Это как же это поймать-то?
Если бы он знал как. Если бы.
— Во-первых, вам, тетя Поля, надо молчать. Никому уже теперь не говорить о нашем разговоре. А во-вторых, думаю я вот что. Он еще раз придет. Как будто бы в этом стеллаже он письма брал. Ну вот мы с вами и должны не спугнуть теперь этого лопоухого. Делать вам самой пока ничего не надо. А когда надо будет, я скажу. Главное же сейчас — молчать. А если лопоухий этот еще раз придет за письмом — тут мы его и накроем.
— А он придет?
— Не знаю. Но думаю, что придет.
Сам Ровнин, конечно, понимал, что все это не так. Гарантий, что лопоухий придет снова, — два процента. А если он все понимает верно, то таких, как эта группа, может спугнуть все, что угодно. Даже легкое облачко.
Вечером Ровнин встретился с Семенцовым и передал ему все, что узнал. Они решили: Ровнин должен контролировать стеллаж без подстраховки.
Мимо проходили девушки. Кое-кто из них перепрыгивал через ступеньки, кто-то сбегал, некоторые шли с достоинством, но все спешили, потому что до занятий оставалось пятнадцать минут. Значит, так будет каждое утро. Ровнин сидел за столом рядом с тетей Валей и запоминал, потому что чем раньше он будет знать каждую из живущих в общежитии в лицо, тем лучше. Из тридцати шести комнат одна дежурная, четыре мужские, в остальных живут девушки. Некоторых он уже знал. Вот тихо прошмыгнула мимо беленькая, с косичками, в перешитом школьном платье — Еремеева Галя, четвертая комната. Старый знакомый, тонкошеий парень в кедах и очках — Сабуров Борис, тридцать первая комната. Этих двух девиц в белых свитерах в обтяжку он пока не знает, но заметил, что они ходят все время вдвоем. Вот язвительная белочка из пятнадцатой комнаты, Лена Клюева. Дальше, с челочкой, в потертых джинсах — Бекаревич Юля, вторая комната. Глаза торчком, вся вразлет, пробежала вприпрыжку—Макарова Наташа, шестая. Битюг в замшевом пиджаке, со следами угрей на лице — Бондарев Алексей, тридцатая. Спортивная блондинка, та самая — Купреенко Оля, шестнадцатая. Эту не знает. Кульчицкая Эля, такая из себя вся кошечка, идти на занятия ей жутко неохота, не проснулась еще, идет и смотрит под ноги — десятая комната. Ему пока нужно только одно: поймать момент, когда в одну из ячеек ляжет письмо. Только после того, как в ячейку ляжет письмо с несуществующей фамилией, начнется действительно полный серьез. Письмо с фамилией, не значащейся в списках общежития. Пока же все остается зыбким и неясным. Но ведь выбора у него нет, и он должен верить в то, Чего, может быть, и не существует. К тому же постоянно мучил вопрос: зачем этот лопоухий появляется у стеллажа? Затем, чтобы взять оттуда письмо, отвечал он себе. Допустим. Допустим, напишу я в общежитие на любую фамилию, скажем, Тютькину. Ну а если под этой фамилией в общежитии никого нет? Письмо ведь никто не тронет, пока я сам его не возьму. Вроде бы все ложилось как надо, и в то же время было зыбко. Зыбко, а что делать?
Сидя за столом рядом с тетей Валей и делая вид, что проверяет инвентарные списки, Ровнин прикидывал различные варианты. Почту в общежитие приносят два раза: утром и днем. От девяти до десяти и от двух до четырех. А запирают общежитие в одиннадцать вечера. Значит, он должен каким-то образом незаметно каждый раз после прихода почты проверять ячейки. Проверять, только и всего. Но как? Делать это надо нежнейшим образом. Так тихо, чтобы дойти до идеала. Но как? Допустим, с первой почтой он может что-то сделать. А со второй? Единственное утешение — до тех пор, пока в ячейке не будет письма, никто из банды в общежитии не покажется. Светиться лишний раз им незачем. Но все-таки как проверять вторую почту? Когда самый наплыв и все толкутся у стеллажа. Надо что-то придумать. Придумать.
Тишина. Кажется, все ушли. Да, если лопоухий и появится, то вряд ли он это сделает утром. Потому что утром и в будни прихожая пуста и он будет на виду. «Маленький» может возникнуть скорее всего днем, часа в четыре, когда в прихожей самая толкучка. Впрочем, это может быть и не «Маленький», а кто-то еще. Скажем, «Рыжий» или «Длинный». Хорошо, утром, допустим, он будет просматривать ячейки сам. А днем?
Решение, как проверять дневную почту, возникло, когда после занятий в дежурку вошла Ганна. Скорее даже не вошла, а вплыла. Вплыла и, увидев Андрея, остановилась.
— Андрей, извини, пожалуйста, я к тебе.
Ее лицо при этом было неподвижно, между тем как глаза не знали, на чем остановиться. Такие, подумал он, именно такие девушки просто созданы быть старостами общежитий. Именно про таких, статных, темноглазых, тяжеловатых, говорят скучным дежурным голосом: «Вы знаете, она такая красавица». Вот именно, такая красавица.
— Я слушаю, Ганна.
— Андрей, ты уж меня, пожалуйста, извини, — ее большие, светло-карие зрачки уставились ему в переносицу, — и насчет инвентарного списка.
Ну да, подумал ой, про такие глаза ведь говорят «коровьи». Вот именно, коровьи. А впрочем, может, он зря напал на нее.
Все раскритиковал: и фигура тяжеловатая, и глаза коровьи. Нормальные глаза. Не коровьи, просто неподвижные.
В общем, вполне она даже ничего девушка. Правда, уж больно аккуратна и до ужаса серьезна. Ну и что? И фигурка, между прочим, у нее очень даже ничего. Только кажется тяжелой.
— Так что насчет инвентарного списка?
— Тебе ведь нужно обходить все комнаты. Ну а там… — она отвела взгляд, — ну ты понимаешь. У нас же почти все девушки. Так вот, если тебе трудно и если ты не возражаешь, все женские комнаты могу обойти я.
Все женские комнаты может обойти она. А ведь это удача, подумал Ровнин. Просто даже везуха дикая, он же хорош. Ну и сотрудник — не додул и не просек. Да ведь эта девушка самой природой создана для того, чтобы помочь ему.
— Не возражаю. — Он стукнул ладонью по столу. Кажется, все складывается. Ведь это последнее, чего ему не хватало. — Ганочка, золотце, ты даже не представляешь, какую услугу мне оказываешь. Ганочка, да я, я просто не знаю даже, как мне тебя благодарить. На колени встать?
— Ну что ты, Андрей?
— Встать или нет?
Покраснела. Чуть-чуть. Легкий румянец. И тут же нахмурилась. Вот оно, решение. Именно такая девушка не продаст. Никогда не продаст. Да такую девушку, ее хоть сейчас просто на выставку. Однако надо серьезней. Потому что говорить об этом — не лясы точить.
— Послушай, Ганна, ты сама-то откуда родом?
— Я? — Она растерянно моргнула.
— Понимаешь, Ганна, то, что я хочу тебе сейчас сказать, очень серьезно.
— Серьезно?
Она посмотрела в упор. Ну конечно. Она пока не понимает, что он хочет ей сказать. Но это не так уж и важно.
— Ты где живешь? Дом твой где?
— Дом? В Желтянском районе. Под Южинском.
— Понятно. Там у тебя что, родители? Братья, сестры?
— Родители, братишка и сестренка. Младшие.
Теперь уже она настроилась: без всякого сомнения настроилась.
— Ты комсомолка?
— Конечно.
— Ганна, знаешь что, сядь. Ты ведь никуда не спешишь?
— А что случилось-то? — Она села. — Я член бюро.
Просто удача. Такая девушка действительно удача. Чистая, как слеза. Ах ты, моя ласточка, — она член бюро. Надо только все правильно ей изложить. Правильно, без пережима.
— Ганна, ты встречала когда-нибудь в нашем почтовом стеллаже письмо или открытку с незнакомой тебе фамилией?
— Что?
— Я говорю, ты встречала когда-нибудь в нашем стеллаже конверт или открытку с незнакомой фамилией?
— С незнакомой фамилией?
— Ты ведь всех в общежитии знаешь по фамилии?
— Всех. — Она смотрела на него уже с тревогой. — Да что случилось-то, Андрей, ты можешь мне объяснить?
— Ну, ну, Ганочка, не смотри на меня так. Абсолютно ничего не случилось. Все хорошо. Просто, понимаешь, кто-то балуется с нашим стеллажом для писем.
— Балуется? Со стеллажом для писем?
— Понимаешь, у милиции возникло подозрение, что кто-то использует наш почтовый стеллаж для скрытых передач.
Сейчас лучше всего помолчать, дать ей почувствовать и осознать новость. Она повернулась к нему. Дернула плечами, будто отмахиваясь.
— Скрытых передач? Глупость какая-то. Каких скрытых передач?
— Во-первых, Ганочка, это совсем не глупость. А во-вторых, и это самое важное, ты должна запомнить: о нашем разговоре никто не должен знать. Это очень важно. Никто.
Она надменно поджала губы. Нахмурилась.
— Ну, само собой, Андрей. Ты мог бы мне этого и не говорить.
«Само собой. Ты мог бы мне этого и не говорить». Золотая девушка. Просто золотая девушка. Она опять посмотрела ему в переносицу.
— Так что? Что вообще тебе нужно?
— Умница, Ганочка. Умница, что поняла. А нужно мне совсем немного. Во-первых, как я уже говорил, никто не должен знать о нашем разговоре. Это первое. Второе. Каждый день, утром и вечером, мы с тобой должны проверять свежую почту. Понимаешь? Проверять, чтобы выяснить, не появилось ли в одной из ячеек нужного нам письма. Понимаешь? С незнакомой фамилией. Понимаешь?
— Понимаю.
— Объясню, почему я сказал «мы с тобой». Те, кто использует стеллаж, не должны знать или даже просто подозревать, что этот почтовый ящик под наблюдением и что мы с тобой будем его проверять. Значит, всю эту проверку нам нужно делать очень незаметно. Крайне незаметно. Ты поняла?
— Да, конечно.
Кажется, накачивать ее больше не нужно. А вообще — вообще она вполне даже ничего девушка. Вполне ничего.
— Отлично. Значит, по утрам ячейки могу проверять я. Прихожая в это время пуста. А вот дневную почту — другое дело. Как раз все приходят с занятий, толкучка. Ну и, если я начну копаться во всех ячейках, сама понимаешь. Все это увидят.
Ровнин услышал шум шагов. Он успел только переглянуться с Ганной, как дверь открылась и вошла Варвара Аркадьевна.
— Ну что, обвыкаем? — улыбаясь, спросила комендантша.
— Обвыкаем, Варвара Аркадьевна. Вот уточняем со старостой общежития инвентарный список.
— Я смотрю, ты скоро прямо меня заменишь. — Комендантша сняла халат и надела плащ. — Я в учебный корпус, Андрюш. Если кто спросит, я там.
— Хорошо, Варвара Аркадьевна.
Комендантша ушла.
— А что, если я такое письмо увижу? — спросила Ганна. — Что тогда делать?
— Очень важно, что тебе в этот момент делать. Поясню. Когда будут приносить дневную почту, я всегда буду находиться тут же. За столом или в дежурке. Каждый день, ты поняла?
— Что, и в воскресенье?
— И в воскресенье, даже особенно в воскресенье. Потому что в этот день здесь самая толкучка. Поэтому в воскресенье тебе придется проверять и утреннюю почту, чтобы опять же на меня не обратили внимания. Ты поняла? В воскресенье и утреннюю. Как, не трудно тебе это будет?
— Не трудно.
Он оценил ее взгляд. Да, его выбор оказался точен. Такая не проговорится.
— Значит, Ганочка, если такое письмо появится и я в это время буду сидеть у входа за столом, та подойдешь и чуть тронешь телефон. Аппарат на столе. И все. Тронешь телефонный аппарат и можешь заниматься своими делами. В остальном разберусь я.
— Так. А если ты будешь в дежурке?
Она все поняла. И прежде всего поняла разницу между «за столом» и «в дежурке».
— Умница. Значит, если я окажусь в это время в дежурке, подойди к столу и незаметно позвони, коротко, четыре раза. Знаешь, где кнопка?
— Знаю. И все?
— И помни, Ганочка, хорошо помни, проверять ячейки каждый раз надо незаметно. Очень незаметно. Лучше, чтобы в это время никого не было рядом. А если кто-то стоит, делай вид, что ищешь письмо для себя. На всякий случай я дам тебе свой домашний телефон. Но помни, звонить по нему можно только в самом крайнем случае. Ну, допустим, неожиданно принесли почту поздно, когда я уже ушел. Или меня нет, а ты вдруг заметила в ячейке письмо с незнакомой фамилией. Тогда сразу звони мне. Ясно?
— Да.
Теперь каждый его день начинался и кончался одинаково. Он вставал в полшестого, делал зарядку, принимал душ, варил геркулес и крепкий чай и, наскоро позавтракав, ехал в общежитие. Дорога занимала полчаса; обычно он входил в прихожую ровно в половине восьмого. Первое, что он делал, — незаметно оглядывал стеллаж, затем садился за стол у входа. Теперь он уже знал в лицо и помнил имя и фамилию каждого проходящего — до последнего человека. Всех девушек, которых было сто двадцать три, и шестнадцать парней. Его тоже все знали. В начале десятого почтальонша, которую звали Лизой, хотя ей было далеко за сорок, приносила первую почту. Лиза, полная, колченогая, с хмурым, неподвижно-недовольным лицом, войдя в прихожую, обычно кивала Ровнину — быстро, наспех, будто стараясь скорей отделаться от ненужной обязанности. Сначала она отдавала ему все газеты, потом шла к стеллажу. Письма Лиза раскладывала умело и ловко. Она вынимала их веером, держа между пальцами так, чтобы были видны фамилии. Всмотревшись, поднимала руки и точными скупыми движениями сверху вниз распределяла конверты по ячейкам.
Когда Лиза уходила, Ровнин по ее движениям уже примерно знал, сколько и в какие ячейки пришло писем. Он подходил к стеллажу и просматривал все, что поступило; постепенно он научился проверять ячейки за десять-пятнадцать секунд. Там, где лежали одно-два письма, хватало взгляда; там же, где писем было больше, — легкого движения руки.
Потом наступала протяженность — протяженность дня, который надо было чем-то заполнить. До начала четвертого — появления почтальонши и конца занятий — общежитие оставалось почти пустым, и он должен был найти себе какую-то работу или занятие, желательно — находясь при этом недалеко от входа. В первые дни работа еще была: Ровнин вычистил, замазал и заштукатурил все щели, вставил стекла, навел полный инвентарный порядок в кладовках, переписал все до одного списки. Все это было сделано довольно скоро; потом уже ему оставалось находить и придумывать занятия самому. Обычно он просто сидел за столом или в дежурке, выслушивая новости от тети Поли, тети Вали или комендантши. Теперь он знал буквально все о дочерях и внуках тети Поли, знал об одинокой жизни тети Вали, знал, что главная забота и смысл жизни Варвары Аркадьевны — удержать собственного мужа, который хочет ее бросить и которого она любит. С комендантшей ему приходилось говорить особенно часто: она считала Ровнина человеком, хорошо знающим жизнь, и уже несколько раз спрашивала совета, как ей быть с мужем. Если ж никого не было, то после первой почты Ровнин просто сидел один и просматривал газеты. В два часа, к обеду, дежурная обычно заканчивала варить на кухне суп и жарить котлеты. После обеда было легче; в три кончались занятия, приходила вторая почта. После четырех до самого вечера прихожая уже не пустовала. Кто-то вредил и выходил, кто-то кого-то ждал; иногда здесь просто стояли и разговаривали — свои и те, кто ждал девушек, как их называла тетя Валя, «пришлые». В воскресенье прихожая оживала с утра до вечера и именно за счет пришлых, которые иногда приходили с двенадцати. Обычно это были парни лет двадцати — двадцати двух. Они или вызывали кого-то, или оставляли дежурной документы и проходили к знакомым, или просто стояли в прихожей и ждали. Ровнин постепенно пригляделся к ним и в основном знал всех в лицо. Однако он понимал, что искать лопоухого среди пришлых впустую. «Маленький» (или кто-то еще) может появиться здесь только один раз, чтобы взять письмо и уйти. Торчать здесь, изображать любовь и мозолить всем глаза ему ни к чему.
Ровнин уже лег спать, когда раздался резкий звонок телефона. Не поворачиваясь, он нащупал в темноте трубку.
— Алло, вас слушают.
Трубка молчала. Он посмотрел на часы — половина одиннадцатого. За время работы сотрудником ГУУР Ровнину много раз приходилось жить в гостиничных номерах и чужих квартирах, и почти в каждом номере и в каждой квартире раздавались вот такие звонки, без ответа. Ровнин знал, что эти безымянные, неизвестно как возникающие звонки почти неизбежная участь любого места, где есть телефон. И вот сейчас такой звонок впервые раздался здесь, в квартире на Средне-Садовой. Мембрана тихо, едва слышно шипела. По звуку фона Ровнин понял, что неисправность линии или аппарата здесь ни при чем. В трубку просто молчали. Значит, кто-то или шутит, или очень хотел бы услышать его голос. А может быть, ни то и ни другое.
— Алло, вас слушают.
Мембрана по-прежнему молчала — с тем же фоном.
— Вас слушают, — повторил он. — Я слушаю вас.
Никто и на этот раз не ответил. Ровнин положил трубку.
Потом такие же точно звонки раздавались еще несколько раз. Постепенно Ровнин привык к ним. Звонили всегда по вечерам, в самое разное время: в восемь, в десять. Один раз даже в двенадцать.
В свободное время по вечерам Ровнин обычно читал или смотрел телевизор. Если же программа была скучной, а читать не хотелось, он разворачивал на полу и изучал карту города. Карту, а также указатели и путеводители он подготовил заранее, еще в Москве. Карта была крупномасштабной, с подробно выделенными микрорайонами, пригородами и маршрутами транспорта. Эту карту Ровнин постепенно выучил, как таблицу умножения. Он прорабатывал город район за районом, методично, неторопливо, по частям, с карандашом в руках, запоминая и повторяя названия. Сначала он добился того, что вся карта стала ему ясна и понятна. Потом, вспоминая Лешку и то, что он наверняка точно так же изучал эту самую карту. Ровнин стал наносить на нее, сверяясь со спецуказателями, справочниками и путеводителями, все, что могло как-то пригодиться: районные банки, сберкассы, торговые точки, заводы, фабрики, стоянки такси, бензозаправочные колонки, вокзалы, аэропорты, пристани, крупные гостиницы и рестораны. Закончив с этим, занялся объектами помельче: отметил кафе, бары, санатории, дома отдыха, пляжи, базы проката лодок и морских велосипедов. За месяц, не выходя из своей квартиры, он узнал о Южинске все, что можно было узнать о городе, и теперь с закрытыми глазами представлял себе все коммуникации, извивы улиц, выезды за город и пригороды до последнего прогулочного портопункта и остановки электрички.
Так прошли март и половина апреля. Дни проходили без изменений. Не появлялось ни письма с незнакомой фамилией, ни лопоухого, ни просто намека на что-то похожее. В общем, Ровнин знал, что даже если у него есть шанс, слабый шанс, то и в этом случае ожидание может продлиться очень долго. Он подготовил себя к этому и ждал. Знал он и другое — что такое ожидание и есть самая нуднятина и нервотрепка, самая трудная часть работы, по крайней мере, для него. Вот это ровное, на выдохе, спокойное ожидание, ожидание на слабый шанс, почти, бессмысленное и тем не менее, несмотря, на полную неопределенность, серьезное. Вот в чем была особенность такого ожидания. Каждый день в четыре часа, а по воскресеньям утром и днем он видел, как Ганна проверяет письма. Сначала она делала это довольно топорно, так, что он морщился. Особенно в первые дни — она буквально клевала каждую ячейку, поминутно оглядываясь, а когда кто-то подходил, замирала так, что понять, что она проверяет ячейки, смог бы и младенец. В конце концов Ровнин однажды не выдержал, позвал Ганну в дежурку и сделал ей серьезный втык.
— Ганочка, я же просил тебя, чтобы ты делала это незаметно. Не перебивай меня. Я ведь просил тебя: это надо делать очень незаметно, не акцентируя. А ты? Да не замирай ты над каждой ячейкой. Пробеги глазами, и все. Не таись. Ты же как курица клюешь. У тебя что, с памятью плохо?
Закончив втык, он понял, что махнул лишку. Ганна отвернулась, у нее покраснели виски и скулы. Ну вот. Девушка она, конечно, славная, но накачивать ее, судя по этой реакции, бесполезно. Может, хватит? — подумал он. Нет. Так оставлять нельзя.
— Ну вот, надулась. Я ведь хочу только объяснить тебе, что это очень важно. Ты понимаешь, Ганна?
По-прежнему стоит отвернувшись. Черт возьми, какая святая обида! Ровнина взяло зло. Да пошла она со своей обидой! Этот детский сад надо кончать.
— Ганна! — он постарался нажать. — Ганна, прекрати!
— Да? — Она не повернулась.
— Ты понимаешь, что это важно? Да перестань ты дуться, в конце концов.
— Понимаю, — еле слышно сказала она.
— Эмоции, Ганочка, здесь не нужны. Не обижайся.
— Я не обижаюсь.
— От тебя требуется одно — незаметно проверить пришедшие письма. Пришедшие, понимаешь? Пришедшие, а не все. Обычно их кладут ячеек в десять. В каждую по одному-два. Редко по три. Ну? Это же просто.
Кажется, она думает сейчас совсем о другом.
— Ганна!
— Я постараюсь, Андрей.
— Вот и постарайся. И не нужно эмоций.
Все-таки она ушла явно обиженной, но, кажется, после этого исправилась. Теперь понять, что Ганна проверяет почту, мог только он.
Ровнин знал, что пустышка, обычная, элементарная пустышка, рано или поздно должна появиться. Так и оказалось — он поймал ее в конце апреля. Это случилось утром, как только Лиза ушла. Ровнин подошел к стеллажу, как всегда, быстро осмотрел ячейки и сразу же застрял на букве «к». «Каныгиной Алле» — значилось на только что положенном в ячейку письме. Это был стандартный голубой почтовый конверт. Он был приставлен к стене ячейки почти вплотную, с небольшим наклоном.
На конверте аккуратно, мужской рукой был выведен адрес: «гор. Южинск, Матросский пер., 6, Каныгиной Алле». Обратный адрес: «гор. Южинск, Главпочта, до востребования». И внизу, в углу, неразборчивая подпись.
Никакой Каныгиной Аллы ни в общежитии, ни вообще в техникуме не было. В общежитии из похожих фамилий была Каневская Света и Куницына Ира, но вряд ли даже Куницыну, не говоря уже о Каневской, можно переделать в Каныгину.
Осмотрев письмо, зафиксировав положение конверта и наклон — нельзя исключать условный знак, — Ровнин вернулся к столу. Тетя Поля что-то делала на кухне, комендантша еще до занятий ушла в учебный корпус. Ровнин сразу же подумал, что это письмо вполне может быть пустышкой, не связанной ни с лопоухим, ни вообще с группой. Но обратный адрес: «Южинск, до востребования» да еще неразборчивая подпись — все это очень и очень походило на ожидаемое, Правда, лопоухому, если он, допустим, окажется около стеллажа в самую толчею, все-таки удобней будет взять из ячейки конверт с мужской фамилией. Хорошо, но, может быть, одна из связных женщина? Девушка? Можно допустить и другое: письмо адресовано женщине специально, чтобы не привлекать внимания.
Так или иначе, подумал Ровнин, надо позвонить Семенцову. Если все так, как рассчитывал Лешка и теперь рассчитывает он сам, за этим письмом должны явиться уже сегодня, в крайнем случае завтра или послезавтра. Потянувшись к телефону, Ровнин еще раз вернулся к давно занимавшей его мысли: нужно ли просить Семенцова о дополнительном наблюдении? И снова, в который раз, решил, что не нужно, и прежде всего из-за тех же соображений о легком облачке. Ведь если они что-то заподозрят, конец: пропадет последний шанс. Что же сказать Семенцову? Намекнуть, что «авария» (появление письма) может быть «легкой» (кодовое обозначение пустышки).
Ровнин снял трубку, набрал номер; услышав ответ Семенцова, сказал:
— Иван Константинович? Здравствуйте. Андрей Александрович беспокоит. (Включенное во фразу официальное «Андрей Александрович» означало: «Звоню по делу».)
— Да, да, — отозвался Семенцов. — Здравствуйте. Я слушаю.
— Тут, кажется, у меня авария. («Пришло письмо».)
— Вот как? Легкая? («Предполагаете пустышку?»)
— Не исключено.
— Что, вам помочь отремонтировать? («Нужно ли установить дополнительное наблюдение за общежитием?»)
— Попробую пока справиться своими силами. («Дополнительного наблюдения пока устанавливать не нужно».) Тогда спасибо, Иван Константинович, все в порядке, не буду больше задерживать. Я еще позвоню, хорошо? До свиданья.
— До свиданья.
Для того чтобы определить, пустышка это или нет, ему нужна помощь Ганны. Вскрывать заведомую пустышку для уважающего себя оперативника позорно и неприлично. Может быть, эта Каныгина Алла когда-то училась в техникуме и Ганна ее вспомнит? Кроме того, в Южинске есть еще пищевой институт, и Каныгина вполне может учиться там.
В двенадцать тетю Полю сменила тетя Валя. В два его позвали обедать, но он попросил дать ему только второе и перекусил за столом, сказав, что ждет звонка. Скоро Ровнин дождался прихода второй почты, конца занятий и медленного непрерывного движения возвращающихся с занятий через прихожую.
Ровнин только приподнялся ненадолго, чтобы заметить, положила ли Лиза сейчас письма в ячейку «к», и увидел, что там оказалось теперь еще два письма: Красиной и Кульчицкой. Вернувшись с занятий, обе, Красина и Кульчицкая, взяли письма. При этом письмо Каныгиной оба раза было передвинуто: Кульчицкая переставила его к другой стенке, а Красина, мельком посмотрев, положила голубой конверт плашмя, вверх адресом. Пришла Ганна, и Ровнин увидел, как она сразу же наткнулась на голубой конверт на имя Каныгиной. Про себя он отметил, что на этот раз Ганна действует почти идеально. Будто мельком осмотрев стеллаж, она подошла к столу, улыбнулась и, легко тронув аппарат, сказала:
— Здравствуй еще раз.
Хорошо, что она задержалась. Где же с ней переговорить? Переговорить надо так, чтобы их никто не слышал и в то же время не терять контроль над ящиком. Где же? В переулке? Пожалуй. Перед дверью в общежитие — это самое удобное.
— Ганна, ты как насчет выйти на улицу?
Улыбнулась. Молодец, просто молодец девочка! Пожалуй, всю работу с ней он проводил не зря. Они вышли в переулок и остановились у двери. На Ганне ее излюбленный цветастый сарафан; волосы чуть собраны и перевязаны голубой лентой. А глаза потемнели.
— Андрей, в ячейке «к» лежит письмо какой-то Каныгиной. Ты видел?
Что там ни говори, а девушка она что надо. Жаль только, совсем, ну просто совсем напрочь не в его стиле. А ведь наверняка есть люди, которым нравятся именно такие. Вот такие, статно-тяжелые, с бархатным взглядом. Но не ему. С такой, как Ганна, приятно стоять рядом, и все.
— Ганочка, может быть, ты все-таки знаешь какую-нибудь Каныгину? Может, такая училась здесь раньше?
— Да нет вроде. Я здесь четыре года и никогда о такой не слышала.
Проверить пищевой институт? Или этой же ночью вскрыть письма и сразу узнать, что в нем: ожидаемое или пустышка? Они вернулись в общежитие, и, только глянув на стеллаж, Ровнин увидел, что письма Каныгиной Алле в ячейке нет, а главное, никого нет и за столом дежурной.
Сначала он обругал себя. Ведь он должен был помнить, что в общежитии есть окна первого этажа, в которые можно самым обычным образом влезть. Нет. Влезать из-за письма в окно — для этого надо быть просто кретином. Кто же вошел в общежитие, пока они стояли в переулке? Кажется, три девушки. Да, точно, три девушки. Галя Попова, маленькая первокурсница из третьей комнаты, и чуть позже вошли Аня Стецко и Лида Бекряева, обе из восьмой комнаты. Нет, он все-таки приличный лопух и запросто может сейчас влипнуть. Письмо вполне мог взять кто-то не из этих трех, и тогда в поисках голубого конверта придется перелопачивать все комнаты. А это уже не легкое облачко, а целый ураган.
— Смотри, Андрей, письма нет. Ты видишь? — сказала Ганка.
— Вот что, Ганочка. Пока мы были на улице, сюда вошли трое — Попова, Стецко и Бекряева. Так вот, ты осторожно спроси у каждой из них, не брала ли она письмо. Только осторожно, мимоходом.
— Все ясно.
Ганна ушла. Да, она-то молодцом. А он последний лопух, самый что ни на есть последний. Отлучился, называется, не теряя контроля. Теперь вот спрашивай все общежитие. Он ждал минут десять; наконец, услышав, как идет Ганна, вышел вместе о ней в прихожую.
— Попова, — Ганна вздохнула. — Письмо взяла Попова.
Галя Попова. Тихоня. Тише воды, ниже травы. Страшное облегчение, буквально гора с плеч.
— Ты с ней поговорила?
— Это письмо для ее сестры, так она говорит. Сестра ее со своим мужем хочет расходиться, а сейчас встречается с одним мальчиком. Он здесь живет, южинский. А сестра под Южинском, в Сергиевке. Ну вот, этот мальчик ей сюда и написал из-за мужа.
Все точно. Все по делу, и обратный адрес «до востребования».
— Это что, ее родная сестра?
— Да, родная. А муж — Каныгин. И знаешь что, Андрей? Если мое мнение тебя интересует, мне кажется, Галя не наврала.
Да, скорей всего эта самая Галя Попова не наврала. Он ее хорошо знает. Тихий мышонок с первого курса. В таком случае можно сказать одно: первую пустышку он прошел, и прошел сравнительно легко.
Вечером он позвонил Семенцову и сказал, что авария была совсем легкой, легче даже, чем он думал.
Через несколько дней, придя с работы, он сидел дома и читал книгу — как вдруг позвонили в дверь. Ровнин встал, неслышно подошел, посмотрел в глазок и увидел, что за дверью стоит Ганна. «Что-то случилось», — подумал он. Открыл дверь — лицо Ганны показалось ему сейчас странно отчужденным, невидящим. Ровнин пропустил ее в квартиру.
— Что случилось? Ну? Что ты молчишь?
И вдруг, глядя на нее, он понял: абсолютно ничего не случилось. Черт, вот так номер, подумал Ровнин. Абсолютно ничего не случилось, просто она пришла к нему; пришла, чтобы его увидеть. И что сейчас с ней делать — непонятно.
— Ганна, я спрашиваю, что случилось?
— Ничего. — Она отвернулась. Глупо. Просто по-идиотски глупо. Значит, и звонила все это время она. Что делать? Не бить же ее и не ругать — она и без этого сейчас заплачет. Пятьсот процентов, заплачет: щеки подтянулись, глаза сузились. Ну уж нет! Прежде всего он должен не дать ей заплакать. На секунду Ровнин ощутил злость на самого себя, на то, что он сам, конечно же, сам довел до всего этого. Но как она узнала адрес? Скорей всего по телефону. Он тоже хорош, лапоть, тюфяк, не прочувствовал момент. Нет, сейчас прежде всего надо не дать ей заплакать. А потом уже придумать что-то, чтобы не оставаться с ней вдвоем в квартире; ни в коем случае не оставаться Он заставил ее повернуться.
— Ганочка, посмотри на меня. Ты что?
Она смотрела на него, будто уходя, прячась от его взгляда. Все сейчас глупо, и глупо выяснять, откуда она узнала адрес. Звонила, конечно, она, даже и спрашивать не нужно. Он же кретин: так бездарно довести до всего этого.
— Ну хорошо. Пройдем хотя бы в комнату.
— Нет. — Она замотала головой. — Нет, Андрей. Я не пойду.
Уголки губ у нее по-прежнему дрожат. Чтобы скрыть это, она все время отворачивается. Что же ему делать с уголками губ? И с глазами — в них у нее просто слезы стоят.
— Мы что, так и останемся здесь, в прихожей? Ганна?
— Н-не знаю.
Надо предупредить ее, не дать зареветь. Она вдруг жалко сморщилась, обняла его. Закусила губу, прижалась щекой к плечу. Самое неприятное во всем этом, что он похож на отъявленного мерзавца, на ярко выраженного подлеца, заманившего девушку. А она сейчас выглядит просто жалко, беспомощно, по-детски.
— Только не плакать. Пожалуйста. Слышишь, Ганна, пожалуйста, не плакать. Ну?
— Я н-не плачу. — Она совсем уже немыслимо сморщилась. — Н-не п-п-плачу… Не п-плачу, Андрей… П-прости, пожалуйста… Я знаю, что все это глупо… — Видно было, как она кусает губы. — Глупо, все это страшно глупо… Но я… Я… п-просто не смогла больше… П-пойми, н-не смогла… Я хотела тебя увидеть… Понимаешь, просто увидеть… И все… Н-ничего больше…
Вдруг он подумал: может быть, пойти с ней куда-нибудь? Пойти, и все? Тихо, мирно посидеть?
— Ганусик, Ганночка, ты мне вот что объясни: у вас тут есть место, где можно посидеть?
Она подняла на него глаза. Легкий прокол. Увы, Ровнин, но это так: ты допустил сейчас легкий прокол, потому что для всех и для Ганны ты южинский. Вылезай как хочешь.
— Ну какое-нибудь кафе? Бар? Понимаешь, я давно не был в Южинске. Здесь все прилично изменилось.
Она, все так же не глядя на него, мелко облизала губы. Да, выглядит она сейчас совсем ребенком.
— Ты хочешь пойти туда потому, что я пришла к тебе? Да?
Она все чувствует, абсолютно все, не обманешь.
— Самый лучший бар у нас тут, в центре. На Большой Садовой. Называется «Молодежный». Там вообще-то хорошо.
В центре, на Большой Садовой. Нет, это его не устраивает.
— А еще какие есть?
Она криво усмехнулась. Теперь он уже знал эту ее усмешку: одним углом рта, одной стороной лица.
— Ты что, Андрей… Ты что, в самом деле хочешь со мной куда-то пойти? Ты не шутишь?
— Почему я должен шутить? Я же сам тебя об этом спросил. Только в «Молодежный» не хочется, шумновато. Понимаешь, хотелось бы, чтобы это было где-то подальше. Где не очень шумно.
Она сморщила нос. От этого на переносице и на щеках возникли ямочки и звездочки. А ведь милая девушка, подумал Ровнин. Очень даже милая. Просто она ему совсем не так нравится. Совсем не так, но ведь это и хорошо.
— Может быть, «Поплавок»? Там вообще свободно и столики всегда есть. Только туда ехать минут тридцать на автобусе.
— Ганна, деточка, ну что нам какие-то тридцать минут?
«Поплавок» оказался большим трехпалубным дебаркадером, поставленным на прикол у гранитной набережной недалеко от торгового порта. Столики здесь стояли прямо на открытых деках и на свободной от надстроек верхней палубе. Действительно, когда они с Ганной поднялись туда по дощатому трапу, свободных мест было много. За дебаркадером открывался залив с парусами яхт и стоящим вдали на бочке белым пассажирским теплоходом.
Они сели на верхней палубе за свободный столик у внешнего борта. Подошла официантка. Ровнин заказал два пунша и два коктейля.
Они молчали. Наверное, вот так, как они сидят, вот так, над темно-зеленой водой, можно сидеть очень долго. Сидеть и смотреть на залив, на паруса яхт, на горизонт, на постепенно темнеющий в сумерках теплый вечер.
Особенно рассиживаться здесь не стоит, подумал Ровнин. Пока они доедут до общежития, а потом он домой, пройдет часа полтора. Но они сидели и молчали, пока не стемнело и на рейде не зажглись фонари.
— Знаешь, Андрей, — Ганна вздохнула, — давай еще раз сюда приедем?
Он не ответил.
— Ну, еще один раз?
Что он мог ей сказать? Если по делу, он должен был промолчать. Просто промолчать. Но он кивнул. Кивнул и отвел взгляд.
Семенцов смотрел на него внимательно, все тем же взглядом, к которому Ровнин уже привык, ничего не выражающим немигающим взглядом темно-карих глаз. Поэтому было странно, что при этом на тонких губах полковника сейчас отражается что-то вроде сочувствия, даже больше, что-то вроде приветливой улыбки.
Хотя они сидели в той же комнате в квартире Семенцова, под тем же самым зеленым абажуром, начальник ОУРа на этот раз был в форме, в серых брюках и бледно-голубой полотняной куртке с погонами.
— Андрей Александрович, — полковник пригладил волосы за ухом; жест этот наверняка был рассчитан и означал что-то вроде расположения. — Вы знаете, я тут посмотрел ваш послужной список. Ой-ёй-ёй.
Ровнин хорошо знал: когда тебя вызывает начальство, причем без видимых причин, лучше всего побольше молчать и, само собой, побольше слушать.
— Вы, оказывается, в среднеазиатском деле участвовали?
Распространяться, что он участвовал в среднеазиатском деле, сейчас нет никакой надобности.
— Андрей Александрович?
— Участвовал.
— Я к чему все это говорю. Москва плохого не пришлет. Специалист вы как будто отменный. И формулировка в письме — «для усиления». Так вот, не кажется ли вам, что мы с вами тратим время впустую? Я имею в виду стеллаж.
Стальные нотки в голосе. Все ясно. Рано или поздно, этого разговора следовала ожидать. Ровнин уже много раз думал об этом и много раз прикидывал, как возразит Семенцову и как поведет себя, когда тот скажет, что дальнейшее наблюдение за стеллажом бесперспективно.
— Иван Константинович, — надо хоть время выиграть; немного, но выиграть. — Я что, нужен ОУРу для чего-то конкретного?
— Нужны, — жестко сказал Семенцов. — Нужны, Андрей Александрович. И прежде всего в связи с работой в банке.
Значит, Семенцов хочет подключить его к Госбанку. По поведению полковника ясно, что в Госбанке пока у южинцев полная прострация. Но ведь письмо, которого он ждет в общежитии, тоже, по идее, должно прийти из банка. Не откуда-нибудь, а именно из Госбанка, больше ему прийти неоткуда. Он даже примерно представляет, о чем должно сообщать это письмо: основные данные о какой-то конкретной транспортировке, сумму, маршрут, количество инкассаторов. Может быть, данные о засаде и степени радиоконтроля. Что же сейчас ответить. Полковник не просто смотрит на него, а давит, и надо что-то сказать.
— Что, Иван Константинович, в банке что-нибудь нащупывается? Конкретные люди?
— Пока конкретных людей нет, но есть уверенность. Понимаете, Андрей Александрович? Уверенность, что кто-то в банке работает на них. И вы, именно вы были бы в связи с этим очень полезны. Очень и очень.
Уверенность, подумал Ровнин. Да эта уверенность — она ведь была всегда, с самого начала. А что дальше? Что дальше делать с этой уверенностью?
— Я слушаю вас, Андрей Александрович. — Полковник выпрямился; тянуть больше нельзя.
— Понимаете, Иван Константинович… — Ровнин подумал — надо постараться сейчас вложить в голос всю убежденность. Всю, которая в нем еще осталась. Просто — всю. — Понимаете, Иван Константинович, в общем, вы, наверное, правы. Я сам, честно признаться, уже мало верю, что чего-то дождусь. Но есть одно «но», понимаете, одно маленькое «но». Человеком, который работал здесь до меня, был Евстифеев. Вы хорошо его узнали?
Семенцов придвинул к себе блокнот и стал молча рассматривать пустые листы. Кажется, Ровнин попал в самую точку. Но из вежливости надо выдержать паузу.
— Понимаете, Иван Константинович, я знал многих отличных специалистов. А Евстифеев, по моему глубокому убеждению, был одним из самых лучших. Простите, Иван Константинович, вы считаете, что это не так?
Вопрос этот, конечно, был наглым, просто абсолютно наглым нарушением этикета.
— Хорошо, — сказал Семенцов. — Согласен. Согласен и понимаю. Но ведь нельзя же ждать бесконечно.
— Я и не прошу ждать бесконечно.
Неизвестно, что будет дальше, но пока он Семенцова убедил. По крайней мере неделю, а то и больше, он сейчас вытянет. А потом? Потом? Ведь между первым и вторым налетами прошло почти полгода. Невесело. Да, но потом можно будет побороться за что-то еще. Скажем, за то, чтобы вместо Ровнина в общежитии остался дежурить кто-то другой.
— Сколько дней вам нужно? — Семенцов встал. — Конкретно?
— Две недели, товарищ полковник, — встав вслед за ним, сказал Ровнин. — Должно прийти что-то за это время.
— Много, — начальник ОУР нахмурился. — Неделя.
— Иван Константинович! — Ровнин постарался изобразить борьбу. — Десять дней?
— Неделя, Андрей Александрович. Извините, но и это дальнейшее ожидание считаю бессмысленным.
В переулке тихо! Уже десять, через час двери в общежитие закроют. Они прошли по пустому темному переулку мимо редких фонарей, остановились недалеко от двери. Ганна молчит. Кажется, наступает лирический момент. Как он хотел бы уйти сейчас от этого лирического момента! Но нельзя. Главное в том, что она ему нужна. Она ему по-прежнему нужна. Пусть всего на несколько, дней, но нужна. Ровнин повернулся, Ганна посмотрела на него, пряча глаза. И вдруг так, что он даже не успел отстраниться, обняла. Она обняла его осторожно, медленно, неумело. Обняла, будто боялась, что он сейчас не разрешит ей это сделать. Вырвется. Он же просто не знал, что сейчас сказать, и только чувствовал, как ее губы шевелятся у его груди. Какой же он все-таки подлец! Подлец и мерзавец!
— Андрей, ты знаешь, кажется, случилось ужасное.
Она сказала это спокойно, совершенно спокойно. Сказала, ровно дыша ему в грудь.
— Что ужасное?
Она вздохнула.
— Так что ужасное?
— Я просто не знаю, как тебе сказать, Кажется, я просто не могу без тебя. Понимаешь?
Она ждала его ответа, но он молчал.
— И, кажется, не смогу никогда больше. Ты понимаешь? Я — без — тебя — никогда — не — смогу. Просто — не смогу.
Она посмотрела ему в глаза и улыбнулась неуверенно, жалко.
— Ты не думай. Насчет писем. Все будет в порядке.
Повернулась и ушла.
Ровнин видел, как Лиза разложила вторую почту; несколько человек уже стояли у стеллажа и ждали, чтобы посмотреть письма. Все это были свои. Пока все как обычно, среди них ждет и Ганна. Лиза ушла, и в это время Варвара Андреевна крикнула из дежурки:
— Андрюш, на минутку!
В принципе он не раз уходил в дежурку именно в момент, когда приносили вторую почту. Конечно, если у стеллажа в это время оставалась Ганна. Поэтому и сейчас отошел со спокойной душой.
И именно в этот момент, только войдя в комнату, услышал четыре коротких звонка.
— Кого это? — сказала Варвара Аркадьевна. — Тебя, наверное.
— Не знаю.
Значит, Ганна увидела письмо? Пустышка? Все может быть.
— Я пойду в техникум, Андрюш, проследи, чтобы белье собрали. Сам-то не занимайся, дежурные сделают, ты только посмотри.
— О чем разговор, бу сделано.
Варвара Аркадьевна вышла, и в момент, когда она открывала дверь, Ровнин увидел, что в коридоре стоит Ганна. Зачем, они ведь договорились, чтобы она, позвонив, сразу шла по своим делам. Но в ее лице сейчас что-то есть, что ему не нравится, очень не нравится.
— Ты что? — тихо спросил он.
— Андрей, — она сказала это шепотом, — там, в ячейке на «п». Письмо положил какой-то парень.
Все, что он подумал после этих слов, заняло доли секунды. Какой-то парень. Значит, не почта, а прямая передача? В общем, он этого всегда ждал. Ждал, но надо же было случиться, чтобы именно в этот момент он отошел. Быстро спросить у нее словесный портрет. Парень уже ушел? Или стоит? Если ушел, то в эти доли секунды надо решить: бежать за ним или не бежать? Раскрыть себя? Бежать больно уж соблазнительно. Собственно, строго по инструкции, если парень только что ушел, достать его он просто обязан. А почему, если он побежит, то раскроет себя? Раскроет. Конечно, раскроет. И не просто раскроет, а завалит. Черт! И выхода, главное, нет. Ведь по инструкции он должен попробовать его достать. Достать во что бы то ни стало, на то он и сотрудник угрозыска. Нельзя терять ни секунды. Решай, Ровнин, решай, какого черта ты телишься.
— Он что, ушел или еще стоит? — шепотом спросил Ровнин.
— Он сразу ушел, как положил письмо.
— Как он выглядел? Быстро. И точней.
— Ну… Такой, среднего роста. Плотный. В синей куртке. Нейлоновой, кажется.
Время уходит, просто катастрофически уходит. Бежать? Нет. Бежать сейчас, мчаться по переулку он не имеет права. Если это письмо не пустышка, если Лешка действительно вышел на связь, если он ее так точно накрыл, то он, Ровнин, не имеет никакого права ее заваливать.
— Глаза? Волосы?
— Глаза не помню. Волосы, кажется, светлые.
Это называется точней. Ладно, словесный портрет он из нее потом выжмет. Кажется, светлые… Почему его не оказалось у стола в тот момент? Обида, несправедливость, но жалеть поздно.
— Ганна, проследи за письмом. Я сейчас.
Ровнин вышел в переулок. Незаметно посмотрел направо — пусто. Налево, в сторону улицы Плеханова. Там, кажется, кто-то есть. Несколько своих возвращаются из техникума. И кто-то уходит? Кто? Парень в клетчатой рубашке, женщина с сумкой и мужчина, судя по походке — пожилой. Никого в синей куртке среди них нет. Впрочем, кажется, парень что-то несет в руке, и очень похоже, что это сложенная куртка. Какого цвета у него волосы? Не разобрать отсюда, но, кажется, не темные. Оттенок клетки на рубашке — желтоватый. Как хорошо было бы сейчас догнать «го! Если это тот самый парень, то уж как-нибудь он бы его взял. Одного-то взял бы за милую душу, причем тихо, без шума. Нет. Бежать нельзя. Ровнин не спеша пошел по переулку к улице Плеханова. Успеет ли он достать этого парня вот так, тихо, пока тот не завернет куда-нибудь? Неужели не успеет? Нет, не успеет. Или успеет? Не успел. Все трое сейчас завернут за угол. Пожилой мужчина и женщина свернули влево, но они не главное. Парень в клетчатой рубашке завернул направо, к остановке троллейбуса. Знать бы, что у него в руке. Шум электромотора — это подошел троллейбус, проскочивший в просвете переулка. То, что у него в руке, очень похоже на куртку, по крайней мере, это что-то плотно свернутое в комок. А может быть, тот, в синей куртке, спрятался сразу же в одном из дворов в переулке? Теперь разбираться поздно. Вот улица Плеханова. Не спеши, только, ради бога, не спеши.
Ровнин свернул направо и остановился. Троллейбус отходит, и, кажется, парень в клетчатой рубашке успел сесть. Надо было сразу же спросить у Ганны, какая рубашка была у того, кто положил письмо. Ну и недотепа же! Если бы он сразу спросил о рубашке — все, он бы его тут же накрыл. Троллейбус отошел уже далеко. Конечно, он может сейчас остановить любую машину и попробовать догнать этот троллейбус. Нет. Пока он остановит машину, троллейбус подойдет к следующей остановке, и потом, что, если это не тот парень? А может быть, этот парень нарочно положил письмо, дождавшись, пока он, Ровнин, уйдет в дежурку? Черт! И ко всему еще даже при том, что он шел тихо, можно было засветиться. Нет, кажется, он все-таки не засветился. Он шел не спеша, совсем не спеша. Хорошо, надо прикинуть, может ли быть, что он уже давно засвечен? Вряд ли. Мало ли людей может выйти из общежития и пойти к улице Плеханова. Значит, прямая передача. Надо было сообразить, что по почте им слать письма на этот стеллаж совсем не обязательно. Конверт вполне можно положить в ячейку, минуя почту. Как он и думал раньше, очень похоже, что кто-то из них живет недалеко от общежития. Надо только решить, кто: тот, кто положил письмо, или тот, кто его возьмет. Впрочем, может быть, вся эта горячка и ни к чему и это снова пустышка.
Ровнин огляделся. Он стоял метрах в десяти от троллейбусной остановки, на углу, но так, что видел отсюда и вход в общежитие. У остановки набралось уже несколько человек. Нужно уходить, стоять здесь дальше и светить бессмысленно. В любом случае подробный, доскональный словесный портрет этого парня он из Ганны выжмет.
Когда он вернулся в общежитие, прихожая была пуста; у стола дежурной стояла Ганна. Ровнин подошел к стеллажу. Письмо в ячейке «п» лежало плашмя, вверх адресом. Это был обычный типовой конверт «авиа», но без штемпеля. Пустышка без штемпеля? Что, почтовой печати нет и на другой стороне? Сейчас переворачивать письмо не стоит — может быть, оно положено условленным образом, и потом на конверте наверняка есть отпечатки пальцев. Почерк женский. «Здесь. Матросский пер., 6, Пурхову В.». И все. Без обратного адреса. Вполне может быть, что женский почерк — это старый трюк. Написать адрес на конверте можно попросить на том же почтамте любую постороннюю женщину. Способ старый, проверенный и довольно надежный: следы скрываются почти без хлопот. Хорошо. Если, допустим, это так, почерк можно скрыть, но отпечатки пальцев никуда не денутся. Если это не пустышка и если письмо до вечера не возьмут, он эти отпечатки снимет сегодня же. Пакеты и пленка для дактилоскопии у него с собой. Пурхову. Пурхов — хорошая фамилия. Ее мог сработать, конечно, же, понимающий человек. Никакого Пурхова в техникуме нет. Он помнит все фамилии на «п», а также на «пар», «пер» и «пор». Есть Поронин, Паршуков и Перчук, и больше ничего даже отдаленно напоминающего Пурхова. В то же время такая фамилия звучит на конверте довольно спокойно и не привлекает внимания.
Ровнин подошел к Ганне, спросил взглядом: ну что? Она молча изобразила лицом что-то среднее между сожалением и недоумением. Значит, пока он уходил, здесь ничего особенного не случилось. Но если кто-то за это время трогал письмо — мало хорошего.
— Письмо никто не трогал?
— Нет.
Некоторое облегчение. Отпечатки пальцев на конверте никуда от него не денутся. Теперь дальше.
— Ганна, ты не помнишь, что у этого парня было под курткой?
Она посмотрела ему в глаза.
— Под курткой? По-моему, рубашка.
— По-моему или точно? Какого цвета?
— Светлая.
Светлой вполне можно назвать и рубашку в желтоватую клетку. Но все-таки, как бы он ни обнадеживал сейчас себя, рубашка ушла. Уплыла.
— Ганночка, может быть, ты все-таки вспомнишь?
— Знаешь, Андрей, честно говоря, на рубашку я не обратила внимания. Помню, что на нем была синяя куртка. И все.
— Хорошо. Тогда вот что: пойди в дежурку, возьми лист бумаги и постарайся описать мне этого парня. Понимаешь, Ганусик? Только не спеши. Посиди, подумай, вспомни и запиши о нем все, что вспомнишь. По очереди все о его лице, начиная с макушки. Если ты точно помнишь, что волосы светлые, пиши: светлые. Если помнишь оттенок, пиши оттенок. Если, допустим, не уверена, что светлые, тогда «кажется, светлые». Дальше то же самое о глазах. Потом о носе, и в том же духе до подбородка и шеи. Это называется «словесный портрет». Иди. Напишешь — и жди меня в дежурке.
Ровнин сел за стол, снял трубку. Кажется, без дополнительного наблюдения теперь не обойтись. Ладно. Теперь уже выбирать не приходится.
— Иван Константинович, не знаю уж, как и извиняться. Опять Андрей Александрович вас беспокоит. («Звоню по делу».)
— Да, да, здравствуйте, очень рад. Что, неужели опять авария? («Пришло письмо?»)
— Авария, Иван Константинович.
— Надеюсь, легкая? Как и в прошлый раз? («Предполагаете ли вы, что это опять пустышка?»)
Нет, он не предполагает, что это пустышка. Конечно, все может быть, но он не предполагает.
— Боюсь, на этот раз серьезней, Иван Константинович. («Вряд ли это пустышка»)
— Ай-яй-яй. Нужна помощь? («Нуждаетесь в дополнительном наблюдении»?)
— Нужна. Ну и, естественно, поставьте в известность ГАИ. («Прошу установить тщательно скрытое дополнительное наблюдение, а также взять санкцию прокурора на вскрытие письма».)
Словесный портрет, полученный от Ганны через полчаса, Ровнин спрятал не читая. За столом он просидел, не отходя, до одиннадцати, пока не закрыли дверь. Потом предупредил тетю Полю, что останется на ночь. У стеллажа все пока было спокойно: письмо оставалось в ячейке, его никто не тронул и не передвинул. После одиннадцати тетя Поля ушла спать в дежурку. Выждав для верности еще часа три, Ровнин подошел к ячейке. Сначала он изучил расположение письма, потом оградил его для верности четырьмя спичками, установив точное расположение. Только после этого, подняв письмо «за ребра», аккуратно, как можно аккуратней снял с двух сторон отпечатки пальцев. Спрягав ленту с отпечатками в пакетик, пошел на кухню, разогрел воду в чайнике; когда из носа забила струйка, разогрел над паром клей и вскрыл письмо. Осторожно достал из конверта сложенный вчетверо листок. Внимательно осмотрел, прежде чем развернуть. Листок нелинованный; в отгибе, в правом верхнем углу, хорошо проглядывается почтовый рисунок: голубой жезл Меркурия в лавровом венке. Листок куплен на почте, и написано письмо скорей всего там же. Он развернул его: почерк мужской, совсем другой, чем на конверте. На пустышку непохоже. Вполне может быть, что и этот текст написан кем-то другим, по просьбе. Сняв и отсюда отпечатки пальцев и спрятав ленту, Ровнин стал внимательно читать текст.
«Витя, привет! Рад сообщить, что могу встретить тебя с Машей 5 июня в четыре дня у проходной «Пролетария». Если почему-либо тебе не нравится «Пролетарий», то в тот же день и в тот же час подходи с ней же к «Цветмету» или «Судостроителю» — на выбор. Встретимся в любом случае. Только предупреди. С приветом, любящий тебя Вася».
Нет, это не пустышка. С Машей. Что такое «с Машей», понятно — это значит «с машиной». Сейчас третье июня; пятое через два дня. Это не пустышка хотя бы потому, что срок между письмом и налетом здесь тот же, что был и тогда, с Лешкой. Четвертого, пятого и шестого — общие дни выдачи зарплаты. Сегодня вторник, значит, это будет четверг. «Пролетарий», «Цветмет» и «Красный судостроитель» — три завода, известные в городе. Все три в удаленных районах. Значит, эти три перевозки будут без радиоконтроля? Если так, то у них есть кто-то в банке. Шифр. Шифр в письме самый что ни на есть примитивный. Впрочем, заботиться о сложности шифра им ведь почти ни к нему. Потому что единственное, чего они могли бы опасаться, — что письмо случайно вскроет кто-то из общежития. Дуриком. Но, увидев этот невинный текст, такой человек, по мысли, запечатает письмо и снова положит его на место. Поэтому и затемнились они чуть-чуть, слегка. Именно на тот случай. На недотепу. Значит, Лешка был прав. Черт! Ах, Леша! Выползти на святом духу, почти ни на чем на связь! На реальную связь, и на какую! А он, Ровнин, он этот выход, ювелирный выход, кажется, вчистую завалил. По своей вине. Впрочем, это неважно, по своей ли вине или по воле случая, но завалил. Ведь еще днем, всего несколько часов назад, он мог легко, совсем легко, без, особых усилий взять того, кто положил письмо. Тепленького и свеженького. Теперь же никаких гарантий.
Еще, раз перечитав письмо, Ровнин слово в слово переписал текст. Сложил вчетверо оригинал, спрятал его в конверт, заклеил и положил на прежнее место так, как было отмечено спичками. Потом стал не торопясь изучать словесный портрет, составленный Ганной.
Видно было, что текст этот переписывался Ганной не один раз; но даже и в этой последней, ровной, аккуратной, сделанной с легким ученическим наклоном записи несколько слов все-таки были зачеркнуты:
«Волосы — светлые, длинные. Лоб — низкий (слово «низкий» зачеркнуто), кажется, обычный. Глаза — бесцветные (слово «бесцветные» зачеркнуто жирной линией) голубые. Нос — толстый. Губы — узкие. Подбородок — маленький, с ямочкой. Шея — толстая и короткая. Уши — маленькие и прижатые».
Конечно, все это упрощено. Но в принципе для рядового свидетеля вполне нормальный словесный портрет. Ровнин аккуратно переписал его, ничего не меняя. В оригинале приписал сверху? «Составлено со слов свидетельницы Шевчук Г.». Поставил число, расписался, вложил оригинал в чистый конверт; туда же положил дубликат письма Пурхову В. и оба пакетика с отпечатками пальцев. Да, передать все это в УВД придется Ганне, больше просто некому Он написал на чистом конверте: «Семенцову И. К. лично». Посмотрел на часы — четыре. Положил конверт в ящик стола и скоро заснул. Не очень крепко, но заснул прямо за столом. Он давно уже приучился спать в любой позе.
В семь Ровнин проснулся. Услышал шум раковины. Потом движение. По общежитию ходят. Вот кто-то пробежал по второму этажу. Он посмотрел на стеллаж, отметил, что конверт на своем месте и не передвинут. Минут через пятнадцать, потягиваясь, из дежурки вышла тетя Поля. Постояла, шаркая шлепанцами, пошла на кухню — ставить чайник. Вернулась она уже к входной двери, сняла запор, кивнула ему, сказав при этом: «Ой, не проснусь никак», и снова ушла в дежурку.
Ровнин долго еще сидел за столом, поджидая Ганну. Она спустилась около восьми, и он сразу же заставил ее вернуться и принести сумочку — нести конверт в руках было рискованно. Рассказал, как найти городское УВД. Отдать конверт в приемную попросил без всяких объяснений — просто отдать, и все.
Она вернулась часа через полтора. Остановилась около стола и кивнула. Сейчас Ганна смотрела на него слишком внимательно, и он понял, что после поездки в УВД все для нее должно быть страшно серьезно, так как теперь она, конечно, понимает, что к чему. Отстранить бы ее от вещего этого. Нет, нельзя. Она будет ему нужна, пока они не придут за письмом; а если не придут, то до утра пятого июня.
— Все в порядке?
Ганна вместо ответа передернулась, и он понял, что у нее начался мандраж. Надо ее успокоить. Как угодно успокоить, тоном, голосом, поведением. Дать понять, что все это не очень значительно. Он просто ищет мелкое жулье, самое мелкое. Надо ее успокоить, потому что нервотрепка ей сейчас ни к чему.
— Веселая жизнь, а, Ганночка? Ты поняла, что я жуликов ловлю? Аферистов?
Она кивнула.
— Скоро все это кончится. Пока же все как обычно, девушка. В четыре жду вас на том же месте, у фонтана. Хорошо?
— Хорошо. — И она ушла.
В половине десятого Лиза принесла утреннюю почту; писем на «п» на этот раз не было, К десяти, сидя за столом и прихлебывая чай, который принесла тетя Поля, Ровнин наконец почувствовал себя свежим. Абсолютно свежим, отдохнувшим и легким.
В общем, он попытался убедить себя, что ничего страшного не случилось. Попытался смириться с провалом, случившимся, хочет он того или не хочет, по его вине. В самый нужный момент он отошел от стола. И неважно, позвала ли его при этом Варвара Аркадьевна или нет.
Самое плохое, что он теперь вынужден будет ждать их до пятого числа. Потому что на наблюдателей, которых в переулке уже наверняка выставил Семенцов, надежда небольшая — ведь прихожая и стеллаж для них вне видимости, а по внешнему виду они смогут определить только лопоухого по Лешкиному рисунку.
Что бы он сделал на месте налетчиков? Сам он, наверное, обязательно взял бы письмо сегодня. Брать его четвертого, а тем более пятого как будто поздновато. Но деться некуда, теперь он уже напрочь привязан к этому стеллажу, самым настоящим образом привязан.
В двенадцать позвонил Семенцов. Ровнин сразу узнал его голос, низкий, сухой, почти без посторонних оттенков:
— Андрей Александрович? Здравствуйте, Иван Константинович беспокоит.
— Здравствуйте, Иван Константинович. Слушаю вас.
— Насчет ремонта, о котором вы просили, все в порядке. («Дополнительное наблюдение за общежитием установлено».) За марочки спасибо, редкие, в каталогах их нет. («Письмо с отпечатками пальцев получил, всесоюзному розыску они неизвестны».) Что, с мастером увидеться вам так и не удалось? («Того, кто положил письмо, вы упустили?»).
— Да. Не дождался он меня, беда просто. («Упустил. Положивший письмо ушел до того, как я появился у стеллажа».)
— Было светло? («Предполагаете, что он вас раскрыл?»)
— Да так, серединка наполовинку. («Точно не знаю».)
— Вы сами свет не включали? («Вы ничем не могли себя обнаружить?»)
— Что вы, Иван Константинович!
— Ладно. Зато открыточка ваша просто загляденье. («Перехваченное письмо считаю чрезвычайно важным».) Андрей Александрович, у меня тут приятели скоро соберутся, так что позванивайте. Не забывайте старых друзей. («Скоро предстоит серьезная операция, поэтому прошу постоянно поддерживать со мной тесную связь».) До свиданья. Был рад.
— Конечно, Иван Константинович. Всего доброго. («Буду постоянно держать вас в курсе событий».)
Утром, как только Ровнин проснулся и вышел в прихожую, он первым делом посмотрел на стеллаж, чтобы убедиться, что письмо «Пурхову В.» лежит в ячейке нетронутым, плашмя, вверх адресом, так, как он его оставил. Пока тетя Валя не сняла запор, он быстро сходил в туалет, умылся и сел за стол. После первой почты Ровнин поймал себя на том, что думает сейчас только об одном: что вполне могли выявить себя и засветиться те, кто дежурит в переулке. Судя по Семенцову, народ у него опытный, и быть такого не должно, ну а вдруг? Ровнин попытался представить себе, как они вообще это делают, как они скрыты, а главное, как держат вход. Если подвижно, да еще если кому-то из них вздумается ходить по улице Плеханова, изредка сворачивая в переулок, тогда все, полный конец, пиши пропало. Поразмыслив, он все-таки решил, что они этого не сделают; наверняка тихо заняли скрытые точки. Но и в этом случае их помощь может быть очень ограниченной. Что, если придет кто-то им неизвестный? Они и ухом не поведут; ведь «пришлые» в эти дни так и мелькают. Заходят, спрашивают кого-то, оставляют документы, проходят в комнаты. С другой стороны, это хорошо: больше надежды, что те, кого ждет, рискнут взять письмо, воспользовавшись этим. Ладно, что там ни думай, его дело сейчас телячье — ждать. А когда придет время — действовать.
В двенадцать пришла тетя Поля. Подождав, пока уйдет сменщица, она посмотрела на него и вздохнула. Взгляд этот был со значением, и в ее глазах Ровнин прочел, что она понимает его состояние. Понимает, что он неспроста третьи сутки сидит за столом и чего-то ждет.
Сам Ровнин, будь его воля, дополнительного бы наблюдения за общежитием не ставил. Потому что теперь тут даже легкого облачка не нужно, достаточно случайной пылинки. Но ясно, почему Семенцов рассуждает по-другому. Ведь за все, что бы ни случилось, отвечать будет он. Время — начало первого, и надо ждать четырех часов и оживления у стеллажа. Если они не взяли письмо вчера, то сделают это сегодня днем, в крайнем случае завтра. Но верней всего они сделают это сегодня. И опять он подумал: сделают, если он их не спугнул. Если, дойдя по переулку до улицы Плеханова и обратно, он не раскрыл себя. Наблюдая за прихожей, Ровнин в который уже раз попытался вспомнить, как именно он шел.
Как именно. В прихожей же пока оживление, затишья теперь не будет. Занятия давно отошли в прошлое, идут экзамены. Движение в обе стороны, хоть и редкое, но непрерывное. И пришлых появлялось уже немало, целых шесть человек; правда, утешение, что он всех их знает. А из своих к стеллажу подходила только Лена Клюева, и все. Наблюдая за входящими и выходящими из прихожей, Ровнин сейчас пытался восстановить в памяти весь свой путь по переулку, шаг за шагом. Шел он как будто по всем правилам, в меру медленно и непринужденно. К тому же всю дорогу он хорошо видел, что парень в желтой клетчатой рубашке ни разу не обернулся. Правда, троллейбус, который отошел от остановки, как только Ровнин завернул за угол, был переполнен. Значит, если кто-нибудь, допустим, захотел бы, то вполне мог внимательно рассмотреть его, только что вышедшего и остановившегося на углу. Нет, для засветки этого мало. Мало, ведь не знали же они, кто он, не знали, потому что иначе просто не положили бы в стеллаж письмо.
А может быть, клетчатая рубашка здесь вообще ни при чем? Может быть, синяя куртка сразу же спряталась?
Начало четвертого. Сейчас должна подойти Лиза. Ровнин непрерывно ощущал локтем пистолет под мышкой и отделаться от этого ощущения, забыть о пистолете никак не мог. Должна подойти Лиза, а значит, и Ганна. А что, если у того, кто придет за письмом, тоже пушка? Конечно, нет сомнения, что он вытащит свой пистолет быстрей. Но приятного в любой схватке здесь, в пансионе благородных девиц, будет мало.
Значит, клетчатая рубашка могла вообще здесь бить ни при чем. Парень в синей куртке, положившей письмо, мог и не идти к улице Плеханова. А сразу же зайти в один из дворов и оттуда уже наблюдать за входом в общежитие. Скажем, поднявшись на чердак. Или просто остановившись на лестничной площадке. И увидеть, как он, Ровнин, выйдет из двери, двинется к углу и вернется назад.
Лиза. Вошла, кивнула ему и сразу же, легким привычным движением сдвинув сумку набок, стала раскладывать письма. Где же Ганна? Вот она. Остановилась в прихожей, не посмотрев в его сторону. С ней две девушки, он их хорошо знает: Вика Реус и Марьяна-Ермакова, обе с последнего курса. Живут в пятнадцатой комнате. Там же, где Люся Савченко и Лена Клюева.
Если все происходило именно так, если парень в синей куртке не пошел по переулку, а сразу же скрылся в одном из дворов, то они настороже. Все, о чем он думает, выглядит очень уж строго, совсем строго. Но в принципе — что им может помешать все время быть настороже? Что им мешает быть настороже, даже если кругом тихо? Что? Да ничего; а если они настороже, то он своим медленным проходом, неторопливой прогулкой туда и обратно вполне мог вызвать у них подозрение; еще как мог.
Лиза ушла. Ганна вместе с девочками просмотрела письма. Ничего нового нет, и она прошла мимо него, поднявшись наверх.
Ладно; даже если он и засвечен, даже если они в этот раз за письмом не придут, ему ничего другого не остается, как ждать; ждать спокойно, сосредоточенно, не отвлекаясь. Он попытался еще раз вспомнить всех шестерых «пришлых». Каждого из них он знает, это парни лет восемнадцати — двадцати, они много раз уже приходили в общежитие раньше. Хорошо, что кроме этих шестерых, никто из пришлых в общежитии пока не появлялся — иначе они отвлекли бы его внимание.
Наблюдая за тем, как девушки, подходя к стеллажу, наспех перебирают письма, Ровнин подумал, что у налетчиков, помимо стеллажа, вполне может быть и какой-то другой способ связи. Скажем, телефон, посредник или что-то еще. Вариантов может быть много, хотя, правда, все они были бы хуже стеллажа. Стеллаж выбран точно: для спокойной и обстоятельной наводки, для того, чтобы при этой наводке не высвечивать адреса и фамилии. Не высвечивать, и в то же время иметь возможность обстоятельно, подробно, на бумаге, может быть, даже с планом, изложить суть дела. Поразмышляв, он подумал, что будь он на их месте, то исключил бы напрочь личные встречи для связи. Если они действительно серьезная преступная группа и хоть что-то соображают, то должны как черт ладана бояться личных встреч. Может быть, он сейчас и преувеличивает их интеллект, но пусть — хуже не будет. Потому-то если у них, скажем, есть личные встречи с кем-то из Госбанка, то выйти по ним на кого-то из этой группы ОУРу будет довольно легко.
Наступило пять часов, потом шесть. Тетя Поля принесла ему перекусить, и он поел, не выходя из-за стола. Прошел еще час. К девяти Ровнин понял, что может спокойно, без особых забот расслабиться. Все; конечно, бывают чудеса, но рассчитывать, что кто-то подойдет к стеллажу сегодня, на ночь глядя, бессмысленно. Если бы они и подошли, то сделали бы это днем. И все-таки они вполне могут прийти за письмом и завтра. Поздно вечером Ровнин понял, что с ним опять начинается мандраж. Нет, они меня засекли, подумал он. Они меня засекли. И снова он с тоской подумал: ну что стоило ему оказаться в нужный момент у стола? Чепуха какая-то. Просто не повезло. Случайность. Глупая случайность.
В одиннадцать тетя Поля заперла общежитие.
Значит, теперь он должен ждать завтрашнего утра; даже не утра, а двенадцати часов: в это время должна прийти подмена от Семенцова.
Около двенадцати, когда тетя Поля давно уже закрыла запор и ушла в дежурку спать, он позвонил Семенцову домой. По тому, как тот сразу снял трубку, Ровнин понял, что полковник ждал звонка.
— Иван Константинович, не разбудил?
— Что вы. Всегда рад слышать.
— Ни одного просвета.
— Хорошо. Позвоните завтра?
— Да, обязательно.
Ему было сейчас стыдно перед Семенцовым. Называется — «оперативник из Москвы». Упустил шанс, и какой, стопроцентный шанс.
После разговора с Семенцовым Ровнин задремал, но скоро почувствовал, как кто-то трясет его за плечо. Он открыл глаза и увидел тетю Полю. Она покачала головой:
— А ну, Андрюша, давай. Давай, давай, иди, поспи по-человечески. Моду взял, за столом спать. Ну, Андрюша?
— Тетя Поль, да я ничего, я здесь.
— «Здесь». Иди, спи, ну? Иди, я посижу. Мне все равно не спится.
Он пошел в дежурку, погасил свет и лег поверх одеяла.
Пятого июня, встав рано — еще не было семи, — Ровнин понял, что настроение у него сегодня чуть-чуть получше. Он вышел в коридор, сделал зарядку. Обтерся до пояса холодной водой. Потом заварил себе чай. Пока он сидел за столом, до момента, когда тетя Поля сняла засов, он заставил себя прогнать на память всю карту города. Всю, до последнего переулка и знака. Основные маршруты; потом маршруты машин Госбанка; потом расположение крупных, заводов, дорог, перекрестков, выездов за город; потом, один за другим, псе основные дорожные знаки; наконец, мелочи: выезды на окраины и в пригороды, неожиданные повороты и тупики, проходные дворы. Что бы там ни было, сегодня он должен быть в форме. В абсолютной форме. В нем должна быть полная ясность, независимо от того, придет ли сегодня кто-нибудь за письмом или не придет, состоится ограбление или нет.
Сейчас, разглядывая гладкую дерматиновую поверхность стола, Ровнин в который уже раз попытался с предельной ясностью ответить самому себе на вопрос: раскрыт он бандой или не раскрыт? С одной стороны, когда в ячейку положили письмо, он, хоть и упустил сам момент, все остальное сделал абсолютно чисто, по всем правилам. Засечь его неторопливый, медленный выход из дверей общежития, его нарочно замедленный проход к троллейбусной остановке, можно было только в одном случае. Если для того, чтобы положить письмо в ячейку, сюда приходил не один, а, как минимум, два человека. Значит, как же тогда все происходило? Один вошел и положил письмо, тогда как второй — давно дежуривший где-то в удобном месте, допустим, на лестничной клетке противоположного дома — наблюдал, подстраховывая. Следил, не выйдет ли вслед за напарником кто-то из дверей общежития. Кто же мог оттуда выйти, по их мнению? Тот, кто по внешнему виду мог быть сотрудником милиции. Он, Ровнин, вполне мог вызвать их подозрения. Натянуто? Осторожно? Да какая разница! Пусть даже сверхосторожно. А кто им мешает вести себя сверхосторожно? Суммы, которые они берут, кого угодно заставят быть сверхосторожным. Собственно, что могло им помешать лишний раз подстраховаться? Тем более если они, как считал Лешка, не что иное, как «инт. б.»?
И Ровнин вынужден был сейчас сказать сам себе; считай, что они тебя раскрыли. Может быть, они Тебя и не раскрыли. Но считай, что раскрыли. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
До двенадцати, наблюдая за стеллажом, Ровнин утешал себя тем, что все-таки жить этой преступной группе в Южинске будет теперь значительно хуже. Потому что кольцо вокруг нее пусть не сразу, пусть пока тихо, но сужается. Во-первых, уже само по себе письмо Пурхову В. немалый козырь. На нем есть два почерка, на конверте и на листке. Также известно, что его положил в ячейку короткошеий низколобый блондин с голубыми глазами и прижатыми ушами. Блондин со взятыми у него отпечатками пальцев, да еще явно имеющий какое-то отношение к банку. Значит, рано или поздно, но ОУР на него выйдет. С Семенцовым выйдет. Даже если сегодня не будет налета.
От этих размышлений Ровнину стало чуть-чуть легче. Все-таки что-то он здесь сделал, и пусть слабое, но утешение у него есть.
Сменщик пришел без пяти двенадцать. В общем, пришел довольно хорошо: в прихожей, если не считать Ровнина и тети Поли, в этот момент никого не было. Парень оказался неприметным. Среднего роста, светлоглазый, в тенниске и спортивных брюках. По виду скромняга, такой тихарик-студентик. Семенцов не подвел, сменщик подобран — не придерешься.
— Это ко мне, тетя Поль. — Ровнин кивнул. — Товарищ. Он побудет в дежурке?
Тетя Поля вздохнула.
— Побудет, побудет. Валя же сейчас придет. Андрей, может тебе чего нужно?
— Ганну позовите, если нетрудно. А?
— Чего ж трудного.
Тетя Поля ушла. Сменщик сразу же показал, что основательно изучил фото Ровнина. Скромно остановившись в углу, он подождал, пока тетя Поля уйдет, кивнул и подошел к столу — не сразу, а только после ответного кивка.
— Я от Ивана Константиновича, — сказал он тихо. — Вы Андрей Александрович?
— От какого Ивана Константиновича?
— От Семенцова. Иван Константинович будет вас ждать в Кисловском переулке, в машине «Жигули» вишневого цвета, сегодня в два часа дня. Номер машины семнадцать — шестьдесят восемь.
Ровнин внимательно изучил сменщика и сделал вывод, что держится парень как будто ничего. Кивнул на дверь дежурки:
— Подожди, пожалуйста, в этой комнате, я сейчас.
— Хорошо. — Сменщик исчез за дверью.
Спустилась Ганна, и Ровнин отошел с ней в угол прихожей. Конечно, она ждала, что он ее позовет, но, наверное, думала, что он сделает это совсем для другого. В глазах у нее сейчас полная растерянность. И обида. Ладно, у него самого тоже не карнавальное настроение. Для нее он должен быть сейчас веселым и беззаботным. Разглядывая ее закушенную губу, знакомое ему, вспыхнувшее вдруг пятнышко у виска, Ровнин подумал: ничего не поделаешь. Пойми меня, девочка, пойми и не сердись.
— Ганночка, ну что ты? Что-нибудь случилось?
— Все нормально. — Она отвернулась.
— Ганночка, я сейчас ухожу, и сегодня меня здесь не будет. Так вот, у меня к тебе просьба. Посиди здесь, а?
Она странно посмотрела на него — то ли укоряя, то ли пытаясь что-то понять.
— Сегодня до одиннадцати, пока закроют дверь? А, Ганочка?
Настроение из-за этого ее взгляда у него сейчас хуже некуда. Но для нее он должен выглядеть веселым, ясным и, легким.
— Ганусик, перестань. Неужели мне нужно что-то тебе объяснить?
Как она не может понять, что ему самому сейчас несладко. Что поделаешь, девочка, иначе нельзя.
— Ганна?
— Не нужно. — Она покачала головой. — Не объясняй. Хорошо. Конечно же, я посижу.
— Я думаю, письмо это сегодня никто не возьмет. Но если кто-то его все-таки возьмет, кто бы это ни был, ты ему не мешай. Только нажми незаметно четыре раза звонок. И все. В дежурке вместо меня останется мой товарищ. Хорошо?
— Хорошо.
Ганна отвернулась.
Перед тем как открыть дверь своей квартиры, Ровнин прислушался. Тихо. Сейчас двадцать минут первого. Значит, у него почти целый час. Убедившись, что за дверью сплошная, матовая тишина, Ровнин бесшумно повернул ключ, вошел. Все на своих местах. Прошел на кухню, поставил чайник, заглянул в холодильник. Так, яйца и масло, больше ничего не нужно. Быстро побрился, принял душ, переоделся.
После чая он несколько секунд сидел, обдумывая, куда лучше положить «малыша».
Для «малыша» у него были ремни, приспособленные, чтобы носить автомат под курткой. Кроме того, из Москвы он захватил с собой плоский черный кейс, подобранный по размерам автомата. Но, может быть, лучше просто засунуть «малыша» за пояс, скрыв его под рубашкой и брюками? Нет, сейчас слишком жарко, на солнце градусов тридцать. И ремни не подойдут, ведь тогда придется надевать куртку, а в куртке он спечется. Подумав, Ровнин решил, что лучше всего взять кейс.
Пройдя в комнату, он открыл нижнюю полку книжного шкафа. Вынул книги: все в порядке, «малыш», завернутый в синюю байку, лежит в оставленной для него нише, точно так же, как он положил его туда в последний раз, проверяя и смазывая. Ровнин вынул автомат, аккуратно поставил на место книги, закрыл полку. На диване развернул тряпку и стал тщательно, не торопясь, осматривать оружие. Разобрал затвор, проверил патронник. Все в порядке. Он еще раз проверил каждую деталь и только после этого собрал автомат, завернул «малыша» в тряпку и положил в кейс. Все. Можно идти.
«Жигули» вишневого цвета Ровнин увидел, как только свернул в Кисловский переулок с Большой Садовой. Переулок был совсем маленьким, и, пройдя несколько шагов, он заметил, что в машине, стоящей у тротуара недалеко от булочной, сидит Семенцов. Полковник был в светлой рубашке с короткими рукавами и открытым воротом.
— Здравствуйте. Иван Константинович.
Произнеся это, он вдруг поймал себя на мысли, что думает сейчас о том, что он, Ровнин, должен делать дальше. Сел рядом с Семенцовым, положил кейс на колени, захлопнул дверь. Полковник поправил ворот рубашки; чувствовалось, что ему сейчас очень жарко.
— Здравствуйте. Все по-прежнему?
Да, он думает совсем о другом. Что же он должен делать? Выбора нет, он должен идти в засаду. Но почему должен? Ведь он убежден, на все пятьсот процентов убежден, что ограбление будет не там, где указано в письме, и не там, где поставят засады. А где-нибудь в другом месте.
— По-прежнему.
— В кейсе у вас оружие?
— Да.
Как будто есть ощущение, что он, Ровнин, должен сейчас переломить инерцию. Во-первых, он не должен ложиться в засаду. Засада прекрасно обойдется без него. Полковник вздохнул.
— Вот что, Андрей Александрович. Конечно, о том, что вы сделали, я буду писать отдельно, в докладной.
— Это вы о чем? О том, как я проморгал связного?
Семенцов усмехнулся.
— Перестаньте, Андрей Александрович. Не становитесь в позу.
— Я не становлюсь.
Становись не становись, а связного он, конечно, упустил бездарно.
— Я хочу написать о другом, О вашей высокой профессиональной выучке, сознательности, ответственности и чувстве долга. О том, что благодаря вам мы вышли на это письмо.
Приятно все это слушать, но благодарность не по адресу: на письмо они вышли благодаря Лешке. Из вежливости он все же кивнул:
— Спасибо.
— Помимо докладной, я хотел бы поблагодарить лично вас. Просто по-человечески.
— Ну что вы, Иван Константинович. Не за что.
— Есть за что. Ладно. Теперь о деле. Наверное, у вас есть какие-то соображения по поводу письма? И о возможности налета?
Соображения, конечно, у него есть, но при чем тут эти соображения, когда он, Ровнин, начинает понимать, что ему делать дальше. Все, что жило в нем раньше отдельными кусочками, разорванными мелкими соображениями, теперь как будто начинает соединяться в одно целое. И прежде всего он отчетливо понимает, что ни в одной из трех засад он Семенцову не нужен. Напрочь не нужен.
— Особых соображений у меня пока никаких.
Что он лично может добавить к засаде? Да ничего. Он должен сейчас решить: что бы он делал на месте налетчиков? Если бы, допустим, подозревал, что письмо перехвачено? Если бы знал, что на всем пути следования машин с деньгами и у всех трех заводских проходных будут организованы засады? И еще — если бы при этом вся техническая часть налета была бы тем не менее тщательно подготовлена? Что? Подумав об этом, он спросил:
— Эти три транспортировки предусматривались без радиоконтроля? Поэтому и наводка?
— Одна без радиоконтроля. Но на всех трех не очень опытный состав групп. И все три следуют по отдаленным маршрутам.
— Значит, у них свой человек в банке.
— Да. Но только никуда он теперь не денется.
Они долго молчали. Наконец Семенцов взялся за ключ зажигания.
— Нащупывается этот человек. Найдем мы его, думаю, самое большое через неделю. Крайний срок дней через десять.
Возможно. Но если группа, которую они ищут, возьмет сегодня большие деньги, она может вообще навсегда исчезнуть из Южинска.
— Какие суммы на перевозках, Иван Константинович?
— На «Цветмет» и «Пролетарий» по сто пятьдесят тысяч, на «Судостроитель» — двести пятьдесят.
Хорошие цифры. Нет, Ровнин, ты давно уже знаешь, что ограбление сегодня будет. Но только вряд ли они покажут нос у одного из трех заводов.
— Засады, конечно, у всех трех проходных?
Ясно, что ограбление будет совсем в другом месте. Вот только в каком? Семенцов достал платок и вытер пот.
— У всех. У заводов и на всем пути следования машин. Сегодня день зарплаты, денежных перевозок много по всему городу. А под ними горит. Они ведь понимают, что если у всех трех заводов поставлены плотные засады, то естественно, что над остальными денежными перевозками контроль будет поневоле ослаблен. И могут воспользоваться этим.
— Поедете со мной? — спросил Семенцов.
— А вы где?
Семенцов включил зажигание.
— У «Судостроителя». Думаю, если они попробуют, то скорей всего сделают это там.
— Иван Константинович, какие еще сегодня перевозятся крупные суммы?
— Крупные суммы? — Полковник осторожно вывел машину из переулка; оглянулся перед поворотом на улицу. — Ну, по двести тысяч на «Большевичку» и «Сельмаш». Примерно столько же недельная выручка городского трансагентства.
Мимо проплыли дома Большой Садовой. Семенцов вел «Жигули» на средней скорости.
— И все?
— Если для вас крупная сумма сто десять тысяч, то еще спецперевозка в аэропорт.
— Все под радиоконтролем?
— Кроме спецперевозки. Но там подобраны опытные инкассаторы.
— И в какое время?
— Примерно от трех до четырех часов.
Сейчас они едут к южной окраине, к морю, к «Судостроителю». Все, что перечислил полковник, в противоположной части города, которая как раз не перекрыта засадами. Фабрика «Большевичка» в центре, завод «Сельмаш» в северо-восточной части, трансагентство примерно между ними. Аэропорт еще дальше: в двенадцати километрах от города к северо-востоку. Все складывается как одно к одному. И все-таки он очень бы хотел, чтобы они пришли к «Судостроителю». Он хотел бы лично встретить их и посмотреть на них. Но почти точно, что они туда не придут.
— Иван Константинович, у меня будет просьба. Вы могли бы выделить мне оперативную машину?
— Оперативную машину?
— Да. Радиофицированную и с хорошим мотором. Я считаю, что налет будет в другом месте.
Семенцов некоторое время молчал.
— Я могу вам просто эту уступить, — наконец сказал он. — Доедем до «Судостроителя», и забирайте.
Ровнин вел машину по Южинску, размышляя о том, что же это такое, серьезный, основательно разработанный налет. Это значит, что они все учли. Все просчитали. Это значит, что они могли основательно поработать с секундомером. А может быть, даже обзавелись радиопеленгатором.
— Пятый! Пятый! — раздалось в приемнике. — Пятый, придержи оранжевый двадцать девять — сорок один. Двадцать девять — сорок один, понял? Придержи его, проехал на красный.
Переговоры ГАИ. Он давно уже понял: если представить, как соотносятся все три указанные в письме завода с Госбанком, учесть засады и блокировку, то можно без труда понять, что во время этих перевозок почти полгорода будет надежно прикрыто. Если группа пойдет на налет где-то здесь, все ее возможные отходы будут блокированы в течение трех-пяти минут. Полгорода. Но ведь остаются еще другие полгорода. Восток и северо-восток, район аэропорта и Московско-Приморское шоссе. Сейчас, в ближайшее время, в этой части будут перевозиться крупные партии денег: из Госбанка на «Сельмаш» и «Большевичку», из трансагентства в Госбанк и из Госбанка в аэропорт. Особенно его интересовала именно эта перевозка в аэропорт, так как она не прикрыта радиоконтролем — пусть там и очень опытные инкассаторы. Так как лучшие силы УВД стянуты сейчас в другую часть города, го получается, что все эти четыре перевозки фактически не прикрыты. Конечно, надо учитывать, что на всех четырех машинах есть вооруженная охрана, а три из четырех маршрутов на всем пути следования контролируются по радио. Надо учитывать также тщательно разработанную систему мобильных ПМГ и то, что после первого же сигнала об ограблении все магистрали в городе будут перекрыты, а на загородных предупреждены посты ГАИ и в случае необходимости высланы вертолеты. Так что формально все эти перевозки, конечно, подстрахованы; и все-таки это обычное прикрытие. Обычное и для серьезного, основательно разработанного налета явно недостаточное. Явно.
Разговоры в эфире. Перекличка постов, мелкие происшествия по городу, переговоры по СКАМ. Эти разговоры в эфире на все время его пути, часов до четырех, станут постоянным фоном. Весь его расчет и все надежды сейчас только на них, на эти разговоры в эфире. Голубая мечта, что Семенцов еще до четырех возьмет налетчиков у «Судостроителя», но это не более чем голубая мечта. Если налет действительно организован серьезно, то он может произойти в любой точке города. А это значит, что он сам, конечно же, наткнуться на следы преступной группы в первые минуты налета не сможет.
Ровнин убрал громкость приемника; теперь голоса звучали приглушенно. Навстречу не спеша двигались дневные улицы, и он вдруг подумал, что за два с лишним месяца в Южинске он так и не успел по-настоящему рассмотреть эти улицы. Вот такие, какими он их сейчас видит. Заполненные солнцем, оживленные, южные, с особым ароматом и вообще с чем-то особым, что может быть только у южного города. Это особое он знает, помнит с детства, но так и не может понять, в чем же оно, это особое. Ну в тентах, в кофейных под открытым небом. Но прежде всего это особое скрыто в запахе. Он, например, уверен, что это смешанный с выхлопными газами запах дынных корок, к которым примешивается ветер с моря. Здесь, в центре, да еще в это время, меньше красоток в скупых сарафанах и юношей в замысловатых теннисках, белых брюках и пижонских кепочках. Тут в это время дня несколько другой коленкор; народ идет постарше. Стоят за газированной водой командированные, вымокшие в своих костюмах и рубашках с галстуками. Тучные дамы в крепдешиновых платьях и немыслимо широкополых шляпах несут сумки с фруктами. Среди отдыхающих сразу можно выделить отцов семейств в стандартных солнцезащитных очках и шапочках с большими козырьками и одинаковой надписью на околыше: «Южинск». В скверах и на набережных сидят и режутся в шахматы и домино старички в ковбойках. Конечно, это центр, а не пляж и ресторанчики на берегу, возле которых совсем другой дух.
Минут через десять по сторонам потянулись двухэтажные домики из побуревшего кирпича. Ровнин понял, что это последние дома города; на табличках написано «улица Ветеранов», а улица Ветеранов замыкает окраину и заканчивается лесопарком. Дорога, ведущая сквозь лесопарк, выходит на развилку. От развилки прямо тянется дорога на аэропорт. Направо начинается Приморское шоссе; пройдя вдоль линии пляжей, у порта оно сворачивает в город. Налево идет Московское шоссе, начинающееся уже за чертой города и ведущее на север.
Мелькнул в зелени и остался сзади последний двухэтажный домик, и сразу же за ним начался лесопарк. Въехав под кроны деревьев, Ровнин прислушался к фону в приемнике. Голоса звучат почти непрерывно, иногда накладываясь и перебивая друг друга. Все, что он пока услышал за это время, было главным образом переговорами постов ГАИ и докладами о мелких происшествиях. Среди них только один раз он услышал экстренное сообщение о наезде: на углу Большой Садовой и улицы Нестерова грузовая машина сбила велосипедиста. Позже постовой сообщил, что пострадавший доставлен в больницу. Вслушиваясь в эфир, он перешел на другую волну. Следить за всеми сообщениями на диапазоне УВД было трудно, но Ровнин понимал, что если он и может на что-то рассчитывать, то только на эти монотонные и непрерывные переговоры.
Проехав первые километры по лесопарку, Ровнин совсем сбавил скорость. Асфальтированная дорога проходила под нависшей над ней листвой, в окна залетал чистый лесной ветер. Движение здесь было стеснено, и Ровнину дважды пришлось прижаться к бровке, чтобы сначала пропустить просигналившее такси, а потом тяжелый, заполненный пассажирами рейсовый «Икарус».
Перед развилкой дорога круто пошла под уклон. Вынырнув из-под деревьев, Ровнин повернул машину на стрелку с надписью: «Аэропорт — 11 км». По дороге на аэропорт впереди все как будто распахнулось. Приморское и Московское шоссе, расходящиеся в обе стороны, остались сзади. Дорога была четырехрядной, шла по открытому полю и просматривалась со всех сторон. Сейчас в приемнике были громко и отчетливо слышны переговоры автоинспекции. Как он вскоре понял, говорили с открывшегося впереди стационарного поста ГАИ. Доехав до стеклянной будки поста, Ровнин развернулся к городу; чуть притормозил около стоявшего у обочины старшины с жезлом. Тот никак не прореагировал: наверняка он знал эту машину. Снова доехав до развилки, Ровнин на этот раз повернул налево, на Приморское шоссе. Во входившем в окно ветре стала чувствоваться свежесть, скоро ставшая почти прохладой. Стало ясно — дорога выходит к морю. Ровнин хорошо представлял себе эту дорогу вдоль пляжей, он помнил всю прибрежную линию, до последней прогулочной станции и прокатной базы. Значит, мимо пляжей он на той же скорости доедет до порта и потом снова по тому же маршруту еще раз пересечет город. Да, если бы это была обычная преступная группа, все пляжи до самого порта можно было бы смело считать для налета мертвой зоной. Но они хорошо знакомы с психологией, и доказательство — налет на инкассаторов у торгового центра. Знакомы и отлично понимают, что такое страх. Они и рассчитывают главным образом на страх. На страх, на панический ужас, который, как столбняк, охватывает безоружных людей, на которых направлено оружие. Оружие гипнотизирует, он знает. Ведь при втором налете весь их расчет был главным образом на страх, и, увы, этот расчет сработал.
Сработал, подумал Ровнин, разглядывая из окна загорелые тела, брызги прибоя, слушая музыку транзисторов. Единственным, кто тогда попытался сломать этот расчет, был Лешка. Лешка знал, что нет больших трусов, чем те, кто рассчитывает на страх безоружного перед направленным на него стволом. Просто этот страх надо хоть кому-то преодолеть, и тогда тем, кто на него рассчитывает, конец, хана. Но на этот раз все получилось наоборот. Хана пришла Лешке, потому что Лешка чуть-чуть не успел. Чуть-чуть.
Наконец пляжи кончились, шум стих, полоса гравия постепенно сошла на нет. Мимо потянулся высокий забор порта. Ровнин повернул к городу и минут через десять снова выехал в центр. Второй раз миновав «Большевичку» и «Сельмаш», он повернул на знакомую уже улицу Ветеранов. И здесь, среди шума в эфире, услышал продравшийся сквозь переговоры голос: «Внимание, Говорит четырнадцатый. Всем постам ГАИ и ПМГ. Говорит четырнадцатый. На развилке при выезде в аэропорт тяжелая авария. Столкнулись машина инкассаторов и фургон «Мебель». Повторяю. На развилке при выезде в аэропорт тяжелая авария. Столкнулись машина инкассаторов и фургон «Мебель».
Место аварии оказалось метрах в двадцати от развилки, как раз там, где кончались деревья. Затормозив, Ровнин прежде всего увидел съехавший в кювет большой грузовик-фургон с надписью на бортах: «Перевозка мебели». Кабина грузовика была пуста, дверца со стороны водителя открыта. У обочины стоял мотоцикл ГАИ с коляской, за ним виднелась машина инкассаторов: представлявший сейчас собой жалкое зрелище защитного цвета «рафик» с искореженным левым боком и выбитыми стеклами. Правая дверца кабины микроавтобуса была открыта. В кабине Ровнин увидел двух инкассаторов. Казалось, оба сидят совершенно спокойно, будто ничего не случилось. У распахнутой двери микроавтобуса стоял немолодой старшина милиции, тот самый, которого Ровнин видел на обочине, разворачиваясь у будки ГАИ. Подойдя к «рафику», Ровнин прежде всего осмотрел инкассаторов и понял: оба тяжелы и вряд ли в ближайшее время придут в себя. Он повернулся к старшине. Из-под козырька на него глянули маленькие, окруженные сетью морщин глаза. По одному этому взгляду было видно, что старшина хват.
— Семнадцатый оперативный. — Ровнин показал удостоверение. — Это спецперевозка?
— Она, — с досадой сказал старшина.
— Где инкассаторская сумка?
Ближний из инкассаторов открыл глаза. Лоб его был сине-черным после удара о стекло, из носа густо текла кровь.
— Сумку… взяли… — сказал он.
Все ясно. Надо торопиться. Каждая секунда сейчас на счету. Инкассатор попытался что-то сказать — и закрыл глаза.
— Вызвали «Скорую»? — спросил Ровнин.
Старшина кивнул:
— Еще у будки.
Почему у будки? Что, старшина узнал об аварии не здесь?
— Вы что, не сами обнаружили аварию?
— Мне сказал о ней шофер такси. Он видел, как они столкнулись.
— Где этот шофер?
— Задержан. В будке сидит.
— Что, он и налетчиков видел?
— Нет, он не понял, что это налет. Только видел, как люди выходили из автофургона. Хотел остановиться, чтобы оказать помощь, но решил доехать до меня.
— Срочно вызовите его! Пусть его подвезут сюда. Вы поняли — срочно!
— Слушаюсь! — Старшина включил рацию, заговорил вполголоса: — Десятый! Десятый, четырнадцатый вызывает! Серега? Сергей, это я! Шофер такси там? Ну, который сообщил? Давай срочно его сюда, на развилку. Срочно, ты понял?
Ровнин пригнулся к инкассатору, достал платок. Осторожно вытер кровь. Среагировав, инкассатор вздрогнул и открыл почти бессмысленные глаза. Да, поломало его изрядно.
— Потерпи, — сказал Ровнин. — Сейчас приедет «Скорая».
Значит, они были на автофургоне? А потом? Может быть, пересели на другую машину, подготовленную заранее? Пересели… Если так, то куда они поехали? По Приморскому шоссе? К пляжам? Или по Московскому?
— Говорить можете? — спросил Ровнин. Инкассатор моргнул.
— Как они вас?
— Навстречу… — еле слышно сказал инкассатор. — Через осевую…
Значит, фургон «Мебель» ехал навстречу. И ударил. Не совсем в лоб, а под углом. Шофер успел отвернуть, но это не спасло. Выбрано самое удобное место: кругом лесопарк, впереди развилка, ищи на все три стороны.
— Вы их видели? Сколько их было?
— Кажется… Трое… Или четверо… — прошептал инкассатор.
Трое или четверо. Скорее четверо. А «или» потому, что четвертый наверняка сразу побежал к запасной машине, вот только куда. Четвертым должен быть «Шофер».
— Лица их вы видели? Спрашиваю, лица налетчиков вы видели?
— Д-да. — Инкассатор еле шевелил губами. — В-видел.
Значит, на этот раз они были без масок; вот только куда же они делись? Вряд ли они рискнут скрываться в лесопарке, слишком много народа кругом. Их наверняка ждала машина; но куда она поехала? По отрезку к аэропорту — исключено. По Московскому шоссе? Или по Приморскому, в город?
— Вы видели, куда они скрылись?
Инкассатор кивнул.
— Кажется… к развилке… через лес…
— Куда? Туда? — Ровнин показал налево. — Или в другую сторону? Налево? Или направо?
Молчит. Плохо, если он не ответит.
— Вы слышите? Куда они побежали? Налево?
— Н-нет… — Губы инкассатора чуть шевельнулись. — Направо.
Направо. Значит, если у них была запасная машина и она была укрыта в лесу с правой стороны от выезда на развилку, они могли поехать только направо, по Приморскому шоссе. Только направо, в город, и не иначе. Что же, они сами полезли в Западню? Впрочем, почему в западню? Может быть, они просто решили раствориться среди загорающих на пляже. Инкассатор как будто отключился.
Осматривая панель управления, баранку, сиденье в надежде, что остались хоть какие-то следы, Ровнин попытался прикинуть, сколько прошло времени с момента налета. Если шофер такси не сообщник и если он не врет, то до будки ГАИ езды минут пять, ну семь. Пока «четырнадцатый» сообщил об аварии, прошло еще минуты три Хорошо, пять. Значит, примерно десять-двенадцать минут. Если они пробежали через лес к приготовленной заранее машине, от одиннадцати надо отнять минуту, ну две. Остается девять. Округляем — значит, у них с самого начала было чистых десять минут на то, чтобы оторваться от погони. На машине с обычным мотором, это километров двенадцать-пятнадцать; Приличная фора. Они успели уехать, вот только куда? К пляжам? Или к Москве? Треск мотоцикла. В коляске парень лет тридцати с усиками и бакенбардами, за рулем совсем молодой лейтенант.
— Вот, — старшина кивнул на коляску. — Он мне сообщил.
— Вы видели столкновение? — спросил Ровнин.
— Да — Парень вылез из коляски. — Я сначала услышал удар. А потом вижу, фургон прямо в лоб «рафик» саданул. Хорошо, скорость небольшая. Обе машины в кювет. Я хотел сначала остановиться, ну а потом, думаю, там люди все равно, они из фургона вылезли — рванул к посту.
— Четырнадцатый! — заговорили рации у старшины и лейтенанта. — Четырнадцатый, «Букет» вызывает. Вы слышите, четырнадцатый? «Букет» вызывает.
Это СКАМ.
— «Букет», я семнадцатый оперативный, вы меня поняли? — пригнувшись, сказал Ровнин в микрофон старшины. — Я семнадцатый оперативный, нахожусь на месте аварии, это налет, я выясняю обстоятельства налета. Сейчас свяжусь с вами, не уходите с волны, вы поняли меня, «Букет»?
— Понял вас. Жду.
Ровнин повернулся к водителю такси.
— Вспомните, когда вы выезжали на развилку, вы не видели машины, стоявшей у обочины?
— Машины? — Парень задумался. Если он не сообщник, то должен был что-то увидеть. Хотя они вполне могли поставить ее за деревьями.
— Видел, — сказал парень. — Точно, видел машину. Справа стояла, на обочине, на Приморском. В кустах.
Парень сообщник? Очень уже все складывается.
— Какая машина?
— Легковушка, «Москвич» или «Жигули», я не разобрал, спешил.
Не разобрал, спешил. Натяжка. Любой водитель такси сразу отличает «Жигули» от «Москвича».
— Не помните, какого цвета?
— Кажется, темно-синего. Да, темно-синего.
Наводка? Теперь уже трудно понять, наводка это или нет.
— Номер машины не заметили?
Парень прищурился.
— Да я вот все вспоминаю. Даже в будке сидел вспоминал. Не помню номера.
— Может быть, все-таки вспомните?
— Ч-черт. — Парень вжал голову в плечи. Зажмурился. — Что-то такое… Первые две цифры, кажется, сорок один. Четверка и единица.
— Четверка и единица?
— Как будто, но точно не помню.
Четверку и единицу он помнит, а марку машины не разобрал. Ладно, больше из него, ничего не выжмешь. И еще — он скорее всего не сообщник. Ровнин снова пригнулся к микрофону старшины.
— «Букет», я семнадцатый оперативный! Как меня слышите?
— Слышу вас хорошо.
— По показаниям свидетелей и потерпевших, на развилке около двадцати — двадцати пяти минут назад совершено ограбление машины, проводившей спецперевозку в аэропорт. После столкновения трое или четверо налетчиков, похитив сумку с деньгами, скрылись, возможно, на легковой машине «Москвич» или «Жигули» темно-синего цвета, первые цифры номера — сорок один, четверка и единица. Как поняли?
— Все понял отлично. Темно синяя легковая машина, первые две цифры сорок один.
— Правильно. Есть предположение, что машина ушла по Приморскому шоссе в сторону города.
Сейчас он должен на полной скорости, ужом, змеей, как угодно, разыскать эту темно-синюю легковушку, которая оторвалась от него теперь уже примерно на тридцать минут.
— Лейтенант! — крикнул Ровнин, кинувшись на сиденье и отжав сцепление. — Дальше держите связь сами! И держите место, поняли?
— Так точно, понял.
Доклад лейтенанта СКАМ Ровнин услышал, поворачивая на развилке в сторону пляжей. Выжав из мотора все, что только мог, он услышал, как радиоконтроль оповестил все ПМГ о темно-синей легковой машине, ушедшей в город.
Машина впереди. Чуть отпустил ее, угадываешь соотношение скоростей, чувствуешь паузу; бросок влево по осевой на третьей скорости, обгон, тут же резкий бросок вправо; торможение. Этот старый и проверенный способ обгона, систему вождения машины «лесенкой» Ровнин хорошо изучил, не раз отрабатывал специально и поэтому сейчас шел по Приморскому шоссе к городу довольно легко, обгоняя все идущие впереди машины. Единственное, что требуется здесь, — это чувство паузы и ритма, иначе рискуешь врезаться на третьей скорости во встречный поток. Остальное уже зависит от техники вождения. Пройдя на непрерывном обгоне около минуты, Ровнин встретил пока только одну темно-синюю машину — идущую на средней скорости новую «Волгу» с единственным водителем. Решив, что учитывать ее не стоит, тем более что этой «Волгой» все равно займется ближайший же пост, и продолжая обгонять машины, Ровнин вдруг понял, что совершенно не уверен в том, куда же они должны были поехать. В город? Или от города?
В город. Но ведь они понимают, что город для них — это кольцо. Замкнутое кольцо и блокировка, то есть самая что ни есть западня. Западня — если только им не удастся незаметно бросить машину. Тогда у них появится серьезный плюс: пляжи. Пляжи, многокилометровые пляжи с тысячами отдыхающих.
От города. Это значит, что кольца уже нет, и перехватить машину смогут только посты ГАИ или вертолет. Но вертолета пока еще нет, и неизвестно, когда он будет, а они уже уходят. Пост же ГАИ — это всего только пост ГАИ. Не более того, если учесть четыре пистолета.
Впереди показался знак разворота. И вдруг Ровнин понял, отчетливо, ясно понял, если по делу, то они должны были здесь развернуться. Обязаны были. Вот здесь, на этом развороте. Развернуться и уходить от города по Московскому шоссе. Если бы на их месте был он, он бы обязательно развернулся и поехал назад, сбив тем самым с толку преследователей.
До разворота остается около двухсот метров. Значит, если он сейчас не угадает и развернется впустую — все, они окажутся отрезанными от него где-то в городе. Правда, в городе они в любом случае будут иметь дело с Семенцовым и с хорошо отлаженной сетью ПМГ.
До разворота меньше ста метров. Разворачиваться? Хорошо. Но если они поедут в город и им удастся где-то незаметно остановиться, раздеться и лечь на пляже, у них будет огромное преимущество. Машину можно будет найти, но попробуй поищи их самих среди тысяч голых тел. Правда, не так легко незаметно выйти из машины, раздеться и лечь. Решай. Решай, Ровнин. Нет. Если они все продумали серьезно, то и раздеться и затеряться на пляже они вполне смогут. И все-таки? Все-таки разворот. Так и не успев просчитать все до конца, не успев взвесить, что и как, Ровнин резко затормозил и развернулся. И почти тут же в приемнике, среди многих незнакомых голосов, вызовов и откликов он услышал знакомый голос и понял, что это голос Семенцова:
— Семнадцатый! Семнадцатый, говорит третий! Семнадцатый, где находитесь в настоящий момент? Семнадцатый, отзовитесь!
Семенцов. Его голос. Ровнин представил себе, как сейчас весь город, все посты, вся отработанная за эти месяцы система блокировки пришла в движение. Перекрыты магистрали; выставлены группы захвата; проверяются и останавливаются все подозрительные машины. Судя по вызову Семенцова, налетчиков пока еще не нашли.
— Семнадцатый! — повторил голос в приемнике. — Семнадцатый, вас вызывает третий! Я — третий! Отзовитесь!
Все так же, «лесенкой», угадывая паузы во встречном движении, Ровнин продолжал обгонять машины, понимая, что с каждой секундой удаляется от города. Что он может ответить Семенцову? «Думаю, они уходят по Московскому шоссе, следуя в этом направлении?» Но ведь они вполне могут вести радиоконтроль за эфиром. Вполне. Поэтому сейчас грамотней будет не сообщать Семенцову ничего конкретного.
— Семнадцатый! Семнадцатый, я третий! Вы слышите меня?
— Слышу вас, третий, — сказал Ровнин. — Я — семнадцатый, слышу вас хорошо. Нахожусь недалеко от места аварии. Прошу разрешения на самостоятельные действия.
Кажется, он все сейчас сказал правильно. Семенцов должен, обязан понять, в чем дело. Обязан, если он действительно профессионал.
— Как меня поняли? — спросил Ровнин. — Третий, как поняли?
Грузовик впереди. Поймать паузу; бросок влево; вправо. Можно увеличить скорость, впереди свободное пространство. Почему не отвечает Семенцов?
— Семнадцатый, я — третий, — наконец отозвался Семенцов. — Понял вас хорошо. Действуйте. Только держите меня в курсе.
Начальник ОУР колебался и поэтому так долго не отвечал. Бежевые «Жигули» впереди. Поймать паузу; обгон; снова втиснуться в общий поток. Кажется, Семенцов все понял. Больше того, кажется, полковник даже понял, что он уходит от города. Ровнин продолжал обгон, всматриваясь вперед. И вот, только он подумал, что происходит какое-то колдовство и впереди не проглядывается ничего похожего на темно-синюю легковую машину, как увидел мелькнувшее впереди темно-синее пятно. Еще через несколько секунд он понял, что это явно легковая машина. Он прибавил скорость, внимательно следя за тем, как она идет. Идет средне. Теперь уже она была всего в ста метрах впереди. Кажется, это «Москвич». Методично приближаясь к идущему теперь совсем близко синему «Москвичу», Ровнин попытался рассмотреть, сколько же людей в машине. Как будто трое. Да, трое. Причем, как минимум, одна из них женщина. Она сидит рядом с водителем. Очень похоже, что и на заднем сиденье тоже женщина. Ровнин обогнал последний, отделяющий его от темно-синего «Москвича» ГАЗ-24. «Москвич» — вот он, прямо перед ним. Номер не тот, 87–63. Ни четверки, ни единицы, но в принципе номер у них вполне может быть съемным или переворачивающимся.
На обочине стоит мотоцикл ГАИ. В нем два милиционера; остановившись, они наблюдают за машинами. Хороши — никакой реакции на синий «Москвич». Почему? У них нет рации? Или из-за номера?
Мираж. Просто мираж. Если рассудить спокойно, за чем он сейчас гонится? Может быть, ничего похожего, никакой темно-синей легковушки вообще и не было. Ведь вся его погоня основана на показаниях водителя такси. Но водителю такси все это могло показаться. Или, скажем, вдруг он скрытый дальтоник и машина была другого цвета? Уж насчет номера говорить не приходится, ошибиться в номере — раз плюнуть. Почему он пока встретил только один мотоцикл ГАИ? Что, в УВД не сообразили, что нужно держать и выезды?
Некоторое время Ровнин вел свою машину на одной скорости рядом с синим «Москвичом», внимательно разглядывая водителя и пассажиров. Водитель самый обычный. Белесые волосы, хрящеватый нос. Сухощавый, в голубой рубашке с закатанными рукавами. Но главное — этот водитель никак не реагирует на него, не обращает никакого внимания на то, что он едет рядом, вплотную, и внимательно его разглядывает. Женщина, сидящая рядом с ним, верней всего, жена. Полная, в открытом платье, с тщательно уложенной сложной прической. Она вообще совершенно спокойна. Сидит, будто старается рассмотреть что-то на стекле. Сзади дремлет старушка лет шестидесяти. Конечно, все может быть, но это самая обычная семья, и машина здесь явно ни при чем.
Ровнин дал газ и ушел вперед. Проехав по свободному шоссе около километра, он вдруг наткнулся на длинную колонну машин и сразу понял, что стоят они у опущенного шлагбаума. Далеко впереди виден пустой переезд. Еще не веря своей неудаче, Ровнин резко, затормозил. Впереди, метрах в трех перед ним стоит потертый «газик» с сельским номером. Слышно, что где-то далеко идет поезд, но именно где-то. Главное — он никак не может разглядеть отсюда всю колонну, и непонятно, есть ли там что-то темно-синее. Выходит, все его ухищрения, погоня, «лесенка», скорость, все это потеряло сейчас всякий смысл. Не говоря уже о том, что если он угадал, они успели проскочить шлагбаум раньше, и сумеют оторваться от него уже прилично, восстановив разрыв в полчаса, если не больше. А там свернут на какой-нибудь проселок. Значит, он может спокойно возвращаться в город. Потому что если их и будут сейчас ловить, то уже другие.
Ждать, пока пройдет состав и поднимется шлагбаум, пришлось около пятнадцати минут. За это время за его машиной выстроился целый хвост. Через, машину за ним остановился уже знакомый ему темно-синий «Москвич» № 87–63. Ровнин посмотрел на часы: пятнадцать минут пятого. Да, пока все складывается как нельзя хуже. Причем, судя по переговорам в приемнике, в городе их пока тоже не нащупали. Это называется — крупно не везет. И вот, когда колонна наконец медленно тронулась и Ровнин попытался отогнать мысль о том, что он должен вернуться в город, он вдруг явственно услышал ровный гул. Он не сразу понял, что это вертолет; а когда понял и выглянул, то разглядел на хвосте низко проплывшего вертолета цифры патрульной милицейской службы. И почти тут же увидел впереди, в начавшей не спеша растягиваться колонне, темно-синие «Жигули». Он опять включил «лесенку» и понял, что минут через десять нагонит эти синие «Жигули». Правда, он пока не понимал, почему же они идут так медленно. Маскируются? Вглядываясь в синее пятно впереди, Ровнин почувствовал прилив сил, почти радость. «Чему же я радуюсь? — подумал он. — Ведь если в синих «Жигулях» сидят они, то, как только я их догоню, сразу же наверняка последует схватка. Перестрелка, и перестрелка серьезная, не на жизнь, а на смерть». И тем не менее, Прислушавшись к себе, он почувствовал радость. Да, он обрадовался, но по-настоящему обрадовался не возникновению синих «Жигулей», а вертолету. Хотя ясно, что ждать сейчас помощи от этого вертолета, который, жужжа, плывет уже где-то впереди, смешно. Ведь вертолет наверху, и на его борту наверняка никто не знает, что пролетает над машиной Ровнина. Но глухим жужжанием, доносящимся сверлу, вертолет сейчас говорил ему, что Семенцов понял его туманную фразу и догадался, что, он выехал на Московское шоссе. Вот до темно-синих «Жигулей» осталось около десяти машин; теперь семь, пять. Продолжая обгон, Ровнин одной рукой открыл лежащий рядом на сиденье кейс и развернул тряпку, в которую был завернут «малыш». Если в синих «Жигулях» они, то по тому, как он приближается к ним, то и дело вылетая на встречную полосу, они вполне могут понять, что это за ними. Значит, стрельба может начаться с ходу, как только он поравняется с синей машиной. Правда, сначала он попробует обойтись пистолетом, но не исключено, что придется взяться и за автомат. Три машины впереди. Обгон. Две. Обгон. Одна. Ровнин разглядел наконец номер «Жигулей»: 88–52! Не тот. Опять ни четверки, ни единицы. Он обогнал последнюю отделявшую его от «Жигулей» грязно-зеленую потертую «Ниву». Пристроился сзади, вгляделся. Кажется, снова мимо. За рулем «Жигулей» сидит какой-то сжавшийся толстяк. Рядом женщина; на коленях у нее мальчик лет шести-семи. Да, это не то. Явно не то.
Ровнин нагнал синие «Жигули» и пошел с ними рядом, окно в окно. Машина шла медленно, не больше пятидесяти километров, и их, идущих рядом, обходили теперь все машины. Ровнин посмотрел на толстяка. Толстяк посмотрел на него. Толстяку этому лет тридцать пять. Маленький нос. Надутые щеки. На голове не первой свежести белая кепочка. Интересно, что же это в глазах у толстяка? Что же? Просто даже мороз пробегает по коже. Жалко человека. Кажется, в глазах у этого толстяка сейчас самый настоящий ужас. Смертельный страх. Что же с ним? Зрачки расширены, губы дрожат. Да и с женщиной, с ней тоже происходит что-то непонятное. Обхватив мальчика, вцепилась в него так, будто его сейчас у нее вырвут. Ей лет тридцать, и лицо как будто очень приятное, если бы не испуг. Что же с ними? Ну и номер! Впечатление, что им секунду назад кто-то приставил нож к горлу. Или прицелился в лоб. Толстяк смотрит так, будто чего-то ждет. Вот судорожно отвернулся. Глотнул слюну. Выждал. Снова смотрит. В глазах у него ужас, настоящий ужас. Даже непрофессионал понял бы, что здесь что-то не то. Явное не то, и пахнет жареным. Ровнин нащупал пистолет. Может быть, налетчики сидят, спрятавшись под сиденьями? Несколько мгновений он пытался даже не разглядеть, а почувствовать, есть ли еще кто-то в машине. Нет, кажется, кроме этого толстяка и женщины с ребенком, в машине никого нет. Ровнин поднял руку и ладонью показал толстяку: прижмитесь к обочине, остановитесь. Спросил кивком: понятно? Толстяк кивнул в ответ: понятно. Свернул к кювету, затормозил. Поставив свою машину впереди синих «Жигулей», Ровнин подошел к левой передней дверце.
— Что с вами? У вас что-то случилось?
— Н-нет, — запинаясь, сказал толстяк.
Женщина, обхватив мальчика, повернулась к Ровнину. Кажется, она смотрит на него чуть ли не со злостью. Да, она явно его тихо ненавидит. Реакция. Естественная реакция на длительный испуг.
— То есть д-да, — толстяк сглотнул слюну.
— Что значит, «да», «нет»? Это ваша машина?
— Коля! — сказала женщина. — Коля!
Толстяк глянул на нее и тут же снова повернулся к Ровнину. Мальчик, тот просто весь дрожит. Что же случилось? Надо их как-то успокоить. Ровнин достал удостоверение.
— Я из милиции. Что случилось?
Женщина вдруг заплакала, прижавшись к мальчику. Выдавила, дрожа:
— Они. Они же. М-могли нас убить.
Бухнуло, застучало лихорадочно: они. Это налетчики, и он у них на хвосте. Значит, нельзя терять ни секунды. Тут же краем уха Ровнин засек, что жужжание вертолета постепенно исчезает. Вот оно совсем исчезло: вертолет ушел куда-то вперед и в сторону.
— Объясните: кто «они»?
Толстяк умоляюще посмотрел на жену, прижал руку к груди. Его, губы лихорадочно прыгают.
— Я сейчас все расскажу. Они заставили нас остановиться. Они ехали на вот этой машине. Показали пистолет. Я остановился. Они говорят: «Мы из милиции». Говорят, перелезайте и садитесь в эту машину. И езжайте, только медленно.
— Коля, я же тебе с самого начала сказала, что они не из милиции, — прошептала женщина.
— Откуда же я знаю, если угрожают пистолетом? — взвизгнул толстяк. — И если со мной ребенок? Откуда?
— Коля! — Лицо женщины сморщилось.
— Спокойней! — сказал Ровнин. — Спокойней!
Не хватало еще истерики. Окрик подействовал, толстяк удивленно посмотрел на него и вжал голову, будто боялся, что Ровнин его сейчас ударит.
— Сколько их было?
— Четыре человека.
Значит, это они, и они сейчас уходят.
— Мам! — дрожа, сказал мальчик.
— Володенька, молчи. — Женщина прижала его к себе. Мальчик уткнулся ей в грудь и выдавил:
— Мам, мне страшно.
— Молчи, маленький. Молчи. — Женщина погладила его по голове.
— Какого цвета ваша машина? Какая марка? — спросил Ровнин.
— «Жигули». У нас тоже «Жигули», только желтого цвета, — сказал толстяк. — Знаете, этот цвет называется «банан».
«Банан». Но ведь он не должен упускать и эту темно-синюю машину, потому что это улика. Черт, сейчас бы сюда тот мотоцикл ГАИ с двумя инспекторами.
— Номер вашей машины?
— Номер? Шестнадцать — ноль пять.
Ровнин обошел синие «Жигули», присел, осмотрел номер. Похоже, номер здесь двойной. Он нажал на щиток, потянул, и табличка, поддавшись, сползла с нижней. Магнитные края. Вот он, второй номер, тот, который был, когда машина ждала у развилки: сорок один — четырнадцать. Значит, это точно преступная группа, и они сейчас уходят по Московскому шоссе на желтых «Жигулях» № 16–05. Надо немедленно выходить в эфир. Ровнин вернулся к толстяку.
— Ваша фамилия, имя, отчество?
— Молчанов. Молчанов Николай Петрович.
— Где работаете?
— Механик в СМУ-одиннадцать Южинскстроя.
— Николай Петрович, успокойтесь. Преступники будут задержаны, но вы должны оказать нам помощь, и очень простую: никуда не выходить из этой машины, пока к вам не подъедет сотрудник милиции.
На толстяке сейчас просто лица нет от страха.
— Вы… уедете сейчас? М-может быть, вы все-таки подождете?
— Не волнуйтесь, я прямо сейчас вызову милицию по радио. Только никуда пока не выходите, сидите здесь и ждите. Хорошо, Николай Петрович?
— Хорошо.
Строго говоря, он не имеет сейчас права их оставлять. Ведь это, без всяких сомнений, машина налетчиков. Но выбирать сейчас не приходится. Ровнин бросился в свою оперативку, дал полный газ. Эфир. Эфир забит прилично. Ничего, можно попробовать прорваться. Он щелкнул тумблером:
— Третий. Третий. Третий, вас срочно вызывает семнадцатый. Третий Вас срочно вызывает семнадцатый.
Ответа нет. Надо продолжать обгон. Может быть, они уже свернули на проселок и где-нибудь спрятали машину? Ладно. Думать об этом сейчас все равно бесполезно.
— Третий. Третий, вы слышите меня? Я — семнадцатый.
В эфире слышны переговоры ПМГ и СКАМ, но Семенцов не отзывается. Пошел обгон. Впереди — целая вереница грузовиков с кирпичом. Ну, «лесенка», выручай. Выручай, родная. Полная скорость; влево; выждал паузу; вправо. Пристроился, и снова: влево — пауза — вправо. Грузовики уже сзади. Сейчас надо обгонять все машины, которые попадутся на пути; все, которые пока отделяют его от желтых «Жигулей» № 16–05. Вот «газик» с брезентовым верхом. Рывок влево; вправо; торможение; есть «газик». Мешается автобус. Рывок влево; вправо; автобус сзади. Снова влево… Вправо… Торможение… «Лесенка». «Лесенка», выручай. Шоссе надвигается, и впереди, по противоположной полосе, плывет навстречу непрерывный поток машин. Лето, ничего не поделаешь. Только бы они не свернули на проселок.
— Третий, — начиная злиться, сказал Ровнин. — Третий, я — семнадцатый, отзовитесь. Третий, вас срочно вызывает семнадцатый. Всем постам. Вызовите третьего. Всем постам. Вызовите третьего.
Что с Семенцовым, ведь должен же он следить за эфиром и предполагать хотя бы, что он его вызовет. Черт, теперь путь заслонил плечевой трейлер. Обходить такую махину — замучаешься.
— Третий. Третий, отзовитесь, я — семнадцатый.
Наконец-то голос Семенцова:
— Семнадцатый, я — третий, что случилось? Слышу вас. Семнадцатый, где вы? Я — третий.
Легче, теперь намного легче. Насчет же возможного радиоконтроля со стороны налетчиков, плевать, пусть слушают. Потом они давно уже на чужой машине, так что вряд ли могут вести радиоконтроль.
— Третий, я — семнадцатый. Сообщаю: следую за налетчиками по Московскому шоссе, интервал между нами пока примерно минут пятнадцать. Нахожусь в районе двадцатого километра. Угрожая оружием, они пересели в постороннюю машину. Как меня понял?
— Хорошо вас понял.
— Налетчики в машине «Жигули» желтого цвета, оттенка «банан», номер шестнадцать — ноль пять. Их бывшая машина, темно-синие «Жигули» с двойным съемным номером, стоит у девятнадцатого километра. В этой машине люди, которых налетчики туда пересадили, — муж, жена и ребенок. Срочно займитесь этой машиной. Как поняли меня?
Но они-то, они вполне могут рассчитывать, что он не знает не только о желтой, но даже о темно-синей машине:
— Все понял, машиной займемся, — ответил Семенцов — Номер у нее какой?
— Номер двойной, на съемной магнитной табличке номер восемьдесят восемь — пятьдесят два, под ней — сорок один — четырнадцать.
— Понял. Восемьдесят восемь — пятьдесят два, сорок один — четырнадцать. Почему вас не нашел патрульный вертолет?
— Не знаю. Попросите его немедленно связаться со мной, я в районе двадцатого километра. Пусть проверят шоссе и прилегающие дороги и сообщат о всех желтых легковых машинах, двигающихся от Южинска в пределах тридцати-сорока километров. Как поняли?
— Вас понял. Позывные вертолета — «Крыша-девять». Немедленно сообщаю ему о вас. Перейдите на резервную волну, вам будет легче.
— Хорошо, понял. Перехожу на резервную волну.
Ровнин чуть сдвинул ручку настройки. Сразу стало тихо. Только фон. Интересно, сколько желтых машин может оказаться впереди? Желтый цвет не очень хорошо проглядывается в дальномер. Впрочем, они ведь могли еще раз поменять машину. Очень даже могли, точно таким же способом.
— Семнадцатый, — совсем близко сказали в приемнике. — Семнадцатый, я — «Крыша-девять», как меня слышите?
Это вертолет.
— «Крыша-девять», я — семнадцатый, — сказал Ровнин. — Слышу вас хорошо. Где вы?
— В районе Люсиновки.
Махнули. Это примерно в пятидесяти километрах впереди.
— Вам передали просьбу о желтых машинах?
— Да, передали. Видим под собой желтую легковую машину похожего оттенка, вернее всего, «Москвич», движется в общем ряду. Больше желтых легковых машин под нами пока нет.
— Сообщите о ней ближайшей ПМГ и вернитесь чуть назад, примерно в район двадцать второго — двадцать пятого километра. Продолжайте наблюдение.
— Понял вас хорошо. Возвращаемся, продолжаем наблюдение.
Нет, это должны быть «Жигули», А может быть, им и нет никакого смысла сворачивать на проселок из-за вертолета, которому легче будет их там увидеть.
Ровнин по-прежнему шел на полной скорости, продолжая обгон. Он непрерывно отжимал то тормоз, то сцепление, переводил рукоятку скорости, то прибавляя, то сбавляя обороты, то разгоняя мотор, то резко тормозя. Так он ехал довольно долго и вдруг, когда он меньше всего ожидал этого, увидел впереди, совсем близко, желтые «Жигули».
«Жигули» стояли на обочине, и при подъезде ему показалось, что в машине как будто никого нет. Вглядевшись, Ровнин понял, что это не просто обочина, а небольшая стояночка на шоссе, крохотный асфальтовый прямоугольник. Номер? Номер тот самый: 16–05. Ровнин затормозил и огляделся: сразу за обочиной тянется пышный летний луг, примятостей на нем как будто не видно, за ним, метрах в пятидесяти, идет волнами густой садовый кустарник. Может быть, они спрятались в кустарнике? Нет, вряд ли, прятаться гам и терять преимущество в отрыве им как будто не имеет никакого смысла. Тогда что же? А ведь вполне может быть, что они могли держать здесь, на этой стоянке, еще одну подготовленную ими машину. И уехать на ней, уже с гарантией. Значит, они от него все-таки оторвались. Ровнин огляделся: мимо в обе стороны идут машины, и больше никого кругом, только поле и кустарник. Никого, кто мог бы сказать, что происходило несколько минут назад на этом асфальтовом пятачке. Нет, он должен продолжать поиск. Должен продолжать движение «лесенкой», обращая теперь внимание на все машины, в которых сидят четверо или пятеро мужчин. Пятеро — потому что пятый мог их ждать в машине на стоянке. Четверо или пятеро мужчин в одной машине — довольно редкий расклад. Он так и сделает. С сожалением оглянувшись на желтые «Жигули», Ровнин отъехал и сразу же вызвал вертолет.
— «Крыша-девять»! «Крыша-девять», я — семнадцатый. Как меня слышите?
— Слышу вас хорошо.
— На обочине в районе двадцать пятого километра обнаружил желтые «Жигули» номер шестнадцать — ноль пять без пассажиров. Предполагаю, что налетчики бросили эту машину и пересели в другую, подготовленную заранее. Как меня поняли?
— Понял вас хорошо, семнадцатый.
— Продолжаю преследование и поиск всех машин, в которых будут находиться пятеро или четверо мужчин. Прощу передать такое же указание всем заградпостам и ПМГ по Московскому шоссе, а также оперативным силам в районе двадцать пятого километра.
— Все ясно. Надо вести поиск машин, в которых сидят четверо или пятеро мужчин.
Ровнин продолжал двигаться «лесенкой», следя за потоком машин впереди и старательно оглядывая те, в которых было много пассажиров. Он понял — теперь возможность засечь их на большой скорости резко сократилась, так как ему приходится считать пассажиров в каждой машине. Ну а если они догадливые? И двое задних, допустим, лягут на пол? Опять запахло утопией. Утопией, призраком, за которым он гонится впустую.
Так он проехал километров пять, проверяя каждую машину. По четыре в машинах сидели довольно часто, но обязательно с женщинами. Трое мужчин и женщина, двое мужчин и две женщины. Наконец он увидел впереди зеленый «Москвич», в котором как будто бы сидели одни мужчины, четверо или пятеро, понять издали было трудно.
«Москвич» шел на средней скорости в общем ряду, не пытаясь никого обгонять. Оставив сзади около пяти машин, Ровнин чуть приблизился к этому «Москвичу», пытаясь разобрать, кто же там сидит. Издали ему показалось, что в нем четверо мужчин, двое впереди и двое сзади. Они? Вполне может быть, что они. Только не надо торопиться. И почему они едут на средней скорости в общем потоке? По идее, им надо сейчас уходить на всех парах, так как они должны думать только об одном: как можно дальше оторваться от погони Должны. А может быть, не должны?
Ведь они наверняка и видели и слышали вертолет. Значит, отлично поняли, что сейчас лучше всего не вырываться из общего потока. Не привлекать внимания. Он обогнал еще две машины. Всмотрелся. Теперь между ним и зеленым «Москвичом» оставались только два грузовика и чуть подальше, прямо за ядовито-изумрудной коробкой, идущая впритирку к «Москвичу» серая «Волга». Эта «Волга» сейчас сильно ему мешала, так как загораживала номер. Нет никакого сомнения, что в зеленом «Москвиче» сидят четверо и все четверо мужчины. Может быть, даже, это самые мирные люди, но он должен считать, что это налетчики. И действовать соответственно. Жаль, что из-за серой «Волги» он пока никак не может разглядеть номер «Москвича». Но в любом случае надо вызывать вертолет.
— «Крыша-девять», я — семнадцатый, — сказал Ровнин. — «Крыша-девять», вы меня слышите? Где вы?
— Семнадцатый, я «Крыша-девять», — тут же отозвался голос. — Находимся в районе пятидесятого километра. Что у вас?
— Я в районе тридцать первого — тридцать второго. Следую почти вплотную за машиной «Москвич» зеленого цвета. В машине четверо мужчин. Предполагаю, что это налетчики. Предупредите посты и подходите ко мне. Попробую задержать их самостоятельно. Как поняли?
— Понял вас отлично.
— Немедленно сообщите третьему.
— Понял вас. Сообщаем третьему и срочно идем к вам.
Идущий впереди грузовик, будто понимая, что Ровнин спешит, уступил дорогу. Ровнин обогнал его, а заодно и второй грузовик. Теперь его отделяет от зеленого кузова одна серая «Волга». Он по-прежнему никак не может рассмотреть номер. Ну что стоило бы этой «Волге» отстать, самую малость, чуть-чуть. Ясно, что эти четверо давно уже могли заметить его машину и в зеркало, и в заднее окно. Они вполне могли к тому же и понять, кто он такой. Понять или просто насторожиться. Но понять пока, даже если он включит громкоговоритель, они смогут только одно: что он из милиции. Всего только. Не больше. А его в каком-то смысле это даже устроило бы. Пусть они подумают, что он из ГАИ. Сейчас идеально было бы придумать какой-то повод, чтобы попытаться на голубом глазу, в лоб притормозить их. Но какой? Самым лучшим было бы, конечно, придраться к превышению скорости. Но пока они идут, ничего не превышая. Если же он попросит их, допустим, притормозить из-за несуществующего превышения скорости, ни с того ни с сего, они сразу же насторожатся. А впрочем, почему он должен этого бояться? Пусть думают, что он из милиции. Главное — они должны быть убеждены, что он не вооружен ничем, кроме пистолета.
Ровнин протянул руку и осторожно переложил «малыша» на колени. С самого начала его очень привлекала эта идея. Не нужно пока обгонять эту серую «Волгу». Пусть она прикрывает его от них — иначе они могут догадаться, что он что-то перекладывает и прячет. Ровнин выпустил край рубахи, втянул живот. Втиснул автомат под брюки, под ремень. Заправил рубашку. Не очень удобно, но если начнется схватка и ему придется стрелять по ним из-за укрытия, они не заметят, что у него автомат. Пряча машину от обзора за серой «Волгой», Ровнин вытащил пистолет, зажал его между, коленями и оттянул предохранитель. Положил пистолет на сиденье, под левую руку.
Проделав все это, он глубоко вздохнул. Ну что ж. Теперь можно смело обгонять «Волгу». Он перевел машину влево, быстро пересек осевую, пристроился за «Москвичом» и сразу же увидел их номер: 45–27.
Все четверо сидят в машине, не оборачиваясь. И справа и слева от шоссе пока тянется поле; справа вдали видны какие-то домики. Нет, схватка сейчас вряд ли начнется. Им нет никакого смысла устраивать затор на шоссе. Ровнин подал чуть влево, прибавил и пошел рядом с зеленым «Москвичом». Сидящие в машине не обращают на него никакого внимания. Все правильно, если это налетчики, то так и должно быть. Тех, кто сзади, рассмотреть сейчас трудно, но сидящий рядом с водителем, плотный, лет тридцати, очень похож на «Рыжего». Волосы, выбившиеся из-под голубой туристской шапочки, у него явно рыжеватые. Жаль, что он не видит задних. Лопоухого или «Маленького» он узнал бы с полувзгляда. Ладно. Они едут и не смотрят на него, но в любом, случае надо попытаться их притормозить. Пока не подойдет вертолет. Только вот где этот вертолет? Он пока не слышит даже звука его мотора. Ровнин покосился на зеленый «Москвич» и уловил на заднем сиденье какое-то движение. Кажется, они догадались, что он едет рядом неспроста, и готовятся. Сейчас он скажет им что-нибудь в громкоговоритель. Неважно что, главное, чтобы они поняли, что в его машине установлен громкоговоритель. Голос его при этом должен быть спокойным, даже чуть-чуть ленивым. Пусть думают, что он разомлевший от жары сотрудник ГАИ. Ровнин включил громкоговоритель:
— Сорок пять — двадцать семь! Сорок пять — двадцать семь!
Никто из них не повернулся, но он уловил, как губы «Рыжего» шевельнулись, и тут же зеленый «Москвич», резко прибавив, ушел вперед. Что ж, теперь у него есть полное основание притормозить их за превышение скорости. Ровнин легко нагнал зеленый «Москвич», взял левой рукой пистолет. Сейчас они вполне могут открыть пальбу. Так и есть: по затылкам сидящих на заднем сиденье он понял, что они быстро и напряженно двигаются, верней всего, готовят оружие. Сказал:
— Сорок пять — двадцать семь, вы превышаете скорость! Остановите машину! Сорок пять — двадцать семь! Немедленно остановите машину, сорок пять — двадцать семь!
Сидящие сзади пока не оборачиваются, но он хорошо видит их затылки. Так. Водитель отреагировал на его слова. «Москвич» резко прибавил и идет теперь под сотню. Кажется, они все поняли и стали уходить. Повернут? Да. Свернули вправо и пока уходят от него по обочине, обгоняя общий поток. Его дело сейчас маленькое: не отпускать их ни на метр. И быстро связаться с вертолетом. Ровнин отключил громкоговоритель и сказал:
— «Крыша-девять», я — семнадцатый. Налетчики в зеленом «Москвиче» номер сорок пять — двадцать семь. Обнаружили меня и уходят на полной скорости. Преследую их вплотную. Возможна перестрелка. Как поняли?
— Понял вас хорошо, семнадцатый. Идем к вам. Предупреждены все посты, поднят оперативный отряд, две ПМГ следуют к вам в предельной близости. Мы тоже скоро будем. Держите нас постоянно в курсе, слышите, семнадцатый?
— Спасибо. Попробую.
Поля по краям шоссе кончились. С двух сторон пошли яблоневые и грушевые сады. Выплыл и остался позади указатель поворота направо: «Троицкое — 800 м». Троицкое — это, кажется, поселок и крупный совхоз. Точно, совхоз, и расположен он примерно в десяти километрах от шоссе. Надо ждать, что они сейчас завернут именно туда, потому что у них появился шанс спокойно, без помех, убить его в яблоневых садах. Так и есть. Сворачивают. Зеленый «Москвич» резко вильнул, заюзил, завизжали тормоза. Машина ушла вправо, нырнув в деревья, и Ровнин тут же повернул за ней. Щебенка. Серый, вбитый в высохшую землю щебень, и никого вокруг, одни яблони. Да, они сейчас выжимают из своей машины километров сто сорок. Все, игрушки кончились, надо стрелять по их протекторам. Только делать это надо не сейчас, а на открытом пространстве, иначе вертолет может их просто не найти среди деревьев.
— «Крыша-девять», я — семнадцатый, — сказал Ровнин. — Налетчики свернули на щебенку вправо, едут в сторону Троицкого. Следую за ними. Как меня поняли?
— Все ясно, семнадцатый. Сейчас же сообщим об этом ПМГ, и держим курс туда.
Наконец-то сады кончились. Вокруг потянулись бахчи. Дыни, тыквы, арбузы. Ровнин взял пистолет левой рукой и включил громкоговоритель.
— Сорок пять — двадцать семь, не усугубляйте свою вину! Немедленно остановите машину! Сорок пять — двадцать семь! Немедленно остановите машину! В противном случае вынужден буду открыть огонь!
Один из сидящих сзади обернулся, и Ровнин сразу узнал в нем лопоухого. Лопоухий некоторое время смотрел на него и наконец поднял на уровень глаз пистолет. Хорошо. Значит, они не принимают его всерьез. Надеются испугать пистолетом. А в случае чего и пристрелить из него же. Чтобы, не дай бог, если кто работает рядом, не услышал. Ну что ж, пробуйте, гады. Целься, целься, лопоухий. На такой скорости, через стекло, на щебенке — ты не только в меня, ты и в слона не попадешь.
— Немедленно остановитесь, сорок пять — двадцать семь.
Надо ждать, что они вот-вот затормозят. Ровнин выставил левую руку с пистолетом в окно, целясь в ближнее колесо.
— Остановитесь, или стреляю!
Ровнин уловил звук разбитого стекла; это выстрелил лопоухий. Пуля даже не царапнула машину, но лопоухий, целясь, продолжал стрелять, и один выстрел каким-то чудом попал в правую часть лобового стекла. Надо не обращать внимания на выстрелы, самое главное сейчас — поймать момент их торможения. И он поймал, потому что, когда они наконец затормозили, Ровнин успел дать тормоз лишь мгновением позже. Машины пошли юзом, выбивая щебень, и именно в этот момент он успел двумя выстрелами пробить у них оба задних колеса. Пока они открывали двери, Ровнин вывалился из машины и выстрелил в воздух так, что всем четверым пришлось сразу же лечь на землю.
— Сдавайтесь! — крикнул Ровнин, отползай за заднее колесо. — Сдавайтесь, сопротивление бесполезно! Вы окружены и блокированы! Подходит вертолет!
Он прислушался: кажется, кто-то из них отползает в правую сторону. Да, хорошо слышно громкое шуршание. Нельзя позволить им окружить себя. Ровнин быстро выглянул из-за колеса и тут же выстрелил на звук. Шуршание прекратилось.
— У него осталось пять патронов, — сказал кто-то. Сразу же отползший справа защелкал из-за арбузов пистолетом. Раз выстрел. Два. Три. Двумя ответными выстрелами Ровнин заставил его прекратить стрельбу и по звуку понял, что тот отполз чуть дальше.
— Сдавайтесь! — крикнул Ровнин. — В противном случае буду вести огонь на уничтожение! Считаю до трех!
У зеленого «Москвича» молчали.
— Повторяю, считаю до трех!
Прижавшись к земле, Ровнин сунул руку под брючный ремень и осторожно вытащил «малыша». Быстро подтянул его по земле к груди — и тут же понял, почему они так осторожно стреляют. Они просто боятся повредить его машину. Ведь их машина уже не на ходу. Конечно. Они рассчитывают быстренько убить его и уйти отсюда на оперативных «Жигулях», бросив свой продырявленный «Москвич».
— Раз! — крикнул Ровнин. — Два!
Тут же он увидел, как «Шофер» пополз влево. Ровнин выстрелил по нему прицельно. «Шофер» замер на месте и секунд через пять застонал. Значит, он в него попал, и попал серьезно, иначе бы тот молчал.
— Не дайте ему перезарядить, — сказал тот же голос. — У него один патрон.
И в самом деле, в пистолете у него остался один патрон. Все знают, сволочи, и систему пистолета успели определить! Ровнин нащупал правой рукой «малыша». Ничего. По идее, они сейчас должны кинуться на него. Может быть, они сделают перед этим что-то отвлекающее. Только он подумал об этом, как о крыло разбился брошенный справа ком земли. Ровнин сжал «малыша» и увидел, как они рванулись к нему с двух сторон, стреляя на ходу: двое слева, один справа. Короткой очередью он сбил первого — это был, как он понял, «Длинный» — и, чувствуя, что его задело и что силы уходят, безжалостно ударил в упор по набегающим «Рыжему» и лопоухому. Оба упали буквально в метре от него. Лопоухий попытался приподняться — и лег. Кажется, попал он по ним прочно и серьезно, но и его задело. Да, кажется, его довольно прилично задело, продырявили его все-таки, сволочи, и он сейчас чувствует, что слабеет. Черт, весь левый бок прямо горит. Главное, боли он пока не чувствует, но бок горит, будто его сожгли. Что же это с ним? Вот так вот, наверное, умирают. Вот его собственная рука — безжизненная, бессильная. А это шум вертолета. Да, шум вертолета. Но, кроме этого шума, больше ничего уже нет. Ничего, совершенно ничего.
Когда Ровнин очнулся, то увидел над собой чье-то лицо. Лицо плыло над ним, шевелясь, качаясь; оно то уходило в туман, то возвращалось Ч го же это за лицо? Чье же? Надо остановить его, приказать ему остановиться. Остановить. Постепенно это ему удалось. Лицо наконец остановилось. Но Ровнин по-прежнему не видел, кто это. Он просто понял, что остановившееся лицо — лицо женщины. Что же это за женщина? Кто она, откуда? Ему очень хотелось бы знать это.
Ганна. Конечно, без всякого сомнения, это Ганна, ее губы шевелятся, но что же она ему сейчас говорит? Нет, она ничего не говорит, она просто плачет. Плачет, губами и языком слизывая слезы.
Кажется, его прооперировали. Прооперировали, потому что внутри все как будто стянуло. Больно. Очень больно. Он попробовал позвать Ганну, двинул языком и почувствовал, что ему что-то мешает. Что же это? Какой-то предмет. Вот это что: резиновая трубка! Стома. Значит, он в реанимации. А вот капельница.
Ганна заметила, что он смотрит на нее. Ровнин собрал все силы, которые только в нем были, и понял, что все-таки не сможет спросить, что же с ним. Ему трудно просто открыть рот и задать вопрос. Простой вопрос: «Что со мной?» Все-таки он спросил, но вместо вопроса из его рта вывалилось одно шипение.
— Ш-шо… шо… шо-ой?
Ганна лихорадочно вытерла слезы.
— Андрюшенька.
Заулыбалась. Зарыдала в голос. Наконец успокоилась. Пригнулась к нему.
— Андрюшенька, все будет хорошо. Ты слышишь? Все будет хорошо.
Нет, он не в реанимации. В реанимацию посторонних не пускают. Что же с ней? Почему она так плачет? Ровнин молча закрыл и открыл глаза: она должна понять по этому его знаку, что он думает то же самое, что она сказала.
Андрей ДМИТРУК ЛЕСНОЙ ЦАРЬ
Безымянная планета, пока что обладавшая только номером в каталоге ЗП (земноподобных), не была чрезмерно опасной для разведчиков, но и не радовала их уютом. Была она заключена в двойной кокон; две оболочки — облачную и болотную. Можно было годами путешествовать по ней и не видеть ничего, кроме тусклого блеска мелких стоячих вод, ядовито-зеленой плесени с отдельными островами джунглей. В болотах копошилась обильная прожорливая жизнь, рожденная темно-красным солнцем.
Но катер земной разведки все-таки вспорол облачное покрывало, поскольку в заманчивой близости от болотного мира серебрился в небе объект Икс.
Во время полета Виола, обычно мало интересовавшаяся космологией, задала неожиданный вопрос;
— Ты мне можешь объяснить по-человечески, что это такое — ваш объект Икс?
— По-человечески?! — Улдис отставил чайный стакан. — А впрочем, Ви, ты права, — я слишком привык к специальной терминологии… Этот Икс совершенно не похож ни на что известное нам… У него есть линейные размеры, но полностью отсутствуют масса, тяготение, вообще какие-либо признаки стационарного вихря континуума…
— Спасибо. Считай, что я поняла.
— Ну-у, девочка моя, я даже не подозревал, что разведчики не знают азов метатеории абсолюта!
— Так же, как абсолютисты не знают азов навигации, — что для них еще более стыдно, поскольку корабли называются абсолютистскими.
Улдис давно убедился, что способность Виолы язвить намного превосходит его собственную, а потому пошел на мировую:
— Хорошо, согласен, слушай. Любая элементарная частица есть стационарный вихрь пространства-времени; субстанция пространства-времени, «скручиваясь» в вещество, проходит промежуточное состояние, некогда названное единым полем. Единым, потому что тогда еще не нашли формул абсолюта, рождающего континуумы… Одним словом, вокруг любого сгустка вещества должна быть переходная область от вещества к «чистому» континууму — область гравитации, электромагнитного, мезонного, нуклонного и других полей. Ясно? А вокруг Икса ничего такого нет.
— Ага, — сказала Виола, стараясь не выглядеть слишком невежественной. — Значит, Икс — это не вещество?
— Похоже, что так. Бьернсон предложил интересную идею: по его мнению, Икс представляет собой микроконтинуум, то есть самостоятельную изолированную вселенную, метагалактику. Взаимное притяжение всех находящихся в Иксе тел равно энергии их общей массы; таким образом, вся энергия сбалансирована внутри Икса и не может излучаться в наши измерения.
— Забавно! — обрадовалась Виола. — Вселенная-карлик, которая плавает в нашей… в большой.
— Да, с вашей точки зрения, — карлик, не больше Юпитера.
— И там, внутри, тоже есть галактики, звезды, планеты — может быть, разумная жизнь?
— По законам абсолюта, возникающие континуумы подобны.
Виола прихлебнула остывший чай. Ее взгляд, уставленный в глубину голоэкрана, стал шальным и отрешенным, губы тронула улыбка. Улдису нравились в ней эти внезапные переходы настроений, но они же и печалили физика, потому что являли всю неуловимость, непредсказуемость Виолиной души. Оставалась, вечная тревога, боязнь спугнуть, потерять…
— А мы когда-нибудь проникнем туда… внутрь Икса?
— Кто знает!
— А если проникнем, что с нами случится?
— Ничего особенного. Наши базисные частицы, мельчайшие дискретные вихри, будут восстановлены в местном континууме и, стало быть, совместятся по масштабу с базисными частицами Икса. Эта вселенная будет для нас такой же необъятной, как наша.
Виола нехотя оторвалась от созерцания черного провала, с привычной ясностью и твердым прищуром глянула на Улдиса.
— И вы собираетесь… ломать, долбить эту вселенную вашими страшными генераторами?
…Теперь, во время четвертой экскурсии после посадки, их окружала равнина цвета бриллиантовой зелени, — бескрайнее поле больших и малых мохнатых пузырей монотонно убегало под закругленный нос гравихода. Приближаясь, разводила концы в стороны, разгибалась тупая подкова сиреневой опушки леса.
И Виола сказала Улдису:
— Ул, дай мне таблетку. Видишь — начинается!
Он уже и сам видел. Над машиной металась, то рассыпаясь в стороны, то почти облепляя обзорный купол, стайка маленьких летучих существ. «Лицо» каждого из них представляло собой один сплошной глаз под складчатой шапочкой верхнего века. Каждый летун то вдруг надувался скользким мячом, то, резко выбросив из себя воздух, делался тощим и стройным. Пролетал несколько метров, а затем распускал белесый цветок тонких перепонок, медленно планируя и надуваясь для нового прыжка.
Прямо по курсу лопнула в нескольких местах плесень. Выбросившись из воды, полудюжиной мощных присосок влипла в купол сизая, желто-пятнистая тварь, со стороны брюха напоминавшая грубый шестиугольник. Посреди брюха у твари был круглый рот, окаймленный жесткой шерстью.
Виола съела наркотическую таблетку и теперь спокойно касалась биопанели. Сама она никак не могла справиться с тошнотой, возникавшей при виде обитателей болот. Улдис же из-за обостренного самолюбия не хотел пользоваться таблетками и теперь сидел бледный, вжавшись лопатками в спинку кресла и стиснув подлокотники.
Разведчица сняла тяготение вокруг купола — и тварь, мигом свернувшись в тугой кулак, отлетела и плюхнулась в воду. Очевидно, ее напугала потеря веса.
…Виола и Улдис уже несколько раз испытали на себе странный обычай местной фауны, скапливавшейся вокруг лесистых островов, — нападать в определенном порядке, будто по составленной кем-то программе. Сначала появлялись летучие наблюдатели, затем гравиход атаковали мелкие вредоносные особи, их сменяли все более активные и сильные твари, вплоть до гигантских экземпляров, — и, наконец, если гравиход не обращался в бегство, наваливалась масса скользких тел, кольчатых волосатых щупалец, присосок, заливала купол бурой и красной слизью и бесновалась до тех пор, пока машина не уходила прочь от леса. Тогда чудовищный груз сползал, сваливался в воду.
Увы, на сей раз отступать не приходилось. Болотный мир был избран физиками для строительства колоссальных генераторов. Отсюда, и только отсюда можно было вести правильную осаду объекта Икс, обрушивать на него удары различных энергий — частот «единого поля…». Перед высадкой Улдис и Виола вывели катер на орбиту спутника планеты и несколько дней собирали данные о ее поверхности. Остров, к которому они теперь приближались, — шапка непроходимого леса диаметром в пятьдесят километров, — относительно сухой и богатый рудами, был самой удобной строительной площадкой.
…Тогда, на катере, Улдис подумал: «Вот так она всегда меня ловит. Всегда? Весь полет. Я вынужден обдумывать каждое свое слово более тщательно, чем когда бы то ни было. И я уже, честное слово, плохо помню, что было со мной до полета. Как будто всю жизнь смотрел в карие глаза Виолы и напряженно подбирал слова для разговора. Виола никогда не хитрит, и я «ловлюсь», попадаю в неловкие ситуации со своим профессионально изощренным мышлением именно благодаря ее прямолинейности. Что, если бы полет происходил сто лет назад, на релятивистском звездолете, и мы с ней действительно летели бы всю жизнь? Как летят еще где-то прадеды, которых наши современники снимают с медлительных кораблей или ждут в местах назначения…»
— У нас нет другого выхода, Ви. Надо же как-то исследовать Икс. Если будем ждать, пока появятся лучшие методы исследования, так ничего и не дождемся, просто остановится прогресс науки. Ясно? Новые методы можем создавать только мы сами, и только всесторонне проверив старые, на базе экспериментального материала.
— Но ведь там могут погибнуть целые населенные галактики! Это стоит прогресса твоей науки?
Улдис попытался отшутиться:
— А-а, карамазовский вопрос…
— Стоит или не стоит, Ул?
— Еще не факт, еще далеко не факт, что Икс действительно Вселенная.
— Все равно! Раз есть хоть один крошечный шанс, нельзя трогать Икс! Нельзя!
Вот такой он ее просто обожал. У него дух захватывало, когда Виола, разрумянившись, ослепительно сверкая карими глазищами, обрушивала на Улдиса порыв радости или гнева.
— …В конце концов, сам Бьернсон должен быть против! Это… это чудовищно, это будет самое большое преступление в истории! Я заставлю Совет Координаторов выслушать меня, подниму все Круги Обитания! Вы считаете, что разведчик не имеет права голоса, что он — раб интеллектуальной элиты!.. Даже если меня никто не поддержит, имей в виду: в день эксперимента я поставлю свой корабль между излучателями и объектом Икс!
«И заставишь, и поднимешь, и поставишь свой корабль, если захочешь, кто перед тобой устоит, звезда моя!» — мысленно восторгался Улдис. Хотелось уткнуться ей в колени и со всем, со всем заранее согласиться. Но мужское самолюбие приказывало не поддаваться, переспорить, победить:
— Как это все нелепо, милая моя! Двести лет назад Фридман считал, что некоторые элементарные частицы тоже могут быть микровселенными, галактиками, с разумной жизнью. Но из-за этого никто не перестал строить ускорители, сталкивать частицы друг с другом! Так почему же мы должны, в угоду отвлеченным домыслам, отменять реальный физический эксперимент?
…Позже, с орбиты катера, они увидели однажды зрелище, неправдоподобное даже с точки зрения разведчика. В изумрудно-зеленом проливе между островами столкнулись две лавины болотных тварей, словно каждый из островов выслал свою армию. Плесень была взбаламучена, пролив быстро стал грязно-бурым, и в нем возилось что-то, казавшееся сверху массой свежих потрохов. А на следующий день плесень опять затянула пролив, и острова соединила, словно мост, выросшая за ночь, лесная перемычка…
…Сейчас же остров пытался всей своей силой раздавить гравиход. Из тесноты стволов, чьи кроны напоминали бурую цветную капусту, изо всех щелей живой, волнующейся чаши поползли, будто взбудораженные пожаром, темные, липко блестевшие тела. Природа, подобно гениальному живописцу, не придерживавшаяся никакой определенной школы, — природа под низким небом сырого и жаркого мира занялась сюрреализмом.
Гравиход, повинуясь пальцам Виолы, с быстротой мигания резко увеличивал и уменьшал тяготение вокруг себя, то высоко подбрасывая атакующую массу, то обрушивая ее со стократно увеличенным весом на поверхность воды, на берег. Так двигался гравиход, по касательной взлетая над берегом, и лес рывками расступался и смыкался под его днищем, как шерсть, в которую дуют.
А затем атака прекратилась, только новые летуны-наблюдатели стайкой взмыли из чаши взамен уничтоженных, повисли парашютиками, надуваясь…
…Заканчивая болезненно-напряженный разговор, Виола сказала категорически:
— Я знаю долг разведчика, и я выполню его. Ваша группа получит все необходимые данные. Но если мы вернемся, я тоже сделаю все, что обещала.
Разведчики никогда не говорили — «после возвращения», а всегда только: «если вернемся». Нелюбовь загадывать на будущее превратилась у них в суеверие, так же, как привычка напутствовать друг друга фразой: «Большой удачи, легкой смерти». У Виолы шансы прожить еще год были в десятки раз меньше, чем у десантника, проходившего по следам разведки; в сотни раз меньше, чем у строителя, с целым флотом являвшегося в мир, изученный разведкой и освоенный десантом. Улдис почти не надеялся, что его связь с Виолой продлится дольше полета. Разведчики жили мгновением; к тому же он прекрасно чувствовал, что восторг первых дней угас у Виолы, наделенной как способностью увлекаться, так и изрядным скепсисом, — угас и сменился разочарованием, равнодушием. Может быть, она искала ведущую опору? Человек эпохи абсолютистских кораблей никогда не чувствовал необходимости что-либо скрывать, поэтому Улдис знал во всех подробностях историю недавнего странно однобокого, «духовного», но тем не менее очень яркого романа Виолы. Романа с еле живым, начиненным протезами биологом Куницыным на планете Химера, где оба они — Виола и Куницын — налаживали контакты с негуманоидным разумом. В описаниях сердечной подруги, да и в космических хрониках, Куницын выглядел святым: сплошной научный подвиг, постоянная игра со смертью, редкая самоотверженность. Вот это был экземпляр мужчины, подходящий Виоле. А он, Улдис? В минуты самых жарких объятий он ощущал себя лишь халифом на час, ловким говоруном, подвернувшимся в момент женской слабости… или, что еще менее лестно, опустошенности.
Куницын умер, успев изменить всю жизнь Виолы, — именно после его смерти она бросила десантную базу на Химере и страстно занялась разведкой. Куницын умер, но образ его царил. Это было обидно — чувствовать, что никогда не сравняешься с покойником, что к близости с тобой только снисходят.
И Улдис окончательно замолчал после холодных, твердых слов Виолы, ставивших под сомнение возможность эксперимента. Молча выплеснул остатки чая в утилизатор, бросил обе чашки в моечный шкаф и занялся полетными расчетами. Но не успел он еще положить пальцы на биопанель ввода, как его шею вдруг обвили гибкие руки, и шелковисто-сухие губы Виолы прижались к его щеке…
…Испуганно дернулись губчатые осклизлые стволы, росшие словно из сплошного ковра пористой резины. Жирные ползучие канаты вобрали свои белесые, слепо шарящие по воздуху отростки. Гравиход мягко лег на днище в центре острова. Лес окружал большую, голую, болотистую равнину, красновато-бурую глиняную топь, на которую по краям наползали живые языки резинового ковра. Не показывались перепуганные твари, и даже бесстрашные летуны деликатно парили в отдалении. Машина выбросила паучьи ноги эффекторов, вооруженных бурами. Предстояло взять на разной глубине образцы грунта.
При погружении буров никакие скачки тяготения не были допустимы, поэтому приходилось защищаться иначе. Улдис открыл нижний сегмент купола и сел на борт с пистолетом в руке. Но никто не спешил нападать.
— Да, гнусное местечко, — сказал Улдис. — Но, честное слово, мне почему-то не хочется улетать. Хотя и делать нам тут больше нечего. Мне кажется, что на Земле…
Виола, отчужденно следившая за приборами, так и не узнала, что же должно произойти на Земле. Шкала отметила вход бура-3 на глубину 1034 сантиметра и резкое падение сопротивления, словно бур вошел в желе. После этого все буры были выброшены из почвы с такой силой, что блестящие лапы эффекторов лопнули в сочленениях и со звоном ударили по куполу, разбив его, как яичную скорлупу.
Купол экранировал экипаж от ударов гравитации, поэтому Виола не смогла отбросить вдруг налетевшую бешеную свору болотных жителей. Оставалось только удивляться, какая сила торпедировала со всех сторон эти неуклюжие сгустки мяса, перепонок и щупалец… Стараясь не смотреть ни на что, кроме биопанели, Виола рывком, против всех правил, дала машине вертикальный взлет. Липкое и тяжелое ударило сзади по шлему, пенистые белые сосульки мазнули панель, оставив полосы. Затем из-за спины сверкнула радужная вспышка выстрела и яростно закричал Улдис.
С надрывным свистом гравиход мчался вверх — присоски и клейкие тяжи лопались, соскальзывали с его боков.
— Ви, у меня пистолет забрали, — сорванным голосом сообщил Улдис. — Просто из руки вырвали!
Она обернулась. Друг сидел мешком, уронив руки на колени, и жалобно моргал. Прямые рыжие пряди волос прилипли к его лбу. Скафандр отталкивал жидкость, но пол и сиденья были залиты багровой, в молочных разводах секрецией, густой, как кисель и, очевидно, смрадной.
— Как вырвали?
— Не знаю. Я одного расквасил, а тут… смотрю, уже весь пистолет опутан какими-то нитями, вроде грибницы. Ну, и выдернули, ясно?
Ох, как ее раздражало это вечное «ясно»! Ничего еще не было ясно, а если бы и стало, то наверняка не в пользу Улдиса. Их отношения становились вынужденными, последние дни Виола была ласковой только из чувства морального долга.
Она протянула руку к Улдису — и отдернула. В шлеме друга отразилась радужная вспышка. Хорошо знакомая радужная вспышка пистолетного выстрела над головами, в стеганом ватном небе.
Промах.
Еще вспышка — гораздо ближе и ярче. Плазменная «пуля» взорвалась рядом, гравиход задрал правый борт, и к нему угрожающе рванулся снизу, на мгновенье встав дыбом, шевелящийся мохнатый лес.
От толчка Улдис повалился прямо на биопанель, машина заплясала, заметалась.
Выстрел. Очевидно, беспорядочные рывки гравихода спасли его от попадания. Улдис ползком пробрался к Виоле, схватил ее кобуру. Виола, также пряча голову, молча боролась, не давала вытащить пистолет. Но физик был сильнее…
Едва освободившись от хватки друга, она заставила гравиход продолжить танец, и Улдис, успевший принять боевую стойку с пистолетом в руке, опять позорно грохнулся между креслами.
— Не смей, слышишь?
— Прошу тебя, Ул, милый… — бормотала Виола, не снимая пальцев с панели и глядя только на приближающуюся зеленую равнину. — Не надо, не надо, мы уже сейчас улетим отсюда, не стреляй, не…
Слезы потекли неудержимо, стали пощипывать шею, скапливаясь в горловине скафандра. Она не хотела оглядываться на Улдиса. Виоле было страшно, как никогда в жизни, и совсем не потому, что сзади красивыми замедленными прыжками догоняла машину стайка глазастых летунов…
— Имитаторы! — орал Улдис, лежа животом на крышке продуктовой камеры. — Я о таких читал — не помню, в какой системе они водятся. Это никакой не разум! Они просто подражают моим действиям! Ясно?
Теперь его только радовало отсутствие купола. Поерзав, Улдис зацепился носками ботинок за стебли кресел, прицелился через кормовой борт. Он был охотником, был воином на тропе войны — до чего звонкое, полноценное ощущение! А главное, он впервые почувствовал себя сильнее Виолы. Где-то в подсознании шевельнулось предчувствие расплаты, но тотчас же сменилось отчаянной лихостью, злорадной насмешкой над самим собой: «чем хуже, тем лучше!» Это было глупо, по-мальчишески, но Улдиса «несло», как в юные годы, когда он специально говорил жестокие слова девушкам, которые ему нравились…
Он выстрелил — и попал.
Передний летун, тащивший пистолет в сетке белых нитей под парашютиком, вдруг вспыхнул, почернел, коряво растопырился, и оружие кануло вниз, намного обогнав в падении пепел стайки.
— Они только имитируют, Ви, это у них такая форма борьбы за существование, я читал! — молодецки кричал Улдис, поскольку необходимость оправдаться безудержно росла. Шлемофон ответил только неровным дыханием подруги.
Над опушкой, где бахрома шлангов-ризоидов шевелилась в цветущей тине, Виола бросила гравиход вниз. Машина почти коснулась днищем зеленых пузырей. За ней волочились мертвые эффекторы, прокладывая рваную черную дорожку чистой воды.
И тогда от опушки, от самых корней моргнула радужная вспышка, и гравиход завыл, получив смертельную рану. Встал на дыбы, грязный, облепленный тиной — и забулькал, проваливаясь в болото…
Улдису совершенно не верилось, что это — последняя минута его жизни, что сейчас перестанет существовать Улдис Гаудиньш, физик-абсолютист, любитель красных и желтых тонов в одежде, коллекционер немецкой гравюры XV века, единственный сын… Улдис Гаудиньш — единственная неоспоримая реальность, Я, автономная вселенная, объект Икс…
Он не был трусом, даже любил легкое чувство опасности, ударяющее в нос, как газ из выпитой шипучки. Он часто, особенно в полетах, воображал себе последнюю минуту, но воображал ее какой-то возвышенной, Последней Минутой, героически-торжественной, полной особо острых ощущений. А реальность оказалась иной. Организм застраховал себя от лишних страданий, наслав оцепенение на мозг. И Улдис стоял с пистолетом, уже по щиколотку в болотной жиже, стоял и почти безучастно смотрел, как, совсем близко бултыхаясь в зелени, бурые щупальца передают друг другу маленький блестящий предмет. Так готовили выстрел эти новые имитаторы, и летуны как ни в чем не бывало трясли парашютиками и подскакивали, чуть не задевая шлемов.
— Да, — сказала Виола и отобрала пистолет. Улдис не сопротивлялся, даже закивал одобрительно, когда она выстрелила в сторону, просто так, в белый свет, для демонстрации, а потом швырнула их последнее оружие в гущу лоснящихся спин и присосок. Он начинал кое-что понимать и почти не удивился, увидев, что вся эта путаница агрессивного мяса отступает, тащится обратно к берегу.
Виола приказывала катеру выслать второй гравиход, называя координаты. А Улдис, как и она, уже по колено в воде, завороженно смотрел на ее резковатый, почти мужской, но такой юный и совершенный профиль, с невысохшими ленточками слез на оливковых щеках, с буйными кольцами черных волос, которым тесно в пузыре шлема.
Только теперь он понял до конца, почему так почтительно-удивленно зашептались в Службе отправления на космодроме, узнав, что разведывательный полет выполняет Виола Мгаладзе. Почему так явно завидовали ему молоденькие техники, готовившие корабль.
Есть люди, созданные для космоса, для сюрреалистического мира вечных сюрпризов. И необязательно это самые эрудированные, самые логичные, даже самые талантливые в своей области. Необязательно — самые храбрые, выносливые, уверенные и веселые. Вероятно, все дело в том, что люди, созданные для космоса, умеют с ним договариваться. Может, это просто самые добрые люди? Так сказать, гении этики?..
Ему вдруг представилась странная, сказочная картина. Виола (без шлема, во всей красоте реющих волос) стояла, грудью и распростертыми руками заслоняя что-то огромное, бесформенное, какую-то пульсирующую громаду, местами непроглядно-темную, местами сияющую. Конгломерат мрака и огней, покоя и бешеного движения.
Возможно, был там и объект Икс, отныне на долгие годы спасенный от всяких экспериментов, поскольку Земля не позволит опустошить под строительство даже клочок планеты, на которой применима этика.
Возможно, в странно-упорядоченном хаосе за спиной Виолы-защитницы гнездился и сам болотный мир. Затейливая планета, пастбище разумных воющих островов. Надо же! В центре каждого из лесных массивов отсиживается под почвой некто, управляющий легионом движущихся глаз, ушей, ноздрей, языков, рабочих и кормящих органов, каждый из которых, возможно, был когда-то самостоятельным живым существом. Эх, посмотреть бы на него, «лесного царя», что поработил местную фауну, превратил могучих тварей в придатки своего неподвижного тела…
А может быть, придатки тела — в могучих тварей?..
Когда-нибудь узнаем. Придет время, и здесь величаво опустится крейсер десанта, из него выползет армия машин, и начнется работа. Тотальное освоение того, что Виола поняла и освоила интуитивно, не имея почти никаких на то оснований, поняла прежде, чем «глаза» и «руки» леса начали передавать друг другу похищенный пистолет.
Теперь я верю в Виолу, заслоняющую собой всю Метагалактику.
А я не выдержал экзамен. При всем своем самомнении, при всей абсолютистской эрудиции. Я провалился, и моя судьба решена. Пожалуй, лучше будет сделать усилие и уйти самому, якобы по собственной инициативе…
— Двадцать два семьдесят пять, даю пеленг… Не надо, Ул, тебе не о чем беспокоиться, у нас все хорошо, правда? Я только вначале перепугалась, а теперь все прошло. Ну, улыбнись же!
Вода, к счастью, была вязкой, широкий и плоский гравиход погружался очень медленно. Улдис послушно улыбнулся. Он тоже был из этой Метагалактики, а значит, Виола заслоняла и его…
Клиффорд Д. САЙМАК ШТУКОВИНА
Он набрел на эту штуковину в зарослях ежевики, когда искал отбившихся коров. Темнота уже сеялась сквозь кроны высоких тополей, и он не смог хорошенько все разглядеть. Да, собственно, на разглядывание и времени-то не было: дядя Эйб ужасно злился, что потерялись две телки, и если их искать слишком долго, то порки наверняка не миновать. И без того ему пришлось отправиться на поиски без ужина, потому как он забыл сходить к роднику за водой. Да и тетя Эм весь день ругала его за то, что он медленно и небрежно полол огород.
— В жизни не видала такого никчемного мальчишки! — визгливо начинала она и потом заводила про то, что, как ей думается, он должен бы век им с дядей Эйбом руки целовать, раз они взяли его из сиротского приюта, но нет ведь — он ни на вот столько не испытывает благодарности, зато каждую минуту того и жди от него какой-нибудь шкоды, на это он мастер, а ленив — спасу нет, и она — вот как перед богом! — и помыслить боится, что же из него в конце концов выйдет.
Телок он нашел в дальнем конце пастбища возле поросли орешника и опять, в который уже раз, задумался — а не удрать ли из дому, да только знал, что никогда ему на такое не решиться, потому что идти некуда. Хотя, сказал он себе, наверно, в любом другом месте будет лучше, чем оставаться с тетей Эм и дядей Эйбом, которые на самом-то деле даже и не были ему настоящими дядей и тетей, а просто взяли его из приюта.
Когда, гоня перед собой телок, он вошел в коровник, дядя Эйб кончал дойку и все еще злился, что эти телки отбились от стада.
— Вот и выходит, — сказал дядя Эйб, — что из-за тебя, паршивца, мне пришлось доить за двоих, а все потому, что ты не пересчитал коров, как я тебе вечно твержу, недоумок. Так что давай-ка выдои этих двух, которых ты пригнал, это тебе будет уроком.
Поэтому Джонни взял свою трехногую табуретку и подойник и принялся за дело. Телок доить — руки отмотаешь, да и хлопотно, потому что они баловницы, и красная телка, к примеру, лягнулась и сбросила Джонни с табуретки прямо в сток, подойник перевернулся, и молоко разлилось.
Дядя Эйб, как увидел это, снял из-за двери ремень и врезал Джонни пару раз, чтоб была ему наука впредь быть осторожнее, поскольку молоко — оно денежек стоит. А после этого велел поскорей заканчивать дойку.
Потом они пошли домой, и по пути дядя Эйб все брюзжал, что от ребятишек больше беспокойства, чем пользы, а в дверях их встретила тетя Эм и приказала Джонни получше вымыть ноги перед сном, потому как ей вовсе не улыбается, чтобы он изгваздал ее чистые белые простыни.
— Тетя Эм, мне есть хочется, — сказал Джонни.
— Не дам, — отрезала она, сурово сжав губы. — Походишь голодным, у тебя и с памятью лучше станет.
— Ну хоть кусочек хлеба, — попросил Джонни. — Без масла, без всего — просто кусочек хлеба…
— Молодой человек, — вмешался дядя Эйб, — ты слышал, что сказала твоя тетя. Мой ноги и марш в постель!
— Да чтоб как следует вымыл! — добавила тетя Эм.
Ну, он так и сделал, и улегся, и уже в постели вспомнил про ту штуковину в зарослях ежевики, и еще вспомнил, что он никому не заикнулся о находке, потому что у него времени на это не было — дядя Эйб и тетя Эм то и дело шпыняют, да так, что и не вспомнишь ни о чем.
И тут он сразу и бесповоротно решил ни за какие коврижки не рассказывать им о своей находке, потому что они враз ее отберут, они всегда все у него отбирают. А не отберут, так что-нибудь сделают такое, что не будет ему от этой штуковины ни радости, ни удовольствия.
Единственное, что принадлежало ему безраздельно, был старый перочинный ножик с обломанным маленьким лезвием. И больше всего на свете он хотел бы иметь взамен этого другой ножик, только целый, но теперь ему и в голову не приходило попросить об этом — он хорошо знал, чем это кончится. Однажды он уже заикнулся было, и тогда дядя Эйб и тетя Эм пилили его несколько дней, твердя, что он неблагодарная жадина, что вот они, можно сказать, с улицы его подняли, а ему все мало, и теперь вот еще взбрело, чтобы они выкинули немалые деньги на какой-то там перочинный нож… Джонни долго волновался и недоумевал насчет того, что они подняли его с улицы — насколько ему было известно, никогда он ни на какой улице не валялся.
Лежа в постели и глядя в окошко на звезды, он принялся вспоминать, что же это такое привиделось ему в зарослях ежевики, но никак не мог представить себе хорошенько, что именно, потому что второпях не разглядел, а задержаться подольше времени не было. Но что-то там было не так, и чем больше он об этом думал, тем сильнее ему хотелось рассмотреть эту штуковину поосновательнее.
«Завтра, — подумал он, — я посмотрю как следует. Завтра — как только выпадет случай». Но потом он понял, что никакого такого случая завтра не представится, потому что с самого утра тетя Эм заставит его полоть огород и все время будет за ним следить, и улизнуть не удастся.
Он еще немного подумал обо всем этом, и ему стало ясно, что, коли он хочет узнать, что же там такое, то идти туда надо нынче же ночью.
По доносившемуся храпу он знал, что дядя Эйб и тетя Эм спят, поэтому встал с постели, быстро натянул рубашку и штаны и крадучись спустился по лестнице, осторожно переступая через скрипучие ступеньки. На кухне он взобрался на стул, чтобы достать коробок спичек с заплечика старой печки. Сперва он взял было из коробка целую пригоршню, но потом передумал и почти все положил обратно, оставив себе штук пять, — боялся, что тетя Эм заметит, если он заберет слишком много.
От росы трава была мокрая и холодная, и ему пришлось закатать штанины, чтобы не промочить их, и после этого он наискосок через пастбище направился к лесу.
Идти лесом было страшновато, — там, говорят, водились привидения, — но он не очень боялся, хотя, наверное, никто не смог бы идти по ночному лесу и не трусить ни капельки.
В конце концов он добрался до зарослей ежевики и остановился в раздумье, как бы пробраться через кусты, не изодрав в темноте одежду и не занозив голые ноги колючками. И все гадал, лежит ли на месте та штуковина, но почти сразу понял, что она еще здесь, ощутив вдруг исходящее от нее тепло дружелюбия, как будто она ему говорила, что — да, она еще здесь и бояться не надо.
Ему уже и не было страшно — просто он немного волновался, потому что не привык к дружелюбию. У него был единственный приятель — Бенни Смит, мальчик его же возраста, но с ним он виделся только в школе, да и то не каждый день, потому что Бенни часто болел и порой целыми неделями оставался дома. А во время каникул они вообще не встречались, поскольку Бенни жил на другом конце школьного округа.
Глаза помаленьку привыкали к темноте зарослей, и ему поверилось, что он уже может различить еще более темные очертания штуковины — вон там, чуть подальше. Он стал соображать, как же это от нее может исходить дружелюбие, ведь он был совершенно убежден, что перед ним просто какая-то железная вещь, вроде тачки или силосопогрузчика, а совсем не что-то живое. Если бы он подумал, что она живая, вот тогда бы испугался по-настоящему.
Штуковина по-прежнему продолжала излучать теплую волну дружелюбия. Он протянул руки и стал сражаться с кустами, чтобы потрогать, ощупать находку и понять, что же это такое. «Подобраться бы поближе, — подумал он, — тогда можно чиркнуть спичкой и рассмотреть все как следует».
«Остановись», — сказало Дружелюбие, и он замер, услышав это слово, хотя вовсе не был уверен, что это было слово.
«Не надо нас разглядывать», — сказало Дружелюбие, и Джонни это несколько удивило, потому что он ни на что еще и не смотрел — во всяком случае, не разглядывал.
— Ладно, — сказал он. — Я не стану на вас смотреть. — И подумал про себя, что, может, это какая-то игра, вроде тех, в которые они играли в школе — прятки, например.
«Когда мы подружимся, — сказала штуковина, обращаясь к Джонни, — то сможем глядеть друг на друга, и тогда уже наша внешность не будет иметь значения, поскольку нам станет известно, что каждый из нас представляет собой внутренне, и мы не станем обращать внимания на внешность».
Джонни подумал: «Как ужасно, должно быть, они выглядят, если не хотят, чтобы я их видел». И штуковина тотчас сказала ему: «На твой взгляд мы ужасно уродливы. А ты нам тоже кажешься уродом».
— Тогда, может, это и хорошо, что я не вижу в темноте, — сказал Джонни.
«Ты не видишь в темноте?» — спросили его, и Джонни подтвердил, что так оно и есть, и последовало молчание, хотя Джонни чувствовал, что они — там — удивляются: как это можно — не видеть в темноте.
Затем его спросили, в состоянии ли он сделать еще что-то такое… Что именно, он и догадаться не мог, хотя ему и пытались втолковать. В конце концов они, похоже, сообразили, что ничего такого он тоже не умеет.
«Тебе страшно, — сказала штуковина. — Но ты совсем не должен нас бояться».
Джонни объяснил, что он ничуть не боится, кем бы они там ни были, потому что они относятся к нему как друзья, но только ему боязно — что будет, если дядя Эйб и тетя Эм проведают, что он потихоньку убежал из дому. И тогда они задали ему целую кучу вопросов о тете Эм и дяде Эйбе, и он честно постарался объяснить, что к чему, но они, похоже, так ничего и не поняли, во всяком случае, они почему-то решили, что он рассказывает им о своих взаимоотношениях с правительством. Он хотел было разобъяснить, как все обстоит на самом деле, но потом все же уверился, что они так ничего в толк и не взяли.
В конце концов, стараясь быть как можно вежливее, чтобы никого не обидеть, он сказал им, что ему пора, и, поскольку он задержался дольше, чем рассчитывал, всю дорогу до дома ему пришлось бежать.
Он благополучно проник в дом и забрался в постель, и все было хорошо, но наутро тетя Эм нашарила у него в кармане спички и дала ему нагоняй по первое число, внушая, что баловаться со спичками — дело страшно опасное, потому как он того и гляди спалит им коровник. Чтобы подкрепить свои рассуждения, она хлестала его по ногам хворостиной, и как Джонни ни старался держаться мужчиной, все же ему пришлось прыгать и кричать от боли, потому как тетя Эм хлестала изо всех сил.
До позднего вечера он полол огород, а перед сумерками отправился собирать коров.
Ему никуда не надо было сворачивать, чтобы добраться до зарослей ежевики, потому что коровы как раз здесь и паслись, но он хорошо понимал, что все равно свернул бы сюда, потому что весь день прожил воспоминанием о Дружелюбии, которое здесь нашел.
На этот раз было не так темно, вечер только-только собирался, и он мог разглядеть, что эта самая штуковина, чем бы она там ни была, совсем не живая, а просто кусок металла, похожий на две глубокие тарелки, если их сложить вместе, с острым краем посредине, и еще — вид у нее был такой, будто она долго валялась под открытым небом и потому успела поржаветь, как это всегда бывает с железом, если его мочит и мочит дождем.
Штуковина прорубила целую просеку в зарослях ежевики и еще метрах на шести пропахала в дерне глубокую борозду. А проследив взглядом направление, откуда она прилетела, Джонни увидел тополь со сломанной верхушкой, которую штуковина, наверно, снесла, ударившись о нее.
С ним снова заговорили без слов, как и вчера, дружелюбно и по-товарищески, хотя Джонни и не знал такого слова, поскольку еще ни разу не встречал его в своих школьных книжках.
«Теперь ты можешь немножко посмотреть на нас, — сказали Они. — Быстро взгляни и отведи глаза. Не смотри на нас пристально. Один взгляд — и в сторону. Так ты сможешь постепенно привыкнуть. Понемножку».
— А где вы? — спросил Джонни.
«Здесь, перед тобой», — был ответ.
— Там, внутри? — спросил Джонни.
«Да, здесь, внутри», — ответили Они.
— Тогда мне вас не увидеть, — сказал Джонни. — Я ведь не могу видеть через железо.
«Он не может видеть сквозь металлы», — сказал, один из них.
«И он ничего не видит, когда их звезда уходит за горизонт», — сказал другой.
«Значит, ему на нас не посмотреть…» — сказали Они оба.
— А вы могли бы выйти оттуда, — предложил Джонни.
«Мы не можем, — ответили Они. — Если мы выйдем, то умрем».
— Значит, я никогда вас не увижу…
«Ты никогда не увидишь нас, Джонни…»
И вот он стоял там, чувствуя себя ужасно одиноким, потому что ему никогда не доведется увидеть этих своих друзей.
«Мы никак не можем понять, кто ты, — сказали Они. — Объясни нам — кто ты?»
И потому что Они были так добры к нему и дружелюбны, он рассказал им о себе и как он был сиротой и был взят на воспитание дядей Эйбом и тетей Эм, которые на самом деле никакие ему не тетя и не дядя. Он не стал жаловаться, как его бьют и ругают и отсылают в постель без ужина, но Те, внутри, все это поняли сами, и теперь в их обращении к Джонни было уже что-то куда большее, чем просто дружелюбие, чем просто товарищество. Появилось еще и сочувствие, и еще что-то, что вполне могло быть их эквивалентом материнской любви.
«Да ведь это просто малыш», — говорили Они между собой.
Они тянулись к нему. Казалось, что Они заключают его в нежные объятия, крепко прижимают к себе, и Джонни, сам того не заметив, упал на колени и протянул руки к этой штуковине, которая лежала среди измятых кустов, и плакал, как если бы перед ним было что-то такое, что он мог обнять и удержать, — немного ласки и тепла, которых ему всегда недоставало, что-то такое, к чему он всегда стремился и вот наконец обрел. Его сердце плакало словами, которых он не умел произнести, он умолял о чем-то застывшими губами, и ему ответили.
«Нет, Джонни, мы тебя не оставим. Мы не можем оставить тебя, Джонни».
— Правда?..
Теперь их общий голос немного печален.
«Это не просто обещание, Джонни. Наша машина сломалась, и нам ее не починить. Один из нас уже умирает, и такая же судьба скоро постигнет и другого».
Джонни стоял на коленях, и эти слова медленно проникали в его сознание. Его охватывало понимание неизбежности свершающегося, и ему казалось, что это больше, чем он может вынести — найти двоих настоящих друзей, и вот теперь они умирают…
«Джонни», — тихонько окликнули его.
— Да, — отозвался Джонни, стараясь не заплакать.
«Хочешь с нами меняться?»
— Меняться?..
«Так у нас дружат. Ты даешь нам что-нибудь, и мы тебе тоже что-нибудь подарим».
— Но у меня ничего нет… — замялся Джонни.
И сразу вспомнил. Ведь у него есть перочинный ножик! Конечно, это не бог весть что и лезвие у ножика обломано, но это было все его достояние.
«Вот и прекрасно, — сказали Они. — Это как раз то, что надо. Положи-ка его на землю, поближе к машине».
Он достал ножик из кармана и положил его рядом с машиной. И хотя он глядел во все глаза, чтобы ничего не упустить, все случилось так стремительно, что он ничего не смог разобрать, но, как бы то ни было, его ножик исчез, и теперь какой-то предмет лежал на его месте.
«Спасибо тебе, Джонни, — сказали Они. — Как славно, что ты с нами поменялся».
Он протянул руку и взял вещь, которую Они подарили ему, и в сумерках она сверкнула скрытым огнем. Он повернул ее в пальцах и увидел, что это был вроде драгоценный камень — сияние исходило у него изнутри и переливалось роем разноцветных огней.
И только увидев, какой свет исходит из подарка, он осознал, как стало темно и сколько уже прошло времени, и когда он понял это, то вскочил и сломя голову бросился бежать, даже не попрощавшись.
Искать коров теперь все равно уже было слишком темно, и ему оставалось только надеяться, что они сами отправились домой и что он сможет нагнать их и сделать вид, что вроде привел их с собой. Он скажет дяде Эйбу, что две телки прорвали ограду и умотали с пастбища и что ему пришлось искать их, чтобы вернуть в стадо. Он скажет дяде Эйбу… он скажет… он скажет…
Джонни задыхался от бега, а сердце у него стучало так, что, казалось, сотрясало все его маленькое тело, и страх сидел в нем после всего того, что было раньше, после того, как он забыл сходить к роднику за водой, после того, как он потерял вчера двух телок, после того, как у него в кармане нашли спички…
Коров он не догнал. Они были уже в коровнике, и он понял, что они подоены, и что там, в кустах, он пробыл ужасно долго, и что все это куда хуже, чем ему представлялось.
По дорожке он поднялся к дому. От страха его трясло. На кухне горел свет, и он понял, что его дожидаются.
Когда он вошел в кухню, они сидели за столом, повернувшись к двери, и ждали его. Свет лампы падал на их лица, и лица эти были столь суровы, что походили на могильные камни.
Дядя Эйб возвышался, будто башня, голова его доходила до самого потолка, и видно было, как напряглись мускулы его рук, обнаженных закатанными рукавами рубахи.
Он потянулся к Джонни, и Джонни нырком ушел было в сторону, но сильные пальцы сомкнулись у него на шее, оплели горло, и дядя Эйб поднял его и встряхнул — молча и злобно.
— Я тебе покажу, — прошипел дядя Эйб сквозь зубы. — Я тебе покажу! Я тебе покажу…
Что-то упало на пол и покатилось в угол, оставляя за собой шлейф огня.
Дядя Эйб перестал трясти его и секунду-другую стоял совершенно неподвижно, держа мальчика в воздухе. Потом он бросил его на пол.
— Это у тебя, из кармана, — сказал дядя Эйб. — Это чего же такое?
Джонни попятился, тряся головой.
Он ни за что не скажет им… Никогда! Что бы ни делал с ним дядя Эйб, он ни за что не скажет! Даже пусть его убивают…
Дядя Эйб остановил ногой катившийся камень, быстро наклонился и поднял его. Он принес камень к столу, положил под лампу и завороженно стал глядеть на игру огней.
Тетя Эм, приподнявшись со стула, так и подалась вперед, чтобы разглядеть получше, что же там такое.
— Господи ты боже мой, — прошептала она.
С минуту оба были недвижны и смотрели на драгоценность, глаза у них ярко блестели, тела были напряжены, и в тишине было слышно только их прерывистое дыхание. Наступи сейчас конец света, они бы этого не заметили.
Затем они оба выпрямились и посмотрели на Джонни, отвернувшись от камня, как если бы он их больше совсем не интересовал, как если бы камень должен был оказать на них какое-то влияние и вот выполнил свою задачу и теперь уже не имел ровно никакого значения.
— Ты, верно, проголодался, малыш, — сказала тетя Эм, обращаясь к Джонни. — Сейчас подогрею тебе ужин. Хочешь яичницу?
Джонни поперхнулся и мог только кивнуть.
Дядя Эйб уселся на стул, не обращая на камень ровно никакого внимания.
— Вот, значит, дело какое, — прогудел он. — Я тут на днях видел в лавке как раз такой ножик, какой тебе хотелось…
Джонни едва слышал его.
Он стоял, прислушиваясь к Дружелюбию и Любви, которые, казалось, тихонько пели в стенах этого дома.
Перевод с английского Евгения КубичеваДж. Э. ДЖЕЙФОР СЧАСТЛИВОЙ ОХОТЫ!
Путь на Домник III, планету спортивных развлечений, был долгий и скучный, поэтому опытные капитаны старались разрядить атмосферу, совершив посадку на Саспи ради охоты на йялли. Это нравилось пассажирам, да и команда была не прочь отдохнуть.
Это было противозаконно, конечно, и грозило громадным штрафом и обязательным тюремным заключением для каждого, кого патрульный корабль обнаружит на заповедной планете. Однако стрельба по йялли, о которой принимавшие участие почему-то не рассказывали подробностей, считалась настолько увлекательной, что пассажиры, обычно люди богатые, никогда не отказывались от предложения капитана: любопытство пересиливало страх.
А группа Уолли Ри ничем не отличалась от других. Дома, в водном мире планеты Мерк, Уолли был морским биологом. Ему хорошо платили за то, что он работал десять земных месяцев в лаборатории под водами затопленной планеты, а сейчас он с приятностью проводил очередной отпуск.
Уолли отнюдь не был охотником, но мысль о месяце солнца и открытого воздуха на спортивно-охотничьей планете понравилась ему, а возможность незапланированной посадки в запретном мире привлекла еще больше.
— С удовольствием, — сказал он Анкеру, штурману корабля, когда тот обратился к нему, что обычно делалось до официального объявления капитана. — Когда?
— Не сейчас, — ответил Анкер. — Мы дадим вам знать. — И он направился к Фогелю, толстому торговцу земельными участками с планеты Боран.
Уолли видел, как Фогель кивнул, при этом его отвислые губы растянулись в улыбке, а Анкер по очереди подошел к Эккерту, Аллену и остальным, находившимся в салоне, отделанном пластмассой под красное дерево. Видел, как все они ухмылялись и кивали.
Потом Уолли заметил, что Анкер кивнул бородатому капитану, стоявшему у входной двери и не обращавшему внимания на происходившее. И сразу же капитан, одетый в голубовато-серебристую форму, сунул за щеку жвачку из ореха ванда и вышел вперед.
— Джентльмены! — сказал он, хотя мог бы и не призывать к вниманию. Все, включая Уолли, сидели на краешках стульев с пенопластовой обивкой, забыв о рюмках, которые держали в руках. — Джентльмены. Менее чем через час мы будем вблизи маленькой планеты под названием Саспи. Вы все знаете о наказании, которое грозит за незаконную посадку, но вы дали понять, что хотите, чтобы я рискнул. — Он медленно обвел комнату глазами. — Джентльмены, как капитан зафрахтованного вами судна я фактически нахожусь у вас на службе, и, поскольку вы настаиваете, я должен поступить согласно вашей воле. Мистер Анкер, — обратился он к улыбающемуся штурману, — выполняйте свои обязанности.
И капитан вышел из салона.
«Вот лиса, — рассмеялся про себя Уолли. — Возможно, и попадет в тюрьму за эту посадку, но он не рискует своим капитанским дипломом. Нет, сэр. Формально он выполняет указание владельцев судна».
Анкер сказал в крошечное переговорное устройство на своем запястье:
— Все о'кэй. Несите сюда.
Через несколько минут три члена экипажа в голубых комбинезонах принесли подвешенные к поясам револьверы: верхняя часть каждой кобуры была аккуратно срезана.
Штурман продолжал улыбаться.
— Не самое лучшее оружие, конечно, — объяснял он, раздавая пояса, по два на человека, — но нам приходится выбрасывать их за борт после каждого рейса. На Домнике строгая таможня.
Фогель, торговец землей, вертел один из револьверов в толстых руках.
— Это ведь обычный пулевой револьвер, — удивленно сказал он. — В барабане шесть патронов. В лучшем случае сорок пятого калибра. Какого зверя можно свалить такими пулями?
Эккерт, высокий торговец некрой, уже надел оба пояса, опустив кобуры до середины бедер, и стоял, поигрывая револьверами в стиле древних ковбоев и скаля зубы со свирепым видом.
Анкер рассмеялся, кивнув в сторону Эккерта:
— Веселье уже начинается. Но, — предупредил он, — во время охоты на йялли у вас будет только один револьвер.
Эккерт недоуменно воззрился на него.
— Только один? Тогда зачем же два?..
Но Анкер оборвал его взмахом руки.
— Узнаете, когда придет время.
Теперь штурман обратился ко всем:
— Сначала несколько основных правил, которые вам следует знать, а потом я расскажу, как происходит охота.
Уолли подался вперед в своем кресле, увидел, что остальные тоже насторожились, и улыбнулся. Если охота на йялли, чтобы вкусить всю ее прелесть, требовала предварительной психологической подготовки, то с этой задачей на корабле справлялись прекрасно.
Штурман продолжал:
— Прежде всего мы сойдем с маршрута и опустимся на планету ровно на тридцать минут. Следите за временем.
Фогель фыркнул.
— Что это за охота! Тридцать минут.
Остальные, судя по приглушенному ропоту, разделяли его разочарование.
— На первый взгляд это немного, я знаю, но вам хватит. Поверьте мне, этого достаточно.
Затем, когда все успокоились, Анкер продолжил:
— Тридцать минут потому, что время нашего отхода и прихода жестко фиксируется, и в случае большого расхождения капитана вызовут для объяснений. А нам это ни к чему. Тридцать минут, поняли?
Он подождал, пока каждый из пассажиров кивнул в ответ, и заговорил вновь. Очевидно, считал этот вопрос очень важным.
— Возьмите с собой спасательные комплекты, которые вам выдали при посадке. Любой, кто окажется на берегу по истечении тридцати минут, там и останется.
Снова среди собравшихся охотников послышался ропот. Снова Анкер поднял руку, требуя тишины.
— …Останется на планете. Через какое-то время его заберет патрульный корабль. А все вещи, все, что говорило бы о его пребывании на нашем судне, будет выброшено за борт.
— Списки пассажиров, — напомнил Фогель.
— Объясним, что он забронировал место, но не появился на борту. Когда его найдут на заповедной планете и спросят нас, мы ответим, что не знаем, как он попал туда, мы его не доставляли.
Уолли почувствовал, как изменилось настроение охотников. Незаконность их будущих действий начала доходить до них в полном объеме…
— А теперь о самой охоте. Вы наденете одну кобуру и понесете вторую. В лес. Найдете поляну. Бросите один револьвер на землю и отойдете на пятнадцать футов, затем сделаете так…
Анкер запрокинул голову, открыл рот и закричал. От неожиданности Уолли подскочил в своем кресле.
— Поняли? — спросил Анкер. — Ха-ха-ху! Это важно. Попробуйте. Ха-ха-ху.
Виновато ухмыляясь друг другу, они прокричали:
— Ха-ха-ху! Ха-ха-ху!..
— Прекрасно. Но только громче. Вот и все. Охота на йялли непохожа ни на какую другую охоту во всех мирах. Вы получите такое удовольствие, которого не испытывали никогда прежде.
Фогель покачал головой.
— Не выйдет. Я не согласен идти в незнакомый лес, класть заряженный револьвер на землю, отходить на пятнадцать футов и ждать, что произойдет. Вычеркните меня.
— Он должен пойти, — прошептал Анкеру один из тех, кто принес оружие. — Капитан не приземлится, если все не пойдут на охоту. Возможно, стоит намекнуть?..
Анкер непринужденно рассмеялся.
— Капитан девять лет делает такие посадки, и пока что не потерял ни одного пассажира.
— Вычеркните меня, — повторил Фогель и плотно сжал свои мясистые губы.
— Вы испортите все остальным, — подчеркнул штурман.
Фогель даже не ответил.
Анкер вздохнул, сказал что-то в переговорное устройство на запястье, и появился капитан с каштановой бородой — он отвел Фогеля в дальний конец салона и стал шептать ему в ухо.
Уолли увидел, как у Фогеля изменилось выражение лица. Он уже широко улыбался к тому времени, когда капитан отступил назад и громко произнес:
— Теперь вы знаете. Теперь вы один из участников. Можете остаться на борту.
— Нет. — Фогель весь расплылся в улыбке, — Я пойду. Пойду. — И толстыми руками он застегнул пояс с кобурой.
Солнце Саспи было больше Солнца земного и находилось ближе. Уолли зажмурил глаза от яркого света, когда заслонки иллюминаторов открылись и можно было рассмотреть заповедную планету, поднимавшуюся им навстречу. Зеленая, более светлая, чем Земля, но приятная на вид. Вдали яркий блеск воды.
— Тридцать минут, — напомнил штурман, когда охотники подошли к головному трапу судна. Капитан, команда и пассажиры, все вооруженные и нетерпеливые.
— И еще, — сказал Анкер. — Разойдитесь в разные стороны. Не скучивайтесь. Если окажется, что вас двое поблизости друг от друга, йялли не подойдет. Это спорт одиночек. Поняли?
— Минутку! — сказал специалист по револьверам Эккерт. — Как я узнаю йялли, когда увижу его?
— Узнаете, — заверил его штурман. — Узнаете.
Уолли довольно быстро нашел поляну. Один пояс с оружием бросил у края. Тщательно отсчитал пятнадцать футов, повернулся.
Вдохнул, запрокинул голову и открыл рот.
— Ха-ха-ху.
Это было скорее похоже на отрывистый шепот. Уолли глотнул пересохшим ртом и попробовал снова.
— Ха-ха-ху!
Это прозвучало неожиданно громко и внушительно.
— Ха-ха-ху!
Он был высокий, этот йялли, ростом почти с человека. У него была впалая грудь, что объяснялось недостатком кислорода в воздухе и малой силой тяжести на этой планете. Волосы красные, блестящие в свете большого солнца: на груди, на руках и вдоль ног, подобно бахроме на одежде древнего покорителя Дикого Запада. Самец.
И голова, явно не человеческая, даже не обезьяноподобная, с глазами, глубоко посаженными и карими, и ртом беззубым и птицеобразным, казавшимся маленьким над выдвинутой челюстью.
— Ха-ха-ху! — крикнул йялли ясно и звеняще, как колокольчик. — Ха-ха-ху!
Наклонившись, он подобрал револьвер и надел его легким, невероятно быстрым движением.
Теперь он был готов. Тонкие ноги широко расставлены, руки у бедер, карие глаза уставились на Уолли не мигая.
Вот теперь Уолли понял уникальное волнение охоты на йялли и пожалел о том, что впутался в это дело. Его руки дрожали, капли пота стекали со лба, легкие и сердце работали как насосы, и весь мир заполняли немигающие глаза йялли. Йялли умел двигаться с фантастической скоростью…
— Ха-ха-ху, — произнес Уолли, стараясь, чтобы это прозвучало дружелюбно.
— Ха-ха-ху, — ответил йялли и чуть присел.
Отступать? Очень медленно Уолли сделал шаг назад, ни на миг не отводя глаз от йялли. Тот сделал шаг вперед, передвинув ногу по-птичьи, почти мгновенно встав в новую позицию.
Быстро. Уолли никогда не видел такого быстрого движения, и теперь кровь бросилась ему в глаза, отчего все вокруг покрылось сеткой, появились пульсирующие всплески огней. Нет, отступать нельзя, он должен сделать свой ход. Учитывая эту ошеломляющую быстроту, он должен сделать свой ход…
Уолли высунул язык, облизнув пересохшие губы, но язык был тоже совершенно сухой.
Сейчас!
Он схватился за револьвер в кобуре, но, вынимая его и стреляя шесть раз подряд в йялли, уже понял, что не успел спасти себя. Йялли двигался так быстро, что револьвер, казалось, просто появился в его вытянутой руке.
А затем безмерное удивление охватило Уолли. Он стоял, йялли…
Йялли. Револьвер, все еще нацеленный на него, но не выстреливший…
Йялли не стрелял.
На его груди появились пятна. Он кашлянул — из птицеобразного рта хлынула кровь — и медленно рухнул. Рука, державшая оружие, обмякла.
Уолли бросился к нему. Йялли был мертв…
Уолли потянулся, чтобы взять револьвер из безжизненной руки, и вдруг понял, почему йялли не выстрелил в него. Понял внезапно, и его затошнило при мысли о тех людях, которые называли это убийство спортом, при мысли о толстом Фогеле, который, все зная, с нетерпением рвался на берег.
Тут Уолли заметил, что все еще сжимает свой револьвер, — он выпрямился и отшвырнул его. Потом расстегнул пояс с кобурой и тоже выбросил.
Встав на колени рядом с йялли, он взял револьвер за ствол. Лапа как у птицы, цепляющейся за ветку дерева, крепко держала рукоять револьвера. Уолли швырнул револьвер вслед за первым, в гущу похожих на папоротники кустов.
Рука… вот почему йялли не стрелял, не мог выстрелить… Костистая на ощупь, с тремя пальцами. Но не отдельными и свободными, а спаянными между собой мускулами и жилами. Рука, по форме напоминающая не перчатку, а варежку. Йялли мог схватить револьвер, да он и схватил его, но у него не было пальцев, чтобы нажать на спусковой крючок.
Возникшая мысль была простой и логичной. Уолли встал, нащупал спасательный комплект, висевший сзади на ремне. Вынул складной нож, открыл его и проверил острое как бритва лезвие.
— Хорошо, — вслух сказал он и закрыл нож. Ему предстояло найти еще одного йялли.
Он поднял того, которого убил, спрятал его под деревьями.
— Ха-ха-ху! — снова закричал он в сторону поляны. — Ха-ха-ху!
Йялли не появился, и Уолли решил поискать другую поляну.
В эту минуту он услышал отдаленный рокот и понял, что тридцать минут истекли и судно взлетает без него.
Он даже не оглянулся. Ему необходимо было найти еще одну поляну и еще одного йялли.
— Ха-ха-ху!
Никаких револьверов на этот раз, только нож, спрятанный в кармане.
— Ха-ха-ху!
Какой-то шорох. И вот перед ним еще один йялли. Рослый самец.
Уолли сделал шаг вперед.
— Ха-ха-ху! — сказал он и стал ждать. Он не мог состязаться с невероятной скоростью йялли, внезапность была его единственным шансом.
— Ха-ха-ху! — повторил он и сделал вперед еще один шаг.
— Ха-ха-ху! — сказал йялли; поискав глазами, он поднял с земли ветку.
Прекрасно, подумал Уолли: йялли чувствует, что ему нужно оружие. Пустые руки Уолли, возможно, приведут его в замешательство.
Еще один шаг, и можно будет дотянуться.
Теперь достаточно близко. Раскрытая правая рука Уолли внезапно превратилась в кулак, обрушившийся со всей силой на огромную челюсть под птичьим ртом.
Йялли беззвучно рухнул.
Уолли встал над ним, потирая костяшки пальцев. Потом, сунув руку в карман, вытащил свой нож, открыл острое как бритва лезвие…
Его камера на патрульном корабле была небольшой, но достаточно комфортабельной, и Уолли был рад, что в конце концов оказался в ней. Штраф разорит его, а тюремное заключение приведет к тому, что в течение долгого времени он вряд ли получит приличную работу, но все это можно пережить, зная, что он сделал своим ножом с теми йялли, которых успел найти до того, как появился патрульный корабль.
Своим ножом. И тут Уолли расхохотался. Он смеялся до тех пор, пока охранник, сидевший в коридоре возле его камеры, не подошел к двери.
— Не могли бы вы рассказать мне, что здесь смешного? — спросил он скучным голосом.
Уолли вытер глаза.
— Этого вы никогда не узнаете, — сказал он. — О таких шутках обычно никто никогда не узнает.
Охранник ушел, качая головой, а Уолли снова засмеялся. Он смеялся над «всесильными» охотниками, которые, возможно, в этот самый момент выходят на дуэль с одним из йялли.
С тем йялли, руку которого Уолли прооперировал острым как бритва ножом, применив свои навыки морского биолога. С йялли, у которого теперь был не очень красивый, но вполне работоспособный указательный палец.
Перевод с английского В. Артамонова и Л. ДымоваПримечания
1
ПМГ, СКАМ — передвижные милицейские группы, служба контроля над автомашинами.
(обратно)

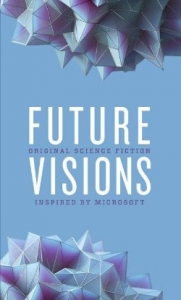

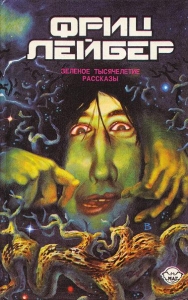

Комментарии к книге «Искатель, 1981 № 06», Дж Джейвор
Всего 0 комментариев