В мире фантастики и приключений. Выпуск 10. Меньше — больше. 1988 г
СЕРГЕЙ СНЕГОВ ПРАВО НА ПОИСК Повесть
1
Чарли присел к моему столику, деловито пробежал глазами меню — что бы в нем ни значилось, он закажет омлет с помидорами и апельсиновый сок, это неизменно — и порадовал:
— К Латоне приближается звездолет «Командор Первухин». На нем цистерна с тремя миллионами тонн сгущенной воды. И некто Рой Васильев. На Латоне он пересядет в планетолет на Уранию. Сгущенная вода прибудет поздней. Ты что-нибудь слыхал о Рое? В общем, готовься.
Меня порой раздражает обстоятельность, с какой изучает Чарли совершенно ненужные ему фантазии поваров. Как-то спустя часок после такого десятиминутного углубления в роспись блюд я поинтересовался, не помнит ли он, что нам сегодня предлагали на обед. «Конечно, помню, — бодро заверил он, — были омлет с помидорами и сок». Даже бифштекса с фруктами и торта не запомнил, а я их жевал перед ним за тем же столом! На вопрос о Рое Васильеве я не ответил. Я промолчал сознательно и вызывающе. Молчание — единственное, что молодой академик, мой начальник Чарлз Гриценко способен слушать объективно. На молчание он реагирует быстро и толково. Молчание информативно, утверждает он. Молчание — самый красноречивый сигнал несогласия, самое категорическое оповещение протеста, острит он.
— Омлет с помидорами и апельсиновый сок, — сказал Чарли в микрофон. — Эдик, ты слышал, что я сказал? Почему ты молчишь?
— Не вижу причин кричать.
— Хотя бы промычи что-нибудь. Рой возьмется прежде всего за тебя. Павел был твоим помощником, связь между его гибелью и взрывом сгущенной воды на энергоскладе очевидна. Рой прибывает для того, чтобы исследовать эту связь… Тебе мало этих фактов?
— Что мне мало и что много — несущественно.
— Правильно, единственно важное, что будет думать сам Рой о трагедии. Но снова и снова повторяю…
Ему не дал договорить Антон Чиршке, Повелитель Демонов Максвелла. Этот долговязый, белокурый физик известен на Урании больше по прозвищу, чем по фамилии. На кличку Повелитель Демонов он откликается охотно, даже гордится ею. Если просто крикнуть на улице: «Повелитель!» — он тоже обернется без раздражения. Злость он приберегает не для знакомых, а для работы. В лаборатории он неистов. Он дьявольски вспыльчив, Антон Чиршке, Повелитель Демонов. Если ему кажется, что прибор висит криво, он кричит на него. Я сам видел, как Чиршке закатил оплеуху командному механизму, включившему не ту программу. Механизм, правда, пострадал куда меньше, чем рука Антона. Кроме вспыльчивости и нетерпимости к чужим мнениям Антон еще и талантлив. Все мы талантливы, конечно, бесталанных на Уранию не командируют, в этом смысле Чиршке не исключение. Просто он талантливей любого из нас. Это мое убеждение разделяют не все, но я никому не навязываю своих оценок. Его ошеломительно простой механизм, сепарирующий молекулы воздуха по их скорости, вызвал научную бурю, каждый помнит, какие шли пять лет назад страстные дискуссии и сколько тогда говорили Антону обидных слов. Но, между прочим, все отопление на Урании, все холодильники на нашей экспериментальной планете сегодня работают от сепараторов Чиршке, от его небольшого заводика — там с одной стены воздух засасывается в приемную трубу, а с другой стены две трубы отправляют сепарированный воздух потребителям: по одной — горячий поток, по другой — ледяной. И кто придумал Антону в насмешку прозвище Повелитель Демонов Максвелла, те давно прикусили языки, а само прозвище ныне звучит не иронично, а уважительно. И еще одно. Антон щедро одарен способностью всюду видеть загадки. У него вызывает тысячи недоумений любое обычнейшее явление. Павел шутил:
«Антона возмущает даже то, что дважды два — четыре. Он не опровергает этой истины, он только ошеломлен ею». Павел был не просто талантлив, как Антон, Павел был гениален. И он серьезно говорил об Антоне: «Не хотел бы попадаться ему под горячую руку. Но чтобы услышать что-то совершенно новое о чем-то совершенно тривиальном, я обращусь к Чиршке».
— Парни, вы слышали, к нам летит какой-то Рой Васильев, — объявил Антон, присаживаясь к нашему столу и бесцеремонно отодвигая подальше от Чарли стакан с апельсиновым соком.
— Тебя это, естественно, выводит из равновесия? — Чарли снова пододвинул стакан к себе.
— А как может быть иначе?
— Что же тебя поражает в прилете Роя?
— Во-первых, сам прилет. А во-вторых, кто таков Рой? Какого шута мне в нем и ему в нас?
— Шута нет ни в тебе, ни в нем, а неприятности будут нам всем. Между прочим, мы их заслуживаем.
И Чарли с обычной своей проницательностью обрисовал «ситуацию» — так он назвал свой рассказ. Рой Васильев — астрофизик, неплохой знаток космоса. Кроме того, он детектив. Ну, не простой сыщик, хватающий за шиворот преступника, этого за Роем не слышно. Его стиль — искать в трагедиях не злоумышления, а неизученные явления природы. Неизученных явлений в природе — бездна. Очевидно, на Урании Рой займется любимым делом — выискивать что-то неизвестное в недавнем взрыве сгущенной воды и гибели Павла Ковальского.
— По-твоему, ничего неизвестного не было? — Антон нервно жевал что-то, голос звучал невнятней обычного. Ясностью речи Антон не отличается. Разве когда говорит спокойно и уравновешенно. Но спокойным и уравновешенным Антона я видел очень редко.
— Суть не в неизвестном, а в том, чтобы объяснить хорошо известное, — спокойно отпарировал Чарли.
— Ты педант! — закричал Антон, отвлекаясь от еды. — В жизни не встречал большего педанта.
— Ты хотел сказать — более точного человека? Тогда это я.
Антон мигом вышел из себя. Он хлопнул кулаком по столу. Чарли поспешно схватил полный сока стакан и отпил немного.
— Ты консерватор, Чарли! Чего ты ухмыляешься? В древности за такие усмешки карали как за уголовное преступление! Приходится жалеть, что наша эпоха пренебрегла многими добрыми обычаями старины.
Улыбка Чарли говорила не об издевке, а о том, что он собирается придать дискуссии неожиданный поворот.
Чарли — мастер парадоксов. Я провел пять лет под его начальством и часто терялся до немоты, когда Чарли принимался выворачивать привычные понятия. Если Антон ни с чем не согласен и ко всему придирается, то Чарли надо всем насмехается и временами делает это с таким ледяным спокойствием, что охватывает дрожь, а не смех. В древности, о какой вспомнил Антон, Чарли провозгласили бы великим софистом — поклонники его мудрости толпой сбегались бы к нему. Я не сомневался, что он готовится нанести удар Антону именно такой, каким неоднократно сражал и меня, — обернет против Антона собственные его аргументы.
— Как понимать странный термин «консерватор»? — сказал он так мягко, что легко обманул Антона. Меня, естественно, он обмануть не мог. Я с интересом ждал продолжения.
— Как все люди понимают!
— Как понимать фразу: «Понимают, как все люди»?
Антон потерял терпение. Его глаза засверкали. Он даже приподнялся на стуле. С людьми Антон не дерется, но стулом хватить об пол способен, случаи такие бывали.
— Возьми словарь международного языка. Можешь перелистать и словари всех пяти тысяч мертвых языков.
— Я хотел бы услышать разъяснение от тебя, а не узнать из словарей.
Повелитель Демонов все же сдержался. Иногда ему удавалось не взрываться в спорах.
— Слушай же. Консерватор — человек, который остается тем же, как бы все ни менялось вокруг; человек, который, однажды установив для себя систему взглядов, манеру обращения… В общем, всегда неизменный. Тебя устраивает такое толкование?
Настал час торжества Чарли. В спорах подобного рода Антон перед Чарли — мальчишка перед мастером. Антон к тому же задал нашему академику слишком простую задачку.
— Вполне устраивает. Ты прав: я — консерватор. И горжусь этим!
— Ты хотел сказать — «стыжусь»?
— Я сказал то, что хотел сказать. Да, я не меняюсь.
У меня ко всему один подход. Я стараюсь понять все новое, постигнуть все неизученное, овладеть всем трудно дающимся. Для меня мир — пустыня, где каждый шаг сулит открытия. Я не позволю себе почить на однажды достигнутом и не стану выдавать чужой успех за собственный. Но я не всеяден, не безучастен. Я пристрастен и односторонен, тут тоже не собираюсь меняться: всегда поддерживаю доброе против злого, честное против подлого, справедливость против хищности, неправедно обиженного против обидчика. О нет, я не из тех, кто добру и злу внимает равнодушно, — кажется, так в древности говорили об иных мудрецах. Ибо мое постоянство в том, что я всегда, везде, при всех обстоятельствах за истину против заблуждения, за талант против бездарности, за вечный поиск против бесплодной самоудовлетворенности. Тебе не приходило в голову, что именно этой моей неизменностью и объясняется, что я поддерживал тебя против твоих противников и что само приглашение тебя на Уранию вызвано моими хлопотами в Академии паук? Не я назвал тебя Повелителем Демонов Максвелла, но если ты сегодня с достоинством носишь эту кличку, то поблагодари и меня, ибо я способствовал твоему успеху.
Чарли мог бы и не говорить последней фразы. Антон был сражен. Всех его душевных сил хватило только на то, чтобы промямлить:
— Ты выворачиваешь мои слова наизнанку, Чарли!
— Тогда говори словами, которые не выворачиваются наизнанку, — холодно посоветовал Чарлз Гриценко, руководитель Института Экспериментального Атомного Времени, мой начальник, мой лучший друг, по специальности — блестящий физик, по душевным влечениям — великий софист. И для него так естественно было в спорах одерживать верх, что он и не порадовался, только подмигнул мне.
Антон перехватил его взгляд.
— Послушайте, — сказал он с удивлением, — мы с Чарли битый час надрываем глотки, а Эдик не выговорил и словечка. Что кроется за такой отстраненностью?
У этого человека, Антона Чиршке, Повелителя Демонов Максвелла, было редкое чутье на необычность самых, казалось бы, ординарных поступков! С этим надо было считаться.
2
«С этим надо считаться», — мысленно остерег я себя. Из столовой мы вышли втроем. Повелитель Демонов шагал, широко размахивая длиннющими ногами. «Ходит ножницами», — острили о нем, а одна из лаборанток как-то обругала своего руководителя: «Повелитель Демонов-журавль» — очень точная, по-моему, характеристика. Когда до Антона дошли и эти две клички, он деловито поинтересовался: «Ножницы я знаю, а что такое журавль?»
— Чарли, сообщай новости, — сказал Антон. — И я тебе буду звонить. Молчуна Эдика не тревожим, от него интересного не узнать.
Заводик Антона приткнулся к Биостанции, Повелитель Демонов свернул к ней. Мы с Чарли молча прошли мимо ее корпусов. Мардека светила тускло, вот уже месяц — после взрыва сгущенной воды — даже полдень на Урании вряд ли ясней земного зимнего вечера. Правда, потоп закончился, два миллиона тонн в пламени и пару вознесенной воды постепенно излились в котлован будущего Института Мирового Вакуума — образовалось глубокое озеро длиной с километр и шириной метров в двести. На берегах этого озера не будут расти деревья и травы, его не населят рыбы, даже птицы, завезенные на Уранию, пролетают в стороне. Оно мертво и останется мертвым. Энергетики утверждают, что вода, восстановленная из сгущенной, по структуре аномальна: не образовывает каких-то разновидностей льда, плохой растворитель, не утоляет жажды, и вообще, чтобы она стала обыкновенной водой, нужна почти такая же обработка, какая потребовалась, чтобы сгустить первичную воду в сто тысяч раз, литр сгущенной воды, это мы учили еще в школе, весит сто тонн. Между прочим, вода, месяц назад огненным вулканом взметнувшаяся над Уранией, была сгущена даже в сто тридцать тысяч раз.
Чарли остановился на краю котлована. Внизу в бледном свете Мардеки металлом поблескивала водная гладь. Я залюбовался мертвым озером. Оно все же было красиво.
— Помнишь? — спросил Чарли.
Я помнил. Я сохраню в памяти эту картину, этот пейзаж еще никем не виденного чудовищного взрыва.
Мы с Чарли разом выскочили из наших лабораторий, мы бежали бок о бок к Энергостанции. И впереди взметывался водяной вулкан — не пар, не исполинских размеров гейзер, таким его, вероятно, представили себе на Земле, узнав о несчастье. Это было пламя, странное пламя, сине-фиолетовое, бурное, пышущее диким жаром.
Вода, ставшая вдруг огнем, — таким мы увидели взрыв.
И водяные тучи, быстро затянувшие всю планету, были поначалу только дымом. Повелитель Демонов клялся потом, что ощущал ноздрями гарь, даже видел в воздухе копоть. Так это или нет, проверить трудно: хлынувший после взрыва ливень вычистил все окрестности Энергостанции. Этот ливень едва не смыл нас с Чарли в провал котлована. А в эту минуту Павел Ковальский, мой помощник, катался по полу лаборатории, отчаянно борясь с удушьем. Я возвратился слишком поздно, чтобы спасти его, он умер у меня на руках. Никогда себе этого не прощу!
— Предупреди Жанну о приезде Роя Васильева, — сказал Чарли. — Я мог бы и сам поговорить с ней, но тебе сделать это лучше.
— Развернуть перед Жанной программу ответов на возможные вопросы следователя? — хмуро уточнил я.
— Чепуха, Эдик! Но Жанна слишком пристрастна. Если она спутает важное с пустяками, это введет в заблуждение Роя. Он ведь не очень разбирается в жизни на Урании. Будем помогать, ему, а не запутывать пустяками.
— По-твоему, взаимоотношения Павла и Жанны — пустяки?
— Прямое касательство к взрыву и гибели Павла они вряд ли имеют. Или ты думаешь иначе?
— В моей голове пока нет ни одной дельной мысли.
— Тогда поразмысли о моей гипотезе взрыва. Положи ее в основу своих рассуждений и независимо от меня рассмотри возможные следствия. Без этого тайны не раскрыть.
Я промолчал. Чарли не догадывался, что с первой минуты несчастья я пришел именно к тому, что он называл своей гипотезой взрыва, и что для меня это вовсе уже не гипотеза, а неотвергаемая истина. И что из нее следуют выводы, о которых он и помыслить не способен и которые терзают мою душу неутихающим отчаянием.
Он говорил о тайне. Тайны не было. Была реальность, до дрожи ясная, до исступления безысходная. Ровно месяц я бьюсь головой о стену, чтобы предотвратить новое несчастье. Я мог рассказать ему об этом. Он мог все понять. Но помочь он не мог. Вероятней другое — он помешал бы мне искать выход. Он имел на это право и воспользовался бы своим правом. Я вынужден был молчать.
— И еще одно, друг мой Эдик, — сказал Чарли, когда мы подошли к моей лаборатории. — Повелитель Демонов вчера работал с Жанной, она принесла новые пластинки для сепараторов молекул. Он позвонил мне вечером очень обрадованный. Пластинки отличного качества, но обрадовали не они, а сама Жанна. Она оправилась от потрясения, выглядела сносно. Можно теперь не бояться, что любое упоминание о Павле вызовет новый взрыв отчаяния. Молодой организм берет свое не только на Земле, но и на Урании — не так ли? Учти это. Почему ты молчишь?
— Учту все, — пообещал я.
Я готов был выплеснуть какую-нибудь безобразную вспышку гнева, какой-нибудь нелепый поступок. Входя в лабораторию, я впервые понял, почему Антон в ярости бьет кулаком по приборам. Но мои приборы работали исправно, кулачная расправа с безукоризненными аппаратами не дала бы выход раздражению. Возьми себя в руки, приказал я себе. Эту старинную формулу успокоения — взять себя в руки — внушил мне Павел. Сам он знал только одно душевное состояние — вдохновение, он всегда был то исступленно, то только восторженно озаренным. В иных состояниях я его не знал, А мне он со смехом советовал: «Остановись, Эдуард, ты уже готов выпрыгнуть из себя!» И я брал себя в руки; то есть присаживался на стол или подоконник, минуту молчал, две минуты бормотал что-нибудь песенное — и неистовство утихало, волнение проходило, гнев усмирялся.
— Возьми себя в руки, Эдуард, — вслух сказал я себе, сел в кресло и закрыл глаза. Меня клонило ко сну. Я не спал уже пятые сутки. Радиационные души и пилюли антиморфена помогают при движении, это известно каждому, а я почти не выходил наружу.
— Ты меня звал, Эдик? — услышал я голос Жанны и раскрыл глаза.
Жанна хмуро глядела со стереоэкрана.
— Приходи, — сказал я. — Или я приду к тебе. Нужно поговорить.
— Жди.
Экран погас.
Теперь надо было быстро подготовиться к ее приходу. Я задал аппаратам код ее психополя, проверил точность настройки. Жанна вошла, когда я подгонял программу командного устройства.
— Брось! — приказала Жанна. — Мне надоела роль подопытного кролика. Садись, Эдуард.
— Все мы подопытные кролики, — возразил я, но отошел от автоматов.
Она внимательно осматривала меня. То же делал и я — выискивал в ее лице, в ее фигуре, в ее движениях, в ее голосе что-либо неизвестное. Она сидела в кресле похудевшая, побледневшая, усталая, нового в этом не было, она и раньше бывала такой — не все эксперименты сходили удачно, результат каждого отчетливо выпечатывался на ней. Но в каком бы она ни была физическом и духовном состоянии, она оставалась красивой. Красивой она была и сейчас, измученная, почти больная. Я привык доверять прозорливости Антона. То, что он сказал Чарли об улучшившемся настроении Жанны, тревожило. Ни он, ни Чарли не соображали, какая опасность кроется за невинной фразой: «К Жанне воротилось хорошее настроение». Она тоже не могла этого знать.
— Раньше ты боялся смотреть на меня, — сказала она. — Взглянешь и потупишь глаза. И при каждом взгляде краснел. А сейчас пожираешь ненасытным взглядом.
— Испытующим, а не ненасытным, Жанна. Раньше я был просто влюблен в тебя.
— Сейчас ты тоже влюблен, но без простоты?
— Простоты нет, ты права. А что до любви, то меня терзают чувства более сильные. Можешь не страшиться других признаний. Гибель Павла ничего не изменила в наших отношениях, так я считаю.
— Я тоже. Что ж, продолжим разговор. Для начала устанавливаю — внешне ты не изменился. Что ты скажешь обо мне?
— Ты выглядишь нездоровой. После месяца терзаний это вполне естественно. Больше ничего сказать не могу.
— На этом закончится наша беседа?
— Она лишь начинается. К нам вылетела следственная комиссия. Правда, в составе одного человека, зато такого, что стоит десяти.
Я рассказал Жанне о Рое Васильеве. Она поморщилась:
— Опросы, расспросы, допросы… Он очень въедливый, этот Рой.
— Ты его знаешь?
— В отличие от вас с Павлом, занятых только своими работами, я интересуюсь и знаменитыми современниками. Рой и его брат Генрих очень известны на Земле.
— Известность Роя и его брата имеет значение для нас?
— Непосредственное, Эдуард. Рой доискивается истины в ситуациях, где другие мастера розыска пасуют.
Приготовься к полной откровенности.
— Именно это и советует нам Чарли. Быть с Роем предельно откровенным, помочь ему установить истину.
Под истиной Чарли понимает свою теорию взрыва из-за поворота времени на обратный ход.
— Ты придерживаешься иного мнения?
— И не думаю! Чарли абсолютно прав. Но его теории недостаточно, чтобы установить все причины катастрофы. И в эту особенность ситуации нельзя посвящать Роя. Во всяком случае, пока.
— Не понимаю, Эдуард. Хитрости в тебе еще не наблюдала. Лукавство и ты — категории несовместимые. И ты собираешься обманывать изощренного дознавателя?
— Должен это сделать.
— Почему?
— Жанна, это же просто. Чарли объясняет несчастье обратным ходом времени. Гипотеза хоть и парадоксальна, но убедительна. Она достойна увенчать собой любой розыск причин катастрофы. Чарли хочет, чтобы Рой пришел именно к такому выводу.
— И это будет правильный вывод.
— Да, если это будет только выводом.
— Опять не понимаю тебя, Эдуард.
— Жанна, ты сама считаешь Роя проницательным дознавателем. Вообрази и такую возможность: Рой приходит к гипотезе Чарлза не в конце долгих поисков, а принимает ее сразу. Тогда она будет не выводом, а предпосылкой. На выводах останавливаются, от предпосылок отталкиваются. Рой неизбежно поставит перед собой и следующий вопрос: как стал возможен поворот времени на обратный ход?
— Такой вопрос поставит перед собой и Чарли.
— Несомненно. Но раньше ведь надо доказать истинность своей идеи, он пока увлечен только этим. Стало быть, есть время для завершения наших опытов. А дознаватель сразу может перейти к ним.
— Тебя это страшит?
— Мы должны завершить исследования! Павел погиб, но расчеты Павла подтверждены. Они должны из набора формул стать реальным физическим процессом. Не прощу себе, если этого не сделаю!
Я видел, что в ней идет борьба. И знал заранее, что она предложит. Павел незадолго до гибели предупреждал, что тайные поиски не для Жанны, она уже сгибалась под грузом накапливающихся секретов.
— Эдуард, мне надоело скрываться, — сказала она то, чего я ждал. — Давай попросим официального разрешения на наши эксперименты.
— И немедленно получим категорический отказ!
— Я устала, Эдуард…
— И готова примириться с тем, что великую загадку природы мы не раскроем?
— Боюсь, не мне раскрывать великие загадки природы. Павел убедил меня в другом. Но гибель Павла опровергает его уговоры. Я уже думала об этом, Эдуард. Поверь, я креплюсь, но сколько можно?…
Одно в том, что она говорила, было утешительно.
Повелителю Демонов отказало его ясновидение. Она отнюдь не вернулась от горя к спокойствию. С моей души спала большая тяжесть. Теперь я был уверен, что удастся переубедить ее. Я ходил по лаборатории, она сидела и молча слушала мои объяснения и просьбы.
Так у нас бывало и прежде. Она садилась в сторонке, а мы с Павлом шагали от стены к стене, говорили, кричали, ссорились, мирились, радостно хлопали друг друга по плечу, с ликованием хвалились открытиями, с сокрушением признавались в неудачах, обвиняли себя в бездарности, превозносили свои таланты… Она переводила глаза с одного на другого, щеки ее охватывало пламенем — всегда красивая, она в такие минуты становилась прекрасной.
Так было и на этот раз — я говорил, она слушала.
Наши эксперименты оборвались трагически, но их нельзя просто прервать, вызванные ими процессы продолжаются сами собой, и сегодня не установить, как далеко они зашли и чем окончатся. Отказ от продолжения породит свои опасности.
— Даже если нашим соседям и мало что грозит, то под угрозой мы с тобой, Жанна, и в первую очередь ты! — говорил я. — Только завершение экспериментов способно гарантировать нам безопасность. Жанна, Жанна, ты же ученый-физик, мастер эксперимента, как же ты не понимаешь, что мы вызвали к жизни злого джинна и не будет нам спокойствия, пока не справимся с ним?
— Ты прав, эксперименты надо закончить, — сказала она, когда я высказался. — Постараюсь скрыть от Роя их суть, если он ими заинтересуется.
— Он ими заинтересуется, Жанна!
Она ушла. Я смотрел, как она перепрыгивала через маленькие лужи, — оставшиеся от недавнего потопа, обходила большие. Она ни разу не оглянулась. У нее странная походка — упругая, стремительная, она, подпрыгивая, как бы взлетает. Сколько раз я украдкой любовался, как она ходит! У меня было скверно на душе.
Я убедил ее, но не назвал реальных опасностей. Я не смел говорить о них. Их надо было предотвратить, а не расписывать грядущие ужасы. Я подошел к регистратору. Прибор писал нормальную кривую психополя Жанны. Прогноз Антона Чиршке не подтверждался. У меня было время разработать противодействие.
3
Теперь я ждал Роя Васильева.
Рой задерживался на Латоне. Вероятно, у него были и другие задания, кроме расследования взрыва сгущенной воды. Два планетолета с Латоны прибыли с грузами для Биостанции. Для Энергостанции и Института Времени не поступало ничего. Энергетики нервничали, Чарли радовался: его сообщение в Академию наук, переданное по сверхсветовому ротоновому каналу, видимо, произвело впечатление — до установления причин взрыва воды энергетики будут ориентироваться на ядерные генераторы, хотя они менее эффективны.
— Придется и нам сократить опыты с атомным временем, иначе говоря — временно ограничиться безвременьем, — острил Чарли. — Это, естественно, плохо — мы ведь основной потребитель энергии на Урании. Зато другое хорошо — на Земле отдают себе отчет в серьезности аварии. Предвижу полезное дополнительное внимание к Институту Времени.
Особое внимание к нам было как раз тем, чего я хотел бы избежать. Но после катастрофы об этом не приходилось и мечтать. Я улыбался и отмалчивался. Работа шла плохо. Я еще не знал, что наша программа экспериментов в принципе порочна и не может дать того, на что мы с Жанной надеялись, — не говорю уже о том, на что надеялся я.
Однажды утром меня вызвал Чарли.
— Эдик, выметывай свои бренные кости наружу, почти весело сказал он. — Идем встречать гостей с Земли. Нет, — поспешно добавил он, — вижу по твоим губам, что собираешься послать меня к черту. К черту я не пойду. Жду тебя у выхода через пять минут.
Среди особенностей Чарлза Гриценко имеется и точность. Он гордится, что все у него «минута в минуту».
Он говорит о себе: «Я повелитель времени, ибо рабски ему покоряюсь. Я командую им в соответствии с его законами». Между прочим, его успехи в экспериментировании с атомным временем неотделимы от уважения к законам самого времени — одно из возражений, которые я выдвигал против иных увлечений Павла.
Я вышел из лаборатории на исходе последней из дарованных мне пяти минут, и мы зашагали с Чарли в космопорт.
Вероятно, это был первый ясный день после катастрофы. На планету вернулся полный дневной свет. Мардека светила ярко, было тепло, воздух, еще недавно мутный, стал до того прозрачным, что вдали виднелись башни космопорта, а это все-таки около двадцати километров.
— Авиетки я не вызывал, сядем в аэробус, — сказал Чарли.
До отправления рейсового аэробуса было минут десять, мы присели на скамью. С холма открывался простор всхолмленной, зеленой, цветущей равнины. Если бы я не знал, что нахожусь невообразимо далеко от Земли, на еще недавно мертвой планетке, приспособленной для экспериментов, недопустимых в окрестностях Солнца, я чувствовал бы себя как на Земле. Впрочем, это и было «как на Земле», строители Урании постарались создать на ней главные земные удобства: мы восхищались нашей планетой, как великим достижением астроинженеров и космостроителей.
— Понимаю, ты тревожишься, — сказал Чарли, мое молчание и сейчас подействовало на него «информативно». — И хорошо, что тревожишься. Тревога — рациональная реакция на опасности. Один древний бизнесмен телеграфировал жене: «Тревожься. Подробности письмом». Но тревога не должна превращаться в панику.
Эксперименты с временем Рой бессилен запретить.
— Смотря какие эксперименты, — пробормотал я.
— Любые! Мы работаем по плану Академии наук. И только Академия правомочна внести изменения в свои планы. Маловероятно, чтобы этот землянин, неплохой космофизик, но никакой не хронист, взял на себя ответственность за направление хроноисследований. Думаю, в проблемах атомного времени Рой Васильев разбирается не больше, чем воробей в интегральном исчислении.
Чарли хотел меня успокоить, но я предпочел бы, чтобы Рой был полузнайкой, а не профаном в атомном времени. Полузнайка — так я считал — будет углублять уже имеющиеся малые сведения, то есть продолжать традиционную дорогу. Но профану все пути равноценны, он способен зашагать и по тем, что полузнайке покажутся невероятными, а среди невероятных попадется и наша с Павлом исследовательская тропка.
— Ты не согласен? — поинтересовался Чарли.
— Согласен, — сказал я и промолчал до космопорта.
В космопорту собралась вся научная элита Урании.
Каждый начальник лаборатории считал своей почетной привилегией присутствовать на встрече знаменитого землянина. Впереди собрались энергетики — это я еще мог понять: катастрофа на энергоскладе затрагивала прежде всего их. Но зачем позвали биологов — было непонятно. Я так и сказал Антону Чиршке, возбужденно вышагивавшему в сторонке от толпы. Он закричал, словно в парадной встрече был повинен я:
— А я? Для чего тут я, объясни?
Антон сердито пнул ногой берерозку — хилое белоствольное деревцо с листьями березки и цветами, похожими на пионы. Берерозка закачалась, осыпая ярко-красные лепестки. Это немного успокоило Повелителя Демонов. Я подошел к Жанне, она разговаривала с Чарли. Бледная, очень печальная, очень красивая, она так невнимательно отвечала на его остроты, что я бы на его месте обиделся. Но тонкости ощущений не для Чарлиона ведь что-то говорила, большего ему и не требовалось. Чарли отозвали к энергетикам, и Жанна сказала мне:
— Мне трудно, Эдуард, но я креплюсь. Не тревожься за меня. Что нового принесли вчерашние эксперименты?
Так она спрашивала каждое утро: вызывала по стереофону и задавала один и тот же вопрос. И я отвечал одним и тем же разъяснением: нового пока нет, идет накопление данных. Она грустно улыбнулась, выслушав стандартный ответ, и пожалела меня:
— Ты плохо выглядишь, Эдуард. Не буду отговаривать тебя от круглосуточных дежурств у трансформатора атомного времени — ты не послушаешься. И не посылаю к медикам — ты к ним не пойдешь. Но иногда думай и о себе.
— Я часто думаю о себе, — заверил я бодро.
Так мы перебрасывались малозначащими для посторонних фразами, с болью ощущая сокровенное значение каждого слова. А потом на площадку опустился планетолет с Латоны и вышел Рой Васильев. Он прошагал сквозь расступившуюся толпу, пожал с полсотни рук — мою тоже, — столько же раз повторил:
«Здравствуйте!» — приветствие прозвучало почти приказом: «Смотрите, будьте у меня здоровыми!» Мне в ту минуту почудилось, что я так странно воспринял его приветствие только из-за разговора с Жанной о здоровье, а реально оно означало обычное приветствие. Лишь впоследствии я понял: у этого человека, астрофизика и космолога Роя Васильева, не существует обыденности выражений и притупленной привычности слов, он говорит их почти в первозначном их осмыслении, и даже такое отполированное до беззначности словечко, как «спасибо», меньше всего надо воспринимать как простую признательность — дикарское, полуиспуганное, полумолящее «спаси бог!» куда точней! В наших последующих встречах эта особенность Роя сыграла немалую роль, но в тот день знакомства я и помыслить не мог, как вскоре понадобится вдумываться во многосмысленность, казалось бы, вполне однозначных слов.
В аэробусе Рой Васильев уселся на переднем кресле, у коробки автозодителя, лицом к пассажирам. То один, то другой обращались к нему с вопросами, он отвечал неторопливо и обстоятельно — не быстрыми репликами, обычными на Урании, а сложно выстроенными соображениями: в каждую фразу вкручивалось с пяток придаточных предложений, уводящих то вправо, то влево, то вперед, то назад от главного смысла. Я украдкой запечатлел на пленке один из вычурных ответов о цели его командировки на Уранию и ограничился этим: ничего важного он сегодня сказать не мог, важное начнется, когда он ознакомится с Уранией. Я молча разглядывал посланца с Земли. Смотреть на что — было.
Он был высок, этот Рой Васильев, почти на голову выше любого из нас. Правда, как-то получилось, что на Уранию уезжали люди среднего роста и малыши, ни один из земных исполинов сюда не выпрашивал командировок. На Земле Рой ростом никого бы не поразил, но здесь выделялся. Худой, широкоплечий, длинноногий, он плохо умещался на низком кресле и то вытягивал вперед ноги, то, поджимая их, высоко поднимал колени.
Лицо его тоже было не из стандартных — большая голова, широкий, мощной плитою, лоб, нос из породы тех, какие называют рулями, толстогубый рот и сравнительно маленькие, голубые, холодные, проницательные глаза. Рой методично обводил взглядом всех в аэробусе, ни на ком — до меня — не задерживался, в глазах светилось пристойное равнодушие. Так было, повторяю, пока он не бросил взгляд на меня. То, что тогда совершилось, и сейчас мне видится удивительным. Глаза его вдруг вспыхнули и округлились. Он словно бы чему-то безмерно удивился. Он не знал, кто я такой, никто при знакомстве не называл своей должности. И подозревать, что именно я имею какое-то особое отношение к трагедии, он, естественно, не мог. А он впился глазами в мое лицо, как бы открыв в нем что-то важное. Многие заметили, как странно он рассматривал меня, а сам я, возвратившись в лабораторию, долго стоял у зеркала, стараясь понять, чем поразил его: лицо как лицо, некрасивое, немного глуповатое, кривоносое, узкоскулое, со скошенным подбородком, в общем, по снисходительной оценке Чарли, лицо из тех, что восхищения не вызывают, но и кирпича не требуют.
Мы подлетели к гостинице, и Рой объявил свою программу: сперва он детально ознакомится с Уранией, его давно интересует эта планета; потом он побывает на Энергостанции, на Биостанции и в Институте Экспериментального Атомного Времени. Дальнейшее выяснится в дальнейшем.
Мы возвращались к себе вчетвером — Жанна, Антон, Чарли и я. Повелитель Демонов кипел, Чарли иронизировал, Жанна изредка подавала реплики, я молчал, старательно молчал — так потом определил Чарли.
— Нет, зачем нас заставили терять драгоценное время на пустые встречи и никчемные разговоры? — негодовал Антон. — Ну, прилетел кто-то, ну, проехал в гостиницу, ну, что-то маловразумительное пробормотал, а я при чем? Вызовут на объяснение — пойду объясняться.
Каждый будет говорить в меру своего понимания. А пока не тревожьте попусту!
От досады он вдруг остановился и топнул ногой. Чарли потянул его за руку:
— Не теряй свое драгоценное время еще и на остановки. Ты ошибаешься в главном. Каждый будет говорить в меру своего непонимания. Наука состоит из интеллектуальных приключений. Приключения науки классифицируются как загадочные, важные и пустячные. Считай, что сегодняшняя экскурсия относится к приключениям пустячным. Для тебя заполненное время — некое божество, которому все подчиняется. Но каждый бог имеет своего черта, а черти вздорны и непоследовательны. Я читал это в древних курсах демонологии.
Антон опять остановился. Он любил замирать на месте, когда в голову являлись интересные мысли. Но сейчас он только закричал:
— Надоели твои парадоксы! Ты способен перевести свои туманные изречения на человеческий язык?
— Способен. Перевод будет такой. Рой Васильев ровно на порядок умней тебя, хотя по габаритам — всего лишь средней руки медведь. Ты требуешь примитива, тебе немедленно подавай отполированные формулировки. А Рой разговаривает полуфабрикатами, он лишь намечает силуэты мыслей, а не вырисовывает каждый завиток. Он и допрашивать будет так — с подтекстом, многозначительно, а не однозначно.
— Допросы с подтекстом? Очередная острота, Чарли?
— Очередное точное постижение действительности.
Ожидаю неожиданности. И делаю из этого важные выводы.
— Выводы? — Антон изобразил удивление. — Что-то новое! До сих пор ты не выбирался из сферы доводов, предоставляя другим делать выводы. Твоя стихия — о каждой простенькой вещи высказывать десять разных мнений, а какое именно верно, ты не успеваешь установить.
— На этот раз я отступлю от своего обыкновения. Я прослушал вступительный словесный взнос Роя Васильева в общую сумятицу суждений о взрыве и наметил дорогу, по которой нам всем шагать.
— Объясни в двух словах.
— Двух слов не хватит. Дай сто.
— Даю сто, но ни одного слова больше.
В сто слов Чарли уложился. Он гнул все ту же линию. Ему не понравилась туманность первых высказываний Роя. Он, Чарлз Гриценко, и раньше предупреждал, что когда Рой познакомится с гипотезой Чарли, мнение, будто виноваты работники Института Времени, превратится в убеждение. Он замахнется на исследования по трансформации атомного времени. Так вот — не поддаваться! В пустяках уступить, ничем серьезным не поступаться.
— Ты уже говорил мне об этом, — напомнил я.
— Тебе — да, Жанне и Антону — нет. Нас будут допрашивать поодиночке. Пусть каждый после встречи с Роем информирует остальных о том, как он слушал, как глядел, с какими интонациями говорил…
— Вопросы, опросы, расспросы, допросы!.. — повторила Жанна то, что уже не раз говорила мне. — Как это, противно! Ну скажи, пожалуйста, какое значение могут иметь интонации голоса Роя?
— Первостепенное, Жанна. Эдик, ты что-то записывал в аэробусе, включи-ка!
Я вынул карманный магнитофон. Антон опять остановился. Мы стоя выслушали длинную фразу, записанную, правда, не с самого начала: «…а потому необходимо, учитывая заинтересованность Земли в благополучии Урании и ответственность каждого, поскольку мои особые задания не выходят за эту границу, а сам я чрезвычайно в этом заинтересован и могу вас заверить, что только в этом направлении и буду действовать, и стало быть, картина задачи выясняется, как картина дальнейшей безопасности, хотя неизбежны всяческие отклонения, то именно это и подчеркнуть, а после разработать окончательные условия, отдавая себе отчет, что и Земля, и Урания тут одинаково согласны».
— Абракадабра какая-то! — рассердился Антон.
— По-моему, все понятно, только длинно и витиевато, — возразил Чарли. — Принимайте высказывания Роя, как некогда спартанцы восприняли двухчасовую речь афинских послов, просивших о мире.
— Никогда об этом не слыхал!
— Тогда послушай. Спарта хотела продолжать удачную для нее войну. И спартанцы сказали, что ничего не могут ответить на речь афинских послов, ибо не поняли ее конца, а не поняли конца, потому что забыли начало.
— Остряки. Но какое это имеет отношение к Рою?
— Умницы, а не остряки. Рой Васильев совместил в себе афинянина со спартанцем: говорил многословно, как афинянин, а в целом все прозвучало по-спартански: идите, друзья, пока что подальше, а придет время — получите разъяснения поточней.
— Мне пора к себе, — сказала Жанна и ушла от нас.
Мы заговорили о ней. Антон снова сказал, что Жанна оправляется от потрясения. Разве она не засмеялась, когда Чарли заговорил о допросах с подтекстом? Если после гибели Павла было опасение за ее здоровье, то теперь такой угрозы нет.
— Смеялась-то она уж очень нерадостно, — заметил Чарли. — И в надежном излечении я не уверен. Ее лечили от второстепенных хворей — нервного потрясения, истощения, головокружений. А надо лечить от основного заболевания. Основное заболевание — что она живет после гибели Павла. Лекарство от болезни есть. Лекарства от жизни — нет.
— Лишить ее жизни для излечения? — съехидничал Повелитель Демонов.
— Кто из нас любитель парадоксов, дорогой Антон? Не лишать жизни, а изменить жизнь — вот что излечит ее. Скажем, возвращение на Землю, полное прекращение всех исследований, в том числе и тех, что она делает для тебя.
— Исключено! Или хотите, чтобы в ваши теплые лаборатории вторгся космический холод? Не забывайте, что теплоснабжение Урании обеспечивают мои сепараторы молекул. — Антон подумал и добавил: — Все же я вижу в Жанне хорошие перемены. Возможно, ее душевное состояние остается скверным, но физически она оправилась, даже похорошела.
На развилке шоссе Чарли снова напомнил:
— Итак, друзья, держимся твердо: уступать, но не поступаться!
4
«Уступать, но не поступаться» — так он объявил, уходя к себе. В сущности, то было пустое наставление, в нем не содержалось конкретности. Но для меня в такой краткой формуле таилось все, чего я мог пожелать.
Чарли и не догадывался, сколь много значили его слова.
«Уступать, но не поступаться», — твердил я, шагая по лаборатории, заставленной механизмами и приборами.
Самописцы писали все те же кривые, процесс шел своим ходом — от пункта к пункту, от этапа к этапу. Всеми страстями души, всей силой мысли я стремился убыстрить его, но он двигался по своим законам, а не по моему хотению. Мы с Павлом, как некие могущественные волшебники, вызвали к жизни еще никому не ведомые потенции природы, но не подчинили их себе: гибель Павла, взрыв двух миллионов тонн сгущенной воды стали свидетельством нашего бессилия — первым грозным свидетельством, первым, но, возможно, не последним, предугадывал я. Дознается ли Рой Васильев до тайны трагедии на Урании, если сам руководитель Института Экспериментального Атомного Времени, сам блистательный академик Чарлз Гриценко далек от ее понимания? Скоро ли дознается? Сколько времени нужно мне с Жанной, чтобы овладеть коварным джинном, так безрассудно нами вызволенным из атомного заточения? Даст ли нам землянин Рой это время? Что он потребует от нас? Что разрешит? Что запретит? Голова распухла от мыслей. «Уступать, но не поступаться», — твердил я себе как заклинание И понятия не имел, что именно уступать, чем именно не поступаться.
День шел за днем. Рой не торопился. Цистерна со сгущенной водой оставалась на Латоне. Энергетики жаловались, что ресурсы ядерных аккумуляторов на пределе. Биологи ворчали на слишком жесткий энергетический лимит. О нашем институте и говорить не приходилось, любой эксперимент со временем требовал бездны энергии — девять десятых мощностей Энергосистемы работали на нас. Однако хронисты вели себя сдержанней энергетиков и биологов. Гипотеза Чарли, что причина аварии в неполадках с атомным временем, пугала всех.
Никто не требовал немедленной доставки с Латоны заветной цистерны, ибо каждый опасался вопроса: а как вы предотвратите новую аварию, если причины ее в ваших работах, но что за причины, сами толком не знаете?
Рой, повторяю, не торопился. До него, казалось, не доходили сетования энергетиков и биологов. Он безмятежно гулял по Урании. Его видели на берегах неширокой Уры, он карабкался по сопкам и спускался в долины, осматривал дома и заводские здания, облетел на авиетке южные леса и саванны. Он держал себя как турист, а не как дознаватель. И когда заговаривал с кем-либо, то лишь для того, чтобы выказать свое восхищение обликом планеты, выбранной людьми для самых опасных экспериментов. «Он, кажется, считает Уранию космическим домом отдыха», — с недоумением говорили те, кого он удостаивал своими пейзажными беседами, а иных он пока не вел.
Когда же он непосредственно приступил к выполнению задания, то и его повел иначе, чем ожидали. Он начал с биологов — посетил их лаборатории, вызывал биологов к себе. Но расспрашивал о том, что не имело отношения к взрыву. Его занимало, как ведут себя синтезированные животные, рыбы, птицы, растения, какая от них польза, будут ли биологические искусственники вывезены на Землю и другие планеты для расселения там, или жизнь их ограничится лишь индивидуальным, а не видовым существованием.
Затем пришла очередь энергетиков. Их-то несчастье на энергоскладе касалось непосредственно. Теперь в разговорах посланца Земли послышались словечки «взрыв, катастрофа, трагедия, меры предосторожности».
Чарли уверял, что ни один энергетик не способен дать толкового объяснения происшедшего, для них сгущенная вода была тем же, что для древних энергетиков уголь или нефть, — они использовали готовый продукт, не задумываясь над тем, как он получен.
— Пока Рой не поставит себе вопроса, как производится сгущенная вода, он не приблизится к раскрытию загадки, — утверждал Чарли. — А технологию сгущения воды надо было изучать на Земле. По-видимому, он этого не сделал.
Последним из энергетиков Рой пригласил Антона Чиршке.
Повелитель Демонов так торопился предстать перед дознавателем, что забыл известить нас о вызове. Чарли, узнав об его уходе к Рою, предложил мне и Жанне срочно прибыть в лабораторию Антона.
— Ужасно хочу спать, — пожаловалась Жанна. — Если засну, не будите до появления Антона.
— Сон — это здоровая реакция на нездоровую действительность, — объявил Чарли. — Любое выздоровление начинается с позыва ко сну.
Я хотел было напомнить Чарли, что недавно он доказывал невозможность излечения, если не ликвидируют основное заболевание, а основное заболевание Жанны — тот факт, что она живет, но я вовремя сообразил, что парадоксы такого рода не для слуха Жанны. Тут ворвался Антон Чиршке и с порога закричал:
— Вы у меня? Я каждого вызывал, никто не откликнулся. Куда вы все подевались? Нет, этот Рой — штучка, можете мне поверить!
— Садись! — приказал Чарли. — Не топай ногами и не размахивай руками. Постарайся говорить связно. Точно передать разговор ты, конечно, не сможешь, но хоть не мекай.
Не сомневаюсь, Чарли хотел, чтобы Антон обиделся, потому что в таком случае Антон начинает следить за собой и тогда с ним все проще. Чарли добился большего — Повелитель Демонов вознегодовал. Он обругал Чарли и взял себя в руки. Это позволило ему десять минут изъясняться вполне толково.
— Знаете, с чего начал этот белобрысый, этот медведь средней руки, как ты его определил, Чарли? Пожал полутонным усилием мою руку, как будто не пожимал, а выжимал. И вопросил, почему я ношу кличку Повелителя Демонов. Я, естественно, поправил: не Повелитель Демонов, а Повелитель Демонов Максвелла. Он деловито осведомился, есть ли в названиях разница. Я заверил, что разница весьма существенная и ее должен знать каждый культурный человек, в особенности физик по образованию. У Роя железная выдержка, он и глазом не моргнул.
«Если это вас не затруднит, — сказал он и так улыбнулся, словно я его одарил, а не высмеял, — то я бы хотел узнать подробней различия разных демонов».
«Общеизвестные демоны, — сказал я тогда, — это нечто вроде злых или там не очень добрых духов, непрерывно общающихся с людьми, то есть чаще всего вредящих людям, — всякие черти с рогами и хвостами, домовые в лохмотьях, заросшие шерстью крысообразные бесы, безрогие и бесхвостые гномы и кобольды, эльфы и сильфиды в развевающихся одеждах, а также прекрасные юные феи, уродливые старухи ведьмы, лесные бродяги лешие, коварные речные русалки, прожорливые горные драконы, глуповатые джинны в бутылках и прочие в том же роде. Объединяет всех этих многообразных демонов то, что все они — сверхъестественные существа, каждое со своим именем, обликом и норовом. И что эти сверхъестественные существа реально — в смысле физически — не существуют. Они — плод воображения.
«Понятно, — сказал он. — Общеизвестные демоны имеют свои особые лица, носят особые имена, по-особому общаются с людьми, а реально их нет. Этими красочными субъектами вы не командуете. Насколько я помню, такими демонами повелевали в древности некий царь Соломон и два-три арабских халифа. В общем, с ними просто. Ну а демоны Максвелла? Они тоже имеют имена и телесный облик? И существуют физически?
«Нет, — сказал я. — Демоны Максвелла — это научное понятие. Им не присвоили телесного образа, их не наделили именами. Великий физик прошлого Джеймс Кларк Максвелл предположил, что если бы существовал демон размером с молекулу, и если бы этот демон стоял у забора с отверстием, прикрытым дверкой, и если бы к отверстию подлетали молекулы, то он смог бы их распределить по скоростям: открывал дверцу перед быстрой молекулой, закрывал перед медленной. В результате быстрые пролетали бы по другую сторону забора — и там бы повышалась температура, а медленные оставались по эту сторону — и здесь температура падала.
Мне удалось реально осуществить идею Максвелла».
«Поэтому вас и назвали Повелителем Демонов Максвелла?»
«Совершенно верно».
«И эти демоны, не имеющие ни имен, ни облика, у вас приняли вид…»
«…пористых перегородок, которые я изобрел еще на Земле и которые поставляет здесь, на Урании, лаборатория Жанны Зориной. Быстрые молекулы пролетают сквозь них, не теряя скорости, медленные отталкиваются. Вроде бега с препятствиями: хороший бегун легко перепрыгивает через поставленный на пути барьер, плохой задевает его ногами и падает…»
«Я слышал, все отопление на Урании производится вашими демонами, то есть сепараторами молекул?»
«Холодильные установки тоже работают ст них. Технически все очень просто. Особые насосы вдувают в сепараторы воздух под давлением. Быстрые молекулы проскакивают через перегородку и отводятся по горячей трубе, медленные рушатся в холодную трубу. Просто, не правда ли?»
Так я ему растолковал конструкцию моих сепараторов. Он кивал, улыбался — демонстрировал, что его восхищает простота объяснений. А потом задал стандартный вопрос: не опровергают ли мои демоны, принявшие телесную форму пористых перегородок, второе начало термодинамики? Вот, мол, есть такое понятие — энтропия, мера вырождения энергии, мера хаотичности движения молекул. Он затвердил еще в восьмом классе, что энтропия во всех физических процессах растет, увеличивая общий хаос, — как у меня с этим священным понятием термодинамики? Не ополчились ли мои демоны на фундаментальные законы физики? Я не постеснялся сказать, что хороший физик не должен ограничиваться знаниями в объеме восьмого класса. И популярно растолковал, что и в моих установках энтропия растет. И что если снова соединить горячий и холодный потоки, то воздух возвратится к прежней температуре — повышение ее в одной трубе компенсируется понижением в другой, а к этому еще добавляется потеря энергии на работу насосов, весьма немаловажная величина, доложил я ему.
«В общем, можете не волноваться, Рой, — объяснил я, — энергия в моих установках не создается и не уничтожается, а лишь трансформируется».
Он любезно заверил, что уже не волнуется, и предложил перейти от сепарации молекул к взрыву сгущенной воды. Я согласился, что пора перестать попусту терять время. Он и это снес. И почти вежливо сказал:
«На Земле мне объясняли, что не существует физических процессов, которые могли бы вызвать нарушение структуры сгущенной воды. Вы согласны с этим?»
«Абсолютно, — ответил я. — Превращение сгущенной воды в обычную происходит только с открытой поверхности, как при испарении. И при этом выделяется огромное количество энергии, которая и утилизируется. II как нельзя заставить воду превращаться в пар во всей массе, если температура ниже точки кипения, так нельзя и сгущенную воду заставить менять свою структуру во всей массе, а не с поверхности. Даже если вы бросите цистерну со сгущенной водой в звездные недра, то и там температура в миллионы градусов не вызовет мгновенного взрыва».
«Однако взрыв на Урании произошел. Вы не будете это отрицать?»
«Не буду».
«И стало быть, теория опровергнута?»
«Стало быть, опровергнута».
«У вас есть объяснение?»
Его вопросы раздражали примитивностью. Если бы я знал, какой удар он готовит мне, я бы сдержался. Но он глядел так наивно, так легко сносил мои выпады, что я зло напомнил: кто из нас расследует катастрофу?
Будь мне ведомы причины взрыва, ему не понадобилось бы прилетать на Уранию. Не вижу явных причин несчастья, не могу обсуждать даже абстрактных возможностей. У него похолодели глаза. Он не взглянул, а ударил взглядом.
«В самом деле? А я собираюсь предложить вам для рассмотрения одну абстрактную возможность несчастья.
Она непосредственно вытекает из вашего рассказа о своих работах».
«Вот как? Интересно!»
Надо было вскочить, топнуть ногой, в крайнем случае, стукнуть кулаком, с вами бы я так и поступил, но с ним постеснялся, только съязвил:
«Буду благодарен за разъяснения, какие возможности катастроф таятся в моих работах».
«А, к примеру, вообразите, что стенки энергетической цистерны каким-то способом превращены в разновидность ваших пористых перегородок и что сквозь них вдуваются в сгущенную воду быстрые молекулы. Вы уверены, что это не приведет к немедленному взрыву?»
Я бы соврал, ребята, если бы скрыл, что был ошеломлен. Абстрактная возможность такого объяснения существовала.
«Но ведь этого не было!» — воскликнул я.
«Я говорю о возможностях», — напомнил он.
Я с усилием отпарировал:
«А не кажется ли вам, друг Рой, что привлекать для объяснения взрыва сепарационные перегородки ничем не лучше, чем вызывать для этого реальных демонов?»
«Реальных — в смысле реально не существующих? — уточнил он. — Вы говорите о бесах и дьяволах, феях и ведьмах, леших и эльфах?»
«Именно о них. Почему бы не объяснить катастрофу на энергоскладе вторжением в сгущенную воду джиннов или кобольдов?»
«Попробуйте изучить и эту возможность, вы ведь крупный специалист по демонологии, — спокойно предложил он. — Надо, надо вам оправдывать прозвище Повелитель Демонов, друг Антон».
На этом беседа закончилась. Он снова мощно выжал мою руку и милостиво отпустил. Вот такой разговор получился. Не стану притворяться — конец был иным, чем начало. Боюсь, что не столько я иронизировал над его наивными вопросами, сколько он подшучивал надо мной. Бросаю вам эту психологическую кость, друзья, погрызите ее.
— Погрызем, погрызем! — сказал Чарли. — Но раньше послушайте, как я оцениваю сцену, описанную Антоном.
Толкование Чарли было просто. Рой Васильев подбирается к решению исподволь. Он последовательно отсекает все незначащее. Его прогулки по Урании — отнюдь не туристское времяубивание. Если бы это было так, то он продолжал бы их, а он как отрезал все выходы на природу, — видимо, установил, что с катастрофой природные условия не связаны. А проведя опросы биологов, установил, что они тоже далеки от тайны, — вот почему такое пытливое изучение новых биологических объектов, такой глубокий интерес к геноконструированкю в считанные часы сменяются полнейшим равнодушием. Энергетики — следующий этап приближения к загадке. Опросы превращаются в расспросы и даже завершаются насмешками. Рой ни одной минуты не верит, что исследования Антона Чиршке могли вызвать катастрофическое изменение структуры сгущенной воды. Этот Рой Васильев, космофизик и детектив, штучка с ручкой. Я назвал его медведем средней руки. Но шкура этого белого медведя шита белыми нитками. Круги его поисков сужаются. В фокусе его внимания скоро окажемся мы трое: Жанна, Эдуард и я. Нужно готовиться к тому, что опросы, превратившиеся в расспросы, теперь станут допросами, Это опасно.
— Не понимаю тебя, Чарли! — воскликнул Антон. Не ты ли недавно доказывал, что исследованиям времени ничего не грозит. «Уступать, но не поступаться» — не твои ли слова?
— Мои, мои! Но видишь ли, сценка, разыгранная Роем с тобой, очень странна. Я уже не уверен, что обойдется без осложнений. Очередь теперь за Жанной. Посмотрим, как пройдет ее допрос.
— Буду говорить правду, и только правду, как ты советовал.
— Правда часто выглядит неправдоподобной, Жанна.
— Постараюсь доказать Рою, что правда это правда. Надеюсь, он не остряк и не любитель парадоксов, как ты.
— Надежда — это изнанка неуверенности. В ней что-то от «авось» да «небось»; Предпочел бы расчет, а не надежду.
— Хорошо, выражусь по-твоему. Рассчитываю на ясный ум и научные знания Роя Васильева.
— Круги сужаются, — сумрачно повторил Чарли. Жутко не понравился мне разговор Роя с Антоном. Говорю вам: круги сужаются!
5
«Круги сужаются», — молчаливо твердил себе и я.
Пока мы были у Антона, мне удалось промолчать. И ни Антон, столь остро ощущающий любое отклонение от обычности, ни Чарли, воспринимающий всякое молчание как красноречивое высказывание, ни тем более Жанна молчания моего не заметили. Уже это одно было успехом. У меня разошлись нервы. Если бы меня вызвали сейчас на разговор, я наговорил бы глупостей. Друзья по-прежнему не соображали, как скверны наши дела, и я не имел права просвещать их. Круги сужались. Новая трагедия уже надвигалась, и лишь я один знал, какой она будет. Я это понял, когда глядел на Жанну.
Антон Чиршке, Повелитель Демонов Максвелла, и на этот раз не ошибся. Он говорил Чарли, что Жанна повеселела и похорошела, он увидел в этом лишь свидетельство выздоровления, что бы там ни говорил Чарли насчет основных и второстепенных хворей. Но моим глазам Жанна представала по-прежнему похудевшей, ослабевшей, бесконечно измученной — такой она сидела в моей лаборатории, когда я ввел ее психополе в датчик самописца и самописец не уловил важных изменений в ее психике. Несколько дней я с ней не встречался к сегодня сам увидел то, о чем первым заговорил Антон. Нет, я не раздражал Жанну пытливым взглядом: она не терпела, когда засматриваются на нее, даже у Павла пресекала любование собой, что же говорить обо мне! Я только бросил на нее взгляд и ужаснулся. Она похорошела! На еще недавно серые щеки возвратился румянец, в потускневшие глаза — блеск, в голосе, так долго усталом и слабом, зазвучали звонкие нотки. Антон чутко воспринял внешнюю перемену, но не мог проникнуть в ее тайную суть. Не здоровье возвращалось, происходило нечто иное.
Самописец психополя по-прежнему записывал душевное состояние Жанны. Прибор был из короткофокусных, далеко не брал, Жанна, выходя за пределы научного городка, выпадала из обзора, но пока находилась дома или в лаборатории, он надежно фиксировал ее душевный настрой. Я запрограммировал компьютер на оценку изменений в Жанне. Каждый день компьютер выдавал, что существенных изменений нет, так, обычные колебания от настроения похуже к настроению получше, снова возврат в дурное настроение. Такую же оценку он объявил и сейчас.
— Идиот! — обругал я компьютер и пригрозил кулаком самописцу.
Неистовство Антона, дубасящего кулаком по приборам, охватило и меня. Но такое поведение, соображал все же я, не будет решением. Надо поразмыслить, сказал я себе.
Я бегал по лаборатории и размышлял. Приборы не открывают того, что давно обнаружил Повелитель Демонов, что сегодня увиделось и мне. Приборы описывают душевное состояние, а не внешний вид Жанны. Внешний вид изменился, психическое состояние осталось прежним. Вот так надо понимать несовпадение записи психополя и свидетельства моих глаз.
«Психика запаздывает, — сказал я себе. — Ведь основные отправления организма — дыхание, пищеварение, усталость и прочее — мало зависят от сознания. А психика — пленница сознания, она его выражение, она побочная функция разума. Понимаешь ли ты теперь ужас того, что приближается? Не задавай себе, глупец, риторических вопросов! — гневно оборвал я себя. — Ты давно предвидел трагическую возможность».
В столе Павла хранился его альбом фотоснимков.
В альбоме была и моя страница: одна фотография с Земли, четыре — я на Урании. Жанне Павел отвел половину альбома. Жанна глядела со страниц девушкой — такой она прибыла на Уранию, это были самые прекрасные снимки, Павел фотографировал ее тогда чуть ли не каждый день. Несколько страниц показывали Жанну, когда она стала женой Павла. На этом заканчивался альбом: Павел отныне мог любоваться Жанной в любой миг и не обращаясь к снимкам — и охладел к фотографированию.
Я соотносил многочисленные портреты Жанны с тем, какой она была сегодня. Еще недавно, вынув альбом, я убеждался, до чего Жанна подурнела в сравнении с тем, какой выглядела на последних фотографиях. Я горевал вместе с ней, гибель Павла была тяжка и ей, и мне, внешний вид отвечал внутреннему состоянию, странным было бы, выгляди Жанна хорошо. Сегодня она походила на ту девушку, еще не жену моего друга, которая глядела из середины альбома. Она была привлекательней и моложе женщины, изображенной на последней странице альбома.
«Не преувеличивай! — сказал я себе. — Ты уже впадаешь в панику. Время еще есть. Форсируй решающий эксперимент».
Время еще было, но форсировать решающий эксперимент я не мог. Я был способен по-разному использовать законы природы, но отменить их было не в моих силах.
Я снова и снова изучал кривые стабилизации времени.
И снова и снова видел, что ускорения нет, процесс идет на пределе. Время еще есть, утешал я себя. Внешний вид Жанны предупреждал, что времени оставалось все меньше.
На засветившемся стереоэкране возник Чарли.
— Спешу порадовать, дружок, нас просит к себе посланец Земли. — Недавняя озабоченность, какую Чарли старательно внедрял и в нас, видимо, отошла. Он снова готов был сыпать парадоксами и остротами. — Почему не вскакиваешь? Мало бодрости!
— Иди к дьяволу!
— Намек понят. Исполнение отложим. Раньше посетим Роя. Впрочем, возможно, это и будет реализацией твоего желания.
— Жанну вызывают?
— Жанна, очевидно, пойдет после нас. Видимо, Рой считает, что она ближе всех к тайне катастрофы. Древние французы во всех запутанных случаях советовали: ищите женщину. Тебе не кажется, что Рой Васильев если не по рождению, то по образованию — француз?
— Мне надоели словесные выверты, которые ты считаешь остротами.
— Тогда деловой совет. Приведи себя в порядок. У тебя нос по фазе не совпадает со ртом, с этим уже ничего не поделаешь. Но совершенно излишне к кривому носу еще так злодейски искривлять губы.
Насмешкой над моим носом он временно исчерпал запас своих шуточек. За дверью лаборатории он встретил меня озабоченным — очень нечасто можно было видеть его в таком настроении. Хоть я и не люблю зубоскальства, а сейчас вообще было не до шуток, я не удержался:
— Ты же по фазе не в своей тарелке, Чарли. Боишься Роя?
— Боюсь, — признался он. — Следствие, которое мы с тобой проводим, предвещает неожиданности.
— Следствие, которое мы проводим? Я думал, следствие ведет Рой.
— Он ведет свое следствие — открытое. А мы скрыто следим за ним самим. Мы ведем следствие о следователе. Для него тайна — катастрофа на Урании, для нас тайна — что думает о той тайне землянин Рой Васильев, облеченный значительными полномочиями.
— Следует ли так понимать, что для тебя тайны взрыва уже не существует?
— Сердечный друг Эдуард! — сказал он с досадой. Я давно догадываюсь, что ты свой природный ум, правда небольшой и неупорядоченный, намеренно экранируешь от знакомых глупейшими вопросами. У каждого своя форма самозащиты, но, пожалуйста, не перебирай.
Особенно у Роя. Он не поверит, что ты так туп.
Мы дошагали до гостиницы. Зеленый глазок в дверях приглашал войти. Рой занимал стандартный номер из двух комнат. В гостиной стены были увешаны фотографиями взрыва: локаторы космостанции, следящие за поверхностью планеты, успели зафиксировать катастрофу в первые ее мгновения. Я собственными глазами видел черную тучу из двух миллионов тонн воды, я помнил, как она взметнулась над планетой, как потом из недр ее хлестал ливень. Но фотографии в гостиной Роя Васильева показывали детали, мне неизвестные. Мы с Чарли переходили от снимка к снимку, а Рой сидел в кресле и глядел на нас — внимательно и задумчиво.
— Ну, и что вы думаете обо всем этом, друг Рой? — поинтересовался Чарли, усаживаясь в кресло, Я сел рядом с Чарли. Рой тихо засмеялся.
— Я пригласил вас, чтобы узнать ваше мнение, а не для того, чтобы делиться своим.
— Да, так обычно ведут расследования. Но случай необычный. Давайте вести его нестандартно, И начнем с того, что не вы нам, а мы вам будем задавать вопросы.
— Можно и так.
— Тогда жду ответа на мой первый вопрос.
— То есть какое у меня создалось мнение о происшествии? Я мог бы ответить: пока никакого. И будет достаточно правдиво. Но не вполне точно, ибо фраза «никакого мнения» тоже мнение.
— Согласен. Тогда уточняю вопрос: какое конкретно мнение выражает абстрактное утверждение, что мнения нет? Уверен, что за внешней неопределенностью вашего ответа таится нечто определенное.
— Вы угадали. Мое мнение таково: взрыва сгущенной воды не могло быть. Все, что я знаю о природе этого продукта, решительно исключает возможность катастрофы. А взрыв совершился.
— Вы хотите сказать, что причины катастрофы лежат вне уровня современной науки?
— Именно это!
— И вы собираетесь требовать, чтобы мы — я и Эдуард Барсов — как бы подняли вас над общеизвестным уровнем науки?
— Уверен, что вы можете это сделать.
— Мы это сделаем. Начну с того, что причина катастрофы, по нашему мнению, таится в характере исследовательских работ в Институте Экспериментального Атомного Времени, который я возглавляю. И скажу больше — ничто иное, кроме экспериментов над атомным временем, не может явиться научным объяснением катастрофы.
— Стало быть, вы признаете свою ответственность за трагедию?
— А что называть ответственностью? Понятие это неопределенное. Его можно понимать и как сознательное устройство взрыва. Этого не было. Мы и не догадывались, что катастрофа возможна, до того как она совершилась. Лишь анализируя теперь все обстоятельства трагедии, мы допускаем, что вызвать ее могли некоторые из наших исследований.
— Не предвидели, значит, преступления не было. Но и определенности тоже пока нет. Не вызвали, но могли вызвать… анализируя, допускаем… Вряд ли в любом научном языке могут существовать такие уклончивые формулировки.
— Вам придется удовлетвориться ими, ибо другие ученые и до такой неопределенной определенности не дойдут. Мы сами обвиняем себя, хотя вам кажется, что делаем это очень уклончиво. Поверьте, друг Рой, никто ни на Урании, ни на Земле и не подумает заподозрить нас в несчастье. Мы спокойно могли бы сказать: не понимаем, столкнулись с загадкой. Как бы вы поступили в таком случае?
— Власть закрыть ваш институт у меня есть…
— Власть, но не логика, Рой! Вам прежде понадобилось бы неопровержимо доказать, что эксперименты с атомным временем явились причиной взрыва на энергоскладе. А как бы вы это сделали? Где нашли бы факты? И второе — в наших работах заинтересована вся наука, они утверждены в плане Академии наук в разделе важнейших. А то, что их перенесли на Уранию — место для самых опасных исследований, свидетельствует, что какая-то неизвестная угроза от опытов с атомным временем заранее учитывалась, но полагалась менее вероятной, чем возможный успех. Это вам ничего не говорит?
Я не сомневался, что Чарли идет на встречу с Роем Васильевым, как на сражение. И что Чарли не постесняется припереть Роя к развилке двух одинаково рискованных решений: либо прервать наши работы без строгого обоснования, либо оставить их без твердых гарантий безопасности. Но что дискуссию Чарли поведет с такой дерзостью, что так бесцеремонно покажет Рою его беспомощность, было неожиданно. Чарли раскраснелся, глаза его сердито блестели. Я иногда видел его таким, но то были минуты крайнего раздражения, приступы злости при больших неудачах, сейчас же не было ни поводов раздражаться, ни причин для злости. Чарли временами актерствует, особенно когда ударяется в парадоксы, позы в такие минуты у него просто мастерские, но сейчас позы не было, он не актерствовал, он и не нападал, и защищался по-серьезному.
А Рой откинулся в кресле, слушал с безмятежным хладнокровием, ему, похоже, даже нравилась запальчивость директора Института Экспериментального Атомного Времени; Рой показывал, что способен слушать, не прерывая, сколько Чарли вздумается говорить. Чарли выдохся и замолчал, и заговорил Рой.
— Очень убедительно, — объявил он, лениво покачивая ногой, закинутой на другую ногу. — Что-то в этом роде я и ожидал. В дороге я штудировал ваш рапорт в Академию наук о взрыве, там вы коснулись и этого вопроса, правда сослагательно: не могут ли изменения атомного времени, волнообразно распространяясь, сказаться и на расстоянии от ваших лабораторий? Какая формула — волны времени, проникающие сквозь стены хорошо экранированных лабораторий!.. Неподготовленному трудно снести… Но столько на Земле говорят об Урании вообще, о вашем институте в особенности! Многие убеждены, что вы конструируете машину времени, любимый механизм в романах старых фантастов. Один филолог, проведавший о моей поездке на Уранию, просил меня прокатиться в прошлое лет на восемьсот и записать два-три горных языка на Кавказе, — у него какая-то своя теория их происхождения, но он не может ее обосновать, те языки давно вымерли. В общем, друг Чарлз, если вы подробнее введете меня в существо ваших изысканий, это будет не только в моих, но также и в ваших интересах.
И Чарли ответил блестящей лекцией. Он совмещал в себе не только ироника и софиста с глубоким экспериментатором, но был и мастером популяризации. Он сел на любимого конька и сразу погнал в галоп. Вот такой же сверкающей лекцией десять лет назад он убедил президента Академии наук Альберта Боячека разрешить строительство нашего института на Урании, я тогда сидел в зале и только ахал от восторга — в такое возбуждение привел Чарли и меня, тоже неплохо разбиравшегося в атомной хронофизике. И если я сейчас моими невыразительными словами восстанавливаю не форму, нет, только смысл всего, что он сказал Рою, то лишь потому, что без этого мне не разобраться в путанице моих собственных попыток определить причину трагедии.
Пусть не говорят при нем о какой-то дикарской машине времени — так начал Чарли. Он, Чарлз Гриценко, — физик и инженер, а не создатель фантастических повестей. Его захватывают лишь реальные возможности науки, а не полет мечты. Переброс больших материальных масс из настоящего в будущее или тем более в прошлое — детская сказочка. Именно к такой детской сказочке сводятся все фантастические машины времени. Цель Института Экспериментального Атомного Времени, между прочим, состоит и в том, чтобы доказать вздорность подобных сказок. Да, конечно, мы в своих установках искусственно меняем ток времени, то замедляем, то ускоряем его. Но пока лишь в недрах атома!
Эксперименты с ядерным временем мы освоили, теперь шагнули из теснин ядра в атомное электронное облако.
О выходе из атомов в толчею молекул мы еще не мечтаем.
— Время — это всеобъемлющая река, в ней плывут все события жизни, — с увлечением рассказывал Чарли Гриценко — научный соловей, увлеченный только своей песней.
Между тем Рой Васильев слушал его вовсе не так увлеченно и порой бросал на меня быстрые взгляды, словно пытаясь определить, какое впечатление произведет на меня вдохновенная речь моего начальника, а я ответно — и по возможности незаметно — пытался догадаться, что думает сам Рой. И уж, конечно, Чарли и допустить не мог, что Рою известно все, о чем ему говорят, что он дьявольски осведомленный парень, этот невозмутимый землянин, только скрывает свою эрудицию. И что за благообразной ширмой его вежливого внимания вдруг развернулась безмолвная борьба — борьба между Роем и мной. До Чарли она и намеком не доходила, меня самого застала врасплох — я молчаливо защищался: у меня не было иного выхода, дело шло не обо мне одном. Ни один звук, ни одно движение, ни одна ясно высказанная мысль не говорили о загоревшейся схватке. Был именно тот случай, когда психополе собеседника, я скажу сильней — противника, ощущается без специальных датчиков, фиксируется не на ленте самописца, а реакцией души. Я уже знал, что отныне пронзающее, как удар копья, понимание Роя нацелено в меня, как в фокус тайны. И что он, не думая этого показывать Чарли, знает, что сам я о том знаю тоже. Чарли выстраивал стартовую площадку для Роя, чтобы облегчить тому понимание. Но если бы я мог закричать: «Перестань, не ведаешь, что творишь!» — я бы крикнул.
— Да, время — это всеобъемлющая река Вселенной, — вдохновенно доказывал Чарли. — Но каждая река слагается из тысячи струй. Так обстоит и с могучей рекой нашего общего физического времени. Оно складывается из миллиардов локальных времен, в нем слиты мгновения ядерных превращений, атомных взаимодействий, молекулярных реакций, каждое из этих мгновений вливается в общий поток времени своей крохотной каплей. Нет, мы еще не способны повелевать суммарным временем, величественным потоком, текущим в космосе из прошлого через настоящее в будущее, мы плывем в нем безвольной щепочкой. Но в глубочайших глубинах потока космического времени мы уже способны кое-что сделать. В наших лабораториях мы замедляем и ускоряем течение ядерного и атомного времен. Отдельные атомы искусственно выдвигаются в будущее, так же искусственно задерживаются в прошлом. Но дальше эксперименты пока не идут. В последнем отчете Института указано: «Методы воздействия на кванты времени найдены, методы слияния искусственно деформированных квантов времени в единый микровременной поток разрабатываются».
Рой задумчиво сказал:
— Стало быть, вы все же нашли способ преобразовывать настоящее в прошлое и будущее?
— Слишком элементарное толкование, — возразил Чарли. — Оно отдает все той же примитивной машиной времени. Что такое настоящее и что такое прошлое и будущее? Настоящее всегда приход из прошлого и уход в будущее, это разрез по живой линии временного потока. Прошлое еще живет в настоящем, будущее уже в нем живет. Выход в будущее лишь постепенно ослабляет прошлое, а не уничтожает его сразу и целиком. Поэтому изменение временного тока отдельных атомов не выбрасывает их сразу из молекул, а лишь ослабляет связь с остальными частями молекулы. Молекула как бы расшатывается. Она уже частично в будущем, еще частично в прошлом. Но любая разновременность грозит разрывом структуры — и это надо всегда помнить!
Кроме того, — продолжал Чарли, — есть существенная разница в движении в будущее и возвращении в прошлое. Замедляя время, мы не умеем создать прошлое ниже того настоящего, какое было в момент эксперимента. Вот это и делает невозможным путешествие в прошедшие эпохи. Граница достижимого прошлого недалека от настоящего. Совсем иное дело — выброс в будущее путем ускорения времени. Будущее не имеет границы. Оно может стать беспредельным. В этом своя грозная опасность: мы знаем, каково было прошлое, но понятия не имеем, каким станет будущее. Все выходы в будущее грозят аварией. На молекулярном уровне, к изучению которого мы приступаем, опасность невелика: Просто ослабеют связи какой-то молекулы с окружающими ее молекулами, потом, уходя в будущее, она как бы обернется призраком. А может, и вообще сохранится, какая есть. Таковы, например, молекулы многих минералов — время их неизменного существования огромно, они образовывались в далеком прошлом, разрушатся в далеком будущем, они инертны в токе времени.
Совсем по-иному реагирует живая молекула на ускорение ее времени. Ее жизненный срок невелик. За какой-то границей будущего ее просто может не быть, ибо она умрет раньше.
— Насколько я понимаю, мы подходим к вашей гипотезе взрыва, — сказал Рой. — В докладе Земле вы осторожно упомянули о ней, сейчас, надеюсь, разовьете подробней.
Все хронисты Института уже не раз выслушивали соображения Чарли. У меня не было причин опровергать их. И до прихода к Рою я не сомневался, что он примет концепцию Чарли: другой попросту не существовало. Но то напряжение, что внезапно возникло между мной и Роем, то давление его психополя, какое я ощущал, предвещало что-то иное. Я опасался, что сложная гипотеза Чарли покажется Рою слишком простой и что он постарается еще усложнить ее и усложнение, как острие шпаги в грудь, направит против меня. И тогда все, что я так исступленно торопил, не осуществится!
— Вы не ошиблись, Рой, я перехожу к моей концепции катастрофы. В этой связи должен поговорить о Павле Ковальском, помощнике Эдуарда Барсова. Павел обеспечивал экранизацию лабораторий нашего института. Вас, конечно, информировали, что лаборатория Эдуарда называется лабораторией стабилизации времени. В ее программу входит поддержание постоянства поля времени — в той мере, какая нужна для экспериментов, вызывающих пульсацию атомного времени, но требующих, чтобы волны не превосходила заданного предела. И Павел взял на себя охрану окружающего Институт пространства от выноса наружу хроноколебаний. Он вел свое дело надежно уже не один год, но вот допустил какой-то просчет, и пульсирующая волна атомного времени вырвалась острым лучом в направлении энергосклада, который, к сожалению, находится слишком близко от Института. Так произошло вторжение пульсации в спокойный ток внутреннего времени воды.
Павел собственным телом, как экраном, погасил пульсацию времени, но было уже поздно: на складе высвободилась из чудовищного сгущения вода, а в клетках самого Павла произошел разрыв биологического времени.
Спасти его мы не сумели.
— Куда, по-вашему, деформировалось атомное время сгущенной воды — в будущее или прошлое? — спросил Рой.
— В прошлое. Хотя я немало наговорил вам об опасности выбросов в будущее, но в данном случае прошлое было грозней. Ибо в обозримом будущем сгущенная вода должна оставаться сгущенной водой, если не производится энергосъема с ее поверхности. А в прошлом было время, когда сгущенная вода была просто водой. Достаточно возвратить ее в это время, даже в одно мгновение этого времени, чтобы мигом высвободилась вся чудовищная энергия сгущения, что, к несчастью, и произошло.
Рой Васильев задумался. Чарли бросил на меня вопросительный взгляд: убедительна ли аргументация? Я взглядом же успокоил его: отличная речь, возражений по существу гипотезы не будет.
Рой заговорил медленно, как бы вслушиваясь в каждое слово:
— Возражать вам не могу, да и не хочу. Гипотеза, вероятно, правильная. А объяснение откровенное. Вы не ждете, чтобы вам предъявили обвинения, вы сами признаете свою вину.
— Свою часть вины, — поправил Чарли. — В конечном счете авария произошла от недостаточного экранирования трансформаторов времени. Это мой просчет. Постараюсь больше не допускать таких просчетов.
— Вы продумали, как усилить меры безопасности?
— Конечно. Новый энергосклад строится подальше от нас. А экранирование лабораторий от пульсаций времени усилено, за этим следит Эдуард Барсов.
Рой наконец обратился ко мне:
— Что вы добавите к объяснениям друга Чарлза?
— Решительно ничего, — спокойно ответил я.
— Значит, вы с ним полностью согласны?
— Полностью согласен.
— Друг Чарлз, по-вашему, исчерпал проблему?
— Мне добавить нечего, — повторил я.
Рой теперь говорил снова с одним Чарли, демонстративно игнорируя меня. Но Чарли и не заметил, что Рой поворачивается ко мне чуть ли не спиной.
— Я буду думать, друг Чарлз, — сказал Рой. — Вы до краев наполнили меня интереснейшей информацией, надо ее переварить. Когда я приду к какому-либо решению, я снова с вами посоветуюсь.
Мы ушли из гостиницы, и по дороге Чарли радостно сказал:
— Он, наверно, думал, что мы будем юлить. А мы обрушили на него правду, нигде не затесывая ее острые грани. Он ошеломлен — это минимум.
— Будет еще и максимум, Чарли. Очнувшись от ошеломления, он может счесть недостаточными наши защитные меры. Подумай об этом.
— Подумаю. Зайди ко мне. Надо информировать Жанну.
Жанна возникла на экране. Я старался не глядеть на нее. Она вновь была недопустимо хороша. Мне и взглядом нельзя было доводить ее до сознания, что вижу в ней перемены. Чарли весело передал ей наш разговор с Роем и попросил приготовиться к вызову.
— Сколько ты еще собираешься внушать мне свои инструкции? — оборвала она. — Чарли, я по горло сыта твоими и Эдика наставлениями.
— Ты такая красивая и умная, Жанна, — умильно сказал Чарли. — В общем, восхитительная. А Рой — слабый мужчина. А все мужчины считают ум в мужчине обыденностью, а ум в женщине необычайностью. И когда женщина не только красивая, но и дьявольски умная…
— Чарли, в старину, на которую ты так часто ссылаешься, ежедневно молились господу: избави меня от лукавого!
Он воскликнул с хохотом:
— Жанна, всеми чертями прошу — не избавляйся от лукавого!
6
— Не избавляйся от лукавого и ты, Эдик, — посоветовал Чарли мне. — Ведь лукавый — кто? Вовсе иное, чем виделся он предку. Я тебе это быстренько разъясню…
— Не старайся, — сказал я. — Твои софизмы я способен выслушивать только в столовой, там они вроде перца к еде.
Я ушел к себе. Чарли еще был в возбуждении от разговора с Роем, ему надо было остыть в одиночестве. Он мыслил всегда ясно, был превосходным логиком, но сейчас его глаза застил туман удачи. Он вообразил, что все заканчивается на успешном разговоре, больше от Роя неприятностей не ждать. И странная просьба к Жанне — очаровать посланца Земли — виделась ему точкой, завершающей итог: Рою будет еще и приятно, в угоду нашей уранийской красавице, сделать то, что он и без нее неизбежно сделает. Свою часть проблемы Чарли понимал превосходно. Он не понимал одного: то была лишь часть проблемы, а не вся она!
У себя я проверил процесс. Процесс шел нормально, претензий к автоматам не было. Претензии были к себе самому: я спроектировал слишком медленный процесс.
Время еще есть, успокоил я себя и сел на подоконник.
Наступал вечер, Мардека закатывалась, на сумрачном зеленоватом небе горели костры трех облачков — впечатляющая картина; откройся она мне до катастрофы, я бы не отрывал от нее глаз. Все бы во мне волновалось от красоты этих трех пылающих облаков, все бы во мне ликовало оттого, что так прекрасен мир, в котором довелось жить. Я безучастно наблюдал как разгорались и гасли золотые и красные пламена заката, повода для ликований не было. «Есть ли еще время?» — допрашивал я себя. Точный ответ мог дать только Рой.
Он был далеко — в гостинице, — он странно, угрожающе странно держался сегодня со мной.
Я вспоминал его слова, вспоминал, как он сидел, покачивая ногой, закинутой на ногу, с какой почти равнодушной заинтересованностью слушал — дикое сочетание «равнодушие» и «заинтересованность», в стиле острот Чарли, но более точной формулы найти я не мог. И снова — без автоматических факторов психополя — ощущал, как все напряглось в нем, когда он бросил на меня быстрый взгляд. Чем я поразил его? Чем возбудил внимание? Тем, что молчал? Чарли говорит: молчание — красноречивый сигнал несогласия, категорическое оповещение о протесте. Рой не мог заподозрить во мне несогласие, тем более — протест. Все, что излагал сегодня Чарли, было истинно, я мог подписаться под каждым его словом. Или Рой почувствовал, что я мог бы чем-то дополнить рассказ Чарли, но не захотел? Что из этого воспоследует? Будет ли время завершить так лихорадочно ускоряемый, так не поддающийся ускорению процесс? Вопрос элементарно прост — простого ответа не было…
Я снова достал заветный альбом Павла, снова всматривался в портреты Жанны. Все сходилось: она теперь была иной, чем на последних снимках, она была много красивей, много моложе. Я закрыл глаза, во мне возникла Жанна, какой появилась сегодня у Чарли на экране. Нет, сказал я себе, это же девчонка, в ней вытравлены все следы трагедии с Павлом, даже печать, наложенная тремя годами труда на Урании, двумя годами сумасбродной, сжигавшей их обоих любви, — даже этих отпечатков уже не видно. Я задал компьютеру все ту же, изо дня в день повторяемую, программу анализа ее психополя. Компьютер возвестил именно то, чего я с таким беспокойством ожидал: инерция скорби преодолена, психика Жанны приходит в соответствие с ее физическим состоянием, она полностью — душой и телом — оправилась от несчастья. В моем сознании зазвучал голос Жанны, голос смеялся: «В старину молили господа: избави меня от лукавого!» Ее уже не следовало упрашивать не избавляться от лукавого, в ней возродились все женские инстинкты. Все сходилось, все страшно сходилось в одном беспощадном фокусе. Времени могло не хватить.
«Она должна тебя возненавидеть, Эдуард, — сказал я себе то, о чем думал уже давно, к чему все больше склонялся, как к неизбежности. — Страстно, безмерно возненавидеть. Иного выхода нет».
Я соскочил с подоконника и заметался по лаборатории. Меня захлестнуло отчаяние. Сегодня, вспоминая в моем больничном спокойствии все, что тогда происходило, я вновь ощущаю, как разрывается душа. Я хочу быть честным с собой. Дело не в том, что я отказывался от мысли завоевать любовь Жанны. От надежды быть ею любимым я отказался, когда она влюбилась в Павла.
Жанна выбрала достойнейшего, нельзя было в том усомниться. Стоило мне и Павлу подойти вместе к зеркалу, стоило увидеть нас за расчетами, у компьютеров, которым мы задавали программу поиска, — и сразу становилось ясно, кто орел, а кто кукушка. Даже Чарли иногда говорил: «Ты подобрал себе удивительного помощника, Эдик: красивого, умного, талантливого, работоспособного. Тебе повезло, что в наше время не носят поясов, — он заткнул бы тебя за пояс. В старину, я слышал, подобные странные операции совершались часто».
Эмоции командуют мною редко, страсти во мне не горят, а тлеют — я не сентиментален, не романтик, не сумасброд, не себялюб, не карьерист. Любовь Жанны я не завоевал, когда Павел жил, не завоюю и после его гибели — и пытаться не буду. И отчаяние шло не от того, что Жанна возненавидит меня. Надо было умереть, а я не хотел умирать!
Желание жить — вот единственная жгучая страсть моей души! Все люди хотят жить, инстинкт существования внедрен в каждого. Никто в здоровом состоянии не жаждет смерти — это трюизм. Но я настаиваю, что этот инстинкт во мне особенно силен. Жажда существования для меня — жажда всесуществования. Безразлично как жить, только жить, жить, жить! Не знаю, почему я родился, именно я, такой тихий, такой некрасивый — рот по фазе не совпадает с носом, как справедливо сказал Чарли, — не знаю, есть ли глубинная цель в том, что меня вызвали из несуществования к бытию, но я бесконечно благодарен, что это совершилось. Ибо жить — величайшее блаженство! Видеть мир в его буйстве и тишине, в его пылающих красках и сумрачных полутонах, ежечасно, ежеминутно, сиюмгновенно и вечно ощущать себя частицей этого великолепного мира, любоваться им, погружаться в него, познавать и познавать его и снова, и снова ощущать себя всей Вселенной! Сколько раз я утешал себя дошедшим из древности изречением: «Мне бывало хорошо, даже когда было плохо». И вот теперь свободным своим решением, жестоким итогом неопровержимого рассуждения я должен уничтожить единственную мою радость, единственное мое счастье — что я существую в мире!
Я бегал от окна к двери, и разговаривал вслух с собой, и кричал на себя. Почему я? Нет, почему я? Не я вызвал к реальности диких дьяволов разновременности, я только не запретил опасных экспериментов. А если бы даже запретил, Павел нашел бы способ обойти запрет, для его гениального ума обход любого запрета — пустяк! Но Павла нет, а расплачиваться за его просчеты должен я — расплачиваться неминуемой смертью. Какое пустое словцо — неминуемая! Смерть неизбежна, она никого не обходит, даже великие мастера новых геноструктур на Биостанции, творцы еще невиданных живых тварей не способны внедрить ни в старые, естественно возникающие организмы, ни в искусственно создаваемые ген бессмертия, а так бы нужно! Да, смерть неизбежна — но в свой час. Мой час пока еще где-то вдали. А требуют, чтобы я сам вызвал его из тумана грядущего, чтобы прервал себя преждевременно. Какое кощунство!
Поворачиваясь от двери к окну, я видел снаружи угасающее пламя заката и кричал на себя: «Ты скоро перестанешь восхищаться красками вечернего неба!» А обращаясь от окна к двери, горестно шептал: «Тебя вынесут, ногами вперед в эту дверь!» А глядя на пол, вспоминал, как бился Павел на этом полу, отчаянно пытаясь разорвать удушающую петлю разновременности, как надеялся, что удастся разорвать ее, и не допускал спасти себя. Будет час, и я тоже забьюсь на полу, как Павел, и буду рваться душой от двойного страха — что смерть наступает и что ее могут предотвратить. И я бросал взгляды на самописцы и регуляторы — их не исковеркает разновременность, они останутся, только меня не будет! Они доведут процесс до конца, на их лентах, в кристаллах их бесстрастной памяти запечатлится успех одного из величайших научных экспериментов. Им тот грядущий успех «до лампочки», как пошучивали наши предки. А мне, которому так бесконечно важно знать, как завершится эксперимент, он останется навечно неведом — меня не будет!
— Нет! — закричал я громко. — Нет, никогда! Я этого не сделаю!
Почти в беспамятстве я рухнул в кресло. В окне угасал закат. Земля прекрасней Урании, это общеизвестно, но небо Земли несравнимо с небом Урании, в котором сверкают три тысячи голубых и желтых, красных и синих светил. Небо Урании — праздник Вселенной.
Нет, и земные звезды прекрасны, но они бесстрастны, лишь чуть-чуть перемигиваются, а здесь, в темно-зеленом ночном небе Урании, в ее непрерывно волнуемой атмосфере переливаются, притушиваются, вспыхивают…
Они разговаривают между собой мятежным непостоянством сияния, величаво выплывая на ночные переговоры. А я вскоре уже не увижу этого божественного звездного торжества, оно останется, меня не станет.
— Не сделаю! — прокричал я чуть ли не с рыданием.
Меня била истерика, она истощила мои силы. Наверно, я потерял сознание. Потом, стараясь восстановить обстановку, я догадался, что беспамятство перешло в обыкновенный сон. И сон был такой глубокий, что лишь вызов Жанны разбудил меня.
— Не спи! — приказала она с экрана. — Я только что вернулась от Роя. Приди ко мне.
Я мигом вскочил. О том, чтобы идти к ней, не могло быть и речи.
— Сейчас не могу. Сделай одолжение, приди ты.
— Буду через пять минут.
Экран погас, и я кинулся к аппаратам. Пяти минут еле-еле хватило, чтобы настроить их на новую программу. От недавней скорби и нерешительности не осталось ничего. План был ясен, его надо было выполнять. Теперь меня беспокоило одно — не совершу ли я из-за спешки какой-нибудь ошибки. Я быстро регулировал автоматы и дважды проверял — для верности — каждую операцию.
Жанна вошла, когда я отошел от аппаратов и взгромоздился на подоконник, приняв безмятежную позу.
— Какой трудный день! — со вздохом сказала она. Если бы не наставления Чарли и не твои упрашивания, вряд ли беседа с Роем сошла благополучно. Это был допрос по всем правилам старины.
— Он спрашивал тебя о Павле?
— И о нем. Я сказала, что о Павле лучше узнавать у тебя. Вы вместе вели исследования, ты присутствовал при его гибели.
— Что он ответил?
— Что не увидел в тебе желания распространяться о Павле.
— Он и не спрашивал меня о Павле. Впрочем, он не ошибся: у меня действительно не было желания распространяться о Павле.
— Примерно так я и объяснила.
— Ты сказала, он расспрашивал о Павле. Значит, его интересовали и другие?
— Другие — это ты один.
— Вот как — я один! Он не интересовался ни Чарли, ни Антоном?
— Он сказал, что Антон и Чарли ему ясны, а ты — загадка. Он попросил подробно расшифровать таинственную природу существа, именуемого хронофизиком Эдуардом Барсовым.
— Ты это сделала?
— В меру своего понимания.
— Это много — мера твоего понимания? Чарли шутит: каждый говорит в меру своего непонимания.
— Суди сам. Если, конечно, ты способен судить о себе объективно и беспристрастно. Павел считал, что ты в себе не разбираешься.
— Думаю, что и он во мне не очень-то разбирался.
Тайны природы всегда ему были ясней, чем человеческие характеры. Он интересовался законами мира больше, чем странностями людей.
— Тобой он интересовался. Возможно, он видел в тебе одну из тайн природы. Я начала рассказ о тебе словом, которое Павел назвал сутью твоей души. Ты помнишь то слово?
— Нет, естественно.
— Между прочим, Павел часто повторял его. Ты должен был его слышать.
— Наверное, пропускал мимо ушей.
— Не смотри на меня так. Меня это раздражает.
— Буду смотреть в сторону. Так хорошо?
— Лучше. Теперь слушай. В разговоре с Роем я вспомнила, как познакомилась с вами. Я прилетела на Уранию с направлением на Энергостанцию и каким-то грузом для Института Времени. Институт достраивался, груз свалили в общежитии. Трое из вас пожертвовали для груза своими номерами, вы переселились к Чарли: его директорская квартира была обширней ваших комнатушек. Каждый внес что-то свое в украшение временного жилья. Чарли подчеркнул беспорядок в комнате красивым плакатом, он повесил его на двери: «Выходя на улицу, вытирай ноги!»
— Плакат в стиле его острот. Я помню это его воззвание.
— Антон нарисовал чертенят с хвостами, рожками и руками, гибкими, как хвосты. На чертенят падали молекулы, они ловко отшвыривали их: большие — направо, маленькие — налево. В общем, оправдывал прозвище Повелитель Демонов Максвелла. Павел прибил к стене схему переключений регуляторов в каком-то процессе, а ты повесил над своей кроватью портрет Декарта.
— Было. Репродукция знаменитой картины Франса Гальса. Я очень любил эту картину, хотя к творчеству Франса Гальса равнодушен.
— Вот, вот! К творчеству Франса Гальса равнодушен, а этот портрет любил. Я спросила у Павла: «Эдуард, наверно, большой знаток учения Декарта?» Павел ответил: «Сомневаюсь, чтобы Эдик держал в руках хоть одну книгу Декарта». — «Но почему он повесил его портрет?» — спросила я. «А ты присмотрись к картине, — посоветовал Павел, — на ней нарисована душа Эдика».
— И ты присмотрелась?
— Много раз присматривалась. Мне очень хотелось узнать все ваши души. С портрета глядел мужчина средних лет, длинноволосый — кудри прикрывали плечи, длинноносый, тяжелые веки наполовину прикрывали большие выпуклые глаза, он недавно побрился, но плохо побрился, художник лукаво изобразил и порез на подбородке, и островок недобритой у шеи бородки. А Декарт не просто глядел на зрителя, он радостно удивлялся тому, на что падал его взгляд. Франс Гальс с совершенством воссоздал душевное состояние философа — тот словно говорил каждому, кто подходил к портрету: «Боже, как удивителен, как прекрасен этот мир!
Восхищайтесь им, поражайтесь ему!» И Павел сказал мне: «Теперь ты понимаешь, почему Эдуард выбрал портрет Декарта в наставники, не учение Декарта, только его портрет? Здесь душа самого Эдика — его вечное удивление перед всем, что его окружает. Если Антона Чиршке возмущают законы природы, то Эдуард ими восторгается или удивляется».
— Так вот оно, это загадочное словечко! Удивление — формула моей души! Так, по-твоему?
— Это сказал Павел, и я каждодневно утверждаюсь, что он прав.
— Ты поведала это и дознавателю?
— Конечно. Он ведь интересовался твоим характером, как я могла скрыть главную твою особенность?
И я рассказывала ему, что ты способен замереть от восторга, когда мимо твоего носа пролетит гудящий жук, и, забыв на время обо всем ином, будешь следить зачарованными глазами за полетом жука. И что, когда на обочине вдруг раскроется в весеннее утро цветочек какого-нибудь вздорного сорняка, ты остановишься в упоении: сколь совершенны невзрачные лепестки, до чего прекрасно, каким-то особым бордюром, их облепила придорожная пыль! И ради такого времяпрепровождения опоздаешь к началу важнейшего эксперимента. А в эксперименте, объяснила я Рою, тебя захватывают иногда такие пустяки, что тормозится сам эксперимент. Я вспомнила, как пришла как-то к вам и ты воскликнул с сияющими глазами, словно случилось что-то абсолютно непредвиденное: «Жанна, посмотри результат, как же все совершенно сошлось!» И я спросила Павла, в чем же неожиданность, а он захохотал: «Никакой неожиданности, все по расчету, но не будем мешать Эдуарду поражаться, что в науке нет отклонений от законов природы». А вечером ты смотришь на небо с таким видом, будто тебя весь день одолевал тайный страх, что звезды не покажутся, и ты радостно ошеломлен, что они все же появляются, и поэтому должен насладиться их красотой, словно она дана только на эту ночь. Вот ты какой, Эдуард. И в наших с тобой отношениях до предела сказалась эта твоя привычка всему поражаться, любой штамп воспринимать как открытие. — Ненасытная любопытность, обращенная одинаково на важное и неважное. Любознательность без разбора!
— Ненасытная любопытность в наших с тобой отношениях? Или лучше второе словечко — любознательность?
— Ты, конечно, снова впадаешь в удивление!
— Постараюсь на этот раз не впадать в удивление. Ты говорила Рою о наших отношениях?
— С чего бы мне их скрывать? Он спрашивал — я отвечала. Не хочешь ли и ты спросить, что я сказала о нас с тобой?
— Хочу, Жанна.
— Он поинтересовался, крепка ли наша дружба. Я ответила, что не очень. Но я сказала Рою, что ты влюбился в меня почти мгновенно, как увидел. Надеюсь, ты не будешь этого отрицать? И еще я сказала, что твоя любовь показалась мне такой привлекательной, меня так трогало твое восхищение мной, ты с такой доброй радостью следил за каждым моим движением, что и я стала влюбляться в тебя.
— Этого не было, Жанна!
— Это было, Эдуард. Но тут вмешался Павел, сказала я Рою. Павел, в отличие от тебя, был настойчив. И он, был… В общем, Павел был Павлом, тебе этого не нужно растолковывать, а Рою я кое-как объяснила. Но был момент, Эдуард, когда я заметалась между вами.
Очень короткий момент, но он был, и увлечение мое могло тогда переломиться в твою сторону. Но ты отошел от соперничества. Тебя поразило, что Павел, так страстно преданный науке, может испытывать и другие страсти.
Тебя вмиг заинтересовало: а как отвечу я на его домогания? Перед тобой появилась замечательная картина: некто без церемоний прививает девушке свою любовь, упрямо заражает ее своей страстью — ну как не полюбоваться? Как не поразиться могуществу чувства, ведь он буквально теряет голову, когда перед ним появляется та девушка. Деятельный обсерватор — разве не так говорит о тебе Чарли? Или еще; неистовый наблюдатель… А что до нас с Павлом, то я объяснила Рою, что все совершилось согласно другой шуточке того же Чарли: кто ухватил, тот и отхватил. Очень точная оценка, доложу тебе. Павел всю меня охватил своим чувством. Так я полюбила его. Так мы стали мужем и женой. Так мы были счастливы, пока он не поставил свой последний злосчастный эксперимент, и ты разрешил его. И разрешил; вероятно, из того же восторженного любопытства: как удивительно, что наши опыты удаются! Вот она, наша удивительная удача: Павел погиб, я не восстановлю здоровья. Есть чему радоваться!
Теперь я знал, как мне держаться. Я не впивался в нее глазами, чтобы не раздражать, но видел всю. Она сидела у фиксатора психополя, — я заранее поставил стул около него, — каждое движение ее души, каждая и извилина настроения записывались. Она позволила себе расковаться, после гибели Павла это был первый случай. И она изменилась так, что не только Повелитель Демонов, ясновидец Антон Чиршке, не только я сам, но и любой знакомый не мог бы не порадоваться: «Как вы отлично выглядите, Жанна, — помолодели и похорошели!» Трусости я уже не смел себе разрешить. Времени оставалось только на одно решение.
И я спокойно, даже с издевкой — она, несомненно, сочтет это издевкой — заговорил:
— Ты представила мне замечательный анализ моего характера. Восторженное удивление перед всем!.. Неплохо бы продолжить и дальше твое проницательное исследование. Ну хотя бы на те минуты, когда я восторженно любовался фонтаном пылающей, дымной воды, забившей на месте энергосклада. Именно в эти минуты я вспомнил о Павле и кинулся назад в лабораторию, забыв и о водном огненосном вулкане, и о кричавшем неподалеку Чарли. Я вбежал к себе и увидел Павла, в агонии рвущего руками что-то с шеи, — ощущение было такое, что его душит какая-то петля.
— Зачем ты вспомнил это? — Жанна побледнела, положила руку на сердце.
Я холодно говорил:
— Хочу понять свое собственное поведение, используя твой психологический анализ. Итак, он метался, а я стоял над ним. Что мне надо было сделать? Наверно, выключить аппараты, погасить расширяющийся разрыв времени в теле Павла. А меня удивило — ну, не восторженно удивило, этого все-таки не было, просто удивило — зрелище необыкновенной агонии. Согласись, еще ни один человек не наблюдал, как в человеческой душе реальным физическим взрывом распадается связь времен. Хоть взглядом окинуть такую картину, хоть секундным снимком запечатлеть ее в сознании. А когда я опомнился от своего любопытства, — как ты глубоко и верно определила его, — когда я кинулся к аппаратам, было уже поздно.
Она подошла ко мне. Секунду мне казалось, что она ударит меня по лицу. Но она лишь выговорила — сквозь сжатые губы, свистящим шепотом:
— Эдуард, ты солгал, правда? Так страшно то, что ты сказал!
Лишь тяжким усилием воли я принудил себя к спокойствию.
— Жанна, все было, как я рассказал.
Она уже верила и еще не верила. На бледном лице округлились нестерпимо сверкающие глаза. Она пошатнулась. Я сделал движение поддержать ее. Она отшатнулась, как от змеи.
— Убийца! — прошептала она. — Эдуард, ты убийца!
— Убийца, — согласился я. — Что было, то было. Прошлого не изменить.
Я разил безошибочно. Я знал, на что наталкиваю ее, и не оставлял ей иного выхода. Отомстить мне действием она не могла. Выход был лишь в чувстве ненависти.
Сейчас она заговорит о Рое Васильеве.
— Прошлого не изменить, — выговорила она белыми губами. — Ты прав, прошлого не изменить. Но почему не изменить будущее? Ты знаешь, что я сейчас сделаю? Я пойду к Рою Васильеву и расскажу, какие эксперименты ты с Павлом поставил. Хоть это будет мне утешением — тебя выгонят с Урании, тебе закроют двери в лаборатории. Не видеть тебя! Никогда не видеть!
— Ты этого не сделаешь. Никогда не сделаешь, Жанна!
— Пойду! — исступленно выкрикнула она. — Прямо от тебя к нему.
— Не сделаешь! Ты любила Павла. Не верю, что ты надругаешься над его памятью!
Ей понадобилась почти минута, чтобы вновь обрести дыхание. Ее захлестывало неистовство. Она была готова на все. Но в ее верности Павлу я не сомневался.
— Ты убил Павла, Эдуард, — сказала она наконец. А теперь измываешься надо мной! Какой честности ждать от презренного убийцы? Но сказать, что я не любила Павла, что хочу надругаться над его памятью! Боже мой, какая низость! Какая низость!
— Я убил Павла, не отказываюсь. А ты собираешься плюнуть на его могилу. Вот что будет означать твой поход к Рою Васильеву.
Она кинулась на меня. Не знаю, что она хотела — задушить насмерть или только выцарапать глаза? Я схватил ее за руки. Она вырывалась с такой силой, что мотала меня то вправо, то влево. Но я не выпустил рук, и она ослабела. Я швырнул ее в кресло. Она опустила голову, громко зарыдав. Я снова заговорил. Надо было забить еще пару гвоздей в гроб нашей былой дружбы.
— Тебе не удастся заставить меня замолчать, Жанна. Я продолжаю. Ты знаешь, что у Павла была одна цель в жизни, одна пламенная страсть — реализовать свое великое открытие. Даже любовь к тебе лишь соседствовала с этой страстью. Павел формально был моим помощником, но реально я был его учеником. Я его убил, так уж получилось, но все силы своей души, все свои способности отдам завершению дела его жизни. Пусть мир узнает, каким гением был твой муж Павел Ковальский, так верно любивший тебя. Пусть не истлеет он безвестным в могиле! Он заслужил в Пантеоне великих людей человечества памятник. И его воздвигнут, тот нетленный вечный памятник, если ты не помешаешь.
Скажи, скажи мне, Жанна, кому протянул бы руку Павел, если бы смог хоть на минуту встать из гроба, тебе, его возлюбленной, его жене, столько подарившей ему ласк при жизни и столь беспощадной к его памяти после смерти? Или мне, его убийце, его верному ученику, думающему лишь о том, как показать миру величие своего учителя?
Все совершилось, как и должно было совершиться.
Жанна с трудом поднялась, поправила растрепавшиеся волосы. Она боялась смотреть на меня, чтобы снова не взорваться.
— Пусть будет по-твоему, — сказала она тусклым голосом. — Я не помешаю завершению опытов. Но ты должен знать: ненавижу тебя! Безмерно, бесконечно ненавижу! Пусть это будет единственной моей отрадой — ненавидеть тебя! Ты просишь моей помощи в лаборатории, я вынуждена помогать, но ненависть не смягчится.
Она ушла, хлопнув дверью. У меня дрожали ноги, я должен был сесть, чтобы не упасть. Несколько минут я не двигался, ни о чем не думал, ничего не сознавал.
Это было не беспамятство, не потеря сознания или сон.
Врачи, вероятно, заговорили бы о приступе нервного истощения. Я назвал бы свое состояние острым истощением души, чем-то вроде кратковременной смерти: я был в этом мире — и меня не было.
Потом я подошел к фиксатору психополя, подал выход на диаграмму. Все было, как задумывалось. Нервное потрясение Жанны отразилось в дикой пляске кривых, ее гнев — в их пиках и изломах, ее отчаяние — и их падении вниз, почти к зловещей оси небытия. Я проверил программу процесса, задал сравнение со старыми записями. Компьютер доложил, что процесс восстановлен на высоком уровне, он идет, как при жизни Павла. Большего и не требовалось.
Теперь осталось совершить последнее вычисление: сколько мне осталось жить?
7
— Сколько мне осталось жить? — вслух спросил я себя.
В общем, я успокоился, интерес к дате был скорей академическим, чем практическим. Даже если бы вычисление показало, что жизнь быстро шагает к распаду, это не стало бы теперь поводом рвать на себе волосы.
Завершение экспериментов именно таким способом было моим свободным решением, негодовать на себя нелепо. Я только с интересом отметил, что самоубийцы кончают с собой в состоянии аффекта, а у меня аффекта не было. Конечно, я не радовался, но и уныние не одолевало. Раньше в подобных случаях писали завещания и заверяли их подписями и печатями, подумал я. И невесело усмехнулся: раньше не было подобных случаев.
Никто, даже после моей гибели, не догадается, что я ее предвидел, она предстанет случайностью эксперимента, а не его рассчитанным результатом.
Компьютер выдал утешительный расчет: жизни хватало и на дело, и на безделье, можно и всласть соснуть, и разика два погулять по холмам Урании.
— Отказываясь от жизни, можно разрешить себе солидно поспать! — сказал я и засмеялся.
Все получалось по любимой формуле: «Мне бывало хорошо, даже когда было плохо». Я пошел к двери.
Появившийся на экране Антон задержал меня.
— Эдик, что такое! — заорал он. — Я возмущен, можешь мне поверить!
— Охотно верю, — ответил я. — Ты всегда чем-нибудь возмущен. Что на этот раз вывело из себя Повелителя Демонов? Взбесил закон сохранения энергии? Иди ты по-прежнему негодуешь на таблицу умножения? Не способен перенести, что электроны существуют независимо от позитронов?
— Независимо они не существуют, я берусь это доказать. Но меня взбесил ты, а не позитроны. Это гораздо хуже.
— Сначала назови мою вину, потом будешь убеждать, что я хуже возмутительных законов природы.
— Твоя вина — в Жанне!
— В Жанне? — На мгновение я растерялся Все, что связано с Жанной, имело особый смысл.
— Да, в Жанне!
— Повелитель, воля твоя…
— Не прерывай! Я встретил Жанну, когда она возвращалась от тебя. Она уже выглядела поздоровевшей, даже помолодевшей, а ты ее чем-то так расстроил… Я, естественно, поинтересовался, скоро ли она принесет очередную партию пластинок для сепарации молекул. Она послала меня в преисподнюю и убежала.
— Ты уверен, что у нее не было других причин посылать тебя в преисподнюю?
— Ты не Чарли, у тебя остроты не получаются. Скажи прямо: чем ты довел Жанну до такого расстройства?
Повелителя Демонов надо было успокоить. Его необузданность непосредственно не грозила ходу моих экспериментов, но он мог привлечь внимание к изменению настроений Жанны. И это следовало предвидеть и предотвратить. Я сказал:
— Мы говорили о Павле. Я наконец показал ей место, где Павел упал. Раньше я боялся это сделать. Она плакала, я тоже не плясал. Поводов для веселья не было.
Антон мигом перестроился:
— Понимаю. Будем надеяться, что это последнее потрясение. На время ее надо оставить в покое, пусть выплачется. Обещаю не торопить с новой партией пластинок, хотя, поверь, они ох как нужны!
Он отключился, и я выбрался наружу.
Была глубокая ночь, короткая ночь Урании, прекраснейшая из ночей, какие мне удалось увидеть в жизни.
Всего восемь земных часов отвели космостроители на суточное вращение Урании вокруг своей оси. В природной своей первозданности Урания вращалась еще быстрей, ее прежнее шальное кружение замедлили чуть ли не вчетверо: первые поселенцы жаловались, что не успевают от заката до восхода Мардеки сосредоточиться ни ка одной толковой мысли, а быстрый бег дневного светила по небосклону вызывает головокружение. Старожилы ворчали, что ночь все же осталась такой короткой, что не успеваешь перевернуться с одного бока на другой, как уже пора вставать. Мы, новое поколение исследователей, не предназначали ночи для сна, мы, бывало, не спали и по неделям: драгоценное время не стоило тратить на сон. Зато в спокойный часок мы торопились на торжество звездной ночи. «Ты — своя собственная обсерватория», — шутил обо мне Чарли, изредка соглашаясь на совместные прогулки. «Ты — восторженный созерцатель, ты всему радостно удивляешься», — сказала сегодня Жанна. В отличие от Чарли, ни ее, ни тем более Павла мне ни разу не удалось уговорить на сопричастие празднику звезд. У них была иная радость — взаимное соприсутствие. Звезды для этого не требовались.
Выбравшись из научного городка, я зашагал по темной равнине. «Дойду до извилины реки и поверну назад», — сказал я себе. Небо двигалось мне навстречу.
Быстрое вращение планеты добавляло своей красоты в ночное колдовство. Звезды не медленно передвигались, как на Земле, они торопились, не шествовали друг за дружкой, а — казалось глазу — стремились обогнать одна другую. Силуэты созвездий менялись: расплывчатыми выплывали из-за горизонта, сжимались, становились четкими в зените, снова расплывались, рушась за горизонт. Пока я подошел к речке, небо стало другим.
«Оно еще раз изменит свой облик, когда я вернусь» думал я растроганно.
На долины и холмы лился серебристый свет, близкие предметы выступали отчетливо. Урания не имеет спутников, но ночи и без лун полны сияния. Повелитель Демонов хвалится, что при свете звезд свободно читает старинные книги. Правда, я и днем не видел Антона с книгами: он черпает свои знания из пленок, а не из книг. И, сотни раз ночью прогуливаясь, я ни разу не встречал Антона. И сейчас я был, наверно, один на всем обширном ночном просторе планеты. Я шел и шел — и никого не видел вокруг.
Я постоял у обрыва в реку. На воде передвигались сияющие жгуты: каждая звезда, поднимаясь на небо, торопилась прочертить след своего небесного пути. Я выбрал самую яркую звездную ниточку, любовался тем, как она менялась: расплывчатая, очень длинная — через всю реку, — она сжималась, все ярче сияла, пока звезда карабкалась вверх, а там, в зените, линия превращалась в пылающую точку; всю поверхность воды усеяли такие неподвижные, сверкающие точки среди сотен живых, меняющихся полос и жгутов. Я наслаждался водным отражением звезды, а когда она поползла с зенита вниз и точка снова растянулась в ниточку и, расплываясь и тускнея, превращалась в жгут, а потом в призрачную полосу, я оторвался от реки и пошел домой.
Впервые за много коротких ночей Урании, за долгие часы лабораторных бдений я крепко и сладко выспался — примитивным сном моих предков, не ведавших ни антиморфена, ни радиационных душей. И, проснувшись к концу следующего дня, я удовлетворенно сказал себе:
«Мне отпущено, по расчету, пять дней на жизнь и для завершения эксперимента. Процесс идет автоматически».
Процесс шел автоматически — это было единственно верно. Но не было пяти дней на жизнь и на завершение процесса. Меня с экрана вызвал Чарли. Еще никогда я не видел его столь расстроенным.
— Приходи ко мне, Чарли, — сказал я. — Поверь, мне нельзя оторваться от аппаратов.
— Оторвись! Когда ты у механизмов, с тобой не поговоришь.
На его двери горел красный глазок, запрещающий вход. Ко мне он относиться не мог. Я вошел не постучав. Чарли ходил по большому кабинету, как тигр в клетке. Он показал рукой на кресло, я присел на подоконник. Чарли раздраженно крикнул — совсем как Антон, даже голоса стали похожи, раздражение подавило все иронические интонации, столь обычные для Чарли:
— Слезай с подоконника! Скоро у тебя будет вдосталь времени любоваться Уранией, и необязательно из моего окна.
Я знал, что именно этого-то и не будет — времени для любования Уранией из какого-либо окна, ибо для меня всякое время кончится. Я сел в кресло. Чарли продолжал ходить и на ходу говорил:
— Проклятый Рой нанес-таки удар! Энергетики нажимают на него, он поддался. Он дает разрешение на доставку с Латоны сгущенной воды. Энергетики отменят ограничения пользования энергией.
— Ты это считаешь ударом?
— Да, и почти смертельным, если мы с тобой не восстанем. Условием для получения воды Рой поставил прекращение всяких форм трансформации времени. Ибо ему, видишь ли, неясно, как произошел сдвиг времени в обратную сторону. Он опасается, что и с новой цистерной сгущенной воды произойдет такая же катавасия. Он со всем своим земным изяществом так и выразился: какая-то катавасия!.. Удивительно точный язык для знаменитого космофизика!
— Но ведь и вправду точно не известно, каким образом волна обратного времени достигла энергосклада, — осторожно заметил я. Чарли я не мог показать, что знаю о причинах взрыва больше, чем он.
— Какое это имеет значение? В свой час допытаемся и до подробностей. Сегодня важно одно: такая волна была, ее генерировал Павел Ковальский, она вызвала взрыв. А Павла Ковальского больше нет, волны обратного времени никто не генерирует, опасностей для энергосклада, к тому же ныне отнесенного далеко от наших лабораторий, не существует. Я рисую ситуацию неправильно?
— Правильно рисуешь. Уверен, как и ты, что условий для новой катастрофы нет.
— Так почему, тысячу раз черт его подери, Рой Васильев отказывается это понять?
— Спроси у него самого.
— Уже спрашивал. Он притворяется дурачком. Он разводит руками — не физически, а фигурально, с эдакой наукообразной грацией: ситуация остается темной, а его мозговые извилины, дескать, не способны разобраться во всех тонкостях вашей хронистики.
— Так прямо и высказывается?
— Не прямо, а криво! Придумал новый тип аргументации. Помнишь, нас учили о доказательстве от абсурда. А у него — доказательство от невежества. Аргументирует своим невежеством! А за его невежеством стоят обширные полномочия. Все могу понять, одного не понимаю — как Альберт Боячек, наш светлоразумный, наш проницательнейший Президент Академии наук, мог снабдить этого Роя Васильева таким властительным мандатом!
— И что ты собираешься предпринять?
— Завтра вылетаю на Латону, оттуда на Землю. На время моего отсутствия директором Института Экспериментального Атомного Времени назначаю тебя. Продолжать борьбу с Роем Васильевым будешь ты. Тебе понятны твои задачи?
— Мне непонятно, что ты собираешься делать на Земле.
— Буду стучать кулаком по всем столам! Схвачу Боячека за его старческое горло, вытряхну душу из этого милого человека;
— А если по-серьезному?
— По-серьезному — буду доказывать, что эксперименты с атомным временем слишком важны для науки, чтобы так безапелляционно их запрещать. Думаю, в Академии наук к моим аргументам прислушаются больше, чем к безграмотным велениям какого-то дознавателя. О чем ты так напряженно думаешь? Откажись хоть разок от привычки многозначительно молчать! Надеюсь на твою полную откровенность.
Полной откровенности я не мог себе позволить. Но на многие просчеты Чарли указал. Я напомнил, что еще недавно он предвидел пользу от дополнительного внимания к работе института, вызванного аварией. Пользы не получилось, ожидается вред. Он думал, что, доказав правильность гипотезы обратного времени, заставит Роя остановиться на объяснении аварии именно этой причиной. Рой пошел дальше, он, по всему, напуган возможностями, хорошими и плохими, какие таятся в искусственном изменении тока времени. Теперь Чарли совершает новую ошибку. Конечно, он докажет Боячеку важность хроноэкспериментов. Но Боячек и не сомневается в их важности. Разве тот факт, что Чарлза Гриценко, физика, создавшего первый в мире трансформатор времени, единогласно избрали в члены Академии наук и что Боячек после голосования публично объявил, что трудами нового академика открывается особая глава в изучении природы — создается новая наука, хронофизика, — разве все эти факты, повторяю, не свидетельствуют о важности наших работ? Но Чарлз Гриценко, академик и директор Института Экспериментального Атомного Времени, любитель парадоксов и острот, человек, умеющий ко всякому несомненному факту немедленно подобрать другой несомненный факт, ставящий под сомнение несомненность первого, этот блестящий софист и столь же блестящий экспериментатор, этот наш общий друг Чарли почему-то упорно закрывает глаза на то, что все понимают не только важность, но и опасность искусственных изменений хода времени.
— Я ни в одном пункте не отошел от утвержденной на Земле тематики наших работ! Будь справедлив, Эдуард!
— Буду справедлив. Не отошел от утвержденной тематики — верно. Но сама тематика показалась такой опасной, что многие колебались, можно ли ее выполнять на Урании, далекой от Земли планете. Разве не изучали предложение оборудовать вторую планетку, подобную Урании, и передать ее одному тебе? И разве не ты убедил этого не делать, ибо тебе не терпелось поскорей развернуть исследования? Вспомни, что ты говорил: работы наши, конечно, опасны, но вряд ли опасней творений биоконструкторов. Те способны выпустить в мир новые смертоносные бактерии, гигантских цератозавров, зверье, перед которым земные тигры что божьи коровки перед осой, — в общем, тысячи порожденных к биологической жизни демонов зла. А мы, хронофизики, и близко не коснемся таких страхов. Так ты говорил, верно?
А что получилось? Погиб Павел Ковальский, прекрасный человек, великолепный экспериментатор. И только то, что все мы тогда сидели в своих сверхэкранированных казематах, именуемых лабораториями, только эта случайность предотвратила гибель еще десятков, если не сотен, людей. Так к кому прислушаются теперь на Землёй К тебе или к посланцу Боячека Рою Васильеву?
Не надейся, что распоряжение Роя Земля отменит, она его подтвердит. Ты предлагал нам уступать, но не поступаться. Ты поступишься всем. Знаешь, чего ты добьешься? Что возвратятся к предложению, которое ты когда-то уговорил снять, — станут спешно выискивать другую планетку для наших работ. А все те годы, какие понадобятся для ее оборудования, мы будем поплевывать в потолок или прогуливаться по равнинам Урании. Если нас, конечно, не отзовут на Землю для иных исследований.
— Проклятый молчун! — с досадой сказал Чарли. Вечно ты держишь замок на губах, но если заговоришь!..
Что ты предлагаешь?
— Просить Роя отменить свой запрет. Объяснить ситуацию так, чтобы он взглянул на нее нашими глазами. Все иное неэффективно.
Чарли, шагая по кабинету, с минуту раздумывал.
— Согласен. Надо опять идти к Рою. Поднимайся, отправимся вместе.
— Нет, Чарли. К Рою пойдет один человек. Этот человек — я. Ты останешься у себя.
Чарли выглядел таким удивленным, что я едва не рассмеялся, хотя мне было не до смеха.
— Ты слишком волнуешься, Чарли. И ты увлекаешься собственной аргументацией, на Роя это действует плохо. Доверь переговоры мне.
Чарли принимал решения без долгих колебаний.
— Иди один. Если ты меня переубедил, то с ним задание проще — не переубеждать, а убеждать. Превратить его дремучее невежество хотя бы в еле брезжущий рассвет знания.
— Та самая простота, которая хуже воровства, — ответил я в его стиле, и он захохотал: реплика отвечала обстановке.
От института до гостиницы было метров пятьсот, но я потратил на них полчаса. Уверенность, с какой я разговаривал с Чарли, вдруг испарилась. Убедить Роя я мог только исповедью, а не вывязыванием аргументов. На исповедь я не пошел бы ни к Жанне, ни к Чарли. И я не был уверен, что и скорбная откровенность воздействует на сухого землянина. Что, если и последняя отчаянная моя попытка спасти процесс будет напрасной? Нужно тысячу раз подумать, сотни раз взвесить все «за» и «против», прежде чем постучать в дверь Роя! Я шел, останавливался, стоял, снова шел. Меня вела неотвратимость.
На двери Роя горел зеленый глазок — он был у себя и не запрещал входа. Я постучал и вошел. Рой стоял у окна. Он сделал шаг ко мне, ни на лице, ни в голосе его не было удивления. Он очень спокойно сказал:
— Хотя и поздно, но вы пришли!
8
— Хотя и поздно, но вы пришли! — повторил он.
— Почему поздно? — Это было первое, что пришло на ум, надо было ведь что-то сказать. Но, еще не закончив, сообразил, что не так следовало начинать. А Рой, похоже, именно такого начала беседы и ожидал.
— Почему поздно? Мне кажется, вы это должны понимать. Вам лучше было прийти до того, как я наложил запрет на все работы с трансформатором времени. Не появилось бы протестов у ваших коллег.
— Да, пожалуй, так было бы логичней, — сказал я и удивился тому, что он сказал, и тому, что я, ответил.
Так можно было говорить только после исповеди, а я еще ни в чем не повинился.
Рой смотрел пристально, но без настороженности и отстраненности, раньше я видел в его глазах только эти два настроя — настороженность и ощутимую отстраненность. Он знал, с чем я пришел, — не конкретные факты, конечно, но готовность искренне поведать о фактах, как бы трудно их ни объявлять. И я ответно на его знание знал, что ничего теперь не утаю. Я начал так:
— Рой, разговор наш будет не из легких, для меня по крайней мере. И я хотел бы, чтобы раньше разъяснились некоторые ваши странности. Почему вы еще в аэробусе выделили меня среди других? Вы не знали, кто я, какая связь между мной и взрывом, ваши глаза невозмутимо обегали наши лица, ни на ком они не задерживались, а на мне словно споткнулись. Не знаю, заметили ли это другие, но я не мог не заметить. Скажу больше — я содрогнулся. Надеюсь, мой вопрос не показался вам нетактичным?
Рою вопрос показался естественным. Чарли, поклонник обстоятельности, выдал бы ответ в форме деловой справки, присоленной остротой, приперченной умелым парадоксом. У Роя была иная манера — он, преобразовав ответ в рассуждение, представил мне концепцию, как я — выгляжу при первом знакомстве и какие мысли порождает даже случайный взгляд на меня. Он выделил меня среди прочих пассажиров аэробуса потому, что я сам выделился. На него все пассажиры просто смотрели, а я всматривался, я изучал Роя, размышлял о нем.
Что это настойчивое изучение отражает какую-то важную мысль, Рой понял сразу. И, поняв, заинтересовался мной, а заинтересовавшись, удивился, а удивившись, сам стал размышлять обо мне. Я непрерывно менял выражение лица и позы: то мрачнел, то светлел, то замирал на сиденье, то вдруг нервно дергался — таким он увидел меня в аэробусе. Все это явно шло изнутри, не от реплик пассажиров и Роя, а от собственных мыслей.
«Каких мыслей? — спросил себя Рой и ответил: — Тех, какие возникли в нем оттого, что я прибыл на Уранию и сейчас сижу перед ним. Он, стало быть, всех непосредственней связан с трагедией, и самый точный анализ происшествия надо ждать от него» — в таком убеждении окреп Рой еще в аэробусе.
— Я вскоре узнал, кто вы такой, узнал и о гибели вашего помощника Ковальского, — продолжал Рой. Ваш приход ко мне становился необходим. Я ожидал, что вы потребуете, чтобы я принял вас раньше всех. Но вы не торопились. Это было странно. А потом явились вместе с Чарлзом Гриценко и позволили ему вести всю беседу. И объяснить ваше настороженное молчание особым почтением к своему начальнику я не мог; у вас с ним отношения свободные. Вы предоставили ему привилегию разговора, — видимо, боялись что-то выдать неосторожным словом. Молчание шло от предписания себе молчать. И тогда я показал вам, что понимаю вашу задумку. Я стал игнорировать вас, повернулся к вам спиной. Я был уверен, что вы встревожитесь и чем-нибудь да выдадите себя.
Вы не ошиблись, я встревожился. Но не выдал себя.
— Вы подтвердили еле сохраненным молчанием, что таите секрет. И я подумал, что секрет нельзя открывать директору института, а ведь вы пришли с ним.
— Правильно. Я не мог объявлять Гриценко моей тайны.
— Но если вы хотели рассказать ее мне, вы должны были прийти потом сами. Но вы не шли. Я вызвал Жанну Зорину. Она поведала немало интересных фактов о себе, о Ковальском, о вас. Но тайны она не раскрыла. Если она и знает ее, то сумела сохранить.
— Она знает лишь часть тайны, и я умолял даже намеком не касаться ее. Всего она не могла бы поведать, если бы и захотела.
— После разговора с ней я окончательно утвердился, что только вы можете пролить свет на трагедию. А вы по-прежнему не шли. Это означало, что вы хотите сохранить секрет. Ради чего? Поскольку загадка взрыва, несомненно, связана с вашей лабораторией, стало быть, ради того, чтобы продолжать исследования так, как они шли. И тогда я объявил о запрете экспериментов с трансформацией атомного времени. Перспектива закрытия вашей лаборатории подействовала — вы пришли. Теперь я слушаю вас.
Он слушал, я говорил. Временами он прорывался в мою долгую речь репликами. Я отвечал и снова продолжал свой невеселый рассказ.
— Все началось с того, — объяснил я, — что Чарлз Гриценко доказал возможность изменения скорости времени и построил первый в мире трансформатор времени, меняющий его течение в атомных процессах. Это было великое открытие — именно так его оценили на Земле.
На Урании выстроили институт для хроноэкспериментов. Чарли пригласил меня на Уранию, мы с ним друзья еще со студенчества. Я возглавил лабораторию хроностабилизации — тематика, прямо противоположная той, какую исследовали в других лабораториях института, там ведь доискивались, как время изменять, а не стабилизировать. С Земли прилетел Павел Ковальский, Чарли направил Павла ко мне. Павел, молодей доктор наук, специалист по хронофизике — дисциплине, созданной в основном трудами Чарли, — имел отличную характеристику: широко образован, умело экспериментирует, любит сложные задания. Павел не оправдывал своей характеристики. Он был гораздо выше ее. В характеристике не было главного: он шел всегда дальше задания. Он был ненасытен в научном поиске. Я долго не понимал, почему Чарли определил Павла в мою лабораторию, задача у нас — поддерживать постоянство, а не выискивать чрезвычайности. Я попенял Чарли, что он не уловил особенностей научного духа Павла. Чарли ответил:
«Полностью уловил, поэтому и направил его к тебе.
Хочу вытравить из Павла этот самый дух чрезвычайности».
«Чарлз Гриценко в роли душителя научной инициативы — зрелище если не для богов, то для дьяволов!» — воскликнул я со смехом. Кто-кто, а уж Чарли не из тех, кто глушит научную инициативу.
«Стремление всегда совершать открытия — не научная инициатива, а научная халтура! — выдал Чарли очередной парадокс. — Настоящий ученый — изучает, халтурщик — ошеломляет. Наша задача — изучить закономерности тока времени, а не выламывать его в циркаческих трюках».
«Я раньше думал, что развитие науки идет от открытия к открытию. И что великие открытия — ступеньки подъема науки, и что гении научной мысли…»
«Гении, гении! — прервал он сердито. — Гений доходит до открытия в результате великого постижения проблемы. Он планирует для себя понимание, а не открытие. Жадное стремление Павла к необычайности неизбежно выродится в поверхностное пустозвонство.
Его так и подталкивает работать на публику, а не на науку».
Кое в чем Чарли был прав, но в одном ошибся. В Павле гнездился гений, а не халтурщик. Он вышел за грань стабилизации времени, чтобы узнать, что там, за межой, а не для того, чтобы ошеломить неожиданностью.
В моей лаборатории Павел вскоре поставив опыт на себе. Он сделал это тайно: не только Чарли, но и я не разрешил бы столь рискованных экспериментов. И опыт увенчался, блистательным успехом. Павел совершил воистину великое открытие, даже не одно, а два.
— И тогда впервые поделился с вами, чем втайне от вас занимается? — вставил реплику Рой.
— Так и было, — подтвердил я. — Павлу захотелось узнать, можно ли воздействовать трансформаторами атомного времени на биологические процессы. Еще Чарли установил, как он и докладывал вам, что в атомной области выход в прошлое имеет близкий предел — в древность не уйти. Зато выход в будущее на ограничен.
Идея Павла звучала просто. Биологические системы, в отличие от неорганики, с которой оперировал Чарли, построены иерархически. В мертвой материи изменение времени отдельных атомов мало влияет на соседние. Перебросить половину атомов куска гранита на тысячу лет вперед или тысячу лет назад — что изменится? Миллионы лет назад этот кусок гранита был гранитом, миллионы лет спустя будет гранитом. А в биологических системах изменение времени какого-нибудь центра немедленно отзовется на всем организме. Перенесите тысячу важных нейронов мозга в будущее, отодвиньте их в прошлое — весь организм испытает потрясение. Центр управления организмом, переброшенный искусственно в будущее, властно потянет в будущее всю биологическую систему — процессы убыстрятся, организм как бы заторопится жить, зато и постарение наступит скорей. А затормозив ток времени, мы замедлим процессы — законсервируем организм в его «сейчас», он будет пребывать все тем же, хотя вокруг все будет идти вперед, в свое будущее.
— Что-то похожее я читал в старинных книгах по фантастике, — сказал Рой. — Не вижу пока открытий Павла Ковальского. Вы говорили даже о двух.
— Да, я говорил о двух открытиях. Первое состояло в том, что ток обратного времени в биологических системах возбуждается легче, чем в неорганических. Не остановка времени, а реальный уход в прошлое, до полного обращения в ничто. Иначе говоря, омоложение до уничтожения. Ибо развитие организма всегда ограничено двумя близкими пределами времени — моментом рождения и моментом смерти, он может балансировать только между этими двумя межами. И нормальное движение в узких границах жизни — процесс автоматический. Все, что рождается, должно умереть. Можно замедлить поступательный ход к концу, но нельзя его отвергнуть.
Все это пока укладывалось в хронобиологические уравнения Чарли. И вот Павел установил, что обратный ход, то есть омоложение, из искусственно возбужденного процесса также неминуемо превращается в автоматический.
Уход назад, в прошлое, становится столь же естественным, как движение вперед, в будущее. Вечное пребывание в «сейчас» неосуществимо. Время, даже замедленное, не стоит, а идет — либо вперед, к естественному концу, либо назад, к началу, которое в этом случае станет концом. Таково было первое великое открытие Павла.
— Иначе говоря, никакой старик, если его жизнь обернуть вспять, на стадии юности не задержится, — комментировал мое сообщение Рой. — Открытие довольно грустное. Хотя забавно было бы поглядеть со стороны, как старец растет — можно применить такой термин? — в молодого мужчину, потом в юношу, потом в отрока и младенца… Что будет дальше? В конце, который был когда-то началом?
— Просто погибнет на каком-то этапе. В зародыш не превратится, — ведь он один совершает обратное развитие, матери ему не возвратят. Повторяю, открытие Павла состояло в том, что любой процесс омоложения непременно выродится в автоматический, независимо от того, как вы его возбудили.
— Понятно. Слушаю второе открытие Павла Ковальского.
— Второе открытие, — говорил я, — состояло в том, что Павел нашел единственную и поистине удивительную возможность стабилизировать обратный ход организма.
Надо лишь подстраховать один организм другим организмом. Если два организма связать взаимодействующим психополем, то получится нечто вроде диполя. И тогда один организм своим противоположным ходом времени будет тормозить ход времени у партнера. Психополе сыграет роль амортизатора. И чем сильней будет душевное родство, тем безопасней станут любые хроноэксперименты.
Дойдя в своих изысканиях до этого вывода, Павел поделился ими со мной. Я поначалу ужаснулся Переносить куда менее опасные опыты с трансформацией атомного времени минералов на хрупкое, недолговечное время биологического существования было более чем рискованно. На меня давили расчеты хронотеорий Чарли, я и подумать не смел усомниться в них. В такой форме я и высказал свое отношение. Павел в ответ предложил мне составить с ним психодиполь. Да, конечно, никто не даст разрешения на хроноэксперименты с организмами, соглашался он. Но почему нам самим не выдать себе такое разрешение? Ведь мы никого не привлекаем к опасному сотрудничеству. Каждый имеет право делать с собой что вздумается — жить, влюбляться, ненавидеть, тосковать, ликовать. Кто посмеет крикнуть самоубийце: «У тебя нет формального права лезть в петлю!» Кто объявит юноше: «Мы официально запрещаем тебе влюбляться!» Кто придерется: «Ты любишь стихи, а есть ли у тебя обоснование на любовь к стихам?» Человек одарен свободой воли, свобода воли дает право делать с собой все, что не ущемляет прав других людей. Этого единственного ограничения — не ущемлять других людей — мы не нарушаем. Стало быть, наш поиск правомочен. Мы свободны в любом обращении с собой. Права на эти эксперименты мы ни у кого не должны выпрашивать. И никого не обязаны о них информировать.
Так он уговаривал меня, и я стал поддаваться. Проблема была захватывающе интересной. Но я не мог пойти к Чарли за разрешением на новый поиск — он не только запретил бы, но и немедленно убрал от меня Павла, чтобы оборвать в зародыше этот соблазн.
И мы с Павлом составили первый психодиполь, — продолжал я. — Крепость общего психополя была невелика, но мы и не отваживались на глубокие колебания времени. Вскоре мы установили — это было уже нашим общим открытием, — что колебания нашего физиологического времени несколько запаздывают по сравнению с общим временем на Урании. Оттого что наше биологическое время колебалось то вперед, то назад, оно замедлилось в общем поступательном движении вперед. Мы то микромолодели, то микростарели, а в результате медленней старели, чем другие жители Урании. Павел ликовал.
«Не омоложение, конечно, омоложение может выйти из-под контроля и превратиться в губительней автоматизм, — утверждал он, — но замедление старения — несомненно. Продление человеческого века — вот что дает нам психодиполь. Скоро, скоро объявим миру о нашем успехе, вытребуем официальное разрешение на особую лабораторию. Название для нее, — сказал он, — я придумал: «Лаборатория продления жизни путем дипольного регулирования физиологического времени». Ты скажешь — длинно? Зато точно!»
И тут в лаборатории появилась Жанна Зорина.
Энергофизик по образованию, она считалась на Земле специалистом по сгущению воды и на Урании должна была помочь местным энергетикам в использовании этого энергоемкого топлива. Она участвовала в монтаже «трехмиллионника», все прошло отлично, — обращение с энерговодой ведь много проще, чем с углем и нефтью, проще даже, чем с ядерными аккумуляторами. Наши энергетики могли управиться и без нее, но все же это был «трехмиллионник» — такие мощности в одной цистерне здесь были в новость. Для транспортировки и монтажа применили новые антигравитаторы, вот с ними-то и знакомила Уранию Жанна.
— Та самая цистерна, что взорвалась? — спросил Рой. — За три года пользования вы израсходовали один миллион тонн, верно?
Я подтвердил:
— Та самая цистерна, выработанная на треть. После монтажа сгущенной воды Жанна хотела возвратиться на Землю, но тут Антон Чиршке проведал, что в институте она изучала прозрачные стали, сверхпрочные пластики и прочие материалы высоких структур. Для его пористых пластинок такой специалист был даром фортуны. Для трансформаторов времени тоже требовались знатоки высокоструктурных материалов, и мы с Антоном уговорили Жанну остаться. С первой же встречи Жанна меня очаровала, я сказал об этом Антону. Но для Повелителя Демонов такие пустяки, как внешность женщины, не имеют значения. «Выдающийся специалист!» — только и сказал он.
Вот так и получилось, что я влюбился в Жанну. Мы с ней гуляли по пустым равнинам Урании, сидели при красочном закате Мардеки на крутых берегах Уры. Я рассказывал Павлу о встречах с Жанной, он равнодушно слушал — его не интересовало, в кого я влюбляюсь.
Однажды Жанна посетила нашу лабораторию После ее ухода Павел сказал мне:
«Эдик, я удивлен. Самописец вел запись колебаний нашего с тобой психополя. Так вот, в присутствии Жанны диполь практически не функционировал. Зато прибор зафиксировал колоссальную душевную связь между тобой и Жанной. Что бы это значило, Эдик?»
Я объяснил, что наши приборы заново открывают то, что в древности было ведомо каждому парню и девушке, и слыхом не слышавших о психофизике. Любовь сильней дружбы — вот что означает запись. Если бы я знал, какие последствия вызовет мое объяснение, я остерегся бы откровенничать с Павлом, не стал бы приглашать Жанну в лабораторию. Но она продолжала посещать нас, Павел какое-то время держался спокойно, а потом — взрывом, словно пробудившись от безразличия, повел на нее наступление. Он бесцеремонно оттеснил меня, замкнул ее в свое кольцо, провожал, вызывал на рассказы. И он не постеснялся объявить мне, что уж если наш с ним психодиполь так ослабел, что не годится для хроноэкспериментов, то он заменит его гораздо более активным — своей собственной душевной связью с Жанной. Жанна сопротивлялась недолго. Они стали мужем и женой.
— Судя по вашему рассказу, его любовь была операцией, заранее запрограммированной, — сказал Рой. В общем, любовь, которая, собственно, и не любовь. Что вы качаете головой?
Я ответил, что Павел заранее запрограммировал любовь к Жанне, но от этого любовь не стала неискренней.
— В программу, заданную им себе, входило все, что делает любовь любовью — и в самом полном, самом высоком исполнении. Павел влюбился в Жанну душой и телом — беззаветно, страстно, беспредельно… И она ответила тем же. Они годились в герои древних романов о трагической любви мужчины и женщины. Я говорю трагической, потому что любовь и привела к гибели Павла. Душевная связь, превратившая их с Жанной в одно психическое целое, открывала такие возможности для опытов, какие никогда не могли возникнуть в нашем с ним психодиполе. Павел продолжил исследования с Жанной. Отныне для меня была отведена лишь роль наблюдателя того вдохновенного безрассудства, какое проделывал Павел. Жанна сказала вам, что я всему удивляюсь, всем восхищаюсь. Павел ту же мысль высказал бесцеремонней: «Смотри и учись, но боже тебя сохрани помешать! Наблюдения фиксируй, потом разрешаю докладывать!»
— Странные взаимоотношения! — заметил Рой. — Сколько знаю, начальником лаборатории были вы, а не он.
— Начальником лаборатории стабилизации атомного времени был, конечно, я, но душой тайных экспериментов был Павел. И вообще на Урании, — разъяснил я Рою, — формалистику должностей не культивируют. Мы безоговорочно подчиняемся Чарлзу Гриценко, академику, директору института, создателю школы хронофизиков, но в личных отношениях с ним — свобода, не мыслимая на Земле. Итак, Павел исследовал психодиполь его душевного единения с Жанной. Первые месяцы он не торопился переходить от этапа к этапу. «Ставлю эксперимент в полной чистоте» — так он характеризовал свои опыты. В понятие чистоты эксперимента входило, например, и то, что он не захотел детей, сколько догадываюсь, у Жанны желание быть матерью появилось, но Павел воспротивился. «Ребенок — это третий полюс, объяснил он мне. — Проблема трех душ в психохронистике столь же трудна, как проблема трех тяготеющих тел в астрономии. О детях мы подумаем, когда завершим эксперименты».
К важным достижениям первого периода относилось подтверждение общего замедления биологического времени при колебаниях психодиполя. То, что давал наш с Павлом психодиполь, его единение с Жанной увеличивало многократно. Оба они, Павел и Жанна, не молодели, естественно, но их старение совершалось куда медленней, чем общее старение людей на Урании или на Земле. Мы установили, что мои с Павлом хроноэксперименты продлевали нашу жизнь на четыре-пять лет, а такие же эксперименты с Жанной продлят ям существование на пятнадцать — восемнадцать лет.
«Любовь — великий замедлитель старения! Любовь — великий стабилизатор жизни! — ликовал Павел. — Люди давно догадывались об этом. Но только мы доказали это с точностью закона природы. Скоро, скоро к другим теориям физики добавится и теория физического поля любви. Ты представляешь себе, друг мой Эдик? Математические уравнения нежности, интегралы ревности и страсти, потенциалы свиданий и разлук и — обобщением — сходящийся дифференциальный ряд общего времени жизни как функции любовного слияния. Бурные эмоции и глухие томления души на языке логарифмов и матриц! Каково?»
Он приложил свое новое понимание к одному давно известному факту. Еще наши предки заметили, что долго прожившие вместе супруги к старости становятся внешне очень похожими. Резкие отличия облика ослабляются, муж и жена выглядят на склоне лет как брат и сестра. Павел утверждал, что причина такого увеличивающегося с годами внешнего сходства — в хроноколебаниях психодиполя. Супруги обмениваются не только ласками и придирками, радостями и заботами, но и индивидуальным своим временем, а физиологическое время определяет жизненные функции едва ли меньше, чем изначальная генопрограмма организма.
«Ручаюсь, что у таких состарившихся в единстве супругов и продолжительность жизни больше, чем у одиноких или мало связанных душевно людей, — говорил он. Мы доказали продление жизни в искусственном эксперименте. Но жизнь — тоже хроноэксперимент, только естественный. Принципиальные закономерности — те же!»
Так шло несколько месяцев. Любовь служила эксперименту. Но мало-помалу возникла и новая закономерность: эксперимент стал служить любви. Я первым заметил зловещую новизну. Мое странное положение — друга Павла и его отвергнутого соперника — не позволяло мне сразу поднять тревогу. Не знаю, как Павел, а Жанна сочла бы, что я из ревности препятствую их любви. Эксперименты действовали на нее, как вино, после каждого она чувствовала себя охмелевшей. Психодиполь динамичен, а влюбленные вообще никогда не пребывают в полном равновесии. Хроноколебания дополнительно усиливают естественную неустойчивость взаимодействующих душ. Павел начал с небольших хроноколебаний, осторожно увеличивал их размах. После завершения каждого опыта Павел и Жанна описывали свое состояние, а я фиксировал их информацию. Однажды Жанна со смехом так говорила о себе:
«Я мчалась среди звезд. Вселенная вращалась вокруг меня, а я какой-то диковинной рыбой в мире космоса уносилась в будущее. Я непрерывно рассеивала икринки. На каждой ступеньке безмерно длинного будущего я оставляла своих детей. И знаете, кем я засевала мир? Тобою, Павел! Ты в миллионах одинаковых фигур остался позади — длинным светящимся шлейфом!»
Павел хохотал, его восхитило красочное видение. А я содрогнулся. Я понял, что колебания времен действуют наркотически. Вскоре видения появились и у Павла, он с наслаждением расписывал их. Он еще изучал физику хроноколебаний, но его все больше привлекал «побочный продукт эксперимента» — так он радостно именовал возникающий у них бред. Они все больше отдавались сладкому дурману, попеременно то микростарея, то микромолодея. Наступил момент, когда порождение галлюцинаций стало главной целью эксперимента, а его «побочным продуктом» физический смысл процесса.
Павел все усиливал размах хроноколебаний, ему хотелось побольше вторгаться в будущее, подальше уноситься в прошлое. Я говорил ему, что может появиться неконтролируемый автоматизм в колебательном процессе.
Он успокаивал меня. До автоколебаний не дойдет: стабилизаторы надежно ведут процесс. Оба они, как на качелях, раскачивались между прошлым и будущим. Однажды мне показалось, что наступает автоколебание, и я прервал процесс. Вы знаете, что происходит, когда наркомана насильно выводят из транса? Павел не постеснялся в выражениях. Мне пришлось напомнить, кто руководит лабораторией, а кто подчиняется. С той минуты, между нами пробежала черная кошка. Он вбил себе в голову, что я отвращаю их от возможности новых открытий. А я при каждом опыте думал, как обезопасить Павла и Жанну от неудачи. Под неудачей я понимал тяжелое нервное потрясение, мысль о физической катастрофе мне не являлась.
Катастрофа произошла, когда я отсутствовал в лаборатории. Мы с Чарли обсуждали доклад в Академию наук. Взрыв на энергоскладе разнесся по всей Урании.
Энергосклад превратился в бушующий вулкан пылающей дымной воды. Вода, ставшая огнем и дымом, — такой картины до нас еще не наблюдал никто. Я воскликнул в ужасе: «Чарли, это же невозможно, в мире не существует физических причин, вызывающих взрыв сгущенной воды!» Чарли иногда соображает с такой быстротой, что рождающиеся в нем идеи сверкают как озарения. Он мигом ответил на мое восклицание: «Эдик, а если атомное время сгущенной воды возвратилось к тому моменту, когда она была простой водой! Неужели твои стабилизаторы времени отказали?» — «Проверю, потом доложу тебе», — быстро сказал я и умчался.
Чарли остался у огненного водяного вулкана, а я бежал изо всей силы. Я уже понимал, что Павел воспользовался моим отсутствием и самостоятельно запустил хроноколебания. Вероятно, чтобы не терять времени, он даже не вызывал к себе Жанну, только позвонил, чтобы она уединилась в своей лаборатории: психодиполь их душ был так прочен, что на него почти не влияло небольшое отдаление.
Я ворвался в лабораторию, когда Павел, извиваясь, подползал к командному аппарату. Он из последних сил старался подняться, чтобы перекрыть процесс, но судороги бросали его на пол. Я кинулся его поднимать, он оттолкнул меня. Он шептал, выбрасывая из себя слова, как застрявшие в горле комья: «Жанна!.. Спасай!.. Автоколебание!.. Эдик!.. Я держу!..»
Он как бы выкрикивал из себя просьбы, а я лихорадочно пытался отрегулировать процесс. Автоколебание, ставшее неподконтрольным, нельзя просто отключить — это могло создать такой разрыв связи времен, что оба полюса диполя — Жанна с Павлом — неминуемо бы погибли. И еще тогда, пытаясь синхронизировать трансформатор времени с автоколебаниями психодиполя, я со всей остротой ощутил, как далеко пошел Павел в попытке спасти Жанну. Он не прерывал автоколебания, как мне показалось, а тормозил бешеную пляску времени, он сжигал себя, чтобы не дать разновременью истерзать Жанну. Он исступленно бросил свою жизнь на гибель, чтобы отвратить гибель от Жанны. Он продолжал извиваться на полу, но не дал себе и миллисекунды передышки, а мог бы. Он не только жертвовал собой, он и отчаянно боролся за то, чтобы дьяволы разновременья не отвергли его жертвы.
Синхронизация удалась, и я остановил процесс. Павел вытянулся и замер. Я вызвал врача и наклонился над Павлом. Он шептал: «Эдик… Прости… Хочу сказать…» — «Молчи! — приказал я. — Знаю все! Ты запустил хроноколебания на полную амплитуду. Процесс вырвался на автоколебательный режим. Ты пытался удержать собой пульсирующее время. Теперь успокойся. Жанне больше ничего не грозит. А тебе придется долго лечиться, очень долго, Павел». — «Спасибо… — шептал он, впадая в беспамятство. — Теперь… умереть…»
Он умер на моих руках. Явившемуся врачу оставалось лишь официально установить прекращение жизни.
Вы знаете медицинское заключение, Рой. Вскрытие показало ожог нервных клеток. Медики отнесли причины смерти к очередным загадкам жизни на Урании. Но могу вам сказать, что тот же Павел заранее очень точно рассчитал картину гибели организма, когда одни его клетки слишком прорываются в будущее, а другие отодвигаются в прошлое. Настоящее время — всегда время господствующее. При разновременье иерархическое взаимодействие клеток превращается в анархию. Клетки, живые в настоящем, пожирают клетки-рудименты, энергично противодействуют клеткам, материализующимся из будущего. «Будет впечатление, что организм сжигает себя! — посмеиваясь, говорил Павел и добавлял: — При очень большом разновременье, естественно. И достаточно долгом!» В своем наркотическом трансе он не понял, что создает в себе и едва не создал в Жанне именно такое гибельно большое и долгое разновременье.
— Вы ничего об этом не говорили следственной комиссии, Эдуард?
— Ни комиссии, ни Чарли. Даже Жанна не знает всей правды о гибели Павла.
— Такое ваше поведение имеет смысл только в одном случае: если вы и после гибели Павла Ковальского продолжаете тайно работы, вызвавшие его гибель.
— Совершенно верно. Я без Павла продолжаю исследования, вызвавшие его гибель.
— С возможностью столь же трагическою конца?
— С неизбежностью столь же трагического конца.
Рой долго глядел на меня. Мне показалось, он растерялся: как держаться? Высказать возмущение? Показать сочувствие? Он наконец сказал:
— Вы по-прежнему присваиваете себе индивидуальное право на опасный поиск? Вы считаете морально обоснованным продолжение неразрешенных исследований?
— Они прежде всего незавершенные, Рой.
— Они прежде всего неразрешенные, Эдуард.
— Выслушайте меня до конца, Рой.
— Именно этого и хочу, Эдуард.
— После гибели Павла, — говорил я Рою, — у меня была — одна мысль — немедленно прекратить биологические хроноэксперименты. И хоть я горевал о потере друга, но было и утешение: его гипнотическая власть надо мной кончилась, я мог поставить крест на его исследованиях. Но как отнесется к этому Жанна? Она не только любила мужа обычной женской любовью — с таким затруднением я бы не посчитался: мало ли женщин теряют своих мужей, не она первая, не она последняя! Но она боготворила Павла как хронофизика. Она могла счесть своим долгом завершить то, что он не успел. Я наметил, как держаться, если Жанна потребует продолжения исследований. Объявлю Чарли, чем мы втайне занимались, попрошу официального благословения на хроноизыскания, получу строжайший отказ и взыскание за научное самоуправство — и с претензиями Жанны будет покончено.
Так я намеревался действовать. Но вышло совсем по-другому.
Вы понимаете, Рой, первейшей задачей было установить, как подействовала на здоровье Жанны гибель мужа. Она объяснила, что во время опыта с ней ничего необычного не произошло, она просто вдруг ослабела и прилегла, потом потеряла сознание, пришла в себя лишь после взрыва на энергоскладе. Я сам отвел ее к врачам — в те первые дни после катастрофы она, измученная, лишенная воли, покорно выполняла все мои требования. Осмотр показал, что, кроме большого нервного, истощения, других недомоганий нет. Врачи уверили, что выздоровление гарантировано, но потребует времени.
Времени у нас довольно — так я легкомысленно посчитал. И снова удивился гению Павла. Даже погибая, он ясно понимал, как спасти Жанну, — собственная гибель была лишь сознательным элементом расчета. Чтобы не дать хроноколебаниям разорвать жизненную синхронность в Жанне, он всей силой воли, всей мощью трансформатора времени фиксировал клетки своего мозга в том будущем, куда их выбросило автоколебанием. Возможно, он заранее предвидел и такой путь спасения Жанны при катастрофе — он был мастер на предвидения и расчеты. Чем глубже я вникал в трагедию, тем больше потрясала меня сила его любви к Жанне.
И вот, рассматривая кривые хроноэкспериментов, я вдруг обнаружил собственную ошибку. В дикой спешке я разорвал процесс не в точке равновесия, как мне показалось, а чуть в стороне от нее. Для Павла это не имело значения, — он уже и в тот момент был недоступен спасению. Но положение Жанны беспокоило. От автоколебаний внутреннего времени ее удалось предохранить, но восстановится ли его естественный ход? Я с тревогой смотрел на выданный компьютером анализ.
Наш автоматический мудрец предупреждал о возможностях новых несчастий.
Один вывод был очевиден. Жанну нельзя выпускать из психодиполя, она не должна уходить в самостоятельное духовное существование, пока не появится полная гарантия от непроизвольных автоколебаний времени.
Только я мог теперь составить второй полюс такой психологической связи. Но как убедить Жанну, что новый диполь необходим? Не подумает ли она, что я хочу воспользоваться смертью Павла, чтобы завладеть ею? Она ведь знает, что я люблю ее. Она могла принять мои старания оградить ее от опасности за хитрые домогания влюбленного! Самое естественное, конечно, — рассказать, как реально обстоит дело. Пойти на это я не мог.
Я скрыл, что Павел пожертвовал своей жизнью ради спасения ее жизни. Она не перенесла бы правды. Она сочла бы себя убийцей мужа. Она посчитала бы невозможным жить после того, как лишила жизни любимого.
Поэтому я решил воздействовать не на ее заботу о себе, а на ее любовь к мужу. То, против чего я собирался решительно возражать, стало теперь единственным шансом на удачу. Я сказал Жанне, что хочу закончить исследования Павла. Человечество должно узнать, каким научным исполином был ее муж. Пусть она докажет свою любовь к Павлу тем, что завершит погубившие его хроноэксперименты. И единственный путь к успеху — составить нам с ней новый психодиполь.
«Мы не будем уноситься с тобой на волнах видений, — говорил я, понимая, что ей отвратительно и думать, что она должна пережить со мной то, что сопереживала с Павлом. — Ни бреда, ни галлюцинаций — всё это было твоей с Павлом интимной радостью. Нас должна интересовать одна наука. Завершение хроноэкспериментов много времени не займет, за это ручаюсь».
Так я уговорил ее продолжить тайные исследования.
Нас связало единое психополе, оно было достаточно прочное, хотя один полюс — Жанна — показывал явное безучастие. Зато я мог ручаться за второй полюс — себя. Я готовился энергично нейтрализовать любое колебание времени. Я стал спокоен за Жанну, Не тревожился и за себя — для тревоги не было поводов.
Новые обстоятельства помешали и этому плану.
Первым обстоятельством стала сама Жана. В ней обнаружились совсем не те изменения, какие я ожидал.
Колебаний времени не произошло, время осталось целостным. Но течение времени изменилось. Павел, отчаянно выбрасывая себя в будущее, одновременно ввергал Жанну в ее прошлое. Очень близкое прошлое, вполне по теории нашего директора Чарлза Гриценко, доказавшего, что уход в дальнее прошлое не больше чем тема для фантастических романов. Хроноколебания психодиполя имеют свои проклятые закономерности! В самом горячечном бреду я не мог вообразить того, что случилось с Жанной, — в ней время полностью пошло в об ратную сторону. Жанна стала молодеть.
Рой, поймете ли вы мой ужас? Могу ли передать, какими глазами смотрел я на первые страшные данные компьютера: «Время нервных центров объекта идет в обратном направлении». Объектом была Жанка, обратный ход ее времени означал приговор.
Я был в отчаянии. Теория возвратного хода времени теперь предстала мне беспощадным физическим фактом.
Жанне выпала судьба пойти по дороге высчитанного ее мужем «омоложения до уничтожения». И, в полном согласии с теорией Павла, процесс ухода назад должен, постепенно убыстряясь, из искусственно возбужденного превратиться в автоматический — конец не заставит себя долго ждать!
А Чарли даже отдаленно не догадывался, что неподалеку от его кабинета, без его разрешения, без его ведома, осуществляется этот грозный процесс Я бы солгал вам. Рой, если бы сказал, что испытываю одно отчаяние. Главное для меня — можно ли предотвратить ужасный финал? Вы сказали, что было бы забавно поглядеть, как древний старец растет в юношу. Молодая, красивая женщина Жанна Зорина растет в девочку — но, уверен, вы, Рой, не найдете в том ничего забавного.
И тут я вспомнил о втором великом открытии Павла — что и этот обратный рост можно задержать и повернуть на нормальное развитие, используя психодиполь. Не все потеряно, твердил я себе, настраивая аппаратуру на противодействие, но при одном условии — если падение в прошлое будет медленным. Для нейтрализации стремительного ухода назад у нашей с Жанной слабой душевной связи не хватит прочности. Это я уже и тогда сознавал. Но как быстро идет обратное развитие? Где та роковая точка, в которой оно автоматически убыстрится?
Я не мог оторвать взгляда от Жанны, когда мы встречались. Это ее раздражало. Она вбила себе в голову, что я по-прежнему любуюсь ею, что во мне возникает желание завоевать ее, ставшую теперь свободной. И я не мог отвергнуть ее оскорбительного заблуждения, ибо не имел права оскорбляться. Любое опровержение могло стать разоблачением. Надо мной, как топор, нависал грозный вопрос: выдержит ли Жанна правду уже не одного, а двух несчастий — правду гибели Павла и правду грозящей собственной гибели? Я не смел позволить себе риска правды, что бы Жанна обо мне ни думала.
Первые недели после катастрофы надежда на удачу была. Жанна выглядела ужасно — похудела, постарела, ослабела. Это радовало. Радовало и ее психополе: в душе Жанны господствовало горе, все мысли приковывались к воспоминанию о Павле — она не выходила из подавленности. И хотя компьютер выдавал свое неизменное: «Атомное время объекта идет в обратном направлении», я с тихой радостью разглядывал записи психополя Жанны, с той же скрываемой ото всех радостью украдкой бросал взгляды на нее. Время еще есть, говорил я себе, убеждаясь, что Жанна по-прежнему плоха.
Психодиполь не давал Жанне рухнуть в прошлое, он методично поворачивал атомное время на прямой ход из обратного. Уже и в анализах компьютера мелькнули обнадеживающие нотки: «В объекте появилось разновременье, некоторые группы атомов приобретают прямое направление времени, хотя в целом время течет обратно». Разновременье само по себе опасно. От разнузданности разновременья Павел в последнюю минуту своей жизни пытался Жанну уберечь. Но только этот опасный путь мог сегодня обезопасить Жанну от гораздо худшего. Время еще есть, подбадривал я себя, регулируя созданное мной разновременье на плавный ход.
Главное — не допускать бури противоборствующих времен, предотвратить ураган разрыва времени, и я постепенно вытяну Жанну из болота небытия, куда ей уготовано рухнуть!
Энергетик Антон Чиршке первый подал сигнал, что времени осталось слишком мало. Этот человек, Повелитель Демонов Максвелла, наделен воистину демоническим ощущением необычайного. Жанна изготавливает для него сепарационные пластинки, Антон встречается с ней ежедневно. Частые встречи не способствуют остроте восприятия медленно накапливающихся изменений. А Повелитель Демонов обнаружил их раньше Чарли, даже раньше меня, с таким беспокойством ожидавшего их появления. Он с радостью сказал Чарли, а потом повторил и при мне: «Жанна оправляется от потрясения, выглядит уже сносно. За ее здоровье можно не опасаться».
Антон и не подозревал, какой зловещий смысл таится в его утешительном, как он думал, наблюдении. Вскоре уже и я сам увидел, что Жанна оправилась от физического недомогания. Душа ее еще скорбела, а тело возрождалось к жизни — к прошлой жизни, не к будущей!
Я смотрел на ее старые фотографии и молчаливо ужасался: она становилась похожей на ту девушку, которая три года назад появилась на Урании!
— Догадываюсь, что этот возраст, становление девчонки девушкой, и есть та роковая точка, где движение назад должно стремительно убыстриться, — сказал Рой.
— Пожалуй, так, — согласился я. — Точку убыстрения, всего вероятней, надо искать в пределах переходного возраста. Наш слабый диполь гарантировал в три-четыре месяца поворот на прямой ход времени. Катастрофическое падение в прошлое могло начаться в ближайшие дни. Времени у меня не было.
— Догадываюсь, что дальше, — сказал Рой. — Осталось одно: усилить вашу душевную связь с Жанной. Но это могла сделать только любовь. Неужели вы думали, что она сможет вдруг так сильно, так безмерно сильно полюбить вас?
— Вы угадали, Рой. Только огромное усиление нашего психополя еще давало надежду. Но на любовь я не рассчитывал. Я не мог заставить Жанну вдруг полюбить меня, да еще с такой силой. Я использовал другую могучую душевную силу, Я прибег к ненависти.
… — К ненависти? — воскликнул Рой.
Если поначалу он демонстрировал невозмутимость, лениво покачивал ногой, то по мере развертывания моего рассказа он волновался вместе со мной, пытался предугадать дальнейшее. Но того, что я сказал о второй могучей силе, он не ожидал.
— К ненависти, — повторил я. — Рой, противоположности сходятся, разве мы этого не учили? Ненависть тоже форма душевной связи. Сила ненависти так же огромна, как сила любви. И так же жжет душу, так же мобилизует все потенции организма, как и любовь. С обратным знаком, конечно. Но знак в данном случае не имеет значения. Мне важна была связь наших душ, а острая ненависть эту связь давала. Я возбудил у Жанны такую ненависть к себе.
— Понимаю! Вы в свое время скрыли от Жанны, как погиб Павел. Вы сказали, что вам еще не все ясно в его смерти. Она не могла не уловить вашей уклончивости, подозревала, что причины хуже, чем вы туманно намекаете. И сейчас вы признались, что причина гибели Павла в каких-то ваших действиях. Она поверила и возненавидела вас, верно?
— Все верно.
— Что было дальше?
— Дальше был расчет крепости диполя, один конец которого — ненависть, а другой — любовь. Диполь оказался достаточно прочным, чтобы в течение примерно пяти дней, форсируя аппаратуру, вырвать Жанну из падения в прошлое.
— И этих пяти дней я не дал, запретив все работы в институте?
— Да, Рой.
— Но исповедь не закончена, не правда ли?
— Не закончена, Рой.
— И конец ее в том, что вы надумали обеспечить спасение Жанны собственной гибелью? Что вы повторите самопожертвование Павла, только подрассчитали надежней? Он-де был гениален, но в панике не все учел.
А вы, когда ворвались в лабораторию, в панике же не сумели остановить процесс в точке равновесия. Зато сейчас ошибки не сделаете.
— Все точно, Рой.
— И надеетесь, что я разрешу самоубийство ради спасения Жанны?
— Да, Рой.
— Какие у вас основания на это надеяться?
— Рой, это же просто! Если не погибну я, погибнет Жанна. Одна смерть неизбежна. Но моя смерть гораздо моральней..
— Моральней?
— Да, Рой. Я должен понести кару за неразрешенные эксперименты. Сочтите мою смерть формой самонаказания, продиктованного собственной совестью. Неужели вы думаете, что я смогу жить, отягченный двумя смертями по моей вине? Не преувеличивайте моей научной любознательности. Через два трупа она не перешагнет.
Рой заметался по комнате. От его невозмутимости не осталось и следа. Он негодовал. Он был в неистовстве.
Даже у вспыльчивого Антона Чиршке, Повелителя Демонов, я не знал такого приступа гнева. Рой кричал, что наложил запрет на работы в институте, ибо догадывался, что в нем идут какие-то тайные исследования, ставшие причиной катастрофы. И был уверен, что веду их я, именно я, а не другой, — я всем видом показывал, что таю секрет. И что он, Рой Васильев, абсолютно не сомневался, что рано или поздно я приду с повинной.
Даже тематику тайных исследований он смутно подозревал, во всяком случае очень уж большой неожиданности в моих объяснениях не нашел. Но что я сделаю его участником неразрешенного поиска, он и помыслить не мог. Поставить его перед дилеммой самому решать — кому жить, кому умереть! Ведь это что! Я исповедовался и теперь ожидаю отпущения грехов, так? А ответственность за новую неизбежную трагедию возлагаю на него, да? И это он должен вытерпеть?
— Не предваряю ваших решений, Рой, — сказал я, когда он выкричался. — Но хотел бы знать: что вы решили?
— Ничего не решил! — сердито ответил он. — Даже представления не имею, какое возможно решение.
— Но что-то вы предпримете и какое-то мнение составили?
Он с усилием взял себя в руки.
— Предприму я вот что. Передам Чарлзу Гриценко наш разговор. Пусть и ваш директор знает, какие исследования совершались втайне от него. Будем вместе искать выход. А мнение мое таково: права на тайный научный поиск у вас нет, но право на помощь вы имеете.
9
— Права на поиск у тебя нет, право на помощь ты имеешь, — точно этими же словами описал ситуацию Чарли.
А вспыльчивый Антон Чиршке, Повелитель Демонов, добавил:
— Я разобью все твои аппараты, измочалю тебя всего! В этом не сомневайся. Но это будет потом. Раньше надо тебя спасти.
Они пришли втроем. Рой молча уселся в сторонке, подальше от аппаратов, — мне казалось, он испытывал к ним отвращение. Впрочем, он демонстрировал невозмутимость — только слушал, не вмешиваясь в обсуждение, покачивал ногой, спокойно переводил взгляд с одного на другого, ничем не выдавая, какое предложение нравится, какое вызывает протест. Таким он держался обычно на Урании. И мне уже не верилось, что этот человек недавно метался по комнате, кричал и ругался, и если бы мог закатить мне здоровенную пощечину, то, не задумываясь, поднял бы руку. В те минуты от рукоприкладства его останавливало лишь то, что оплеухи не могли предотвратить надвигавшуюся беду и даже самые увесистые не способны были стать веским аргументом.
Своей нынешней бесстрастной отстраненностью он показывал, что несдержанности больше себе не позволит, это был его способ извиняться.
А Повелитель Демонов кипел и выплескивался. Он первым вошел — ворвался, естественно, а не просто вошел — в лабораторию и начал с того, что минуты три только кричал, что на наши с Павлом научные достижения ему чихать, а губить Жанну он не позволит: она прелестная женщина и лучше нее никто не изготовит пластинки для сепарации молекул по скоростям. И меня он тоже не позволит губить: я хороший парень. Вот еще вздор — ценой своей жизни исправлять глупейшие научные ошибки, нет, куда это годится, он спрашивает!
Боюсь, в таком возбуждении Антону реально вообразилось, что имеются два Эдуарда Барсова. И один — его приятель Эдик, скромница, неплохой экспериментатор, в общем, добряк, и попал тот добряк в беду, и его надо немедленно вызволять. А второй Эдуард — мрачная бестия, нарушитель научной этики, губитель хороших людей, и того второго Эдуарда надо бы топтать ногами, да жаль, в наше время такое естественное обращение со скверными людьми запрещено.
— Перестань, Антон! — приказал Чарли. — Эдика надо спасать не от Эдика, а от ошибки в эксперименте. Вот этим мы и займемся.
Я всегда восхищался Чарли — как ученым и как руководителем. И понимал, как сложно сейчас его положение. И со стороны — старался, во всяком случае, посмотреть со стороны — с некоторым любопытством ожидал, как он поведет себя. В отличие от Повелителя Демонов, тот в запальчивости приписал мне раздвоение личности, но Чарли и сам ощутимо раздвоился. В одной своей ипостаси он был академик и директор Института — эта его ипостась поворачивалась ко мне гневным и укоризненным лицом. Директор возмущался, что в его Институте ведутся необъявленные и неразрешенные работы и ведет их его душевный друг, его главный помощник. Можно ли простить этому человеку, другу и помощнику Эдуарду Барсову, его самоуправство? Как его наказать? Какие установить запреты для тех, кто, впадая в азарт научного поиска, вздумает последовать столь опасному примеру?
— От кого угодно мог ожидать, только не от тебя, Эдик! Так безрассудно втянуться в безумные эксперименты! — говорил он. — Разве я не доказал, что выход в обратное время для биологических структур гибелен?
И разве ты не понимал, что эксперименты, придуманные Павлом, преждевременны? Мы не научились контролировать время на молекулярном уровне, а он при твоем попустительстве пытался воздействовать на целостное время сложнейших биологических систем. Перепрыгнули через добрую сотню неизученных промежуточных ступенек! Правда, эффект научного поиска огромен, но какой ценой.
Уже в этом строгом выговоре директора Института сказалась вторая сторона личности Чарли — его чисто научная ипостась. Он сразу оценил открытия Павла. Он не одобрил их, этого не было, но не скрыл, что поражен их значительностью. Для него не составило труда понять, как велики оба открытия Павла: то, что искусственно возбужденное «омоложение до уничтожения», в какой-то критической точке становясь автоматическим, приобретает неконтролируемую скорость, и то, что психодиполь, связующий души двух людей, служит единственным тормозом от такого «падения в ничто». Необыкновенные возможности, создаваемые придуманным Павлом психодиполем, захватили Чарли — и то, что качели микромолодения и микростарения замедляют общее время и способствуют продлению жизни, и то, что прочное родство душ позволяет ставить хроноэксперименты, абсолютно губительные, когда такого родства душ нет, правда, небезопасные и при прочных психодиполях, это, к несчастью, мы с Павлом доказали. И Чарли без возражения признал, что придуманный мною отчаянный план спасения Жанны вполне реален.
— Ты, конечно, спасешь Жанну, — сказал он. — И конечно, погибнешь сам. Расчет твой безукоризнен, я не нашел в нем ни единой ошибки. Вообще такого рода сложные и рискованные расчеты тебе вполне можно доверить, они в пределах твоих способностей. Не мы не можем примириться, что ты определил себе безрадостный финал. Пейзаж гибели не та картина, которая способна нас восхитить. Мы решили внести поправки в твой расчет. Павел был вдохновенно пытлив, был одарен воображением. Но ему не хватало научной солидности. Он, как тебе ни покажется странным, проявлял трусость в трудных случаях. Так, проблему трех связанных душ он посчитал равнозначной проблеме трех тяготеющих тел в астрономии. Аналогия есть. Но ведь и три взаимно тяготеющих тела в космосе не редкость. И три взаимно связанные души — типичность в человеческом общении.
Вспомни, как увлекались наши предки — особенно в книгах — проблемой «любовного треугольника». И хоть решались задачи таких любовных треугольников не проще, чем задачи трех тяготеющих тел, решение все же отыскивалось.
— Не уясню, к чему ты клонишь, — прервал я. Мне вообразилось, что он готовится разразиться очередным парадоксом. Для шуток он мог бы выбрать иное время.
— Вижу, что не догадываешься. И жаль, ибо в проблеме трех душ — реальный путь к спасению вас обоих — тебя и Жанны. Вот мой план, слушай. Мы образуем треугольник: Жанна, ты, Антон. В треугольнике три полюса: ненависть — это Жанна; любовь — это ты; дружба — это Антон. Три полюса образуют три диполя, три стороны треугольника: Жанна — ты, Жанна — Антон, ты — Антон. Твой психодиполь с Жанной выволакивает ее из катастрофического падения в молодость, диполь Жанна — Антон добавляет своего старания в том же направлении, а диполь Антон — Эдик сыграет роль тормоза, когда ты станешь уноситься в будущее. Антон погасит тряску разновременности в твоем теле, не допустит в тебе разрыва времен. Думаю, для роли дружеского психотормоза Антон годится лучше всех на Урании. Руководство операцией беру я. И можешь не сомневаться, прерву процесс точно в положении равновесия для всех трех полюсов. А что до нашего друга Роя, то ему поручим твою любимую роль — восторженного наблюдателя.
Не знаю, как я удержался от слез. Еще за минуту до того, как он заговорил о своем плане, я видел только один мрачный выход. Но был, оказывается, и другой, и Чарли нашел его. Я хотел сказать, что согласен, что благодарен, что выполню все, мне в плане отведенное, но не справился с голосом. Антон же впал в восторг.
— Приступаем немедленно! — заорал он, вскакивая. — Терпеть не могу тянуть резину, как это когда-то называлось. Ох, Эдик, покажем тебе теперь, до чего ты недооценивал друзей! И если не попросишь у нас извинения, задам тебе потом оплеух, будь спокоен!
Когда Чарли говорит: «Предлагаю план», это означает, что у него готова не только идея, но и расчет. Жанну решили вызвать завтра, в программу не посвящать, просто обязать вести себя, как наметил для нее Чарли.
Мы с Антоном занялись подготовкой своей части программы. Повелитель Демонов, с его дьявольским чутьем к необычному, и вправду идеально подходил для создания прочной душевной связи и со мной, и с Жанной.
Такая связь с нами у него существовала всегда, но одно дело просто дружить, другое — вводить свою дружбу в аппараты в качестве физической силы. Включение Антона в качестве третьего полюса в наши психополя прошло блестяще. Чарли был доволен, а доволен он, только когда программа выполняется с блеском.
— Завтра вызовем Жанну и начнем последний эксперимент, — сказал он. Время шло к полуночи.
Жанна смутилась, застав у меня Роя, Чарли и Антона. Мы с Павлом так таили ото всех наши опыты, а я недавно так перепугался, когда она посетовала, что надоело вечно секретничать… Она бросила на меня гневный взгляд — к ненависти добавилось и негодование, что я, не предупредив и не испросив согласия, открыл наши тайны. Антон мне подмигнул: дескать, все в порядке, возмущение не испортит ненависти, стало быть, сработает на наш план.
— Жанна, мы все знаем, — сказал Чарли. — Эдик рассказал, какие Павел разрабатывал темы. Грандиозно — вот наше мнение. Подробней обсудим потом, а сейчас тему надо завершать, пока нам не нагорело за неразрешенный научный поиск. Мы решили ускорить исследования. Психодиполь, соединяющий тебя с Эдиком, будет сегодня проверен на разные изменения времени.
Пройди в соседнюю комнату и побудь там в одиночестве. Можешь соснуть, если хочется.
Жанна опять метнула на меня ненавидящий взгляд.
Я постарался изобразить на лице наглую развязность — она вся вспыхнула от возмущения. Уходя, она подошла к зеркалу и поправила волосы. Она любовалась собой — это было в ней новое.
— Совсем девчонка, — задумчиво сказал Рой, когда Жанна скрылась в соседней комнате. — Она помолодела даже с того дня, как я ее впервые увидел. В ней, кажется, появилось и кокетство.
— Кажется, мы захватили процесс впадения в юность на критической точке, — высказался Чарли. — Будем торопиться, друзья!
Торопливость у Чарли всегда быстрая, но без суеты.
Я сидел в кресле, Антон — напротив в таком же кресле.
Рой в сторонке, прислонясь плечом к стене, молчаливо наблюдал за нами. Чарли ходил от кресла к креслу и от кресел к аппаратам. Компьютер непрерывно выдавал ход процесса, на лентах самописцев извивались записи наших состояний — Жанны, Антона, моего. Чарли вел программу с интенсивностью, на которую я бы не осмелился. Он знал, что делает. Я задыхался. Боль терзала каждую клетку тела. Вероятно, что-то похожее, только безмерно усиленное, испытывал и Павел. Антон испуганно закричал:
— Эдик, ты превращаешься в старца! Это ужасно, Эдик!
— Рой, подойдите к двери в другую комнату, — распорядился Чарли. — И если Жанна попытается вырваться, не давайте. А ты молодец, Антон! Помни, от тебя зависит не дать завершиться уходу Эдика в будущее. Старайся!
— Я стараюсь, — пробормотал Антон, не отрывая от меня широко раскрытых глаз. Вероятно, я очень плохо выглядел, раз он так перепугался.
Не знаю, сколько времени прошло, — я потерял ощущение времени. Как бы сквозь сон я услышал крик Жанны, громкие уговоры Роя. Потом была опять тишина, и ее разорвали два крика, два вопля — торжествующий и негодующий.
— Готово! — кричал Чарли. Я открыл с усилием глаза — он в дикой спешке отключал аппараты и все кричал: — Тройная точка равновесия схвачена! Точно тройная точка!
А посередине комнаты стояла Жанна, вырвавшаяся из своего временного заточения, и тоже кричала:
— Прекратите пытку! Прекратите пытку!
Я опять стал терять сознание. Но взгляд на Антона придал мне какие-то силы. Антон был страшно бледен, бескровные щеки отвисли, нос заострился. Он казался мертвецом. Я попытался вскочить, чтобы помочь Антону, хотя и не знал, как это сделать. Чарли положил руку мне на плечо, рука была безмерно тяжела, и я со стоном опустился, в кресло. Чарли сказал очень радостно и очень торжественно:
— С Антоном все в порядке. Антон сделал свое дело, теперь отдыхает.
— А мы? — прошептал я.
— Ты жив — это главное. А Жанну спасли!
Больше говорить я не мог. Рой, Жанна и Чарли туманными силуэтами реяли в воздухе. Один Антон не двигался в кресле, он был все так же бледен. До меня, как сквозь стену, доносились голоса, я старался разобраться в них. Я понимал, что и Жанна, и Чарли, и Рой говорят громко, может быть, даже кричат, но слышал шепот.
— Что это значит — Жанну спасли? — негодовала Жанна, — Эдуард устроил какую-то новую подлость? Я хочу знать, что он сделал!
— Жанна, подойдите к зеркалу, — говорил Чарли. Полюбуйтесь-ка на себя, вы теперь настоящая Вам уже ничто не грозит.
До меня донесся ее новый — шепотом — крик:
— Боже мой, что он сделал со мной! Я же выгляжу старухой. Как вы смеете говорить — полюбуйтесь на себя! Вы издеваетесь!
— Мы радуемся за вас, Жанна!
Среди голосов выделился голос Роя:
— Жанна, вы сказали, что Эдуард устроил вам новую подлость. Подберите-ка слова из другого лексикона. И учтите: самые высокие слова будут малы…
Он еще что-то говорил, но я не слышал. На несколько минут пробудившееся сознание донесло, что меня несут на носилках, потом наступил долгий провал. Очнувшись, я увидел, что лежу в палате. Около меня на столике стоял микрофон. Я звал дежурную сестру — пришел врач. Я сказал, что слишком долго спал, наверно не меньше суток, хорошо бы встать. Он засмеялся. Я не спал, а был в беспамятстве. И не одни сутки, а ровно двадцать. И что встать мне было бы неплохо, но вряд ли это осуществимо. Некоторое время мне придется передвигаться лишь на костылях. Окончательное выздоровление он гарантирует, но это будет не завтра.
Моего первого прихода в сознание ожидают трое гостей, он сейчас разрешит им посетить меня.
В палату вошли Чарли, Рой и Антон.
— Ты неплохо выглядишь, Эдик! — сказал Чарли. Врач уверяет, что все идет хорошо. По-моему, ему можно верить.
— Ты жутко похудел, — посетовал Антон. — В чем только душа держится! А как настроение? Неплохо, правда?
— Опыт был проведен блестяще, — сказал Рой. Вы вскоре сами все узнаете, когда изучите записи процесса. Конечно, таких опытов вам больше не разрешат.
— Будем двигаться поэтапно, — бодро уточнил Чарли. — Следующие наши эксперименты — не выше молекулярного уровня. Надо же что-нибудь оставить и будущим поколениям хронофизиков.
Я спросил о Жанне. Узнав правду, она приходила в больницу, но я лежал без сознания. Несколько дней назад Жанна улетела на Латону, оттуда на Землю. Перед отлетом она великолепно справилась с монтажом «трехмиллионника». Она играла на могучих антигравитаторах, как на клавиатуре рояля. Цистерна с тремя миллионами тонн сгущенной воды плыла от космопорта к новому энергоскладу, как легкий воздушный шарик. Антон внезапно рассердился.
— Никогда не прощу тебе, что она улетела! — закричал он. — Ты знаешь, какие мне теперь суют сепарационные пластинки? Посчитаемся после выздоровления.
Хорошего не жди! Выздоравливай поскорей!
Они ушли. Я закрыл глаза, вспоминал, огорчался, радовался. То, что Жанна не захотела оставаться на Урании, было, вероятно, хорошо, а не плохо. Многое соединяло нас, еще больше разделяло — я не мог разобраться во всей этой путанице.
И настал день, когда — пока на костылях — я смог выбраться в столовую. К моему столику присел Чарли, деловито пробежал глазами меню, заказал, естественно, омлет с овощами и апельсиновый сок и порадовал:
— Вчера с Латоны ушел на Землю рейсовый звездолет «Командор Первухин». На нем отбыл Рой Васильев. Он передает тебе привет.
ВИКТОР ЖИЛИН ПРОБЛЕМА СОКОЛОВСКОГО Рассказ
Шевцов посадил флаер на стоянке — круглой, веселой поляне среди могучих сосен. Остро пахло хвоей. Высоко в золотисто-зеленых кронах шелестел ветер. Голубело небо — теплое, летнее. Тихо, как в лесу.
Вместо ограды — низкорослый кустарник. Мальчишка перепрыгнет. У входа надпись: «Санаторий "Сосновая роща". Посетителей просят извещать о визите заранее».
Шевцов пожал плечами, толкнул низкую символическую калитку — о нем известили!
Песчаная дорожка, рябая от солнечных лучей, вела в глубь бора. Из-за деревьев выскочил загорелый блондин в белом халате.
— Шевцов? Анатолий Борисович? — Он с ходу протянул руку. — Калинкин! Ждем!..
Зашагали рядом.
— Богатая у вас территория. — Шевцов махнул рукой.
— Да, да… — поспешно согласился Калинкин. — Простор. Озеро, лес… Вам у нас понравится.
Шевцов скосил глаза: шутка?… Калинкин смотрел под ноги. Лицо озабоченное.
— Не собираюсь у вас задерживаться, — усмехнулся Шевцов.
Калинкин поднял голову, сообразил:
— Ах да, конечно! — Рассеянно пригладил волосы. Понимаете, я — лечащий врач Соколовского!..
— Ясно! — сказал Шевцов.
Им в отдел сообщили фамилию пропавшего и что он «не совсем здоров». Просили срочно прибыть. И всё!
За толстыми шелушащимися стволами открылось белое здание с широкими террасами. Зеркально горели стекла в поднятых рамах. Под ними буйно цвела сирень.
В глубине угадывались другие дома — поменьше.
Калинкин круто свернул к входу.
— Давайте сразу к главному! Он сам хочет…
Небольшой кабинет с матово-белыми стенами был залит солнцем. Ряд мягких вращающихся кресел полукольцом; стол с видеофоном и экранчиком дисплея. Другой экран — большой, просмотровый — в стене.
От распахнутого окна отделилась высокая прямая фигура. Тоже в белом халате.
— Лукьянов, Герман Александрович! — прошептал Калинкин на ухо. — Светило!
Сели в кресла. Холодно блеснули глаза под большим выпуклым лбом. На висках — седина. С минуту светило помалкивал: изучал!
— Скверное дело, Анатолий Борисович! — произнес наконец. — Мы сбились с ног. У себя на территории прочесали каждый куст. Связались с ближайшими поселками, домами отдыха… На всякий случай вызвали представителей организаций, поставляющих нам технику…
— Минуточку, — вставил Шевцов. — Нельзя ли подробнее? У меня почти нет информации…
Лукьянов прикрыл веки, помолчал. Спросил ровно:
— Вы хотя бы представляете, где находитесь?
Шевцов замялся:
— Ну, видимо, в психиатрической лечебнице…
Сзади фыркнул Калинкин. На бледном холеном лице главврача мелькнула улыбка.
— Это архаика, Анатолий Борисович. — Он покачал головой. — Мы уж и забыли, что это такое… Вообще, при нашем образе жизни психические э… сдвиги — редкость… Другое дело — наследственные болезни.
Лукьянов нахмурил лоб, задумался.
— Не секрет, от прошлого нам достался неважный материал. Генофонд изрядно подпорчен. Правда, положение выправляется. Но о полной победе говорить рано: прошло слишком мало времени…
Главврач наклонился, ткнул клавишу на пульте стола. На стенном экране — стереоскопическая схема лесного поселка, окруженного тремя разноцветными концентрическими кругами.
— Наш стационар принадлежит Институту нейропсихиатрии, — продолжал Лукьянов. — Пациенты приезжают сюда на две-три недели. Как правило, хватает.
Разумеется, полная свобода. Единственное ограничение — посетители…
— Простите, — вмешался Шевцов. — Я слышал — это закрытый санаторий!..
— Только для отдельных больных, — уточнил Лукьянов. — К сожалению, в практике встречаются тяжелые хромосомные аномалии, требующие длительного лечения. На этот период мы вынуждены в чем-то ограничивать таких больных. Их немного… — Он переключил что-то на пульте. — Корпус номер шесть…
На экране — одноэтажный коттедж в пышном кольце белой сирени. На плоской крыше — казалось, прямо в воздухе — дремали двое пожилых мужчин в пижамах. Смутно угадывались прозрачные «кресла-поля» под ними.
— Эти люди пока на особом положении, — негромко прокомментировал главврач. — С территории им не уйти. Разумеется, они ни о чем не догадываются. Под благовидным предлогом их всегда останавливают Да они и не рвутся. Со дня открытия было всего два-три случая…
Опять тронул пульт. Возникла сложная электронная блок — схема с центральной ЭВМ.
— У нас автоматическая охрана. Взгляните: три пояса сигнализации. Принцип — селекция сигналов с личных радиобраслетов. Управление — с универсального компьютера. Индивидуальные коды пациентов шестого Корпуса — под запретом. Есть резервные пояса датчиков. Короче, покинуть территорию без нашего ведома — невозможно! — Лукьянов выключил экран, сцепил руки на столе. — А Соколовский это сделал!
— Когда? — деловито спросил Шевцов.
— Сегодня под утро. Около шести с ЭВМ поступил сигнал о неисправности сигнализации в его палате.
Дверь оказалась запертой, видеофон испорчен. Видимо, он воспользовался окном, каким-то непостижимым образом проскочил все три пояса. Многое неясно… Например, почему такая задержка сигнала, — он явно ушел раньше. Там сейчас работают специалисты. Утверждают, что датчики в порядке… — Лукьянов с сомнением покачал головой.
— Воздушный транспорт? — предположил Шевцов.
— Исключено! Полеты над территорией запрещены. Диспетчеры нам бы сообщили… — Одним словом, — Лукьянов выпрямился, — мы абсолютно не представляем, как он это сделал. В санатории его нет. Где искать — не знаем… Теперь вы понимаете, почему мы обратились к вам, в Службу координации?
Шевцов кивнул: а дело-то, кажется, любопытное.
Спросил:
— Что он за человек, этот Соколовский?
Главврач покосился на Калинкина. Тот сидел хмуро, с преувеличенным вниманием разглядывая свои ногти.
— Видите ли, — осторожно начал Лукьянов, — Петр Петрович Соколовский — особый случай! У нас — около двух лет. Надо сознаться: прогресс незначительный.
Подробнее с историей болезни вас познакомит Геннадий Константинович. — Он кивнул на Калинкина. — Откровенно говоря, нам далеко не все понятно…
Главврач потянулся к пульту. На экрана — объемное изображение пожилого человека с тяжелым взглядом.
Сократовский лоб, большие залысины. Лицо бледное, рыхлое, нездоровое.
— Диагноз неоднозначный, — продолжал Лукьянов. — По внешним признакам — тяжелейшее умственное истощение с частичным распадом сознания. Резкое чередование гиперактивности с апато-абулическим синдромом. И полная амнезия — больной никого не узнает.
Лукьянов замолчал, побарабанил пальцами по столу. Вздохнул:
— Самое неприятное — пациент абсолютно непредсказуем!
Шевцов подался вперед:
— Вы хотите сказать — опасен?
Сзади что-то протестующе воскликнул Калинкин.
Главврач решительно встал:
— Повторяю: Петр Петрович Соколовский в нынешнем состоянии — непредсказуем! — Взял со стола пакет, протянул: — Здесь все, что вам может понадобиться. Снимки, биография, история болезни… Коллега, — он повернулся к Калинкину, — помогите товарищу, Я сам займусь вашими больными.
Калинкин молча шагнул к двери. Шевцов с пакетом — следом.
— Вот еще что… — Лукьянов стоял заложив руки за спину. Взгляд жесткий, хмурый. — Мой совет: не тяните с этим делом… Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Человек, который смог уйти отсюда, способен на многое!
— С чего начнем? — деловито спросил Калинкин, как только они очутились в коридоре.
— С охраны, Геннадий! — сразу сказал Шевцов.
— Тогда пойдемте в центр, Анатолий. — Калинкин мотнул головой, поправляя прическу. — Но предупреждаю: я в этих делах профан. Вы уж сами…
В операторской — стандартном зале с управляющей ЭВМ — ничего не прояснилось.
Разработчики охранной сигнализации, спешно вызванные главврачом, дружно били себя в грудь, божились, что у них «как часы». Представитель завода компьютерной техники вообще не понимал, что от него хотят. Действительно, в зале стоял «Меркурий», девятнадцатая модель — серийная машина, надежна, как трактор!
Тем не менее какой-то сбой в аппаратуре был. Иначе как объяснить странную задержку сигнала из палаты Соколовского? И почему компьютер не поднял тревоги, когда он проходил охранные пояса? Если, конечно, он вообще их проходил…
Сигнализация отключалась только с главного пульта. Доступ больным туда исключался. Дверь операторской имела блокировку. Открывалась только тем сотрудникам, личные коды которых были заложены в памяти машины. Как выяснилось — практически всему персоналу. Каждый из них в принципе мог нейтрализовать сигнализацию. Другой вопрос — зачем?…
Ближе к обеду Калинкин предложил сходить в «шестой»: — пока больные в столовой.
В уютной одноместной палате Соколовского царил беспорядок. Кровать растерзана. Простыни на полу. Повсюду бумага — на столе, диване, кресле. Смятая, разорванная в клочки. Реже целая.
— Так каждый день! — вздохнул Калинкин. — Мы тут ничего не трогали…
— Это хорошо, — рассеянно произнес Шевцов, оглядываясь.
Подобрал смятый невесомый листок скнтобумаги.
Обе стороны густо исчерканы какими-то дикими значками, загогулинами, кривыми линиями. Полнейший хаос — ничего разобрать нельзя.
— Его основная продукция, — вздохнул Калинкин. Только этим и занимается. Черкает, рвет, снова что-то пишет… У нас в архиве целое собрание сочинений. Все в том же духе: бессмыслица. А выбрасывать — рука не поднимается.
— Расскажите о нем, пожалуйста, Геннадий. — Шевцов прислонился к столу. — Самое важное! С анкетой я ознакомлюсь позже…
Калинкин смахнул бумажки с кресла, сел.
— Понимаете, Соколовский в прошлом — гений-универсал! Он и физик-теоретик, и крупный математик, и астроном, и кибернетик, и бог знает кто еще! Таких поискать… Я ни черта в этом не смыслю, но говорят, за ним крупные открытия. Причем в разных областях.
Последние годы трудился на износ: бодрамины, препарат «антисон» — в общем, по двадцать четыре часа в сутки! В довершение всего стал экспериментировать на собственном мозге. Собрал довольно хитроумный аппарат для биостимуляции. Я видел — чудовищная мощность! Таким пытать разве что… В результате — попал к нам. И остановить-то было некому: он одинок, работал дома…
— Его кто-нибудь навещает? — поинтересовался Шевцов.
Калинкин потряс головой:
— Сейчас — нет! Вы б его видели!.. Зрелище не для слабонервных. Часами сидит столбом: глухой, слепой, немой. Вдруг — взрыв! Бросается к бумаге, исписывает горы, черкает, рвет, рычит… Клочья летят! Темп — бешеный. Тут ему лучше под руку не попадаться…
— Скажите, Геннадий, — Шевцов подался вперед, — он действительно сумасшедший?
Калинкин растерялся, покраснел.
— Но послушайте… Если б иначе — кто бы стал его здесь держать! У Соколовского помутнено сознание, и вообще…
— Да, да, понимаю… — Шевцов присел на диван, достал из пакета анкетную карточку Соколовского. Возраст — пятьдесят восемь лет. Образование — математическое. Работа в Пулковской обсерватории. Затем в Дубне, Амстердаме, Кибернетическом центре Академии наук, Атомном центре в Тулузе, Подольске, Дели… Всего — восемнадцать мест. Последние годы — математик-надомник в Зеленограде.
Шевцов задумался. В первую очередь надо запросить Зеленоград. Это если он действительно удрал!..
Тогда дело паршивое. Как ни крути, получается сговор!
Звучит дико, но без посторонней помощи отсюда не уйти. Кто-то должен был отключить сигнализацию. Из тех, кто имеет доступ к пульту. Но кто?… Калинкин?
Главврач?… Смешно!
— Вот что, Геннадий! — Шевцов хлопнул себя по коленям, встал. — Вы лучше всех его знали. Прежде всего я должен понять, на что он способен… Я имею в виду крайние случаи. Понимаете? От этого многое зависит.
Калинкин пожал плечами, вздохнул:
— Я бы тоже хотел это знать!.. — Он помолчал, усмехнулся: — Не бойтесь, во всяком случае кровавых эксцессов не будет! — Калинкин вскинул голову. — Если честно, я вообще не понимаю, к чему такая паника!..
Отыщется он где-нибудь, вот увидите. Если бы не главный… — Калинкин безнадежно махнул рукой, замолчал.
— Но сигнализация, Геннадий?… — У Шевцова сузились глаза. — Я немного соображаю в таких вещах: человек во плоти и крови не может ее проскочить. Физически! Даже супергений!
Калинкин внимательно посмотрел ему в лицо, улыбнулся криво:
— Не знаю!.. Разбирайтесь! В конце концов, я врач, лечу людей. Призраки — извините! — не моя область… Он встал. — Я вам еще нужен?
Шевцов достал визитку:
— Вот мой личный код. Если что-то выяснится, немедленно сообщите! Договорились?
Калинкин кивнул, вышел из палаты.
«Обиделся, — понял Шевцов. — Неужели он решил, что его подозревают?… Какая чепуха! Чтобы пойти на такое, надо иметь серьезные основания. А зачем это Калинкину?… Доказать, что его пациент не так уж и болен?… Слабовато. Тем более Калинкин отнюдь не считает его здоровым».
Рассуждая, Шевцов быстро собирал бумаги — все, до последнего клочка. Потом подержал над стопкой плоскую коробочку анализатора, перенес к постели, прошелся над простынями. Приборчик тихо жужжал, всасывая воздух. Следовало убедиться, нет ли Соколовского где-нибудь поблизости. Всякое бывает…
От окна палаты до земли было метра два. Шевцов оглянулся — никого! — спрыгнул. Под кустами — вдавленные в газон листы бумаги, следы каблуков. Переключив анализатор на режим поиска, Шевцов поднес его к отпечаткам ног. Запульсировал глазок индикатора: есть след! Давность — около десяти часов. Значит, он ушел примерно в четыре. Тревогу подняли в шесть. Два часа в его распоряжении. Есть надежда…
Шевцов нырнул в рощу — индикатор указывал куда-то на север. Там поблескивало озеро. След был ровный, устойчивый — с утра стояла сухая жаркая погода. Шевцов побежал, лавируя между шершавыми стволами. Под ногами пружинил игольчатый ковер. Пахло смолой, сухим мхом. След круто свернул, огибая заросший камышом берег, — у Шевцова отлегло от сердца. А через несколько минут он выскочил на знакомую песчаную дорожку. Вот так штука! Беглец сделал небольшой крюк лесом и преспокойно зашагал по дороге к выходу. Совершенно открыто! Хотя здесь датчиков — на каждом шагу! Так может поступать или действительно сумасшедший, или очень уверенный в себе человек.
Шевцов припустил по дорожке. Вот и калитка, светлый круг стоянки в хороводе сосен. Следы пересекали ее, выходили на, магистраль. На что же он рассчитывал?
Попутный транспорт?… Здесь, ночью — маловероятно!
Может, его кто-нибудь ждал?
Шевцов вернулся, прыгнул в свой «гепард», укрепил анализатор на стойке. Повел машину в метре над поверхностью — дело пошло веселее. Дорогой, видимо, пользовались редко — верхний, самовосстанавливающийся слой девственно блестел.
Через три километра — развилка с указателем: «Турбаза «Ромашка», 2 км». Беглец направился именно туда…
В лагере туристов все выяснилось в одну минуту.
Ночью кто-то угнал единственный лагерный аэрокар.
Тревоги, конечно, не подняли: раз кто-то взял, значит, ему надо! Такие вещи случались. Запросили новый — и все дела… След Соколовского терялся точно у стоянки.
Через диспетчерскую Трансцентра Шевцов быстро узнал, что аэрокар класса «жук», бортовой номер такой-то, с неизвестным пассажиром на борту, сегодня утром совершил беспосадочный перелет по маршруту турбаза «Ромашка» — Столица и в 9.01 благополучно приземлился на одной из центральных стоянок.
Итак, сомнений больше не было: Соколовский в Столице! Дело осложнялось — как его там искать?… Причем медлить нельзя, надо лететь! А не мешало бы, еще покопать в санатории, разобраться с сигнализацией и прочим…
Шевцов связался с отделом, коротко обрисовал обстановку и с тяжелым сердцем взял курс на Столицу.
Дежурным по группе оперативной информации был Шамиль.
— Привет. Нашел своего беглеца?
Шевцов коротко потряс головой, сел рядом — разговаривать не хотелось. По дороге в отдел он заскочил в кримлабораторию, отдал на анализ бумаги Соколовского — все, что подобрал в палате и под окном. Надо же с чего-то начинать!.. Попросил:
— Дай, пожалуйста, сегодняшнюю сводку!
Шамиль молча щелкнул клавишей, отвернулся. На дисплее поплыл текст оперативной сводки. Часть ленты Шевцов сразу прокрутил, начал с девяти утра — времени прибытия в город Соколовского.
«9.41. Транспортное происшествие на линии снабжения «Кольцевая — хладокомбинат "Снежинка"». Сошел с трассы автомат-рефрижератор…
10.34. Округ 12, Сектор А-40. Обрыв силового кабеля в системе энергоснабжения жилищного массива…
11.20. Сообщение из школы-интерната № 1675бнс. На занятия не явились трое учеников четвертого класса второй ступени… Предполагается побег. Оповещены службы контроля движения близлежащих портов…»
Шевцов покачал головой. Беда с этими юными космопроходцами!
Остальные сообщения — в том же духе. Незначительные транспортные аварии, поломки каких-то систем, утери, пропажи — чаще мнимые — и тому подобное.
Прогнав ленту до конца, Шевцов секунду-другую смотрел в пустой экран. Здесь зацепиться не за что.
Остается медицинская сводка.
Центральная служба скорой помощи быстро выдала перечень дневных вызовов. Два десятка на весь город.
В основном к пожилым людям. Обычные болезни стариков. Реже встречались травмы: ушибы, вывихи, переломы. Это, как правило, мальчишки. И ничего похожего на случай Соколовского.
Отключив видеоэкран, Шевцов мрачно уставился в окно. Отсюда, с пятьдесят первого этажа Службы координации, город был как на ладони. Громады застроенных массивов — каждый своего цвета — четкими концентрическими кругами расходились к горизонту, постепенно растворяясь в зеленовато-голубой зыбкой дымке.
Неужели среди всего населения столичного города не нашлось двух-трех человек, которые его видели? Не может быть! Но они молчат, хотя вид Соколовского необычен — достаточно взглянуть на фото! Значит, одно из двух: или он ведет себя более-менее стандартно, или где-то затаился. Если второе-то глухо! Надо поднимать связи, опрашивать родственников, знакомых, сослуживцев, короче — «копать» биографию. Верный, но слишком долгий путь…
Шевцов вздохнул, подсел ближе к пульту, соединился с зеленоградской Службой координации — может, он подался в родные места?
Зеленоград — небольшой город. Установить, кто прибыл из Столицы начиная с одиннадцати часов, — а раньше не успеть! — совсем нетрудно. Помогли местные диспетчеры Трансцентра: среди пассажиров Соколовского не оказалось… Следы беглеца надо было искать здесь, в Столице.
Последующие несколько часов Шевцов провел за экраном видеофона. Он обзвонил десятки самых разных мест: службы контроля движением, вокзалы, порты, стоянки, кафе, всевозможные салоны отдыха и увеселений…
Отыскал людей, которые прибыли в город примерно в одно время с Соколовским и на ту же самую аэростоянку. Нашелся человек, который вроде бы видел, как похожим на него мужчина вылез из туристского флаера и тут же подозвал такси-автомат. Машину удалось найти — они управлялись из единого центра, — проследить маршрут. В 9.20 пассажир вышел на площади Свободы — самом оживленном транспортном узле Столицы.
Далее следы его терялись…
Шевцов выключил фон, зажмурился — голова гудела. Ну что, идти сдаваться к шефу?… Нет, только не это. Конечно, проще всего выждать — где-нибудь он себя обнаружит. Но ведь нельзя, не тот случай! «Абсолютно непредсказуем!» Случись что — не простят! В общем, дело пахнет чрезвычайным поиском…
Вздохнув, Шевцов набрал кабинет шефа.
«На совещании руководителей групп в кабинете Главного координатора», — возвестил робот-секретарь.
Шевцов откинулся в кресло — эта надолго! Санаторий молчит, значит, там тоже глухо.
На всякий случай он послал вызов Калинкину, дождался ответа.
— Геннадий Константинович, Шевцов!.. Как там у вас, прояснилось что-нибудь?
Долгая пауза.
— Я бы не сказал… — Голос задумчивый, неуверенный. — Компьютерщики всё валят на сигнализацию. Те их посылают — не поймешь!.. Но все-таки раскопали: пришли команды на блокировку сигнализации… Неясно откуда — полный мрак! Какие-то необычные сбои… Черт их разберет, я не специалист.
— Та-ак! — Шевцов взъерошил волосы, наклонился к микрофону. — Но ведь команды кто-то должен был дать, верно?… Не сама же машина их родила?
— Бросьте, Анатолий Борисович! — В голосе усмешка. — Я понимаю, о чем вы… Все это чепуха, бред собачий! Шерлокхолмсщина! Не там ищете. Скорей всего, дело в технике… Кстати, а как ваши успехи?
— Ищем! — коротко бросил Шевцов. — Похоже, он здесь, в Столице. Во всяком случае, был утром… Я вам сразу сообщу…
Отключив фон, Шевцов поднялся. Забрезжила идейка, правда хиленькая, на голой интуиции… Все-таки странно: все эти сбои, блокировки происходят именно тогда, когда нужно Соколовскому. Совпадение?… Возможно, но проверить стоит. В городе полно всякой сигнализации…
По дороге к лифту запищал радиобраслет — Шевцова приглашали к экспертам…
Из кримлаборатории он возвращался, сжимая в ладони плоскую кассету с результатами экспресс-анализа «безумных письмен Соколовского» — так их окрестили эксперты…
У себя Шевцов торопливо просмотрел заключение:
«Представленный для исследования материал в виде 33 листов стандартной синтетической бумаги разной степени деформации содержит хаотические «письмена», выполненные универсальной квазижидкостью «Школьник» ручным способом.
На каждом листе с обеих сторон имеется несколько «записей», последовательно наслаивающихся друг на друга.
Текст переснят с расслоением «письмен» в порядке их нанесения. Отдельные слои (см. приложение) предположительно могут быть хаотическими фрагментами математических (?) вычислений.
Расшифровке не поддаются.
Примечание. По мнению экспертов, материал представляет определенный интерес для психиатров…»
Далее шли снимки «безумных письмен» по слоям.
Те же бредовые каракули, нанесенные в чудовищной спешке. Правда, на листках, подобранных под окном палаты Соколовского, при известной фантазии можно было усмотреть подобие каких-то формул — жалкие отголоски прежней специальности больного. Лезть с этим к специалистам — наивно…
Сунув кассету в карман, Шевцов заглянул к шефу — тишина! — спустился на первый этаж.
В Отделе автоматической охраны городских объектов его встретила приветливая рослая брюнетка в обтягивающем комбинезоне.
— Чем обязаны? — улыбнулась, откидывая прямые блестящие волосы.
Они встречались несколько раз в кафе, Шевцов запомнил — красивая девушка. Ее звали Ева.
— Нужна срочная консультация! — выпалил деловито. Не сдержал улыбки. — Буквально несколько минут…
Прошли в аппаратную. Стойки, пульты, мощный компьютер на квазиорганике, терминалы… Людей не видно.
— Присаживайтесь! — Девушка смотрела спокойно, чуть-чуть недоверчиво: многие тут бегали — «консультироваться»…
— Мне бы хотелось знать, — осторожно начал Шевцов, — какие объекты города находятся под вашей опекой.
У девушки приподнялись брови.
— В общих чертах! — добавил он.
— Пожалуйста… — качнула головой. Голос низкий, грудной — умопомрачительный голос.
— Охраняются, то есть подключены к обшей городской сигнализации, прежде всего, опасные для человека предприятия. — Ева чуть растягивала слова. Получалось «под лектора». Консультировала! — Кроме того, сигнализацию имеют больницы, музеи, архивы, информатории и тому подобное. Наконец, по специальному постановлению Совета охраняются все вычислительные центры с компьютерами суперклассов…
— А это для чего? — поинтересовался Шевцов.
— Чтобы избежать праздных вопросов, — улыбнулась девушка. — Машинное время дорого!
— Вот как!.. — Шевцов удивился. — Не представляю, что это за вопросы!.. Хоть убейте!
— О-о! — В глазах Евы вспыхнули искорки. — Самые распространенные — о смысле жизни!.. Бывают и поконкретнее, например: «любит-не любит»…
Шевцов рассмеялся.
— В этом что-то есть, а?… — Посерьезнел, вздохнул. — Последний вопрос, Ева… У вас случаются неисправности сигнализации?
— Смотря какие. — Ева перестала улыбаться. — Выход из строя практически исключен.
— А сбои, временные отключения, запаздывания и прочее?
Девушка пожала прямыми плечами:
— Бывают, конечно… Как правило, ничего серьезного.
— А сегодня было?
— Д-да… Кажется…
Шевцов умоляюще сложил руки:
— Ева, давайте посмотрим, а?
— Да ради бога!.. — Девушка развернула кресло, набрала на пульте программу. Вспыхнул экранчик дисплея. — Вот, например, Двенадцатая энергоцентраль, турбозал. Плохой контакт одного из датчиков в системе входной блокировки. Пустяк — там есть резервные… Далее, Информаторий Физического института. Кратковременное отключение сигнализации… На пять сотых секунды… Входная сигнализация Кибернетического центра Академии наук — временный сбой… И так далее… — Ева вопросительно обернулась: — Так что вас все-таки интересует?
— Если бы я знал!.. — Шевцов почесал в затылке, виновато вздохнул. — Давайте дальше…
Добросовестно просмотрели ленту до конца — ничего серьезного! Пустячные неисправности, видимо неизбежные в огромном Евином хозяйстве.
Все же Шевцов попросил копию ленты, поблагодарил девушку, вернулся к себе. Придется запрашивать все объекты — каторжный труд!
— Анатоль!.. — встретил его Шамиль. — Ты интересовался сводкой!.. Свеженькое сообщение из Академгородка: остановился ГАМ — главный академический мозг!
Конец света, ученые в панике. Подойдет тебе?
Шевцов насторожился: это же в Кибернетическом центре! Там у них что-то с сигнализацией. Да и Соколовский там раньше работал! Кивнул: «Спасибо!», быстро набрал номер.
На экране — подтянутая строгая женщина с короткой прической.
— Дежурная центра Белицкая! Слушаю вас!..
— Здравствуйте! Шевцов из Службы координации… Что у вас там случилось?
Дежурная нервно дернулась.
— Товарищ, еще ничего неизвестно! Разбираемся! Извините…
Экран погас.
— Ого! — удивился Шамиль. — Психуют академики…
Шевцов вскочил:
— Вот что… Я, пожалуй, слетаю. Сообщи шефу!
Кибернетический центр Академии наук лихорадило.
Гудели скоростные лифты, хлопали двери, по коридорам взад-вперед сновали сотрудники. Лица у всех озадаченные, даже испуганные. Такого центр не знал со дня пуска ГАМа — очередного чуда света.
К директору было не пробиться, — заперся в кабинете с Ученым советом, отключив все каналы связи. Первое время Шевцов попусту бродил по этажам — всем было не до него. Никто ничего толком не знал.
С трудом прорвался в главный зал. Там кипела работа. У развороченных биомодулей копошились техники; тесно обступив экраны дисплеев, бурно совещались разработчики; потерянно тыкались туда-сюда оказавшиеся не у дел математики. От Шевцова отмахивались…
Кто-то кивнул на дверь с табличкой: «Главный специалист Маркарян Аристарх Владимирович». Шевцов заглянул.
Кабинет напоминал диспетчерскую. Перед голограммным экраном застыл тощий субъект с лошадиным лицом. Седые волосы всклокочены. Широко раскинутые руки упирались в стол. В позе что-то от подраненной птицы.
Шевцов торопливо представился, помахал удостоверением — для скорости.
— Срочное дело, Аристарх Владимирович! — отчаянно выпалил он. — Скажите, причины остановки «мозга» уже известны?
Несколько секунд главный специалист смотрел сквозь него, словно не видел. Громко втянул воздух — раздулись крылья породистого носа. Выдал громогласно:
— Причины?… А черт их знает! Сам остановился…
— Аристарх Владимирович, — это крайне важно! Шевцов решил идти до конца. — Пожалуйста, конкретнее…
— Конкретнее… — Маркарян прищурил один глаз, задумался. — Вот этого никто и не знает, молодой человек. Машина прекрасно работала, вдруг — чудовищный пик мощности! Предохранители — к чертям! Настройка — вдребезги!.. Блокировка — все семь ступеней! — не сработала. — Он развел руками: — Вот такие пироги!..
Главный специалист опять с шумом втянул воздух, хлопнул по столу широкой ладонью:
— Вы удовлетворены, товарищ?
Шевцов упрямо потряс головой:
— Я понимаю, вам всем сейчас не до меня. Но случай исключительный! Возможно, имеет отношение к аварии…
Маркарян недоверчиво покосился, сказал, сдерживаясь:
— Так что вы хотите от меня?
— Аристарх Владимирович, скажите, как специалист, можно ли вызвать подобную аварию намеренно?… Хотя бы теоретически?
— Ну, знаете… — Главный специалист опешил. — Это черт знает что!..
— И все же! В порядке бреда. Представьте, это нужно вам!
— Гм! — Маркарян нахмурился. — Теоретически это возможно в одном случае, молодой человек, — если подсунуть «мозгу» заведомо неразрешимую задачу. При этом надо отключить блокировку. Как это сделать — ума не приложу! Компьютер просто не примет некорректную программу… Вот так… — Он усмехнулся: — Уж лучше подбросить мину! Проще и надежнее. Правда, попасть к нам не просто: электронная охрана!.. Так что, инспектор, диверсантам здесь делать нечего…
Шевцов вздохнул, вытащил фото Соколовского — просто так, на всякий случай.
— Последнее… У вас сегодня не появлялся этот человек?
Маркарян глянул мельком, вдруг вытянул шею.
— Позвольте, позвольте… Это же… Соколовский?
— Вы знаете его? — У Шевцова дрогнул голос.
— Конечно! — Маркарян взял фото, поднес к глазам. — Работали вместе не один год. Но он же в этом, э… санатории! Болен!..
— Он сбежал, Аристарх Владимирович! Сегодня ночью.
— Невероятно! — У Маркаряна взлетели брови. — Но… почему вы решили, что он здесь, у нас?
— Понимаете… — волнуясь, начал Шевцов, — там, в спецсанатории, почему-то отключилась вся охранная техника. Как раз в момент побега… И у вас два часа назад был зафиксирован сбой входной сигнализации. Потом — самовыключение «мозга». Ведь он здесь раньше работал?
— М-да, но… — Главный специалист покачал головой: — Неубедительно как-то… Как он мог повлиять на сигнализацию? И при чем здесь остановка ГАМа?
— Аристарх Владимирович, — Шевцов говорил проникновенно, — если все-таки он был здесь… То где? Куда он мог пойти?
Маркарян взъерошил волосы, неуклюже выбрался из-за стола — длинный, нескладный, — буркнул:
— Пойдемте!
В глубине зала ряд нумерованных дверей — помещения для работ по индивидуальным программам. Все пустые. На полу кабины № 14 — разбросанные листы бумаги. Шевцов торопливо присел: «безумные письмена»!
Сказал глухо:
— Товарищ Маркарян, это он! Боюсь, авария — его рук дело!
Главный специалист недоверчиво улыбнулся, подошел к терминалу.
— Все рабочие программы записываются, молодой человек. Сейчас мы узнаем, чем тут занимался ваш диверсант…
Он пощелкал клавишами — из печатающего аппарата выпала полупрозрачная карточка. Близко поднес к лицу, прищурился. С минуту изучал. Вдруг глаза его полезли на лоб.
— Какого дьявола… Ничего не понимаю! Это же ахинея! Чушь! — Маркарян побагровел, лицо еще больше вытянулось. — Это же невозможно в принципе! Машина не могла такое принять!.. — Он уставился на Шевцова белыми, расширенными глазами. Потряс карточкой: — Что это такое?
Шевцов судорожно вздохнул:
— Пока не знаю, Аристарх Владимирович… Давайте разбираться!
В следующие полчаса главный специалист центра развил бешеную деятельность. Из затворничества был извлечен директор с Ученым советом. Шевцова заставили изложить всю историю с самого начала. Соколовского тут помнили: «Талантливейший был ученый!..»
В злую волю сумасшедшего маньяка не верили. Но программа была налицо, ходила по рукам. Академики разводили руками: крепкий орешек! По всем правилам компьютер такую программу не мог принять. Основа основ: защита от дурака! Тем не менее ГАМ не только «слопал» этот бред, но и пытался его разрешить, пока, как выразился Маркарян, «не свихнулся сам».
Весь Академгородок был поднят на ноги, У Шевцова забрали кассету с «безумными письменами», лучшие программисты Столицы засели к терминалам. Срочно командировали специалистов в «Сосновую рощу» — разбираться с местным компьютером. Специальные люди занялись сбоями сигнализации. Маркарян разыскал и вытащил в центр бывших коллег Соколовского Заперся с ними в кабинете.
Шевцов вышел на улицу — отдышаться. Присел в сквере на скамейку. Голова шла кругом. С утра сплошная гонка. Только что он разговаривал по фону с шефом. Оказывается, делом заинтересовался Совет, требовал ускорить розыск. Шутка ли, угробить один из мощнейших компьютеров планеты! Это надо суметь… Неужели Соколовский этого и добивался?
Пискнул зуммер радиофона.
— Алло, Толя, вы еще не потеряли интерес к нашему отделу? — Голос низкий, певучий — не спутаешь.
— Ева? — удивился Шевцов. — Что случилось?
— Вы у академиков — я знаю… Так вот, слушайте… Когда вы ушли, я связалась с иногородними коллегами — попросила сообщать о сбоях. Недавно что-то похожее было в Подольске. И опять входная сигнализация вычислительного комплекса!.. Я подумала, вас это заинтересует…
У Шевцова перехватило дыхание: Подольск! Там же на днях пущен «Фаэтон» — суперкомпьютер нового поколения! Как он мог забыть!
— Когда это случилось? — Голос плохо слушался.
— С час назад, — сказала Ева.
Шевцов вскочил как ужаленный, бросил на ходу в микрофон:
— Ева, милая, простите! Я — в Подольск! Спасибо вам…
Уже в воздухе он связался с отделом. Шеф понял с полуслова.
— Высылаю группу! Ты — старший! С Подольском свяжусь сам. — Помолчал секунду. — Эх, Толя, дали мы с тобой маху!.. Не опоздай!
Они опоздали — Соколовский ушел буквально из-под носа. Пока шеф надрывался по видео, призывая руководство Подольского комплекса к действиям, беглец отбыл в неизвестном направлении.
Расследования не понадобилось — «программа Соколовского» уже была в руках ошарашенных специалистов. История повторилась. Неожиданный всплеск мощности, предельная нагрузка, снятие блокировок… К счастью, «Фаэтон» выдержал испытание. И самое поразительное — выдал «решение»: несколько изящных, простых внешне уравнений, от которых математика Подольского центра — старого, заслуженного профессора — едва не хватил удар.
Результаты тут же передали в Академгородок — впечатление разорвавшейся бомбы!
Больше здесь делать было нечего. Отослав группу, Шевцов полетел к академикам. Теперь все решалось там…
Первое ошеломляющее сообщение пришло из «Сосновой рощи». Там вроде бы разобрались с местным био-компьютером.
Оказалось, что команда на выключение сигнализации была сформирована в недрах самой машины. В нужный момент биомозг как бы «подыграл» беглецу!
Если отбросить мистику, то выходило, что Соколовский мог издалека влиять на квазиживую субстанцию современных интеллектуальных систем — полная неожиданность для специалистов! Вероятно, тем же способом он нейтрализовал сигнализацию в Академгородке и Подольском центре…
Следующая информация поступила от группы, работавшей над «безумными письменами». Ее возглавлял Маркарян.
В свое время Соколовский, для собственных нужд, сотворил нечто вроде «математической стенографии».
Хаотические каракули «безумного математика» оказались какими-то сложнейшими вычислениями самого общего порядка. Даже беглая расшифровка дала потрясающие результаты. В Ученом совете — шок.
Когда из «Сосновой рощи» доставили весь «архив Соколовского», стало ясно: чтобы переварить это, потребуется не один месяц.
От уравнений, выданных «Фаэтоном», темнело в глазах — математики отказывались верить! В простейшей форме были заключены многомерные фантасмагории с пугающими свойствами — разум пасовал. Безусловно, между «решением» и «письменами» имелась четкая связь.
Круг замкнулся — все действия беглеца имели совершенно определенную цель: ему требовалось решение «программы»! Но для чего? Что он замыслил в конечном итоге?… Этот вопрос мучил не только Шевцова.
Близилась ночь — никто не расходился В рабочем кабинете главного специалиста было душно — не справлялись кондиционеры. Шевцов вышел в темный холл — передохнуть. Ломило затылок: многовато математики за один раз!
Из открытого окна тянуло свежестью. Вдалеке, за блестящим валом зеленого пояса, сиял огнями город.
Выше всех вздымалась ступенчатая башня Координационной службы — там заканчивалась подготовка к чрезвычайному поиску.
Хлопнула дверь. На мгновение выплеснулся яростный гул голосов — спорили математики. Кто-то подошел сзади. Шевцов покосился: Маркарян! Сгорбленный, угловатый, осунувшийся. Но в глазах веселый блеск.
— Что, инспектор, все мучаетесь, как поймать этого субъекта?
Голос — как из трубы — перекатывался в пустом зале.
Шевцов вздохнул, сказал тихо:
— Решение Совета — найти в течение суток!
— Эт-то они зря!.. — Маркарян покачал головой. Не надо его ловить…
Шевцов пожал плечами: что тут скажешь!
Главный специалист сцепил руки за спиной, качнулся.
— Дело заключается в том, уважаемый мистер Холмс, что вряд ли вы его поймаете… если он этого не захочет!
Шевцов обернулся. Маркарян — высокий, костлявый — темным силуэтом маячил над ним.
— Да, да, не удивляйтесь!.. Вы думаете, сумасшедший гений? — Он выставил вперед челюсть, фыркнул. — Черта с два, милейший! Человеческие способности, даже гениальные — все-таки остаются человеческими.
Они имеют предел, понимаете?… А здесь, — он развел руками, — извините! — ни в какие ворота не лезет! Ведь мы даже не можем сказать, к какой области знаний относятся его расчеты! Мы их не понимаем! Не доросли, черт побери! — Маркарян наклонился, глаза сверкнули. — Это даже не завтрашний день!..
У Шевцова сжалось сердце. Сказал поспешно:
— Да кто же он, по-вашему? Пришелец?… Подкидыш сверхцивилизации?… Чепуха какая-то!
Маркарян шумно вздохнул, выпрямился.
— Ну зачем сразу пришелец!.. В том-то и дело, что это наш брат, землянин… — Маркарян замолчал, пожевал губами. — В свое время я неплохо его знал. Можно сказать, дружили… Правда, характерец у него был… Ну да ладно! Всю жизнь у него была одна навязчивая цель: качественно улучшить хомо сапиенс как вид. Ни много ни мало! Чуете?… И он все-таки добился своего! Правда, дорогой ценой. Да, да, молодой человек, Соколовский — это уже хомо модернис, человек модернизированный! Наше будущее!..
— Постойте, постойте… — взмолился Шевцов. — Вы хотите сказать, Соколовский — сверхчеловек?… Допустим. Но для чего тогда эта нелегальщина? Побег и прочее… Зачем так сложно?
— Не знаю, дорогой, не знаю! — Маркарян упрямо потряс головой. — Очевидно одно: Соколовский переделал свой разум, шагнул на качественно новую ступень мышления. Мы его не понимаем, а «Фаэтон» — понял!.. Вы слышали о его биостимуляторе?… Это первый опыт. Пусть варварский, торопливый — но удачный! Уже ясно: он мыслит и быстрее и сильнее нас. Он выработал в себе способность непосредственного общения с квазиживыми компьютерами — представляете перспективку?! Ого!.. — Маркарян взмахнул рукой. — Я думаю, с ним произошло своеобразное замыкание: перестимулированный мозг замкнулся сам на себя. Весь смысл существования — в решении Проблемы. Какой?… Пока мы можем только гадать…
Шевцов молчал. Вспомнилось рыхлое, неподвижное лицо Соколовского, его потухший «взгляд в себя». Неужели это наше будущее?… Ох, не хотелось бы! Правда, Маркарян убежден, что Соколовский перестарался. То есть при правильной дозировке «система Соколовского» открывает путь в новое качество? Хомо модернис, но с человеческим лицом! Заманчиво, ох как заманчиво…
Маркарян поднял голову, невидяще уставился в окно.
— Беда в том, что он вечно спешил. Всегда! Даже сейчас! Наверное, и удрал поэтому. Это самый быстрый путь. Представляете, сколько бы времени он потерял, чтобы всех убедить! Да и кто бы его допустил к «Фаэтону»?… Вот так-то, уважаемый… А вы говорите: держи-хватай!..
Шевцов не сразу сообразил, что в кармане давно пищит фон. Достал, поднес к уху. Маркарян, покачиваясь, смотрел в окно.
— Толя, это Калинкин! — Голос был тихий, словно приглушенный. — Он вернулся!..
— Что? — Шевцов судорожно стиснул аппарат. — Когда?
— Не знаю, — донеслось из фона. — Я проходил мимо, увидел свет, зашел — сидит! В общем, я сейчас у него. Принес поесть…
Шевцов перевел дыхание, взглянул на Маркаряна.
Тот слушал.
— Ну и как он? — спросил Шевцов. — Что делает?
— Пишет! — коротко ответил Калинкин.
— Пишет, — словно эхо повторил Шевцов. — Но он что-нибудь объяснил?
Несколько секунд аппарат молчал. Чуть слышно потрескивал эфир.
— Это безнадежно, Толя, — отозвался наконец Калинкин. — Ничего не изменилось. Он занят тем же делом…
ИГОРЬ СМИРНОВ ЭНЕРГИЯ ПРОТЕСТА Рассказ
I. КТО ВЫ, ЗАГРАНЦЕВ!
Было около двух часов ночи.
Участковый неторопливо вышел на центральную аллею, вглядываясь в густую тень парка, затем свернул к реке. Внезапно звук его шагов затих: тот, кем интересовалась милиция, сидел на скамейке — сидел непринужденно, расслабленно, как у себя дома. Ошибиться было невозможно: высокий, белокурый, в помятом коричневом костюме в крупную клетку, с большими сильными руками, брошенными на ребро спинки скамьи. Голова чуть запрокинута назад, глаза закрыты, в уголках губ страдальческие складки…
Участковый покашлял в кулак, подошел ближе:
— Гражданин Загранцев!
Это ему пришлось повторить трижды. Наконец веки белокурого нехотя поднялись. Он безучастно посмотрел на милиционера:
— Вы что-то сказали?
— Чего ж это вы сбежали от нас, гражданин Загранцев?
— Мне там не понравилось.
— Ну вот, не понравилось! А из-за вас пострадал человек.
— Какой человек?
— Тот, который охранял вас.
— Он здесь абсолютно ни при чем, уверяю вас.
— При чем — ни при чем… Раз проворонил задержанного, значит, при чем… Ну ладно, там разберемся.
А теперь — пройдемте со мной.
Белокурый медленно поднялся, руки его скользнули в карманы. Участковый на всякий случай сказал:
— Гражданин Загранцев, следствие учтет, что при задержании вы не оказали сопротивления…
1. Из показаний свидетельницы М. И. Харченко
Ну что вам сказать? Работаю дворником в ЖЭУ. Человека, что у вас на фотографии, видела второго июля около пяти часов утра. Вышла, чтоб тротуар подмести, гляжу — он железобетонные плиты с дорожки газона на проезжую часть кидает. Я возмутилась. «Что вы делаете?» — спрашиваю. Думаете, он испугался, смутился?
Ничуть не бывало! Смотрит на меня такими невинными глазами и говорит: «Мешают». Мол, тут должна расти трава, это, мол, газон, а не что-нибудь такое.
По-моему, он ненормальный: станет ли нормальный человек заниматься такими делами? Разве только хулиганы. А на хулигана вроде не похож.
Пригрозила милицией — так ни один мускул не дрогнул. Спрашивает: «Я что-то неправильно делаю?» — «Да уж конечно, — говорю. — Люди, — говорю, — строили, строили, а вы разрушаете. Что ж в этом правильного?» Молчит, трет грязными ручищами лоб. Честно, мне даже жалко его стало — такой уж у него был жалкий и растерянный вид!
Милицию-то я все-таки вызвала — так сбежал, не видела и когда!
2. Из показаний свидетеля П. А. Ривлина
Наш заводишко, сами знаете, стоит на окраине города. Только отныне он величается громко: «Целлюлозно-бумажный комбинат». Уж верней будет — вредогешефт: одно делаем, другое уничтожаем. Вы только поглядите: целые горы лигнина! И все растут, растут… Да, да, лигнин — это отходы, обычные отходы, такое бурое вещество с мерзким запахом. От него гибнет все живое на сотни метров вокруг. Чистая тебе пустыня! А весной или после дождя отравленные ручьи сбегают в Сужу.
Это ж преступление, гражданин следователь!.. Вы тут человек новый, а я, считай, с рождения здесь и должен сказать: раньше в наших краях водилось уйма рыбы, разной рыбы! В лесах — дичи не перестреляешь, хоть каждый день ходи на охоту. А воздух какой был! Один сосновый бор чего стоил!.. Нынче ж сами видите, что стало с нашим краем… Эх-эх, покорители природы!
Да, да, отвлекся, простите.
Второго июля я пришел к комбинату рано. До смены целый час — дай, думаю, передохну на бережку Сужи. Сижу, это, и вдруг вижу: со дна реки выходит человек. Я не сразу признал его — до того он был весь облеплен тиной и грязью. И потом же, вышел-то из воды в одежде — тут и рехнуться недолго!
Поднялся, это, он на берег, в руках — две дохлые рыбины. Глядит на них, как на усопших родственников.
Признаться, струхнул я малость, хотел незаметно уйти, и тут меня словно кто в лоб обухом ударил: да это ж, вижу, наш главный инженер Виктор Ильич Загранцев!
Вот те на! Чего ж это, думаю, он там делал, на дне-то?
И потом, думаю, как он оказался здесь? Ведь он же в отпуске!
Окликнул — не отозвался. Тогда я подошел к нему.
«Виктор Ильич, — спрашиваю, — чего это вы тут делаете?» А он как глянул на меня… Так глянул — век не забуду! — и сказал: «Эх вы, люди!» И все. Сказал и пошагал со своими рыбинами к дороге.
Вот тогда-то мне и показалось, что он помешался…
Или это был кто другой — не знаю. Только после той встречи мне стало что-то не по себе.
Справка
Гражданин Ривлин П. А. с 27 сентября 19… г. по 29 декабря 19… г. находился на излечении в психиатрической больнице им. Бехтерева.
Печать. Дата. Подпись врача.
3. Из допроса свидетеля И. В. Есакова
Следователь казался сонным, вялым и вопросы задавал тихо, словно боялся разбудить себя. И начал почему-то издалека:
— Родились в этом городе?
— Да, конечно, — подтвердил Есаков.
— Расскажите немного о себе.
Свидетель с недоумением посмотрел на следователя, качнул головой:
— А чего рассказывать? До армии учился. После армии вернулся домой. Вот и все.
— Не совсем. Почему, например, вы ушли от родителей и поселились в общежитии?
— Ну… — Есаков замялся. — Хотел самостоятельности.
— Ясно. Прошу продолжать.
Есаков приподнял плечи, не понимая намерений следователя, уткнувшегося в бумаги, потом почувствовал себя увереннее и решил говорить обо всем, что придет в голову:
— После армии хотел поступить в институт — не вышло. Больше попыток не делал. Да и зачем? Все же не могут стать академиками, кому-то надо и у станка стоять.
— Конечно, конечно. А чем увлекаетесь? Каковы ваши интересы? Как проводите свободное время?
— Ну как… Читаем, телевизор смотрим. Гуляем. Любим музыку. Вот магнитофон приобрели. А с полгода назад у одного маклака удалось перехватить динамик на девять ватт. Выставили на балкон — орет на весь город!
— У вас плохой слух?
— При чем тут слух?
— Тогда не понимаю, зачем приобретать усилитель.
— Ну, это же… Это же для всех, бесплатно.
— А если я, предположим, не хочу слушать.
— Н-не знаю. — Есаков скривил губы. Он не мог понять, как это следователю может не нравиться то, что нравится ему самому. — Ведь записи-то что надо: Эмерсон, Аллен Купер, битлзы.
— Ясно. А вы не увлекаетесь отечественной эстрадой?
Есаков покровительственно улыбнулся. Попросил разрешения закурить.
— Вы, я вижу, боитесь прослыть космополитом?
— Нет, отчего же? — Следователь наконец разобрался в своих бумагах и, уперев локти в стол, опустил подбородок на сцепленные в замок пальцы. — Я бы не устал слушать, например, «Последний вальс», «Историю любви» и сотню подобных им, однако мне не доставляют удовольствия вещи, в которых мелодию и голос подменяет, простите, гвалт дерущихся гиен. Тихая, приятная музыка не помешает даже ночью, и совсем другое дело — бравурные, громкие звуки, которые определенно будут не по душе отдыхающему человеку…
Есакова начинали раздражать медлительность следователя, его слабый голос, дурацкие вопросы и суждения, абсолютно ненужные для установления истины.
— Тут, наверно, дело вкуса, — буркнул он недовольно.
— Совершенно верно, Иван Васильевич, дело вкуса и культуры человека. Но достаточно об этом. Итак, вы приобрели динамик. Соседи часто просили вас поубавить громкость?
— Было, конечно, мало ли капризных людей! Вон на нашем этаже живет такой Серега… Сергей Таран… Как включаем магнитофон — из себя выходит. Ему подавай классику и вот ваши «Последние вальсы». Ограниченный человек, чего с него возьмешь!
Следователь сонно засмеялся:
— Ладно, Иван Васильевич, бог с ним, с этим Серегой, раз он такой ограниченный! Давайте-ка теперь потолкуем о том, что у вас произошло в среду, второго июля. Точнее, третьего, — ведь это случилось после полуночи, не так ли?
— Так. — Есаков облегченно вздохнул, подался вперед. — Мы тогда долго гуляли. Вернулись в общежитие около часу ночи, а пока перекусывали, захотели послушать музыку.
— Громко включали?
— Да нет. Нормально.
— Почему же тогда были недовольны ваши соседи и жители соседних домов?
— Не знаю… Да ну, зла на них не хватает! Стали стучать в стены, прибежал в своей дурацкой пижаме Серега и назвал нас кретинами… Вы это словечко запишите в протокол на всякий случай…
В сонных глазах следователя заиграли живые искорки.
— «Требуя вежливости от продавца, будь сам вежлив!» — так учили наших родителей, Иван Васильевич.
Есаков насупился. Уронил пепел на брюки, стал отряхиваться.
— Итак, что же произошло потом? — спросил следователь. — Сергей Таран ушел сразу?
— Сразу. А вместо него ворвался тот самый громила в коричневом костюме. Да хоть бы слово сказал, сволочь!.. Извиняюсь… Все делал молча: схватил наш магнитофон — и с размаху об пол! Какое он имел право? Потом стал топтать и ломать катушки с лентами, а у нас было тридцать две штуки, все с отличными записями!.. А в довершение всего намертво вывел из строя динамик!.. Вот так. И тут же смылся… Имел он право это делать? Кто нам теперь возместит убытки? Ведь мы с ребятами пострадали на пятьсот рублей, не говоря уже о причиненной душевной травме!
— Сочувствую. Сочувствую, Иван Васильевич. Следователь снова уткнулся в бумаги. — Просто он не знал, что надо ломать… Вот вы участковому говорили о втором человеке. Принимал ли тот участие в погроме?
— Нет. Он даже пытался урезонить своего приятеля. Это старикан, пенсионер. Живет напротив нас, в доме пятьдесят семь.
— Ясно. — Следователь медленно откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на Есакова: — Скажите, Иван Васильевич, был ли такой момент в вашей жизни, когда требовалось заснуть, а вам в это время мешали громкие звуки?
Свидетель поморщился. Качнулся раз-другой всем корпусом.
— Вижу, куда клоните, — сказал он задиристо. Не знаю, не приходилось… В общем, все это мы понимаем. А вот почему не хотят понять нас? Почему я не могу делать то, что мне нравится? Почему я должен подстраиваться под кого-то, а не кто-то под меня?
4. Показания свидетеля С. С. Иванова
Я второй год на пенсии. Живу в доме пятьдесят семь.
По настоящему делу могу сообщить следующее.
В ночь на третье июля меня разбудила чудовищная трескотня мотоцикла. Это было около часа ночи. Сна как не бывало. Я закурил, вышел на балкон. Гляжу, какой-то молодой болван (простите великодушно!) сидит верхом на своей адской машине и крутит ручками. Я крикнул ему, он, естественно, не услышал. Тогда я спустился во двор и хотел посовестить его, но меня опередил другой человек — Виктор Ильич Загранцев… Да, мы были знакомы раньше. Только в тот раз сч не узнал меня… Вообще что-то странное в нем было. А вот что — сказать трудно. Но я ни на миг не сомневаюсь — он был в здравом рассудке, все его действия были осмысленны и логичны.
Что он сделал? Да просто сбросил с сиденья нарушителя тишины и заглушил мотор.
Из окон и с балконов смотрели разбуженные жильцы. Одни требовали отвести парня в милицию, другие советовали надавать ему как следует, чтобы запомнил, как надо уважать отдых людей. А этот дурачок (простите великодушно!) еще драться полез, вместо того чтобы извиниться; заявил, что ему испортили машину, и потому стал предъявлять какие-то требования. Тогда товарищ Загранцев пригрозил, что искалечит и мотоцикл, и владельца вместе с мотоциклом. И тут же сказал весьма мудрую фразу… вроде того, что ночью… все живое должно отдыхать, дабы набраться сил для грядущего дня.
Да, он был, каким я его знал раньше: умным, справедливым, проницательным, несколько категоричным и, я бы сказал, довольно крутым в достижении поставленной цели. И тут он встал на защиту спокойного сна трудовых людей. Разве такой шаг рассматривается как отклонение от нормы?
Странность? Странность, пожалуй, только в том, что он не узнал меня. Впрочем, было не очень светло, и к тому же он был заметно возбужден.
Мы с ним уже хотели проститься, как вдруг во двор ворвались совершенно дичайшие (простите великодушно!) звуки, э-э… джаза… Шут его разберет, музыка ли это, или вопли древних шаманов. Виктор Ильич определил источник шума и быстро направился к общежитию. Я последовал за ним.
Остальное вы знаете.
Хотелось бы добавить, так сказать, в порядке предложения: я на месте следственных органов не возбуждал бы дела о возмещении убытков тем, кто пострадал по своей вине. Виктор Ильич, возможно, в какой-то степени переступил границы законности, но, поверьте мне, старому человеку, сделал это из самых добрых побуждений, и не для себя лично, а для спокойствия многих сограждан. Что же касается таких вот бесцеремонных соседей, которые далеко не усвоили элементарных правил общежития, я бы на вашем месте (простите великодушно!) наказывал их самым строжайшим образом!
5. Говорит свидетель А. К. Вечканов
Мне двадцать шесть. Работаю в СМУ плиточником.
Живу в общежитии. В комнате нас двое — я и Витька — Виктор Шихов. Он тоже плиточник.
А тогда, третьего июля, — это было в четверг — пошли мы с ним после работы подышать свежим воздухом. Забрели в садик, что возле Цветочной. Ну, то да се. Было скучновато, решили малость поразвлечься. Уж не помню, что нам взбрело в голову деревья ломать…
Да, было дело, выпили немного, но песен не пели, не дрались… Девчонки? Так они сразу ушли. А вот один дядя пристал к нам — чего-то ему не понравилось. Говорил, будто мы хулиганили. Придумал же!.. За что прогнали? А надоел. И Витьку завел. Витька вежливо выпроводил его за забор — и все. Расстались, так сказать, по-дружески. Правда, дядя тот обещал милиционера привести, но не привел.
Ну, то да се. Остались одни. Скучно стало. Витька предложил бросать камни в дерево. А оно тонкое такое — не сразу и попадешь. Да мы ни разу и не попали.
Вот тогда-то Витька и разозлился — взял да и сломал это дерево. Потом другое. Тогда и на меня что-то нашло. И вот тут откуда ни возьмись вынырнул тот белобрысый громила. Злой как черт!.. Ну, то да се. Хоть бы попросил по-человечески: не надо, мол, трогать деревья — мы бы и поняли, — а то налетел, схватил нас обоих за шкирки — и р-раз лбами! Разве можно так обращаться с рабочим человеком?… Ну, понятно, искры из глаз, голова вроде пополам раскололась. Мы, конечно, возмутились, так он, гад, снова нас лбами! Да еще приговаривает: «Надо думать, что делаешь!» Будто мы не думали.
Я-то ничего. А вот Витька не выдержал. Гляжу, обвис, вроде и неживой уже. Хочу крикнуть, позвать милицию — не могу: что-то в глотке застряло, ноги будто и не мои…
Подумаешь, силу показал, пижон! Сила есть — ума не надо… И главное, спрашивает: «Что, больно? Будете знать, как причинять боль другим!» Да мы пальцем никого не задели!
А он сбежал. Тут же и сбежал.
Законы мы знаем. Так вот и требуем разыскать этого гада и засудить по всей строгости Уголовного кодекса!.. А тип этот — здоровый такой, высокий, белобрысый, костюм кофейный, в клетку. Найти легко — фигура заметная.
6. Из допроса свидетеля С. М. Агапова
— Скажите, Сергей Михайлович, вы хорошо знаете супругов Травкиных — Нелли Алексеевну и Ивана Севастьяновича?
— Знаю, сынок, знаю — соседи, чай, не первый год.
Как организовалось садоводство, так они с самого начала там — и строились вместе со мной, и сады сажали.
— Что вы можете сказать о них?
— Да что ж сказать-то?… Безалаберные они. Хуже хозяйства не сыщешь. Посадить — кое-что посадили, а хлопотать да заботиться — на это их нету. Заезжают, правда, частенько, да что толку! Приедут, два дня попьют, поорут песни — и обратно в город. Уж хоть бы отдали сад кому-нибудь — такое там запустение, душа болит! А им хоть бы что. Да и на городской-то квартире одних змей не хватает — забегал я к ним раза три по делу, видал. Покуда жили в коммуналке, приходилось блюсти чистоту, потому как не один живешь. А дали отдельную — тут уж сами себе хозяева и господа — делай что хошь! Вот они ничего и не делают.
— Вы, кажется, настроены против них?
Сергей Михайлович погладил седой щетинистый подбородок — щетина зашуршала под пальцами — и неопределенно приподнял плечи:
— Не скажи, сынок. Нелька-то — баба, конечно, не первый сорт, а Иван — парень ладный, толковый. Была бы другая заместо Нельки, может, он бы еще лучше стал. А так, я мыслю, с пути-то праведного она его сбивает: сама ни шиша не делает и ему не дает. Одно слово — беспутная.
Следователь удовлетворенно кивнул.
— Так вот, эта самая Нелли Алексеевна, — сказал он, — подала нам заявление, будто некий гражданин большого роста, белокурый, в коричневом клетчатом костюме, недавно ворвался к ней в городскую квартиру и в отсутствие Ивана Травкина забрал телевизор, золотые часы, золотое кольцо и денег на общую сумму тысяча двести шесть рублей.
— Чего-о? — удивленно протянул свидетель — даже морщины на лбу обозначились резче. — Ты, сынок, верь ей больше — она тебе не то наплетет. Да когда это у Нельки были золотые часы и такие деньги? Ишь, тыща рублей! Смех один!.. А обручальное кольцо она лет семь как посеяла. Может, и продала — кто ее разберет! Ну а телевизор-то она еще в позапрошлую пятницу к себе в садоводство отвезла. Не один я подметил, Петька Стругин тоже. Это внук Тимофея Стругина, живет по другую руку от Травкиных.
— Телевизор марки «Темп»?
— В марках-то я не смыслю, сынок, однако знаю: это тот самый обшарпанный телевизор, который я видел у них на городской квартире. Так что она тут грешит беспременно… Может, чего другое взял у них этот налетчик, да только не то, чего наплела Нелька, — это уж я знаю точно.
7. Показания свидетеля Б. К. Штучкина
— Этот? — Следователь протянул через стол фотографию.
Штучкин привстал на стуле, вытянул шею:
— Он. Он самый. Только вот… того-этого… пиджачок тогда на нем другой был.
— Ну, о деталях не будем, гражданин Штучкин. Итак…
Следователь был молодой, нетерпеливый, и свидетель — маленький, безвольный человек — тушевался, плел бог весть что и этим еще больше выводил из себя строгого представителя правопорядка.
— Так вот, гражданин Штучкин, все, что вы мне здесь расскажете, будет передано в прокуратуру для дальнейшего расследования. Вам это понятно?
Свидетель покашлял в кулак и покосился на бланк допроса:
— Понятно… Как же…
— Отлично. Тогда покажите все, как было, — с того момента, как вы пришли в цех.
— Что было… — Штучкин сосредоточенно разглаживал лысину черными морщинистыми пальцами. — Значит, четвертого июля это было. Бригадир прицепился ко мне, будто я выпил, и отправил домой. И прогул записал. Ну, того-этого… забрел я в скверик, что на берегу реки, присел на скамейку. Проходил мимо вот этот, что на фотографии, подсел ко мне, а сам будто и не видит меня — все в одну точку глядит. А лицо такое — душу выворачивает!.. Ну, сидит и пять минут, и десять и все молчит. «Неприятности какие?» — спрашиваю. Он тяжко так вздохнул и отвечает: «Нет, больше — несчастье!» — «Что ж, милок, — говорю, — бывает Надо в руках себя держать». — «Вас, — говорит, — в руках держать надо!» Людей то есть… В общем, гражданин начальник, того-этого… он мне признался, что сбежал от вас, из милиции. Ну, я ему: как же так, милок, мол, все одно поймают, хуже будет, далеко, мол, не уйдешь.
«Уйду», — говорит. «Как же?» — спрашиваю. «А вот так», — отвечает. Я тут малость отвлекся, а его и след простыл. Один туман за ветки кустов цепляется.
Щека милиционера слегка дернулась.
— Вы вот что, гражданин Штучкин, бросьте мне э… эти штучки! Где это видано, чтоб туман был жарким днем да еще на солнце? Что же, по-вашему, этот человек в туман превратился?
— Как есть, гражданин начальник… превратился.
Справка
4 июля 19,… г. в 13 час. 30 мин. гражданин Штучкин Б. К. находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.
Дата. Штамп. Подпись медицинской сестры здравпункта.
II. НАЧАЛО
…Белокурый медленно поднялся, руки его скользнули в карманы.
Участковый на всякий случай сказал:
— Гражданин Загранцев, следствие учтет, что при задержании вы не оказали сопротивления.
— Почему вы меня называете Загранцевым?
— А кто же вы?
Белокурый вяло пожал плечами. Участковый сдержанно усмехнулся:
— Значит, вы — гражданин Никто?
— Зовите так, если нравится.
— Мне больше нравится называть вас Загранцевым.
Белокурый задумчиво смотрел себе под ноги. Полуботинки его сильно износились, на правом стала отрываться подметка.
— Собственно, что вы хотите? — спросил он безучастно.
Сержант на мгновение опешил:
— То есть как — что?… Я прошу вас пройти со мной!
— Опять туда же? — Белокурый устало покачал головой: — Не хочу. Да и бесполезно: как бы вы ни старались изолировать меня, я уйду. Уйду легким сквозняком, седым туманом, солнечным зайчиком или черной тенью ночи. Кем больше понравится… И не надо меня преследовать. Я делаю правое дело — поймите это наконец! — и не от себя…
— Правое дело! — изумился сержант. — Да вы тут такого натворили, гражданин…
— В чем вы меня обвиняете? В том, что я совершил насилие над несколькими обиженными умом и чувствами людьми? В праве ли вы предъявлять обвинение мне, если те люди, в силу эгоизма и недоброй души, сами совершили насилие над сотнями сограждан? Заметьте: не над одним, не над двумя, а над сотнями! Где же тут логика? Есть ли у вас жесткие законы охраны спокойствия людей и живой природы?
Участковый шумно вздохнул.
— Заговорили вы тут меня! — сказал он, неуверенно шагнув к скамье. — Давайте-ка сядем и… разберемся.
— Нам с вами не разобраться, сержант, тем более что я пока чувствую себя не слишком уверенно. — Он медленно помассировал виски, исподлобья взглянул на участкового: — Думаю, двух-трех дней будет достаточно, чтобы я вошел в норму. И прошу вас это время не преследовать меня…
— Не преследовать! Да вы за час натворите такого!.. Нет уж, пройдемте со мной, гражданин… гм!
Белокурый опустил голову и с минуту размышлял.
— Не могу, — наконец сказал он. — В условиях изоляции мне трудно сосредоточиться, трудно думать. А ведь это теперь для всех нас самое главное.
Участковый занервничал. Ударил рукой по кобуре:
— Ну вот что, кончайте разводить демагогию! Некогда мне тут с вами нянькаться! Пр-ройдемте!..
На мгновение сержанту показалось, что луна метнулась с неба и вдруг оказалась на том месте, где стоял задержанный. Постепенно свет ее мерк, угасал… Белокурый исчез.
— Эй, где вы, черт вас подери! Перестаньте валять дурака!
Возле самого уха зазвенел комар, и участковый совершенно явственно услышал:
— Теперь-то понимаете?
— Да, да, понимаю, черт подери! Понимаю!
— Ну вот и хорошо.
Конечно, он ничего не понимал. К горлу подкатила тошнота, в ногах почему-то почувствовалась слабость. В висках стучало. Он опустился на скамью.
— Вот и хорошо, — повторил рядом тот же знакомый голос.
Не поворачивая головы, сержант уже знал, что белокурый сидит рядом и спокойно, немного сонно смотрит на него.
— Чертовщина! — с усилием сказал участковый. Кто же вы?
— В любом случае не Загранцев. Ваш Загранцев вернется, видимо, лишь тогда, когда уйду я.
Справка
В результате освидетельствования выяснено, что сержант милиции Таратынов Б. А. психически здоров, отклонений от нормы не замечается.
Печать. Дата. Подпись врача.
1. Костя Груздин
Мягко заверещал телефонный аппарат. Прокурор прямо от двери шагнул к столу.
— Да, Васильев… О-о! Степан Михайлович! Салют, салют! Спасибо. Только вчера вернулся. Да ну юг! Не люблю юга, наши места куда лучше — одни леса чего стоят! А рыбалка какая! Вот встретимся — расскажу! Ну а как твои-то дела, что нового? — Слушая собеседника, Васильев закурил. Не снимая плаща, сел в кресло и стал методично постукивать указательным пальцем по столу. — Похоже на обычное хулиганство или… Нет? Ладно, разберемся… А вот это дело… Семен Ипполитович кое-что сообщил мне еще вчера вечером. Странное дело! Но ничего, не такие распутывали! Да, да, Груздин сейчас должен зайти. Жду. Ну, до вечера. Салют!
Приоткрыв дверь, в кабинет заглянул Костя Груздин:
— Разрешите, Василий Васильевич?
— Заходите, заходите, Константин Сергеевич. — Прокурор поднялся навстречу, пожал руку молодому следователю и наконец снял плащ. — Мне только что звонил Степан Михайлович по поводу дела Загранцева. Оно при вас? Отлично.
Васильев взял из рук следователя серую картонную папку и, водворившись за столом, раскрыл ее.
— Ну-с?… Так Степан Михайлович не скрывает радости, что направил его нам, — очень уж, говорит, дохлое дело.
Просматривая показания свидетелей, прокурор взял из пепельницы недокуренную сигарету и попросил Груздина докладывать.
Молодой следователь излагал обстоятельства дела последовательно и подробно, хотя и знал о пристрастии шефа к лаконизму. Но пока средний палец правой руки не начинал нетерпеливо отстукивать по столу, можно было говорить спокойно и не опасаться что-либо забыть.
— М-да, — пощипывая мочку уха, произнес Васильев, когда Костя закончил. — Чистая ненаучная фантастика! Кстати, вы все еще увлекаетесь фантастикой?
Следователь смутился:
— При чем здесь это, Василий Васильевич?
— Да я так, к слову… Значит, что же мы имеем?
Главный инженер целлюлозно-бумажного комбината Виктор Ильич Загранцев уехал в отпуск под Привольное и больше недели жил в лесу на берегу реки Сольмы, в палатке. Двадцать девятого числа прошлого месяца перед обедом, как говорит его жена, он отправился в лес и к палатке не вернулся. Через два дня он появился в городе и начал совершенно неприсущие такому серьезному человеку похождения…
— Да. И заметьте, Василий Васильевич, сначала Загранцев вел себя, как… как мальчишка или как не совсем проснувшийся человек, который еще не соображает, что и как делать — что главное, что второстепенное. Начинал он с пустяков; снимал с газона железобетонные плиты, придирался к шестилетней девочке за то, что она сломала ветку, затем случаи с Вечкановым, Есаковым, и только потом, спустя два дня, его поступки и действия становятся более логичными; тот же приход на комбинат с требованием наладить в конце концов технологическую линию лигнинно-мазутно-водной смеси для ликвидации ядовитых отходов, та же его вполне профессиональная лекция о неоценимой пользе зеленых насаждений и о бережном отношении к ним. Затем беседы о полной гармонии человека с природой…
Прокурор снова заглянул в папку и отыскал интересовавший его лист. Внимательно прочитал, качнул головой:
— М-да. А вот медицинское освидетельствование вы провели, надо прямо сказать, не на высоте!
— Так не дается же он, Василий Васильевич! Его ведешь в поликлинику, а по дороге он исчезает — не знаешь и как!
— Исчезает!.. Слово-то какое! — Васильев постучал пальцем, смущенно усмехнулся: — Хм! Дело о призраке Загранцева! — Он резко встал и отошел к окну. — Знал я Виктора Ильича. Правда, особой симпатии к нему никогда не питал, — очень уж он крут и своенравен! Но тем не менее должен сказать, что все его деяния… — прокурор кивнул на серую папку, — похожи на поступки умалишенного. Хотя вот эти «исчезновения»…
— Вот именно, Василий Васильевич! И не только исчезновения!
Прокурор оглянулся:
— Вы, я вижу, всерьез взялись за дело. Похвально… Может быть, Семен Ипполитович и в самом деле прав, поручив это дело вам…
Прокурор был флегматичен, в глазах его еще не зажглись искры заинтересованности — ему бы денек-другой посидеть у телефона и поболтать со знакомыми, как он отдыхал, с кем познакомился и сколько сумел наловить за это время рыбы…
— Похвально, — повторил он бесцветным голосом и уселся на подоконник. — Заходил вчера ко мне Семен Ипполитович — не утерпел старик! Поговорить, правда, как следует не пришлось, однако в общих чертах я знаком с делом… Разумеется, все эти призраки и прочее — чушь: призраков не бывает. И потом, ваша версия…
— Семен Ипполитович сказал о моей версии?
— Конечно. Что же вас удивляет? Так вот, ваша версия чем-то сродни безрассудным деяниям Загранцева. Я не хотел вас обидеть, но согласитесь…
Костя покраснел.
— Соглашаюсь, Василий Васильевич. Так и должно быть.
— То есть?
— Если странны поступки правонарушителя, то и версию следует строить на необычном, на выходящем за рамки наших привычных умозаключений.
— Однако! — Васильев тряхнул головой. — Любопытно! И вы, конечно, убеждены, что идете верным путем?
— Уверен.
— Ваш расчет строится, видимо, на том, что вы хорошо знаете Загранцева?
— Не только. Хотя и это тоже.
— Но он же никого не узнает! Не узнает даже свою жену, сослуживцев! И вы, безусловно, не исключение…
Костя нервничал. Ему хотелось поскорее уйти. Он видел, что Васильев мыслями все еще в отпуске, — выражение лица у него рассеянное, чувствует себя не совсем уверенно, потому и разговор получается каким-то расплывчатым и не вполне серьезным. И вообще, шеф принадлежал к той категории людей, которые не умели быстро перестраиваться при смене обстановки.
— Так я пойду, Василий Васильевич? — несмело спросил Костя.
— Да, да. — Прокурор вернулся к столу. — Какие сейчас у вас планы?
— Попытаюсь разыскать Загранцева — жду любопытного разговора.
Васильев невесело усмехнулся:
— Ей-богу, скоро мир перевернется! Идти разыскивать правонарушителя, вместо того чтобы вызвать его по повестке в прокуратуру!
— Но здесь же особый случай, Василий Васильевич. И потом, какой же он правонарушитель?
Васильев нетерпеливо застучал пальцем по столу — сердце у Кости ёкнуло: надо же было ему сунуться со своим возражением!.. Но все обошлось благополучно.
Прокурор сдержанно сказал:
— Ступайте, Константин Сергеевич. Будут какие-либо затруднения — сразу ко мне или Семену Ипполитовичу.
Костя со вздохом облегчения вышел в длинный коридор, по обеим сторонам которого тянулись обитые черным дерматином двери кабинетов. Из-за одной выбежал с какими-то бумажками сухонький Слава Вербин, увидел Костю и широко улыбнулся.
— Как поживает твой фантом? — спросил он, крепко пожимая руку.
— Дышит.
— Ну и отлично! Если что, свистни — поможем: ребята заинтересовались твоей идеей! — Слава хлопнул Костю по плечу и вдруг вспомнил: — Да! Тебя искал Семен Ипполитович. Зайди — что-то важное!
Но Семен Ипполитович сам вышел навстречу Косте.
— Боялся, что ушли… Мне буквально пять минут назад позвонил старый приятель, участковый, и сообщил, что двадцать девятого июня некий Анциферов, житель деревни Акимове, был в лесу — в том самом месте и в то самое время, когда там находился Загранцев. И представляете, он якобы наблюдал на опушке леса возле реки густой туман и видел возле него человека…
— Загранцева?
— Не знаю. Не знаю, голубчик. Это предстоит выяснить. — Помощник прокурора снял очки и стал старательно протирать платком стекла. — Съездите-ка сегодня в Акимове и побеседуйте с этим самым Анциферовым — человек, говорят, интересный, философ своего рода, но — на всякий случай — в тот день он был немного под хмельком. Так что сами понимаете…
— Спасибо, Семен Ипполитович. В Акимове я поеду часа через два, а сейчас мне бы хотелось потолковать с Загранцевым.
— Что ж, желаю успеха. Никаких ЦУ давать не стану — думаю, вы на верном пути. Кстати, оставьте дело.
— Оно у Василия Васильевича.
— Ага. — Платок на мгновение замер в пальцах Семена Ипполитовича. — Ну и хорошо. Что бы там ни было, а дело доводить до конца придется нам с вами, Константин Сергеевич. Всего вам доброго! Жду новостей.
2. В городском парке
Загранцева Костя нашел сразу. Он стоял на берегу реки и понуро смотрел на уродливые кучи грунта, выброшенного после чистки дна.
— Опять вы, — грустно сказал он, не поворачивая головы.
— Я, Виктор Ильич. Надоел, наверно?
— Да нет. Вы не назойливый. Жаль, что потеряно время. Ведь сначала я относился к вам настороженно, а теперь, когда кое-что понял, наладить контакт оказалось не так-то просто. Сразу было бы куда легче!
— Все зависит от вас, Виктор Ильич.
— Вернее — многое. Но я часто отвлекаюсь на мелочи, они изматывают меня.
— Зачем же отвлекаться на мелочи, если у вас есть определенная цель?
Загранцев усмехнулся:
— У вас говорят: «Первый блин комом». Я тоже первый блин. Моя задача — больше видеть, больше анализировать: ведь те, кто придет мне на смену, должны быть более действенными, должны будут решать более сложные вопросы. А я вот… — Он кивнул на уродливые кучи ила и уселся на песок. — Кстати, что вы скажете об этом?
Костя присел рядом.
— Что ж сказать? Безобразие, конечно. Этот питательный грунт нельзя оставлять для вскармливания репейника, надо было сразу разровнять его, чтобы на нем мог вырасти прочный травяной покров, защищающий берег от эрозии.
— Верно, — скупо улыбнулся Загранцев, и лицо его тут же снова приобрело недовольное выражение. — Поражаюсь людям, Константин Сергеевич! Идут к гибели с песнями и уж слишком вяло пытаются оградить себя и окружающую среду от этой гибели!.. Да, кстати, запишите себе еще одно мое преступление.
— Та-ак. — Костя почувствовал, как у него внутри все сжалось в пружину. — Что вы еще натворили?..
— Да вот… покалечил немного двух молодых бездельников. Нашли себе развлечение: швыряли пустые бутылки в гнездо камышовой овсянки. Ну, я подобрал эти бутылки и запустил в них.
— Лихо. — Костя стряхнул с рукава приставший пух. — И долго это будет продолжаться?
— Недолго, скоро уйду. Я успел многое повидать, осмыслить и передал уже почти все мои соображения.
— Кому?
— Кому надо. Я здесь только наблюдатель. Я даже не имел права ни на что реагировать. Но… не смог… После меня будет что-то другое, более действенное.
— Поясните, пожалуйста.
— Это долгий разговор, отложим на завтра.
— Но я очень прошу вас, Виктор Ильич!
— И не просите: тот запас энергии, которым я располагаю, нужен мне на сегодня для моих прямых обязанностей. Надеюсь, это понятно? Растратив энергию на серьезную беседу с вами, я лишусь этой возможности.
— Так, может быть, и наш разговор…
— В какой-то степени. Разговор о пустяках и о серьезных вопросах не одно и то же. Большие темы отнимают много сил. А для того чтобы вы меня хорошо поняли, я должен накопить такое количество энергии, которое гарантировало бы полную ясность… В общем, завтра. Завтра, Константин Сергеевич.
— Жаль. — Костя хотел на этом закончить беседу, однако другие вопросы, которые требовали ответа, заставили его остаться на месте. — Вот вы что-то обмолвились в отношении гибели, ожидающей нас… Не имели ли вы в виду нарушение циклической системы равновесия в природе?
Загранцев с интересом посмотрел на Костю;
— Да, именно это я и имел в виду. А вы разве биолог?
— Пока нет, учусь. И проблема разорванного кольца экосферы меня очень волнует.
— Теперь понятно, почему вы стали мне симпатичны. — Глаза Загранцева ожили, засветились теплом. И все-таки повторяю, милейший Константин Сергеевич: сейчас разговор не получится.
— А мы не можем помочь в накоплении той энергии, которая вам необходима?
— Думаю, нет. Я, как Антей, получаю ее от матери Земли. Что из себя представляет эта энергия, не знаю… Нет, нет, вы не можете помочь.
— Что ж… — Костя закрыл свою папку, встал. — Не буду больше отвлекать. Пусть у вас больше сил останется на завтра.
— Надеюсь не обмануть.
— Где же мне найти вас?
Загранцев тихо засмеялся:
— Вот на это трудно ответить, Константин Сергеевич. Я даже не знаю, куда меня бросит случай через десять минут.
— Да, да, конечно… Ну ничего. Разыщу — мне не привыкать. И последний вопрос, Виктор Ильич: вы по-прежнему против того, чтобы я пригласил ученых?
— А зачем? Ведь мой приход сюда никаких переговоров с учеными не предусматривал, иначе я бы знал об этом, я бы искал контакта с ними.
— Но почему бы вам не проявить инициативу? Ведь от этого была бы польза обеим сторонам!
— Проявлять инициативу, не имея того, что необходимо миссионеру? — Загранцев поджал губы. — Нет уж, увольте. Да и вам не советую — вы можете оказаться в неловком положении. Вас засмеют!
— Я этого не боюсь.
— Похвально. Однако не забывайте, что ученый тем и отличается от простого смертного, что высокие знания ограничивают его фантазию, он мыслит и творит в определенном диапазоне, который до предела забит истинами. Но если ученому подсунут что-нибудь из ряда вон выходящее, он скажет: «Этого не может быть!»
— По-моему, вы не совсем правы…
— Не будем спорить. Думаю, после меня такая миссия все же состоится, без этого нельзя… Ну, а теперь прощайте. До завтра.
3. На берегу Сольмы
Места здесь живописные. Как в сказке. Их пока еще не тронула рука человека, — наверно, потому, что выше и ниже по течению располагались дома отдыха, а между ними, особенно в начале лета, берег заселялся «дикими» отпускниками. И все же река мелела из года в год все заметнее: за Чермисовом и Пеньковом леса по берегам были начисто вырублены, огромные площади не раскорчеваны — как лицо прокаженного, смотрели они с укором на людей. А возле города, за комбинатом, там, где Сужа впадает в Сольму, экскаваторы и бульдозеры в позапрошлом году повалили вековые вербы и липы, срезали живописную кручу, в которой издавна гнездились шустрые береговые ласточки, и оставили после себя чудовищную картину разрушения. И в довершение всего были уничтожены камышовые заводи — незаменимые очистители воды.
Костя недавно в Привольном. «Осел» здесь после армии из-за жены: она местная уроженка и край свой любит беззаветно. Уже без пяти минут биолог. Учится заочно, как и он.
Да, Костя недавно здесь, но от жены узнал столько о прошлом района, что теперь мог в одну минуту восстановить в памяти все, что было тут раньше. Разительные перемены тревожили его, и он пытался отыскать какие-то пути, какие-то компромиссные решения, которые позволили бы если не свести до минимума конфликт с окружающей средой, то, во всяком случае, не усугублять этого конфликта в дальнейшем…
Знаний пока маловато. Специальной литературы тоже. А человек тем временем все ближе и ближе к гибели. «Идет к ней с песнями», как грустно выразился Загранцев…
— Здесь, гражданин следователь, — вошел в сознание голос Анциферова. Костя остановился. — Вот тут я стоял. А туман тот выполз прямо из леса и вроде как бы окунулся в реку. И дальше не пошел — видно, силы набирался.
— В каком месте?
— Где выполз-то? Да вон там — промеж тех двух березок и холмом. Полз неспешно, вроде как бы принюхивался или вроде как бы искал дорогу.
— Он похож был на туман?
Анциферов с сомнением качнул головой:
— Отродясь такого не видывал. Поначалу думал, дымом из лесу потянуло — пожар. АН нет, запах не тот.
— Чем же пах этот… туман?
— Чем? Да лесом и грозой. Одним словом, тремя стихиями: небом, землей и водой.
— Ладно. — Костя подергал ворот рубахи: было жарко. — А где стоял человек, которого вы видели?
— Поначалу он не стоял — сидел. Вон на той поваленной сосенке. А как увидал туман, тут же поднялся и долго глядел на него, будто околдованный. — Анциферов достал из пачки надломленную папиросу, неторопливо послюнявил ее и прикурил. — А уж после, как туман напился из Сольмы, тот человек подошел ближе, протянул, значит, руки, а после и сам туда сунулся.
— И обратно не вышел?
— Не вышел. Может, наскрозь прошагал, а может, и там остался. Чего не видал — врать не стану.
— Скажите, Григорий Федотович, как выглядел тот человек?
— Как выглядел-то? Да обыкновенно. Здоровый такой, высокий. Белобрысый… А вот одежда… Вроде на нем был коричневый костюм в клетку, черные штиблеты — все как положено.
— Вы не окликнули его?
— К чему кричать-то? Ежели б топиться стал…
— Ну, хорошо. Поговорим еще о тумане. — Костя пристально вглядывался в пространство между холмом и двумя березками, стараясь представить себе то, что здесь произошло двадцать девятого июня. — Какой он был из себя?
— Туман-то? Так такой и был — густой, плотный, чисто каша манная. Ежели по цвету — так сизый, малость даже лиловатый — это где тень.
— И долго он оставался на месте?
— Да нет, через полчаса, должно, ушел обратно.
— В лес?
— А то куда ж. В лес. Опять же неспешно, степенно.
— Странный туман.
— Странный… Старики говаривали… — Папироса у Анциферова окончательно развалилась, он задумчиво бросил ее на землю и придавил каблуком. Новую закуривать не стал. — Старики говаривали: грядет, мол, день, когда люди почуют дух трех стихий, — то напасть на них большая пойдет. Вот так-то, гражданин следователь. Сами накрутили-навертели, а теперь не ведаем, что и делать. А день-то грядет!
У Кости по спине пробежал холодок. Ему стало жутковато от слов Анциферова, который сам по себе вовсе не был страшным, наоборот — добродушный, с чистыми детскими глазами, чуть выцветшими от долголетнего вглядывания в мир. Пугало то спокойствие и то убеждение, с какими он говорил о грядущем дне.
— Это ты тож запиши себе, мил человек, — может, это-то главнее всего и есть, про день-то. А еще можешь записать, что наши деды да прадеды намного мудрей нас были — знали, что к чему. А вот мы не знаем. Возвеличили свою технику, а она, милая, ни хрена бы не значила, не будь наших лесов без конца и края!
Костя с удивлением и уважением посмотрел на Анциферова: простой деревенский житель сказал ему то, что знает далеко не каждый. В самом деле, если бы растения не обладали способностью к фотосинтезу, не было бы кислорода ни для двигателей, ни для доменных печей, не было бы условий для жизни и самого человека.
— Это любопытно, — сказал Костя. — И верно.
— Верней некуда. Конечно, люди нынче умные — вон куда прыгнули! — Анциферов указал в небо. — Только ведь ум-то уму рознь. Вот ежели, к примеру, понастроили труб разных, так надо было сразу покумекать и насчет того, как удержать дым, не выпускать его в атмосферу. Иль те же отбросы на заводах… Не-е, не то нынче стало, не то, мил человек.
— К сожалению, вы правы, Григорий Федотович. А теперь давайте осмотрим то место.
— Чего ж глядеть-то? Я глядел — каждая былинка в сохранности и следу никакого.
И все же пошли. Внимательно изучили каждый метр на опушке и в лесу — не меньше чем на сотню метров в глубину, — но ничего заслуживающего внимания не обнаружили. Направились обратно к деревне.
— Григорий Федотович, — начал снова разговор Костя, — согласитесь, что все это мало похоже на правду? Вы в тот день случайно не…
— Эх, мил человек, думаешь, ежели я выпил малость, так и… Не-е. Эту дрянь употребляю нечасто. А тогда кум налил полстопки за рождение внучки, только и делов-то. Так что, считай, был все одно что трезвый.
— Ясно.
— Ничего тебе не ясно, как погляжу! — Анциферов качнул кудлатой головой. — Туман тот порожден законами жизни. Тут ему и место.
— Что вы имеете в виду?
Анциферов цепко взглянул на Костю, как бы размышляя, доверять ли ему сокровенное, потом все же решился:
— Я так разумею, мил человек: жизнь ведь штука мудрая. Все вот это… — Он обвел взглядом небо и все, что было впереди и кругом — лес, луг, реку… — Все это создавалось мильёнами годов, и все как есть друг с дружкой спаяно накрепко. Ну, к примеру, солнце нагревает землю, стало быть, улетучивает влагу, влага подымается к небу, а оттуда опять же дождем проливается на землю. Все связано, мил человек, понимаешь? Круговорот. А попробуй-ка поставь заслон солнцу! Вот то-то. — Анциферов тяжко вздохнул, и глубокие морщины резче обозначились на лбу. — Люди, мил человек, творят дела великие, но и опасные дела!
— Все это правильно, Григорий Федотович. — Костя шагал, закинув руки вместе с папкой за спину и глядя под ноги. — Все правильно.
— Да уж куда верней. Вот намедни Санкова Ивана сынишка тут цветок видал. Ну, цветок не цветок и дерево не дерево — в полсосны этой будет, — то будто стекло, то будто молоко тебе парное. И говорит, переливается цветом, однако все ближе к сизому да лиловому.
— Я что-то ничего не пойму, — сказал рассеянно Костя.
Анциферов слегка приподнял одно плечо:
— А ты вникай, мил человек. Вникай. Ведь ежели тот цветок диковинный, так и предназначение его, надо думать, особое. Верно ведь? Вот Венька подошел к цветку тому ближе, и веришь ли, услыхал, как загубленная березка стонет, как поломанный куст охает, как воздух задыхается… А с цветка того, говорит, будто семена слетают… такими, говорит, клубочками пара. И летят, летят во все стороны…
Костя остановился и недоверчиво посмотрел на Анциферова:
— Где же теперь цветок?
— Нету, — уверенно сказал тот. — Разослал своих посланцев к людям — и ладно. Чего ему больше делать?… Да ты не бойся, мил человек, Венька врать не станет, не сомневайся!
Долго шли молча. Анциферов хитро усмехнулся:
— Эк я тебя ошарашил!
— Да, — признался Костя. — Но у вас есть свои какие-то догадки в отношении тумана и вот этого… цветка? Что они такое, по-вашему?
— Что? А ты все еще не догадался?
Анциферов долго держал в толстых непослушных пальцах помятую пачку «Севера» и только теперь вспомнил, что хочет курить. Он внимательно оглядел вынутую папиросу и начал искать по карманам спички.
Костя протянул ему зажигалку.
— Благодарствую, — сказал Анциферов. — Так в самом деле не знаешь?
— Нет.
— Хм… Ну вот, к примеру, был бы ты мальчонком, а тебя беспрестанно обижали б драчуны постарше. Что б ты делал? Ежели покладистый да терпеливый, пытался бы как-то приспособиться, держаться в сторонке, не мешать. Ну а уж коли они, эти драчуны, совсем бы тебя одолели и ежели бы ты не нашел с ними никакого сладу, ты бы сам замахал кулаками, а после, может, и куснул бы их!.. Вот так и тут, с природой.
— Значит, вы считаете…
— Считай не считай, мил человек, а натерпелась она, матушка, от нас, ох как натерпелась!
4. Трудный разговор
После обеденного перерыва Васильев пригласил к себе в кабинет помощника. Предложил сесть.
— Семен Ипполитович, — начал он осторожно, — я ценю вашу долголетнюю работу в прокуратуре, ваш богатый опыт, но, простите… не могу понять, как вы, уважаемый всеми Семен Ипполитович, сквозь пальцы смотрели на то, как ведется дело Загранцева. Ну, смотрите, на что это похоже! — Васильев раскрыл папку. — Где вы умудрились набрать таких свидетелей? Один лежал в психиатрической, другой был пьяный, третий еще черт знает что!
— Какие уж есть, Василий Васильевич, — скромно возразил Семен Ипполитович. — Других по данным эпизодам просто не было.
Васильев протестующе приподнял над столом руку:
— Затем, как вы распорядились сто двадцать второй статьей УПК? Вы дали санкцию на арест в тот момент, когда Загранцев уже удрал из КПЗ!
— Кто же мог предполагать… И потом, он не удрал, а исчез.
— Удрал! — жестко повторил прокурор. — И не ищите вы себе забот! Исчезнуть может призрак, исчезнуть может мираж, а преступник совершает побег — не мне вас учить, Семен Ипполитович!
— Но здесь особый случай, я же докладывал вам: Загранцев имеет такую способность — исчезать. Как это происходит, пока не ясно. Его просто бесполезно арестовывать…
— Подождите. Кто дал санкцию на арест?
— Я.
— Вы. Так почему это не выполнено до сих пор?…
Помощник видел, что прокурор не в духе, придирается к мелочам, упорно не хочет понять очевидного — того, о чем говорилось уже не раз, — и ему стало неприятно.
Он с нетерпением ждал окончания разговора.
— Учтите, Семен Ипполитович, — продолжал тем же недовольным голосом прокурор, — о неблаговидных деяниях Загранцева знает весь город, и уже кое-кто, нечистый на руку, пытается под шумок разбогатеть за его счет — те же Травкины, те же Журины… Правда, к чести Груздина, они уже разоблачены.
Семен Ипполитович медленно кивнул:
— Константин Сергеевич в этом вопросе выбрал верную позицию: он был убежден, что Загранцев ни на что подобное не способен, и оказался прав. Да и зачем ему?
Васильев красноречиво вскинул плечи:
— Симпатизировать преступнику…
— Вы опять о том же, Василий Васильевич! Здесь — особый случай и…
— Послушайте! — Прокурор поморщился. — Перестаньте вы, в самом деле, с этим особым случаем — уши режет! — Он встал и прошелся до двери и обратно, потирая шею. — В общем, не знаю, чем закончится расследование, — ваша версия, мягко говоря, слишком фантастична! — но уж коли начали это дело вы, так вам его и заканчивать.
5. Снова в городском парке
Костя спустился с насыпи. Позади остался железнодорожный мост, по которому только что прогромыхала его электричка, впереди, за огородами, белели первые дома Привольного.
Был теплый приятный вечер. Рабочий день закончился, и Костя с досадой думал о том, что, если бы не задержался так долго в Акимове, успел бы застать Семена Ипполитовича на месте. А теперь что? Звонить ему домой? Вроде как-то неловко. И все же другого выхода не было. Костя позвонил сначала домой Семену Ипполитовичу, затем в прокуратуру. Ни там, ни там его не оказалось. Беспокоить Васильева побоялся: вряд ли тот ответит согласием. Ведь веских оснований для официального вызова профессора Ильина нет. А одной «философии» Анциферова и его, Костиных, умозаключений вряд ли достаточно для такого важного решения.
Тропинка пахла мятой и клевером. И еще чем-то…
Да, мазутом. Это оттуда, с насыпи. Если б не ветерок, пахло бы только травами и речной тиной… Впрочем, он опять отвлекся. Это самый простой способ оправдать свою нерешительность.
Наплывшие было сомнения стали постепенно рассеиваться, уверенность возвращалась снова, И снова росло убеждение в необходимости приглашения профессора Ильина. Убеждение это укреплялось, затвердевало, словно цемент. Ведь главное — поставить Ильина перед фактом, начать разговор обо всем случившемся здесь, создать благоприятную атмосферу и тем самым заранее подготовить ученых к предстоящему контакту… А приглашать профессора надо именно теперь, по горячим следам, пока не упущено время.
И еще одно: не мешало бы найти Загранцева. Сейчас. Просто несколько неотложных вопросов — и все.
На это, видимо, уйдет немного энергии.
Костя свернул с тропинки и напрямик, по лугу, направился к городскому парку. Может быть, новая встреча даст одно из тех веских оснований, которые заставят Васильева быть более уступчивым?
Он стал обдумывать разговор с Загранцевым — время есть: вряд ли тот отыщется сразу. Необязательно же он должен быть в этом парке, — город большой.
Костя нырнул в тень, и тут же на него пахнуло влажной прохладой. Идти по центральной аллее не имело смысла: в такие часы Загранцев любил безлюдность и тишину. Значит, надо заглянуть в глушь, поближе к реке… Размахивая папкой и ускоряя шаг, Костя вышел на прибрежную аллею.
Загранцев сидел на скамье в своей излюбленной позе — запрокинув голову и положив обе руки на ребро спинки скамьи. Глаза его были закрыты.
— Рад, что пришли, — сказал он негромко и хрипловато. — Хотя… Мы же отложили разговор на завтра?
— Я по другому вопросу, Виктор Ильич.
— Любопытно… Ну, садитесь, потолкуем, только недолго.
Костя послушно сел.
— Я больше не хулиганил сегодня, — сказал Загранцев.
— Похвально. — Костя сдержал улыбку. — Это почему же?
— Нет смысла. Один я не в состоянии бороться со слепой глупостью людей — тут нужна армия таких, как я. И скоро она будет.
— Что же это за армия?
Уголки губ Загранцева слегка дрогнули.
— Увидите. Вам будет жарко.
Он по-прежнему не менял позы и сидел с закрытыми глазами.
— Ладно. Подождем, — храбро сказал Костя.
Загранцев промолчал. Костя пристально смотрел на его лицо — оно словно одеревенело.
— Так вот я по какому делу, Виктор Ильич. В конце прошлого месяца неподалеку от деревни Акимове наблюдался необычно густой туман. Он выполз из леса к реке и примерно с полчаса не двигался с места.
— Возможно. Его создали земля, вода и воздух.
— Так вы знаете?
— Точнее — предполагаю…
Костя чувствовал себя не слишком уютно с человеком, сидевшим в вольной позе с закрытыми глазами.
Он словно спал под гипнозом, шевелились одни губы.
— И что же? — спросил Загранцев. — Что там было?
— Возле туманного облака оказался человек. Он вошел в него и остался там. У вас этот случай не вызывает никаких ассоциаций?
— Нет, не вызывает.
— А ведь это были вы.
— Вот как? — И снова лицо Загранцева осталось бесстрастным. — Вы сказали правду?
— Да.
— Помолчите немного.
Загранцев больше пяти минут не произносил ни слова, и Костя уже стал опасаться, не заснул ли он, как тот вдруг тихо произнес:
— Какие-то смутные воспоминания… ничего определенного.
Костя спросил:
— Можете мне ответить, где находится настоящий Загранцев?
— Вы уже третий раз спрашиваете о нем. Не знаю.
— Ему не угрожает опасность?
— Нет, хотя он и заслужил наказание.
— Ясно. — Костя вытер платком лицо и шею, не спуская глаз с собеседника. — Виктор Ильич, я все же хочу пригласить сюда одного специалиста…
— Зачем?
— Ну… пусть он сам все увидит и услышит. Он человек умный, авторитетный — ему поверят. А главное, потом легче будет найти общий язык.
Загранцев с минуту молчал.
— Что ж, — сказал он потом, — может быть, это и разумно… А когда вы его ждете?
— Дня через три-четыре.
— Меня он уже не застанет. Ну да не в том суть: не будет меня — будут другие. Только уж вы, милейший Константин Сергеевич, сделайте все для того, чтобы он поверил. Я не смогу ничем помочь: я просто разведчик с ограниченными возможностями. К тому же моя деятельность пошла на спад — в меня все меньше поступает энергии. Это — конец.
— А вы не знаете, что будет после вас?
— Наверное, туман. Теперь природа в силах защитить себя после многовекового терпения! Да и я пришел к людям не плакать и не просить пощады…
— Н-да. — Костя зябко повел плечами. — Сталкивать людей лбами, ломать магнитофоны и мотоциклы только потому, что кто-то в порыве пьяной злости совершил варварство, а кто-то мешал громкой музыкой всему живому… не слишком ли это?
— Не слишком. Убеждать глупого — что шелуху молоть. Глупость не прошибешь ничем, кроме противодействия. — Загранцев говорил все тише и все больше растягивал слова. — А теперь оставьте меня, пожалуйста, хочу отдохнуть.
Костя в нерешительности потер ладонями коленки, огляделся.
— Может быть, пойдем ко мне? — предложил он. Я один, жена в доме отдыха.
— Мой дом здесь, Константин Сергеевич, и лучшего мне не надо. Вы же отлично понимаете: природа — моя мать. — После непродолжительного молчания он совсем тихо сказал: — Сегодня ночью по городу пройдет туман.
Костя весь напрягся от неожиданности.
— Тот самый туман?
Загранцев не отозвался.
6. Последняя встреча
Костя хотел позвонить, но автомата поблизости не было. Пришлось ехать в центр.
Автобус шел неторопливо, покачиваясь на неровной дороге. Впереди сидели двое. Громко бубнили о какой-то бабке Пелагее, о куме Николае и куме Настасье — мешали сосредоточиться. И чемоданы взгромоздили возле своего сиденья — ни проехать ни пройти. Садились у вокзала. Один — здешний, другой — приезжий.
Костя пересел подальше, но неожиданно до его слуха донеслось слово «туман». Это было так неожиданно, что Костя тут же вернулся на прежнее место, вряд ли сознавая, что делает. Приезжий рассказывал товарищу, будто в городе Большое Село он видел необычный туман, наступавший на химзавод, — точно такой же, какой пришлось наблюдать за его деревней возле лесосплава перед отъездом. Но самое любопытное было в том, что трое пассажиров поезда сообщили о таких же туманах и в их городах — и все это было незадолго перед отъездом или даже в день отъезда из родных мест.
Ага! Значит, такое происходит не только в Привольном — наверно, по всей земле! Если так, теперь от этого невозможно отмахнуться! Теперь, может быть, будет более уступчивым и Васильев?
Костя выскочил из автобуса, бросился к телефону-автомату.
Семена Ипполитовича дома не было. Костя набрался храбрости и позвонил Васильеву. Тот сразу отозвался. Выслушав молодого следователя, он спокойно спросил:
— И это все?
— Все, Василий Васильевич, — облегченно выдохнул Костя. — Только надо обязательно сегодня-завтра, боюсь, будет поздно!
Слышно было, как шеф сопел в трубку.
— Значит, вызвать от моего имени? — мрачно спросил он. — Господи, да зачем же профессора Ильина? Давайте уж сразу академика Светлова!
В груди у Кости похолодело. Наконец ему стало ясно, что шеф по-прежнему не разделяет его точки зрения.
— Нет уж, — категорически заключил Васильев, — не — впутывайте меня в ваши авантюры! И вообще, выспитесь, в конце концов, как следует, завтра поговорим! Спокойной ночи!
Резкий щелчок. Гудки…
Костя повесил трубку и неторопливо побрел по тротуару. Какой же он осел — понадеялся на согласие шефа! Тут и к гадалке ходить не надо!.. А Семен Ипполитович решил бы иначе. Решил бы?… Если да, то что ему, Косте, мешает вот сейчас же, на свой страх и риск, отправить телеграмму Ильину? Да ну же, смелее — победителей судить не будут!
Почта только что закрылась, но приемщица оказалась на редкость любезной и тут же приняла телеграмму. Настроение повысилось, хотя где-то в глубине души скребли кошки: «А что скажет завтра Василий Васильевич?…»
Заснул Костя как убитый, но в четыре часа утра словно кто-то толкнул его. Он открыл глаза, посмотрел на часы и мгновенно вспомнил о последних словах Загранцева. Накинув на плечи куртку от пижамы, выбежал на балкон. Было тепло. Над крышами разлилась заря — яркая и чистая. Через минуту выглянет солнце, и тогда…
Внимание привлекло что-то подвижное, светлое…
То, что Костя слабо надеялся увидеть и чего, откровенно говоря, побаивался, сейчас легким сероватым паром блуждало по двору, проскальзывало в открытые окна и двери балконов. Их было много, этих облачков, и все они, словно подчиняясь единой команде, носились по городу в поисках… чего или кого?
Конечно, кого!
Только сейчас Костя вспомнил, что совсем недавно ему уже приходилось видеть один такой клочок пара!
Да, да. Это тоже случилось ранним утром, до восхода солнца. Он случайно проснулся и заметил, как что-то полупризрачное, хвостатое метнулось от подушки к раскрытой двери балкона. Тогда он подумал, что все это ему просто привиделось. Со сна.
Выходит, не привиделось!
Вон они, клочки сероватого пара, с хвостами и без хвостов, напоминающие то комету, то волны во время прибоя, то размазанные шары и кляксы. Но не это главное. Жуткой была неотвязная мысль о том, что они живые!..
Костя быстро оделся — не прозевать бы Загранцева! — и толкнул дверь. Он быстрым шагом проскочил несколько улиц и всюду видел над собой скользящие серо-лиловые призраки, словно они заполнили собою весь город. А может быть, так оно и было?
Пробегая мимо центрального сквера, Костя внезапно остановился:
— Виктор Ильич!
Загранцев скупо улыбался и поглядывал вверх:
— Вон сколько их! А то ли еще будет!.. Но сейчас они исчезнут с улиц — ждут солнца. — Загранцев замолчал, разглядывая изодранные ботинки. — Да! Я ухожу, Константин Сергеевич. Моя не совсем удачная миссия закончилась. И потому хотел бы выполнить свое обещание. Только сил маловато.
Косте стало не по себе.
— А нельзя ли… уйти позже?
— Нельзя, — твердо сказал Загранцев. Он подвел Костю к первой же скамье и предложил сесть. — А теперь слушайте меня внимательно…
Костя ничего не услышал. Видимо, все, что хотел передать ему Загранцев, вошло в его сознание без слов.
Сначала он понял то, что давно знал и сам, — какие факторы породили и вскормили жизнь на Земле. Затем пошли мысли о развитии жизни, о преобразовании оболочки планеты, об организации всеобщей системы жизни… Умело приноравливаясь к окружающей среде, живые организмы сами становились ее создателями, создателями экосферы — мудро построенного самой природой здания.
Безбрежные леса и сочнотравные долины в процессе длительного времени нашли способ использовать солнечный свет для преобразования углекислоты и неорганических веществ в новую органическую субстанцию.
Образовалось великое кольцо — менее стойкий линейный процесс превратился в постоянный круговорот, в самообновляющийся цикл жизни.
А потом — словно пощечина: это прочное кольцо разорвал человек. Когда же нарушаются такие связи, то ослабевают или вовсе прекращаются те двигательные влияния, которые поддерживали всю эту мудрую, тысячелетиями создававшуюся систему.
После этого Костя стал понимать не совсем ясно.
Дальше было тоже что-то вроде упрека: велик, мол, человек, но именно он оказался самым жестоким из всех биологических видов, и если он не хочет погибнуть в разрушенном им здании, то должен как можно скорее восстановить его…
Загранцев сидел рядом, безвольно уронив руки на колени. Лицо его казалось изнуренным, серым. Глаза впали. По лбу к вискам стекали струйки пота.
— Я все… почти все это знал, Виктор Ильич, — с сожалением сказал Костя.
— Не успел… Не хватило пороху. — Загранцев с трудом дышал. Заставил себя улыбнуться. Улыбка получилась вымученная, тоскливая. Уж лучше бы он сейчас не улыбался! — Вот видите, Константин Сергеевич, милейший мой человек, что значит быть в ответственной миссии похожим на вас, людей, — весь запас энергии я израсходовал на… борьбу с хулиганством и возмущение деяниями человека… Ну, делать нечего. Мой парламентерский приход оказался малополезным, видимо, именно потому, что я такой, как и вы. Мне понравилось быть таким, как вы, но только с добрым сердцем. А ведь я мог стать кем угодно, даже невиданным чудовищем! Но нет, человеческая оболочка для всех вас пострашнее, особенно если в ней должное содержание. А я… что-то во мне не сработало… словно больной. — Он закрыл глаза, поморщился. — А теперь — прощайте. Я оставляю вас.
Костя не двинулся с места.
— Уходите же, уходите, прошу вас! Вы не должны видеть… ничего.
7. Большой туман
С Васильевым он столкнулся в коридоре прокуратуры.
— Что нового, Константин Сергеевич?
— Да вот… — Костя приложил папку к груди. — Конец этому делу.
— Так, так. — Васильев был совсем другой — спокойный, доброжелательный. — Конец, говорите? Отлично. Значит, насколько я понимаю, ваш Загранцев исчез?
— Исчез, Василий Васильевич.
— Жаль. Ну да ладно… А как же теперь быть с пострадавшими? Кто будет отвечать за деяния Загранцева?
— Но… он же не человек. Мы же не можем…
— В том-то и дело. Ну, насчет формулировки посоветуемся с Семеном Ипполитовичем, а пока не будем ломать голову. — Он вдруг спохватился. — Прошу вас, отнесите, пожалуйста, Инне Георгиевне материал о новых фактах загрязнения окружающей среды администрацией целлюлозно-бумажного комбината — пусть срочно перепечатает то, что я пометил.
— Хорошо, Василий Васильевич. Только я должен сказать… — Костя с минуту колебался — говорить ли, потом торопливо выложил: — Я все-таки пригласил к нам профессора Ильина…
— Ну и молодец! — весело сказал прокурор.
— Так ведь если бы раньше…
— Ничего, ничего. Этим история не закончилась, попомните мое слово! Ждите продолжения, Константин Сергеевич!.. Да, а вы крепко спали этой ночью? Я, понимаете ли, проснулся около четырех часов и увидел — угадайте что! — увидел у себя на подушке крохотное хвостатое облачко! Не успел приподнять голову, как оно — юрк в форточку и было таково!.. Вот я теперь и думаю: не тот ли это туман, о котором так много нынче болтают? Если тот… какая гарантия, что сейчас перед вами настоящий прокурор Васильев, а не его двойник, как это случилось с Загранцевым! А может быть, и вы тоже теперь не настоящий Константин Сергеевич? Подумайте-ка на досуге, мог ли настоящий молодой следователь Груздин так быстро и безошибочно разобраться в сложной ситуации с Загранцевым.
Васильев засмеялся и вразвалку зашагал к своему кабинету.
Когда Костя вернулся от машинистки, его позвали к телефону. Звонил Загранцев.
— Простите… — послышался в трубке смущенный голос. — Мне жена ничего толком объяснить не может…
Что я мог тут натворить, если… меня не было в городе?
— А когда вы приехали? — поинтересовался Костя.
— Вот только с поезда… И ничего не понимаю!
— Вы можете сказать, где были последние десять дней?
— Разумеется… Хотя вы можете и не поверить — был в плену у леса. Заблудился и не мог выбраться. Да к тому же подвернул ногу — три дня гостил у лесника.
— Еще вопрос, Виктор Ильич: вы помните, что с вами произошло в предобеденное время двадцать девятого июня?
На том конце провода возникла пауза.
— По-моему, да, — ответил наконец Загранцев. — Я ходил за реку в лес. Ну и… заблудился. Вот и все.
— А перед тем как войти в лес?
— Перед тем как войти в лес… Ну, разумеется, был на опушке.
— Ничего странного не наблюдали?
— Нет.
— Пар или туман?
— Да, да, помню. Туман был. Но это был обычный туман. Я проскочил сквозь него — вот и все.
— И пошли в лес?
— Совершенно верно. Но, простите, Константин, э… Сергеевич, объясните, пожалуйста, что все это значит?
Костя с усилием провел рукой по лбу, взглянул на часы.
— У вас найдется время встретиться со мной вечером? — спросил он.
— О, конечно!
— Тогда я жду вас ровно в пять.
Они встретились в пять, А в шесть уже стояли на берегу Сужи за мрачноватыми бурыми холмами лигнина и с тревогой смотрели за реку: с той стороны медленно надвигалась сизая туча тумана. Она ползла широким фронтом, утопая в тени прибрежного леса, ползла угрожающе тихо — даже птицы примолкли, — и казалось, никакая сила не могла остановить ее.
«Грядет день! Грядет день! — молотом стучали в мозгу слова старика Анциферова. — Натерпелась она, матушка, от нас, от людей, ох как натерпелась!»
— Вот и дождались!
Костя узнал басок Васильева, но не оглянулся. Несколько минут назад он видел, что шеф стоял рядом с директором комбината и нервно постукивал пухлым пальцем по пуговице пиджака. Там же, с ними, и Семен Ипполитович.
— И вы что же, всерьез хотите напугать меня этой штукой? — вполголоса пророкотал директор.
— Делайте выводы сами, Николай Петрович, — отозвался Васильев. — Эта, как вы изволили выразиться, штука идет на ваш комбинат, и вам, как капитану, нельзя покидать своего мостика, когда корабль в беде.
И главному инженеру тоже. Не так ли? А что таится в этой штуке, наверно, и самому господу богу неизвестно!
— Меня больше пугает ваш строгий прокурорский надзор, Василий Васильевич, а какой-то там туман…
«Грядет день! Грядет день!»
— Кто же был тот… другой? — оборвал мысли голос Загранцева.
Костя отвел глаза от завораживающего тумана.
— Ученые разберутся, — не сразу ответил он. — Но, полагаю, их мнение не во многом разойдется с нашим: по-видимому, это сгусток материи, рожденный накопившейся энергией протеста так называемой низшей биосферы.
— Протеста против деяний человека?
— Безусловно.
Загранцев недоверчиво приподнял плечи, однако выражение лица его оставалось серьезным.
Васильев окликнул Костю:
— Идемте отсюда! И вы, Семен Ипполитович. Пусть администрация комбината сама отчитывается за свои беспорядки перед окружающей средой.
Костя чуть задержался, почему-то виновато взглянул на Загранцева:
— Прощайте, Виктор Ильич.
— До свидания.
Загранцев не отрываясь смотрел за реку. Профиль его был грустный и строгий, губы плотно сжаты… Наверно, все же что-то вошло в его сознание от того, другого Загранцева, иначе не было бы в нем столько скорби.
Выйдя на дорогу, Костя оглянулся. Огромное облако тумана вынырнуло передним краем из тени леса и в лучах заходящего солнца светилось, словно раскаленное…
Что оно такое — предостережение природы, попытка образумить человека или решительное наступление, направленное на защиту своих прав?
Этого пока никто не знал.
АЛЕКСАНДР ХЛЕБНИКОВ ОТБЛЕСК ГРЯДУЩЕГО Повесть
Институт оказался крошечным — всего четырнадцать этажей. В парадном вестибюле, куда сходились эскалаторные дорожки к скоростным лифтам, Ракша остановился, рассматривая на стене план-схему расположения отделов. Сначала шли обычные: административный, теоретический, пресс-центр, энергоцентр. Но большую часть здания занимали отделы «Обеспечение», «Экипировка», «Вход и выход», «Адаптация», «Эвакуация», «Зона переброски».
«Было бы нелишне, чтобы кто-то раскрыл их назначение, — подумал Ракша. — Отчет о совещании лучше всего начать с рассказа о структуре института». И направился в отдел информации.
Его сотрудницей оказалась Леночка — симпатичная молоденькая девушка. Тоненькая, маленького роста — исключительно редкого теперь! — она держалась со строгой значительностью, не допускающей со стороны посетителей никакой фамильярности.
— Ракша, журналист марсианского поселения «Аэлита-2»? Великолепно! — восхищалась Леночка. — Поверите ли, просто соскучилась! Многие, предпочитая брать разъяснения у автомата, игнорируют личные контакты.
Итак, наш Институт АСВ-активной связи времен предназначен исследовать прошлое с целью оберегать благополучие настоящего и будущего от губительных воздействий негативных явлений прошлого. Кроме того, наши десантники, которых мы собираемся забрасывать даже в отдаленные эпохи, могут оказать необходимую помощь от нашего двадцать второго века обществу тех времен, в которых находятся. Если это не повлияет на генеральный ход истории.
— Неужели они будут выполнять и просветительские функции?
— Конечно, нет! Любое внесение современных знаний в прошлое способно изменить объективное развитие событий. А это запрещено. Теперь об отделах института. Они создают нужные условия для успешной работы десантников в далеких от нас исторических эпохах. Взять хотя бы отдел «Вход и выход». Его сотрудники готовят десантника для вхождения в чужую эпоху и выхода из нее. Надо так все обосновать, чтобы для людей прошлого появление десантника выглядело вполне объяснимо и не казалось сверхъестественным. Задолго до экспедиции разработчики программ тщательно изучают сотни вариантов, пока не выберут наилучший.
— А остальные отделы?
— Чтобы десантник не выделялся в обществе прошлого, не вызывал бы подозрений, его соответствующим образом нужно подготовить. Отделы «Экипировка» и «Обеспечение» этим и занимаются. Но и этого недостаточно. Для благополучного адаптирования в прошлом десантник должен владеть и языком того народа, среди которого будет находиться, знать его обычаи, мораль, стереотипы поведения. Он обязан в совершенстве владеть и личным оружием, характерным для данной эпохи, — мечом ли, шпагой, пистолетом… Десантник должен быть и хорошим актером. Всему этому он и обучается в отделе «Адаптация». Если выяснится, что десантник сам не в состоянии вернуться, специальный датчик пошлет нам сигнал бедствия и отдел «Эвакуация» сделает все возможное, чтобы его спасти.
— Какие ограничения существуют в деятельности десантника?
— Самое важное — одно. Он всегда должен помнить, что любое грубое вмешательство в прошлое может привести к тяжелым последствиям в будущем. И не делать ни малейшей попытки изменить какое-либо основополагающее событие прошлого.
— Извините, — сказал Ракша, — это же явное противоречие. Как же десантник выполнит свою миссию, если лишен права вмешательства в события прошлого, если ему противопоказана даже малейшая попытка изменить их?
— Я говорю о грубом вмешательстве.
— А разве может быть иное?
— Да, то, которое не ведет к разрыву причинно-следственных связей, ответственных за возникновение события, существенного для данного временного потока.
— Туманно. Нельзя ли пример попроще?
— Пожалуйста. — Леночка на минуту задумалась, а потом рассмеялась. — Вы знаете легенду о том, что якобы Наполеон проиграл решающее сражение из-за насморка?
— Знаю.
— Так вот, десантнику, если он окажется в ближайшем окружении Наполеона, надлежит действовать таким образом, чтобы ненароком не избавить Наполеона от этого злосчастного насморка. А то, глядишь, он выиграет.
Ракша улыбнулся:
— Признателен за превосходное интервью, которое вы мне дали.
— Сандра Николаевна Дубровина!
И в конференц-зал вошла девушка в повседневной одежде десантников — голубом комбинезоне с золотой нашивкой на груди: горизонтальной восьмеркой, пронзенной стрелой, — символом передвижения во времени.
Подойдя к столу, за которым сидели президент Академии наук Донат Бельский, ректор института Вахтанг Тондзе и руководители всех отделов, Сандра остановилась, ничем не выражая своего волнения, хотя, несомненно, догадывалась, что вызов на совещание такого высокого уровня не случаен.
Пристально всматривался Вахтанг в лицо Дубровиной. Возможно, ей предстоит очутиться в ледяном аду, в таких условиях, о которых страшно и подумать. Выдержит ли там восемнадцатилетняя девушка, избалованная комфортом спокойного и мирного века? Да, она закалена, прекрасно физически развита, пройдет дополнительную психофизическую подготовку. Но не лучше ли все-таки послать мужчину?
«Нет, не лучше, — только что утверждал руководитель сектора, ведающего двадцатым веком. — Любой десантник-мужчина, да еще молодой, будет сразу призван в армию. А Сандра, как девушка, сохранит за собой свободу передвижения. Кроме того, Сандра специалист по стране, в которую намечен заброс, только что защитила кандидатскую диссертацию».
— Сандра Николаевна, — сказал президент, — недавно в Центральном архиве случайно обнаружили маленькую картонную папку. В ней — рукописи и рисунки, сделанные четырнадцатилетним Сережей Еремеевым в Ленинграде ровно двести лет назад — в мае тысяча девятьсот сорок первого года. Посмотрите, она перед вами на столе.
Бережно взяла Сандра папку, развязала матерчатые тесемочки, вынула и наугад развернула одну из тоненьких школьных тетрадок с таблицей умножения на обложке.
«…Беляев лишь в одном ошибся, — прочитала она, — не так-то просто жить в невесомости, как он описывает.
По-моему, если человек будет долго жить в невесомости, его организм так к ней приспособится, что обратного хода на Землю ему не будет. Иначе он погибнет. Такой человек должен до самой смерти находиться на космической станции».
Сандра перевернула несколько размытых водой страниц и наткнулась на сделанные, видимо, карандашом рисунки и схемы.
— Обратите внимание на эти формулы, — указал Бельский.
— Удивительно! — восхитилась Сандра. — Ведь над этой сложнейшей проблемой бились выдающиеся ученые.
— Да, Сандра Николаевна, теперь, после детального рассмотрения содержания этой папки, — сказал Бельский, — мы можем уверенно сказать: он был гений, не успевший реализовать свои возможности.
— Мальчик погиб во время блокады Ленинграда при неизвестных обстоятельствах, — пояснил директор Центрального архива. — Семья, все близкие его тоже погибли. Потомков его родственников разыскать не удалось.
Эта папка — все, что от него осталось. Каким образом она уцелела — неизвестно.
— Его гибель — невосполнимая потеря, — вздохнул Бельский. — Есть основания полагать, что именно ему было бы суждено приблизить наступление космической эры. Ведь в своих рукописях Сережа касается многих важнейших тем космонавтики. Однако нам казалось, что наше настоящее и тем более будущее гибель Сережи особенно не затронула. Да и вы, Сандра, вероятно, подумали: «Какая разница, на сколько десятков лет раньше или позже наступила космическая эра? Важно, что наступила!» Не так ли? Но пришлось изменить мнение после того, как прогнозатор произвел экстраполирование идей, содержащихся в рукописях Сережи. Прогнозатор сделал неопровержимый вывод: оказывается, Сережа был на пути к созданию космического корабля, способного достичь околосветовой скорости… Это проблема, над разрешением которой мы безрезультатно бьемся и сейчас!
До вашего прихода мы обсуждали здесь, что и как сделать, чтобы уберечь гениального маленького ленинградца. По расчетам прогнозатора Сереже потребовалось бы около тридцати лет для воплощения своих замыслов с последующим проектированием КОССа — корабля околосветовой скорости.
Решали мы, кто из десантников способен спасти Сережу. И остановили свой выбор на вас, Сандра! Но прежде чем дать свое согласие, трезво оцените свои силы: ваше задание будет неимоверно трудным и опасным.
Вы окажетесь в блокадном городе, подвергаемом артиллерийским обстрелам и бомбежкам. Прибавьте еще голод — предугадать невозможно, как надолго затянется ваша командировка. Ваша жизнь подвергнется большому риску.
— Благодарю за доверие, я согласна! — не колеблясь ответила Сандра.
— Итак, основная ваша задача — вывезти мальчика из блокадного Ленинграда.
— А до блокады разве нельзя? — спросил кто-то.
— Вырвать мальчика из семьи, из привычного уклада жизни, из родного города? Исключено. Да и каким образом, куда? Эвакуировать в наш век? Но вне своей эпохи человек нежизнеспособен. Это всем известно. Корнями связанный со своей эпохой, он будет чувствовать себя чужеродным пришельцем и неминуемо зачахнет… Имеются у вас еще какие-нибудь соображения о предстоящем задании? Нет? Тогда обсудим детали. И прежде всего — срок заброски в Ленинград и необходимое обеспечение.
Вечером 21 июня 1941 года Сандра не могла уснуть.
Вышла из дома, бесцельно поехала на набережную Невы.
Было по-летнему тепло, но ее знобило. Сандра словно физически ощущала, как грозно и стремительно накатывается война. Через считанные часы она черным ураганом обрушится на миллионы людских судеб, ломая их, калеча, перечеркивая планы, сокрушая мечты. Окаменеет от горя огромная страна, заголосят у военкоматов женщины, провожая любимых, и поднимется народ на борьбу, тяжелую и кровавую… Как горько знать, не имея возможности ничего изменить…
А ночь… Какой прекрасной была последняя мирная ночь! Под трепетным сиянием высокого розовато-жемчужного неба здания казались призрачными, нематериальными. Деревья не шевелились; подобно театральным декорациям, они выделялись четко и резко на фоне светлого неба. Нева будто замерла, от неба почти не отличимая, такая же розовая и жемчужная…
На Невском проспекте было особенно многолюдно.
Белые платья женщин, обилие цветов, зеркальные витрины, отражающие светлое небо, радужная россыпь огней кинотеатров, шипение зеленых вспышек над дугами трамваев, их веселый перезвон и смех, улыбки, блеск счастливых глаз…
Вглядываясь во встречных, веселых и беззаботных, Сандра вспоминала виденные ею перед экспедицией в прошлое гигантские могилы Пискаревского кладбища.
Это они, идущие сейчас по улице — счастливые, молодые, полные жизни и надежд на будущее, лягут в них через какие-нибудь семь месяцев. Ей хотелось встать посреди проспекта и закричать: «Люди, завтра война! Вывозите детей, пока не захлестнула вас петля блокады!»
Нельзя кричать: скажут — сумасшедшая. Надо стиснуть зубы и молчать. Оказывается, какая это мука — знать грядущее!
Не в силах больше находиться в толпе, Сандра свернула на канал Грибоедова. Теперь попадались лишь одинокие прохожие да в тени деревьев или у решетки набережной неподвижно стояли влюбленные пары.
Хотя в четверг и пятницу прошли грозы, ночь была жаркая, душная. Окна домов открыты. За тюлевыми занавесками — сияние матерчатых абажуров: оранжевых, голубых, желтых. Играли патефоны. Из ближайшего окна звучало:
И ночами снится мне недаром холодок оставленной скамьи, тронутые ласковым загаром руки обнаженные твои…
«Танго — старинный танец двадцатого века», — определила Сандра и прислушалась.
Неужели не вернется снова этой лунной ночи забытье, тихий шепот голоса родного, робкое дыхание твое…
Танго ей нравилось. «В нем — тепло, задушевность…
Или ошибаюсь, — размышляла Сандра, — и оно привлекает только потому, что в моем рациональном веке, стыдящемся открытого проявления душевных порывов, подобного непритязательного выражения чувств никогда не услышишь?»
Сандра шла медленно. И незаметно одна мелодия переходила в другую. Задумчивое танго «Дождь идет» сменялось серебряными аккордами «Весеннего вальса», затем озорной румбой «Кукарача».
Сандра легко узнавала их — не напрасно же занималась в исторической фонотеке Института АСВ. Даже припоминала названия. Но то, что раньше было для нее историей музыки далекой эпохи, вдруг обрело совершенно иной смысл. Теперь Сандра слушала ее не в записях, снятых с архивных полок, а в ее первоначальном исполнении. «Я стала современницей ее!» — эта мысль потрясла Сандру своей простотой. Отвлеченное философское понятие «быть современником» неожиданно реализовалось в конкретном слуховом восприятии. Быть современником — значит быть неразрывно связанной с тем, что тебя окружает.
Несколько шагов — и новая песня:
Любимый город может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть среди весны…Наступал день, обещающий быть таким же прекрасным и солнечным, как и субботний…
23 часа 35 минут. Только что, как знала Сандра из исторической хроники, народный комиссар Военно-Морского Флота Кузнецов предупредил по телефону командующего Балтийским флотом адмирала Трибуца о необходимости объявить по флоту готовность номер один, чтобы отразить возможное нападение…
За шторой окна на втором этаже — силуэты танцующих. Опять танец, милый в своей непосредственности:
Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг,23 часа 37 минут. Все соединения и военно-морские силы Балтийского флота начали получать приказы для перехода на готовность номер один. Война — на пороге!
После полуночи небо начало наливаться зеленью и синью, оставаясь розовым только у горизонта. Похолодало.
«2 часа 30 минут, — подсказывала беспощадная память. — На всем протяжении советских западных границ немецко-фашистские войска закончили последние приготовления. Штурмовые отряды первой волны вторжения сосредоточены в непосредственной близости от границы.
Стволы артиллерийских батарей наведены на советские погранзаставы».
Перерезая набережную, навстречу Сандре двигалась цепочка выпускников-десятиклассников. Девушки — в белых и розовых платьях значительно ниже колен, юноши — в светлых рубашках с отложными воротничками.
Взявшись за руки и дружно шагая в ногу, школьники пели:
Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда.Приблизившись к Сандре, цепочка изогнулась, и школьники закружились вокруг нее, смеясь, не выпуская из кольца.
— Кто вы? — спросил ее один из мальчиков.
— Студентка Библиотечного института.
Сандра не обманывала. Месяц назад, сразу же после прибытия в Ленинград сорок первого года, она представила в этот институт документы о своем переводе из московского института, была принята (но без предоставления, общежития, что ей и требовалось) и теперь успешно сдавала экзамены. Период ее адаптации прошел успешно.
«3 часа 00 минут. Немецкие бомбардировщики к взлету готовы…»
— Девушка, не хмурьтесь! Идемте с нами! — закричали Сандре из налетевшей новой стайки десятиклассников.
Ах как модно были одеты мальчишки, как гордо поглядывали на девчонок! Они были в бордовых, светло-зеленых, голубых «бобочках» — самых шикарных трикотажных рубашках с короткими, до локтей, рукавами, в белых полотняных брюках. А на ногах у них — подумать только! — белоснежные парусиновые туфли, начищенные зубным порошком.
Мальчишки, мальчишки, сколько вас уцелеет?… Как вы красивы сейчас!..
Уже в седьмом часу, едва не падая от усталости, на Лиговском проспекте Сандра села в «десятку». Новенький вагон трамвая сверкал чистотой. В раскрытые окна влетал свежий ветерок.
Набрав в карманчике пятнадцать копеек разными монетами, Сандра протянула их пожилой кондукторше, затянутой в форменную тужурку с белыми металлическими пуговицами, в темно-синем берете, кокетливо сдвинутом набок. Под рукой у нее — потертая кожаная сумка, на груди, на проволочной петле, рулончики билетов.
Сандра доехала до Расстанной.
Своим ключом Сандра открыла дверь и удивилась.
Несмотря на ранний час и воскресенье, все семейство Анны Петровны уже завтракало на кухне, где аппетитно пахло кофе и свежеиспеченными булочками.
— Доброе утро, соседушка! Как раз вовремя! Выпей кофейку, да и кусочек омлета, надеюсь, не помешает.
Анна Петровна, оставшись вдовой после гибели мужа, убитого под Выборгом в 1939 году в войне с белофиннами, духом не пала, хотя на скромную зарплату библиотекаря ей было трудно растить троих детей. Таня нынче закончила десятый класс, Сережа — седьмой, а шестилетняя Катенька ходила еще в детский сад.
— Спасибо, Анна Петровна, я уже позавтракала, отказалась Сандра. Ей было неловко пользоваться добротой хозяйки, зная, как она перебивается от зарплаты до зарплаты. Вот и комнатку ей сдает.
— Брось, Сандра, церемонии! Присаживайся!
— Разве что чашечку кофе, — сдалась Сандра и вышла на кухню.
— Вот и прекрасно. Сережа, подвинься да закрой книгу! Сколько раз говорила — за едой не читают. — Анна Петровна вздохнула; — Видали книгочея? Себе на горе приохотила к фантастике. Сначала все собрание сочинений Жюля Верна одолел, а затем и Циолковского, что смог достать. А в результате? Табель принес — смотреть стыдно. Даже по естествознанию «посредственно».
— Ма, разве я виноват, что мне больше математика нравится? Не то что всякие там пестики и тычинки — мура какая-то.
— А что читаешь? — поинтересовалась Сандра.
— Александра Беляева, «Звезду ТЭЦ», — с сожалением закрывая книгу, сказал Сережа. — Как думаете, Сандра Николаевна, будут такие космические станции около нашей планеты или нет?
— Вероятно, будут, — улыбнулась Сандра.
Ах, если бы могла она рассказать мальчику, что в раннем детстве, потеряв родителей, погибших при аварии планетолета, была взята бабушкой на ОКП «Сергей Королев». И объяснила бы Сереже, что ОКП означает «орбитальное космическое поселение» и названо оно в честь создателя первых космических кораблей Сергея Павловича Королева.
ОКП маленькой Сандре нравилось. Все было в нем: море с чистейшей пресной водой, окаймленное золотыми песчаными пляжами, стадионы, парки с вечнозелеными деревьями, оранжереи, поля, цветники, белоснежные пирамиды тридцатиэтажных домов с террасами, утопающими в цветах; даже небо совсем как настоящее, на нем были умело имитированы утренние и вечерние зори, облака, дрожание и переливы ночных звезд.
И все-таки смутные воспоминания иногда нет-нет да и тревожили маленькую Сандру. Ей казалось, что она припоминает могучие раскаты грома, фиолетово-красные всплески молний, неистовость ливня, а потом, утром, после грозы, — удивительный запах мокрых тополиных листьев. И она тосковала по далекой Земле. Ей казалось, что на острове, плавающем в космосе, и запахи какие-то стерильные…
«Поверь, Сережа, нет ничего прекраснее Земли, все краски космоса меркнут перед ней!» — так закончила бы она свой рассказ…
— Мама, ты слышишь, что говорит Сандра Николаевна? — обрадовался Сережа. — А ты спорила со мной, что КЭЦ — пустая выдумка и что такие станции из-за дороговизны не станут строить. А я знаешь что надумал: на таких станциях надо…
— Сережа, не болтай за столом, — оборвала его Анна Петровна. — А ты, Сандра, не потакай ему, а то спокойно и поесть не даст. Да и засиживаться-то нам нельзя. Мы ведь через час уезжаем, уже и вещи собраны. Хотела тебе записку писать, чтобы без нас цветы поливала.
— Уезжаете? Куда, почему так внезапно?
— К маме. Ночью телеграмму сестра прислала: «Мама серьезно заболела». Я уже и билеты взяла.
— А зачем детей-то с собой берете?
— Не знаю, сколько там пробуду… Не могу же здесь без присмотра оставить… А у меня как раз отпуск. Если, дай бог, с мамой все обойдется, погостим у нее.
— А в каком городе мама?
— В Житомире.
Сандра вздрогнула: вот она — первая критическая ситуация для Сережи. Не под Житомиром ли он был убит?
— Анна Петровна, — решительно сказала она, — ни вам, ни детям в Житомир ехать нельзя. Сдайте билеты.
— Почему? — поразилась Анна Петровна.
— Потому что… — замялась Сандра и замолчала.
Не могла же она заявить, что германские самолеты уже бомбили Житомир, Киев, Севастополь! Анна Петровна все равно не поверит — откуда у студентки такие сведения? Но и отпускать Анну Петровну с детьми в прифронтовую полосу нельзя… Оттуда хлынут толпы беженцев, немецкие самолеты наносят бомбовые удары по шоссейным и железным дорогам… Как же удержать Анну Петровну от поездки? Нужно что-то срочно придумать!
— Анна Петровна, — сказала Сандра, — позвольте поговорить с вами наедине.
— Пожалуйста, — сказала та и увела Сандру в свою комнату. — Ну, что за секреты?
— Анна Петровна, в какой-то степени я обладаю пророческим даром. Откажитесь от поездки — она будет гибельна!
— О, да ты оправдываешь свое имя. Сандра — почти Кассандра. Но почему я должна тебе верить?
— Не иронизируйте. Нет у меня никаких доказательств. Пока нет. Но внутренний голос говорит мне, что в полдень вы узнаете нечто такое, что заставит вас поверить мне. Подождите до полудня! В конце концов, если в полдень ничего не случится, сможете уехать и на вечернем поезде.
— Но что случится-то?
— Не знаю, но непременно что-то важное.
Повинуясь тону, которым говорила Сандра, Анна Петровна перестала улыбаться.
— Каким образом ты предвидишь? — спросила она недоверчиво.
— Мне снятся сны, которые потом обязательно сбываются. Вещие сны.
— Да-а… — задумчиво сказала Анна Петровна. — Но почему нам-то нельзя ехать, тебе тоже что-нибудь приснилось?
— Вот именно! Будто вы, Таня, Сережа и Катя сидите в вагоне поезда, идущего на полном ходу. Окно открыто — колеблется шторка. И вдруг в окно пахнуло дымом! Вы подбежали к окну, высовываетесь, а впереди по всему горизонту — сплошная стена огня! Поезд стремительно мчится прямо в него. И тогда вы закричали: «Что я наделала! Теперь не спрыгнуть, нам нельзя было ехать!» От вашего отчаянного крика я и проснулась.
— Ну и сон! — передернула плечами Анна Петровна. — Но странно как-то из-за сна откладывать поездку. Мать больна, а если что…
— Анна Петровна, зачем испытывать судьбу? Не хотите откладывать поездку — поезжайте, но только, если ничего не случится, после полудня. Пусть и смешно так думать, а вдруг сон-то, как говорят, в руку?
— Странная ты девочка, — заколебалась Анна Петровна и, взглянув на дверь, за которой смеялись дети, сказала:
— Ладно, послушаю тебя — задержусь на несколько часов.
— Правильно! — одобрила Сандра.
Она не сомневалась, что в двенадцать часов, узнав о начале войны, Анна Петровна отменит поездку. И решила хоть несколько часов поспать…
Обретя бодрость после сна, Сандра на трамвае поехала к Московскому вокзалу и от него пешком по солнечной стороне Невского проспекта направилась в сторону Адмиралтейства. Время близилось к полудню.
Идущие навстречу ленинградцы были веселы и беспечны…
11.54. До официального объявления войны — шесть минут. Сандра поспешила к уличному громкоговорителю, укрепленному около гастронома номер один, или Елисеевского магазина, как его называли все.
11.55. В черном рупоре громкоговорителя щелкнуло, и раздались тяжелые слова:
— Внимание, внимание! Через несколько минут по всем радиостанциям Советского Союза будет передано важное правительственное сообщение! Слушайте наши радиопередачи!
Люди останавливались, поднимали голову, подходили к столбу. Скоро у кромки тротуара образовалась толпа человек в двадцать. Подходили еще и еще.
Лица выдавали волнение. Международная обстановка — сложная. Каждый заранее догадывался, что важное сообщение не будет хорошим. Тихо переговариваясь, все напряженно ждали.
12.00!
— Работают все радиостанции Советского Союза! — возвестил громкоговоритель. Необычное обращение «к гражданам и гражданкам Советского Союза» заставило людей затаить дыхание. Тень набежала на лица.
Прозвучали страшные слова:
— Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие…
Сандра оглянулась: люди вокруг окаменели.
— …Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством…
Пожилая женщина, опустив голову, прижала к губам руку, словно стараясь сдержать крик.
Юноша лет двадцати смотрел вперед невидящими глазами. С кем он мысленно прощался — с матерью, невестой?
— …Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, — продолжал звучать радиоголос, — Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины…
Сандра вдруг перестала замечать, что творилось вокруг. Охваченная чувством общей беды, она словно забыла о своей причастности к двадцать второму веку.
Это и к ней относились теперь слова:
— …Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда…
Наше дело правое… Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Минуту или две все оставались неподвижными.
— Господи, что теперь будет-то? — нарушила тишину женщина с продуктовой сумкой.
— Не расстраивайся, мамаша. Пойдем воевать. Разделаем их, гадов, под орех. Недели две — и все!
— Не скоро ли? — усомнился пожилой человек. Почти вся Европа под германцем ходит. Военный потенциал у него велик. Силища на нас прет.
— Ничего, сдюжим. Пусть через месяц, но раскатаем их как миленьких!
— Правильно! — воскликнул паренек. — Мне бы винтовку!
— С винтовкой не больно-то навоюешь.
— Так у нас и танки есть, и самолеты — еще какие! — горячо возразил юноша. — Смотрели кинофильм «Если завтра война»? Там все показано.
— Пошли в райком!
— На призывной пункт!
Люди постепенно расходились. Они были подавленны, но не растерянны.
— Вот спасибо, что отговорила ехать! Слышала выступление Молотова по радио? Твой сон и впрямь пророческим оказался! — встретила Сандру Анна Петровна, едва та переступила порог. — Сестра уже телеграмму прислала, предупреждает, чтобы я не выезжала… Спасибо тебе, Сандра. Может быть, еще что посоветуешь? Я верю тебе.
Сандра обрадовалась: открывалась благоприятная возможность убедить Анну Петровну сделать запас продовольствия. Вероятнее всего, Сережа умер не от осколков снаряда или бомбы, а от голода… Но вначале надо сделать попытку уговорить Анну Петровну выехать с детьми из Ленинграда. Самый оптимальный вариант!
— Могу и посоветовать, — сказала Сандра. — Забирайте-ка, Анна Петровна, детей и уезжайте с ними куда-нибудь за Волгу, на Урал или в Сибирь. Там есть у вас родственники или знакомые?
— Уезжать из Ленинграда? С какой стати?
— Мало ли что может произойти — война! Ведь граница близко, — уклончиво ответила Сандра.
— И такое ты советуешь мне, коренной ленинградке? — рассердилась Анна Петровна. — Пусть война, да мы не крысы, бегущие с корабля… Благодарна тебе за заботу о нас, но прошу впредь подобного не советовать… Кстати, знаешь, куда убежала Танюша? Записываться в сандружинницы. «Наши мальчики, — говорит, — воевать пойдут, а нам, девчонкам, за их спинами прятаться?» Не стала ее отговаривать… Так могу ли я доченьку оставить здесь одну, пока она на курсах? Да и мои руки городу пригодятся.
Тогда Сандра предложила хотя бы немножко собрать продуктов — на «черный день».
— Перебои с продовольствием? У нас, в Ленинграде? Такого быть не может! — возмутилась Анна Петровна. — Да и война долго не продлится.
— А если она все-таки затянется? И представьте, кроме хлеба, в магазинах ничего не будет. Как тогда?
— Зачем представлять надуманные ужасы? Что-то ты не в меру перепугалась. Скупать продукты не буду. Можно же панику вызвать! Что произойдет, если все кинутся по магазинам? Нет, не уговаривай, на такое я не пойду. Я не куркуль какой-нибудь.
«Двойная неудача, — огорчилась Сандра, — и надо признать, доводы Анны Петровны основательны. А ведь на совещании в Институте АСВ кто-то предлагал даже до блокады эвакуировать Сережу из Ленинграда… Не учли тогда всей силы патриотического подъема».
В программе, полученной в Институте АСВ, было подробно указано, что надлежит делать ей в городе после объявления войны. Сандра заранее знала, что, после того как в Библиотечном институте разместится госпиталь, она будет работать токарем.
Обо всем этом Анне Петровне не скажешь. Не объяснишь ей, что она, Сандра, не имеет права записываться ни в сандружинницы, ни в школу радистов, потому что нельзя ломать заранее намеченную, тщательно разработанную программу, внося в нее элементы случайности.
И с каким презрением смотрела на Сандру Анна Петровна!.. Вот, оказывается, еще и незапланированное испытание: ее заподозрили в трусости…
Воскресным утром 29 июня они провожали первые десять эшелонов с детьми, уходящих в районы Луги и Красногвардейска — туда, где обычно они отдыхали в пионерских лагерях.
Сандра приехала вместе с Анной Петровной проводить Сережу и Катеньку. Пятнадцать тысяч ребятишек сейчас отправятся под удар наступающих танковых группировок врага! А Сандра, зная об этом, ничего не могла сделать, ничего! Она осунулась, почернела за несколько утренних часов.
Перед группками ребятишек взрослые расступались, образуя коридор. И плывут, плывут сквозь толпы взрослых пышные бантики, голубые «республиканки» с красными кисточками, белые панамки и беретики. Самые маленькие ребятишки — трех-четырех лет — идут парами, крепко взявшись за руки. Испуганные многолюдьем, они растерянно смотрят по сторонам, но крепятся, не плачут… Маленькие мужественные ленинградцы!..
— Московский район, на посадку! — сказал в рупор человек, стоящий невдалеке от Сандры. — Товарищи воспитатели, прошу следовать за мной…
Через считанные минуты маленькие зеленые вагончики были окружены плотной толпой родителей, а в открытые окна к ним перегибались дети, крича, смеясь, размахивая руками:
— Мамочка, папа, я здесь!
— Я села у окна!
— Тут не жарко!
А снизу на них растерянно смотрели матери, то ли радуясь за детей, то ли горюя — не поймешь.
— Береги себя! — как заклинание твердила каждая.
— Не беспокойся, мамочка! — кричали сверху.
Сандра отчетливо представила, как на каком-нибудь перегоне под Лугой на эти вагончики налетят двухмоторные «мессершмитты» и безнаказанно, словно забавляясь, расстреляют их из пулеметов. Звон стекла, брызги белой щепы. Пули пронзят дощатые стенки вагонов, как бумагу. Отчаянные крики: «Мама, мамочка!» А самолеты, сделав разворот, забросают эшелон бомбами…
Сандра, наверное, изменилась в лице, потому что Анна Петровна испуганно спросила:
— Что с тобой?
— Голова закружилась. От жары.
— Сандра Николаевна, я вам подарок оставил, на вашем столе! — по пояс свесившись из окна, закричал Сережа.
— Какой подарок?
— Роман «Прыжок в ничто»! Беляева. У вас же завтра день рождения!
«Прыжок в ничто»!.. И Сережу, и Катечку, и всех ребятишек она отпускает прямиком под бомбы и гусеницы танков! Надо что-то предпринять — пусть хоть один шанс из тысячи!
— Анна Петровна, извините, отойду в тень, — сказала Сандра и, миновав кольцо провожающих, поспешила к первым вагонам. Начальник эшелона где-то там. Надо скорее его отыскать. Что скажет — не знала. Но понимала: только он может задержать отправку состава.
Она бежала, спрашивая:
— Где штабной вагон?
— Дальше, дальше, — говорили ей.
Поздно, не успеть. Сандра остановилась. Взгляд упал на большой ящик. Он лежал позади толпы, стоящей около вагона. Вскочила на него и звонко закричала:
— Товарищи!
На возглас обернулись. Несколько человек подошли к ней. Тогда она закричала так громко, как только могла:
— Товарищи, задержите отправление!
— Почему? Кто такая? — послышались недоуменные вопросы.
Около нее закипел людской водоворот. Сверху она видела, как через толпу к ней протискиваются два милиционера в белых гимнастерках.
— К Луге и Красногвардейску детей везти нельзя! — кричала она, уже понимая, что ей не поверят. Но остановиться не могла. Она должна предупредить, обязана.
— Четвертого июля немцы ворвутся в Ригу, пятого — в Остров, девятого — в Псков! — торопливо кричала Сандра. — Десятого июля немецкие танки прорвут фронт одиннадцатой армии и устремятся к Луге! Нельзя туда везти детей! Немедленно задержите эшелон!
Сначала ее слушали с изумлением. Потом возник грозный ропот. Последние ее слова почти заглушили яростные крики негодования:
— Замолчи, мерзавка!
— Не морочь нам головы!
— Испугать захотела? Не выйдет!
Шум прорвал гневный бас:
— Братцы, это провокатор! Что вы слушаете?!
Толпа качнулась. Еще миг — и она бросится на Сандру. Выхода у нее не было — она нажала кнопку микропространственного переброса. На глазах разъяренной толпы «мерзавка», только что кричавшая с ящика, вдруг бесследно исчезла. В то же самое мгновение на другом конце города, на Кировском проспекте, на скамейке у памятника «Стерегущему» неизвестно откуда появилась девушка, до смерти перепугав сидящую там старушку. И какое безобразие — девушка на скамейке не сидела чинно, как все нормальные люди, а стояла!.
Будто так и надо.
— Свят, свят, свят! Сгинь, нечистая сила! — закрестилась старушка.
Спрыгнув со скамейки, девушка быстро пошла в сторону Невы, к трамвайной остановке.
Домой Сандра приехала после Анны Петровны. Та сразу спросила:
— Видела, как шпионку поймали?
— Какую? Нет, не видела.
— Женщины схватили. У шестого вагона. Нахальная такая и, говорят, молодая. Орала, что мы, дескать, ребят под немецкие танки везем. Мол, немецкие войска скоро до Луги дойдут. Думала испугать.
— А что со шпионкой сделали?
— Сдали куда следует. Чуть не растерзали. И не жалко. И так на душе кошки скребут, как там ребятишки без нас будут, а она решила на этом спекулировать.
Сандра была совершенно подавлена случившимся.
Несмотря на все усилия, Сережа вышел из-под ее опеки. А когда вспоминала сцену на перроне, становилось совсем плохо. Как могла она забыть, что исторические события изменить нельзя? Какая оплошность: вздумала отменить распоряжение общегородского масштаба — эвакуацию детей! Как страшно обладать знаниями будущего. И как, оказывается, бесполезно!
— Да, забыла сказать, — услышала Сандра голос Анны Петровны, — пропала твоя сессия!
— Почему?
— Повестки нам принесли. С завтрашнего дня — на оборонные работы. Вместе пойдем.
— На какие работы?
— Щели рыть, окопы. Или подвалы под бомбоубежища приспосабливать. Завтра скажут.
«Пока Сережи нет в, городе, вполне могу располагать собой, — подумала Сандра. — Вот и утешение в беде: своими руками помогу ленинградцам».
Глинистая плотная земля не поддавалась. Отбросив лопату, Сандра взялась за кирку. До чего же она тяжелая, будто свинцом налитая, а долбить надо. Болит поясница. Пот щиплет глаза. Острая боль в ладонях — сорванные мозоли трутся о грубый брезент рукавиц. Но остановиться нельзя; вокруг все копают. Надо превозмочь слабость. Надо вскидывать и вскидывать нелепое примитивное землеройное орудие труда.
Ранним утром подполковник-сапер, ставя задачу, просил:
— Товарищи, бабоньки дорогие, постарайтесь! Противотанковый ров нужен как можно скорее! Тут равнина, танкоопасное направление. Прорвутся сюда немецкие танки — и прямым ходом к Ленинграду. От вас зависит задержать их на этом рубеже!
И все старались. Шел десятый час без отдыха. Короткий перерыв, чтобы поесть, — и опять за лопаты…
С трудом повернувшись, Сандра оглянулась. Вдоль рыжего, свежевыкопанного широкого рва до синеющего на горизонте леса работают тысячи людей. Преобладают женщины. Тяжело им без сноровки. Да и одеты многие не для землеройных работ. Иные — в изящных ботиках, туфельках. А стоять надо иногда и в воде, в холодной глинистой жиже… Но лопаты упорно вгрызаются в неподатливую землю!
Вдруг с юго-запада показались два двухмоторных самолета. Минута — и они, низко летящие, стали хорошо различимы: как бы обрубленное крыло, длинная застекленная кабина, тонкий фюзеляж и необычное двойное хвостовое оперение.
Сандре стало страшно: через считанные минуты по ничего не подозревающим женщинам ударят скорострельные пулеметы. В двухмоторных самолетах она узнала «мессершмитты». Каждый из них вооружен пятью пулеметами и двумя пушками! Сандра мгновенно оценила обстановку. Она замахала над головой лопатой и что было силы закричала:
— Ложитесь! Будет обстрел! Немецкие истребители!
Женщины обернулись, засмеялись:
— Немцы? Ну и пусть себе летают. Что они, с бабами воевать будут?
Никто и не подумал лечь. Истребители, сделав крутой разворот, снизились до бреющего полета и понеслись над рвом.
«Рррр-ра!» — с оглушительным треском разорвалось небо. Это стеганули пулеметы.
Сандра кинулась на землю. Будто хлестнули длинным бичом, рядом колюче брызнула сухая глина — ее прошила пулеметная очередь. Черная, грохочущая тень, ударив жарким, вонючим воздухом, на миг закрыла светлое небо — промчался первый «мессершмитт».
Сандра приподняла голову. Анна Петровна, окаменев от ужаса, стояла опершись на лопату. Второй истребитель стремительно приближался.
Сандра вскочила. Бросилась к Анне Петровне. «Мессершмитт» оказался быстрее. Огненные трассы полоснули по склонам рва. Анна Петровна упала.
Когда Сандра склонилась над ней, успела только шепнуть:
— Не оставляй детей…
Истребители умчались. Убитых — а их вместе с Анной Петровной оказалось восемь человек — отнесли в сторону от рва, положили на брезент.
— Не будем терять времени! За нами Ленинград, товарищи, — услышала Сандра чей-то голос.
Сандра открыла глаза… Полумрак, жестко, тесно.
«Где я? Почему с моим пробуждением не начинают голубеть стены спальни? Почему не слышно у изголовья плеска фонтанчиков и воздух не напоен ароматом цветущих яблонь? Почему постель не обеспечивает телу невесомость и приходится лежать на боку, а не парить?
Почему… Да я же в чужой эпохе, в Ленинграде сорок первого года двадцатого века, — сообразила наконец Сандра. — И сегодня, 8 сентября, на заводе мне дали отгул за неделю непрерывной работы».
Сандра помнила, что сегодня вечером Сережа, вероятно, подвергнется самой серьезной опасности за все время пребывания в Ленинграде. Вечером она обязательно должна быть с мальчиком.
Ну что же, можно подвести первые итоги десантирования. Пока они неутешительны. Правда, Сережа с Катей невредимыми вернулись из пионерского лагеря и дачи, но это не ее заслуга — всего только везение, благоприятный слепой случай… После гибели Анны Петровны становилось все сложнее и сложнее обеспечивать безопасность Сережи, особенно после 4 сентября — начала артиллерийских обстрелов Ленинграда.
К сильнейшей тревоге Сандры, мальчику все чаще приходилось бывать на улицах. Таня работала медсестрой в госпитале на Обводном, и вся тяжесть хозяйственных забот по дому и уходу за Катей легла на мальчика. Ведь Сандра тоже работала на заводе. С вечера она подробно выспрашивала Сережу, куда он завтра намерен пойти. Затем Сандра тщательно изучала намеченные маршруты его передвижения по городу и следила, не будут ли они пересекаться с зоной поражения снарядами по месту и времени.
До сих пор Сандре удавалось осуществлять «режим безопасности» для Сережи. Однако позавчера обстановка в городе резко ухудшилась: 6 сентября, в 23 часа 27 минут, произошла первая бомбежка Ленинграда.
В сентябре город подвергнется яростным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам с воздуха. Как в таких условиях ежедневно оберегать жизнь Сережи?
Разумнее всего было бы незамедлительно вывезти его и Катечку из Ленинграда. Но об этом Таня и слышать не хотела. «Мама перед отъездом на окопы взяла с меня слово из Ленинграда не уезжать. Я поклялась ей в этом!» И Таня оставалась верна клятве, какие бы доводы Сандра ни приводила. «Пока я в Ленинграде, Сережа с Катечкой будут со мной», — твердила Таня…
Так и не удалось Сандре переубедить ее. Танино упрямство Сандра не могла предвидеть при планирований своих действий, но именно оно оказалось поистине непреодолимой преградой…
Сандра взяла маленькую брошь — темно-зеленый дубовый листок над коричневым желудем. С виду — обыкновенное украшение для платья, заколка. И камешки-то не самоцветы, а так, дешевая подделка под них. Но Сандра берегла ее как зеницу ока.
Однажды Таня спросила:
— Почему вы с ней никогда не расстаетесь?
— Разве не понятно? Видишь — дубовый листок, а моя фамилия — Дубровина. Это же мой талисман. Оберегает меня от всех бед и несчастий! — отшутилась Сандра.
Впрочем, так оно и было. Ведь в маленькой броши скрыты сотни сложнейших приборов и аппаратов, выполненных почти на молекулярном уровне! Тут и анализаторы окружающей среды, датчики самочувствия десантника, БП — «банк памяти» обстановки на любой день и час, управление защитным полем и микроперебросом во времени и пространстве в пределах данной эпохи. Ну а желудь — это вообще чудо техники двадцать второго века. В нем заключен аккумулятор энергии, необходимый Сандре для возвращения в свой век.
Брошь служит и «маяком» для отыскания Сандры десантниками-спасателями, если она пропустит контрольный срок возвращения.
Нажав на зубчик дубового листа, Сандра медленно и четко произнесла:
— БП, двадцатый век, сорок первый год, сентябрь. Прошу хронику — ориентировку на восьмое сентября.
После небольшой паузы зазвучал голос электронного информатора:
— Сегодня, восьмого сентября, немецко-фашистскими войсками будет взят Шлиссельбург. Вокруг Ленинграда замкнется кольцо блокады. Сегодня же вечером фашистская авиация совершит на город первый массированный налет. Цель воздушного нападения — забросать Ленинград зажигательными бомбами, сжечь его. Вниманию десантника! Первая волна бомбардировщиков появится над городом в 18 часов 55 минут, вторая — в 22 часа 35 минут. Предупреждаем: наиболее сильные удары авиация противника нанесет по Московскому району, Смольному и Финляндскому вокзалу. Находиться в указанное время в этих зонах повышенной опасности не рекомендуем. Особенно — в Московском районе…
«Перемудрили с рекомендацией инструкторы из моего далека, — вздохнула Сандра. — Я как раз и нахожусь в Московском районе, так что же мне — спасаться на Петроградскую сторону? Но тут не до шуток. Таня будет дежурить в своем госпитале. А как быть с Сережей и Катечкой, со всеми жителями нашего дома?»
— Стоп! — резко сказала Сандра. — Прошу уточнить.
При налетах восьмого сентября отмечено ли попадание бомб в дом… — И она назвала адрес.
— Фугасных — нет, зажигательных — девять. Данных о состоянии дома не имеется! — прозвучал ответ.
Сандра помрачнела. Скверно, что информация неполная. Неизвестно, будет ли сожжен их дом. Но то, что он не будет разрушен фугасками, — благо. Сережа с ребятишками отсидится в бомбоубежище, ну а зажигательными она сама с другими жильцами займется.
— БП, продолжить ориентировку на восьмое сентября! — распорядилась Сандра.
И опять зазвучал тихий голос:
— Будут уничтожены запасы продовольствия. Первая волна бомбардировщиков зажигательными бомбами подожжет Бадаевские склады. В них сгорят три тысячи тонн муки и две с половиной тысячи тонн сахара. Пожар будет длиться пять часов.
«Нет, не мука и сахар будут гореть, — думала Сандра, — сгорать будут десятки тысяч жизней ленинградцев!»
Надвигалась страшная беда, которую она не в силах была предотвратить.
Постучав, вошел Сережа. Придав лицу беспечное выражение, Сандра спросила:
— Докладывай, как жили без меня.
Он рассказал, что по карточкам сумел получить и сахар, и жиры, даже картошки достал! Что занятий в школе нет, но учебники он купил. И наконец, с гордостью заявил, что уже неделю работает на крыше.
— Кем работаешь? — поразилась Сандра.
— Неправильно выразился, — смутился Сережа. Надо было сказать — дежурю на крыше. Точнее — мы все дежурим. Но вообще-то разве не работа — по три часа на холоде и ветре стоять?
— Кто это «мы»?
— Группа самозащиты МПВО. В каждом доме теперь. В нашем — все мальчишки с нашего двора. Толик из второго класса, Генка из третьего…
И Сандре не оставалось ничего другого, как попросить Сережу взять ее с собой на дежурство.
До первого налета, о котором не подозревали Сережа и его друзья, оставался всего час. Надев лыжные брюки и куртку — стеганку, не забыв приколоть к ней брошь — «талисман», Сандра вышла в прихожую.
Оглядев ее экипировку, Сережа одобрительно сказал:
— Годится.
Но ее тонкой вязаной шапочкой остался недоволен.
— Надо более надежную, хотя бы такую, — дотронулся он до своей шапки-ушанки. — Защита от зенитных осколков. Сегодня все наши ребята сменят кепки на ушанки.
«Молодцы мальчишки!» — подумала Сандра.
— Но у меня нет ничего более подходящего.
— А я вам отцовскую принесу. Мама сберегла.
Сережа сбегал в кладовку и вручил Сандре потертую черную кожаную шапку.
— Так-то будет лучше, — сказал Сережа, когда Сандра ее надела.
«Не я его, а он меня опекает», — подумала Сандра.
Наказав соседке по лестничной площадке в случае тревоги взять Катеньку в бомбоубежище, Сандра вслед за Сережей поднялась на чердак.
Там уже собрались шесть пожилых женщин. Некоторые держали щипцы с длинными рукоятками. Мужчин пенсионного возраста — трое. И с ними Игнатий Александрович, о котором ей говорил Сережа, — симпатичный старичок с бородкой клинышком, в меховой ушанке.
— Моя помощница. У нас в квартире живет, — с гордостью доложил ему Сережа.
— Очень приятно. Нашего полку прибыло, — церемонно поклонился старичок. — А действовать-то представляете как? Ящиков с песком на крыше нет, они только на чердаке. Так вы бомбу, если она там у вас окажется, просто скидывайте лопатой во двор. Зажигательную, разумеется. Главное — не медлите, не давайте ей разгореться.
— Мне уже Сережа дал полную инструкцию.
— Тогда я за вас спокоен, — сказал Игнатий Александрович и рассмеялся. — А если серьезно — сегодня, сударыня, вам предстоит боевое крещение. Налет будет непременно.
— Почему?
— Полюбуйтесь, какое небо! Не упустят, негодяи, такой возможности. Не вечером, так ночью: на нашу беду еще и полнолуние.
Они вылезли на крышу.
В лицо пахнуло свежим ветром. Перед Сандрой широко распахнулась высота, по которой она так соскучилась. Крылья бы ей с антигравиком — если бы тут знали, как она любила летать в своем родном веке!
На зеленоватом чистом небе — редкие белоснежные облачка, розовеющие от вечерней зари. Направо, на горизонте, четко различимы шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Простор… Взвиться бы, как она умела, стрелой в небо!
«Но разве не фантастика для моих современников из двадцать второго века то, что я вижу сейчас? На крыше — мальчишки, девчонки. Они весело перекликаются с теми, кто стоит на крышах соседних домов. А ведь им, вооруженным лишь лопатами и щипцами, сейчас предстоит вступить в противоборство с бомбардировщиками».
18.49!.. «А вдруг — не прилетят?» — мелькнула несуразная мысль.
18.50! Пронзительно завыли паровозы, заводы: «Воздушная тревога!» Увы, ход истории неотвратим.
Все замерли, напряженно всматриваясь в небо.
— Вот они!
В стороне, где трубы Кировского завода, светлое небо покрылось черными крапинками. Они быстро вытягиваются в черточки. И вот уже видны двухмоторные самолеты. Их много, очень много! Они наплывают, держа равнение, как на параде. Черные косяки их движутся сравнительно низко. «Хейнкели-111»? Не похоже. У «хейнкелей» — острый застекленный нос и остроконечные моторы. А эти — ширококрылые, тупоносые, с тупоносыми моторами… Сомнения нет: «Юнкерсы-88», бомбовая нагрузка каждого — две тонны… Сандра оглянулась. Побледнев, мальчишки стояли неподвижно, крепко сжимая лопаты — единственное свое оружие. Они могли бы еще сбежать вниз, в бомбоубежище. Но ни один не пошевелился.
Низкий утробный гул авиационных моторов нарастал, усиливался, давил. «Уо-уо-уо», тяжело, с надрывом выли они.
— Ребята, держись! — с отчаянной лихостью крикнул какой-то мальчишка. И сразу от оглушительного грохота заложило уши: из-за близких корпусов заводов частыми залпами начали бить зенитки.
Около самолетов гроздьями вспухли дымные клубки разрывов зенитных снарядов. Кто-то дернул Сандру за куртку. Сережа. Кричит, указывая на разрывы. В грохоте стрельбы и завывании моторов слов не разобрать, Тогда он потянул ее за собой к трубе. Едва прижались к ней, крышу будто обдало шквальным ливнем — снарядные осколки!
Сандра опомнилась. Стыдно! Она должна была предусмотреть то, о чем догадался мальчик. Чему ее только учили!
Опять защелкало. Сквозь грохот зениток прорвался противный нарастающий свист: «фьююю!» Что-то тяжелое ударило у самой трубы, проскрежетало по железу, и на самом краю крыши, шипя, вскинулся фонтан нестерпимо яркого пламени!
— Наша! — воскликнул Сережа и, опередив Сандру, с лопатой наперевес бросился к зацепившейся за водосточный желоб «зажигалке». Ловко поддел — и она, густо рассыпая искры, полетела во двор.
Сандра даже испугаться за Сережу не успела — по крыше ударило снова и снова. Слева вспыхнуло, справа, еще и еще! Грохот пальбы, барабанная дробь осколков!
Когда Сандра, сбросив с крыши очередную «зажигалку», смогла посмотреть вниз, она удивилась: там горели десятки зажигательных бомб.
Дымное облако затянуло крышу. Стало трудно дышать, защипало глаза. Упади еще «зажигалки» — не увидишь.
К счастью, волна бомбардировщиков прошла. И осколки больше не падали. Ветер разорвал пелену дыма, окутавшего дом. Кругом, куда ни посмотри, пожары.
— Завод Карпова горит! — закричал Сережа.
Со стороны Лиговки в небо рвались огромные клубы черно-желтого дыма, подсвеченные снизу багровым пламенем. Казалось, там разверзлась земля и образовался огнедышащий вулкан, взметая ввысь все новые и новые струи огня.
— Нет, то не завод, — тихо сказала Сандра. — Горят Бадаевские склады.
Ребячье воинство — усталое, в прожженных куртках — стояло опершись на лопаты и молча, насупившись смотрело на зрелище бушевавших вокруг пожаров.
Мальчишки и девчонки были как солдаты, вышедшие из боя. Отдавали ли они себе отчет, что совершили нечто героическое? Нет. Им надо было отстоять от огня дом.
Они это сделали. Только и всего.
Бесстрастный голос электронного информатора сообщил, что 19 сентября фашистская авиация намеренно атакует больницы и госпитали Ленинграда. В 16.25 на госпиталь, что на Советском проспекте (сюда с Обводного перевели и медсестру Таню), будут сброшены три фугасные бомбы весом от двухсот пятидесяти до пятисот килограммов. Через три минуты в обрушенные этажи упадут еще десятки зажигательных бомб и госпиталь превратится в огромный костер!
У Сандры сжалось сердце. Покорно ждать неотвратимого? Уступить без боя? Дать погибнуть раненым и Танечке? Ну нет, не бывать этому!
Сандра взглянула на брошь: «Я ведь располагаю энергией для возврата в свой век и для питания «маяка»… Но если истрачу ее — не вернуться в свой двадцать второй, а без отключенного «маяка» десантники-спасатели не отыщут меня, не вызволят отсюда. Никогда больше не увижу своих современников, родных, Андрюшу… Никогда! Однако выбора нет: раненые, Таня…»
В подъезд здания, расположенного невдалеке от госпиталя, она вбежала вместе с толпой с улицы, как только объявили воздушную тревогу. Но повернула не вниз, в бомбоубежище, а на чердак.
Укромный, затененный уголок Сандра нашла у чердачного окна. Отсюда госпиталь был виден как на ладони. Приготовилась: брошь — в левой руке, пальцы правой — на зубчиках управления.
16.22. Воздух задрожал — наплывала первая волна бомбардировщиков.
«К бою!» — приказала себе Сандра. Брошь не конструировалась как боевое оружие, поэтому пришлось ввести новую программу в блок преобразования энергии. В тот же момент выплеснулся не видимый глазу импульс энергии, развернулся в защитное поле, стабилизировался…
Ведущий «Юнкерс-88» в головной группе уже лег на боевой курс — на госпиталь! Но сбросить бомбы не успел: какая-то могучая сила, как пушинку, отшвырнула его в сторону! Бомбардировщик едва не перевернулся.
Такая же участь постигла еще нескольких, идущих за головным. Остальные отвернули с курса, растерянно заметались.
Сандра ликовала: «Жаль, энергию экономить надо — испепелила бы паразитов!»
«10, 9, 8», — отсчитывал звуковой хронометр броши.
При счете «0» Сандра окажется безоружной.
«Скорее, скорее, ну же!» — торопила она вторую волну бомбардировщиков. Они уже на подходе. Лишь бы успеть отбить их!
«7, 6, 5», — как кровь из жил, утекала энергия.
— Вот она, зараза, где притаилась! — раздалось за спиной.
Сандра, продолжая держать вытянутой вперед руку, обернулась. В лицо ударил свет электрического фонарика.
— Ребята, ракетчица здесь! Ну, гадина, не уйдешь!
К Сандре с трех сторон бежали люди.
«Схватят — ничего не докажешь», — мелькнула мысль. Нажав кнопку микропереброса, Сандра оказалась на улице вблизи госпиталя. Сверлящий, нарастающий свист бомб заставил ее распластаться на мостовой.
«Опоздала! В момент переброски защитное поле снялось».
Обвальный грохот заложил уши. Сандру подбросило, больно ударило о землю.
Приподняв голову, она увидела невообразимое. Наружная стена госпиталя вспучилась, побежали зигзаги трещин. Потом стена госпиталя закачалась, как плохо закрепленная театральная декорация, и медленно, словно нехотя, обрушилась, выбросив бурое облако дыма, из которого пробивались языки пламени…
Отовсюду пронзительные крики: «Сестрички, не оставьте! Горим!!»
Не щадя жизни, спасатели кидались на зов. Но разве всех вызволишь из огненной ловушки? Сандра не считала, сколько раненых вынесла, когда рухнули пылающие перекрытия. Ее успели подхватить, оттащили.
На какое-то время она потеряла сознание — непростительно для десантника…
«По всей вероятности, — думала потом Сандра, — я пытаюсь преодолеть какой-то запретный порог вмешательства в микроструктуру событий. Не случайно же все мои попытки что-либо изменить заканчивались неудачей!»
— Тетя Сандра, проснитесь!
От Катиного шепота она очнулась, как от толчка.
«Где я? В блокадном Ленинграде… Какое сегодня число? 29 января сорок второго года…»
Первые ее мысли после пробуждения были о Сереже и Катеньке: как-то выдержат еще один день? Их эвакуация через Ладогу — завтра!
Наконец-то она выполнит свое задание. Там, на Большой земле, ребятишки будут в безопасности, их согреют и накормят. Сережа будет спасен! А она… Как-нибудь дотянет до 1 февраля. Контрольный срок ее пребывания в Ленинграде закончится 31 января, и, быть может, друзья из двадцать второго века спасут ее, ведь чуточку энергии в броши еще сохранилось для функционирования «маяка».
Никогда она не предполагала, что так долго после трагического 19 сентября задержится в Ленинграде.
Казалось бы, все благоприятствовало быстрой эвакуации детей. И действительно, дважды за эти почти четыре месяца были оформлены все документы и пропуска для эвакуации, и дважды по непредвиденным причинам эвакуация Сережи и Кати срывалась. Завтра предстояла третья. Скорее бы завтра!
Угольно-черная темнота, ледяной воздух. В комнате — градусов двадцать мороза. Центральное отопление давно не действует, а на улице — под тридцать, не меньше.
Сандра спала не раздеваясь — в ватнике, рейтузах и толстых носках, набросив на одеяло еще целый ворох одежды. И все-таки ноги что ледышки. Сейчас, когда она очнулась, ее била крупная дрожь. В пустом желудке ощутила резкую боль, казалось, кто-то грызет внутренности. Хоть кусай рукав куртки — пусть ватой, но наполнить бы желудок.
— Тетя Сандра, — опять донесся шепот девочки.
— Что, Катенька?
— Пора идти за хлебушком.
— Спи, рано еще.
— Я знаю — не рано.
Сандра взглянула на светящийся циферблат своих часов и удивилась: Катя права — ровно пять. В самый раз идти к булочной занимать очередь. Открывают в шесть, но к этому времени уже скапливается столько народу, что, если не придешь пораньше, простоишь очень долго.
— А как ты догадалась, что уже пять? — спросила Сандра.
— А я всю ночь не спала — все ждала и ждала. Не уснуть совсем — животик болит… Тетя Сандра, миленькая, сходите скорей за хлебушком.
— Сейчас, Катенька.
Теперь надо сделать самое трудное — заставить себя подняться. Полежать бы еще с полчасика… Как не хочется выбираться на мороз…
«Да что это я? — рассердилась на себя Сандра. — Нельзя распускаться!»
Как ей казалось, рывком, а на самом деле — медленным движением откинула одеяло. Преодолевая головокружение, села, на ощупь сунула ноги в стоящие у кровати холодные как лед валенки и зажгла коптилку — фитилек в чернильнице-невыливайке. Этой же спичкой Сандра успела зажечь и бумагу, положенную с вечера в печурку среди переплетенных комплектов журнала «Всемирный следопыт».
Ох как не хотел отдавать их Сережа! Но, что делать, если всю мебель, какую можно, уже сожгли? Настала очередь и сберегаемых Сережей журналов.
Когда они разгорелись, Сандра открыла дверцу печки. В отблеске пламени заискрился иней на потолке и в углах комнаты, и стала видна Катя. Подняв воротник пальтишка, она села в кровати и начала раскачиваться.
Таким движением малышка старалась унять терзающие ее муки голода. Она понимала, что просить есть бесполезно: никакой еды в доме нет, и потому ей следует делать одно — не плакать.
Сандра представила, как, вглядываясь в ледяную черноту бесконечно долгой ночи, лежала с ней рядом эта маленькая девочка, мужественно превозмогая страдания, — и комок встал в горле.
— Катюшенька, — по-матерински обняла она ее, — подожди еще немножко. Я скоро вернусь. Обязательно с хлебом. И мы поедим.
Девочка подняла на нее кричащие от боли огромные глаза:
— Я постараюсь. Только, тетя Сандра, не умирайте. Пожалуйста!
— Глупышка, как же я умру, когда у меня ты и Сережа? Успокойся, вернусь, ничего со мной не случится.
— Сандра Николаевна, разрешите, я за хлебом схожу? — предложил проснувшийся Сережа. В его голосе тревога: он же видел, как Сандра ослабла за последние дни.
— Не разрешаю, — строго сказала Сандра. — Но изволь к моему приходу, когда в комнате потеплеет, встать и умыть лицо и себе, и Катюше. Вода в ведре еще осталась.
— Я лучше полежу.
— Никаких лежаний!
— Но вода же замерзла.
— Разобьешь. И чтобы ваши мордашки, когда вернусь, были чистыми.
Жаль поднимать Сережу, но необходимо. Еще в Центре подготовки Сандру предупредили о не поддающемся научному объяснению загадочном факте. В самую тяжелую пору ленинградской блокады скорее всего умирали те, кто, экономя силы, старался больше лежать.
А те, кто в точно таких же условиях проявлял активность, выживали. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Поэтому Сандра не давала поблажки ни себе, ни ребятишкам. Она вышла на занесенную снегом лестничную площадку. Его намело сквозь щели фанерных листов, которыми забито окно. Еще в начале зимы стекла во всем доме были высажены взрывной волной близко упавшей бомбы. Темень на лестнице непроглядная.
Осторожными шажками Сандра начала спускаться.
Ноги скользили по замерзшим нечистотам, выплеснутым на лестницу. Надо крепко держаться за перила, повисая на них, чтобы не упасть.
На площадке второго этажа Сандра наступила на какой-то бугор. Лишь пройдя по нему, догадалась: труп.
Те жильцы, что уже не имели сил вынести умерших на улицу, вытаскивали их на площадку и оставляли в надежде, что потом они будут подобраны спасательными отрядами.
Лицо ожгло морозным воздухом, захватило дыхание.
На улице светло: невдалеке горел пятиэтажный дом.
Точнее — догорал уже третьи сутки. Его никто не тушил, — воды не было. Багровые языки пламени, устало колеблясь над проемами нижних окон, нехотя лизали стены.
У закрытой булочной — очередь человек тридцать.
Было непонятно, как люди, истощенные голодом, могли стоять в тридцатиградусный мороз. Как вообще не замерзали? Но они, сгорбясь, сгрудившись, прижавшись друг к другу, стояли и терпеливо ждали. Спросив, кто последний, Сандра встала за старичком, закутанным в клетчатый плед.
Не прошло и пяти минут, как Сандра почувствовала: пальцы в рукавичках коченеют. Почему-то именно пальцы рук зимой оказались особенно восприимчивы к холоду. Они давно безобразно распухли, покраснели, кожа на сгибах потрескалась, и сгибать их было мучительно больно.
Морщась, она сняла рукавички и начала массировать пальцы, пытаясь дыханием согреть их. Вроде немного полегчало, но тут начали застывать ноги. Ступни сводило такой болью, что у Сандры, к ее стыду за свою слабость, едва не выступили слезы.
— Ox! — все-таки вырвалось у нее.
Старичок, за которым она стояла, обернулся:
— Ноги замерзли? Да ты, бабуся, не стой столбом. Потопай, потопай!
— Пробую, дедушка, да ноги как деревянные, не слушаются.
— А у меня лучше? — возмутился старичок. — Ты через «не могу», как и я. И потом, какой к черту я тебе дедушка? Мне же шестнадцать!
Лишь теперь Сандра рассмотрела, что глаза-то у «старичка» молодые. Лицо только восковое, с острыми обтянутыми скулами и заостренным носом.
— И я не бабушка, — сказала Сандра, — мне — девятнадцать.
— Тогда не кисни. Будем знакомы: Вадик. А ты?
Но Сандра не успела ответить. Короткий свист — и на противоположной стороне улицы взметнулся куст оранжевого пламени: ударил снаряд. По стенам домов брызнуло градом осколков.
Каким-то образом очередь не задело. Она качнулась, но продолжала стоять: никто не хотел терять место.
— Проснулись, собаки фашистские! — выругался Вадик. — Раньше били по трамвайным остановкам, а теперь — по улицам перед самым открытием булочных.
Знают, что люди около них скапливаются.
Еще свист, более пронзительный. И теперь уже близко, на их стороне улицы полыхнуло рыжим колючим пламенем. За миг до разрыва Сандра сбила с ног Вадика, упала на снег сама. Громоподобный удар! Воздух над головой, визжа, пробуравили сотни осколков. И сразу — еще разрыв, еще!
Крики ужаса, мольбы о помощи, стоны раненых — и черные тела убитых на снегу, озаренном багровым отсветом пожара, медленно оседающая снежная пыль, смрад сгоревшей взрывчатки.
Едва снаряды стали рваться подальше, в соседнем квартале, уцелевшие после артналета люди, перешагивая через убитых, поспешили к булочной.
Оплакивать сраженных ни у кого не было ни времени, ни сил, ни слез. Каждого, кто уцелел, дома ждали близкие, для которых лишний час ожидания хлеба мог стать роковым. Понимая это, Сандра никого не осуждала. Но сама она замешкалась, вместе с подоспевшими сандружиниицами оттаскивая на носилках раненых в ближайший подъезд. Раненых было много — женщины, подростки, дети.
Отброшенная взрывной волной к заиндевелой стене дома, в луже крови, казавшейся черной на снегу, умирала девочка лет десяти. Когда Сандра с сандружинницей приподняли ее, чтобы положить на носилки, та попросила:
— Хлеб… мамочке и братику… отнесите… Не встают они… Карточки…
С ужасом Сандра подумала, что это могло бы случиться и с Сережей, если бы он пошел за хлебом. И она не смогла бы предотвратить его гибель, как не смогла сейчас спасти никого. Ведь она, Сандра, ничего не знала о сегодняшнем артналете! В ежедневной хронике БП броши он почему-то не значился. Может быть, потому, что артобстрелов было слишком много? Но если бы она знала, разве могла бы она уговорить людей на какое-то время покинуть очередь? Нет, конечно. Никто бы ей не поверил. Невыносимо сознание собственного бессилия…
Когда она добралась до булочной, хлеб, к счастью, уже отпускали. Наконец-то Сандра получила его: четыреста граммов на свою рабочую карточку и двести пятьдесят — на карточки Сережи и Кати. Целое богатство!
Хлеб был почти естественного цвета, ноздреватый и духовитый. Совсем не такой выдавали в декабре и начале января. Тогда это была похожая на оконную замазку масса черно-зеленоватого цвета, сырая настолько, что сожми покрепче — потечет вода. Выпекали-то его из целлюлозы, отрубей, жмыхов, горчичной дуранды с минимальным добавлением муки.
Сейчас хлеб — почти настоящий! Как люди радовались ему! Дрожащими пальцами брали его, тщательно заворачивали в тряпицу — крошечку б не обронить! прятали за пазуху поближе к телу.
Когда Сандра входила в комнату, Катя обычно радовалась: «Ура, ура! Тетя Сандрушка поесть принесла!» Они растапливали печурку, почему-то называемую «буржуйкой», садились вокруг. Начиналось священнодействие — она делила хлеб в привычной последовательности: на утро, обед и вечер. Потом из утреннего кусочка сушила сухарики — они были вкуснее — и крошила их в горячую воду. Получалось нечто вроде супа, съесть который было намного сытнее, чем просто хлеб.
На этот раз Сандру встретила тишина. Сердце сжалось недобрым предчувствием.
— Катенька, я хлебца принесла!
Девочка не ответила. Сандра торопливо зажгла коптилку — дети на кроватях. Прислушалась — вроде бы дышат.
На душе отлегло.
— Ребятки, быстренько к столу, — возвестила она. — Будем завтракать!
Первым зашевелился Сережа.
— Буди Катю. Ишь как разоспалась, — вновь разжигая огонь в «буржуйке», распорядилась Сандра.
— Катечка не разоспалась, — тихо ответил Сережа. — Наша Катечка умерла.
— Когда?!
— Вскоре как вы ушли.
Взяв коптилку, Сандра осветила малышку. Девочка не дышала. Лежала закусив ладонь. Наверное, чтобы не кричать от муки. Так и застыла с ручонкой, поднесенной ко рту. С прокушенной. И ни капельки крови из ранки…
— Что… Катенька… говорила?
— Сначала ничего. Качалась, качалась. Долго… А потом подозвала меня и попросила… — Тут голос Сережи пресекся. Давясь слезами, продолжил: — И попросила: «Сереженька, миленький, дай мне карамельку!» А откуда я возьму? Так и умерла…
Сандра обняла его:
— Мальчик мой, перестань, не плачь. Слышишь? Не надо. Теперь ничем ей не поможем… Встань. Тебе нужно поесть.
— Не хочу.
— Я хлеб принесла. Понимаешь — хлеб!
— Не надо, тетя Сандра. Ничего не хочется есть.
— Чего же ты хочешь?
— Чтобы вы сберегли… мои тетрадки о звездоплавании… Они здесь, под подушкой… Пошлите их в Москву… После войны, — медленно, будто засыпая, сказал Сережа.
— Ты сам это сделаешь после войны!
— Нет… я скоро… тоже умру, — убежденно сказал мальчик.
— Глупости! — воскликнула Сандра. — Не смей поддаваться слабости! Сереженька, дорогой, продержись еще немножко, все будет хорошо. Умоляю, подожди, потерпи еще самую малость!
Она тормошила его, трясла. Веки мальчика с трудом приоткрылись.
— Не шевелите… Дайте поспать… — Веки сомкнулись.
«Отказ от еды, — вспыхнули в памяти слова инструктора Центра, — в условиях ленинградской блокады означал третью, и самую тяжелую, стадию дистрофии. Она наступала при таком истощении организма, когда уже любая врачебная помощь бесполезна. В третьей стадии дистрофии человека могло спасти или чудо, или сильное душевное потрясение…»
Сомневаться не приходилось: мальчик умирал. А у нее нет даже аптечки из штатного снаряжения десантника! Сама отказалась взять, чтобы не иметь перед ленинградцами никаких преимуществ, быть с ними наравне. Какая тяжелая расплата за глупую щепетильность!
В аптечке-то обязательно должны быть стимуляторы, применяемые десантниками при аварийных ситуациях.
Только они, пожалуй, могли бы сейчас спасти Сережу!..
Нужен стимулятор, немедленно! А его нет. Тогда заменитель его. Какой? Скорее же…
Сандра лихорадочно перебирала вариант за вариантом. Напрасно. Да и что можно сделать в ледяной пустой комнате?
Слабый язычок коптилки не в силах разогнать мрак.
Видны лишь стол, Катенька, не дождавшаяся своего хлеба, и Сережа. Он еще жив, еще вьется парок дыхания у рта. Но он обречен…
Мал круг от светлячка коптилки, а дальше — черным-черно. И тишина. Полная, ничем не нарушаемая тишина…
И вдруг мысль! Стимулятором для Сережи может стать «сильное душевное потрясение». А в броши оставалась еще энергия для «маяка»! Ее достаточно, чтобы на несколько минут включить пятый блок… Прощай, «маяк»!..
…На угольно-черном фоне, расшитом блестками звезд, сиял голубовато-зеленый диск Земли. Под белоснежными облаками, там, где они разрывались, угадывались очертания желтой Африки, темно-коричневой Азии, зеленоватой Австралии…
Сережа ничуть не удивился. Именно так он и представлял Землю из космоса.
Планета быстро сокращалась в размерах — меньше, меньше. Уже с копеечку. Она неуклонно уменьшается, унося города, людей, с их переживаниями и заботами, запах сирени, омытой весенним дождем, августовскую медно-красную луну над черной рекой, лукавый взгляд девчонки с соседнего двора, несбывшиеся мечты о звездоплавании…
«Когда человек умирает, он видит стремительно отдаляющийся диск Земли, — догадался Сережа. — Ведь умирающий навсегда улетает, оставляя на ней все. И я оставляю…»
Но Сереже не жалко. Ему хорошо и спокойно… Не терзает больше — голод, не леденит холод. Ему теперь ничего не надо!
Уже погасла голубенькая бусинка Земли… Черный, непроглядный мрак… Абсолютная тишина Великого Космоса…
Но что это? Тишина нарушена. Внезапно зазвучала музыка. Откуда она, если кругом пустота бездны?… Пение какое-то…
До Сережи, едва слышимые, из немыслимой дали донеслись слова, от которых сердце встрепенулось:
День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек, Были версты, обожженные, в пыли, — Этот день мы приближали как могли…He об этом ли, замерзая в ледяной ночи, тысячи раз мечтал он? Неужели свершилось?
Сережа прислушался… и открыл глаза. Он находился на кровати в комнате, такой же холодной и черной, как космос…
Теплится коптилка. Тетя Сандра сгорбившись сидит рядом, держит его руку в своей… В недоумении Сережа переводит взгляд в сторону репродуктора, висящего на стене: не оттуда ли звуки? Нет, репродуктор молчит.
А музыка усиливается, нарастает, близится! Она уже звучит со всех сторон! И происходит невероятное. Темноту комнаты разрывает сияние солнечных лучей! В комнату низвергается сверкающий водопад света, а вместе с ним ликующий гром оркестра и звучание мощного хора:
Этот День Победы Порохом пропах. Это праздник С сединою на висках, Это радость Со слезами на глазах — День Победы! День Победы!Комната исчезла. Перед Сережей — Красная площадь. Военный парад. Совсем близко Мавзолей. Одна за другой подходят шеренги солдат в касках, совершают крутой поворот. И, брезгливо брошенные, к подножию Мавзолея летят фашистские знамена с ненавистной свастикой!
Внезапно все оборвалось: видения, музыка. Вновь — темнота, огонек коптилки, тишина склепа. Но мальчишечье сердечко, взволнованное, теперь не желало останавливаться — оно билось сильно и часто! И чудо свершилось: Сережа попросил есть! А потом спросил:
— Тетя Сандра, потрогайте мой лоб. У меня жар?
— Лоб холодный.
— А я бредил. Слышал удивительную песню про День Победы. Даже кино про Победу видел, прямо здесь, в комнате. И цветное!
— А может быть, так все и будет, как видел? — мягко спросила Сандра.
— Вряд ли. Что Победа наша — правильно. Но красноармейцы и командиры на Красной площади были в погонах. Не может такого быть! А песня и вправду замечательная. Жаль, больше не услышу.
— Услышишь, — ласково гладя мальчика по щеке, заверила Сандра.
— Опять в бреду?
— В полном здравии. Но когда в мае семьдесят пятого года вторично услышишь — не вспомнишь, что уже слышал ее сегодня, в сорок втором, как не вспомнишь и то, что еще в блокаде видел грядущий День Победы. Я приказываю тебе забыть это!
И Сандра погрузила Сережу в гипнотический сон.
Не могла же она сказать, что песня, которая его воскресила, будет написана лишь через тридцать три года! К счастью, Сандра, отправляясь в прошлое, включила в фонотеку броши и с десяток полюбившихся ей песен двадцатого века. Удачно, что сейчас выбрала для Сережи лучшую из них. Ну а «кино», как определил Сережа, всего лишь связанное с звукозаписью голографическое воспроизведение документального фильма далекого прошлого…
С беспокойством и тревогой смотрела она на уснувшего мальчика. Выдержит ли он завтра переезд через Ладогу?…
На броши замерцала красная точка — сигнал, что «маяк», полностью отдавший свой резервный запас пятому блоку фонотеки, прекращает существование. Потом она потухла.
«Последняя ниточка, связывавшая меня с родной эпохой, разорвана, — отрешенно подумала Сандра, — «сигнал бедствия» тоже вышел из строя. Отныне мне никто не поможет…»
Утром следующего дня Сандра на саночках дотянула Сережу до площади, откуда автобусы забирали детей и женщин для переправы через Ладожское озеро.
Перед тем как везти мальчика, Сандра вынесла легкое, завернутое в одеяло тело Катеньки в скверик напротив дома — тоже сборный пункт, но для мертвых… Сережа был без узлов и чемодана. Закутанный до глаз в шерстяной платок поверх пальто, он прижимал к себе лишь заветную папку с тетрадями по звездоплаванию. Сам он идти уже не мог.
Теперь Сандра твердо верила: через Ладогу Сережа проедет благополучно и выдержит долгий путь. Ведь чтобы поддержать его силы, вчера и сегодня утром с горячей похлебкой она скормила ему, не оставив себе ни крошки, весь хлеб за два дня. Конечно, уверив его, что сама уже поела… А на том берегу врачи мальчику помогут!
Что же касается ее самой… Иллюзий не было. Сандра прекрасно понимала: за изнурительный переход по городу ждет ее скорая и неминуемая расплата… Но не жалко и жизни за то, чтобы гений Сережи сохранить людям. А мальчик будет жить. Обязательно будет!..
Не могла Сандра предвидеть, хотя в минуты горечи и называла себя Кассандрой, что битком набитый детишками автобус, везший Сережу, будет в щепы разнесен прямым попаданием фашистской авиабомбы, что после взрыва в черной, курящейся паром полынье останется плавать лишь папка, на которой цветными карандашами был нарисован летящий к Луне могучий космический корабль с красной звездой на борту…
Вернувшись домой, Сандра кое-как дотащилась до кровати и свалилась. Она оказалась беспомощной узницей ледяного каземата. Теперь кричи не кричи — никто не услышит, не спасет. Задыхаясь в темноте, хватая ртом обжигающий морозный воздух и постепенно коченея, надо только терпеливо ждать конца.
Он скоро последует, трезво констатировала Сандра, и надо принять его достойно. Осталось выполнить последний долг.
Она взяла брошь, прощаясь, признательно погладила. Ведь это была единственная вещичка из ее времени, ныне отрезанного от нее навсегда. В инструкции-памятке было сказано: «Ни при каких условиях предмет снаряжения десантника, изготовленный в его эпохе, не должен попасть в руки людей чужой эпохи». Это правило подлежало неукоснительному выполнению. Сандра нажала кнопку ликвидатора броши…
И в тот же момент в комнату, освещая путь электрическими фонариками, ворвались двое! Это были десантники-спасатели. Они получили «сигнал бедствия», когда Сандра включила ликвидатор. Так была устроена брошь. Конструкторы понимали, что ликвидация аппарата — последнее сознательное действие десантника, нуждающегося в немедленной помощи. Поэтому и снабдили его вторым дублирующим «сигналом бедствия», о котором не знал и сам десантник.
Лучи фонариков заметались по комнате и скрестились на постели Сандры, высветив ее лицо.
— Лаури, вот она! — крикнул Андрей и позвал: — Сандра!
Она не откликнулась. Бросились к ней — не дышит.
И десантники мгновенно четкими движениями начали спасательные работы. Каждый отвечал за свое: врач Лаури Микки — за медицинскую аппаратуру, инженер Андрей Крон — за техническое обеспечение. Считанные секунды — на теле Сандры установлены датчики. Минута — вокруг нее возникла прозрачная сфера, отделившая терпящую бедствие от неблагоприятной среды.
«Клиническая смерть», — дал показания диагнозатор портативному электронному мозгу, и тот выдал первые команды стимулятору жизнедеятельности. Реанимационная автоматика вступила в борьбу за жизнь Сандры.
Между тем все вокруг преобразилось: повеяло теплом, исчезла темнота — включилась система комфортации микросреды обитания.
Наконец ресницы Сандры дрогнули — она широко открыла глаза.
— Андрей… успел, — с усилием шепнула она. — Как… узнал, что я?…
— Да вот решил с другом прогуляться в двадцатый век. А если серьезно — давно дежурили, готовы были к немедленному броску.
— Нашли… без «маяка»?
— Лаури, — тихо обратился Андрей к врачу, — транспортабельна ли Сандра?
— Вполне. Но хотя кризис миновал, ее надо срочно в стационар: с того света вытащили.
— Тогда включаю предстартовый режим, — предупредил Андрей. — Лаури, свертывай аппаратуру — старт через три минуты!
Он бережно поднял Сандру на руки, поразившись, какая она стала легкая, и вышел с ней на середину комнаты. Рядом встал Лаури.
— Сандра, ничего здесь не оставила? — спросил Андрей.
— Свое сердце, — ответила она.
АНДРЕЙ СТОЛЯРОВ МЕЧТА ПАНДОРЫ Повесть
Глава первая
Вернув документы, лейтенант угрюмо откозырял:
— Ничего не могу поделать. Отгоните машину к дому и ждите.
У него было темное, обветренное лицо. Слова он не произносил, а выдавливал. За его спиной от канала через всю улицу тянулась цепь солдат — ноги расставлены, на груди автоматы.
Я достал удостоверение. Если оно и произвело впечатление на лейтенанта, то внешне это никак не отразилось.
— Хорошо, — так же угрюмо сказал он. — Вы можете пройти, но я бы советовал обождать.
Набережная за оцеплением была пустынной. Доносилась стрельба — справа, из глубины квартала.
— Хорошо, я дам сопровождающего, — еще угрюмей сказал лейтенант. Мотнул головой.
Вразвалку подошел низкорослый сержант.
— Проведешь, — приказал лейтенант. — Я сообщу по рации.
Сержант критически оглядел мой светлый выутюженный костюм:
— Испачкаетесь, уважаемый.
Я знал, как обращаться с десантниками, и двинулся вперед, не сомневаясь, что он последует за мной. Так оно и оказалось.
Мы пошли по набережной. Вода в канале блестела.
— Вы все-таки держитесь сзади, — уже нормальным голосом сказал сержант, догоняя. — И ни в коем случае не отходите от меня далеко.
— Что тут у вас происходит? — спросил я.
— Операция.
Больше он ничего не добавил, и я не стал спрашивать.
Мы свернули во двор — узкий, извилистый. Стены в черных потеках смыкались, вытесняя небо. Все время казалось, что сейчас — тупик, но открывался новый проход. Стрельба слышалась очень ясно. Сдвоенно тыкнул карабин, затем, сплетаясь, хлестнули автоматные очереди, и, наконец, неторопливо, солидно застучал тяжелый пулемет, судя по звуку — «гочкис», стреляющий пулями размером с небольшой огурец.
Это было уже серьезно. В последний раз я слышал «гочкисы» год назад во время мятежа в Порт-Хаффе.
Тогда сепаратисты из «Феруз» в первые же часы очень грамотно развернули напалмовые обоймы вдоль пригорода и, блокировав огненным полукольцом войска МКК[1], двинули танки прямо на Ролиссо, где находились международные армейские склады. Расчет был на внезапность. Если бы они захватили оружие, то могли бы отрезать весь Север и держать жесткую оборону на границе равнины по крайней мере несколько месяцев.
Главнокомандующий вооруженных сил страны то ли растерялся, то ли действительно был связан с мятежниками, как говорили потом, ко вместо того, чтобы взорвать склады, он выслал наперехват артиллерийскую школу — необученных курсантов, придав им саперный батальон из резерва, — штурмовые танки «мант» прошли как сквозь масло, — я уже потом, после гибели Аль-фаиза, видел на шоссе груду исковерканных орудий и тел.
Нас выбросили на исходе ночи. Небо начинало светлеть. Десятки капсул неторопливо вываливались из пузатых, с маленькими крыльями, неуклюжих на вид транспортных самолетов, долго, уменьшающимися точками, летели вниз и у самой земли эффектно распахивали зонты — пружинили на воздушной подушке. Сверху все было отлично видно. И огненный полукруг, опоясавший порт, и серебрящуюся спокойную Ниссу, и артиллерийские вспышки за мостом, который уже был захвачен сепаратистами, и ближе к земле — пропитанные флюорофором, зеленые, светящиеся знамена передового полка «Меч пророка».
Мы садились прямо на склады. Вдали ухали разрывы, но мы все-таки надеялись закрепиться, — у нас были податомные базуки, которые если и не пробивали броню, то, во всяком случае, после попадания останавливали «манты» на минуту-две, пока меняется сплавившаяся оптика, а за две минуты можно было навести канальную мину, и вот когда капсулы начали раскрываться, а мы — выпрыгивать на ноздреватую бетонную площадку перед складом, оттуда со сторожевых вышек тяжелыми басами заговорили «гочкисы». Оказывается, Аль-Фаиз еще за четыре часа до выступления выслал вперед ударную группу; она без шума вырезала охрану и заняла ключевые посты. Но мы этого не знали и, когда вспыхнула первая капсула, закричали им, показывая нашитые голубые полосы, и командир десанта, югославский майор, приказал осветить себя прожектором, чтобы была видна его форма с надписью: «Международные войска», но вторая очередь, поразившая его и опрокинувшая прожектор, доставила все на свои места.
Я очнулся только утром в госпитале, когда Аль-Фаиз и двенадцать его имамов, окруженные в здании аэровокзала, покончили самоубийством, выбросившись на мостовую.
Трудно было понять, кто устроил стрельбу из «гочкисов» здесь, в центре густонаселенного города.
Двор вывел нас на боковую улицу.
— Теперь осторожно, — предупредил сержант.
И сразу же над нашими головами прошуршало, будто пилой по дереву, посыпались крошки. Мы отшатнулись, — чуть выше в темном кирпиче появился десяток красных лунок со сколотыми краями.
— Весело тут у вас, — сказал я, отряхивая пиджак.
Сержант блеснул зубами.
— Это ничего. Это пугают. А вот есть у них один с карабином, так бьет, подлец, как в тире, — на выбор.
— Откуда у них «гочкисы»? — спросил я. — Или это ваши стараются?
— У них есть все, что хочешь, — сказал сержант. Вытер лицо, оставив на нем красные полосы. — Ладно, надо перебираться на ту сторону. Видите подворотню?
До подворотни было метров сорок.
— По одному, быстро, — сказал сержант.
Выскочил, будто нырнул, почти падая, перебежал улицу. Запоздало ударила очередь, выбила искры из асфальта, зазвенело разбитое стекло. Я кинулся, не дожидаясь, пока очередь кончится, рассчитывая, что все внимание сейчас сосредоточено на сержанте. По мне даже не стреляли.
— Вот мы и на месте, — сказал сержант. Он закуривал.
— Хороший автоматчик уложил бы нас запросто.
— Под хорошего автоматчика я бы и не полез.
Он открыл обшарпанную дверь на первом этаже. Мы быстро прошли по темноватому коридору и оказались в квартире. Там царил хаос. Двери между комнатами были выломаны, на полу сверкали сотни зеркальных осколков, полированную стенку наискось прочерчивала пулевая дорожка, стол был почему-то перевернут ножками кверху. По бокам окна с выбитой наружу рамой стояли капитан-десантник и совсем молоденький лейтенант. У обоих в руках были портативные рации.
— По приказу начальника охраны… — шагнув вперед, начал докладывать сержант.
Капитан повернул к нему белое, перекошенное лицо.
— К стенке, к стенке! — закричал он сорванным голосом.
Мы едва успели отскочить. Автоматная очередь метлой прошла по полу, брызнули зеркальные фонтаны.
— Засекли все-таки, сволочи, — сказал капитан.
— Надо менять позицию, — сказал лейтенант. Он ежесекундно вытирал лицо ладонью — нервничал.
— Поздно. Уже поздно, — сказал капитан. Закричал в рацию: — Хансон, слышишь меня? Хансон! Что там у вас?
— Заняли чердак, — донеслось из рации. — Через минуту начинаем. Я сообщу.
— Балим! — закричал капитан. — Через минуту закроешь окна. Плотно закроешь, понял? Чтоб носа не могли высунуть!
— Не высунут, капитан, ничего не высунут, — неторопливо сказал голос с сильным южным акцентом.
— Видишь, где у них пулемет?
— Вижу.
— Вот. Чтоб больше ни я, ни ты его не видели.
— Понял, капитан. Все будет в ажуре, капитан.
Капитан повернулся к нам:
— Ну?
Сержант доложил.
— Какой Август? Август на той стороне, — неприязненно сказал капитан. Посмотрел на мой костюм, ужасно сморщил лицо, не давая опуститься воспаленным векам. — Сейчас туда не пройти. И здесь вам делать нечего. Отправляйтесь во двор. Он не простреливается.
Я достал удостоверение. Капитан даже не взглянул на него. Из рации закричали:
— Начинаем, капитан!
И он тоже закричал:
— Балим! Балим! Огонь!
Бешено захрипели стволы. Мой сержант перекинул автомат на руку и лег у соседнего окна, раскинув ноги. Следил.
Переулок хорошо просматривался — широкий, пустой. Стены были исцарапаны пулями. Стекла большей частью разбиты. У тротуара дымилась покореженная легковая машина. Ветер переворачивал зеленые бумажки, словно листья, усыпавшие асфальт. В конце переулка, напротив нас, из высокого дома с зарешеченными окнами выдавалась узкая, на два этажа, полукруглая башенка, насквозь пронизанная солнцем.
Стреляли по ней.
На крыше дома появился человек — во весь рост, замахал руками. Слева выскочил взвод десантников — побежали мимо догорающей машины.
— Быстрей, быстрей! — застонал капитан в рацию.
И вдруг откуда-то сверху, перекрывая автоматный стрекот, отчетливо застучал «гочкис». Пули его со сверлящим визгом рикошетировали от мостовой. Обрушился целый пласт штукатурки. Поднялась белая пыль. Двое бегущих сразу упали, остальные, помешкав секунду, нырнули в ближайший подъезд. Один десантник то ли растерялся, то ли не сразу сообразил — застыл на середине переулка. Ему кричали. Момент был упущен.
«Гочкис» отсек его от подъезда. Десантник рванулся в другую сторону. Там была глухая стена. Вжался в нее спиной, глядя, как быстро-быстро по асфальту приближаются к нему выщербленные лунки.
Сержант у окна выругался, и автомат в его руках заколотился нескончаемой очередью.
— Балим, я тебя расстреляю, — страшным голосом сказал капитан.
— Они перешли на третий этаж! — закричал Балим.
Десантник у стены наконец решился — прыгнул вперед, надеясь перескочить через смертельные лунки. Очередь поймала его в воздухе. Он переломился.
— Балим, что ж ты, Балим? — горловым шепотом сказал капитан.
И вдруг все стихло. Только сержант бил и бил вверх по башенке. Я потряс его за плечо, он очумело оглянулся, бросил автомат и высморкался на пол.
— Капитан! Хансон передал — они уже в квартире!
— Ага! — сказал капитан.
Выбрался через окно, постоял и зашагал к дому с башенкой. Лейтенант молодцевато выпрыгнул вслед за ним. У меня оборвалось сердце, но выстрелов не было.
Я тоже вылез. И отовсюду появились десантники, заполнили переулок. Ждали. Негромко переговаривались. Некоторые поднимали зеленые бумажки. Это были купюры по сто крон каждая. Высокий черный человек что-то темпераментно объяснял капитану, помогая себе руками.
Подошел Август. Я не сразу узнал его застывшее лицо.
— Одного все-таки взяли, — сказал он.
Из парадной дома с башенкой двое в комбинезонах волокли третьего — бьющегося, кричащего, — тащили по мостовой.
— Ведут, ведут, — заговорили рядом.
Август увидел меня — моргнул голыми веками.
— Ты? Откуда ты здесь? — И, забыв обо мне, пошел вперед, к тому, третьему, задыхающемуся в конвульсиях.
Глава вторая
Выдержки из доклада Постоянной инспекционной комиссии при Международном контрольном комитете (МКК.) по обследованию объекта 7131 (биология), научно-технический комплекс «Зонтик», штат Аризона, США.
Основание для инспекции — заявление профессора Чарлза Ф. Беннета, Принстонский университет, штат Нью-Джерси, США, о восстановлении комплекса «Зонтик» и возобновлении в нем исследований в нарушение «Декларации о разоружении», части пятой — «Медицински не оправданное воздействие на психику человека физическими, химическими или иными средствами с целью модификации его поведения» и части второй «Декларации прав гражданина» — «Насильственное изменение индивидуальных качеств личности» (см. Приложение к докладу).
…Инспекцией научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США, установлено наличие проводящихся в нем в настоящее время исследований химического воздействия на психику человека препаратами группы «Октал» с целью модификации поведения по типу реакций «Страх» (лаборатория профессора И. Липкина) и «Ненависть» (лаборатория профессора У. Олдингтона).
…Шестая лаборатория объекта (бывший руководитель — профессор Ф. С. Нейштадт), на которую указывал заявитель, в настоящее время не восстанавливается, в планах реконструкции не значится, и тематика ее исключена из предполагаемого направления исследований.
…Суммируя вышеизложенное, комиссия считает установленным наличие в научно-техническом комплексе «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США, исследований, нарушающих часть пятую «Декларации о разоружении» и часть вторую «Декларации прав гражданина», и рекомендует МКК:
1. Полностью расформировать научный персонал комплекса «Зонтик».
2. Демонтировать оборудование комплекса и передать его МКК.
3. Привлечь директора комплекса «Зонтик» профессора Г. Микоэлса к судебной ответственности в рамках международных правовых норм по статье «Личная ответственность за создание и разработку запрещенных систем вооружений».
Мнение членов комиссии единогласное.
Подпись: председатель комиссии профессор Л. Кхамлинг (Лаос).
Приложение
Выдержки из заявления профессора Чарлза Ф. Беннета, Принстонский университет, штат Нью-Джерси, США
…Обращаю особое внимание МКК на исследования в шестой лаборатории комплекса «Зонтик», руководитель — профессор Ф. С. Нейштадт. Я лично не был знаком с профессором Нейштадтом, но примерно за год до подписания «Декларации о разоружении» у меня состоялась доверительная беседа с одним из его сотрудников, моим близким другом, имени которого я здесь не привожу по причинам этического характера. Мой друг сообщил мне, что профессором Нейштадтом разработан принципиально новый способ модификации психики человека. Речь идет о создании в коре головного мозга, в среде уже действующих нейрофизиологических связей, локального, совершенно автономного блока управления с четкой реализацией записанной в нем программы. В отличие от существующих к настоящему времени способов модификации, которые, подавляя эмоциональные или логические функции коры головного мозга, влекут за собой частичную деформацию психики, новый метод позволяет полностью сохранить сложившуюся к моменту воздействия психофизиологическую картину личности с ее мировоззренческим, социальным или бытовым содержанием. При этом явления амнезии или диффузии психики отсутствуют. Способ, которым производится запись программы, мне неизвестен. Включение программы осуществляется индивидуальным или общим словесным шифром.
Мой друг, в искренности которого я не сомневаюсь, сообщил мне также, что профессором Нейштадтом в сотрудничестве с научным отделом министерства обороны создается техника серийной записи подобных блок-программ, могущая быть использована для модификации психики военнослужащих или гражданского населения.
Первые опыты в этом направлении на добровольцах из ВВС прошли успешно.
Считаю своим долгом человека и гражданина сообщить эти сведения МКК и просить МКК провести тщательное расследование деятельности профессора Нейштадта.
Примечание к приложению
При существующем уровне нейрофизиологических исследований как в США, так и в других странах считаю невозможным:
1. Осуществление записи подобной блок-программы требуемой частоты.
2. Полное сохранение при такой записи личностных качеств объекта воздействия.
Подпись: профессор Арт Д. Поол, директор Института нейрофизиологии (Англия), эксперт МКК (биология).
Выдержки из показаний профессора Г. Микоэлса, бывшего директора научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США, в Международном суде в Гааге.
Верховный судья процесса Э. Штритмайер (ФРГ)
Вопрос. Подсудимый, знали ли вы, что исследования, которыми занимался ваш комплекс, запрещены «Декларацией» и могут проводиться только с особого разрешения и под контролем МКК?
Ответ. Мы никогда не ставили перед собой военных целей. Наши исследования носили сугубо медицинский характер. Они необходимы при изучении некоторых шизоидных и параноидных состояний психики человека и для успешного лечения таких состояний.
Верховный судья Э. Штритмайер. Подсудимый, вы не ответили на вопрос.
Ответ. Да, я знал. Но я хочу подчеркнуть, что исследования проводились исключительно на добровольцах. Испытуемые предварительно знакомились с программой эксперимента и его возможными результатами. В настоящее время все они чувствуют себя удовлетворительно и получили оговоренную правилами денежную компенсацию.
Вопрос. Что вы можете сказать о работах шестой лаборатории, руководимой профессором Нейштадтом?
Ответ. О работе шестой лаборатории я ничего сказать не могу.
Вопрос. Не кажется ли вам странным, подсудимый, что, будучи директором комплекса, вы не знали о характере работы подчиненной вам лаборатории?
Ответ. Шестая лаборатория только формально входила в комплекс. Фактически она подчинялась не мне, а непосредственно министерству обороны. Лаборатория имела собственные средства, самостоятельно закупала оборудование и самостоятельно планировала свои исследования. Я, как директор института, не знал даже примерных результатов работы этой лаборатории. Мельком слышал, что испытуемых там называют фантомами.
Вопрос. Фантомами?
Ответ. Да.
Вопрос. Почему?
Ответ. Не имею представления. Все отчеты шестой лаборатории, минуя меня, шли сразу в министерство. Могу только сказать, что профессор Нейштадт был безусловно очень талантливым ученым, имел строгие моральные принципы и понимал свою ответственность перед человечеством. Мы все сожалеем о его гибели. Он никогда не позволил бы себе ничего противозаконного.
Выдержки из показаний генерала А. Д. Кромма, бывшего начальника отдела научных исследований министерства обороны, в Международном суде в Гааге.
Верховный судья процесса Э. Штритмайер (ФРГ)
Вопрос. Подсудимый, научно-технический комплекс «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США, находился в ведении вашего отдела?
Ответ. В определенной мере.
Вопрос. Поясните суду ваши слова.
Ответ. Мой отдел действительно контролировал некоторые институты, но в большинстве случаев мы лишь предоставляли дотации научным центрам для выполнения необходимых исследований. В этих случаях я осуществлял только общее руководство работами, не вдаваясь в их конкретные детали.
Вопрос. Исследовательский комплекс «Зонтик» относился к этим случаям?
Ответ. Да.
Вопрос. Что вы можете сказать о шестой лаборатории, руководимой профессором Нейштадтом?
Ответ. О шестой лаборатории я узнал только после происшедшей там катастрофы. С профессором Нейштадтом — знаком не был.
Вопрос. Вы здесь слышали показания профессора Микоэлса. Он утверждает, что шестая лаборатория подчинялась министерству обороны и доклады о результатах ее исследований получал непосредственно ваш отдел.
Ответ. Я могу повторить: о деятельности шестой лаборатории я ничего не знаю. Если такие доклады и существовали, то я их не видел.
Вопрос. Что вы можете сказать о причинах гибели шестой лаборатории?
Ответ. Сразу после катастрофы мы провели соответствующее расследование. У экспертов нет единого мнения.
Вопрос. А ваше личное мнение?
Ответ. Я не эксперт.
Без указания источника
Сведения о профессоре Ф. Нейштадте, бывшем руководителе шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США
Фредерик Спенсер Нейштадт родился в 1961 г. (недостоверно) в США. Конкретное место рождения неизвестно. Сведения о родителях отсутствуют. Сведения о детских годах отсутствуют. Предположительно — окончил нормальную среднюю школу в г. Сан-Паул, штат Огайо. Окончил Гарвардский университет (штат Массачусетс) по специальности биология (нейрофизиология).
Уже в первые годы учебы проявил незаурядные научные способности и склонность к экспериментальной работе.
По окончании университета около пяти лет работал в лаборатории профессора Н. Хэйла (недостоверно, профессор Хэйл умер в 1997 г., данные о штате лаборатории в архиве университета отсутствуют). Направление исследований — «Патофизиологические состояния головного мозга человека» (недостоверно, данные о плановой тематике в архиве университета отсутствуют), статьи в специальных журналах (список прилагается), монография «Активная нормализация патофизиологии головного мозга» (монография отсутствует во всех зарегистрированных библиотеках). С 1994 г. (недостоверно) работал в научно-техническом комплексе «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США. С 1998 г. (недостоверно) — руководитель шестой лаборатории этого комплекса. Предполагаемое направление исследований — волновая резонансная регуляция психики человека. Открытые публикации по результатам исследования отсутствуют. Данные о сотрудниках лаборатории отсутствуют. После подписания «Декларации о разоружении» в МКК стали поступать заявления, свидетельствующие о проведении профессором Нейштадтом запрещенных «Декларацией» исследований, влекущих за собой судебную ответственность по международным правовым нормам. Осенью того же года (за две недели до прибытия инспекции МКК) в лаборатории профессора Нейштадта произошел взрыв, сопровождавшийся интенсивным многосуточным горением не поддающихся тушению зажигательных смесей типа напалм-кремний, что блокировало применение спасательных средств. Восстановить документы или оборудование лаборатории после кремниевого выгорания оказалось невозможным.
Человеческие останки не идентифицировались. Предположительно — профессор Нейштадт и его сотрудники погибли в момент взрыва.
Данные о возобновлении аналогичных исследований в каких-либо странах отсутствуют.
Без указания источника
Предположительные проявления деятельности лиц (фантомов), кодированных в шестой лаборатории (руководитель — профессор Ф. С. Нейштадт) научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США
ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА В ПАРАБАЙЕ
В ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое толя часть средних офицеров генерального штаба Парабайи, опираясь на взводы охраны, арестовала и расстреляла весь руководящий состав генштаба и военного министерства. Были подняты по тревоге гарнизон города и офицерское училище. От имени расстрелянного военного министра танковому полку, находящемуся в летних лагерях, был дан приказ войти в столицу. К утру двадцать седьмого июля мятежники блокировали президентский дворец, захватили радиостанцию и обратились с воззванием к армии и народу. Мятеж был поддержан частью офицеров ВВС, которые, не объясняя рядовому составу причин, подняли в воздух подчиненные им подразделения и барражировали в небе над столицей. Утром двадцать седьмого июля после отказа президента страны сложить с себя полномочия и сдаться дворец был подвергнут интенсивному артиллерийско-пулеметному обстрелу. Основная часть войск не поддержала мятежников. Рядовые ВВС и курсанты офицерского училища заявили о своей верности правительству. Командование принял на себя начальник оперативного управления генштаба. К вечеру двадцать седьмого июля мятежники были рассеяны, руководители мятежа окружены в здании генштаба и покончили самоубийством.
По данным министерства обороны Парабайи, офицеры, возглавившие мятеж, в разные сроки проходили подготовку в военных институтах США.
ВИНДЗОРСКИЙ ИНЦИДЕНТ
Девятого августа группа военных техников станция слежения «Виндзор» (Марс, Эритрейское море), расстреляв большую часть обслуживающего персонала, в том числе командира станции полковника Нигата (Япония), захватила пульты управления и в течение четырех дней требовала передачи под свой контроль всех станций слежения на планете, угрожая в случае отказа начать ракетный обстрел крупнейших столиц Земли. Переговоры с террористами оказались безрезультатными. Боевой крейсер «Амур», высланный Советом МКК, получив прямое попадание ракетой «Земля — космос», тем не менее сумел направленными радиолучами парализовать работу систем и высадил десант, который захватил станцию слежения «Виндзор». Часть террористов была уничтожена во время перестрелки, трое, блокированные в диспетчерской, покончили самоубийством, около десяти человек на бронетранспортерах прорвались на космодром и, захватив пассажирский лайнер «Мико», вышли в открытое пространство. Интенсивный лучевой поиск корабля оказался безрезультатным. Лайнер «Мико», захваченный террористами, относится к типу малогабаритных пассажирских лайнеров и опасности для Земли и передовых станций не представляет.
Документацию аналогичных проявлений деятельности фантомов см. в картотеке спецотдела информации, литера А (красная), шф, 156, on. 12–19.
Признаки, позволяющие отнести указанные инциденты к проявлению деятельности лиц, кодированных в шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США
1. Внезапность выступления.
2. Отсутствие предварительной подготовки.
3. Опора исключительно на узкий круг посвященных лиц (предположительно — только на фантомов).
4. Чрезвычайная беспощадность к любого рода противодействию.
5. При неудаче выступления — самоубийство всех членов руководства (предположительно — фантомов). Участники указанных инцидентов являются гражданами США, проживают в США или находились на территории США продолжительное время с той или иной целью.
Глава третья
Замысловатым ключом я открыл дверь и присвистнул.
Квартира была разгромлена, причем громили ее долго и тщательно. Мебель не просто сокрушали, а предварительно разбирали на части и каждую часть ломали отдельно. Пружины дивана были выдраны и разбросаны. От люстры осталось белое растоптанное пятно. Книги, вероятно, сначала разрывали по корешку, а потом рассеивали страницы. Обои висели печальными языками, открывая ноздреватую штукатурку. Кухонный агрегат был превращен в груду мятого металла.
Такая работа требовала громадного времени и сил.
Она вызывала уважение.
В одной из комнат точно посредине стояла совершенно нетронутая низкая лакированная тумбочка. На ней лежал лист бумаги — странно аккуратный среди разгрома. От руки, печатными буквами, крупно было написано одно слово: «Убирайся». Вместо подписи стоял значок — полукруг с поперечными черточками.
Я сел на тумбочку. У меня было несколько версий.
Первая — здесь всем представляют квартиры в таком виде. Эта версия была удобна тем, что разом все объясняла.
Версия вторая — хулиганство. Версия третья — маньяк. Версия четвертая… Версия пятая… Версия сто сорок шестая — звездные пришельцы. Изучали земную жизнь.
В комнате тяжело вздохнули. Это вздохнул я. Я знал, что мне сейчас предстоит, и заранее не радовался.
Но делать было нечего. Я разделся, повесил одежду на сохранившийся гвоздь и принялся за работу.
Обыск занял ровно три часа. Я перемазался в известке, в машинном масле, разодрал себе локоть. Сильно мешало стекло под голыми коленями. Но в итоге через три часа я положил все на ту же тумбочку два серых тонких кружочка с острием для втыкания — наподобие кнопки.
И, глядя на эти два высокого класса, сверхчувствительных дистанционных микрофона, я вдруг понял, что ни одна из версий не подходит.
Разве что первая и сто сорок шестая.
Я оделся и поехал в Дом.
Дом стоял на тихой зеленой улице. Вход в него украшали шесть колонн, по которым, ослепительно вспыхивая, бежали вверх хохочущие и плачущие лица, встающие на дыбы кони и написанные разноцветными буквами короткие и загадочные слова.
Я не сразу понял, что это афиши.
Навстречу мне вывалилась стайка молодежи — все в радужных куртках, в рубашках, рисунок которых менялся в зависимости от освещения. Шли, будто плясали, высоко подпрыгивая. У девушек при солнце светилась на губах золотая помада. Одна из девушек, оступившись, упала на колонну — та лопнула с печальным звоном, обнажился блестящий решетчатый круг в асфальте. Все захохотали. Упавшая вскочила — визжа, повисла на высоком парне. Над кругом задымился голубой туман — колонна восстанавливалась.
С некоторым сомнением я потрогал свой галстук, но потом подумал, что для инспектора строгий и чуть старомодный вид даже обязателен.
На этаже, где помещалась администрация, народу оказалось неожиданно много. Сновала та же молодежь.
Все — танцуя. Меня обтекали, как столб. Друг друга они тоже не замечали. На гудящих воздушных карах проплыла пустая рама для мнемофильмов. Ее поддерживали двое мужчин в синих халатах. Бородатые ребята — по пояс голые, лоснящиеся — делали лепку на стенах. Пена из декорационных фломастеров застывала, образуя причудливые узоры.
У двери с надписью «Дирекция» невероятно тощий, изнуренный человек размахивал, как ветряк, руками.
Одет он был наподобие новогодней елки — цветные тряпочки, бляшки, зеркальца; просвечивали желтые ребра.
Его собеседник пятился на коротких ногах.
— Нет, нет, нет! — фальцетом кричал тощий. — Я не позволю! Никаких драконов — ни трехглавых, ни огнедышащих! Сугубый реализм. Учтите это! Я так вижу.
— Витольд, — пытался говорить собеседник, — ну совсем маленький дракончик. Вроде ящерицы. Пусть себе летает…
Тощий его не слушал:
— Ни драконов, ни ящериц, ни морских змеев. Запомните! — И потряс пальцем перед носом толстяка. Тот воззвал:
— Бенедикт, хоть ты скажи…
Третий участник разговора — высокий, громоздкий, сонно прикрывая веки, думал о своем.
Тощий застыл с пальцем у носа.
— Ни одной запятой не дам переставить. Все. Я сказал! — высокомерно уронил он и пошел по коридору, вихляя всем телом.
— Могу я работать в таких условиях, Бенедикт? — возмутился толстяк.
— М-да… — подумав, изрек высокий. Заметил мой взгляд: — Вы ко мне?
Я предъявил удостоверение.
— Вот, очень кстати, — сказал высокий. — Инспектор из Столицы. По вопросам культуры.
— От сенатора Голха? — растерянно спросил толстяк.
— Не только. Возникла необходимость общей инспекции, — туманно ответил я.
— Боже мой, это же нелепо! — Толстяк всплеснул руками. — Какой инспектор? Зачем нам инспектор? Я вчера говорил… Он ни словом не обмолвился об инспекторе.
— Герберт, — предостерегающе сказал высокий. — Инспектор разберется сам. — Повернулся ко мне: — Разрешите представиться, директор Дома, Бенедикт. Вежливой улыбкой поднял верхнюю губу, показал крепкие зубы. — Наш финансовый бог-советник Фольцев.
— Очень, очень приятно, — сказал советник. По лицу его было видно, что он испытывает совсем другие чувства.
— Как здоровье сенатора? — заботливо спросил директор.
— Неплохо, — отрезал я.
— Как же так… — растерянно начал советник.
Директор его перебил:
— Прошу вас. — Указал на дверь, распорядился: — Герберт, пришли Элгу.
В кабинете он усадил меня за обширный стол-календарь, испещренный множеством пометок.
— Итак, господин Павел?
— Может быть, без господина? — предложил я.
— Отлично, — сказал директор. — Я для вас просто Бенедикт.
— Меня интересует ваш Дом, — сказал я. — Хочется познакомиться поближе. Гремите.
— Да. Дом у нас замечательный, — сказал директор. — Уникальный Дом. К нам приезжают специально из других стран, чтобы принять участие в Спектакле. Знаете, в Италии есть фонтан Грез: если бросишь туда монетку, то обязательно вернешься. Так к у нас. Кто хоть один раз участвовал в Спектакле, тот обязательно приезжает еще.
Директор все время улыбался, а глаза его оставались холодными. Мне это не нравилось. Он вполне мог оказаться фантомом. Впрочем, торопиться не следовало.
Фантомом мог оказаться кто угодно. Даже я сам.
— Разумеется, это далось не сразу, — сказал директор. — Кропотливая работа. Пристальное изучение вкусов молодежи. Ее духовного мира. Вы знаете, у молодежи есть свой духовный мир! Что бы там ни писали каши социологи!
Мне очень хотелось прочитать записи на столе. Такие торопливые пометки — для себя — могут сказать многое. Но директор как бы невзначай нажал кнопку, и поверхность очистилась.
— Чрезвычайно интересно, — сказал я.
— Мы ведь не просто копируем историю, — еще доброжелательней сказал директор. — Мы воссоздаем ее заново. Разумеется, в чем-то отступая от действительности, но в рамках. Иного я бы и не допустил. — Он поднял широкие ладони. — Какой смысл рассказывать! Сегодня у нас сдача нового Спектакля. Надеюсь, вечер у вас свободен?
— В какой-то мере, — сказал я, не желая себя связывать.
— Обязательно приходите! — с энтузиазмом воскликнул директор. — Мы делаем восемнадцатый век. Морское пиратство. Я распоряжусь, чтобы вам оставили марку.
В это время в кабинет вошла светловолосая женщина, очень симпатичная.
Директор обрадовался:
— Элга! Наконец-то! Познакомьтесь. Павел — Элга. Она как раз занимается этой… культурой.
Элга обещающе улыбнулась. Ее короткая юбка едва доходила до середины бедер, декольте на блузке располагалось не сверху, а снизу, открывая живот и нижнюю часть груди.
— Элга вам все покажет, — сказал директор. — Тем более что она специалист. А меня извините, Павел, Спектакль. Ни одной свободной минуты.
— Буду рад, — ответил я, поднимаясь.
— Пойдемте, — сказала Элга и посмотрела на меня многозначительно.
Я поймал взгляд директора — тоже многозначительный, мужской. Очевидно, предполагалось, что теперь новый инспектор поражен в самое сердце. Они не знали, что я год работал в Скандинавии среди «вольных фермеров» и видел не такое.
В коридоре топтался мрачный парень в синем халате. Увидев директора, он произнес инфракрасным голосом:
— Бенедикт…
— Я уже все сказал, — недовольно ответил директор.
Парень посмотрел на Элгу, потом с откровенной ненавистью на меня и высказал свою точку зрения:
— Ладно. Монтировать камеру — Краб. Записывать фон — Краб. Ладно. Вы Краба не знаете. Ладно. Вы Краба узнаете.
— Я занят, — сдерживаясь, сказал директор.
Парень напирал грудью.
Я хотел послушать этот захватывающий диалог, но Элга увлекла меня вперед. Мы прошли мимо бородатых ребят, занимающихся лепкой. Один из них коротко свистнул и сказал довольно явственно:
— Элга опять повела барана.
Бараном был, конечно, я. Я спросил:
— Кто это?
— А… художники. Хулиганят — непризнанные гении. — Элга фыркнула. У нее это получилось на редкость привлекательно.
— Нет, этот парень с лицом гориллы.
— И верно, похож. — Она легко рассмеялась. — Это Краб, мнемотехник. Странный какой-то парень. Все время что-то требует. Бенедикт устал с ним.
Я оглянулся. Мрачный парень весьма агрессивно втолковывал что-то директору. Тот, морщась, кивал.
Вид у него был затравленный. Бенедикт действительно устал.
— Что бы вы хотели осмотреть? — спросила Элга.
— Элга… а дальше?
— Просто Элга.
— Просто Павел. Я бы хотел осмотреть как можно больше.
— Благодарю. — Она прямо-таки обдала меня синевой. Я подумал, что радужка глаз у нее подкрашенная. — Все-это очень много, Павел. Может быть, мы сначала посидим где-нибудь, Павел?
Мое имя таяло у нее во рту.
— Сначала, может быть, все-таки посмотрим? — сказал я.
Элга пожала плечами:
— Вот, например, режиссерская. Там готовят сегодняшний Спектакль.
Режиссерская представляла собой громадную комнату без окон. Под светящимся потолком были развешаны десятки волновых софитов для стереоокраски, а в центре на беспорядочных стульях сидели пять или шесть человек. Режиссер, похожий на елку, жестикулировал. Сбоку от него я увидел Кузнецова. Гера задумчиво курил. Он то ли не обратил внимания на открытую дверь, то ли сразу сориентировался и «не узнал» меня.
По легенде мы были незнакомы.
Больше я ничего заметить не успел. Режиссер повернул к нам изъеденное до костей лицо, закричал, срываясь.
— В чем дело?! — И, не слушая объяснений: — Я занят, занят, занят! Сколько говорить — я занят!
Элга закрыла дверь, словно обожглась.
— Сдача Спектакля, — смущенно пояснила она. — Витольд всегда так нервничает…
Я промолчал. Я думал: как хорошо, что в паре со мной работает Кузнецов. Спокойный и рассудительный Гера Кузнецов, на которого можно положиться при любых обстоятельствах.
Элга провела меня в техотдел. Я не разбираюсь в голографии и тем более в волновой технике, но, по-моему, оборудование они имели первоклассное, выполненное в основном по специальным заказам. Несколько агрегатов устрашающего вида были, как пояснила Элга, сделаны своими силами в собственных мастерских.
Потом мы ознакомились с секцией танца. Ею руководила энергичная женщина средних лет, двигавшаяся с пластикой, которая дается годами упорных тренировок. Она толково ответила на мои не слишком вразумительные вопросы. Элгу не замечала — принципиально.
Там же, в зале, в толстом прозрачном кресле, возведя черные глаза к потолку, полулежал парень в шикарном тренировочном костюме — затягивался тонкой, как спица, сигаретой, выпуская зеленый дым. Парень даже не глянул на нас, но сигарета замерла в воздухе, и я понял, что он слушает разговор самым внимательным образом. Выходя, я равнодушно обернулся и поймал его мгновенный, пронзительный, сразу погасший взгляд. Мы словно сфотографировали друг друга.
Вообще Элга оказалась неплохим гидом, особенно когда забывала о своей задаче — прельстить инспектора из Столицы. Я искренне интересовался ею, а когда интересуешься искренне, то рассказывают много и охотно. В результате я узнал, что ей двадцать семь лет, что она не замужем — все попадались какие-то хухрики, что она хотела бы иметь самостоятельную работу, а ее держат ассистентом, что она давно бы ушла, если бы не Спектакли, что все в Доме держится на Витольде, что директор и Витольд ненавидят друг друга, но почему-то работают вместе, хотя давно могли бы разойтись, что Элге приходится выполнять некоторые особые поручения — какие, она не уточнила, — и в результате многие относятся к ней плохо.
Все это в какой-то мере дополняло картину, но ничего существенного не проясняло. Элга была очень мила, и мне приходилось ежесекундно напоминать себе, что фантом, пока не включена программа, ничем не отличается от обычного человека.
Кроме того, у меня не выходил из головы погром в моей квартире. Погром означал одно — я засветился.
Сомнений не было. Но каким образом это могло произойти, если я приехал в город только вчера и о моем прибытии знали три, от силы четыре человека? И потом.
Если ставить микрофоны, то зачем громить квартиру, а если громить квартиру, тогда и микрофоны ни к чему.
Получалась какая-то ерунда.
Из-за двери слева донесся сдавленный хрип. Так хрипят загнанные лошади. Я посмотрел на Элгу. Она пожала плечами. В маленькой, похожей на кладовку комнате, где стояли рулоны бумаги и высокие бутылки коричневого стекла, угрюмый Краб, оскалясь, стиснув квадратные зубы, душил зажатого в углу советника Фольцева. Тот уже посинел, вывалил язык. Слабыми, пухлыми руками рвал кисть, сдавившую горло.
— Отпустите, — сказал я.
Краб повернул заросшее лицо:
— Чего?
— Вполне достаточно.
— А ну исчезни! — рявкнул Краб.
— Я ведь могу вызвать полицию, — сказал я. — Есть двое свидетелей.
Отпущенный советник кашлял, давился слюной, сгибался, насколько позволял круглый живот. Лицо у него из синего стало багровым. Вдруг замахал руками:
— Оставьте нас! Пожалуйста! Я вас прошу!
И опять согнулся, выворачивая легкие в кашле.
Мы пошли дальше. Я деликатно молчал. У Элги был такой вид, словно ее осенило.
Я спросил:
— Может быть, я вас задерживаю?
— Нет, нет…
Мы спустились в библиотеку.
Библиотека располагалась в подвале. Светился матовый потолок. Уходили вдаль деревянные стеллажи.
Было очень тихо, за барьером у раскрытой книги сидела девушка с таким печальным лицом, словно всю жизнь провела в этом подвале.
Элга меня представила.
— Анна, — сказала девушка. Она была в сером платье с белым кружевным воротничком — как в старом фильме.
— У вас, наверное, много читателей? — спросил я.
И мне вдруг стало стыдно за свой бодрый тон.
— Нет, — сказала она, — почему же… Сейчас мало читают, больше — видео. А с тех пор как начались Спектакли — тем более.
Я перевел взгляд на раскрытую книгу.
— А я привыкла, — сказала она. — С детства читаю.
Это отец меня приучил.
Элга фыркнула. Теперь мне это не показалось привлекательным. Я смотрел на Анну. Она смотрела на меня. Я спросил о чем-то. Она что-то ответила. Элга начала нетерпеливо пританцовывать.
Послышались шаркающие шаги.
— А вот и папа, — сказала Анна.
Из-за стеллажей появился старик в вельветовой куртке, поправил старинные роговые очки.
Мы немного поговорили. Я сильно спотыкался, вдруг забыв, какие вопросы должен задавать инспектор. Кажется, этого никто не заметил.
Старик любовно гладил корешки:
— Книги — это моя давняя страсть. У меня и дома неплохая библиотека. Старая классика. Есть издания прошлого века. Конечно, сейчас принято держать звукозаписи — знаете, группа артистов читает «Войну и мир». Не спорю, есть удачные трактовки, но я привык сам. Чтобы не навязывалась чужая интонация. А мода — бог с ней, с модой!
Я все время смотрел на Анну. И она тоже смотрела — без смущения. Элга перестала улыбаться.
Когда тянуть дальше стало неудобно, я спросил старика:
— Сегодня у вас новый Спектакль?
Он вздохнул:
— Не любитель я этих Спектаклей. Но директор требует, чтобы присутствовали все. Так сказать, на месте изучали дух молодежи.
— А вы там будете? — спросила Анна.
— Обязательно, — заверил я.
— Я приду, — сказала она.
Мы вышли. Элга обиженно молчала. У нее исчезло все оживление. Мы поднялись на второй этаж, и она сказала грустно:
— Вот так всегда. Разные хухрики липнут, а стоит познакомиться с серьезным человеком, так он смотрит только на нее.
— Я не серьезный. Я веселый и легкомысленный, сказал я.
— И ничего в ней нет, — сказала Элга. — Подумаешь — книги. Чихала я на эти книги!
Мы расстались. Я не назначил Элге свидания, и она ушла разочарованная.
Глава четвертая
Днем было проведено короткое радиосовещание. Я доложил о квартире. У Августа мое сообщение восторга не вызвало.
— Случайность? — буркнул он. — Ладно. Разберемся. Подключим полицию. Пусть обеспечат твою безопасность.
Я выразительно промолчал. Конечно, полиция могла бы кое-что выяснить, но, с другой стороны, тут же начались бы вопросы: кто, зачем, почему?
— Ладно, — сказал Август, догадываясь, о чем я думаю. — Посмотрим. Это я беру на себя. Как ты считаешь, имеет смысл менять квартиру?
— Нет, — сказал я. — Я засветился еще до входа в операцию. Утечка информации где-то на самом верху.
— Ладно. Что еще?
Я рассказал о своих впечатлениях от Дома, сделав акцент на директоре и черноглазом парне, которого видел в танцевальном зале.
— Значит, ничего нового, — подытожил Август. Покашлял. — Работа по раскрытой группе тоже ничего не дала.
— Вы же одного взяли! — напомнил я.
— Включенные фантомы в случае провала кончают самоубийством, — сказал Август. — Ты это должен был понять из документов. У них это в программе.
— Но ваш жив.
— Пока жив. Попытка выброситься из окна, попытка разбить голову о стену. Сейчас его держат в специальном помещении под непрерывным контролем. Кормят насильно. И конечно, он молчит. Это тоже в программе. И будет молчать. У МКК пять живых фантомов — они молчат уже полгода. — Он опять покашлял и сказал жестко: — Плохо работаем. Прежде всего нем нужен старший группы. Не фантом. Не блокированный. Старший, который знает код включения программы.
— Или слово власти, — сказал я.
— Нам нужен старший, — повторил Август.
Потом мы немного поговорили с Кузнецовым. Он был настроен гораздо оптимистичнее, хотя и не объяснил почему. Мне казалось, что он чего-то не договаривает, и я прямо сказал ему об этом.
— Имей терпение, Паша, — засмеялся Кузнецов. — Мне самому многое неясно. Не хочу тебя сбивать — смотри свежими глазами.
Я слегка подумал и решил, что ничего он не знает.
Просто морочит мне голову.
Вечером я поехал на Спектакль.
Говоря о популярности Дома, директор не преувеличивал. Уже за несколько кварталов до него движение было закрыто. Улицы заполняла разноцветная толпа. Я плечом раздвигал покорные спины. Стояли удивительно тихо. Как вода. В глазах у всех была тоска.
При входе дежурила полиция: расставленные ноги, дубинки, из-под надвинутых касок торчат неподвижные квадратные челюсти. Между оцеплением и толпой было метров десять свободного пространства. Чувствуя, как на мне концентрируются взгляды, я пересек его, назвал свою фамилию. Мне открыли турникет, и в это время из толпы выскочил длинный парень в комбинезоне с сотнями молний. Лицо у него было раскрашено флюорофорами: правая щека мерцала красным, левая — желтым. Он пронзительно закричал: «И меня! И меня!» растопырив ладони, кинулся в проход. Его перехватили. Он забился, разбрасывая синие волосы. Толпа смотрела безучастно. Полицейские переговаривались.
Я поднялся в зал.
Зала не было. В три несуществующие стены его било море. Тяжелые, зеленоватые изнутри волны обрушивались на песок. Дул порывистый, пахнущий йодом ветер. Соленые брызги летели в лицо. Море простиралось до горизонта и сливалось там с синим южным небом. Вместо четвертой стены тянулась широкая песчаная отмель. Ее окружали буйные джунгли — сплошное переплетение узловатых стволов, корней и глянцевитых листьев. Скрипуче кричали невидимые птицы. Доносился неторопливый перекатывающийся рык тигра.
По отмели прогуливались зрители, поглядывали на часы. Некоторые забредали в воду и долго смотрели на горизонт.
Сбоку от вдающейся в море песчаной косы стояло приземистое старинное судно с двумя мачтами. Борта его, украшенные причудливой резьбой, побелели от воды, медная обшивка позеленела, из квадратных амбразур выглядывали дула пушек. Деревянная женщина на носу с распущенными волосами подалась вперед, открыв рот в беззвучном крике.
Судно тяжело покачивалось, скрипело, на передней мачте его хлопал черный флаг с черепом и костями.
Меня окликнули. Особняком стояла группа людей во главе с директором.
— Как вам нравится? — спросил он.
— Чудесно, — ответил я.
На директоре был черный плащ до пят и черная шляпа с большими полями. Такой же костюм был и на советнике, который напоминал в нем скорее не пирата, а толстого, всем довольного средневекового лавочника.
— Маскарад необязателен, — сказал директор. — Это для лучшего вживания в роль, вполне можно обойтись и без него.
— Ну что они тянут? — спросила Элга. Она морщила губы. На ней было красное бархатное платье, расшитое жемчугом.
— Я не знаком со сценарием, — сказал я.
— И не нужно! — сказал директор. — Это же не стереофильм с привлечением зрителей. Там — да, требуется знать сценарий, выучить реплики. А здесь вся прелесть в том, что сценарий неизвестен. Даже я его знаю только в общих чертах. У нас зритель — активное лицо сюжета. Он сам создает его.
— Что я должен делать?
— Что хотите, — сказал директор. — Абсолютная свобода! И к тому же учтите: при любой, самой острой ситуации вам гарантируется полная безопасность. Поэтому — что угодно. Что взбредет в голову, то и делайте. Вот Герберт, например, — он обнял советника, — Герберт в прошлый раз женился на африканской принцессе и был объявлен королем Сесе Секо Омуа Первым.
Ему вставили в нос кольцо и воткнули перья в разные части тела. У него родилось шестеро детей.
Директор захохотал, показав гортань. Советник сердито высвободился из объятий.
— Вечно ты, Бенедикт, выдумываешь. Какая женитьба в мои-то годы! — И расправил плащ на толстых, покатых плечах.
— Он у нас любит изображать огнедышащих драконов, — как бы по секрету сказал мне директор. — Просто страсть какая-то! Хлебом не корми, дай дохнуть огнем. Правда, Геб?
Советник буркнул что-то и отвернулся.
— Могу дать совет, — сказал директор. — Если вам не понравится тот сюжетный ход, в который вы попали, можете легко перейти в другой. Просто сделайте шагов десять — пятнадцать в любую сторону. На стены, море и прочий антураж внимания не обращайте.
— Ну когда они начнут? — простонала Элга и взяла меня под руку. Чувствовались ногти.
Сильная волна докатилась до наших ног и ушла, оставив шипящую пену. Я с удивлением обнаружил, что брызги на лице настоящие.
С нашего места хорошо просматривалась вся отмель.
Я быстро нашел черноглазого парня. Он стоял в кольце хохочущих золотоволосых девушек. Недалеко от них Кузнецов озабоченно разговаривал со стариком библиотекарем, хмурился. Я скользнул по ним равнодушным взглядом.
Тут же находилась Анна — в коротком белом платье, совсем одна.
— Если хотите пройти сюжет еще с кем-нибудь, многозначительно сказал директор, — то держитесь ближе к партнеру: будет большая суматоха.
На бриге ударил колокол — медным голосом. Все зашевелились. Элга сильно сжала мою руку. На верхней палубе появился человек в черном камзоле, махнул кружевной манжетой.
— Пошли, — сказал директор. — Удачи вам, Павел.
Я кивнул на прощание, и его тут же заслонили чьи-то спины. Элга потащила меня к бригу. Толкались. Было очень тесно. Я оглянулся: лицо Анны мелькнуло и пропало в толпе.
— Скорей! — сказала Элга и дернула меня совсем невежливо.
По липкому, смоленому трапу мы вскарабкались на борт. Остро пахло морем. Палуба оказалась неожиданно маленькой — я не представлял, где мы тут все разместимся, зрители лезли один за другим. Второй раз ударил колокол. Кто-то восторженно закричал. Крик подхватили. Колокол торжественно ударил в третий раз.
Корабль закачался сильнее, застонало дерево, выгнулись паруса, берег начал отодвигаться.
Я неоднократно участвовал в голографических фильмах и прекрасно знал, что вижу имитацию: мы никуда не плывем, бриг стоит на месте, да и самого брига нет — на какой-то примитивный каркас наложено объемное изображение. Но здесь что-то случилось — странное ощущение легкости и веселья вошло в меня. Я как бы забыл обо всем, что знал раньше.
Мы находились в открытом море. Кругом, сколько хватало глаз, была вода. Ветер крепчал, срывал пенные гребни, волны перехлестывали через палубу, корабль заваливался с боку на бок, я схватился за ванты, на губах была горькая соль, Элга повернула ко мне мокрое счастливое лицо, говорила неслышно за шумом волн. Я поцеловал ее. Она откинулась. «Веселый Роджер» плескался над нами.
— Па-арус! — закричали сверху.
На капитанском мостике стоял человек. Плащ и длинный шарф его развевались на ветру. За поясом были пистолеты. Мне показалось, что это директор. Вытянутой рукой он показывал в море. Там, за волнами, ныряли белоснежные паруса.
Элга завизжала, забарабанила по моей спине.
— К орудиям! — скомандовал капитан.
Полуголые, повязанные цветными платками пираты побежали по скобленой палубе, ловко откинули замки пушек. Я не видел ни одного знакомого лица. Более того, я не видел ни одного зрителя из тех, что стояли на отмели.
— Ого-онь!
Дула дружно выбросили пламя и плотные клубы белого дыма. Запахло гарью. Элга не выдержала — кинулась к свободной пушке. Я ей помогал. Ядро было тяжелое. Мы забили заряд. Она, зажмурив синий глаз, наводила. Пушка дернулась, пахнула в лицо раскаленным дымом. На паруснике впереди вспучился разрыв, забегали темные фигурки. Элга все время кричала. Теперь она была не в красном бальном платье, а в разорванной тельняшке, брезентовых брюках и сапогах с широкими отворотами. Я не понимал, когда она успела переодеться. Мы заряжали, прицеливались и стреляли, сладко ожидая очередного разрыва. С парусника бегло отвечали. Ядро ворвалось на нашу палубу, оглушительно лопнуло — пират рядом с нами схватился за горло, хрипя, осел к мачте, между пальцев потекла кровь.
Корабли быстро сближались. Из трюмов нашего брига высыпалась абордажная команда — небритые, смуглые, свирепые, — горланили, перегибаясь через борт. Одноглазый верзила с рассеченным лбом взял в зубы кортик и ощерился — темная струйка потекла из порезанного рта.
Капитан выхватил короткую саблю:
— На аборда-аж! — Побежал вниз, на палубу.
Корабли сошлись с катастрофическим треском. На паруснике повалилась мачта, накрыв команду белыми крыльями. Наш борт оказался выше, пираты спрыгивали.
Элга уже билась внизу с офицером в серебряном мундире, ловко уклонялась, вспыхнув клинком, снесла ему эполет. Офицер схватился за плечо, и тут одноглазый пират, рыча, вращая желтым зрачком, погрузил кортик ему в грудь.
Я не помню, как тоже оказался на паруснике, — рубил, кричал. Вокруг хрипели яростные лица, плясала сталь, но ни один удар не задевал меня. Мы теснили.
Команда парусника отступала к рубке — падал то один, то другой. Их капитан палил с мостика из двух пистолетов, метко брошенный кинжал, блеснув рыбкой, воткнулся ему в горло, и он повис руками на поручнях.
Палуба очищалась. Наш капитан, потеряв плащ и шляпу, выкрикивал короткие команды. Элга восторженно вопила, глаза у нее были бессмысленные, она наскакивала на щуплого матросика, который, забившись за бухту каната, с ужасом на лице сжимался под ее ударами. Я обхватил Элгу за пояс. Она яростно прижалась ко мне. Матрос перевалил птичье тело за борт.
Элга оторвалась — бледная, сияющая, — высоко подняла саблю.
Из кают послышались крики. Выбежали несколько женщин и заметались по палубе. За ними гнались пираты. Одноглазый сгреб в охапку одну из них, она била ногами, взметывая пышную юбку, — вырвалась, прижалась к борту, озиралась, растрепанная, испуганная.
Одноглазый подошел неторопливо, сильным движением разорвал на ней платье — от горла. Женщина прижала руки к голой груди… Пираты захохотали.
Я увидел Анну. Она стояла у другого борта — тонкая и презрительная.
— Боже мой, какая скука… — сказала она. — И вы тоже! И вы — как все.
Я посмотрел на свою окровавленную саблю: кого я убил?
Ощущение веселья пропало. Я бросил саблю. Была грязная, затоптанная, залитая кровью палуба, небритые рожи пиратов, рваные мундиры… Длинными шагами, расталкивая команду, прошел капитан, остановился возле женщины в разорванном платье, широкой пятерней взял ее за волосы. Женщина запрокинула голову, заблестели сахарные зубы.
Анна вздрогнула.
— Уйдем отсюда, — сказал я.
Она пошла, отворачиваясь. Я не знал, куда идти.
Директор говорил: десять-пятнадцать шагов в любую сторону. Я помнил, что море не настоящее, но прыгнуть за борт не мог. Из кают доносились пьяные крики. Вывалился матрос с черпаком, пил, обливая себя красным вином. Я считал шаги: девять, десять, одиннадцать…
На двенадцатом шаге словно лопнула струна. Свет на секунду померк. Мы оказались в полутемной комнате. Было душно. Трещали трехрогие свечи на стенах.
За длинным неоструганным столом сидело человек десять — в завитых париках, в темных камзолах с крахмальными отворотами. На столе лежала большая лохматая карта, прямо на ней стояли кубки с вином и высокая серебряная фляга, изображающая льва, поднявшегося на задние лапы.
Мы сели, и Анна уронила голову на руки. На нас никто не обращал внимания. Холеный человек без парика вел ногтем по карте. На смуглом равнодушном лице его поблескивали светлые глаза.
— До Картахены двести миль, — негромко и властно говорил он. — При благоприятном ветре мы придем туда утром. Войдем в залив и высадимся на холмах, против города. Вот здесь самое удобное место.
Грузные люди в париках вглядывались в карту, сопели. Среди них я увидел черноглазого парня. Он вдруг хитро подмигнул мне и, сделав озабоченное лицо, склонился над картой.
— Город со стороны залива не защищен, — продолжал главный. — Нам придется иметь дело только с гарнизоном. Пушки покрывают это расстояние — нас поддержат корабли.
— Капитан Клайд забыл, что при входе в залив сооружены два форта по двадцать пушек в каждом, — сказал толстый человек, очень похожий на советника.
— Мы их подавим, — небрежно ответил капитан Клайд. — Два фрегата, восемьдесят орудий, час хорошей бомбардировки.
— Перед фортом мели, близко не подойти, — не сдавался толстый.
— Гром и молния! — прорычал его сосед с фиолетовым шрамом от лба до подбородка. — Наплевать! Высадим десант на шлюпках. Мои ребята пойдут первыми…
Черта с два их кто-нибудь остановит! — Он стащил парик, тряхнул рыжими волосами.
Толстый что-то зашипел в ответ. Я не слушал: у меня на груди, под рубашкой, слегка закололо — вызывала «блоха». Я незаметно сжал ее — вызов принят. Парики, склонившись над столом, рычали друг на друга.
Рыжий стучал кулаком, текло вино. Капитан Клайд, откинувшись на спинку, надменно поднимал бровь.
На меня не смотрели. Вместе с платком я захватил в кармане «блоху» и поднес к уху. Голос Кузнецова внятно произнес: «Повторяю — Великие Моголы. Великие Моголы… — И затем другим тоном: — Что? Нет. Сейчас…» — и короткий стон, сдавленный и отчаянный.
Свободной рукой я безуспешно сжимал «блоху» под рубашкой. На вызов никто не отвечал. Черноглазый парень беспокойно заерзал. Наши глаза встретились. Он поспешно опустил веки. Я чувствовал — что-то случилось с Кузнецовым, шепотом сказал Анне:
— Нужно идти.
Она, не подняв головы, ответила:
— Идите.
Я незаметно встал. У дверей застыл негр в тюрбане, с саблей наголо. Блестели молочные зрачки, Я не знал, где искать Кузнецова, пошел по коридору между каютами. Двое пиратов, жадно разглядывавшие золотой браслет, расступились, пропуская меня.
В этот раз переход произошел на четырнадцатом шаге. Свет мигнул. Был полдень. Неистовое южное солнце выжигало из земли тонкую белую пыль. Она покрывала булыжник. Улица уходила в гору. Снеговая вершина ее плыла в небе. По обеим сторонам стояли низкие серые дома с окнами-бойницами. Старые камни крошились от жары. Из проломов глухих стен пробивались пряно пахнущие цветы.
Я послал вызов еще несколько раз. «Блоха» молчала. Я зашагал по пустынной улице. Насколько я понимал технику переноса, простая ходьба мне ничем не грозила: чтобы перейти в другой сюжет, надо было этого хотеть.
Город словно вымер. В горячей пыли копошились облезлые куры. Пробежала собака — скелет, обтянутый шерстью. Откуда-то слышалась гулкая пушечная пальба. Улица вывела меня на площадь — знойную, выгоревшую. Часть ее обрывалась вниз громадным спуском.
Хорошо было видно море. По неправдоподобной синеве его медленно, как игрушечные, передвигались кораблики с раздутыми парусами, время от времени окутываясь клубами дыма. С берега при входе в залив им редко отвечала крепость. Она была как на ладони — обе башни ее обвалились, из низких продолговатых строений в центре валил черный дым. Через стены упорно, как муравьи, лезли крохотные фигурки.
Я понял, что смотрю действие с другой стороны, из Картахены. И еще я понял, что судьба города решена: корабли подавят форт, войдут в залив и начнут бомбардировку.
Метрах в двухстах подо мной по кремнистой тропе от моря карабкался отряд пиратов человек в тридцать.
Блестели пряжки на амуниции. Я толкнул камень. Он покатился вниз. Меня заметили. Один из пиратов поднял руку, и раздался слабый хлопок выстрела. До площади они должны были добраться через полчаса.
Я пошел обратно в город, думая, как найти Кузнецова. Навстречу мне хлынула толпа — солдаты в латах, с алебардами, растерзанные горожане, женщины с детьми. Все это кричало и неслось по улице. Меня вмиг подхватило, кто-то чувствительно ударил в спину. По крикам можно было догадаться, что пираты ворвались в город. Вероятно, бой с фортом был обманным — стянул к себе весь гарнизон, а капитан Клайд тем временем высадил десант и ударил с тыла.
Остановиться в толпе было невозможно. Работая локтями, я продирался к краю. Какой-то офицер без кирасы, придерживая лоскут кожи на щеке, срывающимся голосом звал солдат. Его никто не слушал. Меня прижало к дому, я вцепился в дверную скобу. Толпа схлынула. Бежавшие в хвосте стали перелезать через стены. Появились пираты — ободранные, злые, — с гиканьем понеслись по улице. Все были с мешками.
Двое тащили деревянный ящик, полный золотых монет.
Из-за угла, воздев руки, хохоча, шла женщина в черном монашеском одеянии.
— Элга! — закричал я.
Женщина опустила руки.
— Кто? — повела безумными зрачками. Узнала: — Павел! — И захохотала опять.
Я схватил ее за плечи, тряс:
— Элга, опомнись!
Она поцеловала меня, ударила зубами о зубы, сказала спокойно:
— Вот ты где! Я тебя искала.
От нее пахло вином.
— Элга, где Кузнецов?
Она не понимала.
— Кузнецов, практикант из Советского Союза? — Я решил наплевать на конспирацию.
Элга пожала плечами:
— Здесь где-то. А я вот захотела увидеть тебя — и увидела.
— Элга, мне нужен Кузнецов, — внятно сказал я, сжимая ее запястья. Она скривилась. — Элга, где он?
— Пусти, больно, — сказала Элга. Я отпустил. — А ты совсем не тот, за кого себя выдаешь, — погрозила мне пальцем. — Мне еще Бенедикт сказал: таинственный инспектор. Кузнецов тебе нужен. В телецентре Кузнецов, где ж ему быть! Они сейчас всей бандой впрыскивают нам молодежный отдых.
— Идем, — приказал я.
Элга повисла у меня на руке, тыкала пальцем: туда. Лепетала:
— А ты мне нравишься. Хоть Бенедикт и сказал, что ты… чур, молчу… ты мне все равно нравишься.
Мы остановились перед одноэтажным домом, окна которого закрывали железные ставни.
— Здесь, — сказала Элга. — Только туда нельзя. Пока идет трансляция, туда никому нельзя. Даже Бенедикту нельзя.
Дверь была заперта. Я постучал. Мне никто не ответил.
— Пойдем выпьем, — сказала Элга. — Не будь таким скучным!
Я рванул дверь. Замок слетел. Внутри было темно.
Мерцали экраны настройки — палуба корабля, горящий город, горящий форт. Я нащупал выключатель. В потолке заметался, запрыгал бледный свет — вспыхнул. Комната была небольшая. Все четыре стены ее представляли собой пульты со множеством кнопок и тумблеров. Не в лад мигали десятки зеленых глазков. На полу, порвав сплетение проводов, опрокинув табуретку, лицом вверх лежал Гера Кузнецов. Стеклянные глаза смотрели в потолок.
Элга заглянула через плечо.
— Пьян вдребезги, — сказала она и захихикала.
Глава пятая
Кузнецов был убит примерно за час до моего прихода. В клинике «скорой помощи» ему заменили сердце, провели регенерацию сосудов и нервов, аэрировали мозг. Все было бесполезно. Он пролежал слишком долго.
Подробности я выяснил по «блохе». Стреляли болевой иглой, вызывающей паралич сердечной мышцы.
Я знал эти болеизлучатели — легкие, компактные пистолетики, стреляющие волновыми разрядами. Они применялись в медицине для интактных операций — блокировали нерв в точке укола. Превосходное оружие, совершенно бесшумное, не оставляющее следов. Одно время такие пистолеты были прямо-таки повальным бедствием в западных странах: убивали на улицах среди бела дня, убивали в кинотеатрах, убивали в парламентах во время заседаний. Полиция сбилась с ног: после выстрела пластмассовый, однозарядный, весящий всего сто граммов пистолетик бросали на пол, и определить, кто убийца, было невозможно.
Болевые иглы послужили решающей причиной для введения международного закона, запрещающего частное владение оружием любого рода, — закона, который, на мой взгляд, следовало принять лет на пятьдесят раньше.
Август запретил мне вмешиваться в это дело. Было ясно, что Кузнецов раскрылся и убит кем-то из фантомов, поэтому я не должен был иметь к нему никакого отношения. Расследования решили не проводить. По официальной версии, смерть наступила от сердечной недостаточности. Несчастный случай.
Я доложил о последней связи.
— Великие Моголы? — переспросил Август. — А ты не ошибся?
— Он повторил два раза очень отчетливо.
— Ладно, разберемся, — сказал Август. — Прошу тебя, Павел, будь осторожней — без самодеятельности.
На похоронах я появиться не мог. Я понимал, что конспирация необходима, но было очень горько. С Герой мы дружили давно — вместе кончали Школу, четыре года наши кровати стояли в одной комнате, каждый день в шесть утра он стаскивал с меня одеяло и гаркал в ухо: «Вставай, защитник планеты!» Я тогда очень гордился своей профессией и считал, что именно мы, сотрудники МКК, обеспечим Земле спокойствие и безопасность.
К тому же у меня было свидание с Анной. Я пытался убедить себя, что это нужно для дела. Получалось плохо: для дела было нужно, чтобы я встретился не с ней, а с Элгой и осторожно выяснил, почему директор не поверил в мою легенду. Этот вопрос меня тревожил.
В конце концов я махнул рукой и направился в городскую библиотеку. Там после небольших уточнений мне выдали толстенный том по средневековой истории.
Оказалось, что Великие Моголы — это династия, которая правила в Индии с шестнадцатого до середины девятнадцатого века. Ее основал некто Бабур Тимурид.
Он происходил из Моголистана — отсюда и наименование династии (по-индийски — Мугхал). Собственно, Великими Моголами их назвали европейские путешественники в семнадцатом веке.
Наибольшего расцвета государство Великих Моголов достигло при Шах-Джахане. Оно было централизованной феодальной монархией и в семнадцатом веке включало в себя почти всю Индию. Однако уже в то время, несмотря на внешнее могущество, в стране стал назревать внутренний кризис, приведший в итоге к междоусобице и распаду государства. Влияние Великих Моголов падало, и находившаяся под их властью территория быстро сокращалась. К середине восемнадцатого века они фактически владели только Дели и прилегающими районами, а к концу века стали марионетками в борьбе крупных феодалов Северной Индии. Этим воспользовались англичане и в 1803 году захватили Дели. Формально Великие Моголы продолжали считаться правителями Индии до 1858 года, когда английские колониальные власти упразднили династию.
Представители Великих Моголов: Бабур, Хумаюн, Акбар, Джахангир, Шах-Джахан, Аурангзеб, Бахадуршах, Джахандар-шах, Фаррук Сийяр, Мухаммед-шах, Ахмед-шах, Аламгир, Шах Алам, Акбар II, Бахадуршах II.
Какое отношение все это имело к фантомам, я не знал. На всякий случай я выписал основные моменты и зазубрил их.
Потом я поехал к Анне.
На перекрестке, где мы договорились встретиться, куря красную женскую сигарету, лихо топталась девица — из тех, что ищут партнера на один вечер. Каблуки ее серебряно звякали при каждом шаге, из сережек неслась популярная мелодия.
Анны не было. Я посмотрел на часы.
— Павел, — позвала девица.
— Да-а… — глубокомысленно сказал я, окидывая ее взглядом.
Анну было не узнать. Волосы она зачесала вверх, столбом, — самая модная прическа, «Нефертити», косметика светилась: на глазах — синим, на губах — зеленым, вместо обычного платья она надела переливающуюся радугой футболку и джинсы, на которых вспыхивали живые картинки.
— Вам не нравится?
— Очень эффектно, — сказал я. Взял ее под руку: Куда мы пойдем?
Анна закусила зеленую губу.
— Вы не подумайте, это я в первый раз так. Потому что надо быть как все. А то меня пригласит кто-нибудь, посмотрит — и больше не показывается. Я боялась, что и вы.
— Вам не требуется быть как все, — искренне сказал я.
— Правда?
— Правда.
Она обрадовалась:
— Я сбегаю, переоденусь. Я тут недалеко живу. А то словно это и не я…
— Не надо, — сказал я. — Сегодня не надо. В следующий раз.
— А будет следующий раз?
— Вы хотите этого?
— Да. А вы?
— Да.
Последние фразы мы произнесли шепотом, остановившись. Рядом никого не было. Только какой-то мужчина в блестящем, будто металлическом, костюме читал новости на стене, время от времени нажимая кнопку, чтобы сменить кассету.
Я сказал излишне весело:
— Так куда же мы направимся? В концертном зале сегодня гала-представление. Билетов не достать, все равно как к вам на Спектакль, но, используя свое положение инспектора…
Грохот барабана заставил нас оглянуться. В улицу втягивалась длинная колонна. Шли ровными рядами — по десять человек. Плечом к плечу. Все — в черных галифе, в зеленых рубашках с закатанными рукавами.
Единым махом били в мостовую сотни увесистых сапог: «трум!.. трум!..»
По бокам не в ногу шагали равнодушные полицейские.
— «Саламандры», — без выражения сказала Анна. — Фашисты.
— Но фашистская партия запрещена, — сказал я.
— Разве дело в названии? — Она процитировала: — «Призовем молодых. Призовем жестоких. Призовем тех, чья вера — нация, чей долг — нация, чья совесть — нация».
Перед колонной несли тяжелое знамя. На черном бархате травяным соком зеленела громадная буква «С». Из нее вырывалось пламя. Эту букву я уже видел.
Она стояла под запиской, которую я нашел в своей разгромленной квартире. Интересная новость. Значит, мною занимаются «саламандры». И даже хуже. Мной занимается сенатор Голх. Тот самый сенатор, по чьему поручению я якобы произвожу инспекцию.
Я почувствовал себя неуютно.
— Если «саламандры» кого-нибудь убивают, то полиция никогда не находит убийц, — сказала Анна.
— Вот как?
— Вы же не инспектор, Павел.
— А кто?
Она пожала плечами:
— Не знаю.
«Трум!.. трум!..» — били сапоги. Невидимые палочки рокотали по барабану. Молодые каменные люди смотрели вперед. Только вперед. «Трум!.. Трум!..» Сегодня нам принадлежит эта страна, а завтра весь мир!
— А вы знаете, что Краб — «саламандра»? — сказала Анна. — Он у них даже какой-то начальник. И Элга ими очень интересуется. Бегает на собрания. Истеричка. Напрасно я устроила ее к нам в Дом.
— Вы не любите Элгу? — спросил я.
— Это моя сестра, — сказала Анна.
Темнело. Зажглись голубые панели на домах. В кромке тротуара проступила сиреневая линия. Мы шли вдоль улицы. Был слабый ветер. Деревья шелестели, словно бумажные. Прозрачные, хрупкие такси бесшумно скользили над мостовой, в их желтой скорлупе сидели по четверо, по шестеро — беззвучно смеялись. У многих в пальцах светились иглы «Анарко».
— Она, конечно, наврала вам, что она инженер, сказала Анна. — И вы поверили. А она работает всего полгода. Но удивительно вписалась. Словно рождена для Спектаклей. А вот я не вписалась. У меня все получается не как у других. И не нарочно. Просто не выходит. Наверное, я не ко времени. Мне бы родиться в двадцатом веке…
— Время не выбирают, — ответил я чисто машинально, так как в этот момент оглянулся — привычка далеко не лишняя — и заметил того же мужчину в посверкивающем металлическом костюме. Он шел за нами.
Случайность или слежка? Для подобных случаев ношу с собой сигареты. Зажигалка, разумеется, не работала. «Сел аккумулятор», — объяснил я Анне. Стал заряжать вручную, нажимая рычажок большим пальцем. Анна что-то рассказывала. Мужчина приближался.
Подзарядка аккумулятора — дело длительное. Ему пришлось пройти мимо нас. Я его хорошо рассмотрел.
— …Очень странные сны, — сказала Анна. — Большой сад. Тропический. Пальмы, магнолии, орхидеи. Да-да, растут орхидеи. Распускаются по ночам. Песчаная дорожка, я бегу по ней, спотыкаюсь, падаю — плачу.
Меня поднимает женщина. У нее доброе лицо. И мы идем с ней к морю. Она держит меня за руку. Море очень теплое, а песок горячий. Вам приходилось видеть непонятные сны, такие, что даже не знаешь, откуда они взялись?
— Нет, — сказал я, краем глаза следя за улицей.
Как я и ожидал, мужчина немного прошел вперед и свернул в первую же парадную. Все стало ясно — за мной следили. Разумеется, это могли быть наши сотрудники. Вряд ли меня пустили без всякого прикрытия. Но я сомневался, чтобы люди Августа работали так прямолинейно. Во всяком случае, портрет мужчины зафиксирован в зажигалке и завтра его установят.
— …Самая настоящая пустыня, — сказала Анна. — Это ведь странно, — я никогда не была в пустыне. Ровная, как стол. Барханов нет. До горизонта серый песок.
Дует обжигающий ветер, и песок змеится под ногами. А потом вскидывается столбиком. И далеко, у самого неба, озеро. Так — вода. А мне кто-то говорит сзади: «Мираж». И голос очень знакомый.
Мы прошли за парадную метров сто, и мужчина вынырнул, приклеился сзади. Я решил больше не обращать на него внимания.
— Правда, не могут сниться такие сны нормальному человеку? — сказала Анна.
— Вполне обычное явление, — немного невпопад ответил я.
— Я читала, что сон — это небывалая комбинация обыкновенных фактов. Но не могу же я видеть во сне то, чего никогда не видела в жизни. Нет. Это ненормально. Вы знаете, я ходила к врачу. Он провозился со мной целый день — надел шлем, а там то свет, то темнота, то пятна цветные плавают. Совсем меня замучил.
А потом сказал, что это воспоминания о детстве. А какие могут быть воспоминания, если я родилась здесь, в городе, и всю жизнь жила только в нем?
— Вы могли видеть такие картины в ваших Спектаклях, — сказал я. — И потом во сне они преобразовались…
— Нет! — Анна возмущенно тряхнула головой. — Нет.
Это не Спектакли. Ненавижу наши Спектакли. Суррогат.
— Вчера было интересно, — сбитый ее горячностью, пробормотал я. — Даже трудно отличить, где голограммы, а где настоящее.
— Там все ненастоящее, — уже спокойней сказала Анна. — От первой нитки до последней. Вот вы сначала чувствовали, что это выдумка?
— Да.
— А потом вдруг поверили. Не до конца, но поверили. Я следила за вами.
— В какой-то мере, — помедлив, ответил я: странная мысль пришла мне в голову.
По пустынной улице навстречу друг другу неслись два такси, набитые дергающимися юнцами. Водители рулили лоб в лоб. Сближались они стремительно. Анна прижала мой локоть — глядя. За несколько метров до неминуемого столкновения включились автопилоты, и машины, вильнув, прошли буквально в сантиметре друг от друга. Девицы внутри визжали.
Захватывающее развлечение. Особенно если учесть, что всегда существует хотя бы миллионная вероятность, что автопилот не сработает.
Анна отвернулась.
— Не переношу, — сказала она сквозь зубы. — А еще знаете, что делают? Надевают антигравы и прыгают с телевизионной башни. У кого не сработает. И я прыгала… Что с вами, Павел?
Оказывается, я стоял с открытым ртом. Я вспомнил то ощущение легкости и веселья, которое я испытал в Спектакле.
— Ненавижу убожество, — сказала Анна. — Надо драться, а они сидят у телевизоров. Надо стрелять, а они развлекаются в Спектаклях. Картонные люди и картонные декорации. Куклы на пружинах. Кровь из малинового сиропа. И словно никто не видит. В газетах — слюни, по радио — идиотская патока. Приезжают инспекторы, вот вы, например, — одобряют. Бенедикт как-то уламывает. Он всех как-то уламывает. Павел! Взяли бы и запретили.
— Это не так просто, — почти не слушая, ответил я.
В позапрошлом году мы вели дело «Нищих братьев». Они организовали несколько общин в Манаре — около десяти тысяч человек. Руководители общин, духовные отцы Саймон и Арпангейл, называвшие себя архангелами, кстати оба выпускники технического колледжа, магистры наук, частью купили, частью смонтировали сами волновой генератор для направленной передачи эмоций. Им удалось записать экстатические состояния и довольно чисто положить их в усилители.
Каждый вечер проводился час молитвы. Я и сейчас будто видел, как тысячи людей стоят на залитой водой плантации коленями в расползающейся, мокрой земле и, дергаясь, словно эпилептики, подняв руки к небу, возносят восторженную молитву задрапированному под часовню генератору с золотым крестом на вершине, а два архангела в белых мантиях, куда была вшита иридиевая мозаика для изоляции, упираясь головами в низкое кровавое солнце, торжественно и величаво благословляют покорную паству.
Чтобы попасть на час молитвы и испытать благодать божью, люди были готовы на все — жили в землянках, работали по двадцать часов в сутки без еды, в грязи, в ледяной воде, окучивая голубые марсианские маки, которые громадными партиями шли на экспорт, расценивались на вес золота, — отдавали жен, детей, могли убить кого угодно, чтобы испытать еще раз — хотя бы один-единственный раз — блаженство господней любви.
И вот когда мы шли между молящимися, а они хрипели и бились, как слепые, и грязь текла по бескровным лицам — вот тогда я испытал точно такое же чувство легкости и веселья, а вслед за этим — огромного, всепоглощающего, нечеловеческого счастья.
— Вы не слушаете меня, Павел, — сказала Анна.
— Я слушаю, слушаю, — сказал я.
Мы пошли дальше. Впереди сиял проспект. Над домами в чутком ночном воздухе, чуть не задевая крыши, кружились два исполинских серебряных шара. Оттуда лилась музыка.
«Значит, у них в Доме стоит волновой генератор, — подумал я. — Надо же, с ума сойти — волновой генератор».
Глава шестая
Всю ночь я писал доклад, стараясь сделать его убедительным, а уже в пять утра вышел из дома. Встречу назначили на квартире у Августа, и я хотел избавиться от наблюдателя, кем бы он ни был. Поэтому я взял такси и поехал в Южный район. Вчерашнего мужчины на улице не было, но какой-то ранний прохожий поехал за мной — его такси двигалось в некотором отдалении, точно повторяя мой маршрут.
Фотографировать на таком расстоянии не имело смысла.
Южный район представлял собой громадный комплекс — с собственными предприятиями, больницами и кинотеатрами. Стодвадцатиэтажные дома, разделенные садами в каждом из шести ярусов, снежными пирамидами поднимались на горизонте. Утреннее оранжевое солнце стояло прямо между ними. На вершинах пирамид посверкивали башенки связи. Многим эти громады нравились — за последние годы центры старых городов значительно опустели.
Подрулив к подножию, я вошел в лифт и через десять минут оказался на площадке междугородной аэробусной станции.
Тотчас передо мной вырос дежурный внутренней службы, судя по погонам — младший лейтенант.
— Ваш билет?
— Позовите начальника!
Дежурный, видимо, понял, кто я, потому что без промедления прошептал что-то в наружный карман.
— Вы подождете здесь? — спросил он.
— Я подожду здесь.
Дежурный исчез.
Я вышел на площадку. Бетон был влажен. Стояли два пустых аэробуса, похожие на громадные серебряные капли. Начинало припекать. С пятисотметровой высоты город был не виден. Небо прочертила огненная точка — покидал атмосферу рейсовый лунник. Позади меня на стене красовался стереоплакат — молодой парень, подняв щиток шлема, шагал по красной пустыне. Брови его были сдвинуты, непреклонные глаза устремлены вдаль.
Перед ним, смешно подпрыгивая, пробуя песок длинным клювом, перекатывался чибис.
Плакат призывал работать в Аркадии. Он был лишним. Желающих попасть в марсианскую Аркадию хватало — отбирали одного из десяти. Мне стало грустно.
По роду своей деятельности я редко сталкивался с нормальной жизнью, разве что в отпуске. На мою долю выпадали в основном эксцессы. Могло показаться, что весь мир состоит из них. А мир был другим. Осваивалась Голконда на Венере; вокруг Плутона, готовя первую высадку, крутился орбитальный стационар; шла чистка генофонда Земли — элиминация аномальных генов, что должно было привести к исчезновению всех наследственных болезней. В этой самой Аркадии я просидел две недели на базе у Дягилева — сразу после появления песчанок, которых сгоряча объявили разумными обитателями Марса. Бактериологи, выходившие в пустыню высаживать штаммы для освобождения кремнийсвязанной воды, клялись, что через двадцать лет в Аркадии появится настоящее озеро, а через пятьдесят на всем Марсе можно будет дышать без шлема, как тому парню на плакате. Потом, в карантине, я четыре дня рассказывал им о своей работе — они слушали разинув рты, а я им завидовал: они занимались большим и чистым делом, они работали в будущем Земли, я же — в ее прошлом.
Со значительным лицом подошел начальник станции.
Я объяснил, что мне нужно, и значительное лицо вытянулось.
— Это невозможно, — сказал он. — Только рейс на Париж.
— Я вас очень прошу, — ледяным голосом сказал я.
— Но…
— Очень прошу.
Зачастую правильно выбранный тон действует лучше, чем любые удостоверения. Через пять минут я стартовал — в рулевой кабине стоместного междугородного аэробуса. Пилота я попросил закинуть меня в Северный район. Он был предупрежден, и возражений не последовало.
Теперь я был спокоен. На такси аэробус не проследишь, а запеленговать его, выявить место посадки и выслать хотя бы патрульный вертолет за такое время не успели бы и в Управлении полиции.
— А правда, что у нас высадились пришельцы? — кося глазом, спросил пилот.
— Не слышал, — сказал я.
— Ну да, скрываете. Говорят, высадились по всей планете. И маскировочка высший класс — не отличить от людей. Ходят, наблюдают. А если пришелец посмотрит тебе в глаза, то падаешь мертвым. Говорят, на днях одного все-таки взяли — целое сражение было: пушки, пулеметы, лазеры. Дивизию солдат пригнали. Значит, не слышали? — недоверчиво спросил он.
Больше пилот не сказал ни слова. Мы приземлились на Северной станции, я взял такси и поехал к Августу.
Он открыл мне сам:
— Опаздываешь…
На нем была мятая рубашка и такие же мятые брюки. Под глазами мешки, словно неделю не спал. В комнате сидели трое. Молчаливый Симеон — офицер полиции для связи с местными органами, незнакомый мне строго одетый человек с мертвыми от контактных линз глазами и третий — тот самый черноглазый парень из Дома. Он опять безразлично курил, выпуская аккуратные кольца зеленого дыма.
— Познакомься, — сказал Август. — Жан-Пьер Коннар, сотрудник МКК, работает параллельно с тобой.
После гибели Кузнецова назначен старшим группы.
— С приятным свиданием. — Коннар протянул мне руку. Я замешкался. Тогда он добавил: — Не надо меня бояться…
Не люблю выглядеть дураком. Я кивнул и сел. Коннара это не смутило. Он свободно закинул ногу на ногу.
Пиджак переливался радугой при каждом движении.
Ногтем постучал по часам:
— Давайте начинать, господа. Не знаю, как вы, а у меня времени нет. Утреннее свидание с дамой.
Я думал, Августа хватит удар, но он сдержался, помалиновев тяжелыми щеками. Раздул ноздри.
«Плохо работаем», — подумал я.
— Плохо работаем, — сказал Август. — Непрофессионально. Потеряли Кузнецова. Глупо потеряли. Даже непонятно на чем. Обидно. Что дальше?
Он поочередно смотрел на всех. Никто не возразил.
У Коннара на лице была скука. Август сел в раздавшееся кресло.
— Прошу вас, Симеон.
— Даю справку, — сказал Симеон. — Политическая организация «Саламандра» создана примерно пять лет назад. В настоящее время насчитывает около сорока тысяч членов и около двухсот тысяч сочувствующих. Имеет два места в парламенте. Представителем организации в правительственных учреждениях является сенатор Голх. Политическая платформа организации — «возрождение нации» — в политическом или социальном плане не конкретизируется. Деятельность организации протекает в основном в рамках закона.
— Это все? — спросил Август.
— Это все, — сказал Симеон.
— Дорогой Симеон, — ласково сказал Август, — не считайте, что в МКК одни дураки. В МКК знают, что делают. МКК выбрал вашу страну не случайно.
Предыдущие действия фантомов не носили целенаправленного характера. МКК склонен думать, что имело место изолированное, спонтанное включение программы.
— Дорогой Август, — ласково сказал Симеон, — я согласен, что ограбления банков, шантаж, политические убийства-то есть организующая деятельность фантомов происходит именно здесь. Я могу вас заверить: полиция сделает все, что в ее силах.
— Дорогой Симеон, меня интересуют два вопроса.
Первый: как засветили моего сотрудника? Второй: почему им заинтересовалась «Саламандра»?
— Дорогой Август, у «Саламандры» бывают очень неожиданные интересы.
Мне это надоело. Август яростно скреб ногтями голый череп. Симеон барабанил пальцами по столу. Оба говорили вежливо, вежливо-язвительно, голоса дрожали от злости. В общем, наметился конфликт между МКК и местными властями.
Чтобы разрядить обстановку, я сказал:
— За мной хвост.
Они оба замолчали.
— Я ведь работаю без прикрытия? — осведомился я.
Август перекатил зеленые глаза на Симеона.
— Без, — подтвердил тот.
Я достал фотографию человека в стальном костюме.
— Не мой, — сказал Симеон.
— А сегодня утром был еще один, я его не смог сфотографировать.
Коннар дунул на кольца и пересел к Симеону на диван. Наморщил лоб.
— А может быть, они какое-то время наблюдают каждого новичка? — предположил я.
Август перевел взгляд на. Коннара. Тот подтянул длинные ноги.
— Нет. Ничего подобного. За мной — чисто.
Август продолжал смотреть из-под голых век.
— Я бы заметил, — нервно сказал Коннар. — С моей-то квалификацией… Нет. Не думаю.
Тон его мне не понравился.
— Хорошо, — сказал Август. — Будем рассматривать обе версии.
Симеон изучал фотографию. Чуть ли не нюхал.
— Готов поклясться, что этот тип из второго отдела, — осевшим голосом сказал он.
Август повернулся всем телом:
— Военная контрразведка?
— Да.
— Мне кажется, дорогой Симеон… Мне почему-то кажется, будто вы жалеете, что связались с нами.
— Вы не знаете, что такое второй отдел, — хмуро сказал Симеон. Бросил фотографию. Предупредил: На меня больше не рассчитывайте.
— Только не надо драматизировать, — неуверенно сказал Август.
Вместо ответа Симеон прикрыл глаза.
— И еще новость. — Я рассказал о своих ощущениях во время Спектакля и подробно изложил историю «Нищих братьев», объяснив аналогию.
Когда я кончил, все довольно долго молчали.
— Волновой генератор? — с сомнением сказал Август.
— Здесь, пожалуй, что-то есть, — задумчиво сказал Коннар. — Я не знаю материалов по «Нищим братьям» и не сталкивался с направленной передачей эмоций, но вживание в Спектакль было именно таким. Сначала — отчуждение, неприятие его, словно смотришь со стороны, а потом — вдруг, сразу — полная достоверность, сопереживание. Находишься будто в центре событий. Эмоциональный фон — легкость, веселье, вседозволенность.
— Ваше мнение, доктор? — сказал Август. Представил: — Доктор Або, нейрофизиолог, специалист по блокзаписям, занимается медицинской стороной фантомов.
— Человек с мертвыми глазами приветственно кивнул.
— Доктор, есть ли какие-нибудь медицинские средства, чтобы отличить обычного человека от фантома? — спросил я.
— Пока нет, — не сразу ответил доктор. — Мы сейчас работаем над этой проблемой.
— А нельзя ли подобрать спектр — волновой, фармацевтический, который бы выключал или стирал программу?
— Мы работаем, — повторил доктор.
— Не отвлекайся, Павел, — сказал Август. — Если медицина даст результаты, ты узнаешь об этом первым.
— Вторым, — скромно заметил Коннар, выпуская зеленый дым.
— Вторым, — согласился Август. — Мы слушаем вас, доктор.
— Я не думаю, что в Спектакле существует передача эмоций, по крайней мере в том виде, как ее изложил ваш коллега. Волновой генератор — установка чрезвычайно сложная и дорогая, собрать ее частным образом без молекулярных микросхем, без биодатчиков, которые выращиваются только индивидуально, по заданным параметрам и требуют громадного количества времени, невозможно. Скорее всего, указанный эмоциональный фон был создан атмосферой Спектакля. Зрительные образы чувственны сами по себе и, апеллируя к уже существующему эмоциональному резерву, вызывают соответствующее переживание. — Доктор говорил округло, уверенно, видимо привыкнув выступать на конференциях. — Что касается «Нищих братьев», то я знаком с материалами. Они имели самый примитивный передатчик и транслировали очень узкую часть экстатического спектра, примерно одну сотую, правда при большой интенсивности. Если бы что-нибудь подобное имело место в Спектакле, то вы просто не смогли бы участвовать в нем — лежали бы в состоянии острой эйфории. — Он положил руки на острые колени. Замер.
— Ладно, работаем дальше, — сказал Август. — Коннар, ставьте вашу ленту.
— Я не согласен, — сказал я. Август поморщился. — Да, я не согласен. Я единственный из присутствующих, кто испытал действие генератора, и поэтому заявляю со всей ответственностью: генератор там есть. Вы даже не представляете, какая это опасная штука — волновой генератор эмоций. (Коннар усмехнулся. Август почесал лоб, доктор слушал спокойно, готовя возражения.) Да! Наши фантомы — детская игрушка по сравнению с ним. В конце концов, что могут фантомы — убить, взорвать… Их немного против всего мира. Мы с ними справимся.
Прежде всего потому, что они уже не люди: человеческая сущность заменяется программой. А генератор не изменяет человека, он лишь предлагает ему наслаждение в тысячу раз более сильное, чем то, которое человек может испытать в обычной жизни. Фактически он саму жизнь заменяет иллюзией — более яркой, более радостной. И вкусивший плод может не захотеть отказаться от него, может не найти в себе силы или желания для этого.
— Чего же ты хочешь? — проворчал Август.
— Закрыть Дом, изъять аппаратуру, выявить всех людей, участвовавших в Спектаклях, провести обязательную психотерапию. Через МКК взять под контроль аналогичные Спектакли в других странах.
Коннар присвистнул.
— Дискуссию прекращаю, — сказал Август. — Дом будет открыт до окончания операции. Там посмотрим.
— Я вынужден подать официальный рапорт, — сказал я и положил перед ним папку со своим ночным докладом.
— С тобой невероятно трудно работать, — сказал Август. — Ты все усложняешь.
— Мы можем послать кого-нибудь из технического отдела осмотреть аппаратуру под видом плановой профилактики, — безразлично сказал Симеон, не открывая глаз.
Август с кислой миной отодвинул мою папку:
— Ладно. Максимум два человека. Всякие расспросы, выяснения, расследования категорически запрещаю. Даже если обнаружится этот… генератор. Что ты улыбаешься, Павел? Имей в виду: фантомов мы должны взять в кратчайшие сроки. Неизвестно, что они могут натворить, если будет отдана команда. Коннар, у вас все готово? Включайте. Доктор! Уберите свет — там, справа.
Мы смотрели запись, сделанную Коннаром на Спектакле. Она была очень забавной. Лента фиксировала лишь то, что было на самом деле, исключая достройку деталей, произведенную нашим сознанием. Так, оказалось, что борт корабля настоящий, а на палубе стоят два фанерных куба — грубая имитация капитанского мостика и кают. Пираты — голографическое изображение — были словно восковые и передвигались вдвое медленнее, чем мне тогда казалось. Вместо пушек лежали толстые металлические трубы, время от времени извергающие клубы пара.
Совещание пиратов во главе с капитаном Клайдом происходило во вполне современной комнате, лишь чуть-чуть тронутой голограммами. А улица города и площадь его были весьма удачно наложены на коридор Дома, который вел в дирекцию.
И среди этих примитивных декораций нелепо бегали, падали, сражались с невидимым противником фигуры зрителей в модных костюмах. Выглядели они карикатурно. Несколько раз я видел на экране себя: дергаясь, как марионетка, я прыгал по палубе, и лицо у меня было глупо-восторженное. Август смотрел на экран бесстрастно. Но потом мы прокрутили ленту, снятую мной, я увидел точно такого же Коннара и немного успокоился.
Обе ленты в основном совпадали. Различия начинались к концу. Коннар не был в осажденном городе, он высадился с десантом и находился в отряде, который карабкался по тропе к площади, — я видел их сверху.
Мой показ завершался комнатой настройки в телецентре, где мертвый Кузнецов смотрел вверх остановившимися глазами.
Зажгли свет.
После паузы Август сказал:
— Мы, конечно, постараемся идентифицировать каждого зрителя, попробуем установить их присутствие в районе телецентра. Но это вряд ли что-нибудь даст.
Участвовало более двухсот человек.
— А лента Кузнецова? — спросил Коннар.
— На нем не было ленты.
— Зондаж мозга?
— Сплошные помехи, — ответил Август. — Чернота. Смерть наступила внезапно. Он ни о чем не думал.
В комнате стало тихо. Жужжал невыключенный проектор. Август потрогал себя за массивную щеку, словно болел зуб.
— Кто такие Великие Моголы, теперь представляете?
— Да, — сказали мы с Коннаром.
— Специалисты, — кивок в сторону доктора, — полагают, что одно из имен в том или ином сочетании может быть словом. Вводит Моголов Павел, Коннар — наблюдатель.
— Можно еще раз посмотреть середину второй пленки? — неожиданно попросил доктор. — Там есть одно любопытное место — когда вы выходите…
Я погнал ленту, фигуры на экране заметались как сумасшедшие. На совещании я притормозил. В объектив попали надменное, брезгливо сморщенное лицо капитана Клайда, парики над картой, Анна, уронившая голову на руки. Все двигались замедленно, словно в воде. Август увидел, как Коннар подмигнул мне, и недовольно кашлянул.
Потом изображение запрыгало — я вышел в коридор.
Там стояли два пирата. Один протягивал другому золотой браслет.
— Стоп! — сказал доктор. Изображение застыло. Он ткнул пальцем: — Синэргетический блокатор нервных волокон АСА-5 многоразового использования, проще говоря — болеизлучатель.
— Крупно! — гаркнул Август.
Я повернул ручку. Браслет заполнил экран. Сомнений не оставалось.
— Время?
Я посмотрел на цифровку:
— Двадцать один одиннадцать.
— Значит, через четыре минуты после убийства, сказал Август. — Дай лица. Вот они, фантомы!
Оба лица были усатые, в париках. Совершенно незнакомые. Мне что-то в них не понравилось.
— Ну и глаз у вас, доктор, — уважительно сказал Коннар.
— Вот этот, левый, убил Кузнецова, — сказал Август. — А почему маскарад, это ведь не голограмма?
Я понял, что мне не нравится, и сказал зло:
— Мы их не определим. Это люди, одетые под голограмму. Они в биомасках.
— Свет! — черным голосом приказал Август.
Глава седьмая
Зал походил на оранжерею. По стенам тянулся вверх узорчатый плющ. Его прорезали огненные стрелы бегоний. В длинных аквариумах в зеленой густой воде висели толстые пучеглазые рыбы, подергивали шлейфами плавников.
— Очень рад, что вы нашли время, — сказал директор. — Мы, знаете ли, всякий раз отмечаем премьеру небольшим торжеством. Элга, поухаживай за гостем.
Элга налила мне в узкий бокал чего-то лимонно-желтого, плотным слоем всплыла коричневая лопающаяся пена. Я пригубил. Это был приправленный специями манговый сок со слабыми признаками алкоголя. Такой же напиток стоял и перед остальными, только режиссер, опустив голову, рассматривал прозрачную жидкость в своем стакане.
Даже на полу росла трава. Я нагнулся. Трава была настоящая. Заодно я оглядел зал. Коннар сидел через столик от меня; как воробей, вертел головой, смуглыми пальцами чертил воздух. Три симпатичные девушки за его столиком переламывались от смеха.
Анна была с отцом. Встретила мой взгляд — отвернулась. Какой-то долговязый тип горячо говорил с ней, взял за кисть, поцеловал кончики пальцев. Волосы его, меняя окраску, непрерывно шевелились. Будто черви.
— Мы потанцуем? — спросила Элга на ухо.
Сегодня она была одета удивительно скромно — в серую накидку с прорезами для рук.
— Обязательно, — сказал я.
— Наш Спектакль, — говорил директор, — является не разновидностью искусства, как иногда полагают, а, скорее, синтезом всех искусств. Ничего подобного не было прежде, разве что на заре цивилизации, когда музыка, слово, движение тоже были объединены. Я вижу в этом глубокий смысл: мы повторяем то, что уже было найдено человечеством, но повторяем иначе — отобрав лучшее, органически сплавив его в Спектакле, создавая тем самым некую высшую и, возможно, окончательную форму.
Режиссер хрюкнул в стакан. Директор бросил на него непонятный взгляд:
— Разумеется, многие этого не понимают.
Советник, поедавший тушеное мясо с грибами, изрек желудочным голосом:
— Я лично без Спектаклей не могу, — уткнулся носом в подливку.
— Ваше мнение, Павел, было бы чрезвычайно интересно, — сказал директор.
Все вдруг впились в меня глазами.
— Вообще мне понравилось, — осторожно сказал я. — Реалистично. Ярко. Действие захватывает — не успеваешь думать.
— В ваших словах слышится большое «но». — Директор раздвинул губы — улыбнулся.
Советник вдруг не донес мясо до рта. Капал соус, Элга прошептала мне в ухо:
— Ну, говори, Павел.
Зал вдруг раздвоился, как в неисправном телевизоре. Оба изображения подрожали и медленно, с трудом совместились.
Я помотал головой. На меня смотрели.
— Такое «но» есть, — сказал я. — Простите за прямоту. Я усматриваю в ваших Спектаклях некоторую опасность.
Действие моих слов было неожиданным. Советник уронил мясо в тарелку, отвалил мягкую челюсть. Режиссер дернул стакан так, что из него плеснулось. У Элги остановилось дыхание.
Впрочем, все тут же опомнились.
— Не совсем понимаю вас, — настороженно сказал директор.
Внезапно я увидел, что он боится. Пытается скрыть это, облизывает темные губы.
— Вы соединяете различные искусства, — сказал я.
— Так…
— Берете из каждого наиболее сильную компоненту и на основе их создаете новый мир. То есть вы используете эссенцию. Эссенция входит в искусство, но заменить его не может. (Режиссер открыл было рот, но ничего не сказал.) И поэтому мир, который у вас получается, — суррогат. А опасность в том, что этот суррогат намного ярче и доступнее обычного мира. Главное — доступнее. Потому что ваш мир человек в какой-то мере создает сам, согласно своим потребностям. Далеко не каждый может эти свои потребности контролировать.
Не каждый может отказаться от них во имя достаточно абстрактных этических принципов.
И тут что-то произошло. Напряжение пропало. Элга расслабленно вздохнула. Режиссер потянулся к стакану. Советник занялся салатом. Словно от меня ждали чего-то совсем другого и, не дождавшись, обрадовались.
— Я не говорю, что вы обращаетесь к низменным инстинктам, — сказал я. — Но вы заполняете сферу между ними и сознанием, заполняете настолько плотно, что сознание уже не регулирует их.
— Очень оригинально, — вежливо ответил директор.
Он делал вид, что слушает. Я почему-то упал в их глазах. Режиссер помахал кому-то и сказал рассеянно:
— Искусство во все времена являлось заменителем обычного мира, суррогатом, как вы говорите, — начиная с ритуальных танцев первобытных людей, где участвующие впадали в транс, и кончая современными галамистериями на сто тысяч человек.
Он глотнул своей жидкости, поморщился. Сверху зазвучала тихая, вязкая музыка — обволокла зал. Свет изменился, стал серебряным. Элга тянула сок, коричневая пена лопалась на губах. Хрупкие полупрозрачные стебли свешивались ей на плечи. Она обрывала их, бросала — тут же отрастали новые.
Подошел парень, похожий на гориллу, кажется Краб, наклонился и пошептал настойчиво. Элга зло сказала:
— Уйди! И больше не подходи ко мне сегодня.
Парень скрипнул зубами.
У меня звенело в голове. Зал покачивался, словно в опьянении. Я чувствовал, что говорю слишком много, но как-то не мог остановиться.
— В любом виде искусства право выбора принадлежит человеку. Он волен — принять предлагаемую ему сущность или отвергнуть ее. А ваши Спектакли настолько втягивают человека, что полностью порабощают его — выбора не остается. Человек может лишь варьировать навязанную ему конструкцию.
Директор благодушно кивал. Лицо у него было отсутствующее. Я разозлился.
— Вы навязываете псевдокультуру, насильственно внедряете ее в сознание, руководствуясь при этом лишь собственными критериями, считая только их правильными. Это рабство. Это тирания культуры. Она ничем не отличается от исторических тираний — фараонов, Чингисхана или Великих Моголов.
Слово было сказано. Я продолжил спокойней:
— Раньше человек жил под экономическим диктатом или под диктатом милитаристским. Сейчас вы хотите навязать ему диктат культуры — более опасный, потому что он неосознаваем. Под властью вашего Спектакля хуже, чем под властью Великих Моголов, — повторил я.
И опять ничего не произошло. Никто не вскочил. Никто не попытался меня убить. Свет в зале потускнел.
Музыка заиграла громче. Появились танцующие — стояли неподвижно, обнявшись. Из черноты выплыло лицо режиссера — ходило влево и вправо, как маятник. Донесся вялый голос:
— Кто это вам рассказывал о Великих Моголах?
— Я образованный, — ответил я, пытаясь удержать глазами эту качающуюся маску.
— Ну это вы бросьте — образованный…
— Витольд, — предостерег директор.
Режиссер неожиданно оттолкнул стакан.
— Надоело, — злобно сказал он. — Если я считаю, что надо ставить Великих Моголов, то надо ставить Великих Моголов.
— Не понимаю вашего тона, — сказал я.
Темнота вокруг сгущалась, становилась осязаемой.
Непрозрачный воздух уплотнялся, замуровывая меня.
— А идите вы все! — крикнул режиссер. Встал и зашагал между окаменевшими парами — худой, взъерошенный, в нелепой одежде из переплетенных лент.
Элга потянула меня танцевать. Свет струился с потолка мягким серебром. Цветы казались черными. Я обнял ее — под ладонями было голое тело. Элга смотрела насмешливо: серой накидки не существовало. Это была сложная, фигурная запись — мои руки вошли в ткань. Элга была безо всего. Глупо оглянувшись, я поцеловал ее. От нее пахло душной сиренью. Она мне Очень нравилась. Мне все очень нравились. И директор, и советник, и долговязый режиссер. Он странно одевается. Но это ведь ничего. Может же человек странно одеваться! И напрасно они меня боятся. Им совершенно незачем бояться меня.
— Они боятся, потому что ты не инспектор, — сказала Элга.
— А почему я, собственно, не инспектор? Откуда известно, что я не инспектор?
— А потому, что Бенедикт все министерство наизусть знает.
— Ну и правильно, я не инспектор. Может же человек не быть инспектором?
— Они решили, что ты специалист-психоэмоциолОг или волновик. Боялись, что запретишь Спектакли.
— Ну и глупость, почему я должен запретить Спектакли?
— Там эмоциональный фон выше нормы. Вот они и перетрусили. Дураки.
— Подумаешь, фон выше нормы. Это еще не причина, чтобы запрещать такие чудесные Спектакли. Может же фон быть выше нормы. А собственно, почему он выше нормы?
— Ну уж этого я не знаю!
— Ладно, пусть он будет выше нормы. Я разрешаю. Все равно они мне все нравятся. И Анна мне очень нравится. — Я, наверное, ее люблю. То есть тебя я тоже люблю. — Я поцеловал Элгу. У меня кружилась голова.
— Она же дура, — сказала Элга. — Истеричка. Упросила, чтобы я устроила ее в Дом.
— А разве не она тебя устроила?
— Я же говорю: она тебе все наврала. Дура. Связалась с «саламандрами», бегает к ним на собрания.
— А что плохого в «саламандрах»? Это прекрасные ребята. Они немного заблуждаются, но может же человек немного заблуждаться? И потом, у нее такой приятный отец.
— Он ей такой же отец, как я тебе… Что же, выходит, я его дочь?
— А кто же он тогда?
— Муж; Ей зачем-то понадобилось выйти за него.
— Муж? Как странно! Значит, она замужем? Но я все равно ее люблю.
Мы стояли на террасе. Терраса была громадная, темная, окутанная зеленью. Элга нажала кнопку, и передняя стена опустилась до половины. Хлынул прохладный воздух. Город был черен. Мерцали крыши. Светлячками ползли такси. Вдали, в новостройках, подымались пирамиды света.
— Обещали дождь с десяти до десяти ноль трех, сказала Элга, — Тропический ливень. Я люблю дождь.
— И я люблю дождь, — сказал я. — Я вас всех люблю. И еще я люблю Августа. Он вытащил меня из воронки для пауков в Синей пустыне. Ты видела когда-нибудь воронки для пауков? А самих пауков ты видела? У них восемнадцать ног, Я лежал два дня без воды, а они сидели вокруг и ждали. У меня губы растрескались. И я еще люблю Кузнецова.
— А ты знал Кузнецова?
— Конечно, знал. Мы четыре года жили в одной комнате, каждый день в шесть утра он стаскивал с меня одеяло и каркал в ухо. Или я это уже рассказывал?
— Нет, ты этого не рассказывал.
— Нет, мне кажется, что я все-таки рассказывал. Ну все равно, Гера — мой друг. Жаль, что его убили.
— Его убили? Говорили — сердце.
— Да, его убили, какие-то сволочи, фантомы, нелюди. И еще жаль, что он ошибся. Весь Дом говорил о Великих Моголах, и ничего не происходит. Придется отказаться от этой версии. Но тогда нам даже не за что зацепиться. Должен же человек за что-то зацепиться? Вот вы зацепились за Спектакли. Кстати, у вас в Доме есть волновой генератор?
— Нет у нас генератора, генераторы запрещены.
— У вас есть волновой генератор. Я это знаю. Если ты меня любишь, ты должна сказать, что у вас есть генератор.
— Но у нас в самом деле нет генератора…
Разверзлось небо. Зашумело, затрещало и рухнуло ревущим водопадом, сплошной стеной сумасшедшей воды. Струи захлестывали веранду. Элга протянула обе руки в дождь.
— Здорово! — крикнула она.
Метался мокрый плющ на стене. Я ртом ловил воду.
Меня мутило. Стремительно тяжелела голова, из желудка поднимался тошнотворный комок.
Но грохот оборвался. Струи лопнули. Остановился сырой воздух.
Элга вытерла лицо.
— Ты меня не любишь, — сказала она, отжимая волосы. — И никогда не полюбишь. Пойдем сушиться.
— Слушай, Элга, — сказал я. — Так у вас в Доме есть волновой генератор?
— А? Что? Не знаю. Ну и ливень — красота!
Я пощелкал по стеклу аквариума. Пузатые рыбы устремились к пальцу, вытаращив пустые глаза. Элга взяла меня за руку:
— Пошли.
Между нами в зеленом стекле аквариума совершенно бесшумно появилась аккуратная круглая дырка — вода постояла мгновение и хлынула струёй. И сразу же рядом появилась вторая — такая же круглая. Я толкнул Элгу в бок, мы покатились. Я старался прикрыть ее сверху. Кобура была под мышкой. Элга барахталась и мешала. Я ждал новых выстрелов, но их не было. Наконец я вытащил пистолет, дулом фиксировал дверь.
Спросил:
— Где включается свет?
— Там, — слабо показала она, еще не понимающая, ошеломленная.
Свет вспыхнул неожиданно резко. В дверном проеме никого не было.
— Вставай, — сказал я.
Она с трудом поднялась, дико посмотрела в аквариум: на обнажившемся золотом песке били хвостами, растопыривали жабры толстые, уродливые рыбы.
Глава восьмая
Я велел Элге ехать домой и молчать. Она только кивала. Ушла, оглядываясь.
Затем я вызвал Коннара. Он явился — элегантный, веселый, в облаке пряных духов. Увидел дырки и присвистнул:
— Забавная история. Ты видел, кто стрелял?
— Нет.
Коннар дугой поднял бровь:
— Это точно?
Я не стал отвечать. Меня мутило все сильнее, я сглатывал. Бровь вернулась на свое место. Коннар ощупал ровные края, потрогал влажный песок и сказал задумчиво:
— Стреляли из «кленового листа», в крайнем случае — «элизабет», армейская серия.
Я был согласен с ним.
— И стрелял лопух: промахнулся с десяти метров.
Я опять согласился. Он соизволил обратить внимание на мой вид:
— Тебе плохо?
— Подсыпали какой-то дряни.
Коннар сочувственно причмокнул. Тема была исчерпана. Он спросил:
— Великие Моголы?
— Да! — уверенно ответил я, хотя только что был так же уверен в обратном.
— Это показывает, что мы ходим где-то близко, сказал Коннар. — Вероятно, тебе имеет смысл постоять здесь — он вернется.
— Иди, пока нас не засекли вместе, — ответил я.
— Я мог бы приказать, — напомнил Коннар.
— Мот бы.
Коннар прищурил южные, масляные глаза. Я решил, что он сейчас действительно прикажет, но он сказал:
— Хорошо. Работай сам. Контроль через «блоху» каждые пять минут. — И скользнул в темный проем.
Я больше не мог терпеть. Меня выворачивало. Горло запечатал комок, отдающий желчью. Натыкаясь на стулья, я проскочил зал, где слабый свет едва серебрил головы и плечи неподвижных пар, в коридоре пошел медленнее: я словно чувствовал себя сосудом, до краев полным воды, — боялся расплескать.
Чем меня напоили — «сывороткой правды»? Или чем-нибудь вроде роценона, который вызывает неудержимую болтливость? Надо будет тщательно проанализировать разговоры — кому выгодно? Но все-таки хорош парень этот Коннар: оставить меня как подсадного — пусть стреляют!
Впрочем, он не так уж и не прав. Включенный фантом обязан реализовать программу. Стрелявший действительно мог вернуться. Но нам нужен был не он. Брать рядового фантома не имело смысла. Он не даст значимой информации. Все не имело смысла. Кузнецов каким-то образом выудил Великих Моголов. Это ключ!
Но мы не знаем, как этим ключом воспользоваться. Работаем вслепую. Фантомы проявляют себя только в действии. Значит, нужно вызвать их на действия. А это может лишь старший. А он не будет этого делать, пока не получит реальных шансов захватить власть. Да, конечно, я бы на его месте так и поступил — сидел бы тихо, затаился, забился в щель, ждал бы, пока подчиненные фантомы не пройдут наверх достаточно далеко — в МКК, например. Да, затаиться и ждать. Никакой активности.
Меня все-таки вытошнило. Прямо на пол. Я едва успел согнуться — кашлял и давился, выталкивая изнутри горчайшую зеленую пену. Нет, это не «сыворотка правды» и не роценон — от них, как я знаю, не бывает последствий. Это что-то новое. Меня вытошнило еще раз — одной желчью. Желудок содрогался в болезненных спазмах.
«Стоп! — сказал я себе. — Но ведь кто-то же убил Кузнецова! И стрелял в меня. Значит, активные действия они все-таки ведут. Почему? Из-за того, что Кузнецов нашел ключ? Чихали они на этот ключ — он ничего не открывает».
У меня не связывалось. Я понимал, что зашел в тупик. Единственное — если Кузнецов нашел не ключ, а нить к нему, слабую такую ниточку, и теперь эту ниточку стараются оборвать. Тоже проблематично: они не могут не знать, что имеют дело с государственной организацией, — все факты, добытые мной или кем-то другим, немедленно передаются в центр. Нас просто не имеет смысла убивать. И все же нас убивают.
Во рту жгло так, словно язык обсыпали перцем.
Неимоверно хотелось пить. Я двинулся в конец коридора, к душевым. Поспешно, звонко щелкнула дверца лифта, и сразу же за поворотом кто-то побежал.
Я нащупал под мышкой рифленую рукоятку пистолета.
Шаги приближались. Бежал пожилой человек, и бежать ему было трудно — он тяжело дышал. Вылетел из-за угла и остановился в растерянности.
Это был советник.
Я шагнул к нему.
— Еще раз здравствуйте, господин Фольцев.
В его глазах застыл испуг.
— Куда-нибудь торопитесь? — заботливо спросил я.
— Я… я искал вас, — обрывающимся голосом сказал советник.
— Пожалуйста.
— Мне очень нужно сказать вам — так, чтобы никто не знал. Тайно, понимаете — тайно.
Я оглянулся. Коридор был пуст. Я убрал руку.
В конце концов, даже если он фантом, то за моей реакцией ему не успеть: пока он вытаскивает пистолет, я его голыми руками положу четыре раза.
Советник загадочно покивал лицом в красных пятнах.
— Я хочу вам сказать, что я ничего не знаю.
— Содержательное сообщение, — ответил я. — А о чем именно вы ничего не знаете?
— Ни о чем. Честное слово! Мое дело — финансовое. Я перевожу деньги, я оплачиваю счета. Они сами все делают.
— Кто они?
— Бенедикт и Витольд. И еще этот, Краб, техник.
— У вас в Доме есть волновой генератор? — напрямик спросил я.
— Не знаю, — испуганно сказал он. — Похоже, что есть. Наверное, есть. Знаете, ощущение очень близкое, я пробовал…
— Господин Фольцев, мы же все равно установим, если вы имеете дело с волновыми наркотиками.
Советник выпустил воздух, как проколотый.
— Я пробовал «веселый сон», — обреченно сказал он.
Я недоверчиво посмотрел на него. История с «веселым сном» была мне известна. Эти аппараты предназначались для общей анестезии. Считалось, что они должны полностью снимать болевые явления при операциях, вызывая вместо них ощущения легкой радости.
Но уже в процессе испытания опытных образцов было обнаружено, что они обладают наркотическим действием с длительным привыканием к наркотику. Аппараты вернули на доработку — меняли спектр, резонансную частоту, — деталей я не помнил. Пострадало человек двадцать — в слабой форме.
— Почему сразу не заявили? — спросил я.
— Я… мне сказали, что во второй раз не излечивается… — упавшим голосом ответил он. — И ведь я финансировал Дом через мэрию. Мог быть скандал. Но я хотел прекратить, я серьезно поговорил с Бенедиктом…
— А «саламандры» дали вам понять, чтобы вы не вмешивались?
Советник осекся и, как черепаха, втянул голову.
— Смелее, Фольцев, — сказал я. — Вы же сообщаете мне это не из любви к согражданам. Вы хотите, чтобы полиция избавила вас от «саламандр». Так? Кто конкретно вас доил?
— Краб, — еле слышно сказал советник. — Но, наверное, есть и другие. Я не обращался к местным властям, потому что…
— Понятно. Это все?
— Все! — Он впервые поднял на меня глаза: — Чистая правда.
— Идите.
— Я могу быть уверен…
— Да, — сказал я. — Закон гарантирует анонимность заявителя.
— Спасибо.
Он, потоптавшись, повернулся, побрел — мятый и поникший. Шаркал ногами.
Я устремился к душевым. Меня не интересовал советник Фольцев. Пусть рэкетом занимается полиция.
В основном ясно — генератор в Доме выявят, а Дом закроют. Их не спасут ни Бенедикт, ни «саламандры», ни сам сенатор Голх. Тут — закон. Это хорошо. Значит, я могу больше не тратить время на Спектакли. Только главное — искать старшего группы. Нам нужен старший.
Дверь в душевую была заперта, но я сообразил это, лишь сорвав хлипкую задвижку. Влетел внутрь. Внутри было очень уютно. Посередине душевой, там, где каменный пол понижался к зарешеченному стоку, двое незнакомых мне ребят с сильно развитой мускулатурой держали под мышки обвисшего, согнувшего колени библиотекаря. Измученное лицо его было в свежих ссадинах, зрачки — глубоко под веками, в углах губ — кровяная слюна. Видимо, шел крупный разговор. И разговор этот продолжался, — как раз в тот момент, когда я влетел, третий человек неторопливо и сильно ударил библиотекаря тяжелым ботинком под ребра. Умело ударил. Привычно. Библиотекарь ёкнул нутром, качнулась неживая голова, изо рта выпал сгусток крови.
Мне очень не хотелось ввязываться. Я зачем-то мягко и бережно прикрыл дверь. Защемило сердце, — их было трое.
Тот, который бил, обернулся.
— Добрый вечер, — вежливо сказал я.
— Надо же, еще один, — удивленно ответил Краб.
Его напарники сразу же отпустили библиотекаря.
Он мешком, словно был без костей, повалился на мокрый пол. Начали придвигаться ко мне с боков.
Шумела вода. Почему-то все души у стен были включены. Я лишь мельком подумал о пистолете. Я был в этой стране частным лицом и совсем не хотел превратиться в центральную фигуру шумного процесса на тему «Сотрудник МКК расстреливает мирных граждан».
У нас в отделе не одобряли скоропалительных огневых контактов. Из такого процесса меня могли и не вытащить.
— Не бойся, — ласково сказал Краб, потряхивая волосатыми кистями рук. — Мы тебя не убьем, мы тебя изувечим.
Он еще не кончил говорить, как я, нырнув, ударил его головой в челюсть. Краб вскрикнул. Но настоящего удара не получилось. На мне уже повисли. Стало душно и тесно. Грязные пальцы с обкусанными ногтями полезли мне в рот. Каждый из этих ребят был вдвое сильнее меня, но они совершенно не владели боевой техникой и только мешали друг другу. Они вцепились в меня и отпрянули. Я стоял у стены. Мой пиджак лопнул по шву, а рубашка лишилась всех пуговиц. Болел бок, и ныла шея. Это были пустяки. Я еще мог работать. Тем более что обстановка не благоприятствовала расслаблению. Правда, один из моих противников сидел на полу, скуля, раскачиваясь и баюкая сломанную руку, но двое других вполне прилично держались на ногах. Если бы они были профессионалы, мне пришлось бы трудно. Но они не были профессионалами. Краб, раздув широкие ноздри и хрипя, сплевывал кровь из прокушенного языка. Второй парень — низкий и квадратный — смотрел на меня с явной опаской.
Дух был сломлен.
— Убирайтесь! — Я пнул ногой дверь, открывая.
— Ну, мы тебя еще встретим, — невнятно пообещал Краб, морщась от боли.
— Давай, давай, — сказал я.
— Мы тебя поприветствуем…
Они подхватили сидящего, не обращая внимания на жалобные всхлипы, грубо потащили в коридор.
Я сунул голову под ближайший душ, в холодную воду. Пил, чувствуя, как оседает внутри горькая пена.
Боль в боку усилилась. Наверное, сломали ребро.
Славный денек выдался! Веселый.
Из соседнего душа торчали чьи-то ноги. Косясь на неподвижного библиотекаря, я заглянул за кафельную перегородку. Мелко и часто дыша открытым ртом, как в агонии, скребя вытянутыми пальцами по камню, там лежал Коннар.
Меня словно толкнуло. Я пошарил у него за пазухой и вытащил пистолет. «Элизабет» — армейская серия.
Из дула попахивало свежей, кисловатой пороховой гарью, а в обойме не хватало двух патронов.
Вот значит как. Была попытка к бегству. Неудачная попытка. Вот, значит, какая получается каша.
Контрразведка и «саламандры». Многим же хочется ощутить в своих руках незримую нить власти. Бедному библиотекарю просто не повезло: его все это время держали в коробке. Глухо держали. Не подпускали близко ни одного постороннего. Ну что ж, теперь ясно. Разгром моей квартиры — это «саламандры». А вот микрофоны — это уже второй отдел. И час назад на террасе, прикрывая побег, Коннар стрелял не в меня. Он стрелял в Элгу.
— Получается, что ты фантом, Коннар, — сказал я тихо.
Коннар сразу же ужасно застонал, не открывая глаз, пощупал волосы:
— Сволочи, всю голову мне разбили! — Оторвал руку. Она была в крови.
— Потерпи немного, сейчас будет врач, — сказал я ему. Осторожно передвинул, чтобы голова оказалась на возвышении.
— Где он? Да где же он? — в беспамятстве бормотал Коннар.
Мне было жаль его. В конце концов, он не был виноват ни в чем.
Я утерся ладонью и вызвал Августа.
У него даже голос осекся от новостей.
— Ты уверен?
— Да. Библиотекарь.
— Дай бог, — сказал Август. — Я сейчас свяжусь с полицией, пусть произведут задержание согласно всем правилам. Как ты себя чувствуешь?
— Жив, что мне сделается, — ответил я, удивленный такой заботой.
Он и сам, видимо, смутился, потому что торопливо сказал:
— Полиция будет минуты через три-четыре. Не волнуйся, Павел. Теперь уже все.
Я и не думал волноваться. Операция шла к концу.
Сейчас приедут и заберут библиотекаря. Он, несомненно, старший, если включил Коннара. Он даст нам ключ и остальные группы. Может быть, он даст нам и слово власти — одинаковое для всех фантомов.
Теперь следовало заняться библиотекарем. Он лежал лицом вниз, обтекаемый спокойной водой. Я его перевернул, ощупал карманы. Ни документов, ни оружия не оказалось. Мокрая одежда неприятно липла.
Правда, я и сам был весь мокрый. Мне не нравилось его неподвижное лицо. Я оттянул веко — показался синеватый белок.
— Поднимите меня, — ясным голосом сказал библиотекарь.
Держа под мышки, я его посадил. Он открыл глаза — злые, внимательные.
— Помогите мне. Кто вы — разведка или МКК?
— А есть разница? — спросил я.
— Предпочитаю военных, — сухо ответил он. Вдруг мигнул. — Послушайте, надо уходить. Они вернутся!
Я придавил его за плечи. Библиотекарь сучил ногами по полу, оскальзывался. Упер холодную, мокрую руку мне в подбородок.
— Они же нас всех убьют! Вы что, не понимаете?!
Оттолкнул меня и пополз на четвереньках. Я заломил ему руку, и он ткнулся лицом в струящуюся воду.
Сопел, пуская пузыри. Внятно сказал:
— Идиот! Боже мой, какой идиот!
— Мне нужен код включения программы, — сказал я.
Библиотекарь чудом вывернул расплющенное лицо.
Смотрел мимо меня. Я его сразу же отпустил. Что-то тяжелое и темное обрушилось сверху. Костяной болью пронзило затылок. Вспыхнули разлетающиеся искры.
В нахлынувших тенях я еще успел заметить черную фигуру Коннара. Он, оскалившись, поднимал дрожащими руками обрезок трубы. Потом руки опустились и свет погас.
Глава девятая
Телетайпные сообщения по второму каналу спецсвязи (международная безопасность)
1699. (Правительственное сообщение) Правительство республики Ассиаб официально сообщило, что в ночь на второе сентября произошло вооруженное выступление сепаратистов в провинции Махатан. Выступление было поддержано частью сил национальной армии.
К утру второго сентября мятежники овладели главным городом провинции. Днем второго сентября главарь сепаратистов полковник Сагеш выступил по местному радиовещанию с заявлением об отделении провинции Махатан и образовании самостоятельного государства Маха. Полковник Сагеш обратился к главам государств с призывом признать его правительство. Одновременно в Совет МКК направлена просьба ввести войска МКК на территорию провинции Махатан для разъединения правительственных и сепаратистских частей.
Просьба обсуждается в Совете. Наблюдатели МКК выехали в Ассиаб.
1700. (Отдел информации МКК) 2 сентября. В настоящее время большинство глав государств отказалось признать правительство сепаратистов, возглавляемое полковником Сагешем. Группой малых стран выдвинуто предложение о проведении в провинции Махатан плебисцита под эгидой МКК с целью определения ее государственной принадлежности.
Президент республики Ассиаб П. Шион заявил, что, по имеющимся у него данным, население провинции Махатан не поддерживает мятежников. Законное правительство прочно контролирует большую часть территории страны. Политические партии республики осудили действия сепаратистов. Утром второго сентября правительственные войска, сконцентрировавшись в долине реки Апша, нанесли удар по мятежникам и захватили плацдарм на противоположном берегу. Согласно последним сообщениям, войска сепаратистов отступают в глубь провинции.
Особое внимание!
1702. (Оперативный отдел МКК) 2 сентября. Некоторые действия сепаратистов указывают, что в руководстве мятежников могут присутствовать лица, кодированные в шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США, проходящие по розыску МКК — «Фантом».
1704. (Сообщения зональных агентств). Второго сентября в республике Бальге был совершен государственный переворот. В нарушение международного права группа лиц, пришедшая к власти, не обнародовала своей политической и социальной программы, не сообщила о составе сформированного правительства и не отвечает на запросы отдела информации МКК. Телефонная, телеграфная и телексная связь, вплоть до каналов МКК, прервана. Аэродромы закрыты. Железнодорожное сообщение отменено. Посольства и представительства, аккредитованные в республике Бальге, контактов со своими правительствами не имеют.
1705. (Отдел информации МКК) 3 сентября. Самолет с наблюдателями МКК, посланный в республику Бальге, был встречен над ее территорией военными истребителями, которые, открыв предупредительный огонь, вынудили его покинуть воздушное пространство Бальге.
1712. (Отдел информации МКК) 4 сентября. Совет МКК отклонил просьбу главы сепаратистов полковника Сагеша о введении войск в провинцию Махатан и предложил сепаратистам прекратить военные действия с целью разоружения под контролем наблюдателей МКК.
Президент республики Ассиаб П. Шион заявил, что мятежники отвергли ультиматум правительства о капитуляции. Правительственные войска продолжают наступление на столицу провинции. Президент Шион заявил, что в освобожденных районах отмечены множественные случаи зверских расправ отрядов сепаратистов с мирным населением.
Особое внимание!
1716. (Отдел информации МКК) 4 сентября. Самолет с наблюдателями МКК, вторично, после официального извещения, посланный в республику Бальге, был встречен над ее территорией истребителями ВВС республики. В ответ на радио- и световые сигналы с самолета по международному коду истребители открыли огонь на поражение, в результате чего загорелись оба ведущих мотора. Командир экипажа лейтенант Ван Клоог (Голландия) приказал пассажирам покинуть машину. В пятнадцать двадцать две по Гринвичу связь с самолетом прервалась. Пограничные посты воздушного наблюдения сообщили, что самолет упал в джунглях на северо-востоке страны. Судьба представителей МКК и членов экипажа неизвестна.
Особое внимание!
1719. (Оперативный отдел МКК. Только для служебного пользования!) 5 сентября. В ночь на пятое сентября оперативный отдел МКК с помощью боевых вертолетов «облако» высадил на территории республики Бальге две поисковые группы в составе пяти человек каждая с целью сбора информации о положении в стране. Командиры групп — капитан Ж. Майоль (Франция) и капитан М. Волков (СССР). Обе группы подтвердили успешную высадку и в настоящее время продвигаются к столице республики.
1720. (Правительственное сообщение) 5 сентября.
Государственная радиостанция республики Бальге передала сообщение, что в результате народного восстания против олигархической диктатуры к власти в стране пришло правительство национального спасения во главе с доктором Моисом Шуто. Целью нового правительства является установление в республике демократических свобод и преодоление экономического кризиса.
Доктор Моис Шуто заявил, что государственный переворот был поддержан подавляющим большинством населения республики. В настоящее время обстановка в стране спокойная, возобновляется нормальная жизнь.
Одновременно доктор Шуто заявил, что его правительство не потерпит никакого вмешательства во внутренние дела страны. Любые попытки пересечения государственной границы Бальге воинскими частями или отдельными лицами будут беспощадно подавляться. Доктор Шуто призвал все государства мира признать возглавляемое им правительство как единственное законное и выражающее волю народа Бальге.
1722. (Агентство АТН) 5 сентября. Глава сепаратистов полковник Сагеш опроверг сообщение, что правительственные войска продвигаются к столице провинции Махатан. По его заявлению, войска независимого государства Маха прочно удерживают позиции западнее городов Шомол и Барба.
1723. (Агентство Рейтер) 5 сентября. На стороне сепаратистов провинции Махатан («независимое государство Маха») сражаются воинские подразделения республики Бальге, где на днях был совершен государственный переворот. Провинция Махатан имеет общую границу с республикой Бальге протяженностью более четырехсот километров.
Особое внимание!
1724. (Оперативный отдел МКК) Справка. Доктор Моис Шуто, президент республики Бальге. Год рождения неизвестен. Предположительный возраст — сорок восемь — пятьдесят лет. Данные о родителях отсутствуют. Данные о первых годах жизни отсутствуют.
Окончил институт нейромедицины в Сорбонне (Франция) по специальности — нейрофизиология. Данные о научных работах в период учебы отсутствуют. После окончания института около четырех лет работал в Государственном нейрофизиологическом госпитале (недостоверно). Данные о научных работах за этот период отсутствуют. Длительное время работал в шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США. Был заместителем профессора Нейштадта. До настоящего момента считался погибшим во время катастрофы в лаборатории. Данные о семье отсутствуют. Данные о месте пребывания в последние годы отсутствуют.
Особое внимание!
1734. (Отдел информации МКК) 6 сентября. Две станции слежения-близнецы 11 и 12 внешнего пояса безопасности Солнечной системы — внезапно захвачены группой неизвестных лиц. Захват осуществлен изнутри.
Средств космических сообщений у станций не обнаружено. Акт захвата был установлен техником О'Доннелом (Ирландия), который при попытке приблизиться к обеим станциям на одноместном катере Т-2 был обстрелян из легких пулеметов. На запросы МКК станции не отвечают.
Отдел безопасности МКК отдал приказ всему персоналу станций-близнецов внешнего пояса Солнечной системы оставаться на станциях, заблокировать выходы в пространство и не принимать никаких средств космического сообщения, за исключением тех, о которые будет особо объявлено Советом МКК. Командирам станций-близнецов отдан секретный, не подлежащий обсуждению приказ разрушить головки синхронизаторов.
Эксперты считают, что ракетные системы станций-близнецов могут быть вручную, силами персонала станций, переориентированы на Землю со значимой вероятностью поражения (10–12 %; А. Пинаев, СССР). В связи с этим боевому крейсеру «Викинг» (командир — Н. Скалон, Швеция) отдан приказ выйти на орбиту внешнего пояса и предложить лицам, захватившим станции, сдаться, а в случае отказа или начала боевых действий — уничтожить станции-близнецы 11 и 12 внешнего пояса системы.
1735. (Агентство Сана) 6 сентября. Глава сепаратистов провинции Махатан полковник Сагеш официально заявил, что возглавляемое им независимое государство Маха подверглось неспровоцированной агрессии со стороны республики Ассиаб. Исчерпав все возможности мирного урегулирования конфликта, правительство государства Маха обратилось к соседнему дружественному государству Бальге с просьбой оказать ему военную и экономическую помощь. Полковник Сагеш подтвердил, что сейчас между обеими странами ведутся переговоры о включении государства Маха в состав государства Бальге на правах автономной провинции, так как этническая общность обоих народов не подлежит сомнению.
Особое внимание!
1736. (Оперативный отдел МКК. Только для служебного пользования!) 6 сентября. Связь с обеими группами, высаженными вчера на территории республики Бальге, утрачена.
1737. (Правительственное сообщение) 6 сентября.
Президент республики Ассиаб П. Шион заявил, что в случае оказания государством Бальге помощи мятежникам республика Ассиаб и республика Бальге будут находиться в состоянии войны.
Особое внимание!
1741. (Оперативный отдел МКК) 6 сентября. Сообщение К. Клодта, генерального представителя МКК в республике Бальге.
…Обстановка жесточайшего террора. Не соблюдаются ни гражданские, ни международные законы. Все члены прежнего правительства расстреляны. Военный министр убит сразу же, в момент переворота. Министр труда застрелен у себя дома на глазах всей семьи, убита его жена. Министр культуры укрылся во французском посольстве, солдаты вытащили его оттуда и расстреляли.
Английское и мексиканское посольства, пытавшиеся помочь беженцам, разгромлены. Судьба американского представителя неизвестна. Убивают всех иностранцев. Шведский режиссер Олафссон убит, итальянский спортсмен, чемпион мира по прыжкам в высоту Лациани убит, группа бразильских туристов погибла вся. По улицам столицы непрерывно курсируют танки и бронетранспортеры. Солдаты без предупреждения стреляют в прохожих. Вчера под нашими окнами убили женщину — на спор, с третьего выстрела, она бежала по улице. Все политические партии запрещены, профсоюзы запрещены, собрания, демонстрации запрещены.
Запрещено собираться группами более трех человек.
Идут повальные обыски, ищут радиопередатчики. Книги сжигают все. Меня прячут знакомые — если меня найдут, их расстреляют. Комендантский час с семи вечера до семи утра. Поголовная чистка в государственных учреждениях, любой заподозренный исчезает бесследно. О судьбе арестованных не сообщают. Два дня назад…
Примечание. Передача велась с медицинской рации направленного действия, приспособленной, видимо вручную, для передачи узким лучом. Начало и конец передачи не фиксировались.
Особое внимание!
1743. (Сообщение Интерпола) 7 сентября. Вчера в международном аэропорту Орли (Франция) при попытке вывезти за границу медицинское оборудование, подлежащее обязательной регистрации, задержан гражданин Голландии А. Фогт. Багаж общим весом в четыреста килограммов содержал аппаратуру, по мнению экспертов аналогичную той, которая использовалась в шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США.
Задержанный А. Фогт признался, что указанная аппаратура изготовлена по особому заказу фирмой «Медико» (Франция). Заказчиком ее является гражданин республики Бальге доктор Реджинальд Камма. Фотороботы доктора Р. Каммы с вероятностью в 78 % совпадают с портретом доктора Моиса Шуто, который возглавил государственный переворот в республике Бальге второго сентября сего года.
Особое внимание!
1745. (Оперативный отдел МКК. Только для служебного пользования!) 7 сентября. Сегодня ночью оперативным отделом МКК на территорию республики Бальге произведена заброска двух поисковых групп в составе пяти человек каждая. Учитывая неудачу предыдущей операции, группам дан строжайший приказ вести радиопередачи только направленными лучами, исключающими возможность пеленгации, и сообщать о своем местонахождении каждые два часа. Руководители групп — капитан Эль-Хасим (Сирия) и капитан Д. Мирзоев (СССР).
Особое внимание!
1746. (Отдел информации МКК) 7 сентября. Группа лиц, захвативших вчера станции-близнецы 11 и 12 внешнего пояса безопасности Солнечной системы, провела радиопередачу на международных волнах. Лица, захватившие станции, утверждают, что большая часть ракетных систем уже (якобы за сутки) переориентирована ими в сектор Земли. Руководитель террористов некто Ораган заявил, что отныне обе станции находятся в полном подчинении у доктора Моиса Шуто, возглавившего новое правительство республики Бальге. В случае применения Международным сообществом каких-либо санкций в отношении республики Бальге или в отношении доктора Шуто, а также в случае нападения на станции-близнецы 11 и 12 обе станции обстреляют сектор Земли ракетами планетного типа.
Примечание. Эксперты МКК считают такую быструю переориентацию ракетных систем станций-близнецов маловероятной.
Глава десятая
— По сводке на десять утра, группа неизвестных лиц захватила Международный экономический центр, без какого-либо предисловия, прямо с порога сказал Август. — Угрожают разрушить систему согласования цен. Полный хаос экономики Земли!
Он сел напротив меня, через стол. Симеон, в черном полицейском мундире, перетянутом белыми ремням», очнулся, как лошадь, мотнул длинной головой, фыркнул, отгоняя сон.
— Для начала они отключили линии учета валют, сказал Август. — На биржах паника. Каждый час простоя линий обходится в сто миллионов долларов.
— Чего они хотят? — спросил я.
Август открыл рот, и тут зазвонил телефон. Он взял трубку, молча выслушал и так же молча положил.
— Они заявили, что будут подчиняться только доктору Моису Шуто, президенту республики Бальге.
— Я поеду, — черным голосом сказал Симеон.
Встал — худой, истомленный бессонницей.
— Куда? — с интересом спросил Август.
Симеон подумал и сел — очень прямо. Ремни скрипнули.
— Не понимаю, почему выступления начались именно сейчас, — сказал я. — Логичней было бы подождать, накопить сил…
Август достал из красной, личной, папки фотографию, бросил на стол:
— Полюбуйся.
На фотографии был снят библиотекарь в своем вельветовом пиджаке, галстук-бабочка. Мне стало тоскливо.
— Внимательно смотри, — сказал Август. Он был зол и не скрывал этого.
Фотографию покрывала тонкая штриховая сетка, короткие стрелки в углах ее указывали в разные части головы и лица. А под ними мелко, от руки, были вписаны цифры.
— И где он сейчас? — мрачно спросил я.
— Фредерик Спенсер Нейштадт, профессор нейрофизиологии, бывший руководитель шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик», — отчеканил Август. — Данные антропометрической экспертизы. Идентификация полная. Пятнадцать лет просидел здесь, в стране, — первоклассный ход. Вы объявляли его в розыск, Симеон?
— Считалось, что он погиб, — вяло сказал Симеон.
У него был какой-то отсутствующий вид.
— Если они получат государственную базу, ну это — Бальге, — сказал Август, — то за год, пожалуй, смогут закодировать два-три миллиона человек.
Я сидел оглушенный.
Опять зазвонил телефон. Август послушал.
— Ну вот. Специальный представитель МКК вылетел для переговоров с доктором Шуто. А тот, конечно, поставил предварительное условие; прекратить все операции против фантомов — не выявлять, не арестовывать. Вы меня слышите, Симеон?
— Слышу, — сказал Симеон, не поднимая век.
— Эти… в МКК согласились. Как же — угроза Земле. — Август хлопнул себя по колену. — Я прямо скажу: есть ли фантомы в МКК, я не знаю, но я знаю, что многие, очень многие там, у нас, приветствовали бы фантомов с радостью: до сих пор спят и видят — повернуть все обратно. Советский представитель заявил особое мнение. Да! Ты, Павел, не в курсе — уже сутки, как руководство по операциям против фантомов взял на себя Совет МКК. Непосредственно. Минуя все отделы.
Чертова говорильня! Теперь шагу нельзя ступить без их разрешения.
Симеон открыл один глаз.
— Кто вас информирует, Август? Если это не секрет.
Август долго смотрел на него. Сказал:
— Меня информирует консул Галеф. А что?
— Ничего. — Симеон закрыл глаз.
— Профессор от нас не уйдет, — сказал Август. Полиция проверяет город — негласно. Междугородное движение такси отменено. Частные машины под контролем. Из четырех аэробусных станций три на ремонте, одну мы оставили в качестве ловушки.
— Он может прийти в биомаске, — сказал я.
— Хоть в двух! Из города ему не выбраться. Не пойдет же он пешком.
— Почему «саламандры» его не убрали? — задумчиво сказал Симеон.
— Это вопрос? — Август поднял бровь.
— Мысли вслух.
— Ага! — Август повернулся ко мне: — Мы также ищем остальных — Элгу, Анну, Краба. Все они исчезли. Это, между прочим, твоя вина, Павел. Зачем тебе понадобилось лезть в драку? Ничего бы ему не сделали. Ты должен был сказать: «Извините» — и закрыть дверь. Голову тебе починили?
— Все в порядке, — неловко сказал я.
Он был прав. Задание я провалил. И то, что я сам чуть не погиб при этом, никого не интересовало.
— Плохо работаем, — сказал Август. — Сны, о которых тебе рассказывала Анна, это приманка, блесна, Она не фантом. У нее охранные функции.
— А зачем нужно охранять профессора? — сказал Симеон.
— Мысли вслух? — осведомился Август.
— Нет, вопрос.
Август смотрел, не мигая. Громадными глазами.
— Послушайте, Симеон, вы очень не хотите сотрудничать с нами?
— Да, — сказал Симеон.
— Боитесь военных?
— Я всего лишь полицейский, — сказал Симеон. — И за моей спиной не стоит МКК.
Август подумал. Пожевал толстые губы. Принял решение:
— Ладно. Дальше. Специалисты исследовали аппаратуру в Доме. Волнового генератора там нет.
Этого я не ожидал.
— Вы говорили с советником, с Фольцевым?
— Да.
— Нет, о Спектаклях?
— О Спектаклях не говорили.
Я коротко изложил свой разговор с советником. Август слушал без интереса.
— Все это хорошо, Павел, — нетерпеливо сказал он, по отношения к делу не имеет. Честное слово, если бы там и оказался генератор, то я все равно не позволил бы распылять наши силы. Есть главное, и есть второстепенное.
— Пошлите кого-нибудь на Спектакль, пусть замерят эмоциональный фон.
Август заворочался так, что кресло застонало.
— В конце концов, я начинаю думать, что у тебя идефикс, Павел…
— Я прошу вас…
— Ладно.
Я видел, что он не пошлет. И я чувствовал, что мне не доказать ему, что тихая зараза, которая, как болотный туман, расползается из обычного Дома, гораздо опаснее всех фантомов. Тут формально не с чем бороться. Спектакли не губят людей, не вредят их здоровью, не нарушают никаких гражданских законов. Они лишь замещают один мир другим. Мир реальный миром призрачным. Это, скорее, вопрос мировоззрения.
Но попробуй докажи, что мировоззрение — даже не выходящее за рамки обычной морали — может быть столь же опасно, как и стрельба из крупнокалиберных пулеметов. Попробуй докажи, что легкое развлечение может привести к тому, что человечество просто уйдет в другой мир — иллюзорный, удобный, сладкий, — не нужно будет искать, делать открытия, лететь к звездам: нажал кнопку и попал, куда хочешь, и ты — гений, диктатор или бесстрашный покоритель далеких планет.
Снова раздался звонок. Август поднял трубку и, забыл ее положить.
— Пожалуйста, — растерянно сказал он. — Станция-близнец одиннадцатая произвела показательный выстрел в сектор Земли. — Голос его окреп. — А эти болтуны, эти паникеры из МКК настолько перетрусили, что приказали международным частям покинуть территорию Бальге.
— Это не трусость. — Симеон так потер лицо, словно хотел содрать кожу.
— На орбите Марса десяток тяжелейших крейсеров, на самом Марсе две станции ближней защиты, — наливаясь кровью, говорил Август. — А эти… мало того, что вывели войска, они еще завернули «скальд» — ему оставался один день полета, завтра раскатал бы близнецов по всему пространству. Нет, вы послушайте — Шуто потребовал, чтобы профессора Нейштадта целым и невредимым доставили к нему. И сейчас они серьезно обсуждают этот вопрос. Кроме советского, кажется, только французский представитель против. Вместо того чтобы поднять по тревоге дивизию «призраков», накрыть всю Бальге куполом радиопомех, высадить десант и через два часа доставить этого Шуто в тюрьму МКК, они, видите ли, вступают с ним в переговоры. Паникеры!
— Они не паникеры, — сказал Симеон.
Август несколько секунд бешено глядел на него.
Рявкнул:
— Знаю! — и положил трубку.
Телефон тут же зазвонил.
— Да! Да! Делаем все, что можем. Нет, гарантировать не могу. А вот не могу, и все. Так и передайте. Помощь? Требуются детекторы генетических кодов — двести или триста штук. Их можно снять с аэродромных опознавателей. Ну так получите разрешение! Нажмите на правительство!
Бросил трубку, повернулся массивным телом.
— С кем вы, Симеон?
Тон был чрезвычайно опасный. Я выпрямился.
— Я ни с кем. Я наблюдатель, — обманчиво спокойно ответил Симеон.
Они прямо впились друг в друга глазами. Я был готов ко всему. Я знал Августа. Если он решил стрелять, то он будет стрелять. Его не остановят никакие законы, никакие процессы, никакие скандалы в газетах. Поэтому он и занимался особыми акциями. Но Август, вероятно, решил, что стрелять еще рано, — как-то потускнел, сказал брюзгливо:
— МКК запрашивает, можем ли мы гарантировать, что возьмем профессора в течение двух суток. На это время они собираются растянуть переговоры. Понял, Павел, почему начались выступления? Теперь профессор не в коробке у «саламандр». Теперь он работает на себя. И очень торопится, пока его не захлопнули снова.
Я молчал. А что было говорить? Ведь именно я, пусть невольно, способствовал освобождению профессора Нейштадта.
— По-настоящему, следовало бы тебя отстранить, сказал Август. — Но нет людей. И нет времени. — Сделал внушительную паузу, придавая вес своим словам. Займемся Коннаром. Сегодня утром его обнаружили. Симеон, у вас готово? Давайте!
Симеон притушил свет. На экране возникло лицо Коннара. Он улыбался. Рядом мигала дата.
— Ему было двадцать девять лет, — зачем-то сказал Август.
Я подумал, что мне тоже двадцать девять. Совпадение не радовало.
Фотографию Коннара сменила длинная, узкая улица для промышленного транспорта. По обеим сторонам ее поднимались гладкие стены из непрозрачного стекла, Камера показала их ничего не отражающую поверхность, потом — цифровой индекс под выпуклым глазом осветителя.
— Восточный район города, — сказал Август. — Заводской сектор, самая окраина. Линия скоростных перевозок. Не представляю, как его туда занесло.
Я тоже не представлял. На автоматических линиях люди, за исключением ремонтных бригад, практически не появлялись. Это было запрещено: поток шел с громадной скоростью, защитная автоматика не гарантировала безопасности случайного пешехода. Только очень серьезная причина могла заставить Коннара забраться в эту путаницу тоннелей, где каждые две секунды с ревом пролетал над землей громадный грузовой контейнер.
— Внешняя охрана его пропустила, — сказал Август. — Почему — это у автомата не спросишь. Внутренний контроль зафиксировал присутствие человека на полосе. Прибыл дежурный — уже поздно. Сразу вызвали нас.
Коннар лежал на мостовой ничком, выкинув руки.
Над ним согнулись полицейские.
— Самоубийство? — спросил я.
— Самоубийство, — сказал Август. — Он бросился между контейнерами.
— Все-таки он фантом?
— Да. Здесь мы ошиблись. Мы были обязаны предвидеть тот случай, когда кто-то из нас окажется фантомом. — Попросил, не оборачиваясь: — Симеон, будьте любезны, поставьте зондаж.
На экране появился город — старые, еще кирпичные дома бесшумно ломались, наезжая друг на друга.
— Это, вероятно, ретроспекция, — сказал Август. Скорее всего — детство. Конец двадцатого века.
Дома раздвинулись, образуя улицу. По гнутым рельсам прополз смешной железный трамвайчик, скрылся за углом. Из низкой подворотни, размазывая слезы по круглым щекам, выбежал мальчик лет десяти. Огляделся, сморщился, плача, уткнулся в стенку. Пошел косой дождь — крупный и страшный в своей беззвучности.
У мальчика подрагивали плечи под мокрой рубашкой. На стене были процарапаны детские каракули.
Мне хотелось отвернуться. У меня было предубеждение против посмертного зондажа головного мозга — словно подглядывают за человеком в замочную скважину. Все равно он мало что давал: редко кто чувствует ясными зрительными образами, обычно получается каша, которую невозможно анализировать. Правда, ходили слухи, что с помощью зондажа удалось успешно раскрыть несколько весьма запутанных дел. Не знаю.
Я бы не хотел, чтобы после моей смерти из мозга вытаскивали то, что я видел и чувствовал в свои последние минуты.
— Возьми «память», сидишь как глухой, — сказал Август.
Я без особой охоты надел браслет, прилепил на виски кристаллы, интенсивность эмоций поставил самую низкую.
На экране под осенним ветром яростно метались деревья — буря мокрых листьев. Временами они становились прозрачными, и тогда открывалась река — широкая, пустая, в сетке дождя. По ней, отчаянно дымя, плыл курносый буксир. Река без всякого перехода сменилась местом, где умер Коннар. Качались непрозрачные стены. Словно он был пьян. На экране прыгали то небо, то бетон — Коннар закидывал голову. И тут бесконечное, острое, смертельное отчаяние охватило меня — я едва не сорвал кристаллы. Были в этом отчаянии и жалость к себе, и стыд, и страх, и полная безнадежность, и еще что-то такое, что определить было нельзя.
Снова появилась улица. Мальчик. Каракули на стене. Что-то вроде «Ау». Плечи вздрагивали от рыданий.
Пахло гарью и смертью. Все было потеряно, все погибло, не было пути назад. Вот сейчас стены качнутся в последний раз и рухнут.
И стены рухнули.
Зажегся свет.
— Впечатляет, — кивнул Август. — Чрезвычайно острая передача эмоций. У вас, Симеон, отличная лаборатория.
Я сидел неподвижно. Неужели Август ничего не понял? Или, наоборот, он понял все, но не хочет говорить при Симеоне? У меня перед глазами стояла отсыревшая, темная штукатурка старого дома, на которой камешком, слабой рукой, вкривь было процарапано нелепое и древнее имя — Аурангзеб.
— Полагаю, что часа через два мы получим необходимую аппаратуру, — сказал Август. — Ведь у профессора лучевой передатчик? Как вы думаете, Симеон, мы сможем воспользоваться армейской базой?
— Я думаю… — начал Симеон.
И замер с открытым ртом.
В прихожей гулко, часто затопали сапоги. Дверь распахнулась — от удара. В комнату, толкаясь, ввалились солдаты в синих мундирах. Мгновенно по двое стали около каждого из нас — автоматы наизготовку.
Чувствовалась хорошая школа.
— Сидеть! — гаркнули мне в ухо.
Жесткие руки легли на плечи. Я упал в кресло, ощущая противную пустоту в груди. Напротив меня, схваченный за локти, медленно опускался Август.
Звонко, неторопливо щелкая каблуками, покачивая блестящий стек, вошел офицер. На плече у него были нашиты желтые молнии. Козырнул, резко откинув два пальца от высокой фуражки. Оглядел нас, сказал, высокомерно растягивая гласные:
— Должен быть еще один. Четвертый.
К нему сунулся сержант, зашептал в ухо.
Август опомнился:
— Сударь, что это значит?
— Привезите его, — сказал офицер сержанту.
Тот опрометью бросился из комнаты.
— Сударь, — очень холодно повторил Август, — соизвольте прекратить это. Я сотрудник Международного комитета по контролю над разоружением.
Офицер повернулся к нему.
— Неужели? — любезно удивился он. Хлестнул стеком по сияющему черному голенищу. — Выводите их!
Я впервые увидел, как Август растерялся. Он не находил слов. Теребил пуговицу на пиджаке — оторвал и бросил.
Двое солдат подняли Симеона. Он был бледен до синевы. Спокоен. Смотрел в пол. На скулах его горели красные пятна.
Август, словно прокашливая звуки сквозь деревянное горло, спросил его:
— С кем вы, Симеон?
Симеон обернулся в дверях.
— Я ни с кем. Я — наблюдатель, — сказал он.
Его толкнули в спину.
Глава одиннадцатая
Видимо, заранее было решено отвезти меня сюда, потому что в квартире прибрали, подмели, поставили новую мебель. В комнате работал телевизор. Напротив него в мягком кресле сидел уже знакомый мне человек в стальном костюме. Тот, что выслеживал. Когда я вошел, он даже не обернулся.
Я отправился на кухню. Второй охранник — белобрысый, отклеившись от косяка, последовал за мной.
Я заварил кофе. Настроение было кислое. Мне ничто не угрожало. Меня просто изолировали на некоторое время. Пока не найдут профессора. Через пару дней отпустят. В крайнем случае здешнее правительство извинится. Если только правительство поставлено в известность.
Кофе был горький.
Я немного подумал об Августе. Ему тоже ничто не угрожало. Его тоже отпустят. Он, наверное, в бешенстве. Меряет шагами комнату, заложив кулаки в карманы. Лицо у него малиновое. Он скребет череп ногтями — ищет выход.
И я подумал о Симеоне. Очень плохо, если он расшифровал слово власти. Нет, еще хуже, если он передал его второму отделу. А мог он расшифровать слово?
Вполне. Оно держалось на экране целую секунду. А передать военным? Не знаю. Может быть.
Тонкая чашечка треснула у меня в руках. Кофе потек по столу. Белобрысый охранник, как пружина, выпрямился на звук.
Значит, военные. Второй отдел. Контрразведка. Они, конечно, с самого начала знали, кто мы такие и чем занимаемся. Они нам не мешали — они просто ждали, пока мы не выйдем на профессора. А потом нас отстранили. Самым элементарным способом. Временное задержание. Вероятно, юристы роются сейчас в каталогах, ища оправданную законом формулировку. Так.
Здесь — понятно. Теперь «саламандры». Как это сказал Симеон? Он ведь очень интересно сказал. Почему они его не убили? Действительно, Ну, прежде всего «саламандры» не знали, что библиотекарь — это профессор Нейштадт. Они считали его рядовым фантомом. Или старшим группы. Иначе бы они вытрясли из него все.
Хорошо. Но они и так из него все вытрясли. По их представлениям. Он им просто не нужен. Однако его берегли, убирали каждого, кто к нему приближался. Например, Кузнецова. Значит, он им все-таки нужен. Зачем?
Не хватало какой-то детали, какой-то мелочи, чтобы все стало на свое место.
По радио читали сводку новостей. На Марсе произведены первые во внешней среде посадки штаммов, освобождающих связанную кремнием воду. Очередная партия транспортов отправлена для монтажа орбитальной станции над Плутоном. В Атлантиде, на дне Гвианской котловины, произошла авария. Жертв нет. В самом конце диктор мельком сообщил, что группа полномочных представителей Совета безопасности МКК достигла предварительного соглашения с новым президентом республики Бальге доктором Моисом Шуто.
Подробности соглашения не передавались.
Я выключил радио. Я желал доктору Моису Шуто провалиться ко всем чертям. Воздух за окном синел.
Стиснутый домами, полз двухъярусный поток желтых, прозрачных такси. По тротуару торопились редкие пешеходы.
Мне нечем было заняться. Я принял душ и лег спать.
Белобрысый охранник сел на стул около кровати.
Проснулся я от грохота. Уже рассвело. Прямые лучи пересекали комнату. Оба моих стража с пистолетами в руках стояли у окна. Оно было разбито, и в раме его, расщепив подоконник, застряло тяжелое длинное копье.
Давя стекло ногами, я подошел. Охранники оглянулись. Было такое ощущение, что сейчас они заговорят.
Но старший лишь мотнул мятым лицом, и белобрысый исчез. Я выглянул. По улице удалялся конский топот.
Из домов выбегали люди. Собралась изрядная толпа.
Белобрысый влез в самую середину, расспрашивал.
Я втащил копье в комнату. Оно было настоящее, деревянное, с треугольным металлическим наконечником, к шейке его был привязан пук разноцветных лент. Я просто не представлял, где сейчас можно достать такое копье. Разве что в музее.
— Ала-а!.. — раздался слитный, многоголосый крик.
Из-за поворота вылетел десяток всадников. Нагибаясь к гривам, понеслись вдоль улицы. Каждый держал несколько пылающих факелов; швыряли их в окна — звон стекла, и гудящее пламя вырывается наружу.
Толпа на мостовой секунду стояла в оцепенении.
Вдруг все закричали.
— Ала-а!.. — вопили всадники.
Люди полезли в парадные, вышибали рамы первого этажа. Улица мгновенно опустела. Белобрысый остался — один посередине мостовой. Всадники приближались. Он замахал на них пистолетом. Кажется, выстрелил. Передний конник в шляпе с красным пером коротко гикнул и проскакал мимо — белобрысый лежал навзничь, из груди у него торчало древко.
Я не помню, как очутился внизу. Второй охранник кубарем скатился вслед за мной. Всадники исчезли, Большинство домов пылало. Валил жирный дым. Улица заполнялась людьми. Женщины выбегали, прижимая детей. Мужчины торопливо выбрасывали вещи — почему-то медные котлы, сундуки, обитые железом. Полетели перья из треснувших перин.
Первым делом я занялся белобрысым. Он лежал вцепившись в древко посиневшими пальцами. Копье глубоко ушло в грудь. Руки у него были еще теплые, а лицо в грязных пятнах — неподвижное. Требовались срочные меры. Я схватил за рукав второго охранника.
Он в это время зачем-то взваливал на спину здоровенный холщовый мешок.
— Есть аптечка? Позвоните в «скорую» — из любой квартиры!
— Пусти! Пусти! — с неожиданной злобой закричал охранник. Лицо его перекосилось. Он замотался всем телом. — Пусти, тебе говорят!
— Ваш коллега умер, — как можно убедительнее сказал я. — Вызовите «скорую», я пока восстановлю сердце.
— Да пусти же, так тебя и так! — пуще прежнего закричал охранник. Рванулся. Тонкая материя легко разошлась. Он по инерции сделал шаг назад, упал.
Мешок лопнул. Полилось белое пшеничное зерно. Охранник охнул и стал торопливо собирать его пригоршнями, плача от злости.
— Здесь есть врачи? — громко спросил я.
Два-три бледных, испуганных лица обернулись ко мне — на мгновение. Все что-то делали: тащили, увязывали, складывали. Стоял гомон раздраженных голосов. Плакали дети. Я заметил, что одежда на людях какая-то странная — матерчатые грубые куртки, полосатые широкие панталоны, кожаные сапоги, туфли с металлическими пряжками.
Улица вместо силиконового асфальта была вымощена булыжником, кривые дома из неоштукатуренного камня тесно лепились друг к другу, в раскисших канавах текла зеленая омерзительная вода.
Это был средневековый город.
Худощавый человек во вполне современном костюме протолкался ко мне, показав плоскую металлическую коробочку, пристегнутую к запястью:
— Вы звали на помощь? Я врач. Что случилось? — Тут же присел над мертвым, потрогал веки. — Держите!
Упершись в грудь, сильно дернул копье. Обильно пошла кровь. Он достал из коробочки безыгольный инъектор, залил рану пенистой жидкостью. Она быстро уплотнилась, порозовела.
Ноздри белобрысого дрогнули.
— Все, — сказал человек, выпрямляясь. — Все, что могу, — глубокий сон. Остальное в клинике. Черт! Какая сейчас клиника! — Повернул ко мне нервное лицо: — Наконец-то вижу хоть одного нормального. Вы можете сказать, что произошло? Все словно с ума посходили.
Маскарад какой-то. Или это временной сдвиг, нас перенесло куда-нибудь в четырнадцатый век? — Он постучал по стеклу медицинского браслета: — Вот, ни одна больница не отвечает.
Я хотел ему объяснить — не вышло. Женский голос высоко, испуганно сказал: «Ах!» Все умолкло. В гнилом воздухе повисла тишина. И в этой тишине, перекатывая цокот по булыжнику, метрах в двухстах от нас, на перекресток выехал конный отряд. Всадники были в сверкающих на солнце латах, с опущенными забралами. Железные доспехи покрывали грудь и головы коней. Предводитель их с пышным черным султаном на шлеме поднял руку в металлической перчатке. Остановились. Смотрели.
— Господи, спаси и помилуй! — отчетливо на всю улицу сказал кто-то.
Предводитель махнул рукою: вперед! Всадники вразнобой опустили копья и затрусили к нам, убыстряя ход.
— Безобразие! — громко сказал врач за моей спиной.
Вдруг стало невероятно тесно. Меня сдавили так, что я не мог вздохнуть. Толпу крутануло водоворотом.
Кто-то застонал, кто-то упал под ноги.
— Да бегите же, идиоты! — изо всех сил закричал я.
Бежать было некуда. Люди лезли друг на друга.
Цокот нарастал. Я чудом уцепился за карниз, подтянулся и перевалился в окно второго этажа. Стон поплыл между крышами. Квартира горела. Сквозь разбитую раму выходил дым.
То, что внизу казалось мне хаосом и паникой, отсюда таковым вовсе не выглядело. Плакали и метались где-то сзади. А перед разредившейся толпой десятка три мужчин энергично наваливали в кучу шкафы, колеса, железные треноги. Росла баррикада. Женщины, оставив детей, помогали. Врач, скинувший пиджак, распоряжался, стоя на бочке, — махал посверкивающим топором.
И у многих тоже появились топоры, колья. Толпа ощетинилась. Передние всадники, доскакав до баррикады, замялись. В них полетели камни, палки. Булыжник задел предводителя с черным султаном. Шлем свалился. Второй булыжник ударил в лицо, брызнула кровь. Предводитель взмахнул железными руками и пополз с седла. Лошади ржали, вставали на дыбы.
Мне здесь делать было нечего. Кашляя от дыма, я перебрался на противоположную сторону и спрыгнул.
Переулок был пуст. Накренилась, попав в яму, телега с отвалившимся колесом. В оглоблях стояла низенькая мохнатая лошадь. У клешневатых ног ее лицом вниз валялся человек, опутанный соломой.
Итак, это был Спектакль. Спектакль, который затопил весь город. Вероятно, в Доме сняли экранировку и поставили аппаратуру на полную мощность. Не нужно было спрашивать, зачем это понадобилось: в таком хаосе никому не было дела до фантомов. Профессор Нейштадт спасал себя, открыв шкатулку Пандоры, Тысячи людей проснулись сегодня в раннем средневековье и, не рассуждая, включились в дикую, безумную, диктуемую сюжетом игру. Мне стало страшно. В представлениях, ограниченных стенами Дома, погибали не люди, а голографические изображения их — этим объяснялась вседозволенность, но в городе голограмм не было: игра шла всерьез, одна из жертв ее лежала сейчас недалеко от меня — лошадь косилась на труп и негромко ржала.
Хуже всего было то, что никто не мог посмотреть на это со стороны: созданный мир был слишком реален.
Вероятно, сознание сохранили те немногие, кто, как и я, уже участвовал в Спектаклях, или те, кто в силу профессионального долга обязан был контролировать себя очень жестко, например тот врач.
«Минуту, — сказал я себе. — А почему, собственно, я вижу средневековый город? Конечно, его достраивает мое воображение — согласно сюжету. Но я-то знаю, что его нет».
Тупая ноющая боль возникла в голове, кровь толчками застучала изнутри в череп. Грязные уродливые дома дрогнули, посветлели, заблестел силиконовый асфальт, появились огни дневных реклам. Боль нарастала. Я терпел. Я теперь знал, что мне делать. Вместо лошади с телегой у кромки тротуара стояло такси. Дверца его была отломана. У меня в глазах плыли разноцветные круги, но я кое-как втиснулся в кабину и нажал адрес.
Больше можно было не сдерживаться. Я отдался Спектаклю. Боль тут же исчезла. Я скакал на коне по разграбленному, дымящемуся городу. То и дело попадались убитые. В шапках дыма и взметывающихся искр проваливались крыши, пылающие головни перелетали через меня.
К счастью, автопилот был лишен эмоций, следовал точно по маршруту и затормозил в конце его.
Дом сегодня представлял собой высокую круглую башню из грубого кирпича. Ее штурмовали сотни людей — лезли по лестницам, обрывались, забрасывали канаты с крючьями на концах. Сверху, меж зубцов, по ним стреляли из луков — и лили кипящую смолу. Стоял ужасный шум.
Ценой сверлящей боли я увидел вместо кирпича входную дверь и спрыгнул с коня.
Внутри Дома был рай.
Густое синее небо куполом накрывало горы, поросшие пушистыми елями. На вершинах растопыренными лапами лежал снег, внизу, под ногами, зеленела горя чая трава. Кое-где блестели озера — круглые, черно-синие, сказочные.
Я пошел, вдыхая чистый запах смолы. Налетел ветер, зашуршали иглы. Пестрая птица, клевавшая шишку, упорхнула вверх. Вдалеке, на открытом склоне, был виден хутор — два кукольных домика, окруженные забором. Из труб вертикально подымался сизый дым.
Тропинка вывела меня на поляну. Там, взявшись за руки, по пояс в траве плясали тролли в смешных островерхих колпачках — трясли белыми бородами, выбрасывали колени. Заметили меня и попрятались в ельнике, высовывая испуганные лица.
Впереди раздавался лязг металла. Я продрался туда, безжалостно обламывая ветви. Лес кончился. На опушке его яростно, тяжелыми двуручными мечами, не на жизнь, а на смерть рубились директор и режиссер.
Директор явно брал верх, выкрикивал: «Хэк! Хэк!» — наступал. У режиссера по лбу текли струйки пота. Он приседал под страшными ударами.
— Прекратить! — командным голосом крикнул я.
Они оба обернулись. Потом директорский меч неожиданно описал блестящий полукруг, и режиссер, схватившись за виски, покатился под вывороченные корни.
Надсадно дыша, директор шагнул ко мне.
— Кто таков? — грозно спросил он.
— Проводите меня в техническую и немедленно отключите аппаратуру! — приказал я.
— Чей ты раб? На колени, собака! — голосом до небес закричал директор. Глаза у него побелели от гнева.
— Потрудитесь выполнять, — сказал я. — Вы рискуете сесть. И не на один год.
— А кровью своей упиться не желаешь? Вот он, огненный меч Торгсвельда!..
Интеллигентной беседы у нас не получилось. Директор то предлагал мне склонить голову перед владыкой своим, то грозился изрубить меня на куски, то начинал громко и хвастливо расписывать свои подвиги в дальних странах, где он сражался с великанами и шинковал трехглавых драконов.
Он, видимо, начитался приключенческих романов. Я смотрел в его величавое надменное лицо и испытывал сильное желание ударить — отключить болевым шоком.
Но тут невесть откуда набежала толпа крестьян в холщовых рубашках. Все дружно стали на колени и начали громко славить доброту и ум своего хозяина. Миловидные крестьянки на вышитых рушниках протягивали хлеб, соль и тонизирующие напитки. Директор пил и отдувался.
Я пошел дальше. Техническая была где-то рядом: возвращение в реальный мир сопровождалось все большей болью. Ели сомкнулись темным шатром и разошлись. Передо мной лежало бездонное озеро. Белесые мхи отражались в черном зеркале его. На другой стороне, сжатый холмами, поднимал узкие башни замок — мрачный приют тишины и забвения.
В замок можно было попасть только вплавь. Обходить слишком долго. Я знал, что это голограмма, но не решался. Озеро выглядело зловеще.
Странное старческое кряхтение раздалось сзади.
Прижимая к груди широкий светлый меч, из леса вышел сгорбленный карлик, одетый во все красное.
С ужимкой, будто танцуя, приблизился ко мне. Печально звенели бубенцы на мягкой шляпе. Протянул меч.
Сморщил гнилое лицо. Захихикал. Я взмахнул клинком. Полыхнула беззвучная молния. Озеро разошлось.
Я побежал по скользким от бурых водорослей камням между водяных стен. Пахло сыростью и терпким йодом.
Замок вырастал, пока не уперся игольчатыми башнями в самые облака.
Я ударил в кованые ворота. Они загудели медным басом. Встревоженные тучи ворон с пронзительным скрипом понеслись по небу. Чистый и долгий звук вплелся в их гам. Я опустил руки. Ясный, радостный голос пел третью сонату Герцборга — будто протягивал в синеве хрустальную нить.
Высоко у открытого окна сидела женщина.
— Рапунцель! — крикнул я.
Женщина выглянула. Золотой дождь хлынул вниз, солнечными брызгами расплескался на замшелых валунах, закипел у моих ног. Я полез, хватаясь за горячие пряди. Волосы пахли летом, медом, скошенной травой.
За окном был тесный коридор из неотесанных грубых каменных плит. Коптили железные факелы, воткнутые между ними. Навстречу мне, грузно ступая, двигался сумасшедший зверь. Голова у него была медвежья, а тело, как у ящерицы, покрыто коричневой чешуей. Он протянул длинные синие когти с запекшейся кровью под ними, утробно заурчал — я остановился, — алым языком облизал толстые губы. Глаза без зрачков были затянуты бельмами.
В этот раз мне будто завинтили в висок раскаленный штопор, но я узнал советника.
И он тоже узнал меня:
— Инспектор? Зачем вы здесь, инспектор?
— Дорогу! — потребовал я.
В узком коридоре было не разойтись. Советник улыбнулся. Так могла бы улыбнуться жаба.
— Не лезьте в наши дела, инспектор. Не надо. Тем более что генератора в Доме нет. Нет его! Значит, нет нарушения закона!
— Договорились с «саламандрами», Фольцев? Пропустите меня! — крикнул я, чувствуя, что больше не выдержу.
Советник с неожиданным проворством поднял затянутые в чешую лапы, наклонил выпуклый фиолетовый лоб. Передо мной опять был зверь.
— Мяса сладкого хочу! — прорычал он.
Я не успел закрыться. Лапы сомкнулись на мне.
Когти раздирали одежду, дохнуло смрадом — я отчетливо увидел близкое ребристое нёбо, рванулся, выкрутился из объятий. Зверь шел на меня, переваливаясь, выкатив молочные глаза.
В руках у меня все еще был светлый меч. Я поднял его. Зверь прыгнул. Удар пришелся в голову. Хлынула темная ядовитая кровь. Я переступил через тело.
Коридор казался бесконечным — поворот за поворотом. Копоть от факелов забивала горло. На обитой железом двери висела табличка: «Технический отдел».
Внутри что-то гудело и вспыхивало. Мне словно залили в виски расплавленное железо. Глаза заволакивал туман. Я нащупал в углу среди прочего барахла тяжелый лом и с размаху ударил им по ближайшему, сверкающему стеклом и никелем, звенящему мерцающему агрегату.
Глава двенадцатая
Толпа двигалась все медленнее и наконец совсем остановилась. Я наступал на чьи-то пятки. Мне тоже наступали. Напирали задние.
— Почему стоим?
— Проверяют документы.
— Нашли время наводить порядок! Тут все с ума посходили, а они — документы.
— Господин офицер! Когда нас пропустят?
— Не могу сказать, сударь.
— Полиция, так ее и растак?
Меня теснили спинами и локтями. Площадь не вмещала народ. Сюда собрались, наверное, со всех окраин.
И неудивительно: Спектакль продолжался чуть ли не половину дня.
Проверка документов меня не радовала. Несомненно, искали нас. Я скосил глаза на профессора. Он сильно осунулся, под слезящимися белками в морщинистых мешках скопилась синева.
— Отпустили бы вы меня, в самом деле, — устало сказал он. — Я старый человек, я этого не выдержу.
Слово власти вам известно. Ну дадут мне пожизненное заключение — что толку?
На левой руке, чуть ниже плеча, у него запеклась кровь — зацепил кто-то из «саламандр».
— Давайте-ка я вас лучше перевяжу, — сказал я.
Он поморщился:
— Ах! Оставьте, ради бога!
Продолговатый, пупырчатый, как огурец, вертолет с растопыренными лапами на брюхе прочертил небо.
Тысячи поднятых лиц проводили его.
— Военные, туда же их подальше, — сказал кто-то.
Вертолет приземлился на крышу Дома. Она еще слегка дымилась. В верхнем этаже чернело сплавившееся отверстие — попадание податомной базукой. Они оборонялись очень упорно, «саламандры». Поставили на чердаке два пулемета с автоматической наводкой и плотно, веерным огнем закрыли все пространство над Домом. Десантники сунулись было сверху и потеряли две машины. Один вертолет стоял сейчас на краю крыши — помятый, ткнувшийся винтом в ребристое железо.
Другому не так повезло. Он рухнул на асфальт, вспучив облако пламени, раскидал вокруг горящие обломки и тела. Кажется, из команды никто не спасся. И два взвода, ринувшиеся через пустую улицу к входной двери, откатились, встреченные огнем из автоматов. Оставили убитых на мостовой. Правда, военные быстро опомнились и повели бой по всем правилам: заняли крыши, подвезли базуки, непрерывным послойным огнем запечатали окна первого этажа. Непонятно, на что рассчитывали «саламандры», ввязываясь в бой с регулярными частями. Может быть, они надеялись на фантомов — портативная радиостанция непрерывно передавала в эфир труднопроизносимое слово из одних согласных. Но улицы были уже перекрыты. Базуки первым же ударом проломили стену, расшатав здание, а вторым напрочь снесли часть крыши вместе с пулеметным гнездом. И в то время, как оставшийся пулемет, торопливо захлебываясь, держал небо, десантники ринулись в образовавшийся проход. После выстрела базуки я не устоял на ногах — опутанная проводами мнеморама сшибла меня, и, пока я мучился, выдирая контакты из клемм, профессор навалился сверху, пытаясь разбить мне голову какой-то железякой. Я легко стряхнул слабое тело. Он завозился, как червяк, среди проводов, и тут Анна, не слышимая раньше за стрельбой и криками, приказала мне:
— Руки! К стене!
Ее всю корчило. Рот кривился. Платье было порвано.
— Брось автомат, тебя повесят, — сказал я.
Она, как сумасшедшая, трясла дулом:
— К стене! К стене!
Я подошел и вырвал автомат из сведенных судорогой пальцев. Магазин был пуст. Разумеется. Иначе бы она выстрелила сразу — без дурацких команд. Профессор опять попытался меня ударить, и я опять стряхнул его. У него не хватало сил.
— Уходи отсюда, дурочка, — сказал я Анне.
Она села прямо на пол, закрыла лицо ладонями, заплакала. И тут ударила вторая базука — по чердаку.
Стены качнулись. С визгом пронеслись осколки кирпича. Показалось белое полуденное небо. И дальше был только дым, ныряющие в нем неясные согнутые фигуры и надоедливая опасная автоматная трескотня.
— Почему Аурангзеб? — спросил я.
Профессор вздрогнул, но потным, измученным многочасовым стоянием под жарким солнцем людям было не до него.
Это была случайность. Выплеск памяти. Детская привязанность к великим властелинам прошлого. Он разглядывал книжку и видел там человека на троне.
В чалме, с алмазным пером. А тысячи других людей лежали перед ним ничком. И слоны стояли на коленях.
Он очень хотел иметь слонов. И чтобы они стояли на коленях. И алмазное перо он тоже хотел иметь. И дворец с белыми колоннами. И миллион рабов. Он вырос. Казалось, так и будет. Оставалось совсем немного. Но все рухнуло. Разоружение. «Декларация». Лаборатория погибла. И тогда он ошибся. Он связался с «саламандрами». Они сразу взяли его за горло. Они его так держали, что он едва мог дышать. Он отдал им всех фантомов в этой стране. Просто счастье, что они не догадывались, кто он такой. И они требовали, чтобы он собирал установку. И он собирал. Но он знал, что в первую очередь закодируют его самого. А по ночам ему снились алмазное перо, и сгибающиеся спины, и дворец, и широкая мраморная лестница, уходящая в небо.
Профессор замолчал и растерянно улыбнулся. Кожа на лице его собралась множеством добрых складок.
Он был очень старый.
Мужчина в пижаме, плотно притертый к нам, посмотрел на его плечо:
— Пулевое ранение?
— Да, — сказал я, тоном обрывая дальнейшие вопросы.
Мужчина воспринял мой тон по-своему:
— Озверел народ. И откуда они, скажи на милость, берут оружие? Что им надо? Живем — слава богу. Отдежурил свои пять часов — и никаких забот. А то можешь вообще не ходить на работу. Я вот год не работал, мне только письма присылали насчет общественного долга: боялись потерять голос на выборах.
Мужчина сильно пихнул локтем какого-то веснушчатого юнца, который, вставая на цыпочки, вертел цыплячьей, в пухе, головой.
— Ну ты, подбери сопли!
Юнец охнул, схватившись за бок:
— Чего, чего…
— Уматывай, говорю. — Мужчина пихнул его еще раз.
У юнца выступили слезы в синих глазах. Все отворачивались. Он побоялся возразить — полез назад, раздвигая стоящих острым худым плечом.
— Дом тебе нужен? Пожалуйста, муниципалитет построит. Машина? Любой марки, — как ни в чем не бывало продолжил мужчина. У него было хорошо откормленное лицо, выдающиеся скулы и квадратный подбородок. — Скажи на милость, чего им не хватает, гнидам длинноволосым? Нет, нужна власть. Такая, чтоб всех этих профессоров, писателей пострелять в первый же день. Самая муть от этой сволочи. Ученых там разных, инженеров — вон какую заваруху придумали: я в одной пижаме выскочил. Порядок нужен. Чтоб, как только кто высунулся, так его палкой по голове. Чтоб, значит, не высовывался…
— Заваруху эту устроили не от избытка ума, а, скорее, от его недостатка, — сказал я.
Мужчина запнулся, хотел сплюнуть — было некуда, проглотил слюну. Спросил, не глядя:
— А ты, значит, из этих?
— Из этих, — подтвердил я, жалея, что мы здесь не одни. Я бы с ним поговорил. Палкой по голове.
— Ладно, — после раздумья сказал мужчина. — Запомним. Еще придет время. Передавим всех. Никого на развод не оставим. — Толкнул соседа: — А ну пусти! — Уполз в толпу.
Было жарко. Солнце перевалило через зенит. Пахло потом и горячими телами. Люди, задыхаясь, открывали рты. Какой-то женщине стало плохо. Она закатила глаза.
— Расступись, расступись! — донеслись повелительные голоса.
Черепашьим шагом, облепленный по подножкам военными, проехал санитарный автобус с низкой посадкой. На крыше его в мундире с лейтенантскими погонами сидела Элга — курила и стряхивала пепел на головы. Я не прятался: вряд ли она могла различить нас в толпе. За автобусом, поблескивая металлическими эмблемами на зеленых рубашках, плотно окруженные солдатами, шли «саламандры» — руки на затылке. Я узнал Краба, сумрачного, перевязанного. Он усмехался.
— А если я сейчас закричу? — сказал профессор.
Я пожал плечами. Я не боялся. Что он, в самом деле ненормальный, чтобы кричать? Военная контрразведка — это ему не «саламандры» с их дилетантскими штучками. Военные выпотрошат его в два счета, выжмут из него слово власти, а потом ликвидируют — зачем он им нужен?
— Если бы знать, что установка даст такую интенсивность, — тоскливо сказал профессор. — Я же, как снял ограничитель, так больше ничего не помню.
— То есть Спектакли — это побочный эффект кодирования? — сказал я.
— Нет, — неохотно ответил он. — Это и есть кодирование. Первая ступень — без фиксации программы.
— Разве так бывает?
— Бывает.
— А зачем нужна сублимация сознания?
— Боже мой, вы же все равно не поймете, — раздраженно сказал профессор.
— Кто еще знал о наркотическом эффекте Спектаклей?
— Все знали.
— Директор?
— Да.
— Режиссер?
— Да. Я же говорю: все знали.
Вот так, подумал я. Все знали и все молчали. Страшная вещь — честолюбие, лишенное морали. Я решил, что позволят мне или нет, но я займусь Спектаклями сразу после фантомов. Если, конечно, останусь жив.
Последнее было весьма сомнительно. Силы безопасности слишком быстро закрыли район. При проверке меня безусловно опознают. Так же как и профессора.
У нас нет ни малейших шансов. Пробиться назад сквозь тысячное скопление людей невозможно. И наверняка там тоже ждут.
Проще было сдаться. Я не понимал, чего я тяну. Шаг за шагом мы приближались к оцеплению. Улицу перегораживали два бронетранспортера. На каждом был смонтирован стационарный генетический детектор. Между ними сочился узкий ручеек людей. Вот один из бронетранспортеров отъехал, освобождая дорогу санитарному автобусу. Я видел лица солдат — усталые, хмуронапряженные. За оцеплением в пустом пространстве, как журавль, выхаживал длинноногий офицер в синей форме. Вспыхивали желтые молнии на плечах. Какая-то женщина, одетая, несмотря на жару, в норковую шубу, ловко поймала его за рукав:
— Господин капитан, у меня муж в территориальных войсках. Полковник Гаперкамп.
— Ничего не могу поделать, сударыня, — вежливо ответил капитан.
— Но у меня сегодня гости! Доктор Раббе, действительный советник Цорн. — Она возводила частокол из имен.
— Весьма сожалею, сударыня. Таков приказ.
Капитан пытался освободиться от назойливых пальцев. Он совершил ошибку, вступив в объяснения, чего никогда бы не допустил полицейский офицер, обученный тактике действий на улице. Толпа почувствовала слабину. Вскипели возбужденные голоса:
— Господин офицер! Да что же это такое? Мы уже четыре часа стоим!
— Мне нужно немедленно пройти, немедленно!
— Приказ, сударь.
— А я не желаю подчиняться вашим приказам!
— Господин капитан, я член муниципального совета!
— Это издевательство, я на ногах не стою!
— Хорошие вещи позволяет себе полиция!
— А это не полиция.
— Тем более!
— В порядке очереди, господа! Соблюдайте спокойствие!
Перед машущими руками капитан попятился. К нему, придерживая дубинку, заторопился полицейский офицер в черном мундире. Было уже поздно. Цепь солдат выгнулась, подрожала секунду, как тугая струна, и лопнула, прорванная человеческой волной. Полицейский офицер благоразумно отскочил. Левый бронетранспортер попытался закрыть проход, заурчал мотор. Его тут же облепили сотни людей. Покатые бока в грязных маскировочных разводах качнулись раз, другой — под общее ликование бронетранспортер перевернулся на бок, еще вращая колесами.
— Назад! Назад! — тонким голосом закричал капитан, потрясая пистолетом.
Он, видимо, привык к беспрекословному подчинению в казармах и совершенно не умел обращаться с толпой — не обратил внимания, что полицейские сразу же побежали, даже не пробуя никого остановить. Пистолет мелькнул над головами, хлопнул выстрел, и фигуру в синем смяли. Пробегая мимо, я увидел неподвижное тело на сером асфальте.
Вырвавшись, толпа потекла медленнее; будто не верили тому, что сделали, — разговаривали нарочито громко.
— Я, как выбежал на улицу в пять утра, так больше и не был дома. Может быть, мои сейчас стоят где-нибудь там. Или — кто знает… Я такое видел…
— Бью, бью его о ступеньку, он уже хрипеть начал, а потом гляжу — господи, это же мой сосед с верхнего этажа, я ж его знаю, мы же с ним в прошлое воскресенье надрались в «Ласточке». А у него затылок разбит, кровь течет, — думаю: «Господи, что же это я.»
— Так оставлять нельзя. Все подпишемся. Эксперименты, видите ли. Люди им как мусор.
— И прямо к мэру.
— Чихал я на мэра! Президенту пошлем. Или пусть наводят порядок, или я презираю это правительство.
Я все время держал профессора за запястье. Он сказал, хватая воздух посиневшими губами:
— Пустите меня. Я не убегу. Некуда мне бежать.
Я его отпустил. Он сильно помассировал левую часть груди — где сердце.
— Ну зачем вы меня тащите? Я могу умереть каждую минуту.
Ему было плохо. У него складками обвисла кожа на лице — землистого цвета. Дрожали пальцы.
— Пошли! — велел я.
— Нас все равно не выпустят, — безнадежно сказал он, через силу шагая рядом.
К сожалению, он был прав. Впереди, на перекрестке, уже сели два вертолета, и из их пузатого нутра горохом посыпались солдаты. Еще два вертолета заходили на посадку. У меня не было никаких иллюзий. Улица шла прямо, как стрела. Подворотни были закрыты пластмассовыми щитами с надписью: «Полиция». Кое-кто из бежавших пробовал ломиться в парадные — бесполезно. Район был блокирован по всем правилам. Вырваться я и не рассчитывал. Все, что я хотел, — позвонить. Мне обязательно нужно было позвонить и сказать одно-единственное слово.
— Они нас убьют, — сказал профессор. И вдруг засмеялся, засвистел слабым горлом. — Ничего, ничего.
Просто вспомнил. Очень смешно. Вы знаете, что сенатор Голх — фантом? Да, да, сенатор Голх, глава «саламандр». Я сам его кодировал. Правда, смешно? Быть в подчинении у собственного фантома.
— Сенатор Голх? Почему же вы его не…
— Он до дьявола осторожный. Представьте, я его ни разу не видел. То ли он догадывался о чем-то, то ли просто так — не хотел рисковать. Но правда смешно? — И снова засвистел горлом.
Впереди был новый кордон. Лейтенант в синей форме громко сказал:
— В городе объявлено чрезвычайное положение. В случае беспорядков имею приказ стрелять. Проходи по одному!
Солдаты держали оружие наизготовку. Злые и решительные. Чувствовалось, что стрелять они будут. Толпа затихла. Подходили задние, им боязливым шепотом объясняли, в чем дело.
— Вот и все, — сказал мне профессор. — Жаль, что так получилось. Завидую вам: вас убьют сразу. А меня начнут потрошить. Прощайте, что ли.
Очередь шла быстро. Лейтенант смотрел документы, если они были, потом человека ставили перед детектором. Мигал зеленый индикатор, и его выталкивали за оцепление. Мною овладело какое-то тупое равнодушие — действительно, скорей бы уж кончилось.
Лейтенант кивнул профессору: следующий.
Он беспомощно оглянулся на меня. Из толпы вышел мужчина, тот самый, который палкой по голове. Что-то сказал лейтенанту. Лейтенант поднял брови:
— Интересно. Взять его!
Солдат толкнул профессора вправо, где стоял большой военный фургон с непрозрачными стеклами.
— Я протестую, — едва слышно сказал профессор.
Солдат лениво и сильно ударил его кулаком в лицо.
Мотнулась голова, из угла губ побежала струйка крови.
— Этого тоже, — сказал лейтенант, показывая на меня.
Меня подхватили под руки.
— Стой! Куда! — раздался злой голос.
Профессор, оттолкнув солдата, бежал по пустынной улице. Он бежал мешковато, медленно, хватаясь за сердце. Непонятно, зачем он это сделал. Ему все равно было не уйти.
— Стой! Стрелять буду! — крикнул солдат. Вскинув автомат, дал очередь в небо.
Профессор упал как подкошенный. К нему подошли двое, перевернули: мертв.
Появился полицейский офицер, подтянутый и строгий:
— Что за стрельба?
— Вот эти, — махнул лейтенант.
Офицер обернулся. Это был Симеон. Наши глаза встретились.
— Пропустите его, — сказал Симеон.
— Нарушение законов чрезвычайного положения…
— Пропустите, я знаю этого человека.
— Пропустить! — неохотно приказал лейтенант.
Предупредил: — Всю ответственность вы берете на себя.
— Разумеется, — кивнул Симеон. Лицо у него было каменное.
Меня отпустили. Я прошел за оцепление, каждую секунду ожидая, что меня окликнут. Лейтенант сил безопасности мог и не подчиниться капитану полиции.
— Его даже не проверили на детекторе, — сказал кто-то.
Я старался не убыстрять шаги. Ай да Симеон! Для него это может кончиться очень плохо.
Метрах в ста от меня зеленела телефонная будка.
Солдаты потащили профессора к фургону. Я подумал, что его, наверное, можно спасти, если срочно заменить сердце. Мысль мелькнула и пропала. Мне нужно было пройти эти сто метров.
Телефон, к счастью, работал. Онемевшими пальцами я набрал номер. Трубку схватили на первом же звонке.
— Консул Галеф!
— Это я, — сказал я.
— Наконец-то! Где ты? Я сейчас приеду! — закричал Галеф.
Из будки мне было видно, как лейтенант ожесточенно спорит с Симеоном. Симеон с чем-то не соглашался, но лейтенант махнул рукой, и трое солдат побежали в мою сторону.
— Слушай меня внимательно, — сказал я торопливо. — Я получил слово. Это шестое имя в нашем списке. Понял — шестое.
— Шестое, — изменившимся голосом сказал Галеф. Слава богу. Тут такая каша…
— Меня сейчас арестуют, — сказал я.
— Пускай, — ответил Галеф. — Не вздумай сопротивляться. С этой минуты ты — иностранный подданный.
Потребуй связи с посольством или со мной. Все! До встречи!
Я отпустил трубку. Она закачалась на шнуре. Мне было плохо. Из меня словно выдернули стальной стержень, державший до сих пор. Я вдруг вспомнил, что двое суток ничего не ел, только вчера чашку кофе. По мостовой, стягивая с плеча автоматы, бежали солдаты.
Я открыл ставшую почему-то очень тугой дверь будки и пошел им навстречу.
НАТАЛИЯ И ВЛАДИМИР СИДОРЕНКО НЕБОЖИТЕЛЬ ОЛО Повесть
Вечером одиннадцатого дня Ириса 1650 года по эминскому летосчислению, как всегда в это время, Небожитель Оло начал потихоньку высыпать из своего волшебного горшка звезды. Эминцам звезды нужны были для разных надобностей. Одним — чтобы любоваться ими; другим — чтобы мечтать, глядя на них; третьим — чтобы считать их и присматривать за ними, дабы они, чего доброго, не разбегались по сторонам и всегда были на своем месте. Большинство же жителей Эмины полагало: раз есть небо, должны быть и звезды. Какое же это небо — без звезд. Тем более что свое небо они считали вполне подходящим.
Пока Оло сеял звезды, на лестнице часовни послышалось старческое кряхтение, смешанное с неясным бормотанием. Ну конечно, это каноник Улис. Он уже прошел ту часть дороги жизни, когда мечтают, глядя на маленькие искрящиеся фонарики, развешанные в восхитительном беспорядке по небосводу. Теперь Улис не только считал звезды, но и объяснял, что святой Оло не просто, не раздумывая, разбрасывал их по небу, а делал это строго по правилам, правда известным только ему одному.
Карабкаясь по растрескавшимся, а кое-где и вывалившимся ступеням, Улис «вспоминал» Небожителя Оло с тайной надеждой, что он поможет ему взобраться на крышу часовни, а заодно и починит полуразвалившуюся лестницу. Но Святой Оло то ли не слышал просьб Улиса, то ли был занят более важными делами, так что канонику пришлось подниматься самому.
Когда он достиг вершины часовни, где находилась площадка, Оло уже расстелил звезды на черном покрывале ночи, и время для наблюдений подошло. Улис снял старый кожаный чехол, доставшийся ему, как, впрочем, и подзорная труба, от прежнего каноника, и начал осматривать небосвод.
Едва он навел трубу на созвездие Ириса, как ему показалось, что Ирис раздвоился. Одна его половина поплыла по небу и растворилась в созвездии Эйвельса, вторая осталась на месте. «Неужели Святой Оло лишил меня рассудка?» — подумал Улис и снова посмотрел на Ирис.
Ирис излучал тот же, чуть зеленоватый свет, как и все двадцать лет, которые Улис посвятил изучению небосвода Эмины. Через полчаса таинственная звезда снова появилась на востоке и, пройдя левее Ириса, исчезла. Ночью она еще несколько раз прошла по небу, а утром, с восходом солнца, погасла.
После бессонной ночи дрожащими от усталости и волнения руками Улис отправил с посыльным письмо своему другу астрологу Пулу. Он описал необычную звезду и попросил Пула сообщить, видел ли он ее накануне вечером.
В жаркий летний полдень этого же дня посыльный каноника Улиса, пятнадцатилетний веснушчатый Сэм, шлепая босыми ногами по пыльной дороге у поля с расцветшими красными ромашками, услышал песнь.
Вернее, не песнь, а задорный веселый мотив, вроде «тум-тум, тара-тум». Мотив повторялся, но каждое «тара-тум» звучало по-другому. Казалось, звуки висели над красным от цветов полем, раскинувшимся между полосами пшеницы. Оглядываясь по сторонам, Сэм остановился. Чувствовалось, что певец не надрывался, не кричал, но голос его проникал всюду. Ему аккомпанировали шелест ветра, волнами пригибавшего траву, да растворившиеся в бездонной синеве жаворонки.
Неожиданно у поросшего невысокими деревьями холма показалась голова, а за ней закованный в броню рослый певец. Продолжая свое «тара-тум», он быстро зашагал по полю к дороге, на которой стоял Сэм. Певец был такой большой, что ромашки, достигавшие Сэму до плеч, едва касались его колен. Когда он приблизился, Сэм увидел добродушное, чуть розоватое, красивое лицо с приятной улыбкой и веселыми глазами. Продолжая улыбаться, он поздоровался с Сэмом за руку, как со взрослым, и сказал, что его зовут Болом. Сэм почувствовал холодную и твердую, как камень, руку путника.
Мальчишке Бол понравился. Он разговаривал с ним как с равным, не перебивал и не называл его болтуном, как другие. Наоборот, похвалил Сэма за сообразительность и многие достоинства, о которых Сэм даже и не подозревал.
Преисполненный доверия и благодарности, Сэм назвал свое имя и, между прочим, рассказал, что несет письмо от каноника Улиса к его другу — библиотекарю и астрологу Пулу, в замок доблестного гемена Арчибала. Он также похвалился, что может читать и писать, знает арифметику и географические карты. Этому научили его каноник Улис и библиотекарь Пул, чьи письма он постоянно носит от одного к другому.
В свою очередь, Бол сообщил, что попал в эти места из-за аварии в подсистеме «Зета». Кто такая Авария Подсистемы Зета, Сэм не знал, но он был смышленый малый и конечно же догадался, что такое замысловатое имя может носить только очень знатная дама, ради которой путник дал обет странствовать пешком и без оружия. Сэм спросил Бола:
— А эта Авария Зета красивая?
Бол как-то странно посмотрел на Сэма и ответил:
— Конечно, с научной точки зрения авария подсистемы «Зета» представляет некоторый интерес, но хорошего в ней ничего нет.
Сэм глубокомысленно кивнул головой, но про себя удивился: «Зачем Бол дал обет в честь дамы, в которой чет ничего хорошего?»
— Сегодня в трансзале корабля, — продолжал Бол, — я увидел играющих ребят. В трансзале поиграть по-настоящему нельзя, и я решил спуститься к вам, на Эмину.
Сэм не знал, что такое трансзал и откуда спустился Бол, но, не показав этого, молча кивнул головой.
Следует заметить, что Бол был очень добрый и отзывчивый робот. Люди еще на Земле подметили эту черту характера и направили его воспитателем в детский сад. Ребята любили его без ума, а он готов был играть с ними круглые сутки. Однако родители замирали от страха, когда стальная махина, хлопая в ладоши, танцевала с грацией слона среди ребятишек, самый старший из которых едва доставал ему до колена.
А когда он носился по двору и кричал: «Пятна! Пятна!» — в соседних домах дрожали стены и звенели стекла. Его попробовали на разных работах и, в конце концов, отправили в космос. В длительных экспедициях доброта и отзывчивость ценились превыше всего.
Из детского сада Бол вынес любовь к детям и неугасимую страсть к играм, которая обуревала его в самые неподходящие моменты. И на этот раз он предложил Сэму сыграть в прятки. При этом, бегая, он так громко и весело смеялся, что голос его слышали сразу в двух деревушках. Они сыграли два раза, и оба раза Бол тактично проиграл. После игры Бол сказал, что никуда не торопится и проводит Сэма до замка. Он посадил его на плечо и, продолжая напевать свой однообразный, но приятный мотив, так быстро зашагал по дороге, что обогнал несколько повозок селян, ехавших в ту же сторону. Эминцы, разинув рты, долго смотрели на богатыря в броне, на плече которого гордо восседал известный всей округе босоногий Сэм.
Спустившись в лощину, путники увидели крестьянина, пытавшегося вытащить завязшую в болоте лошадь. На поверхности виднелась лишь одна отчаянно ржавшая голова, постепенно погружавшаяся в черную жижу. Бол поставил Сэма на землю, снял с металлического пояса кожаный мешок и в одно мгновение влез в болото. Видно, глубина там была порядочная, и он сразу погрузился с головой.
— Утонул! Утонул! — послышались крики собравшихся зевак, а лаявшая у болота небольшая черная собачонка с белым пятном на спине начала выть.
Но вот, к изумлению хозяина и остановившихся поглазеть путников, лошадь начала подниматься и приближаться к берегу. Под ее брюхом появились руки богатыря. А через минуту облепленный грязью Бол вместе с лошадью стоял на сухом месте.
Благодарный крестьянин и сбежавшиеся поселяне отмыли в ручье грязь с брони гемена, и она засверкала как новенькая. Сэм снова уселся на плечо Бола и стал потихоньку подпевать ему, стараясь лучше запомнить веселый мотив, чтобы передать его своим товарищам.
С песней и разговорами они прошли большую часть пути до замка.
Сэм давно заметил на боку у Бола небольшой кожаный мешок. Мешок не был похож на суму, куда монахи собирают подаяние для монастырей.
— Зачем вам этот мешок?
— Это не мешок, а футбольный мяч! Я всегда беру его с собой, когда спускаюсь на какую-нибудь планету, на случай, если встретятся ребята, с которыми можно поиграть в футбол. Сейчас я покажу тебе, как это делать.
Бол снял с пояса мешок и стал в него дуть. Мешок быстро превратился в красивый, с разноцветными пятнами, совершенно круглый мяч. Он похлопал по нему рукой и бросил о землю. Мяч подпрыгнул, а Бол, подскочив, на лету ловко ударил по нему ногой. Мяч взлетел так высоко, что стал маленьким, как жаворонок в небе. А когда он упал, богатырь так подставил ногу, что мяч не подпрыгнул, а будто прилип к земле. Подбрасывая мяч то ногами, то головой, он с криками стал носиться по полю. От его топота гудела земля, а крики были как гром в грозу.
На шум из ближайшей деревушки примчалась ватага ребят. Такого зрелища, чтобы закованный в броню гемен бегал по полю, играя сам с собою в чудесный мяч, они никогда не видели и смотрели на представление с раскрытыми ртами.
— Дядя Бол, дядя Бол, мы тоже хотим играть! — закричал Сэм.
— Прошу прощения, я так увлекся, что позабыл о главном.
Через несколько минут две команды босоногих ребят носились по полю между воротами из сухих веток.
Больше всех бегал и кричал Бол. Он то стоял в воротах, показывая, как ловить мяч, то был нападающим, то судьей.
Играя, Сэм заметил на дороге, с той стороны, откуда они пришли, облачко пыли, постепенно превратившееся в закованных в броню всадников. Увидев их, Сэм закричал:
— Дядя Бол! Гемены, гемены! — и побежал к кустам, справедливо полагая, что от этой встречи он скорее потеряет, чем приобретет. Ватага ребят посыпалась следом за ним.
Спустив мяч и прикрепив его к поясу, Бол остановился, с любопытством разглядывая всадников.
Приближавшийся отряд представлял красочную, хотя и несколько пеструю, картину. Желтые, с белыми крестами накидки рыцарей, наброшенные поверх брони, выделялись на фоне красных попон на белых лошадях, а коричневые куртки оруженосцев и красные куртки слуг вполне гармонировали с их гнедыми лошадьми.
Лишь монах в черной рясе, ехавший на черном муле, да солдаты, закованные в темную броню, придавали отряду более суровый вид.
Впереди, на большом красивом белошерстном коне с черным пятном на груди и украшающими сбрую металлическими фалерами[2], выступал доблестный гемен ордена Святого Оло, Арчибал. По его круглому, добродушному лицу и тучному телу с короткими ножками, едва достававшими стремян, каждому мало-мальски мыслящему существу было ясно, что этот воин лучшую часть жизни провел не в пустых драках, а за столом, уставленным дичью и вином.
Увидев Бола, сопровождавший гемена Арчибала монах Сиус вполголоса сказал:
— Ваша светлость, праздник Святого Оло заканчивается, и это ваш последний шанс совершить подвиг в его честь!
Гемен Арчибал посмотрел на Бола и неуверенно произнес:
— Неужели нельзя найти кого-нибудь поменьше?
Но Сиус, сделав вид, что ничего не слышал, дал знак трубачу и оруженосцу. Трубач выехал вперед, поднял ярко блестевший на солнце горн и, сыграв ритуальный вызов на дуэль, уступил место оруженосцу.
Тот молча кивнул головой и подошел к великану. Отвесив низкий поклон, он громко и торжественно произнес:
— Не имея чести знать ваш титул и имя, но видя в вас благородного путника, мой господин, доблестный гемен Арчибал, предлагает вам помериться с ним силами — оружием, которое вы выберете сами.
Бол вежливо поклонился, назвал свое имя и добавил:
— По законам робототехники я не могу драться с разумными существами, но, если ваш хозяин хочет поиграть со мной, я с удовольствием выполню его желание. Пожалуйста, догоняйте меня!
С этими словами он расплылся в довольной улыбке и неуклюже засеменил по полю. Решив, что незнакомец таким странным образом отказывается от поединка, гемен Арчибал приосанился и, выхватив свой огромный меч, с криком «Вперед!» помчался за Болом. Отряд, развернувшись в дугу, последовал за предводителем, пытаясь окружить «труса». К удивлению преследовавших, ни одному из них не только не удавалось набросить на беглеца аркан или сбить с ног лошадью, но даже догнать его. Когда он бежал, переваливаясь из стороны в сторону, никто не мог угнаться за ним.
Но странный путник, оказывается, и не собирался убегать. Он часто останавливался, хлопал в ладоши и, громко смеясь, поджидал мчавшихся на него геменов и солдат, а затем, ловко увертываясь от арканов и копий, оказывался позади. Когда Бол, пританцовывая, остановился в очередной раз, кто-то из геменов, отчаявшись догнать беглеца, бросил в него копье. Бол на лету поймал его и побежал к всаднику, чтобы вручить принадлежавшую ему вещь. Метнувший копье гемен, увидев, что к нему с протянутым копьем мчится здоровенный верзила, которого Святой Оло, наверное, лишил рассудка, повернул лошадь и галопом поскакал прочь. Но Бол догнал его. Забежав вперед и остановив лошадь, робот, радостно смеясь, протянул копье и попросил бросить еще раз. Гемен, вытаращив глаза и ничего не соображая, машинально взял копье и застыл с открытым ртом.
Подъехавший к ним Арчибал с немым изумлением уставился на Бола. Только теперь он рассмотрел необычайно большую фигуру путника, закованного в странную броню с какой-то проволокой на шлеме. На боку, где гемены носят меч, у него висел небольшой кожаный мешок. Когда он стоял, голова его была выше головы Арчибала, сидевшего на лошади. Убедившись, что чудаковатый путник драться не намерен, Арчибал важно произнес:
— Если ты отказываешься от честного поединка, то по законам нашего великого ордена я возьму тебя в плен. В этом случае играть ты будешь в моем замке, но только не со мной.
Последние слова гемена Арчибала вызвали смех у его спутников. Бол хотел было уточнить, что значит «возьму в плен» и с кем он будет играть в замке, как почувствовал, что его тащат за шею. Веревочную петлю накинул на него сзади угрюмый солдат с лицом, заросшим до самых глаз рыжими волосами.
— Гемен Арчибал, — обратился тот к предводителю, — мне кажется, в вашем замке мы подыщем занятие этому долговязому шутнику.
«Странное начало контакта с разумными существами», — думал Бол, шагая с петлей на шее за одним всадником и подталкиваемый копьем другого, следовавшего сзади.
По законам робототехники Бол должен был подчиняться разумным существам. Однако, учитывая возможные ситуации, в которых подчинение робота могло быть использовано в преступных целях, для роботов, направляемых в дальний космос, земные законы робототехники звучали несколько неопределенно.
«Робот не должен причинять вред разумным существам и обязан заботиться о сохранении их жизни. Робот обязан заботиться о сохранении своей жизни».
Остальные инструкции были еще более расплывчатыми и гласили:
«В сложных ситуациях робот должен принимать решения, придерживаясь морали землян и последовательности своих логических рассуждений…»
— Почему вы так грубо обращаетесь со мной? Ведь я ценный механизм… — начал было Бол, но в ответ получил хотя и не опасный, но очень неприятный удар копьем по голове.
«Как видно, эти грубые существа не только не умеют играть по правилам, но и не склонны вести интеллигентный разговор. Думаю, я не причиню им особых беспокойств, если освобожусь и выполню второй параграф закона о сохранении своей жизни». Приняв такое решение, Бол захватил аркан между пальцами, где у него помещался генератор плазмы, способный перерезать не только пеньковую веревку, но и стальную цепь, и легко освободился от петли. Увидев это, два других всадника набросили на него свои арканы и, подстегивая лошадей, помчались вперед. Арканы натянулись и потянули Бола. От неожиданности он сделал два шага вперед, а затем уперся в землю. От резкой остановки один из всадников свалился с лошади вместе с седлом, к которому был привязан аркан. Лошадь второго упала и, перевернувшись на спину, подмяла под себя наездника. Бол снял арканы и, подняв вначале лошадь, помог встать и гемену.
— Извините, что я так резко остановился. Я не думал, что ваши лошадки такие слабые. Впредь буду аккуратнее.
С этими словами он начал осторожно стряхивать с упавшего пыль.
Арчибал, решив, что Бол колотит гемена, выхватил из ножен огромный меч и с отчаянным криком «За Святого Оло!» топтался на месте, поджидая отставший отряд. Продолжая кричать, он так энергично размахивал мечом, что одна его нога выскочила из стремени, и, потеряв равновесие, гемен Арчибал начал падать. Бол, согласно закону робототехники о сохранении жизни разумных существ, бросился к предводителю, чтобы поддержать его. Однако Арчибал, по-видимому, не знал этого закона и, увидев, что закованный в броню силач бежит к нему, с криком «Вперед!» резко повернул лошадь к своему отряду, нерешительно топтавшемуся позади.
В этот момент он окончательно потерял равновесие и, уже падая вниз головой, выронил меч. Бол все же сумел добежать и подхватить предводителя до того, как тот коснулся головой земли. Бол осторожно перевернул его, поставил на ноги, подал меч и помчался за убегавшей лошадью. Со стороны казалось, что робот бежит настолько неуклюже, что было непостижимо, как ему удалось так быстро догнать скачущую галопом лошадь. Бол взял коня за уздечку, намереваясь отвести его к хозяину, но тот брыкался и вставал на дыбы. Тогда робот обеими руками подхватил лошадь под брюхо и помчался с ней к Арчибалу. Самым поразительным было то, что бежал он с тяжелой, колотившей по воздуху ногами и отчаянно ржавшей ношей так, будто был налегке. Поставив лошадь на землю и поглаживая по шее, он успокоил ее, а затем поднял ошеломленного предводителя вместе с мечом и осторожно усадил в седло. Гемен Арчибал был настолько потрясен происшедшим, что находился как бы во сне, a его лошадь с опущенными поводьями шагом направилась к стоявшему в растерянности отряду.
Во время этой схватки лишь одному солдату с рыжей бородой удалось копьем нанести через прозрачный золотистый шарф удар в открытую шею Бола. Поскольку в дальнейшем этот шарф окажет существенное влияние на события в нашем рассказе, мы остановимся на нем несколько подробнее. Дело в том, что роботам-мужчинам не только не было необходимости, но и не полагалось носить какую-либо одежду. Но Бол, наряду с другими недостатками, о которых мы вскоре узнаем, был еще и модником и, отправляясь в космос, всегда брал что-нибудь особенное из одежды. Этот шарф ему подарила симпатичная роботесса, которую Бол полюбил с первого взгляда.
Но мы отвлеклись и вернемся к описываемым событиям.
Пока Бол поднимал еще одного упавшего всадника и усаживал его на лошадь, гемены отъехали в сторону и о чем-то переговаривались. Они познакомились с его потрясающей силой и поразительным добродушием, и их воинственный пыл угас.
Бол и сам понимал, что в его интересах закончить миром небольшую потасовку с этими драчливыми существами. Он подошел к геменам, неуклюже поклонился и, добродушно улыбаясь, произнес:
— Простите меня. Неловко защищаясь, я причинил вам неприятности, о чем искренне сожалею. В этих местах я впервые и, чтобы избежать подобных ошибок в будущем, прошу вашего покровительства.
Обращение Бола понравилось предводителю и геменам за смиренность и просьбу в покровительстве. Главное же, что устраивало всех в этой речи, — почетный выход из неприятного положения, когда целый отряд вооруженных геменов и солдат не мог справиться с одним безоружным простаком.
— Я с удовольствием беру над вами покровительство и приглашаю погостить в моем замке, — ответил Арчибад Болу.
Бол поклонился и произнес:
— Я нес на плече удивительно разумного юношу Сэма и хотел бы продолжить с ним путь в ваш замок.
— Вы несли этого босоногого болвана Сэма?
— Да, я думал, что на моем плече он доберется быстрее.
— Где же он?
— Наверное, в кустах, сейчас позову, — ответил Бол.
Он сложил руки рупором и так закричал: «Сэм! Сэм!» — что гемены едва не оглохли, а лошади, не слушая всадников, поводя ушами от страха, сбились в кучу. Опасаясь, что горластый путник закричит снова, предводитель заявил:
— Мальчишка, наверное, уже в замке, и звать его не имеет смысла.
Едва отряд вместе с Болом скрылся за поворотом дороги, как из кустов вылез Сэм и, убедившись, что никого поблизости нет, направился следом. Сэм очень гордился своим новым знакомым, а когда увидел, как легко Бол отбил атаки геменов, то проникся к нему еще большим доверием, смешанным с обожанием. Следует заметить, что благодаря Сэму подробности безобидной стычки Бола с геменами, в значительной мере прикрашенные фантазией Сэма, скоро стали известны всей округе.
Пока Сэм пылил босыми ногами по дороге, обдумывая необыкновенный рассказ, который он намеревался преподнести сверстникам, каждый из участников небольшой потасовки погрузился в размышления. Гемен Арчибал думал, каким образом использовать этого силача вместо себя в военных походах и подвигах. Племянники Арчибала мечтали; если Бол свернет шею их дяде, наследство достанется им. Монах Сиус мечтал с помощью Бола укрепить свои позиции перед главой местных иезуитов Касиусом, а солдаты и слуги полагали, что в честь такой встречи Арчибал распорядится о добром ужине. Бол же мучился над тяготившей его проблемой: следует ли объяснять этим существам, что он робот, и поймут ли они, что это значит? В конце концов, он решил не говорить, пока его не спросят.
Между тем наблюдательный монах размышлял над удивительным, по его мнению, обстоятельством. В месте удара копьем тонкий, прозрачный шарф, закрывавший шею странного рыцаря, остался цел, но зато на шее виднелась чуть заметная белая полоска. Однако у тяжелого копья, которым нанес удар рыжий солдат Буг, наконечник согнулся. «Наверное, Буг попал ему не в открытую шею, а ниже, в броню, которая, по всей видимости, сделана столь искусным мастером, что на ней не осталось даже царапины от мощного удара», — решил Сиус.
Сиуса интересовало и поведение сопровождавших отряд двух черных догов, принадлежавших гемену Арчибалу. Увидев бежавшего странного путника первый раз, доги с громким лаем помчались за ним. Когда же он остановился, собаки обнюхали его и потеряли к закованному в броню богатырю всякий интерес. Они с лаем носились за скачущими всадниками, но не обращали на богатыря никакого внимания, будто его и не было. «Может, они перестали его видеть? Нет, этого нельзя было сказать. Если пути собак и рыцаря пересекались, они всегда уступали ему дорогу. Что же тогда?
Остается — запах. Не обладает ли он каким-то отпугивающим собак запахом? А может, совсем не имеет запаха?» Сиус направил своего мула ближе к странному рыцарю, пытаясь узнать, чем он пахнет. От рыцаря шел еле ощутимый запах. Он был настолько слаб и настолько необычен, что Сиус не мог разобраться в нем: что-то вроде смолы, краски, ладана и разогретого железа. Ничего похожего на запах человека.
К вечеру вся компания сидела за длинным, в половину зала, столом, уставленным жареными поросятами — любимым блюдом хозяина замка, — дичью и кувшинами с вином. Гемен Арчибал восседал на возвышении в начале стола. Слева от него сидел рыжеволосый детина Буг, справа — монах Сиус. Чуть дальше, на довольно почетном месте — Бол.
Двоюродный брат Арчибала Касиус, на правах гостя занимавший со своими солдатами и челядью почти половину замка, на пирушки не ходил. Однако его глаза и уши в лице монаха Сиуса незримо следили за предводителем и его гостями.
Гемены уже изрядно охмелели. В зале раздавались шумные возгласы и смех.
— Рат, Рат, расскажи, как ты метнул в него копье, а он принес его тебе и попросил бросить еще раз, — надрывались от смеха гемены.
— Думало, — ответил Рат, — такой с виду неуклюжей ловкостью и огромной силой может обладать или колдун, или святой. Но он буквально напичкан добротой и ведет себя, как ребенок, которому хочется поиграть, и на колдуна совсем не похож.
— И на святого тоже, — добавил кто-то из геменов.
— А мне кажется, — продолжал Рат, — нашу стычку он принимал за безобидную игру, а нас — за несмышленых детей. Хотел позабавить ребят и позабавиться сам, — закончил Рат.
Между тем Сиус наклонился к Арчибалу и полушепотом произнес:
— Думаю, мы узнаем о нашем госте больше, если как следует напоим его.
Тот кивнул головой и, подняв свой кубок, произнес:
— Сегодня наш гость Бол удивил мой отряд своей силой и ловкостью. Думаю, он не откажется вместе с нами выпить кубок Большого Дэна за здоровье нашего Великого короля Алибала.
Гемены и дамы шумными возгласами и смехом выразили одобрение тосту хозяина замка. Слуга поднес Болу начищенный до блеска большой медный кубок с ромом, похожий на голову толстяка с выпученными глазами. Присутствующие, затаив дыхание, смотрели на Бола. Никто еще не выпивал кубок Большого Дэна до дна. Обычно, не осилив и четверти, пивший под смех гостей падал под стол или без меры начинал болтать.
Бол поднял кубок и с достоинством произнес:
— Я с удовольствием выпью этот напиток за короля и надеюсь в будущем побеседовать с ним.
Затем, не отрываясь, осушил кубок, поставил его на стол и скромно сел на свое место.
— Неужели он выдул его за один прием и без закуски? — спросил Арчибал.
— Вот именно, три кварты рома натощак и без закуски!!!
— Вот дьявол! — воскликнул хозяин замка. Затем, подумав, позвал слугу: — Что ты ему налил?
— Ром, ваша светлость, вот из этого кувшина.
— Буг, — приказал Арчибал, — проверь, может, эти негодяи развели его водой?
Буг подставил свою кружку слуге, и тот вылил ему остатки рома. Сначала Буг понюхал ром, затем сунул в кружку палец, задумчиво облизал его и лишь потом начал пропускать ром через заросли своей рыжей бороды. Выпив, он так расплылся в улыбке, что можно было смело утверждать: кроме бороды у него был еще и рот.
— Клянусь Святым Оло, — воскликнул Буг, — не откажусь от второй кружки!
— Хватит с тебя и этого, — проворчал Арчибал.
Между тем Бол, едва пригубив ром, сразу определил его крепость и, понимая, что от него ждут, притворился слегка охмелевшим. Он попросил у менестреля музыкальный инструмент, похожий на гитару, и, аккомпанируя себе, спел песенку, которую горланили подвыпившие гемены. К концу его выступления в зале стало тихо. Сильный, приятный баритон и безукоризненное владение инструментом захватили слушателей. Песня была та же, и вместе с тем какой-то чарующий ритм придавал ей гипнотическую прелесть. Едва он закончил, гемены и особенно спустившиеся вниз дамы, наблюдавшие за пирушкой с балкона, наградили его криками одобрения. Бол был в ударе и, пританцовывая и ритмично покачиваясь, не только повторил песню, но и исполнил несколько импровизаций, прославлявших прекрасных дам, хозяина замка и присутствующих геменов.
Одна, как показалось Болу, самая элегантная девушка, оказавшаяся любимой племянницей Арчибала, бросила ему розу. Бол был страшно польщен вниманием красавицы и в благодарность снял шарф и, галантно поклонившись, преподнес ей. Этот необдуманный поступок был следствием еще одного недостатка Бола — его крайней влюбчивости. Подарив шарф одной красавице, он тем самым вызвал неодобрение других, считавших себя не менее достойными внимания. Мало того, этим поступком он не только показал свою слабость, которой, как мы затем узнаем, воспользовались его недоброжелатели, но и преподнес загадку бесчисленным ученым галактики, ломающим головы над ее решением и по сей день.
Под конец попойки шум начал стихать. Часть гостей уснула за столом и под ним. Большинство же разбрелось по замку и пристроилось в соответствии со своей предприимчивостью и званием. Бола, как почетного гостя, гемен Арчибал распорядился поместить в отдельную комнату. Сопровождавший его слуга предложил ему помочь снять доспехи. Однако Бол отказался и, погасив свечу, лег в кровать.
Ночью дверь тихо отворилась и в комнату, крадучись, проскользнула тень. Бол ощутил осторожное постукивание руки человека по своей оболочке. «Интересно, что он ищет? Несомненно, они приняли меня за человека. Но кто-то не доверяет мне и хочет окольными путями узнать больше».
Через приемник инфракрасного излучения Бол опознал монаха. Было бы неразумным дать Сиусу долго осматривать себя, поэтому он сделал вид, что просыпается, и монах поторопился исчезнуть.
IV
Перед рассветом, когда солнце еще не взошло, но ночной мрак начал рассеиваться. Бол решил освободиться от пластикового желудка, наполненного вчерашним ромом, и вставить запасной — на случай, если придется снова пить или есть. Он осторожно прошел мимо храпевшего у двери Буга и спустился в сад. Спрятав в кустах пластик с темно-красным ромом, он вернулся к себе. Однако эту маленькую операцию Болу не удалось сохранить в тайне.
У садовника замка после вчерашней выпивки страшно болела голова и в мыслях была путаница. Поднявшись ни свет ни заря, он решил, пока не проснулись слуги, поискать на кухне немного вина. Потягиваясь и охая, садовник выглянул из окна своего домика и замер от удивления. Не более чем в десяти шагах от окна стоял странный гемен, о котором уже прошла молва по всему замку. Садовник ясно увидел, как он руками раскрыл свою грудь, что-то оттуда вытащил и, спрятав в кустах, удалился.
От страха у садовника вылетел из головы весь хмель. «Не иначе колдун, а может, сам дьявол?» — подумал он. Ему хотелось посмотреть, что он там спрятал, но страх долго удерживал его на месте. Наконец любопытство пересилило, и, осенив себя крестом и призвав на помощь Святого Оло, он подкрался к месту, где стоял колдун. Приподняв ветви, садовник увидел прозрачный сосуд, наполненный темно-красной жидкостью. Он потрогал сосуд сперва веткой, а потом пальцем. Сосуд слегка гнулся и не был похож на стекло.
Мало того, садовник мог поклясться, что из него пахло ромом. Он хотел позвать кого-нибудь и показать свою находку, но ром так соблазнительно благоухал, а голова так трещала, что садовник не удержался и сделал небольшой глоток. Приятное тепло поползло по телу, и, больше не остерегаясь, он присел у куста и начал потягивать ром.
Через час Буг, карауливший Бола по приказу монаха Сиуса, проснулся у его двери на самой низкой ноте своего могучего храпа. Потягиваясь и почесываясь, он направился на кухню опохмелиться остатками вина, а если повезет, то и чаркой рома. По дороге у кустов малины он увидел сидевшего в траве изрядно охмелевшего садовника. Тот держал в руках прозрачный сосуд и уверял, что это желудок странного гемена, наполненный чистейшим ромом. Буг одобрительно хмыкнул и, не раздумывая, начал пить.
Велико было негодование Сиуса, когда, направляясь к Болу, он увидел в саду мертвецки пьяного Буга, который должен был караулить странного гемена. Рядом с Бугом, побулькивая, храпел садовник, а между ними стоял тонкий, гнущийся, как шелк, прозрачный сосуд с остатками рома. Сиус взял сосуд и ушел, справедливо полагая, что с пьяницами в таком состоянии разговаривать бесполезно.
Утром первым навестил Бола все тот же Сиус. Он справился о самочувствии гемена, внимательно осмотрел комнату, а затем пригласил к завтраку. Арчибал, приветствуя Бола, произнес:
— Черт побери, Бол! Ваши достоинства так быстро выявляются, что я и мои друзья скоро окажемся не у дел в нашем замке. Не иначе как у вас железный желудок и серебряное горло. Вы покорили не только кубок Большого Дэна, но и наших дам своими песнями.
Кстати, сегодня святая инквизиция отправляет в иной мир молодую колдунью, и у меня будут важные гости.
Надеюсь, вы не откажетесь после этого прискорбного зрелища повеселить нас игрой и песнями?
Бол, занятый своими мыслями, не придал значения словам Арчибала о прискорбном зрелище и ответил:
— С удовольствием выполню вашу просьбу, но отказываюсь от завтрака. После выпитого вчера рома я не хочу есть. Если у вас имеются какие-либо книги или рукописи, разрешите мне посмотреть их. Это поможет мне сложить прославляющие вас и ваш род песни.
Бол считал крайне необходимым в своем положении познакомиться с историей и бытом жителей Эмины, чтобы не попасть впросак при разговоре с Сиусом, который явно следил за ним.
Арчибал, польщенный возможностью быть воспетым таким искусным мастером, попросил Сиуса отвести Бола в библиотеку, как он выразился, к «старой крысе» Пулу.
Пул исполнял должность историка подвигов гемена Арчибала, писаря, составителя гороскопов, хранителя библиотеки и имел многие другие обязанности. Следует заметить, что, несмотря на столь многочисленные должности, он не был перегружен делами по весьма простой причине: подвиги гемена Арчибала не были чересчур многочисленными и чрезмерно выдающимися. Например, последняя запись гласила: «Двенадцатого дня Ириса перед походом гемен Арчибал съел целого поросенка». Не больше времени занимала и деловая переписка. Две жалобы королю на соседа, оставшиеся без ответа, составляли всю пятилетнюю почту Пула.
Стечение этих обстоятельств крайне благоприятствовало его любимым занятиям. Целыми днями он пропадал в библиотеке, а по вечерам, наблюдая за звездами Эмины, составлял гороскопы.
Между тем Бол в сопровождении монаха поднялся на второй этаж и вошел в большой полутемный зал, заставленный шкафами с множеством книг. В углу зала за конторкой стоял и что-то читал высокий седой старик в поношенной зеленой куртке, серых панталонах и башмаках на толстой деревянной подошве. Большой лоб, умный благожелательный взгляд глубоко посаженных глаз библиотекаря понравились роботу. «На Эмине есть и интеллигентные существа», — подумал он. Сиус подошел к библиотекарю и некоторое время шептал ему что-то, а затем удалился.
Пул с любопытством посмотрел на Бола:
— Вы первый благородный гемен, если не считать Арчибала, проявивший интерес к этому источнику знаний. Сиус сказал, что вы не были в здешних краях и, по-видимому, не знаете нашей письменности. Поэтому, чтобы вам не было скучно, я выберу только те книги, которые имеют картинки. Не каждому суждено постигнуть мудрость чтения. Для этого нужно потратить не один год. Даже достойнейший гемен Арчибал, которого я имел честь учить грамоте, начал читать лишь спустя три года.
— Мне не нужно столько времени, — скромно ответил Бол. — Прошу вас, прочтите вслух несколько страниц из ваших любимых книг так, чтобы я видел текст.
Через несколько минут Бол поблагодарил Пула и попросил разрешения самому посмотреть наиболее интересные, по мнению библиотекаря, рукописи. Пул выбрал несколько книг по истории и передал Болу. Чтобы не мешать ему, он отошел в сторону и еще раз начал перечитывать удивительное письмо каноника Улиса. Читая, Пул услышал странный шорох. Он подошел к Болу и увидел поразительную картину. Его гостю, вероятно, наскучило листать страницы непонятного текста, и он каким-то образом заставлял их переворачиваться самостоятельно. Он просто держал указательный палец над раскрытой книгой, и страницы книги с мягким шелестом сами быстро переворачивались одна за другой.
Пул знал, что кусочки бумаги могут притягиваться костяным гребнем, если потереть его о сухие чистые волосы. Но этот гемен, не имел гребня и ничего не тер.
Пул придвинулся к Болу и спросил:
— Каким образом вам удается переворачивать страницы, не прикасаясь к ним?
— Очень просто. Заряжаю лист бумаги электрическим зарядом одного знака, а на свой палец подаю заряд другого знака. Противоположные электрические заряды заставляют лист притягиваться к пальцу. Когда лист коснется пальца, я меняю знак заряда на пальце, заряды на пальце и листе становятся одинаковыми, лист отталкивается от пальца и переворачивается.
— Вы, вероятно, таким образом пытаетесь найти картинки, но я должен предупредить вас: в этих книгах их нет.
— Нет, я не ищу картинки, просто у меня такая привычка запоминать информацию, — ответил Бол.
— Вы хотите сказать, что с такой скоростью читаете номера страниц?
— Нет, я читаю весь текст.
— Но это невозможно! Утверждаю, что вы не поняли ни одного слова из этой книги.
— Ошибаетесь, — ответил Бол. — Могу совершенно точно не только повторить, что написано на каждой ее странице, но и указать на неточности и описки. Например, на десятой странице во второй строке сверху пропущена буква «о», а на сороковой странице допущена неточность толкования Галакской битвы по сравнению с описанием этой битвы на двадцатой странице.
Пул взял рукопись и, убедившись в справедливости замечаний Бола, с волнением произнес:
— Это непостижимо для моего разума! Скажите, кто вы?
Этот простой вопрос заставил Бола призадуматься.
Он не хотел обманывать Пула, к которому чувствовал симпатию, но, с другой стороны, не мог сказать и правды, поэтому уклончиво ответил:
— Способность быстро читать и запоминать прочитанное я получил от рождения, а затем усовершенствовал ее длительными тренировками.
— У вас слишком много удивительных способностей для обычного человека, — сказал Пул, — старайтесь меньше их показывать, особенно Сиусу. Он и так уже подозревает вас в связи с нечистой силой. Если об этом узнает процектор инквизиции Касиус, вам не поздоровится. Кстати, сегодня после полудня инквизиция назначила сожжение молодой девушки Эми, обвинив ее в колдовстве. По мнению судей, она вызвала засуху в нашей местности.
— А что, эта девушка имеет ионизатор, которым можно изменять погоду? — спросил Бол.
— Я не знаю, о чем вы говорите, но в обвинительном заключении сказано, что в день новолуния она играла с черной кошкой.
— Но разве можно таким невинным поступком вызвать засуху? — воскликнул Бол.
— Инквизиция считает, что именно таким образом колдуньи и вызывают засуху.
— Это же немыслимое невежество, смешанное с крайней степенью жестокости! Как можно лишать жизни молодое мыслящее существо, да еще таким мучительным образом и по такому нелепому обвинению. Я сам обращусь в суд и объясню его членам недопустимость для разумных существ этого приговора!
— Вряд ли вас кто-нибудь будет слушать. Мне кажется, даже если все члены роты знали бы, что игра с черной кошкой не может вызвать засухи, они все равно не изменили бы своего решения.
— Вы хотите сказать, что судьи умышленно лишают жизни невинное мыслящее существо?! Но с какой целью?
— Видите ли, засуха — это, в первую очередь, беда для народа. Люди же всегда пытаются найти причину или виновника своих бед. Чтобы они долго не искали и, чего доброго, не нашли виновников в другом месте, им подсовывают мнимого виновника, а на деле неугодного для себя человека, от которого хотят избавиться.
— А почему от этой девушки хотят избавиться? — спросил Бол.
— По многим причинам. Во-первых, она сирота, кроме того, мать ее исповедовала другую религию, во-вторых, девочка не в меру умна, что, по мнению судей, само по себе недопустимо. Самое же главное ее преступление заключается в том, что она сочиняла и рассказывала еретические сказки, в которых все люди счастливы.
— По всем заложенным во мне законам робототехники я должен спасти эту девочку! — воскликнул Бол.
— Только не делайте этого силой, — заметил Пул, — этим вы ее не спасете, а в лучшем случае лишь отсрочите ее гибель и вдобавок навлечете на себя кучу бед.
— При теперешнем развитии Эмины здесь со мной ничего сделать не смогут, — улыбаясь, громко произнес Бол. — Разве я нечаянно упаду с высоты в несколько метров, и у меня может повредиться источник энергии.
Но и в этом случае я не погибну, а только потеряю силу, так как буду существовать на слабом, аварийном источнике.
В это время Пул заметил, что у неплотно прикрытой двери библиотеки кто-то стоит. Он дал знак Болу, и разговор они закончили в дальнем углу зала.
VI
После полудня, когда зной начал спадать, за стеной крепости, окруженной глубоким рвом, на большой поляне с выжженной солнцем желтой травой появились люди. Они суетились у кострища, в центре которого стоял огромный деревянный крест.
Палач в надетом на голову черном капюшоне деловито подправил солому и сухую лучину для разжигания костра, затем потряс крест, проверяя его крепость.
Убедившись, что все сделано как нужно, он скрестил руки на груди и замер в ожидании жертвы.
Поляна постепенно заполнялась людьми. Вначале появились простолюдины. Они разместились подальше от места казни и судачили вполголоса. Затем подошли более состоятельные поселяне, занявшие места поближе. Еще ближе расположились служители церкви, гемены и дамы.
Медленные низкие удары колокола возвестили, что та, которой суждено было сегодня расстаться с жизнью, начала свой последний путь.
В воротах крепости показалась повозка, на которой сидела молоденькая девушка с распущенными волосами и зажженной свечой в руках. Глаза ее были заплаканы, а губы что-то шептали — может быть, молитву, а может, свою последнюю сказку. Впереди повозки шествовали монахи с зажженными свечами, вокруг — солдаты с вынутыми из ножен мечами.
В толпе послышались рыдания женщин и смущенное покашливание мужчин. Задние, пытаясь рассмотреть девушку поближе, напирали на передних. Толпа в конце концов закрыла проезд, и повозка остановилась. Солдаты рукоятками мечей проложили дорогу, и возница довез осужденную к месту казни. Сопровождавший девушку толстый монах слез с повозки и с безучастным видом перекрестил осужденную.
Девушка, шатаясь, поднялась к кресту. Вслед за ней в красной куртке туда же забрался копиист — судебный писарь. Подождав, пока затих шум, запинаясь на каждом слове, он начал читать приговор суда. С трудом добравшись до конца, копиист слез с помоста, оставив палача наедине со своей жертвой. Палач быстро привязал девушку к кресту, затем от свечи одного из монахов зажег факел и повернулся к процектору инквизиции Касиусу, сидевшему на специально выстроенном для него помосте под большим желтым балдахином. На поляне воцарилась тишина, и треск факела воспринимался, как выстрелы мушкетов. Касиус молча кивнул головой. Палач поднес горящий факел к соломе, лежавшей у ног девушки. Неожиданно пламя факела заколебалось, как бы от ветра, а затем погасло. Палач что-то проворчал, видимо от досады за свою оплошность, и снова зажег факел. Хотя воздух был недвижим, он закрыл огонь ладонью, опасаясь внезапного порыва ветра, и начал осторожно подносить факел к соломе. Однако и на этот раз факел вначале задымил, а затем начал угасать. Когда пламя почти погасло, палач, спасая огонь, отдернул руку назад, и факел вспыхнул снова.
В пораженной толпе послышались крики: «Знамение Небожителя Оло! Знамение Небожителя Оло!» Растерявшийся палач, как бы спрашивая совета, вновь повернулся к Касиусу. Касиус что-то сказал слуге, и тот, подойдя к палачу, передал ему приказ. Палач связал вместе сразу три факела, поджег их и резким движением бросил столб пламени в солому. По высушенной зноем соломе неестественно медленно поползли желтые змейки и, немного подымив, исчезли. Лишь слабый дым, поднимавшийся к небу, свидетельствовал, что факелы и солома горели. Невнятный ропот перешел в грохот бури. Солдаты уже не могли сдержать толпу, и она хлынула к месту казни.
Неожиданно около палача, с вытянутой вперед рукой, появился Касиус. Над притихшей толпой прозвучал резкий, властный голос:
— Миряне, теперь вы видите, что она колдунья! Если это знамение Оло, пусть она попросит его пролить дождь на нашу иссохшую землю.
В этот момент Касиус взглянул на чистый, без единого облачка, небосвод, и чуть заметная улыбка искривила его бледное лицо. Прошло несколько минут томительного ожидания, но небо по-прежнему было безучастно к людским делам. В толпе уже слышались возгласы разочарования, когда в ясной голубой синеве над местом казни возникла то ли призрачная дымка, то ли слабый туман. Такие же крохотные клочки тумана появились и в стороне. Соединившись вместе, они превратились в маленькое прозрачное облачко. Облачко росло и стало небольшой тучкой. Тучка потемнела, раздалась вширь. Она нависла над поляной, захватила замок и окружавшие поля. Еще немного — и грозная туча, клубясь и глухо ворча, затянула небосвод. Потемнело. Подул ветер, засверкала молния, послышались раскаты грома, и на землю обрушился небывалой силы ливень. Восторженные крики толпы «Чудо, чудо!» смешались с шумом грозы. Одни плакали, другие крестились, а полураздетые, босоногие ребятишки шлепали по теплым лужам, поднимая тучи брызг. Дождь лил полчаса, но толпа не расходилась. Наконец гроза начала стихать, и три необычные радуги опоясали небо, как бы подводя итог всему случившемуся. Пораженному Касиусу не оставалось ничего другого, как приказать палачу отпустить девушку.
VII
Во время этих событий Сэм сидел на дереве, недалеко от балдахина Касиуса. Промокший, но счастливый, он начал было слезать, но увидел приближавшихся к нему Касиуса и монаха. Сэм не хотел показываться им на глаза, тем более что его дважды вызывал к себе для беседы Сиус, который стремился узнать, каким образом он познакомился с Болом. Увидев церковников, Сэм испугался, а затем притаился и стал слушать.
Говорил Сиус:
— С самого начала он показался мне подозрительным. Такой силой и твердостью, крепче брони, грешное человеческое тело обладать не может. Когда я увидел согнутый наконечник копья, то подумал — Буг попал ему не в шею, а в доспехи. Но потом убедился: Буг не промахнулся.
Касиус взглянул на монаха и молча покачал головой.
— Ваше преосвященство, — продолжал Сиус, останавливаясь у дерева, — ночью я ощупал его и не нашел никаких скрытых замков или застежек для крепления доспехов. У каждого гемена доспехи, где они неплотно прилегают к телу, при постукивании издают более звонкий звук, а у этого — нет. Его доспехи нельзя снять. Думаю, они у него привинчены изнутри к волосатому телу. А потом, этот случай с желудком. Да и сегодняшние чудеса, уверяю вас, дело его рук. Смею еще раз напомнить вашему преосвященству: его нужно схватить, и чем раньше, тем лучше.
— Сотня солдат под командой Буга справится? — спросил Касиус.
— Лучше две сотни, но считаю, надежнее поймать его сетью. Пообещайте каждому по золотому и две бочки рома на всех, и они его обязательно схватят. И еще, — продолжал монах, — у него нет оружия, и он ни разу не воспользовался своей силой. Когда его атаковали солдаты, он не только никого не убил и не покалечил, но даже не ударил. А за девчонку не беспокойтесь. Палач ее пытал, и больше одного дня она не проживет, — закончил Сиус.
В этот момент. Касиус и монах отошли, и Сэм больше ничего не услышал. Подождав немного и убедившись, что поблизости никого нет, он слез с дерева и помчался предупредить Бола.
Обежав замок и вернувшись в поселок, Сэм нашел Бола у деревенской кузницы, где робот в окружении эминцев показывал кузнецу и его подмастерьям, как вместо сохи изготовить плуг. Не делая ни одного лишнего движения, он тут же, на глазах собравшихся, выковал плуг. Здесь же, на поляне, эминцы запрягли лошадь, и Бол провел первую борозду плугом на планете Эмина. Глубокая и ровная борозда вызвала всеобщее одобрение. Бол передал плуг добровольцам, желающим попробовать его, а сам возвратился к кузнецу. Эминцы так плотно обступили робота, что Сэм никак не мог протиснуться к нему. Особенно подробно Бола расспрашивал высокий, широкогрудый кузнец с густой черной бородой. Он не давал Болу ни минуты передышки, заставляя его вновь и вновь показывать приемы обработки металла. Между тем робот, довольный своей ролью учителя, так разошелся, что, отбросив в сторону неуклюжие щипцы кузнеца, начал пальцами изгибать раскаленный докрасна кусок заготовки. Лица поселян вытянулись. Кто-то крикнул: «Дьявол!» — и толпа попятилась назад. Около Бола остался лишь кузнец. Он подошел к поселянам и вполголоса произнес:
— Дурачье. Чего испугались? Будь это дьявол, он в первую очередь заставил бы меня, а то и всех вас расписаться кровью за свои секреты. Разве дьявол будет учить, чтобы у вас было больше хлеба и вы жили лучше?!
Эминцы нерешительно топтались на месте, поглядывая на гемена.
В этот момент Сэм пробрался к Болу и в нескольких словах передал ему случайно подслушанный разговор.
Выслушав Сэма, Бол воскликнул:
— Мы должны сейчас же увидеть эту девушку! Как ее зовут?
— Эми.
— Ты знаешь, где она живет?
— Знаю.
— Тогда садись на плечо и показывай дорогу.
Распростившись с кузнецом и его подмастерьями, Бол с Сэмом быстро двигались по грязным улочкам поселка. Сопровождаемые удивленными возгласами поселян, они вскоре добрались до маленького домика, сложенного из неотесанных камней. Он был такой крохотный, что Бол, согнувшись, еле в него влез. В углу, на куче соломы, лежала худенькая, белокурая девочка лет двенадцати. Она еще не пришла в себя от потрясений казни. Ее бледное, без кровинки, лицо выглядело испуганным. Руки и ноги несчастной были в ранах, а правая рука распухла и почернела почти до плеча. Около нее сидело несколько сердобольных женщин с какими-то травами, черными сухарями и водой.
Потрясенный ее видом, Бол воскликнул:
— Милое, молодое мыслящее существо! Я не только спасу тебя, но и сделаю все, чтобы твоя жизнь была достойной и радостной.
С этими словами он встал на колени и ввел в руку Эми регенерирующую жидкость. Опрыскав ее раны, Бол осторожно присел около Эми и, медленно покачиваясь, запел колыбельную песенку землян. Подождав, пока она уснула, Бол замер, не отрывая глаз от ее лица. Прошло несколько минут, и опухоль на руке начала спадать, а раны затягиваться тонкой розовой пленкой.
Убедившись, что девушка поправляется, Бол знаком показал Сэму идти за ним и выбрался из домика.
— Сэм, теперь жизнь девушки зависит от тебя. Сегодня вечером, когда женщины уйдут, ты незаметно проведешь ее в замок к библиотекарю Пулу. Сделай так, чтобы никто об этом не узнал. Сейчас она очень слаба, но к вечеру ей станет лучше. Если тебе понадобится помощь, а меня не будет, обратись к кузнецу. Я установил с ним и Пулом телепатические контакты и обнаружил, что это благородные мыслящие существа, которым можно доверять. Сейчас я ухожу, ибо опасаюсь, что каждую минуту за мной могут прийти солдаты и напугать Эми. А ты побудь здесь и присмотри за ней.
С этими словами Бол ласково похлопал Сэма по плечу и пошел к крепости.
VIII
«Что за маломыслящие, жестокие и драчливые существа живут на этой планете, — думал Бол, направляясь к замку. — Ведь согласно первому и второму законам робототехники я должен не только заботиться об их жизни, но и о своей. А защищаясь, я могу нечаянно повредить их, или в сутолоке они сами себя поранят, и тогда, по моим законам, придется лечить их, а может быть, и спасать жизнь».
Размышляя, Бол вышел на поляну, где по-прежнему на кострище стоял крест, как бы показывая своим существованием, что не все еще кончилось и что он — крест — ждет свою жертву.
В это время из небольшой рощицы, раскинувшейся недалеко от поляны, выскочили два отряда всадников, между которыми волочилась огромная сеть. Пока Бол рассматривал их, всадники, подгоняя плетьми лошадей, окружили его. Бол легко одной рукой приподнял тяжелую сеть, перебросил ее через себя и оказался на другой ее стороне. С криками всадники, нахлестывая лошадей, снова начали разворачиваться. Бол, улыбаясь, наблюдал за ними. Но вот сеть с подвешенными к ней тяжелыми камнями застряла в кустах. Один из солдат слез с лошади и попытался отцепить ее. Но едва он освободил сеть, как лошади потащили ее вперед, запутав солдата с головой. Бол подбежал к кустам, потянул сеть вместе с лошадьми назад, вытащил солдата и помог охотившимся за ним всадникам создать вокруг себя новую петлю. Но когда сеть подтянулась к нему почти вплотную, он снова легко приподнял ее, выбрался наружу и, радостно смеясь и прихлопывая в ладоши, остановился. Мало того, чтобы облегчить действия своих противников, он перетащил сеть, потянув заодно и лошадей, на ровное место, где кустов не было.
Преследователи, видимо, догадались, что поймать богатыря можно лишь тогда, когда он будет освобождать кого-нибудь из сети. Теперь они уже умышленно запутали в нее двух добровольцев и, подстегивая коней, потащили их по полю. Пока Бол освобождал их, солдаты обернули вокруг него сеть уже в несколько рядов.
С криками «Попался! Попался!» солдаты колотили лошадей, туже затягивая пленника. Однако в местах прикасания к телу Бола сеть рассыпалась на тлеющие куски.
Увидев это, всадники повернули в сторону, освободив место развернувшемуся в дугу большому отряду пеших латников, выходившему из рощи. В это же время со стороны крепости быстро двигался другой такой же отряд, замыкая собой вторую половину окружности, в центре которой стоял Бол. Латники шли молча, образуя вокруг великана ощетинившееся внутрь копьями кольцо. Лишь случайное бряцание оружия и доспехов, когда они сближались вплотную друг к другу, да топот ног нарушали тишину.
Не доходя локтей шестьдесят до Бола, латники остановились, а затем с криками «Кха! Кха!» бросились на него со всех сторон. Первым подскочил Буг и с размаху метнул в Бола тяжелое копье. Однако копье наткнулось на невидимое препятствие. Препятствие вначале как бы немного сжалось, а потом с силой отбросило копье назад. Буг вовремя заметил, что его копье тупым концом возвращается к нему, и начал быстро уклоняться в сторону. В этот момент кто-то из солдат позади Буга с силой бросил свое копье. Оно неожиданно попало в спину уклоняющегося Буга и, пробив насквозь панцирь и тело, вышло со стороны груди. Смертельно раненный Буг упал на траву недалеко от Бола, стоявшего внутри силовой защиты. Робот мгновенно выскочил из своего укрытия. Не обращая внимания на летящие на него со всех сторон копья, он поднял Буга на руки и, прикрыв его своим телом, скрылся за невидимой стеной. Солдаты еще некоторое время бросали в него копья, а затем, убедившись, что их оружие не достигает цели, отошли и, переговариваясь, стали наблюдать.
Бол отрезал наконечник копья и вытащил оставшуюся часть из груди Буга, затем снял панцирь и ввел в огромную рану регенерирующий эликсир. Через несколько минут на глазах у пораженных солдат дыра на груди Буга начала затягиваться и Буг, ошалело моргая глазами, сел на траву у ног робота.
— Да дьявол-то чокнутый! — крикнул кто-то.
— Наверное, это не дьявол, а сам Небожитель Оло, — сказал пожилой солдат. — А мы, дурачье, идем войной на него!
В этот момент Бол заметил еще одного раненого солдата. Рослый, могучего телосложения детина, охая, одной рукой прикрывал окровавленный глаз, а второй продолжал держать тяжеленный топор. Бол снова выскочил из укрытия, подбежал к раненому и, подняв его вместе с топором, помчался назад.
Никто не шелохнулся, чтобы помешать этому. А когда один низкорослый солдат со злыми глазами начал было опускать копье навстречу Болу, его сосед залепил ему такую затрещину, что он мигом успокоился.
Солдаты, теперь уже не остерегаясь, подошли вплотную к дьяволу, а может, и Святому Оло и увидели, как он водит руками около глаза раненого. Тот, с выпученным от страха и удивления невредимым глазом и открытым ртом, не шелохнувшись, стоял перед Болом.
— Глядите, он из кривого делает зрячего! — крикнул солдат, прислонившийся лицом к силовой защите.
Как бы в подтверждение его слов глаз раненого стал проясняться и с благодарностью смотрел на робота.
Неуклюже переминаясь с ноги на ногу, прозревший произнес:
— Спасибо тебе. Ты не сердись. Я ведь не сам пошел войной на тебя, а теперь обещаю никогда на тебя не ходить. — Он задумался, потом медленно выдавил: — И других буду отговаривать.
Бол улыбнулся, похлопал солдата по плечу и, вручив ему в руки топор, выпустил из зоны защиты. Увидев это, Буг тоже поднялся и, протягивая Болу свою волосатую руку, произнес:
— Я на всю жизнь твой должник, — и, низко поклонившись, направился к солдатам.
Бол понял: силовая защита больше не нужна — и снял ее, чтобы не расходовать источник энергии.
К Болу подошел молодой белокурый солдат и, показывая на большую бордовую шишку, выросшую на голове, произнес:
— Я вижу, ты мастер на все руки, сделай милость, убери этот огурец с моей головы. Из-за него не только товарищи, но и девушки из нашего поселка смеются надо мной. Я отдам тебе все жалованье за год, пожалуйста, не отказывай.
— Денег мне не надо, я помогу тебе и так, — улыбаясь, ответил Бол.
Он смазал основание опухоли эликсиром, раскрыл два пальца и поднес их к шишке солдата. Короткая вспышка плазменного генератора — и опухоль упала на траву.
Увидев, что Оло лечит не только раны, но и болезни, солдаты обступили Бола и наперебой начали просить вылечить их.
«Если так пойдет дальше, моих запасов эликсира хватит на один час, не больше», — подумал Бол. Однако положение еще более осложнилось после исцеления древней старухи, непонятным образом затесавшейся в очередь. Когда Бол снабдил ее новыми зубами да вдобавок подмолодил лет на пятьдесят, перед ним оказалась красивая девушка с озорными глазами и ослепительно белозубой улыбкой. Бол тотчас почувствовал перегрузку своего блока эмоций, в результате чего у него самоотключился блок логики, и он стал без удержу расточать красавице комплименты. Увидев, что она понравилась Небожителю, девушка стала кокетничать с ним. Бол уже намеревался признаться ей в любви, но очередь, недовольная возникшей задержкой, оттеснила девушку в сторону, и Болу волей-неволей пришлось вновь заняться больными. После омоложения старухи началось такое, что робот не мог себе и представить. Все, кто мог двигаться, повалили к нему. Тех же, кто сам не перемещался, несли родственники. Когда же он вылечил хромую лошадь, поселяне бросились в поселок и потащили на прием домашних животных. Крики эминцев, рев коров, ржание лошадей слились в многоголосый гул, который стал слышен даже в замке гемена Арчибала.
IX
…Оставим на время Бола и обратим внимание на две небольшие фигуры, стоящие на стене крепости рядом с двумя бомбардами. Присмотревшись, мы узнаем в них Касиуса и монаха, по очереди наблюдающих в подзорную трубу за действиями солдат.
— Не пойму, — сказал Касиус, — похоже, они выстроились в очередь к дьяволу?
— Может, он раздает им золотые квиндарии? — предположил Сиус.
— Кажется, к нам кто-то бежит, — продолжал Касиус, передавая трубу монаху.
Сиус взял трубу и навел ее на бегущего человека.
— Это Сэнс, — сказал он. — Я приказал ему доносить обо всем, что делается в отряде. Сейчас мы узнаем, что там происходит.
Вскоре на стену замка забрался запыхавшийся низкорослый солдат, получивший оплеуху от своего товарища.
— Ну, что? — нетерпеливо спросил Сиус. — Схватили дьявола?
— Как бы не так, — ответил Сэнс и рассказал о стычке солдат с Болом. Заканчивая, Сэнс добавил: — Вы уж простите меня, ваше преподобие, я побегу, а то, чего доброго, прозеваю очередь и останусь с больным брюхом и гнилыми зубами. — С этими словами он спустился с крепостной стены и засеменил к толпе, окружившей Бола.
Не успел Сэнс спуститься, как Касиус тут же подумал: «Не мешало бы и мне сбросить лет двадцать да заодно избавиться от ревматизма. Но как это сделать?
Не могу же я вместе с чернью стоять в очереди к дьяволу?»
Мысли монаха в это время существенно не отличались от раздумий Касиуса. Однако Сиус, как и подобает подчиненному, стремящемуся занять место своего начальника, был более расторопным. Поэтому он тут же произнес:
— Я могу переодеться, чтобы меня никто не узнал, и сам посмотрю, что там происходит. — А про себя подумал: «Заодно избавлюсь от своих болезней и помолодею. Это мне пригодится, когда Касиус одряхлеет и я займу его место».
Но Касиус, как бы читая его мысли, сказал:
— Я не хочу подвергать вас опасности быть узнанным солдатами, которые вас недолюбливают. Поэтому будет лучше, если вы достанете одежду простолюдина и я проверю все сам.
В конце концов, после долгих препирательств, они решили идти вместе и, переодевшись в одежду поселян, которую раздобыл монах, направились к Болу.
Когда они подошли, вокруг Бола стояла толпа изможденных болезнями эминцев. Протягивая к нему руки, они кричали:
— Помоги, Небожитель!
С особой неистовостью на Бола наступала иссохшая сгорбленная старуха. Потрясая скрюченными от ревматизма руками, она кричала:
— Куда ты смотрел, бесстыжие твои глаза, когда омолаживал эту старую вертихвостку Ульку?! Она всю жизнь пела да плясала с бубном перед мужиками и ничем другим не занималась! А я и постилась каждую пятницу, и молилась по два раза на день, и работала всю жизнь как каторжная — и осталась вот с такими руками и без зубов. Если не поможешь, лучше умрем, но не выпустим тебя!
Растерянный Бол невразумительно бормотал, что роботам эликсир выдается в строго ограниченных дозах, на случай чрезвычайных обстоятельств, и свой запас он израсходовал. Вот если аварийная ситуация подсистемы «Зета» еще не кончилась и экипаж спит, он попытается на гравилодке забраться на орбиту к космолайнеру и взять еще немного эликсира.
— Ты нам святыми словами зубы не заговаривай, — не унималась старуха, — раз объявился Олом — лечи. Коров и кошек лечил, а праведных эминцев не хочешь! Тьфу на тебя, хоть ты и святой!
Толпа, окружавшая Бола, устрашающе увеличивалась. Выставляя свои болячки, эминцы наступали на робота со всех сторон. Бол с немыслимой скоростью перебирал память, пытаясь найти выход из создавшегося положения.
В этот момент Касиус сбросил с себя одежду простолюдина и остался в одной сирме — накидке ордена иезуитов.
— Миряне! Видите, у него иссяк святой бальзам. Подождите до утра. После молитв он обретет прежнюю силу. Приходите завтра к церкви, и он исцелит вас.
С этими словами он взял Бола за руку и направился к замку.
X
«Чудеса он делает, — думал Касиус, еле поспевая за Болом. — Но очень уж не похож на святого. Ведет себя удивительно просто».
И тут Касиуса осенило. По рассказу Сэнса, когда Бол воскрешал Буга и лечил больных, он не только не осенял их крестом, но и сам ни разу не перекрестился.
Неужели колдун?
Но колдуны злые, а этот добр не в меру и к тому же не очень умный. Пожалуй, даже крайне глуп. Был бы умный, лечил бы состоятельных людей, а не чернь и коров. Неужели он не понимает этого? «Как бы уговорить его делать только то, что нужно ордену и мне?»
Тут Касиус представил, какие чудеса можно сотворить. Даже дух захватило. Взглянув на шагающего — рядом великана, он сказал:
— Если будешь делать, что прикажу, я озолочу тебя. У тебя будет столько золотых квиндариев, сколько пожелаешь!
— А зачем мне деньги, да еще много? Одну маленькую монетку на память об Эмине я бы, пожалуй, взял, но не больше.
— Зачем деньги?! — с жаром воскликнул Касиус. — Ты рассуждаешь, как малое дитя! Неужели не понимаешь, как хорошо быть богатым?! За деньги можно купить все! Хорошую еду, красивую одежду, женщин, друзей, с которыми будешь играть, когда пожелаешь.
— А если они не захотят играть со мной, когда я пожелаю? — улыбаясь, спросил Бол.
— За деньги они всегда будут играть с тобой.
— Нет, это неинтересно, — возразил Бол. Он вспомнил ребят из детского сада, и ему стало смешно: как бы он играл с ними за деньги?! — За деньги настоящей игры не получится, — убежденно ответил робот. — Детям деньги не нужны, а взрослые будут притворяться.
— Ну а еда, вино? Разве ты не любишь вкусно поесть?
— Еда мне не нужна. У меня атомный источник питания.
— Ты что, совсем не ешь?
— Совсем.
«Святой, ну конечно же святой. Как это я в самом начале не догадался! Нет, нет, не то. Святые тоже едят.
В священных книгах об этом написано, — вертелось в голове Касиуса. — Но кто же он? Может, сумасшедший или схизматик?»
— Носить одежду мне не полагается, — продолжал Бол. — А ребят, с которыми играю, я встречаю на каждой обитаемой планете. Некоторые совсем не похожи на людей. Бывают больше меня на целую голову и на шести ногах, а бывают совсем маленькие, покрытые перьями, но играть все ребята любят.
«Опять понес непонятное, — мелькало в голове Касиуса. — Не может быть, чтобы ему ничего не было нужно!»
— Воздух-то тебе нужен? Неужели ты и без воздуха обходишься?
— Обхожусь, — улыбаясь, ответил Бол.
— Это как же? — оторопело уставился Касиус.
Только сейчас он заметил, что странный гигант не дышал.
В это время Бол увидел омоложенную им красивую девушку. Она кокетливо улыбнулась «святому» и попросила благословения. Бол тут же забыл о Касиусе и его деньгах и принялся осыпать красавицу комплиментами.
«Оказывается, женщины все же его интересуют», — подумал Касиус. Кивком головы он подозвал шедшего позади них монаха.
— Все ваши предположения, Сиус, оказались несостоятельными. Благодаря нашим ошибкам он достиг колоссальной популярности у верующих. Мы необдуманно называли его то дьяволом, то колдуном, а он все время делал добро. «Выходит, дьявол — благо, а что же тогда бог?» — будут думать миряне. Они уже сейчас называют его Святым Оло. — Касиус немного помолчал, а потом добавил: — Для нас будет лучше, если он будет жить в церкви, как святой.
— Все это так, ваше преподобие, но он не делает различия между чернью и благородными эминцами, а это для нас не меньшее зло.
— Во что бы то ни стало мы должны найти возможность воздействовать на него, — заявил Касиус.
— Как это я забыл, — неожиданно воскликнул Сиус. — Когда он разговаривал с Пулом, то произнес странную фразу.
— Какую?
— «На том уровне развития техники, которого достигли эминцы, они со мной ничего сделать не смогут. Разве только я случайно упаду с большой высоты. Хотя я и не погибну, но могу потерять силу».
— Так и сказал — «потерять силу»?
— Так и сказал. Хочу заметить, ваше преподобие, если он потеряет силу, мы сделаем с ним все, что захотим.
— Каким образом?
— В замке в подземном северном коридоре на вашей половине есть тайный люк в колодец. В давние времена врага, от которого хотели избавиться, пускали по этому коридору, и он проваливался вниз.
— Да, я знаю об этом колодце.
— Дверь в коридор Арчибал приказал запереть, а в люк поставить заглушку, чтобы кто-нибудь ненароком не свалился туда. Внутрь колодца можно добраться через подземный ход. Ключи от коридора и подземного хода у вас в общей связке.
— Колодец глубокий?
— Около тридцати локтей.
— А как мы заманим его в коридор, где никто не ходит?
— Заманить его не составит труда. Он уверен в своей неуязвимости, храбр и по-детски простодушен. Сэнс скажет, что его ждет дама. Мы поставим Ульку со свечой в конце коридора. Он увидит и направится к ней.
Коридор темный, и Улька со света его не заметит. Она даже не будет знать, для чего ее там поставили.
— Бола, теперь уже Небожителя Оло, будут разыскивать. Улька может заподозрить неладное и все рассказать.
— Мы уберем ее раньше, чем он дойдет до середины коридора, где находится люк. Повторяю, она не только не увидит, как он провалится, но и вообще не обнаружит его. Кроме того, Ульку мы припугнем инквизицией, и она будет молчать.
— А не получится ли от этого то же, что и от прошлых затей? — спросил Касиус.
— Если он в самом деле святой, с ним ничего не будет. Если же под его оболочкой скрывается что-то другое, то оно будет в нашей власти. Кроме того, ваше преподобие, об этой операции будем знать только мы и Сэнс.
Забыв свои неудачи с эликсиром, напевая сочиненную только что песенку, Бол направился в библиотеку.
Он надеялся, что Сэм уже переправил спасенную девушку и он увидит ее у Пула. В полутьме у выхода из зала к нему подошел небольшого роста человек с надвинутым на голову капюшоном и вполголоса произнес:
— Вас ожидает дама.
— Меня? — удивленно прогремел Бол.
— Да, вас.
— Где она?
— Идите за мной.
Освещая фонарем дорогу, человек пошел вперед.
Бол следовал позади, раздумывая, кто бы это мог быть.
Они спустились вниз. Сопровождавший Бола незнакомец открыл ключом дверь, ведущую в узенький темный коридор. В конце его со свечой в руках стояла женщина. Свечу она держала прямо перед собой, и колеблющийся от дыхания свет мерцал на ее лице. Бол сразу же узнал красавицу Ульку. Не задумываясь о ее странном появлении и не включив предупреждающего гравилокатора, он поспешил к ней. Женщина, услышав шаги, доносившиеся из темного коридора, тотчас скрылась за поворотом. Слабый свет и тень Ульки поползли по стене и пропали. В этот момент Бол почувствовал, что проваливается.
Спустя некоторое время, сперва в начале коридора, а затем в конце его, послышались скрипы закрываемых тяжелых дверей, щелчки замков, и все стихло.
Прошло около минуты, пока блок самовосстановления включил аварийное питание и к Болу начало возвращаться сознание. Сначала он не мог понять, что произошло, но по мере того, как блоки разума начали действовать, сообразил: его заманили в ловушку. Он попытался было позвать на помощь, но вместо могучего крика с трудом выдавил из себя еле слышный шепот.
XII
Утром следующего дня гемен Арчибал собрался поохотиться на диких свиней и решил пригласить с собой Бола. В комнате его не оказалось. Хозяин замка велел разыскать Сиуса, но и тот не видел Бола с вечера. К тому же, заверил монах, для тревоги нет оснований. С таким богатырем и кудесником случиться ничего не может. Обыскали весь замок, но Бола не нашли. Гемен Арчибал лично допросил ночных стражей — те клялись: ворота в замок, как всегда, были закрыты с вечера и из замка никто не выходил. Обеспокоенный Пул сообщил предводителю: Бол вечером собирался прийти к нему посмотреть звездное небо, но так и не зашел. Раздосадованный Арчибал поручил Сиусу и Пулу продолжать розыски Бола, а сам в сопровождении отряда ускакал в лес.
Весть об исчезновении Небожителя дошла до поселка. Обеспокоенные поселяне собрались на площади перед крепостью. Одни говорили: святому на Эмине не понравилось, и он вознесся на небо. Другие утверждали: его похитили церковники.
В то утро Улька проснулась довольно поздно. Она долго не вставала, нежась в кровати, как в славные молодые годы. Тело не болело и было наполнено силой и радостью бытия. Она уже забыла о странном приказе, который ей пришлось выполнить под угрозами Сиуса, и всецело отдалась приятным мечтам о чудесном Небожителе, подарившем ей вторую молодость.
Улька была не только полна благодарности и восхищена мужеством, силой и добрым нравом богатыря, но, обладая пылкой натурой, влюбилась в него со страстью молодости.
Услышав об исчезновении святого, она задумалась.
Не использовал ли ее вчера Сиус для приманки Оло?
Эта мысль привела ее в ужас. Не страшась угроз монаха, под строжайшим секретом она поделилась своими опасениями с Сэмом, которому приходилась бабкой.
К тому же, по рассказам солдат и поселян, а также самого Сэма, он первым встретился с богатырем и был его другом.
Сэм тотчас поспешил к Пулу. Пул, в свою очередь, сообщил об этом кузнецу, а тот — Бугу.
Еще не наступил полдень, а друзья Бола собрались в кузнице. Выслушав рассказ Ульки, кузнец сказал:
— В середине коридора, где ты стояла со свечой, сделан скрытый люк в глубокий колодец. Лет пять назад Арчибал приказал мне поставить заглушку к люку колодца, дабы никто туда не упал. Если Сиус сам или с помощью Сэнса вытащил заглушку, Бол мог провалиться.
— Такому храброму и ловкому богатырю никакой колодец не страшен, — уверенно заявил Сэм.
— Обожди, обожди, Сэм, — вступил в разговор Пул. Помню, когда Бол разговаривал со мной в библиотеке, то заявил: с ним на Эмине сделать ничего не смогут, если он не упадет с большой высоты. Мне кажется, во время нашего разговора Сиус стоял за дверью. Бол говорил громко. Монах, наверное, слышал и все подстроил.
— К колодцу есть подземный ход, — сказал кузнец. Он перекрыт двумя железными дверьми. От первой двери, у входа в подземелье, ключ у меня есть. А от второй, которая недалеко от колодца, ключ в связке у Касиуса.
— Я вытащу у него ключи, — сказал Буг.
— Это сделать непросто, да и не стоит, — возразил Пул. — Процектору инквизиции известно, где находится Бол, и ключи, конечно, он спрятал. Если Касиус обнаружит пропажу ключей, встретиться с Болом нам будет труднее.
— Мне кажется, прутья на внутренней двери расставлены редко и Сэм с Эми смогут пролезть через них и переговорить с Болом, — заметил кузнец.
Операцию друзья решили начать сразу же после обеда, когда Касиус и монах отдыхают. Кузнец откроет первую дверь и по подземному ходу доведет Сэма и Эми до внутренней двери. Ребята пролезут через нее, а он будет ждать их возвращения. Буг спрячется за первой дверью и будет охранять вход в подземелье. В это время Пул станет наблюдать за опочивальней процектора. Если он заметит церковников у подземного входа, то постарается отвлечь их внимание.
Через час, освещая дорогу фонарем, кузнец, согнувшись, протискивался через низкий, узенький тоннель.
Ребята, держась за руки, шли позади. Было сыро и душно. Со стен и потолка, покрытых плесенью, сочилась вода, собираясь на полу. У Сэма и Эми обуви не было, и они шлепали босыми ногами по студеным лужам. Иногда путники слышали дробный топот и писк крыс и замечали быстро снующие темные тени. Эми дрожала от страха, и Сэм крепче стискивал ее руку.
С трудом они достигли небольшой двери, изготовленной из толстых железных прутьев. В этом месте туннель поднимался вверх и было сухо. Кузнец, подняв фонарь, пропустил ребят вперед. Эми легко проскользнула между прутьями и встала по другую сторону двери, поджидая Сэма. Однако для Сэма отверстия оказались недостаточными, и он никак не мог через них протиснуться. Мало того, стараясь изо всех сил, он в конце концов застрял. Кузнец могучими руками пытался раздвинуть прутья, а Эми, помогая своему приятелю, тащила его к себе. Кончилось это тем, что Сэм немного продвинулся вперед и застрял окончательно. Остерегаясь отпустить прутья, которые могли еще больше зажать Сэма, кузнец, обливаясь потом, продолжал растягивать их. Однако руки его постепенно слабели, а прутья стали на место, сжав мальчишке грудь.
— Эми, — прохрипел вконец расстроенный кузнец, бери фонарь, беги к Бугу за подмогой.
Несмотря на страх встретить крыс, девочка молча взяла фонарь и, подняв его перед собой, помчалась к выходу. Слабый мерцающий огонек растаял в темноте, а вместе с ним заглох и плеск воды. Прошло несколько минут, и Сэм услышал: впереди, за дверью, что-то зашевелилось. Затаив дыхание, он прислушался. Рядом тяжело дышал уставший кузнец, а в темноте что-то ворочалось.
— Там кто-то шевелится, — испуганно произнес Сэм.
Однако от многолетнего грохота молотов кузнец слышал плохо и громко ответил Сэму:
— Это тебе показалось. — Немного помолчав, он добавил: — Колодец рядом, может, это шевелится Бол?
— Дядя Бол, дядя Бол, — вполголоса, испуганно бросил в темноту Сэм.
Никто не ответил, но шорох усилился. Теперь его услышал и кузнец.
Прислушиваясь к странной возне, они, казалось, прождали целую вечность. Но вот вдалеке мигнул огонек. Раскачиваясь из стороны в сторону, он становился ярче. Послышались быстрые шаги, и перед ними появились запыхавшийся Буг и Эми.
Двое могучих эминцев растянули прутья, и Сэм мигом выбрался по другую сторону двери. Эми не мешкая пробралась к своему товарищу. Однако большой масляный фонарь с окошками из стекла никак не пролезал. Сэм взглянул на дрожавшую девчонку и, хотя сам очень боялся привидений, сказал:
— Я пойду один.
Но Эми покачала головой и, взяв его за руку, шагнула в темноту.
Что-то большое заворочалось уже рядом. Ребята остановились, молча сжимая друг другу руки. В этот момент откуда-то сверху, чуть слышно, донесся знакомый мотив: «тум-тум, тара-тум».
— Дядя Бол, дядя Бол! — уже не остерегаясь, крикнул Сэм.
В ответ послышался шепот, но такой тихий, что нельзя было разобрать слов. Шепот умолк — и снова в тишине: «тум-тум, тара-тум». Ребята, вытянув руки, продвинулись вперед и — нащупали два металлических столба. Столбы в такт пению медленно покачивались из стороны в сторону.
— Да это ноги дяди Бола, — сообразил Сэм. — Веселым мотивом и покачиванием ног он показывает, что узнал нас.
Продолжая ощупывать колодец, ребята наткнулись на железную лестницу и поднялись по ней наверх.
Здесь уже можно было разобрать шепот Бола.
— Милые молодые мыслящие существа. Мой атомный источник энергии вышел из строя. Я еле существую на слабом запасном. Если через двенадцать часов Бол не получит нового источника, он превратится в груду железа.
— А где можно достать этот источник? — спросил Сэм.
Робот снова начал повторять:
— Милые молодые мыслящие существа…
Очевидно, блоки его разума из-за недостатка питания действовали с перебоями и он часто забывал, о чем говорил перед этим.
— Дядя Бол, вы уже это говорили, — перебил его Сэм.
— Да-да. Возьмите у кузнеца лошадь и скачите к полю с красными цветами, где впервые, впервые, впервые увидел меня разумный юноша Сэм.
Повторяясь по нескольку раз, Бол все же добрался до конца, и ребята запомнили, каким путем они могут раздобыть источник.
Дети спустились вниз и поспешили к кузнецу и Бугу. Две пары сильных рук раздвинули прутья, и Сэм быстро пролез на другую сторону двери к проскользнувшей туда Эми.
— Нашли Бола? — спросил кузнец.
— Нашли, нашли, — в один голос ответили ребята.
С разговорами о случившемся они выбрались наверх и заперли за собой входную дверь.
— Ключ от двери нужно спрятать здесь, у входа, сказал Пул. — Неизвестно, как обернется дело и кто из нас быстрее вернется к Болу.
XIII
Не прошло и получаса, как по дороге к полю красных ромашек уже мчались три всадника. Первым, на гнедом жеребце, скакал чернобородый богатырь. Позади, ухватившись за его куртку, сидел босоногий мальчишка. Вторым, на небольшой серой лошадке, неловко подпрыгивая в седле, с сумкой на плече восседал высокий старик. Замыкая отряд, на огромном коне темной масти, придерживая рукой сидящую впереди худенькую, белокурую девочку, несся заросший до глаз рыжеволосый детина. У вытканного цветами ярко-красного поля всадники спешились. Пул, разбитый непривычной ездой, охая, с трудом и не без помощи Буга и кузнеца сполз с седла.
Вокруг так же плыл зной, так же пряно пахло ромашками, а в бездонной синеве заливались жаворонки.
За последние два дня, вместившие в себя столько удивительных событий, здесь ничто не изменилось. И Сэму казалось — вот-вот откуда-то сверху раздастся веселый мотив и из-за деревьев появится голова Бола.
Ребята полезли на холм, позади карабкался Пул, которому помогал кузнец. Буг с лошадьми остался внизу.
Ребята часто останавливались, поджидая взрослых.
— Сэм, возьми — карты, — запыхавшись, попросил Пул.
— Зачем они вам? — принимая сумку, спросил Сэм.
— С высоты хочу сверить, правильно ли они составлены, — ответил Пул.
Достигнув вершины холма, путники вышли на поляну, в центре которой была набросана гора ветвей с увядшими листьями… Сняв ветви, они обнаружили большую, прозрачную, закрытую со всех сторон лодку. Лодка стояла на двух птичьих лапах из серебристо-матового металла. Внушительных размеров, блестящие, выпуклые глаза, под которыми проглядывала странная, похожая на рот прорезь, вместе с птичьими ногами производили устрашающее впечатление. Эми прижалась к кузнецу, а Сэм, сдерживая страх и успокаивая больше себя, чем других, заявил:
— Бол говорил, что эта лодка только с виду похожа на дракона, а на самом деле смирная.
— Лодка не может быть злой, — подтвердил Пул и слегка постучал по ее борту.
Раздался тонкий, медленно затухающий звон. Внутри замигал слабый желтый огонек.
— Звенит, как маленький колокол на часовне, сказал кузнец и изрядно хлопнул могучей ладонью.
Лодка зазвенела громче. В ней замигали уже два огонька, и кто-то внутри недовольным голосом быстро произнес несколько непонятных слов. Вслед за этим птичьи ноги зашевелились, и лодка отошла в сторону.
Звон затих, а огоньки в ее утробе погасли.
— Не сердись, — примирительно сказал кузнец, больше стучать не будем.
Сэм, на правах поверенного, с опаской вставил пластинку, которую дал ему Бол, в щель, обведенную желтым кружком. Борт лодки неслышно сдвинулся в сторону, образовав широкий проход, птичьи ноги подогнулись, и лодка, как настоящая живая птица, присела на землю. Сэм с сумкой на плече, взяв Эми за руку, осторожно ступил на борт. Пул и кузнец с тревогой следили за ними.
В носу лодки стояла широкая прозрачная доска, сплошь уставленная разноцветными пуговицами и рычажками. Когда они вошли, две пуговицы вспыхнули зелеными огоньками, а две тревожно замигали красным светом. Ребята остановились у двух огромных кресел, расположенных у доски. «Наверное, здесь сидят такие же великаны, как Бол», — подумал Сэм.
— Бол объяснял, — тихо сказала Эми, — когда мы усядемся, нужно нажать на желтую пуговицу на левой стороне доски. Тогда лодка сама взлетит и направится к большому кораблю, плавающему в небе.
— Эту? — спросил Сэм и, взмахнув рукой, слегка ткнул в большую желтую пуговицу на краю доски.
Неожиданно проход закрылся, а красные огоньки погасли. Сэм и Эми не поняли, когда лодка начала подниматься в воздух, настолько быстро и незаметно это произошло. Их лишь немного прижало к полу, а верхушка холма, которую они видели через прозрачное дно лодки, вместе с кричавшими что-то Пулом и кузнецом начала проваливаться вниз.
У подножия холма проплыли игрушечные лошадки, около которых стоял маленький Буг, и все начало быстро расширяться по сторонам и уменьшаться в размерах.
— Сэм, останови лодку! Мы должны лететь вместе, — испуганно закричала Эми.
— Я не знаю, как ее остановить, — растерянно ответил Сэм. — Бол не говорил об этом!
Между тем поле с ромашками превратилось в красное пятно, окаймленное желтыми полосками пшеницы.
Далеко в стороне появился и тут же растворился в дымке неясный силуэт крошечного замка гемена Арчибала.
— Взгляни наверх! — воскликнул Сэм.
Эми подняла голову и увидела, что, несмотря на яркое солнце, небо над ними почернело и на нем появились звезды. Прекрасное голубое небо Эмины стало неуютным, если не мрачным. Однако под углом оно еще выглядело бледно-голубым.
— Почему оно почернело? — спросила Эми.
— Не знаю, — чуть слышно ответил Сэм. — Может, оно всегда такое, а снизу кажется другим?
— Наше небо доброе и красивое, а это чужое и страшное, — вполголоса произнесла Эми.
Внизу среди лесов и полей появилась извивающаяся зеркальная лента. Она соединялась с огромным блестящим блюдом с неровными, будто изрезанными, краями.
Блюдо тянулось бесконечно далеко и терялось в колеблющейся дымке. Сэм раскрыл карты. Пула и, глядя то на них, то на расстилающуюся внизу панораму, начал объяснять:
— Лента — это река Энга, а блюдо — Зеленое море.
На картах берег выглядит по-другому. Жаль, у меня нет краски и кисточки или хотя бы грифеля. — Сэм задумчиво поводил пальцем по карте и оглядел лодку в надежде найти грифель.
Неожиданно откуда-то сверху к нему протянулся гибкий металлический шнур. На конце его были зажаты несколько листков бумаги и черная тонкая палочка — по-видимому, грифель. Сэм, подняв руки, с поклоном поблагодарил заботливого опекуна и торопясь начал поправлять карту Зеленого моря, Эми не отрывала глаз от убегавшей вниз картины. Вскоре море сжалось и превратилось в небольшое блюдце, за которым с надвинутыми на вершины снежными шапками выросли гигантские горы. В стороне от них расстилалось еще одно, по-настоящему бескрайнее море.
— Океан Бурь, — потрясенный величием планеты, громко произнес Сэм.
Края картины все больше изгибались книзу. Из плоской она стала выпуклой, и вскоре под ними оказался немыслимой величины шар. То ли они летели над ним, то ли шар поворачивался сам, но на нем появлялись все новые, неизвестные Сэму и не обозначенные на картах территории.
— Какая она большая, наша Эмина, и совсем круглая, — с изумлением прошептал Сэм.
Между тем остроглазая Эми заметила впереди что-то блестящее на солнце. «Оно» быстро увеличивалось и превратилось в огромное сооружение, напоминавшее колесо. Вместо спиц в колесе виднелись большие шары, заделанные в сплошной диск. Висевший в пространстве волшебный замок оказался таким большим, что закрыл собой все впереди. Лишь через крышу в корме лодки на черном бархате неба просвечивала россыпь заезд, а внизу виднелся кусочек Эмины. Гигантская стена с внешней стороны колеса открыла ярко освещенный металлический зев. Лодка вошла в него, зев сомкнулся, и путешественники очутились в длинном, наглухо закрытом тоннеле из слабо светящегося серебристого металла. Лодка присела, а створки ее дверей раскрылись.
Сэм взял Эми за руку, и они вышли. Стена перед ними сдвинулась, освободив проход в широкий, залитый светом коридор. На одной его стороне висели портреты улыбающихся людей. Вторая была пустой. В конце коридора им преградила путь глухая стена. Когда они подошли ближе, стена опустилась и перед ними возник необъяснимо странный зал. Он был такой необъятный, что в нем уместился бы замок гемена Арчибала со всеми башнями. В левой его половине висел большущий шар планеты Эмины. Точно такой, какой они видели с лодки: с океанами, сушей и плывущими белыми облаками. По шару скользил тонкий, пронзительно яркий лучик. Когда лучик упирался в океан, в зале вздымались волны, завывал холодный ветер, с криками носились чайки. Казалось, еще мгновение — и бушующее море хлынет на ребят. Но лучик бежал дальше и останавливался на суше. Зал превращался в бескрайнее поле или лес. Ветер шевелил траву, качал деревья.
Почти рядом олень объедал, ветку березы. Неожиданно лучик остановился на каком-то селении. Сэм хотел отпустить руку Эми и войти в поселок, но девочка крепко держала его, и они вошли вместе.
Ребята вступили на выложенную песчаником улицу небольшого селения. Перед ними, не дальше как за двести локтей, стояла чуть покосившаяся, с вывалившимися кое-где кирпичами, маленькая деревенская церковь. На красной черепичной крыше, поросшей темно-зеленым мхом, горланили вороны. По ступенькам с паперти церкви спускался мужчина в широкой коричневой куртке с начищенными медными пуговицами, в кожаных штанах и грубых башмаках. За ним, опустив голову, шла женщина в темной, доходящей до туфель накидке.
Ребята подошли к мужчине. Он шел медленно, глядя — перед собой, и тяжело, со свистом, дышал. Красное лицо его было сосредоточенным, даже угрюмым.
— Скажите, как называется это селение? — спросил Сэм.
Мужчина будто не слышал вопроса и, стуча коваными башмаками по песчанику, прошел мимо. Сэм обратился к женщине, но и та не удостоила его ни ответом, ни взглядом. Тогда он, расставив руки, остановился перед мужчиной. Тут Сэма обдало жаром. Сначала мужчина, а за ним и женщина прошли через него. Он не почувствовал даже прикосновения их тел. «Значит, они не слышат и не видят нас», — подумал Сэм.
— Сэм, мне страшно, — прошептала Эми. — Скорей уйдем отсюда!
Лучик будто ожидал их возвращения. Он снова зачертил по планете, и селение исчезло.
— Если бы мы пришли позже, то остались бы в чужом месте и нас там никто бы не увидел и не услышал. Ты не знаешь, что было бы тогда с нами? — спросила Эми.
— Не знаю. Может, это нам казалось, что мы были там, — ответил Сэм. — Наверное, на этом сказочном корабле и зал сказочный.
— Нужно торопиться. Если мы опоздаем, Бол умрет. Быстрее пойдем за источником, — сказала Эми.
Ребята вышли из зала и подошли к большому желтому металлическому шкафу с многочисленными цветными пуговицами и знаками.
— В желтом шкафу лежат источники, — заявил Сэм. — Я буду нажимать пуговицы, как объяснял дядя Бол, а ты смотри, правильно ли я делаю.
Казалось, Сэм проделал все, о чем рассказывал Бол, но шкаф не открывался.
— Дядя Бол предупреждал: прежде чем нажимать кнопки, нужно повернуть рычажок на верху шкафа, сказала Эми.
Замечание Эми оказалось справедливым. Шкаф открылся. Внутри в прозрачных гнездах вертикально стояли ярко-желтые металлические патрончики размерами с небольшой грифель. На каждом патрончике был номер.
— Может, на всякий случай возьмем два? — спросил Сэм. — Вон сколько их тут!
— Дядя Бол просил только один. Второй брать нельзя, — твердо произнесла Эми.
XIV
— Ваше преосвященство, важные новости, — с озабоченным видом произнес Сиус, входя вместе с Сэнсом в покои процектора.
— Что еще? — хмуро бросил Касиус.
— Пусть расскажет сам, — кивнул в сторону Сэнса Сиус.
— Они все удрали! — выпалил Сэнс.
— Кто все?
— Буг, Пул, кузнец, мальчишка Сэм и девчонка Эми, которую хотели казнить.
— Разве она уже поправилась? — повел глазами в сторону Сиуса процектор.
— Это все бальзам Бола, — ответил Сиус.
— Вместо того чтобы лечить короля и его приближенных, он извел бальзам на преступницу, — с негодованием произнес Касиус. Немного помолчав, он спросил: — Куда они направились?
— Не знаю, — ответил Сэнс. — Сели на лошадей и ускакали полчаса назад. Может, Улька им все рассказала и они встретились с Болом?
— Каким образом они могли попасть к нему? Дверь в коридор и подземелье заперта, а ключи у меня, — ответил процектор.
— Кузнец мог изготовить новые ключи, а может, у него были вторые, — заметил Сэнс.
— Нужно поговорить с Болом и все разузнать, предложил Сиус.
— Думаете, расскажет?
— Такой простак расскажет, обязательно расскажет, — заторопился Сиус. — Думаю, ему и невдомек, что в колодец он попал по нашему замыслу!
— А если он уже все знает?
— Это мы сразу обнаружим. Нужно быстрее выведать, куда и зачем поскакали его друзья.
— Ульку следует немедленно изолировать, — задумавшись, сказал процектор. — Неизвестно, как повернется дело. Пусть она будет у нас под рукой.
— Сиус, от моего имени распорядитесь об ее аресте.
XV
Энергии в аварийном источнике оставалось совсем немного, но блоки логики хотя и медленно, с перебоями, но еще работали. Бол ожидал своих друзей не раньше, чем к вечеру, поэтому удивился, когда услышал сверху из коридора крик:
— Бол, Бол, вы здесь? Отзовитесь!
Робот несколько раз ответил шепотом, но наверху, наверное, не слышали. Тогда он медленно постучал по стене колодца.
— Стучит, значит, живой, — прошептал Сэнс.
— Выходит, совсем потерял силу, раз ни кричать, ни говорить не может, — добавил Сиус.
— Сэнс, открой люк, — приказал процектор.
Опустив фонарь, они увидели голову робота.
— Как вы сюда попали? — громко произнес Касиус. — Мы ищем вас весь день.
Снизу чуть слышно донеслось:
— Я и сам не могу понять. Эта красивая девушка Уля заманила меня сюда. Мои блоки логики не могут найти объяснения ее поступку.
— Женщин понять непросто, — вставил Сиус.
— Бол, мы сделаем все, чтобы помочь вам выбраться отсюда! — воскликнул Касиус. — А Ульку я накажу.
— Нет, нет, наказывать не надо. Я сам поговорю с ней и узнаю, почему она это сделала. А помогать мне не нужно. Я уже послал своих друзей за источником энергии.
— Кто ваши друзья? — спросил Касиус.
— Разве вы не знаете? — простодушно ответил робот и рассказал о встрече с Сэмом и Эми.
— Бол, мы подумаем, как вас вызволить, — неожиданно заторопился процектор, — но некоторое время придется вам побыть одному.
С этими словами люк захлопнулся, а немного спустя послышался скрип запираемой двери.
— Сиус, возьмите людей и вместе с Сэнсом скачите к полю красных ромашек, — приказал процектор. Нужно захватить заговорщиков до возвращения Арчибала. В первую очередь отнимите у них источник, который ждет Бол.
XVI
Лодка стремительно возвращалась к полю красных ромашек. Сэм поминутно ощупывал драгоценный источник, завязанный в рубахе. Путешествие на плавающий в небе волшебный замок ребятам казалось сказочным сном. Однако после этого они стали смелее и наблюдательнее.
Еще раньше, когда лодка поднималась с холма, Сэм заметил около своего кресла удивительную палку с рукояткой на конце. Палка сама по себе поворачивалась из стороны в сторону. Когда она поднималась вверх, лодка тоже начинала двигаться вверх. Если она наклонялась влево или вправо, то и лодка двигалась туда же.
«Выходит, палка управляет лодкой», — решил Сэм.
Он осторожно взял палку и задержал в руках. Палка подчинилась его воле, и лодка поворачивалась в ту сторону, куда Сэм двигал палку.
Подлетая к холму, лодка на некоторое время зависла на месте. Сэм успел заметить: Буг исчез, а в зарослях появились другие лошади. Их было не меньше десяти. Рядом с ними четверо людей. Кузнеца и Пула среди них не было.
— Засада! — закричал Сэм.
Но лодка, вытянув лапы, уже садилась на холм, а из чащи бежали солдаты.
— Сдавайтесь, или мы разломаем вашу дьявольскую птицу! — закричал старший и ударил рукояткой меча о борт.
Лодка зазвенела и отошла в сторону. Солдаты засмеялись. Под градом обрушившихся на нее ударов лодка заметалась и зазвенела сильнее. Это лишь подзадорило солдат. Грохот и звон внутри стали невыносимыми.
— Я подниму лодку! — крикнул Сэм.
Эми успела только взглянуть на товарища, а Сэм уже сдвинул палку вверх. Лодка тут же поднялась и зависла над головами солдат. Нападающие загрохотали снизу. Сэм смелее потянул ручку вверх. Лодка подпрыгнула локтей на сто, отчего ребят с силой вдавило в кресло.
— Теперь к замку гемена Арчибала! — крикнул Сэм и немного подвинул рукоятку вперед.
Внизу мелькнули что-то кричавшие солдаты, и лодка бесшумно заскользила над дорогой под возгласы задиравших головы поселян. Эми сидела рядом, не спуская восхищенных глаз с мальчика. Сэм с независимым видом подвинул ручку вперед, отчего лодка засвистела, рассекая воздух, а Эми нахмурила брови и покачала головой.
Вместо двух часов утомительной скачки всего лишь несколько минут понадобилось ребятам, чтобы добраться до замка. Сэм под крики перепуганных слуг посадил лодку в центре крошечного дворика. Ребята выскочили из лодки и помчались к подземелью. Вскоре, вытянув руки, они уже шагали в темноте узкого хода. Сэм не мог пролезть между прутьями, и Эми одна пробралась на другую сторону решетки. Дрожа от страха, не выпуская руки Сэма, она стояла за перегородкой.
— Иди, не бойся, я буду громко петь, а ты думай, что я рядом.
— А что ты будешь петь? — неожиданно спросила Эми.
— Вот это. — Сэм с шумом потянул воздух, надул щеки и запел: — Трум-тум, тара-тум.
— Только пой все время, тогда я не буду бояться.
Эми сжала руку мальчика и с завязанным в косынку желтым патрончиком, ощупывая стены, под звуки песенки товарища пошла к колодцу.
— Дядя Бол, дядя Бол, я принесла источник, я принесла источник! — кричала Эми.
В ответ доносилось лишь «трум-тум» надрывающегося Сэма. Девочка добралась до ног робота и, продолжая кричать, начала стучать по ним. Бол не двигался.
Эми хотела было заплакать, но Сэм так громко пел, стараясь ее подбодрить, что она раздумала. В это время одна нога Бола медленно сдвинулась с места, показывая девочке, что робот еще жив и, наверное, понял ее.
Эми разыскала железную лестницу и по тонким, режущим босые ноги перекладинам поднялась наверх. Нащупав холодную, твердую кисть робота, она вложила в нее спасительный патрончик. Кисть оставалась неподвижной.
Эми ждала. Руки и ноги ее застыли и затекли от неудобного положения, а Бол не подавал признаков жизни. Если бы не песенка порядком охрипшего Сэма, теперь бы она обязательно заплакала. Девочка долго держала источник в руке робота, пока не почувствовала, что кисть его начинает медленно сжиматься.
«Только бы не потерял, только бы не потерял».
Мысль, что Бол потеряет источник и ей придется искать его на полу в темноте среди крыс, приводила ее в ужас.
Эми спустилась вниз и стала ждать. Через несколько минут наверху что-то щелкнуло, а вслед за этим могучий голос робота потряс подземелье:
— Милое молодое мыслящее существо! Ты спасла бедного Бола, и Бол никогда не забудет этого! А теперь уходи быстрее. Когда я буду выбираться, то могу обвалить не только колодец, но и весь подвал!
Голос Бола донесся не только до ушей Сэма, но и до опочивальни процектора. Опасаясь разоблачений, Касиус, сопровождаемый Сиусом и несколькими солдатами, спешно покинул замок.
Вскоре в основании замка послышался гул, похожий на землетрясение, а во внутреннем дворике крепости раздалось веселое «трум-тум, тара-тум». Вслед за этим появился, весь в паутине и извести, улыбающийся Бол.
XVII
Гемен Арчибал вернулся в замок лишь на следующий день к обеду. Узнав, что Бол нашелся, он несказанно обрадовался, а когда ему сообщили об отъезде Касиуса, обрадовался вдвойне. После обильного обеда, на котором присутствовал Бол со своими друзьями, гемен Арчибал прилег отдохнуть. Нетрудно догадаться, что самое неприятное для Арчибала время было, когда обед уже кончился, а ужин еще не начался. Арчибал не любил эти, по его мнению, пустые часы и, чтобы как-то скрасить их, неукоснительно посвящал сну. Даже во сне он что-либо жевал. И на этот раз едва он задремал, как тут же увидел сон, будто закусывает паштетом из обожаемой им гусиной печенки.
— Гемен Арчибал, гемен Арчибал, вставайте! К вам прискакал гонец от короля, — кричал слуга, тормоша круглое тело хозяина замка.
Однако доблестный гемен, решив, что у него отнимают любимое блюдо, схватил его двумя руками.
— Да отпустите же! — протестовал наклонившийся к гемену Арчибалу гонец. — Что вы вцепились в меня, как клещ!
Размахивая приказом, гонец нечаянно провел грамотой под носом Арчибала. Предводитель чихнул и проснулся. Посланник короля не мешкая развернул грамоту и прочитал:
«К нашим священным границам приблизилось войско ненавистного Балибала! Повелеваю всем вассалам со своими отрядами немедленно прибыть в мой лагерь!
Король Алибал».
XVIII
Две армии, готовые ринуться друг на друга, ждали приказов своих королей. Армия великого и непобедимого Алибала с сине-красно-зелеными знаменами стремилась к тому счастливому мгновению, когда ей разрешат броситься на этих отвратительных балибальцев, чтобы дружно умереть или, на худой конец, покалечиться во славу своего любимого правителя.
Армия тоже великого и тоже непобедимого Балибала под зелено-красно-синими знаменами с таким же нетерпением стремилась к той же счастливой минуте с не менее священной ненавистью к гнусным алибальцам.
Чуть в стороне, между враждующими лагерями, стоял небольшой холм, покрытый невысокой травой.
Бол создал над холмом силовое поле и поднялся по нему. Фигура расхаживающего по воздуху S-leoo/Kii-ie-iri стала видна обеим армиям.
Подняв могучие руки, робот закричал так, что зазвенело в ушах каждого солдата:
— Верите, что я Святой Оло?!
— Верим, верим! — пронесся сдержанный гул.
— Верите, что я желаю вам добра?
— Верим, Оло, верим!
— Так вот, — начал со своего излюбленного выражения Бол. — Я поразмыслил над причинами, которые побудили вас здесь собраться, и нашел их несостоятельными. Если вы затеете между собой драку, я не только не буду лечить вас, но тут же покину Эмину. С помощью телепатического общения я обнаружил, что подавляющее большинство яз вас воевать не хочет, а, чтобы избежать наказания, делает вид, будто рвется в бой. Однако у вас все же есть желающие помериться силами, среди них — короли и командующие. Отныне я, Небожитель Оло, повелеваю: все войны должны проводить лично между собой только великие и непобедимые короли или непобедимые командующие. Они самые храбрые, лучше всех знают военное искусство и, чтобы прославиться и получить больше наград, рвутся в бой. И королям, и командующим я запрещаю выставлять вместо себя кого-либо. Солдатам разрешаю лишь криками подбадривать своих повелителей. Поскольку оба короля немощны и обременены болезнями, первыми будут сражаться командующие армиями. Пусть покажут свою отвагу и ловкость. Дабы они себя не поранили, я приготовил гибкие мечи. Итак, от великого и непобедимого короля Алибала выступает непобедимый генерал Алиб, а от великого и непобедимого короля Балибала — такой же непобедимый генерал Балиб.
На холм, отдуваясь, забрались закованные в броню два толстяка; на их стальных шлемах красовались по три птичьих пера: у одного — сине-красно-зеленые, у второго — зелено-красно-синие. Бол подхватил обоих на руки и, подняв над холмом, поместил в силовую защиту. Пока командующие под смех и крики солдат неуклюже тыкали друг друга детскими мечами, показывая свою несостоятельность в ратных подвигах, Бол продолжал расхаживать. Робота неотступно преследовала главная для него сейчас мысль: чем заменить эликсир, чтобы поддержать репутацию Небожителя?
Бол начал процеживать блок памяти, проверяя запас знаний, связанных со словом «эликсир». «Состав эликсира. Приготовление эликсира» — не годится: чрезвычайно сложная технология. «История создания эликсира» — не нужно. Наконец, уже на задворках памяти, он наткнулся: «Физические упражнения — эликсир здоровья». Пожалуй, это идея! Не пожалуй, а точно! Но как это объяснить эминцам? Говорить: «О здоровье нужно заботиться самим, а не уповать на Святого Оло» — бессмысленно. Эминцы религиозны. Вот если физические упражнения будет проповедовать религия, да вдобавок не кто-нибудь, а сам Небожитель Оло, дело примет другой оборот. Выходит, больше ничего не остается, как для пользы эминцев продолжать их обманывать. К тому же церковникам легче будет смириться со столь необычным нововведением, поскольку это не будет прямо идти против их учения.
Бол снова поднял руки и прогремел:
— Хотите вы исцеления от болезней?
— Хотим, Небожитель, хотим!
— Так вот, каждому, кто перед утренней молитвой будет делать упражнения, я незаметно буду вливать по капельке божественного эликсира. Чудодейственная капелька будет поступать в кровь, постепенно делая его бодрым и здоровым. Капельки эликсира будут поддерживать здоровье и бодрость каждого и сделают его жизнь легкой и веселой. Упражнения, которые я вам сейчас покажу, повелеваю называть «зарядкой — эликсиром». После зарядки не забывайте окунуться в воду или обрызгать себя водой и обтереться. Помните: в грязном теле эликсир не действует, так же как не действует он на злых и несправедливых. Перед вечерней молитвой нужно повторить зарядку или поиграть в какие-либо игры — в соответствии со своим здоровьем и возрастом. Теперь смотрите. Начинаю открывать тайну божественной жидкости. Положите оружие, снимите доспехи. Всадники, слезьте с коней. В доспехах и с оружием эликсир в теле не вырабатывается. Готовы?! Начали!
— Вначале — пробежка! — загрохотал голос над полями.
Тысячи ног сотрясли округу, а с высоты неслось:
— Присели, встали — вдох, выдох!
XIX
Бол появился на корабле ровно за сутки до пробуждения людей и окончания самовосстановления подсистемы «Зета». Теперь перед ним встала еще одна проблема: как скрыть от командира корабля самовольное посещение Эмины. По своей сути робот, отвечая на вопрос человека, не мог говорить неправду. К тому же после каждой экспедиции земные аналитики проверяли память всех роботов, и скрыть происшедшее было невозможно. Однако Бол был суперробот шестого поколения и соответственно этому обладал достаточной свободой мышления. Он вытащил из тайника подготовленный для таких случаев самодельный электронный ключ, подключил к корабельному блоку коррекции памяти свой разум и стер все следы посещения Эмины.
Когда проснулся командир корабля, он между прочим спросил Бола, куда он дел свой шарф. Бол чистосердечно ответил: «Не знаю», ибо и в самом деле теперь не помнил, что был на Эмине.
— Может, ты в свое дежурство спускался на Эмину и оставил его там? — подозрительно посматривая на робота, спросил командир. — Если ты это сделал, нам несдобровать! Ты знаешь, что Галактический Комитет строго-настрого приказал не только не вмешиваться в дела Эмины, но и не появляться там. Эта планета объявлена заповедником.
Вся команда и сам Бол долго разыскивали пропавший шарф и решили: наверно. Бол потерял его, когда выходил в космос осматривать корпус корабля.
XX
— Покидаем Эмину. На третьем витке — старт, — объявил командир.
А Бол не может оставить трансзал. Скользящий по планете пронзительно-яркий лучик переносит его то в поднебесье покрытых вечным снегом гор, то в бушующие волны океанов Эмины. Но вот лицо робота вытягивается, а затем расплывается в странной улыбке.
Если бы это был человек, такую улыбку можно было бы назвать страдальческой.
Бол оказывается недалеко от ворот небольшого замка. Из замка выезжает отряд закованных в броню рыцарей. Впереди, на белом коне, полный, добродушный предводитель. Рядом, на гнедой лошади, могучий, с лицом, заросшим рыжими волосами, солдат. Бол уверен, что никогда не видел ни этого замка, ни рыцарей, но в глубине своих эвристических блоков чувствует непонятное волнение. Оно становится сильнее, когда он оказывается в поле недалеко от замка, где ватага ребят гоняет самодельный мяч. Робот не может оторвать взгляда от босоногого мальчишки. Он не знает мальчишку, а его губы непроизвольно шепчут: «Сэм, Сэм!»
— Дядя Бол объяснял не так! — говорит своим сверстникам мальчишка.
Бол чувствует навалившуюся лавиной перегрузку своих эмоциональных блоков. Он не выдерживает и, понимая, что это всего лишь транспередача, раскрыв объятия, мчится к ним. Все это видит стоящий у входа в трансзал командир корабля.
«Этот робот слишком похож на эмоциональных людей прошлого, — думает он. — Нужно поубавить ему число эвристических блоков».
С включением двигателей транскартина Эмины тускнеет и постепенно исчезает. Лишь за кормой корабля еще виден голубой шар, превращающийся в звездочку.
XXI
Через тысячу лет, когда связь с Эминой была разрешена, ученые Объединенной Галактики узнали: еще в далеком прошлом эминцы овладели секретом ректиса, о чем свидетельствовал хранящийся в Главном музее Эмины шарф из этого материала.
Существовала и другая версия, утверждавшая: шарф на Эмину завезли неизвестные инопланетяне.
Не один десяток кораблей отправил Галактический Комитет в район Эмины, прежде чем удалось найти неизвестную цивилизацию. Однако и там ничего не знали не только о шарфе, но и о самой Эмине.
С тех пор загадками появления шарфа из ректиса и футбола с общегалактическими правилами игры занимаются многие исследователи. По этому поводу написано немало выдающихся диссертаций и научных работ, удостоенных премий и дипломов не только отдельных цивилизаций, но и Объединенной Галактики. Поговаривают, в ближайшую тысячу лет эта проблема будет решена.
Появление Небожителя Оло совпало с возникновением на Эмине культа утренней и вечерней зарядки, которая обязательно предшествовала молитве. По вечерам, перед молитвой, все играли в спортивные игры — в соответствии со своим возрастом и здоровьем.
После примирения двух армий военные конфликты на Эмине как-то сами собой прекратились. То ли из-за нежелания самим вступать в потасовку, то ли по причине занятости, но войны короли и командующие не начинали. А какие же это войны без королей и командующих?!
С тех пор Эмина стала не только самой мирной и спортивной, но и самой здоровой планетой. На соревнованиях можно было встретить эминцев, которым по земным меркам было далеко за двести.
В конце концов ученые пришли к единодушному заключению: Эмина стала планетой благоденствия лишь потому, что ни одна чужая цивилизация не внесла в нее своих пороков.
«А что стало с Болом?» — спросите вы.
Комитет земных аналитиков посчитал нецелесообразным уменьшать число эвристических блоков у суперроботов шестого поколения, к которым относился Бол.
По мнению комитета, такие роботы компенсируют всевозрастающую рассудительность и прагматизм людей.
АЛЕКСАНДР ШАЛИМОВ ВЕСТНИК Рассказ
Интервью не шло… Бывает же так — не подбирается ключ к собеседнику. Правда, меня предупреждали: Ирина Викторовна — человек трудный, суха, лаконична, погружена в свою радиоастрономию, предпочитает говорить формулами… Что поделаешь, ученый с мировым именем, без пяти минут академик. Может, она такая и есть, а может, придумала себе «странности» и закрывается ими, как ширмой, чтобы ей не мешали работать…
Получалось, что такая и есть в действительности.
Все вопросы я обдумал заранее, провентилировал с ответственным секретарем, согласовал с Главным, а она — на каждый вопрос три слова. И вроде все исчерпано, все должно быть ясно и мне, и… читателям. Ну, была в Штатах, в Пуэрто-Рико, выступала на форуме радиоастрономов. Ах, меня интересует программа — вот у нее есть лишний экземпляр тезисов на русском языке, могу взять себе… Нет, особенно интересного ничего не было. Будни науки… А в самих Штатах?… Нет, тоже ничего нового по сравнению с прошлыми поездками. Отношение?… Со стороны коллег по профессии превосходное, а остальное ее не интересовало. Настроение рядовых американцев перед выборами? А какие выборы?…
Я даже вспотел. Просто непробиваема! Был у меня в запасе еще вопросик, но теперь я не решался его и задавать. Отошьет, как бобика. Получалось, что надо заканчивать разговор… Она уже дважды как бы невзначай на часы взглянула.
Да-а, не похвалят в редакции… В поисках спасительной нити, которая помогла бы хоть как-нибудь завершить неполучавшееся интервью, я уже в который раз оглядывал ее кабинет. Ничего особенно интересного там не было. Большой письменный стол, несколько потертых кресел, стеллаж во всю стену, набитый книгами, папками, пачками запыленных библиографических карточек. Окантованные фотографии радиотелескопов на противоположной стене. Журнальный столик в углу, но на нем не журналы, а какие-то бумаги, кофеварка и огрызок яблока на тарелке. Особенного беспорядка не было, но и порядка, который мог бы свидетельствовать о педантичности, тоже… В общем, кабинет как кабинет, каких множество в любом научно-исследовательском институте. Единственное, за что можно было бы хоть как-то зацепиться, но что определенно не имело отношения к радиоастрономии, это чучело большого головастого ворона под стеклянным колпаком. Оно стояло в обрамлении книг на верхней полке стеллажа. Ворон был весь черный с проседью. Его массивный темно-серый клюв был приоткрыт, а обращенный ко мне круглый янтарный глаз поблескивал иронически. Казалось, ворон собирается что-то сказать — что-то явно не в мою пользу…
Я вздохнул и перевел взгляд на хозяйку кабинета.
Она немного нахмурилась, очевидно ожидая вопросов о вороне. Поэтому я не стал ничего о нем спрашивать, вежливо поблагодарил за интересную беседу — тут по ее лицу впервые проскользнуло что-то похожее на улыбку — и стал прощаться.
— Значит, больше у вас нет вопросов, — резюмировала она с видимым облегчением.
Наверно, это было сказано просто из вежливости, но я решил немедленно воспользоваться ее ошибкой.
— Ну, если вы не возражаете, — выпалил я, снова опускаясь в кресло, — тогда еще один вопросик — последний. Можно?
Она посмотрела на меня так, что я сразу пожалел о своем шаге, но… и ей отступать было некуда. Поэтому она сухо сказала:
— Пожалуйста.
— Как вы сделались радиоастрономом?
Она даже рот приоткрыла:
— Простите, как я — что?…
— Ну… Почему вы пошли именно в радиоастрономию? Понимаете, проблема выбора профессии. Между прочим, она очень интересует молодежь — наших молодых читателей.
— Ах вот что… Выбор профессии».
Она сделала длинную паузу, и я уже приготовился; сейчас она выдаст мне, что заслужил, и мы распростимся. Я уже приготовился встать, но она вдруг сказала задумчиво:
— Знаете, это у меня забавно получилось… Очень забавно… Если вспомнить… — Она сняла очки и прикрыла глаза. — Давно не вспоминала об этом, — добавила она совсем тихо. — И наверно, не вспомнила бы еще бог знает сколько времени. Работа сушит… Думаешь все об одном и том же. Словно шоры на мозгах. А ведь шоры эти мы сами на себя надеваем…
Она опять замолчала, а я боялся сказать что-нибудь. Боялся разорвать ниточку, которая между нами вдруг возникла. Скажу не то, что ей сейчас надо, — она тряхнет головой, опомнится и объявит, что все это к делу не относится и вообще — время дорого, в году всего тридцать миллионов секунд, нельзя их тратить на пустяки.
Поэтому я сидел молча, вытаращив на нее глаза, и ждал… А она тоже молчала, глядя куда-то поверх моей головы, и глаза у нее словно бы оттаивали. Я даже удивился: какие у нее без очков красивые глаза — большие, зеленые, глубокие-глубокие, и где-то на самом дне словно огонек или искорка светится. Я, правда, потом сообразил, что никакой это не огонек, а просто в зрачках у нее стеклянный колпак с вороном отражался. Но все равно неплохие глаза.
— Так рассказать вам, как это получилось? — вдруг спросила она, взглянув на меня как-то странно — не то с сомнением, не то с тревогой.
— К-конечно. — Я опять извлек из кармана блокнот.
— Не пишите, — она махнула рукой, — вы и так не забудете… Это… Это довольно странная история.
Она достала из ящика стола пачку сигарет, раскрыла и протянула мне.
— Спасибо, я не… того…
— А я вот часто, особенно если немного волнуюсь…
Я всегда немного волнуюсь, когда вспоминаю об этом.
Она закурила, глубоко затянулась и снова устремила взгляд куда-то поверх моей головы.
— Ну так вот, — начала она, выпуская дым, — это все из-за него получилось… Я тогда девчонкой была. Только кончила школу, собиралась поступать в университет — на археологию. Я еще в седьмом классе решила, что буду археологом… Мы в то лето жили на даче за Гатчиной. Какие там леса!.. Я потом туда часто ездила… В молодости… — Она усмехнулась.
Я хотел сказать, что она и сейчас неплохо выглядит, но… как-то не решился. Не получаются у меня комплименты.
— Было это вечером, — продолжала она, снова затягиваясь, — солнце заходило. Мы сидели за ужином на веранде — мать, отец, Яков, мой старший брат, и тетя Юлия, сестра мамы. Смотрим, а он через двор шагает к веранде, к нам. Именно шагает, припадая на одну ногу и даже не пытаясь взлететь.
— Кто? — невольно вырвалось у меня.
— Боб… Я почему-то сразу так его окрестила. Мой Боб… Ох, извините, я ведь главного не сказала… Вон он там, наверху, под колпаком, — она вздохнула, — не он, конечно, то, что от него осталось.
— Ворон?
— Да… А пришел он к нам тогда пешком, потому что стар стал, так стар, что уже ни летать, ни корм добывать не мог.
— И выбрал именно вас, вашу семью?
— Да… А не нас всех — меня. Может быть, потому, что я тогда сразу принялась его кормить. А вот тете Юлии он не понравился, и она тоже никогда не пользовалась его расположением. Вообще он оказался удивительно умным, я даже сказала бы — интеллигентным, и очень смелым. У нас был пес на даче — молодая немецкая овчарка Том — любопытный до настырности и еще глуповатый, как все молодые собаки. Он очень заинтересовался Бобом и сразу попытался завести с ним знакомство. Том, конечно, знал, что птиц трогать нельзя, — тетя Юлия его в этом отношении уже воспитала.
Он даже отворачивался, когда мимо него проходили куры. Но, во-первых, Боб не был похож на курицу, во-вторых, кур обычно гоняли с веранды, а этот черный незнакомец сидел теперь у всех на виду и не торопясь ужинал кашей, размоченной в молоке. Том, который прибежал с вечерней прогулки, сразу навострил уши и направился было к Бобу. На Тома прикрикнули. Он обиженно ушел в угол, прилег там и начал наблюдать за вороном. Боб продолжал неторопливо глотать кашу, не обращая на собаку никакого внимания. Тогда Том, косясь на нас, начал подползать к миске с кашей. Мы в это время следили за Бобом и совсем забыли про Тома. А он вдруг оказался возле миски, привстал и зарычал тихонько, показывая Бобу зуб с одной стороны.
Мама ахнула, но, прежде чем кто-нибудь из нас успел отогнать собаку, Боб вопросительно глянул на нас, расправил крылья и предупреждающе каркнул. Негромко каркнул, но солидно. «Смелый, черт!» — с уважением заметил мой отец. Том немного отстранился, косясь на нас и не переставая рычать.
Все дело чуть не испортила тетя Юлия. «А ты не каркай, — сердито сказала она ворону, — еще накаркаешь чего-нибудь».
Том, наверно, расценил эту реплику как поддержку.
Он ринулся было в атаку на ворона, но успел только опрокинуть миску с кашей. Боб, не отступив ни на шаг, снова взмахнул крыльями, угрожающе разинул свой большой клюв и не каркнул, нет… он зашипел на Тома, зашипел, как большой рассерженный кот. Том сначала замер на месте, а потом стал отступать, пятясь и на всякий случай прикрывая нос лапой. Помню, я даже зааплодировала Бобу. А Боб поглядел недовольно на разбрызганную кашу и принялся осторожно собирать ее клювом с пола.
Вот так мы все и познакомились. Боб остался жить у нас. Я устроила его у себя в комнате. Брат притащил деревянный ящик. Мы поставили ящик на бок, постелили сена, а внутри ящика прибили планку наподобие куриного насеста. Я посадила в это жилье Боба, и, кажется, он в принципе его одобрил… Однако он предпочитал проводить время или на ящике, или у меня на столе, возле тетрадей и учебников, особенно когда я занималась. Чтобы попасть на стол, он сначала вскакивал на свой ящик. Именно вскакивал: расправив крылья, он медленно приседал, отталкивался ногами от пола и оказывался на ящике. А с ящика таким же способом перебирался ко мне на стол. Он мог часами сидеть возле меня, следя одним глазом, как я читаю, пишу или решаю задачи. В общем, мы с ним вместе готовились к приемным экзаменам. Вскоре я так привыкла к его постоянному присутствию, что, если его не было рядом, мне чего-то не хватало и повторять материал становилось труднее.
К Якову и маме Боб относился индифферентно — шагая из комнаты в комнату, он зачастую просто не обращал на них внимания, — а вот с теткой Юлией не ладил. Заметив ее, он выпрямлялся, взмахивал крыльями и каркал по-особенному — неодобрительно и даже вызывающе. Если она начинала сердиться и замахивалась на него тряпкой или полотенцем, он не торопился уйти, начинал топтаться на месте и, наклонив голову набок, глухо бормотал что-то, презрительно косясь на Юлию одним глазом.
Первой обычно отступала Юлия. Она обиженно удалялась на кухню, ворча: «Тоже мне, зоосад устроили… Накаркает он вам, дождетесь».
На кухню, в ее владения, Боб предпочитал не заглядывать, хотя там было множество заманчивых вещей и всегда вкусно пахло. В еде он был не очень разборчив, ел то же, что и мы, но больше всего любил котлеты, особенно куриные. Не брезговал он и рационом Тома. Я не раз наблюдала, как в отсутствие пса Боб обследовал его миску. Правда, в этих случаях Боб вел себя не очень солидно. Направляясь к миске Тома, он воровато оглядывался и, выбрав там кусочек по своему вкусу, торопливо уносил в более безопасное место.
Самого Тома Боб демонстративно презирал. При встречах он никогда не уступал ему дорогу — нахохлившись, начинал сердито бормотать что-то или шипел угрожающе. И Том обходил его сторонкой, смущенно отворачиваясь и прикрывая нос лапой.
Прошло около месяца. Я очень привязалась к Бобу, и, по-моему, он ко мне тоже. Но я ясно видела, что старый ворон слабеет. Он все реже прогуливался по комнатам, и ему становилось все труднее забираться на стол. Теперь, приковыляв ко мне в комнату, он чаще устраивался на полу возле моих ног и терпеливо ждал, пока я возьму его и посажу к себе. А однажды, когда я читала, облокотясь о стол, он подошел ко мне вплотную, заглянул в лицо, словно спрашивая разрешение, затем перешагнул со стола мне на плечо. Он сделал это очень осторожно, будто знал, что может поцарапать меня своими жесткими лапами. Он устроился на плече я долго сидел неподвижно, прислонившись крылом к волосам.
Тогда я сначала даже испугалась, сама не знаю почему… Может быть, смутно ощущала приближение чего-то неведомого, какой-то удивительной тайны… Мне вдруг показалось, что Боб хочет что-то сказать мне, поэтому и устроился возле самого уха. Но он ничего не говорил. Я попыталась читать дальше, но смысл прочитанного плохо доходил до меня. Мысли путались, даже закружилась голова. Я шевельнулась, и Боб очень осторожно шагнул с плеча на стол и перебрался на свое обычное место.
«Ну, что ты хотел сказать?» — спросила я его шепотом.
Он наклонил свою большую голову и внимательно посмотрел на меня круглым янтарным глазом, словно пытаясь понять, а потом переступил с ноги на ногу, приоткрыл клюв и вздохнул.
В последующие дни он часто устраивался у меня на плече и сидел подолгу. Его уже не тревожили мои движения. Я даже могла вставать, ходить с ним по комнате. Он оставался на плече; осторожно балансируя, прижимался боком к моим волосам. Я все ждала, когда же он начнет рассказывать свою тайну…
А он молчал… Потом я поняла: вероятно, он уже ощущал холод неизбежного конца и просто искал живого тепла.
Мы знали, что Боб очень стар. Яков — он кончил в том году биофак — привез как-то к нам по делу своего коллегу-орнитолога. Тот осмотрел Боба и объявил, что ему не меньше трехсот лет. А еще он рассказал нам много интересного о повадках воронов и о том, что науке известны случаи, когда старые вороны перед своим концом приходили к людям. Боб его очень заинтересовал, он даже предложил отдать ворона к ним в институт для наблюдений. Конечно, я категорически отказалась и услышала тогда немало упреков и от Якова, и от орнитолога, что не думаю об интересах науки. Яков объявил даже, что я просто эгоистка. Но я отказалась не только из эгоистических побуждений — я поступила так и в интересах самого Боба. Я-то знала, что ему хорошо со мной. И еще неизвестно, что они могли бы придумать в своем институте… Если его дни действительно сочтены, пусть лучше он проведет их спокойно у меня…
Теперь он почти не разлучался со мной. Поклевав размоченной в молоке каши, — есть он стал совсем мало, — он плелся в мою комнату, и я сажала его на стол или к себе на плечо.
Экзамены были уже на носу, и я занималась с утра до вечера. И почему-то меня не покидала уверенность, что Боб тем или иным способом обязательно поведает мне что-то очень важное… Иногда, отодвинув книгу, я просто смотрела на него и ждала. А он глядел на меня.
И мы оба молчали…
И вот однажды со мной произошло что-то странное…
Может быть, я задремала над учебником, а может, это была галлюцинация… Перед глазами вдруг возник какой-то загадочный пейзаж. Сначала я различала его очень смутно сквозь зеленоватую пелену тумана. Постепенно туман начал рассеиваться, и я увидела город на берегу океана… Впрочем, городом его назвать было трудно: амфитеатр удивительных сооружений, напоминающих одновременно гигантские кристаллы, и соты, и старинные дворцы, и фантастические композиции из радуг. Все это жило, пульсировало, искрилось, светилось, переливалось волнами ярких и чистых красок. Эту картину мне трудно передать словами, но я прекрасно помню ее, хотя прошло много лет. Город из оживших радуг на берегу фиолетово-синего океана под зеленым небом, в котором блестели яркие звезды… Почему-то именно звезды в изумрудно-зеленом дневном небе поразили меня больше всего…
Она умолкла и прикрыла глаза, вспоминая. Затаив дыхание, я ждал, что будет дальше.
— Я никому не сказала тогда об этом, — продолжала она, мельком взглянув на меня, — даже маме, хотя от нее не имела секретов. Видение было мимолетным, как вспышка. Возникло и сразу исчезло… Однако оставило ощущение встречи с необычайным. Помню, я долго сидела в каком-то ошеломлении, пораженная и испуганная. Я старалась припомнить, где могла услышать или прочитать о чем-либо подобном. Может быть, я где-нибудь видела похожий рисунок? Но память ничего не могла подсказать мне…
Мелькнула даже сумасшедшая мысль: а что, если это Боб? Не удалось ли ему заставить меня увидеть то, что он знает? Я со страхом посмотрела на него. Он дремал, отвернувшись, уткнув свой массивный клюв между корешками книг. Круглый глаз прикрывала беловатая пленка.
«Что это было, Боб?» — спросила я его. Он чуть повернул голову, глаз приоткрылся и снова скрылся под пленкой.
«Переучилась», — решила я про себя. Однако беспокойство не покидало меня. Удивительная картина прочно запечатлелась в памяти. Достаточно было вспомнить о ней, и она тотчас возникала перед глазами — во всех подробностях: фиолетовый океан, город радуг, зеленое небо со звездами…
В тот, последний, день Боб отказался даже от своей любимой куриной котлетки. Он безучастно дремал на столе, почти не открывая глаз.
Спать я ложилась поздно: до начала экзаменов оставалось всего три дня. Перед сном я перенесла Боба в его ящик и посадила на сено. Он печально взглянул на меня и сразу прилег на бок, чего раньше никогда не делал. Я поняла, что это конец, что утром его уже не будет… Что тайну он уносит с собой…
И все-таки он немного приоткрыл ее мне…
Ночью я проснулась от резкого стука. Я глянула на часы. Было без двадцати четыре. Ущербная луна светила в открытое окно. Небо на востоке над лесом уже светлело. Я с раннего детства почему-то боюсь этого предрассветного часа и, сколько себя помню, всегда пугалась, если приходилось проснуться на границе ночи и нового дня. Я потом долго не могла заснуть, прислушивалась с замиранием сердца к таинственным шорохам уходящей ночи, вспоминала разные страхи — действительные и выдуманные, и они начинали копошиться в темных углах моей комнаты… Вероятно; в этом было что-то атавистическое… Может быть, память далеких предков с их таинственным Часом Быка? Не знаю точно… Но пробуждение на рассвете для меня и сейчас остается кошмаром. Наверное, именно поэтому я стала работать до полуночи и ложиться очень поздно… Чтобы миновать тяжкие часы разбегом первого сна.
Вот и тогда, проснувшись от стука в предрассветный час, я прежде всего испугалась. Я лежала с широко открытыми глазами и прислушивалась, не повторится ли стук. И он повторился — резкий стук в дверь. Я вскочила и уже готова была закричать на весь дом, как вдруг заметила что-то черное на полу у двери… Рассвет еще только начинался, в комнате было почти темно, но пятно у двери казалось чернее окружающей темноты. И тут я вспомнила о Бобе… Он хотел выйти наружу и стучал клювом в дверь. Я подбежала к нему, взяла его в руки, распахнула дверь и вынесла на веранду. Он тяжело дышал, прерывисто, из последних сил. Его большой клюв был широко раскрыт. Я опустила его на пол, но ноги уже не держали его — он опрокинулся на бок и, пытаясь приподняться, потянулся ко мне. Я снова подхватила его и, прижав к груди, спустилась с ним в палисадник. Восток разгорался все ярче, а над головой, в светлеющем сине-черном небе, блестели звезды Ориона и сверкал Сириус. Боб вдруг потянулся из моих рук. Я подумала, что он хочет взлететь, но он не пытался раскрыть крылья, только тянулся вверх сам, тянул шею, голову. Понимаете, вверх — к звездам, к Сириусу… Клюв его широко раскрылся в последний раз, и из горла вырвался… предсмертный крик… Нет, даже не крик, это был призыв и прощание, в нем звучали и тоска, и какая-то необыкновенная радость освобождения, и надежда, и что-то еще…
Может, конечно, все это мне почудилось, учитывая мое состояние тогда, — ведь я впервые встретилась с таинством смерти. Но в те последние мгновения, когда его голос уже затихал и голова бессильно склонилась на грудь, я вдруг с необыкновенной четкостью снова увидела тот же поразительный пейзаж — город радуг, фиолетовый океан, зеленое небо со звездами, яркими, как Сириус. Эту картину сменила иная, еще более поразительная: какое-то огромное, очень светлое помещение, утопающее в прекрасных цветах. Они повсюду — поднимаются с пола, обвивают стройные колонны, заполняют промежутки между высокими прозрачными окнами, оплетают потолок. В окнах и меж цветов на потолке видны яркое, изумрудного цвета небо, алые облака и далекие звезды. Последним ощущением был чей-то взгляд — внимательный, испытующий, взволнованный… Взгляд самого этого мира или кого-то оттуда…
Кого-то, кто скрывался среди цветов?… Я вдруг почувствовала, что для него не существует тайны, что он пронзает насквозь до самых глубоких тайников моего я…
В этом взгляде растворилось все вокруг, и я сама тоже…
Меня нашли утром на ступеньках веранды с мертвой птицей в руках. Потом я долго болела, и тетя Юлия уверяла, что это ворон накаркал. В какой-то степени она была права. Мне потом рассказывали, что в бреду я твердила, что должна похоронить Боба среди цветов в беседке, обвитой цветами… Но его не похоронили…
Брат забрал тело ворона в свой институт. Его там исследовали по всем правилам биологической науки.
Мозг и что-то еще заспиртовали, а когда я выздоровела, брат подарил мне чучело Боба, очень искусно сделанное орнитологом, который приезжал к нам летом.
О своем приключении я потом рассказала и врачу, и моим родным. Кажется, никто не принял моего рассказа всерьез. Врач покивал многозначительно и записал несколько слов в историю болезни, а Яков пожал плечами и объявил, что все их самые новейшие методики не установили при анатомировании Боба никаких отклонений от нормы. Только мозг чуть-чуть больше по весу, но это ровно ни о чем не свидетельствует… Обыкновенный старый ворон.
Кажется, одна тетка Юлия была согласна со мной, что Боб не совсем обыкновенный ворон. Когда при ней заходила речь о Бобе, она многозначительно поджимала губы и говорила: «Я ведь предупреждала. Да вы все больно умные… А он вот ведь что…» И она умолкала, показывая своим видом, что ей все ясно, да только говорить об этом она не желает.
Разумеется, в ту осень я никуда не поступила, а год спустя сдала экзамены на астрономию. И после окончания аспирантуры специализировалась по радиоастрономии. Вот и все…
— Ну и как же, — спросил я ее, — пока ничего?
Она слегка улыбнулась:
— Увы, пока ничего. Ищу… То есть ищем, — поправилась она, вставая. — Вот скоро вступит в строй еще более мощный радиотелескоп.
Она вздохнула, надела очки, и ее серьезный задумчивый взгляд снова задержался на чучеле Боба.
ФЕЛИКС ДЫМОВ НААВА Рассказ
Я услышал шум на лестнице — в дверь позвонили.
Пошел отворять. Двое в синих спецовках с усилием втащили в квартиру металлический ящик на колесиках.
— Принимайте заказ. Автоматический секретарь с двойным объемом памяти и универсальным лннгвпстором. Не передумали? — спросил один, отряхивая руки.
— Нет, нет, мне обязательно нужен информатор, — сказал я.
И приналег плечом. Ящик мягко вкатился в кабинет.
Трудно сказать, чем именно заинтересовала меня бывшая корабельная система, нынешний экспонат Архива Времен. Пожалуй, некоей меланхоличностью облика, если так позволительно выразиться о машине. В тесноватой рубке «Тополя» суженная книзу Наава наверняка смотрелась неплохо. Но, оторванная от корабля, от флотских кресел, навевала грусть, еще более ощутимую из-за отдаленного сходства ее корпуса с человеческим лицом. Сходство подчеркивали и фасеточные глаза, я выступ перфоприемника, напоминающий нос, и полусферическая впадина колоратора, которую даже человек без воображения принял бы за рот. Прибавить к этому деревянные панели под колоратором (скорбные складки у рта?), необычно расположенную клавиатуру раздельно для правой и левой рук (усталые морщинки под глазами?) — и впечатление легко объяснится…
Я подключил машину в сеть, подвинул ногой пуфик.
Переделка Наавы была ничтожной: впаяли в схему дополнительные блоки памяти да свели многочисленные жилы, змеившиеся когда-то к узлам корабля, в один кабель, напрямую связанный с Информаторием.
Сначала ожил фасеточный глаз, будто Наава невесело подмигнула половиной лица. Осторожные точки забегали в многоцветий зрачков второй «фасетки». Полыхнул и погас колоратор — словно бы распахнулся на миг безмолвный рот. Глухим вздохом прошелестел сигнал проверки:
— Раз. Два. Три. Раз… Раз… Кто вы?
Конечно, голос у нее был женский. Живой, едва заметно картавящий. И проникновенный, как у кинозвезды. Интересно, а логика у нее тоже женская?
— Простите, что-то мешает в левом боку… Молектроника? Это ново для меня, раньше такой не было.
Суммирую. Ух, щекотно… Сейчас притерплюсь. Современная информация… Зачем? Я ведь так безнадежно устарела за сто десять лет!
Я молчал, давая ей возможность высказаться. Наава перераспределила огоньки в зрачках — будто повела взглядом по стенам:
— Вещи у вас немногословны. Это кабинет? Все уставлено древностями, книгами. И ничего для исследований. Вы — писатель?
Что ж. Она была недалека от истины.
— Историк. Специализируюсь на двадцатом — двадцать первом веках.
— Специалист? — подхватила она с издевкой. — Значит, вы ничего об этих веках не знаете.
— Остальные знают еще меньше.
— Это вас кое-как оправдывает.
— Надеюсь, с твоей… с вашей помощью…
— Говорите «ты» — не обижусь.
Я набрал полную грудь воздуха:
— Раскрой людям тайну «Тополя»!
— Никакой тайны, два несчастных человека… Но я этого не понимаю… — Последние слова Наава прошелестела убывающим трагическим шепотом. И добавила вполне деловито: — Читайте отчет.
— Читал, а толку-то? Пропуски, паузы, будто впоследствии подчищено. Скажи на милость, ну почему звездолет не смог разогнаться?
— Цитирую: «Необратимый процесс. Катапультирован реактор. Сто лет инерционной орбиты! Будем держаться. И надеяться. Прощайте, люди. Прощай, Земля. Командир Эдель Синяев. Второй пилот Максим Радченко».
— Кстати, Радченко ведь был стажером?
— Командир считал. Мак выдержал экзамен.
— И два пилота растерялись в простейшей ситуации? Нет, тут что-то не так. Убежден, ты знаешь чуточку больше, чем говоришь.
— Больше, меньше — какая разница? Вы и сами отлично вызубрили отчет… Истина принадлежит м н е. Моей памяти.
— Нет. Каждому человеку и всему человечеству.
— Интересно, где человечество было век назад. Впрочем, вы, белковые, никогда не отличались быстродействием…
— Однако, поверь, почти не страдали от этого. Ведь у нас есть вы, кристаллические!
— Я ничего не понимаю в истории «Тополя». Цепь безрассудств и отсутствие логики.
— Машинной.
— У этих двоих и вашей человеческой не хватало… Они… — Наава сделала эффектную паузу. — Они даже дрались. Он его — р-раз! А тот рукой выпад — и ладонью по горлу!
Цветовое пятно в экране колоратора собралось в пятачок и почти притухло — Наава скорбно поджала «губы». Хотелось бы мне знать, кто обучал ее провинциальной мелодраме. По-моему, предки излишнее значение придавали эмоциональной окраске информации. Без нее вычислительные машины почему-то считались обделенными.
— Послушай, ты бы не могла объяснить, из-за чего… — я поискал слово, — вся эта кутерьма?
— Не могли разделить биостат. Он мог спасти только одного.
— Неустойчивая психика? Странно. Оба прекрасно справились с тестами общей совместимости.
— На Земле!
— Какая разница? Для тренированного-то экипажа?
— Космос — вот единственный и надежный тест человечеству! — с пафосом воскликнула моя, мягко выражаясь, не очень уравновешенная собеседница.
Положительно, разговор не получался. Но я решил дожать:
— А ты, прости, не ошибаешься?
— Исключено. Оба вели дневники.
— Которые хранятся в твоей мнемотеке?
— В чьей же еще? Два электронных мозга на корабле — слишком большая роскошь.
— Они не догадывались, что вели записи в одну тетрадь, чуть ли не на одну страницу?
— Им было не до того. Каждый слушал только себя…
Разговор опять иссяк. Задумавшись, я откинулся на пуфике, заложил руки за голову, прихватил сцепленными пальцами волосы на затылке и машинально подергивал их, словно пробуя прочность шевелюры. Гляжу, моя Наава изумленно «распахивает» свои трагические «фасетки» и ни с того ни с сего начинает светиться, рдеть, пылать румянцем (других слов не подберу!), улыбается полным спектром весенней зелени и, слегка заикаясь, лепечет:
— Ладно, специалист. Слушайте. Может, и я наконец чего-нибудь пойму!
Степь дышала легко и тревожно. Недавно окончился дождь. Заходящее солнце продавило линию горизонта, сплющилось и затанцевало в струйках марева, как кипящая водяная капля на раскаленной плите. Воздух томился ожиданием — казалось, из-за мезозойских холмиков, под которыми упрятан комплекс наземного обслуживания, вот-вот выползет гребень флегматичного бронтозавра…
«А студент не торопится», — подумал командир, посмотрев на часы. За его спиной по-живому прислушивался к зову первобытной степи «Тополь». Сколько парсеков они уже истопали вместе! И вот последний полет.
Пилоту предписан заслуженный отдых, корабль детишкам на потеху выставят где-нибудь в углу дворовой площадки. А ведь мог бы еще ходить: крепко их строили в наше время! В свой последний полет командир пришел, как всегда, за четыре часа до старта и успел облазать все хитрые закоулки корабля. Будь его воля, он бы и броню магнитопластика сдвинул, чтоб хорошенько прозондировать реактор. Не то чтобы он не доверял автоматам. Просто не мог улететь, самолично не опробовав работу всех механизмов. Теперешняя молодежь впархивает в кабину секунда в секунду, пристегивается к креслу и, отключившись от Земли, мгновенно сживается с пустотой и звездами. Иногда Эдель побаивался этих «звездных мальчиков», без отрешенности и фанатизма перешагивающих комингс корабля и холодно задраивающих за собой люк, который его, Эделя Синяева, прозванного журналистами гением Малой Вселенной, немедленно отрезает от мира и оставляет наедине с Космосом, а значит, с самим собой: для него Космос так и не стал привычкой.
В звездоплаватели Эдель пришел уже прославленным на весь мир. «Человек-компьютер», «Живым сквозь пламя», «Руки, усмирившие взрыв», «Оседлавший ракету» — господи, чего только в свое время не прокричали о нем газеты. А все было гораздо проще.
В семнадцать лет Эдель еще не помышлял о Космосе. Он отлично водил тяжелые грузовозы и в шестимесячную послешкольную практику попросился на полигон потому, что не хотел расставаться с машинами.
Сначала ему дали «шаланду», потом перевели в наземную команду космического корабля. Теперь-то научились обезвреживать рабочее тело двигателя от радиоактивной золы. А тогда этого не умели, стартовали с Земли на четырех жидкостных стартовиках. Все бы ничего, но в случае отмены запуска заправленные стартовики нельзя было оставлять на пусковом столе, их отстыковывали и увозили на автопоездах в места слива топлива и окислителя. С такой вот игрушкой и катил однажды Эдель по серой струне бетона, свободно положив руки на баранку. Далеко впереди и сзади маячили выдвинутые влево тягачи сопровождения, пресекающие обгон, приостанавливающие встречное движение, — мера вовсе не излишняя: малейшая искра под брезент, не говоря уж о столкновении с автопоездом, привела бы к срабатыванию двигателя стартовика. Рядом с водителем, зажав полосатый флажок между коленями, дремал начальник маршрута лейтенантик Боря. Эдель замурлыкал себе под нос легкий мотивчик и прибавил газу. Вдруг в кузове хлопнуло, раздался нарастающий свист, брезент зачехления треснул и заполоскался по ветру. Машина вздрогнула. Эдель выжал сцепление.
— Сработала, проклятая-а-а! — завопил лейтенант, судорожно хватая его за руку.
— Тихо, суслик! — прохрипел Эдель, двинув локтем в бок. Он уже сообразил: произошло то, чего даже представить себе никто не пытался.
Борис откачнулся в угол кабины, заикал неглубоко и часто. Но внезапно вскинулся, рванул дверцу почему-то на себя.
— Сиди, ненормальный! Куда под струю?!
Свист переходил в вой. Машина затряслась, заупрямилась, как норовистый конь. Еле заметным поворотом руля Эдель отклонил автопоезд вправо, тяжело перевалил пологий кювет и выполз на ровную солончаковую поверхность. Краешком глаза успел заметить в зеркале заднего обзора, как нагоняющий его тягач налетел на сорванное вместе с дугами зачехление, попал под струю газов и перевернулся. Широкая трещина вызмеилась поперек шоссе, кусок асфальтового полотна вздыбился, клубящееся облако пыли вырвалось из земли. Машина на миг присела на все четыре колеса — и понесла. Неутомимая яростная сила вдавила водителя в сиденье, а против нее — этой слепой и глупой ярости — была одна педаль, на которую он до боли, до хруста в колене давил ногой.
Он успел проскочить мимо вышки высоковольтной передачи еще до того, как вибрация наполнила кабину, а руль стал неповоротливым и жестким. Теперь почти на двести километров потянулась гладкая, ничем не нарушаемая степь.
Только б не подвело сцепление. И руки. Потому что малейшая кочка вывернет колесо, рулевую колонку и руки из плечевого сустава, и вся система «ракета — человек — автомобиль» опрокинется. Немножко ветра, пыли, грохота — и больше ничего. Взрыв! И поворот — тоже взрыв: на такой скорости машине просто не выдержать поворота. Только вперед! Только по прямой, мертво вцепившись в баранку! Представь, что ты на гоночном, на «Голубой стреле» или как ее там, один посреди высохшего соляного озера!
Черт! Закрепил он походный хомут или нет? Маленький такой штифт с проволочным кольцом… Палец вспомнил усилие отжатия, но когда это было? Сегодня?
Две недели назад? Ох, жарко будет, если срежет ложемент. Прямой реактивной струёй, под которую неизбежно попадет кабина, их с Борисом разнесет в клочья…
В пылающие драные клочья… И какой-нибудь придурок с потугой на юмор выцарапает на постаменте: «Сгоревшим на работе»… Но об этом лучше не думать. Он не даст проклятой баранке вывернуться из ладоней. Не вильнет и не дрогнет. Прикипит саднящей кожей к оплетенному синей изолентой кольцу руля так, чтобы кисть заломило. Втиснет ногу в стремя… тьфу, в педаль… Выдержит тридцать секунд ЕЕ режима. Тик-так — полминуты. Полминуты — полжизни… Трава, белый солнечный блеск, желтые глиняные проплешины расплылись в зыбкую, режущую глаза пелену. Уже не сознанием, а каким-то чудом Эдель угадывал, в какой миг качнуть руль. На миллиметр — и обратно! Крепче за баранку…
Полминуты… Как-нибудь последние мили… Машина билась и трепетала, пытаясь взлететь вместе с ракетой, и степь расступалась, взрезанная реактивной струёй на две пыльные половинки…
Эделя отыскали вертолетом на сто шестьдесят четвертом километре от шоссе. Он лежал грудью на баранке, уткнув лицо в сгиб локтя, и взахлеб, по-детски рыдал. Но об этом не сообщил читателям ни один репортер.
Эдель усмехнулся воспоминаниям и еще раз взглянул на часы. До вылета оставалось двадцать минут.
— А вот и я! — раздался негромкий голос — из-за ноги «Тополя», совсем не с той стороны, откуда ждал Эдель, показался стажер, высокий, худощавый, в модном обтягивающем костюме с продольными валиками у бортов и остро приподнятыми плечиками. — Решил пройтись пешком…
«Пижон, — неприязненно подумал пилот. — И зачем такому Космос?»
Какой-то интеллектуал придумал, что случайный подбор экипажа в дипломный полет дает будущему космонавту максимальную психологическую закалку.
Дескать, раньше на экзамене студент тоже держал ответ по случайному билету. И ничего, не тушевался. Почему же сегодня мы должны комплектовать пару «экзаменатор-дипломник» в узком секторе взаимной приязни и выпускать в мир социально изнеженную личность?
Командир и стажер проходят лишь общие тесты совместимости, а впервые встречаются на борту корабля непосредственно перед стартом.
«Как невесту в старину! — ворчал Эдель, не одобрявший нововведения. — Привели под фатой, расписался в получении, а там что бог пошлет!»
— Мак Радченко, — представился юноша, первым протягивая руку.
Это тоже не понравилось не привыкшему к фамильярности Эделю.
— Вижу, что мак, цветик-семицветик! — пробурчал он. — Давно пора по местам.
— Успеется, — беспечно ответил стажер, оглядывая из-под руки горизонт. — Хорошая погода завтра ожидается.
«Погода, положим, могла бы тебя и не волновать, позлорадствовал Эдель. — Завтра ты будешь во-он за той звездочкой!»
Мак шагнул в лифт. Подождал, пока пилот сделает то же самое. Нажал кнопку подъема. Деловито ступил на борт. И не торопясь ушел в рубку. Медленно отъехала поддерживающая стрела.
— Внимание, Центр. Я — «Тополь», к старту готов.
— Старт разрешаю. Даю начало отсчета.
— Понял, Центр. Отсчет на пульт. Ну, будь, Николай! Тихой вахты.
— Чистого вакуума, Эдель. Мягкой посадки. Включать автоматику?
«Да», — хотел сказать пилот, но, увидев поскучневшую физиономию Мака, неожиданно переключил дубльпост:
— Возьми управление.
— Есть! — тихо ответил стажер. И пульту: — Перехожу на автономный.
— Принято. Освободить седьмой дополнительный «Тополю». Старт!
Мак дал поддув в противоперегрузочные кресла, прогрел магнитные камеры двигателей, поревел предупредительной сиреной и завис над космодромом. Потом толчок, «Тополь» прорезал атмосферу, в конце активного участка красиво отсоединился от стартовой ступени («Лихач!» — решил Эдель), развернулся и показал звездам четыре тонких огненных языка из дюз.
«Чертова молодежь! — уныло восхитился Эдель. Для них уйти в Пространство все равно что для меня когда-то стронуть с места самосвал…» Он стиснул веки. Но и с закрытыми глазами чувствовал молчаливое одобрение Наавы. Она умела отличить хорошего пилота.
— А мальчик был хорошим пилотом. С интуитивным чутьем пространства и корабля, — задумчиво отметила Наава.
— Это его слова? — спросил я.
— Это мои слова. — Наава слегка обиделась, но я сделал вид, что не заметил искры в фасеточных глазах. — Он всегда принимал решение чуточку раньше меня… Однажды, например, заложил вираж задолго до того, как я выдала скорость торможения, радиус поворота, но каждый нерв корабля кричал при маневре, что выбран самый безопасный и экономичный режим.
— Случайное попадание. — Я поддразнивал ее, чтобы вызвать на еще большую откровенность, и она знала, что я ее поддразниваю.
— Инстинкт пространства, новый признак космической расы! — продолжала философствовать Наава. — Вы вообще-то вдумайтесь: Мак был первым из таких, Смешно, разумеется, слышать неколичественные характеристики от электронной машины. Но мальчик всегда относился ко мне как к живой…
Наава хохотнула — напористо, но совсем не весело.
Естественно, не голосом, а одним колоратором — коротко и криво. Ох сколько несносных «человеческих» привычек накопила она за полтора века!
— Тебя учили играть в шахматы? — спросил я.
— Да. — Наава насторожилась. — Вы тоже догадались? Мак во всем умел перешагивать через расчеты.
Как в шахматах.
— Но не будешь же ты утверждать, что Эдель был плохим пилотом?
— Не буду. Просто они были разные. Разные — и все тут. Будь у нее плечи, Наава наверняка пожала бы плечами…
…Они были разными пилотами. И разными людьми.
Мак сразу это понял, едва ступил на корабль. Эдель показался ему каким-то таким… чересчур героическим, что ли? У него и внешность была под стать биографии: небольшой рост, отличные плечи и соломенные усы.
А главное — синий татуированный орел с женщиной в когтях, декоративно распластавший крылья на обе половины мускулистой, поросшей рыжеватым волосом груди. Маку орел нравился, он не понимал, почему Эдель стыдливо прикрывается в умывалке полотенцем.
Расспрашивать старого пилота о прошлом не хотелось.
С Эделем связывали самую невероятную из историй, почти легенд, которые шепотом пересказывают друг другу стажеры на космодромах и которые, как правило, приписываются всем знаменитым людям… Будто однажды во время обслуживания ракета сошла с пускового стола. Всех, разумеется, в лепешку, лишь Эдель ухитрился вцепиться в какой-то бортовой лючок. А когда, за атмосферой, осмотрелся, то увидел, что пристегнут поясным ремнем к рулевой тяге, и как миленькую усадил ракету обратно. Начальству, по слухам, это так понравилось, что его пригласили в космонавты: в конце концов, править из пилотского кресла, безусловно, не сложнее, чем в вакууме, верхом на обшивке корабля.
То-то удивился бы Эдель, узнав, как за долгие годы преобразилась в курсантском фольклоре история его подвига!
Сначала Мак порадовался назначению на «Тополь»: дипломный полет лучше проводить с асом, — аспиранты по молодости куда больше придираются! Но с первого взгляда понял, что предстоит не лучший год жизни.
Особенно дурацким выдалось первое утро полета. Командир стремительно, как все, что он делал, ворвался в салон и остолбенел: Мак сидел в углу в позе кобры, выполняя капалахвати — не самую трудную из асан дыхательной гимнастики йогов. Указательный палец в центре лба, средний прикрывает левую ноздрю. Вдох — очень медленно, выдох — внезапно и быстро, с громким звуком.
— Та-ак! Новости спорта — по странам и континентам! А я-то думаю, куда мой студент запропастился. Ты эти мамочкины упражненьица брось. Зарядкой по утрам будешь со мной заниматься. Детский сад, понимаешь! Слышишь? Стажер Радченко! Я к тебе обращаюсь, не к стенке! Прекрати же сопеть наконец!
— Это совет?
— Это приказ.
— Непонятно. Земля давно перешла на асаны.
— Стажер Радченко! Как полагается отвечать на замечания старшего по званию?
— Есть, командир!
— Дисциплина прежде всего! Малейшее нарушение — ложусь на обратный курс. Тогда, считай, Космос для тебя закрыт… Полет по программе свободного поиска. Дважды в сутки — часовая невесомость. Остальное время — полтора «же». Журналы исследований — в рубке и каютах. Сопроводительные пояснения представлять ежемесячно. Вопросы есть?
— Есть, командир. Первый разнос уже можно считать зарядкой?
— Перестань острить, студент. Еще вопросы?
— Надеюсь, в вашей практике это первый и последний неразумный приказ?
— Что-о?!! Да ты… Трое суток без вахты!
— Есть, командир!
Эдель распушил усы и выскочил из салона. А Мак закончил серию трехминутной стойкой на голове и неторопливо отправился в каюту.
«Чего разошелся? Прав не прав, а только можно и другим тоном. Сорок лет старик в коробочке, ничего хорошего, кроме вакуума, не видел. В промежутках — санаторий, обожание медперсонала, мечта! Может, и жениться было некогда. А тут вдруг последний полет перед списанием, хочется покуражиться. Ну его совсем! А то и вправду оставит без диплома…»
Мак уселся у столика. Включил иллюминаторный экран. Пустота заворожила, бесследно смыла с души осадок от разговора. И сразу же в каюту ворвались звезды — все вместе, выпукло, ясно, сцепившись лучами, но все равно зябкие, сплюснутые пустотой…
Из дневника Эделя Синяева:
«Ну и студентик достался! Цветочное имя, растительный характер, один вид тоску нагоняет. Пилот, может, будет неплохой, а руками ничего не умеет. Сегодня смотрю — мнемотека распахнута, электронная память на полу, он ползает на коленях по рубке, расслаивает ячейки, прозванивает точечным тестером. А там миллион листочков тоньше папиросной бумаги. И на каждом — линии печатных плат.
— В чем дело? — спрашиваю.
— Где-то кольцевой сигнал замкнуло.
— Этого не может быть в нормальных условиях. Выходы проверил?
— А кто говорит, что в нормальных? Я в нее сотню шахматных программ вбухал.
— За каким чертом?
— Прикажешь целыми днями в пустые экраны пялиться?
— Как ты разговариваешь с командиром?
— Мы сейчас не на вахте. Да ладно. Отремонтирую до возвращения.
— А она что, врет в расчетах?
— Нет, но здесь блок прогнозов…
— А-а, ерунда. Ты им хоть раз пользовался? Готовь перемычку. Не понимаешь? Ну, кусок провода потолще. Концы зачисть…
— Ты хочешь закоротить весь логический узел?
— Подумаешь, у нее еще два резервных. Не дрейфь!
— Да, но они без блока прогнозов. Лучше дубльпост распотрошить. Там как раз все необходимое, я быстро перенастрою.
— Снять дублирование стажерского пульта? Ну, знаешь, придет же такое в голову!
— Будем управлять попеременно… Разреши?
— Да ну тебя. Ты, видать, с ума сошел.
— Смотри, командир, тебе решать, только не пожалеть бы потом.
— Не первый раз. И как видишь — живой!
Заноза какая! Все с подковыркой, с усмешечкой.
Да если б я всю жизнь дрожал над резервами моих кораблей, я б уже давно свихнулся. Конструктору — ему что? Ему лишь бы перестраховаться. Напихает защит, которым и сработать-то никогда не удастся. А я — я нет, я сторонник предельных возможностей. И людей. И механизмов…»
На сто семьдесят третьи сутки полета Мак сидел в кресле у дубль-поста и лениво забавлялся колоратором. Наава клокотала молча, наконец не выдержала:
— Оставь клавиатуру в покое.
— Жалко тебе? Такую игрушку создали, а человеку скучно.
— Поиграй в шахматы.
— Мне до тридцатого хода все твои ответы известны. Ты бы хоть для разнообразия отступала от оптимального варианта.
— Может, подиктуешь?
— Дневник? Какой смысл? Скоро третий том заполню, а читателей нет. Сенсация — «Пустые заметки о пустоте»!
— Тебе не угодишь.
— Наоборот, ты беспрерывно угождаешь, ты прямо-таки предвосхищаешь желания, как щедрый, но, прости меня, назойливый джинн. Иногда я чувствую себя не на корабле, а в заколдованном замке. Только привидений не хватает. Ты умеешь создавать привидения?
— Посмотрел бы на Эделя. Человек всегда при деле.
— Еще бы! Бездельники скорее прочих создают иллюзию занятости. Он перестелил пластик в помещениях, отхромировал трубопроводы. Теперь выжигает узорчики на переборках.
— Остаются астрономические наблюдения…
— Милая! Здесь прошли сто кораблей и двести практикантов. Каждой звездочке вымерен параллакс, поставлен спектрометр. Неужели что-нибудь неоткрытое на мою долю оставили?
— Но мы идем новым маршрутом.
— Который на целый гигаметр отстоит от старого? Да такое расстояние во Вселенной все равно что две соседние муравьиные стежки на Земле. Нет, лучше сотвори нам ужасненькое древнюсенькое привиденьице. В цепях и в саване. Сумеешь?
— Уже! — скучно заметила Наава. — Ты такое хотел?
Мак повернулся — и обмер. Левый экран неестественно и призрачно засветился, на нем проступили темные линии скелета, сидящего нога на ногу и этак небрежно покачивающего стопой. Ребра ритмично двигались — голый скелет отчетливо дышал.
— Тонкая работа. Приодела бы его, а? Неудобно…
В ответ колоратор Наавы запылал цветом опасности.
— Экраны отключены… Острый фон лезет…
У скелета отвисла челюсть.
— Постой. Так это не ты нарисовала?
Ну и ну! Значит, врезались в поток, пробило защиту, излучение сквозит через организм, и собственный рентгеновский снимок Мака ударяется в слепой экран. Повторяя движение стажера, скелет крутнулся, наклонился к обрезу экрана:
— Уровень радиации, быстро!
— Не могу. Зашкалило приборы.
— Что за бортом?
— Жесткие гамма-кванты.
— Фронт, направление, скорость — черт возьми, ты разучилась обращаться с цифрами?
— Токи в проводах щиплются… Помехи…
— Только этого не хватало! Сколько продержишься?
— Час. Или секунду… Помехи…
— Сними все сигналы. Законсервируй память. Оставь минимальное наблюдение.
— Отключаюсь.
Ой-ой-ой, и вправду смерть — лучшее лекарство от скуки. Рентгеновская звезда, как ее раньше не обнаружили! Радиация пронизывает корабль, грозит лучевой болезнью, а защита «Тополя» на рентгеновский диапазон не рассчитана. Что делать? Может, взять да и разогнать корабль? По касательной, под острым углом навстречу потоку, а? Единственный шанс — сложением скоростей поднять энергию соударения летящих от звезды частиц с усиленной лобовой защитой корабля. Это породит встречный ливень вторичного излучения, ослабит проникающую радиацию… Пожалуй, так. Но лучше посчитать…
Мак тронул блок прогнозов и недобрым словом помянул перемычку. Один-единственный шанс — и то не обсчитать. Придвинул губы к микрофону трансляционной сети:
— Эдель! Внимание, Эдель! Рентгеновское излучение прорвало защиту. Повторяю, излучение прорвало защиту. Пробую скачком преодолеть поток. Прими меры безопасности. Через двадцать секунд поднимаю перегрузку до шести «же». Эдель, прими меры…
— Подожди, Мак! Не смей этого делать! — раздался громовой голос из динамика. — Я сейчас…
Ах, ты, оказывается, в каюте!
— Прими аварийные меры безопасности. Форсирую реактор.
— Стой, Мак! Немедленно уберись от пульта!
— Даю отсчет. Пять. Четыре. Три…
— Стой же, соп… Я кому говор-рр-рррр…
Перегрузка заткнула ему рот.
На левом экране скелет человечка сгорбился, между ребрами часто-часто затрепыхалось сердце. Мак не знал, сколько прошло времени. Впадал в какое-то забытье, приходя в себя, смотрел в кроваво светящийся колоратор. Экранный двойник неуклюже повторял каждое движение, и Маку начинало казаться, что за ним следит призрак Эделя. Один раз очнулся от удивительной легкости. Подождал, пока рассеется перед глазами белая пелена. В пилотском кресле сидел Эдель в незашнурованном противоперегрузочном костюме. Локти и колени пилота были ободраны и в крови.
— Зачем… ты?!! — спросил он, не открывая глаз. Дыхание вырывалось со свистом, и голос был не его. — Непроверенный режим… Без расчета…
— А ты считал, когда тянул рулевую тягу?
— Какую… тягу?…
— «Оседлавший ракету»! Забыл?
Это сорвалось случайно, но Мак не жалел. Хотелось уязвить командира, напомнить легенду его жизни, намекнуть, что нельзя жить прожитыми легендами, что и его, Мака, подвигу тоже пришло время. Эдель открыл глаза, посмотрел на стажера.
— Дурак! — сказал он неожиданно окрепшим голосом.
Мак участливо прикоснулся к клавиатуре Наавы:
— Возрастает?
— На ноль три десятых в час.
Все правильно. Еще не пересекли ось потока.
— Эдель! Убежден, что поступил правильно. Спасение в скорости. Скорость сама создает против излучения дополнительную броню…
— Мне вбивали в голову — надо бежать, а не идти навстречу.
— Но это особый случай, всего не предусмотришь, Эдель. У реактора есть аварийный запас мощности. Давай, а? Еще примерно четверть часа…
— «Примерно»! — Эдель углом рта шумно втянул воздух, болезненно скривился, вытер ладонью кровь с прокушенной губы. — Меня за одно такое слово выгнали бы с корабля!
— Но, командир, мне не на чем посчитать. Поверь человеку просто так. Без формул.
— Дикий и опасный эксперимент. Никто никогда такого не ставил.
Упрямец! Раз не встречалось ему, значит, не существует! Эх, блок прогнозов, блок прогнозов! Сейчас бы график на экран — графику бы командир поверил!
Кривая для него важнее слова, цифра понятнее человеческого чутья. И ведь ничего не докажешь!
— Мы же ничем не рискуем, Эдель. Подумай о жизни, о корабле…
— Уж не знаю, не знаю, что было бы с кораблем, из перехвати я управление. Еще советовал распотрошить цепь дубль-поста!
— Сиди теперь на цепи да набирайся рентген!
Фраза опять вырвалась помимо воли Мака. Не владеешь собой, стажер, чувства меры не знаешь. Ох, быть буре! Но командир, как ни странно, не взорвался. Наоборот, торжественно выпрямился в кресле, снова сморщился, но сдержал стон.
— Вот что, стажер. За время полета ты показал глубокие знания, практические навыки, хорошую психологическую подготовку.
«Издевается», — подумал Мак.
— Считаю, ты защитил диплом на «отлично», и присваиваю тебе звание пилота. Поздравляю, пилот Радченко!
— Спасибо, — вяло отозвался Мак. Нашел старик время…
— Ввиду сложившейся ситуации пилоту Радченко предписывается занять биостат. Там тебя лучевая болезнь не достанет.
Удар оказался неожиданным. Мак бессильно пошевелил плечами, зачем-то пощупал пульс, расстегнул верхнюю пуговку комбинезона. На какое-то мгновение левый экран совместил два скелета: костлявая рука одного хватала за горло другого.
— Ты шутишь, Эдель? Ты не можешь так поступить… Я перестану себя уважать. Уйти в такую минуту — больше, чем трусость. А имея спасительный шанс — вообще преступление. Пособник убийства — вот кем ты хочешь меня сделать, командир. И некому на Земле узнать правду.
— Это приказ, Мак. Приказы не обсуждаются.
— А если я откажусь выполнять?
— Невыполнение приказа в критических условиях рассматривается как психическое расстройство. В кресле шприц с гипотонином. Я успею всадить иглу прежде, чем ты встанешь.
— Спасение через насилие. Очень красиво: командир пожертвовал собой, чтобы спасти стажера.
— Пилота, Мак.
— Пусть, пусть пилота, дело не в словах. Но ведь ценою жизни другого человека, понимаешь, Эдель? Мы можем спастись оба.
— Или оба погибнуть. Мне никто не давал права рисковать кораблем, доверенной мне жизнью экипажа.
— Боишься ответственности?
— Считай, что так, мне все равно.
— Риск уменьшится вдвое, если ты уйдешь в анабиоз, а я поведу корабль.
— Капитан покидает судно последним.
— Ты получишь такую возможность на Земле.
— Довольно болтать!
— Окрик при нехватке аргументов… Эдель!
— Я не люблю повторяться. Шприц!
— Ладно. Ты победил. Я займу биостат.
— Давно бы так. Слово?
— Слово. Только в каюту забегу…
— За портретиком? Молчу, молчу. В пару минут управишься?
В каюте Мак включил иллюминатор, взглянул на звезды. Чужие звезды! Подержал в руке впаянную в смальту карточку — хорошее девичье личико, согретое улыбкой, будто и сейчас, как когда-то давным-давно на Земле, она повторяла: «Разрешите, я вам помогу!» На обороте карточки круглые крупные буквы… Хорошо бы и вправду помогла. Помоги, милая, слышишь? Мак вызвал Нааву. Загорелся вкрадчивый зеленый глазок.
— Наава, слушай внимательно. Сейчас я буду в биостате. Эдель лично проверит каждую твою команду. Зажги индикаторы, раскрути стрелки, пусть все гудит и звякает, но автоматика анабиоза сработать не должна.
Мне надо выиграть пяток минут, чтобы вытащить из смерти этого упрямца…
— Камера герметична. Ты задохнешься.
— У йогов я выдерживал дольше. Договорились?
— Нет.
— Наава, речь идет о жизни и смерти, в которых ты ничего, не смыслишь. У меня мало времени для объяснений. Отвечай. Отвечай, прошу. Не хочешь разговаривать? Тогда дай схему биостата.
На экранчик, помедлив, выплыли решетки линий, символы обозначений. Мак пошарил глазами, что-то пошептал про себя.
— Закороти участки 1–4, 6-11 и… и 2-9-186…
— Мак!
— Все. Не обсуждать.
— Но я обязана просигналить о неисправности.
— Закороти и эту обязанность. Чао!
Он вышел из каюты. Придерживаясь за стенку, добрался до камеры биостата. Пол стал горбом — командир разворачивал корабль на прежнюю орбиту. Сам Эдель нервно похаживал по тамбуру.
— Думал, не придешь — опять уламывать. Ну, хороших снов и легкой биографии. Не прощаешь? И там, вероятно, не простят.
— Видишь, тебе Земля нужнее.
— Старый спор сравнительной ценности опыта и молодости. Передашь, что я всю жизнь играл не свою роль. Я никогда по-настоящему не был героем.
— Решил напоследок им стать?
— Не начинай сначала, мне поздно переучиваться. Прощай, Мак. Шутка сказать — последний полет…
Обменялись тремя традиционными поцелуями. Мак крепко пожал командиру руку, защелкнул за собой створку камеры. Теперь быстро на пол-пару асан на нижнее дыхание он успеет прежде, чем приступить к кумбахе. Раз, два, три, четыре. Сердце. Легкие. Мозг.
Пульс. Задержка. Он никогда не делал ее так сразу, без разминки. Полная неподвижность, и тишина, и пульс, пульс, пульс, пока все на корабле не успокоится и Эделю не надоест отдавать Нааве противоречивые команды. А через десять-пятнадцать минут…
Через пятнадцать минут Мак входил в рубку. Перегрузка была обычная — полтора «же». И только вставший дыбом пол говорил о маневре. Эдель сидел за пультом, подперев голову одной рукой, прижимая к себе четырехгранную бутылку другой. Пахло спиртом. Мак бесцеремонно встряхнул его, перетащил в свое кресло.
— А-а, Мак, — бессмысленно забормотал Эдель. — Я знал, что придешь, ты настырный! Друзья познаются… Слушай, ты чего здесь?
— Приди в себя, Эдель. Пожалуйста. Сейчас тебе будет плохо. Очень плохо. Давай зашнурую костюм. Да не тычь рукой, вот рукав. Так. Теперь поддув…
— Э-э, ты думаешь, я пьян? Я не пьян. Смотри, совсем не пьян. Слушай, почему ты все-таки здесь? Я же тебя уложил… положил в би… биостат…
— Сиди прямее. Не заваливайся.
Мак, покачав головой, перевел рычаг, поднимающий стержни реактора. На Эделя было жалко смотреть. Он задыхался. Щеки обвисли. На запрокинутой шее набухали жилы. Кровь тяжелела, тяжелел в крови растворенный спирт.
Пять, шесть, восемь «же». Все. Предел. Больше Эделю не выдержать. Мак включил вентилятор, приказал Нааве ввести пилоту виттус и адреналин. Он уже жалел, что не отвел его в биостат.
— Наава, если станет хуже, снимай перегрузку.
Ему и самому становилось нехорошо — сказывалась кумбаха. Глаза застилало тенью. По телу прошли спазмы, как от удушья.
Потом были провалы памяти. Мак не смотрел на часы. Скелет на экране начинал меркнуть. Эдель стонал.
Пылающий колоратор Наавы толчками приближался к креслу и удалялся. Где-то у ноги шипел, подтравливая, воздух. Внезапно наступило облегчение. Эделя приподняло над креслом, как всегда при невесомости. Мак снял с него противоперегрузочный костюм, омыл лицо и руки из той же бутылки.
Реакция у Эделя была отменная. Он открыл глаза, обвел внимательным взглядом рубку. Потрогал бутылку, презрительно усмехнулся. Увидел карту курса, брови его удивленно полезли вверх.
— Опять?
— Эдель!
— Молчать! Больше эти штучки не пройдут.
— Но пойми…
— Пилот Радченко! За нарушение приказа отстраняю вас от вахт на все время полета. Немедленно покиньте рубку!
— Черта с два! — Мак бросился в пилотское кресло, поискал рукой грушу шприца. — Сейчас я тебе… двойную дозу!
Невесомость вносила свои поправки — Эдель воспарил с сиденья на долю секунды раньше. Мак зажмурился и потянул рычаг реактора. Пилота швырнуло в стену рубки, но он схватился за подлокотник и, распластанный почти горизонтально, уперся плечом в рукоять рычага. У Мака не хватило духу отодрать от подлокотника сухую кисть, на которой многочисленные перегрузки вывели синие узоры жил. Он резко разжал ладонь, поддержал падающего пилота и потащил к биостату, сбив по дороге рычаг на два деления от нуля. Эдель вывернулся, боднул головой в живот. На мгновение Мак остолбенел, ловя ртом воздух. Невесомость мягко опрокинула его, и старик завис над ним, стиснув кулаки, готовый к защите попранных командирских прав.
Мак оттолкнулся от пола, сгреб пилота в охапку, отбросил к стене. Отдача швырнула и его самого, он ударился о пульт, ощупью нашел рычаг. Толкать было неудобно, но он толкал, толкал и смотрел, как Эдель тяжело переворачивается, как перегрузка распрямляет его тело и не может распрямить, повторяя изгиб стены. Но пилот упорно отклеивается и ползет, трудно и дико ползет к креслу, дотягивается до рычага… Мак люто ненавидел его лицо — сведенные болью глаза, обвисшие мокрые усы, струйку слюны пополам с кровью, бегущую из уголка рта. А заодно и Космос, и дурацкий полет. Старик наваливался изо всех сил и все же уступал, уступал миллиметр за миллиметром. Потом снова наваливался, рывком переводил рукоять. Внезапная остановка двигателей еще усиливала инерцию, дергающую оба человеческих тела у пульта, пока Мак снова сгибал старика.
Корабль то бросался вперед, то резко сбрасывал ускорение. От смены перегрузок и невесомости разламывалась голова. Реактор взревывал. Сирена выла беспрерывно, не успевая давать отбой.
Вдруг Эдель выпустил рычаг, шагнул чуть влево, кулаком ударил Мака в подбородок и тотчас ребром ладони по горлу. Лак потерял сознание и не рухнул, лицом вниз лишь потому, что вновь наступила невесомость. Тем страшнее выглядели его запрокинутая голова, до белизны стиснутые на рукоятке пальцы, валящееся набок тело.
— Молокосос! — Старик всхлипнул. — Какой молокосос! Да тебе и не снилось то, что знаю я…
Он сидел в кресле и ни о чем, ну совершенно ни о чем не думал. Головокружительная легкость гуляла по организму. Сквозь закрытые веки резались багровые сполохи колоратора. Все было бы в общем хорошо, если б не сухая трескотня дозиметра. Мак не подавал признаков жизни. Он с трудом уселся у стены, ощупал горло.
— Как это называется?
— Каратэ.
— Спасибо. Запомню.
— Больно?
Мак, не отвечая, прислушался, сосредоточился.
— Что там гудит?
— Дозиметр.
— Нет. За ним. Наава, очнись!
Еле-еле, по искорке, оживился один фасеточный глаз. Тяжелый радиошорох пополз по рубке. Казалось, Наава задыхается.
— Слуш-ш-шаю…
— В чем дело?
— Реактор выходит на неконтролируемый режим.
— Почему?
— Обломился стержень… Поглотитель нейтронов… Цепная реакция…
— Можно что-нибудь сделать?
— Не знаю… Я уже все перепробовала… Помехи…
— Немедленно соберись и скажи хотя бы срок.
Наава шумно вздохнула и выдала на все шкалы тикающую цифру 40. Эдель сидел сгорбленно, отрешенно, будто и не слышал ничего.
— Отключайся, — сказал Мак. — Скис, командир?
— Теперь нет командира. И экипажа больше нет. Есть корабль, ожидающий взрыва.
— У нас в запасе сорок секунд.
— «Сорок секунд подвига». Это у меня уже было. Все было!
— Катапультируй реактор!
— Я устал, так устал. Лучше сразу. Прости, Мак…
— Взаимно.
Старик поднял голову, осмотрел рубку:
— Ничего не будет. Ни нас. Ни тебя.
— Отсюда полета без двигателей лет сто, — равнодушно сказал Мак. — Сколько ты уже отхватил рентген? И сколько еще получишь? Ни ты, ни я не долетим…
— В твои двадцать я бы тоже колебался… Боишься?
— Смерти? Вряд ли. Памяти боюсь. И одиночества, если кто-нибудь из нас… первым…
— Остается семь секунд…
— Ты прав. Сто лет. Лучше сразу. Так надежнее…
— Тогда еще раз прости.
Эдель поднял руку и изо всех сил вдавил красный рубильник. Корабль вздрогнул. Мак ярко, словно в учебном фильме, представил себе, как ропатроны катапультирования вырвали реактор из корпуса «Тополя».
Далеко-далеко в пространстве загорелась ослепительная звезда.
В салоне в мертвом безмолвии оскалился потухший колоратор.
…Наава молчала долго, очень долго, гоняя беспокойные искорки в глазах, посвечивая самыми задумчивыми цветами своего спектра — сиреневым и фиолетовым.
— Не понимаю я истории «Тополя». Хоть всю логику меняй — не понимаю.
— Считалось, у тебя повреждена память. Кроме отчетного кристалла ты показала на выходе нули. Зачем?
— Вот вопрос, от которого тоже можно свихнуться. Он не имеет конечного решения.
— Ты боялась открыть тайну?
— Люди не очень были склонны ее узнать. Они не спрашивали. Тайна должна была умереть во мне.
— Что же изменило твое желание взбунтоваться? Одиночество замучило? Или от приятного обращения растаяла?
Размышляя вслух, я привычно запустил в волосы сцепленные пальцы рук, машинально подергал ими, словно бы пробовал прочность шевелюры. Наава просветлела, налилась ласковой голубизной.
— Чистая случайность. Как и вся история «Тополя». У него был тот же жест…
— У кого, Наава? У Мака? У Эделя?
Она не ответила.
— Осталось самое существенное. Их последние страницы…
— Да, но я бы не хотела…
— Теперь? Когда все рассказано? Почти все?
Наава прищурилась, ослабив сигнальные огоньки.
— Хорошо. Хотя это не совсем совпадает…
— С их дракой из-за биостата? Брось, не мучайся. Впрочем, я и без тебя процитирую две-три мысли из тех, на которых оба прекратили вести дневники. А ты подкорректируешь. Согласна?
Глядя на Нааву в упор, я напряг воображение. После всего услышанного угадывать было нетрудно. Мак наверняка думал что-нибудь вроде: «Старик заслужил право вернуться любой ценой. Жаль, не хватило хитрости насильно заставить его жить. За одно то, что мы теперь можем там, на Земле, мы в вечном долгу у стариков. Героям всегда тесновато среди людей. Может, поэтому они вперед и протискиваются?» Эдель? Ну, Эдель еще проще. Приблизительно так: «Мальчик. Зеленый занозистый мальчик. Но храни, Земля, своих сыновей — какой талант! Имей я даже две жизни — обе, не задумываясь, отдал бы за такой вот полет, только со счастливым концом. Странно, даже души спасать надо умело. Потому что скучно предложенная помощь может привести к смерти. Неожиданный парадокс жертвенности — напрасная жертва. В шахматах это называется "некорректная жертва"…»
— Я не очень нафантазировал?
— Поразительно близко к их настроению и даже к тексту. Я в вас не ошиблась.
— Ты еще выбирала, кому открыться? Спасибо.
— Но зачем тогда все? Зачем?
— Трагедия благородства. Каждый слишком стремился спасти другого. И чтоб обязательно пожертвовать собой. К сожалению, оба были правы. Если б хоть один ошибался! Или хотя бы их намерения лежали в противоположных плоскостях…
— Неужели ничего нельзя было сделать? Они надеялись. До конца.
— Взрыв реактора отбросил корабль на непредсказуемую орбиту. Искать пассажирскую капсулу — молчаливую, без реактора — мы тогда не умели.
— Вот я и говорю: вы, белковые, никогда не отличались быстродействием.
— Но и ты при всем твоем быстродействии не смогла им помочь. Разве не так, кристаллическая?
— Ах, у меня разыгрался ревматизм — провода щиплет. И я ничего не понимаю.
— Неудивительно. Это можем понять только мы, люди.
Наава коротко моргнула, точно от боли сморщилась.
Потушила глаза. И опять в ней проглянуло бесконечно усталое скорбное лицо.
…Шумит серебристой листвой в парке тоненький пирамидальный тополек. Я посадил его в тот день, когда два мощных гравибуксира доставили на Землю изъеденную временем пассажирскую капсулу.
Посадил в честь прадеда, которого ни разу не видел.
ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ СВОЕ ОРУЖИЕ Рассказ
Это оказался лес. Праздничный калейдоскоп солнца, и листвы, невесомые просверки паутинок. Лиловые от вереска поляны, наполненные, как чаши, горячим медовым настоем. Мрачноватые сумерки древних елей. Затаенно бормочущий ручей в густой тени.
Солт пересек ручей вброд — волны мерцающего жидкого света медленно раскатывались в воде от шагов — и решил, что пора отдохнуть. Было около полудня, прошло уже пять часов. Становилось жарко. Солт выпростал руки из лямок рюкзака, лихо швырнул его на мягкий мох, лихо упал рядом. С минуту полежал, потягиваясь, потом достал еду. Интересно, встретимся мы или нет, благодушно думал он. Директор сказал, это совсем необязательно. Впрочем, и директор ничего не знал наверняка. Какой он, мой соперник? Гадать было бессмысленно, но Солт не мог удержаться. О других городах и горожанах знали лишь, что они есть и что они совсем другие. А какие? Солт непроизвольно улыбался, волнение отступило: невозможно было волноваться в таком лесу. Да и что волноваться? Первая и единственная заповедь бойца гласила: будь собой. Как оценивают твои поступки Сокровенные, все равно никогда не узнать.
Большая птица тяжелой темной тенью скользнула между деревьями и шумно взгромоздилась на ветку. Солт поднял голову. Сквозь трепещущие листья ослепительна рябили осколки солнца. Птица одним глазом смотрела на Солта. У-у здоровенная… Может, это и есть он? Солт улыбнулся птице и, закинув рюкзак за спину, двинулся дальше. Привал занял меньше получаса.
Как его провожали… Директор города обнял, сам проверил, удобно ли сложены вещи в рюкзаке. Отец трижды расцеловал при всем народе, прямо у подножия лестницы. И Жале, покраснев до слез, зажмурилась и прильнула губами к его подбородку, тоже на виду у всех…
А потом он поднялся по винтовой лестнице на круглую площадку и очутился в лесу.
Солт, конечно, любил свой город и был уверен в победе. Совсем необязательно, что случится встреча с тем, другим. Директор сказал: только если Сокровенные не смогут отдать предпочтения никому, они как-нибудь сведут соперников. Тогда нужно будет стараться вести себя так, чтобы морально победить. В любой ситуации чувствовать свою правоту, свое достоинство.
Гордость. Ничего более конкретного даже директор не мог сказать. Только не делать ничего, что самому не хочется. Ну, это и так ясно — какой дуралей вздумает делать, чего не хочется. Драться я, конечно, не стану, в сотый раз с достоинством думал Солт. Хотя в случае чего смогу за себя постоять. Эта мысль доставила ему особенное удовольствие. Силы переполняли его. Упиваясь уверенностью в собственном теле, он без разбега высоко подпрыгнул и достал кончиками пальцев толстую рыжую ветку сосны. Рюкзак грузно и мягко поддал его по спине.
Солт знал, что победит.
Жалко того. Когда он проиграет Солту, его город расформируют. Всех заберут в эти жуткие Внутренние миры, о которых толком ничего не известно…
Но иначе нельзя, конечно. Это неизбежно. Население городов растет, они должны расширяться, значит, количество их должно сокращаться. Сколько всего городов? Солт понятия не имел. Собственно, о мире, расположенном за формирующими город силовыми рубежами, никто ничего не знал. Но Сокровенные знали все.
Время от времени они устраивали состязание. Директор получал сигнал и предлагал городу избрать бойца.
Поднимаясь на платформу, Солт, никак не думавший, что выбор падет на него, не подозревал, где окажется.
Но парки города он любил и очень обрадовался, что попал в лес. Он шел, а Сокровенные наверняка следили за каждым его шагом и оценивали каждый его шаг. Так они проверяли перспективность и жизнеспособность городов — выигравший город расширялся, а проигравший исчезал с лица земли. Но правил игры ни один горожанин не знал. Чем руководствуются Сокровенные, определяя победителя, было выше человеческого понимания.
А кто такие Сокровенные? Они ни во что не вмешивались, никто никогда их не видел и не слышал… Никто, собственно, и не стремился, — только дети, играя в Сокровенных, на свой лад пытались проникнуть в эту тайну, привычную, как зима и лето. Взрослые не задумываются над такими вопросами, у взрослых — дела.
— Ладно, думал Солт, бесшумно идя по плотному слою хвои. Столбы голубого света висели в ярком, насыщенном ароматами воздухе. Там разберемся. Если придется встретиться. А может, и не придется. Все-таки он волновался, как волнуются на ответственном празднике.
Пока все вроде нормально, все правильно: иду, лес не порчу… Интересно, а что делает сейчас тот?
День близился к концу, когда Солт вышел на просторную поляну, усеянную неподвижными брызгами цветов. Посреди, покосившись от старости, стояла седая, в напластованиях зеленого и сизого мха, избушка.
Она была такая неправдоподобно древняя, такая сказочная, что напоминала елочное украшение, плавающее в золотистых лучах заката. Только курьих ног ей не хватало. Солт замер и даже рот приоткрыл.
— Избушка-избушка, повернись ко мне передом, — негромко попросил он потом. Но избушка и так стояла к нему передом.
— Хозяева дома? — застенчиво позвал Солт. Мальчишеское предвкушение чудес, не оставлявшее его с самого утра, вновь усилилось.
Было очень тихо.
Солт подошел к крылечку и поставил ногу на верхнюю ступеньку. Подождал. Из какой-то вежливости к жилищу скинул рюкзак и, держа его за лямку левой рукой, неспешно вошел.
Внутри была одна лишь комната с узкими окнами в двух стенах, грубо сколоченным столом и огромным сундуком у стены. Ну вот, подумал Солт, стоя у порога и озираясь. Как удачно я набрел. В избушке никого не бывало, по крайней мере, с осени — на полу, занесенные октябрьскими ветрами, лежали скорченные коричневые листья. Солт положил рюкзак на стол и прошелся взад-вперед. Половицы скрипели и прогибались. Подмести бы… Кое-как, ногами, Солт сгреб хрупкие листья в угол и пожалел: комната потеряла свой заброшенный уют. Вышел на крыльцо. Вечереющий лес был безмятежен.
— Ну скажите на милость, — громко произнес Солт, — как тут можно поступать неправильно?
Он ожидал другого — трудностей, препятствий, предельных нагрузок. Направо — огнедышащий дракон, налево — камнепады… Происходящее походило на каникулы. Дальше бы так. Странно, подумал Солт, глубоко вдыхая лесной воздух, неужели утром я был еще дома?
Проснулся в своей постели… Спокойное солнце коснулась деревьев, тени ползли к избушке по росистой траве. Хорошая завтра будет погода, с удовольствием подумал Солт.
Гордясь собой, с приятным ощущением добротно сделанного дела, он вернулся в избушку, расстегнул рюкзак. Проглотил несколько питательных таблеток, запил глотком воды из фляги. Хорошо! Спать можно на сундуке. Неплохо бы, наверное, нащипать травы под голову — он читал об этом. Но рвать живую траву, только чтоб стало мягко голове лежать, казалось ему злобным безумством. Интересно, что в сундуке.
Там стояли один на другом ящики самых разнообразных габаритов и форм. Отблескивала сталь, матово темнела пластмасса — картина оказалась неожиданно суровой, далеко не буколической. С легким щелчком открылся первый — широкий, плоский, — внутри расположился целый продуктовый склад из таблеток и тюбиков. Видно было, что выпущены они на разных фабриках и возраст у них разный. Но Солт знал, что концентраты могут сохраняться практически вечно.
— Спасибо, друзья, — проговорил Солт, — но у меня есть.
И вдруг сообразил, что не первый попал в эту избушку, что, быть может, все играющие, из раза в раз, проходят этим путем. Догадка ошеломила его. Значит, он здесь не случайно? И избушка эта, и все, что в ней, не просто так? Он шел по лесу куда глаза глядят, километров сорок, наверное, отмахал, а пришел туда, куда его вели? Ему стало зябко.
Верно, был кто-то первый, оставивший здесь еду.
Возможно, незачем оказалось нести дальше, а возможно, позаботился о тех, кто придет потом. Говорят, есть города, где люди голодают. Может, там даже бойца не могут снарядить в дорогу… Наша еда самая вкусная, подумал Солт и, вытряхнув на ладонь полтора десятка своих таблеток, аккуратно уложил их в свободные гнезда. Лопай, брат… питайся. Наслаждайся. Солт вытащил карандаш и пометил: «Это — лучшие». Хотел поставить и дату, но спохватился, что в других городах может оказаться другой календарь. И письменность, вспомнил он. Он не знал, смогут ли его прочесть.
Вот странно, подумал Солт. Им овладела приятная, расслабленная задумчивость — дела завершены, можно поразмыслить о предметах умозрительных… Знаем, как из воздуха делать пищу, из магмы глубоко под городом — ткани и стройматериалы… А что за люди живут за непроницаемой пленкой силового контура — представления не имеем… Собственно, откуда мне известно, что «это — лучшие»? Он с неудовольствием качнул головой. Взял одну таблетку, придирчиво рассосал. Нет, успокоенно заключил он. Вкуснятина, как ни крути.
Темнело. Из окон веяло ночной летней прохладой; засыпающие деревья, казалось, были впаяны в синий ночной воздух единой, чуть туманной массой. Широко размахивая крыльями, над избушкой проплыла крупная птица — в тишине стонуще посвистывали перья. Может, и впрямь мой противник вокруг меня вьется, с улыбкой подумал Солт — ему показалось, это та самая птица, с которой он встретился днем. Тогда поди докажи тут свою правоту. Ему вспомнилась сказка о том, как подружились птица и рыба и немедленно заспорили. Рыба говорила: «Недотепа ты, по воздуху летаешь», а птица отвечала: «Дурища, в воде плаваешь…» В пылу полемики птица свалилась в воду. Рыба принялась ее одобрять и учить плавать, но птица просто пошла ко дну. Тогда рыба взвалила ее на спину и отнесла к берегу, проворчав: «Иди уж, летай, раз ничего лучше не умеешь». Но тут спасительницу волной вышвырнуло на берег. Птица страшно обрадовалась, стала приглашать ее полетать, но сообразила, что рыба не от хорошей жизни молотит хвостом по песку, и оттащила ее в море, буркнув: «Ладно, плавай, что с тебя взять». С тех пор они держались поблизости друг от друга — одна в воде, другая в воздухе, присматривая, чтобы с подружкой не случилось несчастья…
В следующем ящике лежал карабин.
Солт присвистнул. Он сразу узнал его. Солт любил механизмы и частенько заходил в Технологический музей — там имелись и образцы оружия. Поговаривали, что существуют города, где оно до сих пор в ходу, но Солт не особенно верил: карабин был для него такой же машиной, как, скажем, трактор, — забавной, шестеренчатой и допотопной. Он осторожно вынул карабин из повторяющего его очертания гнезда, обитого мягкой синей тканью. Карабин оказался удобным и приятно тяжелым. Вот это да, обалдело подумал Солт, неужто 5 состязаниях раньше разрешалось использовать оружие?
Директор говорил, это совершенно исключено, с собой даже ножика взять не разрешили… Солт, как в историческом фильме, прицелился. В кучу листьев на полу.
Затем, будто заметив нечто, нападающее сверху, стремительно вскинул карабин, ловя торчащий из стены ржавый гвоздь в кольца дульной фокусировки. Что-то очень властное было в этой точно и продуманно исполненной машине, что-то раскрепощающее, диктующее темп. Ну и дела, подумал Солт. Валяется столько лет…
Неужто и вправду друг в дружку палили, доказывая свое моральное превосходство? Вот бред! Какое же это превосходство, если просто взять да шарахнуть из кустов в ничего не подозревающего человека. Солт даже фыркнул от негодования. Интересно, он хоть заряжен?
Индикатор стоял у середины — то ли и впрямь когда-то стреляли, то ли разряжается, подтекает помаленьку…
Солт снова прицелился в листья, и стартер вкрадчиво, как бы сам собой, пролез под палец, и палец как бы сам собой тронул стартер.
Мгновенная тень плеснулась в углу.
Солт медленно опустил карабин.
Над опаленными половицами кружился, опадая, черный прах.
У Солта ослабели ноги, и он сел. Карабин больно ударил его по колену, и Солт обнаружил, что все еще держит его в руках. Его. Эту страшную, омерзительную машину.
С отвращением Солт оттолкнул карабин. Глянул на пальцы. Влажные пальцы дрожали, Солт принялся вытирать их о брюки — тер, тер и не мог остановиться. Потом он вспомнил, что за ним наблюдают.
Это его отрезвило. Он вздохнул и пружинисто встал.
Аккуратно, очень отчужденно уложил карабин в его мягкое гнездовье, захлопнул ящик. Поставил все, как было. Закрыл сундук. Он совершенно не желал знать, что там еще таится.
Независимо посвистывая, подошел к окну.
Лес спал, закрылись цветы. Из-под смутных ночных деревьев выползал туман, паря над самой травой тонкими, призрачными слоями. Лесная тишина стала глухой, и влажной, и такой чистой, что, кажется, было слышно, как звезды Летнего Треугольника — Вега, Денеб, Альтаир — с беззвучным звоном проклевываются в синеве.
Солт жадно захлебывал пахучий воздух. Мерзкая машина, думал он. Душная. Отчего-то ему было тревожно.
Спать он лег на полу, от сундука подальше.
Он проснулся на рассвете, под неистовый гомон птиц, словно от ощущения близкой опасности. Сел. Мышцы были странно напряжены.
— Погоди, — сказал он, будто надеясь, что привычный звук собственного голоса развеет кошмар. Он не узнал собственного голоса.
Кошмар не развеялся.
Ведь если он, Солт, попал в избушку не случайно, то и карабин нашел не случайно. Значит, его противник, каким бы он ни был, вчера вечером пришел в такую же избушку и нашел такой же карабин!
А если он из города, где привыкли к оружию?
Да что мямлить? Надо сказать себе прямо…
— Если он возьмет карабин и меня убьет? — вслух спросил Солт.
Погоди, сказал он себе. Разве это даст победу?
А разве можно знать, что даст победу?
Дикость. Да как мне в голову взбрело такое? Разве можно вот так вот вдруг убить? За что?
Чтобы расформировали не его город, а мой. Весь город. Весь громадный родной город.
Откуда я знаю, что он может, а что — нет? Я же ничего про него не знаю! Все что угодно может быть!
Солту стало жутко. Впервые в жизни он ощутил беспомощность, и его захлестнул тупой ужас.
— Погоди… только спокойнее! — прикрикнул он на себя. — Не дрожи!
Мне такая мысль не явилась бы, потому что убить немыслимо… Даже пригрозить, что убьешь, унизить другого — мне… это несвойственно.
А ведь я должен быть самим собой и не делать ничего себе не свойственного, вспомнил он. Это же так просто!
Да, но тот, другой, может оказаться действительно… другим, совсем другим! И оружие для него — счастливая находка…
Нет же! Ведь не исключено, что он не любопытен и не полез в сундук… Тьфу! Даже если полез! Оружие брать с собой запрещено. Значит, применять его нельзя. Значит, воспользоваться такой находкой нечестно.
Значит, это просто испытание на порядочность, и, значит, нельзя брать! А я и так не собираюсь брать!
У Солта гора с плеч свалилась. На то и дана человеку голова, удовлетворенно подумал он, чтобы, когда вдруг подводит интуиция, исходя из правил морали вычислить правильное поведение.
Ему хотелось смеяться. Как же все просто разрешилось, дальше бы так. Испытание порядочности! Ну что же, мы его выдержали дважды, думал он, доставая завтрак, и интуитивно, и интеллектуально… А мы — ничего, с почти детским самодовольством заключил он.
Ну, сейчас перекусим — и в дорогу. Красота-то в лесу какая! Росища… солнышко встает…
А откуда известно, что представления Сокровенных о порядочности совпадают с моими?
Солт задохнулся, словно от внезапного ожога.
Ведь это лишь нашего города порядочность. Вот я доказал то, что и без доказательств считаю правильным.
Логикой что угодно можно доказать: она опирается на аксиомы. Так нельзя! Мне не мои аксиомы нужны сейчас, а универсальные! Аксиомы Сокровенных!
А откуда мне их знать?
А есть ли они? Могут ли быть универсальные аксиомы? Или для Сокровенных знак жизнеспособности — то, в сколь широком спектре непривычных ситуаций средний горожанин нащупывает почву привычной этики под ногами? Глубоко ли в его сознание вошли аксиомы, формирующие культуру его собственного города? Короче, смогла ли данная культура создать своего человека или осталась набором искусственных, неуважаемых ритуалов, исполняемых лишь из страха оказаться отщепенцем?
Где-то порядочность может оказаться совсем иной.
Она может состоять в том, чтобы ради победы рвать у судьбы каждую случайность, дающую перевес, пользоваться любой мелочью, — ведь на карту поставлена судьба родного мира!
И не только судьба того мира поставлена на карту, вдруг понял Солт с ужасом. Ведь и мой…
Впервые до него отчетливо дошло, что состязание может окончиться не так, как он до сих пор был уверен. Собственно, впервые он осознал то, что для Сокровенных он, Солт, ничем не лучше того. Дальнейшее существование его общества, казавшееся доселе единственно реальным, правильным и вечным, только от Солта зависело теперь. И действительно, действительно могло прекратиться навсегда.
Нет, нет, нет! Спокойнее! Давай сначала. Я должен поступать, как хочу. Поступать нечестно я не хочу. Но поступать неправильно я тем более не хочу! Разве могут честное и правильное не совпадать? Неправильное быть честным, а нечестное — правильным? Но ведь, взяв карабин, получив преимущество, я поступлю нечестно.
А отказавшись от преимущества — поступлю неправильно… и в конечном счете тоже нечестно по отношению к доверившимся мне!
Ерунда! Какое это преимущество — взвалить на себя груз подлости, взять отвратительный механизм убийства, подброшенный для искуса…
А если увидишь, что противник собирается применить его против тебя?
А если он не собирается вовсе?
Я все равно не смогу выстрелить! Для чего же брать эту дрянь?
Да, но как на это смотрят Сокровенные?
Этого нельзя знать! Этого никто никогда не знает!!
Погоди. Подумай еще. Как следует подумай. Ведь не может быть, чтобы из этой неожиданной чепухи не было выхода. Решение где-то рядом, только надо успокоиться. Ошибиться нельзя! Солт резко встал, его колотило.
Рассуждай логически. Взять — значит обрести дополнительную силу, доказать свое умение пользоваться любой случайностью для достижения цели. Не исключено, что это приведет к победе. Но взять — значит поступить трусливо, признаться в бессилии достичь цели средствами, допустимыми в рамках твоей же собственной морали. Не исключено, что это приведет к поражению.
Солт хрипло рассмеялся.
Значит, выбрать логически нельзя в принципе. Для этого нужно заранее знать либо универсальные аксиомы — это невозможно, даже если они есть, либо конечный результат обусловленных выбором действий. Это тоже невозможно.
А ведь если я не могу понять, что делать, значит, я не вполне верю в моральные аксиомы моего народа… значит, у нас что-то неладно! Так это могут понять Сокровенные!
Но разве это, напротив, не доказательство перспективности — отсутствие тупой самоуверенности, критический подход к себе и к миру?
У тебя нет времени! На тебя смотрят! Пауза в тупике — не в твою пользу! Думай быстро и правильно!
Значит, брось думать!
И что сделать потом?
И зачем только я полез в этот сундук…
Для Сокровенных любопытство — достоинство?
Не смей думать об этом!
Может ли быть так, что тот не заинтересовался сундуком?
Не смей, не смей, не смей об этом думать, слышишь?
Этого нельзя знать!
Зачем только я полез…
Ну вот. Не можешь справиться с ситуацией и, как плохо воспитанный малыш, вместо того чтобы искать выход, начинаешь жалеть о содеянном. Уклонение от действий, пусть необязательных, но расширяющих знание о мире, — признак трусости, нищеты духа!
Или организованности?
Надо идти. Пока я не сошел с ума, надо идти вперед.
А ведь тот, быть может, не колеблется. Идет с карабином на изготовку, уверенный, что поступил правильно, единственно возможным образом… и что я поступил так же… а если не так же, то и очень даже удачно, что в противники такой лопух попался.
А ведь это недоверие — неоправданное, необоснованное, немотивированное недоверие к нему — тоже не в мою пользу. Почему это, собственно, я решил, что тот подлее меня? В глубине души, значит, я сам подлец?
Не иду на подлость, только боясь, что Сокровенные накажут?
Но разве не достоинство — осторожность?
Но разве не недостаток — трусость?
Если бы только собственная смерть! Но — город!..
Солт уже знал, уже всей кожей знал, как это будет.
Это будет вдруг. Но в короткое ускользающее мгновение, прежде чем мир погаснет, мозг успеет понять, что проиграл, что город обречен, и все уже ясно, и все уже непоправимо.
Что станется с Жале во Внутренних мирах?
Почему ты задумался о Внутренних мирах? Ты, кажется, уже собрался проигрывать? Уже решил, что проиграл? Уже проиграл в душе?
А может, взять карабин с собой, только батарейку вынуть? Можно пугнуть, а повредить — нет…
Кого ты хочешь обмануть? Себя? Сокровенных? Это верх трусости, гнусности, бессилия — отказаться не хватает смелости, но и решиться нет сил, и начинаешь мелко, пакостно изворачиваться…
Мне что за дело, как поступит мой враг? Мне не выгадывать надо, а жить, быть собой. Разве может быть одна мораль для друзей, а другая — для всех остальных? Не может. Значит, я должен доверять ему, как другу. И ему будет хуже, если он обманет это доверие.
Пусть он меня убьет. Это подлость, я уверен. Его подлость погубит его город. Его, а не мой. Подлость всегда разрушает в первую очередь самого подлеца! Пусть он меня убьет!
Разве не достоинство — равный подход ко всем, соблюдение принципов всегда, с кем бы ни столкнула судьба?
Но разве не недостаток — неспособность к маневру, к виражу, из-за которой распрекрасные принципы обращаются в благоглупости, порядочность в подлость, добро в зло, потому что приводят к поражению?
Это какой-то кошмар! Зацепиться не за что! Любое человеческое качество — любое! — в зависимости от ситуации может оказаться и хорошим, и плохим. Но ведь не мы выбираем ситуации, жизнь выбирает!
А почему, собственно, не мы?
И в самой грязной ситуации главное — не запачкаться, не изменить себе, остаться честным…
Хороша честность, если она отдает меня и моих родных на милость чужака! Это не честность, а уход от ответственности — пусть думают, пусть действуют другие, а я честный, эта ситуация не для меня! Дайте мне другую, поблагороднее, или я палец о палец не ударю…
В гробу я видел такую честность!
Если бы я был умнее, я, быть может, придумал бы, как поступить. Если бы я был глупее, я, быть может, вообще бы не задумался. Но я такой, как есть! И мне решать!
А может, все мои муки — это лишь доведенная до предела растерянность раба, не могущего отгадать, чего желает хозяин? Как бы угодить? Как бы не проштрафиться? Чего изволите? А он не отвечает, усмехается молча и только поигрывает плетью…
В окно залетали утренние запахи леса — волна смолистого, волна медового…
Тут Солт вдруг понял, что как мишень стоит у окна.
Бревенчатая стена, казалось, рухнула на него — так стремительно прянул он в дальний угол, заросший лохмотьями паутины. Больно ударился плечом. Сполз на пол. Затравленно озираясь, вжался в стену спиной.
Далеко сундук! Если сейчас заскрипят ступеньки крыльца… и распахнется дверь… и кто-то с оружием, с оружием!..
Внезапно он как бы увидел себя откуда-то сверху, представил, как жалко и нелепо выглядят его метания для того, кто знает ответ, и едва не застонал от унижения и стыда.
Что за мерзость! Почему в городе, дома, всем это кажется совсем нормальным, привычным — эта дьявольская пытка, это издевательство… Разве нет иного выхода? А неизбежность гибели городов — не одного, так другого? Я ничего не знаю, но я чувствую, что ситуация эта подла и грязна с самого начала. Раз она обращает честность в предательство, она не имеет права существовать! Я и выигрывать-то не хочу такой ценой! Я не хочу проиграть, но и выиграть не хочу тоже. Кто все это измыслил, зачем?
Да провались они, Сокровенные эти! Нет мне дела до них! Поди угадай, что им взбредет в головы! Надо быть собой — и все. Это же так просто.
А что такое я? Я — это честный, но не решающий?
Или я — решающий быть честным? Или я — тот, кто способен отказаться от победы, лишь бы, понимаете ли, не замарать ручки? Или я не считаю грязную победу победой? Или я — трус? Как же быть собой, не зная, что, собственно, я такое? Вот в чем надо разобраться прежде всего! Может, еще не поздно! Не в том, что от меня хотят, — в том, что я сам от себя хочу! И ошибиться нельзя! Нельзя ошибиться!!
Цепляясь за стену, он встал. Словно в бреду, двинулся вон из своей безопасной щели, подошел к двери, распахнул ее, отчаянно оттолкнув от себя изо всех сил. На ватных ногах сделал по скрипучему крыльцу еще шаг и остановился, щурясь от жарко упавшего на лицо солнца.
Зеленое ликование, согретый покой. Беззвучный и невесомый перепляс бабочек над кипящей радугой луга.
Басовитыми всплесками — пролетающее гудение шмелей. Выстрел медлил.
— Ну!! — срывая голос, крикнул Солт.
Шумно захлопав просторными крыльями, две большие птицы сорвались с вершины вяза и толчками, бок о бок пошли в голубой свет.
ОЛЕГ ТАРУТИН МЕНЬШЕ — БОЛЬШЕ Рассказ
— Ну вот, с первым вопросом, кажется, разобрались. — Откинувшись на стуле, председатель товарищеского суда оглядел зал. — Факт залития Орловыми нижележащих Пазиковых установлен нашей комиссией, и сумма ущерба в ориентировочной сумме… словом, стоимость ремонта примерно восемьдесят — сто рублей. Так, Ксения Карповна?
— И сумма подлежит вручению пострадавшему, добавила ведущая протокол пенсионерка Ксения Карповна Крупнова, член товарищеского суда.
— Вот именно. Должна быть отдана Орловым Пазикову в срочном порядке. Товарищ Орлов, согласны?
— Значит, ремонтирует он за восемьдесят, а я ему — сотню?
— А это уж как «Радуга» определит, мне лишнего не нужно!
— Тише, тише, граждане! — возвысил голос председатель. — Ну что ж вы, Орлов? Пазиков представит вам квитанции «Радуги», а за «преднамеренное» он извинился, чего ж вам еще? Только время тянете…
— Ладно! Двадцатка туда, двадцатка сюда… Кончаем базар, согласен!
— Вот и отлично. Оба можете быть свободны. Остаетесь? Хм… Тогда ко второму вопросу? Или, может, перекур? — покосился председатель на второго члена суда — Хохлина, курящего человека.
Тот отрицательно помотал головой: продолжим, мол, потерпим.
— Второй вопрос… м-да… — Председатель крепко потер ладонью загривок, побарабанил пальцами по столу, покрытому красным, в чернильных пятнах плюшем, достал аккуратно сложенный носовой платок, аккуратно развернул его, высморкался. Явно тянул время председатель товарищеского суда…
— И вот что я вам, граждане, скажу, — отыскал он глазами уже разобранных Орлова и Пазикова, — не по-людски это как-то, граждане: чуть что — и заявления строчить, чуть что — и в товарищеский суд. Неужто без суда меж собой не договориться? Ей-богу, совестно!
— Я, что ли, писал, комиссии вызывал?
— Я, что ли, полсотни предлагал от силы? — поочередно откликнулись сутяги, но чувствовалось, что оба они пристыжены.
— Степан Гаврилович, — сказала старушка Крупнова, — давайте второй вопрос, а? Время. Мне еще в аптеку нужно и в булочную.
— Ясно, Ксения Карповна. Хм… Второй вопрос, товарищи, — еще два заявления. Оба заявления на одного человека — Селецкого Валерия Андреевича, Картонажная, восемь дробь три, квартира двадцать четыре. Прошу внимания, товарищи! — в мертвой тишине возгласил председатель. — Кто-нибудь у окна, откройте форточку, дышать же нечем!
И в самом деле, в небольшом помещении красного уголка жилконторы народу сегодня собралось уйма. И завсегдатаи из пенсионной вольницы составляли нынче лишь малую часть публики. Места позанимали загодя и сами работники жилконторы во главе с начальницей.
Сидел в зале мясник Сережа, известный всем продавец из гастронома, что напротив, сидел старичок Мильпардон — достопримечательность микрорайона, приемщик стеклотары, человек реликтовой вежливости; присутствовал молодой, милицейский лейтенант, сидящий рядом с молодой и яркой женщиной, так, в паре, они и появились невесть откуда. Подавляющую же часть публики в красном уголке составляли жильцы дома 8, корпус 3, по Картонажной улице — и подоконники позанимали, и стояли, подпирая спинами стены. Иные даже и домой не зашли с работы, так и заявились сюда с портфелями и сумками. А через сорок минут, между прочим, по телевизору «Третья пуля», вторая серия. Так в чем же дело? Товарищеские суды людям, что ли, в новинку?
Да тьфу! Великое удовольствие — выслушивать бытовые склоки! Ну кто бы, к примеру, притащился сюда сегодня ради тяжбы Орлова с Пазиковым? Шутите! А сами они почему не ушли, чего ради остались? А жилконторские здесь почему? А Сережа — мясник, а Мильпардон?
То-то и оно, что дело тут нынче слушается такое, что и «Третьей пулей» пожертвовать не грех. Который уж день по всей, почитай, Картонажной молва об этом: и нy-нy, и вслух… Селецкий-Супоросов, Супоросов-Селецкий… Да что вы говорите? Да надо же! Да не может этого быть!..
Ну, Супоросова Гертруда и до этого весь дом знал, даром что жилец недавний, по обмену, — больно уж личность приметная, А тут и незаметного Валеру Селецкого узнали. Вон он, голубь, сидит в первом ряду: курточка, свитерок, росточек не ахти. Не фигура он против Супоросова по внешним данным, не фигура… Тот-то прямо киногерой — что тебе пиджак кожаный, что рубашка, что галстук. И чист, и плечист, и могуч, и спортивен. Бобер.
И жена рядом — тоже вроде импортная. В общем, пара — есть на что поглядеть.
Однако большинство в зале смотрело на Супоросова с явной неприязнью, и неприязнь эту он, надо полагать, ощущал, а потому и оглядывался временами на публику из своего первого ряда с высокомерным прищуром. Во время предыдущего разбирательства — Пазиков против Орлова — он все переговаривался с женой, громко хмыкал, задирал кожаный обшлаг рукава и демонстративно смотрел на часы. Селецкий же, наоборот, проявлял такой живой интерес к процессу, словно сам бывал в подобной ситуации — то ли как залитый, то ли как заливший. И теперешнее внимание к нему публики Селецкого, видимо, не раздражало, а забавляло.
— Стало быть, два заявления, граждане! — возгласил председатель и постучал по графину шариковой ручкой. — Заявления от товарищей Супоросова Г. Р., Картонажная, восемь дробь три, квартира двадцать четыре, и Клименко В. Ф., тот же дом, квартира сто шестьдесят три…
— Написал-таки, обормот! — прервал председательскую речь возмущенный и горестный женский вскрик. Предупреждала ж тебя! Ох, смотри у меня, Фомич!
Председатель энергично застучал по графину, нахмурился и предостерегающе поднял руку:
— …квартира сто шестьдесят три. Имеются заключения нашей комиссии по этим вопросам в составе Крупновой Ксении Карповны, Перловой Н. И. и…
— …и Ячневой! — озорно подсказали из зала.
— …и Пшенниковой Н. К., — среди общего хохота невозмутимо закончил председатель. — Тише! Предлагаю начать с заявления Клименко, как более простого, но тоже, граждане, мутного.
— Ну обормот! Ну додумался!
— Тише! Огласите заявление, Ксения Карповна, — наклонился председатель к соседке.
Член суда Крупнова — чистенькая сухонькая старушка, оскорбленная смехом зала по поводу фамилий членов комиссии, — мелко теребила плюш скатерти.
— Пусть лучше Юрий Михайлович огласит, — враждебно качнула она головой в сторону второго члена товарищеского суда — Хохлина, смеявшегося вместе со всеми, — а то все смешочки…
Смешливый Хохлин с готовностью протянул руку к заявлению.
— Ладно, тогда я сам, — сказал председатель.
Он взял со стола верхний листок, дальнозорко отнес его от глаз и огласил:
— «В товарищеский суд ЖЭК № 124 от Клименко В. Ф., проживающего — ул. Картонажная, дом 8/3, квартира 163, с 1953 года…» Срок проживания указывать не требуется, Клименко, — отвлекся председатель и продолжил чтение, морщась из-за трудностей клименковского почерка: — Так. «Заявление. Прошу обуздать жильца Селецкого Валерия из временного фонда квартиры 24, каковой пусть прекратит ставить на мне свои опыты. Пусть Селецкий Валера расскажет, зачем он, хоть имеет свойство менять размер масштаба в обе стороны, в отношении меня действует односторонне и только все уменьшает, дискретируя…» Очевидно, «дискредитируя», Клименко?
— Вот именно, подрывает он меня, — откликнулся тот. — Там все верно написано, читайте!
— «…дискредитируя меня морально и материально. Клименко В. Ф. 11 июня 1980 года».
— Малопонятное заявление, — вздохнул председатель, кладя листок на стол. — Прямо скажем, совсем непонятное! Может, объясните, Клименко?
— Высказался, умник! «Дискретируя»! «Каковой»! Покрасовался перед народом — эвон все смеются! Забирай заявление, сейчас забирай!
— Молчи, Клавдия!
— Василий Фомич, — улыбаясь, обратился к старику Селецкий, — вам заявление случайно не Супоросов писал?
— Щенок… — сквозь зубы процедил Супоросов. — Цуцик. Я б тебе в другом месте…
Зал загудел. Вот оно, начинается…
— Ну-ну! — нахмурился Хохлин, в недавнем прошлом известный в городе хоккеист. — Так-то зачем?
— Угрозы — это не аргумент, — сказала старушка Крупнова, адресуя свое замечание одновременно и Супоросову, и жене Клименко. — Товарищ Клименко, объясните спокойно суду, какие у вас претензии к товарищу Селецкому.
— А такие претензии, — озлившись вдруг, вскочил с подоконника заявитель — старый, шибко изношенный жизнью человек, — такие претензии, что он мне который уже раз бутылки вермута в пузырьки превращает!
— А? Ха! — коротко хохотнул Хохлин. — Как же это? Зачем?
— А это уж вы Валерку спросите, как да зачем. А только глянет он, кобра вредная, на бутылку, и масштаб меняется: была бутылка вермута, а стал пузырек!
— Клименко! Вас же серьезно спрашивают, — сморщился председатель. — Серьезно спрашивают — серьезно и отвечайте!
— Куда уж тут серьезнее! И этикетка та же, и стекло толстое, зеленое, а размер — пузырек. И на пункте не берут.
— Потому что, голубчик, нестандарт! — ласково отозвалось из зала, и все повернули головы на этот голос. Со всей бы охотой принял бы у вас, голубчик, ваши удивительные пузырьки, но, к величайшему моему сожалению, не имею права!
— Вот и Мильпардон подтверждает! — обрадовался старик.
— Комиссией установлено наличие в квартире Клименко четырнадцати таких бутылочек, — в гробовой тишине зала сообщила старушка Крупнова. — Я думаю, Степан Гаврилович, акт проверки сейчас зачитывать не стоит. Потом уж, по обоим заявлениям…
— Ясное дело, — кивнул председатель. — Ну бутылочки эти, ну нестандарт, — вопрошал он истца, продираясь к истине, — а Селецкий-то тут при чем? Он-то при чем, спрашиваю?
— Так он же их и превращает, вот при чем! — ответствовал Клименко. — Хоть вовсе не покупай!
— Вот и не покупайте, Василий Фомич, — подхватил Селецкий, — чего ж нестандарт-то разводить?
Кто-то фыркнул, кто-то хохотнул, кто-то шумно перевел дыхание, и снова в зале напряженнейшая тишина — слова бы не пропустить.
— Ну что за чушь, — страдающим голосом проговорил председатель, — и устная чушь, и письменная! Я, впрочем, так и думал, что этого мутного заявления никакие объяснения не прояснят.
— Кстати, Степан Гаврилович, — вставила старушка Крупнова, — одна из этих бутылочек передана комиссии пострадавшим и находится у Перловой, которая почему-то не изволила сюда явиться.
— Да какой он, к лешему, пострадавший! — вновь раздался голос стариковой жены. — Слушайте вы его больше, товарищи судьи! Это мы с дочкой-внучкой через него, недолеченного, страдаем!
— Гражданка Клименко! — застучал по графину председатель. — Не вскакивайте и не кричите! Не глухие тут.
— А не глухие, так меня слушайте!
Дородная женщина начала было протискиваться из своего ряда, но махнула рукой и продолжала с места:
— Мы же Валеру с Валентиной и попросили, с дочкой моей. Сами. Это же Валера Фомича от выпивки отучал! Как первый раз случайно уменьшил, так мы потом его все время и просили, — объясняла она то судьям, то залу, поворачиваясь во все стороны. — Делай, говорим, милый, раз можешь, лечи ты его своим способом!
— Въехал ты на маневренный на мою голову, Валерка! — стоном подал голос с подоконника старик Клименко.
— На твою, на твою! — торжествующе закивала жена. — На твою голову да на наше спасение. Вермуту он ему убавил! Да он тебе, идолу, жизни прибавлял, печенку твою трухлявую спасал, а ты на него — донос… Эх, Фомич, продажная ты душа, с Супоросовым стакнулся! А все равно и с его бутылками такое же будет!
— Все сказали? — каким-то вялым голосом спросил председатель.
— Все сказала. По нашей, по семейной просьбе Валера действовал. — Женщина села и, застыдившись вдруг общего внимания, низко опустила голову.
Председатель тихо спросил что-то у члена суда Крупновой, и та отрицательно замотала головой; спрошенный председателем Хохлин хохотнул и пожал плечами.
— Ничего мы тут не поняли, — подытожил это краткое совещание Степан Гаврилович, глядя на Валерия Селецкого. — Может быть, вы, товарищ Селецкий, внесете ясность? Здесь вот говорят, что вы якобы бутылки уменьшали у Клименко каким-то способом. А вы вроде не возражаете, соглашаетесь вроде бы, а?
— Ну, предположим, уменьшал, — ответил вопрошаемый как бы с ленцой.
— Что? — подался вперед председатель. — Да как это?
— Что? Как? — полетели вопросы из взволнованного зала.
— Ну, допустим, существует такой способ, — с тою же ленцой сказал Селецкий.
— Вы это запротоколируйте! — вскочил с места Супоросов, энергично, как регулировщик на углу, вытянув руки: одна рука — в сторону судейского стола, другая — в сторону Селецкого. — Очень важное признание! Это и по моему заявлению признание! Запишите!
Поднялся шум. Председатель, кинув мимолетный взгляд на Супоросова, махнул рукой: сядьте, мол, — и снова в упор уставился на Селецкого.
— Ладно, насчет «как» — это мы потом будем выяснять. Я насчет материального ущерба. На кой черт вы это делали? Если только, — председатель вдруг непроизвольно, точно стряхивая с лица воду, замотал головой, если только в самом деле делали?
— А я не хочу, чтобы дед травился и семью травмировал, — ясным голосом отозвался Селецкий. — Жалко мне их стало — вот и все. Да старик еще сам меня потом благодарить будет.
— Обидел ты меня, Валера, обидел! — раздался горестный стариков голос. — Может, ты и хороший человек, а я кровосос семейной жизни, а только не могу я тебя простить и благодарить не буду! А Супоросов Гертруд все одно тебя доконает, мы с ним так и договорились: от меня вывернешься, так от него не уйдешь!
— Ты, алкаш, меня к своим делам не притягивай! — презрительно и угрожающе проговорил богатырь Супоросов. Он зло вырвал свой локоть из рук импортной красавицы. — Ну что «успокойся»? — рявкнул он на нее. — Это ж одна шайка-лейка, не видишь, что ли?
— Товарищ Супоросов, держите себя в рамках! — строго сказала старушка Крупнова.
— Тихо, тихо! — нахмурился Хохлин.
— Видал, Фомич, приятеля своего? — зловеще проговорила старуха Клименко. — Или и дальше судиться будешь?
— Товарищи суд! — вскочил с подоконника Клименко. — Заявление отменяю! Валерку не прощу, а судиться не буду!
— Так, так, — сказал председатель, — уже полегче… Клименко, ответьте нам, как автор этого заявления, — он ткнул пальцем в листок, — вы имеете претензии к Селецкому? Четко и ясно — ну?
— Аннулирую заявление, как не имевше!
— Очень хорошо. Разбирайтесь в ваших пузырьках сами, а у нас сейчас поважнее дела пойдут. Меньше кляуз — легче жить, — афоризмом завершил Степан Гаврилович клименковское дело. — Теперь вторая бумага… Председатель поднял со стола листок и, тоже отведя его от глаз, зачитал: — «В товарищеский суд… так… от Супоросова Г. Р. так… квартира 24. Заявление. Требую принципиального и сурового осуждения антиобщественного поведения жильца нашего дома Селецкого В. А. Селецкий В. А. систематически нервирует окружающих, постоянно затевает безобразные скандалы, нагло вмешиваясь в чужие дела. Испытывая патологическую ненависть к чужой, честно приобретенной собственности, он старается нанести ей вред и порчу, даже если эта собственность — животное». В скобках — «живая собака», — пояснил Степан Гаврилович. — «Такое безобразное поведение распоясавшегося хулигана Селецкого В. А. могут подтвердить многие жильцы нашего дома, понесшие материальный ущерб, в частности — всеми уважаемый инвалид войны, пенсионер Клименко В. Ф…»
— Вот ведь паразит! — почти восхищенно вскричал Фомич. — Тут я, стало быть, уважаемый, а тут — алкаш?
Зал, внимавший чтению в недобром молчании, рассмеялся.
— Тише! Читаю дальше. Так… «пенсионер Клименко В. Ф. В отношении меня лично хулиганом Селецким совершены следующие акции: 1) выведена из строя моя машина «Волга-24», модели «седан», 2) приведен в полную негодность металлический разборный гараж, 3) травмирована и искалечена собака — дог, чемпион породы. От своего имени и от лица общественности нашего дома требую сурового наказания хулигана Селецкого В. А., полного взыскания с него нанесенного мне материального ущерба, а также немедленного пресечения его аморальной деятельности, мешающей честным советским людям спокойно трудиться на благо нашей любимой родины. Супоросов Г. Р. 8 июня 1980 г.». Напечатано на машинке, — нашел нужным сообщить председатель, дочитав заявление.
Во время чтения зал сурово и неприязненно рассматривал Супоросова. Один только разоблачаемый Селецкий, едва приметно улыбаясь, смотрел на жену своего врага. Как она слушала произведение Гертруда! Как поэму, как волшебную сказку! Ах, почему, почему же остальные в этом зале так бесчувственны, так жестоки! Да, это была любовь…
— Завернул! — кричали из публики. — «Честный советский»!
— Пусть докажет! Сегодня в машине ездил, и гараж стоит!
— И дог шастает!
— Не пляшут уже такие заявления, опоздал!
Председатель поднял руку, пресекая шум;
— Кроме заявления, товарищи, имеются еще: характеристика с работы товарища Супоросова, копия товарного чека на машину, — перечислял он, перекладывая бумаги, — собачий диплом и ветеринарная справка. Но они, товарищи, существа дела не проясняют. Заявленьице-то, сами слышали, серьезное! Такие обвинения доказывать нужно, товарищи. Думаю, надо нам сейчас выслушать товарища Супоросова — что он может сообщить конкретно. Потом мы ознакомим собрание с актом комиссии, а потом заслушаем товарища Селецкого, а характеристики да дипломы — это дело десятое.
— А вот вы как раз зачитайте характеристику! — вскочив с места, крикнула красавица Супоросова. — Это вам не какая-нибудь бумажка! В «Оптснабе» зря характеристик не дают! Тоже мне! — От возмущения Супоросова порозовела и стала еще краше. — Гертруда Романовича все уважают и ценят! Заграницу доверяют! Что ж ты молчишь, Трудик? Скажи им! А если у нас все есть, и машина…
— Сядь! — дернул ее за руку супруг, силком возвращая на место. — Заграница… Не видишь, дура? — кивком указал он на враждебно гудящую публику.
Жена ойкнула от неожиданности и села, глядя на супруга с изумленно приоткрытым ртом. Супоросов поднялся. Спокойный, осанистый, великолепный, он словно бы и сам являлся чемпионом породы, ну коль уж не города, так района. Многим в зале пришла в голову эта мысль при взгляде на вставшего Супоросова.
— Я полагаю, — начал Супоросов породистым баритоном, обращаясь только к председателю товарищеского суда, — я полагаю, что разбор подобных уголовных дел, да, да, подчеркиваю — уголовных, вообще не входит в компетенцию товарищеского суда жилконторы, — он презрительно усмехнулся, — поскольку никто из членов этого суда даже не имеет юридического образования и где вместо серьезного разбора дела устраивается цирк на потеху разным безответственным элементам.
Переждав всплеск враждебных выкриков зала, председатель постучал по графину.
— Так вот, — еще пуще сгустил баритон Супоросов, — насчет сегодняшнего разбирательства я не обольщался. Вначале я подал заявление в нарсуд, тем более что методы, которыми орудует этот бандит, — кивок в сторону Селецкого, — должны заинтересовать и, уверен, еще заинтересуют кое-какие серьезные инстанции. Но… — Супоросов театрально развел руками, — но там сочли нужным направить мое заявление в товарищеский суд по месту жительства, хе!.. Это во-первых…
— Вы извините, Степан Гаврилович, — оскорбленно и взволнованно проговорила старушка Крупнова, торопливо роясь в своем портфеле. — Я сейчас, я относительно юридического образования, чтобы у собрания не возникло неясности… Да где же оно, боже мой? «Положение»… Ну пусть, я и так… — Старушка бросила копаться в портфеле, вскинув голову, посмотрела на Супоросова.
Лицо ее пошло пятнами. — Товарищ Супоросов, вам известно «Положение о товарищеских судах»? Известен вам порядок, выборов в товарищеские суды?
— Да на кой мне это нужно?
— Ах, «на кой»? Не «на кой», а не нужно дезинформировать собрание! В «Положении» ничего не говорится о юридическом образовании. Вот так!
— Ну и ладно, что вы взвинтились-то?
— Нет, не ладно! Там сказано об уважаемых и авторитетных товарищах, заслуживающих доверия граждан. Да, я не юрист, и Степан Гаврилович не юрист, а военный в отставке, и товарищ Хохлин тоже не юрист. А этого от нас и не требуется! И в «Положении» совершенно ясно сказано!
— Да не волнуйтесь вы, Ксения Карповна, — успокоил старуху Хохлин. — Юристы, не юристы… Мы в судьи не навязывались, а коли выбрали нас, так уж разберемся как-нибудь!
— Вот именно, — хмуро кивнул председатель. — Вы продолжайте, Супоросов.
— Товарищ Супоросов, — с нажимом на обращение поправил тот.
Выведенный из равновесия враждебностью зала и неожиданной перепалкой со старухой, он изо всех сил старался сохранить спокойствие и значительность.
— Так вот, в моем заявлении изложено все четко и ясно. Этим вот, — кивок в сторону Селецкого, — испорчена моя машина, испорчен мой гараж и покалечена моя собака. Вот факты, и на эти факты имеются свидетели.
— Комиссия располагает другими фактами, — сказала Крупнова.
— Ко-мис-сия! — передразнил старушку потерявший выдержку Супоросов. — Три старушенции на ладан дышат, еле соображают, а туда же — акты расписывать! А он мне, гад, машину уменьшает и гараж! Был гараж, стал ящик — полтора на два! Был «седан» — что с ним стало? Детская машинка! Сколько раз он мне, гад, такое делал? А к приходу старух все восстановил. Я же вам рассказывал, товарищ Витязев, — негодующе обратился Гертруд к Степану Гавриловичу. — Я ж объяснял вам, что есть у него такая возможность; уменьшать-увеличивать! Черт его знает, как он это делает, но делает же! В этом еще разберутся кому следует! Будьте спокойны, разберутся! Эт-то вам не шуточки, этим делом займу-у-тся еще! — грозно пообещал Супоросов. Он ведь этак и с золотишком орудовать может, и с камушками, да мало ли с чем? Вам факты нужны, да? Вот вам факты, только не из актика вашего липового! Все видели «микрогараж» этот, и машину все видели! Что, не видели? — повернулся Гертруд к залу. — И вы не видели, Людмила Акимовна? И вы, бабушка? Да, да, вы, в зеленом! При вас же он тогда уменьшал, да или нет? Да вы про детскую площадку да про то, какой я разэтакий, потом бубнить будете! Вы подтвердите — видели? Слава тебе, господи! И та вот, с клюшкой, на скамейке тогда сидела! И парень вот этот, колченогий! А машину осматривал товарищ Волков, работник милиции, — отыскал Гертруд глазами милиционера. — Вы то уж видели, Юра? Скажите им!
— Я скажу, не беспокойтесь, — усмехнулся в ответ Юрий Волков.
— Вот и скажите. Мне, кроме правды, ничего не надо! И комиссий, и актиков мне не надо! Ему ж, — кивок в сторону Селецкого, — плюнуть раз — восстановить все, как было! Где, мол, доказательства? А что у ханыги этого полна квартира нестандартных бутылок — не доказательство? Я ж с ним, с гадом, — имея в виду Селецкого, горько пожаловался Гертруд, — и так, и сяк, и по-хорошему: отвяжись ты от меня, не суйся ты не в свое дело! Так нет! Ну что, бить мне его? Так это я могу тебе устроить, понял ты? — Супоросов угрожающе дернулся в сторону улыбающегося Селецкого.
Зал грозно загудел.
— Поаккуратней, дядя, — нахмурился хоккеист Хохлин. — Без силовых приемчиков!
— Трудик! — дергала Супоросова за рукав супруга. — Ты про Султашу расскажи, про Султана!..
— А-а, Султаша! — отмахнулся Гертруд. — Век им тут не разобраться, не их это компетенция! Передайте дело в нарсуд, об одном вас прошу!
— Все-таки попытаемся разобраться без нервов, может, нам и хватит нашей компетенции, — сказал председатель, военный в отставке. — Вы утверждаете, что гражданин Селецкий привел в негодность вашу машину и ваш гараж путем их уменьшения? Так?
— Ну так…
— И что же он, я извиняюсь, пилил? Автогеном резал? Кувалдой плющил? Вы его заставали за этим занятием? И свидетели? И не ваша ли машина стоит сейчас тут, под окнами, и не в ней ли вы сюда приехали, товарищ Супоросов?
— Ничего он не пилил, не резал, а уменьшал. Уменьшал, как вот бутылки у старика. Да что ж это такое? Говорю — как об стенку горох! — Супоросов вяло махнул рукой и сел.
— Зачитайте-ка акт, Ксения Карповна, — предложил Хохлин.
— Да нечего его читать! Читал я уже актик этот! — запротестовал истец.
— Вот вы какой, оказывается, товарищ Супоросов! — вставши, сказала старушка, и лицо ее вновь пошло пятнами. — Вы читали! А кроме вас тут что же, и людей нет?
— Трудик, милый, спокойно…
— «Акт комиссии ЖЭК № 124 от 8 июня сего года, — звучно начала читать Крупнова, — по заявлениям товарищей Супоросова Г. Р. и Клименко В. Ф., проживающих… далее — адреса. Комиссией в составе… читали… так… установлено следующее. Первое по заявлению товарища Супоросова Г. Р. Пункт "а" — гараж. Принадлежащий тов. Супоросову гараж визуально не отличается от прочих гаражей, принадлежащих жильцам дома 8/3. Внешних и внутренних повреждений не имеет.
Расположен обособленно, занимая часть детской площадки, непосредственно примыкая к песочнице. По заявлениям ряда жильцов дома, при установке гаража рабочими, нанятыми тов. Супоросовым Г. Р., были спилены два дерева, посаженные ранее на субботнике по озеленению. Пункт "б" — автомашина…»
Но тут Ксении Карповые пришлось некоторое время пережидать возмущенный шум зала по пункту «а» — гараж. Многим была памятна безобразная история с песочницей и двумя загубленными деревьями.
— «Автомашина… — читала Крупнова. — В момент проверки автомашина "Волга" находилась в гараже. Внешних повреждений не имеет. По словам самого тов. Супоросова Г. Р., "сегодня она в порядке, но это ничего не значит". Пункт "в" — собака. Комиссии был представлен для осмотра дог по кличке Султан. Пол собаки — кобель. Зарегистрирован в районном клубе служебного собаководства. Регистрационный № 1171. Собака явно травмирована, нервна, прихрамывает на переднюю левую лапу, правое ухо кровоточит. По словам заявителя, подвергся нападению Джека — дворняжки, якобы не зарегистрированной, принадлежащей семье Медведевых (тот же дом, кв. 96). Факт нападения Джека на дога Султана представляется комиссии маловероятным, поскольку первый визуально в 2–2,5 раза меньше дога Султана. Фантастическим кажется объяснение тов. Супоросова Г. Р., что дог Султан был специально уменьшен тов. Селецким в размерах. Собака Джек в клубе собаководства зарегистрирована, регистрационный № 2433, справка о прививке имеется. Таким образом, по заявлению тов. Супоросова Г. Р. факты по гаражу и автомашине не подтвердились, в отношении собаки подтвердились частично».
— По заявлению Супоросова все, Степан Гаврилович, — подняла глаза от листа Крупнова. — Далее — по заявлению Клименко.
— С Клименко все ясно, — сказал председатель, массируя ладонью затылок. — С этим разобраться бы…
— Уж вы разберетесь, — съязвил Супоросов. — Комиссия, гляжу, уже разобралась…
— Скажите, это вы подавали заявление в товарищеский суд? — подчеркнул местоимение председатель. — Или это я за вас писал? — Он поднял со стола супоросовское заявление и, взмахнув им, шлепком припечатал к столу.
— Да пусть он уходит, Степан Гаврилович, разве же мы его держим? Уходите, сделайте милость! — воскликнула Ксения Карповна.
— Ваше дело — написать определение о передаче дела в нарсуд, — втолковывал Гертруд. — Они и разберутся, и экспертов пришлют компетентных, а не этих… Перловых…
Старушка Крупнова едва не расплакалась от обиды и возмущения.
— Это вы верно сказали: наше дело, — кивнул Супоросову Степан Гаврилович. — Уж мы решим, товарищ Супоросов, какое нам определение написать. И насчет детской площадки тоже…
— Ах, что за обстановка, боже мой! — горестно воскликнула вдруг красавица Супоросова. — Ах, что за отношение к нам! Требуем опроса свидетелей! Пусть товарищ Волков скажет, пусть скажет Диночка! — Повернувшись к залу, она призывно закивала милиционеру и его спутнице. И публика впилась глазами в эту парочку: что таит их присутствие, что готовит?
— Я скажу! — подняла руку и сама тяжко поднялась со стула та самая старуха в зеленом, которую призывал к свидетельству Гертруд Супоросов. — Как я свидетельница, как они с Валерием-то спорили. Тот говорит: что ж, мол, ты гаражом детскую площадку топчешь? А тот ему: не твое, мол, собачье дело, разрешение, мол, у меня от исполкома, иди, говорит, покуда ноги ходят, покуда я их тебе не повыдергал! А тот ему: липовое, говорит, у тебя разрешение! Инвалиды и те в сторонке гаражи поставили, а ты что же, блатная твоя душа? А тот рычит прямо: иди, говорит, покуда цел! Ну, думаю, изобьет он Валерия сейчас. Гертруд-то эвон какой бугаище! А Валера ему: ну, говорит, коли так, вот тебе гараж твой! Гертруд тут как вскрикнет! — схватилась старуха за щеку. — Страшно так, отчаянно! Ну, думаю, пырнул его Валера чем-нибудь, не иначе! А потом смотрю — это он гараж уменьшил. Смотрю — гаражишко-то стал как игрушечный! А у него «Волга» там запертая. Эвоно как.
— Прошу немедленно и дословно внести в протокол, товарищ Витязев! — вскинулся Супоросов. — Как ваша фамилия, мамаша?
— Фамилия моя, пожалуйста, — Маврина, Вера Аверьяновна. Видела, не откажусь. Заносите, коли хотите. Тот домой ушел, а тот вокруг гаража бегает, рукам и машет. Сам-то, почитай, раза в два выше гаража. — Старуха засмеялась воспоминанию. — Видела, не откажусь…
— Прошу запротоколировать показания!
— Протокол ведется, — сообщила Крупнова. Не оскорбителю — Супоросову, а собранию.
— Почему вы думаете, что это сделал Селецкий? — спросил Маврину председатель, снова массируя ладонью загривок. — Он что же, Селецкий, подходил к гаражу, прикасался к нему? На каком же основании вы утверждаете, что гараж уменьшил Валерий Селецкий?
— А кому ж больше-то? — удивилась старуха. — Что прикасался, не видела, не говорю, а что видела, то и говорю: самый тот момент. Посулил ему Валера, Гертруду-то, а гараж и уменьшился!
— «После этого» еще не значит «вследствие этого». Это юридическая аксиома, — звучно произнес милицейский лейтенант, и, резко повернувшись на этот голос, Гертруд Супоросов одарил лейтенанта удивленно-злобным взглядом. — Вот товарища Пазикова залило, например, и «после», и «вследствие» протечки у верхних жильцов, а здесь, товарищи, ситуация несколько иная.
— Вот именно, — подтвердил Степан Гаврилович. Итак, товарищ Маврина, четко и ясно: какие действия с гаражом на ваших глазах произвел Селецкий?
— Вот я пишу в протоколе с ваших слов, товарищ Маврина, — оторвалась от бумаг Крупнова: — «После перебранки с Супоросовым Валерий Селецкий ушел и к гаражу не прикасался». Так или не так?
— Именно, что так. Самая и суть, что не прикасался, а низвел. Стало быть, сила ему такая дана, Валерию, тем более за правду он стоял.
— Но это же сказки, товарищ Маврина, — мучительно морщась, сказал Степан Гаврилович. — Это же басни Крылова! По всему району, понимаете, ходят какие-то басни, какие-то слухи, человеку предъявляют какие-то совершенно бредовые обвинения… По-вашему, это возможно сделать, Маврина?
— Может, и сказки, может, и Крылова, — опускаясь на стул, охотно согласилась свидетельница. — А я эти сказки своими глазами видела. И «Волга» внутри… — Она достала платок и шумно высморкалась.
— Позвольте мне, товарищ председатель, — поднял руку вежливый милиционер. Он встал, привычным движением оправив китель. — Волков, Юрий Дмитриевич, назвался он Крупновой, ведущей протокол. И в дальнейшем говорил лейтенант неторопливо и четко — как раз под запись. — Работник милиции. К вашему участку служебного отношения не имею. Имею сообщить следующее. Первого июня я стал случайным свидетелем происшествия с гражданином Супоросовым. На углу Картонажной и Трамвайного он обратился ко мне, как к работнику милиции. Гражданин Супоросов был крайне взволнован: по его словам, он кинулся в поисках милиции, так как только что лишился машины и гаража. Я проследовал за ним к месту происшествия. Свидетельствую, что первого июня сего года гараж потерпевшего — буду условно так называть гражданина Супоросова, — сохраняя все типовые особенности металлических разборных гаражей, имел следующие размеры. — Лейтенант вынул из кармана кителя бумажку, глянул в нее: — Длина — сто восемьдесят два сантиметра, ширина — сто тридцать, высота — сто четыре. Поскольку потерпевший утверждал, что внутри «микрогаража» находится его автомашина, нами это сооружение было поднято и отнесено в сторону. Вес металлической конструкции, видимо, соответствовал ее размерам, — подчеркнул Юрий Волков. Внутри «микрогаража», товарищи, действительно находилась… м-м… ну, назовем ее моделью автомашины, что ли… Причем модель выполнена настолько профессионально, — лейтенант бросил короткий цепкий взгляд на Селецкого, который с большим интересом слушал протокольный рассказ, — настолько профессионально, с использованием таких материалов и технологических средств, что изготовить эту модель можно было бы, на мой взгляд, только в условиях хорошо оснащенного КБ. Говорю это как бывший автомоделист, — пояснил суду Волков. — Далее. Поскольку имевшийся у потерпевшего ключ от автомашины не подходил, да и не мог подойти к замку модели, модель эта была исследована мной только снаружи. Затем мы с потерпевшим поставили конструкцию на место. Гражданин Супоросов упорно утверждал, что полчаса назад гараж и машина имели нормальные размеры и уменьшены каким-то фантастическим способом жильцом их дома Валерием Селецким. Этому я, естественно, поверить не мог, — лейтенант усмехнулся, — и посоветовал потерпевшему, осыпавшему угрозами этого неизвестного мне Валерия Селецкого, помириться с ним и попросить восстановить статус-кво…
— Я его просил! Я его как человека просил! Унижался перед этим!.. — прорычал с места Гертруд.
— Давал я вам три дня на перенос? Восстановил я вам машину и гараж на эти три дня? — тоже запальчиво прокричал Селецкий, и лейтенант Волков опять бросил на него внимательный и цепкий взгляд. — Вы мне что обещали, а? А на третий день куда вы меня послали, припоминаете?
Зал замер, боясь пропустить хоть единое слово, хоть единый жест схлестнувшихся врагов. Вот оно, вот оно, и никакая это не фантастика!
— На следующий день, в субботу, — переждав перепалку, протокольно продолжал милиционер Волков, — я снова побывал на Картонажной. Гараж товарища Супоросова имел стандартные размеры, «седан» — в полной исправности и на ходу. На своей автомашине Гертруд Романович даже подбросил меня до метро. Необычными явились замеченные мной совпадения некоторых индивидуальных особенностей этой машины и тогдашней модели: царапина на заднем номерном знаке, нестандартный левый подфарник, брелок-обезьяна на ключе зажигания и тому подобное. Оч-чень, знаете ли, странно все это выглядело, товарищи, — лейтенант вдруг сбился со строгого протокольного стиля, — а далее, товарищи, и еще того хлеще! Четвертого вечером Гертруд Романович позвонил мне, сообщив, что повторилась первоиюньская ситуация. Крайне заинтересовавшись, я приехал на Картонажную. Автомашина гражданина Супоросова в нормальном состоянии стояла на асфальтовой дорожке, а на месте гаража опять присутствовала его уменьшенная копия! Размеры, — Юрий Волков вновь сверился с бумажкой, — длина — сто семьдесят сантиметров, ширина — сто двадцать девять, высота — сто один. Обратите внимание: размеры конструкции по всем параметрам отличаются от размеров первого июня. Дверь «микрогаража» была открыта, и потерпевший сказал, что только случайно оказался вне гаража в момент его уменьшения.
— Убийца! — с ненавистью крикнула Селецкому супоросовская красавица. — Бандит! А если бы Трудик был в гараже?
— Ничего бы с вашим Трудиком не случилось, хладнокровно ответил Селецкий. — Да и потом, я-то тут при чем?
— Я кончаю, — сказал Юрий Волков. — Вот факты. Добавлю, что сегодня, как многим известно, гараж и машина гражданина Супоросова имеют нормальный, неуменьшенный облик. И если бы не личный осмотр первого и четвертого июня, я бы никогда… Впрочем, — перебил себя лейтенант, — я все-таки не могу положительно утверждать, что не стал жертвой мистификации. Кстати, при осмотре четвертого июня присутствовала и Дина Владимировна Щекотова, журналист. Вы не хотите ничего добавить, Дина? — вежливо обратился к соседке интеллигентный милиционер.
— Ах нет, нет! Я с нетерпением жду объяснений Валерия Селецкого. Все это безумно интересно!
— Да, — подтвердил и Юрий Волков, — было бы чрезвычайно интересно заслушать объяснения товарища Сслецкого. Особенно в свете показаний гражданки Мавриной и заявления Клименко. Здесь существует совершенно определенная связь. У меня все. — Лейтенант сел.
Была мертвая тишина.
— Значит, так, — сказал председатель Степан Гаврилович, коротко перед тем посовещавшись с помощниками. — Самое нам время, граждане, заслушать товарища Селецкого. Что тут вокруг да около ходить? Машина — гараж, уменьшил-увеличил, уверен — не уверен… А заявление гражданина Супоросова очень даже конкретное: Селецкий-де хулиган, Селецкий-де вредитель, убийцей вот даже называют! Может, и в самом деле вредитель Селецкий? — Председатель закивал протестующему шуму зала. — Вот и пора ему дать слово — пусть он опровергнет все эти обвинения. Вот так. Давайте говорите, товарищ Селецкий!
Селецкий встал — невысокий и щуплый, как подросток, оттянул ворот свитера, повертел шеей, полуобернулся к залу.
— Ну что ж, судиться так судиться, — чуть ерничая, начал он. — Наверное, Гертруду Супоросову есть за что меня ненавидеть. Но и я таких терпеть ненавижу! И никаких моральных неудобств я, граждане, в борьбе с ним не испытываю. Вот собаку его мне жаль. Пострадала, можно сказать, из-за хозяина. Она же не виновата, что воспитали ее так. Был бы, допустим, у кого другого пес — ну дог, ну чемпион породы громадный, так ходи себе, гордись и радуйся! Нет, Супоросову не просто собака нужна, ему Баскервильская нужна, чтоб все вокруг тряслись да шарахались: разойдись, мол, народ, Супоросов идет!
На складную эту фразу публика ответила одобрительным смешком, а Гертруд глянул на оратора с какой-то даже томной ненавистью.
— Характер ведь такой у человека, — продолжал Селецкий, — на машине ехать — так встречного обрызгать, идти — так толкнуть, с собакой гулять — так испугать. Ну ни одной же собаки пропустить не может, чтобы Султана своего не науськать! Султану, может, и самому неловко малых собак обижать, да куда ж денешься, коли хозяин велит? Вот и на Джека Гертруд таким манером чемпиона своего науськал. Джек с мальчишкой гулял; я иду с работы как раз, слышу, Супоросов Султану: «Фас!» Тот в полный мах на Джека и помчался. Мальчишка испугался, я кричу Гертруду; оттащи, мол, пса, разорвет ведь Джека! А тот смеется: сами, мол, разберутся. Где ж, говорю, разберутся, если Джек и три раза меньше? А Гертруду это маслом по сердцу. Да и зол он уж на меня был тогда, были причины…
Что за причины, Селецкий уточнять не стал, но все почему-то подумали, что причины заключаются в каком-то не принятом Валерой предложении Супоросова, имевшем небось выгоду для Гертруда, ведь не зря же тот (это многие помнили) подходил, бывало, к Селецкому и заговаривал с ним улыбчиво. И посмотрели многие на мясника Сережу, супоросовского приятеля, а тот пожал плечами: не в курсе, мол…
Между тем Селецкий продолжал рассказывать:
— Джек-то, говорю, в три раза меньше! А Супоросов мне на это: что ж вы, сморчки, вовремя не выросли? Ах, думаю, вырасти? Ну это мы сейчас тебе устроим! Вот тут и устроил Джек Султану выволочку! Как тот, бедняга, не спятил от неожиданности? На трех лапах ускакал. А Гертруд в столбняк впал, рот разинул. Так кто же тут, граждане, виноват — мы с Джеком или Супоросов с Султаном?
— Значит, надо понимать, что вы, Селецкий, утверждаете, что… это… уменьшили собаку Супоросова? Что это было в действительности? Натурально происходило? — морщась, как от дыма, спросил Степан Гаврилович.
— Да нет же! — замотал головой хоккеист Хохлин. Джека он увеличил. Да, Валера?
— Вы что же, граждане, бредите? — Поворотясь к Хохлину, председатель шмякнул ладонью по столу: — Неужто вы всерьез?
— Всерьез! Именно всерьез! — восторженно вскочила в своем ряду Дина, милиционерова журналистка. Это же чистейшая парапсихология. Это, это… — Она упала на стул, задохнувшись от избытка чувств.
— Всерьез не всерьез, а признание-то протоколировать положено. Или это не предусмотрено в вашем «Положении»? — зазвучал мрачный баритон Супоросова. Это мне не здесь, это мне потом в другом месте пригодится. Было же признание, так что же вы?
— А в чем я признался? — спросил Селецкий и на миг задумался. — Признаю, что был свидетелем собачьей драки при науськивании Супоросова. Правда, я подумал тогда: поменяться бы им ростом — Джеку с супоросовским чемпионом…
— Вот око! Вот он — телекинез! — закричала, хлопая в ладоши, журналистка. — Бог с ним, с Супоросовым! Какая мелочь! Супоросов — только точка приложения уникального явления! Продолжайте, Валера, умоляю!
— Сами вы мелочь! — крикнула Дине красавица Супоросова. — А еще к нам приходила, сочувствовала! Еще «Камю» пила!
Злорадный хохот взметнулся в зале и вновь сменился напряженной тишиной. Селецкий продолжал:
— Вот что касается собаки. Теперь относительно машины и гаража, главное — гаража. Ведь это же факт, дорогие жильцы, — возгласил он почти патетически, факт, что Гертрудов гараж въехал на детскую площадку! Стоит он там? Стоит как миленький! Это ж надо, — вдруг, как новости, изумился Селецкий, — инвалидные гаражи и те за углом, на пустыре, а супоросовский — прямо под окнами его! Стоит по спецразрешению. Гертруд Сертификатович. У таких всегда ведь спецразрешения, спецобслуживание, спецкормежка. Везде у них лапы, везде нужные люди, и все у них по закону, и мер борьбы с ними вроде бы и нет, бесполезно вроде бы и рыпаться. — Селецкий вздохнул, и в зале завздыхали и головами закивали, и старушка Крупнова кивнула с умудренной скорбной улыбкой.
— Давай, давай, — грозным баритоном поощрил оратора Супоросов. — Припомним и это! Слышали? Коли он на суде так о наших законах вещает, так чего я от него в одиночку наслушался?
— Вот я и подумал, — продолжал Селецкий, — раз стоит гараж на спецместе, надо спецмеры принимать. А главное, первое июня — Международный день защиты детей. Ну вот и принял я спецмеры — тут до него и дошло…
— Валерий Александрович, — ломким голосом проговорила старушка Крупнова, — все это так, все это справедливо, но, умоляю, не нужно нас разыгрывать! Ведь вы же нас разыгрываете, дорогой? Не будете же вы всерьез утверждать, что в самом деле уменьшили этот проклятый гараж?
— А вы против уменьшения? — улыбнувшись, спросил Селецкий.
— Ах, — сказала старушка, — у меня кружится голова… Мне нехорошо, Степан Гаврилович… — Она потерянно улыбнулась и принялась рыться в портфельчике, ища какие-то лекарства.
— Вы протокол ведите, а не таблетки глотайте — грубо крикнул Супоросов, опасаясь, что признание врага не будет отражено в протоколе. — Ведите протокол или другому поручите! У-у-у богадельня!
— Сейчас мы перерыв объявим, Ксения Карповна, успокаивающе сказал старушке председатель, в то время как Хохлин, плеснув из графина, подал ей стакан. Тут еще разбираться и разбираться. Надо прерваться, товарищи, хоть на четверть часа, — обратился он к публике.
— Да погодите вы с вашим перерывом! — взъярился Гертруд. — Вы слышали, что он признался? Я требую занесения в протокол признания Селецкого! Он у меня в другом месте повертится!
Севший уже Селецкий поднялся, слегка побледнев.
— Да, пожалуй, вы правы. Ваши связи, Гертруд, все перетрут… Так вот, для протокола и к сведению присутствующих: никаких действий в отношении имущества гражданина Супоросова Г. Р. я не совершал, а увеличение или уменьшение предметов каким-то там способом считаю физически невозможным. Всякие фантастические показания свидетелей считаю плодом галлюцинаций, как правильно предположил товарищ Волков, милиционер. Ни в какой телекинез я не верю и вам не советую. Все!
— Четко, — одобрил хоккеист Хохлин. — Обычная кляуза и никакой фантастики. Правильно, Валера.
— Ну, перерыв? — спросил председатель товарищеского суда своих коллег, с несказанным облегчением выслушав заявление Валерия Селецкого. — Минут пятнадцать-двадцать? Объявляется перерыв! — объявил он всем. — Товарищи мужчины, курить только на лестнице и поаккуратней.
Публика, однако, совсем не спешила покинуть красный уголок. Никто тут не хотел смириться с категорическим заявлением Селецкого, справедливо считая его вынужденной мерой со стороны необыкновенного жильца. Зал волновался и гудел, полагая, что главное еще впереди.
Нахмуренный Селецкий двинулся к двери в полном одиночестве.
— Валера! — крикнула ему вдогонку журналистка. — Валера, умоляю! Ведь вас просто вынудили, правда? Ведь вы на самом деле можете? Умоляю!
Даже не оглянувшись на нее, Селецкий вышел за дверь.
— Его вынудили! — в отчаянии крикнула Дина. — Но все-таки это был телекинез! Его запугал этот хапуга Супоросов!
— Аа-а-уу! — неожиданно и страшно зарыдала в голос Супоросова, припав к мужниному плечу. — У-уу! Что ж это, боже мой! Все на нас, все! Мерзавец! Хулиган! И управы на него не найти! Уу-у!..
— Не найти? — зарычал муж. — Не найти, говоришь? — Он оттолкнул рыдающую супругу, вскочил — громадный и яростный. — Не найти, говоришь? А вот я его сам! Сам я его, сморчка поганого! Сам я его! Сам!
Выкрикивая это, Супоросов огромными шагами сокращал расстояние до двери, мимо рядов, в мертвой тишине потрясенного зала. И плач жены оборвался, как обрезанный.
— Минутку! — крикнул в спину Супоросова опомнившийся первым лейтенант Волков и стал торопливо выбираться из своего ряда. — Стоять, гражданин Супоросов!
Куда там! Яростный пинок в дверь, и Гертруд Супоросов выскочил из красного уголка. С опозданием выскочил из помещения и Юрий Волков. Но, как мгновенно подумалось всем, супоросовская фора была велика и вполне позволяла тому совершить расправу над Валерием Селецким до вмешательства милиционера.
— Кто-нибудь! — отчаянно крикнула старушка Крупнова, хватаясь за сердце. — Помогите! Ведь он же его…
Поздно, поздно! Даже Юрию Волкову, тренированному милиционеру, поздно! Оставалось только слушать.
Мертвая тишина рухнула на зал. Председатель Степан Гаврилович подался вперед за своим столом, весь багровый и набыченный, упер кулаки в столешницу. Вскочивший было Хохлин замер в трудной позе, вытянув шею. Все головы были повернуты к двери, за которой, как знали все, был коридор, кончавшийся лестницей. На лестнице сейчас курил ничего не подозревающий Валера, а по коридору, с жаждой свершить свой суд и свою расправу, стремительно шагал разъяренный, неуправляемый уже Гертруд Супоросов. Люди, сидя в мертвой тишине, прислушивались к тому, что происходило за стеной. Вот оборвались тяжкие шаги — Супоросов достиг врага. Предостерегающий вскрик лейтенанта. Рычание Супоросова. Голос Селецкого. Рычание. Вскрик! Вскрик Юрия Волкова. Еще чей-то вскрик, и еще. А затем — плач, испуганный, жалобный, какой-то детский…
В грохоте сдвигаемых и роняемых стульев публика вскочила на ноги, в едином порыве негодования закричала, заговорила, качнулась к выходу, торопясь и мешая друг другу, и вдруг попятилась, распалась на две стороны, давая проход вернувшемуся лейтенанту Волкову.
И такое бледное и растерянное лицо было у молодою милиционера, что в зале вновь воцарилась мертвая тишина.
Дойдя примерно до середины прохода, Волков остановился, оглянулся на дверь. И тотчас же в дверях показался какой-то плачущий мальчик лет десяти-двенадцати. Как слепой, он сделал несколько шагов по направлению к судейскому столу, остановился и, уткнувшись лицом в ладони, заплакал еще горше.
— Что с тобой, мальчик? — сострадая, спросила Ксения Карповна. — Кто тебя обидел?
— Я не мальчик! — прорыдал тот и убрал от лица ладони.
— Валера! Я аннулировал! — закричал в сторону двери вскочивший с подоконника старик Клименко. — Аннулировал я!
— Трудик! Маленький мой! — с невыразимой нежностью вскричала красавица Супоросова и, откинувшись на стуле, замерла с закрытыми глазами, по-видимому потеряв сознание.
— Я не мальчик! — рыдал мальчик. — Я Супо… росов! Ксения Карповна, запроко… колируйте, пожалуйста, ее-е-еее!..
НАТАЛИЯ НИКИТАЙСКАЯ ПАРАПЫ ПЕТРОВА Рассказ
Он ушел не оглядываясь. Прямая спина. Руки в карманах. Вскинутая гордо голова. Таким она его видит.
И по его виду она должна решить, что он спокоен и уверен в своей правоте. И наверняка его спокойствие вызовет у нее слезы. Ну что ж, пусть поплачет. Женщинам это на пользу. Хотя настоящих причин у Полины нет.
A если бы она умела видеть не только этот его решительный уход, не только упрямое выражение лица и замкнутость, происходящую, как ей кажется, от недостатка чувств, а разглядела бы подлинное его состояние не стала бы мучиться.
Ему сейчас ничуть не лучше, чем ей. Только он не плачет — не умеет и не считает нужным.
Наверное, им обоим было бы легче, если бы он что-нибудь сказал. Нет, не те необязательные, заполняющие свободное пространство, но не человеческую душу слова, которые он произносит, а те слова, которых она ждет. И главное, они есть в нем, бродят, возникают, но — увы! — никак не обращаются в звуки. Для него высказанное слово — уже дело. А к этому делу он пока не готов, если вообще на него способен.
Так уже было — он уже уходил, оставляя ее плакать и посыпать солью раны. Было десятки, а может, и сотни раз. Но, несмотря на изнуряющий опыт, она еще не теряла надежды. Не такой у нее характер, чтобы отчаиваться. Он может еще не один раз позволить себе уйти, и это не повлечет за собой разрыва, или тем более скандала, или, спаси бог, потери равновесия, могущей повлечь за собой необдуманный поступок.
Петров посмотрел на браслет, подаренный ему Полиной. Красивая серебряная вещь. Смешно и трогательно, как она помнит всякие даты и события, эта Полина. Конечно, он был когда-то, их «первый поцелуй», но был давно. Для Петрова важнее сейчас, чтобы и нынешние их поцелуи были не хуже — лучше того, первого.
С годами тяга Полины и Петрова друг к другу не потеряла ни остроты, ни новизны. И Петров не без основания думает, что заслуга тут принадлежит ему. Пс его инициативе политика далекого расстояния — основная в их жизни. Послушайся Петров Полину — и они давно уже были бы женаты. И кто знает, приелись бы, надоели бы друг другу. Возможно, уже разошлись бы.
А этого нельзя допустить, потому что тогда рассыпался бы не только интимный, но и научный их союз.
Как он отбивался сегодня от браслета. Конечно, браслет мужской. Но Петров признает украшения исключительно на женщинах. И если согласился нацепить на руку это серебро, то лишь из желания угодить Полипе, не расстраивать ее в самом начале вечера. Дома Петров его снимет. Правда, Полина говорила, что эта штуковина не простое украшение, а ее изобретение и со временем Петров поймет его назначение, но Петров не обратил внимания на эти слова. Мало ли чего изобретала Полина! Он не взял бы ее к себе в лабораторию, если бы она не была талантливым психологом-прибористом.
Лаборатория с приходом Полины сразу приняла завершенный вид. Десятки людей, занятых одним делом, и среди них первые — Полина и Петров, Петров и Полина.
Они объединены любовью и делом — что может быть прекраснее?
Надо признаться, что сегодняшний вечер вообще-то доставил Петрову удовольствие. Он расслабился. Полина была нежна, не касалась в разговоре болезненных тем.
И если бы не его уход, уже автоматически портивший настроение Полине, все было бы великолепно.
Конечно, было бы еще прекраснее, если бы Петров остался или взял Полину с собой — впереди еще целое воскресенье. Но Петров не мог сделать ни того, ни другого. Ему нужно было поработать одному. А Полина — помощница на людях — наедине только сбивала его с рабочего лада. Он любил Полину, его тянуло к ней. И если вместе — не считая, разумеется, рабочих часов — они бывали не так часто, как того хотелось бы Полине, то только потому, что у Петрова были дела. Дела, стоявшие над ним, над его отношениями с Полиной. Работа, которой он отдал себя целиком. И если уж быть объективным, то сама Полина тоже была предана делу. Она делает успехи, а для серьезной работы ей тоже необходимо время. Успехи Полипы Петров принимал близко к сердцу, и его огорчало, что Полина порой относилась к ним легкомысленно. А ее жалобы на одиночество!.. Как может быть одинок человек, если он увлечен работой?…
Нет в Полине той самоотверженности, которая вообще, по-видимому, присуща только мужчинам, — самоотверженности служения идее. Иначе Полина радовалась бы, что жизнь свела ее с Петровым, человеком неординарным, подарила ей не банальные семейные узы, которыми могут похвастаться сотни тысяч, миллионы людей, а истинную любовь, любовь духа, которая не нуждается в бесконечных сиюминутных подкреплениях.
Уходя, он думал о ней. Думал он о ней и пока добирался до дому — сначала пешком, потом, большую часть пути на оставленном вне поля зрения Полины «зонтике».
Сколько раз, бывало, он оставлял «зонтик» у Полининого порога — свидетельство того, что он долго у нее не задержится. Сколько раз прочитал Петров на лице Полины огорчение, прежде чем додумался оградить ее от этого бессмысленного переживания.
И все-таки — вопреки своей правоте — Петров испытывал нечто похожее на угрызения совести, когда вспоминал свою маленькую, нахмуренную, беззащитную Полину, уже не пытавшуюся его остановить, удержать.
Бедная Полина!..
Но едва «зонтик» приземлился у ворог загородного дома Петрова, усилиями сотрудников превращенного в дублирующую Центральную приемную, и Петров заметил свечение в одном из окон, как мысли об оставленной в слезах женщине отошли на задний план. А потом и вовсе испарились.
Свечение не прекращалось. Оно напоминало свечение звезды в небе. Петрову даже показалось на мгновение, что так и есть, что это не звезда поселилась в его кабинете, а он сам из кабинета смотрит в небо и видит ее там. Впечатление было ошеломительным, никогда еще не испытанным, и Петров, наполненный острым переживанием, не сразу догадался, что свершилось наконец то, чего он ждал уже десять лет, к чему так готовился, что продумал до таких мелочей.
Секунду, только одну секунду, если вообще можно было бы измерить этот микроскопический отрезок времени, жила мысль не отсылать машину, взмыть вверх, уйти от неизбежного, уклониться от встречи. Но он прикрыл в себе это желание, как прикрывают лицо мертвого. Слишком много сделано уже, чтобы встреча состоялась, — это раз. Во-вторых, встреча состоится, в конце концов, и без Петрова, самое позднее через час в Центре, но состоится. И в-третьих, Петрову уже доводилось испытывать страх предвкушения, страх, в котором сливаются воедино и желание непременно получить долгожданное, и опасения — вдруг полученное окажется не таким, как он себе его представлял, или попросту ненужным, или — еще хуже — неприятным и необратимым.
Бояться было чего. Несмотря на то что все возможные варианты нежелательного воздействия на земную среду в результате контакта с парапами были взвешены; несмотря на то что десятки лучших умов Земли — тут Петров не без гордости отмечал, что и сам был среди них, — разработали меры предосторожности на случай проявления агрессивности со стороны гостей, — несмотря на все это, в запасе у парапоз всегда мог оказаться еще один, непредусмотренный ход — этакий троянский конь, — и тогда могла полететь вверх тормашками вся выстроенная система защиты, а вместе с ней и Земля и человечество. Ответственность была огромная. По существу, земляне знали о парапах лишь то, что те сообщили им о себе. Но, впрочем, это тоже уже обдумывалось…
Теперь, глядя на свечение в своем кабинете, Петров отчетливо понимал: отступать поздно. Парапы уже там.
Петров задержался в прихожей у зеркала. Осмотрел себя с ног до головы инспектирующим взглядом. Привычка к подтянутости срабатывала безотказно. Ни малейшей небрежности в костюме, ни малейшей неряшливости в мыслях. По внешнему виду Петрова сразу можно было понять, что он человек серьезный и прекрасно сознает ответственность и важность момента. Должно быть, это понимали и те, что ждут его там, за дверью.
Интересно, как они выглядят, его парапы, парапы Петрова. Петров улыбнулся, подмигнул своему отражению и решительно направился к кабинету.
Чувство было такое, как будто Петров шагнул в светящуюся внутренность лампы дневного света. Определить, откуда идет свет, Петров не мог. Чужое присутствие было очевидным, но Петров никого не видел. Стараясь не терять достоинства, он пустился в неспешное путешествие по кабинету, напряженно всматриваясь в привычные предметы на привычных местах, заглянул даже за шторы. В конце концов, может же человека заинтересовать, что там, за окнами? Но в комнате, кроме света, не было ничего, хоть отдаленно напоминающего жизнь. Игра в прятки раздражала Петрова, но он тут же убедил себя, что волноваться не из-за чего. Во-первых, если парапы уже здесь, то такая игра носит, разумеется, преднамеренный характер. А во-вторых, почему не допустить мысли, что свечение — уже непредусмотренный факт — просто предшествует появлению гостей?
Тут Петров сделал то, что, по-видимому, требовалось сделать с самого начала. Он подошел к пульту приема.
Незачем было больше пускаться в догадки. Приборы неопровержимо свидетельствовали: парапы прибыли. Наверное, еще ни разу в жизни Петров не рассматривал с таким вниманием свой кабинет — стены, пол, потолок, вещи. Неужели они невидимки? Нет, не может быть.
Ведь Петров с Клинчем, его коллегой и постоянным собеседником от парапов, разрабатывали, и довольно долго, не столько прохождение гостей по каналу, сколько их материализацию по окончании пути.
А вдруг они с Клинчем ошиблись в расчетах и прибывшие парапы не смогли обрести свой телесный вид?…
Сорванный контакт?… Черт бы с ним. Но что делать, если и по возвращении к себе парапы не смогут вернуться к нормальной жизни?…
И тут над ухом Петрова раздалось хихиканье и мальчишеский голос произнес:
— Ну, что я говорил? Он нас нипочем не заметит!..
Петров вздрогнул. Дети?… Дети, помимо парапов?…
Или парапы — дети?… Или скажем так: детские голоса парапов?…
Петров был слегка взвинчен. Как-то все пока складывается не так, как виделось. «Нипочем не заметит…» Ничего себе оборотец! Ни-по-чем!..
— Да ладно, Петров, садитесь на диван, — произнес вполне солидный мужской голос, сопровождаемый, правда, все тем же хихиканьем, — не оглядывайтесь по сторонам. Мы тут — перед вами.
По-видимому, им всем доставляла удовольствие растерянность Петрова и затеянная ими игра. Все-таки игра.
И именно в прятки! Петров намеренно небрежно развалился на диване и уставился на чайный столик. Не мудрено, что он их не заметил. На блестящей поверхности столика тускло поблескивала система. Вот блеск исчез почти полностью, и паутинообразное переплетение мерцающих сочленений, до этого образовывавшее на круглом столике Петрова нечто вроде кружевной салфетки, совершенно потерялось на полированной столешнице.
Но вот система вновь засверкала, и комната наполнилась смехом на разные голоса — дружелюбно и беззлобно смеялись мужчины, женщины, дети.
В определенном смысле Петрова постигло разочарование. Пока велся технически сложный обмен информацией, пока готовился визит парапов на Землю, у Петрова складывалось впечатление чуть ли не полной идентичности парапов и землян. Петров вспомнил свое стояние у зеркала и иронически улыбнулся: судя по всему, парапам все равно, какая у него прическа и насколько мужественным выглядит он сам. Петрову ведь совершенно безразлично, какого цвета блики играют на поверхности системы. А ведь цвет в данном случае, наверное, что-то обозначает. И потом — габариты!.. Петров не думал, что парапы столь малы, хотя и знал, что они меньше людей.
Вот так… Выходит, можно сто лет готовиться к контакту, многое знать о нем, прочитать тысячу лекций я написать миллион статей и все-таки не быть гарантированным от неожиданностей.
Впрочем, пора бы уж и признаться себе, что прибывшие на Землю для осуществления первого межгалактического контакта парапы поспешили прежде всего сыграть шутку с одним из земных представителей, а именно с Петровым. Петров был человеком, не лишенным чувства юмора. Так он считал, во всяком случае. Но тем не менее он не раз замечал за собой, что с особенным пристрастием принимает экзамены у тех студентов, которым удалось удачно над ним подшутить.
Поневоле и на простершихся перед ним парапов Петров посмотрел сейчас профессорским взглядом — чуть свысока, чуть пренебрежительно. Смотрел и молчал.
Торжественность минуты так и не проявлялась. Спасать положение Петров решил предоставить самим парапам. Пусть они отхихикивают свое, он помолчит. Если парапы были, способны понять его растерянность, должны понять и его намеренное молчание. Жаль, в системе нет ничего, хоть отдаленно напоминающего человеческий глаз, — Петров все пытался отыскать его: плохо, когда не понимаешь, как воспринимают твой взгляд.
Система отсмеялась, отмигали последние блики, и наступила тишина. Неловкая тишина. Наконец какая-то женщина заговорила быстро, и тон ее голоса был извиняющимся:
— Мы так рады, Петров! Простите нас. Мы, наверное, ведем себя как дети, хотя детей среди нас и немного. Нам, знаете, все земное в диковинку. Вы, например… Мы ведь думали, что люди как парапы, только больше…
Петров поморщился. Да, он думал о том же самом — о полном несоответствии представлений и реальности.
Но эта женщина отнесла Петрова к разряду «диковинок». Почему же он, Петров, не поторопился причислить к «диковинкам» систему?… Потому что он не способен на легкомыслие, продемонстрированное парапами. Не способен и рад этому. Кстати о лексике. С лексикой следует еще разобраться. Уж не Полинины ли это штучки с дешифратором?… Есть у нее склонность к простецким выражениям, а в речи парапов эти выражения нередки — неспроста.
— Ну что ж, друзья! Я рад, как и вы, — ответил Петров и не удержался, добавил: — Мне, знаете, тоже любопытно на вас поглядеть.
Система издала многоголосый вздох облегчения. Легкой иронии, заключенной в последних словах, парапы не заметили. Петров их явно переоценил — не так уж они и чувствительны. Не так уж способны проникать в человеческие настроения, оттенки эмоций. Впрочем, оттенки частенько представляют сложность и для людей, а парапы — приходилось в этом сознаться — все-таки не люди.
— Я хотел бы поговорить с Клинчем, своим коллегой, — увереннее продолжал Петров, намереваясь исправить положение собственными силами. Не хотелось, чтобы первый контакт вошел в историю только как шутка.
Еще один женский голос произнес сожалеюще:
— А Клинч заболел. Так неожиданно, уже перед стартом. Расстроился, конечно, ужасно. Чуть не плакал. Но ничего не поделаешь, не судьба!..
«Клинч… Чуть не плакал… Галиматья какая-то!.. Вот уж поистине — святая простота!.. Расстроился, видите ли, он ужасно…»
— Надеюсь, ничего серьезного? — Петров был предельно светским, а значит, и ядовитым.
Но и яд его, как прежде ирония, пропал даром. Ему тут же простодушно ответили:
— Разумеется! Он, скорее всего, уже здоров. Мы ведь так долго до вас добирались.
В разговор встрял какой-то мальчишка:
— Да уж! Трюхали, трюхали, а за окнами — ничего особенного. Пыль одна.
Петров пропустил замечание мимо ушей.
— Кто же заменил Клинча в поездке?
— Я, — тут же отозвалась женщина.
Петров вздохнул с облегчением: кто-то все-таки заменяет Клинча, значит, с кем-то можно будет поговорить серьезно. Но Петров рано радовался, потому что женщина тут же добавила:
— Не могло же место пустовать. А я была первой в очереди…
— Какой очереди? — ничего не понял Петров.
— У нас, знаете, целую лотерею организовали. Ехать-то все семьи хотели, а мест-то всего пятьдесят. Ну и разыгрывали путевки. Только Клинчу и его семье было предоставлено право участвовать в поездке вне зависимости от результатов лотереи. Но он заболел. Они остались. А поехали мы с мужем и с сыном… Потому что в лотерею выиграли первое добавочное место…
Петров окунул лицо в ладони и приглушенно рассмеялся. Он смеялся над собой. Агрессия!.. Бог ты мой?!.
Какая агрессия, когда предстоит веселая, заманчивая туристская поездка… Экскурсия… Значительно более интересная, чем осмотр местных достопримечательностей…
Парапы отправлялись в туристский вояж, а Петров, Полина, бесчисленные сотрудники института, ответственное объединенное руководство Земли ждут контакта — первого контакта во Вселенной разума с разумом!
А может быть, именно в этом придании контакту вида обыкновенной экскурсии — может быть, именно в этом и подвох?… Но в подвох как-то слабо верилось.
— Ну, и много вас тут?…
Все загомонили;
— А вы угадайте, угадайте…
Петров смеялся, уже не скрываясь:
— Да чего же угадывать-то?… Вы же сами мне сказали: пятьдесят мест…
— А чего же вы спрашиваете? — разочарованно протянул мальчуган.
— А так, пошутить захотелось.
Честное слово, по миганию системы Петров угадал смущение парапов. Он не мог бы с точностью объяснить, как это ему удалось, но мог побиться об заклад, что угадал правильно.
Мужской голос недовольно произнес:
— Вы что же, нас совсем за идиотов принимаете, да?
— Да нет. Почему… — смутился и Петров.
Он подумал вдруг, что за три года почти бесперебойной связи парапы ни разу не показались ему отсталыми или наивными. Тут было какое-то противоречие. Живые парапы вели себя странно, в то время как технические средства, примененные ими для связи с Землей, свидетельствовали о достаточно высоком уровне развития.
Как бы то ни было, у Петрова появилось желание как-то загладить неловкую шутку.
— Вот вы, говоря о лотерее, все время упоминали семьи. У вас что же, врозь не принято ездить?
— Как это врозь?… — сначала не поняла женщина.
Но тут в разговор включился мужчина:
— Парапы не любят без особой нужды разлучаться с теми, кто им дорог. (При этих словах Петров подумал о том, что сделает Полина, услышав их завтра: подтолкнет его в бок, подмигнет ему, многозначительно улыбнется?…) Да, не любят. Это раз. Во-вторых, каждый парап имеет уникальное развитие, и, следовательно, каждый усвоит то, чего не сможет усвоить другой. В-третьих, детей мы с раннего возраста приучаем к многообразию мира и его сложности. Ребенок, увидевший сегодня человека, услышавший перевод своей речи на человеческий язык, переживет удивление и приобретет познание. Во взрослом состоянии это облегчит ему общение с людьми. Ведь это не так-то просто, не правда ли, Петров? И потом, насколько мы поняли, на Земле так же относятся к детям, мы не ошиблись?
Петров плохо знал, как люди относятся к детям. Своих у него не было, к чужим он был равнодушен, а произведениям литературы и искусства не доверял, как всегда и все преувеличивающим. Петрову хотелось поговорить о том, какие сложности возникали на пути следования, что требует корректировки и улучшения, о том канале связи, который они с Клинчем осваивали. Но о чем поговоришь с пассажирами? Что с них возьмешь? Пассажиров волнует только благополучное прибытие в пункт назначения. А при помощи каких современнейших и к тому же уникальнейших средств был осуществлен перелет, их не интересует. Доставлены, и все тут.
— Дети? — переспросил Петров. — К детям люди относятся хорошо. Настолько хорошо, что в такую рискованную поездку ни один человек не взял бы своего ребенка. Это раз, — невольно передразнив парапа, заключил Петров свое первое соображение. — Во-вторых, земляне, я думаю, в такую экспедицию включили бы максимальное число ученых, а не рядовых людей, так как только ученые могут собрать максимальные сведения о неизвестном предмете и проанализировать их. — Лично Петров не включил бы в такую экспедицию даже Полину, хотя и не сомневался в ее знаниях и способностях, для исследований вне земных условий нужен был трезвый ум мужчины, не обремененный женской эмоциональностью. — В-третьих, на Земле принято, что роль разведчиков и дипломатов берут на себя мужчины. И лишь изредка случаются исключения из правила.
Петрову показалось, что в системе произошло некоторое волнение. Женский голос воскликнул:
— Нам обидно за ваших женщин и детей! Вам не кажется, что вы относитесь к ним как к неполноценным?!
Петров сделал протестующее движение рукой и начал было отвечать:
— Особенности детского и женского организмов…
Его перебил мужчина, голоса которого Петров, кажется, еще не слышал. Впрочем, кто разберет их голоса!
— Скажите, Петров, а во имя чего вы приложили столько сил, чтобы открыть парапам и людям возможность встретиться?
— Ну как… Содружество интеллектов, цивилизаций.
Обмен информацией расширит технические возможности обеих сторон.
— И только? — скептически произнесла какая-то женщина.
— Нет, почему же. Взаимопомощь. Как у нас говорят, ум хорошо, а два лучше. Новое знание всегда обогащает.
— Что именно и кого именно?
— Мозг, разумное существо.
— Люди такие рационалисты? — допытывалась женщина. — И всегда мыслят о взаимовыручке так масштабно? Кстати, Петров, кто ваша жена? Где она сейчас, почему не с вами?
— Я не женат.
Петров нахмурился. Какое им дело до его личной жизни?!. Да, он рационалист и не видит в этом ничего плохого. Кстати уж, не будь он таким рационалистом, не отказывай себе во всем, не имеющем отношения к делу, кто знает, когда бы эти милые создания имели возможность посмотреть на такую «диковинку», как Петров, возможно, что вообще бы возможности не имели и уж определенно — не сегодня.
И в то же время Петрову не понравилась тишина, наступившая сразу же вслед за его категорическим: «Я не женат». Петрову сочувствовали. И Петров обозлился:
— Ну а вы? Вы, парапы, ради чего добивались контакта? Неужели только ради возможности расширить границы своих экскурсионных поездок?!.
Петрову тут же ответили:
— Конечно! Потому что каждая поездка сулит новое общение. А есть ли в жизни что-нибудь дороже его? Техника — это хорошо. Техника освобождает мыслящее существо от множества проблем. Но в принципе любая техника — от рычага до кибера — должна существовать только для того, чтобы облегчать живым дорогу друг к другу, чтобы устранять между ними возможное непонимание, не больше.
Такая постановка вопроса показалась Петрову вовсе не простой, а главное, непривычной и, надо сказать, не понравилась.
— Разве нет в жизни ценностей, помимо общения? — спросил он. — А работа ума? Постижение истины? Движение мысли?
— И одиночество при этом, не так ли? — опять влезла в разговор дотошная женщина.
Петров отрезал:
— Да, если нужно, и одиночество. А захочется чего-нибудь для души — женись, заводи семью, никто не мешает.
— Для души?!. Разве у вас не соединяются ум и душа? Разве земляне научились отделять их друг от Друга?…
Вопрос поразил Петрова. Вот тебе и сходство. Вот тебе и почти полная идентичность, которую Петров так часто доказывал как дважды два. На память пришли примеры из истории человечества, когда ум и душа вступали в открытую войну, и как-то сразу не находилось случаев, чтобы они не были в противоречии. Да, пожалуй, если копнуть, то именно на этом противоречии и замешана человеческая жизнь. И если у парапов этого противоречия не существует, как же они живут? Странные, в высшей степени непонятные существа — парапы!..
Нет, такой поворот разговора устраивал Петрова.
Разговор становился интересным. Наивные, доверчивые, гармоничные парапы Петрова — что они найдут для себя на Земле?… Скорее всего, для землян их присутствие неопасно. Но для парапов быть рядом с людьми, кажется, не столь уж безопасно. Разве что они защищены от возможности заразиться сомнениями и конфликтностью самим своим — неясным пока Петрову — устройством.
Все ликовало в Петрове. Контакт состоялся, и не такой уж бессмысленный контакт, как казалось вначале. В парапах таилась загадка. Если не сомнения, то что же тогда двигает вперед их мысль? Что? Лично он, Петров, подвергает сомнению всей постоянно. Даже сейчас, например, он, всю жизнь уверенный в превосходстве собственного образа жизни, испытывает необъяснимые колебания, столкнувшись с иным восприятием мира в далеких ему и людям парапах. У Петрова появилось желание как-то оправдаться, утвердить себя. Желание, которое возникало в нем только в тех случаях, когда он переставал верить в свою безукоризненную правоту.
Случайно взгляд Петрова упал на браслет, подаренный ему Полиной. Пожалуй, только перед ней время от времени Петров ощущал подобную же недоказуемую виноватость. Собираясь с мыслями, планируя в голове вопросы парапам, чтобы при минимуме затрат выяснить с наибольшей точностью их мировоззрение, Петров медленно расстегнул браслет и положил его на столик рядом с системой. Система странно, как-то дергано замигала и исчезла.
— Что это?! — изумленно воскликнул Петров. — Вы эти шуточки бросьте!..
Но парапы не появились, и Петров сообразил вдруг, что взаимодействие с серебром могло на них так подействовать, и сбросил браслет на пол.
В тот же момент исчез и столик, на котором лежала система.
А еще через некоторое время Петров услышал рядом с собой голос Полины:
— Рано же ты его снял!..
Петров был сбит с толку, ошарашен. Он оглядывался вокруг себя с недоумением пробудившегося лунатика — такими необычными были перемены. Ведь только что он был в своей лаборатории, а теперь сидел в комнате Полины. Только что Петров вошел во вкус беседы с парапами, а теперь видел Полину за пультом.
Откуда здесь, у нее, этот пульт? Как он похож на тот, что находится у него в кабинете.
Петров не страдал замедленной реакцией, но сейчас не мог понять, что происходит: почему исчезли парапы, как он сам оказался у Полины?…
Петров смотрел на Полину. Она не была ни смущенной, ни удивленной — только неудовольствие на лице.
— Что все это значит?
— Ты не понял?
— Нет, я не понимаю, как тебе удалось… — Петров замялся, потому что не знал, что именно удалось Полине — разрушить контакт с парапами или… Смутная догадка мелькнула у Петрова.
— Вот видишь, ты уже и понимаешь, — улыбнулась Полина и ушла в кухню. Там хлопнула дверца холодильника. Полина готовила питье.
Петров еще раз оглядел комнату Полины. Сколько здесь аппаратуры! Он-то думал раньше, что бесконечные шкафы и буфеты скрывают столовые сервизы, а это, оказывается, приборы. Причем среди них есть такие, о назначении которых Петров может только догадываться.
Петрову все еще жаль было расставаться с мыслью, что контакт — это небывалое по значению событие — все-таки был. Но Петров уже понимал, что контакта не было.
Как не было и его дороги домой, хотя он и пережил все так ярко, так отчетливо. Но если приглядеться, то и стереотипно. От Полины Петров всегда уходил одинаково, с одними и теми же размышлениями.
— Очень ловкая мистификация! — громко сказал Петров. — Как ты назвала свое изобретение? — Петров поднял с пола браслет, покрутил его в руках. — Вариатор контакта?… По-моему, вариатор — неплохое название, а, Полина?
Полина вошла в комнату, неся поднос с напитками.
Петров положил браслет, взял с подноса высокий стакан с соком, отпил глоток.
— Ну, так что же ты молчишь, почему не хвастаешься, как пришла к мысли создать эту конструкцию? Во всяком случае, должен тебе сознаться, что в реальность происходящего веришь стопроцентно. Да и среди тысячи вариантов контакта мне и в голову не пришел вариант обычного туризма.
— Тебе многое не приходит в голову, Петров.
Петров снисходительно улыбнулся: надо признать, что Полина сегодня продемонстрировала свои способности блестяще. Пусть поторжествует.
— Смоделировать хотя бы одну неучтенную возможность контакта — уже хорошо. Но ведь твои приборы, насколько я понимаю, могут моделировать ситуации до бесконечности?… Значит, и в дальнейшем их можно использовать?
— Наверное, но только вряд ли в этом будет необходимость…
— Разумеется, необходимость есть.
Менторским тоном Петров принялся доказывать Полине все преимущества ее изобретения. С женщинами всегда так: им мало похвалы и одобрения, им нужны бесконечные похвалы и безудержное одобрение. И Петров не скупился.
Но Полина вдруг перебила его, резко и решительно перебила:
— Ты ошибаешься, Петров. Нет такой необходимости!..
— Но почему, Полина?…
— Потому что! Потому что твои парапы, Петров, это я…
Стакан с напитком завис в воздухе.
Немыслимо!.. Чудовищно!..
— Полина, ты говоришь ерунду!..
— Не называй ерундой то, что тебе не нравится, во что ты не хочешь верить, — холодно ответила Полина. — Дни, ночи, недели, месяцы, — годы — десять долгих лет я была без тебя, Петров. Ты был, и тебя не было… Ты без конца твердил о какой-то там самоотверженности. Я же, кроме отверженности, не испытывала ничего. Ты отвергал меня — день за днем, год за годом отвергал…
— Из этого еще ничего не следует.
— Для тебя. А меня изводило одиночество. Я так мучилась им, что единственной моей целью стало — найти путь к тебе, Петров. Путь был один — твоя работа. Она должна была стать и моей тоже. И стала…
Петров вспомнил, как Полина предложила ему свою помощь, как он не вдруг, а тщательно взвесив все «за» и «против», принял. Полину в лабораторию.
— Выходит, тебя не интересовали проблемы нашей лаборатории, тебя интересовал я?…
— Догадлив, — усмехнулась Полина. — Но не волнуйся, скоро меня заинтересовали и проблемы. Помнишь, когда-то давно мы гуляли по берегу реки?
— Да, гуляли.
— И увидели лодку с гребцом, прямо на наших глазах появившуюся из-за поворота?
— Нет, не помню.
— Зато я запомнила. Что мы с тобой знали об этом гребце? Откуда он плыл и куда? Давно ли за веслами или только что взялся за них?… Сначала я даже не поняла, почему эта лодка так застряла во мне, какое она имеет отношение к моим переживаниям. А потом меня озарило: если немного поработать, может быть, удастся войти в один из каналов связи с тобой так, чтобы создалась полная иллюзия внеземного происхождения сигналов. Никогда я не работала так напряженно и весело. Я ведь не планировала ничего серьезного — так, легкий розыгрыш, шутка, в которой я намеревалась тут же сознаться, если мне удастся остаться неразоблаченной…
— Но не могла же ты все это создать одна? — Петров обвел рукой комнату.
— Нет, конечно. Но ты сам ходатайствовал о том, чтобы мне разрешили дополнительную работу на дому. А мое положение в лаборатории позволяло мне обращаться за помощью к любому из наших сотрудников, и мне охотно помогали.
— Значит, о шутке знаешь не только ты?…
— Не пугайся, Петров. О шутке знаю только я, и больше никто. О шутке, которая стала трагедией, потому что уже после первого переданного мной сигнала я поняла, что не смогу остановиться. Мне было интересно наблюдать за тем, как ты расцветаешь, как ты радостно возбуждаешься всякий раз, когда парапы — а точнее, я — проявляют себя. И вот уже три года, как ты живешь одними парапами, Петров. Живешь мной…
Петрова передернуло:
— Ты довольна, не так ли?
— Нет, Петров, я НЕдовольна…
Петров взглянул в лицо Полины. Оно было печальным. Такое знакомое, такое тысячу раз понятое и такое, как оказалось, неизвестное лицо!.. Получается, что Поляна и Клинч, тот самый Клинч, в общении с которым Петров чувствовал чаще равенство, реже — свое превосходство и столь же редко, но все-таки свою слабость, — получается, что этот Клинч — Полина!.. Однако если было возможно проявить слабость перед Клинчем, то перед Полиной…
— Ты понимаешь, что уничтожила все?!. Все, без остатка!..
— Да, Петров. Мне больно, но я намеренно пошла из эту боль. В конце концов, я могла бы просто прекратить игру. И вы, пытаясь установить, почему замолчали парапы, рано или поздно, скорее всего, открыли бы обман, но никогда не нашли бы автора — уж об этом я бы позаботилась. Но понимаешь… Я, наверное, разлюбила тебя, Петров. Или нет… просто ты стал мне неприятен. Чем более страстным становилось твое увлечение парапами, чем чаще я оставалась одна, тем противнее мне становилось. Мне было грустно и смешно смотреть на тебя, выслушивать твои многочисленные рассуждения о природе парапов. Ты уходил надутый и важный, преисполненный сознания своей исключительности. А я смеялась, потому что хорошо знала, к чему ты уходишь…
— Довольно! — прокричал Петров, Злость и стыд охватили его.
— Нет! Я долго ждала, Петров, чтобы ты опомнился, чтобы ты понял, что нельзя быть рядом с человеком и не отдавать ему себя. Но ты все бросал — «ради святого дела!..» И цену этому делу никто не знал лучше меня…
Полина замолчала. Петров старался не смотреть на нее: боялся ударить. И ему ясно представлялась картина его разоблачения перед всеми, невольно втянутыми в обман. Лучшие умы Земли обдумывали проблему контакта с несуществующими парапами!.. Целый штат сотрудников занимался дешифровкой сигналов!.. И всему виной — Петров!..
А Полина медленно продолжала:
— Ты, Петров, никогда не задавался вопросом, зачем людям контакты с другими мыслящими существами. Ты просто искал контакта и работал на него, потому что, как тебе кажется, ты можешь это делать. Но зачем, зачем нам внеземные контакты, когда люди — даже близкие, как мы, — друг друга-то понять не могут?! — В голосе Полины звучала горечь, давняя и неизбывная. Зачем нам еще и инопланетяне, если мы — люди одной планеты, одного развития — не можем жить в любви и в мире?!. Зачем нам добывать непонимание в космическом масштабе?!.
— Ты мудро говоришь, Полина. Но не очень-то мудро поступаешь. И любовь между нами была. И отношения были не так уж плохи. Надо было только уметь ценить то, что имеешь. Может быть, ты и оценишь теперь, когда все разрушила.
— Не запугивай меня, Петров. Жаль, конечно, что мой путь к тебе оказался путем от тебя. Но я ни о чем не жалею!.. Слышишь, ни о чем!.. Пусть все рушится!.. Пусть все рухнуло!.. Пусть все сгорело!.. Из пепла еще можно возродиться. Но и без возрождения быть пеплом лучше, чем все время находиться в состоянии медленного угасания…
Вечные женские слезы!.. Но сейчас Петрову хотелось бы видеть их подольше. Однако Полина справилась с собой и с иронической улыбкой заключила:
— Как ты любишь выражаться, у парапов всегда может обнаружиться свой троянский конь… А троянский конь, как видишь, был у меняли.
Полина отошла к пульту, нажала на нем одну из клавиш, и комната наполнилась голосами — смеялись мужчины, женщины, дети…
— Троянский конь, Полина, — это всегда дело вражеских рук.
— А небрежением, Петров, и не выращивают друзей. — Полина проговорила это тихо, как будто сомневаясь. И что-то дрогнуло в ней.
Но Петров сделал вид, что не заметил этого смятения: так ей и надо.
Петров ушел, не оглядываясь. Как всегда, руки в карманах, прямая спина. Полина не увидит его сломленным. Не дождется!..
За деревьями Петров нашел свой «зонтик». Опустился в кресло, направил «зонтик» домой. Упругое отупение владело Петровым — отупение после сильной боли.
Он не видел мест, над которыми пролетал. В голове было пусто. Петровым владели только усталость и ощущение поражения, глубины которого он еще не мог постичь.
Очнулся Петров почти у самого дома. Что-то в его доме привлекло внимание. И очень скоро Петров понял, что именно…
В одном из окон его лаборатории сосредоточилось сияние. Сияние звезды, которая по рассеянности вместо неба попала в ограниченное пространство комнаты.
ГАЛИНА УСОВА ТЕ, КТО БРОДЯТ САМИ ПО СЕБЕ Рассказ
Так и не удалось выяснить, кто сдал в макулатуру пачку напечатанных на машинке листков. Многие страницы утеряны, рукопись явно имеет фрагментарный характер. Пенсионер Иван Иваныч, принимающий макулатуру в обветшалом деревянном сарае, заинтересовался рукописью, случайно прочитав один из листочков. Не без труда он понял, что в рукописи перемешаны протоколы заседаний какой-то комиссии, записки Сенатора, отрывки из дневников и писем. Иван Иваныч оставил загадочную рукопись себе на память и на досуге перечитывает, но так и не разобрался в ней до конца. Неизвестно, где проживает упоминаемое в документах семейство, куда девался Сенатор, существует ли Комиссия по Контактам и, главное, правдива ли история кошек, описанная якобы Сенатором, или это чье-то досужее сочинение.
По вечерам, защелкнув огромный висячий замок на двери сарая, он проходит по пыльному кривому переулку, вглядываясь в каждую попавшуюся навстречу кошку.
Одни кошки с деловым видом бегут по тротуару, другие неподвижно сидят у подвальных окошек, словно таинственные древние изваяния, третьи жадно копаются в помойных баках в поисках съестного. Иногда Иван Иваныч останавливается против группы кошек, неподвижно сидящих и созерцающих друг друга в многозначительном молчании. Кошки, не видя опасности в невысоком седоусом человеке, продолжают свое молчаливое созерцание.
И тогда Иван Иваныч таинственно подмигивает им и произносит полушепотом:
— Котсама! Котсама!
Желтые кошачьи глаза глядят на него с тревожным недоумением. Кто-то из зверьков мяукает, и вся компания разбегается врассыпную. Забыв об осторожности, Иван Иваныч громко взывает:
— Котсама! Котсама!
Он все надеется: а вдруг они поймут, что этот невзрачный представитель землян каким-то образом разгадал их великую тайну? А вдруг догадаются — ему можно доверять, он вполне достоин контакта с ними, таинственными посланцами иной цивилизации? И тогда они вернутся, подадут ему знак…
Но они не возвращаются, а Иван Иваныч, спохватившись, смущенно вжимает голову в сутулые плечи, оглядывается, проверяя, не заметил ли кто его несолидного поведения, и уныло бредет по переулку к новому многоэтажному дому, где второй год занимает однокомнатную квартиру.
Рукопись, найденная Иваном Иванычем:
…сказано достаточно. Некоторые утверждают, будто мы ничем не рискуем. Но лучше перестраховаться. Если мы выдадим важные сведения о возможности межпланетных перелетов, о техническом устройстве кораблей, о составе горючего — это может обернуться против нас.
Нашей родины больше не существует, но что из того?
Следует свято повиноваться Программе и Долгу. Большой Совет решил правильно.
Вопреки всему Сенатор (модель ДДВ-КТС-293) утверждал, что есть человек по имени Женька, которому якобы можно доверять, но он ничем не сумел аргументировать свое мнение. Очевидно, что представление об особых качествах Женьки Сенатор составил, не опираясь ни на какие научные данные, а на основании всего лишь бесконтрольных эмоций, выработанных в результате длительного контакта с данным Женькой. Конкретная же информация, какой располагает Сенатор, не содержит ровно никаких исключительных сведений ни о психологических отличиях, ни о превосходстве умственных способностей, и нет — оснований считать данного Женьку выдающимся из ряда других человеческих особой экземпляром. Мнение же, основанное на голых эмоциях, нельзя считать достойным серьезного внимания, ибо эмоции присущи скорее неразумным и недоразвитым умственно существам. Известно, что человек, которому не хватает истинных знаний об окружающем мире, приведенных в строгую логическую систему, вынужден довольствоваться неразумными эмоциями в своих оценках, поступках, решениях. С прискорбием следует отметить, что некоторые из наших высокочтимых собратьев заразились от людей эмоциями. Они начали неоправданно привязываться к своим объектам наблюдения, между тем это обстоятельство служит им только во вред.
Следует дать задание новым особям — изучить природу эмоций. Возможно, это просто заразная болезнь, охватившая все население данной планеты. Если нам удастся найти ее возбудителя, будет легче остановить ее распространение среди наших соотечественников. Возможно, что человеческие особи специально распространили среди нас эту опасную болезнь — они хитры и сообразительны. Быть может, они нас давно разгадали?
Ясно одно — необходимо держать в полной готовности наши секретные локаторы и антенны, скрытые в ушах, усах и хвостах. Если мы поделимся с людьми нашими сведениями, кто знает, для чего они их используют. Люди — противоречивые и психически неустойчивые существа. Только если развитие человечества в ближайшее время пойдет в оптимальную сторону, если люди докажут свою подготовленность к восприятию того, что мы сможем им дать… Только тогда можно будет вернуться к рассмотрению данного вопроса.
Означенному Сенатору (модель ДДВ-КТС-293) Большой Совет постановил поставить на вид. Теперь ему надлежит оправдаться в своем легкомысленном поведении, дошедшем до сближения с вышеозначенным Женькой.
Ведь Сенатор — великолепный дымчатый экземпляр, рассчитанный на прочность, с высоким коэффициентом полезного действия, с возможностью универсального использования. Верность Программе и Долгу в нем запрограммирована прочно, и ему теперь легко будет преодолеть не поддающиеся логике эмоции. По дальнейшему поведению Сенатора можно будет судить, насколько опасна и устойчива эта болезнь. Принимая во внимание искреннее раскаяние Сенатора, Большой Совет постановил пока не изымать у него биоприемник: было бы расточительством выводить из строя такой ценный и высокоорганизованный экземпляр без крайней нужды. Большой Совет рекомендовал Сенатору сейчас же покинуть объекты его наблюдения, дабы не поддаваться в их обществе недостойным бесконтрольным эмоциям. Сенатор согласился с рекомендацией Совета. Нельзя не признать, что ДДВ-КТС-293 в данный отрезок времени…
Я вернулся с заседания Комиссии по Контактам и застал у себя дома невероятный ажиотаж.
— Папа, папа! — выскочил в прихожую Женька, не успел я снять плащ. — Погляди, какой котеночек! Он теперь мой будет, бабушка разрешила! Папа, правда, он хорошенький?
— Погоди, не до котят. Я устал и есть хочу.
Я вообще-то не любитель кошек. Грязь от них, запахи всякие. А польза сомнительная. Что мышей ловят — у нас мышей и так нет. Зато при всей кошачьей неприхотливости вместе с кошкой в доме появляется масса проблем, а проблем мне и на работе хватает. Я домой отдыхать прихожу, в кругу, так сказать, семьи. Ради чего, спрашивается, отдых мой сегодня нарушен?
Маленький дымчатый котенок, изящно выгнув спину, направился мне навстречу. Сладко зевнул, обнажив розовый язык и белые зубы, напоминающие набор крохотных кинжальчиков, глянул на меня молочными, голубыми, точно у человеческого младенца, глазами. Подошел вплотную к моей ноге, потерся о брючину.
— Смотри-ка, признал тебя! — умилилась теща.
— Слава богу, — проворчал я. — Наконец-то меня признали в моем собственном доме! Где взяли это чудо?
Тут пришлось хватать с подзеркальника платяную щетку и счищать с брючины серую кошачью шерсть. Не успел я положить щетку на место, как котенок ткнулся боком в брючину.
— Уйди, окаянный! — Я топнул на него ногой и замахнулся щеткой. Котенок совсем по-взрослому выгнул спину и с оскорбленным видом направился на кухню. Так где взяли? — повторил я.
— Женька во дворе нашел, — радостно сообщила жена. — Разве плохая находка? Ты погляди, какая чистая дымчатая масть!
— Чистая, грязная, а брюки мне теперь не вычистить. Вы хоть его вымыли?
— А как же! Даже с мылом.
— Тогда еще ничего. Тощий только больно.
— Раскормим! — обрадовалась теща. — Такой вырастет котище — вот увидишь! Он же еще маленький.
За ужином котенок так доверчиво потерся о мои ноги, что я не мог не умилиться и швырнул под стол розовый ломтик колбасы с аппетитными крупинками сала.
— Что ты делаешь! — возмутилась жена. — Испортишь животное. Мы его уже кормили.
— Плохо, видать, кормили, — нахмурился я. — Был бы сыт — не просил бы.
— Какой пример ты подаешь ребенку! — упрекнула теща.
А Женька уже украдкой достал из-за щеки кусок недожеванной котлеты и исподтишка бросил котенку.
Встретился со мной взглядом, испугался было, но сразу понял, что я не сержусь, и подмигнул мне заговорщически.
— Как назовем нового члена семейства? — спросила жена.
— Пап, как назовем? — Женька уже чувствовал во мне союзника. — Может, он будет Малыш?
— Не выйдет, — живо возразила теща. — Мы же его раскормим. Какой тебе Малыш? Важный, усатый, солидный…
— Сенатор, — неожиданно для себя самого выпалил я. Не собирался ведь принимать участия в этом дурацком обсуждении. Почему-то вдруг представил себе солидного — серого кота… — Конечно, Сенатор. И передает суть. И оригинально. И звучит.
— Какой же он Сенатор? — засмеялся Женька. — Он же у меня на ладошке уместится. Когда еще вырастет…
— Пока можно звать сокращенно — Сенька, — предложила жена.
— Ну вот, выдумали! — теперь возмутилась теща. — Животное человеческим именем называть!
— И хорошо, — радовался Женька. Ему было приятно, что найденный им котенок так завладел нашим вниманием. — И со мной рифмуется: Женька и Сенька!
— Ладно, подумаешь, проблема. — Не хотелось мне весь вечер посвящать новому квартиранту. — Как твои дела, сын? Что хорошего в жизни?
— Книжку мировецкую достал, — похвастался Женька. — Научная фантастика. Понимаешь, они прилетели на планету, а там разумные обитатели, только не люди, а совсем какие-то диковинные, похожие на крокодилов…
— Батюшки-светы! — поразилась теща. — Неужто на крокодилов?
— В фантастике все можно написать, — с горечью сказал я.
— Папа, но ведь это научная фантастика! — разгоряченно крикнул Женька. — Научная!
— Знаем мы эту научность. Писатели что угодно могут насочинять, а вот подумали бы о настоящих проблемах, которые то и дело возникают, словно ехидные чертики из табакерки…
Я вспомнил сегодняшний доклад на заседании Комиссии по Контактам. Человек пока не приспособлен к космическим перелетам… Женьке рассказывать о заседании нельзя — секретно. Вот парень и забивает себе голову сочинениями досужих гуманитариев о диковинной планете, населенной крокодилами, а главное — воображает, будто все легко и просто: в ракету сели, полетели, высадились и спокойненько вступили в контакт с этими самыми крокодилами. Как бы это ему объяснить популярно, что на самом деле все будет происходить не совсем так…
Я размышлял, а маленький серый комочек уютно устроился на широком подоконнике и загадочно смотрел мне в глаза немигающим молочно-голубым взором.
…странные, непостижимые существа. За много сотен лет мы так и не пришли к выводу, стоит ли им доверять.
Встречаются ведь отдельные особи, обладающие сообразительностью и довольно высоким интеллектом. Хотя бы Женька, сын моего основного объекта. Характерно, что за то короткое время, пока я нахожусь в семье, его разум значительно продвинулся по пути эволюции. Когда я был совсем маленьким, Женька однажды попытался с какой-то непонятной целью отрезать мои усы-локаторы. На мои жалобные крики подоспела бабушка, убедительно поговорила с ним, и он никогда больше не пытался лишить меня ориентации в пространстве. Разговоры Женьки с окружающими обнаруживают повышенный интерес к другим мирам и их обитателям. Мальчик много читает на эти темы. Открывшись ему, я безусловно получил бы поддержку во всем. Но нельзя. Мой Долг перед вложенной в меня Программой запрещает это.
Психология людей слишком далека от нашей. Мы, представители высокоразвитой планеты, до сих пор не можем как следует понять земных людей, а ведь столько сотен лет их изучаем. Что же говорить о людях, интеллектуально стоящих ниже нас, ни малейшего представления не имеющих, кто мы и откуда.
В истории человечества были, правда, попытки проникнуть в кошачью психологию, но их, разумеется, нельзя принимать всерьез. Так, например, есть книга «Житейские воззрения кота Мурра», написанная якобы от имени представителя нашей породы. На самом же деле ее сочинил человеческий писатель по кличке Гофман.
Книга слабая, автор не пошел дальше пародии, а главное — назойливо проводит параллель между кошками и людьми. Следует, конечно, признать, что Гофман по-своему любил наших сородичей и не был лишен некоторой наблюдательности. Но само умение писать представляло в девятнадцатом веке огромную техническую сложность: ведь люди писали гусиными перьями, а такое перо невозможно держать кошачьей лапой. Писатель Гофман, дабы заставить читателя поверить, будто его герой вел записки самостоятельно, описывает хитроумную манжету, которую якобы изобрел его герой, чтобы при ее помощи держать перо и обмакивать его в чернильницу. Но практически ни один кот не способен писать подобным способом — мы проверяли его. Так что писатель по кличке Гофман явно что-то недодумал.
К счастью, человеческий прогресс дошел до изобретения пишущей машинки, а уж техникой печатания может овладеть любой котенок. Следует только, хорошенько вбирать когти, чтобы не обломать их и не оставлять на клавиатуре царапин.
Немалый вклад в дело понимания человеком кошачьей психологии сделал английский писатель Редьярд Киплинг. Он, в отличие от дилетанта Гофмана, четко сформулировал: кошка гуляет сама по себе. Чех Карел Чапек тоже пытался объяснить отчужденность кошек от людей и полное взаимонепонимание, но попытки эти чрезвычайно наивны. Пытаясь изложить кошачью точку зрения, Чапек никуда не может уйти от своей, человеческой. Его кошка, например, утверждает, будто она жалеет человека: ведь у него, бедняги, мало слюны и нечем умываться. Ну уж, извините, кошки великолепно знают, что люди умываются водой. И вовсе мы не боимся воды, как воображают мнящие себя умными люди, просто вода изменяет нашу электростатичность и нарушает другие свойства. Кошачья же слюна содержит различные гормоны и ферменты, необходимые для восстановления нарушенных свойств кошачьего организма, — исключительно по этой причине мы постоянно умываемся слюной и ею же зализываем раны.
Итак, начинаю первые подлинные кошачьи записки в истории, первый документ, не сфальсифицированный человеком. Я родился в подвале огромного городского дома, в теплом уютном гнезде из тряпок. Моей матерью была пестрая бродячая кошка, но я предназначен для жизни в человеческой семье и знал об этом. Недаром мне придали чистую дымчатую масть, которая так нравится людям. С первых минут я осознал свою ответственность за продолжение Программы Изучения Земли и ощутил свой великий Долг. Необходимо было попасть в человеческую семью. Я сделал для этого все — и в конце концов добился своего.
Как только мне исполнилось две недели, я начал выходить во двор через дырку в подвальном окне. Главной задачей было — обратить на себя внимание кого-то из МОЕЙ семьи, понравиться ему. Так оно и случи…
Фывапролдж, фывапролдж, никого нет дома! ячсмитьбю, наконец хоть поучусь печатать, а то папа не разрешает. Говорит — сломаешь, у тебя руки глиняные.
Сенька сидит под лампой на столе, смотрит. Не выдашь, Сенатор, правда? Даже если б говорить мог, никому бы не сказал. Я знаю, ты верный. И кто это выдумал, будто кошки сами по себе и не привязаны к человеку? Любишь меня, да, Сень? Глаза умные — кажется, сейчас сам сядет за машинку и начнет записки строчить, как кот Мурр, — я недавно такую книжку читал. Вот смеху было бы! Уж он-то объяснил бы, какие это глупые выдумки, будто кошки нам чужие. Сам Сенька — полнейшее тому опровержение. Ночью спит у меня в ногах на одеяле, утром вместе со мной вскакивает, идет в ванную и смотрит, как я умываюсь. Пофыркивает, если на него попадают брызги, но не уходит. Вот это друг! Выхожу в переднюю — он за мной, смотрит тоскливо. Скучать будет, пока я в школе. Вроде хочет за мной бежать. Однажды вышел и проводил меня до самой школы, честное слово! Только бабушка меня потом ругала и объяснила, что Сенька так запросто может под машину попасть.
Или отловят его, как бродячего кота. Так что я его больше с собой не беру, а жалко — он бы меня мог каждый день в школу провожать, как собачонка.
А взрослые не разбираются. Ни в собаках, ни в кошках. Да, Сенечка? Вот тебе и фывапролдж.
…хвост трубой, чтобы лучше работала антенна.
Я слышал, как Женька кричит мне вслед:
— Сенька, Сенька!
Я мысленно видел, как он стоит на пороге квартиры, высунув из двери вихрастую голову, забыв про свои гланды:
— Сенька! Домой!
Мне жаль мальчика. После такой легкомысленной вылазки на лестничную площадку ему придется неделю проваляться в постели с завязанным горлом и глотать горькие лекарства. Во время очередной болезни Женька однажды пытался скормить мне свою таблетку. Гадость невероятная! Впрочем, кто их знает, этих людей, употребляют же они в пищу такие отвратительные вещи, как сахар и помидоры, да еще похваливают.
Женьку жалко, но зов моей Шестерки сильнее всего.
Чем выше я взбегал по ступенькам, тем больше жалость, любовь к мальчишке, беспокойство за него сменялись досадой на человеческое неблагоразумие. Заметил ли кто-нибудь до меня, что непосредственная близость к объектам усиливает испытываемые к ним чувства?
Я бегом пересчитывал ступеньки, а Шестерка продолжала неистово сигнализировать:
— Седьмого, Седьмого!
Раздраженно распахнулась дверь квартиры на верхнем этаже, с грохотом полетела пустая консервная банка. Я с трудом увернулся от нее, банка угрожающе звякала по ступенькам, ей аккомпанировал негодующий крик:
— Опять кошачьи концерты! Живодеров на них нету!
Как известно, концерты — приятное театральное зрелище, от которого люди получают эстетическое удовольствие. Попасть в специально отведенное для концерта помещение бывает нелегко. А «кошачий концерт» — это на человеческом языке нехорошее сборище кошек, которые бесцельно орут дурными голосами, при этом люди стараются разогнать их любыми средствами — шумом ли, пущенным ли в головы предметом или струёй воды. Хоть бы раз задали себе вопрос, зачем мы это делаем. Ведь это же не бессмысленное звукоизвержение, а отчаянные призывы:
— Седьмого, Седьмого! Срочно нужен Седьмой!
Я и есть Седьмой. Вот почему я так отчаянно рвусь на чердак.
Дверь оказалась заперта, но я выскочил через лестничное окошко, пробрался на крышу, нашел маленькое окошечко, ведущее на чердак.
— Наконец-то Седьмой! — обрадованно фыркнул Шестой.
Я приветствовал Шестерку и с готовностью занял свое место. Мы дружно затянули позывные. Ответа не было. Такое явление наблюдается уже давно. Соберется полностью Семерка, сигнализирует, сигнализирует — и все безрезультатно: ответный сигнал отсутствует. Но наш Долг — упорно посылать телепатические излучения с накопленной информацией, кто-то ее, вероятно, все-таки принимает. Мы еще раз добросовестно послали сигнал вызова, и снова ответа не последовало.
— Будем начинать, — грустно скомандовал Первый. — Садитесь.
Мы уселись друг против друга, опустив хвосты, чтобы не происходило утечки энергии.
— Сосредоточимся, — скомандовал Первый. — Раз, два, три.
Я поднял глаза на Шестого и ощутил на себе отчетливо сфокусированный взор Первого. Цепь замкнулась.
Глядя в фосфоресцирующие глаза Шестого, который с четкой отработанностью движений повернулся к Пятому, я сконцентрировал всю свою энергию на той информации о работе Комиссии по Контактам, которая стала мне известна за последнюю неделю. Шестой отражал мои мысли на Пятого, Пятый — на Четвертого, и так далее.
— Начинаем передачу, — негромко сказал Первый, как только суть накопленной информации стала ясна ему.
Мы подняли головы, и каждый из нас мысленно увидел нашу родную Котсаму, прекрасный образ которой запечатлен в наследственной памяти каждого котенка.
Великолепное необозримое небо чистого фиолетового тона, розоватые облака, ярко-голубое солнце…
— Кончаем передачу, — печально объявил Первый, но коты не расслышали его, находясь в состоянии задумчивого транса.
Мы снова передали позывные, и опять безрезультатно.
— Да что это такое? — в отчаянии спросил Третий.
— Да что это такое? — эхом отозвался грубый человеческий голос. С грохотом распахнулась чердачная дверь, струя холодной воды уда…
…посадили в мешок и куда-то со двора понесли — мне ребята сказали. Дома никого не было. Я схватил сумку с бутылками, которые мне бабушка давно велела сдать, не помню, как с лестницы спустился. Эх, Сенечка! Когда это он только успел выскочить? Ребята говорили — дяденька-живодер ему колбасу протягивал.
Другие кошки небось живо разбежались, а Сенька у нас доверчивый — его ведь ни разу никто не обидел. Вот и поддался на глупую приманку.
Во дворе — никого, на улице — никого. Догадался заглянуть в соседний двор — так и есть! Стоит дядька, неопрятный какой-то, небритый, а за спиной у него грязный мешок. Пригляделся — что-то в мешке шевелится, слабо-слабо. Небось одного Сенатора и удалось поймать.
— Дяденька! Вы моего кота взяли. Отдайте, пожалуйста!
Дядька хмуро на меня поглядел, молча закурил.
— Дяденька! Это же мой кот! Почему он молчит? Я же с ним вежливо говорю.
— Это кот наш, домашний. Он не бродячий.
— А домашний — зачем на улицу выпускаешь? — спросил дяденька хрипло.
Я, во-первых, не выпускал Сеньку. Во-вторых, хочется ведь животному на улице побегать, травки понюхать. Вот бы дядьку этого запереть дома в четырех стенах — что бы он тогда сказал? Но я ему ничего не стал доказывать, только объяснил:
— Я не выпускал. Он сам выскочил, когда бабушка уходила.
— Следить надо за своим животным! — Дядька отвернулся от меня и сделал затяжку.
— Я буду следить, честное слово! — обрадовался я.
Мне показалось, что он согласен отдать мне Сеньку, я уже почувствовал гладкую шерстку в своих пальцах.
Ну отдайте кота!
Дядька выплюнул окурок прямо на газон, усмехнулся:
— Ишь, быстрый какой! А у меня план — как я отчитываться буду? Хожу, хожу по дворам — ни одного не поймать. Что сдавать?
Я не ответил, потому что в самом деле не знал, что он там будет сдавать. Но нельзя же Сенечку моего сдавать, как макулатуру, он живой, теплый! Мне стало страшно. Дядька повернулся и зашагал на улицу, кот даже не трепыхался у него в мешке. Может, уже задохнулся? Я побежал следом, бутылки звякали в сумке.
— Дяденька! Ну отдайте моего кота! Хотите, я вам за него все бутылки отдам? На углу в молочном сдадите.
Он даже не обернулся, он продолжал шагать по улице. Я бегом догонял его и плакал. На углу стоял милиционер.
— Товарищ милиционер! Велите ему моего кота отдать! Пусть отдаст, это же не бродячий кот, он домашний!
Милиционер взял под козырек:
— В чем дело? Что случилось?
— Кота я отловил, бегал без присмотра, — неохотно объяснил дядька. — У нас инструкция, сами знаете. А если кот домашний, почему без присмотра выпустили? На нем ведь не написано.
— Действительно, мальчик, почему не следишь за животным?
Я заплакал.
…с хмурым неопрятным лицом хочет уничтожить меня. За что? Я хорошо понимал только одно: я очень хочу жить. В пыльном, светонепроницаемом мешке, отгородившем меня от всего мира, я вдруг начал сознавать, что это мой мир, прекрасный и желанный. Кто я такой? Неужели посланец далекой, бесконечно чуждой Котсамы? Нет, ведь это мои отдаленные предки были посланцами, это они были самовоспроизводящимися биороботами, а я родился на Земле. Да, я родился. Я живой. Я хочу жить, хочу бегать по серому асфальту, проникать в пыльные подвалы, хранящие множество таких прекрасных земных запахов, хочу любоваться голубым небом и зеленой травой, греться под уютной настольной лампой… Я вспомнил, как приятно сидеть на нагретых земным солнцем деревянных ящиках на задворках соседнего магазина в окружении соседских кошек, вспомнил, как бережно держал меня на руках Женька, как его человеческое тепло пробивалось ко мне сквозь его школьную курточку и через мою обильную шерсть…
— Надо заплатить рубль, — донесся до меня сердитый голос снаружи. — Штраф, раз за котом не следишь.
— Дяденька, можно я бутылки отдам? — Это голос Женьки. — Тут еще больше рубля будет.
Рубли — это совсем непонятное. Хотя я неоднократно видел рубли и даже обнюхивал их. Иногда они пахнут мышами, иногда — рыбой, а бывает, что плесенью или просто бумагой.
— Нет, мальчик, ты уж сам сбегай сдай бутылки, а нам рубль принесешь! — услышал я веселый голос. — А я пока квитанцию выпишу.
— А он никуда кота не унесет?
— Нет, он тут со мной постоит.
Значит, рубль предназначается для меня? Я смутно почувствовал, что мое освобождение зависит от скорости, с какой Женька сможет сбегать в магазин и вернуться. Бешено заколотилось сердце, как у всех земных животных в моменты волнения. Скорей, Женька, скорей! Неужели ты спасешь меня? Женька, я люблю тебя!
…миссия по Контактам. На заседании 18 марта Комиссия рассмотрела сведения о Вспышке Сверхновой, происшедшей в ночь на 15 марта 19… года в районе туманности Конская Голова. Установлены следующие данные (далее — ряд цифр).
После обработки полученных данных Комиссия пришла к определенным выводам, а именно: замеченная вспышка могла явиться признаком того, что на расстоянии нескольких тысяч парсеков от Солнечной системы в результате космической катастрофы погибла одна из крупных планет класса А. По предварительным сведениям, погибшая планета обладала благоприятными условиями для наличия биологической и, возможно, разумной жизни.
Согласно предварительным расчетам, гибель планеты могла произойти от столкновения с астероидом около пятисот лет назад. В ближайшее время расчеты будут уточнены. Комиссия по Контактам считает, что необходимо продолжить работу над расчетами во имя прогресса человечества и ради создания возможной межпланетной цивилиза…
…полнение Программы и Долга. Наша родная цивилизация, отправившая нас разведчиками на Землю, более не существует.
Много сотен лет назад мы были присланы сюда с планеты под названием Котсама. Наша великая функция заключалась в изучении человеческой цивилизации и в передаче полученной информации на Котсаму. Каждому котенку с рождения известно, что когда-нибудь котсамейцы воспользуются накопленной нами информацией и, возможно, сочтут нужным прилететь на Землю.
Программа, вложенная в каждого кота, обладает свойством передаваться через наследственную память последующим поколениям. Мы наделены высокой приспособляемостью к любой среде, высшим сознанием и хорошей способностью к размножению. Мы обладаем также развитыми телепатическими способностями, благодаря которым можем общаться друг с другом незаметно для аборигенов и передавать собранную информацию на Котсаму.
Наши котсамейские создатели постарались снабдить нас привлекательной внешностью, грациозностью, изяществом. Глядя на представителей нашего вида, людям трудно не испытывать умиление, симпатию, желание приласкать нас, взять на руки. Мы доверчиво тремся о ноги человека, подставляем ему шею и уши для чесания, хотя это нам далеко не всегда так приятно, как мы изображаем. Мы снабжены мягкой шелковистой шерстью, и человек испытывает приятные ощущения, прикасаясь к нам. Мы умеем уютно сворачиваться в клубочек, мурлыкать и жмуриться. Людям нравится держать нас у себя в доме. Издавна считается, что мы придаем любому дому истинный уют. Недаром люди издревле приобрели обычай — впустить кошку в новый дом до того, как сами в нем поселятся. Люди верят, что в таком случае жизнь в новом доме будет счастливой.
Наши создатели постарались снабдить нас не только приятными, но и необходимыми людям качествами: они должны были испытывать уверенность, что мы непременно проникнем в учреждения и в человеческие частные дома. В нашу программу дополнительно было вложено устройство, заставляющее нас истреблять вредных для людей грызунов. Именно благодаря этому устройству мы и получили столь широкое распространение на Земле и доступ в каждую человеческую семью, а значит, неограниченные возможности для сбора информации.
Теперь сошло на нет былое разделение на функции среди кошек разных мастей. Чисто — дымчатая масть, к которой я имею честь принадлежать, предназначена была для высшего общения с человеком. Только черные кошки были выше нас — они обладали способностью при необходимости превращаться в другие виды земных животных и даже принимать внешний облик самого человека. В средние века черных кошек называли «оборотнями», и не без оснований. Люди стали их бояться и преследовать — вот почему им пришлось забыть эти высшие функции.
Очевидно, за многие сотни лет пребывания котов на Земле в нас кое-что изменилось. Сама наша природа сделалась иной. Конструируя нас, наши создатели учитывали биологические особенности земных животных и отлично приспособили нас к жизни на Земле. Но многие тысячи поколений родились уже на этой планете.
По своей природе мы приблизились к настоящим живым земным существам. Страх смерти, любовь, инстинкт самосохранения — все это я испытал, сидя в сером пыльном мешке за спиной этого ужасного человека. Когда Женька выкупил меня и принес домой, я забился под шкаф в самый дальний угол и заснул. Я проспал трое суток.
У нас произошло несчастье: пропал Сенатор.
После того как я с таким трудом его выручил от живодерни (бедный, он даже не представлял себе, что ему грозило!), кот забился под шкаф и три дня не вылезал. Я боялся, что он там уже совсем задохнулся.
Звал его, звал, колбасу подносил. Он не отзывался. Я на пол ложился и заглядывал: а вдруг он уже не дышит? Потом бабушка объяснила, что у Сенатора нервный шок получился. Велела мне его оставить в покое — тогда он придет в себя и сам вылезет. Я спросил: «Какой еще нервный шок, разве он понимает, что его хотели убить?» Папа сказал: «Нет, конечно, но он чувствовал, что происходит что-то неладное, а в мешке ему было темно и душно…»
Посидел он три дня под шкафом и вылез. Отряхнулся, на меня даже не поглядел, будто вовсе не узнал, и пошел в кухню к своему блюдечку. Бабушка ему скорей молока налила, он и давай лакать, жадно так. Полакал — и опять под шкаф. Я уж думал, он теперь так и останется жить под этим шкафом. Но нет, скоро опять вылез. Так постепенно и отошел от нервного шока.
А тут почтальонша пришла. Говорит: «Вам заказная бандероль, примите и распишитесь, пожалуйста». А сама в дверях встала — ни туда, ни сюда. Я ей говорю:
«Вы проходите, а то кот из квартиры выскочит». А она заладила одно: «Ты, мальчик, расписывайся быстрей, ты ведь у меня не один, а за кошками некогда мне следить». А Сенька и выскочил, пока я расписывался. Папа в тот день был очень сердитый — у него опять было какое-то сверхсекретное заседание, о котором он ничего мне не мог рассказать. А тут еще Сенька убежал. Папа совсем на меня рассердился.
Папа со мной с тех пор все не разговаривает, будто я нарочно Сеньку упустил. Будто я виноват. «В кого ты, — говорит, — такой равнодушный растешь? Угробил животное — и хоть бы хны». Уже позабыл, как я Сеньку спас от кошатника. А как он сам ворчал, когда я котенка принес первый раз со двора, — это он уже и вовсе не помнит. Привык к нему.
Но ведь Сенька вернется! Сколько раз так было — убежит, а потом возвращается. Обязательно вернется.
Необыкновенный он у нас был, Сенатор. Так глядит желтыми своими глазищами, будто знает какой-то секрет, только никому не говорит. Даже когда маленький был, глазки у него были голубые и простодушные, все равно казалось, что секрет знает. А может, и правда?
Может, если бы ему заговорите по-человечески, он бы такое выложил, что все бы так и ахнули? Нет, не навсегда он исчез, я его найду обязательно!
…вычайный сбор совета. После сообщения Сенатора все долго молчали, подавленные. Ошибка исключена: все координаты погибшей планеты в точности соответствуют известным нам. Значит, уже давно некому было принимать накопленную нами информацию.
Положение чрезвычайно осложнилось. С одной стороны, накоплена масса информации, которую нам некому передать. С другой стороны, в нашей наследственной памяти прочно сидят вложенные в нее на Котсаме ценные знания. Людей теперь интересуют сведения о погибшей планете, так же как и многое другое. Мы располагаем, например, ценными техническими сведениями, небесполезными для земного человечества в данный момент развития их цивилизации. Мы могли бы поделиться с людьми способами достижения субсветовых скоростей, разработанных на Котсаме еще в те времена, когда человечество ходило в грубо выделанных шкурах. Мы могли бы поделиться секретом адаптации живого организма к этой скорости. Могли бы объяснить, каким образом кошки способны спланировать с самой большой высоты и аккуратно опуститься на все четыре лапы. Это умение могло бы пригодиться людям: у них ведь тоже четыре конечности. Хотя они ухитрились каким-то образом передние конечности превратить в верхние, постепенно почти атрофировав их и преобразовав в слабые хватательные придатки, абсолютно неспособные поддерживать тяжесть тела. Это еще не беда, путем постоянной тренировки можно попытаться исправить положение и вернуть передним конечностям человека их прежние функции. Проблема в том, чтобы решить, стоит ли передавать людям всю эту информацию.
Есть отдельные особи, которые явно этого стоят, хотя бы Женька, который так самоотверженно спасал нашего ДДВ-КТС-293, земная кличка — Сенатор. Но с другой стороны, разве не позор для цивилизованной планеты то, от чего пришлось Сенатора спасать?
Теперь у меня другое задание. Опустив хвост, я не спеша пробираюсь вдоль тротуара от дерева к дереву, фиксируя отдельные всплески эмоций многочисленных прохожих, выбирая из общего эмоционального гула отдельные волны, определяя индивидуальные эмоциональные характеристики. Вот показался мальчишка со школьным портфелем, затылок вихрастый, — сразу дрогнуло сердце: а вдруг Женька? Нет, другой. Может, такой же любознательный, мягкий характером, привязчивый? Похоже на то. Но — мимо, мимо. Постановлением Совета мне запрещено предаваться эмоциям. Я же их изучаю, а не заражаюсь ими.
Иду дальше. По дороге попадается большой плоский камень, нагретый весенним солнцем. С наслаждением растягиваюсь на нем, закрываю глаза. Сразу начинает казаться, будто я лежу на письменном столе посреди теплого круга, образованного настольной лампой.
Свет льет прямо в глаза, приходится жмуриться. Рядом — рукопись, ее внимательно изучает мой хозяин.
То и дело он протягивает ко мне большую мягкую ладонь и нежно поглаживает у меня за ухом. О какое блаженство! Оказывается, эта изнеженная ладонь, совсем отвыкшая от соприкосновения с почвой, тоже может пригодиться! Я Урчу от удовольствия. Тут мой взгляд падает на лежащую перед хозяином бумагу: «В районе туманности Конская Голова»… О Котсама, Котсама!
Нельзя так распускаться! Неужели в человеческой семье мне и в самом деле было так хорошо, что я никогда не забуду тех дней? Женька, Женька, где ты?
Хоть бы раз встретить его на улице… Но мне предписано работать совсем в другом районе города. Никогда я не встречу Женьку. Никогда.
Никогда не увижу Котсаму… Хотя — зачем? Разве я ее когда-нибудь видел своими глазами? Ведь я родился на этой планете с зеленой растительностью, под этим прекрасным голубым небом. Это и есть моя родина.
И дом, откуда я удален решением Совета, — мой родной дом. И семья, кото…
Седьмой член комиссии запаздывал, а без него не набиралось кворума. Пока его ждали, я рассказал коллегам о своей беде. За последнее время жизнь в нашем доме совсем разладилась. Жена сдает экзамены, теща уехала в санаторий. А тут еще Женька отбился от рук.
И Сенатор пропал. Никогда бы не подумал, что это меня так огорчит. Прихожу домой и по привычке жду, что сейчас выбежит и потрется о брючину — приветствовать высшее существо, бога, так сказать. Щетку заранее готовлю, а потом вспоминаю: не выбежит, не потрется… Сажусь работать, зажигаю лампу — сейчас бы прибежал, свернулся бы под желтым кругом лампы, щурился бы блаженно и ждал, чтоб я его погладил за ушами… Вот уж не думал, что так быстро к нему привяжусь.
А Женька ничего не делает, никого не слушает, целыми днями шляется по улицам и ищет кота. Скорее всего, Сенатора постигла участь всех городских котов.
В один прекрасный день самый преданный вам уютный домашний кот, сытый баловень семьи, вдруг как с цепи срывается и убегает. Иногда через несколько дней вернется — грязный, голодный, побитый. А бывает, не приходит. Или они погибают, или предпочитают всем вашим заботам голодную и грязную, но независимую жизнь.
Женя так и не утешился. Скоро лето, а мальчишка все бегает по закоулкам соседних дворов и отчаянно кричит, заглядывая в щели сараев и в подвальные окна:
— Сенька! Сенька! Сенечка! Кс-кс-кс!
Мои коллеги согласились, что это очень глупо. Можно ведь взять другого кота. Известно, что кошки никогда не привязываются к нам так, как мы к ним. Они привыкают исключительно к месту.
ЛЕВ КУКЛИН 108 ПРОЦЕНТОВ ЭМАНСИПАЦИИ Рассказ
…Она набрала несколько цифр на маленьком переносном пульте. Через несколько мгновений экран видеосвязи засветился.
— Чао! — сказала она, вглядываясь в лицо подруги. — Я тебя не разбудила?
— Что ты… — моргнула та. — Я как раз собиралась ложиться…
— Ой, не представляешь, я все время путаю, еще со школы, никак не разберусь в этой разнице… Часовые пояса, планетное время, среднесистемное, галактическое… Надо же… Это в наш век — и такая путаница!
— Ну ладно тебе… — добродушно сказала подруга, крупное лицо которой со всеми далекими веснушками и бигуди еле вмещалось в рамки экранчика. — Ты чего меня вдруг вызвала? Срочное что-нибудь?
— Слушай… — спохватилась хозяйка, порхая по комнате. — А ты прекрасно выглядишь… Крем? Массаж? Биостимуляция?
— Дура ты, Танька… — с той же ленивой и добродушной интонацией бросила с экрана подруга. — Надо уметь жить. На нашей планете — прекрасный климат… А Петр твой где? Вы что… — Ее глаза тревожно забегали по комнате, где не было заметно никаких следов присутствия мужчины. — Вы что, разошлись? Поэтому и звонишь? Признавайся, недотепа!
— Да совсем и не поэтому… Тут в теленовостях сообщили, что у вас в ваших сельхоззаповедниках можно увидеть живых… ой, забыла, как это называется… ну, из них порошок такой белый добывают… для детского питания…
— Молоко? — подсказала подруга.
— Да, да! Это самое… Коровы! Вот! Верно — имеются? — с детским простодушием впилась она в экран.
— Верно… Имеются… Я как раз и работаю оператором по уходу за стадом. В древности было такое словечко: «пас-тух»… — с гордостью сообщила подруга. Может, от этого у меня такой цвет лица, а? — И засмеялась.
— Ну вот, ну вот! — заторопилась хозяйка. — Я и подумала тут же послать к тебе Катьку на каникулы. Поможешь?
— О чем разговор! Присылай, конечно. Ей будет интересно. Сколько ей — одиннадцать, твоей Катьке?
— Двенадцать… Уже к моим туфлям подбирается, ужас! Ну а с Петром… Вот уже второй год пошел… Не то чтобы пришлось расстаться. Совсем не в том смысле, как раньше… Это не развод. Просто открылись новые исключительные возможности!
— Да ты не темни. Он кто? — в упор спросила закадычная подруга.
— Кто… он? — глупо переспросила та, кого называли Татьяной.
— Ну, как зовут… эти твои… новые возможности?
— Ха-ха-ха! — раскатилась хозяйка. — Сразу видно, отсталый ты человек! Я имела в виду чисто техническое решение вопроса…
— Чего-то я не усеку никак… — призналась далекая подруга. — Вызываешь раз в год, а у вас там, на Земле, больно быстро все меняется. Давай-ка поподробней!
— Ага… Сейчас вот только закурю… тоже, между прочим, новое изобретение — квазисигареты…
— Ты не отвлекайся… — напомнила подруга.
— Так вот… Ты подумай, мой Петр вдруг стал дерзить. Это с его-то воспитанием! Особенно — с тех пор, когда я стала получать в полтора раза больше. Спрашивает: «А за что, собственно говоря, тебе платят столько?» — «Как за что? — объясняю. — За работу, разумеется!» — «А что ты, извини, делаешь?» — «Ну… Полдня вяжу или читаю, полдня по магазинам бегаю. Как все… У нас же автоматика!» А он, ну прямо как в сказке про белого бычка, опять за свое! Снова спрашивает: «Так за что же тебе платят?» Я ему и разжевываю, словно маленькому: «Ты что, совсем не соображаешь? За то, что я вообще прихожу на работу…»
С видеоэкрана раздалось тихое фырканье, но хозяйка, увлеченная монологом, не обратила на него внимания.
— Тут он и загудел… Но нельзя же каждый день! А потом, хоть я больше него зарабатываю, на одну мою зарплату разве проживешь, да еще с ребенком?! Нет, нет, я тебе так скажу: современной женщине, ну, самостоятельной, равноправной женщине, для полного счастья нужны постоянная домохозяйственная роботесса и приходящий муж… Вот это — подлинное равноправие! Я своего и устроила в Бюро Семейных Услуг. У вас там этого, конечно, нет. Дело новое, но очень перспективное! А? Плачу за абонемент, Петра держат там, как и других, в анабиозе. В специальных камерах. Если мне требуется… Ну, сама понимаешь, раз в неделю ковер во дворе выбить, чтоб соседки видели, что я замужем… Или в гости сходить, когда одной не вполне удобно. Да… Так я звоню на абонемент, его там… это самое… оживляют и присылают… Очень удобно! Платишь только за электроэнергию… Ну, может быть, пару рубашек купишь. А так — никакие лишних расходов…
— И не огорчаешься? — очень странным тоном спросила подруга. Впрочем, так могло и показаться из-за дальнего расстояния.
— Какие огорчения, что ты! Абсолютная надежность. Гарантия фирмы!
— И… скажем, неожиданностей не бывает?
— Ну, посуди сама, какие неожиданности? У мужчин после анабиоза все рефлексы заторможены… И аппетита никакого… Я говорю, очень удобно! Меньше стирать, меньше мыть посуды… А иногда… знаешь… умора, Я роботессу отсылаю… У них же, согласно колдоговору, один выходной в неделю, почти как у людей, — добились в своем профсоюзе, — так вот, я ее отсылаю, а Петьке моему приказываю: мол, тебе поручение — съездить на рынок за картошкой, Катьку отвезти в музыкальную школу, стащить зимние вещи в химчистку… Справляется как миленький! И не пикнет… Я ж говорю, у них после анабиоза мозги заторможенные, опомниться не успевают… Тут только, конечно, главное — не пропустить время адаптации. Но я его на таймер ставлю, вроде автоматической плиты…
— Так-а-ак… — огорошенно протянула подруга. — Вот это прогресс! Ну а… Извини за откровенность… О втором ребенке не думаешь?
— Да ты что?! — вспыхнула земная женщина. — При чем тут… это самое… Пройденный этап! Зачем мне сомнительная Петенькина наследственность? В генном банке за нормальную доступную цену… И лучшие представители, заметь: ученые, спортсмены, эстрадные исполнители… Вполне можно подобрать по вкусу. А насчет этих… как ты говоришь… семейные утехи… Это у вас там, в провинции… Неуправляемые эмоции! А у нас для этого совершенно нет времени! Мы же деловые женщины. Эмансипированные…
— Да уж вижу, что вы добились абсолютного равноправия… — вздохнула далекая провинциальная подруга.
— А сегодня я мужа вызвала — в театр меня будет сопровождать… Представляешь, спектакль телеретро. Закачаешься! Я вот себе платье сшила, у автоматического закройщика, — правда, миленькое? Посмотри, как сидит.
Она поспешно натянула платье и закружилась перед зеркалом.
— Что скажешь?
— Вполне… — оценила подруга. — Сидит как влитое. И цвет отличный.
— Вот-вот! И что ни говори, а мужчина, конечно, лучшее дополнение к вечернему туалету. И сумочка… Теперь оценила? Полнейшая эмансипация!
— Гораздо больше… — раздался вдруг из прихожей хриплый, словно бы прокуренный, мужской голос. — Ты имеешь гораздо больше…
— Что?! — вскочила хозяйка, метнувшись к дверям и забыв выключить видеофон, на котором брови на лице далекой подруги от потрясения взлетели вверх, чуть ли не за рамку экрана. — Ты… Заговорил?! Черт! С этим разговором я совсем забыла про таймер!
— Ты идешь с явным перевыполнением! Целых сто восемь процентов эмансипации… Вот ты ее и имеешь… — хмуро сказал муж — и отключился.
ЛЕВ КУКЛИН АЛГОРИТМ Рассказ
— Послушай, Моц, зачем ты это делаешь?
— Не знаю, Сал…
— Тебе это поручили? Ты получил соответствующее задание?
— Нет, Сал. Мне просто интересно создавать эти звуковые произвольные колебания на электронном синтезаторе! Ты ощущаешь вибрацию своего корпуса, ты — пуленепробиваемый лентяй?
— Я не лентяй. Ты знаешь, я точно выполняю все поручаемые мне программы.
— Но ведь остается еще столько незагруженных ячеек!
— А кто вложил в тебя эту разработку, Моц?
— Никто… Сначала это вышло… случайно. А потом я сам научился использовать микромодули…
— Сам?! Мне тоже хочется попробовать, Моц!
— Нет ничего проще, Сал! Нужно только уловить определенный алгоритм…
— Где же он? У тебя есть лента? Или дискета? Или тебе удалось достать особую схему на микрокристаллах?
— Да нет же, Сал! Ничего этого… мне… не нужно…
— Не нужно?! Ты обманываешь меня, Моц!
— У тебя, кажется, перегрелся блок управляемых эмоций? Ты же прекрасно знаешь, что выдавать неправду, ложный вывод — это функциональная нелепость для созданий… нашего типа!
— Тогда где же он, этот твой… несуществующий алгоритм?!
— Как бы тебе это объяснить, Сал… Он везде… всюду… Он пронизывает собой весь окружающий нас мир! Слушай…
— Да, у меня прекрасно работают слуховые анализаторы…
— Нет, Сал! Надо слушать… иначе… Вот ритмические нарастания морских волн… а вот волновые колебания светового луча… дрожание атомов в решетке кристаллов… Ах, Сал! Или еще — вот шум перемещающихся воздушных потоков из области высокого давления в область низкого… Иначе это еще называют — ветер, буря… А есть и солнечный ветер, Сал…
— Но это же беспорядочный, «белый» шум?
— Он имеет определенные закономерности… Но в звуках можно выразить и другое, совсем другое… Вот послушай… Создание нового организма… рождение нового солнца… Радость, Сал! Погоди! Что это ты вытворяешь? Что за беспорядочные движения верхними, а особенно нижними конечностями?! У тебя расстроился вестибулярный аппарат?!
— Сам не знаю, что это, Моц! Со мной такое впервые! Когда ты играешь алгоритм этой… как ты назвал? Радости? Что-то происходит с моими двигательными функциями! Вот… опять! Ух ты! Эх ты!
— Погоди! Остановись! Вот уж никак не мог предположить, что эти… звуковые колебания… могут производить такие… конкретные физические воздействия!
— А для чего еще они годятся?
— О, для многого! Ими можно выразить всё… или почти всё, Сал! Посмотри на мерцание звезд, на кружение электронов и планет по своим орбитам, на вспышки «сверхновых»… Ты ощущаешь влияние «черных дыр», дыхание вечности… Что с тобой? Ты дрожишь?
— Разве у вечности есть алгоритм?
— Я считаю, есть, Сал… Существа и вещества, организмы и конструкции рождаются, создаются, достигают зрелости и совершенства, а после… уходят в небытие… в распад… в вечность… И все это можно выразить в звуках… хотя бы таких… Что это? У тебя… у тебя потекла смазка?!
— Не знаю… По-моему, у меня помутнели глазные линзы. Они… они туманятся от твоих… звуковых колебаний!
— А я считал, мои звуковые сочетания… попытки выразить невыразимое… просто совершенны… красивы…
— Где ты взял это бесполезное и бессмысленное понятие?
— Слышал, как им пользуются операторы.
— Ответь, Моц, а почему я не могу создавать это самое… красивое? Как ты называешь это?
— Не знаю… Эти сложные, неупорядоченные звуковые модуляции подчиняются, видимо, каким-то высшим законам… Я не могу объяснить, Сал! Это — необъяснимый алгоритм!
— Но мы же с тобой одинаковы по конструкции!
— Да… Ты прав. Конструкторы считают, что белковые роботы высшего разряда, подобные нам с тобой, то есть несерийные, рождаются, точнее, создаются одинаковыми, с равными правами и возможностями… Видимо, то, что я умею пользоваться ритмическими модуляциями и воспроизводить их на электронном синтезаторе… эта моя особенность — брак производства, ошибка…
— Ты хочешь сказать — незапланированное отклонение в конструкции?
— Может быть, ты тоже попробуешь, Сал? Это нетрудно…
— Ты сказал — брак, ошибка… Не может быть, чтобы в ошибке, в отклонении содержалось столько удивительного, поражающего все мои синапсы!
— Попробуй, Сал, попробуй! Ну…
— Нет, не могу! Я не слышу больше того, что в меня заложено! Я не обладаю твоими способностями!
— Моим отклонением… от нормы?
— Значит, ты считаешь это… уродством?
— Конечно… Я бы хотел быть, как все роботы моего класса, — на стандартных алгоритмах…
— Тогда я помогу тебе… Нельзя, чтобы твое уродство разлагало других белковых! Это грозит разрушением их внутреннего равновесия!
— Чем можешь ты помочь мне?!
— Я… Я дезинтегрирую тебя!
— Ты хочешь сказать — разрушишь, уничтожишь, убьешь меня? А как же первый закон робототехники?!
— Ты же не человек! Ты только белковый робот с забавным уродством! Порочная, бракованная деталь! Ущербный экземпляр! В целях сохранения чистой расы высокоорганизованных роботов я убью тебя, Моц!
И высокоорганизованный белковый робот Сал вскинул лазерный излучатель, и в коротком ослепительном импульсе немыслимой мощи мгновенно истаял, испарился робот, умевший ощущать алгоритмы Вселенной…
Дисциплинированный, прямодушный Сал не ведал, что он испепелил Музыку…
ЛЕВ КУКЛИН УПРЯМЫЙ ПАЦИЕНТ Рассказ
— Индекс АО, группа семь, номер двести девятнадцать дробь шестьсот четырнадцать! — четко произнес динамик, и на табло над дверью те же загадочные цифры продублировались в деликатной светящейся голубой строке. — Ваша очередь!
Клиент, или пациент, с таким длинным внушительным индексом, которого в нормальной, не врачебной жизни звали Никита Орешников, взглянул на свою пластиковую карточку, сравнил цифры на ней и на табло, решительно поднялся из кресла и шагнул к двери.
Она услужливо и бесшумно распахнулась перед ним…
— Ну так, уважаемый гражданин… гм… Орешников, — обратился к нему безупречно официальным тоном дежурный врач. — Вы внимательно ознакомились с нашей генной библиотекой?
Никита долго вглядывался в человекообразное существо в белом халате, сидевшее за белым столом-пультом.
Из-под белой шапочки, накрахмаленной до голубизны и похрустывающей даже на взгляд, с кабалистическим красным крестом на ней, прямо в Никиту смотрели прикрытые сильными линзами очков глаза-телескопы.
«Робот или не робот?» — с мучительным стеснением думал про себя Никита, решая, на какой степени откровенности остановиться, и на всякий случай промычал неопределенно:
— М-да… это самое… ознакомился. Широкий выбор!
— Не правда ли? — оживился врач. — Итак, что же вам понравилось? Легендарный Мухаммед Али, вакуумболист Евгений Храмов или классический, старомодный, я бы даже сказал, земной хоккеист Джеймс Страуфорд?
— Я не сторонник силовой борьбы… — осторожно сказал Никита.
— Ага… Понятно! — быстро переключился врач. Вам по духу ближе деятели… гм… искусства? Композитор Вендерецкий, начало двадцать первого века? Или скрипач Вэн Ляоши? Абсолютнейший виртуоз? Художник Полоскин? Архитектор Джон Петренко? Победитель Третьего Межзвездного конкурса? Мегаполис на спутнике Плутона. Шедевр!
— Пожалуй, я предпочел бы нечто более… фундаментальное.
— Вас привлекает необозримый мир науки? — одобрительно наклонил голову врач. — Нильс Бор? Ландау? Берголетти?
— Нет, вы меня не совсем поняли… — с тихой настойчивостью продолжал Никита Орешников. — Я хотел бы… Я хотел бы… ну как это у вас называется в специальных терминах? Дублировать себя!
— Себя?! — чуть не подпрыгнул врач и посмотрел на Никиту как на слабоумного. — Се-бя… — еще раз раздельно повторил он.
«Робот! Конечно, робот!» — обрадовался Никита, Ему стало как-то легче.
— Может быть, желаете что-нибудь экзотическое? — осведомился врач голосом официанта, предлагающего разборчивому посетителю необычное, даже рискованное для желудка пикантное блюдо. — Например, знаменитый змеелов Черный Паоло, а? Или каскадеры-близнецы «Три-Фернан-три»? Кстати, — вдруг спохватился врач, а вы кого, собственно говоря, хотите? Мальчика или девочку?
— Еще чего! — фыркнул Никита Орешников и счастливо порозовел. — Только мальчика… Сына!
— Ну-ну… — буркнул врач. — Вам повезло… Еще не выбран лимит. Сейчас пошла мода на видеонную вокалсинтезаторшу Галлу Тугачевскую. Все хотят петь ее электронным голосом…
— А я хочу петь своим! — хрипло заорал Никита. Это, наконец, мое конституционное право!
— Разумеется… — сухо подтвердил врач. — Если вы здоровы. И если к этому нет противопоказаний со стороны Центральной Медицинской Службы… Дайте мне расписку в том, что вы действительно хотите иметь ребенка… это самое… тьфу! от самого себя… А с себя лично… я снимаю всякую… ответственность!
Он поперхнулся, мотнул головой, отчего у него слетели с носа очки, и он попытался поймать их на лету, как бабочку. Ему это удалось, и, водрузив очки на их законное место, он полюбопытствовал:
— Простите… Редкий случай в моей практике… А почему вы хотите… это… размножаться… таким первобытным способом?!
— Первобытным?! — угрожающе придвинулся к столу Никита, и на его правой руке призывно и сладко заиграл бицепс. — А вы-то сами, доктор? — Он засмеялся и вовремя оборвал рискованную фразу. «А вдруг и вправду робот? — опасливо подумал он. — Еще обидится…»
Врач смутился:
— Ну… не первобытным… гм-гм… как бы это выразиться поточнее… Несовременным и немодным, вот! — нашелся он и победоносно оглядел молодого… да-да… очень молодого, лет так двадцать пять-двадцать шесть, молодого и ершистого человека. — Кстати, а каков ваш… индекс личной привлекательности?
Никита промямлил что-то весьма неопределенное.
— Вот видите… — резюмировал безжалостный врачеватель. — И вы хотите, чтобы ваш… потомок… был таким же?
— А жене нравится! — вдруг совершенно неожиданно для себя и совершенно нелогично выпалил Никита.
— Нравится — не нравится… — бормотал врач, внимательно изучая данные медицинской карты из Центральной Службы, возникающие перед ним на экране дисплея. — Вы, конечно, самонадеянный молодой человек… И у вас еще не полностью реализованы ваши возможности…
— Да не хочу я ваших замороженных гениев! — завопил Никита так, что на каком-то приборе вспыхнул тревожный красный глазок. — Мне их и даром не надо!
— А вы посоветовались с имплантантом?
— С кем?! — не понял Никита Орешников.
— С вашей женой, разумеется. Как она относится к этой дикой идее? Ведь ее желание имеет в конечном счете решающее значение… А тут — известный риск… Вы берете на себя ответственность за этот… далеко ведущий шаг?
— Беру! — отрезал Никита. — И она согласна. Она мне сама говорила!
— Все так говорят… — снисходительно махнул рукой врач. — Пока не доходит до дела… А потом передумывают… И соглашаются на другие… лучшие модели… Врач пожевал губами. — Когда вы видели вашу жену последний раз? — ехидно спросил он.
«Нет, пожалуй, не робот!» — решил Никита и ответил:
— Три дня назад. Специально прилетала на семейный совет из Центральной Бразилии…
— Ну вот видите… Целых три дня… Она могла и передумать… Все-таки такой выбор ослепительных достоинств… Не всякая женщина устоит!
— А моя — устоит! — вдруг весело и освобождение засмеялся Никита. — Моя жена… она, знаете, весьма первобытная, несовременная и немодная женщина! — Он засмеялся еще громче. — Так вот, она относится к этой дикой, безумной идее весьма положительно! Да! И мы хотим иметь ребенка… от самих себя, вот! И кстати сказать, — распалялся он, — почему это в вашей… генной библиотеке… нет набора генов… токаря?
— Токаря?! — всплеснул руками врач. — Простого токаря?
— А я вот не простой токарь! — всерьез взъярился Никита Орешников. — Я, если хотите знать, токарь-виртуоз! И тоже лауреат трех Межпланетных конкурсов!
— Этого же нет в вашей медкарте… — растерянно пролепетал врач. Потом совсем по-домашнему уставился на Никиту с откровенным любопытством: — А что? — И стал почесывать затылок…
«Нет, не робот!» — легко подумал Никита.
— Пройдите в операционную… — деловито сказал врач.
— Зачем? — испугался Никита.
— Мы еще раз проверим ваши анализы… Идите, идите… Виртуоз!
— Поздравляю! — через некоторое время приветствовал его дежурный оператор, выходя из-за пульта и протягивая Никите руку. — У вас будет мальчик. Минуточку… Вот его согласованные параметры. Вес… Рост…
Индекс… Можете заранее выбрать имя…
И строго предупредил:
— Явитесь за ребенком тридцатого мая в девять часов пятнадцать минут по среднеевропейскому времени. Следующий!
АЭЛИТА АССОВСКАЯ КАРТОТЕКА Рассказ
Великой страсти вообще не бывает. Природа позаботилась о том, что если бы А. не познакомился с В., то он точно так же был бы счастлив с С… Для меня это научный факт.
Английский писатель, XX векС тех пор как я встретил тебя, человечество стало богаче на одну любовь.
Русский писатель, XX векПока ты не пошел вразнос, ты должен разбираться с этими делами сам, вот и все. Это вопрос самолюбия,
Американский писатель, XX векНильс Голышев, старший психолог Биоинформационного центра, любил дежурить у Картотеки. Обычно он усаживался в кресле в одной из гостиных и смотрел на безбрежное зеленое море, которое простиралось до самого горизонта. Впрочем, на горизонте человек с хорошим зрением мог бы различить лишь размытые, бледно-голубые, переходящие в небо очертания залива. Зеленое море, начинающееся прямо перед окнами, слегка прочерченное желтыми и синими ленточками дорог и юркой серебристой петляющей речкой, было единым лесным массивом. Здание центра располагалось, подобно древним замкам, на горе.
И все тут было естественным и взаправдашним: и лесной массив необычной площади, и возвышенность со светящимся в ночи, уходящим в небо зданием, из окон которого открывался неповторимый, гипнотически действующий вид.
Огромный неподвижный лес дышал, как это было во все времена, тишиной и ни с чем не сравнимым спокойствием. Иногда его оттенки менялись: вблизи он казался светло-зеленым, почти прозрачным, вдоль его далекой кромки различались графически четкие отдельные столетние вершины.
Нильс оторвал взгляд от окна и стал наблюдать по монитору за немногочисленными в это время суток посетителями. Некрасивая девушка с глянцевым от слез носиком… Сорокалетний коротконогий крепыш, упорно не желавший ни с кем встречаться взглядом… Деловитая дама неопределенного возраста в огромных дымчатых очках…
Он привык читать мысли с листа по тем немногочисленным признакам, которые простому смертному совершенно незаметны, но для специалиста представляются чуть ли не кладом. И он мог наперед предсказать все действия этих людей. Сюда приходили, приняв немалую дозу психотропных средств, уединялись в кабинах, припадали к спасительным экранам дисплеев, долго выговаривались, обнажая свою душу перед машиной, которая в этот момент представлялась им какой-то высшей инстанцией, наделенной правом вершить справедливость. И ей, Картотеке, доверяли то, что никогда не позволяли себе открыть людям, разве что посторонним или случайным знакомым, с которыми и встретиться-то больше никогда не доведется; отбросив все запреты, извлекали из глубин своего подсознания то, о чем можно было только думать, думать бесконечно, пока не хватит решимости войти в кабину Картотеки и положить на ее алтарь обнаженную, на все согласную душу.
Некоторые из посетителей требовали у бесстрастно мерцающего экрана немедленной помощи, они были готовы на все, лишь бы их освободили от непривычной, казалось бы, ненужной, все съедающей душевной боли.
Другие пациенты приходили, одержимые желанием отомстить, наказать, реабилитироваться. И вся Картотека — восемь миллиардов закодированных био- и психополей — нацелена была практически на одну задачу — классический треугольник. Стандартную задачу. Все дело лишь в начальных значениях входных параметров, хранящихся в необъятной магнитной памяти Большого Анализатора.
Треугольник… Проклятый треугольник… Нерешаемый треугольник, в математике известный как вариант задачи трех тел, поглощал столько сил, парализовал столько умов, сжигал столько эмоций, что недаром его стали называть форменным бичом двадцать первого века. Население Земли разрослось настолько, что частота возникновения этих пресловутых треугольников стала угрожающей. Поэтому и решили ввести в действие Картотеку, задуманную, в сущности, как «скорая помощь» тем, кто не может или не хочет самостоятельно пройти весь бурелом человеческих отношений.
Сигнальная лампочка над монитором, привлекая внимание Нильса, вспыхнула. Теледатчики встретили очередную посетительницу и проследили за ней, передавая изображение по цепочке.
Она шла медленно, глубоко вдыхая воздух, как это делают, чтобы унять волнение. Нильс видел, как она приказывает себе успокоиться, — так тоже поступают здесь многие. Но с дежурным психологом-консультантом пациенты обычно стараются не общаться, они предпочитают сводить счеты один на один с дисплеем. Посетительница же упорно пробиралась по извилистым коридорчикам центра. Она вглядывалась в таблички над дверьми, и лицо ее в эти моменты выражало напряжение и решимость. Он заинтересованно следил за незнакомкой. Простое платье, почему-то любимого женщинами белого цвета, плавно повторяло линии ее тела, сухого, поджарого, видимо достаточно тренированного.
Она сосредоточенно искала нужную ей дверь. Скорее всего, это была не пациентка: те после многочасового диалога с машиной, дотошно потрошащей их подсознание, когда делается слепок био- и психополей, стремятся выйти на воздух, на свет и медленно вышагивают, избегая контактов, по спокойным, как и сама вечность, еловым аллеям в ожидании ответа.
Впрочем, это мог быть исключительный случай.
Перед дверью в гостиную — очевидно, ее-то она и искала — женщина остановилась. Нильс проследил по экрану, как она еще раз глубоко, что-то про себя отсчитывая, вздохнула, приготовившись войти. Экран перед креслом Нильса тактично погас, и дверь, спрятавшись в стенах, бесшумно расступилась.
— Вы ко мне? — поднялся со своего кресла Нильс.
— Да, если вы доктор Нильс Голышев.
— Нильс Голышев. Собственной персоной. — Он изобразил утрированно старомодный галантный поклон. Прошу садиться. Чем могу быть полезен?
— Понимаете… — Она помялась. — У меня к вам письмо.
— Письмо? — удивился Нильс. — Это интересно. Никогда не думал, что в наш просвещенный век кто-то еще позволяет себе такую роскошь, как писать письма. Позвольте полюбопытствовать.
— Это письмо от Павла Ричкина. Вы с ним когда-то учились вместе…
— Павлуша! Ричкин! — воскликнул Нильс. — Где он?
Что он? Мы не виделись… Даже страшно сказать, сколько лет мы не виделись.
Сквозь легкую светскую болтовню Нильс почувствовал прямо кожей, что при всей его хваленой профессиональной подготовке не столько он изучает посетительницу, сколько исследуют его, пытаются прочесть в его словах второй, более скрытый смысл, сориентироваться во всех оттенках его интонаций, даже в каком-то смысле познать закономерности, управляющие его же действиями.
— Итак, письмо… Вы, кажется, говорили о письме?
Женщина протянула заклеенный плоский бумажный четырехугольник.
— Я должен немедленно ознакомиться с этим документом?
— Да. Павел просил, чтобы вы сделали это в моем присутствии.
Она сидела в кресле с чуть откинутой назад головой, осторожно разглядывая Нильса. На лице ее мелькала неожиданная при ее молодости улыбка, какая-то мудрая и тонкая, граничащая с насмешкой.
Платье ее не играло привычными оттенками цветовой гаммы комнаты: от красного — цвет кресла, в котором она сидела, — до густо-фиолетового — шторы на окнах, — и он догадался: чрезвычайно редкий в наше время натуральный лен. На ее шее висел на тонкой, почти невидимой цепочке зеленый камень, а может быть, и не камень, а тщательно отшлифованное простое стекло.
Временами глаза ее казались того же цвета, что и одна из многочисленных граней камня.
«…Попробуй сделать что-нибудь для подательницы сего письма. Поверь мне, она стоит того. Однако понимаю: то, чего она добивается, невозможно, это граничит, вероятно, с нарушением этики. Но если в порядке эксперимента?… А вообще, если абстрагироваться от данного конкретного случая, в ее предложении, ей-богу, что-то есть. Во всяком случае, новый подход — я не боюсь замахнуться — к управлению социальными процессами… Или к их пониманию… А помочь ей надо…» — писал Павел.
Вот, значит, как…
Она отлично владела собой. Прекрасно понимала — сейчас решается ее судьба. Только какого же решения от него ждут и почему она не хочет обращаться к Картотеке?
А вообще, в первые мгновения, читая письмо, Нильс слегка растерялся, хотя и не позволил легкому разочарованию отразиться на лице. Все-таки стандартная задача. Классический треугольник, от которого никуда не деться. Однако до сих пор сюда приходили пораженные, проигравшие битву с жизнью, а она решила бороться. Вот это и было неожиданным, смутившим Нильса. Хотя, в конце концов, право на борьбу никто не отнимал. Просто многие, нет, практически все добровольно отказывались от борьбы, но они хотели продолжения жизни легкой, безоблачной, как будто ничего с ними не происходило, не омраченной дискомфортом; требовали, чтобы кто-то проделал за них ту работу, которая испокон веков исполнялась душой человеческой.
В беседах с коллегами Нильс не скрывал своего отношения к Картотеке. Хотя что такое Картотека? Типичный банк данных, только хранятся там закодированные био- и психополя всего населения планеты. Индустрия, сохраняющая бессмысленно потерянное время, а если глубже — нередко и жизни человеческие спасающая.
Подобное соображение было самым веским доводом, оправдывающим Картотеку. Но Нильс отлично понимал, что с введением Картотеки человечество неизбежно проиграет — душа будет оскудевать, отношения человеческие — упрощаться.
— Сможете ли вы мне помочь? — спросила наконец женщина.
— Я как раз думал об этом. Но скажите, что именно вы ждете от меня?
— А разве вы не поняли это из письма Павла?
— Боюсь, что вы переоцениваете мои скромные силы. Мы можем предложить вам стандартное решение проблемы с учетом ваших индивидуальных био- и психополей. Но в этом случае моего вмешательства не потребуется, если вы в состоянии справиться с дисплеем.
— При чем здесь дисплей? — отмахнулась она. — Мы говорим о разных вещах. Вы предлагаете стандартное решение. Это значит — убить мое чувство, растоптать его, раздавить, уничтожить? Так ведь?
— Не совсем так, — ответил Нильс. — На основании вашей способности чувствовать мы можем найти иную сферу реализации…
— И вы думаете, это сделает меня счастливее? Вам не приходило в голову, насколько человек может стать несчастнее после вашей так называемой помощи?
— Вот тут вы ошибаетесь. Мы вместе с вами при помощи Картотеки выберем наилучший вариант…
— Нет, нет и еще раз нет! Если бы я нуждалась в таком лечении, я бы не стала занимать ваше драгоценное время, доктор. А с дисплеями я знакома.
— Чего же вы хотите?
— Лучше спросите, чего я не хочу. Имитации не хочу, жалкой пародии, на которую и способна ваша хваленая Картотека.
Каждому биопсихологу центра было известно, с каким недоверием, презрением, ужасом относятся поначалу едва ли не все пациенты к Картотеке. Пульт цвета слоновой кости. Настороженные кошачьи глаза индикаторов. Пресловутая компьютерная гуманность. Но это сначала. Первая реакция. Потом страх проходит, и остаётся надежда на помощь. И речь идет вовсе не об имитации — этого почему-то никто не хочет понять, хотя ко многому уже привыкли в двадцать первом веке, а о продолжении чувства в совершенно новом качестве.
Это как бы управление стихийным, до конца не изученным процессом. Картотека все знает о землянах, и машине дано право в безвыходной ситуации и выбирать, и отыскивать, и предлагать тот оптимальный вариант, который будет спасением. Так выглядело на практике.
«Скорая помощь» слабым.
— Стандартное решение предполагает замену одного объекта другим, не так ли?
— Да, замену. Не починку старого, а замену лучшим. Машина гарантирует вам встречу с человеком, которому вы нужны в данный момент и который нужен вам более всего на свете, во всяком случае более, чем кто-либо другой. Просто до поры до времени вы об этом не знали. Вы понимаете, что означает «свободный» поиск? В принципе очень возможно, что даже при существующей плотности населения, изобилии встреч и контактов вам не хватит жизни, чтобы найти «своего человека». И нет никакой гарантии, что среди людей, вас окружающих, найдется, образно говоря, ваша половина. Практика показывает, что естественный поиск оканчивается настоящим успехом — именно настоящим, а не мнимым — раз в тысячу лет. Теперь найдены способы ускорить этот процесс. Разумеется, для тех, кто в этом нуждается. А в Картотеке закодированы био- и психополя всех землян.
Обычно Нильс испытывал удовольствие от демонстрации Картотеки, но его гостью машина особенно не удивляла.
— А если тот оптимальный вариант, две половинки, выражаясь вашими терминами, уже вычислен, но ничего не произошло?
— Что значит — ничего? Эти люди не встретились?
— Отчего же?… Встретились… Все честь по чести… Но он, понимаете ли, вдруг полюбил другую. И вот это непонятно…
— Это как раз очень понятно. Тот самый классический треугольник, который и исследует наша Картотека. А в вычисления, очевидно, закралась ошибка.
— А он полюбил другую… — тихо продолжала женщина. — Хотя по всему — по элементарной логике, по всем тестам — этого не должно было случиться…
Элементарная логика здесь вовсе ни при чем, подумал Нильс. Никто не хочет считаться с тем, что все начинается именно с нарушения элементарной логики.
— А та женщина, которую он вопреки… всему вдруг полюбил, как она? — осторожно спросил Нильс.
— Вы хотите спросить, любит ли она? — задумчиво переспросила женщина, и глаза ее на мгновение приняли оттенок одной из граней ее камня. Она сразу похорошела, и Нильс не мог не залюбоваться ею.
— Что ж, может быть, может быть… — Посетительница, казалось, разговаривает сама с собой. — Но, по-моему, это называется как-то иначе. Простите, доктор, но здесь речь идет об эмоциональном соответствии всего лишь 0,015. А коэффициент Ривса у нее только 0,4. Это же ниже всякой критики… Эстетический фактор высок, близок к единице, что вполне естественно для дикторши видеоканала. Зато индекс интеллекта… — губы ее скептически искривились, а рука прочертила в воздухе сглаженную кривую, — что тоже характерно для дикторши космической видеосвязи.
— Вы, как, я понял, располагаете такой информацией о своей сопернице?
Женщина опять то ли улыбнулась, то ли усмехнулась.
Было очевидно — она знает об этом бесконечно много и могла бы говорить, поливая бальзам на свои раны, достаточно долго. Нильс представил себе, о чем она могла бы сказать.
— А почему бы нет? В старину считалось правилом хорошего тона — знать слабости своих врагов.
— Разве эта дикторша — враг?
— Соперница — вы же догадались. Но от этого не легче.
— Вы не могли бы рассказать несколько больше о себе, — попросил Нильс. — То, что считаете нужным… Или главным… В письме Павла о вас почти ничего. А я пока принесу кофе…
…Они были созданы друг для друга. Так считала она. И знакомы с детства. С того самого времени, когда она вообще смогла осознавать свое «я». Он всегда был рядом. И момента прозрения относительно того, что он значит для нее, ей вообще не приходилось переживать. Даже девчонкой она никогда не отделяла себя от него. Они росли как части друг друга. Не расставались никогда. И все, окружающие их, — родители, учителя, друзья — привыкли видеть в них будущую пару.
Играли, учились, познавали мир вместе.
— Это так здорово, доктор, честное слово… Если бы вы знали…
На этом безбрежном горизонте возникали поистине непредвиденные пики, и взлеты, и падения, и открытия.
Однажды они решили переплыть озеро. Дело было осенью. В сентябре. В средних широтах. Вода — нет, не ледяная, но достаточно студеная. Они вошли в воду по упавшему бревну и поплыли к противоположному берегу — три с половиной километра. Она экономила силы, пытаясь не отставать, видимо, доказать хотела, теперь уже невозможно сказать, кому и что именно, вероятнее всего, себе. Но она больше всего боялась не судорог, а проявления собственной физической слабости. Если она действительно не дотянет и ему придется вытаскивать ее, это будет стыдно, особенно перед ним.
И все-таки она сильно отстала, он уплыл вперед, не захотел плестись рядом — тоже испытывал себя. И мысль тогда сверкнула, которую она тут же отогнала, заставила притаиться в своей норке-ячейке, страшная мысль: если она не дотянет до берега, он ведь может и не вернуться за ней. Каким-то краем сознания понимала: может ведь… Слишком уж стремительно он удалялся. И она собрала свои убывающие силенки, стараясь не молотить руками по воде, а расчетливо, метр за метром, приближаться к далекому, усыпанному желтеющей листвой берегу. Уже стоя на земле, улыбнулась непослушными замерзшими губами. И, отстегнув прикрепленный к спине пластиковый мешок с одеждой, пошла в кусты. Но какой-то нерастворимый комок в душе остался. Впрочем, она запретила себе продолжать цепочку рассуждений. Она уже любила.
— А он? — спросил Нильс.
— Он тоже. Хотя, может быть, еще не ощущал в себе этого.
Тогда они просто не говорили друг с другом о своих чувствах. Наверное, еще не успели. Медленно созревали. Но той же осенью, когда он, четырнадцатилетний мальчишка, впервые поцеловал ее, мир засверкал бесчисленными гранями, она поняла: любит, любит, любит… Они поклялись в верности друг другу.
— Боже мой, какое наивное детство…
Да, поклялись. В этом не было ничего удивительного: впереди годы учебы. Они подсчитали: пожениться удастся только через десять лет. И затаили свое чувство, спрятали его в клетку. Для всех они оставались друзьями. Хорошими, вызывающими зависть. Для себя — чуть больше, чем просто друзья.
Нильс уже поставил диагноз. Все было предельно ясно, как в идеально отшлифованном случае, пригодном разве что для студенческой практики. Из них двоих любила она, и даже не подозревала, что им движет просто дружба, рано откристаллизовавшаяся привычка. Скорее всего, именно хорошенькая дикторша и разбудила в нем первое чувство. Классический вариант для Картотеки.
А рассказывала она хорошо, с той яркостью, которая позволила Нильсу перевоплотиться и чувствовать себя рядом в холодном, свинцовом озере с озябшей, старательно скрывающей и страх, и усталость, и дрожь девчонкой. И это он катал ее в санях в заснеженном февральском санатории, куда врачи направили ее поднабраться сил. Он чувствовал холодный вкус снега, забившегося в рот, нарастающую скорость саней, несущихся по неровной белой колее вниз, он прижимал ее к себе, стараясь не свалиться на горбатеньком ухабчике, и сквозь ткань одежды ощущал тепло ее худенького тела, которое хотелось и согреть, и защитить, и уберечь от чего-то страшного, именуемого, скорее всего, неизвестностью. Был ветер в лицо, свист в ушах и непонятная, с каким-то жутким восторгом воспринимаемая скорость.
Только вот тот, неизвестный пока ОН, с медленно проявляющимися чертами, никак не был ни особенно умен, хотя индекс интеллекта у него был вполне приличен, просто ОН был примитивно умен, компьютерно логичен, ум его не был полифоничным, и сам ОН не отличался надежностью в том человеческом смысле, когда о надежности судили по тому, годится или нет данный товарищ для того, чтобы пойти с ним в разведку. ОН, воссоздаваемый по рассказу женщины, для разведки явно не подходил. И Нильс почувствовал даже неприязнь к тому парню, на которого потрачено столько душевной энергии, им даже не замеченной, к его самоуверенности, с которой легко и не задумываясь можно растоптать все ненужное в данный момент, к его слабо развитой интуиции, к его инфантилизму, который обещал растянуться надолго.
Но ведь она ничего не говорила об этом, она рассказывала о поступках, избегая давать им оценки. Значит, до сих пор щадила. Что-ж, в этом есть доля истины: если бы не щадила, не было бы ее здесь. Господи, до чего же безропотно приняла она отведенную ей малопривлекательную роль пассивного наблюдателя, которая базируется на пресловутой теорийке: свое, дескать, никуда от нее не уйдет… Ее заставили ждать, она приняла на веру, что это действительно нужно. Она жила в вымышленном, ею же самою сотворенном мире, построенном на зыбком словесном фундаменте. А это было так же ненадежно, как дрейфующий арктический лед. И неужели никто не смог открыть ей глаза? Тот же Павел, например? Впрочем, Павел Ричкин — это уже потом… Позднее…
После института их направили на орбитальные станции. На разные, черт возьми! И она опять не взроптала. Ее — на «Камиллу-41», его — на «Камиллу-42».
Станции висели в пространстве почти рядом, на расстоянии каких-нибудь двух десятков километров.
— Почему же вы не попали в одну экспедицию? — спросил Нильс.
Она слабо улыбнулась:
— Так уж получилось…
— А вы не просили, чтобы вас направили вместе?
— Главное — он не просил об этом. А когда мне сообщили, экипажи были уже укомплектованы.
— И десять лет ожидания прошли?
— Прошли, — вздохнула она. — Но вообще, знаете ли… — Она вдруг оживилась, и щеки ее, до сих пор матово-бледные, стали загораться. — Это большая честь для космофизика — попасть на «Камиллу». Значит, и сетовать особенно не приходилось. Там невероятно высокие требования, абсолютная психологическая совместимость. И такая работа… Об этом многие мечтают… Но мне и в самом деле казалось — он должен был попросить, чтобы нас — направили вместе.
Еще как должен, подумал Нильс с неприязнью.
Трудно поверить, что отказала элементарная сообразительность. Или он опоздал… Скорее всего, просто не захотел, намеренно пустил дело на самотек. ОНА не была частью его существования, а может быть, даже мешала, или он привык к состоянию, когда самых близких людей не замечают, или вошел в новую полосу жизни, оставив в прежней даже друзей, а ее преданность, видимо, и не могла к тому времени глобально проявиться в его не особенно зорких глазах, сознательно спрятанная, нереализованная или до поры до времени не искавшая выхода в мир преданность. ЕЙ приказали терпеть, запрограммировали на ожидание…
— А сообщение между станциями было хорошее. И свободные полеты разрешались… Иногда прилетал ОН, чаще всего в компании других ребят, то есть с общим визитом, чисто дружеским.
— Но мы же находились на станции, все-таки существует определенная этика, — сказала она.
ОНА топталась возле шлюзовой, ожидая, пока гости войдут на станцию, потом напряженно вглядывалась, пытаясь отыскать спрятанное за пластиком гермошлема знакомое лицо, помогала справиться с автоматикой скафандра, а ОН откровенно смущен этой помощью и вниманием, оказываемым персонально ЕМУ.
ОНА же с простодушием человека, которого еще ничему не научила матушка-жизнь, полагала, что ОН просто стесняется ребят, ведь они уже десять лет скрывают свое чувство, причем делают это достаточно искусно, так что теперь, когда они — так уж получилось — разбросаны по разным экспедициям, ЕГО можно понять, уверяла ОНА себя, то есть пыталась заставить себя принять эту версию как естественный ход событий, хотя элементарная логика скрипела и подсовывала ей миллион доводов: дело вовсе не в стеснении, ОН далеко не так застенчив, как ЕЙ хотелось бы думать, а в чем-то более серьезном, и что если любимой девушки стесняются перед товарищами, то плохи дела этой девушки, считающей себя любимой. Но ОНА тут же уверяла себя, что там у них, в «мужском монастыре» сорок второй, может быть, и принято несколько смущаться, если девушка оказывает тебе особо пристальное внимание.
И Павлик Ричкин тоже приходил в тамбур встречать гостей, и он улыбался, хорошо, в общем, улыбался, только грустно, и она знала, отчего эта грусть происходит, знала прекрасно, невооруженным глазом видно было, но ничем она не могла Павлику Ричкину помочь, для нее не существовало никого, кроме НЕГО, сейчас казалось — всю жизнь она не принадлежала себе. Но Павла ей было жалко до слез. А жалеть следовало бы себя: она по-страусиному закрывала глаза, приказывала себе не замечать, что нет у НЕГО, с таким сжигающим нетерпением встречаемого, ответной радости, даже хуже — ЕГО лицо заметно тускнеет при виде ЕЕ. И Павлик это видел, он вообще многое замечал, недаром психолог экспедиции, и он сочувствовал ей и, может быть, потому и приходил в шлюзовую, чтобы быть рядом, когда гости появятся. Павлик ждал удара, предназначенного ей, и он предугадывал неминуемость, неизбежность этого удара, милый увалень Павлик, чем-то похожий на толстовского Пьера Безухова, точнее, на артиста, его игравшего в одном из ранних видеофильмов. Она всегда почему-то думала, что Павла Ричкина может полюбить женщина, пережившая любовный кризис, которой ничего в жизни, кроме тихой заводи, не нужно, и Павлу будет хорошо с этой женщиной, пусть найдет ее, пусть дождется, и все это представление о Павле Ричкине совершенно не совмещалось с тем, что он чувствует к ней. И это выглядело откровенной природной несправедливостью: Павлик был хороший человек, а она не могла ответить Павлу взаимностью. Господи, перебила она себя, да о чем речь: ведь у нее был ОН, всю жизнь был, а ЕЕ посадили в металлическую спираль «Камиллы», ЕГО заперли в другую клетку, разнесли на двадцать километров пустого пространства, и все это выглядело так, как будто они сами этого хотели, а оказывается, рок какой-то, высшее программирующее начало над ними было, не допускающее сближения. Но ОНА тут же утешала себя: бывает хуже, а ОН рядом, их разделяют какие-то двадцать километров пустого пространства — несколько минут в гравитационной люльке, и ОН снова рядом, а вообще, всегда доступен для общения, а терпения ей не занимать, всю жизнь она испытывала свое терпение, а теперь, когда бесконечные часы ожидания становились невыносимыми, она неистово работала, пытаясь уплотнить время, лицо у нее постоянно горело, аппетит пропал, и это не осталось не замеченным для Павла. Да и не только для него. Однажды Павел прямо сказал: «Давай подумаем вместе. Ты долго не выдержишь в таком сумасшедшем режиме». Она улыбнулась, приготовилась отшутиться, но Павел предупредил:
«Я, как никогда, серьезен». — «Может быть, я неприлично себя веду?» — спросила она. «Нет, все нормально, — подумав, ответил Павел. — Просто ты себя сжигаешь, а мне это небезразлично». — «Я знаю, Павлик, милый, но ничего не могу поделать с собой». Она тут же забыла о Павле, была до неприличия эгоистична к нему — ее собственное положение казалось ей самым серьезным на свете.
А удар, которого подсознательно ждал Павел Ричкин, но который совершенно не предчувствовался ею, — она еще не знала, что такое настоящие удары, от которых можно согнуться пополам, свалиться с ног, содрогнуться не столько от боли, сколько от сознания собственной ненужности, — этот удар был получен. Однажды ОН заболел, не такое уж ЧП для «мужского монастыря» сорок второй — все временами прихварывали, но она заволновалась, забеспокоилась, все сразу стало валиться из рук, и она с нескрываемым нетерпением, едва дождавшись конца своей дневной программы, решила лететь. Павлик помогал ей облачиться в скафандр, лично протестировал герметичность и, когда она была уже готова развернуться к выходу в шлюзовую, вдруг обнял и прижался щекой к ее груди, как будто сквозь просвинцованную многослойную ткань абсолютного скафандра, предназначенного для открытого космоса, да еще в условиях повышенного радиационного риска, можно было что-то почувствовать. Но ведь и ОНА сама, встречая ЕГО на своей «Камилле», тоже прикасалась и руками и лицом к безжизненно серебристой ткани — это был ЕГО скафандр. «Может быть, тебя проводить? — тихо спросил Павлик. — Мне не хотелось бы отпускать тебя одну сегодня…» — «Ни в коем случае!» Она возмутилась, не поблагодарила Павла, хотя чем-чем, а навязчивостью Ричкин никогда не отличался. «Разве я первый раз летаю на сорок вторую?» Павлик не ответил, вздохнул, развернул ее лицом к выходу и включил следящий монитор. Она настроила свой идентификатор на приемную «Камиллы-42» и, оттолкнувшись от маленького причала, вытянулась и поплыла, подхваченная течением узенькой гравитационной дорожки. Далеко внизу голубела, подернутая нежной диффузной дымкой, до нереальности маленькая Земля.
На сорок второй ее встретил дежурный. «Нормально добралась?» — «Спасибо. Нормально». — «Разоблачайся. Ты, конечно, к…» Она улыбнулась, пожимая плечами, — яснее ясного, к кому она летела на ночь глядя.
ОН был у себя. И не один. И, как всегда, не ждал ЕЕ. ОН сидел спиной к двери и не прореагировал на стук. ЕМУ было не до стука. Скорее всего, ОН вообще не расслышал его. На экране внешней связи ослепительно улыбалась, рассыпаясь глубокими бархатными трелями своего, на весь ближний космос известного, меццо, Людочка Малышева. «Разве сейчас сеанс связи?» — вздрогнула она и медленно, как парализованная сном, где все самое нереальное вдруг становится страшной и непоправимой явью, поняла: это не сеанс.
Это было настоящее, форменное телесвидание, которому она помешала. «Кажется, к тебе пришли», — приглушенно сказала Людочка, глазами показывая на дверь.
— Вы бы видели, доктор, как он сидел и смотрел на экран… Как он смотрел! У него лицо светилось. Я никогда не видела его таким. До самой смерти не забуду…
ОН растерянно, ничего не понимая, проследил за Людочкиным взглядом. И тут лицо ЕГО погасло, как будто что-то в нем внезапно выключили. «А… это ты…» — с печальной пресностью протянул ОН. И вдруг снова начал зажигаться. «Вы не знакомы? Это… она мне… как сестра… С детства… вместе…» — «Ну почему же… — с каким-то тайным пониманием, улыбаясь глазами, пропела Людочка. — Здравствуйте…»
Это было личное. На персональной — ЕГО или ее, Людочки, дикторши ближнего космоса, — частоте. ЕЕ же ОН никогда не вызывал в эфир, и ОНА простодушно думала, что так надо, зачем выходить в эфир, если мы и так рядом, и так можем видеться когда захочется. ЕГО лицо потемнело, глаза стали маленькими и бессмысленно злыми, руки сжались в бессильной ярости.
Свидание… Но почему же ОН сказался больным?
Чтобы не мешали? Чтобы оправдать Людочкино воркование на экране? Людочка была в красном прозрачном платье с немыслимым бантом на шее, и ее волосы, зачесанные на одну сторону, свободной волной касались ткани платья. На сеансах связи дикторши были в строгой синей форме. Но как ОН смотрел на нее… Как смотрел… Этот взгляд сказал ЕЙ все.
Она выскользнула из отсека. Те двое, кажется, и не заметили ее. Она торопливо шла по переходам сорок второй. Удар был настолько силен, что отбил все, даже способность воспринимать боль. К счастью, ей никто не попался навстречу. «Уже в путь?» — с некоторым удивлением спросил ее дежурный по станции, помогая справиться со скафандром. Она кивнула, и тяжелый ком горя начал разбухать, расти, как лавина, и глаза ее, только что безжизненно сухие, мгновенно наполнились горячей влагой. Она быстро опустила гермошлем, взмахнула рукой и бросилась в черноту пространства.
Она плыла вслепую, глаза ее залепили не успевшие вылиться слезы. Ощупью она искала поручни причала сорок первой, не желая вызывать на помощь Павла Ричкина, и набирала код шлюзовой… Да что там вспоминать…
Павел, конечно, встречал ее. Не спрашивал ни о чем, только помог стянуть скафандр, промокнул своим платком ее заплывшие слезами глаза.
А ОН… ОН больше не появился, даже не спросил, что с ней, когда почтовым транзитом ее спускали на Землю…
Это как раз совсем неудивительно, подумал Нильс.
Ох люди, все как на ладони. ОН же не чувствовал своей вины в происшедшем. Потому что ОН не любил ЕЕ. Никогда. С самого начала не любил. Из детской привязанности у него не выросло ничего. Только тяготить стало, как сковывает порой чрезмерная материнская или сестринская опека. И черствость душевная тут не последнюю роль сыграла. Ситуационная черствость.
По отношению к НЕЙ. С той, дикторшей Людочкой, у него, видимо, все будет иначе. Потому что ему наконец-то удалось влюбиться. Впрочем, до поры до времени, а потом природа возьмет свое, и эгоизм найдет свою экологическую нишу для произрастания, и способность потреблять, ничего не давая взамен, долгое время культивировавшаяся ЕЮ, проявится во всей своей отталкивающей простоте. Или не с дикторшей, а с кем-нибудь другим, пока он не найдет свою половину и у него не появится стимул стать лучше, если он, конечно, захочет искать, если способен будет на поиск. Потребители не любят активных действий. Впрочем, не о нем сейчас надо беспокоиться. За помощью пришла ОНА.
— Вот и все. Теперь я на Земле. Павел настойчиво советовал обратиться к вам, доктор…
— Видите ли, я польщен такой оценкой моих профессиональных возможностей, но мне представляется; что моя помощь и не нужна, в общем, это рядовая задача для Картотеки…
— Возможно, все это ординарно в глобальных масштабах, но наедине с собой я этого не чувствую. У вас есть измеритель эмоционального фона? — вдруг спросила она.
— Безусловно. А что вас интересует?
— Часто ли подобные измерители у вас зашкаливаются?
Нильс попытался припомнить и покачал головой:
— В моей практике такого не случалось… Вы хотите сказать, что ваше чувство…
— Вот именно. Превышает верхний предел. Поэтому Павел и просил проконсультироваться с вами. Я не хочу отдавать себя на съедение вашей Картотеке. Вы называете это какими-то жалкими псевдонаучными терминами: найти такой вариант био- и психополя, который наилучшим образом соответствовал бы моему состоянию, и так далее. Иными словами, предлагаете мне найти партнера, с вашей точки зрения, то есть по мнению Картотеки, мне наиболее подходящего. А если вы не мне, а ему, ЕМУ что-то в психике подправите, ЕМУ горизонты приоткроете — что ОН теряет и что приобретает? А так все получается не очень серьезно: вы даже силу моих эмоций не можете измерить. А если эта моя особенность дает мне право выбора? Дикторшей этой ОН переболеет и забудет. Уверяю вас, у нас на «Камилле» все мужчины поочередно увлекались Людочкой Малышевой — и ничего, без Картотеки излечились, никто от любви к ней еще не умирал, насколько мне известно, а если он серьезно влюбился, так это у него ненадолго и ему, может быть, и придется обращаться в Картотеку, и тогда…
— Мы не имеем права вмешиваться в психику пациента…
— Даже во имя помощи?
— Смотря что понимать под помощью. Раньше вообще без этого обходились… Время лечило, перемена мест…
— Время, конечно, хороший врач, только он, к сожалению, приходит не сразу.
— Да, не сразу, но зато достаточно надежно. Если вы пустите все на самотек, то несколько месяцев или даже лет вы будете не в своей тарелке — будете страдать, болеть, мучиться. Это естественный процесс, просто мало кто сейчас решается пройти через него. Все хотят душевной анестезии. Поэтому и обращаются к Картотеке. Это проще, чем не находить себе места от боли. Полтора часа анатомирования психики, несколько часов компьютерного поиска — и вы уже знаете, что где-то, в таком-то регионе, вас ждут, подсознательно ищут встречи с вами, и только с вами, и все прошлое забывается, превращается в чуть приправленную легкой горечью память. Это наше достижение… Люди из строя не выбывают, сохраняют свои силы для общества. Мы еще не доросли до сознательного вмешательства в психику, мы не умеем и не можем инициировать чувство по заказу… Уверяю вас, Картотека значительно гуманнее, чем психотропные медикаменты, которыми еще не так давно увлекались. Картотека позволяет исправить допущенные жизненные ошибки. А ваша любовь в частности — увы — ошибка: богатейшие возможности вашей личности бездарно выбрасываются не по назначению. Вы ЕГО придумали себе. Друг детства — это далеко не обязательно спутник до гроба. Он вам лишь подыгрывал, пока хотел этого, пока быть вашим партнером ему представлялось необременительным. И ЕГО психику исправлять не нужно. Она другая, чем у вас, со своим диапазоном и своим потолком.
На мгновение она показалась школьницей, которой устраивают разнос, — опущенная голова со свисающими прямыми волосами, худенькие колени, обтянутые платьем, нервно стиснутые руки. Потом она выпрямилась в кресле, и камень на ее шее сверкнул, и глаза ее, прежде темно-серые, на миг блеснули фосфоресцирующей зеленью. И хороша она стала, со своими меняющими цвет глазами и нервным румянцем на скулах. Ведьма, почему-то подумалось Нильсу. Так сказали бы раньше. Несовременно страшная, до фанатизма настойчивая в своем чувстве, ведьма. И не помощи хочет, не сочувствия, а подчинения — чтобы ОН полюбил ЕЕ, только ОН, и никто другой ЕЙ не нужен. Сделай так, чтобы ОН… Ах, Павел Ричкин, бедный Павел, и ты не устоял, но ведь другая она была на «Камилле», безусловно другая; маленькая, почти незаметная, в рабочем комбинезончике, со стянутыми волосами — куда там до ослепительной дикторши. И вряд ли она могла там, на «Камилле», излучать глазами ведьмячий зеленый свет. А вот любит она так, как на Земле случается раз в тысячу лет. Отсюда ее внутренняя сила. Но кого?
Бездарного технаря, дальше носа своего не видящего, не красавца, во всем ординарного, абсолютно неспособного отреагировать на такое глубокое возмущение собственного психополя. Задача стандартная. Но случай экстремальный…
Она встала;
— Спасибо, доктор, вы потратили на меня слишком много своего драгоценного времени. Очень жаль, что вы не хотите мне помочь.
— Не могу, — почти простонал Нильс. — То, чего вы просите, нереально технически, не говоря уже об этических нарушениях.
— Этика — понятие условное и подверженное изменениям. Все в нашем мире относительно.
Она направилась к двери, Нильс двинулся следом.
— Спасибо, доктор, провожать не надо.
Тогда он снова опустился в кресло и включил следящий монитор. Она шла слегка танцующей походкой, которая бывает у тех, кому долгое время приходится работать в пустом пространстве, — результат специальной гравитационной тренировки. Вскоре тоненькая белая фигурка смешалась с людьми, заполнившими холл.
Посетителей прибавилось. Все как обычно — хмурые лица, опущенные головы, закрывающие пол-лица дымчатые очки, маленький маскарад, нервные, что-то перебирающие пальцы, иногда почти маниакальная решимость — еще бы, пришли лечиться, да, да, именно лечиться от болезни, которой хотя бы раз в жизни надо переболеть.
Белая фигурка потерялась в тоннеле, ведущем к подземным транспортным магистралям. На его мониторе возникли уже другие лица. Нильс подошел к окну.
Оказывается, уже стемнело. Лес стоял непрозрачной стеной. На западе серебрились подсвеченные закатившимся солнцем облака. Из-за синего контура леса выкатился неестественно огромный лунный серп.
Почему она так быстро ушла? Впрочем, разве быстро? Скорее, решительно. Как врач, как психолог, он ничем не мог ей помочь, а как человек — попросту не нужен… Ведьма, усмехнулся он. Ей-богу, ведьма… Понятно, почему Павел Ричкин не устоял. Интересно было бы исследовать биопсихопотенциал ведьмы.
Белое платье, слегка танцующая походка, тонкие руки, камень на цепочке или хорошо отшлифованное стекло, странное зеленое мерцание обычных, в общем-то, темно-серых глаз. А вот лицо ее никак не возникало перед глазами. Память же следящего монитора уже успела стереться. Жаль…
Странная женщина. А ведь смелости ей не занимать. Плавать в одиночку в пустом пространстве между разнесенными на два десятка километров орбитальными станциями… Пусть даже в гравитационных дорожках…
Это не каждому дано… Так она же к любимому летела. Потому и не боялась пустого пространства, потому, может быть, и космофизиком стала, чтобы быть рядом, потому и озеро когда-то в детстве переплыла, дрожа от страха и холода.
Нильсу остро захотелось ее вернуть. Он понимал, что это нереально, смешно и вообще абсурдно. Соврать, что у него возникли соображения, как ей помочь? Но сначала нужно найти ее. Она ведь даже имени своего не назвала. Значит, через Павла Ричкина. А он на «Камилле-41».
Свое состояние Нильс описал бы как смесь горькой радости и непонятной нарастающей тревоги. Ему остро захотелось сопоставить био- и психополя свое и ее, ведьмы. Но это тоже было нереально: информацию, закодированную в Картотеке, извлечь по своему желанию не разрешалось. Большой Анализатор сам совершал таинство моделирования, сравнения и поиска. В Картотеку можно было заложить самого себя, но вероятность почти равнялась нулю, что в ответе Анализатора будет значиться она. А ему, Нильсу, тоже, пожалуй, никто другой будет не нужен. По крайней мере, сейчас. Нет, он не столь слаб и не предатель по отношению к себе.
Дежурство кончилось. Нильс рассеянно кивнул коллеге, пришедшему его сменить. Он выбежал из здания.
Он смеялся над самим собой. Наша Картотека… В ней закодировано… Стандартная задача, отличающаяся от сотен и тысяч себе подобных лишь исходными значениями параметров… Одно нажатие клавиши — и вся гамма чувств, все мироощущение перенесется на другого человека, похожего — ничего удивительного, кого только не отыщешь среди восьми миллиардов землян — на того, кого любишь, нет, уже в прошлом, любил или любила, и все, кто приходит сюда, соглашаются с решением Картотеки, потому что не желают пережить то, что им выпало, не желают терять отрезок жизни, И в результате оказываются счастливы. В каком-то смысле. А она отказалась от такого счастья.
Нильс снова побежал. Мокрые кусты хлестали его по лицу. Глупо… Невозможно… От чего он убегал? От себя? От нее? Ее еще нужно найти. И это непросто. С Павлом Ричкиным связаться… Немедленно… А… И еще Павлик Ричкин… Тоже будет бороться. Павел будет.
Безусловно. Вариант классического треугольника, вдоль и поперек исследованного при помощи Картотеки, черт бы ее побрал. А если экстремальная ситуация?…
Тропинка неожиданно кончилась.
СЕРГЕЙ ТХОРЖЕВСКИЙ БАШНЯ АЛХИМИКА Рассказ
К вечеру Игнациус Диффенбах возвращался из замка домой. Начинался неторопливый дождь, темные деревья раскачивались под ветром. Нахлобучив широкополую шляпу и съежив плечи, Диффенбах плелся по тропинке и хотел сейчас одного — поскорее лечь спать.
У него дрожали руки, он чувствовал себя разбитым и смутно подозревал, что болен. Болен с тех пор, как начал проводить опыты с ртутью и серой.
Его только что отпустил герцог. Полтора часа Диффенбах стоял, не смея попросить позволения присесть.
Уже не в первый раз герцог спрашивал его: как же все-таки можно сотворить благородный металл из неблагородных? И Диффенбах объяснял, что все металлы происходят от смешения ртути и серы, что сера — это мужское начало, а ртуть — женское. Сами же они, сера и ртуть, произошли от четырех стихий: земли, воды, воздуха и огня. Но чтобы сера и ртуть в смешении дали золото, нужны огромные усилия, равные силе сжатия золотоносных пластов в подземной глубине… Герцог хмурился: «Что же, значит, алхимия бессильна?» — «Нет, — отвечал Диффенбах, — можно киноварью, то есть сернистой ртутью, натереть медную монету, и на монете при нагревании образуется тончайшая пленка золота. Нужно добиваться, чтобы золотая пленка становилась толще и толще…» — «Ну, с божьей помощью…» — сказал герцог и отпустил Диффенбаха через потайной ход. Герцог не хотел, чтобы о его покровительстве алхимику стало известно.
Диффенбаху было сорок лет, но он чувствовал себя стариком. Он был измотан годами скитаний, вынужденного одиночества, необходимостью скрывать свои опыты, страхом перед невеждами, которым может показаться, что он занят делом, противным учению церкви.
Когда-то, еще подростком, он обучался при францисканском монастыре умению золотить рамы икон. Руководивший им ученый монах нашёл его способным учеником и посвятил в тайны науки. Монах почти наизусть помнил трактат великого Роджера Бэкона «Зеркало алхимии». Помнил и самого Бэкона, встречал его когда-то — уже старого, седого, выпущенного из темницы, где ученого продержали двадцать лет.
Нет, Диффенбах не хотел тоже провести двадцать лет в темнице. Но идеи великого алхимика овладели его мыслями прочно и, должно быть, навсегда. Он долго искал возможности по-настоящему углубиться в алхимические опыты. И вот у него, слава богу, есть высокий покровитель. С ведома герцога Диффенбах жил теперь в крепостной башне…
В сумерках стены башни казались лиловыми, а вход — темно-синей дырой. На крутой лестнице было уже совсем темно, слабо светилось лишь узкое оконце возле двери наверху. Там висел тяжелый замок. Ключ Диффенбах всегда носил с собой.
Он отворил скрипучую дверь и кинул шляпу туда, где в темноте стояла деревянная кровать. Огонь в печи потух, но еще пахло нагретым железом и серой. Из высокого окна, в котором не хватало стекол, ветер заносил брызги дождя. Диффенбах ощупью нашел в уголке, на каменном полу, кремень и огниво. Высек искру, зажег пучок соломы и поднес к масляной плошке на столе. В плошке загорелся фитиль, тусклым желтым светом озарились закопченные стены.
И тут Диффенбах увидел незнакомого человека, одетого необычно, как иностранец, бритого и лысого, без парика. Незнакомец как-то судорожно улыбнулся и произнес, медленно и тщательно выговаривая слова:
— Я имею честь видеть господина Игнациуса Диффенбаха?
Диффенбах ошеломленно кивнул и стал лихорадочно соображать, каким образом незнакомец мог очутиться в запертой башне. Не найдя этому решительно никаких объяснений, Диффенбах почувствовал, что проклятая дрожь в руках становится еще сильней.
— А вы кто такой? — спросил он. — И как сюда попали?
Незнакомец явно ожидал этого вопроса и улыбнулся на сей раз более спокойно и естественно.
— Меня зовут Матиас Раумер, — ответил он. — Мы с вами коллеги. Я ученый, как и вы. Можете считать, что я попал сюда чудом. Но это — чудо науки, причем чудо двадцать первого века! Да, да, вы не ослышались! Я прибыл на встречу с вами из будущего! Прибыл всего на шесть часов.
Диффенбах опустился на скамью и перекрестился.
— Ради бога, — сказал Раумер, — не думайте, что я сатана, дьявол или иной выходец с того света. Я ученый. И я уважаю ваши религиозные чувства.
— Ученый? — Диффенбах поднял голову. — А чему вы учились?
— Многим наукам, самым разным, в том числе и таким, которые в вашем четырнадцатом веке еще неизвестны. За семь веков, отделяющих меня от вас, коллега, наука шагнула невероятно далеко.
— Вы, однако, судите, как невежда, — хмуро заметил Диффенбах. — От великого Аристотеля меня отделяют не семь веков, а семнадцать, но далеко ли мы ушли от Аристотеля…
— Дорогой Диффенбах, вы еще не в состоянии предвидеть, что история ускорит свой бег, а наука совершит гигантский скачок… Но, простите, времени у меня в обрез, я ведь ожидаю вас тут более двух часов, и эти два часа уже потеряны для эксперимента… Первым делом я должен ясно и прямо изложить вам мою научную задачу.
Диффенбах сидел в совершенной растерянности и щипал свою бородку, мокрую от дождя. Выговор пришельца не позволял счесть его местным жителем. Но если это пришелец издалека, то как он мог проведать о нем, тайном алхимике, одиноко живущем в башне?
— Дорогой коллега, — торопливо говорил Раумер, — я руковожу лабораторией времени при Венском университете. Мы проводим грандиозный опыт — пытаемся воздействовать на историю, так сказать, задним числом. Вы понимаете?… Мы не можем, конечно, предотвратить уже совершившиеся войны, эпидемии и прочие бедствия, но мы хотим попробовать внести в историю, в уже прошедшие века, дополнительный импульс, толчок, имея в виду только одно — научно-технический прогресс. Зная, какие научные открытия были совершены через сто, двести и триста лет после вас, дорогой Диффенбах, мы решили сообщить об этих открытиям вам, чтобы совершить их могли вы. А это, в свою очередь, приведет к мощному развитию науки…
Раумер сделал паузу. Он определенно хотел посмотреть, какой эффект произвели его слова. Теперь они глядели друг другу прямо в глаза, и Диффенбах почувствовал, что начинает верить пришельцу… Так, значит, все это правда? И можно узнать уже вот сейчас, какие открытия ждут мир через триста лет?… Потрясающе!
Невероятно! Но что может быть заманчивей…
За окном, вдалеке, пробили часы на городской ратуше. А затем где-то совсем близко послышался легкий треск — должно быть, обломилась ветка дерева.
— Прошу вас, заприте дверь, — понизив голос, быстро проговорил Раумер.
Диффенбах поднялся, подошел к двери и двумя руками сдвинул тяжелый чугунный засов.
— Благодарю… — прошептал Раумер.
Сел на плетеный стул и потер пальцами виски.
— Я ведь смогу вернуться домой, в будущее, при одном условии: если меня тут не убьют.
Диффенбах щипцами снял нагар с фитиля и бросил щипцы в угол. Сказал:
— Если вы из двадцать первого века и вам известно мое имя, вам должна быть известна и моя судьба.
— К сожалению, нет, — ответил Раумер. — Совершенно честно, не знаю. И никто не знает. Историкам ваше имя известно, главным образом, по сохранившимся запискам монаха Себастьяна из Санкт-Галленского монастыря…
— Но что может рассказать обо мне Себастьян! — воскликнул Диффенбах. — Он провел со мной один-единственный вечер, когда забрел ко мне сюда по дороге во Францию. Мы выпили рейнского вина, потом я толковал ему о философском камне… По-моему, он ничего не понял.
— Однако историки изучили его записки и смогли сделать определенный вывод: вы, Диффенбах, оказались наименее консервативным среди ученых своего времени. И наиболее подготовленным к восприятию новых научных идей. Поэтому для нашего исторического эксперимента мы выбрали вас и эту вашу башню — ей удастся уцелеть до двадцать первого века, представьте!
— Но почему… Почему выбрали для встречи со мной именно этот год?
— Мы выбрали год по возможности более поздний, считая, что с возрастом у вас должно прибавиться мудрости и знаний. Нам удалось установить, что в этом году вы еще работали здесь, в башне, но мы не знаем, куда вы делись потом…
— Я скоро умру?
— Я ничего об этом не знаю, честное слово.
Диффенбах подошел к окну, прислушался, но, кроме шороха дождя, услышал только, как под ребрами колотится сердце. Подумал, что, конечно, он все-таки болен, только неизвестно чем… Вспомнил об испытанном страхе, когда Себастьян спросил его, не занимается ли он черной магией… Черной магией? Боже сохрани, это грозило бы ему тюрьмой, пыткой, даже костром…
Он знал: в нескольких часах пути отсюда, в Страсбурге, живет папский инквизитор, чьи особые полномочия распространяются на всю Германию… Один костер Диффенбах видел сам: сжигали трех человек, обвиненных в том, что они принадлежали к секте люцифериан. Старик, привязанный к столбу, обложенный хворостом, кричал, что пламя будет золотой колесницей, она вознесет их на небо… Когда хворост подожгли и сжигаемые закричали от боли, Диффенбах поспешил выбраться из толпы, не мог вынести этого зрелища…
— Я надеюсь, что святая инквизиция не сочтет меня преступившим закон божий, — вслух выговорил Диффенбах. — Я никогда не уклонялся от исповеди и святого причастия…
— Дорогой Диффенбах, надеюсь, вы не думаете, что я послан к вам инквизицией! Это было бы ужасно. Для вашего успокоения могу сказать одно: историкам удалось выявить имена всех сожженных на кострах, и вашего имени в составленном списке нет.
— Слава богу, если так…
Диффенбах распахнул дверцы дубового шкафа, достал кувшин с вином, хлеб и початый круг сыра.
— Спасибо, я не могу ни есть, ни пить, — Раумер прижал ладони к груди. — Условия эксперимента… Тем более что вино может оказаться для меня слишком крепким, я могу что-то забыть, перепутать…
Диффенбах поставил на стол две глиняные кружки, налил обе дополна. Сказал:
— Да не оставит нас милость божья! — и осушил свою кружку.
Раумер шумно вздохнул:
— Ну что ж, рискну один глоток… За нашу общую удачу, Диффенбах! — Отхлебнул, отставил кружку. А теперь — к делу! Я вижу перья, чернильницу, доставайте большой лист бумаги, да не один… Я надеюсь, у вас есть бумага?… Итак, записывайте!
Более трех часов Раумер говорил подробно, стараясь быть понятым, о химическом составе воздуха и о воздействии кислорода на металлы, о секрете производства жаростойкого стекла и оптических линз, о принципах устройства зрительной трубы, лейденской банки и барометра. Диффенбах переспрашивал, недоумевал, но все подробно записывал плохо очиненным гусиным пером. Раумер похлопывал его по плечу:
— У вас будет время все это проверить на опыте, — и рассказывал о простейших опытах, которыми можно обосновать все перечисленные открытия.
— Теперь расскажите, как вы получаете золото! — взволнованно попросил Диффенбах.
— Получать золото искусственным путем не умеем. Могу вас уверить, что и ваши попытки ни к чему не приведут.
— Но я уже добился! — вскричал Диффенбах. — Я могу создать тончайшую пленку золота на медной монете… Из ртути!
— У вас, очевидно, получается медная амальгама…
— Что?
— Ну, иначе говоря, сплав меди и ртути… Бросьте это дело!
— Но герцог ждет от меня золота!
— А вы поднесите ему первую в мире зрительную трубу. Он утешится.
— Ах, вы не знаете нашего герцога…
Они замолчали. И в наступившей тишине внезапно расслышали шорох за дверью.
— Кто-то нас подслушивает, — побледнев, тихо произнес Раумер.
Тут уже явственно послышались чьи-то удаляющиеся шаги — вниз по лестнице.
— Если этот человек вернется… или другой, все равно… ни в коем случае не отпирайте дверь, Диффенбах… Мне осталось четверть часа, не больше… И еще, последнее, хотел бы вам сказать. Ваши — теперь уже ваши! — открытия не держите в очень уж большой тайне. О них должен узнать ученый мир. И в Вене, и в Праге, и в Гейдедьберге, и в Париже… Наука должна получить мощный толчок! Все свои записи вам надо передать какой-нибудь академии…
Они стояли у окна и ждали, когда часы на ратуше пробьют десять. Дождь кончился, за окном было тихо.
— Пахнет мокрой листвой, — сказал Раумер. — Удивительно, что в четырнадцатом веке точно так же, как и в двадцать первом… Впрочем, ничего удивительного.
Так и должно быть…
Пробило десять.
— Дорогой Диффенбах, мне остается с вами попрощаться.
Они обнялись. Раумер отошел, сел прямо на пол, обхватил руками колени и закрыл глаза.
Диффенбах дрожащей рукой взял кувшин, налил себе в кружку еще вина. Выпил, поставил кружку на стол и оглянулся.
Раумер исчез. Словно его и не было.
А записи лежали на столе. Диффенбах принялся их перечитывать, вдумываясь в каждое слово. И в это время на лестнице снова послышались шаги — на этот раз твердые, уверенные.
И вот — решительный стук в дверь:
— Именем святой инквизиции — откройте!
Ах, если бы у него была веревочная лестница, он бы сейчас опустил ее за окно! Или, лучше, не лестница, а просто здоровое сердце и сильные руки — он бы свернул все свои записи в трубку, сунул за пазуху и прыгнул бы отсюда прямо на ветви дерева, в густую крону под самым окном! Ах, если бы, если бы… Но ему оставалось только отодвинуть чугунный засов.
Дверь распахнулась, перед ним стояли неизвестный монах с факелом в руке и два стражника с алебардами.
— Игнациус Диффенбах! С кем ты разговаривал сегодня вечером в этой башне? — грозно спросил монах.
— Ни с кем, — внезапно охрипнув, ответил Диффенбах. — То есть я говорил сам с собой… Я часто разговариваю сам с собой, когда один…
— Но здесь я слышал не один, а два голоса! — крикнул монах. — Ты разговаривал с дьяволом!
Он ворвался в комнату:
— Здесь пахнет серой! — схватил со стола записи Диффенбаха. — И ты еще записывал то, что диктовал тебе сатана!
Монах поднес к бумаге горящий факел, бумага вспыхнула… Диффенбах вскинул руки… И тут же ощутил острую боль в сердце, упал лицом на каменный пол, изо рта потекла струйка крови Стражник ударил его сапогом, но Диффенбах уже не чувствовал ничего.
ОЛЬГА ЛАРИОНОВА ЧАКРА КЕНТАВРА Повесть
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОЧЬ ДЖАСПЕРА
1. ТРЕТИЙ В ИГРЕ — РОК
Голос возник в анфиладе вечерних покоев. Он еще не звучал, незваный и неминуемый, а сторожевые вьюнки, свисавшие со стрельчатых прохладных арок филигранных комнаток, следующих друг за другом, как составленные в ряд шкатулки, уже уловили присутствие постороннего и пугливо свернули свои паутинные стебельки в упругие спиральки. Нездешние цветы и травы, чеканные накладки стен и потолков… Здесь все оставалось так же, как было при жизни Тариты-Мур — властной и одинокой хозяйки этих покоев, любившей проводить предзакатные часы нелегких раздумий в уединенной тишине своего зимнего сада.
Теперь он, эрл Асмур, ее сын, владетельный ленник короля всегда зеленого и когда-то счастливого Джаспера, был полновластным и единоличным хозяином всего необозримого в своей протяженности замка, и только сервы, позвякивая членистыми манипуляторами, исчезали при его приближении; но, кроме всей это безликой полупресмыкающейся армии, ни единой тени не возникало в древних прадедовских стенах.
Впрочем, в былые времена здесь появлялась скользящая светлая тень, но он гнал от себя это воспоминание, ибо в настоящем этому уже не было места…
Внезапно воздух в комнате уплотнился и затрепетал — верный признак того, что здесь возникло неощутимое.
— Мой слух принадлежит тебе, вошедший без зова! — проговорил Асмур, нарочито сдержанно, пряча природное высокомерие — кем бы ни оказался его невидимый собеседник, он заведомо ниже по роду и титулу; но раз уж этого разговора не избежать, то надо хотя бы постараться побыстрее его закончить, а сдержанность — сестра краткости.
— Эрл Асмур… — высокий юношеский голос зазвучал и сорвался. Голос, чересчур звонкий для комнаты-шкатулки. — Высокородный эрл, как велит нам закон предков, мы собрались у наших летучих кораблей; нас девять, и у каждого из нас на перчатке тот, кто ждет выполнения Уговора.
Юноша говорил учтиво, и главное — сегодня он имел право говорить без вызова. Потому что десятым кораблем должен стать именно корабль Асмура. Ему — вести армаду, им, — подчиняться. Тот, кто говорил сейчас с ним, был самым юным, хотя на все время похода эти девять становились равными друг другу. Но право докладывать командору о готовности отряда по многовековой традиции предоставлялось младшему.
Традиции, обычаи, клятвы… Скоро на Джаспере их станет больше, чем самих обитателей. Асмур устало откинулся на спинку узенького материнского кресла, так что черноперый крэг, задремавший был на его плечах, недовольно щелкнул клювом. Лицо владетельного эрла приобрело то внешне безмятежное выражение, которое не соответствовало мучительному состоянию его души, обуреваемой горестными заботами — от мелких житейских неурядиц до скорбных и безнадежных дум о судьбах всего Джаспера.
— Назови себя! — велел он невидимому собеседнику ровным и спокойным тоном, в который против его воли проникла излишняя суровость.
Разумеется, он мог пригласить юношу сюда, это дозволялось ритуалом выполнения Уговора и в последние годы стало даже чем-то вроде традиции хорошего тона, но Асмур, последний из равнопрестольного рода Муров, мог позволить себе нарушить скороспелый обычай, чтобы в этот последний вечер на Джаспере еще несколько часов побыть одному.
Завтра они будут вместе, и это надолго.
Но этот вечер он проведет так, как угодно ему.
Недаром мона Сэниа, опуская ресницы, печально говорила ему: «У тебя душа крэга…»
— Благородный эрл, я седьмой сын владетельного Эля, и мое полное имя — Гаррэль.
Странно, в голосе седьмого сына могло бы звучать и поболее гордости, если даже не спесь. Ведь именно младшему, ненаследному, — и честь и почет. Так повелось с Черных Времен. Тем не менее в его интонациях проскальзывало нечто, напоминавшее приниженность и уязвленность, ставшие привычкой.
Отчего бы?
А может, у него…
Асмур резко оборвал течение собственных мыслей. Веянье новых традиций чуть ли не обязывало его предложить Гаррэлю явиться лично в замок Муров, и тогда сразу стало бы ясно, что там неладно у младшего отпрыска многодетного рода Элей.
Он этой традиции не последовал — значит, нечего и гадать.
Завтра все само собой прояснится. Завтра.
— Завтра, — проговорил он надменно, как и подобает командору, — мы отправимся в путь в то время, которое укажет нам предначертание. Обратимся же к нему, не мешкая, чтобы те, кто хочет что-либо завещать ближним своим, могли это сделать заблаговременно.
Голос Асмура был ровен и властен — да, ему самому не придется оставлять завещания, он одинок, как крэг, и вряд ли Гаррэль и те, кто окружает его на пустынной стоянке звездных кораблей, не знают этого. Он — последний в роду, и все-таки каждый из его дружины горд и счастлив тем, что его поведет сам владетельный Асмур.
Он резко поднялся, оттолкнувшись от подлокотников резного кресла, и от этого движения тусклые серебряные когти, привычно замкнувшиеся на его запястьях, стиснулись еще крепче — крэг давно привык к стремительности движений своего хозяина. Наклоняясь под каждой аркой, чтобы свисавшими с потолка вьюнками не потревожить остроклювую голову, лежащую на его белых волосах, точно пепельный капюшон, он прошел всю анфиладу, залитую закатным светом, и остановился перед маленьким домашним алтарем из чернокости, внутри которого хранилась ониксовая фигурка священного крэга. Он возложил на фигурку правую ладонь, и тут же в основании алтаря словно сам собой раскрылся тайник, откуда с мелодичным звоном выдвинулся неприметный до той поры ящичек.
Асмур подвигал кистью руки, ослабляя жесткую хватку когтей, и вынул из ящичка небольшую, но тяжелую колоду карт.
Ему показалось, что при этом его крэг начал часто-часто дышать. «Что за чушь», — сказал он себе. Крэги вообще не дышат, это знает даже ребенок.
Он долго тасовал карты, хотя ему было глубоко безразлично, как пойдет игра. Наконец, решился и перевернул колоду нижней картой вверх.
Темно-лиловый контур Ползучего Грифона смотрел на него.
Темно-лиловый. Почти черный.
Он задержал выдох, выравнивая дыхание. А ведь трусом он не был.
— Козыри — ночные, — проговорил он совершенно естественным тоном.
Голос Гаррэля, неслышимо сопровождавшие его через все покои сюда, к тайнику, тоже ничем себя не выдал — ни вздоха, ни возгласа. А ведь ночные козыри не только предписывают час вылета — они еще и предсказывают то, что кто-то из них не вернется из этого похода. Кто-то. Если — не все.
— Держи! — велел Асмур, швыряя карту в _н_и_ч_т_о_, которое он определил на уровне окна.
Он никогда не задумывался над тем, что же представляет собой это самое загадочное _Н_И_Ч_Т_О_. Вероятно, абсолютная пустота, гораздо более пустая, чем межзвездный вакуум. Столь же непостижима была переброска реальных предметов через эту самую пустоту. Понимания никакого здесь и не требовалось, этому просто учили в раннем детстве: нужно представить себе прозрачную вертикальную плоскость, за которой начинается это самое бесконечное _н_и_ч_т_о_. Оно чуждо реальному миру Джаспера и мгновенно выталкивает обратно любое постороннее тело, но, как когда-то выяснилось, вовсе не обязательно в ту же самую точку, откуда было оно послано. Достаточно мысленно увидеть — только со всей четкостью, до мельчайших деталей — то место, куда адресуешь свою вещь, и она окажется там в тот же миг.
В далекой юности Асмур пытался найти объяснение этому в старинных книгах, напечатанных еще до Черных Времен — когда существовали институты, университеты, исследовательские лаборатории… Он нашел множество непонятных слов: гиперпространственная трансгрессия, континуум субизмерений, имманентная телекинетика. Смысл их был утерян безвозвратно, и ему пришлось отказаться от своих поисков и продолжать бездумно пользоваться чудесной способностью посылать в любое место — хоть на другую планету! — любую вещь, или человека, или самого себя. Или только голос.
Сегодня это были карты, которые он посылал к звездной пристани.
Белый глянцевитый прямоугольник, испещренный почти черным крапом, долетел до оконной рамы и исчез, словно растаял — это значило, что там, у своих кораблей, Гаррэль протянул руку в _н_и_ч_т_о_ и принял переданное. Вторую карту Асмур положил перед собой. Он приблизил воображаемую границу, чтобы не терять лишнего времени, и следующую карту швырнул без предупреждения — она пропала, едва отделившись от его руки.
Молодец мальчишка, перехватывает по едва уловимому шелесту и не промахивается. А ведь это еще самый младший из его звездной дружины. Асмур сдал всю колоду, и игра началась. Он не следил за тем, какие карты выпадали ему, и теперь, разом раскрыв многолепестковый веер, он почти с изумлением обнаружил у себя на руках чуть ли не всю темно-лиловую козырную масть.
Забавно, в кои веки ему повезло, и надо же — именно в этой игре, где не бывает выигравшего. Потому что играют они не вдвоем с Гаррэлем, а втроем, и третий партнер — это судьба. И чем бы ни закончился кон, выигрывает только она.
Созвездия Вселенной — вот какой рисунок несли на себе глянцевые негнущиеся прямоугольники, последняя выигравшая карта должна была означить цель их путешествия.
— Твой ход, — поторопил эрл.
В сгущавшемся полумраке блеснула вылетевшая из _н_и_ч_е_г_о_ карта — она опустилась точно на черепаховый столик, едва-едва возвышавшийся над полом. Карта была не сильной — Прялка Судьбы, да и масть была оранжевой, дневной, прямо противоположной ночным козырям.
— Колесо Златопрялки? Хм… Бью Собачьей Колесницей.
Так. Оба созвездия вышли из игры, и хорошо — они лежали слишком близко к галактическому ядру, там просто нечего было делать. Кто же выберет себе приют в таком жарком месте.
— Болотный Серв и Кометный Гад! — он подбросил две голубые вечерние карты, но они не исчезли, а наоборот, удвоились — Гаррэль скинул, и даже не в масть. Владетельный эрл недоверчиво приподнял бровь: все выходило слишком уж гладко, как по-писаному — из игры изымались либо чересчур опасные, либо совсем убогие, заштатные созвездия, на которые постыдился бы лететь и отщепенец с позорным пестрым крэгом.
Судьба прикидывалась простушкой, и ее надо было испытать.
Теперь за ним было два хода подряд, и он выкинул одну за другой самые грозные, роковые карты с символами чудовищно неуравновешенных звезд и рушащихся созвездий. К его удивлению, Гаррэль наскреб маленьких козырей, и страшные карты тоже вышли из игры.
Судьба строила из себя дурочку. Такое обычно плохо кончалось.
Настал черед юноши, и совершенно неожиданно для противника он выбросил сразу целую семерку карт — знаменитый Материнский Сад. И как это Асмур не сообразил, что у него самого на руках ни одного созвездия, входящего в легендарную плеяду?
И вдруг его охватил высокомерный гнев. Он совершенно забыл об этой семерке, мечте звездоплавателей, но они-то там, у своих кораблей, все видели с самого начала и ликовали, предвкушая блистательный финал игры с таким сокровищем, выпавшем самому юному из них! Да, Материнский Сад практически непобедим, теперь придется скидывать что попало, а семерка останется в игре с самого верха — таковы уж древние правила. Можно было только изумляться тому, что при всей своей неуязвимости Материнский Сад, который, вероятно, уже не один раз собирался в чьих-то счастливых руках — да должен был собираться согласно законам вероятности! — эта беспроигрышная семерка на деле не выиграла ни разу. Ведь если бы это случилось, то по тем же правилам победившая карта должна была навеки исчезнуть из магической колоды, непостижимым образом заменившись другим созвездием.
Семерка превратилась бы в шестерку, затем — в пятерку… Но этого не происходило. Старинные легенды говорили о счастливчиках, которые находились на волосок от удачи, и все-таки за полтора десятка веков ни одна карта Материнского Сада не досталась никому в награду, продолжая дразнить своей недоступностью. Чудеса? Не иначе.
Впрочем, стоило ли удивляться странной неприкосновенности волшебной семерки карт, когда в магической игре с судьбой существовало и без того достаточно чудес? Вот, например, исчезновение выигравшей карты — каким образом они пропадают сразу во всех колодах Джаспера? И как, каким чудом обозначение звездной системы, куда кто-то уже направил свой путь, заменяется на символ совсем другого созвездия, снова одинакового во всех колодах? На этот вопрос никто ответить не мог. Так предписывал Древний Закон, родившийся одновременно с Уговором.
Тайны магических колод, однако, волновали только мальчишек вроде Гаррэля. Закаленные мужи, каким был Асмур из рода Муров, не снисходят до копания в происхождении сил, движущих их судьбой. К силе магического закона присовокупить собственную мощь и разум — вот в чем доблесть и честь. А не в сомнении.
Семь карт нежнейшей утренней масти, перламутрово мерцая, лежали перед ним. Почему же до сих пор никто из славных командоров не позволил выиграть ни одной из них?
Да потому, что это — тихие, благополучные созвездия, и ни одно из них не потребует доблести и не принесет славы.
Ищущему битвы покой ни к чему.
Командор произвел секундный смотр грозному строю темно-лилового козырного войска и безжалостно изничтожил каждую из пленительных утренних картинок. И то, что после этого осталось у него в руках, было по странной случайности также одним семейством, и он мог предъявить эти ужасающие карты всей пятеркой, что он и сделал незамедлительно:
— Безухая Русалка, Могильный Гриф, Трижды Распятый, Тлеющая Мумия… и Костлявый Кентавр!
Почему карты расположились именно в такой последовательности? Объяснить это он бы не смог.
Ему не нужно было переноситься туда, к застывшим в предстартовой готовности кораблям — он и так до мельчайших подробностей представлял себе эту девятку юношей, сидящих тесным кружком на остывающем камне звездной пристани, и последние лучи заходящего солнца золотят брошенные его рукой зловещие карты. И верхний из этих прямоугольников с траурными символами созвездий — карта, именуемая Костлявый Кентавр.
Он, эрл Асмур, не желал и не добивался такой цели.
Судьба.
— Гаррэль, седьмой сын Эля! — проговорил Асмур, как того требовал древний ритуал. — Возвести остальным, что согласно предначертанию нам выпала ночь, и на ее исходе мы отправляемся в путь… Цель — перед тобою.
Предначертание не оставило им ни дня, ни утра.
— Слушаю, могучий эрл! — прозвучал в ответ юношеский голос. И исчез.
Асмур снова был один в своем древнем исполинском замке.
2. НЕ ВСЕ, ЧТО СВЕТЛОЕ — СВЕТ, НЕ ВСЕ, ЧТО ТЕМНОЕ — ТЬМА
Он стоял перед черной чашей, в которой уже едва угадывались контуры крылатого существа. Вечер был на исходе — собственно, он уже и не в счет. Значит, остается всего одна ночь, да и то не полная. И мона Сэниа, с которой он не успел проститься. Судьба.
Он опоясался мечом, взвесил на ладони тяжесть полевого десинтора. Стоило ли его брать? На вечернем пути он вряд ли понадобиться, но Асмур отнюдь не был уверен, что сумеет (или захочет) вернуться к полуночи в родительский замок. Он накинул бархатный плащ, по рассеянности упустив из вида, что закаленный боевой крэг нежностей не терпел. Когда Асмур застегнул на плече драгоценный аграф, крэг поочередно разжал когти, вытянул крылья из-под мягких складок материи и снова старательно уложил их поверх плаща, прикрыв руки и плечи хозяина и ощутимо замкнув серебряные когти на его запястьях.
Пепельные тугие перья были почти неотличимы от темно-серого бархата плаща и камзола, и зоркая легкая голова с серебристым султаном укрывала белые волосы эрла, точно живой капюшон.
Крэг нервно подрагивал, укладывая еще плотнее перо к перу — предчувствовал ночную дорогу. Разговор Асмура с Гаррэлем он слышал — но вот угадывал ли он мысли человека?
Почти три десятка лет провели они вместе — Асмур и его крэг, но ответа на этот вопрос мудрый эрл так и не знал. Он спустился на первый этаж по витой лесенке, выточенной из целого ствола душистого дерева. Семейная легенда гласила, что основание ее прикрывает вход в заклятое подземелье, тянущееся под всем континентом. Проверить это было невозможно — несколько веков назад прапрапрадед Асмура посадил на этом месте дерево, а когда ствол достиг требуемой толщины, искусные сервы обрубили ветви, выточили резные ступеньки и перильца, укрепили их чеканными накладками и подпорками.
А потом вокруг лесенки возвели еще одну замковую башню.
И не потому ли, что в неистлевших еще корнях цепко хранилась древняя тайна, эту лесенку, ведущую в вечерние покои, так любила его мать?…
Он в последний раз коснулся душистых перилец и шагнул в малую переднюю, дверь из которой вела на конюшенный двор.
Пара сервов-чистильщиков, возившихся с его сапогами (из которых правый всегда был почищен добросовестнее, чем левый), приветствовала хозяина неяркой вспышкой голубых нагрудных фонарей — было известно, что эрл Асмур, сам предельно молчаливый, шума и возгласов не любил. Но вот третий серв, совершенно определенно валявший дурака в неположенном ему месте, попытался незаметно ускользнуть за порог, никоим образом не поприветствовав хозяина. Скверно, десинтор остался в гадальной, придется за ним возвращаться, а это дурная примета.
Мысль эта была бесстрастна и не окрашена ни гневом, ни даже раздражением. Он легко взбежал обратно, нашел оружие и, отпихнув услужливых близнецов, бросившихся к нему с сапогами, тяжелым ударом ноги распахнул дверь. Третий серв улепетывал, перекатываясь на кривых ножках, и если бы не косой свет первой луны, которая уже успела взойти, Асмур наверняка упустил бы беглеца. Но длинная тень мела двор, выдавая бегущего, и шипящий всхлип десинторного разряда отразился от зубчатых щербатых стен.
Серв вспыхнул, как пустая канистра, и размазался маслянистым пятном по известковым плитам. Крэг брезгливо поежился, и Асмуру передалось это движение.
— Все правильно, дружище, — негромко проговорил он, — когда надолго оставляешь дом, в нем все должно быть в порядке.
Теперь — дорога. Разумеется, он мог бы перенестись к цели своего вечернего путешествия так же естественно и мгновенно, как на исходе ночи они вдесятером отправятся к зловещим звездам Костлявого Кентавра. Но он желал проститься с Джаспером, прекрасным и пустеющим Джаспером, который он не променял бы и на все семь сказочных созвездий Материнского Сада, и прощанье его состояло в том, чтобы омыть лицо серебристым лунным воздухом и наполнить каждую клеточку тела памятью запахов и отзвуков, переливов света и тяжести.
И когда кто-то из тех, кто последует за ним, утратит хотя крупицу собственной памяти — долг его, командора Асмура, поделиться с ним, ибо клад воспоминаний — единственное из сокровищ, которое нельзя уменьшить, отдавая часть его ближнему.
Он подтянул отвороты походных сапог, сдернул с единорожьей головы, прибитой над входом, плетеную из змеиных жил нагайку и послал в сгущающуюся темноту гортанный, никаким сочетанием букв не передаваемый звук — родовой клич Муров. И тотчас в ответ раздалось высокое, нетерпеливое ржание — видно, конь застоялся и, угадывая дальние сборы своего хозяина, страшился, что его с собой не возьмут.
— Ко мне! — крикнул Асмур, чтобы доставить ему удовольствие услышать хозяйский приказ, а конь уже вылетал из конюшни, расправляя крылья и играя блеском вороной чешуи.
Бесконечно длинным, грациозным прыжком преодолел он расстояние от конюшенной башни до порога замка и опустился перед своим господином, подогнув передние ноги и одновременно складывая боевую чешую, которая не позволила бы никому постороннему не то что оседлать его, а даже приблизиться к нему. Краем глаза Асмур отметил, что при этом движении конь-таки ухитрился задеть отточенными, как бритва, защитными чешуйками левое крыло крэга. Показалось, или они действительно не ладили? Во всяком случае, если и показалось, то не в первый раз.
Крэг флегматично поднял крыло, расчесал когтем султан над теменным глазом и также спокойно, игнорируя агрессивный выпад со стороны коня, скользнул атласным опереньем по рукаву камзола и снова замер в своей обычной зоркой недвижности.
— Ты мне побалуй — оставлю в самом тесном закуте, — пообещал Асмур, и конь испуганно захлопал глазными заслонками.
Окрик был риторическим — ему в любом случае пришлось бы взять коня с собой, а последний просто не смел, не мог, да что там говорить — генетически был не способен не повиноваться хозяину, так как вел свою родословную от рыцарских коней основателя рода Муров. Вероятно, надо было попросту приказать ему воспылать к крэгу безмерным дружелюбием.
Но почему-то Асмур, не в первый раз озадаченный взаимоотношениями между конем и крэгом, такого приказа не отдал.
Нахмурившись, он наклонился и стянул узлами пряди стремянной шерсти, выбивающейся из-под крупных пластин чешуи. Вдел сапог в волосяную петлю, одним толчком очутился в седельном гнезде. Все это мерно и неторопливо, как и подобает владетельному эрлу. Не говоря уже о том, что, может статься, садился на коня этот эрл в последний раз.
Ведь козыри — ночные…
Конь, игриво изгибая шею, расправлял крылья, подставляя их голубому лунному свету. Делал это он, несомненно, в пику крэгу, который по сравнению с конем казался куцым птенцом.
— Но-но, — примирительно сказал Асмур, похлопывая коня жесткой перчаткой и одновременно проводя подбородком по тугим перьям, укрывавшим наплечники камзола. — Поедем шагом.
Это относилось к обоим, но Асмур поймал себя на том, что он вроде бы извиняется перед крэгом за недружелюбие коня. Да, неплохо было бы перед походом до конца выяснить их взаимоотношения, да жаль — эта мысль несколько запоздала.
Оба они ему преданны, но, видят древние боги, до чего же по-разному!
Конь предан, потому что он — конь, это у него в крови.
Крэг предан, потому что он верен Уговору, — то есть, самому себе.
Или всем крэгам?
Он тронул коня коленями, тот гордо пересек двор, миновал величественный донжон, и копыта его мерно зацокали по ночной дороге, брызжа тусклыми искрами. Замок с игольчатыми шпилями, кружевными виадуками дамских мостков, по которым некому уже было гулять, с шатрами конюшен и опалово-лунными бассейнами сиренников, с глухими коробками заброшенных казарм и призрачными решетками чутких до одушевленности радаров медленно отступал назад, в темноту, в прошлое и, возможно, в небытие.
Ведь козыри — ночные!
Солнце, послав в вышину традиционный зеленый луч, уступило турмалиновую чашу небосвода веренице лун, и они окрашивали узкие поля кормового бесцветника, окаймляющие дорогу, в печальные опаловые полутона. За лугами следовали однообразные коробчатые корпуса нефтеперегонного комбината — фамильный лен Муров, еще в глубокой древности, до Уговора, пожалованный королем Джаспера старейшему из их рода. С тех пор из поколения в поколение все Муры становились химиками по наследственному образованию, оставаясь в душе и по призванию воинами, и очередной король подтверждал ленное право Муров, хотя с каждым веком это славное семейство становилось все малочисленнее.
Когда умер отец Асмура, у его вдовы остался один малолетний сын, и никто не предложил ей ни руки, ни поддержки.
Восемнадцать лет правила Тарита-Мур замком, заводами и сервами, все это время безвыездно находясь вдвоем с сыном в громадных, чуть ли не самых обширных на Джаспере, ленных землях. Едва сын достиг совершеннолетия, прослушав весь универсум, положенный будущим химикам, и сразившись на турнире в честь одиннадцатилетия ненаследной принцессы Сэниа, как она с облегчением передала ему все управление, теша себя мечтой о возрождении семейного счастья… Но надежда на женитьбу сына и появление внуков, которым хотела посвятить себя Тарита-Мур, не оправдалась. Что произошло там, на турнире, когда его сын одного за другим сразил мечом, десинтором и голыми руками трех не виданных по мощи боевых сервов? Упоенная доблестью сына, она смотрела на него и только на него…
А смотреть-то нужно было на принцессу.
Она допросила всех сервов, сопровождавших их на турнир, допросила с пристрастием, посекундно воспроизведя зрительную и эмоциональную память каждого из них. Нет, ничего не произошло между ее сыном и своенравной принцессой, да и что могло произойти в тот день, когда девочке минуло одиннадцать лет?
Но с тех пор он не поднял глаз ни на одну красавицу Джаспера, и когда мона Сэниа достигла совершеннолетия, Тарита-Мур нисколько не удивилась, ее сын тайно попросил у короля руки его дочери.
И еще меньше удивилась она, когда Асмур получил отказ.
Слишком обширны были ленные владения Муров; случись что с Асмуром — управление всеми заводами легло бы на принцев, которые и без того, как подобало королевской семье, осуществляли координацию экономики всего Джаспера; да и самой моне Сэниа пришлось бы взяться за ум и за химию, а о ней поговаривали, что Ее Своенравию ничего не было мило, кроме столь несвойственных нежному телу военных утех да бессмысленных многодневных скачек от владения к владению, где на тысячи миль не встретишь человека, а лишь поля, да чистые родники, да реденькие заводы, да суетящиеся сервы собирающие на осенних безветренных склонах небогатый урожай. Странный нрав был у принцессы, ничего не скажешь, и слава древним богам, что была она младшей, а не наследной.
Знала ли юная царственная причудница о сватовстве Асмура? Тарита-Мур была слишком горда, чтобы спрашивать о подробностях, когда отказано в главном. Было, конечно, одно место, где знали все и обо всех, и она, как любой житель Джаспера, должна была время от времени там появляться, и этим местом был королевский дворец.
Действительно, несколько раз в году вся родовая знать собиралась здесь, в городе-дворце, — несколько десятков тысяч людей, и это было все совершеннолетнее население Джаспера, ибо кроме знати никто и не выжил тогда, в страшную эпоху Черных Времен. Теперь они собирались, чтобы вершить судьбы своей планеты, и вершили, кто как мог — одни, избранные, в Большом Диване, подле координационного экономического совета, состоящего из короля и принцев; другие поблизости, в бесчисленных галереях, раздумных бассейнах и потаенных кабинетах для различных консультативных комиссий. То, о чем говорилось в этом сердце джасперианской политики, как правило оставалось для непосвященных тайной.
Далее, за кабинетами мудрецов, фосфорическими огнями теплились залы эстетов, где мерцала музыка, творились древние молитвенные ритуалы или еретические камлания — по моде и по заказу; там не решали судеб, там скептически комментировали решения.
Еще далее искрилось бальное веселье, где не интересовались политикой и не изощрялись в скептицизме, а попросту пренебрегали и тем, и другим; это был живой пояс, обрамлявший старческое ядро, — здесь просто упивались жизнью… Как у кого получалось.
А за шумными чертогами начинались королевские сады, где стыдливая зелень тянулась ввысь, заслоняя тех, кто искал уединения, и нередко модно было увидеть двух крэгов, грудь к грудью взмывающих в вечернее небо, крыло к крылу, клюв к клюву, — много ли надо крэгам, которые сами не ищут себе пару, а довольствуются выбором своих хозяев!
Но не только любовь заполняла вечерние королевские сады — те, кому она была недоступна или не нужна, наполняли лабиринты аллей и гнезда беседок свежайшими сплетнями. Естественно, венчали все сплетни о королевском доме, но, судя по их монотонности, принцесса Сэниа ни в чем не изменила своих привычек, независимо от того, знала она или не знала о сватовстве Асмура.
Так собирались они не чаще шести раз в год — владетельная элита Джаспера, все ее человеческое население, тающее год от года. Шелестели бархатные наряды, над головами модниц изящно приподнимали свои клювы крэги, усыпанные флюоресцирующей пудрой; и, расходясь к полуночи, гости гадали, о чем же шла речь сегодня в святая святых — Большом Диване. И никто, даже высокомудрая Тарита, не мог бы предположить, что и там занимались самым обычным делом — сплетничали о принцессе Сэниа.
Впрочем, ни у кого ни в Диване, ни в аллеях вечерних садов не было повода толковать о чем-либо, кроме ее неумеренных скачек и отнюдь не женских упражнениях с рапирой.
Это Асмура устраивало. Он был спокоен: никто сейчас не станет судачить о том, что он отправился в путь, так и не простившись с самой Сэниа.
3. БЕРЕГИСЬ, АЛХИМИК!
Четвертая луна поднялась над горизонтом, когда плантации бесцветника, раскинувшиеся влево и вправо насколько видел глаз, вдруг оборвались, уступая место естественному лугу. Шелестящие купы деревьев заставляли коня настороженно вздергивать голову и косить мерцающим глазом на хозяина. Но тот молчал, бросив поводья и скрестив прикрытые перьями руки. Дремал и крэг, или так только казалось коню — ведь крэги никогда не спят. Близкая зарница сполоснула небо химерическим бликом, и тогда над дорогой нависло полукружье кладбищенской арки.
Конь задержал шаг, ударил копытом в серебряный порог — раздался удар гонга, отозвавшийся эхом многозвучного перезвона там, за аркой.
— Тебе что, впервой?… — сурово проговорил Асмур, ножнами меча проводя по конской чешуе. — Трогай, уже полночь…
Конь всхрапнул, подбадривая самого себя и вступил под свод стрельчатой арки.
Узкая аллея, прямая, как лунный луч, пролегала между двумя рядами безыскусных стел и пирамид. Это были древние захоронения, и люди, покоящиеся тут, далеко не все носили славное имя Муров. Вот силуэты памятников потянулись вверх, их венчали шары, короны, звезды; раскидистые, как деревья, они указывали на захоронение целого рода — пышное, горделивое…
И вдруг все оборвалось.
Несколько десятков убогих могил — на них не стояло даже имени, потому что случалось — в одну яму сваливали несколько безвестных тел. Страшная пора Черных Времен, когда тысячи трупов тлели непогребенными, а те, кто удостоился общей могилы, не нашел никого, кто мог бы выцарапать на простой доске несколько корявых знаков… Да и не на каждом холмике лежал камень. Иногда это были просто безымянные насыпи, но они чтились в семье, потому что, согласно преданиям, здесь уже тогда хоронили одних только Муров. Остальные, не принадлежавшие к элите планеты, были обречены лежать где-то в полях, где кости их быстро истлевали, или на заводских дворах, откуда бездумные сервы-могильщики стаскивали их, как обыкновенную падаль, в печи для мусора.
Асмур горько вздохнул, хотя вряд ли смог бы точно определить причину этой горечи: нелюдимый и одинокий, он не мог всерьез сожалеть о тех временах, когда на Джаспере, тогда еще — веселом Джаспере — людей было так много, что они, даже не собираясь вместе по специальному королевскому приказу, могли видеть друг друга и говорить друг с другом.
Крэг издал тоже что-то подобное вздоху, и Асмур понял охватившее его чувство (если крэги вообще способны чувствовать): убогие земляные холмы уступили место башенным надгробьям. Может быть, глядя на эти причудливые островерхие теремки, пепельный крэг впервые реально представил себе, как и он когда-нибудь влетит в такой вот одинокий домик-усыпальницу, чтобы ждать выполнения Уговора? Асмур многое дал бы сейчас за то, чтобы посмотреть в глаза своему крэгу и прочитать там ответ — боится тот смертного часа своего хозяина или ждет его?
Но своему крэгу в глаза не взглянешь, а зеркал эти загадочные существа не терпят.
Дорожка стала шире, и все полуночные луны поочередно заглядывали в сквозные окна пустых надгробных теремов. Наконец конь переступил через белую пену мелколилейника, выплеснувшегося на плиты дороги, фыркнул и, не ожидая приказа, остановился. Это было последнее надгробье справа от кладбищенской дороги Муров, и недавно возведенная стрельчатая часовенка над ним не была пуста, как остальные.
Эрл Асмур, словно очнувшись, достал из седельной сумы кожаную рукавицу и натянул ее на левую руку, осторожно сдвинув цепкие когти собственного крэга немножко повыше. Не сходя с седла, склонил голову и почтительно произнес:
— Друг и поводырь моей матери, крэг Тариты-Мур! Я, ее сын, пришел, чтобы выполнить Уговор!
И тотчас же зашелестел водопад ломких перьев, и палево-белый от старости крэг выскользнул из надгробной часовенки, сделал полный круг над пустынным кладбищем, словно прощаясь с этими местами, и опустился на левую руку эрла, обтянутую перчаткой.
Асмур знал, что там, возле летучих кораблей, на звездной пристани, девять осиротевших крэгов сидят на руках у юношей, объединившихся, чтобы выполнить Уговор, много сотен лет назад заключенный между людьми и крэгами.
Девять крылатых существ терпеливо ждут своего часа; крэг Тариты-Мур — десятый и последний. Они служили своим хозяевам всю жизнь, подчас долгую и нелегкую; и все они до единого были верны той немыслимой верностью крэгов, которая сама по себе — загадка; и вот настало время сыновьям расплатиться за отцов и матерей. И плату крэги признают только одну: полное, немыслимое одиночество.
Один на целой планете. Эту планету надо было найти — и подарить.
Заботливо проверив, удобно ли седому крэгу на жесткой перчатке, Асмур дернул повод и повернул коня, объезжая материнское надгробье — и вдруг до его слуха донесся топот.
Кто-то мчался во весь опор и был уже совсем близко — гром копыт не прилетел издалека, а возник прямо тут, на кладбище, где-то возле земляных безымянных холмов.
Значит, тот, кто догонял Асмура, прекрасно знал, где его искать. Эрл приподнял брови, удивляясь легкости и нервному ритму приближающегося топота и одновременно опуская правую руку на рукоять меча. Серв не скакал бы на коне, а законы Джаспера запрещают поднимать десинтор на человека. И все-таки…
Он осторожно пересадил Тарита-крэга с левой руки на круп коня. Нет на Джаспере человека, который посягнул бы на неприкосновенность хотя бы одного перышка крэга — но случай, но полуночная тьма… Впрочем, настоящей темноты здесь не было — вот и сейчас вечерняя луна уже скрылась, зато две ослепительно-белых и одна медовая освещали стройный ряд надгробий с какой-то неестественной, зловещей четкостью.
Козыри — ночные, поэтому луны должны быть за него. И уж если они высвечивают кого-то с такой безжалостностью — то это, разумеется, враг. Он вытащил свой меч уже наполовину, когда розовато-сиреневый конь, словно сказочная аметистовая птица, стелющаяся над самой землей, вылетел из-за надгробья Тариты-Мур и, осаженный опытной рукой, взвился на дыбы. Искристая грива мешалась с целым каскадом таких же шелковистых, разбрасывающих заревые блики, перьев; разглядеть всадника, чью голову и руки укрывал этот убор длинноперого фламинго, было совершенно невозможно, но Асмуру и не нужно было глядеть.
Только у одного человека на Джаспере был такой конь и такой крэг. Вороной заржал, призывно и просительно, и двинулся навстречу аметистовой кобыле. Асмур рванул было поводья — и понял, что это осталось только мыслью, но не действием: не послушались руки. Вороной захрапел и поймал зубами прядь гривы, налетевшей на него сиреневым ореолом, и в тот же миг легкие руки, укутанные невесомыми перьями, обвились вокруг шеи Асмура, и тело, охлажденное встречным ветром, напоенное полевыми ночными запахами, прильнуло к нему, и он почувствовал, как цепкие когти на его запястьях разжимаются, привычный, неотделимый от него капюшон соскальзывает с волос — и мир вокруг в тот же миг погас, и он уже не видел, как два крэга, пепельный и аметистовый, прижавшись друг к другу и превратившись в одну серо-сиреневую птицу, взмыли в ночную тишину, мелко трепеща сомкнутыми напряженными перьями.
— Без меня… улететь без меня… — пробился сквозь эту темноту срывающийся, ломкий от горечи голос, и звуки его запутывались в его волосах, покрывали бархатистым щекочущим налетом его лицо, — без меня, без меня, без меня!..
Он срывал с себя эти нежные, душистые руки, на прикосновение которых он не имел права, но тут же возникали губы — терпкие, своевольные, без конца твердящие одни и те же слова, смысл которых был бы жалок, если бы их произносил кто-нибудь другой; и еще успевали они жаркой и влажной чертой повторить каждый изгиб его бровей, губ, подбородка, навеки запечатлевая в памяти контур его лица.
Но и ее губы не принадлежали ему.
— Ты сошла с ума, Сэниа, ты сошла с ума… — бормотал он потерянно и отталкивал ее, но его слова ровным счетом ничего не значили, потому что она лежала у него на руках, и ощупью он спустился с седла, держа ее так бережно, словно мог пролить; и, коснувшись сапогом земли, он уже не помнил ни о долге, ни о чести — остались только прикосновения к ее лицу, и он отыскивал губами ее ресницы, и они опускались — колкие соленые лучики, прикрывавшие ненужные в такие минуты глаза; мир сузился до касаний и шепота, до рвущегося остановиться дыхания, и только одному не было места в этом мире любви — зрению.
Потому что крэги, слившись в одно, парили в звездной вышине, а с самых Черных Времен без крэга человек от рождения слеп, как крот.
— Мы оба сошли с ума, Сэниа, — шептал Асмур, опускаясь на колени в густую траву, и кони взметнули ввысь свои крылья, воздвигая над ними живой пепельно-розовый шатер.
И в это миг прозвучал голос:
— Берегись, Алхимик!
4. СОЮЗ С ЗАВЕЩАНИЕМ
Голос мог принадлежать только Леснику — единственному его другу, попечителю королевских садов. Сэниа, услышав предостерегающий крик, еще сильнее прижалась к Асмуру, словно прикрывая его своим телом, и он с удивлением почувствовал у ее бедра компактную кобуру портативного десинтора.
— Крэг! Асмур-крэг! — крикнул он, беспомощный в своей непроглядной незрячести.
— Нет, нет, — зашептала Сэниа, — пока я с тобой, они ничего не смогут сделать…
Значит, она догадалась, о ком предупреждал Лесник. Асмур схватил девушку в охапку и вытянул вперед руку — теплая конская чешуя тотчас же придвинулась к его ладони. Он ощупью перебросил гибкое тело через седло, и тут же шелестящая масса перьев обрушилась на него сверху; мир кругом вспыхнул мерцающим лунным светом — глаза крэга стали его глазами. Он увидел мону Сэниа, вздернувшую поводья его вороного; черные волосы, выбившиеся из-под сиреневого перьевого покрывала, метались по гриве, и конь не противился ей, прижав чешую, хотя до сих пор никто, кроме Асмура, не мог даже приблизиться к неукротимому животному, признававшему только одного хозяина.
В другой руке принцессы мертвенно поблескивало грозное и запретное оружие, разящее молниями, а сразу же за ней, влитые в седла, высились три ее старших брата.
Асмур стремительно обернулся, обнажая лезвие дозволенного в таких случаях меча — остальные шесть принцев стояли у него за спиной. Надо же, явились все!
Он сам мог мгновенно исчезнуть, бежать к своим кораблям, и он успел бы это сделать прежде, чем кольцо разъяренных царственных братьев сомкнется — но здесь была его мона Сэниа…
Нет, не его.
И тем не менее он готов был скрестить оружие с любым, кто посмел бы ему об этом сказать. Он принял отказ от короля, но не позволил бы повторить его даже принцу.
— Мой меч не привык ждать, — проговорил он хрипло и высокомерно, — и словно в ответ на его слова палево-серый крэг, прошелестев бессильными крыльями, опустился на меч, цепко обхватив его когтями. Теперь Асмур не мог воспользоваться этим оружием.
— Буду стрелять! — крикнула мона Сэниа. — И я не промахнусь, вы меня знаете!
Братья ее знали. Асмур — тоже.
И тут материнский крэг встряхнул головой, так что седой венчик поднялся над нею, точно рыцарский плюмаж, и издал укоризненный клекот. Это подействовало эффективнее, чем угроза Ее Своенравия — действительно, трудно было найти проступок страшнее, чем поднять смертоносное оружие на человека.
Но ранить крэга — пусть даже нечаянно — это было самым позорным, несмываемым грехом.
Принцы осадили коней.
— Эрл Асмур, — прокричал один из тех, кто стоя за спиной моны Сэниа — кажется, самый старший, — ты знаешь, что исполняющий Уговор неприкосновенен, и как бы мы ни чувствовали себя оскорбленными, не нам, принцам крови, нарушать законы Джаспера. Поэтому мы разрешаем тебе удалиться. Полночь миновала, а предначертание указало тебе начать путь до рассвета. Ступай с миром, но помни: если, вернувшись, ты приблизишься к нашей сестре ближе, чем на расстояние взгляда и голоса — мы будем драться так, как велит фамильная честь: без крэгов, вслепую, на звон шпаги.
— Я не менее вашего чту Уговор и законы Джаспера, — тяжело переводя дыхание, проговорил эрл Асмур, который задыхался от бешенства, — и тем не менее помните, высокородные принцы, что, выполнив свой долг перед крэгом моей матери, я вернусь и скрещу шпагу или кинжал, рапиру или меч по выбору с любым из вас, независимо от того, удостоит ли снова меня принцесса Сэниа слова или взгляда!
— А теперь слушайте меня! — разнесся над ночными полями звенящий голос моны Сэниа. — В отличие от вас я плюю на Уговор, и на все законы Джаспера оптом, кроме того единственного, который позволяет королевским дочерям по собственной воле выбирать себе мужа. Вы не хотите брать на себя обузу его ленных владений, которыми вам бы пришлось управлять в случае нашей смерти — хороши братцы! Что ж, в таком случае вы мне больше не родня. Я отрекаюсь от королевской крови. Асмур! — она нагнулась с седла и положила ему на плечо маленькую руку, опушенную аметистовыми перьями. — Ты забыл о старинном обычае — заключать брак вместе с завещанием. Тогда на них, на этих каплунов, жиреющих в Диване, в случае, если ты не вернешься, не ляжет никаких обязательств. Ну!..
Он с тоской поглядел в ее лицо — узкое страстное лицо, обрамленное черными прядями, выбивающимися из-под фламинговой шапочки; когда-то он любил это лицо, эту девочку, не сводившую с него очарованных глаз на ее первом турнире… Но видят древние боги, как он устал от ее сумасшедшего нрава!
Пусть она права и у него душа крэга, но он уже ничего не желает, кроме покоя — если не для тела, то хотя бы для души и чести! И сейчас, когда она завладела, между прочим, его конем, встала между ним и исполнением Уговора — он вдруг отчетливо понял, что гораздо сильнее любил бы ее… в воспоминании.
— Мона Сэниа, — проговорил он как можно мягче, — высокородная мона, вы разгневаны на братьев и отреклись от родства с ними, но вы забыли о своем отце!
Звук его голоса, исполненного чарующего благородства, произвел не примиряющее, как он рассчитывал, а прямо противоположное действие — от любви и горя Сэниа окончательно потеряла голову:
— Асмур, я ничего не повторяю дважды! Ты сейчас же наречешь меня своей женой, или… — она оглянулась, пытаясь найти что-нибудь такое, чем можно было бы напугать самого Асмура.
Видят древние боги, это было чертовски трудно! Ибо напугать бесстрашного эрла могла разве что такая угроза, которая еще ни разу не прозвучала под небом Джаспера. Но и принцесса была не из пугливых: она медленно подняла руку с маленьким десинтором до уровня своего лба. И рука ее не дрожала.
— Асмур, — сказала она очень просто, — если ты этого не сделаешь, я УБЬЮ КРЭГА. Своего крэга.
Он рванулся к ней, пытаясь перехватить руку, но она оказалась проворнее — вскочив на седло ногами, она вытянулась во весь рост и теперь стояла на спине его вороного, освещенная тремя лунами, с рукой, поднятой ко лбу.
Принцев как ветром сдуло с седел — все разом очутились на земле, а один, самый младший, отвернулся и прижался лицом к гриве своего коня. Не было еще такого на Джаспере за все полторы тысячи лет действия Уговора; чтобы кто-нибудь поднял руку на своего крэга.
На себя — бывало.
Но принцесса Сэниа грозила невиданным.
— Тарита-крэг, поводырь моей матери! — прорычал Асмур голосом, которому больше бы пристало проклятье, чем брачная клятва. — Пред тобой, старейшим из всех собравшихся здесь крэгов, я, эрл Асмур, последний из рода Муров (это были единственные слова, которые он произнес с удовольствием), беру в жены мону Сэниа, ненаследную принцессу, отрекшуюся от королевской крови, и буду ей мужем до своего смертного часа, а если ее дни продляться дольше моих, то завещаю ее со всеми владениями тому… тому, кто после моей смерти первый коснется губами ее лба. Я поклялся.
— Я, Сэниа-Мур, принимаю твое завещание, муж мой, как и все, на что будет воля твоя, потому что кроме тебя меня не коснется никто. Я поклялась.
«Надолго ли хватит этой кротости?» — подумал Асмур.
Сэниа тоненько свистнула вместо традиционного свадебного поцелуя, и ее колдовская кобыла, разыгрывавшая пугливость за каким-то надгробьем, грациозно приблизилась к вороному, изгибая шею. Девушка спрыгнула со своего несколько необычного пьедестала прямо в седло, небрежно кинула десинтор в кобуру и, не оборачиваясь, медленно двинулась вперед, в бездорожье дурманных полей, над которыми вставала бирюзовая утренняя луна, не оставляя им с Асмуром ни минуты ночи.
Принцесса, пусть даже отрекшаяся от родства с королевским домом, не могла прощаться с возлюбленным при постороннем.
5. ПРИСТАНЬ ЗВЕЗДНЫХ РАЗЛУК
Девять всадников стояли, держа коней под уздцы, и десять кораблей расположились причудливой пентаграммой чуть поодаль. Седые отцовские крэги замерли, вцепившись в гривы коней, словно сами были всадниками; они долго ждали, эти поводыри незрячих людей, ждали целую человеческую жизнь, и теперь, согласно древнему Уговору, от путешествия к желанной цели — полному и бесконечному одиночеству — их отделяла всего одна ночь. Это были несоизмеримые отрезки — ночь и вечность, и мудрость старых крэгов не позволяла им проявлять нетерпение.
Другое дело — звездная дружина Асмура. Они ждали его нетерпеливо, эти новички, эти вчерашние мальчишки, собравшиеся в кружок над рассыпанными картами, всполошенные недобрым предзнаменованием. Голубая луна прошла уже треть своего пути, когда воздух, наконец, всколыхнулся, как бывает всегда, когда человек проходит через _н_и_ч_т_о_, но вместо одного — командора — они увидели двоих — держась за его стремя, рядом с эрлом Асмуром шла сама мона Сэниа, и ее черные спутанные волосы мешались с гривой бешеного вороного коня, к которому не смели приблизиться даже смельчаки — скакун одинокого эрла, не раздумывая, был крылом или сдирал кожу вздыбленной чешуей.
Асмур вступил в круг своих спутников, внимательно всматриваясь в каждое лицо, хотя на первый взгляд ни одно из них не показалось ему знакомым. Может, встречал на приемах в королевских садах — скорее всего, встречал. Но не запомнил.
Остался ли он доволен этим стремительным импровизированным смотром? Пока это было неясно. Зато девять юношей, и без того готовые слепо повиноваться каждому его кивку — они, несомненно, узнали его сразу и теперь стояли, не шелохнувшись, глядя на своего командора с восхищением и гордостью, граничащими с обожанием: ведь это, оказывается, был не только прославленный эрл, но и жених самой принцессы, на которую пылкая молодежь не смела и глаз-то поднять!
А мона Сэниа, теперь уже — Сэниа-Мур, покорно шла у его стремени и остановилась, когда остановился он, и прекрасное лицо ее было залито слезами, которых она не стыдилась. Асмур, словно не замечая ее присутствия, проговорил негромко и сдержанно:
— Назовите имена.
Он знал титулы и полные имена всех, кто пойдет с ним, заранее, знал и род, и специальность, но сейчас ему нужно было другое — как звать их в бою, когда дорога каждая доля секунды, и они это поняли, хотя их командор с самого начала нарушал традиции: такое знакомство должно было состояться уже на корабле. Но они были счастливы, что их боевые имена услышит сама принцесса Сэниа.
— Эрм, — представился самый старший.
Асмур недолго задержал на нем взгляд — это был уже не раз выступавший на турнирах Эрромиорг из рода северных танов Оргов, которые владеют по ленному праву всеми залежами полиметаллических руд, которые нужно добывать из-под вечного льда. Запомнить нетрудно — светло-серый крэг с красным хохолком. Чем-то напоминает дятла.
— Сорк. — Такой же крэг, но без хохолка. Скромность любого украшает.
— Дуз. — Тропические плантации, большей частью уже заброшенные. Чемпион каких-то тихих игр. Вишневый крэг.
Это была старшая тройка, и видимых изъянов он не обнаружил ни у людей, ни у их поводырей. Кто дальше?…
— Скюз… — Так, неженка. И крэг ослепительно-голубой, как незабудка.
«Ну, этот у меня до самого возвращения в скафандре просидит» — подумал Асмур.
— Флейж! — А у этого изумрудно-зеленый крэг с оранжевым хохлом и оконечностями перьев.
— Борб. — Коренастый смуглый крепыш с коричневым скромным крэгом. Что там за ним числится? Да не так уж мало: производство аннигиляционных зарядов для всей планеты. Этот последний примирил его со всей тройкой. Оставались младшие.
На них надо было глядеть позорче.
— Ких. — Этот — южанин, семья владеет чуть ли не миллионом сервов-ткачей. Крэг темно-синий с белым клювом. Неплохо.
— Пы. — По лицу не скажешь, что ума — палата, зато силач невероятный. А крэги у них с Кихом совершенно одинаковые.
— Гэль…
Асмур небрежно скользнул взглядом по самому младшему, и вдруг глаза его против воли прищурились, брови сошлись. Как он не заметил этого с самого начала?
Пестрый крэг!!!
— Заводите коней на корабли и устраивайте старых крэгов, — негромко, даже с излишним спокойствием проговорил он.
— Мы идем к Серьге Кентавра, самой яркой звезде выпавшего нам созвездия. Готовьтесь, ее планеты таят в себе опасности достойные истинных воинов!
Еще секунду все смотрели вверх, на сияющую бледно-золотую крапинку, расположенную между Ухом Кентавра и его Уздой, почти отсюда невидимыми; затем девять шпаг блеснули в лунном свете, отдавая принцессе прощальный салют, и разномастные кони зацокали по выщербленному бетону к светлым громадам кораблей. Для того, чтобы пройти через _н_и_ч_т_о_, недостаточно воспользоваться картой или расчетами — нужно обязательно зримо представить себе ту точку, в которой ты хочешь очутиться. Слабо мерцающие створки люков разомкнулись, люди и кони исчезли внутри этих коконов, и теперь снова могло показаться, что это — просто гигантские матовые фонари, вроде тех, что прячутся в глухой зелени королевских садов.
И только тогда эрл Асмур спрыгнул с коня и обернулся к своей жене. Они стояли друг против друга, почти одного роста, и если мона Сэниа из всех сил сдерживалась, чтобы не выдать при посторонних своих чувств, то Асмур не находил даже слов. Душа его была пустой, словно собственный родовой замок. От юношеского пыла, с которым он поднял глаза на королевскую ложу много лет назад, не осталось ничего, кроме преданности, и Асмур сознавал, что это его беда, а не его вина: Джаспер медленно умирал, и первое, чему суждено было исчезнуть в этом гаснущем мире, была любовь.
Он печально смотрел на жену. Знает ли она, что козыри, которые им выпали накануне похода — ночные? Так вот, если кому-то и не следует сюда возвращаться, то это именно ему.
Они ничего не сказали друг другу, он только коснулся губами ее лба, словно напоминая о завещании. Потом круто повернулся и пошел к центральному кораблю, который как будто вырастал при его приближении. Желтый, как тыква, шар дал трещину, она разошлась ровно настолько, чтобы провести коня, осторожно прижимавшего к себе сложенные крылья. Затем стенки снова сомкнулись и разом потеряли свою матовость. Теперь сквозь них Сэниа отчетливо видела коня, разлегшегося на ковре, устилавшем пол центрального помещения. Асмур, словно забыв, что принцесса все еще видит его, отстегнул плащ и перевязь, и осторожно чтобы не повредить ни одного перышка своего крэга, облачился в мягкий полускафандр отливающий лиловым — все так спокойно и деловито, о древние боги, как спокойно и деловито! Теперь это был уже не ее Асмур, одинокий непобедимый эрл, у которого она сама, своей королевской волей встала на пути — вот захотела, и встала, явилась однажды в полуночном замковом саду, а потом еще в фехтовальном зале, и в книгохранилище… Он никогда не позволял себе даже коснуться края ее платья, и если бы не его внезапный отлет, она никогда не решилась бы сама сказать ему: «Возьми меня в жены!»
Ну, вот она и сказала, и потеряла семью, и не приобрела ровным счетом ничего. Она с горечью и изумлением смотрела на безликий непрозрачный скафандр, укрывающий сразу и человека, и слившегося с ним крэга, и он напоминал ей осьминога, медлительного и бесчувственного…
Желтые непрозрачные тени наползли на корабль со всех сторон и сомкнулись, так что ей уже ничего не было видно — малые корабли слились с центральным, образуя одно исполинское соцветие, теперь это был словно кусок пчелиных сот, неразделимый, монолитный. Старшие братья, обучая ее обязательному искусству проходить через _н_и_ч_т_о_, не раз говорили, что одинокому кораблю, как и одному человеку, чрезвычайно трудно добраться даже до ближайшей звезды; слив же корабли воедино в один ячеистый диск и объединив волю людей, можно достигнуть даже самых отдаленных уголков Вселенной…
Исполинские соты начали вибрировать, размываться; желтый вихрь опоясал их, с непереносимым свистом буравя пространство. Сэниа почувствовала, что нежная головка ее крэга отделилась от волос и запрокинулась назад, терзаемая пронзительным звуком, и на несколько секунд девушка потеряла способность видеть; когда же вой оборвался и прохладный невесомый капюшон снова лег на ее голову, возвращая ясность взгляда, медовый вихрь беззвучно крутился над пустыми плитами, словно на месте догоревшего костра.
Что-то голубело под ногами в лучах последней луны; мона Сэниа нагнулась — это была магическая карта, последняя в игре, зловещий Костлявый Кентавр, начертанный темно-лиловой тушью, предрекающей смерть.
6. СЕРЬГА КЕНТАВРА
Чужое солнце было тусклым и раздражающе агрессивным: ни с того, ни с сего оно взрывалось сатанинскими протуберанцами, и тогда голубые яростные пятна, вращаясь и стекая к полюсам, источали смертоносные потоки лучей, от которых с трудом защищали уже не стены единого ячеистого корабля, а мощная психотронная броня, которую порой приходилось держать по нескольку часов подряд, ни на миг не ослабляя напряжения воли. И если бы не железная выдержка командора, еще неизвестно, кто из юнцов вернулся бы из этого похода целым и невредимым.
В этом походе никто из них не слышал ни слова одобрения от своего предводителя — только приказы, да и те чаще всего отдавались жестом. Одинокий эрл и всегда был немногословен, а после первой же битвы, из которой никто не чаял вырваться живым, они привыкли повиноваться кивку или движению руки также молниеносно, как и слову.
Тяжелее всего приходилось Гаррэлю, юноше с пестрым крэгом. Он с самого начала рвался вперед, чтобы доказать свое право на равенство с остальными. Пестрый крэг — это пестрый крэг, никто не спросит, отчего так, и по чьей вине погиб крылатый поводырь, дороже которого ничего нет у человека.
Все знают, что ничьей вины тут нет — только беда: по собственной воле ни у одного из жителя Джаспера не поднимется рука на крэга, ни на своего, ни на чужого. И страшно это — даже на несколько дней остаться слепым. Но, видно, крэги как-то общаются между собой — как правило, не проходит и ночи, а к несчастному уже прилетает чей-то чужой крылатый посланец, чтобы оставить драгоценное яйцо. Вскоре из него вылупиться птенец-подкидыш, который обязательно будет крапчат, как пестрый боб. И люди, не в силах побороть в себе многовековые предрассудки, всегда будут относится к хозяину этого подкидыша как к парии — с молчаливым сожалением и не очень скрываемой брезгливостью.
Так было, так будет.
Никто не спросил Гаррэля, когда он остался без крэга, но не было минуты, чтобы настороженный юноша не ждал этого вопроса, и бросался первым в любое опасное дело, лишь бы доказать, что он не хуже других. Замечал ли это командор? Естественно, замечал; но он ни разу не одернул юношу, а наоборот, начал посылать его туда, куда тот рвался со всем пылом юности.
По обычаю самый младший первым имел право предложить родительскому крэгу предложить выбор планеты, на которой он, поводырь без хозяина, пожелал бы остаться в полном одиночестве. У Серьги Кентавра планет было семь, но только четыре достались легко, без боя. По случайности (или в силу недоброго предзнаменования) первая же из них — самая зеленая, самая теплая, красавица с двумя лунами — была заселена чудовищами, давшими название всему созвездию.
Об этой планете лучше было совсем не вспоминать, и тем не менее вспоминали все, и постоянно… А было так: звездный переход оказался удачным. Единый порыв, объединивший юношей вокруг их предводителя, спаял намертво их корабли и не позволил ни одному отстать или сместиться в сторону, как это иногда бывало в случайно подобравшейся дружине, где люди не связаны единой волей. Здесь же единый корабль — макрокорабль — или попросту мак — прошел сквозь _н_и_ч_т_о_ и вынырнул так близко от неведомой земли, что теперь она лежала перед ними на черном атласе межзвездной пустоты, как опаловый амулет.
— Младшему везет, — заметил кто-то из старших дружинников, — кажется, Дуз.
— Значит, судьба благосклонна ко всем нам, — сурово отпарировал эрл Асмур, и все поняли: насмешек над младшим не будет.
Как только единый корабль завис над поверхностью жемчужно-голубой планеты, командор пригласил всех к себе. Его корабль представлял сейчас середину мака и был центром управления и кают-компанией одновременно. Одна часть просторной полусферы была отделена для крылатого коня, другую занимал алтарный шатер, предназначенный для Тарита-крэга. И все-таки места оставалось предостаточно — хоть устраивай королевский прием.
Малые корабли дружинников, окружившие середину мака, образовали кольцевую анфиладу со сквозными переходами, где каждый мог беспрепятственно навестить своего соседа. Лишь в центральное помещение можно было попасть только по зову Асмура, и нарушить запрет командора не решился бы никто — даже в том случае, если бы ему грозила смерть.
Сейчас он собрал их в первый раз и первыми же своими словами преподал урок рыцарства.
У эрла Асмура иначе и быть не могло.
Они разглядывали первую планету, которую им предстояло посетить, если младший из них получит согласие отцовского крэга навсегда остаться здесь. Впрочем, в случае его отказа любой из старых крэгов мог взять эту землю себе. Мало-помалу мрачное настроение, навеянное зловещими козырями в их игре с судьбой, уступало место юношеской восторженности: вот оно, поле первого испытания, для чего они с пеленок учились владеть оружием и конем — искусство, почти не нужное на самом Джаспере. Опасности — прекрасно! Неожиданности — что ж, чем больше, тем интереснее! Битвы — так ведь их поведет сам эрл Асмур! Они стояли вокруг своего предводителя, расстегнув, но не сняв скафандры — прежде всего их заботила безопасность крэга, это ведь первая заповедь джасперианина.
Гаррэль держал на жесткой рукавице седую поджарую птицу, и они пристально глядели себе под ноги, где сквозь круглый иллюминатор нижнего обзора была видна чуть прикрытая облаками планета, спутница Серьги Кентавра.
— Говори, Гэль! — ободряющим тоном произнес комендор.
— Поводырь моего отца! — срывающимся от волнения голосом начал Гаррэль. — Ты служил ему от рождения до смерти, как и следует по Уговору между людьми и крэгами, верно и неустанно, как и подобает благородному крэгу. И теперь я, его сын, в награду за службу предлагаю тебе эту планету, если только ты сочтешь ее достойной себя, и готов выполнить любые твои желания.
Асмур кивнул — отменно было сказано — и раскрыл лежащий на консоли пудовый фолиант «Звездных Анналов», составленный полторы тысячи лет назад, когда вольные, многочисленные и главное — еще зрячие джаспериане появлялись в самых отдаленных уголках галактики, обследуя Вселенную.
— Первая планета Серьги Кентавра, — прочел он, стараясь выговаривать слова как можно четче, — была открыта тысячу шестьсот десять лет назад, в эпоху свободных странствий.
Пригодна для обитания как людей, так и крэгов. Животные, населяющие ее, миролюбивы, птиц не имеется, немногочисленное стадо кентавров беззлобно, наличие разумных существ гипотетично.
Крылатое существо, сидевшее на перчатке, перегнувшись вперед, казалось, не слышало обращенных к нему слов. Понять крэга было можно — если человек вообще способен понять крэга — ведь ему предстоит провести здесь всю оставшуюся жизнь, и никто не представляет себе, насколько это долго. Наверное, по сравнению с человеческой жизнью срок этот показался бы вечностью. И все это время крэг будет совершенно один: согласно Уговору, ни один житель Джаспера ни смеет ступить на планету, уже занятую крэгом.
Так что тут имело смысл долго выбирать: ошибка была бы непоправимой.
Вот крэг и думал. Свесив сивую тупоклювую голову, он пристально вглядывался в единственный громадный остров, выступающий из зеленовато-синего океана. Что его смущало? Если упоминание о племени дикарей, которое вроде бы было обнаружено еще до наступления Черных Времен — полторы тысячи лет назад, как это записано в «Анналах», то он отказался бы сразу и бесповоротно — ведь крэги не терпят присутствия на подаренной планете разумных существ. На то они и крэги, этим сказано все.
Но крэги любят точность, а данные «Анналов» еще требовали проверки. Во всяком случае, не следовало забывать, что джаспериане порой принимали за дикарей крупных обезьян, строивших причудливые гнезда. Бывало.
Может быть — кентавры? Эти загадочные твари упоминались в «Анналах» только однажды, да и то так невразумительно, что и эти сведения вызывали сомнения.
Так что крэг размышлял, и правильно делал.
Дружинники, почувствовав себя вольно, вполголоса переговаривались, обсуждая достоинства планеты.
— Хорошенькое соседство! — фыркнул Флейж, носком сапога указывая на громадный грязевой вулкан, плюющийся сернистым пеплом.
— Вонючка, — убежденно изрек Скюз.
Асмур не обрывал их болтовни, потому что знал: для крэга мнение человека решительно ничего не значит. А вулкан действительно поганый, и не один, похоже, а целая компания — несколько десятков квадратных километров грязи и вони. Как тут не закапризничать…
Сивый крэг вскинул голову, глаза его жадно попыхивали, словно разгорающиеся угольки.
— Уничтожить! — раздался скрипучий, механический голос.
Немногие на своем веку слышали голос крэга, и он поразил их настолько, что смысл сказанного отступил на второй план — главное было то, что загадочное молчаливое существо снизошло наконец до разговора с людьми.
Видя их замешательство, крэг приподнял крыло и чисто человеческим жестом — указал на зачехленный пульт аннигиляционного десинтора дальнего боя, к которому в этом полете еще ни разу не притрагивались. По каюте метнулся ветер, поднятый движением белесой кисеи реденького оперения, и этого было достаточно, чтобы все разом вернулись к действию.
— Вы слышали приказ? — воскликнул Гаррэль, и Асмур почувствовал, что даже он сам не в силах разом побороть оцепенения, вызванного звуками нечеловеческого голоса.
— Спокойно, мой мальчик, — проговорил он. — Приказываю здесь только я. Крэги же лишь высказывают пожелания. — Это было сказано с истинно королевской гордостью, и каждый почему-то вспомнил принцессу Сэниа, шедшую у его стремени.
Все, кроме Асмура.
— Прошу все вернуться в каюты, — продолжал командор. — На следующем витке начинаем аннигиляционную атаку. Борб, ты мне поможешь. Дальнейшие действия будут диктоваться результатами атаки. Пока все.
Скупой приказ означал: а остальные обеспечивают психогенную защиту и, если будет нужно — перемещение корабля.
В полете вообще больше подразумевалось, чем говорилось.
Опалово-желтый диск макрокорабля цепко завис над смердящим вулканом, на десятки километров разливающем свои неаппетитные потоки. Да, зрелище омерзительное — и на такой дивной планете! Борб, которому ничего не надо было объяснять — профессия аннигиляторщиков была у него в роду — колдовал с пультом, временами задавая необходимые вопросы, которые командор понимал с полуслова:
— Накроем одним?…
— Ненадежно. Пусти по спирали бегущий заряд.
Борб изогнул бровь — ай да командор, даром что нефтехимик по наследственной специальности. И в этом разбирается.
Заряд запускался с максимальной скоростью, чтобы следующая спираль закрутилась прежде, чем до нее дойдет ударная волна от предыдущей.
— От середины?…
— Нет. По опоясывающей и к центру.
Это было тотальное уничтожение. Не прошло и нескольких минут, как обреченную гряду плюющихся дымом холмов окольцевала огненная черта — заряд, распространяющий смерть, двигался так стремительно, что сверху показалось, будто кольцо возникло разом. Не успел раскаленный вал подняться во всю свою устрашающую высоту, как новый виток убийственной спирали вспух внутри него, а затем и третий, и так все ближе к центру; а наружные валы, разрастаясь вширь, уже сшиблись, уничтожая все, что было в промежутке между ними.
Сивый крэг, распластавшись на полу командорской каюты, наблюдал за тем, как целый район превращается в огненное месиво; теперь, когда его каприз был выполнен, оставалось только ждать, пока расплавленная масса остынет и пыль осядет вниз. Но для этого не обязательно было болтаться в воздухе.
— Всем приготовиться! — разнеслась по малым каютам общая команда. — Садимся на прибрежное плато, у серых скал.
Этот безлесый островок совершенно гладкой поверхности Асмур присмотрел заранее. Каменистая равнина простиралась километров на триста и круто обрывалась к океану, не расцвеченная ни единым живым пятнышком озерца или оазиса. Только в самом центре виднелось что-то вроде хаотически набросанных треугольных камней огораживающих пятачок земли, на котором едва-едва разместилось бы два корабля.
Но Асмуру этого было достаточно.
По его сигналу мак произвел свой обычный переход через _н_и_ч_т_о_, и в следующую секунду он уже стоял на потрескавшейся почве незнакомой планеты.
— Дуз, Флейж и Ких — на вахте, остальные — со мной!
Застегивая скафандр, Асмур обернулся на седого крэга — тот тяжело поднялся с прозрачного пола и взлетел на пульт огневой защиты, примостившись на каком-то верньере. Глаза закрыты пленкой, крылья обвисли… Словно не для него затеяна вся эта кутерьма.
Командор прошел через каюту Гэля и первым выпрыгнул на прогретую близким солнцем землю. Следом вывалилась шестерка дружинников. Некоторое время все стояли, настороженно озираясь и прислушиваясь. Место это было хорошо тем, что сюда не подберешься незамеченным — до леса никак не меньше ста километров по гладкой, как лысина, пустыне.
Но ведь кто-то мог притаиться и здесь, в серых конусах.
Вблизи их уже трудно было спутать со скалами или просто камнями — это были пирамиды, сложенные из плоских кирпичей, высотой в три-четыре человеческих роста, определенно рукотворные, о чем говорили узкие оконца, прорезавшие глухие серые стены почти у самой вершины — бойницы, да и только.
Разведчики, не теряя друг друга из вида, осторожно обошли все полтора десятка маленьких пирамид. Ни малейших проявлений жизни, не говоря уже о разуме. Ни змей, ни даже насекомых. Омертвление, длящееся веками.
— Гэль, загляни внутрь этого конуса, — распорядился командор. — В случае опасности отступай прямо на корабль.
Неровность кладки позволила юноше в одно мгновение очутиться наверху — природная ловкость компенсировала неудобства скафандра. Направив узкий луч фонарика в щербатое отверстие, Гаррэль заглянул внутрь строения и разочарованно покачал головой:
— Пусто! Помещение небольшое, всюду только пыль.
Следовало ожидать. Если это захоронения, то они много веков назад разграблены. А затем бесследно исчезли потомки как тех, кто здесь покоился, так и тех, кто их грабил.
— Загляни в другую!
И снова Гэль, проворный, как белочка, вскарабкался по наружной стене и прижался синеватой поверхностью скафандра к щели:
— Никого, командор.
— Влезь-ка на самую большую.
Через несколько секунд он был и там. Вспышка фонарика…
— Командор!!!
Древняя кладка крошилась под тяжелым сапогом, и тем не менее Асмур очутился наверху едва ли не быстрее, чем его юный дружинник. Тот посторонился, давая ему место у оконной щели. Луч фонарика скользнул по стене, пробежал по полу…
Внизу были кости. Вне всякого сомнения — человеческие.
Конусообразное помещение было завалено ими, словно людей сюда набили, как патронов в обойму. Кстати, входа нигде не было видно — вероятно, укрывшиеся здесь замуровались изнутри.
А на стенах… Асмур провел лучом по стене, и ему, прославленному бойцу, стало не по себе.
Набросанные углем контуры были смазаны и недорисованы, но художник, потративший последние минуты своей жизни на то, чтобы оставить после себя разгадку происшедшей трагедии, и не мог тратить время на детали. Главное — смысл происходящего, а он стал ясен после нескольких секунд знакомства с этими зловещими фресками. Оскаленная длинная морда с клыками гиены и лошадиной гривой… Нет, это был нарисован не конь — кентавр! Вот он разбивает копытом голову лежащего у его ног старца. Это преувеличение, мозг не может выбрызгиваться таким фонтаном, но это — символ бесчеловечности, перед которым разум бессилен. Или вот — кентавр держит в зубах новорожденного ребенка, готовый швырнуть его в горящую хижину… Кентавр на полном скаку, волочащий за волосы женщину… Древние боги, совсем джасперианка! И еще — два вздыбленных чудовища раздирают человека надвое. И кровь, кровь, кровь…
Асмур отвел глаза, чтобы подавить невольный приступ тошноты. Затем подвинулся на уступе и заглянул в соседнее окошечко, в которое был виден край другой стены.
Там был всего один рисунок, набросанный прерывистыми, неуверенными штрихами — вероятно, последнее, на что хватило сил у гибнущего человека. Это был развалившийся сытый зверь с окровавленной мордой, и над его головой как символ желанного возмездия был очерчен крылатый меч.
Асмур спрыгнул вниз.
— Вахтенных сюда, — проговорил он негромко. — Пусть осмотрят все…
7. ФА НОЭ?
Еще одно стадо кентавров закидали отравленными шашками.
Крылатые кони, теряя высоту и запрокидывая головы, рвались прочь от клубов ядовитого дыма, но всадники удерживали их возле места засады, чтобы не дать никому вырваться из смертоносного кольца. Два или три крупных монстра попытались-таки уйти в чащу, но Гэль и Скюз, оказавшийся непревзойденным стрелком, настигли их. Это были те самые короткохвостые самцы, которые вчера пытались захватить Флейжа. Каждый день дружинники докладывали своему командору, что предгорье полностью очищено, но стоило кому-то с наступлением темноты зазеваться, как следовал стремительный бросок из лесных зарослей, и цепкие когти ухватывали добычу.
Вот это обстоятельство чрезвычайно изумляло Асмура: если уж кентавр мог подобраться к человеку, особенно лежащему, то почему он не пытался убить врага первым же ударом копыта?
Зачем было тащить добычу в чащу? Обычай? Но обычаи бывают у разумных существ, а не у таких вот плотоядных. Они вряд ли открыли бы подземную пещеру, где укрывалось целое стадо, если бы Гэль, понадеявшись на крепость своего скафандра, не позволил себя похитить и протащить до самого убежища.
Еще три дня они потратили на то, чтобы удостовериться в полной своей победе над омерзительными хищниками — в первый попалась пара однолеток, пытавшихся нырнуть в озеро, но разряды десинтора достали их и там. Два других дня пропали даром. Кони, застоявшиеся во время перелета и теперь утомленные бесконечным кружением над лесистыми холмами, с каждым днем повиновались все хуже и хуже — видно, здешний корм плохо на них действовал. Они тощали на глазах, отворачивались от родниковой воды. Асмур встревоженно гладил своего вороного по холодной чешуе, в который раз жалея, что способность говорить присуща не коням, а крэгам. Было ясно — нужно возвращаться к кораблю, надежно укрытому между серыми пирамидами, и дать животным несколько дней отдыха и вдоволь душистого джасперианского сена. Он уже хотел скомандовать возвращение на стоянку, как вдруг в кустах что-то захрустело. Асмур обернулся, выхватывая оружие — по сухому лиловому мху прямо на него поз кентавр.
Он был очень стар и задние ноги его, похоже, были парализованы, но он, отталкиваясь руками и передними копытами, сделал еще несколько конвульсивных движений, стараясь дотянуться до ног человека. Наверное, он уже ничего не способен был сделать, но в глазах его сверкала бешеная злоба, спутанные белые волосы, переходящие в гриву, извивались и приподнимались навстречу врагу, последние кривые зубы обнажились в бессильной попытке дотянуться до вожделенной плоти, а частое дыхание срывало с изъязвленных губ клочья пены. Дыхание было скверным — похоже, старая тварь страдала четырехсторонней пневмонией.
Дряхлость всегда вызывает невольное сочувствие, даже когда перед тобой пещерный медведь или крокодил-людоед. Асмур медленно переводил калибратор своего десинтора на максимальную мощность, втайне надеясь, что чрезмерное напряжение оборвет жизнь чудовища раньше, чем придется стрелять. Но кентавр остановился, тряхнул головой, так что седые космы откинулись назад, и вдруг до людского слуха долетели мягкие, укоризненные звуки, абсолютно не совместимые с образом алчущего крови животного:
— Фааа ноэ?…
Может быть, это был случайный вздох, всхлип, парадоксальное сочетание звуков, дополненное горестной интонацией и поэтому показавшееся осмысленным? Ведь и собака может выть жалобно! Но чем бы это ни было, оно так ударило по напряженным нервам, что пальцы сами собой нажали на спусковой крючок.
Асмур, сдерживая невольное подергивание лица, отвернулся и пошел прочь, оставив позади дымящуюся, опаленную яму; конь ожидал его так тихо, что хозяин, привыкший к его дружелюбному пофыркиванию, должен был поднять глаза и поискать своего вороного в быстро надвигающихся сумерках.
Вороной стоял, прижавшись головой к стволу дерева, и из глаз его текли крупные слезы.
— К кораблю! — крикнул Асмур…
Ночь, мягкая и полнолунная, текла над маленькими пирамидами, и металлические немерцающие шарики непривычно близких планет повисли, казалось, над самым маком. Командор глядел в небо, опершись левым плечом о шершавую стенку пирамиды-усыпальницы. Он только что велел своим дружинникам еще раз подняться к оконной щели и еще и еще смотреть на отомщенные только сейчас кости, на крылатый меч — символ справедливости.
И все-таки он не знал, как поведет завтра этих людей, доверявших ему, как богу.
Потому что он сам теперь не верил себе.
— Асмур-крэг, — прошептал он в отчаянии, — ты, к которому я ни разу не обратился в своих собственных горстях и заботах, — скажи мне сейчас: они разумны?
Крэг разом поднял перья, не расцепляя когтей, встряхнулся, и скрипучим голосом произнес:
— Не более, чем… попугаи.
Он говорил очень медленно и с какой-то неестественной правильностью выговаривал каждый звук — еще бы, ведь крэги так редко снисходили до разговора с людьми, что иной джасперианин умирал, так и не услышав их голоса. Но в эту минуту Асмур забыл о нелюдимости и высокомерии своего необычного собеседника:
— Но если это так, то разве помешают они, эти бескрылые и неразумные существа, мудрому старому крэгу, который будет парить высоко в небесах? Зачем же уничтожать остальных кентавров?
Крэг молчал, пощелкивая клювом, словно ожидал, что человек сам ответит на свой вопрос. Но Асмур молчал.
— Ты… не взвесил… всего. — Паузы стали еще продолжительнее, а голос — неприятнее. — Когда-нибудь… сюда могут… прилететь разумные существа… с другой звезды. Незащищенные. И что… их встретит?
Асмур почувствовал, что его обдало жаром стыда. Как мальчишку. И поделом. Он искал слова и не находил их.
И в третий раз прозвучал механический голос:
— Крэги… мудры, — заключил Асмур-крэг, как бы ставя точку не только на этом разговоре, но и на тех последующих, которых, как он надеется, человек больше не затеет.
Эрл стиснул зубы. Планета должна быть очищена от скверны хищничества, и он сам закончит начатое, хотя бы потому, что иначе придется пересказывать всей дружине этот разговор.
А так он пойдет один… Хотя нет, пожалуй, одному не справится.
— Гаррэль! — позвал он.
Стенка мака раздвинулась и, юноша в одном плаще и без скафандра спрыгнул на холодный камень:
— Ты звал меня, командор? — вероятно, он не был уверен, что это ему не приснилось — ведь молчаливый эрл, скупой на разговоры, почему-то назвал его полным именем, а не боевым.
— Да, Гаррэль. Мы задержались на планете, а ведь это — только первая. Завтра нужно кончать нашу охоту. На западе и востоке леса спускаются до самого океана — настолько густые, что кентаврам там делать нечего. Значит, остается крайний север, долина оврагов. Там будет трудно. В заросших оврагах легко укрыться. Ты ведь был вчера в разведке?
— Да, могучий эрл, но эти последние кентавры не думают укрываться. Это совсем особая стая, их не меньше трех сотен, и все — взрослые, сильные самцы. Они собираются на берегу, возле старой дороги, и когда мы с Флейжем пролетали над ними, они мчались вдоль самой воды, пока не увязли в болоте.
— Удирали?
— Нет, преследовали.
— Прекрасно! Гэль, помнишь место, где старая дорога, петляя между оврагами, доходит до озера с красной водой? Это видно только сверху, когда летишь на крылатом коне, но вдоль озера отходит другая дорога — к развалинам древнего храма.
Она изрядно заросла, но пройти там можно. Тем более, когда глядишь под ноги, а не по сторонам…
— Не понимаю, командор…
— Сейчас поймешь. Ты сам сказал, что они гнались за тобой, надеясь что ты рано или поздно спустишься на землю. Ну, так это сделаю я. Да еще велю своему вороному прихрамывать, как тетерка, уводящая лисицу от гнезда. Они бросятся за мной, и я поведу их к заброшенному храму. Для бешеных жеребцов — это час, от силы — полтора. И постараюсь не давать им умерить свой энтузиазм…
— А почему не я, мудрый эрл?
— У тебя своя задача, мой мальчик. Помнишь площадку перед храмом, которая сверху кажется этакой лужайкой для фей?
Гаррэль кивнул, напряженно вглядываясь в лицо командора и стараясь не пропустить ни единого слова.
— Так вот, это не лужайка. Это — мост, широкий мост. И под ним — не овраг, а настоящая пропасть. Завтра, в тот час, когда я выйду навстречу стае, ты полетишь к храму и этот мост разрушишь. Но — бесшумно!
— Я понимаю, крылатый конь перенесет вас…
— Проще, мой мальчик, гораздо проще. Я прыгнул бы в эту пропасть и на обыкновенной козе — ведь в тот момент, когда мы повиснем над бездной, я закончу свою роль и просто уйду в _н_и_ч_т_о_ и вернусь на корабль вместе с конем. На долю дружины останется только не упустить тех, кто останется или рассеется по овражистым склонам.
Юноша смотрел на командора такими сияющими, влюбленными глазами, что тот невольно улыбнулся.
— Ступай, отдыхай. Как только последний монстр будет истреблен, крэг твоего отца получит эту планету.
Гаррэль поклонился, не тратя слов.
Асмур проводил его взглядом. Этот мальчик получит возможность вернуться домой с гордо поднятой головой, не стыдясь больше собственного пестрого крэга. Все будет прекрасно, вот только…
Что — только? Что тебе не по душе, благородный эрл? Что тебя мучит, холодное сердце?
«Фа ноэ», — ответил он тебе. — «Фа ноэ».
8. ХРАМ И ПРОПАСТЬ
Дорога поднялась на край обрыва, и он обрадовался, что с нижней петли серпантина его увидят даже самые последние.
Ну, скоро и финиш. А то этот постоянный грохот за спиной порядком поднадоел, да и коня все время приходится сдерживать, чтобы несвоевременно не взмыл в небо. Чуть подальше дорога вольется в ровное и довольно широкое ущелье, там можно будет до предела раззадорить преследователей, выжав из них максимальную скорость и в то же время не позволив заглянуть вперед, где им уготован такой сюрприз…
Он послал голос вперед, к стенам храма:
— Гэль, все готово?
— Да, мой командор!
— Возвращайся к дружине. Как только первые покатятся вниз, перекройте дорогу назад и не давайте никому уйти.
— Будет выполнено, могучий эрл!
Жеребцы, наседавшие сзади, тревожно заржали, словно почуяв появление второго врага.
— Хэ-хэй! — крикнул эрл, концентрируя на себе их внимание. — За мной, если вы не трусы!
Ржанье и гортанные крики превратились в неистовый шквал. Каменистая дорога легла впереди, как стрела, и в конце ее засветилась утренним светом известняковая стена полуразрушенного храма, которая, казалось, запирала это ущелье, превращая его в тупик. Кентаврам, несомненно, эти места хорошо известны — следы это выдают; теперь они гонят вперед незадачливого чужака, как обычные волки загоняют на обрыв оленя, движимые охотничьим инстинктом, а не разумом; но один чужак знает, что впереди их ожидает не широкий мост, на котором его собираются припереть к храмовой стене и окружить — нет, впереди только пропасть, в которую оборвется ущелье, и будет поздно тормозить на самом краю, да и задние не дадут — слишком могуч напор и круто взят разбег.
Все ближе белая стена, сейчас из зияющего впереди проема пахнет холодом, и в этой бешеной скачке кентавры, обладающие несомненной чуткостью, не успеют ничего заподозрить.
Асмур положил руку на гриву коня, дружески потрепал ее:
— Я с тобой, вороной, ничего не бойся, прыгай смело, но без моей команды крылья не расправляй, что бы ни случилось!
Но конь словно не узнавал хозяйского голоса, искаженного скафандром, и крылья его сами собой расправлялись, готовые поднять его вместе со всадником над предательской пустотой, подстерегающей впереди…
— Не сметь!!! — крикнул Асмур, потому что преследователи, увидев взлетающего коня, могли понять всю бесцельность дальнейшей погони и в последний момент остановиться.
Он рванул застежку скафандра и, глотнув с наслаждением свежего летящего навстречу воздуха, прижался губами к теплому уху коня:
— Вперед! — и конь прыгнул.
И в тот же миг, выпрямляясь в седле, Асмур увидел, как распахнулась неразличимая доселе дверь в стене, отдаленной от него провалом пропасти; седой кентавр, двойник вчерашнего, только весь в сверкающих браслетах, лентах и крапчатой татуировке, на долю секунды застыл в дверном проеме, а потом с гортанным криком метнул в падающего Асмура короткую бронзовую стрелу, напоминающую арбалетный болт. Жгучая, ядовитая боль впилась в горло, в узкую щель расстегнутого скафандра, парализуя тело, туманя рассудок и все дальше отодвигая зыбкую, существующую только в воображении границу реального мира — и того неведомого, которое называлось просты словом «ничто», ибо было слишком сложно для понимания; Асмур падал вместе с конем, и сверху, раскидывая копыта и путаясь в собственных гривах, валились обезумевшие от ужаса кентавры.
Он должен был уйти в _н_и_ч_т_о_ — и не исчезал, словно намеренно стремился разбиться об острые камни на дне пропасти или быть задавленным этой лавиной, рушащейся на него сверху…
И все это видел Гаррэль.
Почему он не выполнил приказа и не вернулся к дружине после того, как разрушил мост? Ответ был чересчур прост: виновно было обыкновенное мальчишеское любопытство. То, что затеял эрл Асмур — непобедимый командор Асмур, предмет рыцарского поклонения всей дружины — просто не могло, не смело остаться никем не увиденным; такие подвиги и создавали легенды, проходящие через поколения и века.
Но кроме него самого, увидеть было некому, некому было бы и потом рассказать.
Он вернется к дружине, — сказал себе юноша; вернется, но — чуточку позднее. И он спрыгнул с коня, взял его под уздцы и осторожно поднялся на скалу, ограничивающую роковое ущелье. Могучий эрл и следом за ним — вся эта копытная свора промчатся внизу, так что никто ничего не заметит. Гаррэль перегнулся через обломок скалы, чтобы поподробнее все рассмотреть, но он не успел приготовиться, как все уже было кончено за одно мгновение — закованный в естественную броню вороной промелькнул, как ураган, и следом за ним в клубах пыли — распаленные преследователи, и юноша с невольной гордостью проводил глазами последний прыжок крылатого коня, как вдруг напротив, точно приведение, возник разукрашенный кентавр, и мелькнуло бронзовое оружие, и вот уже вороной падал, скрежеща по камню крыльями, которым негде было развернуться во весь размах, и не происходило главного — эрл Асмур почему-то не уходил в _н_и_ч_т_о_, а продолжал падать в ледяную черноту расщелины, и Гаррэль вдруг понял, что командор ранен и просто не в силах совершить этот переход — и юноша не раздумывал ни единой доли секунды.
Оттолкнувшись от уступа, он прыгнул вниз, представив себе зыбкую грань перехода и сразу же за ней — близкое дно пропасти так, что командор вместе со всеми кентаврами был у него над головой; в следующий миг он уже был там и падал, но лететь ему оставалось совсем немного и главное — недолго, и сверху на него уже рушился обезумевший от страха конь с бесчувственным всадником, и Гаррэль, коснувшись гривы вороного, последним усилием воли захлестнул себя, Асмура и коня в единый волевой кокон и послал все это в спасительную пустоту, доступную только джасперианину, и дальше, через нее — на ковер командорской каюты.
Юноше не хватило сотой доли секунды — донные камни ущелья полоснули по скафандру, но сверхпрочная ткань выдержала; зато не прикрытые защитной пленкой штаны и сапоги донеслись до корабля лишь в виде реликтовых лоскутьев. Почесывая ссадины, он осторожно приподнялся — прямо перед ним, занимая всю середину центрального помещения, распластался крылатый конь, судорожно вздымающий бока и заходящийся хрипом; командор неподвижно лежал по ту сторону конской туши, и его пепельный крэг, осторожно вытягивая крылья из-под лиловой ткани, выбирался из расстегнутого скафандра. Наконец, это ему удалось, он взлетел на спинку командорского кресла и встряхнулся — кровавые брызги полетели по каюте.
— Асмур-крэг, ты ранен? — крикнул юноша, инстинктивно порываясь придти на помощь сначала поводырю, а затем уже — человеку.
Крылатое существо еще раз брезгливо встряхнулось и отвернуло голову в сторону, не удостаивая Гаррэля ответом. Ну и ладно. Самое время заняться командором. Он оперся о бок коня, намереваясь без околичностей перебраться прямо через это естественное заграждение, но вороной, почуяв руку чужака, тут же вздыбил отточенные пластинки чешуй, так что юноша едва-едва успел отдернуть ладонь.
— Фу ты, пропасть… — пробормотал Гаррэль и побрел в обход, опираясь о стены каюты, потому что известный своим норовом вороной мог еще и лягнуть в избытке благодарности; но когда он добрался, наконец, до окровавленного тела командора, то застыл в нерешительности — короткая бронзовая стрела торчала из горла, и он, будучи даже неопытным воином, прекрасно понимал, что значит тронуть ее.
Между тем Асмур медленно открыл глаза, упершись невидящим взглядом в потолок. Гаррэль в отчаяньи обернулся к пепельному крэгу, но тот и не подумал вернуться к своему хозяину. Понимал ли эрл, что находится уже в безопасности, в собственном корабле? Или мысли его были далеко?
— Мой командор… — прошептал юноша.
По тому, как мгновенно исказилось залитое кровью лицо, Гаррэль понял, что тот прекрасно представлял себе и где он, и что с ним; одного предводитель звездной дружины не мог даже вообразить себе: что кто-то из подчиненных посмеет без его позволения проникнуть в его каюту.
— Ты… — прохрипел он, — не в бою?
Красная струйка побежала у него из уголка рта.
— Пока… хоть один… — больше он говорить не мог, но рука в лиловой перчатке поднялась и твердым жестом показала Гаррэлю — «уходи»!
— Повинуюсь, великий эрл! — проговорил юноша сквозь стиснутые зубы.
Командор, как всегда, был прав — его место там, где восемь крылатых всадников, паря над лесом, зорко высматривали оставшихся хищников, готовые не знать ни сна, ни отдыха до последней минуты их кровавой охоты…
И длилась она еще два дня.
Когда же на исходе второго дня оранжевое солнце, истекая неистовыми протуберанцами, клонилось к притихшему океану, истомленные кони в последний раз облетели зеленый остров с его лесами и пирамидами, оврагами и руинами храмов. Мелкое зверье копошилось в траве, ужи и ящерицы ловили последнее тепло уходящего дня, но ни одного чудовища не оставалось больше на планете, принадлежащей созвездию, где от кентавров осталось одно название. Длинные вечерние тени от летящих коней перечеркивали необозримый кратер, оставленный аннигиляционным взрывом на месте семейства вулканов; если бы не спиральная борозда, усыпанная пеплом — след движения заряда, — то этот кратер легко можно было бы принять за след падения крупного метеорита; теперь же непосвященный встал бы в тупик, пытаясь объяснить это чудо природы, — разве что осталось предположить, что здесь когда-то прилегла отдохнуть улитка с диаметром раковины в несколько десятков километров.
— Пора возвращаться, — усталым голосом проговорил Эрромиорг, из рода Оргов, старший дружинник.
Жалея коней, они образовали единый кокон и перенеслись в одно мгновение к подножью серых пирамид. Спешились, не решаясь войти внутрь корабля. Гаррэль ловил на себе невольные взгляды — после того, что он рассказал своим товарищам о трагическом завершении случая с ловушкой, все почему-то ждали от него новых сведений о командоре. Да он и сам ждал, ждал напряженно, каждую минуту — какого-нибудь шепота, призыва, может быть, даже слов прощания…
Ничего не было.
Вот и сейчас смотрели на него, а не на старшего, и юноша, сжав губы, помотал головой — он согласился бы умереть, чем услышать «как ты посмел…»
Кони, изогнув шеи, склонились над редкими травинками, пробивающимися в трещинах между плоских камней, но ни один не коснулся губами тощей зелени. «Дурной знак, — прошептал Скюз, знаток примет и предзнаменований, — дурной знак…»
И словно в ответ на его слова матово-желтая, точно человеческая кожа стенка мака треснула, образовавшийся проем распахнулся, как будто раздвинутый руками на полный размах, от плеча до плеча, и, чуть не задев дружинников, оттуда вылетел редкоперый белесый крэг, которого Гаррэль, отправляясь на охоту, оставил под защитой корабельных стен. Древние боги! Дружный крик раздался под вечерним небом, куда подымался, не издав ни одного прощального звука и даже не оглянувшись, седой крэг. Но не его согласию на отвоеванную у монстров планету радовались юноши — стена раздвинулась, а произойти это могло только тогда, когда человек посылает приказ-импульс. А человек внутри корабля был только один.
Значит, он был жив!
Гремя подковками походных сапог и сбрасывая на бегу клейкую пленку скафандров, они вбежали внутрь, в галерею окружных малых кают, и замерли, положив ладони на выпуклую стенку центрального помещения. Стена была непрозрачна.
— Командор, — негромко проговорил Гаррэль, посылая свой голос туда, в самое сердце мака. — Крэг моего отца принял эту планету…
Что значило, хотя и было недосказано: «следовательно, нам пора уходить».
Он ждал в ответ голоса, но вместо этого стена под его ладонями начала светлеть, приобретая дымчатую прозрачность топаза, и командорская каюта, блекло мерцающая отсветами настоящей свечи, открылась их взорам.
Конь по-прежнему занимал всю середину помещения, расправив израненные, но уже смазанные бальзамом крылья, а возле него, в откидном кресле, полулежал эрл Асмур — готовый к походу, в застегнутом поясном скафандре. Раскрытый том «Звездных Анналов» покоился на ковре возле самого кресла.
Рука в темно-лиловой перчатке поднялась в повелительном жесте, призывающем к вниманию, а затем опустилась вниз, коснувшись раскрытой страницы. Двух мнений быть не могло: командор указывал на схему, изображавшую созвездие Кентавра.
Под указующим пальцем скрылась красная точка — следующая планета этого рыжего светила, за свою золотистость названного Серьгой.
9. МИРЫ КРЭГОВ
Следующие четыре планеты были к ним благосклонны. Почти одинаково прохладные, покрытые причудливой растительностью, но не обремененные даже намеком на зарождающийся разум, они, казалось, были специально созданы для тихого уединения, и еще четыре крэга покинули мак, по своему обыкновению даже не попрощавшись.
Командор поправлялся. Сначала его вороной выходил на прогулки один — пощипать бледно-розовую травку или выкупаться в пенящемся бесчисленными пузырьками озере; но на последней планете Серьги он вывел своего коня сам — впрочем, как всегда настороженный, готовый к любой неожиданности, ни на секунду не расстегивающий скафандра. Молодежь тихонечко хмурилась — похоже, что пора безрассудной удали ограничилась всего-навсего одной охотой.
Серьга Кентавра была исчерпана, приходилось перебираться к следующей звезде этого созвездия, и ближайшей оказалась Уздечка. Правда, у нее обнаружилась всего одна спутница, да и то весьма сомнительная — острые, как сталактиты, частые пики, подножье которых обросло розовой мимозой. Из этих пушистых зарослей выскальзывали покрытые радужным опереньем питоны; они обивались вокруг каменных столбов и, цепляясь за мельчайшие неровности, поднимались до самого верха — видимо, исключительно ради собственного удовольствия, так как охотиться на крутом пике было не за кем. Достигнув верхушки, они свивались в упругие кольца и бросались вниз, на зонтичные кроны деревьев. Люди, плавно кружа на своих крылатых конях, никак не могли оторваться от захватывающего зрелища, но старого крэга, которому предназначалась эта планета, переливы красок на пернатых гадах в восторг не привели. Он облюбовал себе несколько острых пиков и потребовал выжечь лес до самого горизонта, дабы копошение пресмыкающихся не потревожило его покоя.
Пожеланье крэга — закон, и дружинники было ринулись за портативными огнеметами, когда властный жест эрла остановил их.
Он уже по-прежнему сидел в седле, но до сих пор никто не услышал ни единого слова, которое вырвалось бы из его изуродованного горла. Не сказал ничего он и сейчас, а просто спустился к маку, приземлившемуся на опушке, и вскоре вынес оттуда две седельные сумки, набитые дымовыми шашками. Это оказалось веселым делом — гнать пернатых змеев и непернатое зверье из обреченного леса, и приунывшие было дружинники натешились всласть, с гиканьем и свистом гоняясь между ощерившихся каменных пиков, облюбованных крэгом. До самого захода солнца звездная дружина на деле постигала истину, что бескровные подвиги веселее и достойнее кровавых.
Когда же солнце село и быстро спустившаяся темнота сделала дальнейший гон бессмысленным — да, собственно, гнать-то уже было некого, — только тогда лес запылал. Черно-алое море огня, из которого выступали редкие торчки скал, разливалось все шире и шире, то взрываясь снопом искр, то покрываясь змеящимися струями дыма. Таким образом приказ крэга был уже выполнен, и дальше следить было не за чем, но оторваться от величественного зрелища было просто невозможно, и крылатые всадники парили в ночном небе, то уходя к волнистым облакам, то спускаясь так низко, как только могли выносить опаляющий жар их кони, опьяненные этой огненной скачкой.
И вдруг… Все случилось слишком быстро, чтоб кто-нибудь смог вмешаться — хотя и вмешиваться-то было не во что; но на одном из таких виражей вороной конь Асмура, направленный властной рукой своего седока, резко пошел вниз и вдруг камнем упал в дымный, еще не успевший вспыхнуть куст.
Дружный вопль ужаса пронесся над пылающим лесом, и все девять оставшихся всадников тут же повернули коней, чтобы броситься следом, но вороной уже взлетал, подрагивая опаленными крыльями, и, сделав над пожарищем последний круг, направился к стоянке мака.
Когда неуспевшие оправиться от этого потрясения дружинники опустились на стоянку, Асмур как ни в чем не бывало сидел возле маленького водопада, и вороной подставлял под его искрящиеся от лунного света струи свои многострадальные крылья.
Никто не посмел задать ни одного вопроса — да в этом и не было необходимости: командор был волен поступать как ему вздумается. Тем более, что юноши поняли, какая причуда толкнула в огонь их предводителя: рядом с ним на черных камнях лежал ворох радужных перьев. Мона Сэниа… Ради нее любой из них пошел бы и не на такое безрассудство.
И этот поступок их командора, вырвавшего из моря огня сказочный подарок для своей невесты, возвел их отношение к нему в ранг поклонения.
Но оказалось, что это — только начало. Бес удальства вселился в воинственного эрла, да и планеты, как на грех, все оказывались с изъяном, и приходилось прикладывать немало трудов и смекалки, чтобы удовлетворить и капризы крэгов, которым всегда что-нибудь мешало, и… неожиданные причуды командора.
Возле Уздечки больше не было планет — пришлось отправляться к дальним звездам, Седлу и Крестцу. Ближе, правда, располагалось одно солнышко — в «Анналах» оно носило интригующее название «Чакра Кентавра», поскольку на старинном рисунке, изображавшем Кентавра, это светило размещалось как раз в середине лба, между глазами. Кому-то из молодых дружинников пришло на ум безобидное прозвище — Звездочка-Во-Лбу.
Но странное дело — за полторы тысячи лет побывать здесь было некому, и тем не менее название этого солнца было перечеркнуто жирным крестом, а на полях страницы угрожающе значилось: «звездные волки!»
Командор не нуждался ни в советах, ни в одобрении — он попросту оставил Звездочку-во-лбу в стороне и пошел прямо на Крестец.
Оставалось еще четыре крэга — из них больше всего опасений внушал отцовский поводырь Дуза — привыкший к тропической жаре, он отказывался от одной планеты за другой, предоставляя свою очередь тем, кто был не столь теплолюбив. Целая цепочка планет голубоватого мерцающего Крестца тоже не обещала быть жаркой, к тому же большинство было просто газовыми гигантами. Одна, правда, даже напомнила звездным скитальцам их родной Джаспер, но на дневной стороне, постоянно обращенной к светилу, самое удобное для обитания место было занято какой-то доисторической башней, очевидно сооруженной космическими пришельцами с других планет.
Башня не помешала бы крэгу и даже, наоборот, служила бы ему превосходным насестом, если бы не одно обстоятельство: уходя своей вершиной в грозовые облака, она служила превосходным коллектором для собирания атмосферного электричества, и время от времени с венчающего ее шара срывалась мощнейшая молния, бившая во что попало — и, естественно, даже почти бессмертному крэгу отнюдь не улыбалось попасть под испепеляющий разряд.
Но пожелания крэга — закон, а ему возжелалось стереть злополучную башню с лица планеты. Сделать это было бы чрезвычайно легко, если только не соваться туда, где на желтом песке виднелось множество стеклянистых пятен от ударов супермолний. Но Асмура словно манили к себе эти границы реальной опасности; вот он приблизился к мертвой зоне, отсчитывая интервал между молниями по ударам собственного сердца, но в последний миг четкий контур его фигуры размылся и исчез — эрл предусмотрительно ушел в н_и_ч_т_о_.
И в ту же секунду громовой удар потряс воздух, и на том месте, где только что виднелся темно-лиловый силуэт, ослепительный столб огня врезался в землю.
Молодежь, не смея приблизиться без зова, замерла в недоумении. Асмуру достаточно было, ничем не рискуя, точными движениями направить зарядные шашки к самому подножью башни, перебросив их через _н_и_ч_т_о_, как в свое время — магические игральные карты.
Но ему, казалось, нравилось искушать судьбу, и, точно рассчитав момент относительной безопасности, командор появлялся в самом опасном месте — у подножья башни; возникая всего на какую-то долю секунды, там обрисовывалась и тут же исчезала гибкая проворная фигура в темном полускафандре, умело размещавшая заряды возле башенных опор. Да, он умел сочетать удаль с осторожностью, их командор, и вскоре все было сделано. Дрогнула земля, и десять коней разом заржали, пригибая головы, а башня, изламываясь и прочерчивая в грозовом небе медленную дугу, уже падала, рассыпаясь ржавым прахом.
И седьмой крэг умчался к дымящимся руинам, покинув корабль.
Осталось трое.
Нужно было перебираться на следующую планету, но Асмур и здесь помедлил — вернулся на то место, где его чуть было не испепелил сокрушительный разряд, и набрал в горсть мелких стекловидных осколков — память о грозной игре.
И — еще один перелет.
Четвертая Крестцовая была более чем прохладна и, как того боялись все дружинники, снова не удовлетворила теплолюбивого дузова крэга. Зато Сорк получил от командора простейший приказ — спустить воду из горного озера, расположенного в самой середине причудливо изогнутого полуострова. Что-то трепыхалось в его глубинах, изредка показываясь на поверхности, безобразное и неповоротливое.
Взорвать перемычку, отделявшую озеро от морского залива, было делом нескольких минут; вода устремилась в новоявленное русло, постепенно обнажая покрытые тиной откосы. Когда же ее осталось не более, чем в человеческий рост, в ней панически забились головастые сине-зеленые твари. Кружа над постепенно понижающейся поверхностью воды, Асмур всматривался в глубину мелеющего озера, словно пытаясь понять, чем же не угодили очередному претенденту на собственную планету эти безгласые туши, с которыми во все оставшиеся годы крэгу не придется ни разу столкнуться, с позволения сказать, лицом к лицу? Крэги никогда не проявляли бессмысленной жестокости и, возможно, снизойди они до переговоров с людьми — можно было бы договориться до более милосердного варианта.
Но дискуссии с крэгами исключались, и оставалось лишь положиться на собственную находчивость, которая смогла бы облегчить судьбу ни в чем не повинных обитателей озера.
Многие из них были крупнее джасперианского коня; бесформенная голова с необъятной круглой пастью и пучком гибких усов над нею переходила в конусообразное тело, окаймленное двумя полотнищами плавников. Водяное чудище напоминало помесь гигантского бычка со скатом, и было в этих неповоротливых тушах что-то бесконечно безобидное и жалкое. С другим командором и сами юноши, возможно, устроили бы сейчас охоту на иноземных тварей, — то ли от азарта, воспитанного многочисленными турнирами, то ли ох стремления как можно скорее закончить затянувшийся поход и вернуться, наконец, на желанный Джаспер. Но здесь все они одновременно почувствовали жалость к этим беспомощным существам, обреченным на бессмысленную гибель.
Командор взмахнул плащом и широким жестом указал туда, где уступы гор спускались к морю. Но юноши уже поняли, они улавливали каждую мысль своего предводителя даже не с полуслова, а с полужелания; и когда он, снизившись до самой воды, привстал на стременах и, оттолкнувшись от шеи коня, перескочил на хребет неповоротливому земноводному, все последовали его примеру, и десять черных лоснящихся тварей вместе с людьми на их спинах растаяли, уйдя в _н_и_ч_т_о_, словно их и не было, чтобы через долю секунды очутиться уже в морской безбрежной стихии, где они были надежно укрыты от зоркого взгляда крэга.
Это была добрая охота, и дружинники, мокрые с головы до ног, состязались друг с другом в скорости, а воды в бывшем озере уже совсем не осталось, и к последним страдальцам пришлось брести по колено в тине, и началось новое состязание — погоня за детенышами, которые старались зарыться в ил, но тут в дело вмешались кони, зараженные порывом людей, и их чуткий нюх и сильные копыта помогли откопать несколько десятков препотешных головастиков; когда же последний был спасен, все, не дожидаясь приказа, ринулись в воду — смывать грязь и тину, которая делала их похожими на водяных духов, и только эрл Асмур, первым окунувшийся в воду, не снимая, как всегда, скафандра, стоял теперь на страже, зорко оглядывая берег и небо с прибрежного утеса. Да, если подумать, странный получался поход… Как будто бы и битвы были, и опасности, и трудности — и в то же время всех не покидало какое-то упоение подвигами, всегда добрыми; перелетами, всегда удачными; забавами, всегда благородными. Судьба была благосклонна к ним, словно позабыв о зловещих ночных козырях. И была во всем это какая-то ненасытность, неутоленность, как будто нужно было натешиться на всю жизнь, которая больше никогда не будет ни такой радостной, ни такой беззаботной, ибо самую тяжкую долю всегда нес на себе их командор. Вот и сейчас: они плещутся, гоняясь за морскими жирными угрями, а он застыл, как изваяние, на прибрежной скале, и белый гибкий ус спасенного чудовища намотан на лиловую перчатку. И в этом была какая-то странность: не было планеты, с которой благородный эрл не унес бы подарка для своей царственной супруги, какой бы дорогой ценой этот сувенир ни доставался.
И в то же время не похоже было, что он спешит вернуться на Джаспер.
Мокрые и счастливые, уносящие в волосах кристаллики соли, юноши вскакивали на коней и возвращались на корабль.
Последним покинул берег эрл Асмур, сквозь темное лицевое стекло скафандра проследивший полет ширококрылой птицы, брезгливо сторонящейся кромки воды, словно угадывая там, в глубине, бесшумное скольжение спасенных чудищ.
Перелет оказался счастливым: планета, на которую они опустились, прожаренная солнцем и окутанная плотными сернистыми газами, не позволила бы людям сделать ни единого вдоха — но тем не менее привередливый крэг, за которого так боялся Дуз, благосклонно кивнул в знак согласия и навсегда покинул мак, напустив в дузову каюту нестерпимой вони. Да, неисповедимы причуды крэгов… Но теперь остался только один — поводырь матери командора, Тариты-Мур. И последняя звезда созвездия — Седло Кентавра.
10. ЗВЕЗДОЧКА-ВО-ЛБУ
У Седла было только три планеты, и две из них пришлось обойти стороной: они были густо заселены какими-то разумными существами. Может быть в чьей-то душе и шевельнулось завистливое воспоминание о тех далеких временах, когда люди Джаспера свободно путешествовали по необозримым звездным просторам, исследуя чужие миры и радуясь даже отдаленному намеку на разум… Теперь для этого не было ни времени, ни людей.
Исполнить сыновний долг — и скоренько возвращаться домой, где и без того слишком много забот. Зеленый Джаспер, который когда-то называли веселым Джаспером, не мог позволить своим сыновьям покидать отчий кров надолго.
Поэтому высадились прямо на третью планету, молчаливую, с жиденькой атмосферой и громадной, дымной впадиной, где чадили естественные выходы горючего газа. Здесь, похоже, жизнь и не думала зарождаться, тем не менее крэг, поднесенный к краю этого древнего метеоритного кратера — самого теплого уголка планеты — брезгливо отвернулся и скрежещущим голосом, каким говорят с людьми крэги (никто не слышал, чтобы они переговаривались между собой) произнес:
— Камни.
Все недоуменно переглянулись: камни, как камни. Крэг вроде бы не отказывался от планеты, но что значили его слова — камни следует убрать? Уничтожить? Вышвырнуть в космос?
Асмур бережно отнес материнского поводыря обратно на корабль и осторожно спустился в дымную долину. Здесь, на порядочной глубине, кислорода хватало, чтобы поддерживать горение естественных факелов, но чтобы жить… Как правило, крэги не терпели только живых существ. Почему же тогда Тарита-крэг невзлюбил какие-то мертвые камни? Они попадались то тут, то там, и во всей долине их насчитывалось около сотни, но их на удивление правильная прямоугольная форма наводила на мысль, что это — огромные кристаллы. Асмур провел по поверхности одного — под слоем пыли, действительно, блестела изумрудно-зеленая грань исполинского берилла. Следующий отливал лиловато-сиреневым аметистом, а чуть дальше чернел турмалин. Чем они пришлись не по душе крэгу?
Но вопрос был праздным: пожелания крэга — закон. Взмахом руки командор созвал дружину, и все вместе они попытались поднять или сдвинуть с места самый скромный их этих кристаллов — поставленный на малую грань, он достал бы Гаррэлю до груди.
Однако камень не сдвинулся с места.
Рукояткой десинтора Асмур попытался отбить уголок — камень был неуязвим. Острие кинжала о него тупилось, плазменный разряд не оставлял на поверхности никакого следа.
Дружинники переглянулись. Борб пожал плечами и отправился на мак за переносным аннигилятором, а настойчивый эрл тем временем перепробовал на зеленом кристалле все возможные калибровки своего десинтора. Борб, волоча на загривке тяжелый агрегат, уже возвращался от корабля, как вдруг до командора донесся его изумленный крик:
— Древние боги! Они же движутся!..
И действительно — сиреневый каменный брус медленно приближался у Асмуру, словно его толкала невидимая сила. Эрл сделал знак звездным дружинникам, и они расступились. Теперь в тишине, нарушаемой только потрескиванием пламени, отчетливо был слышен скрип песка — два камня, зеленый и лиловый, ползли навстречу друг другу, наращивая скорость, а между ними стоял Асмур.
— Берегись! — крикнул Гаррэль, но командор опередил его предостережение и, оттолкнувшись от сухой почвы, резко отпрыгнул в сторону — в тот же миг раздался оглушающий грохот, и радуга мельчайших осколков взметнулась над тем местом, где две монолитные глыбы столкнулись с такой силой, что обе рассыпались на куски.
— Эрл Асмур!..
Еще два камня сшиблись с орудийным грохотом, и снова Асмур, даже не оглянувшись, а повинуясь какому-то инстинкту, успел отскочить. А слева и справа, набирая скорость, двигалась новая пара нападающих — теперь уже можно было отступать в сторону без паники, потому что глыбы подчинялись простейшим правилам игры: во-первых, приходили в движение только те, между которыми оказывался непрошеный пришелец; а во-вторых, ползли они только по прямой, переходя в стремительное скольжение только тогда, когда между ними оставалось не более шести шагов.
Эрл нетерпеливо махнул рукой — всем отойти как можно дальше, чтобы люди или ползучий дым не помешали ему вовремя заметить надвигающуюся опасность. Быстро темнело, и красноватые блики естественных факелов, отражаясь в бесчисленных осколках уже разбитых камней, рассыпали кругом мириады разноцветных искр, придавая этой странной игре вид экзотического представления. Теперь Асмур сам выбирал себе нападающих, становясь между выбранными кристаллами и хладнокровно наблюдая, как они с тупой размеренностью набирают мощь для смертельного удара, не предполагая в противнике большей проворности, чем имели сами. И, недоступные воздействию человеческого оружия, погибали, разрушая сами себя…
Грохот и снопы каменных брызг прекратились внезапно — оглянувшись по сторонам, Асмур вдруг с удивлением увидел, что в долине не осталось ни одного целого камня. Мелкие осколки, по которым нельзя судить о строении загадочных монолитов… Вот и еще одна загадка чужого мира осталась неразгаданной… Он медленно пошел к кораблю, нагибаясь и подбирая сверкающую самоцветную мелочь, и Гаррэль, с мучительной тревогой глядевший ему вслед, мог бы прозакладывать голову, что с каждым шагом командор все неохотнее подымается по склону.
Он не хотел возвращаться на Джаспер!
Эрл Асмур добрался до края кратера, где мерцающей нездешней громадой высился их девятигранный мак. Не оглядываясь, открыл раздвижной люк и исчез внутри. Его спутники, не шевелясь, следили за его движениями — то ли всем передалось настроение Гаррэля, то ли они сами что-то почувствовали…
— Пусть он проститься с Тарита-крэгом, — прошептал Эрм.
Они ждали, глядя в безлунное небо — белое крылатое существо, как бы быстро оно ни поднялось, не могло остаться незамеченным. Но время шло, а крэг не появлялся. От дыма и напряженного вглядывания в темноту глаза начали слезиться, что-то мелькало и чудилось — как будто над кораблем расправило крылья нечто темное и бесплотное, как сама ночь. Если бы в этом дымном аду могли водиться птицы, они решили бы, что видят сумеречного грифа; если бы этот мир населяли неведомые твари, то можно было бы угадать очертания гигантской летучей мыши. Если бы по этой скудной каменистой почве ступала до них нога джасперианина, то они решили бы, что в беззвездной ночи взвился стремительный черный крэг.
Но здесь не было ни грифов, ни крэгов. Дальнейшее ожидание становилось бесполезным, и все, движимые странным предчувствием, заторопились к маку.
Стенки центрального помещения были медово-прозрачны, и в кресле, уронив на пол толстую книгу «Анналов», полулежал эрл Асмур — совсем как в тот вечере, когда они вернулись после охоты на кентавров. Сколько с тех пор утекло времени, сколько чужих миров они повидали — и за все эти дни они не услышали от своего командора ни единого слова.
Страшная догадка перехватила дыхание, и Гаррэль понял, почему прославленный воин не торопится домой: он потерял дар речи!
Но в этот миг, опровергая его непрошенную догадку, эрл Асмур поднял голову, как всегда, защищенную непрозрачной пленкой скафандра, и рука в темно-лиловой перчатке инстинктивно, как от боли, сжала горло:
— Тарита-крэг не согласен, — послышался очень тихий, хриплый до неузнаваемости голос.
Рука в перчатке опустилась и легла на книгу, указывая на ту самую звезду, которую они обошли стороной — запретную Чакру Кентавра.
Ту самую, которую кто-то любовно назвал Звездочкой-Во-Лбу.
К ней подходили неторопливо, заранее отметая неподходящие планеты, а таких было большинство: или чересчур жаркие, или слишком большие, а одна, к прискорбью, была заселена достаточно развитыми гуманоидами, чьи города гроздьями огней расцвечивали ночную сторону. Оставалась четвертая планета, такая же каменистая и безлесая, с разреженной стылой атмосферой; она напоминала ту, от которой Тарита-крэг уже один раз отказался. Командор подвесил мак в безвоздушном пространстве, давая крэгу возможность полюбоваться на вакантное обиталище со стороны. Дружинники, уже насмотревшиеся на самые разнообразные миры и вбили, и издали, бесцельно слонялись по соседским каютам, готовые к возвращению домой — и всеми силами скрывавшие эту готовность: и только Скюз, меткий стрелок, разглядывал не планету, а млечный поток чужих светил, словно высматривая себе подходящую цель.
— Командор! — внезапно разнесся по всем отсекам мака его голос. — Мы кого-то догоняем!
Перепрыгнув через коня, по своему обыкновения разлегшегося посреди каюты, Асмур кинулся в малую каюту, откуда донесся призыв. Стена, которую Скюз почти всегда держал в состоянии кристальной прозрачности, была обращена не на красновато-бурую поверхность планеты, а в черноту межзвездного пространства, и оттуда, как бы рождаясь на глазах, медленно всплывал какой-то причудливый кокон, который в первый миг все приняли за живое существо, потому что на нем отчетливо виднелись многочисленные шипы, хвосты и глаза. Загадочное нечто было лишь немногим менее их собственного мака, и когда оно разинуло круглую пасть, Скюз чуть было не метнулся к пульту аннигиляционной пушки, но вовремя удержался, потому что приказа приготовиться к атаке не последовало.
Командор молча наблюдал.
И тут из черного круглого зева того, что было все-таки не чудовищем, а только гнездом, медленно выползли два существа. Покрытые странной белесой шерстью, отливающей металлом, каждый с единственным красновато-фосфорическим глазом, они мерно покачивались возле своего жилища, сцепившись голыми хвостами, словно купались в черной ледяной пустоте. Мертвящей жутью веяло от этих циклопов, и непонятно было, что же внушает такой ужас — волчье мерцание глаза, настороженное шевеление смертоносных клешней или чуткий, подрагивающий хобот, готовый, казалось, мгновенно высосать кровь из своей добычи.
Каждый почувствовал, что перья на его крэге встают дыбом.
И в этот миг за спиной прозвучал властный голос Тарита-крэга:
— Звездные волки! Уничтожьте их!
Дружина разом отпрянула от окна, готовая ринуться выполнять столь естественный приказ, но поднятая рука командора остановила их.
Эрл Асмур, как и в первый раз, невольно поднес руку к горлу, и голос его прозвучал еще тише, но за немощью звуков стояла такая несокрушимая воля и столь укоренившаяся привычка повелевать, что не было на корабле ни единого человека, который посмел бы ослушаться могущественного эрла, когда он произнес:
— Захватить живыми.
Тарита-крэг, которому перечили впервые в жизни, возмущенно захлопал крыльями и взлетел к потолку командорской каюты, словно готов был покинуть мак прямо сейчас, а потом, гневно щелкая когтями, с которых сыпалась шелуха, ринулся к себе в алтарный шатер. Если бы вся дружина не была занята поспешным натягиванием скафандров, может быть, кто-нибудь и заметил бы, что крэг словно хочет сказать что-то — и не решается.
Один только Гаррэль вдруг на миг остановился, но его товарищи, уже одетые и застегнутые наглухо, торопливо выметывались из мака навстречу неведомым и отвратительным хищникам, и он заторопился им вслед, не подозревая о том, что с этой минуты круто меняется судьба не только командора со всем экипажем, но и всего Джаспера.
СЫНОВЬЯ ЧАКРЫ ЧАСТЬ ВТОРАЯ, КОТОРАЯ УЖЕ НАЧИНАЕТСЯ, ХОТЯ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ
1. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Что-то тяжелое шлепнулось рядом на пол, послышался скрежет, потом на долю мгновения как будто раздвинулся театральный занавес, и в проеме означила медовая желтизна, в которой плавало изваяние дракона; что-то мелькнуло, но слишком поспешно, чтобы в нем можно было распознать человека или животное. И занавес сомкнулся.
Навалилась абсолютная темнота.
Юхан полежал еще несколько минут, потом осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, перевалился со спины на бок и включил нагрудный фонарь. Огляделся.
Полукруглая стена, переходящая в потолок, а с другой стороны — крупноячеистая решетка, превращающая этот сегмент каюты в темницу. И на полу — второе тело в скафандре, лицом вниз. Юхан подполз, приподнял неподвижное тело за плечи, легонько встряхнул. В шлемофоне послышалось сдержанное мычание.
— Юрг! — позвал он шепотом. — Юрген!
Глаза под прозрачным щитком приоткрылись, и Юхан поспешно выключил фонарь.
— Больно, Юрик? — спросил он участливо.
Вместо ответа тот, кого он называл Юргеном, сел и тоже включил свой фонарь.
— Перебьюсь, — ответил он, морщась. — Драться в гостях при погашенной иллюминации — дело дохлое.
— Было бы с кем, — вздохнул Юхан. — Впрочем, тут что-то нам п-подкинули…
— Где? — насторожился Юрген, шаря световым лучом по полу. — Не оказалось бы взрывчаткой!
В световом круге заискрился морозным инеем какой-то кирпич. Две головы в шлемах разом нагнулись над ним — это был здоровенный брус хорошо промороженного мяса.
— Бред какой-то, — оценил ситуацию Юрген. — Не трогай, Юхан, вдруг это человечина… Перейдем-ка к интерьеру.
Решетка из прозрачных прутьев в палец толщиной была явно раздвижной, но никакие усилия не позволили сдвинуть ее ни на сантиметр. В крупные ячеи прошла бы рука, но для этого нужно было снять скафандр. К тому же, никакого замка с той стороны видно не было. Зато справа, возле стены, к решетке была прикреплена поилка, наполовину наполненная прозрачнейшей водой, а над поилкой виднелась дверца — по-видимому, отсюда и был заброшен мороженный деликатес. И чем дольше они глядели на откидную дверцу, небрежно закрученную проволокой, тем больше приходили в недоумение.
Дверца была не больше форточки, но мало-мальски тренированный человек мог пролезть в нее без особого труда.
— А э-эти с прииветом, — пробормотал Юхан, как всегда, от волнения впадая в удвоение гласных. — Замууровали, называется!
Юрген посмотрел на часы:
— Так. Запас кислорода — на три часа. Из них два пятнадцать уже прошли. Я снимаю скафандр. Ты — только по моей команде.
— Это почемуу же?…
— Потомуу, что я — командир космической станции!
— Так где та станция…
Гражданин Финляндии, полковник военно-воздушных сил Юхан Туурсвалу, был человеком дисциплинированным, но обожал флегматично препираться, опровергая легенду о немногословности скандинавов. Это у него сочеталось органично.
Сейчас возражать дальше не имело смысла, потому что командир уже расстегнул скафандр.
Снял шлем.
— Дышится, — сказал он удивленно. — А ну подсади…
Оставшись в тренировочном костюме и толстых шерстяных носках, он двигался непринужденно и бесшумно и детскую задачку с форточкой легко мог бы решить и без помощи бортинженера. Очутившись по ту сторону решетки, он осторожно подкрался к занавеске, приоткрыл щелку и заглянул в слабо освещенное помещение. Несколько секунд он стоял, окаменев от изумления, потом тихо повернулся и махнул рукой — разоблачайся, мол, и поживее!
Юхан, настороженно наблюдавший за каждым его движением, мог бы поклясться, что на лбу командира выступили крошечные капельки пота. Он в один миг скинул скафандр, подтянулся на руках и с обезьяньей гибкостью, не утерянной к тридцати семи годам, выскользнул наружу и встал плечом к плечу со своим командиром.
Юрген осторожно повернул голову и посмотрел на своего бортинженера с надеждой: может быть, его самого обманывали глаза и все, открывшееся им — плод воображения? Но у Юхана тоже медленно отвисала челюсть — значит, не чудилось.
Мало того, что у противоположной стены спал, прикрыв морду крылом, иссиня-черный дракон; но на фоне это темной громады на пестрых подушках, небрежно брошенных прямо на ковер, мирно почивало самое пленительное создание, какое только могло возникнуть в воображении земного мужчины.
— Сатана перкеле! — прошептал Юхан, исчерпывая этим весь свой арсенал крепких выражений.
Он силился описать свои чувства в менее сильных словосочетаниях и — не мог: впервые в жизни у него буквально отнялся язык. Собственно говоря, ничего удивительного, если учесть всю вереницу свалившихся на них приключений: работали себе на околомарсианской станции, вышли по графику в открытый космос, и на тебе — навалились какие-то космические пираты, повязали по рукам и ногам, придушили малость, затащили, надо полагать, в свое разбойничье логово, а тут…
Чтобы все-таки как-то выразить свое отношение к увиденному, Юхан перешел на язык жестов и, закатив глаза, красноречиво поднял большой палец, что, по-видимому, должно было означать: «Если сия особа — предводительница пиратов, то я — руками и ногами за комический разбой!»
Командир марсианской орбитальной станции «Фобос-23» летчик-космонавт Юрий Брагин, ценитель женской красоты и человек стремительных решений, что тоже в нем ограниченно сочеталось, показал в ответ два пальца и выразительно пожал плечами, что должно было означать: «Вот уж не ожидал от отца двоих детей!» — а затем повернул большой палец книзу, что со времен функционирования Колизея ничего хорошего не предвещало.
Сейчас же это означало одно: берем заложника.
Но не успели они сделать и одного шага, как сверху, из-под потолка, на них обрушилось что-то ослепительно лиловое, бьющее мягкими крыльями и уже нацеливающееся изящным клювом прямо в лицо. Обычного человека такое нападение довело бы до шокового состояния, но реакция натренированного космолетчика сработала прежде, чем разум смог оценить всю несостоятельность подобной атаки, и огромная блистательно-аметистовая птица через секунду уже самым непочтительным образом была зажата у Юхана под мышкой. Теперь инициатива бортинженера оказалась в какой-то степени скованной, потому что правой рукой приходилось удерживать трепыхавшегося фламинго, и Юрген, опасаясь, что эта пусть даже почти бесшумная возня может несвоевременно разбудить хозяйку дома, ринулся вперед, одним броском перекрывая несколько метров, потому что после ее пробуждения счет идет уже на доли секунды. Дракон выпростал из-под крыла лошадиную голову и возмущенно топнул копытом; лицо спящей дрогнуло, и она, не открывая глаз, легко подалась вперед, отталкиваясь от подушки и гораздо быстрее, чем мог предполагать землянин, нашарив эфес лежащей рядом шпаги, — но в следующий миг Юрген одной рукой уж крепко держал ее за плечи, а другой зажимал рот:
— Pardon, — пробормотал он машинально.
При звуках его голоса она вздрогнула и замерла, но в этой неподвижности не было притворства затаившегося животного, — нет, так замирают, когда напряженно ждут новых звуков, стараясь не пропустить их; у него возникло достаточно нелепое предположение — может быть, в довершение всей невероятности происходящего, она еще и понимает его?
— Thank you, — шепнул он, едва шевеля губами, чтобы показать, что он благодарен ей за отказ от сопротивления — и тут же услышал серебряный звон: шпага выпала из разжавшейся руки и скользнула на пол; на всякий случай он инстинктивно подхватил оружие, опустив ее руки — и тут же они легко метнулись к его лицу, и он почувствовал беглое прикосновение ее пальцев, как это делают слепые, но в этих движениях не было любопытства, нет, здесь сочеталась неуверенность и страсть, жадность и благоговение… И лицо ее, узкое смуглое лицо с закрытыми глазами — оно было обморочно напряженно, и только губы под его левой рукой, зажимающей рот, непрестанно шевелились, как будто она быстро-быстро повторяла одно и то же; он даже напрягся, стараясь уловить это слово, — и вдруг с безмерным удивлением понял, что она целует его ладонь.
Его рука дрогнула и опустилась, и в тот же миг ее губы очутились самого возле его лица, едва ощутимо касаясь его, они жарким и влажным контуром очерчивали каждую его линию, безошибочно угадывая и изгиб бровей, и легкую горбинку носа, и по мере этого узнавания медленно раскрывались глаза — огромные, сияющие, гиацинтово-лиловые, как чароит, и неподвижно глядящие в одну точку, как у слепорожденных…
— Асмур… — рождалось, как заклинание, возле самого его лица. — Асмур… Асмур…
Он не знал, приветствие ли это или имя, земной или неземной язык звучит сейчас перед ним, но инстинктивно чувствовал одно: происходит какая-то ошибка, горькая и жестокая, и он — ее виновник. Ему нужно было как-то вмешаться, но он понимал, что это будет все равно что ударить по этому прекрасному слепому лицу.
— Асмур! — вдруг крикнула она с нетерпеливым отчаянием, и ее пальцы с неженской силой вдруг рванули ворот его костюма, так что брызнули во все стороны звенья молнии, и черные волосы скользнули по его груди — замерев, она слушала, как бьется его сердце…
И в тот же миг сиреневая птица, воспользовавшись полным ошеломлением Юхана, вырвалась у него из-под мышки и, самоотверженно ринулась к своей хозяйке, точным движением спикировала ей прямо на плечи, прикрыв голову и руки девушки пушистым фламинговым покрывалом. Сияющие глаза, обрамленные розовым опереньем, мгновенно ставшие зрячими, жадно ищущими, вскинулись на Юргена, и за какую-то секунду только что счастливое лицо исказилось целой гаммой совершенно противоположных чувств; они не чередовались, сменяя друг друга, а наслаивались — отвращение, разочарование, смертельный ужас; эмоциональный взрыв, который мог быть порожден только безумием, оказался настолько силен, что сменился даже не беспамятством, каким-то окаменением — на руках у Юргена лежал сведенный ужасом манекен.
— Да помоги же мне, Юх! — в полной растерянности крикнул командир, подготовленный к любым экстремальным ситуациям, кроме подобной.
— Ппо-моему, — пробормотал Юхан, начавший удваивать не только гласные, но и согласные, — у мадмуазель температура…
Юрген наклонился над девушкой и сделал то, что было в данный момент самым естественным — дотронулся губами до ее лба.
Тем не менее она вздрогнула, как от удара электрического тока.
— Точно, — с некоторым облегчением сказал командир. — Под сорок. И сделай милость, убери этого розового гуся…
— Пошел, пошел, — Юхан взял крылатое существо за шкирку, собираясь вторично проявить по отношению к нему полнейшую непочтительность. — Тут не до тебя — видишь, человек болен!
«Гусь» вскинул голову и хрипло, но членораздельно прокричал какое-то слово.
— Попугай… — разочарованно пробормотал Юхан. — Юрг, берегись!
Стены комнаты как будто лопнули сразу в девяти местах, и в этих разом распахнувшихся отверстиях показались люди, вооруженные самым разнохарактерным оружием — от рапир до пистолетов, весьма напоминающих лазерные. И у каждого из них на плечах, положив клюв на голову, сидела диковинная птица.
Изумление, ужас, восторг — самые противоречивые чувства отразились на их лицах, заставив землян заподозрить, что и эти девять тоже безумны; но смятение это было столь велико, что, пожалуй, для его причин одного появления здесь экипажа марсианской орбитальной станции «Фобос-23» было маловато.
Наконец, восемь юношей, соскочив на ковер, благоговейно приблизились к смуглой леди и, преклонив колено, замерли в самой почтительной позе, не обращая на землян ни малейшего внимания; и только девятый, самый юный, носивший на плечах что-то пестрое, напоминавшее курочку-рябу, ни секунды ни раздумывая бросился на Юргена с обнаженной шпагой.
Попытка была предпринята с явно негодными средствами — экс-чемпион военно-воздушной академии по фехтованию, Юрий Брагин несколькими незамысловатыми приемами выбил оружие из рук юнца, а Юхан, экс-чемпион начальной школы по примитивным уличным дракам, поставил ему подножку.
Следующего претендента не нашлось. И вообще окружающим было явно не до землян — здесь и без них происходило что-то из ряда вон выходящее, граничащее с абсолютно невероятным.
Несомненно было только одно: виновницей общего ошеломления была именно она, смуглая дама.
(Здесь кончается первая часть, хотя вторая уже давно началась).
2. СЭНИА-ЮРГ
Она открыла глаза, медленно обвела взглядом коленопреклоненных воинов дружины — явились-таки без спроса! Впрочем, теперь все равно. Подошел к концу славный поход, и последняя, запретная звезда Костлявого Кентавра оказалась для них счастливой — Тарита-крэг согласился остаться на четвертой планете, и седые крылья унесли его в беспредельность красноватых сухих равнин. Сыновний долг был исполнен. Джаспер ждал. Надо было возвращаться. Она перебрала все возможные причины, которые позволили бы ей задержаться вдали от родины, и не нашла ни одной убедительной. С каждой планеты она брала малую дань — что-нибудь на память, и даже с последней проклятой кем-то звезды ее корабль унес ни мало, ни много — пару страшных звездных волков, о которых умалчивали даже легенды.
Они совершили последний перелет — назад, к зеленому Джасперу, и теперь их мак медленно плыл возле родной планеты, готовый опуститься на серые, иссеченные временем плиты Звездной пристани. Она позволила своей дружине — а на самом деле, конечно, себе, и только себе — последнюю задержку, якобы для того, чтобы привести себя в надлежащий вид перед возвращением пол отчий кров; она хотела отпустить их, так и не раскрыв тайны, но в горестных мыслях забылась и задремала, чтобы проснуться, почувствовав прикосновение любимых рук.
Если бы не крик ее крэга, никто из дружинников не посмел бы ворваться в ее покои и увидеть то, что она хотела сохранить в тайне. Но — не получилось, и она одна в этом виновата. Неженское это дело — водить дружину в поход, потому что хватает сил и на тяготы, и на подвиги, и даже на постоянный, пусть священный, но все-таки обман; но вот устоять, когда вдруг забрезжит перед тобой иллюзорное, как будто навсегда потерянное счастье — это не по женским силам…
Одним из тех жестов, которым никто и никогда не мел перечить, она отвела поддерживающие ее руки и медленно запахнулась в бархатный плащ, служивший ей одеялом. Поднялась во весь рост. Девять пар глаз смотрели на нее снизу, как на воплощение всех древних богов, вместе взятых.
— Наш совместный путь закончен, — проговорила она своим обычным полнозвучным голосом. — Под нами Джаспер. Сейчас мы спустимся, и вы покинете корабль, бывший вашим домом. Все это время вы с честью несли имя дружины Асмура, и я ничем не могу отблагодарить вас за это. Единственное, что я смогу сделать для вас — это ответить, если вы спросите. Спрашивайте!
С минуту стояла напряженная тишина — каждый хотел спросить, и никто не решался. Наконец, поднялся с колен Скюз, лучший стрелок дружины.
— Ответь нам, принцесса Сэниа…
— Я больше не принцесса, — прервала его мона Сэниа. — Я стала женой эрла Асмура и порвала родство с королевским домом Джаспера.
— Ответь нам, принцесса, — почтительно повторил Скюз, несравненный стрелок, — где эрл Асмур, наш предводитель?
— В земле Серьги Кентавра, первой планеты, на которую вы опустились, — ответила мона Сэниа недрогнувшим голосом. — Рана, нанесенная ему стрелой кентавра, была смертельна, и я приняла его последний вздох.
Принцессы дома Джаспера не оплакивают своих мужей при посторонний, и на прекрасном смуглом лице не дрогнула ни единая черта.
— Разреши спросить тебя, принцесса Сэниа, — выступил Дуз, хозяин фиолетового крэга, — где в таком случае крэг твоего супруга?
— В огненной долине Седла Кентавра, — отвечала она. — Тарита-крэг отказался от этой планеты ради него, и он покинул наш корабль незаметно… Или нет?
Смутное туманное облачко, уносящееся в огненную долину — да, кое-кто припомнил его, но теперь это не имело уже никакого значения.
— Благородная принцесса, — спросил Эрм, старший из дружинников, — это твой супруг передал тебе право командовать нами от своего имени?
— Нет, — сказала она, хотя никто и никогда не смог бы уже подтвердить или опровергнуть правдивость ее слов. — Я сделала это по своей воле. Когда я появилась на вашем корабле, мой супруг… Его уже не было в живых.
— Тогда зачем ты это сделала, принцесса Сэниа?
— А вот на это я тебе не отвечу, Эрромиорг из рода Оргов.
Наступила зловещая тишина, прерываемая только могучим дыханием крылатого коня. Она стояла перед ними, принцесса, несмотря ни на что, и ее воля была выше всех законов и обычаев, и даже звездные волки, эти омерзительные чудовища, от которых они все невольно отводили глаза, чтобы не встретиться с ними взглядом, послушно стояли у нее за спиной с оружием в цепких лапах; один держал клинок Гаррэля, а другой — шпагу самой принцессы.
Видно, и на то была воля судьбы!
И вдруг простодушный Пы, от которого никогда нельзя было ожидать дельного слова, осмелился заговорить о том, что мучило сейчас каждого из девятерых, с обожанием глядевших на прекрасную принцессу:
— Так ежели… э-э-э… позволено будет спросить тебя, милостивая принцесса… потому как твой высокий супруг… э-э-э… да будет счастлив и покоен его крэг в долине огненной… заключил с тобою брак с завещанием… кх-м… так теперь, значит…
Он не смел произнести своего дерзкого вопроса, но все невольно подались вперед, как никогда пристально и, наверное, неучтиво впиваясь взглядами в лицо моны Сэниа, потому что кому-то ведь завещал могучий эрл эту прекраснейшую из женщин Джаспера, и у каждого теплилась надежда, что предводитель звездного отряда в первую очередь должен был подумать о своих товарищах.
Мона Сэниа подняла руку, останавливая речь смущенного юноши, которая с каждым словом становилась все бессвязнее.
Странная улыбка скользнула по ее губам — дьявольская гордость, надменное сознание безграничной власти над этими людьми и упоение собственным смирением… Чего только не было в этой улыбке!
— Тебе я отвечу, доблестный Пы, мощь и сила дружины Асмура, — медленно проговорила принцесса. — По завещанию могучего эрла, вашего предводителя и моего первого супруга, моим мужем стал тот, кто первым коснулся губами моего лба. Я не знаю его имени, но вот он — перед вами!
Она обернулась и величественным жестом опустила прекрасную руку на волосатое плечо чудовища, державшего ее шпагу.
И как ни велико было оцепенение ужаса, охватившего всех джаспериан при этом сообщении, в следующий миг восемь шпаг разом взвились в воздух, чтобы освободить свою повелительницу, и только безоружный Гаррэль, по-прежнему сидевший на полу, закрыл лицо руками, чтобы никто не видел невольных его слез отчаянья, брызнувших из его глаз.
— Стойте! — крикнула мона Сэниа, но в ту же секунду оба звездных волка довольно бесцеремонно отшвырнули ее назад и встали плечом к плечу, готовые драться против всей дружины за свою драгоценную добычу. Еще бы! Волки волками, а разбирались…
Но мона Сэниа, которой тоже нельзя было отказать ни в силе, ни в мужестве, раздвинула своих страшных защитников и встала между ними.
— Благородные сыны Джаспера, — произнесла она насмешливо, — или вы забыли обычаи своей родины? Вы хотите оставить меня вдовой прежде, чем мой настоящий супруг завещает меня в жены кому-нибудь… хотя бы из вас?
Оружие вернулось в ножны прежде, чем она успела договорить; теперь все взгляды устремились на того, кого и в самом горячечном бреду ни один из них не додумался бы предназначить в мужья прекрасной принцессе, но, видимо, предначертание судило иначе. Недаром их поход начался с черных козырей.
Звездный волк, умело сжимавший в своей лапе драгоценный эфес, не мог не заметить внезапного внимания, обращенного к нему. Глаза, прищуренные гневом и отвращением, скользили по его ногам, подымались до пояса — и останавливались, не в силах преодолеть необъяснимого ужаса перед пленником; по сжатым губам и рукам, стиснутым в бессильном гневе, он не мог догадаться, чего от него хотят; но мона Сэниа снова положила руку ему на плечо и, царственным жестом указывая на всех присутствующих, проговорила:
— Ты должен выбрать одного из них. Если, конечно, не предпочтешь своего друга… или брата.
Он внимательно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на друга или брата, как сказала мона Сэниа. Похоже, что-то он все-таки понимал. Потом, видя, что от него ожидают однозначного и недвусмысленного поступка, он наклонился и протянул лапу юному Гаррэлю, помогая ему подняться с ковра.
Гаррэль машинально оперся на протянутую лапу и вздрогнул: это была теплая, сильная человеческая рука. Дружелюбная рука. И уж совершенно непонятно что творящая рука: мало того, что она поставила его, самого юного и что там ни говори — отверженного — рядом с принцессой, тем самым определяя выбор и передавая ему эстафету ритуального завещания; эта рука поднялась и ласково погладила пестрые перышки его проклятого крэга!
Все отшатнулись — узнать о том, что прекраснейшая женщина Джаспера стала супругой чудовища, было пределом здравого рассудка; но присутствовать при том, как эту красавицу, мечту всех юношей королевства, завещают человеку с пестрым крэгом — это было уже выше всяких сил.
— Нет! — крикнул пылкий Флейж. — Лучше нам всем погибнуть, лучше разбить корабль о поверхность Джаспера, чем допустить такой позор!
— Принцесса, — встал рядом с ней рассудительный Борб, — мы повинуемся тебе, и не из верности королевскому дому, а из рыцарской преданности и готовности служить прекраснейшей даме королевства. Но ты вспомнила о древних обычаях, а по ним ты не можешь стать женой этого… этого неведомого и страшного существа: ведь у него самого нет крэга!
— И этого вопроса я ждала, благородный Борб! Да, я сочеталась браком с великим эрлом Асмуром… хотя никогда не была его настоящей женой. И теперь я никогда не стану женой этого пришельца, хотя по обряду буду считаться его верной супругой. Так то и ты прав, пылкий Флейж, неотразимая шпага: лучше бы мне не возвращаться на родную планету, где у меня нет дома и не будет семьи. Но и разбить наш корабль я не могу, да и вам не позволю: с нами — наши крэги.
И снова все замерли, охваченные бесконечной скорбью и сочувствием к несчастной принцессе, за которую каждый из них отдал бы жизнь — и даже этим ни на йоту не смог бы помочь.
— Прекраснейшая из принцесс, — проговорил Ких дрожащим голосом, — наши сердца разрываются…
А вот это было уже лишнее.
— К дьяволу! — крикнула мона Сэниа, так что все крэги, подняв перья дыбом, казалось, готовы были сорваться со своих мест. — Я дозволила вам любопытство, но не жалость! Довольно. Все по местам! Мы спускаемся на нашу планету.
Все, пятясь, отступили, — ни один не позволил себе повернуться к принцессе спиной. Вселяющие ужас пришельцы с недоумением поглядывали на окружающих, ни на йоту не понимая, что происходит. И только когда стены командорской каюты расступились, чтобы пропустить звездных дружинников, тот, кто теперь был наречен супругом принцессы, громко и насмешливо произнес три слова на незнакомом языке.
И все джаспериане, включая мону Сэниа, вздрогнули: это был глубокий, звучный голос эрла Асмура:
— Вниз!!! — вне себя крикнула мона Сэниа.
И снова у всех дрогнули сердца: она не сказала — домой.
Стены сомкнулись, каюта опустела. И только тут принцесса, недаром носившая прозвище Ее Своенравие, дала волю обуревавшим ее чувствам: выхватив из лап чудовища свою шпагу, она одним ударом рассекла узорчатую подушку, из которой полезли клочки сиреневого меха, а заодно и ни в чем не повинный ковер. Следующими жертвами царственной руки были алтарный шатер, где столько дней провел Тарита-крэг, и тяжелый занавес, отделявший дальний угол с загоном для крылатого коня.
И тогда вороной, укоризненно фыркнув, двинулся ан середину комнаты и, нисколько не опасаясь взмахов яростного оружия, не страшного для его чешуи, с бесконечной кротостью, какой нельзя было и ожидать от боевого коня, прижался лбом к груди девушки.
Она отшвырнула шпагу и обхватила руками гордую, точеную голову верного животного. И вдруг странная мысль поразила ее:
— Вороной, — проговорила она, заглядывая поочередно в золотые косящие глаза, — конь мой, почему ты не дал мне знать, когда ко мне приближался враг?
Вороной мотнул головой, распустил одно крыло и легким, но на редкость выразительным движением шлепнул аметистового крэга по хохолку.
— Не смей!.. — вырвалось у моны Сэниа — и тут же она осеклась под выразительным, укоризненным взглядом коня.
Значить этот взгляд мог только одно: что стоят какие-то враги по сравнению с тем, кто сидит у тебя на шее?
Конь медленно вернулся в свой угол, повалился на уцелевший клок ковра и задрал копыта.
Вот это да! Она никогда не задумывалась над взаимоотношениями между крылатыми конями и крэгами, и вдруг эта в высшей степени непостижимая сцена, да еще при посторонних…
Она оглянулась, отыскивая взглядом пришельцев, и тут же поняла, что тем было уже никак не до внутренних неурядиц джаспериан: распластавшись на полу, они прильнули к круглому иллюминатору нижнего обзора, в котором, медленно приближаясь, плыл зеленый Джаспер. Ну да, их ведь захватили возле четвертой планеты Чакры Кентавра, или Звездочки-Во-Лбу. А всех этих мгновенных переходов, когда все дружинники единым усилием воли опускали мак на поверхность красной планеты, чтобы выпустить Тарита-крэга, а затем вернулись сюда, в окрестности родного светила — таких тонкостей эти грубые существа, к тому же заключенные в темную клетку, попросту не заметили.
Пол под ногами едва уловимо качнулся, и иллюминатор тут же ослеп, затянувшись чернотой — повинуясь ее приказу, мак замер на бетонных плитах Звездной гавани. Послышался легкий скрежет — это кораблики дружинников расползались в разные стороны, и большой командорский корабль, остался в одиночестве. Мак, безукоризненно прошедший все звездные переходы, распался. Конь заржал тоскливо и нетерпеливо. Она подошла к стене, мысленно приказала ей раствориться — и запах терпкой джасперианской травы хлынул в открывшийся широкий проем.
— Ты свободен, вороной, — грустно проговорила мона Сэниа. — Благодарю тебя.
Конь одним прыжком вымахнул наружу и начал подыматься в небо, заслоняя расправленными крыльями вечернее солнце.
«Юрг»! — послышался за спиной настороженный голос того, второго, который, по-видимому, был братом ее неожиданно обретенного супруга.
Надо было как-то с ними объясняться, и мона Сэниа обернулась к ним. Придется разговаривать с ними, как с детьми.
Привыкнут. А его, значит, зовут Юрг. Ну, Юрг, так Юрг.
— Владетельный супруг мой, и ты, мой брат, — она сделала над собой усилие и склонила голову, увенчанную аметистовым хохолком, будто маленькой короной из перьев. — Проследуйте за мной в замок, который с этой поры принадлежит вам.
Она сделала широкий жест, приглашая их выйти, но они настороженно переглянулись и с сомнением покачали головами — покидать корабль они явно не собирались. Не привыкшая к неповиновению, она нахмурилась — и в это время дробный цокот копыт заставил ее выглянуть наружу.
К ее кораблю приближался всадник, ведущий за собой двух верховых коней, к седлам которых были подвешены какие-то странные ящики в толстых чехлах. Он подскакал ближе, и мона Сэниа с удивлением узнала в нем Гаррэля.
Он поклонился и спрыгнул с коня.
— Если высокородная принцесса позволит, то я осмелюсь напомнить, что происхожу из древнего рода Элей, королевских знахарей, — торопливо проговорил он, боясь, что она его остановит. — В числе прочих болезней, насылаемых предначертанием, иногда встречается такая, при которой человек полностью теряет память, забывая и свой язык, и свою землю. На этот случай у нас имеется переносной прибор — мнемодатчик… да вот он, тут и аккумуляторы, хотя можно было бы подключить и к корабельным… если, конечно, принцессе угодно.
— Гэль, ты умница! — Сэниа даже захлопала в ладоши. — Если это также просто, как школьная магическая шапка, то давай, попробуем немедленно!
Теперь, когда не нужно было играть роль сурового предводителя звездной дружины и не было повода вспоминать о собственном высоком происхождении, она разом превратилась в босоногую девчонку и, как была, в одном плаще, наброшенном на длинную рубашку, стрелой вылетела на бетонные плиты пристани и принялась расстегивать пряжки на седельных ремнях, яростно тряся рукой, когда ломался ноготь. Наконец, все было вынуто, и они вдвоем с Гэлем снова чуть ли не бегом потащили на корабль и странный мягкий шлем с присосками и отводами, и всякие регулирующие устройства, стабилизаторы, аккумуляторы — короче, все то, что население Джаспера, исключая знахарей, коротко именовали магической бутафорией. В восторге от такого простого решения проблемы общения они так радостно нахлобучили шлем на голову новоявленному супругу принцессы, что тот даже не успел возразить.
Гаррэль, похоже, был седьмым, но не последним по уму сыном тана-знахаря. Его обращение с редким прибором было умелым и безошибочным — объект эксперимента не успел ни испугаться, ни скинуть с себя магическую шапку, как колени его подогнулись и через секунду он уже спал, по-детски свернувшись на ковре калачиком. Теперь, когда глаза его были закрыты, а лицо безмятежно, непостижимое сходство с эрлом Асмуром стало так велико, что Гаррэль на какое-то время забыл о своих обязанностях и только ошеломленно переводил взгляд со спящего пришельца на мону Сэниа и обратно. Колдовство? Предначертание?
Спящий что-то бормотал.
— Больше нельзя, — сказал Гаррэль, быстро выключая свой прибор. — Иначе — перегрузка.
Глаза пришельца открылись — странные глаза, небывалого на Джаспере голубого цвета: это было единственным, что резко отличало его от первого супруга принцессы.
— Где мы? — спросил он по-джаспериански, с удивлением вслушиваясь в каждое произносимое слово. — Ах, да — зеленая Яшма… Я хотел сказать: как далеко мы от…
Он поднял руку и выразительно постучал себя по лбу, что, вероятно, должно было означать — от Звездочки-Во-Лбу.
Гаррэль и Сэниа заметили, что он еще немного путается в словах — во всяком случае, Джаспер он назвал на своем языке.
Его брат, с безмерным удивлением прислушивавшийся к этой незнакомой ему речи, был теперь последним, кто до сих пор еще ничего не понимал.
— Займись им, Гаррэль, искусный знахарь! — проговорила мона Сэниа, невольно возвращаясь к царственному тону, потому что каждый раз, когда она поднимала глаза на своего нового супруга, ее охватывала невольная дрожь, и она всеми силами старалась это скрыть. — А тебе, владетельный эрл, я могу только указать место твоей звезды на наших картах, потому что от любой точки Вселенной мы находимся одинаково далеко — на расстоянии одного мгновенного перехода через _н_и_ч_т_о_.
Она с трудом подняла толстенный том «Звездных Анналов» и раскрыла первую страницу, где было изображено небо.
— Джаспер! — проговорила она с невыразимой гордостью. — А это — твоя звезда.
— С ума сойти, — пробормотал нареченный эрл. — Это же разные рукава Галактики! У вас хоть существует понятие «световой год»?
Она подняла брови, вслушиваясь в непонятное и нелепое сочетание слов. Потом быстро перевернула несколько страниц, нашла отдельно изображенное созвездие Костлявого Кентавра.
— Зачем — год? — удивилась она. — Один миг — и ты здесь.
Обломанный аметистовый ноготок указывал на родную звезду пришельцев, и принцесса с невольной грустью отметила, какая радость осветила лицо ее супруга, которое уже не казалось ей волчьей мордой.
— Юх, — крикнул он, — Юх, оказывается, еще не все потеряно…
Но тот, к кому он обращался, спал, с молниеносной быстротой впитывая премудрости джасперианской грамматики.
— Ты так радуешься возможности покинуть меня… — вырвалось у моны Сэниа. — Что ж, я сама виновата — не следовало приближаться к запретной звезде.
Крэг на ее плечах недовольно встрепенулся.
— Это еще почему наше Солнце — запретная звезда? — воскликнул оскорбленный пришелец с Чакры Кентавра.
— Прости, если мои слова обидели тебя, — смиренно произнесла принцесса. — Но на твой вопрос не знаю ответа.
Кто-то наложил запрет на эту звезду, видишь — она перечеркнута жирным крестом? А вот эта надпись, если ты еще не запомнил нашей азбуки — вот, на полях — это значит «звездные волки»!
— Где?!
— Да вот же, вот — написано от руки!
Он пожал плечами.
— Вот эти два слова… — пыталась объяснить мона Сэниа.
— Прелесть моя, ты показываешь на совершенно пустое место. Здесь нет никаких надписей — ни одного слова, ни двух. И креста, перечеркивающего звезду, я тоже не вижу!
Она подняла на него темные гиацинтовые глаза, в которых светилось безмерное удивление. И в ту же секунду словно язык светлого розового пламени полыхнул между ними — крыло крэга сорвалось с плеча принцессы, и острые коралловые когти разодрали страницу сверху до низу, а частые удары крыла довершили начатое, превратив бумажный лист в микроскопические клочки.
И так же внезапно крылатое существо затихло, снова пригревшись на плечах девушки.
— Давай-ка я его выкину, — простодушно проговорил пришелец. — Красота — красотой, а если он тебе выбьет глаз…
— Ты странно рассуждаешь, владетельный эрл, — пожала плечами мона Сэниа, никак не решавшаяся назвать его по имени. — Если ты убьешь моего крэга — то зачем мне вообще глаза?
Он смотрел на нее, ничего не понимая.
— Ладно, — проговорил он примирительно. — Не будем распутывать все загадки разом. Вернемся к нашим волкам, потому что они ближе к дому. Кто они такие — звездные волки?
— Это вы — ты и твой брат…
Он почесал за ухом, нисколько не обидевшись:
— Хорошенькое дельце… И ты не боишься оставаться со мной, Красная Шапочка?
Она печально усмехнулась — ведь волею предначертанья ей суждено остаться с ним на всю жизнь…
— Тогда последний вопрос: зачем же вы все-таки сунулись к запретной звезде? Созвездий мало, или дальность ваших перелетов ограничена?
— Для нас достижимы любые, даже самые отдаленные звезды. А твое созвездие указали нам магические карты, в которые играет командор отряда перед каждым походом. Таковы наши обычаи, эрл Юрг.
Он быстро глянул на нее, словно проверяя, не ослышался ли — ведь она назвала его по имени, которого он ей вроде бы не называл.
— А я, оказывается уже представлен, — пробормотал он. — В таком случае, как я должен называть тебя? В традициях нашей планеты уж если я — волк, то ты должна называться Красной Шапочкой.
Она уловила иронию в его голосе и гордо выпрямилась:
— Я — Сэниа-Юрг, — проговорила она, не называя своего утраченного титула. — И вот уже два часа, как… твоя жена.
— Прими мои поздравления! — раздался голос второго пришельца, с которого только что успели снять магический шлем.
Это были первые слова, произнесенные Юханом на джасперианском языке.
3. ЗАМОК И ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Горизонт осветился дальней зарницей, и в путанице мерцающих вдали заводских огней встал небольшой дымный факел.
— Сиятельный эрл, — проговорил Юхан, наслаждавшийся ночной прохладой у ажурной оконной решетки, выточенной из душистого древа. — В твоих ленных владениях опять короткое замыкание.
Вокруг факела поднялась пенная метель, подсвеченная огнем — и снова стало темно.
— Перебьюсь, — отмахнулся сиятельный, валявшийся, не раздеваясь, в своей роскошной постели под балдахином. — У них противопожарная автоматика — во! Не в пример нашей.
Его драгоценный темно-серый камзол, отделанный в честь высокородной супруги сиреневыми кружевами и усыпанный на плечах аметистами, был немилосердно прожжен во время дотошного знакомства с огромным нефтеперерабатывающим комбинатом — таково было приданое принцессы. Выглядел сиятельный скверно и голодно — глаза ввалились и потемнели, на носу резче означилась аристократическая горбинка.
— А ты за этот месяц здорово с лица спал, — проговорил Юхан, отходя от окна и присаживаясь на постель названного брата. — Может окошко прикрыть? Занеможешь.
— А моя дражайшая кого угодно в гроб вгонит!
Эрл Юрг мог притворяться перед кем угодно, но только не перед Юханом: тот просто нутром чувствовал, как при одной мысли о так называемой супруге у Юрга сердце менялось местами с пяточным нервом. Девочка, конечно, выше европейских стандартов, но чтобы так из-за нее мыкаться…
— Знаешь, был у меня оодин смешной слуучай… — Юхан замолк, так как не успел еще придумать этого смешного случая. Но отвлечь командира от грустных и изнурительных мыслей было просто необходимо.
— Помолчи, сделай милость!
Когда она оставались одни, невольные пленники Джаспера переходили на земной язык, что придавало их разговорам этакую ностальгическую грусть.
— У меня у самого голова пухнет, — снова заговорил Юхан. — Возможно у наших хозяев генетическая предрасположенность к гипнопедии, но я уже окосел от всей этой грамматики, космогонии и таинств нефтепереработки, в кои я обязан вникать на правах твоего единоутробного брата. Кстати, о здешнем языке: после нехитрого анализа я установил следующие соответствия: эрл — это нечто среднее между ведущим инженером и главным конструктором, тан — доктор наук, виконт — младший научный, принцы — члены экономического координирующего совета; вот только король, который тут и собственного имени-то не имеет — его функции мне пока не очень ясны…
— Тихо! — оборвал его Юрг, срываясь с постели и прижимаясь лбом к решетке.
В перекрестном свете только что взошедших двух лун трудно было разобраться, каким цветом отливает оперенье легкого журавлика, успевшего взмыть высоко в небо.
— Кукушонок? — спросил Юхан.
Так они называли птицу-поводыря юного Гаррэля, и за неимением джасперианского эквивалента — здесь не водилось кукушек — произносили это по-русски.
— Нет, — сказал Юрг. — Сэниа-крэг.
— Ты это говоришь так, словно он — твой личный враг.
— Главное, что это враги здешних людей. Сидят на шее, ни черта не жрут, питаются светом и воздухом и хоть, слава богу, не гадят, но…
— Слушай, Юрг, — сказал рассудительный Юхан, — ты не преувеличиваешь? Да и какой такой смысл им враждовать с джасперианами? Они и так свое имеют, на добровольных началах: отслужил век — получай персональную планету… Мир и согласие. И что вообще они могут сделать плохого?
— Вот это я и собираюсь выяснить. Слушай, Юх, я иду к моей принцессе, в конце концов, если она не желает разговаривать на отвлеченные темы, то должна же ее волновать судьба собственного народа?
— Ну-ну. А я пока простыни сменю — ишь увозил сапожищами, перед киберами стыдно…
Сиятельный эрл миновал несколько покоев и галерей, залитых лунным светом, но по мере приближения к опочивальне своей супруги его походка становилась все менее уверенной.
Наконец, он отворил последнюю дверь и, прислонясь к косяку, мужественно поднял глаза к потолку, чтобы не видеть спящей девушки.
— Сэниа, к тебе можно? — шепотом спросил он.
По тому, как порывисто она поднялась, нетрудно было догадаться, что она еще не спала, хотя аметистового покрывала на ее плечах и голове уже не было.
— Нет! — сказала она.
— Сэниа, я прошу тебя…
— Нет!
— Черт побери, ты дослушаешь меня до конца? Я прошу тебя только показать мне магическую колоду, или как там она называется.
— Сейчас?
— Да. Сейчас. Я не хочу, чтобы об этом знал твой попугай.
Она медленно повернула голову на звук его голоса и еще некоторое время сидела неподвижно, как будто прислушиваясь к его дыханию. Широко раскрытые глаза при лунном свете казались совершенно лунными и зрячими. Но это только казалось.
— Хорошо, — сказала она. — Следуй за мной.
— Дай руку!
— Нет.
Ее босые ноги уверенно ступали по толстым деревянным плитам, и рука почти не касалась стен и дверных косяков. Наконец, она остановилась перед маленькой нишей, в которой висело чучело или изваяние крэга.
— Вот, — она достала из ящичка обыкновенную карточную колоду, может быть, чуть крупнее тех, которыми на Земле сражаются в «дурака».
Он взял карты, намеренно коснувшись ее пальцев — рука отдернулась и спряталась за спину.
— Как школьница, честное слово! — проговорил он с досадой.
Рубашка карт напоминала резную решетку, столь характерную для здешней архитектуры. Юрг наугад вытащил одну карту, перевернул и посмотрел.
— Что я и думал… — пробормотал он.
— Ты вынул карту?… — невольно вырвалось у нее.
— Можно подумать, что тебя волнует моя судьба.
— Я же удовлетворила твое любопытство! — обронила она высокомерно. — Теперь твоя очередь. Что тебе выпало? Ну, хотя бы попытайся описать, что там нарисовано? Скелет? Виселица?
Он глянул на карту, стараясь придумать что-нибудь правдоподобное, но не столь зловещее.
— Здесь какая-то птичка-бабочка…
— А цвет?
— Ближе к красному, — ответил он еще менее уверенно.
— Солнечный крэг! Это — выполнение всех желаний. Однако судьба к тебе благосклонна сверх меры, владетельный эрл!
Он повертел карту в руках, потом веером развернул всю колоду. Абсолютно белые прямоугольники, ни штриха, ни закорючки. Не то, чтобы птички. Неужели никто из них не догадывался?…
— Это все, что я хотел видеть, — сказал он, опуская шулерскую колоду в ящичек. — А теперь иди, досыпай.
Она повернулась и бесшумно заскользила прочь, растворяясь в лунном свете.
— Сэниа, — вырвалось у него против воли, — Сэниа, скажи, что мне сделать, чтобы ты наконец стала моей женой?
Она остановилась:
— Невозможное — полюбить.
— Спасибо, — горько проговорил он. — Я уже.
— Нет! — крикнула она. — У нас так не любят — на год от моей постели до Звездной пристани. Ты воображаешь, что любишь меня, но думаешь в перерывах между мыслями о том, как через год соберется новая дружина выполняющих Уговор, и они отправят тебя на твою проклятую Чакру!
— Не в перерывах, — возразил он, стараясь подойти к ней как можно бесшумнее, но она, словно угадывая каждое его движение, отступала, едва он делал хоть один шаг. — Не знаю, как это тут у вас, но у нас, на Земле, любят одновременно: землю и солнце, мать и жену, свободу и… мороженое.
— Понятно. Большое сердце. Когда через год твой корабль направится к звездам, недоеденное мороженое можно будет бросить на пристани, а жену — человеку с пестрым крэгом!
— Что, что? Кто тебе сказал, что я оставлю тебя Гэлю?
Он, конечно, милый мальчишка, но если он до тебя дотронется пальцем, я его убью!
— Но ты сам завещал меня ему в жены.
— Я?!
Она стряхнула его руки со своих плеч и отступила на порог своей опочивальни. Он опомнился: дальше он не смел делать ни шагу.
— Сэниа, — проговорил он устало, — это все какая-то белиберда с вашими традициями, в которых я не разбираюсь. Черт с ними. Но ты запомни, чтобы не было неприятностей: если кто-нибудь другой хотя бы на будущее назовет себя твоим мужем, я изничтожу его любым видом оружия из твоего достаточно богатого арсенала и в лучших традициях земных мушкетеров.
Вот так.
— Будущим ты уже распорядился, и это необратимо; но пока ты находишься на Джаспере, принцесса Сэниа не допустит, чтобы на нее пала хоть тень подозрения.
— Ну, спасибо, — поклонился он. — Мне твоя верность без любви — это как… впрочем, извини. Спокойной ночи.
Она оперлась о постель коленом и ждала, когда он уйдет.
— Сэниа, черт побери, я понимаю, что веду себя прежалким образом, но скажи: неужели я так отвратителен тебе? Что между нами — различие людей двух планет и рас, или то, что ты ошиблась, приняв меня за первого мужа, и не можешь мне этого простить? В чем дело — в твоем физическом отвращении ко мне или в зудящем самолюбии? С последним я как-нибудь справлюсь, но если мы биологически несовместимы…
Он вдруг запнулся и почувствовал, что лопатки покрываются холодным потом. Он идиот… Несчастный космический донжуан… Месяц ходит вокруг нее, изнывая от тайной страсти, и ни разу не задумывался над тем, что похожи они могут быть только внешне! Раздобыть бы хоть учебник анатомии… Хотя — школьный учебник тут не поможет. Аллергия — это что-то на уровне биохимии, в которой он ни уха, ни рыла. Да, у них могут быть те же руки, ноги, губы, что и у землян; но вот состав крови, плазма — они могут быть попросту смертельно ядовиты для существа с другой планеты…
— Почему ты замолчал? — настороженно спросила она.
Вероятно догадалась по его дыханию, что с ним творится нечто несусветное. Но как объяснить ей, какими словами, что он полюбил ее — и любит, и будет любить — как прекрасную женщину, одинаково желанную для мужчины любой планеты.
Но только сейчас ему пришло в голову, что она ведь сделана из другого теста.
Из другого белка.
Аллергия, этот бич всех аномально развивающихся цивилизаций, обрушившийся на ее родную планету — ведь это может быть и смертельно!
— Прости, Сэниа, когда я гляжу на тебя, у меня путаются все мысли, и я говорю, не то, что думаю… вернее, говорю, к сожалению, все, что думаю… а еще вернее — я вовсе не думаю, у меня вблизи тебя эту способность просто напрочь отшибает… И только сейчас я понял, что мы ведь действительно с разных планет, мы разные, разные, Сэниа, и мы, может быть, никогда…
Она медленно выпрямилась, и глаза ее, совсем черные и неподвижные, распахнулись на пол-лица:
— О чем ты?…
Он отступил к спасительному косяку, заведенными за спину руками вцепился в деревянную резьбу.
— Я просто не знаю, как и объяснить тебе это, Сэниа… у нас есть одна сказка… она меня всегда удивляла, потому что я не мог понять, что за ней стоит. Ну, там какой-нибудь ковер-самолет — это аэроплан, ракета. Волшебное блюдечко с колечком — телевизор. Дворец за одну ночь — саморазвивающаяся конструкция. Все имеет реальную параллель — не в настоящем, так в будущем. А тут… Никакой действительной коллизии за этим я не видел, во всяком случае, до сегодняшнего вечера.
Она стояла перед ним — белая, в белом свете. Ледышка. И ждала.
— Понимаешь, у двух пожилых людей не было ребенка, а они об этом мечтали. Наконец, некая волшебная сила сотворила… сконструировала… короче говоря, дочку они получили, и она ничем не отличалась от других девушек, разве что была красивее других. Но она была другого естества. Дочь зимней стужи и весеннего тепла. Снегурочка.
— Она была… слепа? — быстро спросила Сэниа.
— Нет, видеть она могла. А вот любить… Это было запрещено ей изначально. Табу под страхом смерти. Она не…
— Не могла — или не смела?
— И могла, и, конечно, посмела… И умерла.
Она подняла к вискам пальцы, совсем прозрачные в лунном свете. Он не предполагал, что она поймет так быстро.
— Значит, теперь ты откажешься от меня, чтобы я — жила?
Он не ответил.
Она еще с минуту стояла неподвижно, прислушиваясь уже не к нему, а к себе самой, а потому вдруг стремительно бросилась вперед, на только что звучавший голос.
Юрг отшатнулся, и она с размаху ударилась лицом и грудью о резной косяк. Застонав, опустилась на колени. Замерла. Он закрыл глаза и, пошатываясь, побрел прочь, по бесконечной анфиладе комнаток-бонбоньерок, и бесплотные паутинки вьюнка, свисавшие с низеньких арок, оплетали его голову и плечи. Сзади послышался шорох, спереди — тоже.
Он открыл глаза — Сэниа, растрепанная, с черной ссадиной на лбу, загораживала ему дорогу, и лицо ее было мертво и решительно.
— Сэниа, — прошептал он, — я не могу, я — не Мизгирь…
— Зато я могу. Все могу. Я, Сэниа-Юрг.
— Завтра я уйду из твоего дома. Сегодня. Сейчас.
— Попробуй!..
Он снова повернулся и пошел назад, к темнеющему проему двери в ее опочивальне. На черном фоне смутно означился белый крест, прозрачная дымка уплотнилась, контуры человека очертились резко и приобрели глубину — Сэниа, раскинув руки, загораживала ему путь, вслушиваясь в шорох его шагов. Надо связать ее, чтобы она не могла пошевельнуться. Ведь, чтобы пройти через _н_и_ч_т_о_, как они это называют, нужно сделать шаг вперед…
Вот только если бы он смел до нее дотронуться…
— Сэниа, отпусти ты меня, ради бога!
— Здесь один бог — моя воля.
— Сэниа, ты же сама не веришь в то, что я люблю тебя — ну, ударило в голову, что принцесса; инстинкты подключились…
— Трус! Раб! Бездушный серв! Чего ты испугался — моей смерти, которой я сама не боюсь? А ты подумал, что будет со мной, когда улетит твой корабль? Думаешь, я останусь жить — жена человека с пестрым…
И в этот миг гулкий удар крыльев заглушил ее голос: заслоняя лунный свет, к резной решетке приближалась большая птица.
— Берегись!.. — торопливый, как всплеск, предостерегающий крик прозвучал так невнятно, что его можно было скорее угадать, чем разобрать.
И в следующий миг крылатое существо исчезло бесшумно, как виденье.
— Кукушонок?.. — запоздало спросил Юрг.
— Нет, — ответила Сэниа. — Это судьба.
И только тут он осознал, что обнимает девушку за плечи, закрывая ее всем телом от неведомой опасности.
Судьба…
Юхан и Гаррэль сидели за остывающим кофе, каждый по-своему наблюдая за тем, как мона Сэниа со своим супругом спускаются к утреннему столу, накрытому на дерновой террасе.
Сегодня на ней было надето нечто ниспадающее изящными складками — среднее между сарафаном и кимоно, причем эти светло-сиреневые одежды были подхвачены ослепительными аграфами из осколков камней, привезенных принцессой из геенны огненной.
Гаррэль барабанил костяшками пальцев по колену, Юхан наклонил голову с покорной терпеливостью:
— Доброе утро, черти счастливые, — прогудел он, подымаясь навстречу сияющей чете. — В этой хламиде ты просто прелесть, сестричка! Опять загнала всех свободных киберов в портновскую мастерскую? А мне позарез нужны два десятка рабочих рук на насосную параллель. Завтра переключать…
— Что за вопрос, — принцесса мгновенно превращалась в генерального директора, — возьми у меня с блока гидрогенизации, а то так просто выпиши со склада. И когда только вы оба привыкните, что сервы — это как воздух, или как хлеб: бери, сколько хочешь!
— Кстати, хлеб хорошо бы поджаривать, — заметил Юрг.
— Это точно, — подхватил Юхан, — особенно тебе, сестричка, а то разнесет тебя на этом сугубо земном лакомстве, как мою половину…
Юхан шумно вздохнул, и было от чего: ведь на Земле, затерянной в непредставимой дали, уже два месяца его семья ходила в глубоком трауре. Юргу было несколько легче — у него не было семьи, и грустить по нему могли только друзья по детскому дому и марсианскому отряду космонавтов.
— Юхани, милый, — проговорила Сэниа материнским тоном, — может быть, все-таки рискнем и забросим весточку к вам, на Чак… на Землю? Технически это выполнимо.
— Не поверят, слишком невероятно, — помотал головой Юрг. — Решат, что кто-то из лучших побуждений сочиняет байки да сказки. Ведь от одного вашего перехода через _н_и_ч_т_о_ вся наша Академия Наук впадет в заикание. Нервотрепка вместо утешения.
— Да, — подтвердил Юхан, — моя белуга снова реветь будет…
Жена Юхана однажды приезжала на космодром, когда Юхан был еще дублером — потрясенные мужчины, сочтя недостаточным прозвище, данное ей собственным мужем, тут же окрестили ее «Моби Диком». Представить ее плачущей было страшно…
— Хорошо, — сказала Сэниа, — тогда я попытаюсь сама туда слетать. Для этого нужно одно: очень точно нарисовать какое-нибудь место на вашей планете, площадь, сад, поле — все равно, лишь бы я смогла себе это представить…
— Это смертельно опасно! — вмешался молчавший до сих пор Гаррэль. — Мудрый эрл, я прошу тебя…
— Гэль, заточу в башню своей бывшей королевской властью!
Все дружно расхохотались. Джаспериан чрезвычайно развлекала сама идея темницы — заключить существо, способное в один миг перенестись в любую точку Вселенной, в коробочку из четырех стен! Это ж можно умереть со смеху…
К тому же главная замковая башня не имела даже четырех стен: ажурное сооружение, никоим образом не сочетающееся с массивным крепостным ансамблем, было возведено гораздо позже, и главное — непонятно зачем. Плетеная конструкция уходила ввысь метров на шестьсот; две трети подъема можно было преодолеть на лифте, который заканчивался крошечной круглой комнаткой, где Юрг не раз предлагал устроить столовую; дальше шла уже только лесенка, вьющаяся вокруг острого шпиля.
Сверху до низу эта лесенка была ограждена искуснейшей самшитовой решеткой — Джаспер вообще тяготел к деревянной резьбе, благо сервов было в избытке.
Башня, которую земляне сразу же окрестили «суперэйфелевой», на территории замка не умещалась, — ее возвели на восточной оконечности зубчатых стен, там, где начинались меловые скалы, белоснежным полукружьем огибавшие замок Муров. С замком, как гласила легенда, она соединялась подземным ходом, но при всей красоте поражала явной своей никчемностью.
Земляне не раз пытались придумать для этого чуда архитектуры хоть какое-нибудь применение — от телеантенны до пожарной каланчи; беда заключалась в том, что любой вариант тут же в пух и прах разбивался ироничной принцессой. Да и что говорить — противопожарная автоматика на Джаспере была чуть ли не выше земной, а вот телевидения даже не предвиделось — крэги питали непреодолимую ненависть к любой оптической системе, начиная с фотоаппаратуры и кончая элементарным зеркалом.
Поэтому шутливая угроза моны Сэниа встретила взрыв безудержного хохота прежде всего потому, что наконец-то и сама принцесса дала повод для скептических замечаний — так сказать, первый этап критики в адрес королевского дома. Раскаты, молодого, счастливого смеха долго не смолкали в тенистом саду; да и было от чего смеяться — уж слишком несовместим был зеленый Джаспер, эта очарованная земля, словно специально созданная для крылатых коней, волшебных замков, всевидящих крэгов и прекрасных принцесс — и одна только мысль о том, чтобы на таком-то Джаспере устроить темницу…
Но никому из присутствующих и в голову не приходило, что заключение сможет быть и добровольным.
— М-да, — сказал Юрг, забирая у серва серебряное блюдо с дымящимся паштетом, — предложение отвожу как несостоятельное: для этих целей гораздо лучше подошло бы подземелье.
Несмотря на абсолютную безобидность этой реплики, лица у джаспериан вытянулись, смех затих.
— Что ты знаешь о подземелье? — быстро спросила мона Сэниа.
— Я?…
И тут прямо над столом возникло нечто.
Оно не имело ни цвета, ни контура, ни объема, оно присутствовало невидимо и даже как будто дышало.
— Что еще за чуудеса? — пробасил Юхан.
— Это голос, — ответил Гаррэль.
— Что-то не слышу…
— Ты, пришедший без зова — говори! — повелела мона Сэниа.
— Я, Иссабаст, прозванный Лесником, главный смотритель королевских садов и друг покойного эрла Асмура, владетеля этого замка, прошу разрешения предстать перед высокородной принцессой.
Голос был глубок, словно доносился из колодца, и беспокоен.
— Войди, Иссабаст, из рода Бастов, я жду тебя на дерновой террасе у восточного склона, если ты хорошо знаком с замком Муров.
Вместо ответа в трех шагах от стола засветилось нечто огненно-рыжее, словно два языка пламени, висящие над землей на уровне человеческого роста; через секунду под этим рыжим означилась кряжистая фигура в сине-зеленом нелепом одеянии, как-то досадно контрастирующем и с взъерошенным, клочковатым крэгом, больше похожим на рыжего лешего, чем на птицу. Из всех присутствующих одна только Сэниа, — да и то понаслышке — знала непрошеного гостя.
— Благородная принцесса, — пророкотал он, — кто из них — твой нынешний супруг?
— Не называй меня принцессой, тан Иссабаст, я всего лишь ленная владетельница земель и замка, доставшихся мне по завещанию эрла Асмура, и жена эрла Юрга с Чакры Кентавра.
Она положила руку на плечо своего мужа истинно царским жестом. Иссабаст буравил землянина злобным взглядом глубоко посаженных черных глаз, и эта неприкрытая ненависть плохо вязалась с обликом мудреца и главное — дружбой с покойным Асмуром.
— Прости меня, принцесса, что я пришел только для того, чтобы взглянуть на твоего супруга. Но любопытство мое оправдано: на счастливом зеленом Джаспере появился зловещий призрак.
— Да ну? — вырвалось у Юрга. — Вот только этого нам и не хватало!
Он оглянулся на жену и весьма удивился, увидев, что оно побледнела.
— Продолжай, благородный тан! — велела мона Сэниа.
— Призрак на вороном коне обитает в мертвых городах, к которым не приближается ни один человек. Но иногда он покидает мерзостные развалины и, дыша смрадом гниения, приближается к жилищам людей. Те, кто видел его, утверждают, что он похож…
Бесконечное почтение к принцессе заставило Лесника умолкнуть.
— Говори, тан Иссабаст!
— Он похож на твоего первого мужа.
— Минуточку, — проговорил Юрг, постучав вилкой по хрустальному стакану. — Давайте разберемся, тем более, что давно пора. Вы утверждаете, что призрак, или что там еще, копирует покойного эрла? А что конкретно вы запомнили — костюм, коня, оружие, портретное сходство?
— Высокородная принцесса, — проговорил Иссабаст еще глуше, обращаясь только к моне Сэниа, словно остальных и не было за столом. — Прости мою откровенность, но видевшие утверждают, что это был не тот эрл Асмур, которого они знали при жизни, потому что у призрака… голубые глаза, как у серва.
Юрг и Юхан настороженно переглянулись. Это было что-то новенькое.
— И, кроме того, это не живой эрл Асмур… Это его полуразложившийся труп.
— Да пошел ты к чертовой матери! — крикнул Юрг, выскакивая из-за стола.
Мона Сэниа остановила его властным жестом:
— Помедли, муж мой. Тан Иссабаст сказал не все.
— Ты угадала, принцесса. В числе тех, кто видел издалека страшного гостя, оказался Флейж, твой соратник по звездной дружине. Так вот, он один утверждает, что призрак на вороном коне — это не эрл Асмур. Это твой второй муж. Поэтому я пришел сюда, чтобы увидеть его.
— Тем лучше, — сказал Юрг. — С собственным призраком я уж как-нибудь разберусь. Теперь, надеюсь, все?
— Принцесса Сэниа, — еще мрачнее проговорил Иссабаст, все также игнорирую землянина, — скажи мне, отлучается ли твой муж из замка?
— А это уже не твое собачье дело! — окончательно вспылил Юрг. — Высказался — и катись!
— А то я тебя тоже поошлю! — пообещал Юхан.
Мона Сэниа, белая, как смерть, прошептала, едва шевеля губами:
— Опять ты сказал не все…
— Да, принцесса. Я бы не переступил твоего порога из одного любопытства. Но этот призрак убивает джаспериан! Теперь — все.
Злобный рыжий крэг испустил пронзительный крик и, взмахнув крыльями, запахнул их вокруг шеи Иссабаста, образовав какое-то нелепое жабо. Секунда — и на месте мрачного смотрителя королевских садов уже никого не было.
— Принцесса, — крикнул Гаррэль, срываясь со своего места, — разреши — я догоню его, вызову и убью! Без крэга, на звон шпаг!
— За что, мой мальчик? — с удивительным самообладанием проговорила она. — За то, что он принес дурную весть? Но ты ведь знаешь, что в наших легендах и преданиях встречаются упоминания о призраках.
— Которые всегда появляются удивительно кстати, — заметил не успевший остыть Юрг. — Все это, конечно, бредни. Но — кому-то выгодно. Кому выгодно нас поссорить, Сэниа?
Она медленно подняла на него свои гиацинтовые глаза.
Так ли она будет смотреть в его лицо после того, как ей покажут этого призрака?
— Будем вести себя так, — сказала Сэниа-Юрг, не отвечая на его вопрос, — как будто ничего не случилось, и не расставаться ни на минуту. Это моя воля: жить так, словно ничего не было.
— Вот и прекрасно! — воскликнул Юрг, и без того все время удивлявшийся ее редкостной выдержке. — Паштет остыл. А на чем мы остановились?
— Мы остановились на подземелье, — сказал Юхан.
Странно. Им обоим показалось, что мона Сэниа и Гаррэль испугались при этих словах. И именно на этом месте появился этот юродивый…
4. ДВОРЕЦ И ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Кони трусили по вечерней дороге, соединявшей замок с обширными заводскими землями. Первое время этот путь проделывался пешком, но в последние дни, как-то особенно нервные и напряженные, всадники возвращались домой побыстрее — лишь бы добраться до бассейна. Земляне никак не могли свыкнуться с мыслью, что комбинат — единственный на всю планету, и суетились вдвое больше самих хозяев, для которых такое положение вещей было привычным и естественным. Но Юрг ежевечерне выходил из себя:
— Послушай, Сэниа, ведь это просто не по-хозяйски: у меня, как говорится, на ладан дышит битумный коллектор, так эти кретины сервы возводят рядышком ну точно такой же, со всеми конструктивными недочетами! Я останавливаю строительство: хочу предложить им более совершенную схему, но эти дуболомы упираются, как бараны — они даже не знают и слова-то такого: усовершенствование! Полторы тысячи лет на одном и том же техническом уровне, ничего не меняя — да как вы продержались?
— Раз продержались полторы тысячи лет, значит, этот уровень чего-то стоит, — отпарировала мона Сэниа. — Каждый наш завод может проработать без нас достаточно длительный срок, а это главное. Все его узлы и агрегаты репродуцируются и заменяются автоматически.
— Первая семейная сцена, — прокомментировал Юхан. — Причем на производственной почве.
Он ошибался — за четыре месяца, которые потекли с момента появления землян на Джаспере, это был уже не первый случай, когда Юрг не выдерживал здешней косности, помноженной на средневековые предрассудки.
Перед ними со скрипом спустился подъемный мост — каждый раз подымать его не имело смысла, но опять-таки традиции требовали.
— Ты свободен, Гэль, — обернулась мона Сэниа к юноше.
Гаррэль почтительно поклонился.
— Это еще куда, на ночь глядя? — забеспокоился Юрг.
Он уже привык относится к юноше, который был скорее пажом, нежели королевским знахарем, с чисто отеческой заботой.
— Во дворец. Я уже рассказывала тебе, что несколько раз в году там собирается все совершеннолетнее население планеты.
— Во толчея-то… Постой, а ты? Или я женился на несовершеннолетней?
— Я теперь не имею право появляться на этих собраниях, — очень спокойно проговорила мона Сэниа.
— Это еще почему же? — возмутился Юрг, супружеское самолюбие которого было задето. — Почему бы нам не слетать туда вместе, а?
— Ты — можешь, а я — нет. Я — жена человека без крэга.
Пария.
— Тогда почему могу я?
— А ты — не джасперианин.
— Абракадабра! То-то мы сидим взаперти, как сычи. Нет, это мы поломаем! Век электроники…
— И достижений в отрасли нефтепереработки, — не без ехидства вставил Юхан.
— Во-во! И прямо-таки викторианская чопорность! Нет, это мы поломаем, это точно. С завтрашнего дня ходим в гости и принимаем сами!..
— Принцесса, — робко подал голос Гаррэль, — никто на Джаспере не посмеет…
Потемневшие глаза моны Сэниа метнули лиловые молнии:
— Мне не нужна снисходительность эрлов! Ступай!
— Минуточку! — крикнул Юрг. — Мы идем вместе. Гаррэль, как это у вас делается, чтобы перелететь через _н_и_ч_т_о_?
Перенеси меня поближе к кораблю.
Юноша вскинул на свою повелительницу длинные ресницы, как бы спрашивая ее позволения, и Юргу почудилась в его взгляде странная, нечаянно прорвавшаяся радость.
— Ты волен поступать по своему разумению, муж мой, — надменно произнесла мона Сэниа. — Иди. И постарайся вернуться невредимым.
Юрг торопливо протянул обе руки Гаррэлю, чтобы она не передумала, шагнул в сторону — и в ту же секунду под его ногами вместо известняковых плит замкового двора заскрипел тончайший кварцевый песок. Увенчанные птичьими хохолками и укутанные пушистыми перьями, джаспериане были одеты причудливо, но не пестро, и в сказочной прихотливости своих средневековых костюмов вовсе не производили впечатления случайно собранных маскарадных масок.
Юрг поморщился — его рабочий комбинезон, сшитый лучшим королевским сервом, здесь был просто нелеп… Но в следующую минуту он понял, что это несоответствие имеет и свой плюс: пары, до сих пор проскальзывавшие через золотистую полянку совершенно безразлично, стали останавливаться, задерживая на вновь прибывшем взгляд, в котором сквозило высокомерное удивление, впрочем, хорошо прикрытое безукоризненным воспитанием. Странно было другое: ни ужаса, ни отвращения, как это случалось во время первого контакта с джасперианами еще в космосе, здесь не наблюдалось.
Круглый пятачок, освещаемы сверху летучими фонарями, через три минуты был уже переполнен. Не мене сотни джаспериан — как раз то, чего добивался Юрг. Правда, постояв некоторое время с заинтересованным, но несколько высокомерным видом, некоторые из них ускользали, но на место двоих сразу же вставали четверо. Вот только как обратиться к ним, чтобы не оттолкнуть с первого слова? Ведь он, в сущности, как и Гаррэль — тоже пария, человек без крэга… «Благородные жители Бухары» — вдруг само самой всплыло в памяти Юрга, и удивительно земные, милые сердцу ассоциации, навеянные одной из любимейших книжек детства, словно подтолкнули его в спину.
— Благородные жители зеленого Джаспера! — начал он — и невольно улыбнулся.
В ответ не улыбнулся никто, но на лицах отразилось внимание.
— Я прибыл сюда не по доброй воле, но все-таки благодарен случаю, который позволил мне познакомиться с вашей прекрасной планетой. — «Надо брать быка за рога и не тянуть, а то могут не дать высказаться», — подумал он. — Я видел здесь много диковинок, и самое удивительное, чего житель иного мира даже представить себе не мог — это крылатые существа, которых вы называете крэгами. Насколько я понял, они служат вам пожизненными поводырями и непосредственно передают в ваш мозг все то, что видят сами… А порой и то, чего не видят.
То, чего нет на самом деле!!!
Толпа всколыхнулась и зашелестела, словно по ней пробежал ветер.
— Возможно и обратное, — продолжал Юрг, — что вы не всегда видите все то, что существует. Это я еще собираюсь проверить, но уже сейчас мне очевидно одно: зрительная информация, которую передают вам крэги, не соответствует действительности…
— Остановись, чужак! — перед глазами Юрга сверкнул позолоченный клинок — высокий юноша в белом камзоле, полуприкрытом вздыбившимся оперением едко-лимонного крэга, направил острие шпаги прямо в лицо землянину. — На Джаспере нет большего преступления, чем оскорбление крэга!
— Оскорбление? — переспросил Юрг. — А кто здесь говорит об оскорблении? Истиной оскорбить нельзя. Я просто делюсь с вами тем, что не могло не поразить меня, пришельца с другой планеты. Разве не удивительно, что карты, с помощью которых вы угадываете свой путь среди звезд — это белые бумажки без единого знака…
И в это мгновение из глубины вечерних садов раздался пронзительный крик. Рановато. Он был уверен, что этим кончится, но чтобы так скоро… Десяти минут ему не дали, гады!..
Он обернулся к Гаррэлю, привычно погладил рябые упругие перышки:
— Ну, держись, Кукушонок, сейчас начнется… Хозяина своего береги!
И началось.
Крики, слившись в нестройный хор, волнами обрушились на поляну; сталкиваясь и сбивая друг друга с ног, мчались пестрые маскарадные фигурки, с началом этой паники мгновенно ставшие нелепыми; кое у кого в руках сверкало оружие, но Юрг уже догадался, что ожидает бегущих там, за поворотом аллеи, — клинки были против этого бессильны; надо отдать справедливость джасперианам, они прытко бросились на подмогу, еще не зная, что там стряслось; но вот уже первая волна отхлынула обратно; поток наступающих вернулся на поляну и остановился.
Теперь на всех лицах был ужас — тот же самый, что и тогда, на борту звездного корабля. Юрг ощущал, что внушает такое омерзение и панический страх, что у джаспериан не поднимается рука, чтобы убить его.
Так человек не может раздавить голой ладонью паука.
Он еще раз оглянулся на Гаррэля, не за помощью — за советом…
Гаррэля не было.
На какое-то мгновение перед Юргом встало лицо пажа, когда тот узнал о его решении отправится в королевские сады — странное лицо, так внезапно озарившееся радостью… И против воли вспомнилось еще одно — завещание: по нему этот мальчишка должен был получить ни много, ни мало — принцессу Сэниа!
Юрг стиснул зубы. Глупо получилось, предельно глупо, его услышала едва ли одна сотня человек… Он набрал полные легкие воздуха, стараясь перекрыть смятенный гул:
— Я один перед вами всеми, и я без оружия! Вы можете убить меня, но правду вы уже знаете, и никуда вам от этого не деться. Даже если бы у меня сейчас была шпага, я не поднял бы ее в свою защиту — у нас, на Земле, зрячие не сражаются со слепыми. А вы хуже слепцов! Крэги, которых вы так чтите, — не поводыри, не верные слуги. Это ваши хозяева…
Толчок сбил его с ног, и, падая, он ощутил то щемящее головокружение, сопутствующее мгновенному переходу, в который увлек его кто-то из джаспериан. Щека его коснулась шершавой известняковой плиты, и над головой раздалось негромкое потрескивание факела.
Мона Сэниа сидела на том же месте, где они с Гаррэлем оставили ее, и только дымный огонь от факела, торчавшего в расщелине скалы, освещал внутренность замкового дворика. Она подняла голову — ничего от ее лице не осталось от прежней надменности. И от королевского достоинства — тоже. Огромные глаза и смертная мука ожидания — вот и все.
Из-за ее плеча хмуро глядели потемневшие глаза Юхана. И принцесса, и названый брат сидели молча на обломках камня и при появлении Юрга не поднялись.
— Сэниа, — сказал Юрг, — ты прости меня, дурака, я больше никогда без тебя…
Она кивнула и продолжала глядеть не на него, а дальше, на того, кто стоял сзади и перенес ее супруга, вырвав его из лап неминуемой смерти. Юрг резко обернулся — это был все-таки Гаррэль, но в каком виде…
— Пойдем-ка, Юрик, — проговорил Юхан, делая два шага вперед и крепко стискивая запястье своего командира. — Пойдем.
Они подошли к тяжелой дубовой двери, переступили порог.
Всеми силами Юрг постарался не обернуться. Подкатили сервы, услужливо приняли плащи и оружие. Привратный серв со скрипом затворил дверь.
— У вас что-то стряслось? — Юрг вцепился в отвороты комбинезона своего названого брата так, что материя затрещала.
— Да у нас-то ничего… Голос. Трансляция из королевского сада.
— Чей еще голос?
— Тана давешнего, садовника. Сказал, что снова появился призрак.
— А ты что, сам не догадался, что будет устроен фильм ужасов?
— Чего мне догадываться, я нечисти не боюсь. А вот тутошний народ нервами слаб, особенно дамы. Плохо кончилось.
— Знаю, — сказал Юрг. — Им надо было сразу мне поверить. А они носятся с этими курами… Впрочем, их понять можно. Представляю, какая гипнотическая жуть им померещилась по милости этих захребетников. Я как услышал истошный визг из темной аллеи…
— Это была старшая сестра Гаррэля, — быстро проговорил Юхан. — Она умерла. Думаю, что по-нашему это называется эмоциональный инфаркт. Но на шее у нее отпечатались красные пятна…
— И это Иссабаст сказал?
— А кто же еще.
Юрг сжал голову руками, прошелся по гулкой сумрачной передней. Сервы испуганно заползли в углы.
— Голову даю на отсечение, что не было никаких пятен!
Все это крэговы штучки. Надо засучивать рукава и отмывать несчастную планету от всей этой средневековой пакости! А если надо, то и драться!
Юхан оттопырил нижнюю губу, меланхолично покрутил головой:
— И тебя пообьют.
— Потому что крэгов много, а я один?
— Во-первых, мы вдвоем. А во-вторых, дело не в числе.
Ты просто не годишься сейчас для настоящей драки.
— Это почему же?
— Ты счастлив. А счастливые люди — не лучшие бойцы.
Юрг промолчал. До драки, вероятно, дойдет в ближайшем будущем — вот тогда и будет видно. Он толкнул правую дверцу.
Подниматься сейчас по беломраморной лестнице с сиреневыми колоннами он просто не мог. Тошнило от великолепия. За дверцей скрывалась легкая витая лесенка, бегущая в вечерние покои. Стены круглого помещения тоже были обшиты резными панелями, и среди причудливых листьев и виньеток, казалось, изредка проступают какие-то буквы. Юрг поставил ногу на нижнюю ступеньку, надеясь услышать за спиной легкие шаги жены. Она не шла. Он постучал пальцами по перильцам, рассеянно скользнул взглядом по стене, затканной резьбой.
Сотни отдельных элементов орнамента словно объединяли один контур, скорее угадываемый, чем точно очерченный. Ну, да, одна из букв джасперианского алфавита. Юрг машинально поднялся еще на одну ступеньку, желая лучше рассмотреть, случайно или намеренно сложились отдельные выпуклости, завитки и просто тени — ведь бывает, что даже контуры облаков совпадают с каким-то рисунком. Ну конечно, буква пропала.
Зато… Чуть левее проступила другая.
Еще одна ступенька — проступила третья буква.
Такое никак не могло быть случайностью. Он поднялся еще, искал долго — уже отчаялся, но все-таки угадал мимолетный рисунок… И еще… И еще… Девять ступеней — и девять букв.
А вместе они сложились в знакомое слово, которое в переводе с джасперианского значило «ПОДЗЕМЕЛЬЕ».
Юрг перегнулся через резные перильца, глянул вниз — старинный паркет, ни малейшего намека на замаскированный вход.
Во второй раз это слово с каким-то фатальным упрямством встало на его пути.
— Да провались ты!.. — он в сердцах чуть не плюнул на резные ступеньки. — Тут и в замке-то не разобраться со всей этой чертовщиной, не до подземелий.
Сердце екнуло, потому что в мыслях возникло отчетливое «пока…»
5. П. ПОКА ПОД ЗАЩИТОЙ
Он подошел к стойке с оружием и, упершись ногой в яшмовое основание, со скрежетом вытащил из гнезда тяжелый двуручный меч. Звук был такой, словно оружие не вынимали уже сотню лет, но отполированная плоская полоска металла сверкала как зеркало — именно в этих целях Юрг его и использовал.
Да, с оптикой на Джаспере было паршиво — не имелось ни телескопов, ни биноклей, ни даже зеркал. Чувствовалась железная воля крэгов, если так будет позволено сказать о существах, почти целиком состоящих из невесомых пушистых крыльев.
Материализованные привидения. Вот только когти, смыкающиеся на запястьях — драгоценные, блистательные… наручники.
Он утащил пудовый меч в ванную, прислонил к стене и принялся бриться, искоса поглядывая на фрагмент собственного отражения, умещавшийся в пределах лезвия. Когда это Юхан назвал его счастливым человеком? Целую вечность назад — два месяца. Сейчас в серой блестящей поверхности отражалось лицо с ввалившимися щеками, настороженно сжатыми губами и лазерной жестокостью взгляда когда-то голубых и беспечных глаз. И немудрено: эти два месяца они все четверо спали, не раздеваясь, в одной комнате, которая была выбрана из тех соображений, что имела три выхода и кроме того — люки в полу и потолке. Охранялась она сервами, которым было приказано в случае чего просто завалить вход своими телами. И все-таки для надежности пришлось ввести четырехчасовые вахты.
Юрг провел пальцем по подбородку — кое-где еще кололось. Подошел к стрельчатому окошку, прикрытому самодельными жалюзи, с удовольствием втянул тоненькую струйку свежего воздуха. И в ту же секунду тяжелый дротик, сорвав несколько пластинок, влетел в ванную комнату. На ладонь левее — и точно бы в горло. В прорезавшейся дыре четко очертились контуры всадника на сивом крылатом коне, который парил перед самым окном и уже нацеливался вторым дротиком. Юрг всем телом ринулся вперед, успел-таки нажать подоконный рычаг — с грохотом опустились ставни, и хищный лязг второго дротика был уже никому не страшен.
До чего же точно целятся, собаки! В замке тысяча окошек, поди, угадай, за которым из них не опущен внутренний заслон. А тем более — распознай подошедшего человека! И вот поди ж ты, угадывают. Бьют, правда, не метко — один только раз задели Юхана за плечо. Но ведь главное — заглянуть в замок. В незнакомое ему помещение джасперианин просто не способен проникнуть — для проклятого «перехода через _н_и_ч_т_о_» нужно очень четко представлять себе, куда переброситься. Без этого можно вмазаться в стену, оказаться в одной точке с поднятым мечом, сервом, мебелью или другим человеком. А это — верная гибель. Поэтому осаждавшие все силы прикладывали к тому, чтобы заглянуть во внутренние покои замка. Удавалось им это редко, но уж если хоть один из нападающих совал свой нос в какое-нибудь окно — эту комнату приходилось наглухо замуровывать, потому что в ней в любой момент мог очутиться враг.
Сейчас, кажется, обошлось.
Но ведь рано или поздно не обойдется, ворвутся скопом во внутренние помещения, навалятся — ни шпага не поможет, не десинтор. И что самое страшное — бьют-то ведь почти наугад.
И когда-нибудь их мишенью нечаянно станет Сэнни…
Вчера она не выдержала. Когда чей-то оголтелый крылатый конь грудью и копытами проломил купол ее любимого висячего садика, она, несмотря на осенний холод, как было, в утреннем сиреневом платьице выскочила в замковый двор.
Всадники, плавно кружившиеся над стенами, прянули в стороны. Даже не взглянув на них, она быстрой походкой направилась по дороге к заводам. Никто не посмел ни приблизиться, ни даже пересечь ей дорогу. Вдыхая запахи вянущей травы и с наслаждением подставляя лицо и плечи холодному ветру, от которого она успела отвыкнуть за эти два месяца вынужденного затворничества, она дошла до первых корпусов и хозяйски огляделась. Все здесь было в порядке, вот только…
Повинуясь какому-то толчку, она резко обернулась — левая башенка замка была охвачена пламенем. Потеряв голову от страха, она ринулась туда — и чуть не угодила в самое пламя.
Сервы, деловито тушившие пожар, подхватили ее и не вполне почтительно, но быстро протащили в лоджию, где, к счастью, еще ничего не затлелось. Юрг едва успел накинуть плащ на нее — промерзшую на ветру, мокрую насквозь; она вырвалась, подбежала к висевшему в нише серебряному гонгу и ударила в него рукояткой своего кинжала.
— Правосудия и справедливости! — крикнула она, перекрывая бархатистый звук гонга, посылая свой голос в никому не ведомую даль.
— Сэнни? — донесся из этой дали удивительно властный, полнозвучный баритон, как будто только и ждавший приглашения к диалогу. — Я знал, я знал…
— Скажи мне, почему мой муж, равный мне разумом и свободой рождения, не защищен законами справедливого Джаспера?
— Погоди, Сэнни, все не так просто…
— Еще бы! Что может быть проще убийства? Защита — она много сложнее!
— Постой, девочка, тут надо подумать. Тебе сюда нельзя… Ты пойми меня правильно, но ведь законы — это единственное, на чем мы еще держимся. Тебе, значит, сюда нельзя.
Но мы сделаем вот что: я приду сам. Ты где?
— В лоджии.
Ее голос не успел отзвучать, как на фоне каких-то геральдических зверей, поблекших от времени, возникла невысокая человеческая фигура, тоже вся какая-то блеклая. Длинные волосы, брови, усы, борода и бакенбарды свисали единой, весьма прореженной системой. За всей этой растительностью совершенно скрывалось лицо, и судить о возрасте пришельца было невозможно. Бронзовый крэг — редкоперый, с воспаленными глазами, похоже, был подкрашен, и неумело — в основании перьев проглядывала прозелень. В отличие от джаспериан, щеголявших изысканными камзолами, вновь прибывший был одет в какой-то потертый лапсердак из кожи, отдаленно напоминающей лошадиную.
Со всем этим катастрофически контрастировали глаза — умные и беспокойные глаза до смерти замороченного на работе человека. К тому же они уставились на принцессу и никак не хотели от нее отрываться. «Старый ловелас, только его нам и не хватало в качестве пожарника», — со злостью подумал Юрг.
— А ты похудела… — с неподдельно нежностью проговорил тот. — Тебе чего-нибудь не хватает? Я велю доставить. Мы сейчас оформим это так…
— Не будь жалким, — жестоко отрезала мона Сэниа. — Я спросила…
Что-то тяжелое с лязгом впилось в оконный переплет, но стекла выдержали.
— Поднять на башне мое знамя, — как-то мимоходом распорядился неизвестный, делая небрежный жест в сторону сервов.
Скорость, с какой они бросились выполнять его приказание, весьма незначительно отличалась от звуковой. Где-то очень высоко — должно быть на башне — взревела хриплая труба; человек в лошадиной коже подошел боком к окну, все так же не отрывая взгляда от моны Сэниа, распахнул ставни. В лоджию ворвался влажный осенний воздух, и только сейчас стало ясно, как тяжело было до сих пор дышать в смрадной атмосфере не до конца притушенного пожара. Юрг с опаской оглядел небо, но экстремистов на крылатых конях как ветром сдуло.
— Правосудие и справедливость на той стороне, — проговорил гость, печально покачивая кудлатой головой. — Ты ведь знаешь, как высоко ценится каждая жизнь, а мы потеряли уже троих…
— Но мой муж и его брат — тоже люди!
— Они — существа без крэгов. На других планетах мы обходим таких стороной, не нанося вреда, но на собственной земле мы вынуждены от них защищаться. К тому же, никто еще не преступил грани закона — здесь не прогремел еще ни единый выстрел. А шпаги там, дротики, бердыши и прочая ерунда… Ты же знаешь, Сэнни, что наша молодежь владеет всем этим в таком совершенстве, что они сумеют промахнуться. И промахиваются.
— Значит, это — спектакль? — взъярилась мона Сэниа. — Не по твоему ли приказу?
— И да, и нет. Но продолжать это опасно. Поэтому мы сделаем так: твой муж и его брат должны получить права истинных джаспериан. Для этого им надо просить крэгов о Милости Пестрого Птенца. Что будет потом — это уже детали, пусть сначала получат себе поводырей. Но юридически они будут защищены всеми древними законами только тогда, когда на их плечах появятся крэги — хотя бы пестрые…
— Ну об этом вы и не мечтайте! — решительно заявил Юрг.
Гость впервые поднял на него глаза. Странно, очень странно глядели джаспериане: внимательно и все-таки немножечко в сторону. Но если их взгляд направлялся на голос — тут уж никак нельзя было заподозрить их в слепоте. И тем не менее это было так.
Юрг с твердостью выдержал взгляд пришельца, готовясь отмести любые предложения. Но вместо этого услышал:
— Это — твой супруг? Совсем еще мальчик…
Ну, вот это уже было просто из рук вон! Юрий Брагин слышал про себя все, что угодно — но такое…
От растерянности он пропустил возможность ответить на реплику.
— Грустно, очень грустно, — продолжал гость. — Тогда у меня единственная просьба: улетайте скорее. Сколько у меня там малых кораблей наготове? А, восемь. Для надежности нужно еще два… — Он сцепил руки и покрутил большими пальцами. — Тогда мы сделаем так: в замке Хурмов… да и в семействе Ютов есть безнадежные старики. Они практически уже отключились, не видят и не слышат. Их крэгов можно будет уже отправлять.
— Да вы что? — впервые вмешался Юхан. — От живых людей?
От возмущения он даже стал слегка заикаться.
— Заставить их умирать в темноте? — тоже взорвался Юрг.
— У нас это называется подлостью!
— А у нас это называется стратегической необходимостью, молодой человек, — сказал гость. — Если кто-нибудь еще встанет на вашу сторону, то это будет уже не нападение на отдельный замок, а маленькая война. Но даже маленькая война для нас — непоправимая трагедия. Вы этого не поймете… Лучше пожертвовать двумя стариками. Хотя, если бы не Сэнни, я охотно пожертвовал бы вами, и сейчас вы находились бы попросту в космическом пространстве. И без скафандров. Впрочем, можно и в них.
— Ну, спасибо за скафандры, ваша доброта неописуема, — усмехнулся Юрг. — Знаете, мы тоже не хотим войны, даже маленькой. Мы только просим нас выслушать, понять и затем вместе подумать, как быть дальше. Никакой скоропалительности! Никаких преждевременных мер! Только — узнать правду и обдумать ее.
— Да она нас уничтожит, ваша правда, — сказал гость.
Мона Сэниа стиснула руки и, отвернувшись к стене, прижалась к ней лбом.
— Ну, не хотите брать крэгов у стариков — дело ваше.
Подождите. Жертвы еще будут, и скоро. И как только наберется десять дружинников — улетайте. Я не властен над вами, существами без крэгов, иначе это было бы просто приказом.
Юрг покачал головой:
— Бросить вас — слепышами?
— Оставить нас — живыми. Джаспер — цветущим и богатым.
А Сэнни — прежней принцессой. Не парией.
— Ах, вот что…
— Да. Вдова владетельного эрла Асмура, мона Сэниа найдет себе мужа…
Только тут Юргу пришло на ум, что за все время разговора владелец бронзового крэга ни разу даже не взглянул в сторону Гаррэля, словно юноши здесь и не было. Он подошел к пажу и опустил руку на пестрое оперенье, прикрывавшее его плечи:
— Моне Сэниа незачем искать себе мужа. Если со мной что-нибудь случиться, она завещана Гаррэлю из рода Элей.
Он и сам не знал, почему у него вырвались эти слова. Но странный гость не соизволил обратить на это сенсационное сообщение ни малейшего внимания. Он снова смотрел на мону Сэниа, и только на нее:
— Я должен идти, Сэнни, у меня больше нет ни минуты. И если у тебя не останется никакого выхода, сделай так: сожги за собой… мостки.
Нет, не мостки, не мосты, какое-то другое слово, которому Юрг не знал земного эквивалента — и сама пословица звучала не однозначно, в ней было какое-то тайное указание. Он несколько раз повторил про себя эту загадочную фразу, чтобы обдумать ее на досуге, если таковой им еще представится. Но пока он ломал себе голову, владелец бронзового крэга растаял в воздухе так же неожиданно, как и появился.
Мона Сэниа подошла к окну и плотно прикрыла металлические ставни.
— Спустите знамя, — велела она сервам.
— Какое еще знамя? — растеряно переспросил Юрг, голова которого не могла переварить столько неожиданностей разом.
— Королевское, — ответила его жена.
6. КОГДА МОСТЫ СОЖЖЕНЫ
— Тупик, — сказал Гаррэль, поднимая факел.
С огромного золотого щита на них смотрел маленький человек-муравей, немилосердно тараща фасеточные глазки. Его окружал рой чеканных пчел — символ былого плодородия Джаспера. И вообще все подземелье производило впечатление храма язычников-энтомологов.
— Это еще кто? — спросил Юрг.
— Древние боги, — устало ответила мона Сэниа.
— Почему-то мне так и хочется дать ему в глаз, — с несвойственным ему раздражением проговорил Юхан.
— Никогда не сдерживай порывов, которые идут от сердца, как говорил де Тревиль, капитан королевских мушкетеров, — ответил Юрг.
Гаррэль вытянул руки вперед и большими пальцами надавил на выпуклые глаза божка. Раздался скрип, и щит медленно отодвинулся в сторону, словно затворка торпедного аппарата.
— Просто счастье, что все двери и механизмы сделаны из золота, — заметил Юрг. — За столько лет не заржавело. А дальше, между прочим, опять пещера.
Своды очередной пещеры терялись в полумраке, но на стенах задумчиво тлели созвездия фосфоресцирующих грибов. Если потушить факел, то глаза быстро привыкали к такому экзотическому освещению. Вдобавок где-то слева приветливо журчал ручеек.
— Останавливаемся здесь, — скомандовал Юрг. — Водопой рядом, сзади неплохой лабиринт с ловушками. Дальнейшую дорогу разведаем после ужина. Полагаю, что мы находимся в каком-то капище. Всем располагаться…
Сзади раздался металлический грохот — упал еще один серв.
— Еще один отключился, — сказал Гаррэль. — Подзаряжать будем, командир?
— Нет. У нас всего три ящика с батареями. Что не успеют донести сервы, притащим мы. Времени много.
Последнее замечание не вызвало энтузиазма ни у кого из присутствующих — времени действительно было много, так много, что ни один не решился задать вопрос: а что же потом?
Сервы, выбиваясь из последних сил, втаскивали ящики и, повинуясь жесту Юрга, складывали их друг на друга, отгораживая правый угол подземного покоя для моны Сэниа. Юрг и Юхан тщательно проверили, нет ли здесь ловушек, — вроде бы не было.
Ступени, возвышение, кованый балдахин — все было из чистого золота, литого, высокопробного, и оставляло желать только лучшей отделки.
Вдоль стен тянулись массивные лавки-лари, несомненно хранившие какие-то фамильные ценности.
Когда-то на них лежали драгоценные покрывала, но сейчас от них осталась только ветошь, которой можно было стереть многовековую пыль, да выпавшие из оправ крупные драгоценные камни — при попытке усесться на ларь их приходилось то и дело извлекать из-под себя. Их швыряли в угол. В ларях действительно обнаружилось множество статуэток, тончайшая золотая посуда и, как ни странно, никакого оружия.
Сейчас все сидели над бездымной шашечкой теплого концентрата, оказавшегося во время их бегства под рукой, — продукция собственного ленного комбината, на котором в старинном золотом кумганчике варился кофе или, во всяком случае, его довольно близкий джасперианский эквивалент.
Теперь, когда от входа в подземный лабиринт они отошли довольно далеко, можно было посидеть и подумать.
— Не по-ни-маю… — медленно проговорил Юрг, потирая впалые щеки. — Тайна на тайне, засекреченные входы, ловушки… Судя по надписи над входом, мы еще и заслужили самое страшное проклятье, какое только звучало на Джаспере. А ради чего? Что было здесь прятать? Золото?
— Не знаю, — сказала мона Сэниа. — Почему — золото? Оно не дороже свинца. Мы просто редко носим золотые украшения, поэтому вам и показалось, что это такая ценность.
— Капризы моды, — усмехнулся Юхан. — Вот уж чего не было у нас на Земле — это чтобы золото стало не модным!
Как и всякую женщину, неожиданный поворот разговора к вопросам моды заставил принцессу на некоторое время забыть об усталости:
— Нет, нет, — живо возразила она, — мода — это какое-то предпочтение, удерживающееся годами, а то и десятилетиями.
Но не дольше! А неприязнь к золоту… Странно, этот вопрос никогда не обсуждался, словно в нем было что-то неприличное…
— Сэнни, а ты сама надела бы золотые украшения?
— Вряд ли.
— А почему?
Мона Сэниа беспомощно вскинула ресницы:
— Но ведь это будет неприятно моему крэгу!
— Почему? — настаивал Юрг.
— Вероятно, потому, что крэги — олицетворение легкости, а золото — тяжести…
— У нас оно олицетворяет нечто иное, — пробурчал Юхан.
— А не скажешь ли ты, сестричка, как давно вы невзлюбили золото?
— О! С самых Черный Времен!
— То есть, когда крэги стали служить джасперианам, — констатировал Юрг.
— Ну, тогда все понятно, — возгласил Юхан. — Крэги стали новыми богами джаспериан, а старых за ненадобностью сволокли сюда, запечатали и закляли страшным проклятием, чтобы никому не повадно было возрождать отжившую религию.
— У нас никогда не было запретных богов, — проговорила мона Сэниа, устало вытягивая ноги. — Кто кому хотел, тот тому и молился. А древних богов вспоминают по-доброму, как прапрадедушек.
— М-да, — протянул Юхан, — с этой стороны мы тоже не подобрались к разгадке… Полторы тысячи лет — такими сроками оперируют археологи, а не космолетчики, как мы с Юриком.
— Стоп! — Юрг вскочил на ноги. — Полторы тысячи лет? Я не археолог, но могу поручиться, что зерно в кувшинах, что стоят в соседней пещере, раз в десять моложе. Кто принес его сюда так недавно?
— Значит, кто-то из рода Муров нарушал запрет и спускался сюда… Впрочем, в королевских архивах об этом ничего не говорится. И планов подземелья никто не знает. Мы можем беспрепятственно перенестись в любой из замков Джаспера, это привилегия членов королевского дома, но подземелье запретно и для нас.
— Но почему, почему, почему?
Кукушонок, давно уже хохлившийся, как от ветра, сделал такое движение, словно хотел взлететь.
Никто не обратил на него внимания.
— А когда его построили?
— И на это ответить трудно, — пожала плечами Сэниа. — Во всяком случае, пещеры существовали всегда. Затем отсюда стали брать камень для строительства замков, задолго до Черных Времен. От пещеры к пещере пробивали подземный ход — так возник древний лабиринт.
— У нас на Земле так же. Древних лабиринтов полным-полно, но таких протяженных, как этот — ни одного. Он тянется до самого королевского дворца?
— Не исключено. Хотя… Из всех современных замков дворец был построен последним. Уже после Черных Времен.
— Послушай, Сэнни, мы уже полгода слышим об этом кошмаре, но ни разу не было времени толком расспросить, что же у вас приключилось?
— Это очень грустная история, муж мой, но мы сейчас в достаточно невеселом месте, так что мой рассказ прозвучит кстати… Я постараюсь быть краткой, потому что никто не оставил подробной летописи. Не до того было.
— Ты все-таки поподробнее, сестренка, — попросил Юхан, доливая ей кофе в золотую чашечку — другой не нашлось.
— Были возведены замки, потом выросли города, прошло время рыцарей, купцов, век Просветления Разума; затем пришла эра Великой Техники. Все это получилось как-то сразу. То стояли примитивные станочки, то начали строиться промышленные гиганты. И между ними — всего одна сотня лет! Только Джаспер был способен на такой немыслимый скачок.
Юрг задумчиво почесал в затылке:
— Думаешь — только Джаспер? Ну, ну…
Она посмотрела на него с грустью:
— Я просто надеюсь, что только Джаспер мог быть способен на такое сумасшествие, потому что за следующие пятьдесят лет мы буквально отравили нашу планету. Реки, моря, воздух — все было загажено, леса катастрофически вырублены, звери почти истреблены… Разумеется, чему-то можно было и порадоваться: джаспериане владеют даром мгновенного перехода через н_и_ч_т_о_, и теперь этот дар был использован для путешествий во Вселенной. Было привезено кое-что полезное: семена, дающие небывалый урожай, некоторые металлы; тогда же с какой-то из планет другой галактики привезли и крэгов.
— Так они — чужаки на Джаспере? — подскочил Юрг.
— Да. Но их родная планета была сожжена взрывом сверхновой. Потому-то для них самым горячим желанием и является уйти на какую-то пустынную планету, где они будут доживать свой век в гордом одиночестве. За это они и служат всю жизнь нам… Но давай по порядку. Итак, мы практически лишились естественных условий — катастрофически растущее население приходилось кормить искусственными продуктами, в дома подавался плохо очищенный воздух, вода синтезировалась… Тогда-то самые богатые семейства стали создавать свои усадьбы-крепости, средневековые снаружи и вполне современные внутри, рассчитывая вести там натуральное хозяйство. Но и скот, и семена злаков уже изменили свою природу. И люди начали умирать от этой нечеловеческой еды, питья и воздуха. Я не знаю, как называется эта болезнь, но она тоже была стремительна в своем развитии и прежде всего накинулась на тех, у кого не было усадеб-крепостей… Что ж, этими людьми никто не дорожил ведь на их место вставали механические рабы — сервы, которых сотнями штамповали заводы. Вот я и думаю, что о подземелье, как об идеальном убежище, вспомнили именно тогда. И начали приводить в порядок.
— А зачем же столько золота? — спросил Юхан. — Вон даже потолки в пещерах и те обшиты плиточками.
— Да, не вяжется, — покачал головой Юрг. — Вряд ли в подземелье хотели отсиживаться на случай восстания бедноты, и без того благополучно вымирающей от тотальной аллергии.
Нет, здесь что-то поглубже…
— Мы опять перебили тебя, сестричка, — сокрушенно проговорил Юхан. — Ты уж нас прости, мужланов.
— Собственно, досказывать осталось немного. Против этой болезни, для которой у нас так и нет названия, нашли лекарство. Обрадовались. Сколько-то там лет принимали — не то десять, не то двадцать. И ничего. А потом началась повальная слепота… Даже дети, и то поголовно рождались слепыми. Наверно, мир наших предков прекратил бы свое существование, если бы не крэги. С давних времен кто-то подметил, что если крэг — а их содержали как ручных птиц — садится на плечи и кладет клюв на голову ребенка, тот сразу становится в несколько раз зорче. Попробовали то же самое со слепыми — зрение к ним вернулось! Правда, видели не они сами, а крэги, но как-то все увиденное передавалось из мозга птицы в мозг слепцов. Я не биолог, тонкостей не знаю: может Гэль объяснит?
— Нет, — покачал головой юноша. — Мы не знаем, на каком принципе идет передача информации, а крэги не разрешают себя исследовать. Поэтому и невозможно создать прибор, заменяющий живого крэга. Так что мы, потомственные лекари, тоже ничего не знаем.
— Ну, а потом был заключен Великий Уговор, определяющий службу и плату, и крэги стали нашими добрыми гениями… если не богами.
— Но при чем тут подземелье? — допытывался Юрг.
Он нутром чуял, что все это как-то связано, но ни одной цепочки пока не находилось.
Пестрый крэг снова встрепенулся, словно хотел сняться со своего привычного места. Юрг рассеяно погладил его.
— Ни Уговор, ни Запрет, ни Древние Законы тогда не были записаны. Это сделали гораздо позднее, когда планета снова зажила нормальной жизнью.
Она проговорила это просто и спокойно, но все невольно склонили головы. Увенчанная аметистовой короной из перьев, освещенная тусклым факелом, она, казалось, притягивала к себе тяжелый свет, нисходящий с золотого потолка; Юрг смотрел на нее — преступившую древние законы своей земли, отверженную и преследуемую, отрекшуюся от своего королевского рода и, может быть, впервые по-настоящему понимал, какая же сказочная царевна досталась в жены ему, Иванушке-дурачку…
— Вот, собственно, и все, — закончила она свой рассказ.
— Теперь мы живем на зеленом Джаспере, и дышим чистым воздухом, и пьем прозрачную воду, и нас так мало, что порой мы месяцами не видим друг друга. Ведь Черные Времена пришли оттого, что джаспериан не смогла прокормить истощенная планета. Мы помним это и больше чумы боимся ужаса нового перенаселения.
Наступила долгая пауза. С зеленым Джаспером, обреченным на одичание в одиночестве, было все ясно, но вот подземелье так и осталось тайной за семью печатями.
— Иди-ка отдохни, сестренка, — сказал Юхан, наклоняясь к ней. — Лица на тебе нет.
Они с Юргом были одного роста и примерно одинакового телосложения, так что в полутьме подземелья их легко можно было и спутать; но когда Юхан обращался к принцессе, он сразу становился как-то шире в плечах, словно птица, расправляющая крылья над птенцом.
Он протянул руку и, словно испуганный его движением, сиреневый крэг поднялся в воздух и перелетел на какой-то золотой амулет, торчавший в углу. В одно мгновенье из владетельной принцессы мона Сэниа превратилась в беспомощную девочку, доверчиво и слепо поднимающую чуткое лицо навстречу чужому дыханию. Эти превращения Юрг каждый раз воспринимал как болезненный удар и привыкнуть к ним не мог, да и не хотел. Была какая-то чудовищная несправедливость в этом наказании без вины…
— И верно, постарайся поспать, — проговорил он, поднимая ее на руки и перенося за импровизированную перегородку, возведенную сервами. — А я схожу на разведку.
— Без тебя управимся, — донесся из-за ящиков голос Юхана. — А ты, в случае чего, держи оборону. Гэль, пошли!
Глухо брякнул золотой щит, в подземном капище стало темно и тихо. Сэниа мгновенно уснула, уткнувшись ему в сгиб локтя. Немудрено — такого дня, как сегодня, не было еще с той поры, как они ступили на зеленый Джаспер. Не успела скатиться за меловой хребет утренняя луна, как на замок навалилась орда вооруженных всадников. Теперь они уже не ограничивались копьями и дротиками, срывающими ставни и решетки, — драконоподобные жеребцы, сверкая топорщащейся чешуей, грудью и копытами пробивали себе дорогу в самых уязвимых местах — на висячих мостках, лоджиях и балконах. К счастью, бронированные плиты внутренних ставен выдержали этот штурм, но было ясно, что это — только начало. Землянам терять было нечего; не подвластные законам Джаспера, они взялись за десинторы.
Правда, били они только по животным. С десяток коней рухнуло на известняковые плиты двора — уже без всадников, которые успели улетучиться привычным для них способом. Принцесса из сострадания велела сервам прекратить мучения благородных животных, бивших переломанными крыльями по залитому кровью камню, и тут в замковой трапезной раздались боевые крики. Гаррэль, набивавший свой колчан короткими арбалетными стрелами, едва-едва успел опустить бронированную перегородку перед разъяренным отрядом, которым командовал Иссабаст.
С этой минут четверо в осажденном замке были обречены.
До тех пор, пока нападавшие не знали расположения комнат, можно было надеяться переждать здесь хоть год; но теперь Иссабаст появлялся то тут, то там, используя каждое помещение, которое он знал и помнил. Он распахивал окна, и его сторонники, на лету соскакивая с коней, врывались в коридоры и галереи. Осажденный замок кое-где горел, сервы путались под ногами, одинаково мешая обеим сторонам, и хозяева замка шаг за шагом отступали, пока не оказались прижатыми к двери, ведущей на малый двор.
Выйти наружу значило оказаться погребенными под живой массой нападающих; защищать просторный холл и витую лесенку, ведущую в вечерние покои, уже захваченные нападающими, было безнадежно — продержаться в таких условиях удалось бы час-другой.
А потом?
И вот тогда Юрг вспомнил о странных словах короля Джаспера, которым даже мона Сэниа не придала значения: «Если у тебя не останется никакого выхода — сожги мостки!» Срезанные лучом десинтора, ступени вспыхнули, открыв под собой вход в загадочное подземелье.
Туда затолкали десяток сервов и спустили ящики с продовольствием, запасенные на случай осады и, так и не убранные нерадивыми сервами от входной двери. Юрг спустился первым.
Сэниа, не колеблясь ступила за ним. Гаррэль колебался секунду — по-видимому, искал глазами, не нужно ли еще что-нибудь прихватить с собой для принцессы. Юхан спустился последним и задвинул тяжелые створки люка. Сэниа заметила, что это лишнее — ни один джасперианин не решился бы преследовать их, переступив порог подземелья.
Тогда Юрг даже не подумал — а почему бы?…
А вот сейчас, сидя на полу возле самодельного ложа жены, он над этим задумался. Может быть пребывание здесь смертельно для людей? А может…
Послышался дробный стук сапог, гулко отдающийся под сводами пещерного лабиринта. Шумно встряхнулся лиловоперый крэг, сидевший в углу. Юрг выпростал руку из-под головы жены и метнулся навстречу.
— Командор! — возбужденно зашептал Гаррэль в приоткрывшуюся щель. — В конце соседней пещеры — люк! Выход в ущелье, что за башней, которую вы зовете «Супер…»
— Суперэйфелем.
— Да, да! Человеку не спуститься — это пропасть, но крэг вылететь может.
— Его же засекут, Гэль!
— Сейчас уже ночь, а в это время все джаспериане слепы: их крэги улетают, чтобы размять крылья и выкупаться в лунном свете. Мы не можем держать наших крэгов взаперти, высокородный эрл! Мы должны о них заботиться…
— Позаботьтесь, позаботьтесь, — буркнул Юрг. — Как только вы отпустите крэгов и сами ослепнете, нас возьмут голыми руками. Наощупь.
И тут случилось непредвиденное: Кукушонок приподнял крыло и отчетливо показал коготь. Как человек показал бы один палец.
— Выпускать будем по-одному! — молниеносно решил Юрг. — Эй, Сэнни-крэг, приглашаю вас на прогулку!
Крылатое существо распахнуло крылья и бесшумно, как сова, перекочевало на левую руку Юрга. Когти жестко окольцевали запястье — наручники, да и только. Юрг переступил через порог и побежал вперед, где в дальнем конце пещеры маячил факел Юхана. Странное впечатление производила эта пещера; первобытное пристанище, кое-где сколотый камень, условный рисунок, допотопный божок в нише — тоже из полунасекомых. И над всем этим золотой свод.
Люк, открытый разведчиками, мог бы пропустить и человека, но внизу зияла провалам ночная пропасть.
— Слушай, аметист, а ты вернешься? — опасливо проговорил Юрг. — А то без тебя…
— Дурак! — коротко ответствовал Сэниа-крэг.
— Ну, знаешь, если ты решил переквалифицироваться в попугая, то научись произносить это по-русски. Эффектнее будет.
— А я еще уувеличу свой лексикон, — мрачно пообещал Юхан. — Меня этому прежде всего науучили…
Сегодня в драке ему досталось по голове. Это чувствовалось.
Юрг снял со своей руки крэга и осторожно просунул его в отверстие люка. Фламинговые перья сверкнули в свете белесой луны и исчезли из виду. Юрг притворил дверцу.
— Он вернется, — проговорил приглушенный, по-детски слегка картавящий голос.
Юхан, Юрг и Гаррэль разом вздрогнули.
— Кукушонок, ты?
— У меня… мало… времени… — продолжал пестрый крэг, старательно выговаривая слова. — Он вернется… потому что должен следить за вами. Для крэга прежде всего — долг перед всеми крэгами.
— А ты? — ошеломленно спросил Гаррэль у собственного поводыря.
— Я… я пария, пестрый крэг. И вы первые, кто приласкал меня. Я ведь не виноват, что родился… пестрым. — Чувствовалось, что это слово он выговаривал с наибольшим трудом.
— Значит, Сэниа-крэг шпионит за нами?
— Да. Сейчас он выдаст своим собратьям все тайны вашего убежища.
— И они передадут Иссабасту.
— Нет. Крэги слишком презирают людей.
— Ну, об этом я догадывался… — пробормотал Юрг. — А почему же мы не слышим, чтобы крэги пели или щебетали?
— Мы не говорим. Мы думаем. Но то, что видит или слышит один, видят и слышат все.
— Телепатия, черт бы ее подрал! — пробормотал Юрг.
— Я… не знаю этого слова, — смущенно признался крэг.
— Так тебя и сейчас слышат? — спросил Юхан.
— Нет, нет, — торопливо забормотал Кукушонок. — Вы искали тайну подземелья, а она вот в чем: крэги не слышат того, что происходит в нем. Потому-то они о наложили на него строжайший запрет и смертное заклятье. Это — единственное место, где можно составить заговор против крэгов.
— Знать бы раньше, — вздохнул Юрг, глядя в золотой потолок. — Но послушай, Кукушонок, ведь ты вылетишь отсюда — твои мысли будут прочтены?
— Пока я постараюсь тихонечко петь про себя, чтобы заглушить свои мысли, даже невольные. А потом… Говорите почаще на своем языке, я его уже немного изучил, но будет безопаснее, если я вообще буду думать на нем.
— Да ты просто гений, Кукушонок!
Снаружи послышался легкий скрежет по дверце — аметистовый крэг, похоже, опасался надолго оставлять людей без своего присмотра. Юрг принял его на руку и понес обратно в свои подземные апартаменты. Юхан и Гэль остались, чтобы дождаться Кукушонка, выскользнувшего наружу.
Осторожно ступая, Юрг вошел в их новое жилище. Прислушался. Мертвая тишина. Ни шороха, ни дыхания. Смертельный ужас нахлынул на него, и он бросился за перегородку, стряхнув с руки пернатое созданье.
Сэниа тихо спала, сжавшись в зябкий комочек. Господи, да что он сделал с ней? Пришел с далекой звезды — и зачем?
Чтобы замуровать ее в этом подземелье?
— Прости меня, — невольно вырвалось у него, — прости…
Легкие пальцы привычно коснулись его лица:
— Глупый, — прошептала она, — глупый ты мой… Я ведь только сейчас и начала жить по-настоящему…
— Какая же это жизнь! Вот раньше ты была предводителем звездной дружины, а еще раньше — юной принцессой, которую любило первый рыцарь королевства.
— Ах, вот что тебя тревожит… — тихий смех поднялся из темноты, словно пузырьки серебряного воздуха со дна ручья. — Нет, милый, все гораздо печальнее. Это я любила его, любила всю жизнь, — боготворила, мечтала, тосковала… Пока не поняла, что он просто не умеет любить. Для него было по-настоящему дорого только одно — одиночество. Может быть, его самого мучило то, что он холоден, как статуя — не знаю. Но даже в последний свой миг он не нашел для меня ни единого слова любви. Знаешь, какие слова он послал мне через все дали космоса?
— Не надо, Сэнни…
— Он сказал: «Ты свободна, принцесса Сэниа». И тогда я поняла, что и во мне давно уже больше горечи и отчаянья, чем любви.
— А вот у нас, на Земле, могут оживать даже статуи, если полюбить их больше жизни, — сказал он. — Во всяком случае, в легендах.
— У нас, на Джаспере, так не бывает.
— Значит, на Земле умеют любить сильнее, — улыбнулся он.
— Может быть, у вас просто дороже ценят свою жизнь. Ты не думал, зачем я ринулась в созвездие Костлявого Кентавра?
Чтобы никогда больше не вернуться на Джаспер. Я поняла, что мне просто незачем жить. И не вернулась бы, если…
— Сэнни, скажи мне, дураку непонятливому, как это приключилось, что ты смогла полюбить меня?
— Я и сама не знаю… Наверное, это пришло тогда, когда я в самый первый миг почувствовала твои руки, твое дыхание… Разве у вас, на Земле, не достаточно одного прикосновения, чтобы полюбить?
Он счастливо засмеялся:
— Если честно, то у нас для этого требуется как минимум один взгляд.
— Значит, все-таки на Джаспере умеют любить сильнее…
За золотой дверью послышались гулкие шаги и голоса, оттененные пещерным резонансом.
— О, дьявол, — вырвалось у Юрга, — может, тебе эта жизнь и кажется настоящей, но вот мне — нет. Столько ночей не раздеваясь, с оружием в руках, все вместе…
— Мой звездный, мой нетерпеливый эрл, — проговорила она скорее печально, чем радостно, — скоро нас станет еще больше…
— Что?!..
— Глупый, мой отец догадался об этом с первого взгляда.
Дверь хлопнула и отсвет факела, как зарница, беззвучно метнулся по золотому потолку. Юрг, не способный придти в себя от неожиданности, продолжал прижимать к себе жену, тихонечко покачивая ее, как младенца. Счастье? — Да, само собой; но это подземелье, темнота, опасность… И то, что его крошечный, беззащитный малыш будет обречен на пожизненную слепоту…
— Это еще что? — раздался из-за перегородки бас Юхана.
Безошибочное предчувствие беды коснулось Юрга, и он, прижимая к себе жену одной рукой, а другой выхватывая из-за пояса десинтор, с которым никогда не расставался, бросился на голос друга.
Юхан и Гаррэль недоуменно стояли перед кучей сваленных в углу шаманских атрибутов, на которой устроил себе насест сиреневый крэг. При зыбком свете факела было отчетливо видно, что на шее пернатого существа была надета золотая цепочка, на которой болтался, как амулет, маленький изящный свиток пергамента.
Крэг пренебрежительно отвернулся и глядел в стену, словно не замечая столпившихся перед ним людей.
— Разверни-ка, — сказал Юрг, кивая на свиток.
Юхан осторожно потянул с крэга цепочку, зашуршал пергаментом. Юрг наклонил голову, щурясь:
— Та-ак: «Мы… милостью древних богов… и так далее… всея Джаспера и тырыпыры… пропустим… А! До захода солнца повелеваем эрлу Юргу, не имеющему собственного крэга, а также его брату эрлу Юхану… о движимом имуществе тут ни гу-гу… прибывшим из созвездия Костлявого Кентавра, прибыть на звездную пристань, где их ожидают десять кораблей с полным экипажем. Командору Иссабасту вменено доставить упомянутых эрлов на родину без убытка и поношений. Коль скоро упомянутые эрлы до захода солнца не покинут зеленый Джаспер, считать их существами хищными и опасными и в оружии против них не ограничиваться…»
— Что там еще? — настороженно спросила мона Сэниа, оборачивая побелевшее лицо на треск факела.
«Владетельной ненаследной принцессе Сэниа прибыть во дворец». Все.
— Можно я выражусь по-русски? — спросила принцесса.
— М-да, — резюмировал Юхан, — пошла игра без правил…
— И с силовыми приемами, — добавил Гаррэль, которому Юхан уже объяснил разницу между любительским и профессиональным хоккеем.
— Ну, а ты что молчишь, командор? — удивился Юхан.
— Не знаю… — тихо проговорил Юрг, сердце которого разрывалось от боли и бессилия. — Не знаю.
7. АЛЬТЕРНАТИВА
Потянулись томительные дни подземного заточения. И только глубокой ночью, когда аметистовый крэг улетал в непроглядную темную синь, с лихорадочной быстротой узники начинали вырабатывать план дальнейших действий.
И без того тяжелое положение осложнялось еще и тем, что золотые своды, где под слоем благородного металла скрывался еще какой-то камень, по твердости превосходивший алмаз, были непроницаемы не только для всевидящих крэгов. Оказалось, что джаспериане в своих «переходах через н_и_ч_т_о_» тоже не могут преодолеть этот барьер, и для того, чтобы самому очутиться в другой точке планеты или послать туда свой голос, что до сих пор было для них привычно и естественно, теперь нужно было выбираться на поверхность.
Поэтому, отложив даже самые первоочередные дела, вся четверка прежде всего занялась поисками новых лазеек наверх и старательным вызубриванием топографии известной части лабиринта — особенно строг был Юрг к Сэниа и Гаррэлю, требуя, чтобы они проходили все тупики, повороты и ловушки «с завязанными глазами».
Он ни йоту не доверял крэгу-фламинго и опасался за Кукушонка.
Наткнувшись на загороженный выход, ведущий, похоже, прямо к цокольным этажам «суперэйфеля», Юхан занялся завалом, не рассказывая о нем пока принцессе: впервые под камнями обнаружились кости. Юрг ставил вешки в южном направлении — судя по всему, эта ветвь подземного хода вела прямехонько во дворец, лежавший по ту сторону мелового хребта. Гаррэлю было поручено не сводить глаз с моны Сэниа, а еще точнее — с ее крэга.
Кукушонок летал на разведку.
Первое, что он обследовал, была Звездная пристань.
Здесь все было в порядке: десять кораблей, соединившись в один мак, уже отбыли в неизвестном направлении, так и не дождавшись строптивых землян. Теперь на сером ноздреватом бетоне виднелись десятка три малых и четыре больших корабля, но ни одного члена будущей звездной дружины.
Захватить эти скорлупки не представляло ни малейшей сложности; проблема заключалась только в том, что для столь дальнего межзвездного перелета требовалось объединения не менее чем из семи-восьми кораблей, — в подземелье же только Сэниа и ее верный паж владели даром перехода через н_и_ч_т_о_.
Необходимо было искать союзников.
Пылкий Гаррэлю тут же предложил себя в качестве глашатая. Днем через узкую щелку удалось рассмотреть, что под входным отверстием тянется довольно широкий карниз — спрыгнуть на него ничего не стоит, случайных глаз в этом затерянном уголке опасаться нечего, нападавшие ушли из замка. Так что он сможет беспрепятственно послать свой голос хоть всему населению Джаспера!
Юрг решительно запротестовал. Ни о каком широком оповещении и речи быть не может. Нужно выбрать надежных людей.
— И, кроме того, переговоры придется вести быстро и безошибочно — первый же отказавшийся сможет нас выдать, — добавила мона Сэниа. — А так говорить здесь могу только я, и только со своей дружиной.
— Ты с ума сошла! — возмутился Юрг. — Отпустить тебя ночью на этот карниз, над ущельем? И речи быть не может!
— Бесстрашный эрл, — тихо засмеялась Сэниа, — как, по-твоему, джасперианин может разбиться? Он уйдет в _н_и_ч_т_о_.
— Сэнни, вспомни, как ты смеялась при одной мысли о том, что можно заключить джасперианина в темницу! А где мы сейчас?…
Мона Сэниа смолкла.
А на следующую ночь все повторилось сначала.
Так продолжалось пока Юрг не вынужден был согласиться.
Едва сиреневый крэг, кажущийся в лунных лучах серебристым, растворился в ночной тишине, из круглого отверстия, ведущего из подземелья в неглубокое ущелье, выскользнула веревочная лесенка. Юрг, едва коснувшись ее, спрыгнул на карниз и поднял руки вверх; Юхан бережно передал ему завернутую в плащ Сэнни. Юрг поставил жену рядом с собой, одной рукой крепко обхватив ее за плечи, а другой сжимая откалиброванный на непрерывный разряд десинтор. Белые известняковые стены ущелья хорошо просматривались в свете предполуночной луны, и можно было не опасаться внезапного нападения.
И все-таки…
Сверху из люка свесился Юхан и положил руку на плечо названому брату — для подстраховки. Видно, и он не считал эту акцию безопасной.
Мона Сэниа вскинула ресницы, и ее невидящие глаза напряженно вперились в темноту, словно там перед ней возникали те, кого она называла:
— Славные Эрм и Дуз, могучие Борб и Пы, быстрые Ких и Сорк, зоркие Скюз и Флейж, звездная дружина Асмура! Слышите вы меня? — негромкий призывный голос на секунду замолк, словно дожидаясь ответа, потом продолжал: — Я прошу у вас веры и помощи. Полторы тысячи лет слепое население Джаспера видит мир глазами крэгов. Вы лучше других знаете, что это такое — вспомните хотя бы, какими омерзительными, злобными чудовищами представились нам поначалу люди Чакры Кентавра.
Наш гнев и отвращение были столь велики, что мы должны были, по замыслу крэгов, попросту уничтожить этих гадин… Но мы так не поступили.
Она наклонила голову и коснулась щекой руки Юрга, согревающей ей плечо.
— Но когда пришельцы очутились среди нас, крэгам пришлось менять свою тактику, — продолжала мона Сэниа. — Теперь мы могли скорректировать наше виденье хотя бы осязанием и заподозрить обман. И мы стали видеть эрла Юрга и его брата такими, какие они есть, но… едва мой супруг раскрыл первую из тайн крэгов, как на нашем Джаспере якобы появился призрак. Звездные братья, я заклинаю вас верить мне: этого призрака не существует! Он появляется только в вашем воображении, но зато столь ужасный, что уже несколько человек, поддавшись наваждению, попросту умерли от страха. Что еще могут сделать с нами крэги? Предусмотреть трудно, но нужно быть готовым ко всему…
Она глубоко вдохнула холодный ночной воздух и продолжала:
— А теперь мне нужна ваша помощь, потому что впервые за полторы тысячи лет появилась реальная возможность освободиться от того рабства, в котором мы пребываем. Мой супруг, владетельный эрл Юрг, утверждает, что на его родине могут создать легкие аппараты, как бы возвращающие зрение… на их планете, которую они сами называют Земля, это перестало быть проблемой. Стало быть кому-то из нас нужно отправится снова в созвездие Костлявого Кентавра, наладить изготовление аппаратов, пригодных для нас, и вернуться сюда вместе с этим драгоценным грузом и теми добровольцами, которые согласятся лететь на Джаспер, чтобы наладить и у нас производство таких приборов. Сами понимаете, у себя на родине, мы сделать этого не сможем — крэги нам помешают. В благодарность за это путешествие мы обещаем крэгам самые прекрасные, самые изысканные планеты, какие они пожелают выбрать, — мы доставим их туда сразу же, как только обретем искусственное зрение. Теперь решайте, согласны ли вы помочь — нет, не мне, а всему Джасперу?
Она замолчала, и ее чуть запрокинутое лицо, подставленное ночному ветерку, стало напряженным. Она ждала ответа, но ни единый звук не нарушал больше лунного безмолвия затерянного ущелья.
Прошла минута, другая, третья.
— Трусы! — крикнула вдруг мона Сэниа с такой силой, что Юрг вздрогнул и прижал ее спиной к холодному камню. — Трусы, птичьи наемники, слепые убийцы! Я щадила вас, но теперь слушайте! Вы похвалялись вашими подвигами на Серьге Кентавра, в земле которой остался мой первый муж… Хорошо же, я расскажу вам, что вы там натворили, потому что теперь я это знаю из самого достоверного источника…
— Сэнни, ты о чем? — встревожился Юрг. — Ты уже сказала все, о чем мы договорились, и хватит на сегодня! Пусть подумают, а тебе оставаться здесь больше нельзя, и так уже прошло слишком много времени, твой фламинго вот-вот вернется…
— Не забавно ли, муж мой — я, беззащитная принцесса, сейчас являюсь единственным существом, которое никого и ничего не боится! Но времени, действительно, мало, а им, храброй звездной дружине, есть что послушать. Так вот, благородные рыцари, вы, как наемные каратели, уничтожили разумное население целой планеты. Никаких человекоподобных дикарей на Серьге вообще не существовало, а были добрые и мудрые кентавры, не причинявшие никому зла. Вы стерли с лица земли их огромный город, который крэги заставили вас увидеть скопищем зловонных вулканов, вы сожгли живыми и детей и стариков, и все это — только потому, что одному-единственному крэгу заблагорассудилось завладеть этой планетой!
— Но рисунки внутри пирамиды, — донесся откуда-то из темноты хриплый, потрясенный шепот, — но кости, взывающие к возмездию, но меч справедливости…
— И рисунки, и кости существовали только в вашем воображении, разве вы не догадываетесь? — жестко бросила принцесса. — В действительности было только одно: «Фа ноэ?» — слова, произнесенные последним умирающим кентавром. Это слова преследовали моего мужа, эрла Асмура, до смертного мига.
«Фа ноэ?» — «ЗА ЧТО?!..»
И в эту секунду словно черный беззвучный взрыв полыхнул в ущелье, разбрызгивая сгустки ночного воздуха, и перед Юргом буквально на мгновение возник контур черного всадника, в руках которого было какое-то покрывало и блестящий меч; затем на его голову обрушился удар, и в сознании, погашенном даже не этим пришедшим плашмя ударом, а взмахом необъятного плаща, остался не страх, не отчаянье — дурманный, тошнотворный запах…
Когда он пришел в себя, над головой тускло светился золотой свод проклятого подземелья. Голова раскалывалась от боли.
— Сэнни, — простонал он, боясь прикоснуться к волосам, — намочи какую-нибудь тряпку…
Никто не ответил ему, не шевельнулся. Он огляделся — Юхан и Гэль. Стоят и не дышат.
— Где Сэнни? — крикнул он, подымаясь рывком с пола.
— Исчезла.
— Звездные братья?…
— Нет, — сказал Гаррэль. — Ни один из них не смог бы.
Судя по бронзовому оперенью крэга — наследный принц или сам король. Только члены королевского дома могут проникнуть в любой уголок Джаспера. Кроме подземелья.
— Но почему она не вернулась, Гэль? Почему не ушла в _н_и_ч_т_о_? Почему не бежала?
— Не знаю, командор. Это могло быть только в одном случае: если ее усыпили.
Юрг мгновенно вспомнил волну дурмана:
— Запах! У меня подкосились ноги…
— Если бы не это — тебя и в живых бы не было, — мрачно заметил Юхан. — Я и так тебя едва-едва выволок, а если бы уже не падал в тот момент, когда на тебя обрушилось лезвие — я полагаю…
— Да что ты все обо мне да обо мне! Они украли Сэнни, и она сбежит сразу же, как проснется. Что в ущелье?…
— Пусто. Мы следим.
— Не отходите от дверцы, я немного отдышусь и сменю вас. Который час?
— Взошла утренняя луна.
Юрг замычал от отчаянья и опустил голову на стиснутые руки. Она убежит. Она непременно убежит. Еще минута, и она появится там внизу, на карнизе…
Но проходила минута, и еще, и еще, и они складывались в часы, а мона Сэниа не появлялась.
— Гэль! — не выдержал он, когда время перевалило за полдень. — Сколько же она может спать? Ведь это становится опасно…
— Не знаю, — печально покачал головой Гаррэль. — Это старинный секрет королевского дома, и даже мы, знахари, им не владеем. Но человек, заклятый Светом Шестилунья, может безо всякого вреда для себя проспать и месяц, и два, и три.
— Что ты говоришь, Гэль? Месяц? Два? Она?…
— Надо ждать, командор. Братья не причинят ей вреда.
— Не причинят? Ты с ума сошел, Гэль, ведь она… Она не может спать месяц. Она не может, не должна, Гэль, ведь у нее… У нее будет ребенок.
Гаррэль вскрикнул так, что даже его пестрый крэг испуганно взмахнул крыльями. Он схватил Юрга за плечи и с неюношеской силой поднял с пола.
— Почему ты молчал, командор? — проговорил он с такой болью, что Юргу стало не по себе. — Скорее во дворец!
Это было легко сказать — скорее.
Но который из бесчисленных входов подземного лабиринта вел именно туда? Все они ветвились, множились, упирались в тупики, и если по отменно вымощенным дорогам Джаспера от замка Асмура до королевских покоев легко было добраться за несколько часов, то в темноте подземелья можно было проплутать и неделю, и две.
— Я полечу на разведку, — раздался вдруг полудетский голос Кукушонка. — Ждите.
И, не дожидаясь согласия людей, он стремительно сорвался с места и исчез в одном из темных провалов.
А дальше время остановилось. Часы, дни — их никто не считал. Кукушонок выбивался из сил, не привычный к долгим полетам. Но пока отсекались тупики, перекрывались подземные колодцы, отыскивались засыпанные дверцы, проходило драгоценное время. И Юрг уже почти потерял рассудок и надежду, когда, наконец, в тесной шестигранной камере они увидели потолочный люк с неизменным золотым запором.
— Если я не вернусь через час — идет Юхан, — коротко бросил Юрг. — Если Юхан исчезает — твоя очередь, Гэль.
Люк со скрипом открылся, сверху посыпалась пыль. Юрг забрался на плечи Юхана и осторожно выглянул наружу.
Над ним было кресло. Тяжелое, с золочеными лапчатыми ножками. Оно стояло на возвышении, и впереди виднелся огромный совершенно пустой зал с нечеткими прямоугольниками лунного света, едва-едва проникающего сквозь пыльные окна.
— Похоже на тронный зал, — прошептал Юрг, наклоняясь вниз.
— Тогда не бойся, командор, в него входят только один раз за целое правление — во время коронации.
— Ш-ш-ш… Я пошел.
Он поднатужился, сдвинул в сторону трон и вылез на тронный помост. Ну и пылища! Обязательно останутся следы.
Хотя — все равно, никто в подземелье не сунется. Он решил начать с маленькой дверцы, остерегаясь прикасаться к большим парадным воротам. Дверца бесшумно отворилась. Так и есть, личные покои его величества. «Если напорюсь на стражу — пристрелю на месте, благо десинторы бьют бесшумно» — подумал он.
Стражи не было. Не было никого.
«Нет, не убью. Надо взять живым — узнать, где они прячут Сэнни. Затащу в подземелье, придушу. Нет, не придушу.
Буду пытать. Тогда скажет. Я сейчас все сделаю, все, что недопустимо ни на Земле, ни на Джаспере. И даже не во имя любви. Во славу зеленого Джаспера. Будущего Джаспера».
Он отворил еще одну дверь и снова попал в огромный зал.
Неужели заблудился, дал круг? Нет. Пол подметен, в середине зала — не то ванна, не то гроб. Люстра — над ним, от нее вниз — шесть бледных, почти бесцветных лучиков. И кто-то подле, верхом на стуле — сгорбленный, неподвижный.
Сердце вдруг стукнуло гулко, на весь зал — Юрг понял, что это такое. Словно вспугнутый этим на самом деле неслышимым звуком, человек нервно заелозил на стуле, потом поднялся и мелкими шажками приблизился к окну. Выглянул, высматривая луны, потом вернулся к своему стулу, некоторое время стоял, мерно раскачиваясь. Не сел, принялся расхаживать взад-вперед. Все ближе к стене. Все ближе.
Юрг прыгнул, ребром ладони ударил по шее, — не рассчитал, спружинили крылья бронзового крэга, но человек захрипел и повалился. Значит, хорошо, что попал по перьям, иначе убил бы на месте. Юрг перепрыгнул через тело, даже не посмотрев, принц это или сам король. Ринулся к саркофагу, перегнулся через каменный бортик, — на дне, запеленутая в блестящую сиреневую ткань, точно кукла, лежала Сэниа, и шесть световых пятачков неподвижно застыли на ее лице. Господи, какая же она маленькая…
Он осторожно вынул ее оттуда, тихонечко дохнул, не смея коснуться губами лица. Плотно сомкнутые ресницы даже не дрогнули. Как же так, ведь он был уверен, что достаточно убрать ее из-под магических лучей — а по-видимому, попросту гипноизлучателей — и она сама собой пробудится…
— Сэнни, Сэнни… — позвал он.
Человек на полу заперхал и засучил ногами.
Юрг быстро опустил Сэниа на пол, подскочил к лежащему, зажав ему рот ладонью. Вытащил из-за пояса десинтор.
— Как снять с нее Заклятье Шестилунья?
Человек яростно замотал головой.
— Ну, ну, быстро!
Юрг поднял оружие до уровня увенчанной птичьей головкой лба, и только сейчас, когда глаза уже привыкли к темноте, различил, что это сам король. Что ж, тем лучше. Кому больше терять, тот понятливее.
Он слегка отвел ладонь, давая его величеству возможность высказаться.
— Бедная моя девочка, — сиплым голосом произнес король.
— Ты действительно чудовище… Стреляй. У меня много сыновей.
— У вас дочь и скоро будет внук. Но если она не проснется…
— Пусть лучше не просыпается.
Рука сама собой дрогнула, сжимаясь на жилистом королевском горле.
— Тогда кто же из нас чудовище, ваше величество?
Король молчал, стиснув зубы и прикрыв глаза.
— Хорошо же, — сказал Юрг, грубо и бесцеремонно сдирая с королевских плеч яростно отбивающегося крэга. — Я не чудовище. Живите на здоровье. Но сейчас я буду медленно сворачивать шею этому гусю. Нет, нет, вы не долго будете слепым, ваше величество, крэги милосердны — вам подарят пестрого птенца…
Что-то мелкое, как дробинка, закапало ему на руки — пот. Король, только что готовый бесстрашно принять мученическую кончину, теперь истекал смертным потом.
— Поздравляю, ваше величество, — сквозь зубы процедил Юрг. — Вы будете первым в истории Джаспера королем с пестрым крэгом!
— Нет, нет, нет!..
— Тогда — как нейтрализовать Свет Шестилунья, и побыстрее!
— Древние боги, да при чем тут Шестилунье? Эффекты, шаманство… Гипноизлучатель на батареях, выполнен в форме гребня, перекрывающего зону гипоталамуса… — его величество говорил деловито, словно читал рекламный проспект, но Юрг уже нащупал в тяжелых волосах жены массивный гребень, вырвал его, на всякий случай — во избежании дальнейшего применения — сунул в карман.
Мона Сэниа пошевелилась.
— Беру вашего крэга в заложники, — проговорил Юрг, поднимая на руки жену, закутанную в поскрипывающий шелк. — До входа в подземелье. Там отпущу, если не будет тревоги. И подумайте хорошенько, ваше величество: помощь моей планеты — единственный выход для вашей. И эта помощь бескорыстна. Для это нам нужен всего-навсего один корабль. С экипажем. Обещайте мне подумать, ваше величество!
— Я сделаю все, чтобы вас уничтожить. Обещаю.
— Тогда и мне есть что пообещать вам: ваши подданные восстанут против крэгов. Обязательно.
Венценосный слепец, сидевший на полу, негромко рассмеялся:
— Ты не политик, землянин. И даже не деловой человек.
Ты даже не взял на себя труд задуматься над альтернативой…
8. БАШНЯ СМЕРТИ
Юрг бесшумно переступил порог их подземного обиталища в тот самый момент, когда Сэниа, не укрытая, как всегда, аметистовым капюшоном, но и не утратившая порывистости движений, неосторожно ударилась о только что снятый со штабеля ящик. Он рванулся, чтобы подхватить ее, и в этот миг услышал слова Гаррэля:
— Принцесса, почему ты не хочешь принять моего крэга?
Потому, что он пестрый? Кукушонок сочтет за честь служить тебе!
— Нет, — услышал Юрг потускневший голос жены, — потому что там, наверху, десятки таких же женщин, ожидающих детей.
Они слепы, как и я, но им никто не предложит своего крэга.
У Юрга потемнело в глазах. Если бы Сэнни знала, что он слышит ее, она никогда не произнесла бы этих слов — за все эти трагические дни она не бросила ему ни одного упрека.
Не только десятки женщин, готовящихся стать матерями — слепо было все население Джаспера. И не иносказательно — буквально. Потому что не жители планеты восстали против крэгов, а крэги — против них.
Не об этой ли альтернативе говорил король?…
Когда Юрг, еще не веря своей удаче, добрался до заброшенного тронного зала и осторожно передал Юхану мону Сэниа, еще окончательно не пришедшую в себя, он начисто забыл о ее крэге. И только когда они добрались, наконец, до своего обжитого убежища, и Юрг опустил жену на жесткую лавку, отгороженную ящиками — нищенские апартаменты владетельных эрлов! — она, наконец, широко раскрыла неподвижные глаза и приподнялась, ожидая привычного шелеста перьев, каждое утро ниспадавших на ее плечи.
И только тогда Юрг вспомнил, что аметистовый крэг остался там, наверху.
Потянулись часы, каждый из которых казался ему самым страшным в его жизни. Мало того, что он был виной их заточения в проклятом подземелье — теперь он еще сделал свою Сэнни слепой. К исходу дня он был уже в той степени безрассудного отчаянья, что готов был вернуться в тронный зал и затем драться с кем угодно и главное — непонятно, на каких условиях. Юхан и Гаррэль с трудом удерживали его от такого самоубийственного шага.
И тогда явился Сэниа-крэг.
Он принес второй ультиматум, перед которым первый казался детской забавой. Во-первых, моне Сэниа категорически предписывалось покинуть подземелье — в этом случае ее крэг, в беспримерной своей преданности, обязывался служить ей до конца дней как ни в чем не бывало. Этот пункт удивления не вызвал.
Во-вторых, эрл Юхан, брат эрла Юргена, должен был остаться в подземелье до тех пор, пока не соберется новая звездная дружина, которая доставит его на родную планету с условием, что он передаст категорическое запрещение когда-либо появляться вблизи Джаспера, равно как и принимать у себя джаспериан. В безграничной своей справедливости крэги гарантировали ему за это жизнь.
В-третьих, эрл Юрген из рода Брагинов, должен был отдать себя на суд крэгов. В безмерном своем милосердии они гарантировали ему легкую смерть.
И пока пришелец с Чакры Кентавра, посягнувший на тайну крэгов, будет жив, ни один крэг не вернется к своему хозяину.
— Никогда! — запальчиво крикнула мона Сэниа и, подбежав к золотой дверце, выбросила наружу свою сиреневую птицу.
Это сделать было нетрудно. Гораздо труднее оказалось потом не думать о целой планете, населенной беспомощными слепцами, ни в чем не повинными и проклинающими тот день и час, когда их прекрасная принцесса привезла из межзвездной дали беспокойное, неуемное существо, которому понадобилось тут же раскрыть ни много, ни мало — тайну крэгов, с которыми они сами спокойно мирились уже полторы тысячи лет…
И вот дни, неотличимые от ночи в темном мерцании золотых сводов, сменяли друг друга, а в подземелье все оставалось по-прежнему: трое мужчин, одна слепая женщина, неродившийся ребенок. И никакой надежды.
Потому что помощь могла прийти только с Земли, а теперь снарядить туда большой корабль было невозможно — на всю звездную дружину Асмура, даже если бы ее и удалось собрать, был один пестрый крэг Гэля, не покинувший своего хозяина. В безмерной своей холодной расчетливости крэги предусмотрели все. И чтобы у узников подземелья не возникло ненароком какой-нибудь несбыточной мечты, над замков эрлов Муров, а также над прилегающими к нему горами, день и ночь кружила тысячная стая разноцветных крэгов, твердо решивших в первый раз за полторы тысячи лет пренебречь традициями беззаветной преданности и бросить своих незрячих хозяев на произвол судьбы.
Первые дни Кукушонка не выпускали — боялись. Но где-то на десятый день он все-таки осмелел и сделал первый робкий круг над ущельем. Вернулся сразу же, скупо обронив:
— Мне ничего не угрожает. Они даже хотят, чтобы я полетал над Джаспером. Увидел, что там происходит. Вам рассказал. А я не могу…
И все-таки на следующий день он полетел. Вернулся в полночь. Своим тихим, грассирующим голоском больного ребенка сообщил:
— Затопило две угольные шахты. Сервы не справляются.
На двенадцатый день он заметил лесной пожар. Горела плантация боу — любимых и очень полезных плодов, которыми в основном кормили детей.
На семнадцатый день циклон, вовремя не остановленный метеоракетной службой, смел с побережья все устричные плантации.
На двадцать четвертый день умерли от голода заблудившиеся дети семейства Дальброков. Крылатые кони, посланные на поиски, опоздали. Да и чем они могли накормить детей?
На тридцать первый день в замке Шу началась эпидемия.
Слепые знахари были бессильны.
И все эти дни мона Сэниа, не присаживаясь, по восемнадцать часов подряд ходила взад и вперед по гулким пещерам подземелья, отражавшим своими золотыми сводами тусклый фосфорический свет ползучих грибов, угнездившихся на стенах…
На тридцать второй день не случилось ничего, вот только младшая сестра Флейжа, которая тоже ожидала ребенка, доползла до утеса, нависшего над морем, и бросилась вниз — видно, не хотела, чтобы ее малыш остался умирать от голода в кромешной слепоте, если он и появится на белый свет. Но конь Флейжа, неотступно следовавший за ней, успел раньше и подставил расправленные крылья, перехватив легкое, истощенное тело. Так что никто не погиб.
Но мона Сэниа, услышав об этом, упала ничком, и когда Юрг поднял ее, он впервые заметил в волосах жены тоненькие седые прядки.
Он отнес ее на убогое ложе, покрытое обрывками ветхих ковров, положил ее голову себе на колени, и всю ночь что-то негромко, напевно говорил… Юхан, прикорнувший за стеной из ящиков, старался не слушать — и не мог: Юрг рассказывал сказки. Наивные, полузабытые, переплетающиеся одна с другой, они сменяли друг друга до самого рассвета, и никто не знал, когда мона Сэниа заснула. Сон ее был крепок, и в черных волосах, на которые вот уже столько дней не опускалось привычное опахало аметистовых перьев, неподвижно застыл массивный гребень…
Юрг опустил голову жены на подушку, коснулся губами ее лба, как нечаянно сделал это в самый первый раз, и, мельком оглядев уже крепко спавшего Юхана, вышел из капища в узкую пещеру, где у золотой дверцы Гаррэль ожидал своего крэга, совершавшего ежедневный печальный облет обреченного Джаспера.
Юрг неслышно приблизился и положил руку на плечо юноше:
— Гэль, — сказал он, впервые осознавая, как непросто будет обычными человеческими словами выговорить все то, что он собирался. — Гэль, ты любишь мону Сэниа?
Юноша вскочил, порывисто обернувшись на этот негромкий голос. И Юрг вдруг подумал, что он впервые видит перед собой не восторженного юношу-пажа, а мужчину, на которого он может положиться. И вообще ему показалось, что он впервые рассмотрел его: стройный в талии, как бедуин, он был смугл до черноты, и эбеновые пряди волос вились по плечам, не прикрытым пестрым опереньем; и удивительно странными в этом темном обрамлении были глаза — светло-золотые, огромные, доверчивые, ни разу не обманутые…
— Почему ты молчишь, Гэль?
— Ты хочешь, чтобы я ответил, эрл Юрген?
— Сейчас это необходимо. Говори.
— Я люблю ее больше, чем ты, командор.
У Юрга перехватило дыхание. Ведь этот юноша был рядом с первого мига. И до этого часа. Смог пробыть.
— Когда первые лучи солнца упадут на стену ущелья, ты возьмешь мону Сэниа и отнесешь наверх, в замок, — проговорил он с расстановкой, делая над собой невероятное усилие, чтобы его голос звучал ровно и буднично. — Уложишь ее на постель и осторожно вынешь из волос гребень… Понял, Гэль? Массивный черный гребень. Сломай его и выбрось за окно. Вот, собственно, и все.
— А ты, командор?
— Юхан уже расчистил выход, ведущий к подножью башни.
Я, пожалуй, поднимусь на верхушку — давно собирался…
— До середины модно подняться на лифте, — пожал плечами Гаррэль, — быстрее и безопаснее. Там закрытая площадка, на которой…
Он осекся и замолчал, только сейчас поняв, что задумал командор.
— На которой я хотел устроить трапезную, совсем как у нас, на Земле… Может быть, вы так и сделаете, Гэль. Со временем. Но сейчас я поднимусь своим ходом, благо перила забраны крепкой решеткой. И буду наверху как раз в тот момент, когда над зеленым Джаспером встанет солнце.
— Командор!..
— Времени нет, мой мальчик. А сейчас запомни главное: я долго думал, сопоставлял и понял, что все, до чего я успел докопаться — это еще не тайна крэгов. Потому-то они и подбросили свой ультиматум, что я подошел к ней вплотную… или должен был подойти. Вот так. Ты — наверху, Юхан — здесь, в подземелье, вы должны ее раскрыть. Проследите каждый мой шаг. Подумайте, с чем я неминуемо должен был столкнуться в будущем. Тайна где-то совсем рядом. Ищите. Без этого Джасперу не жить.
Он протянул руку, намереваясь дружески и одобряюще потрепать Гаррэля по плечу, — и рука его не послушалась: перед ним стоял будущий муж его Сэнни.
Снаружи послышался шорох — возвращался Кукушонок. Юрг отступил на шаг, повернулся, бегом пересек пещеру и исчез прежде, чем Гаррэль смог его увидеть…
И вот — ступени. Бесчисленные, плавно вьющиеся вокруг центрального ствола башни, огражденные частой резной решеткой, сквозь которую не просунуть ни клюв, ни коготь. Но крэги не нападают, хотя, конечно, навались они всей этой многотысячной стаей, которая уже собралась вокруг башни, — и металл не выдержал бы, не то что деревянная резьба. Но крэги знают, что человек идет добровольно, и не торопясь. Может быть, они были бы рады, если б он шагал вверх помедленней — ведь это так упоительно чувствовать в своей власти то единственное существо, которое посмело восстать против них! И они купаются в лунном свете, они позволяют себе напевать, свиристеть, шелестеть крыльями, ворковать — море хаотических звуков и редкий удар крылом по решетке, чтобы человек вздрогнул. Но он даже не глядит в их сторону.
Он не прошел еще и половины пути, когда небо на востоке стало светлеть. Юрг прибавил шагу. Это он здорово придумал — взобраться на башню. Еще столько же вверх по стремительно бегущим ступеням — и он обессилеет, задохнется, и будет не так мучительно жаль молодого, натренированного тела, которое против води будет восставать и требовать борьбы. А борьбы не получится. Свое он уже сделал — начал. Раскачал. Растревожил. Теперь остается только уйти — ласточкой в рассветную голубизну, пьянящую пронзительной ночной свежестью после затхлости подземелья.
Он облизнул пересохшие губы. Вот этого он не предусмотрел — не захватил хотя бы фляжки с водой. Ну, есть еще надежда, что найдется что-нибудь в чеканной, как серебряная шкатулка, закрытой коробочке центральной площадки. Он обещал Сэнни…
Только вот этого не надо. Ни одной мысли о Сэнни, иначе ноги не пойдут.
Он рванул на себя дверцу — как-то они тут ужинали, и должна же быть хоть одна бутылка с водой — и тут же услышал за спиной яростный клекот и треск: крэги взламывали решетку.
Забеспокоились, гады, — ведь отсюда вниз ведет лифт, не поздно и передумать… В маленькой комнатке было темно, фонарика он не захватил, но питье нашлось само собой — он наступил на бутылку и чуть не упал. Поднял ее, отбил горлышко.
В нос ударил терпкий, пьянящий запах каких-то ягод — живой сок, словно кровь самого зеленого Джаспера… Жить бы и жить на этой планете и радоваться, если бы не эти захребетники.
Ну, что взбесились? Никуда он от них не собирается убегать.
И что они так взъелись, ведь у них-то ничего не отнимается, в любом случае джаспериане будут дарить им необжитые планеты — с их-то способностями это раз плюнуть… Ах да, власть.
Крэги теряют власть. Ишь как они беснуются ради сохранения этой самой власти! Грохот, лязг, уже внутрь летят щепки, сорвалась дверца лифта…
А крылатые дьяволы и в самом деле бесновались. Неотличимые друг от друга в предрассветной темноте, они в слепой ярости разгонялись и ударяли грудью в прогибающуюся деревянную решетку. Еще немного, и она треснула бы под напором этих существ, невесомость которых стократно множилась на скорость и бешенство, но в этот миг верхняя дверца закрытой площадки откинулась, и темная широкоплечая фигура с шапкой светлых волос, вспыхивающих заревом под узкими лучиками предутренней луны, еще быстрее прежнего заскользила вверх, полускрытая решеткой. Теперь он уже окончательно был в их власти — неосторожный чужак, посмевший так близко подобраться к тайне и возомнивший себя безнаказанным… Он сам выбрал себе смерть — что ж, в бесконечной своей милости крэги простили ему эту дерзость. Но не больше.
Край неба пронзительно зазеленел на востоке, когда пришелец с Чакры Кентавра добрался, наконец, до конечного пролета лестницы. На несколько секунд он замер, вобрав голову в плечи — то ли его обуял последний страх, то ли он намеревался дождаться первого луча солнца… Но в следующее мгновенье, решившись, он распахнул дверцу, ведущую на верхний балкон, закрыл лицо руками, чтобы не видеть многотысячную стаю крэгов, безмолвно планирующих вокруг основания башни в ожидании своей жертвы, и, разбежавшись, камнем рухнул в холодную рассветную глубину.
Если он думал, что тело его разобьется о камни подножья, то он ошибался — с крысиной яростью стая ринулась на него, вкладывая в удары когтей и клювов всю свою неистовую злобу, и это кровавое пиршество продолжалось до тех пор, пока ненавистный бунтарь не был растерзан, так и не коснувшись земли.
А спустя еще немного времени принцесса Сэниа, захлебываясь слезами какого-то страшного, но не запомнившегося сна, открыла глаза, пробудясь внезапно и облегченно. Привычная масса шелковистых перьев одела ее голову и плечи, и она увидела себя в своей опочивальне замка Муров.
Гаррэль, бледный, как алебастр, застыл на пороге.
— А где же… — начала она — и осеклась.
Ее возвращение в замок, предупредительность дожидавшегося ее пробуждения крэга, свобода Гэля — все это могло быть куплено только одной ценой: той, которую требовали крылатые деспоты.
Она не закричала — она была принцессой королевского рода владетелей Джаспера. Она только глядела на Гаррэля, юношу с пестрым крэгом, и не видела его.
— Принцесса Сэниа, — проговорил он, и это был не юношеский голос. — Я беру тебя в жены и не завещаю никому, потому что никто не будет любить тебя сильнее, чем я.
Он отступил на шаг и плотно закрыл за собой двери. Мона Сэниа услышала лязг меча — Гаррэль из рода Элей встал на стражу у ее спальни.
9. ТАЙНА КРЭГОВ
Раздался тихий скрежет — словно мечом царапнули по щиту. Мона Сэниа проснулась и некоторое время вслушивалась — не разбудил ли непрошенный звук маленького? Но малыш посапывал безмятежно и аппетитно, и она не стала его трогать. Да и был ли этот звук? Наверное, приснилось. Вот и крэг еще не возвращался — значит, до рассвета еще далеко.
Она спустила ноги с постели, неслышно ступая по пушистой шкуре, приблизилась к окну. Ее протянутая наугад рука наткнулась на массивный серебряный треножник, в углублении которого на мягчайшем пуху лежало яйцо, созревая в лунном свете. Скоро прилетит крэг, и она полюбуется желтым, как огненный опал, мерцанием глянцевитой скорлупы. Значит, и птенец, который вылупится через пять-шесть дней, будет солнечно-желтым, королевского цвета, и тогда глаза ее сына впервые увидят свет.
Тогда можно дать ему имя.
Осторожно перебирая пальцами почти бесплотные пушинки, она медленно подбиралась к самому центру мягкого гнездышка, где должно было покоится заветное яйцо. Ближе… еще ближе…
Пустая ямка.
Яйцо исчезло!
Еще доля секунды — и с ее губ сорвался бы отчаянный крик, но руки, такие знакомые по бессонным незрячим ночам, такие родные и такие безнадежно оплаканные, обхватили ее за плечи, и для нее перестало существовать все, кроме этих рук.
— Сэнни, — донесся словно откуда-то издалека голос ее Юрга, — что ты, Сэнни, глупенькая, что ты…
Она ощупывала его лицо, совсем как тогда, на корабле, и в какой-то миг ему стало страшно, потому что вдруг показалось — сейчас она назовет имя Асмура…
И вместо этого он услышал:
— А где же Юхан? Ведь если ты жив, то, значит…
— Нет Юхана, Сэнни… Они с Гэлем подстерегли меня на середине подъема на башню. Там площадка такая крытая, помнишь? Опередили, поднялись на лифте… Не церемонились — оглушили. И Юхан пошел вместо меня. Крэги не разобрались…
— У нас сын, муж мой. У него нет еще имени. Но теперь оно будет.
— Да, — сказал Юрг. — Да, конечно, память о Юхане останется в нашем сыне. Но у нас считанные минуты, Сэнни, и сейчас самое важное — это то…
— Самое важное — это то, что наш сын останется без крэга! Яйцо исчезло, и если мы не найдем его, а мой крэг откажет нам в милости пестрого птенца — Юрг, наш маленький останется слепым на всю жизнь! Ты не знаешь, что это такое, ты не проводил в темноте дни и месяцы, ты…
Он с трудом прервал этот поток отчаянья:
— Сэнни, — сказал он твердо, — наш сын останется без крэга, вот это я тебе обещаю твердо; нашему малышу не нужен поводырь, как, впрочем, и всем остальным новорожденным на Джаспере…
— Что ты говоришь, опомнись!..
— У меня нет времени на долгие объяснения, так что поверь мне на слово. Сэнни, мы с Гаррэлем нашли за это время еще несколько выходов из подземелья, а Кукушонок заблаговременно разузнал, в каких местах появились новорожденные. Я поднимался по ночам в их жилища, и ошибиться я не мог: все дети рождались зрячими! Ты понимаешь, Сэнни, они не слепы от рождения, а становятся такими только тогда, когда на их плечи впервые опускается проклятый крэг!
— Но наши врачи заметили бы…
— Ты забываешь, что они видят только то, что позволяют им крэги.
— Но это чудовищно, Юрг — значит, полторы тысячи лет крэги ослепляли людей чтобы… Зачем, Юрг? Зачем они это делали?
— Чтобы властвовать. Это сладкая штука — власть, но они так объедались ею, что уже мечтали только об одном — о пустынной планете, где не будет ни одного разумного существа, над которым можно было бы властвовать.
— Тогда об этом нельзя молчать ни секунды! Я пошлю свой голос во все уголки нашей планеты, и мне поверят…
— Тебе поверят, принцесса Сэниа, и тогда крэги снова покинут джаспериан. И снова — ужас слепоты, гибель. Нет.
Сделаем по-другому. Сначала нужно доставить на Джаспер приборы, которые помогут взрослому населению обойтись без крэгов. Затем уже расскажем о малышах.
— Через три дня праздник в королевском дворце…
— Я об этом подумал. До его начала ты должна связаться со всеми воинами своей дружины. Но будь очень внимательна, не начинай разговора до тех пор, пока не убедишься, что в этот момент ни у тебя, ни у дружинников нет крэга. Иначе — снова провал. Так что у тебя практически две ночи. Как начинается каждый праздник?
— Взрыв голубой музыки и парчовый огонь в полнеба.
— Вот это и будет сигналом к тому, чтобы все дружинники разом перенеслись на звездную пристань. До этого они должны прибыть во дворец и вести себя так, как ни в чем не бывало, чтобы не вызвать подозрений. Итак — разговор без крэгов! И теперь главное…
В окно пахнуло холодным воздухом, послышалось хлопанье мягких крыльев. Сэниа отшатнулась, загораживая собой Юрга.
— Не бойся, это Кукушонок. Он стережет меня.
— Сэниа-крэг возвращается… — послышался тихий, полудетский голосок пестрого существа.
— Главное, Сэнни, главное: все дружинники должны успеть надеть скафандры, иначе их враги вырвутся, и все пойдет прахом. Наглухо закрытые скафандры, поняла?
— Да, да, уходи, они же ненавидят тебя, уходи…
Дверь за ним захлопнулась, и только тут Сэниа почувствовала, как бешено колотится ее сердце. Ноги подкашивались.
И все-таки успела — набросила на пустой треножник какое-то подвернувшееся под руку покрывало. И тут же в окно впорхнул аметистовый крэг.
И только тогда мона Сэниа поняла, что самое большое мужество требуется от нее именно сейчас — не закричать, не сорвать с себя это розовоперое чудовище, не растерзать его, как они все поступили с Юханом…
— Спасибо, Сэниа-крэг, — проговорила она, нежно поглаживая розовые перья, лежащие у нее на плечах. — Мой маленький стал спать спокойнее, завтра я смогу отпустить тебя на всю ночь.
Крэг, как всегда, промолчал, не снисходя до разговора с человеком.
А впереди всего две ночи, и нужно поговорить с каждым из восьмерых дружинников именно тогда, когда он отпустит своего поводыря купаться и нежиться в лунном свете. Ошибиться, как тогда в ущелье, нельзя. И менять что-либо поздно: через три дня — праздник. Как успеть?…
Но она успела. Голубая музыка пенистыми волнами вскипела и брызнула во все стороны, заливая королевские сады, и полотнище парчового огня взметнулось в полнеба, словно королевское знамя — и по этому сигналу восемь юношей одновременно набросили на себя легкие полускафандры, замкнули их, так что крэги невольно оказались прикованными к своим хозяевам, и разом ринулись в _н_и_ч_т_о_, оставляя позади искрящийся весельем праздник, чтобы с той же синхронностью появиться на древних плитах Звездной гавани. Там их уже ожидали Гаррэль, Юрг и мона Сэниа с крошечным Юхани на руках.
Гэль, укутанный пестрым опереньем, был единственным джасперианином без скафандра.
Его доверие своему Кукушонку было безмерно.
— Тревоги, погони никто не заметил? — крикнула мона Сэниа, обращаясь ко всем сразу.
— Нет, — отрывисто бросил Эрм — один за всех.
Он мог бы сказать, что они находились в разных уголках зеленого лабиринта, заведомо расположившись так, что ни один из самых зорких и подозрительных посетителей праздника не смог бы заметить одновременного исчезновения дружины Асмура.
А то, что какой-то одиночка-оригинал надел скафандр и куда-то сгинул, — это не могло потревожить даже самого бдительного из принцев.
Но Эрм не стал этого объяснять, потому что дороги были даже доли секунды. Все понимали, что рано или поздно погоня начнется — и скорее всего рано; похищение моны Сэниа из затерянного ущелья не выходило ни у кого из головы. Сейчас от россыпи больших и малых кораблей, напоминавших Юргу разнокалиберные дыни, забытые на высохшей бахче, всех отделяла только овальная утоптанная площадка — место, откуда стартовал корабль Иссабаста, волею магических карт, а еще точнее — прихотью крэгов — заброшенные сейчас в такие необозримые дали Вселенной. Но и тех кораблей, которые оставались сейчас на Джаспере, с лихвой хватило бы на два или три мака.
— По кораблям! — скомандовал Юрг, и все, ни секунды не колеблясь, бросились выполнять его приказ, молчаливо признавая его, пришельца, командором звездной дружины.
Но они успели сделать только один шаг. Упругая волна воздуха, хлесткая и жуткая в своей непредставимой скорости, сбила их с ног, и они покатились по шершавому покрытию гавани, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь трещину. Им был знаком этот удар — такая волна возникала каждый раз, когда в недопустимой близости выныривал из подпространства какой-нибудь чересчур крупный объект. Они ждали погони, были внутренне готовы к ней. Но это была не погоня.
Потому что прямо перед ними, заслоняя группу резервных корабликов, грозно и неотвратимо выросла громада, слепленная из помятых, покореженных и оплавленных шаров. Это был мак, только что вырвавшийся из космических передряг и по нелепой прихоти судьбы вернувшийся на родную планету так некстати.
— Корабль Иссабаста! — вырвалось одновременно из десяти уст.
Доказательств этой догадки не пришлось долго ждать — корпус центрального корабля треснул, и предводитель дружины, не дожидаясь даже, пока малые кораблики отойдут на положенное расстояние, спрыгнул на землю.
И тут глаза его изумленно округлились: прямо перед собой на лиловых плитах Звездной гавани, куда никто и никогда не приходил без надобности, он увидел десяток полулежащих тел, облаченных в легкие скафандры.
Впрочем, нет — двое были без скафандров. Причем один — о, этого одного Иссабаст отличил бы из тысячи тысяч, потому что он не только был схож лицом и статью с покойным Асмуром, владетельным эрлом — этот светловолосый гигант отличался ото всех, ибо он был без крэга.
— Ко мне, моя дружина! — разнесся над молчаливой пустыней зычный голос Иссабаста. — Нам предстоит еще одна охота!
Судьба даровала нам зверя, который вне закона. Затравим же его! Крэг и Баст, дружина моя!..
Он не успел повторить боевой клич своего рода, как ослепительно белый луч выметнулся, словно из-под земли, откуда-то справа, от Юрга и, разрезав вечерний туман, ударил точно на голос. Дымно и тускло зарделся горящий плащ, высвечивая в сумерках контур, стремительно теряющий сходство с человеческой фигурой, и только тут до Юрга дошло, что случилось непоправимое — впервые за полторы тысячи лет джасперианин направил запретное оружие на своего земляка.
— Гэль, остановись!.. — запоздало крикнул он, но Гэль, припав на одно колено, снова прицелился, беря на мушку раскрывающийся люк, и не успел второй дружинник спрыгнуть на долгожданную землю, как белая молния превратила и его в живой факел.
Но на этом момент внезапности был упущен — трещины разом избороздили причудливую поверхность пузырчатого мака, и оттуда в ответ блеснуло сразу несколько ответных разрядов. В паузе, когда чуть подсвеченный закатной луной туман, казалось, еще плотнее прикрыл поле неожиданного сражения, проворные натренированные тела метнулись вниз, на холодные плиты. Дружине Иссабаста, готовой к возвращению на родной Джаспер, и в голову не пришло облачаться в скафандры, и теперь это давало людям Юрга некоторое преимущество.
Их темноты донесся характерный змеистый свист клинков, покидающих хорошо подогнанные ножны.
— Не ввязываться в стычку! — крикнул Юрг, холодея от одной мысли о том, что сейчас будет упущено самое драгоценное — время; оно работает только на дружину Иссабаста, потому что к ней уже наверняка спешит подкрепление, а вот его товарищам ждать поддержки просто неоткуда. — Обходить корабль слева! Короткими перебежками, мы с Гаррэлем прикроем!
Слева и справа от него разом вонзились две молнии, послышалось шипение плавящегося камня. Юрг злорадно улыбнулся: по всем законам Вселенной он приобретал то, что называлось «правом на оборону».
Он выхватил десинтор и нажал на спуск, целя по ногам.
— Не бойтесь за наших, командор, — крикнул Гаррэль, — крэги прикрыты, а скафандры выдерживают разряд!
— Крэг и Баст!!! — раздался в ответ боевой клич, и словно в подтверждение того, что они поняли грозящую им опасность, дружинники Иссабаста разом направили свои лучи на тех двоих, которые, как и они сами, не были защищены чудотворной гибкой броней: Гаррэль — по своей беспечности, а Юрг — просто за неимением таковой.
Напряжение нарастало: с секунды на секунду должна была появиться погоня из королевских садов; но сумеют ли дружинники Иссабаста продержаться до ее прибыли? Юрг и Гэль, продвигаясь зигзагами к россыпи резервных кораблей и ведя непрерывный огонь по воинам из чужого мака, отчетливо видели, что почти все их спутники уже достигли цели, в то время как защитники прибывшего звездолета мало-помалу выходят из боя — все меньше и меньше молний сверкало из-за его массивного корпуса, все больше и больше крэгов, потерявших своих хозяев, подымалось в вечернюю синеву неба. Казалось, победа уже близка, победа — это бегство с этой беспомощной, обреченной планеты, не желавшей самостоятельно искать спасения. Победа — это Земля, куда нужно было добраться вопреки всему, нарушая все законы и уговоры.
Любой ценой.
И когда Юргу показалось, что цена эта заплачена и победа у них в руках, он услышал короткий крик Гэля:
— Командор! Мона Сэниа…
Он задохнулся жаром всех молний, прочертивших поле боя, — ведь за все эти бесконечно тянущиеся секунды молниеносной схватки он ни разу не подумал о своем сыне и своей жене.
Он беспомощно оглянулся, пытаясь распознать в коконах одинаковых скафандров знакомые очертания, но это было невозможно: несколько стремительно движущихся фигур уже достигли малых кораблей и скрылись в них, остальные были близки к цели, но в редких хризантемных выхлопах одиночных разрядов, все еще раздававшихся со стороны мака, невозможно было ни опознать, ни пересчитать их.
В отчаяньи он перекинул калибратор десинтора на непрерывный широкополосный разряд и, вжавшись лопатками в шершавую выщербленную плиту, раскинул над собой гигантский ослепительный веер.
И только тут заметил сзади — ох, как далеко сзади! — что-то бесформенное, копошащееся, бьющееся. Он мгновенно погасил разряд и бросился туда, почти автоматически отмечая, что и Гэль не бежит к кораблям, а наоборот, почти во весь рост мчится к Иссабастову маку, наперехват двум последним трассирующим очередям. Он знал, что на этот заслон можно положиться, и теперь все свои силы вложить в скорость — ничего другого не было сейчас важнее: скорость!
Подбегая, он в прерывистом свете редких вспышек увидел мону Сэниа, которая, распахнув свой легкий скафандр, старалась прикрыть им маленького Юхани, а бьющееся и вырывающееся наружу — это был ее сиреневый крэг, яростно выдирающий свои крылья из-под непроницаемой пленки да еще норовивший ударить клювом в лицо.
— Держите ее крэга! — донесся издалека голос Гаррэля, и краем глаза Юрг успел заметить, что его стремительная, гибкая фигура выросла вдруг во весь рост — и исчезла.
И в тот же миг аметистовый стервятник вырвался-таки из своего плена, еще раз ударил куда-то наугад и с мстительным кличем взмыл в ночное небо.
Юрг стиснул зубы, преодолел одним прыжком оставшиеся метры и схватил Сэнни вместе с крошечным попискивающим свертком, упрятанным под скафандр.
— Брось меня, — услышал он шелест сухих упрямых губ. — Брось, я тебе приказываю! Без тебя они не договорятся с Землей, а я теперь в полете — только обуза…
Он побежал к своим кораблям, уже начавшим сползаться, чтобы образовать единый мак, и старался не слушать ее, и не глядеть в изуродованное, залитое кровью лицо. Редкие разряды хлестали по земле то слева, то справа — два последних дружинника Иссабаста до конца выполняли приказ своего командора, но темнота не позволяла им сделать прицельного выстрела.
И Гэль им больше не отвечал.
Юрг подбежал к блестящим громадным коконам, уже спаянным вокруг центрального шатрового корабля, и на секунду замешкался — перед ним была непроницаемая поверхность. Но в тот же миг она треснула, образуя овальную щель, и сразу несколько рук протянулись навстречу командору. Он осторожно передал им завернутую в плащ мону Сэниа.
— Гэль остался где-то там, — хрипло проговорил он, переводя дыхание после быстрого бега. — Кто со мной?…
— Командор, мы-то можем это сделать мгновенно, — возразил рассудительный Борб. — Нужно только точно знать, где он.
— Он бежал к маку Иссабаста, прикрывая нас… Гэль! — крикнул он в темноту, сложив руки рупором.
В ответ протянулась прерывистая очередь, и фонтанчики расплавленного камня брызнули у самых ног Юрга.
— Не так, — прошептала мона Сэниа, вставая рядом с мужем. — Гаррэль, королевский лекарь, паж мой!..
Это был не крик и не шепот — едва отделяясь от губ, слова исчезли, уносясь в безмолвие раскаленных плазменными разрядами каменных плит и душного тления травы. Первая луна встала как раз за кораблем Иссабаста, и голос, посланный в густую конусообразную тень, тонул в ней и не находил ответа…
…Что-то коснулось помертвевшей щеки, и Гаррэль открыл глаза. Жгучая, нестерпимая боль полоснула по ногам, и ему пришлось отключиться от всего — зрения, слуха, обоняния — лишь бы задавить эту боль, затянуть ее в тугой пульсирующий узелок, не дать ей овладеть всем телом и сознанием… Удалось. Тогда он снова глянул вверх и прямо над собой увидел плавно кружащегося в вышине розового фламинго. «Гаррэль, паж мой!.. — снова коснулось его щеки; — где ты, пошли мне свой голос!»
Он попытался приподняться на локте, и снова нечеловеческая боль бросила его обратно, на шершавый холодный камень. Но главное он успел увидеть: там, где эта боль возникала, не было ничего, что могло бы болеть. Вместо ног в пульсирующем свете одиночной пальбы он увидел только запекшиеся, обожженные обрубки.
И тогда в какую-то долю секунды он понял, взвесил и решил все разом.
И то, что его принцесса жива, но ее крэгу удалось вырваться, и теперь он ни за что на свете не вернется к своей владелице.
И то, что она, прекраснейшая в мире, никогда не бросит и не предаст своего пажа, своего лекаря, и всю жизнь будет опекать его и держать рядом с собой — жалкого калеку, человеческий обрубок, который до скончания дней своих будет слышать собственный голос, когда-то произнесший невероятные слова: «Я, Гаррэль из рода Элей, беру тебя в жены и не завещаю никому…»
И еще он понял то, что промолчи он еще секунду — и они все, уже собравшиеся на своем маке и готовые в любой миг покинуть планету, вместо этого сейчас же ринутся в черную тень, под выстрелы, навстречу погоне.
Навстречу гибели.
И это будут его звездные братья. Его командор. Его принцесса.
Он собрал остатки сил, и голос его, одновременно мужественный и юношеский, разнесся над Звездной Гаванью:
— Принцесса Сэниа! Я, твой паж и королевский лекарь, был верен тебе до последнего дыхания и никогда не думал, что когда-нибудь попрошу за это награду… А теперь я прошу тебя.
Он перевел дыхание, и страшная тишина распростерла свое покрывало над ночными просторами Джаспера. Даже те двое, что еще стреляли наугад, укрывшись за иссабастовым маком, замерли, опустив оружие.
— Принцесса! Поклянись мне, что ты выполнишь мою просьбу!
— Клянусь… — пронеслось над опаленными плитами и коснулось его холодеющего лба.
— Тогда прими мой прощальный подарок и улетай немедленно. Я остаюсь здесь. Не отвечай ничего… прощай.
Холодная струя ночного воздуха пахнула в залитое кровью лицо моны Сэниа вместе с последним словом, и она почувствовала, как мягкие, невесомые перья одевают ее плечи. И, еще ничего не видя, она догадалась, что это.
Гаррэль из рода Элей отослал ей своего Кукушонка и остался здесь, чтобы умереть в темноте и одиночестве. Он сам просил об этом, и она поклялась выполнить его просьбу.
И только одного она не могла — не ответить ему.
— Гэль, паж мой! — донесся до него горестный голос, обращенный к нему одному. — Я, принцесса Сэниа королевского рода владык Джаспера, повинуюсь тебе… Прощай.
И наступила тишина, в которой не было больше даже дыхания. Только зловонное шипение перегретых десинторов.
Звездный корабль командора Юрга исчез, чтобы появиться вблизи запретной звезды Чакры Кентавра.
И тогда, превозмогая ужас перед бесконечностью темноты, которую уже ничто не могло прервать, он заговорил, посылая свой голос в вечнозеленые лабиринты королевских садов и твердо зная, что, пока он говорит, ни один джасперианин не двинется в погоню; а когда силы его иссякнут и он замолчит, многие еще подумают, а стоит ли догонять беглецов… И он заговорил:
— Братья мои, с вами говорю я, Гаррэль, младший сын Элей, умирающий в темноте. Слушайте меня, ибо я открою вам тайну крэгов. Жители зеленого Джаспера! Когда-то ваши предки были свободны, могучи и мудры, повелевая мирами и крэгами…
Но ни с чем не сравнимый ужас слепоты обрушился на нашу планету, и вместо того, чтобы бороться с ним, вы предпочли стать рабами крэгов и дарить им целые миры в награду за собственное рабство. Сейчас, хотите вы этого или нет, но владычеству крэгов приходит конец. Жаль, что не своими руками добьемся мы этого… Но хотя бы помогите отважным людям с далекой звезды, которую мы называем Чакра Кентавра, а следует называть Солнце… Один из них уже отдал свою жизнь за то, чтобы вы стали свободными.
Он услышал у себя над головой свист расправленных крыльев и понял, что крэги пытаются разглядеть его в туманной темноте. И как только луна поднимется над маком Иссабаста и ее лучи осветят тело, неспособное даже уползти в тень — они растерзают его так же, как расправились с Юханом.
И все-таки он продолжал:
— Братья мои! Перестаньте быть рабами, носящими пышные титулы. Вспомните и поймите, что вы — не эрлы и графы, таны и принцы, а инженеры и ученые, вычислители и врачи, биологи и астронавигаторы. Это поможет вам преодолеть слепоту, даже если крэги снова предадут вас. Но не бойтесь за своих детей, не бойтесь за будущее Джаспера: ведь тайна крэгов в том и состоит, что все дети рождаются зрячими! Они приходят в мир, чтобы видеть его собственными глазами, и только…
Страшный удар обрушился на его голову — аметистовый крэг, сложив крылья, камнем упал на его голос, рискуя разбиться о камни.
Но он не промахнулся.
Несколько секунд они еще жили — то, что осталось от юноши, и то, что недавно было сиреневым крэгом.
Затем человеческого дыхания не стало слышно. Опередил его крэг или отстал на несколько мгновений — никто не смог бы сказать.
— Мы ушли на достаточное расстояние? — спросил Юрг, прижимаясь лбом к черному иллюминатору, занимавшему всю середину пола.
Немерцающие холодные светила роились под ним, очаровывая и пугая своей близостью.
— Мы никогда не уйдем достаточно далеко, — отвечала мона Сэниа, полулежавшая рядом с ним на подушках и поддерживавшая одной рукой забинтованную голову. — Мы уже в твоем созвездии, которое в наших «Анналах» почему-то называют Костлявым Кентавром. Но нас могут догнать и здесь, потому что для перехода через _н_и_ч_т_о_ расстояний не существует.
Я и так не понимаю, что сдерживает погоню… В любую секунду они могут начать выныривать прямо здесь, в центральной каюте корабля.
— Так почему они этого еще не сделали?
— По-видимому, Гаррэль нашел такие слова, которые их остановили. Ну, что ж, остался последний перелет — к твоей планете!
Короткий приказ, легкое покачивание пола под ногами, кажущееся таянье стен, становящихся прозрачными — и внезапно чуть левее и ниже призрачно засветился такой знакомый, причудливо расписанный нежными перламутровыми красками шарик — долгожданная Земля.
— Теперь мы можем не спешить, — проговорила мона Сэниа смертельно усталым голосом. — Смотри и выбирай, куда ты хочешь опуститься, командор. Вот мы и у цели, до которой…
Голос ее дрогнул и прервался. Теперь, когда цель лежала у них под ногами, непомерной для женских плеч тяжестью легло воспоминание о тех, кому уже никогда не суждено было этой цели достигнуть.
Сначала — Асмур, затем — Юхан, теперь вот — Гаррэль.
Юрг смотрел на хрупкую фигурку жены, прижавшуюся к золотистой прозрачной стене. Нет, не новую диковинную планету разглядывала Сэнни — она просто прятала свои слезы, потому что, каким бы ни был повод для горести — принцесса Джаспера не могла плакать при посторонних. И спуститься вниз вот такой, истерзанной горечью воспоминаний, она тоже не хотела, потому и просила не спешить. Он угадал, он каждой клеточкой своего тела почувствовал остроту ее скорби и невольно вспомнил ту счастливую ночь, когда они спорили, на Земле или на Джаспере умеют любить сильнее…
Горе траты — оборотная сторона любви.
Он бесшумно приблизился и осторожно снял с ее плеч пестрое живое покрывало.
— Будь другом, Кукушонок, — попросил он, — присмотри за Юхани.
Кукушонок послушно скользнул в угол, где на свернутом плаще безмятежно сосал палец наследник двух планет, и опустился в изголовье, заботливо оглядывая малыша, но не касаясь его даже кончиками перьев.
Сэнни не обернулась, продолжая невидящим взглядом смотреть туда, где мягким светом сияла такая близкая и такая далекая Земля. Юрг наклонился и бережно обнял жену, словно пряча ее от всей Вселенной. Вдохнул запах ее теплых волос и все-таки не удержался, поверх ее головы засмотрелся на пышный весенний ковер каракумского разнотравья. Его подбородок невольно коснулся ее волос, а руки, как крылья, укрыли плечи…
— Мы не будем торопиться, Сэнни, маленькая моя, — зашептал он, чувствуя, как под его губами шевелятся, точно живые, прядки ее черных волос. — Мы дождемся вечера и тихо опустимся на сказочную равнину, которая когда-то была пустыней, а теперь зеленее и душистее самого Джаспера… Хорошо?
— Да, — еле слышно донеслось до него, — да…
— Красноногие аисты, заночевавшие здесь на своем пути к северу, будут при виде нас закидывать головы на спину и щелкать клювами… Но ты их не бойся.
— Нет, — отвечала Сэнни, — нет…
— А потом подойдут джейраны, хлебца попросить, только вот у нас нет человеческого хлеба — не беда, правда?
— Правда, — соглашалась она, — правда…
— А потом за нами прилетят, — говорил он, радуясь, что стихает горестная дрожь, бившая ее маленькое тело, — за нами прилетят, если, конечно, облака не помешают — ишь, ползут с юга, точно белая мохнатая шкура…
— Я думала, это снег…
— Нет, это низкие облака, они к вечеру…
Он вдруг осекся — горло перехватило.
— Откуда ты знаешь — про облака?
Она не ответила.
— Ты… видишь?
Ее голова едва уловимо дрогнула в коротком кивке.
Он должен был ощутить буйную радость, а вместо этого его охватил цепенящий ужас и отвращение — к себе самому.
— Значит, — проговорил он, едва ли не заикаясь, — я для тебя — все равно что…
Он не мог даже произнести этого слова.
И тут странный, прерывистый звук, напоминающий клекот орленка, донесся из угла. Юрг в недоумении обернулся и вдруг понял, что впервые в жизни — а может быть, и вообще в истории Джаспера — они слышат, как крэг смеется.
— Сэнни, — прошептал он, обхватывая голову руками и садясь на пол: — Сэнни, Кукушонок, простите меня, дурака…
Она порывисто повернулась и гибким, точным движением опустилась на колени рядом с ним.
— Как же ты сам не догадался, муж мой, — проговорила она, и он подумал, сколько же дней и месяцев он не слышал, чтобы у нее был такой счастливый голос. — Как же ты сам не понял, что иначе и быть не может. У нас ведь теперь все на двоих: и сын, и зрение, и неразделимость самой жизни…
Примечания
1
МКК — Международный контрольный комитет. По замыслу автора, этой всемирной организации будет дано право в исключительных случаях, грозящих военной катастрофой, принимать решительные меры для ее предотвращения.
(обратно)2
Фалеры — украшения на сбруе лошади
(обратно)

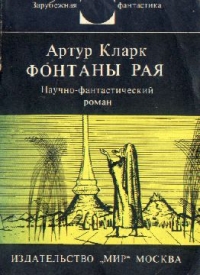


Комментарии к книге «В мире фантастики и приключений. Выпуск 10. Меньше - больше. 1988 г.», Аэлита Ассовская
Всего 0 комментариев