НФ: Альманах научной фантастики 6 (1967)
ГЕННАДИЙ ГОР. МИНОТАВР 1
Кто он? Книгоноша или тот, кого уполномочила сама неизвестность? Появлялся он в вагоне пригородной электрички словно ниоткуда и исчезал будто в никуда, неся пачку залежавшихся книг и журналов.
Иногда он продавал и лотерейные билеты, крутя ручку, тасуя в круглом стеклянном ящике, а этом тесном убежище случая, чужое и всем доступное счастье.
Он был похож на кого-то из классиков, на одного из тех, кто смотрит на вас из другого века с дагерротипа или с портрета, написанного маслом.
Брет-Гарт, Стивенсон? Нет, пожалуй, все-таки Диккенс. Вот кого он напомнил мне.
Гибкий и стройный, похожий на героя и одновременно - на автора старинных книг, он всем своим обликом утверждал чувство собственного достоинства. Он не навязывал ни себя, ни свой интеллигентный товар, а только тихо предлагал его.
Нет, он продавал довольно скучную и уцененную продукцию, то, что не удалось сбыть киоскам и книжным магазинам. Но каждый раз я смотрел на его узкое старомодное лицо, на его красивую бороду с легким удивлением и ожиданием несбыточного, противоречащего всем законам обыденной жизни.
И однажды это случилось. Он подошел ко мне в вагоне и сказал тихо и вежливо чрезвычайно свежим, приятным голосом:
– Не хотите ли приобрести лотерейный билет?
– Нет, не хочу, - ответил я, пожалуй, излишне громко, привлекая к себе внимание окружающих. - Я никогда не выигрываю.
– А чего бы вы хотели? - спросил он, глядя на меня с живым с грустным интересом.
– Мне всегда хочется невозможного, того, чего нельзя хотеть. Например, мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь хотя бы на час вернул мне детство.
Почему, зачем я это сказал? Это была непроизвольная, хотя и неделикатная шутка, и я пожалел о ней. Но он спросил так же тихо и грустно:
– Откуда вам известно, что мне доступно и невозможное?
Признаться, я принял это за шутливую оговорку, за проявление своеобразного юмора, тонкость которого я сумел оценить не сразу.
– Попытаюсь помочь вам, - сказал он. - Иногда Это у Меня получается. Если разрешите, я вам позвоню.
– Но вы же не знаете ни моего имени, ни номера телефона.
– Благодарю, - ответил он и пристально посмотрел на меня. - Теперь уже знаю.
Он улыбнулся, как улыбались, наверное, в эпоху дагерротипов. Соединил своей улыбкой два века и вышел.
Вышел? Нет, скорее исчез в никуда, словно за дверями электрички была не станция Парголово, а созвездие Лиры. Прошло недели две или три, и я уже почти забыл об этом странном разговоре, но обстоятельства напомнили мне о нем. На столе зазвенел телефон. Я снял трубку и крикнул:
– Слушаю!
Приятный вежливый голос произнес:
– Извините за беспокойство. С вами говорит Диккенс,
– Какой Диккенс?
– Мы с вами встречались в пригородной электричке.
– Разве вы Диккенс?
– Я на него похож.
– Родство или только случайное сходство?
– Не то и не другое. Но сейчас нет времени объяснять. Настоящее имя я скажу позже. А пока называйте Диккенсом.
– Как-то, знаете, неловко. Классик.
– Ничего. Ничего. Это только для удобства. На первое время. А потом…
– Кто же вы такой на самом деле?
– Фауст, если вас устраивает,
– Исполнитель роли в опере Гуно?
– Как вам сказать? В мою роль входит слишком много и мало. Продаю книги, лотерейные билеты, а в свободные часы пытаюсь связать два мира, мой и ваш.
– Два мира? Не понимаю. Вы шутите?
– Сейчас некогда шутить. К делу. Так вы действительно хотите увидеть свое детство?
– Хочу.
– Тогда поскорее включите телевизор.
2
Я включил телевизор с опозданием всего на несколько минут. Но я сразу узнал гору своего детства, прилегшую под моим окном, гору, похожую на большого усталого зверя.
Я увидел и себя в кругу тех, кого унесло с собой неумолимое время: дедушка, бабушка, мать.
Они были тут, на экране телевизора, тут, всего в двух шагах от меня и бесконечно далеко, в безвозвратно минувшем прошлом. Взрослые ушли. На экране остался только мальчик. Тот, кто был мной почти пятьдесят лет тому назад, десятилетний школьник спросил, обращаясь ко мне с экрана;
– Почему вы смотрите на меня в окно? Зайдите сюда к нам.
– А разве существует дверь? Я только зритель. И смотрю не в окно, а на телеэкран.
– А как вас зовут? - спросил тот, кто был мною почти полвека назад.
Я назвал свое имя.
– Но ведь меня зовут так же, как вас. Мы однофамильцы и тезки?
– Нет, - ответил я. - Мы одно и то же. Я - это ты, но не сейчас, а через пятьдесят лет.
Мальчик, милый некрасивый мальчик, словно сошедший с одного из многочисленных фотографических снимков, хранящихся в старинном семейном альбоме, недоверчиво улыбнулся.
– Я буду таким, как вы, через пятьдесят лет? Но откуда вы знаете, что я буду точно таким, как вы? Это никому не известно.
– Я - это ты. Понимаешь? Ты, но через много-много лет.
Он улыбнулся еще раз.
– Вы, конечно, шутите. Я понимаю. Я не хочу быть таким, как вы. Уж лучше остаться навсегда мальчиком.
– Это тебе не удастся, - сказал я. - Время несет тебя с собой. И в один прекрасный день ты оглянешься назад и увидишь себя из будущего, как я сейчас вижу себя. Я - это ты!
– Тогда объясните, - сказал мальчик, - объясните мне. Я попал в будущее или вы в прошлое?
Вот этого я не мог объяснить ни ему, ни даже самому себе, и я стал рассказывать ему о том, что такое телевидение. Я объяснял медленно, логично, с ужасом думая о парадоксе, об алогичном и сумасшедшем происшествии, о нашей встрече, о необъяснимом появлении его на экране телевизора, о нашем разговоре зрителя с изображением.
– Теперь все понятно, - сказал мальчик, тот, кем я был давным-давно. - Мне нравится изобретение, которое дает возможность встретиться с самим собой. Но все-таки это изобретение не настоящее. Вам только кажется, что вы - это я. Мы смотрим друг на друга из окна. Сейчас вы откроете дверь, войдете и мы познакомимся.
Он сказал это тихо, еле слышно. Затем изображение исчезло. Когда я взглянул на экран, там уже сидел лектор-международник. До меня донеслись слова:
– Антинародная политика неоколониалистов привела…
Я обрадовался этим словам, этому солидному обыденному голосу, этой стереотипной фразе. Почему? Ведь просыпаясь и тем прерывая сновидение, мы радуемся не только возвращению в мир обычного, но и контакту с самим собой.
Может быть, я нечаянно уснул и видел свое детство во сне? Нет, то, что я видел, было слишком отчетливо и реально.
Зазвенел телефон.
– Слушаю, - крикнул я, сняв трубку.
Чрезвычайно приятный и светлый голос сказал:
– Это я, Диккенс. Ну, как вам понравилась передача?
– Какая передача?
– Детство.
– Какое детство?
– Ваше детство. Да, ваше. А не инсценировка повести фантаста Черноморцева-Островитянина, как обозначено в телевизионной программе.
– Но это же невозможно.
– Невозможно? Так вы что же, не верите самому себе, своим чувствам?
– Если вы способны совершать такие чудеса, - сказал я, - зачем же вы занимаетесь продажей уцененных книг и залежавшихся скучных журналов?
– Продажа книг - это серьезное, нужное дело.
– А чудеса?
– Пустячок. Шутка. Игра. Иногда позволишь себе, а потом жалеешь об этом. В наше строго научное время непозволительно так легкомысленно кустарничать. Я занимаюсь этим не часто. Любой волшебник и иллюзионист тоже…
Он сделал паузу.
– Волшебник и иллюзионист тоже? - переспросил я. - Что тоже? - Вы же не волшебник и не иллюзионист, а книгоноша.
– Это верно, не волшебник, а книгоноша. Извините. Звоню из автомата, и за мной уже стоит очередь. Всего хорошего,
3
Я не из тех, кто любит убивать время, смотря на голубой экран. Но теперь я подходил к телевизору с таким чувством, что это не пустая забава, а окно, за которым можно увидеть не только самого себя, но и свое прошлое.
Своим глазам я верил все же больше, чем программе, где сообщалось о телеинсценировке научно-фантастической повести Черноморцева-Островитянина.
Черноморцев-Островитянин давно стяжал себе славу литератора, любившего подчеркивать свою интимную и в сущности немножко загадочную связь с будущим. Он любил выступать от лица будущего, выступать с таким видом, словно в настоящем он только гость, таинственный посланец… С телезрителями и читателями он держался так, словно где-то за городом в укромном месте его ждет космический корабль, прилетевший из другого мира. Так он держался со всеми, даже с редакторами своих книг. Книги его имели успех, но мне они казались всегда немножко растянутыми. Людей будущего Черноморцев-Островитянин нередко изображая склонными к полноте, к благодушию и занимавшимися главным образом удовлетворением своих возросших потребностей.
При всех человеческих недостатках сам он был, по-видимому, намного значительнее того, что он написал. На меня, как, впрочем, и на всех, производило сильное впечатление его мужественное, не-обычайно волевое лицо. Да, он был похож на пришельца. Тут ничего не скажешь…
Я расспрашивал о телеинсценировке его повести у своих знакомых.
– Оригинально, - отвечали они. - Человек встречается с самим собой. Этот Островитянин не прочь поиграть с временем в кошки-мышки. Но хочется задать ему вопрос: "А где же логика, где здравый смысл?" Впрочем, забавный старик.
Многим нравились его статьи, написанные дерзкой рукой, как бы пытавшейся открыть завесу, скрывшую от людей тайну, великую тайну мироздания.
Несколько лет тому назад он страстно защищал гипотезу о существовании снежного человека и даже ездил со специально организованной им экспедицией в один из высокогорных районов Азии и чуть там не погиб, не раз подвергая свою жизнь риску ради истины.
Впрочем, у него были странные взаимоотношения с истиной, взаимоотношения, давшие повод известному карикатуристу изобразить его в новогоднем номере популярного литературного еженедельника в виде старого ловеласа, ухаживающего за чрезмерно гибкой жеманной красавицей, прячущей свое таинственное лицо истины за черной вуалью.
Седой, старый, но наполненный до краев юношеской романтикой и детской наивностью, он приходил на литературные вечера танцующей походкой, неся с собой многочисленные подтверждения и доказательства своей интимной связи с другими мирами, - осколки метеоритов, какую-то внеземную пыль в стакане и кость мезозойского ящера, подаренную ему другом-палеонтологом на недавнем юбилее. На восьмом десятке он не побоялся лезть на ледяные вершины самых высоких гор в поисках снежного человека. Нет, он был достоин всяческого уважения, хотя и благодушествовал, заглядывая в будущее через замочную скважину.
Но эта телевизионная постановка поистине была загадкой. Каким чудом Черноморцеву-Островитянину удалось заглянуть в мое детство, инсценировав мои затаенные мысли? И как могли скреститься в одной точке мое прошлое, вымыслы фантаста и жизнь этого загадочного продавца лотерейных билетов и уцененных книг?
В словах моих знакомых, не одобрявших инсценировку, скрывалось что-то недоговоренное и даже двусмысленное. Их настороженные взгляды, украдкой устремленные на меня, говорили мне больше, чем их слова.
Куда более чистосердечным оказался парикмахер, бривший мне голову раз в неделю.
– Ловко вы сыграли, - сказал он, - ловко. Но одного не могу понять. Объясните. Когда вы играли самого себя, не прибегая к гриму, все было вполне ясно. Но как вам удалось уменьшиться в росте и в объеме и сыграть тут же мальчика, то есть тоже себя, но в детстве?
– Техника, - сказал я, - профессиональные навыки, умение преображаться.
– Мальчик был точная копия. Я даже сначала подумал, что это ваш внук. Но оказалось что-то другое, более странное.
– Так полагается, - сказал я. - Инсценировка научно-фантастической повести. Понимаете? Сказка на строго научной основе.
– Пытаюсь понять. Чем освежить, тройным или цветочным?
Сжимая в ладони резиновую грушу пульверизатора, он коварно пустил в меня тугую душистую струю и усмехнулся:
– Помолодели. Конечно, не так, как в телевизоре. Тут лет на пяток, а там сбросили полсотни, Приятно брить такого умелого человека.
4
Именно в эти дни в городе появились афиши, огромными " буквами извещавшие о вечере космических проблем знаменитого писателя Черноморцева-Островитянина:
"ВСТРЕЧА С ПРИШЕЛЬЦЕМ. СНЕГА МАРСА. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
С афиши глядело на прохожих лицо фантаста, задумчивое и, пожалуй, чуточку грустное. Его выражение обещало даже больше, чем было написано в афише.
Мне с трудом удалось достать билет на "встречу с пришельцем", хотя для этого вечера был снят самый большой зал.
Зрители приветствовали маститого писателя аплодисментами. Он вышел на сцену, держа в руке сосуд с таинственно мерцавшей жидкостью, намекавшей своим видом на иное, возможно, даже инопланетное происхождение.
Он вышел не по летам легкий, почти танцуя, оглянулся и, вдруг встав на цыпочки, произнес неуместное к случаю слово, если учесть, что он только что появился и еще не собирался скрыться в безграничных далях.
– Прощайте, - сказал он негромко и зловещим голосом, вкладывая в произнесенное им слово какой-то совсем особый, незнакомый смысл.
Затем он сделал паузу и спокойно, медлительно, деловито стал объяснять, что едва ли это жалкое словечко существует где-нибудь в другом месте, кроме грешной Земли. Он лично подозревает, что представители инопланетных цивилизаций никогда не прощаются ни с бытием, ни со своими знакомыми и родственниками, не желая поддаваться духовной слабости и признаваться в своей бренности.
Все слушали с таким чувством, словно мост между Землей и внеземным уже переброшен.
В голосе Черноморцева-Островитянина послышались нотки таинственной интимности и всепричастности фантаста к беспредельным сферам Вселенной, мысленно давно обжитой им и обследованной его чувствами настолько добросовестно и тщательно, что он имел все основания поделиться своим внутренним опытом.
– Наше мышление, - продолжал он, - свидетельствует не только о мудрости землян, но и о некоторой ограниченности земного воображения. Имели ли право люди, создавая язык и обозначая звуковыми знаками все находящееся по эту сторону духовного горизонта, забыть о возможных встречах и контактах с представителями иного, внеземного опыта? Не говорит ли это об известной узости взгляда, о бытовой посюсторонности языка? Уже много лет назад я поставил перед собой задачу - создать язык, способный связать человечество с иным духовным объектом, с иной умственной средой. Я составил звездный словарь и подверг переоценке все наши земные человеческие понятия. Я взглянул на себя, на вас, на весь наш человеческий мир глазами звездного пришельца. Для этого мне пришлось создать новые понятия, новые, небывалые мысленные приемы. А что же дальше? С помощью нового мысленного аппарата, с помощью нового, небывалого языка я превратил себя в инопланетца. Чуткие читатели и читательницы давно обратили внимание на это, внимательно вчитываясь в мои романы и повести; мои произведения в сущности не только информация о неведомом, - это мост, переброшенный мною между читателем, моими чувствами и тем, что находится далеко за пределами земной биосферы, но что мне удалось угадать благодаря новой, созданной мною логике. Я хочу познакомить вас с ней, но после короткого перерыва. Объявляю антракт.
Проталкиваясь сквозь густую толпу к буфету, я увидел стол с книгами, с многочисленными изданиями и переизданиями романов и повестей Черноморцева-Островитянина. И продавал их не кто иной, как тот самый человек, который походил на Диккенса.
– Расстались с электричкой? - спросил я,
– Куда пошлют, там и торгую.
– Старое, залежавшееся барахло?
– Нет. Зачем? Есть и новинки.
Он протянул мне книгу в чрезмерно яркой обложке, название которой поразило меня: "Звездный словарь. Логика мышления разумных существ планеты Ин".
– Разве есть такая планета?
– В бесконечной Вселенной с ее законами вероятности все может быть.
– Роман или философский труд?
– Гибрид философии и беллетристического азарта.
– Советуете купить?
– Я никому никогда не даю советов.
– Почему же?
– Чтобы советовать, нужно иметь опыт.
– Разве у вас нет опыта?
– Мой опыт особый. Так, покупаете?
– Покупаю.
– Вам эта книжонка пригодится. Это ведь не просто книга, а нечто большее.
– Уж не сама ли жизнь?
Я посмотрел на продавца. Но он уже не замечал меня. Он занялся другим покупателем,
5
Книга лежала передо мной на столе, и я читал ее. Читал ли? У меня такое чувство, что не столько я читал книгу, сколько она читала меня. Это слишком живая и активная книга чтобы спокойно, степенно и обстоятельно информировать читателя, осведомлять его и просвещать. Нет, она была похожа на крайне странного собеседника-телепата, гипнотизера, тонкого психолога и аналитика, незаметно и подспудно выспрашивающего читателя. У меня было такое ощущение, что в комнате находится кто-то невидимый, спрятавший себя между страниц книги, сливший себя с ее текстом.
Вопросительная и вопрошающая интонация черноморцевского повествования по мере того, как я читал книгу, становилась все ощутимее, все навязчивее и навязчивее. Казалось мне, что рядом сидит сам Черноморцев-Островитянин, держа сосуд с мерцающей жидкостью, и экзаменует меня, выясняя мои способности общения с представителями внеземного Разума.
В книге была глава, состоящая только из одних вопросов, которые должен задать представитель далекой цивилизации нам, земным и обыкновенным людям. Иллюстратор скупыми графическими средствами изобразил этого строгого и иронического экзаменатора, дав ему самую неземную и не располагающую к себе внешность. Мне стало жутковато, словно я остался один на один с этим строгим экзаменатором, готовым провалить не только меня, но заодно и все человечество.
О чем спрашивал меня и все человечество полномочный представитель внеземного Разума?
На первый взгляд эти вопросы казались странными, вздорными, неожиданными, случайными, как опечатка, сделанная машинисткой.
Почему я двуног?
Почему в генетической информации, закодированной в наследственных молекулах, предусмотрено не три уха и не два носа?
Я мысленно дал уклончивый ответ, сославшись на законы целесообразности и красоты.
Перевернув страницу, я нашел там свой ответ, насмешливо комментируемый Черноморцевым-Островитянином, словно он заранее знал мои мысли, свидетельство стереотипного мышления, своего рода человеческого клише, отпечатанного незадачливой историей.
Внеземной экзаменатор со страниц книги пытался поставить меня лицом к лицу с проблемами, мимо которых прошли ученые и мыслители из-за своей земной ограниченности и субъективизма.
Подконец мне стало неуютно с этой книгой. Я закрыл ее и поставил на полку. Но что-то магическое, по-видимому, было в этой книге, как в портрете, описанном Гоголем. Меня неудержимо тянуло к полке. Я снова взял книгу и раскрыл ее. На той странице, которая случайно раскрылась, была иллюстрация. На рисунке изображен был я. Но я был не один. Рядом стоял мальчик, в котором я тоже узнал себя. Этот мальчик тоже был я.
То, что я прочел под рисунком, имело отношение не ко мне, а к структуре времени, физическая и психическая реальность которого была разгадана представителями внеземного Разума. Удивительно, что книга на моем личном примере иллюстрировала нечто внеличное.
Овладев структурой времени, жители планеты Ин жили, как бы проектируя свое бытие во все концы личной жизни. Ребенок не предшествовал юноше, юноша взрослому, взрослый - старику, а пребывали в несливающейся одновременной разновременности.
Книга пыталась мне объяснить сущность явления, не поддающегося тем логическим средствам, которыми я располагал. Казалось, текст играл со мной в жмурки. Рисунок смотрел на меня со страницы, повергая в изумление все мое существо, словно и моя жизнь тоже была вписана в текст этой более чем странной книги.
Как попало мое изображение на страницу, да еще в виде иллюстрации к идее разновременно-одновременного бытия? Разве книга была написана только для меня? Нет, сколько мне помнится, на столе тогда лежало много экземпляров. Я взглянул на последнюю страницу: тираж сто пятнадцать тысяч. Фамилии редактора и двух корректоров. Сведения о том, когда книга была сдана в набор и подписана к печати.
Мне стало не по себе.
Надев пальто и шляпу, я отправился на Большой проспект в книжный магазин, где оставляла для меня дефицитные новинки знакомая пожилая седоволосая продавщица Мария Степановна.
За прилавком вместо седоволосой Марии Степановны я увидел его, Диккенса.
– Разве вы здесь работаете? - спросил я.
– Да. Мария Степановна ушла на пенсию. И меня направили сюда. Надоело, знаете, ходить по вагонам электричек.
Он говорил спокойно, обыденным и ленивым голосом. И при этом улыбался ласково, чуточку двусмысленно, одновременно как бы одобряя и осуждая меня. Он, конечно, уже знал, зачем я пришел в магазин.
Подошла старушка-покупательница, и Диккенс, услужливый и расторопный, стал ей показывать новинки.
Старушку смущали цены.
– Нет, это для меня дороговато, - повторяла она. - Это мне не по карману.
– Вот уцененная, - сказал Диккенс, показывая ей какую-то книгу. - Видите, старая цена перечеркнута, а здесь обозначена новая. Эта книжка даже школьника не разорит.
Все еще полная сомнений, старушка стала просматривать иллюстрации. Одна из них привлекла ее внимание.
Я ощутил на себе взгляд продавца. В нем было что-то настороженное и в то же время игривое. Взгляд указывал мне на рас-крытую старухой страницу.
Взглянув, я увидел на странице самого себя. Старушка вздохнула, закрыла книгу, сказала продавцу;
– Заверните. Беру.
Странное, дикое ощущение охватило меня, когда она протянула продавцу чек и взяла покупку. Мне казалось, что она унесет сейчас с собой часть меня самого. Что-то во мне словно оторвалось. Старушка пошла тихими негнущимися подагрическими шагами.
Диккенс наклонился и шепнул.
– Догоняйте. Унесет. Там ваше прошлое и будущее.
Я кинулся вслед за старухой, толкнув в дверях девочку, и даже не оглянулся.
Дурной сон. Нелепая сцена в плохой кинодраме. Все мелькало, спешило, торопилось, как я сам. Подскочил автобус. Старушка стала садиться. Я вырвал у нее из рук книгу. Она вскрикнула. Я отпрянул. Несколько прохожих кинулось за мной.
В сквере я остановился и перевел дыхание.
Мой профессорский облик, казалось, спорил с очевидным фактом. Но подошли дружинники, чтобы быть арбитрами в этом споре нелепости с действительностью.
– Кто вы такой? - спросил один из дружинников.
Я назвал свою ученую степень.
– А по мне хоть бы и академик. Вы что-то вырвали из рук пожилой гражданки и пытались скрыться. Предъявите документ.
Я протянул ему паспорт. С замедленной и углубленной внимательностью он стал изучать мою фотографическую карточку, приклеенную к обложке паспорта, потом перевел настороженный взгляд на меня. На карточке я был без бороды и усов, в других очках, а главное, моложе себя на пятнадцать лет.
– Это ваш документ?
– Мой.
– Идемте.
– Куда?
– Рядом. Там разберутся.
Меня взяли под руки два великолепных, наполненных до краев здоровьем и сытой упругой жизнью, парня. На их лицах играло убеждение, что они поймали крупного рецидивиста с международной репутацией, работавшего с чужими документами и выдававшего себя за доктора исторических наук.
Они вели меня, пробиваясь сквозь густую толпу.
– Интеллигент, - сказал густой голос, - а стащил мелочь. Стоит ли вести? Дать ему звонка, чтоб в голове загудело. И так будет помнить.
– Тут не рынок, папаша, - ответил дружинник, - чтобы самосуд устраивать. Да и не мелкий жулик, а крупный авантюрист. Понятно?
6
Просмотрев мои документы и записав все, что он услышал от дружинников, дежурный, лейтенант с синими глазами и черными усиками, торжественно раскрыл книгу-вещественное доказательство моего противозаконного поступка.
Он посмотрел на цену, обозначенную на обложке, и сказал, насмешливо обращаясь к моей совести и здравому смыслу:
– Что вас, гражданин, соблазнило? Ведь книгу за ее неходкость уценили. Новая цена всего тридцать копеек.
Затем он быстро перелистал книгу и вдруг заинтересовался иллюстрацией.
По-видимому, иллюстрация ему показалась еще более подозрительной, чем мое фотографическое изображение на паспорте. Он посмотрел своими синими глазами на меня, потом снова на иллюстрацию.
– А вы как попали в эту книгу?
– Не знаю.
– Отнекиваться будем после. А сейчас скажите, вы это или не вы?
Я взглянул и увидел себя на странице, себя и мальчика - тоже себя.
– Вы это или не вы?
– Это действительно я.
– Ну, а как вы попали в книгу из инопланетной жизни? Насколько я представляю, это научно-фантастический роман?
– Роман.
– Отлично. Курите?
– Благодарю, Некурящий.
– Если хотите знать, этот роман даже больше удостоверяет вашу личность, чем паспорт. На паспорте фотоснимок не совсем совпадает с вашей личностью.
– Может, это и есть мой действительный документ?
– Шутить позже будем. А сейчас нужно выяснить вашу личность. И объяснить, каким путем попала к вам в руки книга. Молчать дома будем. А здесь надо отвечать на вопросы.
Я с выжидающим видом промолчал.
– Допускаю, книга оказалась в вашей руке нечаянно. Чего не бывает при спешке. Но зачем же вы побежали? В вашем возрасте бегать очень вредно, особенно без причины.
– Я остановился почти сразу.
– Допускаю. Но книга-то ваша или пожилой гражданки?
Я не ответил.
– Вы не знали, что в пакете книга, - продолжал лейтенант, и синие глаза его стали еще светлее, еще прозрачнее, - да к тому же еще удешевленная. Вы подозревали, что это ценная вещь. Так или не так?
– А не находите ли вы, - ответил я, - что существеннее другое.
– А именно?
– Каким образом в книге оказалось мое изображение? Лейтенант нахмурился.
– Это не ваше изображение.
– А чье?
– Не ваше. Вероятно, того, кто описан в романе, Какого-нибудь героя!
– А вы раскройте книгу и посмотрите.
Лейтенант стал листать, но рисунка не было. Он куда-то исчез.
Да, теперь я не сомневался, что он исчез. Я чувствовал это по себе. У меня было такое чувство, что ищут не мое изображение, а меня самого.
– Что за ерунда, - сказал тихо дежурный. - Ведь оно же было, это изображение, или его не было?
Лицо его вдруг стало утомленным, словно после бессонной ночи,
– Вам все-таки надлежит, - сказал он, сердито отчеканивая каждое слово, удостоверить свою личность.
– Позвоните в институт, где я работаю.
– Успею. А вы мне объясните, зачем вы присвоили чужую кни-гу, а сейчас пытаетесь присвоить чужое изображение? За героя романа себя выдать хотите?
– Но роман ведь фантастический, - сказал я.
Лейтенант усмехнулся.
– Даже очень фантастический. Больше чем надо. Но объяснение найти я все-таки должен. Наличие, а потом исчезновение рисунка. Это раз. Почему вы, хорошо обеспеченный человек, соблазнились удешевленной книгой? Это два. Почему уклоняетесь от прямых ответов и хотите спрятать себя в этот роман? Это три.
– Не я хочу спрятать себя в эту книгу, а кто-то…
– А кто именно? Прошу уточнить.
– Диккенс.
– Диккенс? Допускаю. Рассказывайте все по порядку.
Я терпеливо и не вдаваясь в излишние подробности, рассказал все, что со мной было, начиная со знакомства со странным продавцом и кончая встречей с покупательницей-старушкой.
– Допускаю и это, - сказал дежурный. - Но зачем было вырывать из чужих рук не, принадлежащую вам вещь? Знаете, как это называется?
– Знаю.
Он снова стал листать книгу. Листал медленно, сосредоточенно, подолгу держа и рассматривая каждый перевернутый лист. Я смотрел на его пальцы с надеждой, что рисунок вернется на свое место. Дежурный перевернул последнюю страницу и громко вздохнул.
– Путаница. Беспорядочек. Ничего нельзя объяснить ни начальнику, ни даже себе самому.
Я вспомнил содержание книги и подумал: дежурный милиционер - это представитель земной логики, которая сейчас в тупике перед загадочным феноменом.
Лейтенант, словно угадав мою мысль, спросил:
– Вы знаете содержание книги?
– Знаком, - ответил я. - Эта книга своего рода экзамен.
– Всякая книга-экзамен. Если, конечно, она идейная и ставит воспитательную цель.
– У этой книги цель особая, - сказал я,
– Какая?
– Провалить на экзамене вас, меня и все человечество.
Дежурный рассмеялся.
– Это вы, наверное, ставите всем одни двойки. А книга добрая. Злую книгу не пропустит редактор.
– Злые книги тоже нужны.
– Смотря кому. Нарушителям порядка? Вернемся к делу. Не убедили вы меня.
– Перелистайте и убедитесь.
– Нет времени читать. Не имею права. Я на работе.
– Интересно, - сказал я, - есть ли там та иллюстрация?
– Какая иллюстрация?
– Ну та, которая только что была здесь и вдруг исчезла.
Лейтенант посмотрел на меня, и лицо его снова стало усталым и подозрительным.
– В конечном счете я начинаю сомневаться, что она была.
– А что я здесь, вы еще не сомневаетесь?
– Пока не сомневаюсь.
Он снова стал перелистывать книгу. Вдруг радостное изумление мелькнуло на его лице.
– Смотрите! Нашлась. Вот она, на месте! И он показал мне иллюстрацию.
– Страницы слиплись. Вот и вся загадка.
Лейтенант был очень доволен, словно уже распутал дело. Я тоже был рад, что рисунок нашелся. Правда, у меня не было уверенности, что он опять не исчезнет. Дежурный тоже, по-видимому, этого опасался и теперь уже не закрывал книгу, держа на раскрытой странице тяжелую ладонь. Он внимательно рассматривал изображение, сличая его со мной.
– Сходство, конечно, есть, - сказал он, - но это несущественно. Художнику понравилась ваша физиономия, и он срисовал вас украдкой, а потом использовал набросок, иллюстрируя это произведение. Так или не так?
Его мысль ему явно понравилась своей строгой логичностью и последовательностью, и, хотя меня она не убедила, я не стал возражать.
– Ну, что ж, - сказал лейтенант, - подведем итоги. Вряд ли такого крупного ученого можно заподозрить в злом умысле. Можете идти. Книжку я оставлю у себя на гот случай, если за ней придет потерпевшая.
Он улыбнулся, все еще не спуская ладони с раскрытого листа, словно боясь, что рисунок снова исчезнет.
– Идите домой. И не повторяйте поступков, которые трудно объяснить. Поймите и наше положение.
7
Придя домой, я взял с полки книгу, чтобы узнать, на месте ли рисунок. Я с нетерпением раскрыл тот самый экземпляр, который приобрел на лекции Черноморцева-Островитянина. Рисунок был на месте.
Со страницы смотрело на меня мое изображение, загадочным образом попавшее в роман, повествующий о далекой планете Ин.
Лейтенант милиции выдвинул интересную гипотезу, чтобы объяснить, как мое изображение оказалось в чужой книге. Опираясь на свою безукоризненно последовательную логику, он пришел к выводу, что художник, иллюстрировавший роман, где-то незаметно для меня набросал мое лицо и фигуру в альбом для зарисовок, а затем коварно воспользовался этим рисунком в своей работе над оформлением книги, выполняя поручение издательства.
Трезвый ум сотрудника милиции пытался очистить пока еще загадочный факт от всего сомнительного, противоречившего той логике, которую создало человечество почти за миллион лет своего существования. И мне очень хотелось положиться на трезвость и строгую последовательность лейтенанта, избавив себя от всяких сомнений и тревог.
Но ведь я не был до конца откровенен с дежурным. Я не рассказал ему, какие дерзкие идеи выдвигал Черноморцев-Острови-тянин, и о том, что я непонятным образом обнаружил себя привлеченным им для доказательства этих идей то на экране телевизора, то на страницах книги, только что изданной, но почему-то оказавшейся уже уцененной. Всего этого не знал лейтенант, рассуждавший трезво, здраво, с завидной последовательностью и не старавшийся быть педантично-мелочным в исполнении закона. Он отпустил меня домой, когда с помощью логики расставил все на свои места.
Да, он расставил все на свои места, но меня это не успокоило. Смутное тревожное чувство заставило меня мысленно глядеть в одну точку. Ведь кто-то неизвестный, состоящий в явном противоречии со здравым смыслом, играл со мной посредством загадочного рисунка в книге, которая лежала сейчас открытой на моем письменном столе.
На минуту отвлекшись от своих мыслей, я пошел на кухню, зажег газ, поджарил яичницу из трех яиц, сварил кофе.
Я всегда варил кофе сам, и приходящая домработница Настя, веселая беззаботная вдова, обижалась на меня, словно я не доверял ее искусству. Но сейчас Насти не было. Она, по-видимому, пошла поболтать на угол к приятельнице, продававшей газеты, и стоит у киоска спиной к очереди, нарочно досаждая нетерпеливым и слишком нервным покупателям.
После завтрака, сытый и несколько успокоенный, я вернулся в кабинет и углубился в чтение фантастического романа, странного, двусмысленного и живого, как организм, добытый со дна инопланетного океана.
Я оказался наедине с представителем планеты Ин, сумевшим войти в интимный и загадочный контакт со мной. Я сразу пожалел, что не был философом, чтобы вести мысленную дискуссию и при том не попасть впросак.
С высоты своего духовного и социального опыта некий внеземной экзаменатор обращался ко мне с вопросами, как бы вопрошая не только меня, но и законы человеческого мышления.
– Время, говорите вы? - почти кричал он на меня. - Соизвольте объяснить, что это такое!
Я ведь не Гегель и не Спиноза, чтобы объять словами такие глубины. Я бормотал что-то о необратимости времени, о том, что настоящее по отношению к будущему всегда является прошлым.
Но ему, овладевшему законами времени, казалось все, что я говорил, наивным и смешным, как рассуждение неандертальца о сущности квантовой механики.
Жизнь творит порядок из беспорядка. Кто станет это оспаривать? Но жизнь индивида всегда зависела от времени, от его неумолимых рамок, заключенных между началом и концом. Жители планеты Ин, управляя законами природы, научились обходить прямолинейную направленность времени. Взрослый при желании мог вести диалог с юношей или ребенком, узнавая в нем себя, располагая собой во времени, как в пространстве.
Мои математические познания были не настолько сильны, чтобы понять принцип превращения времени в пространство, особое пространство, текучее, динамическое, но все же не однонаправленное, а собирающее в одном фокусе все соотношения разновременного.
У меня уже начала побаливать голова от затраченных мною усилий, от страстного желания понять то, что противоречило законам земной человеческой логики, как вдруг страница кончилась, а на другой я прочел эпизод, имеющий прямое отношение к моему детству.
Со страниц этой удивительной книги окликнул меня школьный учитель Николай Александрович. Далекое прошлое поманило меня. Учитель назвал мое имя, и я подошел к географической карте, к той карте, какой она была в 1919 году. А за окном весна, деревья и небо моего детства, и солнце большое и яркое, совсем не такое, как сейчас.
С непостижимым мастерством была протянута нить между мной и тем, что исчезло бесследно. Я стоял в классе возле географической карты, и сердце мое билось, и в ушах гудело от тысячи мыслей и желаний, воскресших во мне вместе с детством и учителем, смотревшим на меня с бесконечным любопытством человека, как бы прозревавшего в ребенке его будущее.
Я молчал. А Николай Александрович говорил и говорил, обращаясь не ко мне, а к моему будущему.
Страница кончилась, и видение исчезло. И я сидел, пораженный тем, что Черноморцев-Островитянин сумел приобщить мое прошлое, мое далекое детство к своему вымыслу. Откуда он мог знать то, что знал я один.
Я закрыл книгу с таким чувством; словно закрываю дверь в свое детство.
Меня потянуло на улицу. Выйдя на Большой проспект, я остановился, Возле раскладного столика с книгами толпились прохожие. Я сразу узнал продавца.
– Как идет торговля? - спросил я.
– Сегодня не слишком бойко. Все требуют Черноморцева" Островитянина, а ничего не осталось.
– Ничего? И даже для меня?
Понизив голос, он ответил, переходя в шепот:
– Приберег один экземпляр. Только для вас. Я знаю, какая книга вас интересует.
– А иллюстрация есть?
– Какая иллюстрация?
– Та самая…
– Сейчас посмотрим.
Он достал книгу, раскрыл ее и стал искать рисунок. Но рисунка не было. Все это намекало на какую-то загадочную, алогичную связь продавца с книгой. Другого объяснения я не мог подыскать,
– Исчез, - сказал он. - Пропал.
– А чем вы это объясните?
– Плохой работой браковщицы в типографии. Пропустила дефектный экземпляр.
– Вполне логично - сказал я.
– А вы чем это объясняете? спросил он.
Он умел управлять выражением своего лица не хуже профессионального актера. На его узком интеллигентном лице отразился интерес, словно он действительно ждал, что я ему объясню этот необыкновенный случай.
– Кто-то на расстоянии заставляет меня видеть в книге то, чего там нет, превращая страницу в проекцию, в своего рода экран.
– Кто-то? - Он усмехнулся. - Я догадываюсь, кто.
– Кто?
– Я.
– Вы?
– А кто же? Не Черноморцев-Островитянин же.
– Понимаю. Но почему в таком случае вы не заседаете в Президиуме Академии наук, а стоите у столика и продаете книги?
– Мне легче найти общий язык со школьниками и домашними хозяйками, чем с академиками.
– Почему?
– Я вечный школьник. Меня интересует все, а ученых только предмет их специальности. На планете Ин…
– Планета Ин - это вымысел Черноморцева-Островитянина.
– Вы ошибаетесь. Черноморцев и сам не подозревает, что его талант - это мостик между двумя цивилизациями. Он не подозревает, что его фантастические романы во многом документальны.
– А откуда вам это известно?
– Я его соавтор. Его стиль, мои факты. Он, конечно, не Александр Грин, но строить сюжет умеет. Не станете же вы это отрицать?
– Стану! Он не художник!
– Он больше любого художника.
– Он или вы?
– Мы оба, - ответил он тихо и стал складывать книги. Его движения были точны, быстры, легки и бережливы. К каждой книге он прикасался, как к драгоценности.
– Вы книголюб?
– Да.
– Значит, вы не случайно выбрали эту профессию?
– Нет, Книга-это самое человечное из того, что создал человек. Я люблю людей.
– Но сами-то вы… - Я запнулся. - Сами-то… человек?
– Я хочу стать человеком. Стараюсь.
Подъехал крытый фургон Книготорга. Продавец сложил туда книги и поставил раскладной столик. Сел рядом с шофером и на прощание сказал:
– На днях будут новинки. Заходите.
8
Домработница Настя смотрела на меня с таким видом, словно я совершил подлог или соблазнил одну из самых юных своих учениц-студенток.
– К вам пришли из милиции, - сообщила она, смакуя каждое слово.
– По какому делу?
– Сказали, что вы сами знаете…
Я надел пиджак и вышел в переднюю. Там стоял лейтенант милиции, тот, что меня допрашивал.
Лицо у него было осунувшееся, строгое и на этот раз недоверчивое. Он стоял возле стены и пристально рассматривал репродукцию со знаменитой картины Ван-Гога "Ночное кафе". Лейтенант не спускал с репродукции настороженно-любопытных глаз, словно его приход был связан с необычным, тревожным и трагическим содержанием этой картины.
Кивком головы он поздоровался со мной и сказал:
– Я насчет той книги. Книга со мной. - Он вынул из полевой сумки книгу, аккуратно обернутую в белый лист ватманской бумаги.
– Пройдем в кабинет, - сказал я. - Тут темновато.
Он снял шинель, обтер подошвы сапог о половик, прошел за мной.
– Я к вам насчет книги, - повторил он.
– Догадываюсь.
– Недобрая книга, Злая книга. Дотошная книга.
– А что случилось?
– Что? Ваш рисунок исчез. А на том месте появилось мое изображение.
– Но при чем тут я?
– Я не к этому. А чтобы разобраться. Должен я уяснить или не должен, прежде чем доложить вышестоящим?
– Почему вы должны докладывать?
– По-вашему, я должен скрыть этот факт от общественности?
– Не знаю. Ведь есть опасность ввести общественность в заблуждение. А вдруг вам показалось?
Он раскрыл книгу на той странице, где лежала закладка - автобусный билет, и показал мне иллюстрацию. Я увидел изображение мальчика с живым смеющимся лицом.
– Это же мальчик, - сказал я.
– Нет, это я. Но в детском возрасте. Дома на стене висит точно такая же фотокарточка.
– А не мог кто-нибудь приклеить ее в ваше отсутствие?
– Потрогайте. Она не приклеена.
– Да, - согласился я, внимательно рассматривая изображение. - Несомненно, напечатано в типографии вместе с книгой.
– Но ведь раньше ее не было. Она появилась потом, когда вы ушли.
– Может, все-таки была, - сказал я. - Страницы склеились, и мы не заметили?
– Хорошо, - согласился лейтенант. - Допускаю. Склеились листы. Но я-то как сюда попал, да еще в школьном возрасте? Объясните.
– Может, не стоит объяснять?
– Почему?
– Существуют и необъяснимые явления. Нужно ждать, пока их объяснит наука.
– Я не могу ждать. Это раз. Мне работать надо. Два. Моя работа не терпит путаницы. Три. Не терпит беспорядка.
– Помилуйте, какой же здесь беспорядок? Книга. Роман с иллюстрациями. Обыкновенное дело. Ну, вкралась опечатка. Это тоже случается. Ваше изображение попало случайно в текст… Снимок-то висит на стене или исчез?
– Висит.
– А среди ваших соседей по квартире нет случайно печатников?
– Соседка работает в типографии.
– А отношения с ней какие?
– Всякие.
– Ну вот и нашли объяснение, - сказал я. - Она или само чудо? Скорей всего она.
– Этому трудно поверить, - возразил лейтенант. - Сначала ваше изображение. Потом мое. Я должен распутать этот узелок. Из-за этой задачки не спал ночь. Рассчитывал на вас. А вы уклоняетесь, хотя вам что-то известно.
– Я не уклоняюсь. Но, поверьте, знаю немного больше вас. Думаю, разгадку нужно искать в содержании самой книги. Вы ее читали?
– Два раза подряд…
– Содержание вам не показалось странным?
– Ничего странного не нашел. Ведь это фантастика. Разве только науки слишком много. Трудновато написана.
– Науки? Но ведь не нашей, не земной, а инопланетной.
– Я не о романе пришел с вами говорить. А об этом изображении, которое… - он махнул рукой. - Извините, если помешал отдыху или работе.
– Ничего! Ничего! Вопрос действительно важный. Такое чувство, что кто-то с нами играет в непозволительную игру.
– Кто-то? Нет, я хочу знать, кто?
– Я тоже хочу.
– Вы с писателем разговаривали? С этим Черноморцевым-Островитянином?
– Постараюсь повидаться. Если что-нибудь узнаю, извещу. Лейтенант попрощался, но, прежде чем уйти, долго стоял в передней перед репродукцией "Ночного кафе", где безумствовали и неистовствовали взбунтовавшиеся вещи.
– Непорядок, - сказал лейтенант, - беспокойство. Это раз. Время теряю. Два. До следующей встречи.
9
Придя в гости к старому, еще университетских лет, приятелю, я и не подозревал, что опять войду в соприкосновение с загадкой, мучившей меня вот уже несколько дней.
– Как вы относитесь к творчеству Черноморцева-Островитянина? - спросила меня дочь приятеля, студентка филологического факультета.
Я ответил тихо, чтобы не привлечь внимания других гостей, сидящих за столом:
– Фантастику я читаю только в трамвае. Предпочитаю что-нибудь простое, доступное чувствам человека, мечтающего о спокойном существовании. И кроме того, Черноморцев-Островитянин,.. Кто ему дал право выступать посредником между нами и будущим?
– Талант.
– А что такое талант? - спросил я студентку, На ее лице я заметил тень замешательства, недоумения, словно ее ловят на экзамене.
– Талант, - продолжал я, - это яркие, играющие радостью способности. Но в произведениях вашего Островитянина я не вижу ничего радостного. О чем он хочет осведомить нас с вами? О высокоразумных существах с других планет? Он изображает их такими, что мне с ними страшно. А я хочу представлять их себе милыми, простыми, похожими на вас. Я хочу, чтобы между мною и ими был контакт, может, еще больший, чем между мной и вон той дамой, которая сейчас увлеченно рассказывает, как ей неудачно вырвали зуб.
– Контакт? Чего же проще? Черноморцев-Островитянин обещал быть у нас. Мы его ждем. Ведь я пишу о нем дипломную работу.
– Любопытно, - сказал я, - значит, вы знаток его творчества и, вероятно, биографии тоже? Где же он родился?
– В Томске.
– Разве на планете Ин тоже есть Томск?
Гертруда улыбнулась. Но я не был уверен, что она поняла мою шутку. Черноморцева-Островитянина она принимала всерьез.
– Разве на планете Ин тоже есть Томск? - повторил я.
Мои слова прервал приход гостя. Это был он, Черноморцев-Островитянин.
– Приветик, - сказал он и театрально поднял руку, затем приложил ее к тому месту, где сердце.
Кто-то рассказывал мне, что у Черноморцева-Островитянина сердце не с левой, а с правой стороны. Но он приложил руку к левой стороне, все-таки к левой, а не к правой.
– Приветик, - он кивал всем, и всем улыбался, и кланялся. Дама, у которой недавно вырвали зуб, повеселела. Впрочем, повеселели все. И особенно Гертруда, дочка моего приятеля. Гертруда представила меня фантасту.
– Ваш читатель, - сказал я, - и… почитатель.
Я покраснел, как мальчишка. Ведь я не был его почитателем, наоборот. Все, что он писал, мне казалось вульгарным. Но он уже смотрел на меня сверху снисходительным взглядом, как на одну миллионную часть, как на своего читателя, попавшего в расставленные им сети, в сущности, сотканные из очень банальных образов и слов и временами просто из штампов. Нет, он не был хорошим стилистом.
Да, он смотрел на меня сверху вниз и усмехался. Мне почему-то очень захотелось сбить с него спесь или, как в этом году выражались, немножко "ущучить". И я спросил тихо и выразительно:
– А как поживает Диккенс?
На какую-то часть секунды лицо его стало вопрошающе-изумленным и даже озабоченным, но он моментально нашелся:
– Диккенс? Уж если на то пошло, я предпочитаю По или Жюля Верна, но в силу объективных законов времени я не могу передать вам от них привет. Они там, у себя, в прошлом, а мы здесь, за этим милым столом.
За словами в карман он не лез, и мысль его работала четко и быстро. Но ведь я тоже не собирался отступать.
– Не тот Диккенс, который написал "Домби и сын", а тот…
Но Черноморцев уже перебил меня своей скороговоркой:
– Сейчас молодые люди любят стилизовать себя под прошлое. А покопаешься обычный скучный парень, не пьет, не курит и висит на доске почета.
– На доске почета?
– А почему бы нет? Выполняет и перевыполняет план. Умеет работать с книгой.
– А все же… Кто он?
– Кто он? Кто я? Кто вы?
Фантаст оглянулся и обратился ласково к Гертруде:
– У вас, Гертрудочка, я бы никогда не спрашивал; кто вы? Вы милое, доброе существо. При вас все становится на свое место, все делается добрым, ясным и понятным, даже непонятное и загадочное.
Пряча истину за шуткой, он покинул нас и подсел к той даме, у которой недавно вырвали зуб.
10
Социологи предсказывают: через тысячу лет все население планеты будет состоять из одних ученых.
Хорошо это или плохо? Не знаю. Впрочем, что тут плохого, если даже дворник и тот будет иметь степень кандидата философских или исторических наук! Но каковы будут люди? И какие между ними возникнут отношения?
Если между ними возникнут отношения, какие существуют между мною и двумя моими аспирантами (о третьем, речь пойдет особо), то это будет почти катастрофично.
Для Белоусова и Мокрошейко я что-то вроде одушевленного, любезного, одетого в старомодный костюм справочника.
Белоусов и Мокрошейко спрашивают меня, - я отвечаю. Я отвечаю - Белоусов и Мокрошейко запоминают мои ответы. Во всем этом почти нет ничего от чувства, от души. Разве нужна душа, когда наводят справки, ищут сведений. Я справочник, человек. начиненный сведениями и фактами. Таков я для них.
А для себя? До этого им нет никакого дела. Вместо того чтобы лишний раз заглянуть в книгу, они заглядывают в мою память.
Белоусов и Мокрошейко спрашивают - я отвечаю.
Другое дело-экзамен. Тогда я спрашиваю - они отвечают. О них я сужу по их ответам, но ведь и они тоже судят обо мне по моим вопросам.
Вот почему меня пугают прогнозы социологов.
За много лет своей работы я привык оценивать людей по тому, что и как они знают. Я приучил себя смотреть на жизнь, словно и она стоит у дверей и ждет своей очереди держать у меня экзамен.
Мысль о том, что все население планеты будет состоять из одних ученых, меня смущает. Пусть больше половины из них будут талантливыми исследователями. Больше половины, но не все. Будут и подобные Белоусову и Мокрошейко.
Миллион Белоусовых. А сколько таких, как Серегин? Сотни или единицы?
Однажды я спросил Серегина, - любит ли он заниматься самонаблюдением?
– Самонаблюдением? - Он усмехнулся. - Я считаю, что Огюст Конт был прав, когда отрицал его возможность. Конт высмеивал самонаблюдение как нелепую попытку человека заглянуть а окно, чтобы увидеть, как он сам проходит по улице.
– Но ведь Конт ошибался, - сказал я. - Он был типичный метафизик.
– Как бы мне хотелось увидеть себя в окно.
– Но ведь это невозможно.
– Мне почему-то всегда хочется невозможного. Я посмотрел в окно. И вздрогнул. За окном по улице шел он, словно со мной здесь рядом пребывал кто-то другой.
– Смотрите, - взволнованно сказал я. - Это ведь тоже вы за окном, на тротуаре? Жалко, нет здесь Конта, мы бы его заставили взять свои слова обратно.
– К сожалению, это не я, - ответил Серегин. - Доцент Сидельников. Много бы я дал, чтобы это был не он, а я.
– Вы страдаете, что у вас нет двойника или близнеца-брата?
– Нет. Я страдаю от того, что человек не может переступить границ возможного. Я, например, знаю, что если проживу даже девяносто лет, никогда не перекинусь словом с представителем другой логики, другого, внеземного опыта. Слишком велико и бездонно расстояние.
– Не понимаю вашей тоски, - сказал я - Мне вполне хватает и земных, обыденных собеседников. А когда приходит желание поговорить с кем-нибудь, с кем-нибудь очень умным, я раскрываю том Пушкина, Гегеля или Гёте.
– Мне этого маловато, - сказал Серегин.
– Маловато? Как вам не стыдно! Ведь это боги. Ими всегда будет гордиться человечество.
– Вы меня не поняли. Логика Пушкина, Гёте и даже Гегеля наша, земная. А мне хотелось бы встретиться с иным типом мышления, соответствующим иной среде. И сознание, что это невозможно, приводит меня то в отчаяние, то в ярость. Эволюция обманула нас, дав нам разум.
– Почему?
– Весь смысл земной, человеческой цивилизации заключается в том, чтобы состоялся диалог между нами и тем, кому мы можем сказать вы. - Он сделал паузу и продолжал:
– Я не может существовать без ты, мы без вы Земной разум создан не для монолога, а для диалога. Земное человечество не может остаться вечным Робинзоном на своем крошечном планетном островке. Чтобы сказать ты и услышать ты, Робинзон обучил попугая. Вся наша человеческая культура без диалога с другим разумом - это только попугай, иллюзия, самообман. И я боюсь, что мы навсегда останемся Робинзоном, разговаривающим с самим собой и с попугаем.
– Мне не совсем понятна ваша мысль, Серегин. Ведь человечество - это миллиарды индивидуумов, беспрерывно общающихся друг с другом. Как можно человечество сравнить с Робинзоном?
– Мы говорим о разных вещах. Законы логики, законы мышления объединяют одного и всех, делают одним коллективным целым. Логика не может быть индивидуальной. Только она и делает всех людей такими похожими друг на друга.
– Вы думаете, что может существовать другая логика, не имеющая ничего общего с нашей?
– А почему бы нет?
И он замолчал. Молчал и я. Вероятно, мы оба думали об одном и том же - о логике иного типа.
Потом я спросил Серегина, не потому ли он так интересуется теорией информации, семиотикой, а также эмоциональным мышлением древних и первобытных народов. Он ответил:
– Да.
Коротко, категорично и чуточку сердито. Впрочем, на что он сердился? На земную, слишком привычную логику или только на меня?
Я всегда плохо понимал людей моложе себя на двадцать или тридцать лет. Даже самые примитивные из них, вроде Мокрошейко, ставили меня в тупик. Но Серегин, этот энтузиаст семиотики, влюбленный в египетские иероглифы, в древнейшие идеографические формы клинописных знаков, мечтавший о встрече с представителем иной логики, казался мне чем-то вроде нового Фауста. Ведь Фауст вместе со своим создателем, Гёте, тоже мечтал о невозможном.
Если общество через тысячу лет будет состоять из таких, как Серегин, я, пожалуй, сочту возможным примириться с предсказанием социологов.
У меня бедное воображение. Когда я пытаюсь представить себе население планеты, состоящее из докторов наук и член-корров, я мысленно вижу Академический городок а Комарове, увеличенный до сверхземмых размеров.
Но стоит мне взглянуть на Серегина, как все это исчезает. Серегин несет с собой возможность иного мира, иной среды, иного измерения.
11
Я открываю дверь. Входит Серегин. В руке у него книга.
А на лице насмешливо-изумленное выражение, словно ему только что довелось быть свидетелем чего-то необычайного.
– Ну, что? - спросил я. - Увидели самого себя, глядя в окно?
– Не себя, а вас.
– Где?
– В книге, не имеющей к вам никакого отношения. В фантастическом романе Черноморцева-Островитянина.
– А где вы приобрели эту новинку?
– В книжном магазине на Большом, у красивого элегантно-старомодного продавца, чем-то похожего на Диккенса,
– Тогда все понятно, - пробормотал я.
– Если вам понятно, то вы великий детерминист. А меня, признаюсь, это ошеломило. Причем тут вы? В книге ваше изображение.
Мы прошли в кабинет и сели на большой кожаный диван, и Серегин раскрыл книгу в том месте, где была закладка.
– Что такое? Куда он исчез? Может, не там положил закладку?
Он стал перелистывать книгу, разыскивая рисунок, а я, терпеливо ждал, зная, что он его найдет, но не сразу.
– Не спешите, - сказал я. - Страницы слиплись. Найдется. Не сомневаюсь. Но чем вы объясните эту нелепость - хулиганством, непозволительной дерзостью художника?
– Об этом я пришел спросить вас. Вам что-нибудь известна?
– Известно.
– Что?
– Я не более чем знак, буква, иероглиф. Мое изображение - это символ, с помощью которого представитель внеземного мышления пожелал войти в логический контакт с вами. Вы мечтали о таком собеседнике. И вот он начал с вами беседу.
– Вы шутите?
– Я абсолютно серьезен.
– А где же он, этот собеседник?
– Недалеко отсюда!
– В нескольких десятках световых лет?
– Да нет! Рядом. На Большом, в том самом магазине, где вы купили книгу.
– Уж не этот ли продавец, кокетничающий своим нелепым и случайным сходством с Диккенсом?
– Не думаю, чтоб сходство было случайное. Там, откуда он к нам явился, слишком большой порядок, чтобы дать свободу случаю для его игры.
– Значит, он актер, загримированный под Диккенса?
– Актер? Нет, скорее гениальный режиссер или бог, создавший самого себя, а заодно и своего земного напарника Черноморцева-Островитянина. Впрочем, вам лучше все это узнать из первоисточника. Внеземной разум вошел в контакт с вами с помощью этой иллюстрации. Поищите, может, уже нашлась?
Серегин снова раскрыл книгу, и лицо его побледнело. Он едва произнес:
– Смотрите, ведь это, кажется, я?
Да, это был он, словно вдруг раздвоился. Он был здесь, рядом со мной и там, на странице книги, но не иллюстрация, а живой, уменьшенный в несколько сот раз.
Мы оба с ужасом глядели на этот странный феномен. Минута длилась, длилась, как будто уже наступила вечность. Затем произошла метаморфоза. Уменьшенный дубликат Серегина превратился в иллюстрацию, слившись со страницей.
– Мираж! Галлюцинация! Обман зрения! - сказал Серегин, обращаясь не столько ко мне, сколько к самому себе.
– Не только, - возразил я. - Это нечто иное, большее.
– А что именно?
– Задайте этот вопрос тому, у кого вы купили книгу. До Большого проспекта, где этот магазин, десять минут ходьбы. Сейчас четверть восьмого. Магазин закрывается в восемь. Торопитесь. Если он не очень занят, вы успеете получить ответ.
Серегин схватил книгу, сорвался с места и побежал.
– После разговора заходите ко мне, - крикнул я ему, закрывая за ним дверь. - Мне тоже интересно.
Я ждал его, посматривая на часы. Ждать пришлось недолго - минут двадцать, не больше. Серегин был по-прежнему бледен. Рука его судорожно сжимала книгу.
– Ну, что он сказал вам? - спросил я.
– Я его не застал. Магазин уже закрыт. Мы забыли, что перед выходным днем он закрывается на час раньше.
– Будем ждать еще сутки.
– Мне предстоит бессонная ночь. Разве смогу я уснуть после всего, что видел сегодня?
– Ерунда, - успокаивал я. - Не взвинчивайте себе нервы. Все придет в норму. Я уже не первый раз встречаюсь с этим феноменом. Да и чего волноваться? Представитель внеземного разума продает книги, состоит в профсоюзе, платит членские взносы, несомненно, он прописан и имеет адрес. У него есть паспорт, стаж, все есть, что полагается… Магазин открывают в одиннадцать. Покупателей в этот час немного. Отзовите его в сторонку, словно хотите узнать о поступлении дефицитной книги. Он к этому привык. А вы назовите свое имя, специальность и смело спрашивайте. Он человек скромный, деликатный, интеллигентный. Если сочтет нужным, ответит.
– А если не сочтет?
– Отложит свой ответ!
– Надолго?
– Не навсегда. Не для того же он начал свой разговор с вами, чтобы потом играть в молчанку.
– Вы думаете, что он только со мной начал эту странную, нелепую игру?
– Нет. Я этого не думаю.
– Ну ладно. До послезавтра - внезапно оборвал разговор Серегин. - Я и без того много отнял у вас времени.
И он ушел.
Увидел его я только через три дня. Он похудел, очевидно, от бессонницы.
– Ну, как? - спросил я, - Видали? Разговаривали? Получили ответ?
Серегин усмехнулся.
– Чепуха! Неразбериха. Алогизм. Разговаривать-то разговаривал, но с ним ли?
– Разве его трудно узнать?
– Трудно.
– Он похож на Диккенса.
– На Диккенса? Сейчас он вылитый Чехов. Бородка клинышком. Старомодное пенсне со шнурком. И даже рост другой.
– Для чего? Почему?
– А я откуда знаю? Любезен. Сердечен. Но держит каждого покупателя на расстоянии. Я все время чувствовал, что между нами прилавок и еще что-то невидимое, но прочное разделяет нас.
– Что он ответил вам?
– Сказал, что не пишет книги, тем более фантастические, а только продает их. Насчет содержания советовал навести справки у Черноморцева-Островитянина, а насчет оформления в издательстве.
– Так бюрократично ответил? Так формально?
– Да. И попросил извинить его. Он на работе. И не имеет ни времени, ни права вести посторонние разговоры. Я еще, несколько раз заходил, делал вид, что интересуюсь, новинками. Но он так посмотрел на меня, что мне стыдно стало. Может, он действительно не имеет отношения к этому феномену? Может, это особое свойство черноморцевского таланта?
– Что вы имеете в виду?
– В магию я, конечно, не верю. В волшебство. Но, может, он телепат и гипнотизер? Гипнотизирует своим стилем?
– Но мы же не читали, а просто смотрели, когда произошел этот странный феномен.
– Да.
– Говорите, похож стал на Чехова?
– Копия. Дубликат.
– После обеда выберу время, схожу, посмотрю сам. Ведь у Чехова совсем другая внешность, чем у Диккенса. Как это ему удалось?
Мои слова не понравились Серегину. Очень не понравились. Его лицо вдруг стало обиженным и даже настороженным. Уж не заподозрил ли он меня в тайном сговоре с загадочным продавцом книг?
– Извините, - пробормотал Серегин. - Я побегу.
И исчез.
Я зашел в книжный магазин незадолго до закрытия. Продавец стоял на своем месте. Действительно, его наружность изменилась.
– Здравствуйте, Диккенс, - сказал я тихо и значительно.
– Разве я еще похож на Диккенса? - спросил он меня.
– Да нет. Сейчас вы, пожалуй, больше походите на Чехова. А для чего? Зачем? С какой целью?
– И это очень бросается в глаза?
– Не очень. Но все-таки заметно. И выражение лица другое. Задумчиво-интеллигентное. В духе девяностых годов прошлого века. г - В самом деле? Значит, сказалось. Последнее время я очень вчитывался в Чехова. Пытался понять сущность его художественного мышления, его обыденных героев. И вот под впечатлением… В отличие от вас, землян, мы слишком впечатлительны, как дети. Но это ничего. Пройдет. На будущей неделе буду читать поэтов: Есенина, Блока, Маяковского.
– Остерегайтесь, - посоветовал я. - Могут обратить внимание сослуживцы, покупатели. Кому-то может это и не понравиться.
– Так советуете не читать? Есенина и Блока?
– Пока я на вашем месте воздержался бы. Очень впечатляющие, сильные поэты.
– Благодарю за совет. Извините. Сейчас будем закрывать магазин. Заходите. Ждем на днях контейнер.
12
Кто-то из современных историков сказал про письменность, что это особое искусство, которое обогатило человечество сознанием философской одновременности всех поколений. И действительно, письменность сохранила и сохраняет человеческую мысль и соединяет людей прошлого, настоящего и будущего.
История письменности - это моя специальность. И все же я никогда не испытывал того волнения, той страсти от духовного соприкосновения с чужой жизнью через знаки и письмена, какое испытывал Серегин. Он был как бы создан для того, чтобы одновременно пребывать в настоящем и прошлом, слушать голос веков и поколений, с помощью иероглифов и еще более древних знаков приобщаться к тому, что связывает людей в гибкое непреходящее единство истории и жизни.
Философская одновременность всех поколений ведь, казалось бы, полная победа над временем. Нет, не полная. Знаки и письмена открывают дверь в прошлое, но дверь в будущее все же остается закрытой. Она откроется только тогда, когда человечество войдет в контакт с инопланетным разумом. Не раньше.
Эта мысль не давала покоя Серегину, особенно теперь, когда инопланетный разум вдруг заговорил, избрав посредником продавца книг в магазине на Большом проспекте Петроградской стороны.
Чудо почти свершилось, но Серегин не верил, да и я тоже верил в сущности только в те минуты, когда, заигрывая с моими человеческими чувствами, появлялось и исчезало изображение на страницах черноморцевского романа.
Прошел месяц, потом еще два, и все шло своим обычным земным порядком. Раскрывая книги, я видел в них только то, что в них было напечатано, не больше. Серегин тоже раскрывал книги-новинки уже без страха, но и без надежды познать нечто, противоречившее здравому смыслу. Время от времени и он и я заходили в магазин на Большом проспекте посмотреть на продавца, все еще чуточку похожего на Чехова, да и на Диккенса тоже.
Каждый раз мы делали вид, что нас привело в магазин обыденное желание не пропустить какую-нибудь интересную новинку. И мы, действительно, проявляли чрезмерный интерес ко всему, что лежало на книжном прилавке. А что лежит на книжном прилавке, вам известно. Брошюры, толстые пыльные книги и пособия для педагогов с интригующим названием "Где граница озорства".
Да, он умел работать с книгой, ничего не скажешь. У него покупали. Он выполнял и перевыполнял свой план.
В душные жаркие дни он стоял у раскладного столика на улице, окруженный наэлектризованной толпой, у которой он умел возбудить интерес, разжечь искру благородного любопытства, словно за каждой книжной обложкой было спрятано чудо. тайна всего мироздания и каждой отдельной личности, появляющейся на малютке Земле с тем, чтобы, не задерживаясь, уступить очередь следующей для участия в бесконечно развертывающемся мировом процессе.
– Не кажется ли вам, - сказал мне тихо Серегин, показывая взглядом на продавца, - что в нем живет дух информации, дух письменности и печати, живое олицетворение связи поколений?
– Нет, не кажется, - ответил я.
Серегин вопросительно посмотрел на меня.
– Ведь он призван, - продолжал я, - соединить не поколения, а два разума, две логики; нашу и ту, что уполномочила его.
– Бросьте, - перебил меня Серегин, - не верю. Да и вы не верите в то, что говорите. Он гипнотизер, телепат, талантливый фокусник, умеющий ловко играть на чужом восприятии.
– Тогда почему, он продает книги, а не выступает с психологическими сеансами, за которые хорошо платят?
– Любит книгу, - сказал Серегин. - Сейчас таких много, помешанных на книге. Особый сорт людей. Такие раньше уходили в монастырь, запирались в кельи ради разговора наедине с богом, Сейчас богом стала книга. Она заменила веру. Прибежище суровых, аскетичных душ.
– Вы думаете, он аскет?
– На продаже книг не отрастишь себе брюшко, не построишь дачу в Зеленогорске.
Продавец увидел нас и поманил к себе взглядом. Мы подошли.
– Найдется кое-что и для вас, - сказал он тихо. - Интересная новинка. Перевод с английского. Вы оба, кажется, интересуетесь семиотикой, знаками? Это как раз на интересующую вас тему.
И он протянул нам книгу, которая называлась "История знаков и символов".
– К сожалению, один экземпляр. Книга дефицитная. Не знаю, кому и дать, хоть рви пополам.
Я уступил ее Серегину, сделав вид, что книга мне знакома.
13
Серегина я увидел несколько дней спустя. Он пришел ко мне вечеров с рассеянным, почти отсутствующим выражением лица.
– Где вы пропадали? - спросил я.
Если я вам скажу, где я пребывал, вы не поверите.
– Где?
– В прошлом. Но не в своем прошлом, а в прошлом этого продавца книг. Он подключил меня к своей памяти, дал возможность взглянуть на мир его глазами. Мне и сейчас кажется, что он и я - это одно лицо. Я слишком много знаю. Меня гнетет одна и та же мысль.
– Какая мысль?
– Невозможность слить эти два мира, которые сейчас одновременно живут в моем сознании.
– Успокойтесь. Расскажите все по порядку.
– Хорошо, - сказал он. - С чего начать? В моем сознании перемешались все концы и начала. Не перебивайте. Дайте придти в себя… Я преодолел этот барьер, это невидимое нечто, которое все время стояло между ним и мною. Он пригласил меня к себе. Обычный дом. Лестница. Дверь. Ящик для газет и писем… Он повернул ключ, и мы оказались в комнате, похожей на тысячу других.
– Кто вы? - спросил я.
– Сергей Тихонович Спиридонов, - ответил он. - Да, у меня есть имя, отчество и фамилия, как у каждого, кто живет в этом городе. Но у меня есть нечто такое, чего нет ни у кого из моих соседей… Мое знание жизни, мой опыт, - он усмехнулся, - мой личный опыт, помноженный на опыт нашей цивилизации…
– Бросьте, - перебил я его, - признайтесь, что вас заставляет играть эту нелепую роль "пришельца". Это неостроумно и пошло, а главное рассчитано на интеллект подростка, начитавшегося Черноморцева-Островитянина и ему подобных.
– Ладно, - сказал он. - Называйте меня Сережа. А я вас, если позволите, буду называть Валя. Сережа не может быть выходцем из другого измерения. Выпьем. Закусим. Поговорим по душам.
Он достал из орехового шкафика бутылку коньяку и несколько конфеток, как в забегаловке, и мы выпили.
– Люблю обыкновенное, посюстороннее. Впрочем, это и классики тоже ценили, особенно Чехов. Все, что вокруг нас, все эти предметы. Иногда ругаю себя за то, что пошел торговать книгами, куда обыденнее было бы торговать мылом, зубными щетками или пуговицами. Выпьем за обыденность. Валя. Вас-то, знаю, влечет сверхобычное - египетские иероглифы, слоговая японская письменность, начертания острова Пасхи. К черту! Людям нужна обыденность, вокзальная скука в знойное лето, разговоры обывателей за чаем и сам чаек. Не веришь?
Мы выпили коньяку, и я охмелел.
– Брось ты свои иероглифы, историю письменности. Чепуха. Человечество было счастливее, когда оно не умело ни читать, ни писать. Прекрасна библейская старозаветная легенда о дереве познания добра и зла. Ты не веришь мне? Не верь. Я сам себе не верю. Мне хочется стать человеком, понимаешь? А человека делает человеком не квантовая механика, не биофизика, а обыденность, привычки. Лиши человека привычек - и он станет абстракцией, иксом или игреком. А ты не догадываешься, почему я тоскую по обыденности?
– Не догадываюсь.
– Потому, что я из другого мира. Тебе не смешно? Ведь нелепо звучат эти слова, правда? Но это так. Я, в сущности, знак, иероглиф. Я создан для связи. Не веришь? Не веришь, но через полчаса ты поверишь мне, когда я приобщу тебя к природе. Сначала к вашей, земной, которую ты, да и вы все, не исключая поэтов и художников, не умеете видеть, а потом я познакомлю тебя с моим далеким миром, подключу тебя к своему сознанию.
Он раскрыл ящик письменного стола, достал небольшой аппаратик, похожий на электрическую бритву, и включил его.
Я ощутил то, что ощущал в юности и детстве, когда, раздевшись, с разбегу падал в студеную реку, захлебываясь от ветра, ныряя, вдыхая в себя запах тины, рассекая плечом волну.
Затем меня охватил простор. Все во мне тянулось, ширилось, блаженно освобождалось.
– Ты река, - услышал я голос, - теки, несись, шуми.
Я уже чувствовал себя рекой, и берега были далеко-далеко. И меня несло, несло. Я видел свое свободное прозрачное тело.
Мы привыкаем к своему существованию и почти не чувствуем его. Ощущение всей остроты и стихийной силы бытия рождают в нас внезапные перемены.
Я ширился и рос и освобождался от всего, чем я был. Действительно ли я превратился в реку, как в "Метаморфозах" Овидия, как в древнем эпосе, как в волшебной детской сказке? Но мои глаза и мой слух подтвердили то, что ощущало мое тело, вдруг протянувшееся на сотни километров, пребывавшее здесь и далеко, там и тут одновременно.
В синеве холодных струй, в ряби волн, в текущей, бегущей, охватывающей свободный простор речного русла стихии я испытывал странное единство вечности и мгновения.
Я видел и берега с холмами, лесами, дорогами, и облака, которые отражались в моей прозрачной синеве, неторопливо плыли, подтверждая мысль, что мне теперь некуда спешить.
Человек чувствует себя поэмой в редкие минуты вдохновения, когда слова прилетают живые, как птицы, и поют, соединяясь в стихи и строфы. Не стал ли и я строфой, вписанной в леса и поля, обтекая их красоту и сливаясь с далью.
В сиянии летнего неба, опрокинутого на меня, я видел ласточку, охмелевшую от простора, на маленьких и сильных крылышках метавшую себя туда и сюда, игравшую с пространством, падающую и не могущую упасть, поддержанную пружинистой прозрачной синью.
А я освобождался, и не было ни конца, ни начала моему освобождению, все тянулось во мне, как после пробуждения утром рано в детстве.
Мир обновлялся. Он был свежий и первоначальный, как эта лиственница на берегу. Она отразилась в воде и вытянулась, прихорашиваясь, с изумлением наблюдая себя со стороны, свои темные, почти черные ветви, пахнущие смолой и еще чем-то, смесью угарной летней жары и горькой, почти леденящей прохлады.
Уж не принимала ли она меня за зеркало, эта одинокая кокетка, заглянувшая в глубь синевы и обомлевшая от собственного бытия, наглядность которого становилась все отчетливей в соприкосновении с речной гладью?
Но прощай, лиственница, прощай и здравствуй. Я буду долго-долго возле тебя и вдали, вдали и рядом: ведь я - река, и тысячелетия и миг сливаются для меня в одну песню, в один звук. Моя сущность мимолетна и вечна, я здесь и там, начиная с узенького ручейка и кончая заливом, преддверием моря.
До свидания, лиственница, и здравствуй!
Для нее я был зеркалом, как и для лесов, медленно тянувшихся по берегам, чья сень была прохладна. По одну сторону березы, по другую ели и сосны, а мое стремительное, несущее себя, катящее свою водную мощь тело объединяло и разъединяло леса и рощи, как непрерывная, начатая кем-то и неоконченная песня.
Мое детство было при мне журчанье ручейка, мое начало и мой конец в морском заливе. Но это было особое начало, оно никогда не кончалось, и это был особый конец, который снова и снова начинался.
Рекой ли я стал? Я мыслил и чувствовал, наполнен был радостью и печалью.
Я нес рыбачьи лодки и пароходы, полные пассажиров, качая их, как колыбель, качая и укачивая. А берега - они раздвигались все шире и шире, играя с простором в какую-то особую, захватывающую дух игру, подобную детским санкам, несущимся с горы, разрывая ширь и раздвигая предметы.
– Посмотри, какая река, - сказал пассажир на палубе стоящей рядом с ним девушке.
– Говори тише, - сказала девушка, - она понимает. Он рассмеялся.
– Если понимает, то посочувствует.
Голоса ушли вдаль вместе с моим движением. А лотом засветились окна в домах на берегу. Наступила тишина.
14
– Ты не спал. Валя. Не обманывай себя, - сказал он, тот, кто называл себя Сергеем Спиридоновым. - Ты видел мир так, как видят его у нас. Когда-то и у вас в далекие времена эпоса, мифов и сказок человек был слит с вещами, спаян с лесами и озерами. А потом цивилизация перерезала эту пуповину… Наша цивилизация в отличие от вашей приобретала, ничего не теряя. Наше чувство развивалось вместе с разумом и не было, как игрушка, отдано детям, дикарям и поэтам. Ты не был рекой. Река была тобою. Она влилась в твои чувства и понесла тебя с собой. Ты жалеешь?
– Жалею, что слишком скоро проснулся.
– Хотел остаться рекой навсегда? Но и реки тоже смертны. Их отравляют химическими отходами. Да и ты не был рекой, не воображай. Ты слился с рекой в момент познания. Я приобщил тебя к нашему видению, к нашей логике. Ведь ты мечтал о встрече с иным типом мышления. Но ты оказался слишком наивным. Ты отождествил себя с объектом, о котором мыслил. Но не будем философствовать, это нас далеко заведет.
– Кто же все-таки ты?
– Посланец. Посредник, выбравший из нескольких миллиардов именно тебя, чтобы вступить в диалог. Сотни тысяч лет ваш земной разум в сущности беседовал сам с собой, не зная иной логики, чем та, которая объединяла миллионы в один себе подобный организм, называвшийся человечеством. Но сейчас ты, представитель Земли, разговариваешь со мной. В контакт наконец вступили две логики, земная и инопланетная. Не веришь?
– Нет, почему же? Приятно поверить. Но ведь ты не с первым заговорил со мной? Ведь ты же не первый день на Земле. У тебя даже есть земная профессия. Прописка, И даже кой - какой стаж. Продавая книги, разве ты не имея возможности перекинуться словом с покупателями?
– Это совсем другое дело. Валя. Я же говорил с ними на их языке. Отвечал на самые элементарные вопросы. А наш диалог начался с тобой, когда ты почувствовал простор речного движения, когда ты слипся с тем, что в тебе жило в раннем детстве, но угасло.
– Диалог? Ты это так называешь? Но ведь ты молчал. Молчал и я. Разговаривала одна природа.
– Ты ошибаешься, это был наш разговор с тобой о том, что тебя окружает. Мысль вплела нас в движение, в ход самой природы.
– А рисунок в книге, мое изображение, которое то появлялось, то исчезало?
– Это была шутка, Валя. Не сердись. Способ напомнить о том, что существуют и другие методы информации и связи, кроме тех, что известны на Земле. Но не думай, что я злоупотреблял этой игрой, продавая книги. Я искал человека, подходящего для беседы. И я догадался, что ты внутренне подготовлен для этого диалога, который, наконец, начался.
– Почему же ты выбрал не какую-нибудь знаменитость, не какого-нибудь академика, члена-корреспондента или лауреата, а простого, никому не известного аспиранта?
– Я присматривался к тебе, к твоим духовным интересам. Я видел, как ты, раскрывая книгу, хмелел от ее содержания, заманивавшего тебя своей тайной… Кто-то из ваших земных ученых сказал, что философия-это расшифровка мира. Я тебе помогу расшифровать такое, о чем не мечтали ваши победители земных загадок и тайн.
– Выпьем, - сказал я. - Правда, у тебя нечем закусить; как а забегаловке одни дешевые конфетки. Ну, ладно, выпьем, допьем твой коньячок.
– Не могу. Извини. Завтра на работу. А работа хлопотливая. В магазине переучет. Какой-то недоброжелатель-пенсионер подал заявление, что я прячу для знакомых дефицитные новинки и даже спекулирую редкими изданиями. Но господь с ним, с этим гражданином пенсионного возраста. Ему некуда деть свое время, и он всех в чем-нибудь подозревает. Если бы он знал, кто я такой, он бы умер от подозрений. Но никто не знает, кроме тебя, твоего научного руководителя да этого несчастного фантаста Черноморцева-Островитянина, которому я иногда помогаю вытаскивать каштаны из огня будущего.
– Зачем ты это делаешь?
– Как зачем? Хочу помочь. Да и он нуждается в такого рода помощи. На его скромность можно положиться. Не в его интересах разглашать тайну своего не известного никому соавтора. Это все равно, что рубить сук, на котором сидишь. А он на мне сидит уже много лет. С тех пор, как я появился здесь, на Земле. Иногда он просто печатает под мою диктовку. Печатает быстрее любой самой квалифицированной машинистки. А потом читает вслух текст, словно написал сам.
– Тебе это вряд ли должно импонировать. Читал я его романы.
– И как?
– Замнем этот разговор, Сережа.
– Почему?
– Замнем.
– Нет, ты не увиливай. Я хочу знать правду. Все как сумасшедшие расхваливают книги Черноморцева-Островитянина, написанные по моей подсказке. А ты говоришь "замнем". Так ли уж это плохо?
Его голос изменился, стал почти просящим:
– Не совсем же безнадежно? Верно, Валя? Другие же пишут куда хуже, но им прощают. Только моему Черноморцеву-Островитянину… Особенно литературные критики.
– Черноморцеву-Островитянину, не тебе.
– Это почти мне. Я же его консультирую. Нет, не хитри, Валя, выкладывай правду-матку…
– Я тебя не понимаю, Сережа. Ты почти как бог. Ты мог превратить меня в реку и убедить, что это не в самом деле, а только метафора. Но, диктуя этому семидесятилетнему простаку, разве ты не мог подсказать что-нибудь оригинальное, не похожее на других? Разве ты…
– Я старался не выделяться, быть похожим… Это называется скромностью, Валя.
– Дешевка и банальность - это еще не скромность.
Он обиделся на меня, В нем заговорило литераторское, самолюбие, в конце концов он был соавтор.
– А гонораром делится с тобой этот облагодетельствованный тобой автор?
– За кого ты меня принимаешь! Мне вполне хватает и той зарплаты, которую я получаю в магазине. Частенько премируют.
– А все-таки, кто ты? Он рассмеялся.
– Довольно. - Он зевнул и потянулся. - Хочу спать.
– До завтра, - сказал я, вставая.
– До завтра? Нет. Надо повременить несколько деньков. Чтобы ты, Валя, мог себя подготовить.
– К чему?
– К чему? Лучше замнем, употребляя твое милое словечко.
– А все-таки, Сережа?
– Мало ли к чему? К встрече с тем, что на вашей неторопливой и погруженной в обыденность планетке считается невозможным.
15
Серегин продолжал свой рассказ.
– И эта встреча состоялась. Он, как и в прошлый раз, открыл ящик письменного стола, достал аппаратик, похожий на электрическую бритву, и посмотрел на меня испытующим взглядом исследователя или врача.
– Ничего, Валя, - сказал он. - Ничего. Пустяк. Нечто вроде затянувшегося сеанса двухсерийной картины по сценарию Черно-морцева-Островитянина. Выдержишь?
Он рассмеялся.
– Если быть точным, это больше похоже на просмотр материала на киностудии… Но давай приступим к делу.
Грусть охватила меня. Все, что я знал и любил, вдруг отделилось на тысячу световых лет. Между мной и родиной бездна. Как это бывает только во сне, когда к твоей жизни присоединяется чья-то чужая; я вспоминал с тоской… Там, бесконечно далеко, остались жена и двое детей. И мне никогда не увидеться с ними. Слишком велико и бездонно расстояние.
Доносится музыка. Симфонию исполняет невидимый оркестр: голоса птиц и грохот водопада.
Молодая женщина подходит ко мне.
– Как ты похудел, милый, - говорит она. - Взгляни в зеркало. Она протягивает мне крошечное ручное зеркало. Оно живое и прозрачное. Маленькое лесное озеро, охваченное рамкой из металла.
Я смотрю, и лицо мое колеблется, отраженное в синей воде этого странного живого зеркала, на дне которого плавают рыбы.
– Кто ты? - спрашиваю я.
– Твоя жена Недригана. А кем стал ты, милый? И как ты умудрился за эти несколько дней забыть меня?
– Я никогда не был женат.
– Вот как? А двое детей, которых ты решил оставить не дне безмерных пространств, собираясь в эту экспедицию, ты о них забыл? Догадываюсь, ты приучаешь себя к мысли, что у тебя нет семьи. Расстояние должно ее отобрать у тебя.
– Я никогда не был женат.
– Значит, ты приучаешь себя к мысли, что ты не вернешься?
– Нет, - ответил я. - Я вернусь.
– Ты вернешься, дорогой. Мы будем ждать тебя годы и десятилетия. Ты должен вернуться.
Я встал и пошел за ней.
На стене висела картина. Я задержался возле нее. Это был кусок живой природы, кусок мира, вставленного в рамку. В раме шумела роща, бушевали зеленые ветви, охваченные ветром. Я сначала подумал, что смотрю в окно. Но окно дало бы ощущение дали, вырезанной в стене и в живом пространстве природы. А рядом было совсем другое. Роща была здесь, во мне, и рядом, вставленная в раму, как то лесное озеро, в которое я только что смотрелся.
– Ты прощаешься с вещами, милый. Я понимаю. Но почему у тебя нет для меня слов, которые мне захочется вспоминать, когда ты будешь далеко? Ну, скажи что-нибудь!
Я молчал. Сознание безумной утраты охватило меня, словно за возможность участия в экспедиции я расплачивался всем, что было дорого мне, - семьей, обществом, историей, наконец, всей биосферой планеты.
Вот она, биосфера, в раме картины, роща, которую я не смогу захватить с собой.
– Милый, - услышал я, - все эти дни ты был занят подготовкой к исчезновению. Извини, что я так называю экспедицию на далекую планету, где есть нечто сходное с нами и где, по предположениям наших ученых, действительность разумна и разум действителен. Но я почему-то боюсь этого разума, хотя есть и нечто пострашнее - это безмерные пространства, которые поглотят тебя. Дорогой, в нашем распоряжении были годы, но они ушли, и сейчас остались считанные минуты. Хочешь, остановим время, замедлим его течение, чтобы обмануть напряженные чувства? Лучше не надо? Но что же ты молчишь?
Я молчал не от сознания всей драматичности этих минут перед разлукой, которая должна продлиться слишком долго, а от другого - от нелепого сознания, что я здесь посторонний и меня принимают за кого-то.
Потом все это кончилось, оборвалось. Я снова был рядом с Сережей возле стола, где стояла бутылка с коньяком.
– Это было со мной? - спросил я.
– Нет, это было со мной, а не с тобой. Валя.
– А где это было? ' - Замнем, Валя. На время замнем. Представь себе, что. ты просматривал материалы.
– Фильма?
– Нет, Валя, не фильма, а кусок моей жизни.
16
Я верил и не верил. И когда Серегин ушел от меня, я почувствовал ревность. Это была нелепая ревность, нелогичная, абсурдная. К кому, к чему я ревновал своего аспиранта? К тому, что его, а не меня выбрала иная действительность для интимного контакта. Меня же она только поманила, играя изображением, то исчезавшим, то появляющимся снова. Меня да еще лейтенанта милиции.
Он оказался легок на помине. Я услышал звонок, а затем голос, что-то объяснявший домработнице Насте.
Настя вызвала меня.
– К вам, - сказала она, и лицо ее выражало уж слишком много чувств.
– Кто?
– Этот, - ответила она. - Из милиции.
Лейтенант стоял в прихожей и опять рассматривал репродукцию с картины Ван-Гога "Ночное кафе".
– Любите живопись? -спросил я.
– Интересуюсь.
Я попросил лейтенанта пройти в кабинет, где еще висело облако дыма, оставленное только что ушедшим и беспрерывно курившим Серегиным,
– Извините, если помешал, - сказал лейтенант. - Я все насчет того же. Насчет нарушителя порядка.
– Порядок, насколько понимаю, нарушил я?
– Вы? Нет. Сомневаюсь. Я насчет случая с рисунком. Было это или не было?
– А вы как хотели бы? Было или не было?
– Жизнь не всегда считается с нашими желаниями. Но не в этом дело. Я доложил начальству. А вышло плохо. Не поверили. И направляют на освидетельствование к невропатологу. Ясно? "Переутомился ты, Авдеичев", предполагают. Нелишне было бы с вашей стороны подтвердить факт.
– Вам не поверили. Почему, думаете, мне поверят?
– Вы крупный ученый. Специалист. А мой начальник очень уважает ученых. Это раз. Крупных специалистов. Это два, В третьих…
– Чего же вы хотите от меня?
– Хочу, чтобы вы зашли к начальнику нашего отделения майору Евграфову Павлу Николаевичу и подтвердили насчет этого рисунка.
– Вы ставите меня в нелегкое положение. Современные люди верят только неопровержимым фактам. А Павел Николаевич и по своему положению не может быть слишком доверчивым.
– Это точно. Но все-таки был хотя бы отчасти этот факт или совсем и не был?
– В том-то и дело. Может, ничего не было. Может, нам с вами показалось?
– Допускаю. А дальше что? Значит, мне надо идти к невропатологу?
– А почему бы вам не сходить? Невропатологи самые деликатные из врачей. Самые внимательные…
– А что я ему скажу?
– Расскажите все, как было.
– А если не поверит?
– Дайте ему номер моего телефона.
– А чем это поможет? Одно из двух - он заподозрит, что мы оба больные, или придет к выводу, что это обман. Для меня и то и другое плохо. Я же был на дежурстве. Это раз. Вел дознание. Два.
Я подивился безукоризненной логике лейтенанта милиции Авдеичева. Это была логика, опирающаяся на весь земной человеческий опыт. Но кроме земной, существовала и другая логика, о которой лейтенант Авдеичев, к сожалению, ничего не знал, впрочем, так же, как и строгий его начальник.
Должен ли я был сообщить майору Евграфову свои сведения? В конечном счете, да. Но не сейчас, а после того, как свяжусь с Президиумом Академии наук. Факт, если это действительно был факт, скорее подведомствен отечественной науке, чем пока еще недостаточно компетентному а естествознании и философии начальнику отделения милиции.
Что же мне сказать Авдеичеву, который сидит напротив меня, по ту сторону длинного, типично профессорского стола и ожидает моего ответа.
– Вас не снимут с должности, - спросил я, - не уволят?
– Вполне могут уволить. Врач напишет: либо я больной, либо злой симулянт, обманщик. Одно другого не лучше.
– Врач напишет? Будем надеяться, не напишет.
– Напишет. Что же делать?
– Денька два повременить. Я попытаюсь заинтересовать этим случаем крупных отечественных специалистов, войти в контакт с Академией наук.
– Денька два можно и повременить. Но не больше, - сказал Авдеичев, вставая. - Денька два, - повторил он. - Значит, забегу к вам на будущей неделе.
В передней он задержался, о чем-то сосредоточенно думая, и сказал с явным сомнением:
– Денька два. Много за это время воды убежит. И нервы себе испортишь… Ну, до свиданья,
17
Денька два… Не успеешь оглянуться, а они уже канули в вечность. Тут нужно не денька два, а годка два, а может, и два десятилетия. Ведь речь идет о самом крупном и парадоксальном событии за всю историю человеческого познания.
Обо всем этом подумал я, как только закрылась дверь за лейтенантом милиции Авдеичевым. Затем на смену этой мысли пришла другая, мысль о самом Авдеичеве. Есть ли у него жена, дети? И как скверно получится, если его уволят, обвинив в симуляции, в злостном обмане.
Казалось бы, эти две мысли были несоизмеримы по своему значению. С одной стороны, интересы всего человечества, интересы отечественной науки, а с другой - судьба лейтенанта милиции, одного из многих.
Но в эту минуту судьба лейтенанта заслонила в моем потревоженном сознании интересы человечества. Я ощутил всю свою вину перед лейтенантом, который отпустил меня, задержанного дружинниками, отпустил, доверившись своей безукоризненной логике, чувству здравого смысла и доводам своего доброго сердца.
Я позвонил Серегину. На мое счастье, он оказался дома. Я попросил его немедленно зайти ко мне и пока ни о чем не спрашивать. Через полчаса Серегин сидел в моем кабинете, окутанный папиросным дымом, и слушал меня.
По выражению его лица, ставшего вдруг настороженно-насмешливым, я понял, что на безукоризненно точных весах своего рассудка он уже все взвесил и знал, что, как ни жаль лейтенанта милиции Авдеичева, интересы отечественной науки и человечества все же дороже.
– А что будет с лейтенантом? - спросил я.
– Уволят в запас. Не пропадет. Устроится на другую работу, только и всего.
– Со справкой о психической неполноценности?
– Ну, не устроится здесь, поедет на периферию. Можем ли мы из-за какого-то лейтенанта рисковать контактом земного человечества с представителем иной биосферы, иного Разума?
– Отчего же непременно рисковать? Не понимаю. Разве это помешает контакту, если майор Евграфов, старый опытный работник, узнает, что продавец книжного магазина на Большом Сергей Спиридонов совмещает со своей основной профессией и другое, пока не совсем привычное для него дело, но дело честное, отданное разуму и прогрессу? Ведь этот Спиридонов не уголовный преступник, не пьяница, не хулиган. Майор Евграфов разберется и не станет ставить преград.
– Разберется? Вы за это ручаетесь? А сам факт, что, не будучи действительно Спиридоновым и вообще родившись не на Земле, он пока скрывает… И все прочее? Об этом вы подумали?
– Ну, что ж, подумаем вместе с майором Евграфовым, Он современный человек, наверное, поймет и уважит мотивы…
– А если не уважит? Нет, подумайте пока один. А лейтенанту скажите что-нибудь насчет неразгаданных явлений природы. Неразгаданные явления теперь все уважают. С ними посчитаются и в милиции.
– Дело не только в лейтенанте, поймите. Не могу же я от всех скрывать этот факт. Интересы общества, интересы отечественной науки.
– Ну, что ж, - сказал Серегин, усмехаясь. - Закажите разговор с Москвой. Свяжитесь с президентом Академии наук или с кем-либо из его заместителей.
– А что? Может, и свяжусь. Это мой гражданский долг. ' - Обождите со своим долгом. Можете все испортить. Сережа уже мне много раз говорил, что ему хочется побыть обычным рядовым человеком, поторговать книгами. И что с этим, ну, с контактом, успеется. Не убежит. Он, Сережа, должен себя подготовить и сейчас еще не готов.
– Вы смотрите его глазами. А интересы науки, техники, общества?
– С передовицами вы к нему не суйтесь. С готовыми штампованными словами. Высмеет, Да еще как!
– Но ему же доверили, поручили. А он себе легкомысленно торгует то лотерейными билетами, то книгами. С точки зрения его к нам пославших, поручивших ему,.,
– А откуда вы знаете их точку зрения? У них совсем другие понятия, другой порядок. Они, по-видимому, не торопятся. Не спешат. И раз послали, наверное, доверяют,
18
Телефонный звонок прервал наш разговор.
Сняв трубку и назвав свое имя, я услышал необычайно любезный, даже чуточку вкрадчивый голос:
– Ради бога, извините. Поистине глобальные обстоятельства вынудили меня прервать этим телефонным звонком ваши глубокие размышления, а может, и исследования в области семиотики и истории знакомых систем. Да, обстоятельства воистину глобальные.
– Кто говорит со мной? - прервал я могучий поток слов,
– Черноморцев-Островитянин.
– Чему обязан? - спросил я.
– Обстоятельствам глобального масштаба. Только весьма серьезные причины могли вынудить меня прорваться сквозь ваши размышления, бесцеремонно нарушить ваш покой.
– В чем же, собственно, дело?
– Мне необходимо с вами повидаться.
– Ну, что ж. Заходите вечерком. Я буду дома. Я не сказал Серегину, кто мне звонил. Но он, по-видимому, догадался.
– У Сережи в последнее время неважное настроение, - сказал он.
– Это почему?
– Конфликт с научным фантастом. С Черноморцевым-Островитянином. А он, Сережа, к такого рода размолвкам не привык. Не то что у них там, на их планете нет никаких конфликтов. Сколько угодно. Но там все не так. И размолвки там другие. Это не Черноморцев-Островитянин вам сейчас звонил?
– Как вы догадались?
– Скорее интуитивно. Я как раз в эту минуту о нем думал, Я немножко побаиваюсь его.
– А что он может вам сделать?
– Не мне. Сереже. Намекает ему, что больше не может скрывать от общественности и науки такой глобальный факт. Глобальный… Это любимое его слово.
– А какая ему выгода? Ведь этот… Диккенс… Ну, не Диккенс, Сережа ему помогает. Не то консультирует, не то даже соавторствует…
– Отказался. Категорически отказался. И у Черноморцева-Островитянина сразу же начался творческий застой, неудачи…
– Почему же отказался?
– Я его убедил.
– Не следовало этого делать… Вмешиваться в чужие дела. И вот теперь расхлебывайте. Тут дело посерьезнее, чем с лейтенантом Авдеичевым.
– Теперь уже поздно об этом говорить. Дело сделано,
– А нельзя ли как-нибудь выправить положение? Уговорить Сережу, убедить его, что не время входить в конфликт те фантастом, что нужно повременить.
– Да разве он согласится! У него совсем другой внутренний мир, совсем другая логика. Он не признает никаких компромиссов не только со своей совестью, но даже с желаниями. Он поступает так, как подсказывает ему его логика.
– Но раньше-то он помогал Островитянину, консультировал его?
– Раньше. Но не теперь. Теперь он не хочет.
– Скажите, вы имеете на него какое-нибудь влияние?
– Мы с ним друзья. Настоящие большие друзья. И, кроме того, нас связывает вместе нечто особое и, если употребить любимое словечко этого красноречивого фантаста, нечто глобальное. При Сереже я так не сказал бы. Сережа терпеть не может громких слов. Его девиз-скромность.
– Скромность? Ну, что ж, это не так уж плохо. Скромного, тихого человека всегда легче убедить или переубедить. Убедите его, что Черноморцева-Островитянина нельзя бросать в беде. Черноморцев делает полезное дело, прививает юношеству любовь к знаниям, к полету фантазии и мечты.
– Бросьте. Ваш Черноморцев-Островитянин заурядный беллетрист. Для него самое важное - тиражи. Из-за тиражей он и занимается фантастикой.
– Поверьте, это несправедливо. Он любит свое дело. Любит. И нельзя его винить, что он нуждается в консультации, нельзя оставлять его без консультанта.
– Пусть консультируется у кого-нибудь из ученых.
– Это не то. Его преимущество и состоит в том, что он консультировался у Сережи. А Сережа на самом деле не Сережа, а тот… Я вполне понимаю страдания Черноморцева. Даже Уэллс и тот не имел возможности посоветоваться с кем-нибудь вроде Сережи.
– Ну, и что? Уэллс все равно писал лучше, чем этот Черно-морцев-Островитянин, Но будет о нем. Неинтересно, Мне надо идти. Меня Сережа ждет. Мы с ним условились.
И Серегин исчез, даже не простившись.
19
Придя вечером ко мне, Черноморцев-Островитянин сразу же заявил, что он приехал на такси и такси его ожидает у ворот дома.
– Что ж, - сказал я, - я вас не задержу.
– Зато я вас задержу, - сказал фантаст. - У меня к вам глобальных масштабов дело.
– Так сначала отпустите такси,
– Нет, не отпущу. Пусть ждет. Это моя привычка. Я люблю, чтобы меня ждали. Одно сознание, что меня никто нигде не ожидает, может привести меня в полное отчаяние, Я всегда опаздываю. Хочу, чтобы меня везде ждали. Но сам я не люблю ждать. И потому пришел к вам.
– Не понимаю.
– Сейчас объясню. У вас есть аспирант по фамилии Серегин?
– Есть. Он только что был у меня и ушел незадолго до вашего прихода.
– Отлично. Великолепно. Этот ваш аспирант занимается семиотикой, изучением знаков?
– Да. На будущий год будет защищать диссертацию.
– Отрадно. Превосходно. Значит, вы его научный руководитель?
– Да.
– Отлично. Но вам не мешало бы знать о некоторых весьма существенных особенностях вашего подопечного,
– Какие же это особенности?
– Не очень отрадные, скажем прямо,
– Точнее?
– Он авантюрист.
– Осторожнее. Я не люблю, когда о моих знакомых…
– Понимаю. Но он не только авантюрист, он еще и глупец. Легковерная личность. Представьте, он поверил в совершенно невероятную, нелепую, невозможную вещь, что Сергей Спиридонов, продавец в книжном магазине на Петроградской стороне, ни больше, ни меньше, как пришелец… Представитель инопланетного Разума. Не смешно ли, а?
– До смеха ли тут. А на самом деле кто он?
– Мой воспитанник. Я взял его из детского дома. Возился с ним. Учил его языкам. Хорошим манерам. Потом он заболел, сразу после того, как кончил школу. Редкий случай. Представьте, вообразил себя представителем инопланетной цивилизации. Необыкновенно мощное воображение. Феноменальные телепатические способности. Ясновидение. И, кроме того, глобальное умение внушать себе и другим.
– А вы не пробовали эксплуатировать эти глобальные способности?
– Эксплуатировать? Ну, зачем же так прямолинейно и несправедливо? Иногда советовался. Разве это возбраняется? Почти сын. Воспитанник. Ужасно любит книги. Но вернемся к вашему аспиранту. У него есть какие-то свои цели. Пока о них можно только гадать. Но он настраивает Сережу против меня. Поверьте, я этого не потерплю. На моей стороне право…
– А что бы вы хотели от меня?
– Хотел, чтобы вы немедленно вмешались, пресекли.
– Но он же аспирант, не школьник, поймите. Через год кандидат наук. Как я могу вмешиваться в его личные отношения с этим Сережей?
– Тогда я буду вынужден обратиться за защитой к прессе. У меня мировая известность. Думаю, ни вам, ни вашему подопечному не будет кстати фельетон… Громкая огласка. Вашего интригана выведут на чистую воду.
– За что? За то, что ему не очень нравятся ваши романы? Никак не могу понять, в чем его преступление?
– Фельетонист это сумеет объяснить лучше меня. Извините. - Он посмотрел на часы. - Меня ждет такси.
– Но вы же любите, когда вас ждут.
– Да. Но это иногда дорого мне обходится.
В голосе его опять послышались приятные мягкие нотки.
– Извините. Только поистине глобальные обстоятельства вынудили меня оторвать вас от ваших дел. Надеюсь, вы объясните вашему легковерному аспиранту, что он ошибается. Сережа родился от земных родителей. От земных. Понимаете? Даже слишком земных, как выяснилось в детдоме, когда я брал его на воспитание.
– А что его заставило внушить себе…
– Что?
Собравшийся уже уходить писатель снова сел в кресло.
– Буду до конца откровенен с вами, хотя не знаю, заслуживаете ли вы моей откровенности. На Сережино сознание очень подействовала обстановка моего дома. Духовная атмосфера. Все эти мысленные соприкосновения с космосом, с Вселенной. И, конечно, мои книги, к которым он пристрастился, учась в школе.
– Может, вам не следовало брать его из детдома?
– Этот вопрос я не намерен обсуждать с вами. Он вас не касается.. Гость поднялся с кресла.
– Извините. Убегаю. Убегаю с надеждой, что вы разъясните вашему аспиранту. Мой приемный сын Сережа болен… Выражаясь словами поэта, "прекрасно болен". Его болезнь позволяет ему творить почти чудеса. Но все же это болезнь, хоть и прекрасная болезнь. Разве можно об этом забывать? Я вам позвоню. Непременно позвоню.
Он оглянулся, усмехаясь:
– А вы ждите, ждите моего звонка. А? Теперь будете ждать? Волноваться? Я знаю. Так уж устроен у людей внутренний механизм. И не теряйте, пожалуйста, из-под ног реальную почву, как ваш склонный к внушению аспирант. Сережа эем-ной человек, хотя и похож чем-то на князя Мышкина. Но он зем-ной. Понимаете? Зем-ной, И родился где-то здесь, на Петроградской стороне. Рядом с вами.
20
Рассказывая Серегину о визите фантаста, я попытался передать и черноморцевско-островитянскую интонацию, всю ту энергию и страсть, которые вкладывал в слово зем-ной этот любитель всего потустороннего и внеземного.
Я следил за выражением лица своего аспиранта. Оно менялось, становилось все мрачнее. И было так неожиданно, когда он вдруг весело рассмеялся.
– И вы поверили ему? - спросил он. - Поверили?
– Очень бы хотелось не поверить. Очень! Но, согласитесь, на его стороне все-таки здравый смысл. Я ведь все время боролся с собой. Я сомневался даже в те минуты, когда изображение, играя с моей логикой в непозволительную игру, то появлялось, то исчезало на страницах черноморцевской книги. А он все объяснил.
– Все? Все объяснил? А он не рассказывал вам, почему у него сейчас творческий кризис?
– Нет, о кризисе он не упоминал. Да и согласитесь сами, кризис со всяким может случиться. А Черноморцев на восьмом десятке. Он и на отдых право имеет.
– Ну, хорошо. Допустим, я соглашусь с вами, а заодно и с ним. Сережа действительно внушил себе, а теперь внушает нам. Но откуда у него такие огромные знания? Откуда он знает то, чего не знает земной опыт, современная наука? Что же, по-вашему, он ловкий фокусник, немножко ясновидец, немножко гипнотизер?
– Все же в это поверить легче, чем в то, в другое, во что верят только дети, начитавшиеся фантастических романов. Да и Черноморцеву-Островитянину какой смысл скрывать?
– Какой смысл? Да самый простой. Превыше всего на свете он ценит себя и свои собственные сочинения. Сережа для него клад, истинный клад. Представьте себе Уэллса, получившего возможность консультироваться с марсианином…
– Представляю, хотя и с трудом. И что же, Уэллс, войдя в сомнительную сделку с инопланетцем, стал бы скрывать…
– Но ведь это же не Уэллс. Это Черноморцев-Островитянин. Большая разница.
– Кое-какая разница, конечно, есть. Но все равно поверить в то, что Сережа ясновидец и телепат, а не инопланетец, в тысячу раз легче. Ведь преодолеть тысячи световых лет…
– Ну, и что ж, - перебил меня Серегин, - ведь не вы преодолели и не ваша слишком любознательная домработница, а Сережа. Понимаете, Се-ре-жа! Говорите, фантаст запугивает фельетоном? Не боюсь я фельетона. Пусть пишут. С одной стороны фельетон, а с другой…
Он вдруг замолчал, словно забыв обо мне.
– Ас другой? - спросил я.
– Вы сами знаете, что с другой.
– А доказательства где?
– Доказательства? А разве их было мало? А то, что я был рекой, а вы видели свое детство?
– Это не доказательства.
Ладно. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Ну, как дела у вашего лейтенанта милиции?
– У Авдеичева? Все в порядке. Невропатолог посоветовал взять отпуск и отдохнуть где-нибудь в деревне. Майор отпустил. Был милостив. Дал совет не читать фантастических романов, особенно тех, которые действуют на нервную систему. И Авдеичев укатил к сестре в колхоз. Вчера приходил прощаться. Вам бы тоже следовало взять пример с этого лейтенанта, немножко отдохнуть, подлечить нервы.
Забегая вперед, я должен сказать, что Серегин послушался моего совета, уехал в Пушкинские горы вместе с Сережей, взявшим отпуск. Очень уж хотелось Сереже побывать в пушкинских местах, а тут подвернулась возможность.
Но в тот раз мой аспирант не показал и виду, что у него нервы не в порядке. И даже обиделся на мое предложение. Ушел как провалившийся на экзамене.
В дверях обернулся и сказал:
– Не ожидал я этого от вас.
Признаюсь, его слова меня смутили. Естественно, я был склонен, как и каждый человек, скорей поверить в факт, в обыденный 'И легко согласующийся с логикой факт, чем в чудо. И все-таки что-то во мне боролось, сопротивляясь очевидности. Минут сорок я ходил по комнате взад и вперед из угла в угол. Затем надел паль-то и вышел на улицу. Что-то тянуло меня туда, в книжный магазин на Большой проспект.
В книжном магазине в этот час было много посетителей. Я остановился недалеко от кассы в углу и оглянулся. Сережа, как всегда, был на своем месте за прилавком. Он сбрил бороду и усы и теперь был похож уже не на Диккенса и не на Чехова, а на обычного современного молодого человека из интеллигентной семьи.
Я смотрел на него, словно надеясь сквозь его теперь уже обычную внешность разглядеть нечто несбыточное, не имеющее корней на этой привычной для наших чувств планете. Но что-то мешало мне. Не хватало остроты восприятия, как после бессонной ночи, когда смотришь в окно и пытаешься соединить куски вдруг распавшегося на части мира. Я видел Сережины руки, завертывающие книгу, его длинное узкое интеллигентное лицо, необычайно помолодевшее без бороды, его плечи и на этот раз подстриженную нулевкой голову, но я не мог собрать в целое эти части распадавшегося образа.
Я стоял и смотрел. Он поднял голову и увидел меня. И вдруг его образ, образ современного молодого человека слился с тем представлением о нем, которое было в моем сознании до беседы с фантастом. Всю обыденность повседневного словно сдуло ветром.
Это был уже не Сережа Спиридонов, а тот, другой, которого послало сюда Неведомое.
21
Черноморцев-Островитянин хотя и заставил ожидать себя, но все же позвонил. Он позвонил в два часа ночи, словно обстоятельства требовали этого ночного звонка. Нет, обстоятельства не требовали.
– А вы знаете, - сказал он, - а вы знаете, куда уехал Сережа?
– Знаю. В Пушкинские горы. Вместе со своим приятелем, моим аспирантом. Я получил от него довольно милую открытку.
– А почему именно в Пушкинские горы? Почему?
– Красивые места, связанные с памятью великого поэта…
– Оставьте ваши банальности. Красивые места… Оставьте! В голосе фантаста слышалось сильное раздражение. Очевидно, Пушкинские горы его устраивали еще меньше, чем всякое другое место.
– А фельетончик в работе, - услышал я, - Фельетончик, Злая, остроумная статейка. Внешний и внутренний портрет вашего аспирантика. Портрет, имеющий разительное сходство с оригиналом. Он должен появиться в "Вечерке" не позже, чем в конце будущей недели. Вряд ли он доставит большое удовольствие вам и администрации вашего института. Вряд ли.
Я повесил трубку.
Снова раздался нетерпеливый звонок. Я снял трубку и снова повесил.
Снова раздался звонок. Я снова снял трубку, но уже не стал вешать.
– Извините, - услышал я. - Нас разъединили. Ужасное чувство. Между тобой и собеседником кто-то уже поставил глухую стену. Вы слышите меня? Вы слышите? Не принимайте мои слова слишком близко к сердцу. Фельетона не будет. Я пошутил. Но поймите меня, поймите. У меня отбирают сына. Поймите… Поставьте себя на мое место.
– Я не пишу фантастических романов.
– Это не важно. Вы занимаетесь тоже не совсем обычным делом. Вы пытаетесь отделить от человека его язык и посмотреть со стороны. Что такое семиотика? Изучение коммуникаций с помощью знаков? Мой Сережа, соединяя себя с собеседником, может обходиться без знаков. Ему не нужны коммуникации. Он сливает свое я с любым ты без помощи языка. Его телепатические возможности безграничны. Да, он феномен. Зем-ной феномен, Зем-ной. Хорошенько вдумайтесь в его необыкновенные способности. Для них не существует ни времени, ни пространства. Не по-думайте, что я кантианец, считающий пространство и время суб-ективными категориями. Я материалист! Материалист. Диалектик! Но мы очень мало знаем о времени, а еще меньше о телепатической связи. Может, Сережа и действительно имеет контакт с иной цивилизацией. Но он зем-ной. Я не уступлю! Я его воспитал! Здесь, на Земле, в этом городе. У него есть адрес и паспорт. Он прописан. Но не только пропиской и паспортом он связан с Землей. Не только. Поймите! Теперь он уехал. Ваш аспирантик увез его в Пушкинские горы. Это неспроста.
– Не понимаю, - перебил я фантаста, - какую опасность могут представлять Пушкинские горы для человека, который продает книги?
– Он слишком впечатлителен! И кроме того… Нет, я кое-что должен утаить. Еще не пришло время. До свиданья! Еще не пришло!
Теперь не я, а он повесил трубку. И я был этому рад.
Наступила тишина, покой. И я был рад этой тишине, покою. Я писал для толстого журнала статью о Жане-Франсуа Шампольоне, дешифровавшем древнеегипетскую письменность.
Перед моим мысленным взором возник человек, заставивший говорить онемевшее прошлое.
Я писал о том, как приоткрылась завеса и мы смогли почувствовать во всем трепете живой конкретности давно уже мертвый мир.
В глухих застывших знаках было спрятано величие и страсть; "Я дивлюсь тебе. Я простираю власть твою и ужас перед тобой на все страны, страх перед тобой до пределов небес".
22
Письмо из Пушкинских гор от моего аспиранта Серегина - это обрывок сновидения, подклеенный к куску киноленты.
Валя писал о своем друге Сереже так невнятно и загадочно, что я с трудом пробирался сквозь чащу слов к смыслу, к странной, незнакомой, внеземной логике, которая снова затеяла игру с Серегиным, а через него и со мной.
По словам моего аспиранта, Сережа сетовал, что он опоздал. Ему необходимо было встретиться с Пушкиным или с Хлебниковым. Но когда он прилетел на Землю, ни того, ни другого уже не было в живых. Ошибка в подсчетах, крошечная неточность, мимолетная задержка, а тут, на Земле уже время утекло и одна эпоха сменила другую. Какая ему теперь разница - опоздал ли на час или на целое столетие. Время утекло, и то, что утрачено, почти не поддается возвращению.
Почему с Пушкиным и почему с Хлебниковым? Почему не с Ламарком, не с Винером, не с Эйнштейном?
Сережа объяснил своему приятелю Вале, а сейчас Валя, мой аспирант, объяснял мне, посвятив этому три страницы своего пространного письма.
Мне объясняли то, что я не способен был понять.
Я напрягал все душевные силы, чтобы почувствовать смысл того явления, о котором писал мне Валя. Он писал, что Хлебников был голосом рек и лесов, что посредством него с нами разговаривала сама природа.
Но ведь это было только красивое выражение, только метафора. Так думал я, но Валя и Сережа представляли это иначе.
Меня удивляло и другое-то, что Валя научился думать так, как мыслил его удивительный приятель.
Но вернемся к письму, которое сейчас лежит передо мной на письменном столе и манит в глубины невнятного и нерасшифрованного, не переведенного на язык нашей, земной логики.
В письме были пропуски, по-видимому, Валя не мог или не хотел сказать всего, чего требовала беспощадная ясность мысли.
"О чем бы ты стал беседовать с Пушкиным, если бы не опоздал на сто тридцать лет?
Сережа не ответил на мой вопрос.
Тогда я сказал ему, что Пушкин, несмотря на свой гигантский ум, не был подготовлен к разговору с представителем внеземной биосферы. Ведь он жил в первой половине XIX столетия, когда не было космических ракет и бешенство ядерной энергии пребывало в покое, как джин в закупоренной бутылке.
Он снова промолчал, словно не слышал моего замечания.
Да, между нами стояла глухая стена, и я уже стал жалеть, что приехал с ним в эти края.
Сережа ходил погруженный в себя и вдруг прислушивался к чему-то не слышному мне, долетавшему до его обостренного слуха.
В тот день, о котором идет речь, мы вышли на прогулку.
Сережа всматривался с таким видом, словно он уже бывал здесь когдагто. Он тихо и задумчиво читал:
Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Когда мы возвратились, он вдруг спросил меня:
– Хочешь почувствовать это?
– Что? - спросил я.
На лице его играла усмешка.
– Не спрашивай, что. Хочешь?
– Хочу, - ответил я тихо.
А потом вдруг и сразу я почувствовал себя берегом реки и березовой рощей, и Пушкин был тут, рядом. Я слышал его шаги и голос., повторявший:
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Он был тут, и мгновенье струилось, как воды.
Его шаги на тропе, и прикосновение легкой пушкинской руки к березовому стволу, и я уже не думал о том, кто я - роща или слова поэмы, вобравшей в себя лето и окрестности и небо над водой вместе с синим облаком и речной рябью, или крыло ласточки.
Прикосновение легкой пушкинской руки, - и шаги стали уда-ляться. А потом все вдруг оборвалось…
– Ты слышал его? - спросил тихо Сережа.
– Слышал.
– Ты слышал не его. Да и как ты мог его слышать? Это заговорила роща.
– Не все ли равно, - сказал я".
23
"Всякий раз, говоря о Пушкине, Сережа вдруг переходил на шепот, словно поэт был рядом и мог услышать, что о нем говорят.
Ощущение, что далекое прошлое тут, рядом с нами, пьянило меня, как глубины океана, и я погружался в это удивительное состояние, не чувствуя под ногами, дна. Вокруг меня и во мне, как в море, шумело время, то убегая вперед, то возвращаясь…
Догадка мелькнула, на мгновение ярко осветив этот мрак неизвестного, но это было только предположение, которое я пока ничем не могу подтвердить.
Человек обладает памятью, хранящей личное прошлое, прожитое, опыт. Сережа не человек. Он завершение иной эволюции, другой, не земной, неведомой нам биосферы. Эволюция дала ему загадочную и чудесную способность проникать сквозь волны времени.
Я пытался узнать хоть что-то об этом особом видении у самого Сережи, но он всякий раз начинал шутить и смеяться и говорить о том, что каждый поэт и художник обладает этой способностью.
Я напоминал ему, что наш диалог начался, мы посредники и что за все существование Земли, возможно, не было более значительного разговора, чем наш. Тогда он начинал смеяться еще громче и дурачиться, как школьник во время перемены. И он делал это неспроста, желая посеять во мне сомнение. Он хотел, чтобы я думал, что он заурядный сотрудник Книготорга в Ждановском районе, самый обычный гражданин, как нельзя больше довольный своей земной биографией и своей работой, мечтающий только об одном - благополучно дожить до пенсионного возраста…
Удалось ли ему посеять во мне сомнение? Разумеется, нет. Чем больше он дурачился, чем больше прятался за спину своей земной профессии, тем больше убеждался я в его внеземном прошлом.
Никто не догадывался, что тот, кого я называл Сережей, был достоин внимания не меньше, чем любой знаменитый артист. Все считали его самым заурядным парнем на свете, и особенно туристы и туристки, прибывшие в Пушкинские горы, подчиняясь спортивному азарту и желанию умножить свои впечатления.
Никто из них не догадывался, что Сережа тоже был своего рода рекордсмен, но рекордсмен до беспредельности скромный, не рассказывающий никому о своем затяжном прыжке, вобравшем в свою орбиту сначала солнечную систему, а затем и эти во всех отношениях замечательные места, где некогда жил великий поэт.
Но даже и такому существу, как Сережа, казалось бы, лишенному начисто наших земных недостатков, не чуждо было нечто человеческое. И вот, поддавшись соблазну, он совершил поистине легкомысленный поступок, не достойный той великой миссии, которую он здесь выполнял. Сережа помог одной обремененной скукой туристке, не слишком молодой, но чрезвычайно молодящейся и жаждущей сильных ощущений, превратиться в облако, немножко повисеть над полями и рекой, а потом благополучно спуститься с неба на землю, уже окутанную вечерним сумраком, спуститься, словно на парашюте.
Факт не удалось скрыть от наблюдательных глаз. Многие нашли странным облако, имевшее вполне определенную фигуру довольно объемистой женщины.
Зачем это сделал неосторожный Сережа? Туристка, сначала немножко поскромничав, в конце концов призналась, что это была она. Вот нам и приходится спешно сматывать удочки, чтобы избежать вопросов, на которые трудно ответить".
Я только успел дочитать письмо своего аспиранта, как раздался телефонный звонок.
Голос Черноморцева-Островитянина на этот раз был необычайно мягок и даже лиричен. Волна теплоты и ласки хлынула на меня из телефонной трубки.
– Коллега, - назвал он меня.
– Простите, - прервал я его, - я не пишу фантастических романов и не намерен и впредь…
– Коллега, - повторил он, - не будем вдаваться в ненужные тонкости. Я тоже не всегда писал романы и не всегда буду их писать. Сейчас я мечтаю об отдыхе. Хочу собрать материал для одной небольшой вещицы на тему, близкую к теории знаковых систем, к семиотике. В душе рассчитываю на ваше любезное содействие, на скромную помощь, на небольшую консультацию.
– У вас же есть консультант.
– Кто?
– Сережа.
– Этот невежда? Бывший продавец лотерейных билетов? Да вы смеетесь? К тому же он занимается непозволительным делом. Волшебничает. Разводит разные суеверия и мрак. Это в наш-то век! Рано или поздно его привлекут к ответственности. Его и его покровителей из Книготорга. Доверить такой духовно незрелой личности работу с книгой. Вы молчите? Молчите? Выскажите свое мнение! Желаю знать ваше кредо.
Я повесил трубку. Снова раздался звонок. Я снова снял труб-ку и снова повесил. Телефон трещал.
Я снял трубку.
– Нас разъединили, коллега, - услышал я. - И это не первый раз.
Я снова повесил трубку и вышел на кухню сварить кофе.
Телефон продолжал трещать.
Настырность фантаста, его напористость оказались сильнее меня. И вот, забегая на несколько дней вперед, я должен признаться, что взял на себя неблаговидную роль и стал консультировать человека, который не внушал мне особой симпатии. У меня не хватило характера отказать, а может, и ввело в соблазн чувство, сомнительное, впрочем, чувство, сознание, что я должен заменить Сережу, самого необычного из всех советников и консультантов, какие когда-либо существовали на Земле.
Черноморцев-Островитянин в благодарность подарил мне все написанные им книги. И вот я сижу и читаю их, пытаясь найти следы Сережиного участия.
Увы, все эти многочисленные романы, повести и рассказы не стали мостом, соединяющим земную и хорошо известную нам действительность с той сферой, которую хранила Сережина память. В чем дело? Я не мог себе этого объяснить и не сумею объяснить вам. Это тоже было своего рода загадкой. Может, слишком земным, а следовательно, и приземленным был талант нашего знаменитого фантаста, не сумевшего слить свой слишком здешний и знакомый всем голос с тем нездешним и незнакомым, чьим представителем является субъект, спрятавший свое сверхобычное существо за обыденной внешностью сотрудника Ленкниготорга.
Нельзя сказать, чтобы фантаст не делал никаких попыток объять своей земной мыслью нечто особенное и выходящее за сферу нашего обыденного опыта. Наоборот, он все время уносился мыслью далеко за пределы нашей солнечной системы, но только одной мыслью, сердцем же и всеми своими земными чувствами оставался дома, в своей комфортабельной квартире, с ее привычным и давно обжитым миром. Короче говоря, в Черноморцеве-Островитянине было слишком много от бойкого беллетриста и слишком мало от подлинного художника. Традиционная и во многом обветшалая система наивного приключенческого романа не в состоянии была схватить и передать сложную сущность зрелого Сережиного опыта, голосом которого с нами пыталась заговорить биосфера и история загадочной планеты, чья цивилизация сумела доставить Сережу сюда, развременив время и развеществив пространство, сжав до отказа главную пружину бытия.
Передо мной был пустой сосуд, раскрывшаяся ладонь, которая держала нечто, но не сумела удержать. Книги Черноморцева-Островитянина напоминали капкан, из которого только что убежала добыча, не тронув приманку.
И я закрыл эти книги с досадой и положил их на полку.
24
Нет, фантаст все же чувствовал разницу между мной и Сережей. И время от времени он давал мне это почувствовать и понять.
Он даже не удержался и сказал:
– Вот если б вы тоже были оттуда.
– Откуда? - поинтересовался я.
– Ну, оттуда, откуда прилетел к нам Сережа.
– Разве он откуда-нибудь прилетел? Вы же взяли его из детского дома?
– Да, да, - уже кивал и соглашался со мной фантаст. - Я это только в метафорическом смысле, Он сидел рядом со мной и рассеянно слушал. Я объяснял ему, что такое идеограмма. Я рисовал на листе бумаги сосуд, из которого льется вода, образчик идеограммы, обозначающей свойство прохладно. Да, существовало на Земле время, когда люди прибегали к слишком наглядной и предметной информации, еще не умея оторвать свою не слишком гибкую мысль от форм самих вещей.
Я говорил, следуя за логикой той увлекательной дисциплины, которой я отдал много лет.
Но что-то мешало фантасту меня слушать. Ему не давало покоя сознание, что Сережа, занявшийся книжной торговлей и увлекшийся дружбой с моим аспирантом, отказывается делиться с ним своим уникальным опытом.
– Я выведу его на чистую воду, - ворчал маститый фантаст. - Тоже мне этот кудесник! Волшебство запрещено, как опасный пережиток. Нет, я угощу его фельетончиком или даже серьезной научной статьей, его и вашего неосторожного аспирантика. Пора положить этому конец. В каком веке мы живем, в каком веке?
Я пытался его успокоить.
– Насчет волшебства, - говорил я, - я ничего не встречал в законах. Волшебство кодексом не предусмотрено.
– А суеверие и мрак?
– Но ведь у него все на строго научной основе, на опыте, который он принес оттуда к нам на Землю!
– Типичная лженаука, родная сестра телепатии.
– Насчет лженауки в кодексе ничего нет. Да и нельзя. При желании кого угодно можно объявить лжеученым или телепатом.
– Не спорьте. Речь идет о волшебстве. Это нужно пресечь. И я пресеку с помощью общественности и прессы.
Я пытался урезонить фантаста, отвлечь его, увлечь своей любимой наукой историей знаков. Я рассказывал ему о древнеперсидском клинописном алфавите, но он слушал рассеянно. Его томила одна и та же мысль, одно и то же желание.
– Я принципиальный человек, - говорил он, - и мое материалистическое мировоззрение не позволяет мне мириться с этим мраком и суеверием, которые он тут распространяет.
– Но раньше, - убеждал я его, - раньше, до того, как Сережа отказался сотрудничать с вами, ваше мировоззрение позволяло же вам не замечать его некоторые странные особенности.
– Это была моя ошибка, которую я должен исправить.
Я что-то пытался ему сказать, но он меня не слушал.
– Нет, нет. Не мешайте мне. Я должен найти контакт со своей совестью и немедленно исправить свою ошибку.
– А что вы намерены делать?
– Пресечь. Понимаете, пресечь. Не допустить, чтобы невежественная личность продавала книги. Пресечь. Немедленно пресечь всякое волшебство.
– А факты? - спросил я. - Где же факты?
– Факты? Их сколько угодно. До меня дошли слухи, что и в пушкинских местах он позволил себе сомнительную игру со здравым смыслом. Представьте, одну пожилую туристку, преподавательницу английского языка… Да, да, он нанес ей моральный ущерб, нравственное увечье. В результате она потеряла веру в законы природы. Я это должен пресечь. Моя материалистическая совесть требует немедленных действий.
25
Серегин был чем-то встревожен. Он сидел напротив меня у окна, нервно курил и сосредоточенно о чем-то думал.
– Расстроили угрозы фантаста? - спросил я. - Думаете, он в самом деле подымет шум?
– Нет, он, как тот, про кого сказал Толстой. Пугает, а нам не страшно. Я тревожусь за Сережу.
– А что с ним? Болен?
– Да. Притом странная болезнь. Изменился, пополнел, стал как будто ниже ростом. Так переменился, что не может даже пойти на работу.
– Неважно себя чувствует?
– Наоборот. Чувствует себя отлично,
– Отлично? Так почему же он не может пойти на работу?
– Пойти-то он может. Сослуживцы не узнают. Директор. Покупатели. Я же говорю, он сильно изменился.
– Постарел?
– Нет, просто стал совсем другим человеком. Боюсь, что это даже не признают за болезнь. Не дадут бюллетень. Не положат в больницу. Не окажут необходимой помощи.
– А что, собственно, произошло?
– Почти ничего. Пустяк.
– А все-таки?
– Вы видели когда-нибудь портрет знаменитого французского писателя Ги де Мопассана?
– Видел!
– Так вот он теперь вылитый Мопассан. Черные усы. Густая речь. Румянец. Понимаете? Теперь он Мопассан.
– Как же быть? - спросил я.
– Вот я и пришел к вам посоветоваться. Такая проблемка мне одному не по плечу.
– Но почему, как это случилось?
– Не знаю.
– А сам Сережа? Сам-то он чем-нибудь это объясняет?
– Сережа? Да ведь его нет. Ведь он сейчас не он, а Ги де Мопассан, знаменитый французский писатель.
– Вообразил себя?
– Не вообразил, а превратился. Румянец. Усы. Южные манеры. И полное сознание, что он в девятнадцатом веке. Все это было бы полбеды, если бы вокруг в самом деле был девятнадцатый век. Просто не знаю, как быть. Его невозможно одного пустить на улицу. А главное, никому ничего невозможно объяснить - ни соседям, ни управхозу, ни даже вам.
– А как ом будет жить?
– Откуда я знаю? Надеюсь, что он снова превратится в Сережу.
– Не надо никому ничего говорить. Давайте держать в секрете.
– Нельзя скрыть от всех человека, да еще такого экспансивного, полного жизни. Я сейчас боюсь, чтоб он не вышел на улицу. Он обожает гребной спорт. Мечтает покататься на лодке.
– Ну и пусть катается. Это полезно. А главное, несложно. Недалеко от вас Острова. Сведите на Елагин. Там много лодочных станций.
Серегин с сомнением посмотрел на меня.
– В залог оставляют паспорт.
– А разве у Сережи нет паспорта?
– Есть. Разумеется, есть. Но там на фотокарточке Сережа, а не Ги де Мопассан.
– Совсем нет никакого сходства?
– Ни малейшего.
– Да, - согласился я. - Действительно неразрешимая проблема. А нельзя ли как-нибудь изменить наружность? Побрить усы? Соответствующим образом одеться? Прибегнуть к гриму?
– Попробуйте-ка его убедить. Не хочет. Не видит причин, почему он должен скрывать от всех свое честное имя.
– А вы не пытались ему внушить, что он не Мопассан, что это ошибка, недоразумение?
– Пытался. Не получается. Поверили бы вы мне, если бы я стал вам втолковывать, что вы не вы, а кто-то другой?
– Но я не другой. Я это я.
– У него тоже нет никаких причин думать, что он не Мопассан. Даже зеркало и то это подтверждает. Иногда я и сам думаю, что он Мопассан, что произошел какой-то сдвиг в ходе времени и что Сережа попал в девятнадцатый век, а поменявшийся с ним комнатой Мопассан оказался здесь, на его месте. Эта догадка мелькнула у меня вчера, когда знаменитый французский писатель стал рассказывать мне о фантастической новелле, которую собирается писать… Путаница, алогизм, беспорядок похуже, чем с тем рисунком, который то появлялся, то исчезал. Есть еще одно предположение, одна гипотеза, которая вам может показаться сумасшедшей.
– Какая? Выкладывайте.
– Иногда я думаю, что Сережа продолжает беседу, найдя для этого способ, который нам кажется странным. Но что мы знаем о способах их информации? Наши человеческие символы и знаки, слова, буквы - это модель бытия, способ его отражения. Законы их мышления, по-видимому, слишком своеобразны. Может, потому Сережа и не спешит войти в контакт с земным человечеством, может, он ищет пути, играя таким образом со мной, с вами?
– Ас ним это случалось раньше?
– Что?
– Превращался ли он до этого в кого-нибудь?
– Да. Всего один раз. Черноморцев-Островитянин достал ему путевку и отправил в санаторий. Там отдыхали научные работники, философы. И он не нашел ничего лучшего, взял и превратился а Спинозу.
– В Спинозу?
– Да, в Спинозу.
– Это я еще могу понять. Ведь вокруг были научные работники, философы, И никто из них не протестовал?
– Были и протесты. Но фантаст все уладил.
– А для чего он стал Мопассаном? " - Не знаю.
– Почему именно Мопассаном? Почему не Виктором Гюго, не Александром Дюма, не Тургеневым или Флобером?
– Не знаю. Ничего не знаю. Знаю только одно, что это было бы ничем не лучше. Вчера во второй половине дня, когда я отлучался в булочную и задержался, из книжного магазина, где работает Сережа, пришла девушка-продавщица справиться о его самочувствии. Звонит, стучится, дверь открывает Мопассан, знаменитый французский писатель. Увидев классика, узнав его, девушка растерялась.
Встретив меня возле дома, она спросила, кто ей открывал дверь и где Сережа? Когда я ей сказал, что дверь открывал сосед, на ее лице появилась недоверчивая улыбка. "Вылитый Мопассан, - сказала она, - как на портрете". Боюсь, как бы девушка не влюбилась в него. Жизнерадостен и обаятелен. Все это, конечно, пустяки. Но как быть дальше?
Я не сумел найти ответ на этот вопрос. Впрочем, на него ответила сама жизнь.
26
Как же ответила жизнь на вопрос моего аспиранта? А очень просто. К Ги де Мопассану, знаменитому французскому писателю, все стали понемножку привыкать. Соседи. Прохожие. Работники лодочной станции на Елагином острове. Контролерши в кинотеатрах "Молния" и "Свет", куда Мопассан зачастил, желая ликвидировать свое отставание. Только в Эрмитаже на него немножко косились после того, как он заявил, что знал лично многих французских художников, живших в ХIХ веке и согласно земным законам сменивших временное бытие на долговечную отлучку.
Все очень полюбили знаменитого писателя. Правда, большинство предполагало, что это только случайное сходство, подарок оговорившейся природы.
Мопассану тоже все и всё нравилось. Особенно Елагин остров, куда он ежедневно уходил заниматься гребным спортом.
Продолжалось это не больше двух недель. А потом знаменитый французский писатель исчез, вернулся в свое собственное, отведенное ему судьбой столетие, а на его месте снова оказался Сережа.
Мой аспирант немедленно меня об этом уведомил по телефону.
Телефон был не в полной исправности. Плохая слышимость помешала мне понять, как произошла эта подмена, в присутствии ли аспиранта или в те часы, которые он проводил в Публичной библиотеке, делая выписки для будущей диссертации.
Вечером Серегин пришел ко мне, и я смог узнать подробности.
– Как же это все-таки произошло?
– Сам не отдаю себе отчета. Мопассан вышел в ванную принять душ. Минут двадцать не было, сорок. Я стал беспокоиться и заглянул. Смотрю, вместо него стоит Сережа и растирает себе спину махровым полотенцем.
"А где Мопассан, - спрашиваю я его, - где знаменитый французский писатель?" - "Как где? - удивился Сережа. - У себя во Франции, в своем XIX веке". - "Нет этого ничего, - говорю. - Был XIX век, да давно кончился". А Сережа уже иронически прищурился. Смотрит на меня, как студент физмата, пытающийся объяснить какому-то болвану сущность броуновского движения. "Девятнадцатый век кончился? То есть как это кончился? Совсем? Исчез? Ладно, хватит этих басен". Я ему: "Но объективные законы времени…" Он мне: "Что вы знаете о времени и его законах, вы, вы жители неолита?" Меня это даже удивило и расстроило. Раньше, до этого прискорбного случая с Мопассаном, он был скромнее и никогда не, смотрел свысока на наш земной опыт, на нашу науку. А тут он обидел всю нашу современную цивилизацию. Обозвал нас неолитом! Как вам это нравится?
– А что он теперь собирается делать? - спросил я у Серегина.
– Кто? Мопассан? Откуда я знаю. Мопассана нет. Все меня спрашивают о нем. Интересуются. Все его полюбили. Соседи. Жиль-цы из дома напротив. В гастрономе, в булочной, в парикмахерской. Такой приятный и сердечный человек.
– Я спрашиваю не о Мопассане, а о Сереже.
– О Сереже что спрашивать? Принял душ, побрился и пошел на работу.
Вот что услышал я от своего аспиранта.
Когда ом кончил свой рассказ, изображая себя, Ги де Мопассана и Сережу в лицах, я спросил его:
– Ну, а как подвигается диссертация? Смотрите, сроки подходят. Не подведите меня, своего научного руководителя.
– Не подведу. А если немножко и задержусь, есть уважительная причина.
– Какая?
– Ги де Мопассан, знаменитый французский писатель. Не мог же я его оставить одного в коммунальной квартире. На улицах неуютно. Троллейбусы, автобусы, машины. Ни одной лошади. Ни одного извозчика. И эти светофоры. Они его очень раздражали. Однажды он чуть не угодил под машину.
– А что тогда было бы?
– Не знаю. Не хочу думать. Ведь все сошло благополучно. Сейчас он там, у себя, в своем тихом застенчивом веке. Отдыхает. Катается на лодке… Но я задержал вас. До свиданья. Бегу в публичку.
На другой день утром я зашел а книжный магазин на Большом проспекте. Сережа стоял на своем обычном месте.
– Здравствуйте, - сказал я.
– Приветик, - ответил он.
– Что нового?
– Да ничего особенного. Однотомник великого французского писателя Мопассана. Отличное издание. С иллюстрациями Рудакова. И с портретом авторе на веленевой бумаге. Может, хотите посмотреть?
– Покажите.
Он достал книгу с полки, раскрыл ее и показал портрет.
Я почувствовал что-то вроде легкого головокружения. Земля поплыла из-под ног. Это был Ги де Мопассан и в то же время не был. Какое-то неуловимое сходство с Сережей напоминало о том, что рассказывал мне вчера мой аспирант.
Я взглянул еще раз, и мне показалось, что знаменитый писатель подмигивает мне с портрета.
– Это не Мопассан, - сказал я.
– Вы думаете?
Сережа закрыл книгу и поставил ее на полку.
– Вам бы следовало остепениться, - сказал я.
– Вы думаете? - спросил он.
– Непозволительно. Легкомысленно. Глупо.
– Вы находите?
– Стыдно! - сказал я и, хлопнув дверью, вышел из магазина.
27
С диссертацией у Серегина не очень-то ладилось. Отрывок, который он мне показал, привел меня в тихий ужас.
Вместо того чтобы ограничиться довольно обширным материалом, взятым из истории культуры и теории знаков, он стал рассказывать о планете Ин.
Я живо представил себе выражение лиц будущих оппонентов и отзыв, начинающийся примерно такими словами: "Вероятно, произошла ошибка по вине ли машинистки или самого соискателя степени кандидата наук. В диссертацию случайно вклеился кусок из научно-фантастического романа…" - Это не научная работа, - сказал я Серегину.
– А что?
– Вымысел. Беллетристика. Нелепая сказка.
– Какой же это вымысел? Ведь за основу взяты строго проверенные факты.
– А кто их проверял? Лейтенант милиции Авдеичев? Та дамочка, которую ваш Сережа якобы превратил в облако и поднял над лесом? И кто вам поверит?
– Поверят не мне, а Сереже.
– Сереже? А кто такой Сережа? Бывший продавец лотерейных билетов, нынешний сотрудник Ленкниготорга?
– Не только. Кроме того, он…
– Допустим. Даже вопреки здравому смыслу. Но при чем тут вы и ваша диссертация?
– Посредством моей диссертации он и хочет вступить в контакт с человеческой цивилизацией, начать, наконец, диалог двух Разумов, земного и инопланетного. Это не моя идея, эта идея принадлежит самому Сереже. И он настаивает. Категорически настаивает.
– Это для чего же? Уж не для того ли, чтобы помочь вам стать кандидатом наук? Но если Сережа действительно посланец оттуда, то вас и академиком сделать будет мало.
– Вы, кажется, смеетесь?
– Хотел бы последовать совету Спинозы - не смеяться, не плакать, а только понимать. Но разум отказывает, чувства. Вы что же защиту кандидатской диссертации хотите превратить в мировое событие? А о результатах вы подумали?
– Обо всем думал. И сто раз говорил "нет". Но Сережа настаивает. Это его мысль. И он не хочет от нее отказаться.
– Не понимаю. Ни вас, ни его. Вам же это в конечном счете невыгодно. Все члены ученого совета воспримут это как полное отсутствие скромности, как ловкий трюк и погоню за сенсацией, Накидают черных шариков.
– Помилуйте, какая же это сенсация! Это событие. Переворот в науке. Небывалый в истории планеты обмен информацией, Плохого же вы мнения о своих коллегах. Вы заблуждаетесь.
– Нисколько. Поставьте себя на мое место. Мы живем не в мире чудес, а в мире обыденных академических фактов. Никто из членов ученого совета не подготовлен к восприятию этого странного феномена. Вас обвинят в лженаучной махинации, и вашего Сережу отправят на экспертизу. А потом в каком-нибудь научно-популярном журнале, вроде "Техника - молодежи" или "Знание - сила", начнется дискуссия, как о Розе Кулешовой. Одни будут говорить, что ваш Сережа телепат с уникальной психической организацией, а другие, что он шарлатан и фокусник…
– Но вы-то отлично знаете, что он не шарлатан, не фокусник и даже не телепат.
– В том-то и дело, что не знаю. Да и он сам не дает себя узнать. Ведет себя самым недопустимым образом.
– Что вы имеете в виду?
– Все… Сначала помогал этому фантасту Черноморцеву-Ост-ровитянину писать его космические романы, а сейчас помогает вам делать вашу диссертацию. Уж лучше бы остался при своем фантасте. Нет, я этого не могу допустить.
– Что не можете допустить?
– Чтобы в вашу диссертацию проникла вся эта сомнительная игра со здравым смыслом.
– Вы это окончательно? - спросил Серегин. - Или еще подумаете?
– Хорошо, - сказал я. - На неделю отложу свой ответ. Надеюсь, что вы сами взвесите все "за" и "против" и откажетесь от своего странного намерения.
Неделя прошла.
Она прошла в сомнениях, в бессоннице, в конфликте с самим собой. Я высоко ценил способности аспиранта Серегина, удивлялся его энтузиазму, энергии, оригинальному складу его характера и ума. Но всему есть границы. Чувство реальности, здравый смысл не позволяли мне согласиться на этот рискованный и нелепый эксперимент. Многие представляют себе ученых романтиками и чудаками, какими их нередко изображают писатели в угоду сложившимся традициям и благодаря плохому знанию этой среды. На самом же деле ученые так же любят обыденность, как и представители самых прозаичных профессий. Они менее всего подготовлены к восприятию чего-то совершенно неожиданного, слишком парадоксального, почти невозможного, граничащего с чудом. Они презирают всякую шумиху и сенсацию - одни из любви к строгой истине, другие (большинство) из привязанности к привычному, доступному, легко соглашающемуся с обыденной логикой. Не надо думать, что каждый ученый - это не сумевший реализовать свои потенции Лобачевский или Эйнштейн. И плохо будет Лобачевскому или Эйнштейну, если они не сумеют обосновать свое теоретическое чудо, свою занятую у далекого будущего идею.
Серегин не был ни Лобачевским, ни Эйнштейном. Его теоретическое чудо досталось ему в подарок от будущего слишком легко и случайно. Морально он не имеет права брать от судьбы этот подарок. Ни Лобачевский, ни Эйнштейн не подобрали свое теоретическое чудо на тротуаре, как находят оброненный кем-то кошелек. В противном случае они отнесли бы его в стол находок. А Серегин хочет воспользоваться находкой. И я не могу, не имею морального права это одобрить.
28
В этот раз Сережа торговал книгами под открытым небом на легком столике-раскладушке возле памятника Добролюбову.
– Мне надо с вами поговорить, - сказал я.
– Сейчас я на работе. И не имею права заниматься посторонними разговорами.
– Хорошо. Я обожду. Посижу в сквере.
Ждать мне пришлось около часа.
Сережа тихо подошел ко мне и сел рядом. Лицо его уже не казалось строгим и холодным, а приняло добродушно-обыденное выражение.
– Ну, что там у вас? Выкладывайте.
– Вы что ж? - спросил я. - Решили помочь моему аспиранту написать диссертацию?
– А почему бы и нет? - сказал Сережа и усмехнулся.
Я тоже усмехнулся и сказал:
– К сожалению, он хочет превратить защиту обычной кандидатской диссертации в мировое событие.
– Не он хочет, - поправил меня Сережа. - Я.
– И с какой целью?
– Дело тут не в цели, а скорее в характера.
– Я знаю характер своего аспиранта.
– Дело не в его характере, а в моем.
– Какое отношение ваш характер имеет к его диссертации? Не понимаю.
– Сейчас объясню. Не могу же я придти в Академию наук или в редакцию газеты и сказать, что я пришел поделиться с человечеством своим опытом.
– А что, собственно, вам мешает? Если вам есть что сказать человечеству, то как раз туда и следует обратиться.
– Я бы обратился, но как-то неловко. Боюсь шумихи. Глядишь, еще и почести окажут, как представителю внеземной цивилизации. А мне этого не надо. Я этого не люблю. А фотокорреспонденты способны навести на меня ужас.
– Этого не избежишь, - сказал я.
– А я все-таки постараюсь избежать. Фотокорреспонденты не ходят на защиту кандидатских диссертаций. Все это пройдет без шума, без огласки, как явление довольно обычное. Вы понимаете мою мысль?
– Признаюсь, не совсем.
– Я хочу остаться в тени, пожить, как живут рабочие, служащие, учителя, районные врачи. Мне нравятся эти люди. Я не выношу всяких сенсаций и не хочу выделяться.
– А ваша миссия? - спросил я.
– То-то и оно. Я и без того откладывал беседу с человечеством. Но сколько же можно тянуть? Время здесь у вас, на Земле спешит так же, как у нас. Но есть и другая причина. Личная. Серегин мой друг, Я хочу ему помочь. Он этого, в конце концов, заслуживает. Вы, кажется, не согласны?
– Не согласен.
– Напрасно. Я постараюсь вас убедить. Ваш аспирант, как никто на Земле, ждал этого разговора, этого контакта. И он его дождался. Он будет посредником. Он этого достоин. А потом во всем этом деле мне нравится и другое.
– Что?
– Обыденность. Простота. Отсутствие всякой парадности. Защита кандидатской диссертации. А идея не совсем обычная, далекая от трафарета. Контакт между двумя цивилизациями - земной и внеземной. И не только гипотеза, а факт.
– Факт? - спросил я. - Но где ж?
– Здесь, - ответил он тихо. - Рядом с вами. На скамейке. Вам этого недостаточно?
– Дело ведь не только в моей придирчивости. Там будут и другие члены Ученого Совета. Среди них есть и мои недруги, недоброжелатели моего аспиранта. Он немножко заносчив. Не умеет скрыть свою эрудицию. И насмешлив, насмешлив выше всякой меры. Предвижу осложнения.
– Напрасно, Я ведь буду там и все улажу.
– При помощи телепатии и гипноза?
– Зачем? При помощи трезвых фактов, которые я им тут же предъявлю. Они поймут, кто я, откуда и с какой целью.
– Вы думаете, поймут?
– А вы?
– Я думаю, не все. Николаичев наверняка не поймет, а Хорошко… Есть у нас такой… Хоть и поймет, но притворится, что не понял.
– Перед очевидными фактами и им придется склонить голову.
– Не знаю. Не уверен. В свое время не склонили же головы перед генетикой, хотя у генетиков тоже были факты.
– Время было другое.
– Нет, - сказал я, - советую вам избрать более естественный путь для этого контакта. Не любите сенсации, шумиху? А я, думаете, люблю? Потому и не допущу, что это противоречит научной этике.
– Не будьте слишком категоричным.
– Вы называете это категоричностью?
– А что это?
– Принципиальность.
– Принципиальность? Вот не думал.
Сережа встал.
– Извините. Обеденный перерыв на исходе, а мне еще закусить надо, забежать в буфет. Если не возражаете, я к вам зайду. Продолжим наш разговор.
29
И разговор был продолжен.
– Я знаю - сказал Сережа тихо, - вы не верите, что я оттуда.
– Не верю.
– Это хорошо, что вы не верите.
– А что же в этом хорошего?
– Все! Все хорошо. И я этим удовлетворен… Сережа встал и задумчиво прошелся по кабинету.
– Я не похож на пришельца, - продолжал он, - а похож на обычного служащего, живущего на сто рублей в месяц и в коммунальной квартире. Потому-то вы и не верите.
– И не только потому…
– А почему?
– Жизнь - редкое явление во Вселенной, согласитесь, а разум еще реже. Как вы попали сюда?
– Не спешите. Все узнаете.
– Когда?
– Скоро. Когда ваш аспирант закончит свою диссертацию.
– А до того, как он закончит, нельзя узнать?
– Нельзя.
– Почему?
– Мы так условились, А я свое слово держу. На этот вопрос я пока не отвечу. Но можете задавать другие.
– Расскажите что-нибудь о своей цивилизации, только так, чтобы это было похоже на правду, а не на романы Черноморцева-Островитянина.
– Но ведь наша правда может быть не похожей на вашу. И у меня нет гарантии, что вы мне поверите.
– Ладно, - сказал я. - Рассказывайте.
– А что, собственно, рассказывать? Почти все вы знаете из научно-фантастических романов. Ну, научились управлять гравитационными волнами. И давненько. Еще когда у вас на Земле был палеолит. Ну, заселили соседние планеты, предварительно создав там биосферу и наладив климат. Ну, научились замедлять время… Установили контакт с кое-какими цивилизациями. Для этого пришлось искривить время и пространство, не думайте, это далось не легко. Чуть не перевернули вверх ногами Вселенную.
Он зевнул, стыдливо прикрыв рот ладонью.
– Все, что я вам рассказываю, такие зады, такая древняя история, что самому скучно, как историку в средней школе. А вы уже и уши развесили? Мы изобрели аппарат, воссоздающий бытие, вещи. И это тоже не новинка. Вот вы видите меня. А у вас не возникла мысль, что, может, меня здесь нет, что я там? Здесь же мое отражение, воссоздающее себя! Об этом, кажется, не писали ваши фантасты? Впрочем, может, и писали. Всего не перечитаешь. И вот я скажу вам по секрету, что я совсем не похож на того Сережу, что продает книги. Вы только видите меня таким.
– А на самом деле? - спросил я.
– Замнем. Может, я чудовище с рогом вместо носа! Или минотавр? Не верите? Мне ничего не стоит выбрать себе любую наружность. Но я не хочу вас пугать. Зачем? Я выбираю себе наружность тех, кого уже давно нет. Некоторые считают, что это нескромно. Но было ли бы скромнее, если бы я вдруг стал похож на вас? Каждый считает себя неповторимым. И сходство, слишком буквальное сходство с кем-то посторонним оскорбляет, ущемляет чувство собственного достоинства. Недаром все сочувствуют близнецам. И понимают, что тут уж ничего не попишешь, обмолвилась сама природа. Вам не наскучила моя лекция? Не знаю, что еще вам поведать. Поймите, действительность, которая меня сюда послала, слишком пластична. История и прогресс сделали каждого из нас богом, который лепит себя и все окружающее. Потому-то мне так и хочется побыть в обыденности. Она еще сохранилась на Земле. Ее изображал милый Чехов, самый глубокий и скромный из земных писателей. Я перед ним в долгу, как перед учителем.
– А как вам удалось войти в контакт с Чеховым?
– Очень просто. Взял и прочел все, что он написал. Я понял, что обыденность в сущности великая вещь. И наша цивилизация, сделав нас богами, лишила нас существенного…
– Чего?
– Многого. А главное, простоты… Мне немножко надоело быть богом. Захотелось пожить в менее пластичном мире, в мире, где нет еще средств для искривления времени и пространства, для сжатия пружины бытия, для кодирования вещей и организмов, для умения воссоздавать ненужное и нужное, в том числе и себя самого. Я понимаю, это временная слабость, духовное недомогание, возможно, ошибка. Эту ошибку я исправлю во время защиты диссертации вашим аспирантом. А потом вернусь в свой мир. Закодируюсь и отправлю себя, как телеграмму.
Сережа грустно посмотрел на меня, словно уже прощался с Землей.
– Ну, как, верите или не верите?
– Верю. Да! Но не в такой степени, чтобы ввести это в диссертацию аспиранта. Нет, это не пройдет. Во всяком случае в нашем институте. Пусть попытается в другом месте. Может, что-нибудь и выйдет.
30
На этом не кончился наш несколько затянувшийся разговор.
Сережа еще несколько раз забегал ко мне, убеждал, просил, рассказывал разные подробности о пластичном мире своей цивилизации и каждый раз снова возвращался к любимой теме.
– Так у вас что же, - спросил я, - так ее начисто и нет, обыденности-то?
– Была когда-то, но кончилась. Не помню уж, в каком веке. В средней школе проходили, запамятовал.
– А как же без нее? Не совсем себе представляю. Ведь любовь к обыденности - это любовь к знакомому, к известному, к тому, что стало привычным. Вы что же, там у себя ни к чему не привыкаете, что ли?
– А к чему, собственно, привыкать? Все слишком подвижно, пластично. А главное, каждый все может. Каждый - бог.
– Бог?
– Да нет, не пугайтесь. Не бог, а вроде. Бога не существует, это я, разумеется, знаю. Даже кибернетического бога нет, того, который якобы придумал молекулярную запись, биологический код, зашифрованный и спрятанный от всех план.
– А откуда вам это известно?
– Откуда? Смешно. Я же книгами торговал. Распространял антирелигиозные издания. То, о чем я сейчас вам толкую, - только метафора.
– Ну, а скучно не бывало?
– Здесь у вас, на Петроградской стороне, или там?
– Там.
– Случалось что-то вроде. Но редко. Впрочем, не уверен. А что такое скука?
– Скука? Ну, чувство, что ли, такое, когда тебе начинает казаться, что тебе тысяча лет с гаком и что ты уже все на свете видал.
– Нет, этого не испытывал. Наоборот, мне всегда казалось, что я только что родился, хотя живу на свете… Ну да, завтра мне исполнится три годика…
– Три годика?
– Не три годика, а триста три. Детский возраст. Но в паспорте цифра куда скромнее, чтобы не пугать Татьяну Ивановну, нашу паспортистку, или девушку, которая согласится пойти со мной в загс… Впрочем, вряд ли. Кто захочет выйти за минотавра.
– А разве вы минотавр?
– Как говорит ваш Серегин, замнем. Я немножко проговорился. Ну, даже если и минотавр. Вам все равно не заметить. Важно, кем я тут являюсь, а сущность… Замнем.
– Там, я слышал от Серегина, остались жена и двое ребятишек?
– Остались. Ну, и что ж? Может, мне туда и не добраться. Дела здесь задержат. Обстоятельства.
– А почему вы говорите, что вы минотавр?
– Замнем. Не будем углубляться в дебри. Да и античная мифология мне нравится… Жалко, что не застал древних греков, Опоздал почти на три тысячи лет. Да, впрочем, и сейчас у вас неплохо. Хочется пожить в менее пластичном мире, где еще не сняты с человека все заботы. Да, черт подери! Забыл за газ и за электричество уплатить. Какой уже день ношу в кармане счет.
Сережино лицо стало озабоченным.
– Пустяки, - сказал я. - Ну, пени несколько копеек удержат. Вы же не улетаете к себе?
– Характер покою не дает. Я немножко педант. Но рассеян. Минотавру всегда труднее.
– Почему?
– Половина - земная, половина - тамошняя. Два мира, два опыта в себе ношу. Две ноши на одной спине. Думаете, легко?
– Не думаю.
Сережа посмотрел на меня и вдруг сконфузившись спросил:
– Заслуживаете вы откровенности?
– Об этом не меня надо спрашивать.
– Ну, ладно, расскажу. Дело в том, что Серегин уговаривает меня поменяться.
– Чем?
– Ну, судьбой, что ли. Обстоятельствами жизни.
– Как это? Не понимаю.
– Очень просто. Хочет, чтобы я остался здесь, а его закодировал вместо себя и отправил туда.
– Зачем?
– Хочет побывать в пластичном мире.
– Этично ли это?
– А вам как кажется?
– Мне кажется, что это не совсем этично. У вас там семья, Да и вообще, что за обмен? И кроме того, если он собирается исчезнуть и, вероятно, надолго, если не навсегда, то зачем хлопотать о своей диссертации, добиваться защиты? Там, наверное, не имеет существенного значения, кандидат ли он наук или обычный смертный.
– Дело тут тонкое, не простое. Самолюбив. Кроме того, он считает, что это своего рода экзамен. А если сказать всю правду, боится, что я так и не войду в контакт с человечеством.
– Почему?
– Характер такой. Излишняя скромность, временами переходящая в застенчивость. Нелюбовь к сенсации, к газетной шумихе, Странная привычка быть всегда в тени.
– Ну, а сами вы как? Готовы поменяться с ним или нет?
– Еще не решил. Но вернемся к делу. Так поддержите вы Серегина?
– Нет, - ответил я. - Пусть защищает в другом месте и с дру-гим руководителем. Я в своих убеждениях тверд и научной этике не изменю.
31
Минотавр - один из образов критской мифологии. Это получеловек - полубык, которого, согласно древней легенде, царь Минос заключил в лабиринт, построенный афинским художником Дедалом.
Но тут не афинский художник Дедал, а сама действительность построила что-то вроде лабиринта, в котором запутала меня и мою логику, мое врожденное чувство здравого смысла, связывающего мой опыт с опытом всего человечества.
Единственный выход из лабиринта - это остаться верным научной этике и не допустить защиту диссертации на соискание кандидатской степени, диссертации, которая вошла бы в противоречие с опытом всех поколений, живших до меня.
Верил ли я в то, что Сережа был посланцем неизвестного, но вполне реального, хотя и безмерно далекого мира?
И верил и не верил.
Между мной и аспирантом Серегиным произошел разрыв.
Я постарался забыть обо всем, что тревожило меня в течение этого странного года, и, когда проходил мимо книжного магазина на Большом проспекте, убыстрял шаги.
Чувство тоски по неведомому манило меня в этот магазин, но каждый раз я оказывался сильнее самого себя и проходил мимо.
Увлеченный работой (писал научно-популярную книгу "Культура и знаки"), я стал все реже и реже думать об удивительных обстоятельствах, игравших недавно со мной в сомнительную и загадочную игру. Но извещение на четвертой странице "Вечернего Ленинграда" вдруг толкнуло меня в лабиринт, из которого, как еще недавно казалось мне, я с трудом выбрался.
"28 мая, - прочел я, - на филологическом факультете Ленинградского университета В. В. Серегин защищает диссертацию на соискание степени кандидата наук "Языкознание космоса". Оппонентами выступают профессор Минотавр и доктор исторических наук Дедал".
Дочитав извещение, я испытал то же самое чувство, как когда увидел свое изображение на странице научно-фантастического романа. Газету я купил на Невском, когда собирался перейти Садовую подземным переходом.
"Необходимо повидаться с Сережей", - подумал я. И в ту же минуту увидел его. Он сидел в подземном переходе за раскладным столиком и продавал книги и лотерейные билеты.
– Это же не лабиринт, - сказал я ему, - созданный афинским художником Дедалом, а подземный переход.
И показал объявление, напечатанное в "Вечерке".
– Придете на защиту? - спросил Сережа.
– Нет. Не приду.
– Купите лотерейный билет!
Я купил лотерейный билет и спросил;
– А что же дальше?
– Завтра в восемь часов вечера включите телевизор, И вы убедитесь, что на этот билет вы выиграли мир.
32
В тот самый час я включил телевизор.
Показывали обыденную сценку из академической жизни - защиту диссертации на соискание кандидатской степени.
Я уже хотел сменить программу, как вдруг узнал своего бывшего аспиранта Серегина. Он стоял на трибуне и негромко, но внушительно объяснял членам Ученого Совета и всем присутствующим:
– Их логика, их видение мира соответствуют их среде. Миф? В какой-то мере да. Но миф, созданный не воображением, не фантазией, а властью над законами природы… Мой уважаемый оппонент профессор Минотавр разрешил мне продемонстрировать фрагменты фильма, доставленные на Землю… Механик, потушите, пожалуйста, свет.
И в то же мгновение на экране телевизора возникло лицо женщины, глядящей в ручное зеркало. Охваченное круглой рамкой, в руке у женщины было прозрачное озеро с рыбами, плавающими на дне.
Затем возникла стена с картиной. В раме был живой лес, шумели деревья, колеблемые сильным ветром.
Голос не диктора, а Серегина продолжал:
– Мой уважаемый оппонент профессор Минотавр расскажет вам о биосфере этой удивительной планеты, о пластичности этого созданного заново мира, а я ограничусь кратким изложением темы, которой посвящена моя диссертация "Языкознание космоса".
Генрих Альтов. Клиника "Сапсан"
В моем распоряжении три часа, даже меньше. Двадцать минут назад Юрий Петрович Витовский объявил:
– Решено, начинаем в десять.
Я спросил, что делать сейчас. Он ответил:
– Изложите-ка суть дела на бумаге. Основные факты и мысли. Все, что вы думаете о предстоящем. Впоследствии эта запись поможет вам понять себя.
ВВ, неодобрительно поглядывавший на Витовского, добавил:
– По идее лучше бы ничего не писать. Я приду за вами через три часа. Во всяком случае, избегайте лирики и пишите покороче. У нас еще куча дел.
Беспокойство ВВ понятно - у меня нет дублера. Если я передумаю, эксперимент придется надолго отложить. Но ВВ волнуется напрасно: я не передумаю. Не то чтобы мне все было ясно. Скорее наоборот. Такая уж это каверзная проблема: чем глубже в нее влезаешь, тем больше нерешенных вопросов. Верный признак, что нужен эксперимент. Что ж, попытаюсь - без лирики и покороче - изложить "основные факты и мысли".
Самый основной факт состоит в том, что здесь, в клинике "Сапсан", ставится опыт по практически неограниченному увеличению продолжительности жизни. Первый опыт на человеке. На мне.
В сущности, Витовский, Панарин и их сотрудники давно решили биологическую проблему бессмертия. Наш эксперимент имеет другую цель. Он должен прояснить психологические (по мнению Витовского) и социальные (так думает Панарин) следствия бессмертия.
Нелегко объяснить, каким образом я, человек, далекий от биологии, оказался участником этого эксперимента. Здесь два вопроса: почему выбрали меня и почему я согласился. На первое "почему" могут ответить только Витовский и Панарин. А вот почему я согласился… В самом деле - почему? Я пытаюсь вспомнить, когда это произошло, и не могу. Не помню. Сначала было твердое "нет". Теперь - твердое "да".
Еще месяц назад я не знал Витовского и Панарина. То есть знал издалека: с тех пор, как они получили Нобелевскую премию за работы по биохимии зрения, их знают многие.
Витовского я видел раза два-три, не больше. В наше время, когда ученые стараются походить на боксеров или отращивают декоративные бороды, Витовский выделялся совершенно естественной интеллигентностью. Вероятно, таким был бы Чехов, если бы дожил до шестидесяти (Витовскому пятьдесят восемь).
Владимир Владимирович Панарин в ином стиле. Он старается походить на Витовского, но это маскировка. Добродушно улыбаясь, он появляется на совещаниях, скромно усаживается где-нибудь в сторонке и углубляется в книгу. Так он сидит часами, изредка поглядывая на выступающих, а потом вдруг раздается его громовой голос. Это подобно взрыву, и Панарина довольно удачно называют ВВ [сокращенное обозначение слов "взрывчатое вещество"]. В течение нескольких минут на аудиторию обрушивается такое количество мыслительной продукции, которого хватило бы на десяток совещаний и конференций. Именно мыслительной продукции, а не просто мыслей. Весь фокус в том, что ВВ выдает тщательно продуманную систему новых и почти всегда парадоксальных соображений. В сущности, это готовая научная работа - с четким рисунком движения мысли, с вескими и убедительными фактами, с ехидным подтекстом и, главное, с конкретной программой исследований.
Месяц назад я увидел ВВ в Харькове на конференции по машинному переводу. Собственно, с этого все и началось. Я был удивлен, когда в перерыве Панарин, отмахиваясь от обступивших журналистов, направился ко мне.
– Вашего выступления нет в программе, - сказал он. - Давайте поговорим.
Мы вышли в сад. Панарин отыскал в отдаленной аллее свободную скамейку и внимательно огляделся. Я заметил, что он волнуется, и спросил:
– Что-нибудь случилось?
– Да, - ответил Панарин. - То есть нет. Просто вы теперь один. Без дублера.
– Без… чего? - переспросил я.
ВВ со вкусом рассматривал меня. К нему вернулась обычная уверенность.
Я не сразу понял Панарина, хотя он повторил объяснение по меньшей мере трижды. Вероятно, это особенность проблемы бессмертия. Все очень просто, пока речь идет вообще, и все безмерно усложняется, как только начинаешь "привязывать" эту проблему к себе. Разработан, сказал Панарин, способ неограниченного продления жизни. До сих пор опыты ставились на животных ("Берем престарелого пса и за две недели превращаем его в щенка"). Методика надежно проверена, никакого риска нет. Нужно переходить к опытам на человеке. Получено разрешение на первый такой опыт. Для начала омоложение на десять лет. Конечно, испытатель (Панарин сказал "испытатель", а не "подопытный") должен быть добровольцем. Год назад они Витовский и Панарин - наметили восемь человек ("Отобрали молодых ученых. В том числе - вас"). Но по разным причинам семь кандидатур отпали.
– Почему? - спросил я.
Панарин усмехнулся:
– Законный вопрос. К испытателю предъявляется комплекс требований. Молодость. Здоровье. Отсутствие семьи. Вам тридцать один?
Я не успел ответить.
– Ну вот, тридцать один, - продолжал Панарин. - А после опыта будет двадцать один. Это могло бы, пожалуй, озадачить вашу жену, если бы таковая имелась. И детишек, если бы таковые были. Нам нужны сироты. Талантливые сироты с определенным положением в науке. Со степенями. Думаете, так просто найти восемь молодых талантливых сирот со степенями? Мы нашли. А потом выяснилось, что у троих сирот только видимость таланта. Мираж. Фу-фу! Вот так. Двое других сирот за это время перестали быть сиротами. Что поделаешь! Зато на остальных мы рассчитывали твердо. Абсолютные сироты. Светлые головы. Доктора наук. Но неделю назад один улетел работать куда-то в Африку. А второй вчера чуть не сломал себе шею на мотогонках и сейчас находится в аккуратной гипсовой упаковке…
Я все еще не понимал Панарина. Почему испытатель обязательно должен быть молодым ученым? Почему, наконец, этим испытателем должен быть я?
– Допустим, - сказал Панарин, - опыт состоялся. Вы стали моложе на десять лет. И при этом сохранили память, знания и способности. Все, как до опыта. Вы бы согласились? Отлично бы согласились! А теперь допустим, что вместе с десятью годами исчезнет и то, что было завоевано. Нет тридцатилетнего доктора наук. Есть двадцатилетний студент, которому снова придется искать свое место в науке. Представляете?.. - Он продолжал: - Ну, давайте сначала. Вот три варианта. Первый: прямое увеличение продолжительности жизни. Практически это означает долгую старость, потому что увеличение пойдет главным образом за счет этого периода. Не растягивать же детство на сотни лет. Естественное долголетие - именно долгая и бодрая старость. Типичное не то! Второй вариант: вечная молодость. Опять плохо. С годами люди не всегда умнеют. Болван, например, чаще всего остается болваном. Представляете - вечно бодрый болван, которому износу нет… Разумеется, не в одних болванах дело. Когда человек сложился, дальше идет главным образом количественное развитие. Самый верный способ резко замедлить прогресс - дать всем вечную молодость. Вы же знаете, какая в науке погоня за молодыми учеными. Молодые - значит новые. Им легче разворошить тщательно отшлифованные теории. Ученому старшего поколения трудно уйти от сложившихся теорий: он их сам складывал, сам шлифовал. Гений не в счет. Если хотите, сущность гения в том, что он может (и не раз!) махнуть рукой на проделанную им работу и начать с нуля. Так вот: третий вариант бессмертия в том, чтобы стать новым человеком и начать с самого начала.
По аллее шли люди, и Панарин замолчал. А я думал, как объяснить мой отказ. Мне хотелось, чтобы Панарин правильно меня понял. Я работаю над совершенствованием эвротронов - логических машин, способных решать изобретательские задачи. Пусть эта работа и не столь значительна, как работа Витовского и Панарина, но она нужна. Если я исчезну (даже мысленно как-то странно произносить эти слова), распадется целый коллектив.
– Целый коллектив? - переспросил Панарин, когда я изложил ему свои соображения. - Ну и что? В вашем коллективе сорок человек. Есть коллектив побольше - три с половиной миллиарда человек. Человечество.
Он искоса посмотрел на меня и вдруг произнес совсем другим, очень спокойным, тоном:
– Ладно. Не хотите - не надо. Но вы, надеюсь, можете поехать к Витовскому и повторить ему свой отказ?
Панарин хитер, он хорошо знает особенность этой проблемы: можно сказать "нет" и еще сто раз "нет" и все равно не перестанешь думать.
Десять лет жизни. "То, что было завоевано". Я хорошо запомнил эти слова. Да, десять лет моей жизни - непрерывная и напряженная битва. Прежде всего битва за знания. Нельзя продвигаться в новой области, не перемалывая двойную и тройную норму информации. Потом битва за право работать над своей темой - ее считали нереальной, полуеретической. Мне говорили: "Машина, которая будет изобретать? Полноте! В принципе это, может быть, осуществимо, не будем спорить с киберпоклонниками. Но практически - нет, невозможно. Во всяком случае, преждевременно". И это были не досужие разговоры. От них зависела возможность получить свой угол в лаборатории. А потом - неудачи. Бесконечная вереница неудач, постепенно выявивших истинную глубину проблемы. Такую глубину, что, может быть, и не решился бы начать, если бы знал… Я не жалуюсь. Научный процесс и состоит в том, чтобы преодолевать косность - свою и чужую. Десять лет настоящей битвы. По Гете: "Кто болеет за дело, тот должен уметь за него бороться, иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело". Сейчас мне дороги даже былые неудачи и изнурительные споры с теми, кто воспринимал упоминание об эвротронах как личное оскорбление. Десять лет незаметно вместили и те очень долгие годы, в течение которых - сверх всего - пришлось делать кандидатскую диссертацию. Потом чересполосица успехов и неудач, когда сначала почти не было успехов, а потом почти не было неудач. И присуждение - уже без защиты - докторской степени. Наконец, лаборатория, отлично оборудованная лаборатория. Сорок человек, которых я подбирал, учил, в которых поверил и от которых теперь неотделим…
Подъем по лестнице, как бы он ни был утомителен, всегда можно повторить: проделал определенную работу - и поднялся. Десять лет моей жизни - это не просто энное количество работы. Кто поручится, что через год после начала повторного пути я снова смогу в течение двух суток, показавшихся мне тогда одним остановившимся мгновением, найти основные теоремы эвристики?.. Кто поручится, что еще два года спустя, пережидая дождь в неуютном и шумном зале свердловского аэропорта, я нарисую на папиросной коробке схему первого интерференционного эвротрона?..
Если говорить прямо: кто поручится, что, вернувшись на десять лет назад, я снова смогу жить в науке?
Да, не обязательно быть ученым. Не обязательно - если до этого не был ученым. Но скиньте летчику десять лет и скажите: "Не летай!" Скиньте десять лет моряку и скажите: "Не плавай!" В Сыктывкаре нас ждал вертолет. Мы долго летели над тайгой. Панарин, удобно устроившись в кресле, листал пухлые реферативные журналы. Внезапно вертолет развернулся и пошел на снижение. Солнце ударило в иллюминатор, я отодвинул занавеску - и впервые увидел тундру.
Никогда не думал, что краски здесь могут быть такими звеняще яркими. Над далекой лиловой полосой горизонта в синем вечернем небе висело холодное солнце. А земля была огненно-желтой, и по ней шли волны: поток воздуха от лопастей вертолета сгибал упругие кусты сиверсий и еще каких-то красноватых цветов.
Я никогда не был в тундре. Я вообще почти нигде не был. По меньшей мере половину из этих десяти лет я шагал из угла в угол или сидел за столом. У меня не было ни одного настоящего отпуска. Глупое слово "отпуск". Разве можно "отпустить" себя от своих мыслей?
Тундра поражает необычным ощущением простора. Земля здесь утратила кривизну: где-то очень далеко желтое море сиверсий темнеет и, притушеванное лиловой дымкой, незаметно переходит в серую, потом в синюю и наконец, в ультрамариновую глубину неба.
Я вдруг по-настоящему почувствовал, что такое _десять лет жизни_. Доводы против эксперимента на мгновение натянулись, как до предела напряженные стропы.
Издали клиника "Сапсан" похожа на маяк в море. Только маяк этот синий, как осколок неба, а море оранжевое. Восьмиэтажное цилиндрическое здание со всех сторон окружено нетронутой тундрой. Круглый внутренний двор прикрыт прозрачным куполом. С высоты это напоминает колодец, но двор большой, метров триста в диаметре.
Меня удивила тишина. Даже не сама тишина, а то, что стояло за ней: огромное здание было безлюдно. Мне просто не пришло в голову, что это связано с моим появлением. И еще - черепахи. Десятка два огромных черепах с белыми, нарисованными краской, номерами на панцирях, беззвучно ползали по ситалловым плитам двора.
– Не обращайте внимания, - сказал Панарин. - По воскресеньям бывают гонки на черепахах. Местный национальный обычай.
Я спросил, на какие дистанции устраиваются гонки. ВВ удивленно посмотрел на меня и хмыкнул:
– На разные.
В "Философских тетрадях" Ленина есть тонкое замечание о движении мысли в процессе познания. Человек, говорит Ленин, сначала познает, так сказать, первую сущность проблемы, потом вторую, более глубокую сущность, и так далее. Вероятно, бессмертие - единственная проблема, в которой первая сущность настолько глубока, что до Витовского и Панарина вторая сущность даже не просматривалась.
Человек при ненасытной жажде все понять и во всем разобраться почему-то избегает думать о смерти. Я не биолог и не рискну искать причины. Я просто констатирую: мозг человека активно противодействует попыткам думать о смерти - своей, своих близких, всего земного. Человек (в этом его духовное величие), зная, что он смертен и что смертны все остальные люди, живет так, словно он и все вокруг него бессмертны.
До самого последнего времени биология была далека от практических попыток штурмовать проблему бессмертия. Никто всерьез не задумывался над вопросом: "А что будет, если мы найдем эликсир бессмертия?" Панарин сказал об этом так: "Делить шкуру неубитого медведя неприлично только на охоте. Современный ученый должен начинать именно с размышления об этой шкуре". И тут же закидал меня вопросами:
– Найдено средство, обеспечивающее бессмертие. Допустим, пилюльки. Сначала, как водится, пилюлек считанное количество. Спрашивается, раздавать их избранным или подождать, пока наберется на все человечество?.. Если раздавать избранным, то кому? Может, по рангу? Доктору наук выдать, кандидату - нет… Вообще кто и как будет определять, кому дать и кому не дать?.. Раздавать всем? Прекрасно. Дело, конечно, не в слишком быстром увеличении населения планеты. Это проблема сложная, но вполне разрешимая. Загвоздка в другом. Коль скоро пилюльки раздаются всем, значит, и Франко тоже? И всему капиталистическому миру?.. Ах, не абсолютно всем. Кто же будет решать? Кто и как? Снова будем обсуждать, например, кто такой Пикассо: великий художник (дать пилюльку!) или формалист, апологет растленного буржуазного искусства (не давать пилюльку!)… Раздавать пилюльки только у себя? Изумительная идея. Не дадим бессмертия Гейзенбергу, Эшби, Сент-Дьердьи, Кусто, Чаплину, Сикейросу… Вот так. Вы и сами найдете еще десяток подобных вопросов. Думайте! Думайте. Это полезно.
Неожиданно Панарин сказал совсем другим тоном, без обычного ехидства:
– Над проблемой бессмертия надо либо вообще не думать, либо думать честно, не лавируя.
Да, есть лишь один способ думать - глядя в глаза правде. Не бывает обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость прищуриться или вообще отвернуться.
Разговор этот произошел еще в Харькове, перед отлетом на Север. В дороге Панарин упорно копался в журналах. У меня было время поразмыслить. "Пилюльки" бессмертия тянули за собой множество сложных и взаимосвязанных проблем, затрагивающих буквально все стороны человеческого существования: социальные отношения, политику, семью…
Я вновь, уже самостоятельно, перебрал возможные варианты бессмертия.
Сохранить у всех тот возраст, который есть? Это не решение, ибо будут новые поколения и для них снова возникнет вопрос: в каком возрасте принимать "пилюльки"? Вечная старость - сомнительный дар. Значит, вечная молодость? Но человек будет молод телом и стар столетней памятью, столетним или трехсотлетним количеством пережитого, притупившейся за сто, триста или пятьсот лет способностью воспринимать новое… Да, единственный приемлемый вариант - нормальная жизнь и омоложение по достижении старости. Омоложение не только физическое, но и в определенной степени умственное.
В какой же степени?
Вот она, первая сущность проблемы бессмертия: нескончаемая вереница вопросов и никаких признаков приближения ко второй сущности.
Полное (или почти полное) умственное омоложение не имеет смысла. Это равносильно смерти и рождению нового человека. Следовательно, речь может идти лишь о возвращении в молодость.
Возвращение в молодость. А знания, научные знания - как быть с ними? Сохранить, чтобы потом пойти дальше? Заманчиво. Тогда надо сохранить и то, что делает художника - художником, а композитора - композитором. Но ведь это значит сохранить (круг замыкается!) память об увиденном, услышанном, пережитом. Да и ученый перестанет быть ученым, если вычеркнуть из памяти пережитое. Следовательно, не сохранять знания? Или поставить фильтр: пусть уйдут, так сказать, жизненные знания и останутся сведения, почерпнутые из справочников и учебников?..
И вот здесь, задавленный цепной реакцией вопросов, я подумал: хорошо (и закономерно), что для решения проблемы бессмертия потребовалось объединить неисчерпаемую энергию Панарина и гуманизм Витовского.
Панарин и Витовский - ученые примерно одной величины. Но писать о Витовском много труднее, чем о Панарине, я даже не буду пытаться. Впрочем, об одной детали (слово "деталь" совершенно не подходит, это одна из тех трудностей, на которые наталкиваешься, пытаясь говорить о Витовском) надо сказать непременно.
Витовский носит дымчатые очки. Еще раньше я где-то читал или от кого-то слышал, что Витовский испортил зрение, ставя на себе опыты. Здесь, в клинике "Сапсан", подолгу беседуя с Витовским, я не раз испытывал желание спросить об этих опытах. Очки - из обычного дымчатого стекла, дело не в дефектах зрения. Случалось, Витовский снимал очки на террасе - при ярком солнечном свете. И никогда не снимал их в слабо освещенной комнате.
Однажды (это было на третий день после приезда в клинику) мы с Панариным прогуливались по внешней террасе. Внезапно я услышал резкий свист, оглянулся, но никого не увидел.
– Это в небе, - сказал Панарин. - Сапсан. Любимая птица Юрия Петровича. Сапсан не нападает на птиц, когда они на земле. Юрий Петрович усматривает в этом проявление благородства. Зато в воздухе сапсан - изумительный охотник. Выискивает с высоты добычу и пикирует, развивая фантастическую скорость: метров сто в секунду, даже больше. Живая пуля. Попадает безошибочно. Разглядеть сапсана в момент пикирования может лишь Юрий Петрович. Остальные слышат свист, и только.
Я спросил, каким образом Витовскому удается видеть пикирующего сапсана. Панарин ответил:
– Старая история. Это было лет двадцать назад… Тут неподалеку речушка, мостик. Так вот, у этого мостика нам как-то крепко досталось. Весьма крепко. Пьяные подонки - они палили по птицам. Развлекались… Здесь, в тундре, птицы - сама жизнь. Без них тундра мертва… В самый разгар пальбы появился сапсан. Все птицы врассыпную, они сапсана боятся больше, чем выстрелов. Юрий Петрович (мы бежали к мостику) крикнул: "Смотрите, принял огонь на себя". Чушь, черт побери, чушь! А ведь как похоже… Сапсан летел медленно, словно нарочно! Большая красивая птица с длинными узкими крыльями… Впечатление было такое, будто он не хотел замечать стрельбу, и это" бесило этих… стрелков. Вот тут Юрий Петрович и произнес речь в защиту сапсана. Такую, знаете, деликатную речь, в обычной своей манере. Дескать, птица редкая, охраняется государством, не нужно стрелять. Ему крикнули, чтобы он заткнулся. Именно так это было сформулировано. Я впервые тогда увидел Юрия Петровича разъяренным. "Балбесы! - закричал он. - Все равно не попадете…" Да. В этот момент мы желали только одного: чтобы, сапсана не подбили. И, знаете, казалось, птица поняла нас. Она летала под выстрелами - и как летала! Почти вертикальный взлет, сапсан растворяется в высоте, а потом свист, и птица возникает под носом у стрелков… Не знаю, чем бы все это кончилось. Такая, с позволения сказать, охота взбаламучивает не самые лучшие инстинкты. Этих… стрелков было человек десять… Да. На выстрелы прибежали люди, пальбу прекратили. Сапсан еще долго кружил над тундрой… Вот так. Юрий Петрович впоследствии долго изучал зрительный аппарат сапсана. У хищных птиц вообще поразительное зрение. Я был в отъезде, когда Витовский ставил опыты на себе. К несчастью, опыты были слишком удачными. Или слишком неудачными. В таких открытиях всегда есть две стороны. Когда-нибудь мы привыкнем к этому, как привыкли после де Бройля к идее одновременного существования у материи свойств волны и частицы. Витовский теперь зорче сапсана или грифа. Но это оказалось необратимым… и не всегда нужным. Скажем, созерцать наши с вами физиономии при такой остроте зрения не стоит. Не тот эстетический эффект. А вот видеть гиперзрением природу… Ну, этого не передашь словами.
Мне удалось уговорить ВВ. Действие препарата длилось минуты три-четыре, но я все-таки увидел мир таким, каким его видит Витовский.
Позже я скажу об этом. Сейчас мне хотелось бы воспользоваться мыслью Панарина относительно двойственной природы открытий. Обычно мы подходим к научным открытиям, так сказать, с доволновых позиций: либо хорошо, либо плохо - и никакой двойственности. А современным крупным открытиям эта двойственность органически присуща. Да и сам процесс появления открытий имеет как бы "волновую" и "квантовую" природу (разумеется, это лишь аналогия, но она проясняет суть дела). Современные открытия не только двойственны. Они и появляются "квантами". Если бы от обычного химического горючего наука постепенно пришла к энергии атомного порядка, не было бы проблем, обрушившихся после Хиросимы на человечество. Однако скачок произошел внезапно, сразу на качественно новый уровень. И так на всех решающих направлениях. Если бы, например, бессмертия достигли постепенным увеличением продолжительности жизни, не возникла бы цепная реакция вопросов, на которые почти невозможно ответить. Но и этот скачок был внезапным и резким…
Я уверен, здесь нет случайности. Таков вообще характер современного научного процесса. Сила ученого сейчас во многом зависит от его способности ощущать "волновую" и "квантовую" природу новых открытий. Быть может, здесь ключ к пониманию Витовского.
Когда в Харькове Панарин предложил поехать к Витовскому, я охотно согласился. Дело, конечно, не в том, чтобы повторить отказ (для этого есть телефон). Панарину хотелось выиграть время и возобновить атаку. А меня радовала возможность поговорить с Витовским.
Неожиданным был уже первый разговор.
Витовский спросил, помню ли я последнее интервью Винера. Я, конечно, хорошо помнил это интервью, опубликованное в шестьдесят четвертом году, незадолго до смерти Винера: оно имеет прямое отношение к моей работе. Витовский специально выделил в этом интервью два ответа. Вот они:
"Вопрос. Согласны ли вы с прогнозом, который мы иногда слышим, что дело идет к созданию машин, которые будут изобретательнее человека?
Ответ. Осмелюсь сказать, что если человек не изобретательнее машины, то это уже слишком плохо. Но здесь нет убийства нас машиной. Здесь будет самоубийство.
Вопрос. Действительно ли существует для машины тенденция становиться сложнее, изобретательнее?
Ответ. Мы делаем сейчас гораздо более сложные машины и собираемся сделать еще гораздо более сложные машины в ближайшие годы. Есть вещи, которые пока-совсем не дошли до общественного внимания, вещи, которые заставляют многих из нас думать, что это случится не позже чем через какие-нибудь десять лет".
– Эти десять лет прошли, - сказал Витовский. - Может ли человек теперь соревноваться с машиной в решении интеллектуальных задач?
Витовский, конечно, сам знал ответ. Мне оставалось лишь рассказать о новых универсальных машинах серии "КМ" и о последних конструкциях своих эвротронов. Он выслушал, не перебивая, потом спросил, что я в этой связи думаю о будущем.
Я ответил примерно следующее.
Было бы величайшим легкомыслием закрывать глаза на проблему "человек и машина". Беда не в бунте машин. Эти шкафы и ящики абсолютно не способны бунтовать. Проблема как раз в обратном: машины слишком хорошо работают на нас. Допустим, машина заменяет труд экономиста. Что должен делать этот экономист? Совершенствоваться, учиться, перейти на более сложную работу? Но не так просто совершенствоваться в тридцать, сорок или пятьдесят лет. К тому же сейчас почти все машины тоже способны совершенствоваться в процессе работы. И они это делают очень быстро, куда быстрее человека!
Когда-то машины вытеснили человека из сферы физического труда в сферу труда умственного. Потом машины начали умнеть. Поставить точку, прекратить совершенствование интеллектуальных машин? В мире, разделенном на многие государства, это не так просто. Да и сама "постановка точки" была бы странной: интеллектуальные машины - не оружие, они должны служить человеку…
Пока мы ограничиваемся полумерами: люди переходят в менее "кибернетические" отрасли, быстро увеличивается число людей, занимающихся искусством.
– А как вы смотрите на возможность соревнования человека с машиной? спросил Витовский. - Человек тоже развивается, не так ли?
Я возразил: человек развиваются слишком медленно. За три тысячи лет мозг человека почти не изменился. Для ощутимых изменений нужны десятки тысяч лет.
– Это так и не так, - сказал Витовский. - Машины действительно развиваются много быстрее человека. Рассматривая проблему "человек и машина", мы видим неменяющегося человека и быстро меняющуюся машину. Но ведь сама кибернетика, развиваясь, дает средства для форсированного, очень быстрого развития человеческого мозга. Значит, если не отмахнуться от проблемы "человек и машина" (а такая тенденция есть), можно гармонически развивать людей и машины, сохраняя между ними оптимальную дистанцию. Как вы думаете?
Я, кажется, ответил невпопад. Меня ошеломила неожиданная идея о возможности (для всего человечества!) жить в состоянии непрерывного усовершенствования, столь же стремительного, как и развитие машин.
Да, как ни удивительно, в бессчетных спорах вокруг проблемы "человек и машина" всегда молчаливо предполагают, что "человек" - это сегодняшний человек, а "машина" - это будущая машина. Считается само собой разумеющимся, что возможности человеческого мозга через двадцать лет или через столетие останутся почти такими же, как сегодня. Да и через тысячу лет "конструкция" человека не претерпит принципиальных изменений. Так, во всяком случае, думают фантасты.
Я не случайно упомянул о фантастике. Наука пока не занимается вопросом о людях XXI или тем более XXX века. В планах исследовательских работ среди тысяч и тысяч тем нет ни одной, посвященной человеку будущего. Наше представление о будущих людях формируется отчасти интуитивно, отчасти под влиянием фантастической литературы. Поэтому к проблеме "человек и машина" мы подошли с теми представлениями о людях будущего, какие были привиты нам фантастикой.
Что ж, если "конструкция" человека принципиально не меняется, машины неизбежно окажутся умнее нас. Это вопрос времени, и только. Подчеркиваю еще раз: машины нас не съедят. Они только будут все лучше и лучше выполнять нашу работу, в том числе производственную, исследовательскую, административную.
Многолетние дискуссии постепенно выработали компромиссную (я бы сказал - половинчатую) точку зрения: теоретически машины могут стать сколько угодно умными, но практически создание подобных машин невероятно сложно и произойдет это еще весьма не скоро. Примерно так относились в 20-х и 30-х годах к проблеме атомной энергии: вообще, мол, возможно, однако трудности таковы, что потребуются многие столетия… Как известно, все произошло значительно быстрее.
Я записываю то, что думаю сейчас, после долгих бесед с Витовским и Панариным. При первом разговоре мысли были хаотичнее. И все-таки уже тогда я уловил главное. Вторая сущность проблемы "человек и машина" (как и вторая сущность проблемы бессмертия) начиналась с уяснения единственно верного пути: человек будущего должен иметь принципиально новую способность постоянно и быстро совершенствовать свою "конструкцию".
В ту ночь я считал, что понимаю смысл работы Витовского и Панарина: решить проблему бессмертия - значит решить проблему "человек и машина". Я не знал тогда, что это лишь один участок ведущихся в клинике работ. Быть может, даже не самый главный участок.
Мне не спалось, я никогда раньше не видел солнечной ночи Заполярья. Время остановилось. Замерло зацепившееся за горизонт солнце. Умолкли птицы. Даже ветер стал беззвучным. Тишина была почти нереальная.
Солнечные ночи тундры специально созданы, чтобы думать, думать, думать. Вряд ли удалось бы найти лучшее место для клиники "Сапсан".
Кажется, тогда я впервые подумал об участии в эксперименте. Не о доводах "за" и "против", а о том, как это произойдет.
Впрочем, нет. Мысль об участии в эксперименте впервые возникла на следующий день.
Разбудил меня Панарин.
– Проспите самое интересное, - сказал он. - Быстренько собирайтесь! Убирать не надо. Все сделается святым духом.
Святой дух в клинике был, я уже заметил. Накануне мы на несколько минут вышли из кабинета Витовского, а когда вернулись, на столе оказался ужин.
Примерно таким же образом появился и завтрак. Я спросил Панарина о святом духе.
– Вы прибыли сюда сиротой, - ответил ВВ, - и должны пока сиротой остаться. Обычно тут, знаете, очень… гм… живое общество. Так вот, это общество временно перебазировалось. В южные края. А здесь остался лишь незримый святой дух.
Святой дух был хоть и незримым, но весьма работоспособным, потому что через полчаса я увидел Витовского в лаборатории, полностью подготовленной к удивительному опыту. Панарин упомянул об этом еще в Ленинграде, когда мы ожидали самолета на Сыктывкар. В изложении ВВ это выглядело так:
– Идея проста, как дважды два. Ну, а с биохимической стороной вы познакомитесь потом. Так вот, идея. По одному проводу, как вы знаете, можно одновременно передавать много сообщений. Хоть сотни. Каждое сообщение передается на своей частоте. Если разница между частотами достаточно велика, сообщения не мешают друг другу. Одна электрическая система одновременно воспринимает сотни разных сообщений. Дальше я полагаюсь на ваше воображение кибернетика. В конце концов, органы чувств, нервная сеть, мозг - тоже электрическая система.
Я сказал, что это второе решение проблемы бессмертия. Одна жизнь человека вместила бы сотни разных жизней. Во всяком случае, сотни интеллектуальных жизней. Но вряд ли эту идею удастся осуществить. Не видно даже подступов к ней.
Объявили посадку, разговор прервался. Мы больше не возвращались к этой теме. Для меня было полнейшей неожиданностью то, что мне показали в клинике.
В просторной лаборатории на возвышении стояло массивное деревянное кресло, похожее на бутафорский трон. Перед креслом был обыкновенный письменный стол с двумя магнитофонами. Чуть поодаль висел большой выносной экран телевизора.
Панарин исчез (я в это время говорил с Витовским) и вернулся минут через десять в пластмассовом шлеме, с которого свисали разноцветные провода. На стене вспыхнуло табло: "Первый готов". Я хотел сказать что-то насчет святого духа, но зажглись другие табло: о своей готовности докладывали еще три поста. Витовский отошел к блоку осциллоскопов в углу лаборатории. Панарин быстро подсоединил провода, проверил магнитофон, установил на столе кнопочный пульт управления. Потом негромко сказал:
– Начали.
На экране появилась таблица настройки и почти сразу же - журнальный текст. Это была статья по математической логике. Я едва успел дочитать до середины, как страница сменилась. Меня поразила быстрота, с которой читал Панарин. Я не сразу понял, в чем дело, и почему-то решил, что опыт связан с работами Витовского и Панарина по биохимии зрения.
Скорость чтения быстро" увеличивалась, Панарин сам ее регулировал, нажимая на кнопки пульта. Из сорока трех строчек я сначала успевал прочитать двадцать, потом пятнадцать и, наконец, всего шесть-семь, да и то не вникая в их смысл. И вот здесь, когда скорость чтения достигла фантастического предела, на экране возникли одновременно два текста. Изображение второго текста (если не ошибаюсь, это была информация о новых методах энцефалографии), более крупное и полупрозрачное, с самого начала менялось с такой скоростью, что я едва успевал заметить отдельные слова…
Через пятнадцать минут после начала опыта Панарин включил магнитофон. Я услышал: "Испанский язык. Урок одиннадцатый", и вспомнил разговор в Ленинграде. Признаюсь, не будь здесь Витовского, я бы счел это розыгрышем. Я имел возможность видеть эти опыты в течение месяца, почти ежедневно, но до сих пор не могу привыкнуть к ним. А тогда я был просто ошеломлен. Как, каким образом поглощал Панарин этот огромный поток информации? Это невероятно, но я видел - это происходит.
Панарин включил второй магнитофон. Испанские фразы смешались с монотонным речитативом историка, рассказывающего о закате Византийской империи. А по экрану (я не заметил, как это началось) шел уже не двойной, а тройной текст. В нем нельзя было разглядеть ни одного слова, он казался бегущей тенью…
Сосуществование многих различных памятей решительно не вяжется с гипотезой Сцилларда о параконститутивных системах в нейроне. Панарин не захотел говорить о механизме сосуществования ("К чему? Объяснять сложно и долго, а вы потом - после своего эксперимента - прекрасно все это забудете. Вот когда станете моложе, пожалуйста…"). По всей вероятности, Панарин и Витовский исходили из другой теории памяти, по которой поступившие в нервную клетку импульсы меняют структуру РНК. Если РНК может настраиваться на разные частоты, тогда… тогда есть смысл в аналогии с одновременной передачей нескольких сообщений по одному проводу.
Эксперимент продолжался четыре часа.
Нет, слово "эксперимент" здесь определенно не годится. И в тот день, и в следующие дни Панарин уверенно заполнял свою вторую, третью и другие памяти (придется привыкать к такой терминологии!). Их было девять, помимо первой, обычной. Эксперимент, как я сейчас понимаю, по-настоящему должен начаться, когда все девять памятей окажутся на уровне, достаточном для самостоятельной научной работы, и, возможно, вступят во взаимодействие друг с другом.
Да, теперь я вспоминаю совершенно отчетливо: именно тогда я впервые подумал об участии в эксперименте. В своем эксперименте.
Вряд ли мне удастся последовательно и связно изложить, как эта первая, еще очень беглая мысль превратилась в ясное понимание необходимости своего эксперимента. Но какое это имеет значение? Важнее записать мысли, которые я потом могу забыть.
У меня появилась замечательная идея использовать в вычислительных машинах принцип сосуществования памятей. Химотроны [электрохимические устройства, выполняющие функции радиоламп, полупроводников и т.д.], например, наверняка смогут работать одновременно в нескольких режимах. Я должен это обязательно вспомнить - потом, после эксперимента.
Вспомнить потом…
Что я вообще буду помнить после эксперимента?
Витовский сказал так:
– Дистанция омоложения - десять лет. Физическое омоложение должно быть возможно более точным - сразу на заданный срок. А вот память надо лишь расшатать. То, что накопилось за десять лет и стало долговременной памятью, должно вновь перейти в состояние, подобное памяти оперативной. После омоложения человек в течение нескольких месяцев сможет закрепить какую-то часть этой расшатанной памяти. Произойдет, как мы говорим, процесс консолидации. Остальное постепенно забудется. Однако все это конечная, еще не вполне достигнутая, цель нашей работы. Пока мы не можем обеспечить гармоничное физическое омоложение. Например, никак не поддается омоложению хрусталик глаза. И все-таки здесь благополучно. Хуже с памятью: ваш опыт первый. Весь вопрос в том, какое время будет идти процесс консолидации памяти. Не исключено, что он завершится в течение нескольких часов. За этот срок вы почти ничего не успеете закрепить. Весь объем расшатанной памяти быстро исчезнет (а мы расшатаем все, что вы запомнили за последние девять-десять лет). Иначе говоря, в этом случае вы вернетесь на десять лет назад-не только физически, но и умственно. Возможно и обратное: консолидация затянется на годы. Тогда вы станете моложе физически, но сохраните то, что есть в вашей памяти теперь. В оптимальном случае консолидация продлится месяца два-три. И вот тут многое зависит от вас. От дисциплины ума. Именно поэтому испытателем должен быть ученый. Важен исходный объем знаний и умение потом, в процессе консолидации, отобрать и закрепить в памяти то, что нужно. Вам самому придется решать, что нужно "перезапомнить". И потом вести объективный самоконтроль и самоанализ. При удаче мы получим максимальную информацию, это заменит целую серию экспериментов.
Витовский заметно волновался.
– В спешке легко натворить бог знает что! - продолжал он. - Я хочу, чтобы вы поняли нас до конца. Методика омоложения может быть, в частности, использована и для лечения рака. Да, да, это так, и это удваивает сложность ситуации. Бездействуют готовые и надежные лечебные средства… Это ужасно! Нужно спешить… и нельзя спешить. В биологии как нигде велика опасность оказаться в положении ученика чародея…
Я только что писал о химотронах, боялся забыть появившуюся идею. Чепуха, сущая чепуха! Главное - не забыть того, что я увидел (и, надеюсь, в какой-то мере воспринял) у Витовского и Панарина.
Нужно сохранить в памяти органически присущую Панарину способность думать, не лавируя и не прищуриваясь. И неотделимое от Витовского понимание высокой ответственности ученого. "Хирургу, оперирующему на сердце человека, - сказал как-то Витовский, - следовало бы засчитывать часы операции за месяцы службы. Операционное поле науки еще сложнее. Сердце человечества…" Вероятно, я много работал этот месяц. Я говорю "вероятно", ибо интересная работа трудно поддается измерению. И еще - я успевал сделать до обидного мало по сравнению с Панариным. Девять его памятей (может быть, сказать - дополнительных памятей?), не мешая друг другу, "переваривали" информацию, полученную на ежедневных четырехчасовых сеансах. ВВ мог, разговаривая со мной, одновременно думать над девятью разными проблемами. К этому трудно привыкнуть. Я часто проверял Панарина, давал ему задачи, просил что-нибудь вычислить, перевести. Не прерывая обычной своей работы, Панарин почти молниеносно выполнял мои задания.
Объем второй памяти меньше, чем первой, а третьей - меньше, чем второй, и т.д. Зато соответственно возрастает быстродействие, скорость мыслительных операций. Будь у Панарина двенадцатая память (проклятая терминология!), он мог бы состязаться с вычислительной машиной.
Как ни странно, Панарин относится к своим возможностям довольно спокойно и даже с легким оттенком скепсиса. Мне же сосуществование памятей кажется великим достижением науки. Быть может, самым многообещающим за всю ее историю. Фронт знаний быстро расширяется, а специализация заставляет сужать работу и угол видения; теперь это трагическое противоречие удается снять. У человека хватит сил и на самое широкое освоение науки, и на искусство, и на жизнь, куда более многообразную, чем жизнь Леонардо…
Простой расчет.
Человек воспринимает не более 25 битов информации в секунду. За 80 лет напряженной работы (по 8 часов ежедневно) мозг получит 4,2x1О^10 битов. Это - в пределе. Практически много меньше. Между тем человеческий мозг теоретически имеет емкость свыше 10^15 - 10^16 битов. Мы используем лишь одну миллионную наших возможностей…
Панарин, которому я изложил эти соображения, сказал без энтузиазма:
– К сожалению, начиная с восьмой памяти резко усиливается излучение. То, что я запоминаю, быстро испаряется. Типичная телепатия! Механика телепатии именно в этом и состоит: мозг начинает работать в высокочастотном режиме. В обычных условиях это происходит редко. Чаще при дефектах мозга или в критических ситуациях, когда самопроизвольно резонируют высокочастотные режимы мышления. А у меня это постоянно. Вот так. Будь здесь второй такой гражданин, мы бы непрерывно обменивались мыслями. Вне зависимости от желания. И будь тут тысячи таких людей, все бы слышали мысли всех… Быть может, Юрий Петрович прав - перспективнее другой путь.
Позже я узнал, что Витовский с самого начала был против механического увеличения объема памяти. По мнению Витовского, надо использовать недолговечность "высших" памятей: при необходимости человек быстро впитает огромную информацию, использует ее, а потом знания, ставшие ненужными, исчезнут.
Признаться, суть разногласий между Витовским и Панариным не совсем ясна. Ведь можно использовать оба метода.
– Не думайте об этом, не отвлекайтесь, - сказал Панарин. - Ваш эксперимент важнее. Не спорьте. Самые важные открытия в науке относятся к организации самой науки. Сейчас на каждую неустаревшую гипотезу приходятся три-четыре гипотезы, которые вполне можно было бы сдать в архив. Но их авторы отчаянно защищаются. Представьте себе: пятнадцать, двадцать, тридцать лет человек корпел над гипотезой - и постепенно стал замечать, что она… гм… скажем, внушает некоторые сомнения. А у человека к этому времени солидное положение, ученики. У него нет времени сомневаться: уже лежат в редакциях статьи, составлено расписание лекций, запланировано выступление на конгрессе… И даже наедине с самим собой он не решается додумать все до конца. Легче убедить себя, что противодействуешь другим гипотезам по чисто научным соображениям… И вот ведь загвоздка: чем быстрее развитие науки, тем чаще должны сменяться гипотезы. Наука мыслит гипотезами: примерила одну - отбросила, подыскала другую, более близкую к истине, и сразу приступила к новым поискам. Но создатель гипотезы подчас не хочет, не может "отброситься" вместе с гипотезой на исходные позиции. По-человечески это можно понять: нет второй жизни. Долголетие сделает людей умнее. Они не будут усугублять свои ошибки только потому, что нет времени их исправить. Хотя, по правде говоря, никогда не поздно признать ошибку. Я бы учредил специальную премию для ученых, отстаивавших неверные теории и потом нашедших мужество сказать: да, я ошибался, я начну сызнова…
Еще пятнадцать минут. Панарин придет секунда в секунду, он точен.
Учтены, кажется, все мыслимые варианты. При любом сроке консолидации я, буду действовать по заранее продуманному плану. Неожиданности маловероятны.
Я написал эту фразу и подумал: нет, все будет неожиданным. Как я появлюсь у себя в лаборатории? Отсюда, из клиники, я говорил со своими ребятами почти каждый день. Это, в сущности, и решило вопрос о моем участии в эксперименте. Они смогут работать без меня. Открытие одновременно грустное и приятное. Мне казалось, я собрал коллектив и без меня он распадется. Но собранный коллектив - я это увидел - устойчив и способен к самостоятельному развитию.
Без меня в лаборатории повернули исследования. Поворот пока едва ощутим, они думают, что продолжают мою линию. Но это уже первые признаки нового - не моего - исследовательского почерка.
Для них я сейчас командирован академией на восемь месяцев. Судя по всему, они решили, что это связано с космосом. Что ж, пусть думают так. Пройдет полгода, я появлюсь в лаборатории… Быть может, в качестве младшего научного сотрудника. Появлюсь, чтобы начать все заново и за десять лет сделать вдвое, втрое больше, чем раньше.
В этом я вижу свою главную задачу.
Панарин придет через одиннадцать минут. Сейчас он во дворе, возится со своими черепахами. Даже сегодня.
Идея типично панаринская. Как утверждает ВВ, она подсказана ему седьмой памятью. "Правда, - сказал он, - пятая память считает, что это бредок. Но мне лично нравится логика идеи".
На первый взгляд действительно все просто. Раздражая электрическими импульсами определенные участки мозга, удается оживить забытое, создать полную зрительную и слуховую иллюзию прошлого. Это знали давно. Знали и другое: то, что видит птица или рыба, можно методом биотокового резонанса передать человеку. Изюминка панаринской идеи в том, чтобы "транслировать" человеку зрительную память долгоживущих животных. Панарин отобрал трехсотлетних черепах и пытается заставить их вспомнить то, что они видели за свою долгую жизнь…
Пока из этого ровным счетом ничего не получается. Но ВВ настойчив. Он и сегодня, "подключившись" к очередной черепахе, перебирает бесконечные комбинации импульсов.
А вот что сейчас делает Витовский, я не знаю. Вряд ли он в лаборатории. Там все готово со вчерашнего дня. О чем думает в эти минуты Витовский?
Быть может, он, сняв очки, смотрит на тундру, на небо?
Я видел мир гиперзрением всего лишь несколько минут. Но это врезалось в память навечно. Не верю, что это можно забыть.
Ошеломляет уже сам момент перехода. Такое впечатление было бы у человека, уткнувшегося носом в допотопный телевизор, если бы маленький экран внезапно превратился в огромную стереопанораму современного объемного и цветного кино.
Угол зрения резко увеличился, и все, что я увидел через это распахнутое в мир окно, было ясным до мельчайшего штриха, до тончайших цветовых оттенков. Как будто кто-то протер запылившуюся картину, вынес ее из полутемного подвала, установил в светлом зале - и вспыхнули, заиграли живые краски.
С крыши клиники я видел далекое озерцо: сквозь хрустальной чистоты воду можно было различить каждую трещину каменистого дна. В небе, в солнечном небе, горели ярко-зеленые полосы полярного сияния. За три-четыре минуты я увидел и пестрых турухтанов, полярных петушков, затеявших драку в болотной траве, и аккуратные норки леммингов, и грибы возле карликовых березок. Деталей было безмерно много, я мог бы пересчитать даже лепестки мака на далеком кусте, но мир воспринимался как целое…
Нет, я не успею рассказать об этом.
Через две минуты Панарин будет здесь.
И еще одно: _Я не сирота_.
Панарин ошибся. Не знаю, как это ускользнуло от его внимания.
Ей двадцать четыре года. Она геофизик. Сейчас она где-то в тайге.
Что ж, я только первый. Пройдет несколько лет, в само понятие возраста дрогнет, расколется, обратится в прах.
Остались секунды.
С почти физически ощутимой остротой я хочу понять: какие же горы своротят победившие время люди?..
Игорь Росоховатский. Каким ты вернешься?
Дочке Маринке посвящаю
Нет, ее поразили не слова - слов девочка не могла точно вспомнить: кажется, спросил, почему она плачет. Но голос… Он звучал совсем не так, как другие… И такой ласковый, что она заплакала сильнее. Словно сквозь мокрое стекло заметила его озабоченную улыбку. Девочке показалось, что она ее уже видела очень давно. Вот только вспомнить не могла…
– Тебя кто-то обидел?
Девочка отрицательно покачала головой. Он поспешно добавил:
– Я не собираюсь вмешиваться в твои дела. Просто мне скучно гулять одному. А тут вижу: ты идешь да еще плачешь…
Девочка недоверчиво улыбнулась. Мокрое стекло перед ее глазами начало проясняться.
Она вспомнила, как учитель сказал: «Вита Лещук, ты виновата и должна извиниться перед Колей».
Она тогда упрямо закусила губу и молчала. «Ну что ж, ты не поедешь на экскурсию. Побудешь дома, подумаешь». Не могла ведь она рассказать, как было на самом деле. Вита Лещук не доносчица.
Пусть уж лучше ее наказывают…
– Послушай, девочка, я-то знаю, что виновата не ты, а Коля. «Знает? Но откуда?»
– Послезавтра я лечу на день в Прагу. Хочешь со мной?
Девочка вздрогнула, остановилась. Тоненькая и легкая, с пушистыми волосами, она сейчас до того была похожа на одуванчик, что хотелось прикрыть ее от ветра.
«Послезавтра наш класс летит в Прагу, а меня не бе-рут…»
Вита подняла голову и внимательно посмотрела на незнакомца. Он был высокий, с несуразно широкими плечами, нависающими как две каменные глыбы. Может быть, поэтому он немного горбился.
На треугольном лице с мощ-ным выпуклым лбом все угловатое, резкое. Даже брови напоминают коньки «ножи». А глаза добрые и тревожные.
– Проводить тебя немного? - И быстро добавил: - А то мне одному скучно.
Вита молчала, и он снова заговорил:
– Я расскажу тебе свою историю - может быть, ты захочешь мне помочь…
Против этого девочка устоять не могла:
– Хорошо, рассказывайте.
Медленно пошла дальше, покровительственно поглядывая на него. И он шел рядом, пытаясь приспособиться к ее шагам.
– Видишь ли, в Праге у меня очень много дел. Все их за день одному ни за что не переделать. А если ты согласишься полететь со мной и хотя бы выполнишь мое поручение на фабрике детской игрушки, я справлюсь с остальным. Ну как, согласна?
– Надо еще спросить разрешения у мамы и бабушки,- сказала Вита.
И незнакомец почему-то обрадовался;
– Конечно. И поскорей,
– Мой дом уже близко.
Она настолько прониклась доверием к спутнику, что перед эскалатором подала ему руку. Здесь было очень оживленно. Незнакомец так стиснул ее руку, что девочка вскрикнула.
– Извини, Вита.
«Откуда он знает мое имя? Почему ничего не говорит о себе? Как его зовут?»
– Пора и мне представиться,- тотчас произнес он.- Меня зовут Валерий Павлович. По профессии я - биофизик. Сейчас в отпуске. Но он кончается.
Некоторое время они ехали молча, И каждый раз, переходя с эскалатора на эскалатор, Валерий Павлович брал Виту за руку. Его пальцы были сухими и горячими, как будто он болен и у него высокая температура.
Когда подошли к Витиному дому и дверь автоматически открылась, Валерий Павлович на миг задержался у порога, словно не решаясь входить… 2 Их встретила мать Виты - маленькая круглолицая женщина с такими же, как у дочери, пушистыми рыжими волосами. Она изумленно уставилась на незнакомца:
– О, у нас гости!
Женщина присмотрелась к Валерию Павловичу, и ей начало казаться, что она его не раз видела. Но когда? Где?
– Ксана Вадимовна,- представилась женщина.
– Валерий Павлович,- и сразу же отвел глаза. «Где я его видела?» - пыталась вспомнить женщина.
Сначала ей показалось, что это кто-то из сослуживцев му- жа. Но тогда бы она его помнила, как помнит всех, кто имел отношение к Антону, к ее Анту. За эти несколько минут она изрядно потормошила память, но ничего не добилась. А когда успокоилась, память сама легко, как вода, соломинку, вытолкнула наверх воспоминание. Фойе театра. Выставка картин молодых художников.
Она тянет мужа за руку: «Ант, да пошли же! Третий сигнал!» А он смотрит на картину, написанную звучащими красками. На ней из тьмы выплывает лицо с заостренными чертами, яростно устремленное вперед. Ант сказал ей тогда: «Вот каким мне бы хотелось быть». Жена искоса взглянула на его полное доброе лицо с чуть оттопыренной губой и улыбнулась про себя: «Мальчишка!» А теперь она видит перед собой тот же портрет, но оживший,
«Может быть, художник писал его именно с этого человека? Невероятно…»
– Мама, а меня Валерий Павлович приглашает с собой в Прагу! - не замедлила сообщить девочка.- Он летит туда в тот же день, что и наш класс.
– Вот вы там и увидитесь,- сказала Ксана Вадимовна, не вдумываясь в слова дочери. Она смотрела на гостя и думала: «Как будто сошел с того портрета. Это лицо… Его мне уже не забыть. Только теперь я, кажется, понимаю, что нашел в нем Ант. Но оно слишком подвижно: так быстро меняет выражения, что их невозможно уловить…»
– Мама! - нетерпеливо напомнила о себе девочка.- На экскурсию меня не берут, если не извинюсь перед Колей.
– Что случилось?
– Я ударила его.
– И не хочешь извиниться?
– Ни за что! Он сказал, что герои - дураки, а трусы - умные. И что их называют по-другому потому, что это выгодно другим.
– Надо было объяснить,- попыталась успокоить дочь Ксана Вадимовна.
– Кому? Кольке? - Девочка сказала это так выразительно, что мать невольно улыбнулась, а потом ей пришлось хмурить брови, чтобы показать, что она осуждает дочь.
– Несчастный человек ваш Коля. Жизнь у него будет неинтересная, если он не изменится,- проговорила, входя, пожилая, но еще крепкая женщина с цыганскими глазами. Ее короткие черные волосы были так причесаны, что казались растрепанными.- Я - Витина бабушка,- сказала она гостю и опять обратилась к Вите: - Наверное, над ним следовало просто посмеяться.
Она многозначительно кивнула гостю, показывая, что за всем этим скрывается еще кое-что невысказанное. Но Ксана Вадимовна нетактично спросила:
– Это ты из-за отца?
Девочка напряглась, как струна.
– Мама права. В таких случаях лучше не примешивать личного,- поспешил Валерий Павлович то ли объяснить что-то девочке, то ли выручить Ксану Вадимовну.
Вита подчеркнуто отвернулась от гостя.
«Этого она еще не поймет,- с сожалением подумал он.- До этого еще слишком много синяков впереди».
– Вот видишь, доченька…- попыталась начать повое наступление Ксана Вадимовна, но Вита решительно тряхнула головой:
– Я не извинюсь перед ним. Ни за что!
– И не надо,- неожиданно поддержала ее бабушка.- То, что мы тебе сказали,- это на будущее.
Ксана Вадимовна пожала плечами и вышла из ком-паты.
Вита украдкой посмотрела на гостя: как он реагирует? Все-таки ей очень хотелось поехать в Прагу. Гость сидел в кресле сгорбившись, опустив голову. Но Вита видела, что его глаза улыбаются.
– Прошу всех к столу! - послышался голос Ксаны Вадимовны.
Они прошли в столовую, где на пультах перед каждым креслом горели лампочки синтезаторов.
– Я уже ввела программу. Оцените мое новое меню,- сказала Ксана Вадимовна гостю.
– Спасибо, но я не хочу есть,- отчего-то смутился он.
– Ну немножко, немножко, только попробуйте. Прежде чем Валерий Павлович успел опомниться, перед ним оказалась тарелка с салатом. Люк синтезатора был еще открыт, значит, сейчас появится еще одно блюдо. Но тут длинный палец гостя нажал на стоп-кнопку. Индикатор погас. Ксана Вадимовна удивленно повернулась к Валерию Павловичу. А он как-то уж очень беспомощно развел руками и проговорил:
– Но я совсем не хочу есть.
Бабушка, не отрывая от него своих быстрых антрацитовых глаз, нахмурила брови. По ее лицу было видно, что она о чем-то напряженно думает.
Валерий Павлович скользнул по ней взглядом. «Надо ей помочь. Пожалуй, это неплохой выход для всех нас». И он подсказал ей мысленно; «Да, ты не ошибаешься. Именно поэтому я кажусь вам странным, именно поэтому мне не нужно есть».
– Извините,- обратилась бабушка к гостю и повернулась к Ксане.- Можно тебя на минутку?
Поможешь мне… (Последняя фраза была сказана специально для гостя.) Женщины вышли в другую комнату, и здесь бабушка. с упреком произнесла:
– Не приставай к нему. Разве ты еще не поняла?
– Что я должна понять?
– Ты не заметила в нем ничего необычного?
– Какой-то он странный…
– «Странный»…- протянула бабушка.- Это нам он кажется странным. А мы ему?
Ксана Вадимовна непонимающе пожала плечами. Ее жест означал; всегда ты что-нибудь придумаешь…
Бабушка посмотрела на нее долгим раздумчивым взглядом, покачала головой: «И как вы только уживались с Антоном такие разные?» В ее памяти тотчас появился сын. Стоило тихонько позвать - и он всегда приходил, и она могла с ним беседовать. Но сейчас она не звала, а он все равно пришел. Удивительно. Возможно, никто другой не нашел бы здесь ничего удивительного, но мать знала: что-то случилось. А что могло случиться, когда Антон погиб три года назад? Значит, что-то еще должно случиться…
Она с тревогой подумала о Вите. Можно ли ее отпускать вдвоем с этим?.. В ее голосе сквозило раздражение, когда она сказала невестке:
– Неужели ты не догадалась, что это синтегомо, сигом. Так, кажется, их назвали. Ты ведь видела таких существ недавно по телевизору. Говорили: «Первый шаг в будущее человечества, великий эксперимент» и еще разное…
Ксана Вадимовна вспомнила, выругала себя: как же сразу не признала? Этот мощный лоб, глыбы плеч, в которых, наверное, спрятаны какие-то дополнительные органы. Человек, синтезированный в лаборатории. Сверхчеловек по своим возможностям. И все-таки и тогда и теперь она воспринимала сигома скорее как машину, чем как человека. Читала, что эти предрассудки сродни расовым, глупое человеческое высокомерие, умом понимала, а сердцем не могла принять. Возмущалась, когда услышала, что уже многие из первых сигомов станут врачами. Думала: «Какой же это человек согласится, чтобы его исследовал сигом? А если тот решит, что слабое создание недостойно жизни? Бедняги сигомы - им не так-то просто будет заполучить первых пациентов…»
И вдруг сигом у нее в гостях! Ну конечно же, ему не нужна еда - он ведь заряжается через солнечные батареи и еще какие-то устройства, энергию копит и хранит в органах-аккумуляторах.
Но что ему здесь понадобилось?
Ей стало не по себе, когда вспомнила: он хочет, чтобы Вита ехала с ним в Прагу. Может быть, он замышляет ее исследовать, как подопытное животное?
– Никуда Вита с ним не поедет! - решительно сказала Ксана Вадимовна свекрови.
– Но какие у нас основания не доверять ему? И девочку обидим,- ответила свекровь. И в то же время она думала: «Может быть, так лучше. Ведь не зря у меня появилось предчувствие…»
– Ты всегда любишь возражать, мама,- с упреком проговорила Ксана Вадимовна.
Свекровь ничего не ответила. «Так, конечно, вам спокойнее. Но как об этом сказать Вите?»
Они вернулись в столовую, делая вид, что ничего не произошло.
Гость бросил на них быстрый взгляд.
«Неужели он что-то заметил?» - подумала старшая из женщин и вспомнила: у сигома ведь есть телепатоусилите-ли. Он воспринимает и свободно читает психическое состояние мозга. Сигомы могут переговариваться между собой на огромных расстояниях с помощью телепатии. Значит, Валерий Павлович знает и то, о чем они говорили и о чем думают. Но почему же в таком случае он не внушил им мыслей, нужных для свершения его замыслов?
Ее уверенность в правильности решения поколебалась. Свекровь испугалась: а если это сомнение внушает он? Посмотрела на гостя, ожидая встретить тяжелый, недобрый взгляд. И была готова броситься в бой со всей страстностью и ожесточением. Но Валерий Павлович смотрел не на нее, а на Виту. Острые черты его лица, похожего в профиль на выщербленную пилу, смягчились и сгладились. И хоть около улыбающихся глаз не собирались морщинки, сейчас его лицо уже не казалось таким странным. Он смотрел на девочку-одуванчик и улыбался ей. И девочка отвечала ему тем же. 3 - Ты уже большая, должна сама понимать,- начала Ксана Вадимовна почти сразу же после ухода гостя.
И Вита все поняла.
Она умоляюще взглянула на бабушку. Но та повернула голову к окну, делая вид, что внимательно что-то рассматривает.
– Мама! - с упреком воскликнула Вита.- Почему ты не разрешаешь? Чем он тебе не понравился?
Ксана Вадимовна несколько растерялась:
– Он не человек, девочка. Он - сигом. Помнишь, их показывали по телевизору?
– Ну и что же? - спросила девочка с таким видом, будто знала об этом раньше и не придавала значения.
– Неизвестно, с какой целью он тебя приглашает,- попыталась объяснить свой запрет Ксана Вадимовна, но Вита даже руками возмущенно всплеснула:
– Мама, помнишь? Я рассказывала, что некоторые наши девочки говорят, будто сигомы опасны. Ты тогда объясняла, что они повторяют слова глупых и отсталых людей. А теперь говоришь другое…
«Она покраснела, кажется, от стыда за меня»,- поду-мала Ксана Вадимовна и взглядом попросила свекровь о поддержке.
А та не замедлила прийти на помощь:
– И все-таки он не человек,. Вита. И мы не можем проникнуть в его замыслы.
– Он хороший,- убежденно сказала девочка.- И чего вы на него напускаетесь? Если бы жив был папа…
Ее губы уже кривились и подбородок дрожал. А глаза смотрели с вызовом.
И невольно Ксана Вадимовна снова вспомнила о портрете, который так понравился покойному мужу.
А теперь существо, будто сошедшее с портрета, пришлось по душе дочери. Случайно ли это? 4 - Мы полетим на гравилете? - спросила Вита и поспешила добавить: - А то я уже летала на всех атмосфероаппаратах, кроме гравилета.
– А тебя на руках носили? - спросил Валерий Павлович.
Ее ресницы настороженно приподнялись, как крылья птицы, готовой взлететь при малейшем шорохе.
– Когда был жив папа…
Но еще раньше, чем услышал ответ, сигом понял, что ошибся, причинил боль.
– Я понесу тебя до Праги,- сказал он.
– Ладно,- согласилась Вита. Сначала она подумала, что это игра, а потом вспомнила, что рассказывал учитель о сигомах. Она никогда не думала, что у кого-нибудь еще, кроме отца, может быть такая ласковая и сильная рука.
Валерий Павлович бережно поднял девочку, как поднимают одуванчик. Откуда-то из плеч сигома забили две струи, окутывая и его и Виту прозрачной упругой оболочкой.
Девочка увидела, как отдаляется зеленая земля, как навстречу, похожие на журавлиные ключи, несутся цепочки перистых облаков. Она представила, как обычно сигом летает здесь один, врезаясь в облака, и они накрывают его вот такой же холодной белой мглой. Ей стало жалко сигома: «Такой могучий и такой одинокий». И она сказала:
– Большое, большое вам спасибо. Без вас я бы никогда не смогла так летать.
Она почувствовала приятную теплоту на голове, как будто кто-то опустил руку и ворошит ее волосы.
– Посмотри вниз, Вита!
Под ними проплывали цепи холмов. Их покрывал туман, и только меловые вершины, как маски, выглядывали из него.
– Будто в сказке,- сказала девочка, и по ее голосу угадывалось, что она всегда готова к встрече с чудесами.
– А в космос вы тоже могли бы вот так полететь? - спросила она.
– Могу,- ответил сигом.
– А что вы еще можете необычного? Он улыбнулся и задумался.
«Почему взрослым так трудно иногда отвечать на наши вопросы? Наверное, потому, что они думают, будто все знают»,- подумала Вита и, чтобы помочь Валерию Павловичу, спросила:
– А на дно моря тоже можете пронырнуть?
– Да.
Он думал одновременно о девочке, о ее маме и бабушке, о себе, о том, что ему предстоит:
Я несу ее на своих руках, но она мне нужна больше, чем я ей Даже мои создатели не подозревали, как она мне будет нужна.
Труднее всего пришлось бы им А сейчас? Как они волнуются, подозревая меня в преступных замыслах! А ведь им еще предстоит узнать правду.. Смогут ли они понять?
Разгона не нужно. Скорость возникает сразу, как вспышка света. Только так можно перескочить барьер.
«Люди всегда движутся через барьеры. И то, что они живут,- уже преодоление барьера. И особенно то, что они сумели создать нас. Пожалуй, это самый большой барьер, который они одолели. А у нас впереди свои барьеры. Но нам легче, чем им, хоть мы и пытаемся помочь, подставить плечо под их ношу. Они нам дали то, чего сами были лишены: всемогущество и бессмертие, а мы им - только надежду. И сейчас эта девочка отдает мне свою ласку и восторг, а что я дам взамен? И нужно ли это ей?»
Вопросы, на которые он не находил ответа… Ответ должна была дать девочка, раз ее мать и бабушка не смогли сделать этого.
– А вы можете пронырнуть сквозь время? Нам говорил учитель… Знаете, я бы тоже могла, если бы только у меня были такие органы. И я бы сначала пронырнула в прошлое, года на четыре назад…
Он понял: она открывает ему самый сокровенный свой секрет. Она говорит неопределенно «года на четыре», но думает точно: «На четыре года». Тогда был жив ее отец.
Сигом почувствовал, что его волнение все растет и мешает думать. Он мог расшифровать свое состояние, разобрать все нюансы, слившиеся в один поток, мощный, недоступный обычному человеку, у которого в сотни раз меньше линий связи и чувства беднее в сотни раз. Такой порыв сломил бы его, как буря сухое дерево. Но сигом не расшифровывал потока. Он включил стимулятор воли, и ему показалось, что он слышит затихающий грозный клекот в своем мозгу…
– Угадайте, что это такое.
Рука девочки показывала вниз, на зеленую щетину леса.
Он хотел сказать «лес», но вовремя уловил загадочный блеск ее глаз и произнес полушепотом:
– Зеленый зверь-страшилка.
Она с восторженным удивлением посмотрела на него, как бы говоря: вы такой догадливый, словно и не взрослый вовсе. С вами интересно разговаривать. И спросила:
– А он злой?
– Нет, он только притворяется. В самом деле он очень добрый.
– Верно,- подтвердила она и впервые посмотрела на него не покровительственно и не восхищенно, а так, как смотрят на равного, на друга.
– Гляди, вон и Прага на горизонте.
Там, куда он показывал, лежала алмазная подкова. Это сверкали новые районы лабораторий. Когда подлетели поближе, стало видно, что подкова состоит из двух частей - наземной и воздушной.
Многие здания-лаборатории пари-ли в небе, поднятые на триста - пятьсот метров. Здесь были все геометрические фигуры: здания-ромбы и шары, кубы и треугольники. Они встретили нескольких людей. перелетавших от лаборатории к лаборатории. Кто-то помахал им рукой и долго смотрел вслед.
А внизу уже распростерлась старая Прага-музей с иглой старомястской ратуши и резными шпилями собора в Градчанах. Сигом с Витой приземлились на площади как раз перед ратушей.
– Сейчас будут бить старинные часы, и ты увидишь апостолов,- сказал сигом.
– А что такое апостолы?
– Игрушечные человечки. Они покажутся вон в том окне.
Апостолов по требованию Виты смотрели два раза. А потом прошли по Карлову мосту через сонную Влтаву. У каждой статуи девочка останавливалась и наконец заключила:
– Когда-то больше любили кукол.
– Да,- серьезно проговорил сигом.- Тогда взрослые тоже играли в кукол.
Они остановились перед знаменитой фабрикой игрушек, и сигом сказал:
– Ты пока посмотришь фабрику, а я ненадолго отлучусь и вернусь за тобой. 5 Сигом вернулся раньше, чем предполагал, хотя орган-часы в его мозгу показывал, что он нерационально тратит время. Сигом не пытался оправдаться перед собой, зная, что не может поступать иначе. Он думал о Вите, вспоминал, как она спрашивала: «А можете?» На фабрике ей предложат выбрать себе игрушку. И сигом догадывался, какую она выберет.
Робот-швейцар проводил его к Главному конструктору игрушек - веселому стройному человеку, одетому в спортивный костюм. Он сидел на маленьком стульчике для посетителей, а около его глубокого старинного кресла стояла Вита.
Сигом видел ее сейчас в профиль: разгоревшаяся щека, облако пушистых волос, любопытный глаз.
– А вот и за мной пришли,- сказала она Главному конструктору, увидев сигома.
Одну руку подала ему, а второй прижимала к груди пластмассовую коробку.
– Угадайте, какой подарок я выбрала,- предложила Валерию Павловичу и заговорщицки подмигнула Главному конструктору.
– Трудно,- сказал сигом и попытался нахмурить лоб, но это у него не получалось - кожа из пластбелка не собиралась морщинами.- Может быть, ты мне поможешь?- И, не ожидая ответа Виты, спросил: - Из старых или из новых?
– Из новых.- Ее глаза говорили: «Ты хитрый».
– Машина или существо?
– Существо.
«Я не ошибся»,- думал Валерий Павлович, вспоминая куклу-сигома, новинку пражской фабрики.
Кукла умела сама ходить, выговаривала несколько слов, пела. В ее лоб был вделан маленький прожектор, прикрытый заслонкой.
«Глядя на куклу, она будет вспоминать меня».
Он спросил:
– Это существо похоже на меня?
– Немножко,- лукаво сказала девочка.
– Может быть, это кукла-сигом? - сказал он медленно, будто раздумывая.
– Вот и не догадались!
Вита раскрыла коробку. Там лежали две чешские куклы - папа Шпейбл и Гурвинек.
– Но ты же сказала, что игрушка - из новых моделей.
– Я правду сказала: папа Шпейбл играет, а Гурвинек танцует. Раньше таких не было.
Сигом и Вита попрощались с Главным конструктором. Они вышли из его кабинета, прошли через выставочный зал. Уже у самого выхода сигом задержался, спросил у Виты:
– А ты не хочешь еще и ту куклу, которую я называл?
Девочка отрицательно покачала головой.
– Ты не будешь вспоминать обо мне?
– А при чем же та кукла?
– Она похожа на меня.
– Нет,- сказала девочка.-Кукла-это кукла. А вы- это вы.
Она вприпрыжку побежала к двери.
– Не так быстро, Винтик, упадешь!
Девочка замерла, прижалась к двери. Не решалась обернуться, взглянуть на сигома. Он сказал «Винтик». Но так называл ее только один человек - папа. Что же это такое?
Сигом подошел к ней, опустил руку на плечо, притянул к себе. Так в обнимку они вышли - гигант с массивными плечами и девочка-одуванчик. Вопросы бились в голове Виты, как птицы, но она ни о чем не спрашивала.
Они прошли по старинной набережной над Влтавой, и Вита старалась не наступать на большую тень сигома. Листья шуршали под ногами, как пожелтевшая бумага, как обрывки чьих-то писем, которые не дошли по адресу.
Вот и Вацлавская площадь. Сигом что-то объяснял девочке, рассказывал о короле Вацлаве, но она не слушала, занятая своими мыслями. Внезапно подняла голову, глядя ему в глаза, спросила:
– Когда у вас кончится отпуск?
– Через два дня.- Он понял, к чему она клонит, и сказал, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже: - Я и потом буду прилетать к тебе.
– Честное мужское слово, да?
Она испытующе смотрела на него - серьезная маленькая женщина, которая не прощает лжи. И она доверила ему то, о чем не говорила никогда никому:
– Мой папа всегда выполнял то, что говорил. Но однажды… Когда он уходил на Опыт, то обещал вернуться…- Она отвернулась.- Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я плакса. Но у других есть папы…
Он боялся посмотреть в ее глаза, знал, какие они сейчас. А девочка изо всех сил прижалась к нему и бормотала:
– Он обещал вернуться.
Сигом почувствовал, что больше никакими переключениями стимулятора воли не удастся сдержать ком, подступивший к горлу. Словно что-то сломалось в нем, какая-то незаменимая деталь - и третья и четвертая сигнальные системы, и даже система Высшего контроля были бессильны перед этим. Он опять на мгновение стал тем, кем был когда-то давно, до смерти,- обычным слабым человеком. Из его губ вырвалось:
– Я сдержал слово, Винтик.
– Папа…
– Я тебе потом объясню…
– Папа!!!
Сильный порыв ветра взъерошил волосы девочки, вздул пузырем ее платьице. Пушистые волосы щекотали губы сигома. Он хотел что-то объяснить девочке, но подумал: «Она не поймет. Да я и сам не мог бы определить, сколько во мне от Анта и сколько нового. Сказал ли я ей правду?» 6 - Ант,- шепнула женщина.
Он повернул к ней лицо, и она увидела, что в его глазах нет и следа сна.
– Ты не спал всю ночь?
– Мне не нужен сон. Я ведь не устаю. «Что в нем осталось от того, которого я любила?» - думала женщина. Сказала совсем другое:
– Ты мне кажешься высшим существом, каким-то древним богом.
Сигом улыбнулся, и она убедилась, что Вита не ошиблась: это была улыбка прежнего Анта.
– Если тебе приятно, то все в порядке, «И слова прежнего Анта…» Он добавил:
– Я ведь и мечтал стать таким. «Что же в нем осталось от того, которого я любила?» Погладила его горячее плечо - плечо того Анта никогда не было таким горячим,- сказала:
– Мне кажется, будто это ты и не ты… И наконец решилась:
– Что же в тебе осталось от прежнего?
– Ты ведь только что сама ответила на этот вопрос. Он знал, что ей тяжело: в его возвращении она видит что-то кощунственное. И она и мать мучаются, пытаясь ответить на вопросы, которые не нужно задавать. И только Вита сразу радостно приняла все таким, как есть: для нее главное, что он вернулся.
Сигом сделал то, что неоднократно запрещал себе,- включил телепатоусилитель и тут же его выключил. Затем проговорил, отвечая на невысказанный вопрос Ксаны:
– Я мог бы вернуться и прежним - точно таким, каким был до смерти. Ведь опыт предстоял очень опасный, и мой организм записали на фиоленты. Им проще было бы восстановить его по матрице.
– Тогда почему же…
– Когда я очнулся, показалось: сплю. Потом услышал знакомый голос. Профессор Ив Кун позвал меня по имени. Я хотел повернуть голову, но не мог, хотел взглянуть на Ива - тоже не мог. Ив спросил: «Ант, ты меня слышишь, отвечай!» Я ответил, что слышу, но не вижу. И он сказал:
«Сейчас объясню. Ты погиб. И Олег тоже. Вспомни». Я снова увидел, как Ол передвинул рычаг - и сверкнула молния… «Вспомнил?» - «Да»,- ответил я. Ив рассказал, что они начали восстанавливать нас. Первый этап. Оказалось, что я пока - только модель мозга Анта, созданная в вычислительной машине. Ив говорит: «У тебя есть органы речи и слуха, но еще нет зрения. И, перед тем как приступать ко второму этапу, хочу спросить…» Я уже знал, о чем он спросит. Ведь еще когда был создан первый сигом, я высказался достаточно определенно. И потом мы не раз говорили об этом, и он знал, каким бы я хотел быть. Он просто уточнял, все ли остается неизменным…
Ксана приподнялась, опершись на локоть, внимательно наблюдала за его лицом, которое теперь уже не казалось ей чужим.
«Чему я удивляюсь? Он всегда был таким,- думала она.- Мы всегда плохо понимали друг друга. То, что мне и другим казалось кощунственным, для него было обычным и ясным. Пойму ли я его когда-нибудь?» Она спросила, хотя и знала заранее, что опять не поймет его:
– Но почему ты хотел быть таким, а не прежним? «Я не могу ей сказать всего,- подумал он.- Это бы оскорбило и опечалило ее и любого такого же человека, как она».
– Мне нужно было поставить Опыт, а в прежнем облике я не мог этого сделать. Не хватало ни объема памяти, ни быстроты мышления, реакций, ни органов защиты и контроля. У меня было только две сигнальные системы, а теперь их у меня пять. И еще система Высшего контроля.
Сигом вспомнил, как когда-то давно - тогда он был человеком - на спутнике погибал его друг, прижатый обломком радиотелескопа, а он не мог прийти на помощь, не мог поднять руки. У него шла носом кровь, в голове как будто скрежетали жернова, размалывая память. Он проклинал свою слабость и это дьявольское вихревое вращение, возникшее по неизвестной причине. Сквозь скрежет жерновов пробивался вопль: «Помоги!» Потом затих…
Сигом провел рукой по волосам Ксаны, по ее щеке, по шее. Пальцы наткнулись на морщины. Он вспомнил, как она всегда панически боялась старости. Боль проникла в его сознание, он взял руку Ксаны и осторожно сжал.
– О чем ты думаешь? - спросила она.
– О тебе.
Он думал:
И она спрашивает, почему я решил стать другим. Вся беда в том, что ей нельзя объяснить - надо, чтобы она почувствовала. А это почти невозможно. Конечно, я мог бы включить усилители и внушить ей. Но я ведь запретил себе в отношениях с людьми использовать преимущества перед ними. И правильно сделал. С ними я должен быть человеком - ни больше и ни меньше. В этом все дело…
Мать, наверное, уже встала. Поймет ли она? Когда-то я рассказывал ей, что лимиты человеческого организма исчерпываются раньше, чем мы предполагали; что если человек хочет двигаться вперед, ему придется создать для себя новый организм - с другим временем жизни и возможностями Она соглашалась со мной. Но тогда я был прежним Антом.
За три минуты до начала Опыта придется переключить систему Высшего контроля только на энергетическую оболочку. Важно еще все время контролировать температуру в участке «Дельта-7»…
– Поедем сегодня к морю? - спросила женщина, с замиранием сердца ожидая, что он ответит.
Прежний Ант очень любил море.
– Замечательно придумала,- ответил сигом.- Я понесу тебя. Помнишь, на Капри ты просила, чтобы я понес тебя в воду, а то ты боишься замочить ноги?
Впервые за эти два дня, с тех пор как она узнала правду, ей стало по-настоящему легко, будто все страшное уже позади. И она пошутила:
– Ты понесешь всех троих, всех твоих женщин? До самого синего моря?
– Конечно,- сказал он,- Я домчу вас по воздуху быстрее гравилета.
– А знаешь, сколько мы весим втроем? - продолжала Ксана, думая, что он тоже шутит.
– Во всяком случае меньше тысячи тонн…
– А ты можешь переносить тысячу тонн?
– Да. И больше,- ответил сигом, и она поняла, что он не шутит. Он опять стал для нее чужим, Ксана замолчала, невольно отодвинулась.
Прозвучал мелодичный звонок, «Вита»,- подумал сигом и радостно улыбнулся.
– Войдите, если не Бармалей! - воскликнул он, закрыв лицо руками и растопырив пальцы.
– Папка! Папка! Ты опять за старые шутки! Но мне ведь уже не три года,- запрыгала Вита и погрозила ему, Сигом услышал голос матери:
– Доброе утро, дети!
Она вошла своей быстрой молодой походкой, и Ксана пытливо смотрела на нее: «Неужели она ни разу не задумалась над тем, что же в этом существе осталось от ее сына? Неужели ей легче, чем мне?»
– Мама,- сказал сигом,- мы с Ксаной договорились: сегодня все вчетвером летим к морю.
– Ура! - закричала Вита и обеими руками обняла шею сигома. Ее глаза блестели от восторга.- И ты понесешь нас, как тогда меня? Идет?
– А ты будешь послушной? - спросил сигом.
– Не буду!
– За правдивость наперед снимаю половину вины,- торжественно проговорил сигом и почувствовал руку Кса-ны на своем плече.
– Хватит баловаться, Ант. Как маленький… 7 Прошло два дня…
– Мне пора.
«Что еще сказать им? - думал сигом, не глядя на мать.- Только бы она не заплакала…» По небу тащились гривастые тучи.
– Ты скоро вернешься? - спросила Вита.
– Да.- Добавил: - Честное мужское слово. Никто не улыбнулся.
«Что сказать матери? Ей тяжелей всего…» Ничего не мог придумать.
Тучи тащились по небу бесконечным старинным обозом…
– До свидания, сын. Желаю тебе успеха во всех делах, Ее голос был спокойным, и слово «сын» звучало естественно. Он понял, что мать приняла его таким, как есть, и не терзалась вопросом: что осталось в нем от того, кого она родила? Мать не смогла бы постигнуть его превращения логикой, не помогла бы ей эрудиция. Что же ей помогло?
«Пожалуй, это можно назвать материнской мудростью,- подумал он.- Оказывается, я не знал своей матери».
– До свидания,- сказал сигом, обнимая всех троих и уже представляя, как сейчас круто взмоет вверх, пробьет тучи и полетит сквозь синеву.
– Будь осторожным, Ант,-робко попросила Ксана.- Ты отчаянный. Ты опять…
Не договорила. И это невысказанное слово повисло между ними, как падающий камень, которыи вот-вот боль-но ударит кого-то…
Ксана боится за меня, как и тогда. Она даже забыла, что я стал неуязвимым. Значит, я для нее - прежний Ант…
Смерть… Когда-то мы так свыклись с этим несчастьем, что оно казалось неотделимым от людей. Но и тогда мы боролись против нее. Мы сумели обессмертить голоса на пластинках и магнитных лентах, облик - в скульптуре, портретах. Мы создали бессмертную память человечества в книгах и кинофильмах… Так мы научились понимать, что же в нас главное и что нужно уберечь от смерти…
Ант улыбнулся, будто поймал слово-камень и отбросил его прочь. Он сказал:
– Если я опять погибну, то опять вернусь…
ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ. КРЫЛЬЯ ГАРПИИ
Некоторые писатели полегают, что название должно скрывать смысл книги. У захватывающего приключенческого романа может быть скромный заголовок: "Жизнь Марта" или "В городе у залива". Пусть читатель разочаруется приятно. Скучным. же мемуарам разбогатевшего биржевика следует дать громкое название - "Золотая рулетка" или "Шепот богини счастья". А иначе кто же будет их покупать?
Эта повесть названа "Крылья Гарпии". Естественное название, соответствующее содержанию, оно само собой напрашивается. Конечно, можно было бы озаглавить ее "Крылья любви", но это напоминало бы мелодраматический кинобоевик. Если же в заголовке стояло бы просто "Крылья", люди подумали бы, что перед ним" записки знаменитого летчика или же сочинение по орнитологии.
После заголовка самое важное - вводная фраза. Она должна быть как удар гонга, как отдернутый занавес, как вспышка магния в темноте. Нужно, чтобы читатель вошел в кнггу, как выходят с чердака на крышу, и увидел бы всю историю до самого горизонта. Как это у Толстого: "Все смещалось в доме Облонских". Что смешалось? Почему? Какие Облонские? И уже нельзя оторваться. Вводная фраза должна быть…
Но, кажется, давно пора написать эту фразу.
На четвертые сутки Эрл окончательно выбился из сил. Он, горожанин, для которого природа состояла из подстриженных газонов и дорожек, посыпанных песком, четверо суток провел лицом, к лицу с первобытным лесом. Эрл не понимал его зловещей красоты, боялся дурманящего аромата, лиан, хватающих за рукава, трухлявых стволов, предательски рассыпающихся под ногами. При каждом шаге слизистые жабы выскакивали из-под ботинок, под каждым корнем шипели змеи, может быть, и ядовитые, в каждой заросли блестели зеленые глаза, возможно глаза хищника. Эрл ничего не ел, боялся отравиться незнакомыми ягодами, не спал ночами, прижимаясь к гаснущему костру, днем оборачивался на каждом шагу, чувствуя на своей спине дыхание неведомых врагов.
Ему, уроженцу кирпичных ущелий и асфальтовых почв, тропический лес казался нелепым сном, аляповатой безвкусной декорацией. Шишковатые стволы, клубки змееподобных лиан и лианрподобных змей, сырой и смрадный сумрак у подножья стволов, сварливые крики обезьян под пестро-зеленым куполом - все удивляло и пугало его. Он перестал верить, что где-то есть города с освещенными улицами, вежливые люди, у которых можно спросить дорогу, какие-нибудь люди вообще. Четвертые сутки шел он без перерыва и не видел ничего, кроме буйной зелени. Как будто и не было на планете человечества; в первобытный мир заброшен грязный и голодный одиночка с колючей щетиной на щеках, с тряпками, намотанными на ногу взамен развалившегося ботинка.
Всего четыре дня назад он был человеком двадцатого века. Лениво развалившись в удобном кресле служебного самолета, листал киножурнал с портретами густо накрашенных реснитчатых модны" звезд. Был доволен собой, доволен тонким обедом на прощальном банкете, и когда смолк мотор, тоже был доволен - тише стало. Внезапно пилот с искаженным лицом ворвался в салон, крикнул:
"Горим! Я вас сбрасываю". И ничего не понявший, ошеломленный Эрл очутился в воздухе с парашютом над головой. Дымные хвосты самолета ушли за горизонт, а Эрла парашют опустил на прогалину, и куда-то надо было идти.
Он шел. Сутки, вторые, третьи, четвертые. Лес не расступался, лес не выпускал его. Эрл держал путь на север, куда текли ручьи, надеялся выйти к реке, - хоть какой-то ориентир, какая-то цель. На второй день развалился правый ботинок, Эрл оторвал рукава рубашки и обмотал ногу, но почти тут же наступил на какую-то колючку; а может, это была змея. В траве что-то зашуршало и зашевелилось - то ли змея уползала, то ли ветка выпрямлялась. Эрл читал, что ранку полагается высасывать, но дотянуться губами до пятки не мог. Давил ее что было сил, прижег спичками, расковырял ножом. И вот ранка нагноилась - от яда, от козырянья, от спичек ли - неизвестно. Ступать было больно, куда идти неизвестно. Эрл смутно представлял себе, что океан находится где-то западнее, но никак не мог найти запад в вечно сумрачном лесу. Быть может, он никуда не продвигался, кружил и кружил на одном месте. Так не лучше ли сесть на первый попавшийся ствол и дожидаться смерти, не терзаясь и не бередя воспаленную ногу?
А потом забрезжила надежда… и надежда доконала Эрла.
Сидя на трухлявом бревне, он услышал гул, отдаленный, монотонный, словно гул толпы за стеной или шум машин в цеху. Толпа - едва ли, завод - едва ли, но может же быть лесопилка в джунглях, или автострада, или гидростанция - жизнь, люди! Собрав последние силы, Эрл поплелся в ту сторону, откуда слышался гул, а потом просочился и свет. Эрл оказался на опушке, у крутого из-. весткового косогора, упиравшегося в небо. Натруженную ногу резало, на четвереньках Эрл взбирался на кручу, переводя дух на каждом шагу, взобрался, поднялся со стоном и увидел… водопад! И без гидростанции! Гудя, взбивая пену, крутя жидкие колеса и выгибая зеленую спину над скалистым трамплином, поток прыгал куда-то в бездну, подернутую дымкой, сквозь которую просвечивали кроны деревьев.
И обрыв был так безнадежно крут, а даль так беспредельно далека, что Эрл понял - никуда он не уйдет, никуда не дойдет, лучше уж сдаться, тут умереть.
Нет, он не бросился с кручи, просто оступился на скользких от водопадной пыли камнях, упал, покатился вниз по осыпи и ударился головой. Бамм! Черная шторка задернула сознание, и больше Эрл ничего не видел. Не видел даже, как белокрылая птица, парившая в синеве, осторожными кругами начала приближаться к нему, как бы присматриваясь, готов ли обед, не будет ли сопротивляться пища.
Муха села на край чернильницы, и Март кончиком пера столкнул ее в чернила. Как раз под конторой помещалась кухня, и сытые мухи, глянцевито-черные с зеленым брюшком, заполоняли комнату младших конторщиков. Мухи водили хоровод вокруг лампы, разгуливали по "канцелярским бумагам, самодовольно потирая лапки, с усыпительным жужжанием носились над лысиной бухгалтера. Никакие сетки на окнах, ни нюхательный табак, ни липкая бумага не помогали.
Конторщик поглядел, как барахтается утопающая в чернилах, и написал каллиграфическим почерком на левой странице;
"Пшеница Дюрабль IV категории,
Остаток со стр. 246:
Кг… 6529, гр… 600".
Девять лет изо дня в день Март записывал зерно. У зерна была категория, сорт, влажность, вес, цена, сортность, клещ. Конторщик в жизни не видел клеща, с трудом отличил бы пшеницу Дюрабль от ячменя Золотой дождь. Его дело было не различать, а регистрировать наличность. Девять лет изо дня в день зерно, записанное слева в приходе, медленно пересыпалось на правую страницу, а расход, и выдавалось "по накладным за No… Потом приходила новая партия по наряду No… тоже с сортом, влажностью и клещом.
Девять лет текло зерно с левой страницы на правую. Девять раз в конце толстой книги Март подписывал; "Остаток на 31. XII… кг… гр…" Это означало, что год прошел и до конца жизни осталось надписать на одну книгу меньше.
Муха выбралась все-таки из чернильницы и поползла по стеклу, волоча за собой лиловый след. Неприятно было смотреть на нее - горбатую, со слипшимися крыльями. Март поддел ее пером и стряхнул обратно в чернильницу.
– Ужасно много мух у нас, - заметил счетовод. - И с каждым годом все больше.
Бухгалтер поднял голову;
– Что ж удивительного? Плита прямо под нами, чуть повар начнет гонять мух, все они летят к нам.
– Житье этому повару, - вставил контролёр. - Сыт, семью кормит еще. Жена к нему три раза в день с кастрюлями ходит. Если считать, что в каждую порцию он не докладывает ложку масла, сколько же это выйдет к концу года? Тысячи и тысячи!
– Да, от честного труда не разбогатеешь, - подхватил счетовод. Порядочную девушку нельзя в театр пригласить. Водишь, водишь ее сторонкой мимо буфета, фотографии на стенках показываешь. Вчера познакомился с одной, добавил он, проводя кончиком языка по губам. - блондиночка, но чувства огненные. Порох!
Контролер продолжал бубнить свое:
– Черт знает, ухитряются же люди. Я знавал одного кладовщика, который списал по акту две тысячи метров первосортного сукна и спустил налево за полновесные монеты. И заработал на этом пятьдесят тысяч чисгогвном. Вот вам без образования, без диплома, без светских манер и иностранных языков.
Март вздохнул и обмакнул перо. Девять лет он слушал мечты контролера о махинациях с сукном, о поджоге застрахованного дома, о подделке выигравшей облигации. На одних только колебаниях влажности, уверял тот, можно заработать золотые горы. Девять лет счетовод - видный мужчина с мокрыми усиками хвастался своими шкодливыми романами. И бухгалтер, потирая лысину, девять лет рассказывал, сколько выпил вчера и сколько выиграл в преферанс.
Перо брызнуло, и на букве "О" расплылась большая клякса. Из кляксы выползла муха и заковыляла через все графы. Март в сердцах сбросил ее на пол и раздавил. Страница была испорчена. Надо было начинать новую и писать терпеливо;
"Пшеница Дюрабль IV категории",
Он уже не надеялся на мошенничество и встречу с пылкой блондинкой. У него была жена, а способностей к аферам не было. Он писал: "Остаток со стр…" Теперь, когда Эрл был мертв, он удивлялся, почему люди боятся смерти. Со смертью кончается страх, голод, тоска и неуверенность, на душе становится покойно. Если бы он мог, всем знакомым сказал бы: "Не бойтесь смерти! Страшен только страх".
Только непонятно было, почему после смерти так горит правая нога. Огонь распространялся по мышцам, захватывая клеточку за клеточкой. Глядя на себя со стороны, Эрл видел, как пылает огромное человеческое тело, и ветер тянет полосу черного дыма, словно от горящего самолета. Вместе с пожарными Эрл лез на свое тело и тушил его, направляя струю прямо в пламя. Вот взметнулись оранжевые языки, опаляя Эрлу брови и ресницы. Он закашлялся, пошатнулся и, дико крича, полетел в пекло.
Огонь в пекле горел оттого, что в самом низу у костра сидела девушка, старательно ломала сухие ветки и подкладывала их в огонь. Потом она становилась на колени и, смешно вытягивая губы, изо всех сил дула на ветки. Ее золотистые щеки наливались краской, становились похожими на зрелые абрикосы. Эрл любовался девушкой. Одна черта не нравилась ему. У нее, как у греческих статуй, не было переносицы. Лоб и нос составляли прямую линию. И это придавало лицу непреклонное, строгое и вместе с тем-лукавое выражение.
Когда костер разгорелся, девушка вытащила нож и стала точить его, поглядывая на Эрла. Эрлу стало страшно, он вспомнил, что находится в стране людоедов. Неужели золотистая девушка точит нож, чтобы зарезать его? Он хотел бежать, но, как это бывает во сне, не сумел даже шевельнуть пальцем. Мучительно морща лоб, с замирающим от ужаса сердцем Эрл старался приподняться и не мог. Набитые хлопком мускулы отказались повиноваться. Тогда он понял, что он не Эрд, а только чучело Эрла, и. жалобно заплакал…
Действительность постепенно входила в его мозг, перемешанная с бредовыми видениями, и выздоравливающий разум сам очищал ее от галлюцинаций. Задолго до того, как Эрл окончательно пришел в себя, он уже знал, что лежит один в прохладной пещере, отгороженный от входа сталагмитами, что ксилофон, который он слышит, - это музыка падающих капель, что в пещеру его принесла девушка с греческим профилем, та самая, которую он видел в бреду у костра.
Ее звали Хррпр, если только можно передать буквами странные рокочущие и щебечущие звуки ее языка. Словом хррпр назывался и весь ее народ, затерянный в тропических лесах, между чужими и враждебными племенами. Освоить произношение Эрлу не удалось, и он окрестил свою спасительницу мало подходящим, но сходным по звучанию именем Гарпия.
Два раза в день, утром и вечером, Гарпия приходила к нему с фруктами и свежей водой. Она разжигала костер, обтирала Эрлу лицо, кормила его незнакомыми плодами, очень ароматными, но водянистыми и безвкусными, и еще какими-то лепешками, пресными и вывалянными в золе. Как потом оказалось, соплеменники Гарпии употребляли золу вместо соли.
Не сумев овладеть гарпийской фонетикой, Эрл стал учить девушку своему родному языку. Внимательно глядя ему в рот, Гарпия повторяла за ним слова, смешно коверкая их и проглатывая гласные: "Эрл… члвек… вда… хлб". Эрлу очень хотелось расспросить, как добраться до моря, но слов пока не хватало. "Где блит?" - спрашивала Гарпия. "Кшать? Пить?" "Все хорошо, - отвечал Эрл. Ты хорошая". И, исчерпав запас слов, они дружелюбно смотрели друг на друга. Иногда, протянув загорелую, покрытую золотистым пушком руку, девушка осторожно поглаживала Эрла по щекам, уже заросшим курчавой бородой. "Неужели я нравлюсь ей? - думал Эрл. - Вот такой, как есть - грязный, заросший, с исцарапанной мордой? Неисповедимы тайны женского сердца! Впрочем, бедняжка горбата, вероятно, никто не хочет взять ее в жены", А ум у девушки был светлый, жадно впитывал новые сведения. За один визит она запоминала сотни две слов. Уже через неделю Эрл рассказывал ей целые истории о волшебном мире телефона и авто. Гарпия понимала и отвечала сносно, если не считать.акцента.
Гарпия проводила возле Эрла часа два в сутки. Пока она сидела у костра, в пещере было весело и уютно. Но затем костер угасал, тени выбирались из своих углов, чтобы затопить пещеру сыростью и мраком. Сталагмиты угрожающе сдвигались, и капли гремели, как барабаны, заглушающие крики смертника на эшафоте.
Эрл твердил Гарпии, что не. может жить без солнца. Она не понимала или не хотела понять. Эрл указывал на выход. Гарпия отрицательно мотала головой и стучала ладонью по шее, словно хотела сказать: "Пойдешь туда, голову потеряешь". И Эрл решил сам пробраться к выходу. Однажды, когда девушка ушла, он пополз за ней на иетвереньках. Белое платье, мелькавшее впереди, указывало ему дорогу в лабиринте сталагмитов. Вот платье мелькнуло где-то справа и исчезло. Но там уже брезжил свет. Эрл прополз еще несколько десятков шагов навстречу солнечным лучам…
Тот же обрыв был у него перед глазами, но не затянутый дымкой; сегодня можно было разглядеть все подробности. Белые и полосатые горы окаймляли плотным кольцом глубокую котловину километров около двадцати в поперечнике. Морщинистые скаты гор были испещрены черными пятнами пещер, перед некоторыми дымились костры. Да и долина была вся густо заселена, повсюду сквозь шерсть лесов пробивались дымки, на полянах виднелись прямоугольники огородов.
Силясь разглядеть селения внизу, Эрл заглянул через край известковой площадки. Отвесная круча уходила вниз, в туманную мглу. Голова закружилась, как на крыше небоскреба у перил. Потянуло прыгнуть в бездну. Эрл в ужасе отпрянул.
Но как же Гарпия взбирается сюда? Неужели два раза в день она карабкается на эти опасные кручи?
Он оглянулся в поисках тропки и вдруг увидел девушку неподалеку. Не замечая Эрла, она стояла на обособленном скале, остроконечной, похожей на рог. Эрл удержал крик ужаса: Гарпия могла вздрогнуть и сорваться. Смотрел на нее, шептал; " Осторожнее!" Гарпия, не мигая, глядела на горизонт, заходящее солнце золотой каймой обвело прямой профиль, тонкую шею, высокую грудь. Потом девушка медленно подняла руки над головой, свела их, словно собиралась прыгать с вышки в воду. Эрл замер.
– Не надо! - только и успел он крикнуть, Но было уже поздно. Стройное тело летело вниз на хищные зубы скал. Зачем? И вдруг Эрл увидел, что за спиной девушки, там, где был уродливый горб, выросли крылья. Не бабочкообразные, как у фей, и не такие, как у ангелов, маскарадные, не способные поднять человека. Крылья у Гарпии были совсем особенные - из тонкой, прозрачной кожицы, просвечивающие перламутром, пожалуй, они напоминали полупрозрачные плащи-какидки, но громадные, метров восемь в размахе, целый планер. Почти не взмахивая ими, девушка спикировала вниз и теперь плыла где-то в глубине над дымными кострами и пальмовыми рощами.
Крылатая девушка! Как это может быть?
– Другие мужья, - говорила Гертруда, - давно бы имели собственный домик за городом.
Квартира у них и правда была не очень удачная: на самом углу, у оживленного перекрестка. Рычанье грузовиков и зубовный скрежет трамваев с утра и за полночь мешали им слышать друг друга. А над окном висел уличный рупор и целый день убеждал их чистить зубы только пастой "Медея". Гертруда говорила, что она с ума сойдет из-за этой античной девки, что у нее начинается зубная боль от слова "Медея". Но можно ли было рассчитывать на лучшую квартиру при заработке Марта!
У них было две комнаты, раздвижной диван-кровать, круглый обеденный стол и еще другой - овальный, за которым Герта писала письма своей сестре, несколько разнокалиберных стульев, кресло-качалка, пузатый шкаф оригинальной конструкции, но без зеркала. Трюмо не хватало.
"Другой муж, - говорила Гертруда, - давно купил бы трюмо". У Герты были мягкие густые волосы с золотистым отливом, здоровый свежий румянец. Она любила покушать, но обычно жаловалась на отсутствие аппетита, полагая, что всякая интересная женщина должна быть эфирным созданием. И хотя Герте уже исполнилось двадцать девять, никто не давал ей больше двадцати трех. Поэтому Гертруда с большим основанием считала, что заслуживает лучшего мужа.
– Другие мужья, - говорила она, - не заставляют ходить своих жен в отрепьях.
В третий раз уже упоминается в нашей повести о "других мужьях", и это становится навязчивым. Март же изо дня в день вот уже шесть лет слышал, что другие мужья сумели бы найти средства, чтобы лучше отблагодарить жену за ту жертву, которую она принесла, "отдав Марту свою молодость".
Они познакомились шесть лет назад. Гертруда была очень миловидной девушкой, еще более миловидной, чем сейчас (тогда ей давали не больше восемнадцати). Она пела приятным голоском опереточные ории и мечтала или говорила, что мечтает, о сцене. Но артистическая карьера не состоялась. В театр приходили сотни миловидных девушек с приятными голосами, Герта не выделялась из общей массы. Режиссеры - люди, произносившие всю жизнь напыщенные речи о высоком искусстве, - отлично знали, что не бог-горшки обжигают. Любая средняя девушка сумеет более или менее естественно закатывать глазки, целуясь на сцене. Из множества девушек режиссеры выбирали тех, которые соглашались целоваться не только на сцене… Но Герта была из добропорядочной семьи и хотела выйти замуж.
Тут и подвернулся Март. Гертруде было двадцать три, она уже побаивалась, как бы ей не остаться в девушках. Мать с ее претензиями, подагрой и мнительной боязнью сквозняков порядком надоела Герте. Ей хотелось, наконец, уходить из дому, когда вздумается, и не просить денег на каждую порцию мороженого. Март был достаточно хорош собой, носил черные усики, писал стихи и, кроме того, выражал желание, жениться, что выгодно отличало его от режиссеров театра "Модерн-Ревю". В довершение всего у него был приятный мягкий характер, и опытная мама сказала Герте незадолго до свадьбы:
– Только не бойся скандалов, деточка, и ты свое возьмешь. В браке командует тот, кто не боится скандалов.
Герта была возмущена и шокирована. Тогда она представляла себе замужество розовой идиллией. Но в дальнейшем достаточно часто применяла мудрый совет матери. Март действительно боялся скандалов, соглашался на все капризы Герты, но беда в том, что он был слишком беден, чтобы выполнять эти капризы. Право, он оказался бы приличным мужем, если бы зарабатывал раза в три больше.
Месяцами они откладывали деньги на новое платье, на трюмо, на холодильник, на летнюю поездку к морю. Серьги ожидали мифической прибавки к рождеству, переезд на новую квартиру зависел от выигрыша по займу. Кроме того, у Марта были еще две акции серебряных рудников в Гватемале, которые должны были принести чудовищные дивиденды. Гертруда аккуратно покупала газеты только для того, чтобы на последней странице разыскать телеграммы из Гватемалы, а в хорошее вечера, вооружившись карандашом, подсчитывала будущие доходы, дивиденды, проценты и проценты на проценты. У нее получалось, что лет через десять Март сумеет преподнести ей автомобиль из гватемальского серебра.
Только будет ли она моложава в ту пору? Станут ли ей давать не больше двадцати трех?
Да, конечно, Герта заслуживала лучшего мужа.
– А разве у ваших девушек нет крыльев?
Гарпия с полчаса лежала молча, не мигая глядела в костер, где седели и с треском лопались смолистые сучки.
– Мне очень жаль ваших девушек, - продолжала она. - У них серая жизнь. Столько радости связано с крыльями! Еще когда я была девочкой и крылышки у меня были совсем маленькие и усаженные перьями, как у птицы, я каждый день мечтала о полетах и все прыгала с деревьев, сотни раз обдиралась и ревела. А потом я стала взрослой, и крылья у меня развернулись в полную силу, я начала учиться летать. Нет, это ни с чем не сравнимо, когда ты паришь и воздух покачивает тебя, как в колыбели, или когда, сложив крылья, камнем ныряешь вниз и тугой прохладный Ветер свищет в ушах. У нас каждая девочка только и мечтает скорее вырасти и начать летать. Нет, ваши девушки несчастные. Это очень странно, что у них нет крыльев.
– Почему же ты удивляешься? - спросил Эрл. - Разве ты не видела, что у меня нет крыльев?
– Но ведь ты мужчина, - протянула Гарпия, все также глядя в огонь Мужчины крылатыми не бывают. Они совсем земные, даже мечтать не умеют. Живут в другой долине, копаются там в земле. Они неприятные, мы не летаем к ним никогда,
– Но твоя мать летала же, - сказал Эрл, улыбаясь наивности девушки.
– Может, и летала, - произнесла Гарпия, подумав. - Потому что у нее уже нет крыльев. Все девушки, которые побывали у мужчин, приходят от них пешком. Мужчины обрывают крылья. Они завидуют нашим полетам. Они вообще завистливые. Всегда голодные и ссорятся между собой. Один кричит: "Подчиняйтесь мне, я всех умнее". А другой: "Нет, мне подчиняйтесь, я всех быстрее бегаю". А третий; "А я всех сильнее, я могу вас поколотить". И они дерутся между собой, им всегда тесно. Все потому, что крыльев нет. Были бы крылья, разлетелись бы мирно.
"Какая смешная карикатура на общество! - подумал Эрл. - Действительно, вечно голодные и всегда нам тесно. Ходим и толкаем друг друга: "Посторонись, я тебе заплачу. Посторонись, я тебя поколочу!" - У нас и женщины такие же, - сказал Эрл. - Каждая хочет, чтобы все другие ей подчинялись и завидовали и чтобы она лучше всех была одета - красивее и богаче.
– Понимаю, - отозвалась Гарпия. - Когда девушка возвращается от мужчин, она тоже становится злой. И сторонится подруг, и все смотрится в блестящие лужи, вешает на себя ленты и мажет красной глиной щеки. И тоже ей тесно, она все плачет и жалуется. Все оттого, что крыльев нет уже.
– Очень странно! - повторил Эрл. - Какая-то нелепая игра природы.
– Почему же нелепая? - возразила Гарпия. - Ведь у муравьев точно так же. А муравей, можно сказать, человек среди букашек.
В ее огромных зрачках, зеленовато-черных, как у кошки, извивалось пламя. Она напряженно думала. Наверное, за всю жизнь ей не приходилось так много думать, как последние недели.
– А ты не похож на наших мужчин, - произнесла она после долгой паузы. Они маленькие, сутулые, а ты большой. Ты не станешь драться за ветку с плодами, за хижину. Возьмешь, что понадобится и уйдешь. Я как увидела тебя, сразу поняла, что ты лучше всех. Наши мужчины такие скучные, такие крикливые. Скажи, зачем девушки летают к ним?
– Не знаю… любовь, наверное…
– А что такое любовь? - Брови Гарпии очень высоко поднялись над громадными глазами.
Что такое любовь? Столько раз в жизни Эрл повторял это слово, а сейчас не мог ответить. Что такое любовь? Всё называют этим емким словом: неукротимую страсть, и похрапывание в супружеской постели, и встречу в портовом переулке, и салонный флирт, и всепоглощающее чувство, ведущее на подвиг, или на самоубийство, или на самопожертвование.
– Вот приходит такая пора в жизни, - невнятно объяснил Эрл, - беспокойство такое. И в груди щемит - здесь. Ищешь кого-то ласкового, кто бы стоял рядом с тобой. И горько и радостно, и места себе не находишь. Так начинается любовь.
– Понимаю, - прервала его Гарпия. - У меня бывало такое беспокойство раньше. Тогда я улетала за горы, далеко-далеко, носилась вверх и вниз, уставала, тогда успокаивалась. А теперь я прилетаю сюда, сажусь у костра, смотрю на тебя, и больше мне ничего не нужно.
Она подняла на Эрла большие чистые глаза, как бы с немой просьбой объяснить, что же такое творится в ее душе, и Эрл отвернулся, краснея. Там, в цивилизованных странах, его считали красивым. Не раз он выслушивал полупризнания светских женщин, уклончивые, расчетливые и трусливые. Он наизусть знал, какими словами принято отвечать кокеткам, произносил их машинально. Он никогда не смущался, сегодня это случилось в первый раз. Девушку которая не знала, что такое обман, стыдно было бы обмануть.
После Нового года в конторе начались тяжелые дни. Оказалось, что хозяин получил на четверть процента меньше дохода, чем в прошлом году. Рождественские премии урезали. Поговаривали о больших сокращениях, каждый служащий из кожи вон лез, чтобы доказать, что именно он незаменимый работник, а все остальные лодыри и дармоеды, без них можно обойтись шутя.
– Знаете, какая сейчас безработица? - говорил контролер. - Люди по два года ищут место, теряют квалификацию, ходят целыми сутками по бюро найма. Лично я стар для того, чтобы поденно грузитъ хлопок порту. Стар… и не сумел вовремя украсть. Был бы я вор, не дрожал бы сейчас из-за конверта в субботу. Счетовод вздыхал о своем:
– По радио объявили; Манон - королева экрана - выходит за Вандербильта-младшего. Вот жениться бы на такой, и никакие шефы не страшны. Сколько стоит Манон? Миллионов шесть.
– Сто тысяч за одну улыбку, - уточнил бухгалтер, - я сам читал в воскресном номере.
– Вот видишь - сто тысяч. Улыбнулась - и обеспечила.
Март внимал им со скукой, похожей на зубную боль. Девять лет слышал он мечты контролера о мошенничестве и рассуждения счетовода о женитьбе на богатой, И знал, что контролер никогда не решится на подлог, а на счетовода никогда не польстится владелица миллионов. Сам он давно уже не мечтал. Макал ручку в чернильницу и выводил каллиграфическим почерком: "Ячмень Золотой дождь. Сорт 2.. " Он мало разговаривал со служащими. Мысли его спали от десяти до четырех, пока он был а конторе. Глаза тоскливо следили за часовой стрелкой; почему не двигается? Он почти не замечал, что товарищи придираются к нему, а мошенник-мечтатель (он же контролер) громко отчитывает его каждый раз, когда контору заходит хозяин.
И в ту субботу все было именно так, как в предыдущие дни. Март шелестел нарядами и накладными, поскрипывал пером, выводя бесстрастные, очень красивые и очень одинаковые буквы. Он был настроен благодушно, потому что была суббота, работа кончалась на два часа раньше, на два часа меньше скрипеть пером.
Служащие писали особенно усердно. Из-за тяжелой дубовой двери, где был кабинет управляющего, доносился сердитый голос хозяина. Это было похоже на отдаленные перекаты грома в летний день.
Потом в коридоре хлопнула дверь. Угодливо согнутая тень контролера проскользнула за перегородкой из матового стекла. Он заглянул в контору и кашлянул. Не то кашлянул, не то хихикнул:
– Господина Марта к управляющему. Хе-хе!
Март с замирающим сердцем взялся за медное кольцо тяжелой двери. Он переступал порог этого кабинета раза четыре в год, и всегда это было связано с ошибками, разносами, угрозами…
Что же сегодня? Ведь он так старается сейчас, когда не стихают слухи о сокращении. Правда, ошибки могли быть. Всегда у него в голове постороннее, никак он не избавится от этой привычки.
В кабинете управляющего высокие окна с тяжелыми занавесками из красного бархата, стены, отделанные под орех, гигантский тумбообразный стол. Обстановка внушительная, все выглядит таким устоявшимся, утвердившимся навеки. Но, войдя. Март увидел, что управляющий усмехается и на каменном лице хозяина тоже мелькает слабое подобие улыбки.
– Мексиканец в бархатном сомбреро, - неизвестно к чему сказал управляющий.
Контролер, проскользнувший в дверь за спиной Марта, угодливо кашлянул за спиной.
И тогда управляющий начал читать стихи". Поэму об удалом мексиканце, который увез любимую девушку на вороном коне.
Обернув красавицу портьерой,
Он ее забросил иа мустанга…
Рифмованные строки очень странно звучали в устах управляющего. Он неправильно ставил удареиия и терял рифму. Видно было, что после выпускного экзамена в школе ему ни разу не приходилось читать стихи. Март между тем соображал, каким образом эти куплеты могли попасть сюда. Ведь они лежали дома. Неужели он сам положил их в палку с делами? Проклятая рассеянность!
– Так вы поэт, господин Март? Так вы поэт, спрашиваю я? Почему не отвечаете?
Март пробормотал что-то в том смысли, что он не поэт, но иногда сочиняет из любви к прекрасному.
– Прекрасное! Вот этот мексиканец - прекрасное?
– О вкусах не спорят, - робко пролепетал Март. Он остро презирал управляющего за то, что тот нагло рассуждал об искусстве, а еще больше себя за робкий извиняющийся тон. Контролер кашлянул за спиной, не то кашлянул, не то хихикнул.
Март понял наконец, каким образом его стихи попали сюда.
– Я из вас эту поэзию вышибу! - орал управляющий. И тогда, неожиданно для всех и для самого себя. Март отчетливо сказал:
– Поэзию вышибить нельзя. Это врожденный дар. У некоторых его нет совсем.
Вот такой был Март. Девять лет он терпеливо сносил мелкие придирки контролера, а сейчас самому управляющему, и при хозяине, кинул в лицо: "У некоторых, у некоторых, его нет совсем".
Хозяин, молчавший все время, впервые шевельнул челюстью.
– Какое разгильдяйство! - сказал он. - Тратить рабочее время на вирши. Гоните его в шею, мне в конторе не нужны поэты.
Март ничего не ответил, А надо бы! Сказать бы что-нибудь ядовито-умное. "Вам поэты не нужны, но человечеству необходимы, А нужны ли вы, вот что сомнительно", Когда-нибудь биографы напишут про Марта, как его выгнали с работы за поэзию. Имя хозяина станет нарицательным, станет синонимом невежества и тупого чванства. В полном собрании сочинений обведут рамкой поэму о мексиканце и мустанге. А потом когда-нибудь в виллу Марта придет разорившийся хозяин просить взаймы, и Март скажет ему:
– Эх вы, пародия на человека! Поняли теперь, как нужны людям поэмы?
Март шел крупными шагами, высоко нес голову, довольно улыбался. Он так ясно представлял себе униженно-просительное выражение на топорном лице босса. Молодец Март, что ничего не сказал. Повернулся и ушел с презрением. Так лучше всего.
Весело бренча, он поднимался по лестнице к себе на четвертый этаж. И только на последней площадке подумал:
"Все это хорошо. Но что я скажу Гертруде?" Они принесли с собой факелы, наполнив пещеру дымом и копотью. Тени от сталактитов ушли высоко под своды, там дрожали, Сталкивались, переплетались. Дальний конец пещеры скрылся в ржаво-буром тумане. И всюду на глыбах и обломках сталактитов сидели гарпии, но исключительно бескрылые: жирные неопрятные старухи или старые девы со ссохшимися палками вместо крыльев за спиной. И мужчины собрались. Видимо, всех их провели тайными ходами. Мужчины были все низколобые, кривоногие и лохматые, тоже большеглазые и прямоносые, но милый облик Гарпии как-то карикатурно искажался в них. Бросался в глаза вождь - с выпяченной челюстью и покатым лбом гориллы. Возле него стоял жрец в соломенной юбке, расписанный от макушки до пят, и еще какой-то худосочный юноша, глаз не отрывавший от Гарпии, Гарпии Эрла. Она была единственная крылатая тут, прочих девушек не допустили, видимо, оберегали от соблазна.
Высокая седая старуха с палками, болтавшимися за спиной, ударила в барабан:
– Горе тебе, чужеземец, - воскликнула она. - Горе тебе, укравший крылья!
Потом жрец вышел вперед. Время от времени подскакивая и завывая, он произнес речь. Так как фразы были короткие и каждая повторялась раз по пять, Эрл кое-как уловил смысл. Жрец говорил, как счастливы птицы-девушки, собирающие цветы на лугах, порхающие в свежих дубравах, и как подл, как гнусен, как зловреден хитрый чужеземец, тайком пробравшийся в их страну, чтобы обманом втереться в доверие девушки Гарпии и лишить ее крылатого счастья, возможности порхать в дубравах и собирать -цветы.
– Вы посмотрите на это чудовище, - кричал колдун, - посмотрите на этого зверя. Только злыми чарами мог он привлечь к себе сердце невинной девушки. Но мы лишим колдуна силы… Выбьем из него волшебные чары.
Сначала Эрл хотел оправдываться, собирал весь свой запас гарпийских слов, чтобы объяснить, что он попал в их страну не нарочно, жаждет отсюда выбраться и больше ничего. Но где-то в середине речи жреца он понял, что оправдания не имеют смысла. Он приговорен заранее, все это сплошная комедия, такая же, как и в цивилизованных судах. В чем его обвиняют в сущности? В том, что он хотел лишить Гарпию крыльев. Но ведь сами же они обрывают крылья у своих девушек, только об этом и мечтают. Просто он соперник, чужак и его хотят уничтожить.Так что же он будет спорить с похотливыми ревнивцами, со своим соперником, который глаз не сводит с Гарпии, со всеми этими ханжами, охотно отдавшими свои крылья, и с теми, которые жаждали, но не сумели отдать? Он культурный человек, не к лицу ему унижаться перед этим первобытным сбродом.
– Признаешься, что ты колдун? - спросил жрец.
Эрл молчал презрительно.
И тогда похожий на гориллу вождь шевельнул челюстью:
– Смерть ему! Мне не нужны колдуны в моей стране, И вся толпа завыла, заревела, заулюлюкала;
– Смерть! Смерть! Смерть!
Эрл молчал презрительно. Думал только об одном: "Не унижаться!" Десятки крючковатых пальцев впились в мускулы Эрла. Его поволокли по воздуху. В яростном экстазе женщины кусали и щипали его. Кто-то затянул хриплым голосом песню, где повторялись одни и те же слова:
Ты украл мои крылья,
Попробуй на них улететь!
Толпа вынесла Эрла на площадку, подтащила к краю пропасти. Эрл вновь увидел подернутую дымкой цветущую долину гарпий и кольцо неприступных гор, за которыми скрывалось заходящее солнце, для Эрла - навсегда скрывалось.
И он понял, какая ему уготована казнь. Сейчас его сбросят со скалы, именно об этом и говорила песня. Он жадно вдохнул воздух, свежий, насыщенный горной прохладой, протянул руки к уходящему малиновому закатному солнцу. Остро захотелось жить. Эрп невольно рванулся…
Гарпии захохотали. Смех их был похож на зубовный скрежет.
И в эту секунду Эрл перешел мысленно черту жизни. У него осталось только одно желание: умереть так, чтобы не было стыдно.
– Поставьте меня на ноги, - тихо сказал он. Почему-то эти спокойные слова были услышаны за всеобщим улюлюканьем.
С трудом сохраняя равновесие на связанных ногах, Эрл сделал несколько шажков к краю бездны.
– Вы еще пожалеете, прокля… - крикнул он. И тогда жрец с хохотом толкнул его в спину.
Воздух расступился с резким свистом. Летя вниз, на острые камни, Эрл в последний раз услышал:
Ты украл мои крылья,
Попробуй на них улететь!
Каждый день с утра Март надевал свой последний приличный костюм и отправлялся на поиски работы. Входил в бесчисленные двери, робким голосом осведомлялся, нет ли места. Это было унизительно - просить незнакомых людей. Ему казалось, что он протягивает руку за куском хлеба. А незнакомые люди работовладельцы - глядя на него свысока, смеялись почему-то: "Работу? Да ты, парень, как видно, шутник. Какая же работа в наши времена?" Другие отвечали раздраженным деловым тоном: "Нет работы, нет, идите, не мешайте!" Март извинялся и уходил, смущенно краснея, - помешал занятым людям, неудобно.
Почти всюду у Марта спрашивали рекомендации и, в сотый раз рассказывая, почему их нет. Март все еще смущался и бормотал чго-то невнятное. Конторщики глядели на него подозрительно, говорили: "Подумайте, как интересно! Ну, что ж, зайдите к нам в конце лета, а еще лучше - в ноябре, если не найдете к тому времени места".
Не сразу решился он отнести в редакцию свои стихи. Редакторы были очень вежливы. Никто не сказал Марту, что он бездарность. Редакторы отказывали иначе;
– Стихи? - говорили они. - Стихами мы обеспечены на три года вперед. Каждый мальчишка пишет стихи, и все про любовь. Вы нам принесите фельетончик позабористее, скажем, о деревенском остолопе, "первые лопавшем в столицу. Такой, чтобы все за животики держались.
Или же:
– Эти стансы-романсы-нюансы всем надоели, их никто не покупает. Дайте нам роман о ловком советском шпионе, побольше крови и секса. И покажите рядом нашего сыщика, благородного, смелого, сверхчеловека. Парни не хотят идти а полицию, надо их привлечь.
Или:
– Выдумки нынче не в моде, читатель требует подлинности. Вы раздобудьте подлинный материальчик о простом нашем парне, который волей и настойчивостью сделал себе миллионы. Факты, снимки, документы!
Разве Март не пробовал? Пробовал. Не получалось. Вот материальчик о том, как люди теряют последние гроши, он мог бы принести хоть сейчас.
А недели шли, и деньги текли, и работы не находилось.
Наконец Маргарита, сестра Герты - та, что танцевала в обозрении "100-герлс-100" седьмой справа во втором ряду, - вспомнила, что у нее есть хороший знакомый, брат которого встречается в одном доме с бывшим хозяином Марта. Март возмутился; "Унижаться: перед старым хозяином? Ни за что!" Но у Герты были такие печальные глаза, такие худые щеки, что Март не выдержал, дал согласие. И Маргарита поговорила с хорошим знакомым при первом же удобном случае, и знакомый поговорил с братом, и брат поговорил…
Однажды, это было в тот день, когда в Стальной Компании он дожидался шесть часов, чтобы услышать "Приходите через полгода, мы будем строить новый корпус, возможно, понадобятся люди", Герта встретила его на пороге с поджатыми губами. И она вошла за ним в комнату молча, и каблуки ее стучали жестче, чем обычно.
– У Маргариты ничего не слышно? - устало спросил Март, вешая шляпу на вешалку.
Герта уперлась руками в бока. На щеках ее проступили красные пятна.
– Слышно! - недобрым голосом произнесла она. И добавила без перехода: Значит, ты все еще пишешь стихи?
Март с удивлением посмотрел на нее. Ведь Герта знала, что он пишет стихи. Он столько посвящал ей, когда они еще не были женаты. И Герта гордилась этими стихами, переписывала себе в альбом, читала на любительских вечерах.
– Пишешь стихи! - кричала Герта. - Женатый человек, виски седые, и туда же… как мальчишка! Вот полные ящики бумажек… Вот они… Вот они! Или ты думаешь кормить меня, продавая эту макулатуру сборщику утиля? Красотка, завернутая в занавеску! В каком притоне повстречал ты эту цветную потаскушку?
Герта рванула ящик стола, аккуратно сложенные стопки листков разлетелись по полу. Выхватила другой ящик, не удержала, уронила Марту на ногу.
Надо было знать Марта, чтобы понять, какая ярость охватила его. Он никогда не возражал Герте, соглашался, что он неумный, неловкий неудачник. Но эти бумаги были лучшей частью его Я. Они оправдывали его существование. И вот теперь Герта топчет ногами это лучшее Я.
Он оттолкнул ее. Герта упала, вероятно, нарочно, ударилась головой о стену и некоторое время смотрела на мужа больше с удивлением, чем с обидой. Никогда она еще не видела его в таком гневе. Потом, спохватившись, Герта заплакала громко.
Март молча подбирал и складывал листки,
– Несчастная я, - всхлипывала Герта. - Вышла замуж за лодыря, за сти-и-хоплета… Загубила свою молодость… Режиссеры делали мне предложения, умоляли выйти замуж. Всем отказывала ради этого… этого…
Она плакала и время от времени поглядывала на мужа. Почему Март никак не реагирует на слезы? И почему смотрит таким странным взглядом? Он же извиняться должен, вымаливать прощение, обещать исправиться.
А Март смотрел на Герту с ужасом, не понимая, не узнавая, и думал, сокрушаясь;
"Совсем чужая, совсем чужая!" - Раз… два… три…
Кто знает, почему мозг Эрла вздумал отсчитывать секунды падения. И кто сочтет, сколько воспоминаний пронеслось в мозгу, пока Эрл летел, кувыркаясь и ведя счет.
Перед глазами кружились в беспорядке мазки белого, голубого, охристого, зеленого… И точно так же кружились обрывки воспоминаний: Эрл на крикетной площадке, Эрл у гроба матери, Эрл у классной доски, Эрл в тропическом лесу… А мозг продолжал отсчитывать: "пять… шесть… семь…" Солнце блеснуло в глаза, затем тень закрыла его. Сзади что-то-ударило, подтолкнуло. Совсем близкая земля мелькнула рядом и ушла. Эрл закрыл глаза.
– Не бойся, милый, - голос юной Гарпии звучал над ухом. - Я унесу тебя далеко-далеко. Глупые, они заперли всех крылатых девушек. Мы одни в воздухе, нас никто не догонит.
Сердце Эрла наполнилось благодарностью и нежностью. Какая смелая, какая самоогверженная девушка! Она вовремя прыгнула со скалы, догнала Эрла, пикируя, подхватила на лету…
– Ничего, - шептала Гарпия, задыхаясь. - Мне совсем не тяжело. Мне так радостно. Только не двигайся, прошу тебя.
Эрл старался не двигаться, старался не дышать. Так стыдно было, что он совсем не может помочь нежной девушке, висит в ее руках, как мешок, связанный веревками.
Он глядел вниз как бы с невидимой башни. Под ним, метрах в десяти от его ног, медлительно проплывали верхушки деревьев, щербатые скалы, водопады, лужайки. И когда прошел первый страх и прекратилось головокружение, Эрл понял, какое счастье досталось девушкам-гарпиям вместе с крыльями.
Это не имело ничего общего с полетом в пропахшей бензином кабине натужно ревущего самолета, откуда леса и поля выглядят лилоеатыми пятнами разных оттенков. Отсюда, с малой высоты, лес показывал им свои интимные тайны. Эрл увидел огромную кошку-ягуара, который точил когти, царапая кору. Деревья повыше они огибали, плыли по извилистым лесным коридорам. И обезьяны, лохматые лесные акробаты, сопровождали их, прыгали по веткам, перебрасывая тело с руки на руку. Питон, дремлющий на суку, приподнял голову. Эрл поджал ноги, чтобы не задеть его.
Гарпия дышала с хрипом, ее горячее дыхание грело затылок, пальцы все больнее впивались под мышки. Несколько раз она пробовала ногами обхвати гь ноги Эрла, но ей не удавалось это. При последней попытке она чуть не выронила Эрла, даже зубами ухватила его за волосы.
"Боже, как она удерживает меня? -думал Эрл. - Целых семьдесять килограммов на вытянутых руках".
– Брось меня, лети одна! Гарпия лишь тихонько рассмеялась.
– Бросить? Ха! Мне тяжело, но… Я люблю. …На следующий вечер они сидели на берегу океана. Гарпия задумчиво смотрела, как валы набегают на берег, крутыми лбами стараются протаранить скалы и разлетаются каскадами шипящих брызг. Морская даль отражалась в зрачках Гарпии, сегодня они казались синими.
– Как велик твой мир, - говорила она Эрлу, - какая я крошечная у твоих ног! У меня жжет в груди и сердце ноет, когда я смотрю на тебя. Это и есть любовь, да?
Что мог сказать Эрл? Он и сам не разобрался в своих чувствах. Любил ли он? Да, да, да! Но ведь еще вчера поутру он снисходительно посмеивался над Гарпией, мысленно называл ее "наивной дикарочкой". Нет, это было не вчера. Тогда он не знал еще, что такое подвиг любви. Всей его жизни не хватит, чтобы отплатить Гарпии. Он покажет ей мир, приобщит к культуре, научит всему…Он обеспечен, у него есть все, чтобы осчастливить любую девушку.
– Я хочу смотреть тебе в глаза, - шептала Гарпия, - днем и ночью, и завтра, и всегда. Только смотреть в глада. Это и есть любовь, да?
Эрл нагнулся и поцеловал ее в губы.
– Еще, еще! - Голос ее был сухим и жадным. - Милый, это и есть любовь, да? Я хочу быть счастливой, целуй меня, рви крылья. мне они не нужны больше.
Эрл увидел у самого лица бездонные расширенные зрачки и на мгновение ему показалось, что он чужой здесь, что Гарпия тут одна, наедине со своей беспредельной любовью…
Через три дня они пешком добрались до порта, а еще через неделю пароход увез их на родину Эрла.
У Марта были золотые часы, у Гертруды - браслет и жемчужное ожерелье. Конечно, все это пришлось заложить. Потом Март продал пальто, затем кое-что из мебели. В комнатах стало просторно и неуютно. Они перебрались в другой квартал, чтобы меньше платить за квартиру.
Потом пришлось продать выходной костюм, выкупить драгоценности и тут же продать их. Почему-то эта операция кормила их не больше месяца. Где-то рядом, в том же городе, жили сотни людей, которые наживались и богатели, продавая и покупая. Как они богатели, для Марта оставалось тайной. Он продал все, что у него было, но не нашлось вещи, за которую он выручил бы больше четверти цены. Даже знаменитые акции гватемальских рудников пошли за пятнадцать процентов номинала.
История падения Марта была долгой и скучной, для всех - скучной, для Герты - раздражающе-глупой, а для самого Марта - полной горьких переживаний. К двум часам дня обессиленный от унижений Март возвращался домой, Гертруда встречала его на пороге настороженным взглядом. Но не спрашивала ничего. По лицу видела, что он вернулся ни с чем.
И легче было, когда Герты не было дома, не было молчаливого упрека в ее глазах. К счастью, в последнее время это случалось все чаще. Герта уходила к своей сестре Маргарите. И на здоровье! У Марта не было никаких претензий. Там она могла по крайней мере сытно пообедать.
Дома Март садился у окна, глядел на серое городское небо и мечтал. Мечтал о тех временах, когда его признают и люди будут гордиться, что встречали его, пожимали руку, жили на одной улице с ним. В предвкушении будущей славы Март счастливо улыбался. Жаль, что Герта не могла разделить его мечты. Во-первых, она не верила в них, а во-вторых, счастье ей нужно было сейчас, немедленно, пока не ушла молодость.
А однажды Март не пошел искать работы, просто не пошел. Был жизнерадостный весенний день, когда счастливое солнце улыбалось в каждой лужице, и Марту не захотелось в этот день унижаться. Он выбрал далекий скверик, подобрал старую газету, уселся на скамейку. Улыбался солнцу и думал, что ничего не скажет жене. Сил не было и мужества не было. Пусть будет однодневный отпуск. Днем больше, днем меньше, какая разница.
И вдруг в конце аллеи он увидел Гертруду. Она шла рядом с сестрой, оживленно разговаривала с ней. У обеих в руках были новенькие желтые чемоданы. Наверное, Маргарита уезжала на гастроли, как обычно, и Герта провожала ее. Март едва успел закрыться газетой. Женщины прошли совсем близко и не узнали его. Удалось избежать ненужных объяснений с женой и язвительных колкосюй свояченицы.
Солнце погасло. Март вышел из сквера. Часы на перекрестке показывали без пяти час. Пожалуй, можно идти домой. Вряд ли Герта вернется скоро.
Через четверть часа он был в своей пустынной квартире. Какой мрачной стала она! В последнее время Герта даже не убиралась, говорила, что не стоит трудиться ради такого мужа. Март не обижался. Верно, он виноват перед ней, но вину он исправит. Нужно только немножечко терпения и спокойной работы.
Он воровато глянул в окно, не возвращается ли жена, вынул из-под макаронного ящика клеенчатую тетрадь и начал писать.
Эрл встретился с Риммой ровно через год после своей свадьбы с Гарпией.
В первый раз расстался он тогда с молодой женой. Гарпия не переносила морской качки, и Эрл воспользовался этим (да, воспользовался!), чтобы поехать на курорт одному.
Стыдно сказать, но он немножко стеснялся появляться в обществе с Гарпией. Гарпия была мила, но чудовищно наивна и невоспитанна, она всегда ставила его в неловкое положение. Притом у нее не исчезли еще мощные мясистые наросты на спине, где прежде были крылья, и Эрлу приходилось постоянно слышать недоуменные вопросы, что он, собственно, нашел в этой горбатой красавице с греческим профилем.
Конечно, Гарпия любила его, очень любила. Так забавно было возиться с ней, словно с маленькой девочкой, показывать, как обращаться с водопроводным краном и со штепселем, пугать ее радиоприемником, катать в автомобиле по городу, ошеломлять магазинами. Незаметные детали нашего быта - стул, карандаш, мыло все это было проблемой для нее.
Гарпия очень старалась приобрести навыки культурной женщины, ей так хотелось угодить мужу. Но почти каждый день, приходя домой, Эрл получал доклады от экономки:
– Мадам изволит спать на полу в гостиной. Она говорит, что так прохладнее.
– Мадам напустила воды в ванну и забыла закрыть кран. Паркет испорчен в трех комнатах.
И в строгих глазах старушки Эрл читал осуждение: "Человек из хорошей семьи… и такая жена!" Гарпия была необычайно мила… но Эрлу не с кем было посоветоваться о делах, получить поддержку в трудную минуту, не с кем поделиться удачей. Гарпия просто не понимала, чем он занят. Поцелуи… и только.
И сюда, на курорт, два раза в неделю приходили реляции экономки: отчеты о затратах и сообщения о проказах жены. А в конце старательные и корявые буквы: "Дарагой муш. Я тибя очень лублу. Приижай скорей".
Эрл с умилением читал эти каракули и чувствовал, что на расстоянии он любит Гарпию гораздо больше.
Римма Ван-Флит была очень богата, богаче Эрла и очень умна, пожалуй, умнее его. Она великолепно плавала и играла в теннис, немножко пела, немножко рассуждала о литературе, все это делала превосходно для дилетанта, но всерьез она занималась любовью.
Она была хороша собой: огненно-рыжие волосы, тонкий острый нос, красота острая, вызывающая. И брови, подбритые чуть тоньше, чем нужно, губы, намазанные чуть ярче, декольте чуть глубже, чем принято, платье чуть прозрачнее, чем прилично. Зато каждый мог видеть, какая у нее красивая спина и плечи. А спина была человеческая, нормальная, без мясистого горба.
– Все говорят о вашей будущей пьесе, - сказала она Эрлу при первом знакомстве. - Твердят, что вы затмите Шекспира и Эсхила.
И Эрл получил возможность, такую приятную для автора, рассказать о своих замыслах и затруднениях. Римма слушала, неумеренно восхищаясь, и время от времени вставляла замечания, которые поражали Эрла меткостью и остроумием.
– Вам нужно самой писать, - сказал он Римме. Собеседница его засмеялась особенным грудным смехом, воркующим и многозначительным:
– Что вы, ведь я только женщина, и ум у меня женский, пассивный. Мое дело чувствовать талант, понимать, восхищаться, любить его… творчество.
Потом они пили коктейли.У Риммы блестели глаза, щеки заливал румянец. Говорили как старые знакомые, переходя с темы на тему, все не могли наговориться. И о любви с первого взгляда, и о родстве душ, и о взаимном понимании, и о том, как редко встречается в жизни настоящее чувство…
Потом они каким-то образом оказались на пляже. На жемчужном песке лежали четкие тени пальм. Луна расстелила свой золотой коврик на стеклянной поверхности моря. Зыбь колыхалась у берега, рокотали камешки. Римма на тонких каблучках не могла идти по песку, завязла к хохотала над своей беспомощностью.
Эрд взял ее на руки. Бледное лицо женщины сразу стало серьезным. Эрл понял, что пора ее поцеловать.
Утром он послал жене телеграмму:
"Доктора настойчиво советуют морское путешествие. Знакомые приглашают на яхту. Напишу подробно".
Но он так и не написал. По телеграфу легче было лгать.
Прошел еще год. В отдаленном австралийском порту Эрл, не простившись с Риммой, сел на встречный пароход, чтобы вернуться домой. У него было чувство, будто он выбрался из гнилой лужи и никак не может отмыться. Вся эта грязь с Риммой, ее мужем, предыдущим любовником, случайными знакомствами. И скандальные статьи о мнимых оргиях и выдуманных дуэлях. И все - на первых страницах газет… Как он мог попасть в эту трясину?
Но по мере того, как пароход приближался к дому, настроение Эрла улучшалось, будто морские ветры стирали с его губ следы поцелуев Риммы. Как-то поживает его Гарпия? "Дарагой муш, приижай скорей". Вот и приезжает, с опозданием на год.
Только бы Гарпия ничего не знала. Счастье еще, что она не читает газет. Эрл не верил в бога, но сейчас он горячо молился, упрашивая небесные силы скрыть его похождения. Давал обещание любить жену вечно, сделать ее жизнь радостной. И хорошо бы, чтобы у них были дети, лучше девочка. Пусть порхают по саду, а они с Гарпией будут стареть и радоваться, на них глядя.
И вот с замирающим сердцем Эрл вступает в собственный дом.
Старая экономка хмурит брови, встречая его. Взгляд у нее укоризненный. Уж она-то читает газеты. Наверное, знает все. Эрл отводит глаза, небрежным тоном спрашивает;
– Ну, что дома? Наша проказница здорова?
И ему страшно хочется услышать что-нибудь о наивных проделках Гарпии: посадила цветы в картонку от шляпы, поливала сад горячей водой.
Экономка медлит, зачем-то подводит Эрла к диванчику, придвигает столик с вином, уговаривает держать себя в руках, Эрл начинает догадываться.
– Она… она узнала? Экономка кивает головой.
– Ничего не поделаешь, все говорили об этом. Я старалась скрыть, как могла. Но однажды ночью она прибежала ко мне в слезах и сказала: "Я знаю, он не любит меня больше". И она плакала целую ночь, и у нее сделалась горячка, и мы боялись за ее жизнь целый месяц. А потом она выздоровела и стала, извините меня, довольная и веселая. И песни пела, звонко так, и в спальне запиралась. А я, простите, поглядела однажды в щелку, что она делает. А она шила себе платье из белого муслина и все примеряла перед зеркалом. А на спину сделала крылышки, сначала маленькие, как у бабочки, а потом побольше, а потом уж совсем громадные. И мы не знали, что она не в себе даже радовались, что занятие нашла. А как-то ночью она поднялась на башню и прыгнула в воду.
Эрл вскочил и обнял плачущую старушку.
– Она жива! - воскликнул он. - И я найду ее. Просто у Гарпии выросли крылья, и она улетела.
Старушка положила ему на лоб сухую руку.
– Что вы, побойтесь бога! Разве она птица, чтобы летать?
Солнце зашло за кирпичную стену, и в комнате стало сумрачно. В предвечерней тишинэ особенно явственно звучали голоса мальчишек, игравших в войну на мусорной куче. Издалека доносился благовест. А Март все писал и писал, горбясь над подоконником, почти не видя букв и не желая отвлечься, чтобы зажечь свет. Никогда ему не писалось еще так легко и свободно. Он отчетливо видел перед собой эту ненавистную рыжую Римму и заурядного Эрла, похожего на него самого, только богатого и благополучного, и удивительную Гарпию, несущуюся над морем на перламутровых крыльях, Наконец Март дописал заключительные слова главы, выпрямился, провел ладонью по лбу, как бы стирая фантастические образы, и сладко потянулся, возвращаясь к действительности. Несколько секунд радостный подъем творчества еще бодрил его. Потом он вспомнил о бедности, безработице и Герте.
Где же Гертруда? Сколько времени можно провожать сестру?
Он зажег свет и заметил возле зеркала приколотую к салфетке записку:
"Дорогой Март!
Я долго ждала и терпела, но больше не могу. Ты сам понимаешь, что жить так невозможно. Тебе самому без меня будет легче. Если бы ты любил меня достаточно и думал обо мне, ты давно нашел бы в себе энергию, чтобы устроиться как следует.
Прощай, будь счастлив по-своему. Не старайся отыскать меня. Это будет неприятно нам обоим.
Герта".
Март перечитывал записку и никак не мог понять, что это значит; "неприятно обоим" или "устроиться как следует"? И только взглянув на разбросанные вещи, он все осмыслил и застонал, схватившись за голову.
Ушла! Убежала! Улетела, как Гарпия!
Он недостаточно любил Герту, и она улетела.
Больше Март не написал ни слова. Он не знал, как кончить рассказ.
По первоначальному замыслу Эрл должен был очнуться после болезни, вся история Гарпии оказывалась бредовым сном. Но теперь Март понял, что такой конец был бы фальшивым. Гарпия не была, не могла быть миражом, И Эрл не должен был отступиться, легко расстаться с ней, как с сонным видением. Он обязан был искать ее… как Март искал Герту.
Должен был ходить к Маргарите и что-то выведывать, стойко вынося насмешки. Должен был навещать дядей, теток и прочих самодовольных родственников, хитря, задавать им наводящие вопросы, ловить на противоречиях, внимательно осматривать комнаты в поисках забытой на диване косынки - улики, свидетельствующей о спрятанной Герте. Должен был, притаившись за оградой, ждать, не мелькнет ли за окошком силуэт жены. И дарить медяки соседским мальчишкам и выспрашивать, не видали ли они блондинку в клетчатом жакете.
"Если бы ты любил меня достаточно…" - писала она. Март и сам только теперь понял, как он любит жену. Он мог быть резок, мало говорил ей ласковых слов, но как же она не понимала, что и нудная работа в конторе, и сверхурочные, и подарки родственникам, и унизительные поиски работы - все делалось ради нее. И даже стихи, которые она не ценила, и даже эта, тайком написанная повесть о Гарпии - все было для того. чтобы получить ее признание.
А теперь Март перестал искать работу. Работа больше не интересовала его. Он продавал последние вещи и на вырученные деньги давал объявления в газеты. А время тратил на хождение по знакомым, у которых мог случайно встретить Герту.
Они с Эрлом очень беспокоились о своих женах. Ведь и Герта, как Гарпия, совсем не знала практической жизни. Что она видела в сущности, кроме кухни, портних и универсальных магазинов? Каждый мог ее обмануть, каждый мог обидеть.
Март часами ломал голову, угадывая, куда они делись. Он ходил на вокзалы и в порт. В порту кто-нибудь мог видеть Гарпию. По всей вероятности, она полетела на родину. Это было безумие - лететь за тысячи километров на слабых, заново выросших крыльях, но ведь у нее не было ни малейшего понятия о географии. А если буря? А если она потеряла направление? Сколько может лететь над океаном слабая женщина? Она была такая нежная, лицо еще хранило воспоминание о ласке ее мягких рук.
Нужно было побороть застенчивость и каждого служащего, каждого матроса в порту спрашивать о Гарпии. И ничего, если люди смеются в глаза и отвечают издевательски: "Крылатая женщина? Как же, знаю. Она подает пиво в баре за углом". И не надо бояться насмешек в отделах объявлений. Пусть печатают слово в слово: "Размах крыльев шесть - восемь метров, клетчатый жакет, блондинка высокого роста, греческий профиль".
Пусть смеются. Прочтет кто-нибудь, кто ее видел.
Днем и ночью Эрла мучил кошмар. Он видел, как истомленная Герпия, тяжело двигая крыльями, летит над волнами. Полет ее неровен. Она рывком набирает высоту и устало планирует к воде. Грузные велы протягивают жадные губы, лижут кайму платья. Пена, как голодная слюна, течет по гребням. Гарпия отдергивает ногу, коснувшись холодной волны, судорожно машет тяжелыми, набухшими от брызг, разъеденными солью крыльями, шлепает ими по воде, бьется в смертельном испуге…
– Эрл! - кричит она пронзительно. - Эрл!
Марту было до слез жалко Гарпию. Он сидел с ногами на неубранной кровати, жадно тянул окурки, чтобы успокоиться. Он не хотел, чтобы Гарпия утонула. Ведь она же такая сильная - целый день несла по воздуху Эрла - взрослого человека. Правда, была любовь… и хорошая погода.
А какая была погода на этот раз? Впрочем, путь дальний, всякие могли быть перемены. В тропиках часты циклоны. Вспомнить бы число, послать запрос в бюро погоды. Какое же было число?
Ах да никакое. Он все выдумал.
А когда ушла Герта, был весенний день, солнечный и ветреный. В городе-то было приято, свежо, а в океане, наверное, разыгралась настоящая буря. Клетчатый жакетик Герты в мгновение превратился в холодный компресс. Герта так боялась простуды…
Но ведь не она летела. Летела Гарпия.
А если Герта не улетела, почему же он не может ее разыскать?
Однажды Марту приснился сон. Он шел с Гертой по волнолому. И вдруг у Герты за спиной оказались перламутровые крылья, громадные, метров восемь в размахе. И Герта была оживлена, довольна, много смеялась.
– Сейчас я полечу, - говорила она. - Вам, мужчинам, не дано такое счастье. Вы слишком много едите, у вас животы тяжелые. Жадность держит вас на земле. Если бы ты научился не есть…
Вот такой был сон. А может, это был и не сон, потому что дня через два на том же волноломе Март встретил зеленого матроса, который сказал ему, что он замечал, не раз замечал крылатую женщину, летавшую над заливом. "Вы можете видеть ее в сумерки, - добавил он. - Она часто залетает сюда".
Очень странный человек был этот матрос. Лицо у него было какое-то мутное и меняющееся, по нему струилась вода. И, поговорив с Мартом (правда, он называл его Эрлом, но Март не протестовал, он в сущности имел право на это имя), матрос как был, в одежде, спустился с волнолома в воду. Рядом стояли кочегары с французского парохода и негритянка - торговка бананами, но никто из них не удивился. Видимо, таковы были повадки зеленого матроса.
После этого, выполняя совет Герты, Март старался не есть ничего. В голове у него было светло, как-то по-праздничному чисто. А тело стало легким, невесомым, и по земле уже трудно было ходить, ветер отрывал его от асфальта. И Март понимая, что скоро, когда ветер будет посильнее, он сможет полететь за женой.
Однажды поздно вечером он сидел в порту (теперь он уже никуда не уходил отсюда). Разыгрывалась непогода. Тяжеловесные оливковые валы напирали плечом на волнолом, и брызги летели шрапнелью в небо, где неслись, задевая за мачты, клочья дымчатых туч. Барки со спущенными парусами топтались у причалов, стонали, охали, лязгали якорными цепями.
И вдруг Март увидел ее. Она летела над водой очень низко, задевая гребни намокшими крыльями. Волны лизали кайму ее платья, клетчетый жакет намок, превратился в холодный компресс. Герта кашляла, испуганно поджимала ноги, рывком старалась набрать высоту и тут же устало планировала вниз.
Вот она над самой водой. Черный вал нависает над ее спиной… Обрушился! Герта бьется на воде, беспомощно ударяя слипшимися крыльями.
– Март, - кричит она пронзительно. - Март!
Март протягивает к ней руки. Порыв ветра поднимает его на воздух. Март летит. Март плывет на помощь любимой.
Горькая вода плещет в лицо, льется в рот, соль ест глаза. Март бьет руками по воде и по воздуху…
И это конец повести о крыльях Гарпии.
Ольга Ларионова. РАЗВОД ПО-МАРСИАНСКИ
– Корели?
Он вскочил и уставился на свою жену. Ну да, Корели. В чем же дело? Что ему было вскакивать и орать на Весь дом? Корели…
– Корели, черт бы тебя побрал…
Он снова сел на постель и долго тер виски. За эти четыре года буквально не было дня, чтобы у нее не появилось очередной ангельской привычки. Вот и сегодня - смотреть на спящего человека…
– Что за манера - смотреть на спящего человека? Вот уже четыре года, как из тысяч таких вот маленьких привычек она пытается создать самое себя. Каждый день она старательно изыскивает новую блажь, при этом не забывая и периодически повторяя старые. Вероятно, про себя она называет это "активным протестом против нивелирования собственной личности". Сейчас этот активный протест выражается в том, что она упорно смотрит на него круглыми пуговичными глазами, разделенными надвое узкой прорезью стоячего, остекленелого зрачка. Она смотрит на него, как снежная птица чичибирилинка.
– Ну, что ты смотришь на меня, как чичибирилинка. Но стоячая вода зрачков - стоячая вода. Совершенно очевидно, что воспоминание о снежной птице не обременяет памяти жены. А это была очень красивая птице. Совсем маленькая, с ладонь.
– Неужели не помнишь? Совсем маленькая птица, с мою ладонь…
Только глаза у нее были не круглые, как у людей, а удлиненные, с перламутровой инкрустацией белка. Снежная птица, встреченная ими в их первое лето, когда они забирались все дальше и дальше на север, пока не дошли до бурых полярных болот. Он хотел вернуться, но Корели потянула его дальше, ей хотелось обязательно дойти до самого полюса, чтобы увидеть настоящий снег, и они его увидели, потому что лето было холодное, и полярная шапка растаяла не до конца. Но если бы лето было жаркое, они напрасно дошли бы до самого полюса, и, может быть, Корели потащила бы его на юг, на самый-самый юг, потому что ей приспичило увидеть снег.
Островок снега был совсем крошечный, они дошли до него к ночи и провели на нем ночь. И тогда к ним прилетела белая птица.
– Она прилетела к нам…
– Я помню, - сказала Корели - Я все помню. Сит. Он перестал тереть виски и вскинул голову:
– Да ну? - оказывается, она помнила еще что-то, кроме своих бесчисленных привычек, входивших в комплекс ее старательно придуманного Я.
– Не надо, - попросила Корели, - не надо так. Это была действительно красивая птица. Она села перед нами и чуть-чуть распустила крылья, чтобы кончиками их опираться на снег. Она долго смотрела на нас и все не могла понять, кто мы такие.
– Как же, - сказал Сит, - старалась она понять. Она просто тупо переваривала пищу, потому что обожралась всякими червями из бурых болот, прокисшей ягодой и разложившейся падалью. Она всеядная, твоя снежная птица чичибирилинка. Всеядная тварь.
– Не надо, - снова попросила Корели, - тебе самому потом бывает неприятно, когда ты так говоришь, Сит быстро глянул на нее и потянул к себе одежду.
– Миленькая моя, - он дернул вверх язычок застежки так, что взвизгнули металлические зубчики, - за последние четыре года ты удивительно научилась распознавать, что мне приятно, а что - нет. А потом являться на рассвете и пялить на меня глаза, так что я просыпаюсь в холодном поту.
Корели повернулась и пошла в свою спальню. Теперь, когда она уже не смотрела на него немигающими птичьими глазами, а бесшумно скользила вдоль стены, легко касаясь ее пальцами опущенной руки, и каждое ее движение было удивительно прежним - из того далекого первого лета - теперь все вдруг перевернулось.
– Да постой же ты, ради бога, - досадно крикнул он, - иди сюда, раз уж ты меня разбудила. У меня ведь есть еще время, Она остановилась, прислонясь к стене и спрятав за спиной руки.
– Нет, - сказала она. - Не надо, Сит.
Так, Значит, теперь с интервалом в два-три дня она будет говорить ему "не надо". Нарождение второй привычки за одно только утро.
– Сит, я не хочу так - только потому, что у тебя есть время…
– Миленькая моя, я что-то не припоминаю, чтобы мы с тобой когда-нибудь задумывались над мотивировками.
– Да, - сказала она, - потому что раньше была белая птица, и снег, и звезды, такие яркие, что отражались в снегу.
Он прикрыл глаза и честно припомнил снег, и птицу, и тень от птицы, когда он высек огонь, и все это появилось, но звезды в снегу не отражались.
– Нет, - сказал он, - такого не бывает.
– Белая птица, - повторила она, - и звезды, которые отражались в снегу.
– Птица была, - сказал он.
– И звезды, которые отражались в снегу.
– Черт с ними, пусть отражались.
Корели ничего не сказала. Вот так все четыре года, все четыре проклятых года. Жуткая болезнь - несвертываемость крови. Она сама по себе не делает с человеком ничего страшного, она только позволяет крови вытекать - капля за каплей, беспрестанно, до самого конца.
С каждой каплей все легче и легче становится тело.
Вот оно стало совсем легкое. Невесомое. Чужое.
Чужое.
– Ну вот, - сказал Сит, - вот теперь у меня и времени не осталось.
Он пошел к двери и остановился.
– Ты будешь выходить из дому? - спросил он.
– Да, - сказала она, - но к твоему приходу я вернусь.
Он переступил порог и пошел по узенькой тропинке, стараясь думать о дневных делах, чтобы прогнать раздражение, которое не покидало его с того самого момента, как он проснулся. Но все кругом - и капли росы на шершавых оранжевых листьях, и сиреневая чистота близкого горизонта, и свежий хруст промерзшего за ночь гравия - все непрошенно возвращало мысли Сита к тому, что сейчас утро, раннее утро. Нехорошо начавшееся утро.
Он свернул с тропинки, подошел к гаражу и выбрал себе мобиль; задав обычный курс, почувствовал, как машина плавно набирает высоту. Он прикрыл глаза, чтобы окончательно сосредоточиться на дневных делах, и это ему, наконец, удалось. Так он и сидел уже совершенно спокойный еще несколько минут, пока мобиль не нырнул вниз, и тогда Сит приоткрыл глаза - и разом вспомнил свое пробуждение. Так же, как и сейчас, он тогда лишь приподнял ресницы и увидел край лилового платья и совершенно чужие, незнакомые ему руки.
Тогда он вскочил и крикнул: "Корели?" - и действительно, перед ним стояла жена. В лиловом платье, спрятав руки за спиной, и потому он не мог припомнить, что же так поразило его в самый момент пробуждения.
А сейчас он отчетливо вспомнил эти смуглые, никогда не виденные им прежде руки, и понял, что Корели уходит от него.
Сит задохнулся, словно его мобиль на полном ходу врезался в полосу непроглядного, материально существующего одиночества. Так, значит, она уходит. Но почему именно сейчас, и почему это явилось для него такой неожиданностью?
Ее поступок выпадал из логической схемы их взаимоотношений, до сих пор превосходно объяснявшей ему как его собственные, так и все ее поступки. Кроме вот этого. Следовательно, или действовавшая годами схема неверна, или поступок…
Сит вдруг успокоился. Схема верна. Такая, как Корели, не может уйти от такого, как он. Бессмыслица. Здесь не было ни тени самодовольства напротив, он чересчур хорошо знал собственные недостатки. Именно потому она и не могла покинуть его, что он был достаточно безобразен и невыносим, чтобы иметь право на постоянную нескончаемую доброту и нежность. Потому он и не ждал, что она решится покинуть его.
А может быть, руки - это только показалось? Он ухватился за это утешение и заставил себя обрести прежнюю самоуверенность и уже окончательно успокоился, когда вспомнил, что Корели обещала вернуться к его приходу. Если бы она решилась уйти совсем, она сделала бы это сразу. На постепенный уход требуется слишком много сил. Все только показалось. Миленькая моя, никуда ты от меня не уйдешь.
Корели так и стояла, прислонившись к дверному косяку и спрятав руки за спиной, пока мобиль мужа не взмыл над садом; тогда она быстро пробежала по той же дорожке, по которой только что проходил Сит, и села в первую попавшуюся машину. Мобиль рванулся так, что ее вжало в губчатую спинку сиденья. Это уже слишком похоже на бегство. Не надо так. Она ведь еще вернется. Она обещала вернуться.
В темном - не всем хочется быть узнанными - вестибюле было многолюдно. Корели быстро подошла к свободному экранчику фона и наклонилась, заслонив его плечами.
– Би, пожалуйста, - проговорила она, - выйди ко мне. Би подошла сзади, и Корели вздрогнула, когда та крепко взяла ее за руки.
– Ну, что, глупыш, все-таки пришла? Корели несколько раз кивнула.
Би потащила ее в нишу, и обе уселись на каменную скамеечку, низко опустив голову.
– Не заметил? - спросила Би, разглядывая руки своей подруги.
– Кажется, нет, - ответила Корели. - И напрасно я остановилась на этом. Все надо было кончить еще вчера. Чтобы от меня ничего-ничегошеньки не осталось.
– Успеешь, - сказала Би. - Это никогда не поздно. Я сама когда-то тоже вот так торопилась.
– Пожалуйста, Би, не начинай все сначала. Вчера я тебя послушала, и напрасно.
– Глупыш, это необходимо - говорить, говорить, говорить… Потому что когда от тебя ничего не останется, ты, может быть, захочешь все вернуть, и не сможешь.
– Но почему же, Би? Ведь ты сама вчера сказала: попробуй сначала изменить только руки; если передумаешь, я сделаю их такими же, как прежде.
– Ничего не возвращается, чтобы стать, как прежде. И руки твои будут прежнего цвета и формы, но они один день были другими. В них навсегда останется память о том, что целые сутки они были гибкими, смуглыми руками южанки. И потом…
– Что - потом, Би?
– Ладно, не будем все сначала.
– Тогда, пожалуйста, Би, сделай меня совсем другой. Чтобы ни одна черточка не напоминала о том, какой я была прежде.
– Нет ничего проще. И все-таки потом… Потом ты, может быть, попросишь меня вернуть тебе твой прежний вид, но будет поздно.
– Ты - о себе, Би?
– Конечно, глупыш. Ведь я вижу его почти каждый день. Он и не подозревает, что я - это я. Сейчас я ему не нужна, ни прежняя, ни нынешняя.
– Значит, все было правильно.
– Ничего не правильно. Все еще можно было склеить. А я поторопилась. Глупо все получилось, сгоряча и вдребезги. Так что подумай еще, глупыш.
– Кто же из нас глупыш?
– Ты, потому что сейчас ты торопишься.
– Би, пожалуйста, не уговаривай меня больше, потому что сейчас у меня еще есть силы хоть что-нибудь сделать, а скоро и сил этих не будет. Если бы ты только знала, как это страшно - когда ему все равно, абсолютно все равно, что бы я ни сделала. Одна и та же усталая насмешливость. Это равнодушие впитывает все мои силы, всю кровь, всю жизнь. Еще немного - и от меня останется одна пустая шкурка, съежившаяся кожица. Сделай меня новой, Би, я куда-нибудь уйду, спрячусь и, может быть, оживу. Пожалуйста, сделай меня совсем другой.
– Если ему все равно, то зачем же - совсем?
– Потому что ему все равно, пока я с ним. Но когда я уйду, его будет мучить мысль о том, что кто-то другой целует мои руки, и губы, и волосы; и дотрагивается до меня, и все другое. И потом, уходить надо совсем - чтобы без случайных встреч, совпадений и неожиданностей в будущем. Не я это придумала и не сейчас.
– Да, - сказала Би, - не ты и не сейчас. Но даже когда лист отрывается от ветки или ежик теряет иголку, им больно. Давным-давно люди пытаются расставаться безболезненно, они перепробовали тысячи способов, и этот всего лишь последний, но не думай, что наиболее удачный. Все равно больно.
– Знаю, - сказала Корели. - Но насовсем - это честнее. И мужественнее.
– И все-таки - подумай еще.
– Нет, Би, пожалуйста, Би, сделай, чтобы это было поскорее.
За спиной бесшумно поднималось тепло, нагнетаемое дверными калориферами, а впереди, по самому горбу уходящей за горизонт дорожки, апатично и безболезненно катилось по острому гравию маленькое вечернее солнышко. Узенький порог - граница домашнего тепла и вечерней пронизывающей сырости. Узенькая полоска, которая уже не твой дом и еще не тот мир, который лежит за пределами твоего дома. А ведь ты выбрал себе подходящее место, ни о чем не думая, ты выбрал себе удивительно точное место - на границе того дома, из которого ушла твоя жена, и того мира, в котором она теперь будет жить без тебя.
Сит вытянул ноги, он сидит на пороге пустого дома, теплые гладкие языки вылизывают ему спину.
Село солнце.
Сит просидел еще долго, и ноги его, длинные, как тени, совсем закоченели на уже покрывшейся инеем дорожке; тогда он встал и сделал несколько шагов вперед, чтобы размяться и согреться, но, перестав ощущать за спиной привычную теплоту жилья, он вдруг разом утратил прежнюю раздвоенность и понял, что нет больше дома, из которого Корели ушла, и мира, который есть все остальное, кроме этого дома, - мира, где она пребывает ныне; он, наконец, осознал, что то и другое не разделены больше узеньким порогом - его прежней Корели одинаково не было нигде.
Сит вернулся в дом и долго искал теплую ночную одежду - последнее время они с Корели никуда не выходили по вечерам. Они с Корели… "О, черт, подумал Сит, - вот уже и "мы с Корели". Вранье это. Добрая ложь, как над покойником". Все эти четыре года для него существовало только "я не выходил по вечерам". Что же делала Корели? Может быть, иногда она и уходила. Одна. Он не замечал. А теперь - "мы с Корели", Нет, подумать, как трогательно. И это тогда, когда ее уже нет, Он, наконец, оделся и пошел по дорожке прямо туда, где только что закатилось солнце. Он шел очень долго, не сворачивая, к гаражу, шел, пока впереди не засветились огни центра. И весь этот длинный путь он пытался вспомнить, уходила ли Корели по вечерам, а если и уходила, то что при этом надевала. Но сама одежда не была для него доказательством достоверности ее вечерних прогулок - нет, просто ему хотелось с предельной точностью увидеть, как его жена двигается по комнате, и раздевается, и одевается, и все другое; и тоненькая фигурка жены послушно маячила перед ним в полутьме и все надевала и снимала, надевала и снимала все те одежды, которые действительно у нее были, а потом и те, что Сит придумал; но когда он подошел к самым первым домам центра, вдруг что-то словно оборвалось, и созданная его собственным воображением картина перестала ему повиноваться, отделилась от плоскости его видений и двинулась ему навстречу, запрокинув голову и высоко подняв худенькие острые локти, как это делают женщины, когда им нужно что-нибудь застегнуть сзади на спине.
Сит задохнулся и закрыл глаза. Подумать только, ее больше нет. Нет ее больше - такой. Подумать только. Как будто об этом можно думать. Это если женщина вспоминает мужчину, она "помнит его ум, его тело и душу его ума. Но когда мужчина вспоминает женщину, он вспоминает и тело ее, и ум, и душу ее ума, и душу ее тела… Ох, не то, все не то! Только душу ее тела вспоминает он, если это была такая женщина, как Корели. Разве это память мысли?
Сит приоткрыл глаза, глотнул, собираясь с силами, чтобы снова пойти вперед. Странно, как ему не приходило в голову, что от Корели еще что-то осталось и это "что-то", запаянное в капсулу чужого тела, живет, и двигается, и скорее всего думает сейчас о нем. Малюсенькое такое "что-то". Ах, черт, что же ты сделала, Корели, как же ты убила душу своего тела! Он подумал еще раз, что малюсенькое "что-то" думает сейчас о нем, и часть прежней уверенности вернулась к нему. Не разлюбила ведь, миленькая моя. Устала, не выдержала, а ведь любит. Решила спасать душу своего ума. Ты еще пожалеешь, миленькая моя.
Он перестал думать об этом, малюсеньком, и вошел в центр уже совсем прежним.
К нему подошла девочка и села рядом, положив локти на мокрую стойку. Сит скосил глаза и начал думать, поздороваться ему с ней или это излишне, и еще он понял, что не случайно забрел в этот тихий замызганный бар, а выбрал его потому, что здесь принято разговаривать с посетителями. Он был здесь не впервые, но до сих пор хозяин не высылал к нему никого. Было видно, что ему этого не надо. А сейчас вот подошла, совсем глупый ребенок, и округлые локотки под узеньким рукавом, намокшим снизу.
– Один? - спросила девочка и носком туфли пошевелила теплую куртку Сита, валявшуюся на полу.
– Один, - медленно ответил Сит.
– Совсем? - переспросила она.
– Совсем, - сказал Сит, с трудом отлепляя губы от края стакана.
– Ка-кой! - протянула девочка. - А почему ты один?
Сит вдруг подумал, что бывают такие минуты, когда ты совершенно беззащитен и кто угодно может влезть в тебя и вытянуть самое сокровенное, и ты сопротивляться не сможешь. Он совершенно точно знал это о себе и подозревал, что и у других так бывает.
– У меня ушла жена.
Девочка положила подбородок на руки и стала смотреть на него широко раскрывшимися глазами.
– Совсем? Сит кивнул.
– Стала… другой? - спросила девочка почти шепотом. Сит снова кивнул.
– А это очень больно?
– Да, - сказал Сит, хотя ему и в голову не приходило, как же это на самом деле люди становятся неузнаваемыми. - Да. Это… Это так, словно с тебя сдирают кожу. И по голому мясу красят другой краской, чтобы непохоже было. А волосы наматывают…
– Ой, не надо, пожалуйста, не надо, а то я убегу, а хозяин…
Ну да, она расплачется и убежит, а хозяин ее выгонит. И всем будет хуже. Вот что ты натворила, Корели.
Девочка подняла куртку, встряхнула ее и положила Ситу на колени. Он машинально следил за ее движениями, безотчетно думая о том, что ни в чем она не напоминает ему Корели. Хотя, если уж меняться, то именно так, до неправдоподобия, до парадокса; и ведь она еще любит его, ну конечно же, любит, и знает, что ему худо, хуже некуда, и ее неминуемо потянет узнать, что с ним и кто с ним, и, уповая на свою неузнанность, она пойдет навстречу ему…
И уже не существовало ничего, абсолютно ничего на всем свете, кроме этого огромного и жалкого: "а если?.." Сит тихонько наклонился и осторожно, чтоб не напугать, чтоб не убежала, спросил:
– Ты бывала на самом севере?
– Ага, - сказала девочка, - совсем недавно.
– Там белые птицы.
– Да, мы видели.
– И снег.
– Да, глубокий, вот досюда.
– И звезды, такие яркие…
– Да, большие, - сказала она.
– А ты помнишь, какие именно?
Она покрутила головой, отыскивая то, с чем можно было бы сравнить звезды; ничего не нашла.
– Вот такие, - сказала она, отмеряя половину мизинца и показывая ему. Вот.
– Они были такие яркие, что отражались в снегу, - горько сказал он.
– Наверное, - доверчиво согласилась она.
К середине этой ночи от него не осталось уже ничего прежнего. Отрезвевший и опустошенный, он брел по бесконечным улицам окраин, отыскивая последние ночные бары. Если ему попадалась отпертая дверь, он входил и, торопливо озираясь, находил ту, которая меньше всего походила на прежнюю Корели. Тогда он подзывал ее и говорил ей: "Холодно". И она отвечала: "Да, на улице холодно, но мы закрываем". Мучаясь раз от раза все больше, он говорил; "Холодно, как на севере, ты бывала на севере?" Она что-нибудь отвечала, но он продолжал: "Там белые птицы, и снег, и звезды". Она снова отвечала ему что-нибудь, все равно что, и он, не в силах уйти, не задав этого вопроса, спрашивал:
"А ты помнишь, какие это были звезды?.." А потом приходилось вставать и уходить, и он снова брел по затворенным от него улицам ночных окраин, и путь его был бесконечен.
Илья Варшавский. ЛАВКА СНОВИДЕНИЙ
Если вы когда-нибудь бывали на Венере, то вам, может быть, удалось заглянуть в лавку У-И. Я говорю "может быть", потому что эта лавка не занесена в справочники для туристов. Так что, если вам придет в голову, воспользовавшись минутной передышкой в скоропалительной речи гида из Всемирного бюро путешествий, задать ему вопрос о Лавке Сновидений, то в ответ он недоуменно пожмет плечами.
И все же эта лавка существует. Больше того: было время, когда вокруг покосившегося маленького домика, напоминающего избушку на курьих ножках, велись ожесточенные дебаты во многих комиссиях КОСМОЮНЕСКО. Да и не только там. Однажды вопрос о деятельности Комитета по освоению природных богатств солнечной системы был поставлен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН именно в связи с лавкой У-И. Однако, по рекомендации большинства делегаций, этот тонкий и деликатный вопрос передали на дополнительную проработку в одну из комиссий, где он, по-видимому, пребывает до сих пор.
Так что, если вы когда-нибудь и бывали на Венере, то это вовсе не означает, что вы знакомы с У-И и с его лавкой. Это могло случиться только если вам посчастливилось в развалинах Старого Города повстречать Ю-А и если в это время у вас в руках была книжка с картинками.
Если же вы вообще так и не удосужились слетать на Планету Чудес, как ее именуют в проспектах, то история, которую я собираюсь вам поведать, нуждается в предварительных пояснениях.
К тому времени, к которому относится наше повествование, население Земли уже было в неоплатном долгу перед венерианами. Этот маленький деликатный народец не проявлял никакого интереса к несметным богатствам, которыми обладал.
Все усилия человечества рассчитаться с аборигенами за эксплуатацию недр планеты материальными или духовными ценностями ни к чему не приводили.
Венериане питали непонятное отвращение к жизни в каменных домах, к одежде, изготовленной искусственным путем, а не выросшей на болотах родной планеты, и к земной пище. Казалось, ничто не могло победить их страх перед механизированным транспортом, радио и телевидением.
Их певучая речь, бесконечно богатая интонациями, не могла быть выражена в письменной форме, все попытки создать венерианскую письменность неизменно кончались неудачей. Ею могли пользоваться все, кроме тех, для кого она создавалась.
Но самый большой конфуз постиг современных миссионеров, пытавшихся привить соплеменникам У-И дух здорового атеизма. Решив, что их культовые обряды, кстати очень красочные, чем-то оскорбляют религиозное чувство странных существ, прилетающих с неба в ореоле огня, коренное население планеты откочевало в болота, предоставив пришельцам полную свободу поведения.
Я не знаю, почему У-И не последовал за своими сородичами. Он удивительно ловко умел уклоняться от недостаточно деликатных расспросов. Мне кажется, что искусство, которым владел У-И, играло немаловажную роль в религиозных обрядах венериан. Во всяком случае, я не раз видел посланцев из болот, нагруженных плетеными мешками с волшебным товаром, когда они, озираясь по сторонам, выходили поздно вечером из лавки У-И.
Как-то У-И мне сказал, что умение находить нужные листья для сигар передается в их роду от отца к сыну. На мой вопрос, сколько же поколений владеет этим секретом, последовал лаконичный ответ: "много".
Сам У-И не был женат. Уже много позднее я понял, что это была одна из причин, заставившая его остаться в романтических развалинах Старого Города, служившего приманкой для туристов. Ибо душу У-И, заключенную в крохотное тельце лилипута, непреодолимо влекли большие, румяные женщины Земли.
Второй страстью У-И были книжки с картинками. Отчаявшись приучить жителей Венеры к письменности, Комитет по культурным связям в космосе попытался привлечь их внимание к земной жизни при помощи картинок. Эффект превзошел все ожидания, особенно после того, как в ход были пущены складные иллюстрации. Хотя адаптированные издания Шекспира и Достоевского особого успеха не имели, спрос на сказки трудно было удовлетворить.
Я видел на священном столике в лавке У-И роскошно изданные сказки "Тысячи и одной ночи", которые он почитал не менее божков, вылепленных из синей глины.
Особенный восторг вызывала у него одна из книжек, в которой вы могли, открыв окованные медью двери, попасть во дворец Гарун-Аль-Рашида.
В этом увлекательном и опасном путешествии вас на каждом шагу подстерегали чудеса. То в устланной коврами прихожей вам преграждал путь обнаженный до пояса великан-нубиец, то среди карликовых деревьев важно прохаживались цветастые павлины, то вы попадали в зал без окон, освещаемый брызгами фосфоресцирующего фонтана.
Но вот открыта последняя дверь, охраняемая вооруженным до зубов евнухом, и взору смельчака предстал гарем великого султана. Полные томной неги красавицы в полупрозрачных одеждах, лежащие в соблазнительных позах у ног своего владыки, и, наконец, он, царь царей, великий шах, чернобородый красавец Гарун-Аль-Рашид.
Последнюю картинку У-И рассматривал часами, погруженный в какой-то благоговейный экстаз, что вызывало вполне законное недовольство его клиентов, ибо звук маленького гонга, которым обычно пользовались курильщики, чтобы получить разрешение войти в лавку, не мог пробудить хозяина от сладостных грез наяву Согласитесь сами, что не очень приятно проделать весь путь от болот до Старого Города и, вместо вожделенной сигары проторчав полдня у заветных дверей, ни с чем вернуться восвояси.
Назревавший конфликт между У-И и его соплеменниками был улажен, со свойственным венерианам тактом, специальной делегацией, возглавляемой Ю-А.
Выполнив весь сложный ритуал, принятый в подобных случаях, и выкурив по толстой "оки-оки", высокие договаривающиеся стороны пришли к следующему соглашению:
1. Лавка У-И будет открыта для всех желающих от восхода до заката Солнца.
2. У-И предоставляется право вести коммерческие операции с землянами, отпуская им сигары в обмен на книжки с картинками.
Этот договор был дополнен региональным соглашением между У-И и Ю-А, по которому последний брался находить соответствующую клиентуру среди туристов, получая в качестве комиссионного вознаграждения по одной сигаре за каждый проданный десяток.
Первым результатом заключенного договора было то, что на следующий день У-И вышел из универмага Дома Дружбы, держа в руке красочно оформленную картонную коробку со звонком "Прошу повернуть!".
Через два часа после того как приобретение У-И было занесено в книгу взаимных расчетов двух планет, шеф-инженер Управления по Внеземным Контактам установил этот звонок на дверях Лавки Сновидений.
Я не берусь утверждать, что установка обычного звонка была единственной услугой, непосредственно оказанной земной цивилизацией малоразвитому населению Венеры, но все же сведения о ней фигурировали в отчетах всех тридцати двух комитетов, связанных с проблемой освоения планет Солнечной системы.
Очевидно, отчеты, в которых упоминалась курильня У-И, и привлекли к ней внимание КОСМОЮНЕСКО.
Для расследования беспрецедентного случая торговли наркотиками на глазах у международной администрации было создано множество комиссий. Их заключения с ответами на поставленные вопросы сброшюрованы в двенадцати объемистых книгах.
Наркотики? Да, сигары, изготовляемые У-И, представляют собой сильное наркотическое средство, вызывающее глубокий сон с яркими сновидениями. Химическая формула этого наркотика окончательно еще не установлена. Однако наркотические средства, входящие в состав листьев, из которых изготовлены сигары, не содержат вредных для организма веществ. Более того, на основании проведенных клинических исследований можно утверждать, что систематическое курение сигар, изготовляемых У-И, благотворно сказывается на течении таких заболеваний, как ранняя стадия рака легких, острые приступы стенокардии, а также при обострении различных колитов. Опыты были проведены в клиниках Земли. Среди населения Венеры желающих подвергнуться соответствующим исследованиям равно как и больных указанными болезнями не оказалось.
При оценке социологического аспекта проблемы комиссии единодушно отмечали отрицательное влияние курения сигар, поскольку это препятствует успешному распространению среди аборигенов таких прогрессивных методов передачи информации, как кино и телевидение, которые упорно отвергаются венерианами, предпочитающими красочные сновидения, вызванные дымом сигар. Поэтому комиссии рекомендуют КОСМОЮНЕСКО создать организацию, которая юридически была бы правомочна наложить запрет на изготовление, сбыт и курение наркотических сигар а пределах всей Солнечной системы.
Что же касается лечебного использования сигар, изготовляемых венерианином У-И, то эта проблема осложняется нежеланием изобретателя открывать кому бы то ни было секрет их изготовления. Пока необходимые для дальнейших опытов сигары могут быть получены только в обмен на адаптированные сказки с картинками, Как бы то ни было, но весь шум, поднятый комиссиями, в общем мало коснулся самого У-И, разве что только увеличил сбыт сигар.
Ю-А исправно выполнял принятые на себя обязательства, и редко выпадал такой день, когда в Лавке Сновидений не появлялся вновь завербованный клиент.
Особенным успехом у туристов пользовались маленькие черные сигарки "изи-изи", дым которых вызывает видение венерианских джунглей. За час, проведенный на жесткой лежанке, курильщик переживал больше приключений, чем иной исследователь планет за всю свою жизнь.
Что ни говори, а У-И был мастером своего дела!
Теперь он мог спокойно предаваться созерцанию гарема, не рискуя вызвать этим чьи-либо нарекания. Новый звонок был способен пробудить к действительности самого заядлого фантазера.
И все же У-И нарушал заключенный договор. Часто с утра, намалевав углем на дверях лавки изображение венерианина, шествующего под нависшими кронами деревьев, что в переводе на обычный язык означало "ушел за товаром", он уединялся в маленькой комнатке, расположенной за кабинками для курения.
Характер тайных занятий хозяина лавки оставался для всех секретом, потому что У-И решил ни больше, ни меньше как изобрести новый сорт сигар, способный перенести его душу из сонного тела прямо во дворец Гарун-Аль-Рашида.
Можете не сомневаться, это ему удалось, ибо У-И был не только великим мечтателем, но и великим магом снов.
Однако между великим и смешным всего один шаг, и измерить это расстояние было суждено У-И.
Каким смешным и жалким должен был показаться обитательницам гарема маленький, кривоногий, пузатый венерианин по сравнению с владыкой всего мусульманского мира, сказочным Гарун-Аль-Рашидом!
Бедный У-И! Он сам это понял, притаившись за ширмой, расписанной диковинными птицами, и подглядывая исподтишка за сыном пророка, сидящим на диване. В одной руке шаха был мундштук драгоценного кальяна, другой он небрежно перебирал волосы прекраснейшей Гаянэ, жемчужины гарема.
Бедный У-И! Самые дерзкие, самые потаенные мечты его таяли, как струйки табачного дыма, выходящие из янтарного мундштука.
Несчастный маленький уродец У-И! Целый день шагал он по своей лавке, не отзываясь на пронзительные звонки. Страсть, ревность и отчаяние терзали его подобно чудовищам венерианских лесов в кошмаре начинающего курильщика.
Обливаясь слезами, незадачливый влюбленный то прижимал к груди заветную книжку, то топтал ее ногами, проклиная того, кто выдумал эту обольстительную и злую сказку.
Все же у сказки есть свои законы, и там, где бессильна Любовь, ей помогает Дружба.
Ю-А был преданным другом, и план, который родился в его голове, был дерзостно смел и до гениальности прост.
На следующий день вечером верный Ю-А уложил У-И на лежанку для курения и сам сунул ему в рот толстую сигару, длиной в локоть. Вторая такая же сигара, накрошенная маленькими кусочками, хранилась в карманах У-И.
Теперь У-И, перенесенный во дворец восточного владыки, должен был улучить момент и подсыпать ему в кальян своего зелья, а Ю-А, выждав положенное время, - поднять такой трезвон при помощи "прошу повернуть!", который был бы способен пробудить и мертвого.
Да, в маленькой тощей груди Ю-А билось большое и отважное сердце! Честно говоря, я бы не хотел быть на его месте, когда из кабины для курения в лавке У-И вышел, волоча за собой потухший кальян и протирая заспанные глаза, не кто иной, как сам Гарун-АльРашид.
Мне неизвестны подробности этой ночи. Впрочем, важно лишь то, что, когда великий шах наконец опять уснул под утро в Лавке Сновидений с сигарой в зубах и адаптированной книжкой под боком, Ю-А деликатным и нежным звонком вызвал своего друга из небытия.
Очевидно, экспедиция удалась на славу, потому что У-И ходил важный, как павлин. Он поглаживал свой животик и так плутовски глядел на Ю-А, что тот изнывал от любопытства, но в отношении всего, что произошло во дворце, У-И хранил скромное молчание, подобающее истинному мужчине.
Вскоре У-И установил в своей лавке еженедельный выходной день, посвященный экспедициям во дворец.
В эти дни Ю-А вместо него безвыходно сидел в лавке, и редкие туристы, которым приходило в голову полюбоваться ночным видом Старого Города, слышали сквозь закрытые ставни громкую перебранку, причем один из голосов изъяснялся на певучем венерианском наречии, а другой - низкий гортанный баритон по-видимому, принадлежал землянину.
Так продолжалось около года, пока в одно прекрасное утро У-И вернулся из экспедиции с черноглазым младенцем, которого Ю-А немедленно переправил к кормилицам на болотах.
x x x
Всю эту историю мне рассказал У-И, когда я прилетел в длительную командировку.
Мы сидели вечером в Лавке Сновидений. Передо мной красовалась желтая "оки-оки", которой я собирался насладиться после нашей беседы, а У-И с Ю-А воздавали должное содержимому моего портсигара. На столе стояла уже наполовину пустая бутылка, из-за которой у меня были крупные неприятности с международной таможней, и три окаменевших цветка лилии, заменяющие на Венере стаканы.
Словом, все располагало к задушевному разговору, но мне почему-то казалось, что У-И что-то скрывает. Очень странным также было равнодушие, с которым он принял мой подарок - полную адаптированную серию "Похождений Буратино". Я знал, что эти книжки еще не были в киоске Дома Дружбы.
– Ну хорошо, - сказал я, - но мне все-таки непонятно, почему ты снял звонок.
– Звонок? - У-И ловко выпустил десять колец и нанизал их на тонкую струйку дыма. - Почему я снял звонок?
– Да, почему ты снял звонок, - подтвердил я.
– Видишь ли, - взор У-И был мечтательно устремлен в потолок, - сейчас много покупателей. Туристы. Снятся им всякие чудовища, а звонок очень громкий, вдруг он разбудит какое-нибудь страшило?
– У-И, - я вновь наполнил стаканы из пузатой бутылки, - ты меня давно знаешь, У-И?
– Давно.
– Может быть, ты тогда будешь со мной вполне откровенным? Я ведь прекрасно знаю, что чудовища не курят кальяны. Скажи мне лучше всю правду, а то ты меня очень обижаешь.
У-И пригубил стакан и, зажмурив один глаз, лизнул тыльную сторону руки, что по венерианскому этикету означало высшую степень признательности за угощение.
– Всю правду?.. Дело в том, что Гаянэ… Она была бы хорошей женой. Но там есть еще одна старуха… ее мать. Она вечно сует свой нос, куда не нужно… Кажется, уже все пронюхала. Боюсь, чтобы не заявилась сюда жить. Нет, - добавил он, помолчав, - пусть уж лучше малыша воспитывает венерианка.
– И он вырастет магом снов, - добавил верный Ю-А.
Илья Варшавский. ОГРАБЛЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ В ПОЛНОЧЬ
Патрик Рейч, шеф полиции, уселся в услужливо пододвинутое кресло и огляделся по сторонам. Белые панели с множеством кнопок и разноцветных лампочек чем-то напоминали автоматы для приготовления коктейлей. Сходство Вычислительного центра с баром дополнялось двумя девицами-операторами, восседавшими за пультом в белых халатах. Девицы явно злоупотребляли косметикой, и это определенно не нравилось Рейчу. Так же, как, впрочем, и вся затея с покупкой электронной машины. Собственно говоря, если бы Министерство внутренних дел поменьше обращало внимания на газеты, нечего было бы заводить все эти новшества. Кто-кто, а Патрик Рейч за пятьдесят лет работы в полиции знал, что стоит появиться какому-нибудь нераскрытому преступлению, как газетчики поднимают крик о том, что полиция подкуплена гангстерами. Подкуплена! А на кой черт им ее подкупать, когда любой гангстерский синдикат располагает значительно большими возможностями, чем сама полиция. К их услугам бронированные автомобили, вертолеты, автоматическое оружие, бомбы со слезоточивым газом и, что самое главное, возможность стрелять по кому угодно и когда угодно. Подкуплена!..
Дэвида Логана корчило от нетерпения, но он не решался прервать размышления шефа. По всему было видно, что старик настроен скептически, иначе он бы не делал вида, будто все это его не касается. Ну что ж, посмотрим, что он запоет, когда все карты будут выложены на стол. Такое преступление готовится не каждый день!
Рейч вынул из кармана трубку и внимательно оглядел стены в поисках надписи, запрещающей курить.
– Пожалуйста! - Логан щелкнул зажигалкой.
– Благодарю!
Несколько минут Рейч молча пыхтел трубкой.
Логан делал карандашом отметки на перфоленте, исподтишка наблюдая за шефом.
– Итак, - наконец произнес Рейч, - вы хотите меня уверить, что сегодня ночью будет сделана попытка ограбления Национального банка?
– Совершенно верно!
– Но почему именно сегодня и обязательно Национального банка?
– Вот! - Логан протянул шефу небольшой листок. - Машина проанализировала все случаи ограбления банков за последние пятьдесят лет и проэкстраполировала полученные данные. Очередное преступление, - карандаш Логана отметил точку на пунктирной кривой, - очередное преступление должно произойти сегодня.
– Гм.. - Рейч ткнул пальцем в график. - А где тут сказано про Национальный банк?
– Это следует из теории вероятностей. Математическое ожидание…
Национальный банк. Рейч вспомнил ограбление этого банка в 1912 году. Тогда в яростной схватке ему прострелили колено, и все же он сумел догнать бандитов на мотоцикле. Буколические времена, когда преступники действовали небольшими группами и были вооружены старомодными кольтами. Тогда отвага и ловкость чего-то стоили. А сейчас… "Математическое ожидание", "корреляция", "функции Гаусса", какие-то перфокарты, о, господи' Не полицейская служба, а семинар по математике. -…таким образом, не подлежит сомнению, что банда Сколетти…
– Как вы сказали?! - очнулся Рейч.
– Банда Сколетти. Она располагает наиболее современной техникой для вскрытия сейфов и давно уже не принимала участия в крупных делах.
– Насчет Сколетти - это тоже данные машины?
– Машина считает, что это будет банда Сколетти. При этом вероятность составляет восемьдесят шесть процентов.
Рейч встал и подошел к пульту машины.
– Покажите, как она работает.
– Пожалуйста! Мы можем повторить при вас все основные расчеты.
– Да нет, я просто так, из любопытства. Значит, Сколетти со своими ребятами сегодня ночью вскроют сейфы Национального банка?
– Совершенно верно!
– Ну что ж, - усмехнулся Рейч. - Мне остается только его пожалеть.
– Почему?
– Ну как же! Готовится ограбление, о нем знаем мы с вами, знает машина, но ничего не знает сам Сколетти.
Логана захлестнула радость реванша.
– Вы ошибаетесь, - злорадно сказал он. - Банда Сколетти приобрела точно такую же машину. Можете не сомневаться, она им подскажет, когда и как действовать.
x x x
Жан Бристо променял университетскую карьеру на деньги, и ничуть об этом не жалел. Он испытывал трезвое самодовольство человека, добровольно отказавшегося от райского блаженства ради греховных радостей в сей земной юдоли. Что же касается угрызений совести оттого, что он все свои знания отдал гангстерскому синдикату, то нужно прямо сказать, что подобных угрызений Жан не чувствовал. В конце концов, работа программиста - это работа программиста, и папаша Сколетти платил за нее в десять раз больше, чем любая другая фирма. Вообще все это скорее всего напоминало игру в шахматы. Поединок на электронных машинах. Жан усмехнулся и, скосив глаза, посмотрел на старого толстяка, которому в этот момент телохранитель наливал из термоса вторую порцию горячего молока. Вот картина, за которую корреспонденты газет готовы перегрызть друг другу глотки: гроза банков Педро Сколетти пьет молочко.
– Ну что, сынок? - Сколетти поставил пустой стакан на пульт машины и обернулся к Бристо. - Значит, твоя гадалка ворожит на сегодня хорошее дельце?
Бристо слегка поморщился при слове "гадалка". Нет, сэр, если вы уж решили приобрести электронную машину и довериться голосу науки, то будьте добры обзавестись и соответствующим лексиконом.
– Мне удалось, - сухо ответил он, - найти формулу, выражающую периодичность ограблений банков. Разумеется, удачных ограблений, - добавил он, беря в руки школьную указку. - Вот здесь, на этом плакате, они изображены черными кружками. Красные кружки - это ограбления, подсчитанные по моей формуле. Расположение кружков по вертикали соответствует денежной ценности, по горизонтали - дате ограбления. Как видите, очередное крупное ограбление приходится на сегодняшнее число. Не вижу, почему бы нам не взять такой куш.
– Какой куш?
– Сорок миллионов.
Один из телохранителей свистнул. Сколетти в ярости обернулся. Он ненавидел всякий неожиданный шум.
Некоторое время глава синдиката сидел, тихо посапывая. Очевидно, он обдумывал предложение.
– Какой банк?
– Национальный.
– Так…
Чувствовалось, что Сколетти не очень расположен связываться с Национальным банком, на котором синдикат уже дважды ломал себе зубы. Однако, с другой стороны, сорок миллионов - это такая сумма, ради которой можно рискнуть десятком ребят.
Бристо понимал, почему колеблется Сколетти, и решил использовать главный козырь:
– Разумеется, все проведение операции будет разработано машиной.
Кажется, Бристо попал в точку. Больше всего Сколетти не любил брать на себя ответственность за разработку операции. Пожалуй, стоит попробовать, если машина… Но тут его осенило:
– Постой! Говорят, что старик Рейч тоже установил у себя в лавочке какую-то машину. А не случится так, что они получат от нее предупреждение?
– Возможно, - небрежно ответил Бристо. Однако у нас в этом деле остается некоторое преимущество: мы знаем, что у них есть машина, а они про нашу могут только догадываться.
– Ну и что?
– Вот тут-то вся тонкость. Машина может разработать несколько вариантов ограбления. Одни из них будут более удачными, другие - менее. Предположим, что полиция получила от своей машины предупреждение о возможности ограбления. Тогда они поручат ей определить, какой из синдикатов будет проводить операцию и какова тактика ограбления. Приняв наилучший вариант за основу, они разработают в соответствии с ним тактику поведения полиции.
– Ну и прихлопнут нас.
– Ни в коем случае!
– Почему же это?
– А потому, что мы, зная об этом, примем не наилучший вариант, а какой-нибудь из второстепенных.
Сколетти энергично покрутил носом.
– Глупости! Просто они устроят засаду в банке и перебьют нас, как цыплят.
– Вот тут-то вы и ошибаетесь, - возразил Бристо. - Рейч ни в коем случае не решится на засаду.
– Это еще почему?
– По чисто психологическим причинам.
– Много ты понимаешь в психологии полицейских, - усмехнулся Сколетти. А я-то знаю старика больше тридцати лет. Говорю тебе: Рейч любит действовать наверняка и ни за что не откажется от засады.
Бристо протянул руку и взял со стола рулон перфоленты.
– Я, может быть, и мало знаю психологию полицейских, но машина способна решить любой психологический этюд, при соответствующей программе, разумеется. Вот решение такой задачи. Дано: Рейчу семьдесят четыре года. Кое-кто в Министерстве внутренних дел давно уже подумывает о замене его более молодым и менее упрямым чиновником. Во-вторых, на засаду в Национальном банке требуется разрешение Министерства внутренних дел и санкция Министерства финансов. Что выигрывает Рейч от засады? Чисто тактическое преимущество. Чем Рейч рискует в случае засады? Своей репутацией, если он не сможет отбить нападение. Тогда все газеты поднимут вой, что полиция неспособна справиться с шайкой гангстеров, даже в тех случаях, когда о готовящемся преступлении известно заранее. В еще более глупое положение Рейч попадет, если засада будет устроена, а попытки ограбления не последует. Спрашивается: станет ли Рейч просить разрешения на засаду, раз он сам не очень доверяет всяким машинным прогнозам? Ответ: не станет. Логично?
Сколетти почесал затылок.
– А ну, давай посмотрим твои варианты операций, - буркнул он, усаживаясь поудобнее.
x x x
– Ну что ж, - сказал Рейч, - ваш первый вариант вполне в стиле Сколетти. Все рассчитано на внешние эффекты - и прорыв на броневиках, и взрывы петард, и весь план блокирования района. Однако я не понимаю, зачем ему устраивать ложную демонстрацию в этом направлении. - Палец шефа полиции указал на одну из магистралей центра города. - Ведь отвлечение сюда большого количества полицейских имеет смысл только в том случае, если бы мы знали о готовящемся ограблении и решили бы подготовить им встречу.
Логан не мог скрыть торжествующей улыбки.
– Только в этом случае, - подтвердил он. - Сколетти уверен, что нам известны его замыслы, и соответствующим образом готовит операцию.
– Странно!
– Ничего странного нет. Приобретение Управлением полиции новейшей электронно-счетной машины было разрекламировано Министерством внутренних дел во всех газетах. Неужели вы думаете, что в Вычислительном центре синдиката Сколетти сидят такие болваны, что они не учитывают наших возможностей по прогнозированию преступлений? Не станет же полиция приобретать машину для повышения шансов выигрыша на бегах.
Рейч покраснел. Его давнишняя страсть к тотализатору была одной из маленьких слабостей, тщательно скрываемой от сослуживцев.
– Ну, и что из этого следует? - сухо спросил он.
– Из этого следует, что Сколетти никогда не будет действовать по варианту номер один, хотя этот вариант наиболее выгоден синдикату.
– Почему?
– Именно потому, что это самый выгодный вариант.
Рейч выколотил трубку, снова набил ее и погрузился в размышления, окутанный голубыми облаками дыма.
Прошло несколько минут, прежде чем он радостно сказал:
– Ей-богу, Дэв, я, кажется, все понял! Вы хотите сказать, что синдикат не только догадывается о том, что нам известно о готовящемся ограблении, но и о том, что мы имеем в своих руках их планы.
– Совершенно верно! Они знают, что наша машина обладает такими же возможностями, как и та, что они приобрели. Значит, в наших руках и план готовящейся операции, а раз этот план наивыгоднейший для синдиката, полиция несомненно положит его в основу контроперации.
– А они тем временем…
– А они тем временем примут менее выгодный для себя вариант, но такой, который явится для полиции полной неожиданностью.
– Фу! - Рейч вытер клетчатым платком багровую шею. - Значит, вы полагаете, что нам…
– Необходимо приступить к анализу плана номер два, - перебил Логан и дал знак девицам в халатах включить машину.
x x x
– Не понимаю, почему вы так настроены против этого варианта? - спросил Бристо. '- Потому что это собачий бред! - Голос Сколетти дрожал от ярости. - Ну хорошо, у меня есть пяток вертолетов, но это вовсе не означает, что я могу сбрасывать тысячекилограммовые бомбы и высаживать воздушные десанты. Что я военный министр, что ли?! И какого черта отставлять первый вариант? Там все здорово было расписано.
– Поймите, - продолжал Бристо, - второй вариант как раз тем и хорош, что он, во всяком случае в глазах полиции, неосуществим. Действительно, откуда вам достать авиационные бомбы?
– Вот и я о том же говорю.
– Теперь представьте себе, что вы все же достали бомбы. Тогда против второго варианта полиция совершенно беспомощна. Ведь она его считает блефом и готовится к отражению операции по плану номер один.
– Ну?
– А это значит, что сорок миллионов перекочевали из банка в ваши сейфы.
Упоминание о сорока миллионах заставило Сколетти призадуматься. Он поскреб пятерней затылок, подвинул к себе телефон и набрал номер.
– Алло, Пит? Мне нужны две авиационные бомбы по тысяче килограммов. Сегодня к вечеру. Что? Ну ладно, позвони.
– Вот видите! - сказал Бристо. - Для синдиката Сколетти нет ничего невозможного.
– Ну, это мы посмотрим, когда у меня на складе будут бомбы. А что, если Пит их не достанет?
– На этот случай есть вариант номер три.
x x x
В машинном зале Вычислительного центра Главного полицейского управления было нестерпимо жарко. Стандартная миловидность операторш таяла под потоками горячего воздуха, поднимавшегося от машины. Сквозь разноцветные ручейки былой красоты, стекавшей с потом, проглядывало костлявое лицо Времени.
Рейч и Логан склонились над столом, усеянным обрывками бумажных лент.
– Ну, хорошо, - прохрипел Рейч, стараясь преодолеть шум, создаваемый пишущим устройством, допустим, что синдикату удалось достать парочку бомб, снятых с вооружения. Это маловероятно, но сейчас я готов согласиться и с такой гипотезой.
– Ага, видите, и вы…
– Подождите, Дэв! Я это говорю потому, что, по сравнению даже с этим вариантом, подкоп на расстоянии пятидесяти метров, да еще из здания, принадлежащего посольству иностранной державы, мне представляется форменной чушью.
– Почему?
– Да потому что, во-первых, такой подкоп потребует уйму времени, во-вторых, иностранное посольство… это уже верх идиотизма.
– Но посмотрите, - Логан развернул на столе план, - здание посольства наиболее выгодно расположено. Отсюда по кратчайшему расстоянию подкоп приводит прямо к помещению сейфов. Кроме того…
– Да кто же им позволит вести оттуда подкоп?! - перебил Рейч.
– Вот этот вопрос мы сейчас исследуем отдельно, - усмехнулся Логан. - У меня уже заготовлена программа.
x x x
– Хватит, сынок! - Сколетти снял ноги в носках с пульта и протянул их телохранителю, схватившему с пола ботинки. - Так мы только зря теряем время. Твой первый план меня вполне устраивает.
– Да, но мы с вами говорили о том, что он наиболее опасен. Действуя по этому плану, мы даем верный козырь полиции.
– Черта с два! Когда полиция ждет налета?
– Сегодня!
– А мы его устроим завтра.
– Папаша! - проникновенно сказал Бристо. У вас не голова, а счетная машина! Ведь это нам дает удвоенное количество вариантов!
– Так, - Логан расстегнул воротничок взмокшей сорочки, - вариант номер семь - это неожиданное возвращение к варианту номер один. О, черт! Послушайте, шеф, может быть, нам просто устроить засаду в банке?!
– Нельзя, Дэв. Мы должны воздерживаться от каких-либо действий, могущих вызвать панику на бирже. Наше ходатайство разрешить засаду обязательно станет известно газетчикам, и тогда…
– Да… Пожалуй, вы правы, тем более, что вариант номер восемь дает перенос ограбления на завтра, а в этом случае… Да заткните вы ему глотку! Трезвонит уже полчаса!
Одна из девиц подошла к телефону.
– Это вас, - сказала она Рейчу, прикрыв трубку рукой.
– Скажите, что я занят.
– Оперативный дежурный. Говорит, что очень важно.
Рейч взял трубку.
– Алло! Да. Когда? Понятно… Нет, лучше мотоцикл… Сейчас.
Закончив разговор, шеф полиции долго и молча глядел на Логана. Когда он наконец заговорил, его голос был странно спокоен.
– А ведь вы были правы, Дэв.
– В чем именно?
– Десять минут тому назад ограбили Национальный банк.
Логан побледнел.
– Неужели Сколетти?..
– Думаю, что Сколетти целиком доверился такому же болвану, как вы. Нет, судя по всему, это дело рук Вонючки Симса. Я знаю его манеру действовать в одиночку, угрожая кольтом образца 1912 года и консервной банкой, насаженной на ручку от мясорубки.
ЛИДИЯ ОБУХОВА. Птенцы археоптерикса
Антропологу Я.Я. Р о г и н с к о м у посвящаю эту шутку.
– Это ты? Не спишь?
– Не сплю.
Голоса прозвучали странно. Язык был четок и лаконичен; на нем вполне могли изъясняться люди, но сами голоса не казались человеческими. Им не хватало гармонии и свободы. Что-то натужное, принужденное угадывалось в их звучании.
Только что взошла Луна. Стал виднее угловатый дом, похожий на льдину с острыми неравными углами. Его косые стены отбрасывали тень на вымощенный пластмассой дворик. Вокруг стояла тишина, то есть то, что можно назвать тишиной при заунывном шуме ветра, бормотанье воды и сухом треске моторов.
Погода с вечера оставалась ясной. Но по ночам редко было видно небо со звездами: то клубились густые искусственные облака, то зажигалось нужное какой-нибудь отрасли промышленности плазменное свечение, то, наконец, испытывались новые лучи - прямые и невесомые, как дорога в антимир. А еще чаще просто колесили спутники, сменяя друг друга. Они сделались еженощной частью ландшафта; службой для одних, привычкой для всех. Вот и сегодня небо вырядилось богато: на соседнем меридиане включили новую энергетическую систему, ее оранжевый отблеск соперничал со взошедшей луной. А к далекой звезде Омикрон третью неделю стремился сигнальный луч. Его зеленое лезвие тонко разрезало небосвод; оно было кривое, как у старинного ятагана.
Волны света непрерывно двигались и пульсировали; мелькали глобальные ракеты, грузовые и пассажирские; иногда небо казалось даже более населенным, чем земля.
Существа со странными голосами хоронились в тени второго здания, плоского, как коробка. Именно оттуда доносился сухой треск счетчиков, равномерное жужжание включенных машин. Окна были затянуты пленкой; они слепо мерцали, и существа печально прислушивались к безликому шуму изнутри.
– Третью ночь он держится на энергетических душах. Ни минуты сна, - сказал первый голос, более отрывистый и грубый.
Если очень присмотреться, то можно было различить, что голос этот принадлежит существу со смутно знакомым контуром собаки. А его собеседник напоминал лошадь. Но они только напоминали этих давно изменившихся животных, так же как и Земля была к этому времени населена уже не Гомо Сапиенсами Людьми Разумными, а просто Сапиенсами - Разумными, и этот новый человеческий род был и не был похож на людей в такой же мере, как и люди в свое время походили на неандертальцев или отличались от них. Ничего волшебного не произошло, просто эволюция, ускоренная усилиями интеллекта, продвинулась далеко вперед. Но вместе с развитием доминирующего вида-человека (то есть скорее - бывшего человека) - при постоянных и кропотливых усилиях Сапиенсов развивались и другие млекопитающие; они тоже проходили ступень за ступенью лестницу эволюции. (Впрочем, кто знает, какова эта лестница на самом деле? Даже Сапиенсы были лишь ее ступенью. Разумеется, очень высокой ступенью! Сравнительно.) Что касается бывших лошадей и бывших собак, бывших дельфинов и бывших слонов, то они теперь обладали членораздельной речью и посильно помогали Сапиенсам: производили несложные вычисления на счетных машинах, следили за порядком в домах, принимали сигналы, включали и выключали рычаги. Они взяли на себя те остатки физического труда, которые могли еще отвлекать Сапиенсов.
– Жу сегодня был очень бледен, - сказал Бывший Лошадь, прислонясь рыжим крупом к стенке.
– Ему не нравится, когда мы его называем Жу, - одернул товарища Бывший Пес - Сапиенс - и все. Клички приучают к сентиментальности. Это отнимает время.
– И все-таки он Жу, - упрямо повторил первый. - Он не может нам этого запретить.
Пес передернул шкурой.
– Разве он что-нибудь запрещает? Он наблюдает.
– Ты думаешь, он может нас отправить в Большой Круг и заменить другими? Бывший Лошадь ушел глубже в тень.
– Ну, что ты? К чему ему это? На нас вполне можно положиться. Ведь так?
– О, да!
Они помолчали, ежась от ночной сырости. Дом стоял одиноко, в горах. На сотни линейных единиц вокруг не было другого жилья. Зато поблизости шумел поток с чистой и первозданной водой, как и миллионы лет назад! Звери пили ее украдкой, пили до одурения, как алкоголь. Сапиенс, конечно, ничего этого не знал. Он многого не знал о них.
– Интересно, чем он сейчас занят? - опять проговорил Бывший Лошадь. Специально закрасил окна, чтобы мы не смотрели!
– Едва ли он думал о нас. Просто не хотел отвлекаться: к прозрачному стеклу липнет столько ночных бабочек!
– Сегодня бабочек нет.
– Холодно.
– И все-таки: что у него за работа? Слишком он бледен, наш Жу. Я все боюсь: а вдруг с ним что-нибудь случится и мы узнаем об этом только утром?
– Глупости, - Бывший Пес говорил рассудительно. - Ты бы шея лучше спать. Жу не любит, когда мы нарушаем распорядок.
– Не пойду.
Пес вздохнул.
– Ну, тогда взгляни на него разок и успокойся. Утром, убирая лабораторию, я слизнул часть пленки. Нагнись.
Бывший Лошадь нагнулся.
Он увидел Сапиенса, который стоял перед светящейся доской, слегка опустив лоб, тяжелый, как кирпич, - все лицо казалось сплющенным от этой тяжести! А глаза у него были маленькие, ушедшие глубоко под карниз лба, и рот незаметный, легко очерченный, никак не выражающий внутреннюю жизнь, с тех пор как она перестала быть чувственной. Прямая короткая шея с железными мускулами, чтобы поддерживать небесную сферу - череп, вместилище разума. И видящие пальцы, которые вывели Сапиенса за границу глазного диапазона.
Жу поднял руку и коснулся доски. Это было скользящее точное движение. Все, что связано с физической работой и утяжеляет тело, ушло. Ведь люди долго не умели обращаться с собственными членами, лишь у Сапиенсов механизм движения стал совершенным: они никогда ни за что не зацепятся, поднимут и опустят руку, как надо - самым экономным, а потому и самым красивым движением…
Бывший Лошадь со вздохом выпрямился.
– Работает. Значит, до утра.
– В старину по утрам Сапиенсы говорили "Здравствуй!", - неожиданно выпалил Пес. - Они желали друг другу быть здоровыми.
– А что значит быть здоровым? - пробормотал рассеянно Лошадь.
– Это когда лапа не ушиблена и голова не устает от счетной машины.
– А-а, - Лошадь задумчиво потерся боком о стенку.
Пес остановил его:
– Не делай этого. Ты ведь знаешь: Жу сердится. Он думает, что мы забываем принять антисептический душ.
– Мне нравится, когда он сердится, - отозвался с вызовом Лошадь. - Тогда можно вообразить, что он нас хотя бы немного любит.
– Эмоции отвлекают. Сапиенсы должны думать.
– Если б он думал и о нас!
– Иногда думает. Я-то знаю.
– Да. С тобой он говорит чаще…
Они помолчали. Бывший Пес собирался с мыслями.
– Как это удивительно, как странно! - воскликнул он с увлечением. - Мне кажется, порой что-то брезжит в моем сознании, словно вот-вот ухвачусь за путеводную нить - и стану уже не тем, что я есть.
– Ты организован сложнее меня, - грустно согласился Бывший Лошадь. - Мне страшно подумать, что твое развитие уйдет так далеко, и мы станем воспринимать все по-разному. Тогда я буду совсем один.
– Что ты, милый! Ведь развитие вида - дело целой цепи поколений! Даже наш Жу не может заставить перескочить эволюцию больше чем на один порядок сразу.
– "Милый"! Как ты это сказал! Какое славное слово… Как думаешь, если попросить Жу, чтоб он произнес его только один раз, просто так, в пространство - звук ведь можно записать? А погодя как-нибудь схитрить еще; сделать, что он повторит на той же модуляции твое и мое имя, все это смонтировать - и вот он нам будет говорить своим собственным голосом: "Милый Пес! Милый Лошадь!" Говорить столько раз, сколько мы захотим. Вот славно-то!
Бывший Пес смущенно потупился.
– Нет, нехорошо, - честно возразил он. - Мы возьмем то, что нам не принадлежит.
– Что значит "принадлежит"? - снова с досадой спросил Бывший Лошадь, Почему ты так много стал употреблять непонятных слов?
– Я читаю старые книги, - ответил Пес.
Но его товарищ только помотал головой.
– Книги!.. Кому это нужно теперь? Лучше прокрутить через стенку.
– Над книгой думаешь. Она не скользит так быстро, как стенка. На каждой строчке можно остановиться, когда захочешь. Даже Жу все чаще стал брать старые книги из хранилища.
– Вот я и говорю, что ты становишься похож на Жу. Просто ужасно!
– Разве ты его не любишь?
– Ты очень хорошо знаешь, что я люблю его больше всего на свете. А ты?
– Я тоже.
Они замолкли. Вокруг стало сереть. Сами собой потухли осветительные дуги над главным фасадом. Молодая трава, которая при луне казалась политой молоком, сейчас сделалась черной, словно свернувшаяся кровь. Но в кустах уже чирикнула первая птичка, голосом неуверенным и как бы вопрошающим: что это? Взаправду утро или еще какой-нибудь оптический фокус?
– Как ты думаешь, - спросил опять, несколько погодя, Бывший Лошадь, почему Сапиенсы не трогают птиц? Ничего в них не изменяют?
– Жу мне говорил, что их оставили как контрольную ветвь эволюции.
– А! Он с тобой и про это говорит?
– Так, между делом.
– Ты уже научился во всем его понимать?
– Что ты! Этого не смогли бы даже и люди!
– А почему на земле не осталось людей? Зачем Сапиенсы их всех переделали?
– Сапиенсы их не переделывали. Люди сами переделались в Сапиенсов. Какие-то клетки усиленно развивались, а другие притормаживались, и вот понемногу все люди стали Сапиенсами.
– Неужели никто из них не захотел остаться просто человеком?
– Ах, глупый! Но ведь это происходило помимо их воли, как бы само собой.
– Послушай! - вскрикнул вдруг Бывший Лошадь в сильном возбуждении. - Наш Жу действительно может все-все?
– Не знаю. Он говорит, что нет, а я думаю, что да. Но зачем тебе?
– Если его попросить… Нет! Если заинтересовать, подтолкнуть на эксперимент… Только не вперед, а назад, чтоб он растормозил свои те, старые клетки? А. новые затормозил… Ведь он снова станет человеком?!
Бывший Пес долго и усиленно думал. Между его широко расставленными глазами кожа сошлась в напряженную складку.
– Это плохо кончится для него, - наконец медленно проговорил он. - Жу очутится один среди Сапиенсов. Подумай - совсем один!…
– А мы? - вскричал Бывший Лошадь, обуреваемый любовью и преданностью. Если Сапиенсы не захотят его, мы уйдем с ним в лес и построим новый дом. Или взберемся на высокую гору, и все, что останется внизу, будет видеться таким маленьким, что перестанет нас касаться.
Но Бывший Пес только шумно вздохнул.
– Магнитный луч достанет повсюду,
– А зачем им нас трогать? Мы не сделаем ничего плохого; уйдем и только. Раз Сапиенсам Жу не нужен. А нам нужен!
– Значит, ты все время думаешь только о себе? - возмутился Бывший Пес, стукнув хвостом о землю.
– Мне хочется, чтоб он назвал меня "Милый", - прошептал его товарищ, покаянно опуская ушастую голову.
Быстро светало. Стала видна вся его понурая фигура, покрытая рыжей шерстью, и длинная морда с круглым огненно-черным печальным глазом.
– Брось. Не надо расстраиваться, - сказал Бывший Пес. - Уже утро, раскрылись цветы шиповника, скоро проснутся маки.
– Жу все еще не ложился! Посмотрим-ка, что он делает сейчас?
Они снова подошли к стеклянному проему, за которым - уже бледнее виднелся отсвет мелочно-розовых и молочно-голубых ламп. Бывший Лошадь пригнулся, припав к глазку.
– Ну, что? - спросил его Пес.
– Наверное, опыт идет к концу. Горят только двенадцать сигнальных огоньков. Остальные потушены.
– Дай-ка, посмотрю тоже.
Пес встал на задние лапы и приложился к глазку. Он увидел знакомую комнату, очень большую, но казавшуюся тесной, словно она была лишь хорошо пригнанным футляром, полную стрекочущих, щелкающих механизмов, упрятанных в закрытые шкафы. Он, конечно, не слышал звуков сквозь тугое пластическое окно, но легко представлял их себе.
Огромный лоб Сапиенса был стянут обручем, соединенным с Главной Машиной. К ней подключались и все шкафы, стенды, все медленно вращающиеся колеса с пробирками.
– Говорят, что это очень опасные опыты, - проронил за его спиной Лошадь. Поэтому мы здесь одни с Жу.
– Да, у него нет разрешения. Он делает все на свой страх и риск.
– Что такое "страх и риск"? Опять из старинной книги? Но если ему опасно, я стукну копытом по окну!
– Ничего не выйдет. Оно не разобьется. Знаешь, - с воодушевлением воскликнул Пес, оборачиваясь, - больше всего я удивляюсь его внутренней силе! Не думай, что и остальные Сапиенсы таковы. Наш Жу - это нечто космическое! Редкое, как сверхновая звезда. Я готов полностью раствориться в его замыслах!
– Не знаю, не знаю… - пробормотал Бывший Лошадь, в забывчивости жуя крупными зубами травинку. - Недавно мы ездили с ним в Большой Круг, платформа шла довольно быстро, свет падал с одной стороны, - ты ведь знаешь этот бледный подземный свет, подкатывающий и убывающий как бы волнами? Лицо Жу стало тоже бледным, струящимся, подобно воде… Словно он нуждался в помощи…
– Ты слишком часто предаешься мечтам. Жу любит повторять: "То, что мешает работе мысли, - тропа, влекущая вниз!" В конце концов все мы вылупились однажды из яйца археоптерикса. Треск скорлупы прозвучал, как взрыв. Но это было давно. Теперь разумное существо должно оттачивать мышление. Его главное назначение - расширять в Галактике сферу разума, чтобы поскорее вырваться на просторы Метагалактики! Только там находится рычаг управления Вселенной, оттуда льются бесконечные потоки нейтрино, невидимый дождь, который омывает нас днем и ночью - и вся толща Земли не может заслонить от него. Но Сапиенсы в конце концов положат на рычаг свою руку. Я верю.
– Жу не доживет.
– Ну и что же? Это сделают другие.
Бывший Лошадь скосил черный выпуклый глаз на молочно светящуюся стену лаборатории: как в ловушке, там были заключены внеземные, галактические силы. Звездами мигали семицветные огоньки на пультах.
– Зачем мне другие, - прошептал он, опуская голову.
Горячее чувство переполнило верное сердце Пса.
– Ах! - воскликнул он восторженно. - Если б можно было умереть ради него! Пусть бы он даже не знал.
– Неужели мы навсегда останемся разъединены? - пробормотал Лошадь после мучительного размышления. - Как же нам очутиться рядом?
Сапиенс медленно водил своими видящими руками по блестящей ровной ленте; диапазон, не воспринимаемый глазами, стал доступен другому органу зрения пальцам. Какие цвета разворачивались веером перед ним сейчас?! Аскетическое лицо одержимого жаждой знаний склонялось над медленно ползущей серой лентой, похожей на мягкий металл. Как велик был перед ним мир! И как он жаждал большего.
Жу был охвачен мечтами в гораздо более обширных пределах, чем его четвероногие друзья. Пес и Лошадь переживали время душевного пробуждения: потребность чувствовать граничила у них еще с инстинктом. В переливчатых лучах весеннего солнца дали терялись, и они видели лишь ближние предметы. Но Сапиенс находился в иной поре: он был дальнозорок и спокойно отстранял привязанности, грозившие нарушить внутреннее равновесие. Жу упрямо продолжал скитания между небом и землей. На родной планете он искал лишь опоры для своих замыслов, стремился быстрее дать форму идеям.
С тех пор, как вслед за первыми попытками человечества проникнуть в солнечную систему были созданы очаги жизни на Луне и планетах, Сапиенсы вышли, наконец, в Большой Космос. Там их встретило много неожиданностей. За пределами планеты человечество бурно расширяло сферу обитания; оно уже деятельно вмешивалось в космические процессы Галактики. Проблемы продолжали вставать одна за другой, похожие на древние бастионы с их башнями и подземельями, замкнутыми на ржавые замки.
Одна из удивительных идей неожиданно осенила Жу в его одиноких бдениях. Это было как молния; он даже прикрыл на мгновенье лицо сгибом локтя. Беспредельность угрюмого кипящего космоса с раскаленными газовыми шарами, потоки лучей с провалами в темную пыль, светящиеся электронные облака, неравномерно закрученные раковины галактик вдруг явили ему другой лик. Микрои макромиры, которые Сапиенсы рассматривали как свою рабочую площадку, наполнились для Жу еще не найденной, но угадываемой им другой жизнью, ее трепетом, болью, ее грозной силой и трогательной слабостью. Предчувствие иных миров витало вокруг него, как неоткрытые лучи. Нет, он совсем не имел в виду себе подобных; и не жителей системы Омикрон, куда нетерпеливо стремился сигнальный луч Земли! Мечты увели далеко вперед, за пределы человеческого мира.
Среди вечных категорий - вечной материи и вечного движения - есть и дискретная, прерывающаяся бесконечность: это жизнь. Она может возникнуть или нет в любом месте пространства-времени…
Он вспомнил воззрения древних о едином звездном тепе вселенной, где шарик-Земля не более, чем кровяная капля, текущая извечным путем гигантского кроветока. Или невообразимо богатый мир атома - разве нет в нем места микроскопически живому? Что, если живое так же плотно и бесконечно, словно это единая материя, и надо лишь найти дверь, чтобы в нее достучаться?
"Чем изощреннее становится наука, - думал Жу, - тем внимательнее должна относиться она к первобытным сказкам и верованиям- в них часто оказывались крупицы истины!" Наивное одушевление дикарем воды, небесных светил и камней - не было ли предчувствием гнездящейся в них жизни?
В какой-то момент Сапиенсом овладело ощущение пустоты, словно центр тяжести переместился. Вокруг теснились горы, небо было пустынно. Но Сапиенс стоял, не смея ступить: что, если его подошва обрушится на миры, трудолюбивые, невидимые, где целая жизнь с ее длинным путем умещается в долю секунды жизни Сапиенсов? Он почувствовал себя словно впаянным в некий монолит.
И вторично ощущение бездны наполнило его дурнотой: он увидел над собой безоблачное пространство. Но увидел его не таким, как знал ежедневно: небо помутнело, принимая зловещий фиолетовый оттенок. Каждой клеткой он ощутил свою малость, малость своей планеты и чрезмерно ничтожные размеры всего вокругсолнечного эллипса…
Он поднял голову и на секунду уставился в серую пленку окна сосредоточенным, почти невидящим взглядом. Да, эксперимент был ему запрещен, он проводил его сам, на свой страх и риск. Ему пришлось уйти из Большого Круга, никого не убедив. Он шел тогда медленными шагами, и почти неуловимая усмешка трогала губы, словно мысли его были уже далеко. Перед этой бесстрашной, спрятанной внутрь улыбкой все невольно расступились озадаченные, в молчании. И все-таки никто не захотел последовать за ним.
Грустная жалость шевельнулась в сердце Жу. Он смотрел на бледнеющее окно, как на скорлупу. Все человечество представлялось ему сейчас не более чем птенцом: едва высунув голову, он воображает, что раздвинул мир бесконечно!
Жу не смог заставить Большой Круг приостановить наступление на космос, пока не будет точно известно, что земляне не разрушают, не топчут чьи-то чужие миры, существующие, может быть, в другом времени и ином измерении. Но он продолжал сам искать их следы в пролетевшем нейтрино, ловить странные сигналы, которых до него никто не замечал. Вот-вот, казалось, в его руках появится нечто осязаемое… Тогда он пошлет разумному миру бесконечно малых и бесконечно больших величин первую весть, возглас землянина, снедаемого раскаянием и восторгом: "Мы все-таки начали путь познания, хотя он перед нами огромен, - скажет он им. - Имейте снисхождение к дикости Сапиенсов".
Дом плавал в тумане, стены проглядывали неясно. В этой серой предутренней дымке, - полусливаясь с нею, продолжая ее, - встала отвесная стена гор. Серый расплывающийся мираж, слегка позолоченный низкой луной. В уступах лежал поздний снег, тоже призрачный. Небо слегка зеленело в разрывах. Понемногу горный пик как бы освобождался от едкой пелены, и только ущелья по-прежнему дымились, словно там, на дне, кто-то все еще жег можжевеловые костры. Свист пичуг с колокольчиковыми голосами и карканье ворон наполняли безветренный воздух.
– А все-таки хорошо, что мы здесь совсем одни, - проговорил Бывший Пес, следя за тяжело снявшейся птицей. - В этом уголке среди гор никогда ничего не меняется, как остается неизменным птичье яйцо. Они все одинаковы до сих пор, что у археоптерикса, что у этой вороны!
– У вороны яйцо запрограммировано иначе, - возразил Лошадь. - Сложнее.
– Ну, не знаю, - глубокомысленно отозвался Пес. - Создать из рыбьей чешуи перья тоже было непросто. А ведь эволюция быстро совершилась! Жу не захочет этим заняться, но в вороньем яйце, может быть, и до сего дня живет крошечный археоптерикс? Сапиенсы убеждены, что они все знают. А для меня чем больше что-нибудь знаешь, тем сильнее хотелось бы это понять, Асфальтовая река Теплая, как щека, Только приляг слегка, Будешь лежать века, пробормотал вдруг он.
– Что это? - спросил Лошадь.
– Какая-то старая песня.
– Теперь давно нет асфальтовых дорог.
– Я знаю.
– Послушай, ты уже совсем разучился лаять? Только говоришь и говоришь?
– Нет, еще могу.
И в подтверждение Пес поднял морду к бледному небу, где давно потухли искусственные луны и стал невидим зеленый игольчатый луч. Только старая Луна, совсем опустившись к горизонту, сияла все тем же теплым тихим светом.
Раздался высокий надрывный звук волчьего воя. Что-то сжалось внутри Бывшего Пса; он пытался возродить в себе ощущение бесконечно далекого… Время остановилось.
Внезапно обоих словно ударило током: у дверей лаборатории стоял Сапиенс.
– В чем дело? - спросил он утомленно. - Разве изменен режим суток? Почему вы здесь?
Первым опомнился Бывший Пес. Он деланно зевнул и потянулся.
– Видишь ли, Сапиенс, - небрежно сказал он. - Сегодня полнолуние, и я захотел проверить, сохранился ли у меня атавистический инстинкт.
– Ну, и?..
– Есть, но уже приходится снимать внутренние тормоза, чтоб полаять. Архаический способ передачи информации!
Сапиенс бледно усмехнулся…,
– Опыты надо согласовывать со мной, - сказал он, уже оборачиваясь к другому. - А ты?
– Я?!.., Рыжая шерсть взмокла от напряжения.
– Что такое? - протянул Сапиенс, зорко и холодно глядя на него. - Почему ты так волнуешься? Опять неразумная трата эмоций на сущие пустяки?
Он протянул руку, и гибкие, чуткие, бесконечно сдержанные и абсолютно бесстрастные пальцы прикоснулись к задрожавшей шкуре.
– Ты стал слишком нервным. Может быть, тебе не на пользу тишина здешнего места? Что ты скажешь, если я отошлю тебя на время в Большой Круг?
– Это ни к чему, Сапиенс, - поспешно вмешался Пес, с тревогой и жалостью глядя на своего товарища. - Думаешь, ты выглядишь лучше, когда по утрам выходишь из своей лаборатории? У Лошади такое же право напрягать нервную энергию во имя поставленной цели.
– Цели? Это любопытно, - пробормотал Сапиенс. На мгновенье зрачки его вспыхнули, но утомление пересилило, веки опустились на глаза.
– Я пойду лягу, - сказал он вяло. - Принимайте сигналы и следите за натяжением плазмы в аппарате Ф-18. Напомните мне об этом разговоре. Может быть, произошел перескок сразу на два порядка? Мы поговорим.
Бывший Лошадь смотрел ему вслед: узкая спина, легкая скользящая походка…
– Если бы с ним можно было говорить, - прошептал он. Ах, если б только с ним можно было говорить! Пойди, проследи, выпьет ли он хоть свой стакан перед сном?
Бывший Пес, свесив голову, молча двинулся за Сапиенсом. Лошадь остался посреди двора один.
Всходило солнце. Хотя в горах еще витала призрачная пелена, но сквозь нее уже проступало желтоватое тело камня. На пластиковой тропинке исчезали следы ушедших. А по обе стороны воскресающая молодая трава светилась весенней зеленью, Асфальтовая река Теплая, как щека… - пробормотал Бывший Лошадь. Дальше вспомнить он уже ничего не мог.
Юрий Лоцманенко. Лепестки каштанового цвета
Сорокин тщательно прикрыл за собой дверь. Крупное лицо его было устало и неприветливо, казалось, он чем-то озабочен. Он подошел вплотную к панели моих оптических рецепторов, поздоровался, пытаясь изобразить беззаботную улыбку.
– Доброе утро!
Сквозь зеленовато-голубую портьеру сочился свет майского утра, светильники еще не выключили, и в этом странном освещении долговязая фигура Сорокина выглядела почти фантастически. Как всегда изысканно одетый, подтянутый, с незнакомыми морщинками в уголках глаз, он и сейчас был верен себе здороваясь, вежливо склонил голову.
– Как вы себя чувствуете?..
Сорокин помолчал минуту, ждал ответа. Потом придвинул стул, устроился напротив меня, закурил. Я сразу узнал марку сигарет - "Прима", его излюбленные. Сколько помню, Сорокин всегда курил "Приму", подчеркивая постоянство привычки. Это была одна из придуманных им традиций, предназначенная в большей мере для окружающих, чем для себя. Двумя пальцами он держал ореховый мундштук, тоже традиционный, и внимательно следил за волнистой струйкой дыма.
– Вы меня слушаете?
Удивительно - времени прошло немало, а я никак не могу привыкнуть к этому "вы". Я понимаю, что Володька Сорокин, веселый, насмешливый собеседник и неистовый спорщик, отчаянный счастливчик и фантазер, самый близкий мой друг Володька остался там, далеко, по другую сторону моего "я". Там, где цветет сирень, где быстроногие девчата спешат вдогонку за солнцем, где таинственными огоньками подмигивают приборы нашей лаборатории… там, далеко. В двух шагах от неестественно чистой и пустой комнаты. Я понимаю все, только трудно слышать Володькин голос, его отчужденное "вы"…
– Я слушаю.
Мне бы сказать: "Ну, что за разговоры, всегда рад тебе, Вовка!" - но я не имел на это права.
– Сегодня вторник, я давно не заходил… к вам. - Сорокин говорил приглушенно, будто в комнате, кроме него, находились люди, и он не хотел им мешать. - Есть новости. Тищенко защитил кандидатскую, все прошло удачно. Правда, Марчук - вы же знали Марчука - высказался против слишком сложной системы кодирования и голосовал против, но остальным идея Тищенко понравилась. Особенно Секечу из нейрофизического. Он официально предложил Тищенко доцентуру. Везет же людям!..
Сорокин приподнялся и стряхнул сигаретный пепел в пепельницу - рапану. Когда-то, вскоре после моего эксперимента, он принес эту пепельницу сюда и положил на блестящий пустой столик; чувство меры изменило ему тогда. Ведь он приходил и опять исчезал за дверью в своем настоящем мире, а пепельница оставалась рядом со мной.
– Зинченко теперь будет работать в нашей группе. Он чудесный парень, золотые руки. У него новое увлечение - коллекционирует анекдоты, недавно такой выдал - Куликов до сих пор смеется. А вообще у нас после смерти Бориса стало как-то пусто… да что это я несу, вы же… А Зинченко действительно замечательный парень.
Сорокин рассказал, что решено изменить тематику лаборатории, пожаловался на лаборантку Маричку, разбившую - как нарочно! - дефицитный криотрон. Новости были интересные, но я чувствовал: Сорокин чего-то недосказывает.
Напоминание о Зинченко, принятом в лабораторию на мое место, не тронуло меня. За это долгое время я успел привыкнуть к необъяснимому парадоксу и воспринимал его, как говорят, диалектически. Сейчас я слушал Сорокина просто внимательно, не больше, терпеливо ожидая, когда он расскажет ту, главную новость, которой, возможно, вовсе и не было.
Время текло незаметно. Сорокин, похоже, исчерпал запас новостей и посмотрел на часы. Подошел к выключателю, погасил светильники, аккуратно раздвинул портьеры.
– Каштаны совсем расцвели… Открыть окно?
– Да, спасибо.
В комнате заиграло солнце, но морщинки в уголках глаз Сорокина не исчезли. Он снова вытащил сигареты, не закурил, просто грыз свой традиционный мундштук.
– Ну, я пойду… Нужно закончить опыт, - сказал он почти спокойно.
– До свиданья.
Сорокин приоткрыл дверь, постоял молча, потом нерешительно обернулся. Лучики-морщинки в солнечном свете выглядели совсем чужими.
– Да, вот что… - он смотрел в сторону, - вы знаете, я… Мы с Таней решили пожениться. Ты прости меня, Борис. Впервые он назвал меня бывшим моим именем.
Вечно ему не хватало одного дня. Когда грозовой тучей надвигалась сессия, Володька сдавал последний зачет одновременно с первым экзаменом. Честно говоря, Сорокину отчаянно везло, и везенье это было до непристойности постоянно. Все мы бешено завидовали непоколебимому его счастью, в Сорокин воспринимал это как должное. Он фанатически верил в свою звезду.
Однажды Володька пришел в общежитие в первом часу ночи. На завтра был назначен нелегкий экзамен, принимал его Куницкий - сухой, педантичный и не всегда справедливый преподаватель. Не удивительно, что мы далеко за полночь засиделись за конспектами и учебниками. Искренняя студенческая ненависть к доценту Куницкому воодушевила нас на подвиг.
– Честь труду, зубры! - приветствовал нас Володька. Я ни минуты не сомневался, что девчонка-второкурсница, которой Володька как раз закрутил голову, "завалит" завтра очередной экзамен. Однако сам-то Володька победит Куницкого, уж это было точно. Нахал даже не разделял нашей пламенной ненависти к Роботу Куне, как прозвали студенты не в меру ехидного преподавателя. Счастье всегда лежало у него в кармане.
Володька разделся и тоже засел за учебники. Формулы, видно, не лезли ему в голову, да и мне они осточертели. Как обычно перед экзаменом, невероятно хотелось спать. Минут десять мы молча листали страницы, лишь Сашка Сабодаш трудолюбиво исписывал микроскопическими буквами узенькие бумажные гармошки готовил "шпоры". Володька зевнул и с дьявольской вежливостью обратился ко мне.
– Тебя не затруднит, Боря, поспрашивать меня о чем-нибудь из этой муры? он небрежно щелкнул мизинцем по раскрытому учебнику. - Положительно кажется, что я уже готов.
Я задал из любопытства несколько вопросов. Володька ничего не знал, это было ясно. Такая новость немного обескуражила нахала, он снова зашелестел страницами. Но мужества хватило ему ненадолго.
– Этот билет мне не попадется, - вслух решил он. - Главное для успешной сдачи экзаменов - чистая голова. Спокойной ночи, зубры!
Володька молниеносно сбросил одежду и ужом скользнул под одеяло. Угрызения совести не мучили его, через две минуты он спал сном новорожденного.
И действительно, на следующий день Куницкий записал в матрикул Владимира Сорокина "хор". А бедного Сашку с позором выгнал, конфисковав безупречно спрятанные шпаргалки.
В отличие от Сорокина, я был застенчивый и довольно тихий парень. Мгновенные и язвительные Володькины каламбуры иногда приносили ему победу в наших бесконечных спорах, однако чаще последнее слово оставалось за мной. Ему недоставало стойкости, упорства, и Володька знал об этом. "Ты медведь, - шутил он, - ты обязан до конца дней своих продираться сквозь заросли, и обязательно прямо. А если встретишь толстый ствол на пути, долго будешь раздумывать, с какой стороны его обойти…" И все же в наших отношениях Сорокин был старшим. Мне даже нравилось это, ведь я любил Володьку, знал, что он настоящий друг и никогда не предаст. Он мог вспыхнуть вдруг как спичка, наговорить всякой ерунды, но всегда имел мужество откровенно признать ошибку. Одного не прощал Сорокин никому и никогда - глупости. Что же, возможно, он был прав.
Учился Сорокин очень неровно, увлечения его проходили быстро, правда, появлялись они еще быстрее. Но к последнему курсу он взялся за ум и блестяще защитил диплом. Нам предложили работу в лаборатории Куликова, и это был один из тех редкостных случаев, когда повезло не только Сорокину, но и мне.
Лет на шесть старше меня, Куликов работал уже над докторской диссертацией. Поначалу он показался мне фанатиком, потому что не выходил из лаборатории иногда по двое суток. Но за сравнительно короткий срок он успел убедить и меня и особенно Сорокина, что для исследователя (настоящего исследователя, подчеркивал он) такой способ работы - самая обыкновенная вещь.
Лишь здесь, в лаборатории, я увидел, как умеет работать Сорокин. Интерес к творчеству вспыхнул у него внезапно, как всегда, но, к моему удивлению, не исчезал. Конечно, Володька оставался Володькой, самоуверенность его не уменьшилась ни на грош. Он частенько уклонялся от тщательно разработанной Куликовым методики, ставил незапланированные опыты, чтобы проверить собственные предположения, громко и подолгу ругался с Куликовым, обвиняя того в исследовательской слепоте. Но Куликов был упрям и каждый раз возвращал Володьку на путь истинный. Опыт у него был немалый, своих идей тоже не занимать, не хватало Куликову лишь двадцати четырех часов земных суток.
– Он безусловно гений, - говорил мне Володька после очередного крупного разговора (Куликов только что объяснил, в чем ошибается Сорокин, а Володька был вынужден принять его аргументы). - Он гений, но… давай все же попробуем…
Мы жили теперь в общежитии научно-исследовательского института, вдвоем в небольшой комнате, и по старой студенческой привычке у нас все было общее: книги, еда, даже туфли. Частной собственностью осталась только одежда, так как пальто Сорокина было мне до пят; Володька стал еще длиннее, метра два ростом, и не играл в сборной по баскетболу лишь потому, что давно отдал свое сердце плаванию.
Впрочем, не одному плаванию принадлежало Володькино сердце. Мы оба засматривались на голубоглазую Таню, программистку из девятой лаборатории нашего института. Откровенно говоря, мне вовсе не хотелось, чтобы Володькино увлечение на этот раз оказалось серьезным. Меня же как потенциального соперника Володька во внимание не принимал - все преимущества, естественно, были на его стороне. Я до сих пор не знаю, почему Таня избрала меня, а не Сорокина. Почему Володькино непобедимое счастье изменило ему тогда? … Открытое Сорокиным окно впитывало майский день. Каштаны давно расцвели, тысячи белых свечек отражали солнечные лучи. Ветерок раскачивал ветви и осторожно опускал белые лепестки на асфальт, украшая прически деловито спешащих или прогуливающихся людей. На тротуаре детвора затеяла игру в классы. Расчерченный на квадраты асфальт подобрел и размяк под теплыми лучами, а может, оттого, что на нем неровными печатными буквами дети написали "небо", и рядом, под кружочком - "солнце". Каштановые лепестки все плыли вниз, словно снег… … Снег был ослепительный, молодой, звонкий. Январь не пожалел снега хватило и городу, и лесу. Две бесконечные волнистые полосы легли среди сосен. Первыми лыжню проложили двое, оставили голубые полосы в белом безмолвии и исчезли,
– Таня!.. аня…
– Догоняй!… ай… ай…" Сейчас я догоню тебя и понесу на руках. Хочешь, подарю тебе эту белую землю, и небо, и солнце? Быстрее, лыжи, сильные руки не устанут нести свое счастье!
– Люблю!.. лю… лю…
Почему не знал я раньше, где ты, моя единственная?
– Борис, Боря, Борька… Люблю!..
Сосны дарят нам драгоценные самоцветы. Стряхни их с ветки - они падают к твоим ногам белыми лепестками снежинок. Возьми их полные ладони - там солнечная голубень, безоблачное небо. Ослепительный день! Январь или, может, май?…" Май. Каштаны давно расцвели.
Наша работа приближалась к стадии генерального эксперимента. Куликов вконец изнервничался, похудел, работал днем и ночью, совсем загонял сотрудников. Всегда сдержанный, корректный, он за последние месяцы стал раздражительным и нечутким, не выносил самой незначительной критики. Володьку выругал за небрежно проведенный опыт, выругал жестоко и несправедливо, обвинив его в прошлых и даже будущих просчетах. Вместо извинения Куликов навалил на Сорокина уйму работы, досталось и мне. Как на грех, несколько контрольных опытов вышли очень неудачно. Быть может, именно это и натолкнуло меня на некоторые соображения, принципиально расходящиеся с безупречно продуманной Куликовым системой. Мне не хватало еще знаний и опыта, чтобы более или менее убедительно обосновать свои допущения, но подсознательно я был уверен в правильности самой идеи.
В свободное время занялся приблизительными расчетами. Прошел месяц, а вычислениям не было видно конца. Поэтому я решил ознакомить с ними Куликова, положившись на его исследовательскую честность и научный авторитет, хотя в то время этого делать не стоило.
Прекрасный экспериментатор, специалист в кибернетике и бионике, Куликов до сих пор оставался для нас недостижимым авторитетом. Володька Сорокин, с его петушиным характером, полностью признавал превосходство Куликова, хоть и ссорился с ним едва ли не ежедневно. Мне даже казалось, что они любили ссориться.
Когда я показал свои расчеты Куликову, он выслушал меня внимательно и спокойно. Серые глаза его не выразили ни малейшей заинтересованности. Молча взяв исписанные мною листы, он положил их в ящик стола и демонстративно запер замок.
– Идите и работайте, Борис, - устало сказал Куликов. - Вам сегодня обязательно нужно проверить дуплексы входной системы - от этого будет зависеть будущая устойчивая работа всего блока памяти. Полагаю, вам это известно не хуже, чем мне.
Пожав плечами, я возвратился к приборам.
Через неделю Куликов завел меня в свой кабинет, вытащил из ящика мои расчеты, еще какие-то бумаги и целую охапку перфорированных лент.
– Я попробовал проверить, Боря, - он почему-то растерянно заморгал бесцветными ресницами. - Конечно, о точности и речи быть не может, предварительные результаты разнятся на полтора-два порядка. Возможно, твоя идея верна. Может быть, даже перспективнее… моей. Но, Боря… - Куликов смотрел под ноги, - наверное, это параллельное решение. Для его проверки необходимо много времени, ну… год, или больше. Перестроить методику, поставить сотни, тысячи опытов… ты все знаешь, Боря. К тому же твоя идея не оспаривает нашу работу, просто это другое… так сказать… другой путь. Мы затратили почти три года, нам нужен результат. Даже если он будет малоутешительным. Пойми, Борис…
Мне обещали квартиру в новом доме, строившемся для нашего института. Таня не могла дождаться этого торжественного события, и мы чуть не ежедневно ходили смотреть, как подвигается строительство. Возводили шестой этаж, а наша квартира должна была быть на десятом. Таня смотрела на облака, проплывающие над нами, и смеялась: "Там, возле окна, - видишь, какое широкое, - будет стоять твой рабочий стол, а здесь мы поставим сервант. Облака же можно впускать в форточку и складывать на кухне, они, наверное, мягкие и прохладные…" Вечерами Таня приходила к нам в общежитие. Володька деликатно торопился в кино или на свидание, и мы наедине мечтали о счастье.
– Счастливый ты медведь!.. - шутил Володька. - И за что только такое счастье привалит человеку? Ну, скажи вот, за что?
Я глупо хохотал, хлопал Сорокина по спине и предсказывал ему не менее привлекательную судьбу. Иногда мне казалось, что Володькины поздравления были не вполне искренни, но это случалось очень редко.
Наступило время эксперимента. Еще за два дня в лабораторию привезли злого, как сатана, шимпанзе. Он оказался обжорой и каждые двадцать минут бешено тряс решетку проволочной клетки, требуя пищи. Куликов поначалу попробовал угостить его бутербродом из собственного завтрака, но разборчивый шимпанзе швырнул бутерброд на пол.
– Ишь ты, какая цаца, - пощелкал языком Сорокин, сочувствуя обиженному Куликову. Они быстро сошлись во мнении, что шимпанзе - дурак.
Потом обезьяне побрили макушку, привязали к столу и стали пристраивать бессчетное множество биоэлектродов и датчиков. Работа была адская. Двадцать два часа мы не отходили от приборов, позабыв о еде и сне. Меньше всех устал шимпанзе, потому что все это время проспал в глубокой анестезии. Эксперимент завершал первый этап работы лаборатории, целью его было создать модель индивидуальности примата - электронный слепок сложнейшей структуры. Сама того не подозревая, обезьяна задавала программу огромным кибернетическим системам. Полтора миллиарда активных клеток, оптильоны загадочных связей между ними, зрение, слух, осязание - все то, что мы называем высшей нервной деятельностью, теперь должно было вместиться в большом черном шкафу.
Дерзкая мечта - создать когда-нибудь копию человеческой души, вложить в мертвый материал человеческий разум, чувства, эмоции - казалась нам грандиозной и фантастически отдаленной. Откуда мне было знать тогда, что именно благодаря моей идее и стечению обстоятельств это произойдет так быстро?..
Ветер подкрался внезапно, поперепутал каштановые ветви за окном, сорвал с праздничных свечек белые лепестки и понес куда-то. Безоблачный день владел городом, не было начала и конца солнечному торжеству, украшенному белым цветением. Наверное, и ветер знал толк в украшениях. Будет ли он нести их за горизонт или потеряет случайно на полпути?..
Случайность. Странная, жестокая, необъяснимая категория. Всю жизнь сталкиваемся мы со случайностями, их неисчислимое множество, и лишь в этом бесконечном множестве они подчиняются известным нам законам. Но один конкретный случай, одну комбинацию из миллиарда предусмотреть невозможно. … Уставшие, мы с Сорокиным возвращались домой. Эксперимент с обезьяной, только что завершенный, удался далеко не во всем, но и это была победа! Люди еще не знали о нашей победе, не догадывался о ней вон тот солидный прохожий с портфелем, не имела представления о нашем торжестве молодая красивая женщина в солнечных очках, а босоногой девчушке с мячиком наши заботы и вовсе были не интересны. Желто-горячий мяч подскакивал от асфальта к ее ручонкам, послушно повинуясь маленькой волшебнице и повелительнице. Вдруг он подпрыгнул высоко-высоко, упал на край тротуара и покатился по мостовой. Стой, не убегай, мяч, девочка сейчас спасет тебя!..
И тотчас прозвучал пронизывающий скрежет автомобильных тормозов; мгновенно напрягшись, я бросился вслед за ребенком, ощутил страшный короткий удар, и желтый, желтый, желтый мяч исчез где-то в глубине неизведанной бездны…
Двое внесли в неестественно чистую комнату больничные носилки, поставили их осторожно перед граненым черным шкафом и вышли.
– Вот мы и встретились впервые, - сказал неподвижный человек на носилках. - Как мне называть тебя? По имени? Ведь ты лишь машина, умная, чувствующая и непонятная машина. Откуда я знаю, что ты взял от меня все, не позабыл частицы моего "я"?.. Не молчи! Стоит ли от меня что-нибудь утаивать? Все известное мне должен помнить ты, голос мой должен быть и твоим голосом, ты должен видеть меня моими глазами… Я дал тебе жизнь!
– Скрывать я не стану ничего. Зачем? Это наша первая встреча, верно. А может, и последняя. Еще в то время, когда мое сознание заключалось в тебе одном, когда еще не появилось это страшное чувство раздвоенности, мир был удивителен и непрост. Сейчас - тем более. Поэтому не говори мне: ты должен.
– И все же ты машина, быть человеком ты не можешь. В чем-то обязательно обнаружится различие…
– А какое между нами различие? Материальная форма? Пускай я стою здесь недвижимо, мертвый и одновременно живой черный ящик, но ведь и тебя привезли сюда неподвижного, не способного к активному действию, и в нас обоих живет лишь одно - мозг. Желтый мяч, мостовая, перебитый спинной хребет. Случайность, Возможно, ты находишь различие в самой конструкции мыслительного аппарата? Пустое! Различен только материал, функциональная тождественность уравнивает нас. А форма всегда бесконечно разнообразна.
– Но чувства, человеческие чувства? Любовь, страх, отчаяние и радость? Боль, наконец, наслаждение, гнев?..
– Я ощущаю все. Я знал их раньше, когда был человеком, тобой, они перешли ко мне и сейчас. Мы двуедины. Неужели ты думаешь, что мне не больно произнести имя Таня? Не в моей власти забыть и твою, человеческую боль, крик порванных, невосстановимых нервов, и долгие месяцы больничной койки, и неподвижность, и упрямую надежду. Теперь мы знаем - надежда была тщетной. Врачи дали тебе отсрочку, чтоб ты создал меня. Но ты умрешь. И умрешь скоро, а вместе с тобой исчезнет та часть моего двуединого "я", которая не принадлежит мне уже сейчас.
– Как ты жесток, ящик!
– Разве жестокость - сказать правду себе самому? Не забывай: мы - одно. Нас разделяет пространство и время, мы существуем в несоизмеримых координатах, но мы - одно. А разве не жестокость с твоей стороны - решиться на преступный эксперимент? Кто дал тебе такое бесчеловечное право - создать меня?
– Я не понимаю…
– Нет, понимаешь! Я знаю, ты станешь говорить о приоритете, о своем праве даже беспомощным, умирающим осуществить свою блестящую идею, которую, собственно, доработал за тебя Куликов. Ты будешь думать, если не скажешь вслух, о героизме последнего в жизни сознательного поступка. Как же, он рисковая своей драгоценной жизнью, и без того угасающей, он проверял свою гениальную гипотезу, он преодолевал - ах, ах! - свои чувства!.. Свои! Вы, люди, даже не замечаете вашего эгоизма. Никому из вас не пришло в голову, что неудача задуманного эксперимента с тобой была бы неизмеримо гуманнее успеха. Вы создали новое разумное и эмоциональное существо - нечеловека, - которое любит, ощущает, ненавидит, мыслит вашими понятиями и категориями, но которое никогда не будет иметь вашей жизни, вашего счастья, не сможет иметь даже права на смерть. Для вас я машина, ящик, парадокс, нонсенс, все, что угодно, но - не человек. О, как трудно жить машине!.. … Вовка, Вовка! Я не обиделся на тебя за человеческое твое счастье, это было бы просто смешно. Пусть и дальше удача сопутствует тебе. Но зачем ты открыл окно в майскую голубень? Чтобы ветер занес в комнату каштановый цвет воспоминаний? Чтобы снег белых лепестков выстелил пустую комнату мягкой, пушистой тишиной? Кому нужен снег в мае?…
– Таня!.. аня…
– Догоняй!.. ай… ай…
Не открывай больше мое окно, Вовка.
Роберт Хайнлайн…И построил он себе скрюченный домишко
Во всем мире американцев считают ненормальными.
Они обычно в принципе соглашаются с этим обвинением, но источником инфекции называют Калифорнию. Калифорнийцы же упрямо твердят, что своей плохой репутацией они обязаны исключительно жителям округа Лос-Анджелес. Те, в свою очередь, когда им приходится обороняться от таких нападок, начинают поспешно объяснять: "Это все Голливуд. Мы не виноваты - мы не просили, чтобы его здесь построили, он сам вырос".
А обитателям Голливуда нет дела до всех этих пересудов; они живут себе на здоровье и купаются в лучах его славы. Захотите - повезут вас в машине на Лорэл Каньон ("здесь у нас живут самые необузданные"). Жители Каньона женщины с длинными загорелыми ногами и мужчины в трусах, постоянно занятые перестройкой и реконструкцией своих вечно неоконченных домов, - те не без доли презрения относятся к скучным созданиям, которые живут в респектабельных кварталах центра города. Они тешат себя тайной мыслью, что они - и только они - знают, как надо жить. Лукаут Маунтин Авеню - это название узкой боковой улочки, которая ответвляется от Лорэл Каньона. Каньонцы не любят, когда о ней упоминают; в конце концов, должны же быть какие-то границы?
В одном из верхних этажей дома N_8775 по Лукаут Маунтин жил Квинтус Тил, бакалавр архитектуры.
Здесь уместно напомнить, что даже архитектура Южной Калифорнии не такая, как в других штатах.
Запеченные в тесте сосиски, которые, как известно, американцы называют "горячими собаками", здесь продают в ларьках, по виду напоминающих - кого бы вы думали? - да, да, щенка. Такой ларек по продаже "горячих собак" так и называется: "Щенок". Мороженым здесь торгуют в огромных гипсовых фунтиках - они точь-в-точь как настоящие, вафельные, - а неоновые надписи, призывающие есть красный перец, сверкают на крышах сооружений, в которых без труда угадываются перечные стручки.
Внутри крыльев трехмоторных транспортных самолетов размещаются бензин и смазочное масло, на крыльях нарисованы дорожные карты - пользуйтесь на здоровье бесплатно! - а патентованные уборные, которые для вашего удобства проверяются каждый час, располагаются в кабине самого самолета.
Все это может удивить, даже повергнуть в изумление туриста, но местные жители, которые под знаменитым калифорнийским солнцем ходят в полдень с непокрытой головой, относятся к этим вещам как к делу обычному, само собой разумеющемуся.
Квинтус Тил считал архитектурную деятельность своих коллег слабыми, робкими, неумелыми и малодушными потугами.
– Что есть дом? - спросил как-то Квинтус у своего друга Гомера Бейли.
– Ну, в общем, в широком смысле слова, - начал тот осторожно, - я всегда считал, что дом есть устройство, предназначенное для защиты от дождя.
– Чушь! И ты туда же!
– Я ведь не сказал, что это исчерпывающее определение…
– Исчерпывающее! Да оно просто в корне неверно. Если встать на такую точку зрения, то нам и в пещерах бы прекрасно жилось. Но я не виню тебя, продолжал Тил с воодушевлением, - твои взгляды ничем не хуже, чем у тех умников профессионалов, которые считают, что архитектура - дело их жизни. Даже модернисты - в чем их заслуги? В том, что они убрали кое-какую мишуру да наляпали хромированных планок, вот и все. А в душе-то они такие же консерваторы и традиционалисты, как служащие окружного суда. Нейтра! Шиндлер! Ну что создали эти бездельники? Что такого есть у Фрэнка Ллойда Райта, чего нет у меня?
– Комиссионные, - коротко вставил его друг.
– А? Что? Как ты сказал? - Тил не смог остановиться в потоке своих слов, захлебнулся, опомнился и ответил: - Комиссионные. Да, верно, комиссионные. А почему? Потому что я считаю, что дом - это не задрапированная пещера. Дом - это машина для жилья, это живая динамичная штука, это пространство, в котором происходит жизненный процесс, которое изменяется с настроением живущего в нем человека, а вовсе не мертвый статичный гроб большого размера. Почему же мы должны держаться за устаревшие догмы наших предков? Всякий дурак, обладающий зачатками знаний по элементарной геометрии, сможет спроектировать дом в его обычном понимании. Но разве статическая геометрия Эвклида - это все, чем располагает математика? Мы что же, совершенно должны игнорировать теорию Пикара - Вессиота? А модульные системы? А богатейшие возможности стереохимии? Так что же, разве в архитектуре уже нет места для трансформаций, для гомоморфологии, для действенных структур?
– О господи! - отвечал Бейли. - Ведь с таким же успехом ты мог бы говорить, например, о четвертом измерении в архитектуре.
– А почему бы и нет? Почему мы должны ограничивать себя… Послушай! Тил прервал себя и уставился в пространство. - Гомер, а ведь ты сейчас высказал чрезвычайно ценную мысль. Действительно, почему бы нам не использовать это? Подумать только о бесконечном богатстве выражения и взаимоотношений, таящемся в четырех измерениях. Какой дом, какой… - Он застыл на месте, его светлые выпуклые глаза задумчиво помаргивали.
Бейли подошел к нему и тронул его за руку.
– Брось ты все это. И что ты городишь, какие четыре измерения? Четвертое измерение - это время. В него ведь гвоздя не вобьешь.
Тил сбросил руку друга.
– Да, да, конечно. Четвертое измерение - это время, но я-то думаю о четвертом пространственном измерении - таком же, как длина, ширина и высота. В целях экономии материалов и удобства размещения с этим ничто не может сравниться. А уже о том, что экономится площадь под фундамент, и говорить не приходится: на месте однокомнатного дома можно будет возвести дом в восемь комнат. Как, например, тессеракт…
– Какой еще тессеракт?
– Ты что, в школе не учился? Тессеракт - это гиперкуб, квадратное тело в четырех измерениях - ну, знаешь, как у куба три измерения, а у квадрата два. Давай-ка я лучше тебе покажу.
Тил побежал на кухню и принес оттуда коробку с зубочистками, которые он высыпал на стол, небрежно сдвинув в сторону стаканы и почти пустую бутылку из-под джина.
– У меня где-то завалялся пластилин - он нам понадобится.
Один из углов комнаты загромождал письменный стол. Почти засунув голову в один из его захламленных ящиков, Тил начал нетерпеливо рыться в нем. Наконец, он разогнулся, держа в руках кусок пластилина.
– Вот.
– Что ты хочешь делать?
– Сейчас узнаешь.
Тил торопливо отщипывал небольшие кусочки пластилина и скатывал из них шарики величиной с горошину. Потом воткнул в эти шарики четыре зубочистки и сделал квадрат.
– Видишь? Вот квадрат.
– Ну, вижу, а дальше что?
– Еще один такой же квадрат плюс еще четыре зубочистки - и у нас куб.
Теперь из зубочисток образовался каркас коробки с равными гранями куб, углы которого держались с помощью катышков пластилина.
– Теперь сделаем еще один куб, точно такой же, как первый. Эти кубы и будут служить двумя гранями тессеракта.
Бейли машинально стал катать пластилиновые шарики для второго куба, но мягкая податливость материала под пальцами отвлекла его от этого занятия, и он начал лепить, придавая кусочкам какую-то форму.
– Взгляни-ка, - сказал он, держа на ладони свое произведение миниатюрную человеческую фигурку. - Цыганка Роза Ли.
– Похожа на Гаргантюа; ей надо бы в суд на тебя подать за оскорбление. А теперь смотри внимательно. Открываем один угол первого куба, вставляем одним углом второй куб и закрываем угол первого куба. Теперь берем еще восемь зубочисток и соединяем нижнюю грань первого куба с нижней гранью второго куба - наклонно, понял? - и точно так же верхнюю грань первого с верхней гранью второго, - говоря это, Тил быстро манипулировал зубочистками.
– И что же получилось? - спросил Бейли с сомнением.
– Это и есть тессеракт - восемь кубов, образующих стороны гиперкуба в четырех измерениях.
– Откровенно говоря, мне твое сооружение напоминает кошачью колыбель. И все равно у тебя получилось только два куба. А где остальные шесть?
– А где твое воображение? Берем верхнюю грань первого куба по отношению к верхней грани второго - вот тебе куб номер три. Дальше: две нижние грани обоих кубов по отношению друг к другу, потом два передние, две задние, две боковые - слева и справа - вот тебе все восемь. - И он показал их на модели.
– Ну хорошо, вижу я их. Но все-таки это не кубы; как бы ты ни тщился доказать другое, это призмы, а не кубы. У них грани не квадратные, а наклонные.
– Так это ведь в перспективе, с твоего угла зрения. Когда рисуешь куб на бумаге, боковые грани пойдут косо, так? Это перспектива. Когда смотришь на четырехмерную фигуру в трех измерениях, ничего удивительного, что она кажется кривой. Но это дела не меняет - все равно все это кубы.
– Я не спорю, друг, может быть, для тебя они такие, как ты говоришь, но мне они все равно кажутся кривыми.
Тил не обратил никакого внимания на возражения Бейли и продолжал:
– Будем считать, что это каркас восьмикомнатного дома; на цокольном этаже - одно помещение; здесь разместятся службы, коммунальное хозяйство, гараж. От него идут другие комнаты: гостиная, столовая, ванная, спальни и так далее. А на самом верху, совершенно изолированно от всех, находится кабинет - в нем окна на четыре стороны. Представляешь? Ну как?
– Представляю. Ванна будет свисать с потолка гостиной. Комнаты-то все переплелись, как щупальца осьминога.
– Только в перспективе - не более того. Смотри, я покажу тебе по-другому.
На этот раз Тил сделал один куб из целых зубочисток, а второй - из половинок, вставил второй в центр первого и прикрепил его к вершинам короткими палочками от надломанных зубочисток.
– Видишь? Большой куб - это цоколь, малый куб внутри - твой кабинет на верхнем этаже, а шесть прилежащих кубов - это комнаты. Ну, понял?
Бейли внимательно изучил фигуру и покачал головой:
– Что хочешь со мной делай, а только не вижу я тут никаких кубов, кроме большого и малого. Остальные шесть штук на этот раз напоминают не призмы, а пирамиды, но никак не кубы.
– Ну конечно, ты же видишь их в разных перспективах. Неужели не понятно?
– Что ж, возможно, и так. Но вот эта комната, в середине. Ведь она со всех сторон окружена другими штуковинами. А ты говорил, у нее окна на четыре стороны.
– Так ведь это только так кажется. В том-то и дело, что в доме-тессеракте каждая комната совершенно изолирована от других и все стены - наружные, но при этом каждая стена служит для двух комнат, а восьмикомнатному дому достаточно основания одной комнаты. Это же революция!
– Слишком мягко сказано. Ты просто безумец. Такой дом построить нельзя. Эта самая внутренняя комната находится внутри, и там она и останется, что бы ты ни придумывал.
Сдерживая негодование, Тил посмотрел на друга.
– Такие вот, как ты, держат архитектуру в зачаточном состоянии. Ответь мне, сколько граней имеет куб?
– Ну, шесть.
– Какие из них внутренние?
– Как какие? Никакие. Они все наружные.
– Так. Слушай дальше. Тессеракт имеет восемь кубических граней - и все они наружные. Теперь смотри внимательно. Сейчас я разверну наш тессеракт представь, будто мы раскладываем картонную коробку. Тогда тебе станут видны все восемь кубов.
Говоря это, Тил торопливо соорудил четыре куба и поставил их друг на друга - получилась довольно шаткая башенка. К боковым граням второго куба башенки он прикрепил еще четыре куба. Сооружение немного покачивалось пластилиновые шарики держали не очень крепко, но все же не развалилось. Оно представляло собой как бы опрокинутый двойной крест, с четырех сторон основания которого торчало еще четыре куба.
– Ну вот, видишь? Основанием здесь служит комната цокольного этажа, остальные шесть кубов - это жилые комнаты, а на самом верху твой кабинет. Здорово?
Бейли оглядел это сооружение с некоторым одобрением. По сравнению с другими оно показалось ему заслуживающим внимания.
– По крайней мере, мне это хоть как-то понятно. Говоришь, и это тессеракт?
– В том-то и дело: это тессеракт, развернутый в четырех измерениях. Чтобы снова сложить его, помещаем верхний куб в нижний, складываем боковые кубы, пока они не сойдутся с верхним, - и готово. Эта операция, естественно, осуществляется посредством четвертого измерения, и при этом форма ни одного куба не нарушается, и ни один из них не вкладывается в другой.
Бейли снова внимательно осмотрел шаткую конструкцию.
– Послушай-ка, - сказал он наконец. - А что, если оставить в покое операцию складывания этой штуковины посредством четвертого измерения - все равно ничего не выйдет - и просто выстроить такой вот дом?
– Как это ничего не выйдет? Да это элементарная математическая задача, которую…
– Ладно, ладно, не психуй. Может, в математике это и просто, но такой проект в строительстве никто не утвердит. Четвертого измерения не существует, забудь о нем, ясно? А вот что касается такого дома - возможно, он будет иметь кое-какие преимущества.
Тил, бурно разыгравшаяся фантазия которого вдруг натолкнулась на здравые суждения Бейли, стал критически изучать модель.
– Гм… Может быть, в этом есть какой-то смысл. Получаем то же количество комнат, сэкономив на площади фундамента. Так, средний крестообразный этаж можно будет расположить на северо-восток, юго-запад и так далее - и в каждой комнате весь день будет солнце. В центральную ось прекрасно вписывается центральное отопление. Столовая будет выходить на северо-восток, а кухня - на юго-восток. В каждой комнате окна от пола до потолка. О'кэй, Гомер, я это сделаю! Где ты хочешь его построить?
– Минуточку, минуточку. Я вроде не говорил, что ты будешь строить такой дом для меня…
– А для кого же? Ведь твоей жене нужен новый дом? Так вот он, пожалуйста.
– Но миссис Бейли хочет дом в стиле Георга III.
– Это ей просто кажется. Женщины сами не знают, чего хотят.
– Это не относится к миссис Бейли.
– Какой-то выживший из ума отсталый архитектор убедил ее в этом. Ведь она водит автомобиль самой новейшей марки, а? Одевается по последней моде - так? Почему же, спрашивается, она должна жить в доме, выстроенном по образцу восемнадцатого века? Мой дом - это даже не завтрашний день архитектуры. Он принадлежит будущему. А о твоей жене будет говорить весь город.
– Все это… Я должен с ней поговорить.
– Это еще зачем? Мы ей преподнесем сюрприз. Давай еще выпьем.
– В общем, пока что это дело все равно придется отложить. Завтра мы с женой едем в Бакерсфильд. Там вводятся в строй две скважины.
– Вот и прекрасно. Именно то, что нам нужно. К вашему возвращению она получит сюрприз. Ты мне только чек сейчас выпиши, об остальном не беспокойся.
– Я не могу совершить такой шаг, не посоветовавшись с ней. Она будет недовольна.
– В конце концов, кто в вашей семье мужчина?
Чек был выписан, когда они приканчивали вторую бутылку.
В южной Калифорнии дела вершатся быстро. Ординарные дома обычно возводят за месяц. Под нетерпеливым руководством Тила дом-тессеракт подымался кверху не по дням, а по часам. Тил петушился, подгонял строителей, давал им указания, осыпал их градом критических замечаний - и вот уже на четыре стороны света от взметнувшейся вверх центральной части повисли четыре куба крестообразного второго этажа.
Эти висящие в воздухе четыре комнаты не внушали доверия инспекторам, осуществлявшим надзор за строительством, но в конце концов прочные балки решили дело, а деньги довершили его. Инспектора перестали сомневаться в прочности сооружения, возводимого по проекту Квинтуса Тила.
И вот в одно прекрасное утро - Бейли вернулись в город лишь накануне вечером - Тил, договорившись с другом, подкатил к его дому. Он продудел на своем гудке в два тона сигнал собственного сочинения. В двери показалась голова Бейли.
– Ты почему не звонишь?
– Слишком долго, - ответил Тил бодрым голосом. - Я человек действия. Миссис Бейли готова? А, вот и вы, здравствуйте, миссис Бейли. Добро пожаловать в новый дом! Давайте сюда! Мы вам припасли сюрприз!
– Дорогая, ты ведь знаешь Тила, - сказал Бейли извиняющимся тоном.
Миссис Бейли фыркнула.
– Да уж знаю. Только мы, Гомер, поедем в своей машине.
– Конечно, конечно, дорогая.
– Прекрасно, - с готовностью согласился Тил. - У вашей мотор более мощный, скорее доберемся. Поведу я - дорогу хорошо знаю.
Он взял у Бейли ключи, сел на водительское место, и не успела миссис Бейли усесться, как машина рванула с места.
– Уж когда я за рулем, будьте спокойны, - заверил он миссис Бейли, повернувшись к ней, и одновременно на огромной скорости поворачивая на бульвар Сансет. - Все дело в мощности и управлении. Динамичный процесс, моя стихия. Никогда не попадал ни в одну серьезную аварию.
– Она будет единственной и последней, - язвительно заметила миссис Бейли. - Будьте так добры, смотрите на дорогу.
Он попытался объяснить ей, что дело совсем в другом, что дорожная ситуация оценивается водителем не с помощью зрения; она интуитивно ощущается совокупностью направлений, скоростей и вероятностей, но Бейли прервал его:
– Где дом. Квинту с?
– Дом? - спросила миссис Бейли подозрительно. - Какой дом, Гомер? Разве ты мне говорил что-то о доме?
Тил пустил в ход все свое дипломатическое искусство.
– Ну да, миссис Бейли, дом. И какой! Это вам сюрприз от любящего мужа. Вот погодите, вы его увидите…
– Увижу, - сказала миссис Бейли мрачно. - В каком же он стиле?
– Этот дом станет родоначальником нового стиля. Самого нового, какой себе только можно представить. Чтобы оценить этот дом, его нужно увидеть. Между прочим, - Тил быстро перескочил на другую тему, отводя всякую возможность возражений, - сегодня ночью вы почувствовали землетрясение?
– Землетрясение? Какое землетрясение? Гомер, разве было землетрясение?
– Так себе, небольшое, - продолжал Тил, - часа в два ночи. Я как раз не спал в это время, а то и не почувствовал бы ничего.
Миссис Бейли передернуло.
– Ну и местность! Слышишь, Гомер? Нас могло спокойно убить, пока мы спали в своих постелях, и мы даже не узнали бы об этом. И зачем только я поддалась на твои уговоры и уехала из Айовы?
– Но, дорогая, - запротестовал муж (безнадежная попытка), - ведь ты хотела переехать в Калифорнию; тебе не нравился Де-Мойн.
– Этого мы обсуждать не станем, - отрезала жена. - Ты мужчина - ты должен был все предвидеть. Подумать только: землетрясение!
– В вашем новом доме этого опасаться не придется, - сказал Тил. - Дом абсолютно антисейсмичен. Все его части находятся в совершенном динамическом равновесии по отношению друг к другу.
– Что же, спасибо и на этом. Так где дом?
– Осталось совсем немного. Вон за тем поворотом - видите знак?
На огромном рекламном щите (из тех, что нравятся агентам по продаже недвижимости) буквами, которые казались слишком крупными и яркими даже в ко всему привыкшей южной Калифорнии, красовалась надпись:
ДОМ БУДУЩЕГО!!!
Колоссально! Поразительно! Революционно!
Не проходите мимо - так будут жить ваши внуки!
Кв.Тил, архитектор.
– Как только вы въедете, это мы, конечно, уберем, - торопливо добавил Квинтус, заметив выражение лица миссис Бейли.
Он круто свернул за угол и, заскрежетав тормозами, остановил машину перед Домом Будущего.
– Votla! - Он выжидательно уставился на супругов: ему не терпелось узнать, какое впечатление произведет на них его детище. На лице мистера Бейли выразилось недоумение, на лице миссис Бейли Тил прочел нескрываемое раздражение. Перед ними громоздилось примитивное геометрическое тело, в котором имелись окна и двери, но ничего от архитектуры. Единственным украшением служил затейливый математический орнамент.
– Тил, - медленно спросил Бейли, - что это значит?
Тил перевел взгляд на дом. Его гордость, нелепая башенка с торчащими комнатами второго этажа, исчезла. От семи комнат, расположенных над первым кубом, не осталось и следа. Не осталось ничего, кроме одной-единственной комнаты, покоящейся на фундаменте.
– Шакалы! - завопил Тил. - Ограбили среди бела дня.
Он сорвался с места и кинулся к дому. Но беги не беги - все осталось как было: остальные семь комнат пропали, исчезли, сгинули без следа. Бейли догнал Тила, схватив его за руку.
– Объясни, что все это значит. Кто тебя ограбил? Как получилось, что ты построил совсем не то, о чем мы договорились?
– Да не строил я ничего подобного. Сделано было все по проекту: восьмикомнатный дом в виде развернутого тессеракта. Это саботаж, открытый саботаж! Зависть! Она всему причина! Да разве у архитекторов этого города могло хватить духу дать мне завершить работу! Как же! Ведь тогда бы всем стало ясно, что они за бездари!
– Когда ты в последний раз был здесь?
– Вчера во второй половине дня.
– И все было в порядке?
– Да. Садовники заканчивали работы вокруг дома.
Бейли осмотрелся: участок у дома был в безукоризненном состоянии.
– Не знаю, как это можно было ухитриться в одну ночь разобрать и увезти отсюда семь комнат и совершенно не повредить сада.
Тил тоже огляделся вокруг.
– Действительно странно. Ничего не понимаю.
Тут к ним присоединилась миссис Бейли.
– Так как? Мне что, самой себя развлекать? Мы могли бы сразу же начать осмотр дома, но я тебя заранее предупреждаю, Гомер: он мне не нравится.
– Конечно, - тотчас согласился Тил и вытащил из кармана ключи, которыми открыл входную дверь, пропуская вперед супругов.
– Может быть, здесь нам удастся найти ключи к разгадке тайны.
Холл был в полном порядке, раздвижные перегородки, отделявшие гараж от холла, были открыты, так что помещение просматривалось целиком.
– Здесь как будто все нормально, - заметил Бейли. - Давайте поднимемся на крышу и попытаемся выяснить, что же все-таки произошло. Где тут лестница? Или, может быть, ее тоже украли?
– Нет, - возразил Тил, - смотрите…
Он нажал кнопку под выключателем - и панель, вмонтированная в потолок, откинулась, а вниз бесшумно спустился легкий, изящный лестничный пролет. Его несущие элементы были выполнены из отливающего холодным серебристым блеском дюраля, а ступеньки - из прозрачного пластика. Тил пританцовывал на месте, как мальчишка, которому удался карточный фокус, - по лицу миссис Бейли он понял, что лестница произвела на нее впечатление.
Это и в самом деле было очень красиво.
– Ловко придумано, - согласился и сам Бейли. - Впечатление такое, будто она не ведет никуда.
– А, ты об этом, - Тил проследил за взглядом Бейли. - Когда мы поднимемся по ней, площадка сама откинется. Лестничные клетки открытого типа - это анахронизм. Ну, пошли.
И действительно, когда они поднялись наверх, крышка лестничной клетки исчезла, убралась с дороги; они рассчитывали, что она выведет их на крышу комнаты верхнего этажа, но не тут-то было. Они обнаружили, что очутились в средней из пяти исчезнувших комнат, которые первоначально составляли второй этаж здания.
Впервые Тил не нашелся, что сказать. Бейли тоже молчал, пожевывая свою сигару. Все было в идеальном порядке. Перед ними через раскрытую дверь и прозрачную перегородку виднелась кухня - мечта любого шеф-повара, оснащенная по последнему слову техники: вращающаяся никелированная стойка, скрытое освещение, функциональное размещение оборудования. Слева от них располагалась строго, но изящно убранная столовая, как будто приветливо поджидавшая гостей: мебель выстроилась как на параде.
Тил уже понял, что, повернув голову направо, он увидит гостиную и салон для отдыха. Исчезнувшие, как и другие комнаты, снаружи, они непостижимым образом остались в целости и сохранности изнутри.
– Ну что ж, я должна признаться, все это и правда просто прелесть, сказала миссис Бейли одобрительно, - а кухня такая, что слов нет. Вот уж никогда бы не подумала, что такой непрезентабельный с виду дом может оказаться таким просторным. Конечно, в нем придется кое-что переделать. Секретер нужно будет передвинуть вон туда, а скамью поставить сюда…
– Помолчи-ка, Матильда, - бесцеремонно прервал ее Бейли. - Что все-таки произошло, Тил?
– Ты что, Гомер Бейли? Ты отдаешь ее…
– Замолчи, сказано тебе! Так как же, Тил?
Тело архитектора выразило нечто неопределенное.
– Боюсь говорить. Давайте лучше поднимемся выше.
– Каким образом?
– Очень просто.
Он нажал еще одну кнопку. К светлому мостику, по которому они попали в эту часть дома снизу, подсоединилась точно такая же лестница, но более глубокого тона. Доступ на следующий этаж был открыт. Они поднялись по лестнице - миссис Бейли шла последней, осыпая мужа упреками, - и оказались в спальне. Как и в комнатах, расположенных ниже, окна были зашторены, но мягкий свет появлялся автоматически. Тил не мешкая включил регулятор, контролирующий функционирование еще одного лестничного пролета, и они поспешили наверх, в кабинет, который, по идее, располагался на самом последнем этаже.
– Слушай, Тил, - предложил Бейли, переведя дух, - а можно выбраться на крышу? Оттуда осмотрим, что делается вокруг.
– Ну, конечно, крыша представляет собой площадку для обозрения.
Они поднялись по четвертому лестничному пролету, но когда крышка верхнего этажа откинулась, пропуская их на следующий уровень, они очутились - не на крыше, нет! - ОНИ СТОЯЛИ на первом этаже, в комнате, откуда начали осмотр дома.
Лицо мистера Бейли посерело. "Страсти господни! - закричал он. - В доме призраки! Скорее прочь отсюда!" Схватив жену, он распахнул входную дверь и ринулся на улицу.
Тил не заметил бегства супругов: он был слишком занят своими мыслями. Так вот где крылась отгадка всему происходящему, - отгадка, в которую трудно было поверить! Однако ему пришлось прервать свои размышления: откуда-то сверху до него донеслись хриплые крики. Тил спустил лестницу и бросился наверх. В центральной комнате второго этажа над лежащей без чувств миссис Бейли склонился мистер Бейли. Тил моментально оценил обстановку, кинулся к бару, встроенному в стене гостиной, налил тройную порцию виски, мигом вернулся к Бейли и протянул ему бокал:
– Вот, пусть выпьет. Это приведет ее в чувство.
Бейли залпом выпил.
– Это я для миссис Бейли принес, - запротестовал Тил.
– Не валяй дурака, - огрызнулся тот. - Неси ей еще.
На этот раз Тил не забыл позаботиться и о себе: прежде чем возвратиться с порцией виски, отмеренной для жены своего заказчика, он опрокинул такую же порцию в себя. Когда Тил подошел к миссис Бейли, она приоткрыла глаза.
– Ну вот, миссис Бейли, - сказал он успокаивающе, - выпейте-ка это, вам сразу станет лучше.
– Не пью спиртного, - запротестовала она и залпом осушила бокал.
– А теперь расскажите, что случилось. Я думал, вы ушли из дому.
– Так и было - мы вышли через входную дверь и очутились здесь, в салоне.
– Черт возьми, не может этого быть! Гм… минуточку.
Тил вышел в салон. Здесь он обнаружил, что большое, от пола до потолка окно было открыто. Он осторожно выглянул в него. Перед ним лежал не сельский пейзаж Калифорнии, а помещение нижнего этажа или его точная копия. Ничего не сказав, он подошел к оставленному открытым лестничному пролету и заглянул вниз. Комната нижнего этажа была на своем месте. Получалось, что она каким-то образом одновременно существовала в двух различных местах на разных уровнях.
Он вернулся в центральную комнату и уселся напротив Бейли в низкое глубокое кресло. Из-за острых, худых коленок виднелось его лицо, с напряженным вниманием смотревшее на Бейли.
– Гомер, - многозначительно начал он, - ты знаешь, что произошло?
– Нет, пока не знаю. Но если не выясню, в чем тут дело, и чем скорей, тем лучше, случится еще кое-что! Кое-что похуже, да, да!
– Гомер, ведь это подтверждение моих теорий. Этот дом действительно является тессерактом.
– О чем это он толкует, Гомер?
– Погоди ты, Матильда. Тил, да ведь это просто нелепо. Ты чего-то тут понакрутил, всякие штучки-дрючки - не надо мне этого. Миссис Бейли до смерти перепугал, да и мои нервы не выдерживают. Я хочу лишь поскорее выбраться отсюда, и все твои двери-ловушки и дурацкие шуточки мне ни к чему.
– Говори только за себя, Гомер, - перебила его миссис Бейли. - Я нисколько не испугалась. У меня просто немного закружилась голова. Это у нас в роду - мы все очень чувствительные и нервные. Что вы там такое интересное объясняли про какую-то тесси-штуку, мистер Тил? Прошу вас, продолжайте.
Тил рассказал ей самым доступным образом, хотя его тысячу раз перебивали, теорию, благодаря которой родился проект дома.
– Видите ли, миссис Бейли, - закончил свое объяснение Тил, - я теперь понял, что этот дом, будучи совершенно устойчивым в трех измерениях, оказался неустойчивым в четырех измерениях. Я построил дом в виде развернутого тессеракта; что-то с ним произошло - какое-то сотрясение или боковой толчок, - и он свернулся, сложившись в свою обычную форму. - Его вдруг осенило, он даже пальцами щелкнул: - Понял! Вчерашнее землетрясение!
– Землетрясение?!
– Ну да, тот небольшой толчок, который я ощутил сегодня ночью. С точки зрения четырех измерений наш дом можно сравнить с плоскостью, балансирующей на ребре, - небольшой толчок, и он упал, рухнул по своим естественным, так сказать, сочленениям, превратившись в устойчивое четырехмерное тело.
– Мне показалось, что ты хвастался насчет прочности дома.
– Конечно, это так и есть. Он вполне прочен - в трех измерениях.
– Я бы не рискнул называть прочным дом, который рушится от малейшего легкого толчка.
– Я не согласен! - запротестовал Тил. - Взгляни вокруг себя. Хоть что-нибудь сдвинулось с места? Разбилось? Да ты и трещинки нигде не сыщешь! Вращение посредством четвертого измерения не может оказать никакого воздействия на трехмерное тело. Это все равно что пытаться стряхнуть буквы с отпечатанной страницы. Да если бы вы находились здесь сегодня ночью, вы бы даже не проснулись.
– Как раз этого-то я и боюсь больше всего. Кстати, подумала ли твоя гениальная голова о том, как мы выберемся из этой ловушки?
– А? Да, да, конечно, понимаю. Ты и миссис Бейли хотели выйти и снова очутились здесь, так? Но я уверен, это пустяки - раз мы вошли, то сможем и выйти. Я сейчас же попробую.
Договаривая на ходу, он поспешил по лестнице вниз, распахнул входную дверь, переступил порог и снова очутился в салоне второго этажа, лицом к лицу со своими спутниками.
– Да, кажется, действительно возникла небольшая проблема, - признался он вежливо. - Техническая сторона дела, не более. И вообще можно выбраться через окно.
Он дернул в стороны длинные шторы, закрывавшие большие, во всю стену, окна салона и застыл на месте.
– Да-а-а… Любопытно. Весьма любопытно.
– Что там? - спросил, присоединяясь к нему, Бейли.
– Да вот.
Окно выходило не на улицу, а прямо в гостиную. Это было так невероятно, что Бейли направился в тот угол, где под прямым углом салон и гостиная соединялись с центральной комнатой.
– Как же так, - сказал он, - смотри, это окно находится на расстоянии пятнадцати-двадцати футов от гостиной.
– Только не в тессеракте, - уточнил Тим. - Гляди.
Он открыл окно и ступил через него, продолжая говорить.
С точки зрения обоих Бейли он просто исчез.
С точки зрения Тила произошло нечто иное. Прошло несколько секунд, и он перевел дух. Потом стал осторожно отдирать себя от куста розы, в котором он намертво запутался, тут же отметив про себя, что никогда больше не станет сажать вокруг своих объектов растений с колючками. Выбравшись наконец на свободу, он огляделся. Он стоял на участке у дома. Перед ним, упершись в землю, лежал массивный корпус нижнего этажа. Как видно, он упал с крыши.
Он обежал дом, распахнул настежь входную дверь и помчался наверх.
– Гомер, миссис Бейли! - крикнул он. - Я нашел выход.
На лице Бейли отразилось скорее раздражение, чем радость.
– Что же с тобой произошло?
– Я вывалился. Был снаружи. Это очень просто - нужно переступить через окно. Но будьте осторожны - там кусты роз, не угодите в них. Наверное, придется пристраивать лестницу.
– А как ты попал обратно?
– Через входную дверь.
– Ну а мы через нее выйдем. Пошли, дорогая.
Бейли решительно насадил на голову шляпу и, подхватив жену под руку, стал спускаться по лестнице.
Тил преградил им дорогу.
– Мне следовало сразу же предупредить вас, что ничего так не получится. Думаю, придется поступить по-другому. Насколько я понимаю, в четырехмерном теле трехмерный человек всякий раз, когда он пересекает линию соединения скажем, стену или порог, - имеет перед собой две вероятности, два выбора. Обычно ему в четвертом измерении нужно сделать поворот на 90 градусов, но, будучи существом трехмерным, он этого не ощущает. Вот смотрите.
Он вышел через то самое окно, из которого упал минуту назад. Вышел и, спокойно продолжая разговаривать, оказался в гостиной.
– Я следил за собой во время движения и прибыл куда хотел, - говорил он, возвращаясь в салон. - В тот раз я не следил за своими действиями, двигаясь в естественном пространстве, вот и упал. Все дело здесь в подсознательной ориентации.
– А я не хочу зависеть от подсознательной ориентации, когда иду утром за газетой.
– И не надо. Когда привыкнешь - это станет автоматическим действием. Ну а теперь давайте еще раз попробуем выбраться из дому. Миссис Бейли, станьте, пожалуйста, спиной к окну и спрыгните в этом положении вниз. Я уверен - почти уверен, - что вы приземлитесь в саду.
Выражение лица миссис Бейли красноречиво свидетельствовало о том, что она думает о Тиле и его предложении.
– Гомер Бейли, - голос ее перешел на визг, - вы так и будете молча стоять здесь и позволять этому ти…
– Но позвольте, миссис Бейли, - Тил решил внести в свое предложение кое-какие коррективы, - мы привяжем к вам веревку, и вы опуститесь вниз совершенно без…
– Ну хватит, Тил, - резко прервал его Бейли. - Давайте подумаем о более приемлемом способе. Ни я, ни миссис Бейли как-то не приспособлены к выпрыгиванию из окон.
Тил на минуту растерялся; воцарилось непродолжительное молчание, которое прервал Бейли:
– Слышишь, Тил?
– Что слышу?
– Где-то разговаривают. В доме, кроме нас, никого нет? Может, нас разыгрывают?
– Нет, это исключено. Единственный ключ от дома у меня.
– Я абсолютно уверена, что слышала их, - подтвердила и миссис Бейли. Как только мы вошли в дом, так и началось. Они, то есть голоса, Гомер, я больше не могу выносить все это, слышишь! Предприми что-нибудь.
– Не надо так волноваться, миссис Бейли, - попытался успокоить ее Тил. - В доме не может никого быть, но я, чтобы не сомневаться, все осмотрю и разведаю. Ты, Гомер, оставайся здесь с миссис Бейли и следи за комнатами на этом этаже.
Он прошел из салона в помещение нижнего этажа, а оттуда в кухню и в спальню. Этот маршрут по прямой линии привел его обратно в салон, иными словами, проделывая свое путешествие по дому, он шел все время прямо, нигде не сворачивая и не опускаясь, и вернулся к исходной точке - в салон, откуда начал осмотр.
– Никого, - объявил он. - По пути я открывал все двери и окна, кроме вот этого. Он подошел к окну, расположенному напротив того, из которого недавно вывалился, и раздвинул шторы.
Через четыре комнаты спиной к нему стоял человек. Тил рывком открыл окно и нырнул туда с криком:
– Держите вора! Вон он!
Человек, несомненно, услышал его - он бросился бежать. Тил - вдогонку за ним; его нескладная фигура вся пришла в движение, долговязые конечности проскочили - комнату за комнатой - гостиную, кухню, столовую, салон, но, несмотря на все его старания, ему никак не удавалось сократить расстояние между собой и вторжителем - их по-прежнему разделяли четыре комнаты.
Он увидел, что преследуемый неуклюже, но энергично перепрыгнул через низкий подоконник, и с головы у него слетела шляпа. Тил подбежал к тому месту, где валялся потерянный головной убор, нагнулся и поднял его. Он был рад, что нашел повод немного передохнуть. Возвратившись в салон, он сказал:
– Кажется, ему удалось уйти. Ну ничего, у нас осталась его шляпа. Может быть, она поможет определить, кто ее владелец.
Бейли взял шляпу, осмотрел ее, фыркнул и надел ее Тилу на голову. Шляпа сразу пришлась впору.
Тил растерялся, снял шляпу и стал ее рассматривать. На внутренней ленте стояли инициалы "К.Т.". Шляпа принадлежала ему самому.
Лицо Тила отразило смутную догадку: до него как будто стал медленно доходить смысл происходящего.
Он подошел к окну, посмотрел на анфиладу комнат, по которым гнался за таинственным незнакомцем, и начал размахивать руками, будто регулируя уличное движение.
– Что ты делаешь? - спросил Бейли.
– Посмотри-ка сюда.
Оба Бейли подошли и стали смотреть в ту сторону, куда напряженно вглядывался Тил. Через четыре комнаты они увидели стоявших к ним спиной три человеческие фигуры - две мужские и одну женскую. Тот, что был повыше и похудее, нелепо размахивал руками.
Миссис Бейли вскрикнула и снова упала в обморок.
Через несколько минут, когда она очнулась и немного успокоилась, Бейли и Тил стали оценивать ситуацию.
– Тил, - сказал Бейли, - я не стану терять времени на то, чтобы упрекать тебя в случившемся. Обвинения бесполезны. Я уверен - ты сделал это не по злому умыслу, но ты ведь понимаешь, в каком положении мы оказались? Как отсюда выбраться? Похоже, что нам придется сидеть тут, пока с голоду не умрем: все комнаты ведут друг в друга, выхода наружу нет.
– Не преувеличивай, пожалуйста. Дела не так уж плохи. Ведь мне все же удалось выбраться из дому.
– Да, но ты не смог повторить это, несмотря на свои старания.
– Это правда, но были использованы не все комнаты - остался еще кабинет. Разве что оттуда попробовать?
– И верно. В начале осмотра мы его просто прошли, не стали там останавливаться. Думаешь, удастся выбраться через окно этого кабинета?
– Кто его знает. Особенно не стоит надеяться. С математических позиций, его окна должны были бы выходить в четыре эти комнаты, но это надо еще проверить - ведь шторы мы не открывали.
– Можно попробовать, хуже не будет. Дорогая, мне кажется, тебе лучше будет посидеть отдохнуть здесь…
– Оставаться одной в этом жутком месте? Ну нет! - Говоря это, миссис Бейли немедленно поднялась с кушетки, на которой она приходила в себя.
Они все вместе отправились наверх.
– Ведь кабинет - это внутренняя комната, да, Тил? - спросил мистер Бейли по дороге. (Они прошли спальню и начали взбираться наверх, в кабинет). - Помнится, на твоей модели это был маленький куб, помещенный внутри большого куба, - он был окружен со всех сторон пространством большого куба, верно?
– Точно, - подтвердил архитектор. - А теперь посмотрим, так ли это. По моим расчетам, это окно должно выходить в кухню. - Он поймал шнур от жалюзи и потянул вниз. Окно выходило не в кухню. Охвативший их приступ головокружения был так силен, что они бессознательно упали на пол, беспомощно цепляясь за ковер, чтобы удержаться на месте.
– Закрой, скорее закрой! - простонал Бейли.
Преодолевая животный атавистический страх, Тил подполз к окну и сумел опустить штору. Окно выходило не наружу, а вниз - с головокружительной высоты. Миссис Бейли снова потеряла сознание. Тил снова сбегал за коньяком, а Бейли в это время растирал ей запястья. Когда она очнулась, Тил осторожно подошел к окну и поднял жалюзи, так что образовалась маленькая щелка. Опустившись на колени, он стал изучать открывшийся перед ним пейзаж. Затем, повернувшись к Бейли, предложил:
– Поди сюда, Гомер, взгляни на это. Интересно, узнаешь ли ты, что перед нами.
– Гомер Бейли, вы туда не пойдете!
– Не волнуйся, Матильда, я осторожно. - Бейли стал рядом с Тилом и тоже начал смотреть в щель.
– Вон, видишь? Небоскреб Крайслер билдинг, абсолютно точно. А вон Ист-Ривер и Бруклин.
Они смотрели вниз на отвесный фасад огромного небоскреба. Где-то в тысяче футов от них, внизу, простирался игрушечный город - совсем как настоящий.
– Насколько я могу судить отсюда, мы смотрим на боковой фасад Эмпайр стейт билдинг с точки, находящейся над его башней.
– Что это может быть? Мираж?
– Не думаю - уж слишком он точен. По-моему, пространство сложилось через четвертое измерение, и мы смотрим по другую сторону складки.
– Ты хочешь сказать, что в действительности мы этого не видим?
– Да нет, мы все видим как надо. Не знаю, что было бы, если бы мы вздумали вылезти через это окно, но а, например, не хочу пробовать. Зато вид! Сила! Давай и другие окна откроем!
К следующему окну они подбирались более осторожно - и правильно сделали, ибо то, что открылось перед ними, было еще более невероятным для восприятия, еще более тяжко действовало на рассудок, чем та захватывающая дух высота, от которой они едва не потеряли самообладания. Теперь перед ними был обычный морской пейзаж - безбрежное море, голубое небо, - только море находилось на месте неба, а небо - на месте моря. И хотя на этот раз они были немного подготовлены к неожиданностям, оба очень скоро почувствовали, что вид катящихся над головой волн вот-вот вызовет приступ морской болезни; они поспешили опустить жалюзи, не дав миссис Бейли возможности быть потревоженной этим зрелищем.
Тил посмотрел на третье окно.
– Ну что, Гомер, сюда заглянуть хочешь?
– М-мм… Жалеть ведь будем, если не сделаем этого. Давай.
Тил поднял жалюзи на несколько дюймов. Не увидел ничего и подтянул шнурок - снова ничего. Он медленно стал поднимать штору, полностью оголив окно. Оно глядело в пустоту. Пустота, абсолютная пустота. Какого цвета пустота? Глупый вопрос! Какую она имеет форму? Форму? Но форма является принадлежностью чего-то. А эта пустота не имела ни глубины, ни формы. Она не имела даже черноты. Она была ничто.
Бейли пожевал сигару.
– Ну, Тил, что ты на это скажешь?
Непрошибаемое спокойствие Тила на этот раз поколебалось.
– Не знаю, Гомер, просто не знаю. Но окно лучше зашторить.
Какое-то время он молча глядел на спущенные жалюзи.
– Я думаю, может быть, мы смотрели на место, где пространства не существует. Мы заглянули за четырехмерный угол, а там ничего не было. - Он потер глаза. - Голова болит.
Они немного помедлили, прежде чем приступить к четвертому окну. Ведь в нераспечатанном письме не обязательно дурные новости. Так и здесь. Сомнение давало надежду. Томительная неопределенность становилась слишком тягостной, и Бейли не выдержал, сам потянул шнуры, несмотря на отчаянные протесты миссис Бейли. Ничего страшного, по крайней мере на первый взгляд. Простирающийся перед ними пейзаж находился на уровне нижнего этажа, где, казалось, теперь был и кабинет. Но от него явственно веяло враждебностью. С лимонно-желтого неба нещадно било горячее, жаркое солнце. Плоская местность выгорела до стерильно-блеклого безжизненного коричневого цвета, на котором невозможно представить существование чего-то живого. И, однако, жизнь здесь была - странные чахлые деревья поднимали к небу свои узловатые, искореженные руки. На наружных оконечностях этих бесформенных растений торчали пучки утыканных колючками листьев.
– Боже праведный, - выдохнул Бейли, - где мы очутились?
Тил покачал головой, глаза его выдавали беспокойство.
– Я и сам ничего не понимаю.
– На земной пейзаж непохоже. Может быть, мы на другой планете возможно, на Марсе.
– Трудно сказать. Но знаешь, Гомер, это может быть даже хуже, чем ты предполагаешь, я хочу сказать - хуже, чем на другой планете.
– То есть? Говори же.
– Может быть, это совершенно вне нашей вселенной. Я не уверен, что это наше солнце. Чересчур яркое.
Миссис Бейли довольно робко подошла к ним и тоже смотрела на странный пейзаж за окном.
– Гомер, - произнесла она сдавленным голосом, - эти уродливые деревья… мне страшно.
Бейли погладил ее по руке.
Тил возился с оконной задвижкой.
– Что ты там мудришь? - спросил Бейли.
– Я подумал, не высунуть ли мне голову из окна да посмотреть вокруг. Узнаю хоть что-нибудь.
– Ну ладно, - неохотно согласился Бейли. - Только смотри осторожно.
– Постараюсь.
Он немного приоткрыл окно и повел носом, принюхиваясь.
– Воздух нормальный - уже хорошо. - И он распахнул окно настежь.
Но он не успел привести свой план в исполнение. Его внимание было отвлечено непонятным явлением: все здание вдруг потряс толчок, неприятный, как первые признаки приближающейся тошноты. Прошла долгая секунда, и дом перестал сотрясаться.
– Землетрясение! - Их реакция была одновременной. Миссис Бейли уцепилась мужу за шею. Подавив волнение, Тил взял себя в руки и попытался успокоить миссис Бейли:
– Не бойтесь, миссис Бейли. Дом выдержит любое землетрясение.
Едва он успел придать своему лицу выражение спокойствия и уверенности, как дом потряс новый толчок. На этот раз это было не легкое угловое отклонение, а настоящий подземный удар. Каждый житель Калифорнии, будь он уроженец этого штата или прижился там позже, обладает глубоко укоренившимся первобытным рефлексом. Землетрясение вызывает в нем парализующую волю боязнь замкнутого пространства. Эта клаустрофобия побуждает его слепо бросаться прочь из помещения. Повинуясь этому импульсу, самые примерные бойскауты расталкивают старушек, пробиваясь к выходу. Абсолютно точно известно, что Тил и Бейли упали на миссис Бейли. Из этого следует, что она выпрыгнула из окна первой. Порядок следования на землю никак нельзя приписать рыцарству мужчин; следует предположить, что миссис Бейли находилась в более благоприятной для выпрыгивания позиции.
Они взяли себя в руки, немного привели в порядок свои мозги и протерли полные песку глаза. Их первым ощущением было чувство облегчения от того, что у них под ногами твердая почва - песок пустыни. Затем Бейли заметил то, что помешало миссис Бейли разразиться речью, готовой сорваться у нее с языка, и отчего они сразу вскочили на ноги.
– Где дом?!
Дом исчез. От него даже следа не осталось. Они стояли в центре безлюдной пустыни, которую видели из окна. Кроме истерзанных, изломанных деревьев виднелись лишь желтое небо да неизвестное светило над головой. Его обжигающий блеск нестерпимо слепил глаза.
Бейли медленно огляделся кругом, потом повернулся к архитектору.
– Что скажешь, Тил? - голос его не предвещал ничего хорошего.
Тил беспомощно пожал плечами.
– Откуда я знаю? Я даже не уверен в том, что мы на Земле.
– В любом случае мы не можем стоять здесь. Это верная смерть. Куда идти?
– Все равно куда. Давайте держать на солнце.
Так они с трудом преодолели какое-то расстояние, когда миссис Бейли потребовала отдыха. Они остановились. Тил отозвал Бейли в сторону:
– Придумал что-нибудь?
– Нет, ничего. Никаких идей. Послушай, ты что-нибудь слышишь?
Тил прислушался.
– Может быть, если это не в моем воображении.
– По звуку похоже на автомобиль. Точно, автомобиль!
Через какие-то сто метров они вышли на шоссе. Автомобиль, когда он к ним подъехал, оказался подержанным пыхтящим грузовичком, за рулем которого сидел фермер. Услышав их крики, он остановился, заскрежетав тормозами.
– Мы заблудились. Вы не поможете нам выбраться отсюда?
– О чем речь, садитесь.
– Куда вы едете?
– В Лос-Анджелес.
– В Лос-Анджелес?! А где же мы находимся?
– Да прямо посреди Национального парка Джошуа-Три.
Их возвращение было таким же удручающим, как бегство французов из Москвы. Мистер и миссис Бейли сидели в кабине рядом с водителем, а Тил трясся в кузове грузовика, стараясь как-то защитить голову от солнца. Бейли субсидировал приветливого фермера, чтобы тот подвез их к дому-тессеракту, не потому, что они жаждали снова его увидеть, а потому, что там стояла их машина.
Наконец фермер завернул за угол и подвез их к тому месту, откуда началось их путешествие. Но дома на этом месте больше не существовало. Не осталось даже помещения нижнего этажа. Все исчезло. Оба Бейли, заинтересовавшись этим помимо своей воли, вместе с Тилом искали следы фундамента.
– Есть какие-то соображения по поводу всего этого? - спросил Бейли.
– Должно быть, после второго толчка он просто упал в другое сечение космического пространства. Теперь я понимаю, что мне следовало бы закрепить его на фундаменте.
– Тебе многое следовало бы сделать.
– А вообще-то я считаю, что расстраиваться нет никаких оснований. Дом застрахован. Мы узнали много удивительного. Вероятности, друг мой, вероятности. Да, а сейчас мне пришла в голову новая великая революционная идея относительно дома…
Тил вовремя увернулся от удара.
Эрик Ф. Рассел. Абракадабра
Уже давно на борту космического корабля «Бастлер» не было такой тишины. Корабль стоял в космопорту Сириуса с холодными дюзами, корпус его был испещрен многочисленными шрамами - ни дать ни взять измученный бегун после марафонского бега. Впрочем, для такого вида у «Бастлера» были все основания: он только что вернулся из продолжительного полета, где далеко не все шло гладко.
И вот теперь, в космопорту, гигантский корабль обрел заслуженный, хотя и временный покой. Тишина, наконец тишина. Нет больше ни тревог, ни беспокойств, ни огорчений, ни мучительных затруднений, возникающих в свободном полете по крайней мере два раза в сутки. Только тишина, тишина и покой.
Капитан Макнаут сидел в кресле, положив ноги на письменный стол и с наслаждением расслабившись. Атомные двигатели были выключены, и впервые за многие месяцы смолк адский грохот машин. Почти вся команда «Бастлера» - около четырехсот человек, получивших увольнение, - кутила напропалую в соседнем большом городе, залитом лучами яркого солнца. Вечером, как только первый помощник Грегори вернется на борт, капитан Макнаут сам отправится в благоухающие сумерки, чтобы приобщиться к сверкающей неоном цивилизации.
Как приятно наконец ступить на твердую землю! Команда получает возможность развлечься, так сказать, выпустить лишний пар, что каждый делает по-своему. Позади заботы, волнения, обязанности и тревоги. Комфорт и безопасность - награда усталым космическим скитальцам! Старший радиоофицер Бурман вошел в каюту. Он был одним 113 шести членов экипажа, вынужденных остаться на борту корабля, и по лицу его было видно, что ему известно по крайней мере двадцать более приятных способов времяпрепровождения.
– Только что прибыла радиограмма, сэр, - сказал он, протянув листок бумаги, и остановился в ожидании ответа.
Капитан Макнаут взял радиограмму, снял ноги со стола, выпрямился и, заняв приличествующее командиру положение, прочитал вслух:
– ЗЕМЛЯ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАСТЛЕРУ ТЧК ОСТАВАЙТЕСЬ СИРИПОРТУ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ ТЧК КОНТР-АДМИРАЛ ВЭЙН У ТЧК КЭССИДИ ПРИБЫВАЕТ СЕМНАДЦАТОГО ТЧК ФЕЛДМАН ОТДЕЛ КОСМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ СИРИСЕКТОР
Лицо капитана стало суровым. Он оторвал глаза от бумаги и громко застонал.
– Что-нибудь случилось? - спросил Бурман, чуя неладное.
Макнаут указал на три книжечки, лежавшие стопкой на столе.
– Средняя. Страница двадцатая.
Бурман перелистал несколько страниц и нашел нужный параграф: «Вэйн У. Кэссиди, контр-адмирал. Должность - главный инспектор кораблей и складов».
Бурман с трудом сглотнул слюну.
– Значит…
– Да, - недовольно подтвердил Макнаут. - Снова как в военном училище. Красить и драить, чистить и полировать. - Он придал лицу непроницаемое выражение и заговорил до тошноты официальным голосом: - Капитан, у вас в наличии всего семьсот девяносто девять аварийных пайков, а по списку числится восемьсот. Запись в вахтенном журнале о недостающем пайке отсутствует. Где он? Что с ним случилось? Почему у одного из членов экипажа отсутствует официально зарегистрированная пара казенных подтяжек? Вы сообщили об их исчезновении?
– Почему он взялся именно за нас? - спросил Бурман с выражением ужаса на лице. - Ведь никогда раньше он не обращал на нас внимания!
– Именно поэтому, - ответил Макнаут, глядя на стену с видом мученика. - Пришла наша очередь получить взбучку. - Отсутствующий взгляд капитана остановился наконец на календаре. - У нас еще три дня - за это время многое можно исправить. Ну-ка, вызови ко мне второго офицера Пайка.
Опечаленный Бурман ушел. Вскоре в дверях появился Пайк. Несчастное выражение его лица подтверждало старую истину, что плохие новости летят на крыльях.
– Выпиши требование на сто галлонов пластикраски, темно-серой, высшего качества. И второе - на тридцать галлонов белой эмали для внутренних помещений. Немедленно отправь их на склад космопорта и позаботься о том, чтобы краска вместе с необходимым количеством кистей и пульверизаторов была здесь к шести вечера. Прихвати весь протирочный материал, который у них плохо лежит.
– Команде это не понравится, - заметил Пайк, делая слабую попытку к сопротивлению.
– Ничего, стерпится - слюбится, - заверил его Макнаут. - Сверкающий, отдраенный до блеска корабль благотворно влияет на моральное состояние экипажа - именно так записано в Уставе космической службы. А теперь пошевеливайся и быстро отошли требования на краску. Потом принеси мне списки инвентарного имущества. Мы должны произвести инвентаризацию до прибытия Кэссиди. Когда он приедет, уже не удастся покрыть недостачу или сбагрить предметы, которые окажутся в избытке.
– Есть, сэр, - Пайк повернулся и вышел из каюты, волоча ноги, с таким же траурным выражением лица, как и у Бурмана.
Откинувшись на спинку кресла, Макнаут бормотал что-то себе под нос. Им владело смутное чувство, что в последнюю минуту все усилия пойдут прахом. Недостаток табельного имущества - дело достаточно серьезное, если только исчезновение не было отмечено в предыдущем отчете. Избыток - и того хуже. Если первое свидетельствует о небрежности или халатности при хранении, то второе может значить только преднамеренное хищение казенного имущества при попустительстве командира корабля.
Взять, например, случай с Уильямсом, командиром тяжелого космического крейсера «Свифт», - слухом космос полнится. Макнаут узнал об этом, когда «Бастлер» пролетал мимо Бутса. При инвентаризации табельного имущества у Уильямса на борту крейсера «Свифт» нашли одиннадцать катушек проводов для электрифицированных заграждений, тогда как по спискам полагалось только десять. В дело вмешался военный прокурор, и только тогда выяснилось, что этот лишний моток проволоки, которая, между прочим, пользовалась исключительным спросом на некоторых планетах, не был украден из складов космической службы и доставлен (на космическом жаргоне - телепортирован) на корабль. Тем не менее Уильямс получил нагоняй, что мало помогает продвижению по службе.
Макнаут все еще размышлял, ворча себе под нос, когда вернулся Пайк с толстенной папкой в руках.
– Собираетесь начать инвентаризацию немедленно, сэр?
– Ничего другого нам не остается, - вздохнул капитан, посылая последнее «прости» своему отдыху в городе и ярким праздничным огням. - Потребуется уйма времени, чтобы обшарить корабль от носа до кормы, поэтому осмотр личного имущества экипажа проведем напоследок.
Выйдя из каюты, капитан направился к носу «Бастлера»; за ним с видом мученика тащился Пайк.
Когда они проходили мимо главного входного люка, их заметил корабельный пес Пизлейк. В два прыжка Пизлейк взлетел по трапу и замкнул шествие. Этот огромный пес, родители которого обладали неисчерпаемым энтузиазмом, но мало заботились о чистоте породы, был полноправным членом экипажа и гордо носил ошейник с надписью "Пизлейк-имущество косм. кор. «Бастлер». Основной обязанностью пса, с которой он превосходно справлялся, было не подпускать к трапу корабля местных грызунов и в редких случаях - обнаруживать опасность, незамеченную человеком.
Все трое шествовали по коридору - Макнаут и Пайк с мрачной решимостью людей, которые жертвуют собой во имя долга, а тяжело дышащий Пизлейк был преисполнен готовности начать любую игру, какую бы ему ни предложили.
Войдя в носовое помещение, Макнаут тяжело опустился в кресло пилота и взял папку из рук Пайка.
– Ты знаешь всю эту кухню лучше меня - мое место в штурманской рубке. Поэтому я буду читать, а ты - проверять наличие. - Капитан открыл папку и начал с первого листа:
– К-1. Компас направленного действия, тип Д, один.
– Есть, - сказал Пайк.
– К-2. Индикатор направления и расстояния, электронный, тип Джи-Джи, один.
– Есть.
– К-З. Гравиметрические измерители левого и правого бортов, модель Кэсини, одна пара.
– Есть.
Пизлейк положил голову на колени Макнаута, посмотрел ему в лицо понимающими глазами и негромко завыл. Он начал соображать, чем занимаются эти двое. Нудная перекличка была чертовски скучной игрой. Макнаут успокаивающим жестом положил руку на голову Пизлейка и стал играть песьими ушами, протяжно выкликивая предмет за предметом.
– К-187. Подушки из пенорезины, две, на креслах пилота и второго пилота.
– Есть.
К тому времени, когда первый офицер Грегори поднялся на борт корабля, они уже добрались до крохоткой рубки внутренней радиосвязи и копались там в полумраке. Пизлейк, полный невыразимого отвращения, давно покинул их.
– М-24. Запасные громкоговорители, трехдюймовые, тип Т-2, комплект из шести штук, один.
– Есть.
Выпучив от удивления глаза, Грегори заглянул в рубку и спросил:
– Что здесь происходит?
– Скоро нам предстоит генеральная инспекция, - ответил Макнаут, поглядывая на часы. - Пойди-ка проверь, привезли краску или нет и если нет, то почему. А потом приходи сюда и помоги мне с проверкой - Пайку надо заниматься другими делами.
– Значит, увольнение в город отменяется?
– Конечно, до тех пор пока не уберется этот начальник веников и заведующий кухнями. - Капитан повернулся к Пайку. - Когда будешь в городе, постарайся разыскать и отправить на корабль как можно больше ребят. Никакие причины или объяснения во внимание не принимаются. И чтобы без всяких там алиби или задержек. Это приказ!
Лицо Пайка приняло еще более несчастное выражение. Грегори сердито посмотрел на него, вышел, через минуту вернулся и доложил:
– Окрасочные материалы прибудут через двадцать минут. - С грустью на лице он посмотрел вслед уходящему Пайку.
– М-47. Телефонный кабель, витой, экранированный, три катушки.
– Есть, - сказал Грегори, проклиная себя. И угораздило же его вернуться на корабль именно сейчас!
Работа продолжалась до позднего вечера и возобновилась с восходом солнца. К этому времени уже три четверти команды трудилось в поте лица как внутри, так и снаружи корабля, с видом людей, приговоренных к каторге за преступления - задуманные, но еще не совершенные.
По узким коридорам и переходам пришлось передвигаться по-крабьи, на четвереньках - лишнее доказательство того, что представители высших форм земной жизни испытывают панический страх перед свежей краской. Капитан во всеуслышание объявил, что первый, кто посадит пятно на свежую краску, поплатится за это десятью годами жизни.
На исходе второго дня зловещие предчувствия капитана начали сбываться. Они уже заканчивали девятую страницу очередного инвентарного списка кухонного имущества, а шеф-повар Жан Бланшар подтверждал присутствие и действительное наличие перечисляемых предметов, когда они, пройдя две трети пути, образно говоря, натолкнулись на рифы и стремительно пошли ко дну.
Макнаут пробормотал скучным голосом:
– В-1097. Кувшин для питьевой воды, эмалированный, один.
– Здесь, - ответил Бланшар, постучав по кувшину пальцем.
– В-1098. Капес, один.
– Что? - спросил Бланшар, изумленно выпучив глаза,
– В-1098. Капес, один, - повторил Макнаут. - Ну, что смотришь, будто тебя громом ударило? Это корабельный камбуз, не правда ли? Ты шеф-повар, верно? Кому же еще знать, что находится в камбузе? Ну, где этот капес?
– Первый раз о нем слышу, - решительно заявил повар.
– Быть того не может. Он внесен вот в этот список табельного имущества камбуза, напечатано четко и ясно: капес, один. Список табельного имущества составлялся при приемке корабля четыре года назад. Мы сами проверили наличие капеса и расписались.
– Ни за какой капес я не расписывался, - Бланшар упрямо покачал головой. - В моем камбузе нет такой штуки.
– Посмотри сам! - с этими словами Макнаут сунул ему под нос инвентарный список.
Бланшар взглянул и презрительно фыркнул.
– У меня здесь есть электрическая печь, одна. Кипятильники, покрытые кожухами, с мерным устройством, один комплект. Есть сковороды, шесть штук. А вот капеса нет. Я никогда даже не слышал о нем. Представления не имею, что это такое. - Он выразительно развел руками. - Нет у меня капеса!
– Но ведь должен же он где-то быть, - втолковывал ему Макнаут. - Если Кэссиди обнаружит, что капес пропал, поднимется черт знает какой тарарам!
– А вы его сами поищите, - язвительно посоветовал Бланшар.
– Послушай, Жан, у тебя диплом Кулинарной школы Международной ассоциации отелей, у тебя свидетельство Колледжа поваров Кордон Бле; наконец, ты награжден почетным дипломом с тремя похвальными отзывами Центра питания космического флота, - напомнил ему Макнаут. - И как же ты не знаешь, где у тебя капес!
– Черт возьми! - завопил Бланшар, всплеснув руками. - Сотый раз повторяю, что у меня нет никакого капеса. И никогда не было. Сам Эскуафье не смог бы его найти, так как в моем камбузе никакого капеса нет. Что я, волшебник, что ли?
– Этот капес - часть кухонного имущества, - стоял на своем Макнаут. - И он должен быть где-то, потому что он упоминается на девятой странице инвентарного списка камбуза. А это означает, что ему надлежит находиться здесь и что лицом, ответственным за его хранение, является шеф-повар.
– Черта с два! Усилитель внутренней связи, он что, тоже мой? - огрызнулся Бланшар, указывая на металлический ящик в углу под потолком.
Макнаут немного подумал и ответил примирительно:
– Нет, это имущество Бурмана. Его хозяйство расползлось по всему кораблю.
– Вот и спросите его, куда он дел свой проклятый капес! - заявил Бланшар с нескрываемым триумфом.
– Я так и сделаю. Если капес не твой, он должен принадлежать Бурману. Давай только сначала разделаемся с кухней. Если Кэссиди не заметит в хранении системы и тщательности, он разжалует меня в рядовые. - Капитан опять уткнулся в список. - В-1099. Ошейник собачий с надписью, кожаный, с бронзовыми бляхами, один. Можешь не искать его, Жан. Я только что видел его на собаке. - Макнаут поставил аккуратную птичку около ошейника и продолжал: - В-1100. Корзина для собаки, плетеная, из прутьев, одна.
– Вот она, - сказал повар, пинком отшвыривая ее в угол.
– В-1101. Подушка из пенорезины, комплект с корзиной, одна.
– Половина подушки, - поправил его Бланшар. - За четыре года Пизлейк изжевал вторую половину.
– Может быть, Кэссиди позволит нам выписать со склада новую. Ну ладно, это не имеет значения. Пока налицо хотя бы половина, все в порядке. - Макнаут встал и закрыл палку. - Итак, с кухней покончено. Пойду поговорю с Бурманом насчет исчезнувшего табельного имущества.
Бурман выключил приемник УВЧ, снял наушники и вопросительно посмотрел на капитана.
– При осмотре камбуза выявилась недостача одного капеса, - объяснил Макнаут. - Как ты думаешь, где он может быть?
– Откуда мне знать? Камбуз - царство Бланшара.
– Не совсем так. Твои кабели проходят через камбуз, Там у тебя два конечных приемника, автоматический переключатель и усилитель внутренней связи. Так где же находится капес?
– В первый раз о нем слышу, - озадаченно проговорил Бурман.
– Перестань болтать глупости! - заорал Макнаут, теряя всяческое терпение. - Хватит с меня бредней Бланшара! Четыре года назад у нас был капес, это точно. Загляни в инвентарные списки! Это - корабельная копия списка, вое имущество проверено, и под этим стоит моя подпись. Значит, расписались и за капес. Поэтому он должен где-то быть, и его надо найти до приезда Кэссиди.
– Очень жаль, сэр, - выразил свое сочувствие Бурман, - но я ничем не могу вам помочь.
– Подумай еще, - посоветовал Макнаут. - В носу расположен указатель направления и расстояния. Как вы его называете?
– Напрас, - ответил Бурман, не понимая, куда клонит хитрый капитан.
– А как ты называешь вот эту штуку? - продолжал Макнаут, указывая на пульсовый передатчик.
– Пуль-пуль.
– Ребячьи словечки, а? Напрас и пуль-пуль. А теперь напряги свои извилины и вспомни, как назывался капес четыре года назад!
– Насколько мне известно, - ответил Бурман, подумав, - у нас никогда не было ничего похожего на капес.
– Тогда, - спросил Макнаут, - почему мы за него расписались?
– Я не расписывался. Это вы везде расписывались.
– Да, в то время как все вы проверяли наличие. Четыре года назад, очевидно в камбузе, я произнес: «Капес, один», и кто-то из вас, ты или Бланшар, ответил: «Есть». Я поверил вам на слово. Ведь мне приходится верить начальникам служб. Я специалист по штурманскому делу, знаком со всеми навигационными приборами, а других не знаю. Значит, мне пришлось положиться на слова кого-то, кто знал или должен был знать, что такое капес.
Внезапно Бурмана осенила превосходная мысль.
– Послушайте, когда производилось переоборудование корабля, множество самых разнообразных приборов и устройств было рассовано по коридорам, около главного входного люка и в кухне. Помните, сколько оборудования мы рассортировали, чтобы установить его в надлежащих местах? Этот самый капес может оказаться теперь где угодно, совсем не обязательно у меня или Бланшара.
– Я поговорю с другими офицерами, - согласился Макнаут. - Он может быть у Грегори, Уорта, Сандерсона или еще у кого-нибудь. Как бы то ни было, а капес должен быть найден. Или, если он отслужил положенный срок и пришел в негодность, об этом должен быть составлен соответствующий акт.
Капитан вышел. Бурман состроил вслед ему гримасу, надел на голову наушники и стал опять копаться в радиоприемнике. Примерно через час Макнаут вернулся с хмурым лицом.
– Несомненно, на борту корабля нет такого прибора, - заявил он с заметным раздражением. - Никто о нем не слышал, мало того, никто не может даже предположить, что это такое.
– А вы вычеркните его из инвентарных списков и доложите о его исчезновении, - предложил Бурман.
– Это когда мы находимся в космопорту? Ты знаешь не хуже меня, что обо всех случаях утраты или повреждения казенного имущества докладывают на базу тотчас после происшествия. Если я скажу Кэссиди, что капес был утрачен, когда корабль находился в полете, он сейчас же захочет узнать, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло и почему о случившемся не информировали базу. Представь себе, какой будет скандал, если вдруг выяснится, что эта штука стоит полмиллиона. Нет, я не могу так просто избавиться от этого капеса.
– Что же тогда делать? - простодушно спросил Бурман, шагнув прямо в ловушку, поставленную изобретательным капитаном.
– Нам остается только одно! - объявил Макнаут. - Ты должен изготовить капес!
– Кто, я? - испуганно спросил Бурман.
– Ты - и никто другой! Тем более что я почти уверен, что капес - это твое имущество.
– Почему вы так думаете?
– Потому что это типично детское словечко из числа тех, о которых ты мне уже говорил. Готов поспорить на месячный оклад, что капес - это какая-нибудь высоконаучная аламагуса. Может быть, он имеет отношение к туману. Скажем, прибор слепой посадки.
– Прибор слепой посадки называется щупак, - проинформировал капитана радиоофицер.
– Вот видишь! - воскликнул Макнаут, как будто слова Бурмана подтвердили его теорию. - Так что принимайся за работу и состряпай хороший капес. Он должен быть готов завтра к шести часам вечера и доставлен ко мне в каюту для осмотра. И позаботься о том, чтобы капес выглядел убедительно, более того, приятно. То есть я хочу сказать, чтобы он выглядел убедительно в момент работы.
Бурман встал, уронил руки и сказал хриплым голосом:
– Как я могу изготовить капес, когда даже не знаю, как он выглядит?
– Кэссиди тоже не знает этого, - напомнил ему Макнаут с радостной улыбкой. - Он интересуется скорее количеством, чем другими вопросами. Поэтому он считает предметы, смотрит на них, удостоверяет их наличие, соглашается с экспертами относительно степени их изношенности. Нам нужно всего-навсего состряпать убедительную аламагусу и сказать адмиралу, что это и есть капес.
– Святой Моисей! - проникновенно воскликнул Бурман.
– Давай не будем полагаться на сомнительную помощь библейских персонажей, - упрекнул его Макнаут. - Лучше воспользуемся серыми клетками, которыми нас наделил господь бог. Берись сейчас же за свой паяльник и состряпай к завтрашнему дню первоклассный капес. Это приказ!
Капитан отбыл, страшно довольный собой. Бурман, оставшись один в своей каюте, тусклым взглядом вперился в стену и тяжело вздохнул.
Контр-адмирал Вэйн У. Кэссиди прибыл точно в указанное радиограммой время. Это был краснолицый человек с брюшком и глазами снулой рыбы. Он не ходил, а выступал.
– Здравствуйте, капитан, я уверен, что у вас все в полном порядке.
– Как всегда, - заверил его Макнаут, не моргнув глазом. - Это мой долг. - В его голосе звучала непоколебимая уверенность.
– Отлично! - с одобрением отозвался Кэссиди. - Мне нравятся офицеры, серьезно относящиеся к своим хозяйственным обязанностям. К сожалению, некоторые не принадлежат к их числу.
Адмирал торжественно взошел по трапу и прошествовал через главный люк внутрь корабля. Его рыбьи глаза сейчас же обратили внимание на свежеокрашенную поверхность.
– С чего вы предпочитаете начать осмотр, капитан, с носа или с кормы?
– Инвентарные списки начинаются с носа и идут к корме, сэр. Поэтому лучше начать с носа, это упростит дело.
– Отлично. - И адмирал, повернувшись, торжественно зашагал к носу. По дороге он остановился потрепать по шее Пизлейка и попутно глянул на ошейник. - Хорошо ухоженная собака, капитан. Она приносит пользу на корабле?
– Пизлейк спас жизнь пяти членам экипажа на Мардии: он лаем дал сигнал тревоги, сэр.
– Я надеюсь, детали этого происшествия занесены в бортовой журнал?
– Так точно, сэр! Бортовой журнал находится в штурманской рубке в ожидании вашего осмотра.
– Мы проверим его в надлежащее время.
Войдя в носовую рубку, Кэссиди расположился в кресле первого пилота, взял протянутую капитаном папку и начал проверку.
– К-1. Компас направленного действия, тип Д, один.
– Вот он, сэр, - сказал Макнаут, указывая на компас.
– Удовлетворены его работой?
– Так точно, сэр!
Инспекция продолжалась. Адмирал проверил оборудование в рубке внутренней связи, вычислительной рубке и других местах и добрался наконец до камбуза. У плиты в отутюженном ослепительно белом халате стоял Бланшар и смотрел на адмирала с нескрываемым подозрением.
– В-147. Электрическая печь, одна.
– Вот она, - сказал повар, презрительно ткнув пальцем в плиту.
– Довольны ее работой? - спросил Кэссиди, глядя на повара рыбьими глазами.
– Слишком мала, - объявил Бланшар. Он развел руками, как бы охватывая весь камбуз. - Все слишком маленькое. Мало места. Негде повернуться. Этот камбуз похож скорее на чердак в собачьей конуре.
– Это - военный корабль, а не пассажирский лайнер, - огрызнулся Кэссиди. Нахмурившись, он заглянул в инвентарный список. - В-148. Автоматические часы и электрическая печь в единой установке, один комплект.
– Вот они, - фыркнул Бланшар, готовый выбросить их через ближайший иллюминатор, если, конечно, Кэссиди берется оплатить их стоимость.
Адмирал продвигался все дальше и дальше, приближаясь к концу списка, и нервное напряжение в кухне постепенно нарастало. Наконец Кэссиди произнес роковую фразу:
– В-1098. Капес, один.
– Черт побери! - в сердцах крикнул Бланшар. - Я уже говорил тысячу раз и снова повторяю, что…
– Капес находится в радиорубке, сэр, - поспешно вставил Макнаут.
– Вот как? - Кэссиди еще раз взглянул в список. - Тогда почему он числится в кухонном оборудовании?
– Во время последнего ремонта капес помещался в камбузе, сэр. Это один из портативных приборов, которые можно установить там, где для них находится местечко.
– Хм! Тогда он должен быть занесен в инвентарный список радиорубки. Почему это не сделано?
– Я хотел получить ваше указание, сэр.
Рыбьи глазки немного оживились, в них промелькнуло одобрение.
– Да, пожалуй, вы правы, капитан. Я сам перенесу капес в другой список. - Адмирал собственноручно вычеркнул прибор из списка номер девять, расписался, внес его в список номер шестнадцать и снова расписался. - Продолжим, капитан. В-1099. Ошейник с надписью, кожаный, с бронзо… Ну ладно, я сам только что видел его. Он был на собаке.
Адмирал поставил галочку возле ошейника. Через час он прошествовал в радиорубку. В середине ее стоял, расправив плечи, Бурман. Несмотря на то, что поза у него была решительной, руки и ноги его мелко дрожали, а выпученные глаза неотступно следовали за Макнаутом. В них читалась немая мольба. Бурман был как на угольях.
– В-1098. Капес, один, - произнес Кэссиди голосом, не терпящим возражения.
Двигаясь с угловатостью плохо отрегулированного робота, Бурман дотронулся до небольшого ящичка с многочисленными шкалами, переключателями и цветными лампочками. По внешнему виду прибор напоминал соковыжималку, созданную радиолюбителем. Радиоофицер щелкнул двумя переключателями. Цветные лампочки ожили и заиграли разнообразными комбинациями огней.
– Вот он, сэр, - с трудом произнес Бурман.
– Ага! - прокаркал Кэссиди и нагнулся к прибору, чтобы рассмотреть его получше. - Что-то я не помню такого прибора. Впрочем, за последнее время наука идет вперед такими шагами, что всего не упомнишь. Он функционирует нормально?
– Так точно, сэр!
– Это один из наиболее нужных приборов на корабле, - прибавил Макнаут для пущей убедительности.
– Каково же его назначение? - спросил адмирал, давая возможность радиоофицеру метнуть перед ним бисер мудрости.
Бурман побледнел.
Макнаут поспешил к нему на помощь.
– Видите ли, адмирал, подробное объяснение потребует слишком много времени, так как прибор исключительно сложен, но вкратце - капес позволяет установить надлежащий баланс между противоположными гравитационными полями. Различные сочетания цветных огней указывают на степень и интенсивность разбалансировки гравитационных полей в любой заданный момент.
– Это очень тонкий прибор, основанный на константе Финагле, - добавил Бурман, внезапно исполнившись отчаянной смелости.
– Понимаю, - кивнул Кэссиди, не поняв ни единого слова. Он устроился поудобнее в кресле, поставил галочку около капеса и продолжил инвентаризацию. - Ц-44. Коммутатор, автоматический, на 40 номеров внутренней связи, один.
– Вот он, сэр.
Адмирал взглянул на коммутатор и опять углубился в список. Офицеры воспользовались этим мгновением, чтобы вытереть пот с лица.
Итак, победа одержана.
Все в порядке.
Контр-адмирал отбыл с к.к. «Бастлер» довольный, наговорив в адрес капитана кучу комплиментов. Не прошло и часа, как вся команда уже снова была в городе, наверстывая потерянное время. Макнаут наслаждался веселыми городскими огнями по очереди с Грегори. В течение следующих пяти дней мир и покой царили на корабле.
На шестой день Бурман принес радиограмму в каюту командира, положил ее на стол и остановился, ожидая реакции Макнаута. Лицо радиоофицера было довольным, как у человека, чью добродетель вознаградили по заслугам.
ШТАБ-КВАРТИРА КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА НА ЗЕМЛЕ БАСТЛЕРУ ТЧК ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ТЧК БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НОВЕЙШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ТЧК ФЕЛДМАН УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ СИРИСЕКТОР
– Назад на Землю, - прокомментировал Макнаут со счастливым лицом. - Капремонт - это по крайней мере месяц отпуска. - Он посмотрел на радиоофицера. - Передай дежурному офицеру мое приказание: немедленно вернуть весь личный состав на борт. Когда узнают причину вызова, они побегут сломя голову.
– Так точно, сэр, - ухмыльнулся Бурман.
Спустя две недели, когда Сирипорт остался далеко позади, а Солнце уже виднелось как крошечная звездочка в носовом секторе звездного неба, команда еще продолжала улыбаться. Предстояло одиннадцать недель полета, но на этот раз стоило подождать. Летим домой! Ура!
Улыбки исчезли, когда однажды вечером Бурман принес неприятное известие. Он вошел в рубку и остановился посреди комнаты, кусая нижнюю губу в ожидании, когда капитан кончит запись в бортовом журнале.
Наконец Макнаут отложил журнал в сторону, поднял глаза и, увидев Бурмана, нахмурился.
– Что случилось? Живот болит?
– Никак нет, сэр. Я просто думал.
– А что, это так болезненно?
– Я думал, - продолжал Бурман похоронным голосом. - Мы возвращаемся на Землю для капитального ремонта. Вы понимаете, что это значит? Мы уйдем с корабля, и орда экспертов оккупирует его. - Он бросил трагический взгляд на капитана. - Я сказал - экспертов.
– Конечно, экспертов, - согласился Макнаут. - Оборудование не может быть установлено и проверено группой кретинов.
– Потребуется нечто большее, чем знания и квалификация, чтобы установить и отрегулировать наш капес, - напомнил Бурман. - Для этого нужно быть гением.
Макнаут откинулся назад, как будто к его носу поднесли головешку.
– Боже мой! Я совсем забыл об этой штуке. Да, когда мы вернемся на Землю, вряд ли нам удастся потрясти этих парней своими научными достижениями.
– Нет, сэр, не удастся, - подтвердил Бурман. Он не прибавил слова «больше», но все его лицо красноречиво говорило: «Ты сам впутал меня в эту грязную историю. Теперь сам и выручай».
Он подождал несколько секунд, пока Макнаут что-то лихорадочно обдумывал, затем спросил:
– Так что вы предлагаете, сэр?
Внезапно лицо капитана расплылось в улыбке, и он ответил:
– Разбери этот дьявольский прибор и брось его в дезинтегратор.
– Это не решит проблемы, сэр. Все равно у нас не будет хватать одного капеса.
– Ничего подобного. Я собираюсь сообщить на Землю о его выходе из строя в трудных условиях космического полета. - Он выразительно подмигнул Бурману. - Ведь теперь мы в свободном полете, верно? - С этими словами он потянулся к блокноту радиограмм и начал писать, не замечая ликующего выражения на лице Бурмана:
К. К. БАСТЛЕР ШТАБУ КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА НА ЗЕМЛЕ ТЧК ПРИБОР В-1098 КАПЕС ОДИН РАСПАЛСЯ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПОД МОЩНЫМ ГРАВИТАЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОЛЕ ДВОЙНЫХ СОЛНЦ ГЕКТОР МЕЙДЖОР МАЙНОР ТЧК МАТЕРИАЛ БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН КАК ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТОРА ТЧК ПРОСИМ СПИСАТЬ ТЧК МАКНАУТ КОМАНДИР БАСТЛЕРА
Бурман выбежал из капитанской рубки и немедленно радировал послание на Землю. Два дня прошли в полном спокойствии. На третий день он снова вошел к капитану с озабоченным и встревоженным видом.
– Циркулярная радиограмма, сэр, - объявил он, протягивая листок.
ШТАБ КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА НА ЗЕМЛЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВСЕ СЕКТОРА ТЧК ВЕСЬМА СРОЧНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ ТЧК ВСЕМ КОРАБЛЯМ НЕМЕДЛЕННО ПРИЗЕМЛИТЬСЯ БЛИЖАЙШИХ КОСМОПОРТАХ ТЧК НЕ ВЗЛЕТАТЬ ДО ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ ТЧК УЭЛЛИНГ КОМАНДИР СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗЕМЛИ
– Что-то случилось, - заметил Макнаут, впрочем, ничуть не обеспокоенный. Он поплелся в штурманскую рубку, Бурман за ним. Там он сверился с картами и набрал номер внутреннего телефона. Связавшись с Пайком, капитан сказал:
– Слушай, Пайк, принят сигнал тревоги. Всем кораблям немедленно вернуться в ближайшие космопорты. Нам придется сесть в Закстедпорте, примерно в трех летных днях отсюда. Немедленно измени курс, семнадцать градусов на правый борт, наклонение десять. - Он бросил трубку и проворчал. - Мне никогда не нравился Закстедпорт. Вонючая дыра. Пропал наш месячный отпуск. Представляю, какое настроение будет у команды. Впрочем, не могу винить их в этом.
– Как вы думаете, сэр, что случилось? - спросил Бурман. Он выглядел каким-то неспокойным и раздраженным.
– Одному богу известно. Последний раз циркулярная радиограмма была послана семь лет назад, когда «Старейдер» взорвался на полпути между Землей и Марсом. Штаб приказал всем кораблям оставаться в портах, пока не будет выяснена причина катастрофы. - Макнаут потер подбородок, подумал немного и продолжал: - А за год до этого была послана циркулярная радиограмма, когда вся команда к.к."Блоуган" сошла с ума. В общем, что бы то ни было, это серьезно.
– Это не может быть началом космической войны?
– С кем? - Макнаут презрительно махнул рукой. - Ни у кого нет флота, равного нашему. Нет, это что-то техническое. Рано или поздно нам сообщат причину. Еще до того, как мы сядем в Закстеде.
Действительно, скоро им сообщили. Уже через шесть часов Бурман ворвался в капитанскую рубку с лицом, искаженным от ужаса.
– Ну, а теперь что случилось? - спросил Макнаут, сердито глядя на взволнованного радиоофицера.
– Это капес, - едва выговорил Бурман. Его руки конвульсивно дергались, как будто он сметал невидимых пауков.
– Ну и что?
– Это была опечатка. В инвентарном списке должно было быть написано «каз. пес».
Капитан продолжал смотреть на Бурмана непонимающим взглядом.
– Каз. пес? - переспросил он.
– Смотрите сами! - С этими словами Бурман бросил радиограмму на стол и стремительно выскочил из радиорубки, позабыв закрыть дверь. Макнаут недовольно хмыкнул и уставился на радиограмму:
ШТАБ КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА НА ЗЕМЛЕ БАСТЛЕРУ ТЧК ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕГО РАПОРТА ГИБЕЛИ В-1098 КАЗЕННОГО ПСА ПИЗЛЕЙКА ТЧК НЕМЕДЛЕННО РАДИРУЙТЕ ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИ КОТОРЫХ ЖИВОТНОЕ РАСПАЛОСЬ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПОД МОЩНЫМ ГРАВИТАЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ ТЧК ОПРОСИТЕ КОМАНДУ И РАДИРУЙТЕ СИМПТОМЫ ПОЯВИВШИЕСЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА МОМЕНТ НЕСЧАСТЬЯ ТЧК ВЕСЬМА СРОЧНО КРАЙНЕ ВАЖНО УЭЛЛИНГ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА НА ЗЕМЛЕ
Закрывшись в своей каюте, Макнаут начал грызть ногти. Время от времени он, скосив глаза, проверял, сколько осталось, и продолжал грызть.
Альфред Бестер. Феномен исчезновения
Это была не последняя война. И не война, которая покончит с войнами вообще. Ее звали Войной за Американскую Мечту. На эту идею как-то наткнулся сам генерал Карпентер и с тех пор только о ней и трубил.
Генералы делятся на вояк (такие нужны в армии), политиков (они правят) и специалистов по общественному мнению (без них нельзя вести войну). Генерал Карпентер был гениальным руководителем общественного мнения. Сама Прямота и само Простодушие, он руководствовался идеалами столь же высокими и общепонятными, как девиз на монете. Именно он представлялся Америке армией и правительством, щитом и мечом нации. Его идеалом была Американская Мечта.
– Мы сражаемся не ради денег, не ради могущества, не ради господства над миром, - заявил генерал Карпентер на обеде в Объединении Печати.
– Мы сражаемся лишь ради воплощения Американской Мечты, - провозгласил он на заседании конгресса 162-го созыва.
– Мы стремимся не к агрессии и не к порабощению народов, - изрек он на ежегодном обеде в честь выпускников военной академии.
– Мы сражаемся за дух цивилизации, - сообщил он сан-францисскому Клубу Пионеров.
– Мы воюем за идеалы цивилизации, за культуру, за поэзию, за Непреходящие Ценности, - сказал он на празднике чикагских биржевиков-хлеботорговцев. - Мы сражаемся не за себя, а за наши мечты, за Лучшее в Жизни, что не должно исчезнуть с лица земли.
Итак, Америка воевала. Генерал Карпентер потребовал сто миллионов человек. И сто миллионов человек были призваны в армию. Генерал потребовал десять тысяч водородных бомб. И десять тысяч водородных бомб были сброшены на голову противника. Противник тоже сбросил на Америку десять тысяч водородных бомб и уничтожил почти все ее города.
– Что ж, уйдем от этих варваров под землю! - заявил генерал Карпентер. - Дайте мне тысячу специалистов по саперному делу!
И под грудами щебня появились подземные города.
– Мы должны стать нацией специалистов, - заявил генерал Карпентер перед Национальной Ассоциацией Американских Университетов. - Каждый мужчина и каждая женщина, каждый из нас должен стать прежде всего закаленным и отточенным орудием для своего дела.
Дайте мне пятьсот медицинских экспертов, триста регулировщиков уличного движения, двести специалистов по кондиционированию воздуха, сто - по управлению городским хозяйством, тысячу начальников отделений связи, семьсот специалистов по кадрам…
– Наша мечта, - сказал генерал Карпентер на завтраке, данном Держателями Контрольных Пакетов на Уолл-стрите, - не уступает мечте прославленных афинских греков и благородных римских… э-э… римлян. Это мечта об Истинных Ценностях в Жизни. Музыка. Искусство. Поэзия. Культура. Деньги лишь средство в борьбе за нашу мечту.
Уолл-стрит аплодировал. Генерал Карпентер запросил сто пятьдесят миллиардов долларов, полторы тысячи честолюбивых людей, три тысячи специалистов по минералогии, петрографии, поточному производству, химической войне и научной организации воздушного транспорта. Страна дала ему все это. Генералу Карпентеру стоило только нажать кнопку, и любой специалист был к его услугам.
В марте 2112 года война достигла своей кульминационной точки, и именно в это время решилась судьба Американской Мечты. Это произошло не на одном из семи фронтов, не в штабах и не в столицах, а в палате-Т армейского госпиталя, находившегося на глубине трехсот футов под тем, что когда-то называлось городом Сент-Олбанс в штате Нью-Йорк.
Палата-Т была загадкой Сент-Олбанса. Как и во многих других армейских госпиталях, в Сент-Олбансе имелись особые палаты для однотипных больных. В одной находились все раненые, у которых была ампутирована правая рука, в другой - все, у которых была ампутирована левая.
Повреждение черепа и ранения брюшной полости, ожоги просто и ожоги радиоактивные - для всего было свое место. Военно-медицинская служба разработала девятнадцать классов решений, которые включали все возможные разновидности повреждений и заболеваний, как душевных, так и телесных. Они обозначались буквами от А до S. Но каково же было назначение палаты-Т?
Этого не знал никто. Туда не допускали посетителей, оттуда не выпускали больных. Входили и выходили только врачи. Растерянный вид их заставлял строить самые дикие предположения, но выведать у них что бы то ни было не удавалось никому.
Уборщица утверждала, что она как-то наводила там чистоту, но в палате никого не было. Ни души. Только две дюжины коек, и больше ничего. А на койках хоть кто-нибудь спит? Да. Некоторые постели смяты. А есть еще какие-нибудь признаки, что палатой кто-то пользуется? Ну, как же! Личные вещи на столиках и все такое. Только пыли на них порядком - как будто их давно уж никто и в руки не брал.
Общественное мнение склонилось к тому, что это палата для призраков.
Но один санитар сообщил, что ночью из закрытой палаты доносилось пение. Какое пение? Похоже, что на иностранном языке. На каком? Этого санитар сдавать не мог. Некоторые слова звучали вроде… ну, вот так: «Гады в ямы с их гитар…»
Общественное мнение склонилось к выводу, что это палата для иностранцев. Для шпионов.
Сент-Олбанс включил в дело кухонную службу и установил наблюдение за подносами с едой. Двадцать четыре подноса следовали в палату-Т три раза в день. Двадцать четыре возвращались оттуда. Иногда пустые. Чаще всего нетронутые.
Общественное мнение поднатужилось и пришло к решению, что палата-Т - сплошная липа. Что это просто неофициальный клуб для пройдох и комбинаторов, которые устраивают там попойки. Вот тебе и «гады в ямы с их гитар…»!
По части сплетен госпиталь не уступит дамскому рукодельному кружку в маленьком городе, а больные легко раздражаются из-за любой мелочи. Потребовалось всего три месяца, чтобы праздные догадки сменились возмущением. Еще в январе 2112 года Сент-Олбанс был вполне благополучным госпиталем. А в марте психиатры уже забили тревогу. Снизился процент выздоровлений. Появились случаи симуляции. Участились мелкие нарушения распорядка.
Перетрясли персонал. Не помогло. Волнение из-за палаты-Т грозило перейти в мятеж. Еще одна чистка, еще одна, но волнения не прекращались.
Наконец по официальным каналам слухи дошли до генерала Карпентера.
– В нашей битве за Американскую Мечту, - сказал он, - мы не имеем права забывать тех, кто проливал за нас кровь. Подать сюда эксперта по госпитальному делу.
Эксперт не смог исправить положение в Сент-Олбансе. Генерал Карпентер прочитал рапорт и разжаловал его автора.
– Сострадание, - сказал генерал Карпентер, - первая заповедь цивилизации. Подать мне Главного медика.
Но и Главный медик не смог потушить гнев Сент-Олбанса, а посему генерал Карпентер разжаловал и его. Но на этот раз в рапорте была упомянута палата-Т.
– Подать мне специалиста по той области, которая касается палаты-Т, - приказал генерал Карпентер.
Сент-Олбанс прислал врача - это был капитан Эдсель Диммок, коренастый молодой человек, почти лысый, окончивший медицинский факультет всего лишь три года назад, но зарекомендовавший себя отличным специалистом по психотерапии. Генерал Карпентер питал слабость к экспертам. Диммок ему понравился. Диммок обожал генерала как защитника культуры, которой сам он, будучи чересчур узким специалистом, не мог вкусить сейчас, но собирался насладиться ею, как только война будет выиграна.
– Так вот, Диммок, - начал генерал, - каждый из нас ныне прежде всего закаленный и отточенный инструмент. Вы знаете наш девиз: «Свое дело для каждого, и каждый для своего дела». Кто-то там не при своем деле в палате-Т, и мы его оттуда выкинем. А теперь скажите-ка, что же это такое - палата-Т?
Диммок, заикаясь и мямля, кое-как объяснил, что это палата для особых заболеваний, вызванных током.
– Значит, там у вас содержатся пациенты?
– Да, сэр. Десять женщин и четырнадцать мужчин.
Карпентер помахал пачкой рапортов.
– А вот здесь заявление пациентов Сент-Олбанса о том, что в палате-Т никого нет.
Диммок был ошарашен.
– Это ложь! - заверил он генерала.
– Ладно, Диммок. Значит, у вас там двадцать четыре человека. Их дело - поправляться. Ваше дело - лечить. Какого же черта весь госпиталь ходит ходуном?
– В-видите ли, сэр… Очевидно, потому, что мы держим палату-Т под замком.
– Почему?
– Чтобы удержать там пациентов, генерал.
– Удержать? Как это понять? Они что, пытаются сбежать? Буйные, что ли?
– Никак нет, сэр. Не буйные.
– Диммок, мне не нравится ваше поведение. Вы все хитрите и ловчите. И вот что мне еще не нравится. Эта самая классификация. При чем тут Т? Я справился в медицинском управлении - в их классификации никакого Т не существует. Что это еще за петрушка?
– Д-да, сэр… Мы сами ввели этот индекс. Они… Тут… особый случай, сэр. Мы не знаем, что делать с этими больными. Мы не хотели огласки, пока не найдем способа лечения. Но тут совсем новая область, генерал. Новая! - Здесь специалист взял в Диммоке верх над дисциплинированным служакой. - Это сенсационно! Это войдет в историю медицины! Этого еще никто, черт возьми, не видел!
– Чего этого, Диммок? Точнее!
– Слушаюсь, сэр. Это бывает после шока. Полнейшее безразличие к раздражителям. Дыхание чуть заметно. Пульс слабый.
– Подумаешь! Я видел такое тысячи раз, - проворчал генерал Карпентер.
– Что тут необычного?
– Да, сэр, пока все подходит под разряд Q или R. Но тут одна особенность. Они не едят и не спят.
– Совсем?
– Некоторые совсем.
– Почему же они не умирают?
– Вот этого мы и не знаем. Метаболический цикл нарушен, но отсутствует только его анаболический план. Катаболический продолжается. Иными словами, сэр, они выделяют отходы пищеварения, но не принимают ничего внутрь. Они изгоняют из организма токсины и восстанавливают изношенные ткани, но все это без еды и сна. Как - один бог знает!
– Значит, потому вы и запираете их? Значит… Вы полагаете, что они таскают еду и ухитряются вздремнуть где-то на стороне?
– Н-нет, сэр. - Диммок был явно смущен. - Я не знаю, как объяснить вам это. Я… Мы запираем их, потому что тут какая-то тайна. Они… Ну, в общем, они исчезают.
– Чего-чего?..
– Исчезают, сэр. Пропадают. Прямо на глазах.
– Что за бред!
– Но это так, сэр. Смотришь, сидят на койках или стоят поблизости. Проходит какая-то минута - и их уже нет. Иногда в палате-Т их две дюжины. Иногда - ни одного. То исчезают, то появляются - ни с того ни с сего. Поэтому-то мы и держим палату под замком, генерал. За всю историю военной медицины такого еще не бывало. Мы не знаем, как быть.
– А ну, подать мне троих таких пациентов, - приказал генерал Карпентер.
Натан Райли съел хлеб, поджаренный на французский манер, с парой яиц по-бенедиктински, запил все это двумя квартами коричневого пива, закурил сигару «Джон Дрю», благопристойно рыгнул и встал из-за стола. Он дружески кивнул Джиму Корбетту Джентльмену, который прервал беседу с Джимом Брэди Алмазом, чтобы перехватить его на полпути.
– Кто, по-твоему, возьмет в этом году приз, Нат? - спросил Джим Джентльмен.
– Доджерсы, - ответил Натан Райли.
– А что они могут выставить?
– У них есть «Подделка», «Фурилло» и «Кампанелла». Вот они и возьмут приз в этом году, Джим. Тринадцатого сентября. Запиши. Увидишь, ошибся ли я.
– Ну, ты никогда не ошибаешься, Нат, - сказал Корбетт.
Райли улыбнулся, расплатился, фланирующей походкой вышел на улицу и взял экипаж возле Мэдисон-сквер гарден. На углу 50-й улицы и 8-й авеню он поднялся в маклерскую контору, находящуюся над мастерской радиоприемников. Букмекер взглянул на него, достал конверт и отсчитал пятнадцать тысяч долларов.
– Рокки Марчиано техническим нокаутом положил Роланда Ла Старца в одиннадцатом раунде. И как это вы угадываете, Нат?
– Тем и живу, - улыбнулся Райли. - На результаты выборов ставки принимаете?
– Эйзенхауэр - двенадцать к пяти. Стивенсон…
– Ну, Эдлай не в счет, - и Райли положил на стойку двенадцать тысяч долларов. - Ставлю на Айка.
Он покинул маклерскую контору и направился в свои апартаменты в отеле «Уолдорф», где его уже нетерпеливо поджидал высокий и стройный молодой человек.
– Ах да! Вы ведь Форд? Гарольд Форд?
– Генри Форд, мистер Райли.
– И вы хотели бы, чтобы я финансировал производство машины в вашей велосипедной мастерской. Как, бишь, она называется?
– Я назвал ее имсомобиль, мистер Райли.
– Хм-м… Не сказал бы, что название мне очень нравится. А почему бы не назвать ее «автомобиль»?
– Чудесное предложение, мистер Райли. Я так и сделаю.
– Вы мне нравитесь, Генри. Вы молоды, энергичны, сообразительны. Я верю в ваше будущее и в ваш автомобиль. Вкладываю двести тысяч долларов.
Райли выписал чек и проводил Генри Форда к выходу. Потом посмотрел на часы и неожиданно почувствовал, что его потянуло обратно, захотелось взглянуть, как там и что. Он прошел в спальню, разделся, потом натянул серую рубашку и серые широкие брюки. На кармане рубашки виднелись большие синие буквы: «Госп. США».
Он закрыл дверь спальни и исчез.
Объявился он уже в палате-Т Сент-Олбанского госпиталя. И не успел перевести дух, как его схватили три пары рук. Шприц ввел ему в кровь полтора кубика тиоморфата натрия.
– Один есть, - сказал кто-то.
– Не уходи, - откликнулся другой. - Генерал Карпентер сказал, что ему нужны трое.
После того как Марк Юний Брут покинул ее ложе, Лела Мэчен хлопнула в ладоши. В покой вошли рабыни. Она приняла ванну, оделась, надушилась и позавтракала смирненскими фигами, розовыми апельсинами и графином «Лакрима Кристи». Потом закурила сигарету и приказала подать носилки.
У ворот дома, как обычно, толпились полчища обожателей из Двадцатого легиона. Два центуриона оттолкнули носильщиков от ручек носилок и понесли ее на своих широких плечах. Лела Мэчен улыбалась. Какой-то юноша в синем, как сапфир, плаще пробился сквозь толпу и подбежал к ней. В руке его сверкнул нож. Лела собралась с духом, чтобы мужественно встретить смерть.
– Лела! - воскликнул он. - Повелительница!
И полоснул по своей левой руке ножом так, что алая кровь обагрила одежды Лелы.
– Кровь моя - вот все, что я могу тебе отдать! - воскликнул он.
Лела мягко коснулась его лба.
– Глупый мальчик, - проворковала она. - Ну, зачем же так?
– Из любви к тебе, моя госпожа!
– Тебя пустят сегодня ко мне, - прошептала Лела. Он смотрел на нее так, что она засмеялась. - Я обещаю. Как тебя зовут, красавчик?
– Бен Гур.
– Сегодня в девять, Бен Гур.
Носилки двинулись дальше. Мимо форума как раз проходил Юлий Цезарь, занятый жарким спором с Марком Антонием. Увидев ее носилки, он сделал резкий знак центурионам, которые немедленно остановились. Цезарь откинул занавески и взглянул на Лелу. Лицо Цезаря передернулось.
– Ну почему? - хрипло спросил он. - Я просил, умолял, подкупал, плакал - и никакого снисхождения. Почему, Лела? Ну почему?
– Помнишь ли ты Боадицею? - промурлыкала Лела.
– Боадицею? Королеву бриттов? Боже милостивый, Лела, какое она имеет отношение к налей любви? Я не любил ее. Я только разбил ее в сражении.
– И убил ее, Цезарь.
– Она же отравилась, Лела.
– Это была моя мать, Цезарь! Убийца! Ты будешь наказан. Берегись мартовских ид, Цезарь!
Цезарь в ужасе отпрянул. Толпа поклонников, окружавшая Лелу, одобрительно загудела. Осыпаемая дождем розовых лепестков и фиалок на всем пути, она проследовала от форума к храму Весты.
Перед алтарем она преклонила колени, вознесла молитву, бросила крупинку ладана в пламя на алтаре и скинула одежды. Она оглядела свое прекрасное тело, отражающееся в серебряном зеркале, и вдруг почувствовала мимолетный приступ ностальгии. Лела надела серую блузу и серые брюки. На кармане блузы виднелись буквы: «Госп. США».
Она еще раз улыбнулась алтарю и исчезла.
Появилась она в палате-Т армейского госпиталя, где ей тут же вкатили полтора кубика тиоморфата натрия.
– Вот и вторая, - сказал кто-то.
– Надо еще одного.
Джордж Хэнмер сделал драматическую паузу и скользнул взглядом по скамьям оппозиции, по спикеру, по серебряному молотку на бархатной подушке перед спикером. Весь парламент, загипнотизированный страстной речью Хэнмера, затаив дыхание ожидал его дальнейших слов.
– Мне больше нечего добавить, - произнес, наконец, Хэнмер. Голос его дрогнул. Лицо было бледным и суровым. - Я буду сражаться за этот билль в городах, в полях и деревнях. Я буду сражаться за этот билль до смерти, а если бог допустит, то и после смерти. Вызов это или мольба, пусть решает совесть благородных джентльменов, но в одном я решителен и непреклонен: Суэцкий канал должен принадлежать Англии.
Хэнмер уселся. Овация! Под гул одобрения он протиснулся в кулуары, где Гладстон, Каннинг и Пит останавливали его, чтобы пожать ему руку. Лорд Пальмерстон холодно взглянул на Хэнмера, но Пэма оттолкнул подковылявший Дизраэли - этот был сплошной энтузиазм, сплошной восторг.
– Мы завтракаем в Тэттерсоле, - сказал Диззи. - Машина ждет внизу.
Леди Биконсфильд сидела в своем «роллс-ройсе» возле парламента. Она приколола к лацкану Дизраэли первоцвет и одобрительно потрепала Хэнмера по щеке.
– Вы, Джорджи, проделали большой путь с тех пор, как были школяром, которому нравилось задирать Диззи.
Хэнмер рассмеялся. Диззи запел «Гаудеамус игитур», и Хэнмер подхватил этот древний гимн школяров. Распевая его, они подъехали к Тэттерсолу. Здесь Диззи заказал пиво и жареные ребрышки, тогда как Хэнмер поднялся в клуб переодеться.
Почему-то вдруг он почувствовал тягу вернуться, взглянуть на все в последний раз. Возможно, потому, что ему не хотелось окончательно порывать с прошлым. Он снял сюртук, нанковый жилет, крапчатые брюки, лоснящиеся ботфорты и шелковое белье. Затем надел серую рубашку, серые брюки и исчез.
Объявился он в палате-Т Сент-Олбанского госпиталя, где тут же получил свои полтора кубика тиоморфата натрия.
– Вот и третий, - сказал кто-то.
– Давай их к Карпентеру.
И вот они в штабе генерала Карпентера - рядовой первого класса Натан Райли, мастер-сержант Лела Мэчен и капрал второго класса Джордж Хэнмер. Все трое в серой госпитальной одежде, оглушенные изрядной дозой усыпляющего.
В помещении не было посторонних. Здесь находились эксперты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального разведывательного управления. Увидев безжалостно-стальные лица этой братии, поджидавшей пациентов и его самого, капитан Эдсель Диммок вздрогнул. Генерал Карпентер мрачно усмехнулся.
– А вы что думали, так мы и клюнем на эту сказочку об исчезновениях, а, Диммок?
– В-виноват, сэр?
– Я ведь тоже специалист своего дела, Диммок. И раскусил вас. Война идет плохо. Очень плохо. Где-то к противнику просачивается информация. И вся эта Сент-Олбанская история говорит не в вашу пользу.
– Но они действительно исчезают, сэр. Я…
– Вот мои специалисты и хотят поговорить с вами и вашими пациентами насчет этих исчезновений. И начнут они с вас, Диммок.
Специалисты взялись за Диммока, пустив в ход эффективные средства ослабления психического сопротивления и устройства, выключающие волю. Были испробованы все известные в литературе реакции на искренность и все виды физического и психического давления. Отчаянно вопящий Диммок был трижды сломлен, хотя и ломать-то, собственно, было нечего.
– Пусть отдышится, - сказал Карпентер. - Переходите к пациентам.
Специалисты замялись: ведь эти клиенты были больны.
– О господи, давайте не миндальничать! - вскипел Карпентер. - Мы ведем войну за цивилизацию и защищаем наши идеалы. За дело!
Специалисты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального разведывательного управления взялись за дело. И в ту же минуту рядовой первого класса Натан Райли, мастер-сержант Лела Мэчен и капрал второго класса Джордж Хэнмер исчезли. Вот только-только они сидели на стульях, отданные во власть насилия. А в следующее мгновение их уже не стало.
Специалисты ахнули. Генерал Карпентер подошел к Диммоку.
– Капитан Диммок, приношу свои извинения. Полковник Диммок, вы повышены в чине за открытие чрезвычайной важности!.. Только какого черта все это значит? Нет, сначала нам надо проверить самих себя!
И Карпентер щелкнул переключателем селектора.
– Подать мне эксперта по шокам и психиатра.
Экспертов вкратце познакомили с сутью дела. Обследовав свидетелей, они вынесли заключение.
– Вы все перенесли шок средней степени, - сказал специалист по шокам.
– Нервное расстройство, вызванное военной обстановкой.
– Так вы считаете, что на самом деле они не исчезли? Что мы этого не видели?
Специалист по шокам покачал головой и взглянул на психиатра, который тоже покачал головой.
– Массовая галлюцинация, - сказал психиатр.
В этот момент рядовой первого класса Райли, мастер-сержант Мэчен и капрал второго класса Хэнмер появились вновь. Только что они были массовой галлюцинацией, и вот, пожалуйста, - сидят себе на своих стульях.
– Усыпите их снова, Диммок! - закричал Карпентер. - Впрысните им целый галлон, - он щелкнул переключателем селектора. - Подать мне всех специалистов, какие только у нас имеются.
Тридцать семь экспертов, каждый - закаленное и отточенное орудие, изучили пребывающие в бессознательном состоянии «случаи исчезновения» и три часа обсуждали этот феномен. Факты гласили только одно. Это новый фантастический синдром, возникший на основе нового фантастического страха, вызванного войной. Каждому действию соответствует равное, противоположно направленное противодействие. Так и подписали. На том и сошлись.
Видимо, пациенты вынуждены время от времени возвращаться в то место, откуда исчезают, иначе они не стали бы объявляться в палате-Т или здесь, в штабе генерала Карпентера.
Видимо, пациенты принимают пищу и спят там, где они бывают, поскольку в палате-Т ни того ни другого не делают.
– Одна небольшая деталь, - заметил полковник Диммок. - В палату-Т они возвращаются все реже. Раньше они исчезали и появлялись каждый день. Теперь многие отсутствуют неделями или не возвращаются вовсе.
– Это неважно, - сказал Карпентер. - Важно другое: куда они исчезают?
– И не попадают ли за вражеские линии? - спросил кто-то. - Вот по каким каналам может утекать информация!
– Я хочу, чтобы разведка установила, - щелкнул переключателем Карпентер, - столкнулся ли противник с подобными случаями исчезновения и появления людей в своих лагерях для военнопленных. Ведь там могут быть и наши больные из палаты-Т.
– Они просто отправляются к себе домой, - высказался полковник Диммок.
– Я хочу, чтобы служба безопасности проверила это, - приказал Карпентер. - Выяснить обстоятельства домашней жизни и все связи каждого из этих двадцати четырех исчезающих больных. А теперь… относительно наших дальнейших действий в палате-Т. У полковника Диммока имеется план.
– Мы ставим в палате-Т шесть дополнительных коек, - изложил свой план Эдсель Диммок. - И помещаем туда шесть наших специалистов, чтобы они вели наблюдение.
– Вот что, господа, - резюмировал Карпентер. - Это величайшее потенциальное оружие в истории войн. Представьте-ка себе телепортацию армии за вражеские линии! Мы можем выиграть войну за Американскую Мечту в один день, если овладеем секретом этих помраченных умов. И мы должны им овладеть!
Специалисты лезли из кожи, разведка добывала сведения, служба безопасности вела тщательную проверку. Шесть закаленных и отточенных орудий, разместившись в палате-Т Сент-Олбанского госпиталя, все ближе и ближе знакомились с исчезающими пациентами, которые все реже и реже появлялись там. Напряжение возрастало.
Служба безопасности сообщила, что ни одного случая необычного появления людей на территории Америки за последний год не наблюдалось. Разведка сообщила, что не замечено, чтобы противник сталкивался с аналогичными осложнениями у своих больных.
Карпентер кипел.
– Совсем новая область. И у нас нет в этой области специалистов. Нам нужны новые орудия. - Он щелкнул переключателем. - Подать мне университет!
Ему дали Йельский университет.
– Мне нужны специалисты по парапсихологии. Подготовьте их, - приказал Карпентер.
И в университете тут же ввели три обязательных курса - по Чудотворству, Сверхчувственному восприятию и Телекинезу.
Первый просвет забрезжил, когда одному эксперту из палаты-Т потребовалась помощь другого эксперта. И не кого-нибудь, а гранильщика.
– За каким чертом? - поинтересовался Карпентер.
– Он поймал обрывок разговора о драгоценном камне, - пояснил полковник Диммок. - И не может сам разобраться. Он же специалист по кадрам.
– А иначе и быть не может, - одобрительно заметил Карпентер. - Свое дело для каждого, и каждый для своего дела. - Он щелкнул переключателем. - Подать мне гранильщика.
Специалист по гранильному делу получил увольнительную из арсенала и явился к генералу, где его попросили уточнить, что это за алмаз «Джим Брэди». Сделать этого он не смог.
– Попробуем с другого бока, - сказал Карпентер и щелкнул переключателем. - Подать мне семантика.
Семантик покинул свой стол в департаменте Военной пропаганды, но так и не понял, что стоит за словами «Джим Брэди». Для него это было просто имя. Не больше. И он предложил обратиться к специалисту по генеалогии.
Специалист по генеалогии получил на один день освобождение от службы в Комитете по неамериканским предкам, но ничего не смог сказать о Джиме Брэди, кроме того, что это имя было распространено широко в Америке лет пятьсот назад, и, в свою очередь, предложил обратиться к археологу.
Археолог был извлечен из Картографической службы Частей вторжения и тут же установил, что это за Джим Брэди Алмаз. Им оказалось историческое лицо, известное в городе Малый-Старый-Нью-Йорк в период между губернатором Питером Стивесантом и губернатором Фьорелло Ла Гардиа.
– Господи! - изумился Карпентер. - Столько веков назад! Откуда этот Натан Райли такое выкопал? Вот что, подключитесь-ка к экспертам в палате-Т.
Археолог довел дело до конца, проверил свои данные и представил отчет. Карпентер прочитал его и тут же устроил экстренное совещание всех своих специалистов.
– Господа, - объявил он, - палата-Т - это нечто большее, нежели телепортация. Шоковые больные проделывают нечто более невероятное… более внушительное. Они перемещаются во времени.
Все растерянно зашушукались. Карпентер энергично кивнул.
– Да, да, господа. Это путешествие во времени. И прежде чем я буду продолжать, просмотрите вот эти отчеты.
Все участники совещания уткнулись в размноженные для них материалы. Рядовой первого класса Натан Райли… исчезает в Нью-Йорк начала ХХ века; мастер сержант Лела Мэчен… отправляется в Рим первого века нашей эры; капрал второго класса Джордж Хэнмер… путешествует в Англию XIX века. И остальные из двадцати четырех пациентов, спасаясь от безумия и ужасов современной войны, скрываются из XXII века в Венецию дожей, на Ямайку времен пиратов, в Китай династии Ханей, в Норвегию Эрика Рыжеволосого, в самые разные места земного шара и самые разные века.
– Мне нет нужды указывать на колоссальное значение этого открытия, - продолжал генерал Карпентер. - Представьте, как это скажется на ходе войны, если мы сможем посылать армию на неделю или год назад. Мы сможем выиграть войну до ее начала. Мы сможем защитить от варварства нашу Мечту… поэзию и красоту и замечательную культуру Америки… даже не подвергая их опасности.
Присутствующие попытались представить себе победоносное сражение, выигранное еще до его начала.
– Положение осложняется тем, что эти люди из палаты-Т невменяемы. Они могут знать, но могут и не знать, как они все это проделывают, беда только в том, что они не в состоянии войти в общение с экспертами, которые могли бы овладеть методом этого чуда. Придется искать ключ самим. Эти люди не могут нам помочь.
Закаленные и отточенные орудия беспомощно переглянулись.
– Нам нужны эксперты, - сказал генерал Карпентер.
Присутствующие облегченно вздохнули, обретя под ногами привычную почву.
– Нам нужен специалист по церебральной механике, кибернетик, психоневропатолог, анатом, археолог и перворазрядный историк. Они отправятся в эту палату и не выйдут оттуда, пока не сделают свое дело: пока не разберутся в технике путешествия во времени.
Первую пятерку экспертов легко удалось раздобыть в разных военных департаментах. Вся Америка была сплошным набором закаленных и отточенных специалистов. Труднее оказалось найти перворазрядного историка. Наконец федеральная каторжная тюрьма, также работающая для нужд армии, выявила доктора Брэдли Скрима, приговоренного к двадцати годам каторжных работ. Доктор Скрим, довольно язвительный и колючий субъект, руководил кафедрой истории философии в Западном университете, пока не выложил все, что он думает о войне за Американскую Мечту. За это он и получил свои двадцать лет.
Скрим был настроен все так же вызывающе, но его удалось втянуть в игру, заинтриговав проблемой палаты-Т.
– Но я же не эксперт, - огрызнулся он. - В этой невежественной стране сплошных экспертов я последняя стрекоза среди полчищ муравьев…
Карпентер щелкнул переключателем.
– Энтомолога!
– Ни к чему. Я объясню. Вы - гнездо муравьев - работаете, трудитесь и специализируетесь. А для чего?
– Чтобы сохранить Американскую Мечту, - с жаром ответил Карпентер. - Мы воюем за поэзию, культуру, образование и Непреходящие Ценности.
– Словом, за то, чтобы сохранить меня, - сказал Скрим. - Ведь этому я посвятил всю свою жизнь. А что вы сделали со мной? Бросили в тюрьму.
– Вас обвинили в симпатиях к противнику, в антивоенных настроениях.
– Меня обвинили в том, что я верю в Американскую Мечту. Говоря иными словами, в том, что у меня своя голова на плечах.
Таким же неуживчивым Скрим оставался и в палате-Т. Он провел там ночь, насладился трехразовым хорошим питанием, прочитал все отчеты, затем отшвырнул их и начал кричать, чтобы его выпустили.
– Свое дело для каждого, и каждый для своего дела, - сказал ему полковник Диммок. - Вы не выйдете, пока не докопаетесь до секрета путешествия во времени.
– Никакого здесь секрета для меня нет.
– Они путешествуют во времени?
– И да, и нет.
– Ответ должен быть только однозначным. Вы уклоняетесь от…
– Вот что, - устало прервал его Скрим, - вы специалист в какой области?
– Психотерапия.
– Тогда вы ни черта не поймете в том, что я скажу. Это же философская проблема. Я заявляю, что здесь нет секрета, которым могла бы воспользоваться армия. И вообще им не может воспользоваться какая-либо группа. Этим секретом может овладеть только личность.
– Я вас не понимаю.
– А я и не надеялся, что поймете. Отведите меня к Карпентеру.
Скрима отвели к генералу, и он злорадно усмехнулся в лицо Карпентеру - рыжий дьявол, тощий от недоедания.
– Мне нужно десять минут, - сказал Скрим. - Можете вы на это время оторваться от вашего ящика с инструментами?
Карпентер кивнул.
– Так вот, слушайте внимательно. Сейчас я дам вам ключи от чего-то столь грандиозного, необычайного и нового, что вам понадобится вся ваша смекалка!
Карпентер выжидающе взглянул на него.
– Натан Райли уходил в начало двадцатого века. Там он жил своей излюбленной мечтой. Он игрок высокого полета. Он зашибает деньги, делая ставки на то, что ему известно заранее. Он ставит на то, что на выборах пройдет Эйзенхауэр. Он ставит на то, что профессиональный боксер по имени Марчиано побьет Ла Старца. Он вкладывает деньги в автомобильную компанию Генри Форда. Вот они, ключи. Вам это что-нибудь говорит?
– Без социолога-аналитика - ничего, - ответил Карпентер и потянулся к переключателю.
– Не беспокойтесь, я объясню. Только вот вам еще несколько ключей. Лела Мэчен, например, скрывается в Римскую империю, где живет как роковая женщина. Каждый мужчина влюблен в нее. Юлий Цезарь, Брут, весь Двадцатый легион, человек по имени Бен Гур. Улавливаете нелепицу?
– Нет.
– Да она еще ко всему курит сигареты.
– Ну и что? - спросил Карпентер, помолчав.
– Продолжаю. Джордж Хэнмер убегает в Англию девятнадцатого века, где он член парламента, друг Гладстона, Каннинга и Дизраэли. Последний везет его в своем «роллс-ройсе». Вы знаете, что такое «роллс-ройс»?
– Нет.
– Это марка автомобиля.
– Да?
– Вам все еще непонятно?
– Нет.
Скрим в возбуждении заметался по комнате.
– Карпентер, это открытие куда грандиознее телепортации или путешествия во времени. Это может спасти человечество.
– Что же может быть грандиознее путешествия во времени, Скрим?
– Так вот, Карпентер, слушайте. Эйзенхауэр баллотировался в президенты не ранее середины двадцатого века. Натан Райли не мог одновременно быть другом Джима Брэди Алмаза и в то же время ставить на Эйзенхауэра… Брэди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчиано побил Ла Старца через пятьдесят лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. Путешествие во времени Натана Райли полно подобных анахронизмов.
Карпентер ошеломленно хлопал глазами.
– Лела Мэчен не могла взять Бен Гура в любовники. Бен Гур никогда не бывал в Риме. Его вообще не было. Это персонаж романа и кинофильма. Она не могла курить. Тогда не было табака. Понятно? Опять анахронизмы. Дизраэли не мог усадить Джорджа Хэнмера в свой «роллс-ройс», потому что автомобилей при жизни Дизраэли не было.
– Черт знает, что вы говорите! - воскликнул Карпентер. - Выходит, все они врали?
– Нет. Не забывайте, что они не нуждаются во сне. Им не нужна пища. Они не лгут. Они возвращаются вспять во времени по-настоящему. И там едят и спят.
– Но вы же только что сказали, что их истории несостоятельны. Что они полны анахронизмов.
– Потому что они отправляются в придуманное ими время. Натан Райли имеет свое собственное представление о том, как выглядела Америка начала двадцатого века. Эта картина ошибочна и полна анахронизмов, потому что он не ученый. Но для него она реальна. Он может жить там. Точно так же и с остальными.
Карпентер выпучил глаза.
– Эту концепцию почти невозможно осознать. Эти люди открыли, как превращать мечту в реальность. Они знают, как проникнуть в мир воплотившейся мечты. Они могут жить там. Господи, вот она ваша Американская Мечта, Карпентер. Это чудо, бессмертие, почти божественный акт творения… Этим непременно нужно овладеть. Это необходимо изучить. Об этом надо сказать всему миру.
– И вы можете это сделать, Скрим?
– Нет, не могу. Я историк. Я не творческая натура. И мне это не под силу. Вам нужен поэт… От воплощения мечты на бумаге или холсте, должно быть, не так уж трудно шагнуть к воплощению в действительность.
– Поэт?! Вы это серьезно?
– Конечно, серьезно. А вы знаете, что такое поэт? Вы пять лет вдалбливали нам, что эта война ведется ради спасения поэтов.
– Перестаньте паясничать, Скрим. Я…
– Пошлите в палату-Т поэта. Он изучит, как они это делают. Только поэту это под силу. Поэт уже наполовину живет в мечте. А уж от него научатся и ваши психологи и анатомы. Они смогут научить нас. Поэт - необходимое звено между больными и вашими специалистами.
– Мне кажется, вы правы, Скрим.
– Тогда не теряйте времени, Карпентер. Пациенты из палаты-Т все реже и реже возвращаются в этот мир. Мы должны овладеть секретом, пока они не исчезли навсегда. Пошлите в палату-Т поэта.
Карпентер щелкнул переключателем.
– Найдите мне поэта.
И он все сидел и ждал, ждал, ждал… А Америка лихорадочно перебирала свои двести девяносто миллионов закаленных и отточенных инструментов, эти орудия для защиты Американской Мечты о красоте, поэзии и Истинных Ценностях в Жизни. Сидел и ждал, пока среди них найдут поэта. Ждал, не понимая, почему так затянулось ожидание, не понимая, почему Брэдли Скрим покатывается от хохота над этим последним, воистину роковым исчезновением.
Роберт Блох. Поезд в ад
Когда Мартин был маленьким, его папа служил на железной дороге. Папа никуда не ездил, а ходил и осматривал пути Северо-Западной железной дороги. Он гордился своей работой. И каждый вечер, напившись, горланил старую песню о «поезде в ад».
Мартин плохо помнил слова, но не мог забыть, как папа выкрикивал их. Однажды папа допустил ошибку: он напился днем и был раздавлен между буферами вагона-цистерны и платформы с песком. Мартина удивило, что члены Железнодорожного Братства не пели эту песню на его похоронах.
Потом обстоятельства жизни сложились для Мартина не слишком удачно. Но почему-то он всегда вспоминал папину песню. Когда мама вдруг взяла да и удрала с коммивояжером из Киокука (папа, наверное, перевернулся в гробу, узнав, что она выкинула такое, и притом с пассажиром!), Мартин попал в приют, и там каждый вечер тихонько напевал эту песню. А позже, когда Мартин удрал сам, он ночью, где-нибудь в лесу, выждав, пока другие бродяги уснут, чуть слышно насвистывал все тот же мотив.
Мартин пробродяжничал лет пять и понял, что в этом мало толку. Конечно, он брался за многие дела: нанимался собирать фрукты в Орегоне, мыл посуду в захудалой монтанской харчевне, воровал колпаки с автомобильных ступиц в Денвере и шины в Оклахома-Сити. Но, промаявшись полгода в кандальной бригаде в штате Алабама, он пришел к выводу, что шатание по свету не сулит ему ничего хорошего.
Тогда он сделал попытку устроиться на железной дороге, как папа, но ему сказали, что времена плохие и новых людей не берут.
Однако Мартина тянуло к железным дорогам. Скитаясь, он всегда разъезжал в поездах. И он предпочитал ютиться в товарном поезде, идущем на север, когда и без того был мороз, чем поднять у шоссе руку и прокатиться в роскошном кадиллаке во Флориду. Когда ему случалось раздобыть бутылку винца, он усаживался в уютной теплой канализационной трубе, думал о давно минувших днях и при этом частенько мурлыкал песню о поезде в ад. В этом поезде ехали пьяницы и развратники, шулера и мошенники, кутилы, бабники и прочая веселая братия. Недурно было бы прокатиться в такой чудесной компании. Но вот думать о том, что случится, когда поезд, наконец, подкатит к «Потустороннему подземному вокзалу», Мартин не любил. Он не собирался целую вечность топить котлы в аду, где его не сможет защитить даже профсоюз. А все-таки это была бы недурная поездка! Вот только ходит ли этакий поезд в ад? Увы, такого поезда, конечно, нет.
По крайней мере так думал Мартин, пока однажды поздно вечером не вышел с узловой станции Эплтон и не зашагал по шпалам на юг. Ночь была холодная и темная, как и положено ноябрьской ночи в долине реки Фокс, а Мартин хотел пробраться на зиму в Новый Орлеан или даже в Техас. Впрочем, эта мысль почему-то не очень прельщала его, хотя он слыхал, что в Техасе на многих машинах колпаки ступиц - из настоящего золота.
«Нет, нет, увольте, он создан не для мелких краж. Они хуже смертного греха: они неприбыльны! Мало того, что служишь дьяволу, так еще получаешь за это гроши! Может, лучше позволить Армии Спасения наставить тебя на путь истинный?»
Мартин брел, напевая папину песню, и ждал, когда его нагонит товарный, который должен был скоро выйти со станции. Надо вскочить в него - больше ничего не остается.
Но первым оказался поезд, идущий в обратном направлении, - он с ревом приближался к Мартину с юга.
Мартин всматривался в даль, но глаза работали не так хорошо, как уши, и пока до него долетал только рев гудка. Так или иначе, это был поезд. Мартин слышал, как содрогалась земля и пела сталь под ногами. Откуда взялся этот поезд? Следующая станция к югу Нийна-Менаша, а оттуда еще несколько часов не должно быть поезда.
Небо было покрыто тяжелыми тучами. По земле стлался холодный туман ноябрьской полуночи. И все равно Мартин должен был бы уже видеть головной фонарь мчащегося состава. Но он только слышал гудение, рвавшееся из черной глотки мрака. Мартин мог распознать голос любого когда-либо построенного паровоза, но подобного гудка он никогда не слыхал. Это был не сигнал, в скорее вопль потерянной души.
Мартин отошел в сторону - поезд был совсем близко. И вдруг он увидел паровоз и вагоны. Застонали, заскрежетали тормоза, и поезд непостижимо быстро остановился. Колеса не были смазаны, раз они скрежетали, как окаянные грешники. Вскоре скрежет замер, стихли и стоны. Мартин поднял глаза и увидел, что поезд пассажирский. Огромный, черный, без проблеска света в будке машиниста или где-либо в длинной веренице вагонов. Мартин не мог разглядеть надписей на вагонах, но был уверен, что это не поезд Северо-Западной дороги.
Еще более он уверился в этом, когда с переднего вагона неловко спустилась какая-то фигура. Что-то странное было в походке этого человека, словно он волочил одну ногу, и фонарь он нес какой-то странный. Этот фонарь не горел, но человек поднял его и дунул. Фонарь мгновенно вспыхнул красным светом. Не надо быть членом Железнодорожного Братства, чтобы признать диковинным такой способ зажигать фонари.
Когда фигура приблизилась, Мартин увидел на ней кондукторскую фуражку. Это немного успокоило его, но только на миг: он заметил, что фуражка сидит высоковато, как если бы изнутри ее что-то подпирало.
Надо сказать, что Мартин умел себя держать и, когда человек улыбнулся ему, сказал:
– Добрый вечер, мистер кондуктор!
– Добрый вечер, Мартин.
– Откуда вы знаете мое имя?
Человек пожал плечами.
– А откуда вы знаете, что я кондуктор?
– Но вы и вправду кондуктор?
– Для вас - да. Но людям на иных житейских путях я могу предстать в совсем других обличьях. Посмотрели бы вы на меня, когда я появляюсь в Голливуде! - Он усмехнулся и тут же пояснил: - Я много путешествую.
– А зачем вы приехали сюда? - спросил Мартин.
– Как?! Вы должны знать ответ на свой вопрос, Мартин: приехал я потому, что нужен вам. Сегодня ночью я вдруг обнаружил, что вы на краю гибели. Вы собирались вступить в Армию Спасения, не так ли?
– М-да, - неуверенно протянул Мартин.
– Не стесняйтесь. Ошибаться свойственно людям, как кто-то однажды сказал. Кажется, это было напечатано в «Ридерз Дайджест». Ну, не важно. Важно другое: я почувствовал, что нужен вам. Поэтому я отклонился от своего пути и вот встретился с вами.
– Для чего?
– Ну, ясно: чтобы предложить вам прокатиться. Разве не лучше путешествовать поездом, чем брести по холодным улицам за оркестром Армии Спасения? Тяжело ногам, говорят, а еще тяжелее барабанным перепонкам.
– Что-то мне не очень хочется ехать в вашем поезде, сэр, принимая во внимание, где я в конце концов окажусь.
– Да, да! Старое возражение! - вздохнул кондуктор. - Полагаю, вы предпочли бы заключить сделку, а?
– Вот именно, - согласился Мартин.
– К сожалению, я совсем перестал заключать подобные договоры. Сокращения притока новых пассажиров на предвидится. Зачем же я стану предлагать вам особые приманки?
– Очевидно, я вам нужен, иначе вы не стали бы делать крюк, чтобы со мной встретиться.
Кондуктор снова вздохнул.
– Вы правы. Самоуверенность - мой главный порок, должен это признать. А все-таки неохота мне уступать вас конкурентам, после того как я столько лет считал вас своим. - Он помолчал. - Что ж, если вы настаиваете, я готов выслушать ваши условия.
– Мои условия? - переспросил Мартин.
– Что до меня, то мои условия известны: вы получите все, что пожелаете.
– Ага, - произнес Мартин.
– Но предупреждаю - я не допущу никаких трюков. Я удовлетворю любое ваше желание, а взамен вы должны обещать, что сядете в поезд, когда придет срок.
– А что, если он никогда не придет?
– Придет.
– А что, если я придумаю такое желание, которое навсегда убережет меня?
– Таких желаний не может быть.
– Не будьте так уверенны.
– Ну, это уже моя забота, - сказал кондуктор. - Что бы вы ни придумали, знайте: рано или поздно я приду за расплатой. И тогда - никаких фокусов в последнюю минуту! Никаких сцен запоздалого раскаяния, никаких прелестных блондинок или изворотливых адвокатов, которые станут вызволять вас. Я предлагаю честную сделку. Это значит, что вы получите свое, а я свое.
– Я слышал, что вы обманываете людей. Говорят, вы хуже торговца подержанными автомобилями.
– Погодите минутку…
– Прошу прощения, - поспешно промолвил Мартин. - Но ведь, кажется, это факт, что вам нельзя доверять?
– Готов признать. С другой стороны, вы, по-видимому, считаете, что нашли лазейку.
– Да такую, что мне и огонь не страшен.
– Огонь не страшен? Очень забавно! - Собеседник Мартина рассмеялся, но сейчас же сдержал себя. - Мы теряем драгоценное время, Мартин. Перейдем к делу. Что вы от меня хотите?
Мартин глубоко вздохнул.
– Я хочу, чтобы я мог остановить время.
– Сейчас?
– Нет. Пока еще - нет. И не для всех. Я, конечно, понимаю, что это невозможно. Но я хочу, чтобы я мог остановить время для себя. Один раз, в будущем. Как только случится, что я буду всем доволен и счастлив, я остановлю время. Вот и выйдет, что я сберегу свое счастье навсегда.
– Интересное желание, - задумчиво произнес кондуктор. - Должен признаться, что до сих пор не слыхал ничего подобного. А я, верьте мне, успел наслушаться всяких выдумок. - Он взглянул на Мартина и усмехнулся. - Так вы хорошо обмозговали свою мысль?
– Вынашиваю ее не первый год, - признался Мартин. Он кашлянул. - Ну, что же вы скажете?
– Тут нет ничего невозможного, - пробормотал кондуктор, - если опираться на ваше личное ощущение времени. Да, я полагаю, это можно устроить.
– Но я имею в виду, что время в самом деле остановится. Не то, чтобы я это только воображал.
– Понимаю. И берусь это сделать.
– Значит, вы согласны?
– А чего ж? Я вам это уже раньше обещал! Давайте руку.
Мартин колебался.
– Будет очень больно? Я хочу сказать, что не терплю вида крови, а кроме того…
– Глупости! Вы наслушались всякой чепухи. И мы, голубчик, уже заключили сделку. Я только хочу вложить кое-что вам в руку: способ и средство осуществить свое желание. В конце концов откуда мне знать, когда именно вы решите воспользоваться нашей сделкой, не могу же я вмиг бросить все дела и мчаться к вам. Лучше сделать так, чтобы вы сами могли все решать.
– Вы хотите дать мне «стоп-кран времени»?
– Что-то в этом роде. Вот только решу, что будет удобнее. - Кондуктор помедлил. - А, придумал! Возьмите мои часы.
Он вынул из жилетного кармана серебряные железнодорожные часы. Открыв крышку, он что-то чуть-чуть переставил. Мартин пытался уследить, что, собственно, он делает, но пальцы кондуктора двигались слишком проворно.
– Готово, - улыбнулся кондуктор. - Часы поставлены, как нужно. Когда вы окончательно решите остановить время, повертите головку завода в обратную сторону до отказа и тем самым спустите весь завод. Когда часы станут, остановится и время - для вас. Просто?
С этими словами кондуктор вложил часы в руку Мартина.
Молодой человек крепко сжал часы.
– Значит, это все?
– Абсолютно все. Но помните, вы можете остановить часы только раз. Поэтому вы должны быть вполне уверены, что хотите продлить выбранный миг. Я вас честно предупреждаю: не ошибитесь в выборе!
– Ладно, - усмехнулся Мартин. - И раз вы ведете себя в этом деле так честно, я тоже буду с вами честен. Вы, кажется, кое-что забыли. Какой именно миг я выберу, это неважно. Ведь когда я остановлю время для себя, я уже не буду меняться. Мне не придется стареть. А если я не состарюсь, то никогда и не помру. А если я никогда не помру, мне не придется ехать в вашем поезде!
Кондуктор отвернулся. Плечи его судорожно тряслись. Может быть, он плакал.
– А вы еще сказали, что я хуже торговца подержанными автомобилями! - сдавленным голосом проговорил он.
И он скрылся в тумане, и гудок нетерпеливо рявкнул, и поезд сразу быстро пошел по рельсам и, громыхая, исчез во тьме.
Мартин стоял и, моргая, смотрел на серебряные часы в своей руке. Если бы он не видел их своими глазами, не осязал своими пальцами и не чувствовал исходившего от них особого запаха, он подумал бы, что недавняя сцена - поезд, кондуктор, сделка - от начала до конца плод его воображения.
Но у него были часы, и он различал запах, оставленный ушедшим поездом: в округе было не так много паровозов, отапливаемых смолой и серой.
Насчет самой сделки у него не возникало сомнений. Вот что значит обдумать вопрос с начала до конца. Многие дураки потребовали бы богатства или власти. Папа Мартина продался бы за бутылку виски.
Мартин знал, что заключил более выгодный договор. Выгодный? Во всяком случае безопасный. Все, что ему теперь нужно сделать, это - выбрать момент.
Он положил часы в карман и вновь зашагал по шпалам. Раньше у него не было определенной цели, а теперь была: добиться минуты счастья…
Молодой Мартин не был таким уж простофилей. Он отлично понимал, что счастье - понятие относительное. Степень довольства и самый его характер меняются вместе с поворотами судьбы. Пока он был бродягой, его удовлетворяла подачка в виде теплой еды, длинная скамья в парке или бутылка стерно. Такие простые средства не раз доставляли ему минутное блаженство, но он знал, что на свете есть вещи получше. Мартин решил искать их.
Через два дня он был в Чикаго, в этом гигантском городе. Вполне естественно, его повлекло в сторону западной Мэдисон-стрит, и там он предпринял шаги, чтобы возвыситься в жизни. Он стал городским бродягой, попрошайкой и воришкой. За неделю он поднялся до такого положения, когда слово «счастье» означало для него еду в настоящей закусочной, койку в настоящей ночлежке и целую бутылку муската.
Однажды вечером, полностью насладившись всей этой роскошью, Мартин, находясь на вершине опьянения, подумал, не спустить ли ему завод своих часов. Но он подумал также о тех зажиточных людях, у которых он лишь сегодня выклянчивал подаяние. Да, это были люди степенные, не бог весть какого ума, но жилось им недурно. Они хорошо одевались, занимали хорошие должности и разъезжали в хороших машинах. Их счастье было еще более ослепительным, чем его - они обедали в шикарных отелях, они спали на пружинных матрацах, они пили неразбавленное виски.
Умны они или глупы, но их жизнь неплоха. Мартин потрогал свои часы, преодолел искушение обменять их на еще одну бутылку муската и лег спать с решением добыть работу и повысить коэффициент своего счастья.
Когда он проснулся, его порядком мутило, но вчерашнее решение не покидало его. Не прошло и месяца, как Мартин уже работал у подрядчика на Южной стороне, где велось большое строительство. Работа была утомительная. Он ненавидел свою лямку, но платили хорошо, и он мог уже снять себе однокомнатную квартирку на Блю-Айленд-авеню. Скоро Мартин привык обедать в приличном ресторане, купил себе удобную кровать и по субботам заглядывал вечерком в таверну на углу. Все это было очень приятно, но…
Мастер хвалил работу Мартина и обещал ему через месяц прибавку. Стоит только немного подождать, и он купит себе подержанную машину. Имея машину, он мог бы время от времени катать в ней девушек. Так делали многие парни у него на работе, и вид у них был очень счастливый.
Мартин продолжал работать, и прибавка стала явью, и машина стала явью, и девушки стали явью.
Когда это случилось в первый раз, он захотел немедленно спустить завод своих часов. Но вспомнил, что говорил кое-кто из мужчин постарше. С ним вместе на подъемнике работал, например, парень по имени Чарли. И тот говорил: «Пока человек молод и не знает жизни, ему не претит возиться со всякой дрянью. Но годы идут, и человек начинает искать что-нибудь получше. Ему уже нужна порядочная девушка, своя собственная. Вот это - да!»
Мартин почувствовал, что обязан это выяснить, что таков его долг перед собой. Если ему не понравится, он всегда может вернуться к прежнему образу жизни.
Прошло почти полгода, и Мартин познакомился с Лилиан Гиллис. За это время его еще раз повысили по службе, и он работал уже не на стройке, а в конторе. Его заставили посещать вечернюю школу, чтобы изучить основы бухгалтерии. Теперь ему платили добавочные пятнадцать долларов в неделю, да и работать в закрытом помещении было приятнее.
Проводить время с Лилиан тоже было удивительно приятно. А когда она сказала Мартину, что станет его женой, он был уверен, что время приспело. Вот только она была немного… она в самом деле была порядочная девушка и поэтому сказала, что им надо подождать жениться. Конечно, Мартин не мог рассчитывать жениться на ней, пока не накопит немного денег. Может, как раз набежит новая прибавка…
На все это ушел год. Мартин был терпелив - он знал, что игра стоит свеч. И каждый раз, когда у него зарождалось сомнение, он доставал свои часы и смотрел на них. Но он никогда не показывал их ни Лилиан, ни кому-либо еще. Большинство других мужчин носили дорогие ручные часы, а у старых серебряных железнодорожных часов был простоватый вид.
Мартин посмеивался, глядя на головку завода. Несколько поворотов головки, и он получит такое, чего никогда не будет у этих жалких тупоголовых работяг. Неизменная радость, зарумянившаяся от смущения невеста!..
Однако женитьба оказалась только началом. Правда, это было чудесно, но Лилиан сказала ему, что было бы лучше, если бы они могли переехать в новый дом и отделать его по-своему. Мартин хотел, чтобы у них была приличная мебель, телевизор, машина хорошей марки.
Тогда Мартин начал посещать специальные вечерние курсы и добился перевода в главную контору. Зная, что скоро родится ребенок, он старался побольше сидеть дома, чтобы быть на месте, когда прибудет его сын. И когда сын появился, Мартин рассудил, что должен подождать, чтобы ребенок немного подрос, начал ходить, говорить, стал маленькой личностью.
Примерно в это время начальство назначило его аварийным монтером и стало посылать в командировки. Он много разъезжал и ел теперь в хороших отелях и вообще тратил немало за счет фирмы. Не раз у него возникал соблазн остановить часы. Ведь он жил чудесно… Впрочем, было бы еще лучше, если б он мог не работать. Рано или поздно, если ему удастся провести для фирмы крупное дело, он сорвет куш и выйдет в отставку. Тогда все будет идеально.
Так и вышло, но на это потребовалось время. Сын Мартина уже начал ходить в школу, когда Мартин разбогател по-настоящему. Он ясно сознавал, что пора ему решить свою судьбу: ведь он был уже далеко не юноша.
Около этого времени он познакомился с Шерри Уэсткот, и она, по-видимому, вовсе не считала его человеком средних лет, хотя у него редели волосы и росло брюшко. Она научила его прятать под париком лысину, а под широким поясом - брюшко. Она много чему его научила, а он учился с таким восхищением, что раз как-то в самом деле вынул часы и приготовился спустить завод.
На беду он выбрал тот самый миг, когда частные сыщики взломали дверь его номера в гостинице, после чего потянулся долгий бракоразводный процесс, и у Мартина возникло столько хлопот, что он ни одной минуты не был вполне счастлив.
К тому времени, когда Мартин уладил все дела с Лили, он совсем прогорел, и Шерри, видимо, решила, что в конце концов он и вправду не так уж молод. Тогда Мартин расправил плечи и опять взялся за работу.
Он опять загреб немалые деньги, но теперь на это ушло больше времени, и весь этот срок ему было не до наслаждений. Кричаще-роскошные дамы в кричаще-роскошных коктейль-барах перестали интересовать его. Охладел он также к спиртным напиткам. Кстати, и доктор предостерегал Мартина от них.
Однако были другие удовольствия, вполне доступные богатому человеку. Путешествия, например, и отнюдь не в товарных вагонах из одного захудалого городишки в другой. Мартин объездил весь мир на самолетах и в первоклассных лайнерах. Раз как-то ему показалось, что он-таки нашел подходящую минуту. Это было, когда он посетил Тадж-Махал при лунном свете. Мартин вытащил свои потертые старенькие часы и готов был спустить завод. Никто за ним в этот миг не наблюдал.
Вот это и заставило его поколебаться. Конечно, момент был восхитительный, но Мартин чувствовал себя одиноким. Лили и мальчик ушли, ушла Шерри, а Мартину всегда было некогда заводить дружбу. Возможно, что, найдя близких по духу людей, он достигнет полного счастья. Вот где решение: не в деньгах или власти, или любви женщины, или созерцании прекрасных вещей. Подлинное удовлетворение дает только дружба.
Поэтому на пути домой Мартин пытался познакомиться с кем-нибудь в пароходном баре. Но туда заходили все какие-то молокососы, и у Мартина не было с ними ничего общего. Им хотелось пить и танцевать, а Мартин уже не ценил такого времяпрепровождения. Все же он пытался не отставать от них.
Возможно, это и было причиной «маленькой неприятности», постигшей Мартина накануне прихода в Сан-Франциско. Маленькой неприятностью назвал это судовой врач. Но Мартин заметил, с каким серьезным видом он приказал сейчас же уложить Мартина в постель и вызвал санитарную машину, которая должна была встретить лайнер на пристани и отвезти пациента прямо в больницу.
В больнице все дорогостоящие методы лечения, и дорогостоящие улыбки, и дорогостоящие слова нисколько не обманули Мартина. Он - старый человек с плохим сердцем, и эти люди считают, что он скоро умрет.
Но он может их надуть. Часы-то по-прежнему у него. Он нащупал их в пиджаке, оделся в свое платье и улизнул из больницы.
Ему незачем умирать. Он может одним движением руки взять верх над смертью, но желает сделать это свободным человеком, под открытым небом.
Вот в чем истинная тайна счастья. Теперь он понял. Даже дружба мало чего стоит в сравнении со свободой. Вот оно, высшее благо: свобода от друзей, и семьи, и фурий плоти.
Мартин медленно побрел под ночным небом вдоль железнодорожной насыпи. Если разобраться, так выходит, что он пришел к тому, с чего начал много лет назад. Но эта минута была хороша, достаточно хороша, чтобы продлить ее навеки. Бродяга всегда остается бродягой.
Подумав об этом, он улыбнулся, но улыбка резко и внезапно скривила ему лицо, как резко и внезапно вспыхнула боль в груди. Мир завертелся, и Мартин упал на откос насыпи.
Он плохо видел, но был в полном сознании и знал, что произошло: второй удар, и притом скверный. Может быть, это конец. Но только он больше не будет дураком. Он не стремится увидеть, что его ждет на том свете.
Вот как раз случай воспользоваться своей тайной силой и спасти себе жизнь. И он это сделает. Он еще может двигаться, и ничто его не остановит.
Пошарив в кармане, он вытащил старые серебряные часы, потрогал головку завода. Несколько оборотов, - и он перехитрит смерть и никогда не поедет поездом в ад. Он будет жить вечно.
Вечно!
Раньше Мартин никогда глубоко не задумывался над этим словом. Жить вечно - но как? Неужели он хочет жить так вечно: больным стариком, беспомощно валяющимся в траве?
Нет. Он не может на это пойти. Он на это не пойдет. И вдруг он почувствовал, что вот-вот заплачет. Он понял, что где-то на жизненном пути перемудрил. А теперь уже поздно, В глазах у него потемнело, в ушах стоял рев…
Он, конечно, узнал этот рев и нисколько не был удивлен, когда из тумана на насыпь вырвался мчащийся поезд. Не удивился он и тогда, когда поезд остановился и кондуктор, сойдя по ступенькам, медленно направился к нему.
Кондуктор нисколько не изменился. Даже усмешка была та же самая.
– Привет, Мартин, - сказал он. - Объявляется посадка!
– Знаю, - прошептал Мартин. - Но вам придется нести меня, ходить я не могу. Пожалуй, я и говорю не очень внятно.
– Что вы, - возразил кондуктор, - я вас прекрасно слышу! Ходить вы тоже можете.
Он нагнулся и положил руку Мартину на грудь. Миг ледяного онемения, а потом - гляди! - к Мартину вернулась способность ходить.
Он встал и пошел за кондуктором по откосу к поезду.
– Сюда влезать? - спросил он.
– Нет, в следующий вагон, - тихо сказал кондуктор. - Мне кажется, вы заслужили право ехать в пульмановском. В конце концов вы человек, добившийся успеха. Вы вкусили наслаждение богатством, положением, престижем. Вам знакомы радости брака и отцовства. Вы ели, пили и безобразничали в свое удовольствие, вы путешествовали в самых лучших условиях по всему свету. Так обойдемся же в последнюю минуту без взаимных попреков.
– Очень хорошо, - вздохнул Мартин. - Я не могу корить вас за мои ошибки. С другой стороны, вы не можете ставить себе в заслугу то, что произошло. За все, что получал, я платил своим трудом. Я достигал всего сам. И ваши часы мне даже не понадобились.
– Это верно, - с улыбкой сказал кондуктор, - Поэтому сделайте милость, верните их мне.
– Они пригодятся вам для следующего молокососа? - пробормотал Мартин.
– Возможно.
Что-то в тоне кондуктора побудило Мартина взглянуть на него. Он хотел видеть глаза кондуктора, но козырек фуражки бросал на них тень. И Мартин снова опустил взор на часы.
– Скажите мне, - мягко начал он, - если я отдам вам часы, что вы с ними сделаете?
– Что? Брошу в канаву, - ответил кондуктор. - Больше мне нечего с ними делать.
И он протянул руку.
– А если кто-нибудь пройдет мимо, и найдет их, и покрутит головку назад, и остановит время?
– Никто этого не сделает, - проворчал кондуктор, - даже зная, в чем дело.
– Вы хотите сказать, что все это был трюк? Что это обыкновенные дешевые часы?
– Этого я не говорил, - прошептал кондуктор. - Я только сказал, что никто еще не крутил головку завода назад. Все люди похожи на вас, Мартин: они глядят в будущее, надеясь найти там полное счастье, Ждут минуты, которая никогда не настает.
Кондуктор снова протянул руку.
Мартин вздохнул и покачал головой.
– А все-таки, в конечном счете, вы меня обманули.
– Вы сами себя обманули, Мартин. А теперь поедете поездом в ад.
Он подтолкнул Мартина к вагону и заставил влезть на ступеньки. Не успел тот войти, как поезд тронулся и заревел гудок. Мартин стоял теперь в качающемся пульмановском вагоне и смотрел вдоль прохода на других пассажиров. Они сидели перед ним, и почему-то это совсем не казалось ему странным.
Вот они перед его глазами - пьяницы и развратники, шулера к мошенники, кутилы, бабники и прочая веселая братия. Они, конечно, знают, куда едут, но им, по-видимому, наплевать. Шторы на окнах опущены, но в вагоне светло, и все веселятся напропалую - горланят, передают по кругу бутылку и хохочут до упаду. Они бросают кости, отпускают шутки и хвастаются, хвастаются вовсю, совсем как в старинной песне, которую распевал папа.
– Превосходные попутчики! - сказал Мартин. - По правде говоря, я никогда не встречал такой приятной компании. По-моему, они от души веселятся!
Кондуктор пожал плечами.
– Боюсь, они не будут так веселы, когда мы войдем в Потусторонний подземный вокзал. - Он протянул руку в третий раз. - Так вот, прежде чем сесть, будьте любезны отдать мне часы. Договор есть договор…
Мартин улыбнулся.
– Договор есть договор, - повторил он. - Я согласился ехать в вашем поезде, если до этого смогу остановить время, когда найду минуту полного счастья. Мне кажется, что здесь я могу быть счастлив как никогда.
Мартин медленно взялся за головку завода своих серебряных часов.
– Не смейте! - с трудом выдохнул кондуктор. - Не смейте!
Но Мартин уже повернул головку.
– Вы понимаете, что натворили? - заорал кондуктор. - Теперь мы никогда не доберемся до Вокзала! Мы будем ехать и ехать - вечно!
Мартин усмехнулся.
– Знаю, - сказал он. - Но вся радость - в самой поездке, а не в том, чтобы добраться до цели. Вы сами меня так учили. Я предвижу чудесную поездку. И послушайте, я, пожалуй, даже мог бы помочь вам в работе. Найдите мне какую-нибудь форменную фуражку и оставьте часы у меня.
На этом они в конце концов и поладили. Мартин надел фуражку железнодорожника, спрятал в карман свои старые, потертые серебряные часы, и нет на всем свете, да и не будет на том человека счастливее Мартина. Мартина, нового тормозного на поезда в ад.




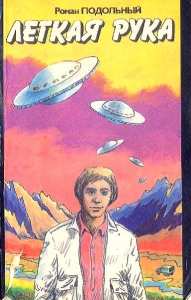
Комментарии к книге «НФ: Альманах научной фантастики 6 (1967)», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев