ФАНТАСТИКА 2002 Выпуск 1
ПОВЕСТИ
Владимир Васильев РОДИНА БЕЗРАЗЛИЧИЯ
Повесть из цикла «Ведьмак из Большого Киева»
К горлу ведьмака был приставлен пистолет.
Его держала маленькая, не мужская рука, но это дела совершенно не меняло. Маленький пальчик с тем же успехом мог нажать на спусковой крючок, что и большой.
И нажал.
Коротко тюкнуло.
— Готово, — сказала Ксана и вынула из камеры пустую ампулу. Потом сунула пистолет-инъектор в чехол с косо намалеванным красным крестом, а чехол — в потрепанный рюкзачок Геральта.
Геральт встал, невольно потянувшись неискалеченной рукой к месту, где лекарство впрыснулось под кожу.
— Не трогай! — Ксана поймала его за кисть. — Занесешь какую-нибудь дрянь…
Геральт протяжно вздохнул и мягко высвободился.
— Ладно, не буду… Завари мне чаю, — велел он рабыне.
Орк Семен Береста и старый кобольд-механик по имени
Сход Развалыч незаметно пристрастили ведьмака к чаю. Раньше Геральт тоже пил чай, но не так часто и не с таким удовольствием, как теперь.
«Пусть пьет, — подумала Ксана. — Для регенерации нужно много жидкости».
За последнее время девушке пришлось много узнать и запомнить. К счастью, память ее впитывала знания очень охотно.
Ксана захлопотала над тигельком и маленькой походной кастрюлькой, заменявшей и котелок, и чайник, а иногда и ковшик, из которого можно напиться. Она прекрасно помнила свое изумление, когда в одном из эльфийских парков по пути к границе Большого Киева ведьмак привел ее к колодцу и велел набрать холодной и ужасно вкусной родниковой воды. Для Ксаны это была совершеннейшая экзотика — воду она привыкла или воровать потихоньку из заводской столовой (минеральную воду, расфасованную в пластиковые бутылки), или набирать в те же опустошенные более удачливыми заводчанами бутылки под ржавым краном за кочегаркой. Минеральная вода Ксане нравилась больше. Но когда хочется пить — особо не повыбираешь.
Геральт все дни похода был мрачен и угрюм. На вопросы Ксаны отвечал резко и немногословно. А часто вообще не отвечал.
Ксана сначала сердилась — заботу ее ведьмак принимал охотно, а разговаривать не хотел. А потом смирилась. Да и поняла — ведьмаку есть о чем помолчать и подумать.
Странно, но она быстро перестала считать Геральта калекой. Наверное, все оттого, что искалеченная рука неправдоподобно быстро регенерировала. Странно было видеть, как из нормального предплечья потихоньку вырастает тоненькая и сморщенная ручонка с похожими на младенческие пальчиками. Первые дни во время обмывания, процедур и перевязок было даже неприятно. Но опять же Ксана быстро смирилась и теперь находила даже некий интерес в первом взгляде на немного отросшую руку после дневного перехода.
Да и вообще, практически весь впитанный с годами ужас перед ведьмаками испарился почти без следа. Живые Большого Киева и окрестных мегаполисов Евразии ведьмаков не любили и не жаловали. Ксана — боялась. Боялась с детства. Она смутно помнила брань вечно пьяной матери и ее нечленораздельные угрозы: «Вот, не будешь слушаться, отдам тебя ведьмакам! То-то они твоей кровушки попьют, мясца отведают!» Приходилось строить из себя паиньку — маленькой Ксане совсем не хотелось быть съеденной ведьмаками. Потом мать умерла, но отзывы о ведьмаках, которые доводилось слышать Ксане, сильно лучше не стали. Единственное, что она осознала повзрослев, — вряд ли ведьмаки питаются маленькими девочками. Как-то все больше предпочитают телячьи отбивные под доброе пиво. Когда-то давно она даже умудрилась поглядеть на одного из ведьмаков, тот как раз по каким-то своим таинственным ведьмачьим делам наведался на родной завод Ксаны и долго о чем-то толковал с главой клана, а потом без конца таскался по цехам и ангарам. Впечатление ведьмак производил неприятное, но чудовищем отнюдь не казался. Кроме того, Ксана терпеть не могла бритых наголо мужчин — тоже какое-то смутное впечатление детства, — а ведьмак был лыс как коленка. И вдобавок с какой-то варварской татуировкой на башке.
Что означает «варварская», Ксана опять же знала не очень твердо, но интуиция подсказывала — нечто дикое, необузданное и страшное.
Впрочем, глядя теперь на Геральта, она даже согласилась считать того красивым — волевое лицо, вечно сжатые тонкие губы, необычные глаза с вертикальным зрачком, как у вирга или бескуда. Особенно если не обращать внимания на культю и лысую голову — вопреки первым впечатлениям вовсе не бритую, а просто каким-то образом радикально и навсегда лишенную волос.
Ее даже тянуло к ведьмаку — невесть откуда взявшаяся потребность заботиться о мужчине, который находится рядом, преобразила дикарку-Ксану за считанные дни.
А Геральт, казалось, не замечал ничего. Сделай то, подай это. Ни спасибо, ни даже взгляда благодарного. Впрочем, да, она ведь рабыня, а рабыня — не больше чем слегка одушевленная вещь, способная отзываться на команды. «Да, господин. Сию минуту, господин».
Впрочем, ведьмак не требовал звать себя господином. Но и Кеану называл не иначе как «Эй, ты!».
А началось все в первый же день после обращения в рабство.
Джип Койона и Ламберта сначала превратился в маленькую точку вдали на шоссе, а потом и вовсе исчез из виду. Геральт долго глядел вслед, задумчиво и оцепенело, пока Ксана не тронула его за рукав здоровой руки.
— Куда они? — спросила девушка.
Геральт не ответил. Он знал, что коллег вызвали на перспективное дельце — где-то в Сумах тамошние гномы наткнулись посреди заброшенного карьера на некстати оживший траншеекопатель. Сказали, есть жертвы. Внедорожник Койона оказался ближе всех к Сумам, а Ламберт решил съездить за компанию. Ну и помочь, если потребуется.
Но девчонке Геральт ничего не объяснил. Зачем?
— Не хочешь говорить? — вздохнула та. — Ладно, дело твое. Только пешком мы до твоего Арзама…
— Заткнись! — Геральт порывисто обернулся. — Забудь это слово, поняла?
Он вдруг оказался совсем рядом и сцапал ее здоровой рукой за воротник джинсовой куртки.
— А будешь болтать — и впрямь язык отрежу!
Кеану пробрала мгновенная оторопь. Желтоватые глаза ведьмака с вертикальными змеиными зрачками ввергли ее в первозданный ужас. Так смотреть могла сама Смерть.
— По… поняла… — пробормотала она, и ведьмак тотчас разжал стальной кулак, освобождая куртку.
Ксана всхлипнула.
— Но ведь… Но ведь идти и правда больше месяца придется, — жалобно сказала девушка.
— Ничего, — буркнул ведьмак, успокаиваясь. — Как раз рука в норму придет.
И вдруг Геральт замер, а потом медленно обернулся к Ксане:
— Постой-ка… Откуда ты знаешь, сколько нам идти? — настороженно спросил он.
Ксана побледнела и непроизвольно отступила на шаг. Казалось, слова ведьмака были впечатаны в тугую невидимую стену, которая надвинулась на нее, будто ковш приближающегося карьерного бульдозера.
— Ламберт говорил… Недавно… — призналась Ксана.
Геральт несколько секунд мрачно глядел рабыне в глаза.
Потом задумчиво процедил:
— И уши тебе отрезать, что ли?
Всхлип вырвался у Ксаны тоже против воли.
Теперь она еще больше жалела, что Койон с Ламбертом уехали. По сравнению с Геральтом они казались добрыми и предупредительными. Почти что нормальными живыми. А ее господин даже в короткие минуты, когда отчаяние Ксаны от свалившегося рабства начало стаивать, оставался мрачен и малоразговорчив.
«Лучше бы меня Ламберту отдали, а не этому», — подумала Ксана тоскливо и безнадежно.
Но невольники хозяев не выбирают.
Геральт тем временем сплюнул под ноги и зашагал по пустынной перпендикулярной улице прочь от трассы-проспекта. Ксане ничего не оставалось, как последовать за ним.
Отдалившись квартала на три, ведьмак вновь свернул на восток. Улица, которую он выбрал, была пустынной и унылой, как и большинство улиц в малонаселенных районах Большого Киева. Дома сонно глядели на путников сто лет немытыми пыльными окнами; где-то вдалеке поскрипывала ржавая дверная петля: должно быть, ветер забавлялся полуоткрытой дверью. Смутно доносился разноголосый гул машин с близкой трассы — единственные звуки, напоминающие о том, что город все-таки обитаем.
Геральт вспомнил, как в бытность еще безымянным учеником ведьмачьей школы застал учителя Весемира за довольно странным для ведьмака занятием: Весемир пытался на основании нескольких случайных выборок подсчитать соотношение количества домов и количества живых в центре и прилегающих районах. Результаты тогда поразили Геральта. В самых густозаселенных местах соотношение нигде не превышало семи домов на одного живого. Подумать только — семь двух — шестиподъездных многоэтажек на одного живого! Это, разумеется, не значило, что каждый живой мог занять семь домов и благополучно обитать в любом помещении на выбор — во-первых, живые селились все-таки кучнее, небольшими группами, оставляя пустынными целые кварталы, а во-вторых, далеко не все даже прирученные дома годились для жилья.
В диких межрайонных массивах, бывало, обитал какой-нибудь десяток живых на нескольких сотнях квадратных километров. В похожую местность вступали сейчас Геральт с Ксаной. Относительно обжитый район Харьков оставался позади, впереди же до самой границы тянулись девственные окраинные кварталы.
Ксана немного робела: все-таки большую часть жизни она провела на заводе. Пусть в одиночестве, но все же по соседству с кланом. Заводские помещения и машины были издавна привычны к живым и от них не приходилось ожидать каких-либо подвохов. Жизнь вне завода Ксана помнила смутно, точно так же, как и мать. Ведьмак, напротив, чувствовал себя в этой глуши будто дома, и если бы не искалеченная рука, пожалуй, счел бы себя в большей безопасности, нежели в цивилизованном Харькове.
— Эй, ты! — обернулся Геральт. — Не отставай давай!
Медлительность рабыни раздражала его, хотя совершенно ясно было, что к долгим переходам та непривычна.
Девчонка тотчас засеменила чаще, нагоняя хозяина. Секундой позже она осмелилась подать голос:
— Меня зовут…
— Мне плевать, как тебя зовут, — оборвал Геральт. — С сегодняшнего дня тебя зовут «Эй, ты!».
Ксана даже споткнулась от неожиданности. Но Геральт с подчеркнутым безразличием уходил дальше — не замедляясь и не поджидая ее.
Пришлось догонять — опять бегом.
«Мне плевать, как тебя зовут», — эхом отдалось в мыслях.
Ведьмак. Чудовище. Чему удивляться?
Шли они до самой темноты, почти не разговаривая. Ксана хоть и провела большую часть жизни на ХТЗ, все же знала, что вполне реально было попытаться поймать попутку. Но Геральт, видимо, думал иначе.
На ночлег они устроились во дворе одноэтажного домика. Домик когда-то был обитаем, но, видать, очень давно. Ворота вросли в землю, кровля потемнела и в одном месте даже слегка просела. Улица сплошь состояла из подобных домиков, большей частью одноэтажных, хотя изредка попадались и надстроенные вторые этажи.
Едва наметились сумерки, Геральт стал подыскивать, место для ночлега. Солнце валилось в сады на задах квартала. Ксана, невзирая на усталость, невольно залюбовалась. Мир, который был ей внове, поразил не слишком. Меньше, чем можно было ожидать. Возможно, потому, что Кса-на привыкла иметь за спиной надежное убежище, верную и безотказную нору, как в пустотах за цеховой котельной. Чуть что — шасть, и нет тебя. А мир оставался открытым, незамкнутым. И это немного пугало. Но, с другой стороны, тут и угрожать-то путникам мало кто мог. Пустые кварталы пустого района.
Наверное, Геральт нарочно стремился сюда.
Калитку он отомкнул уже довольно уверенно, действуя левой рукой. Отмычка поскребла по ржавому нутру и замок послушно щелкнул.
Ксана ожидала, что ведьмак обернется к ней и скажет: «Входи!» Но ведьмак не сказал и даже не обернулся. Просто шагнул через утонувший в траве порожек, разве что калитку за собой не стал затворять.
Вошла и Ксана.
Дворик был небольшой, но уютный; ощущение родной норы, а стало быть, защищенности не заставило себя ждать. Ксане сразу стало легче на душе. Дом высился справа; слева тянулся глухой высокий забор, отделяющий дворик от соседнего, вероятно, точно такого же. Впереди, в глубине дворика, как ни странно, сохранился резной деревянный навес с увитыми плющом перилами. Дверь маленькой летней кухни выходила прямо под этот навес. И столик сохранился, здесь же, под навесом, у самой двери. А главное — в уголке нашлись ржавый, но вполне целый мангал и аккуратная пирамидка дров.
А вот покрывало на кушетке от непогод и времени успело начисто сгнить. Иссохло, обратилось в труху и белесые спутанные нити невыразительно-серого цвета.
— Прибери тут, — велел ведьмак сухо и заботливо пристроил свой видавший виды рюкзачок посреди стола.
Дверь на кухню закрывалась на обыкновенный накидной крючок. Ксана сразу же обнаружила и веник, и совок, и грязную посуду в большой эмалированной миске. Хозяйничать ей было не внове.
Вскоре тряпье с тахты навеки успокоилось в большом мусорном пакете, сор и сухие листья Ксана подмела и спровадила туда же. Из вскрытого дома Геральт принес пыльные, но вполне пригодные к пользованию одеяла; потом сходил за водой к колодцу. Ксана заметила, что ведьмак быстро приспосабливается орудовать единственной рукой. Видать, не впервой ему такие увечья. И левая его рука постепенно справляется со всеми житейскими надобностями все увереннее и увереннее.
Еще днем Геральт наведался на встреченный продуктовый склад, где сумел добыть из злющего одичавшего холодильника несколько брикетов маринованного куриного шашлыка, пару банок огурчиков-корнишонов и банку настоящих грибов. Ксана тоже проявила хозяйственность: в нише под витриной отыскала объемистый пакет сухарей. Этого двоим с лихвой хватило бы на сутки.
Геральт не ленился и не повалился сразу поверх застеленных одеял, как ожидала Ксана. Вовсе нет. Принялся разводить огонь в мангале, а потом долго воевал с гаражным замком, а как победил — искал шампуры или достойную им замену. Замена подвернулась в виде стальных прутиков, которые Геральт загнул для удобства на манер кочерги.
Это было приятно, неожиданно приятно — делить заботы с сильным и опытным мужчиной. Даже если это не вежливый Ламберт, а угрюмый и покалеченный молчун Геральт.
За несколько часов курятина оттаяла, утратила каменную твердость. Даже лук кое-где отслоился. Пряный и чуть-чуть терпкий запах поплыл, щекоча ноздри и вселяя голодный азарт.
Получилось вкусно, вкусно до умопомрачения, а когда Геральт принес из дома примеченную бутылку сливяницы, стало и вовсе замечательно, а Ксана неожиданно подумала, что, угодив в рабство, вдруг обрела свободу.
Непонятно — сливяница ли развязала Геральту язык или еще что, но очередной вопрос Ксаны не остался без ответа.
— Куда мы идем, Геральт? И зачем?
Ведьмак ответил, хотя и не сразу:
— В Арзамас-шестнадцать. Место, где готовят ведьмаков. Для всей Евразии.
— Тебя тоже там готовили?
— Да.
— Давно?
— Да.
— И Ламберта?
— И Ламберта. И Койона. И Эскеля. И даже Весе-мира. Всех.
— Тебя там будут лечить?
Геральт чуть склонил голову набок:
— Нет. Думаю, что, когда мы дойдем, с рукой уже все будет в порядке. Хотя разработаться будет нелишним — у нас хорошие тренажеры.
— А почему вы не считаете себя живыми, Геральт?
— Потому что мы мутанты. Любой ведьмак проходит испытание фармацевтикой и клиническим кабинетом. В среднем из десяти испытуемых выживает один. Организм в результате этого испытания полностью перестраивается… Такое существо уже трудно назвать живым. Видела мои глаза?
— Да. — Ксана зябко поежилась.
— Разве это глаза человека?
Ксана не ответила. И действительно — разве это глаза человека?
Тогда у него еще не было имени. Ведьмак, которого звали Зигурд, подобрал полумертвого от истощения пацана на окраине Большого Киева, у подвального окошка старого нежилого дома. На самом юге, где днем вразнобой кричат чайки, а вечерами слышится мерный морской прибой.
Пацан был слаб, но не настолько, чтобы не попытаться стащить пакет с припасами и смыться. Он попытался, и это окончательно убедило Зигурда в необходимости доставить найденыша в Арзамас, хотя тот явно достиг порогового для испытания возраста. Еще бы годик — и нипочем пацану не пережить испытание.
В логове ведьмаков пацан получил нечто вроде имени — двадцать седьмой. На худой его одежонке хмурый и хромой дядька, которого дети всерьез побаивались, вывел белой краской две угловатые цифры. Вместе с двадцатью шестью мальчуганами помоложе двадцать седьмой в течение почти трех месяцев отъедался и отучался прятать еду везде, где только можно. Постепенно появились и двадцать восьмой, и двадцать девятый, и остальные — вплоть до тридцать пятого. А вскоре пришло время испытания.
Выжило целых четверо — пятый, двадцать первый, двадцать седьмой и тридцать четвертый. Геральт прекрасно помнил первое пробуждение после испытания.
Все тело ломило от боли; казалось, внутри пылает адский антрацитовый костер. Сплошная краснота стояла перед глазами и было больно глаза открыть.
Но он открыл.
Мир показался ему непривычно резким, распадающимся на отдельные, четко локализованные фрагменты. Конечно, гот четырехлетний мальчишка не знал подобных слов. Слова пришли позже, вместе с осознанием, что память отныне хранит все, крепко и надежно, и никаких усилий для этого прилагать не приходится.
— Очнулся! — послышался удивленный голос хромого надзирателя. — Пан Весемир, он очнулся, пся крев!
— Кто? Двадцать пятый?
— Нет, двадцать седьмой!
— Двадцать седьмой? Хм… Я боялся, что он слишком велик для испытания.
— Ха! Видели б вы, как он жрал пилюли! У него, тля, внутри кроме ентих пилюль ничего и нету, клянусь.
В поле зрения появилась фигура сухощавого пожилого мужчины, которого доселе претенденты на испытание видели лишь мельком и всегда издалека.
Почти без труда двадцать седьмой сфокусировал на нем взгляд.
— Эй, — негромко позвал мужчина. — Ты меня слышишь? Если не можешь говорить — просто моргни пару раз.
Двадцать седьмой послушно моргнул, напрягся и чужим голосом выдавил:
— Слышу…
Глотку продрало, словно он изверг наружу толченое стекло. Это слабое усилие снова столкнуло двадцать седьмого в беспамятство. На целых двое суток, хотя сам он, естественно, о сроках не имел ни малейшего представления.
Зато новое пробуждение было совсем иным. Боль ушла — остался голод. Лютый неодолимый голод — причем вовсе не такой, к какому он привык бродягой. Тело требовало пищи и энергии — много позже он понял причины всего, что с ним происходило.
Он сел на жестком ложе. Кто-то, кажется, четырнадцатый, бился на соседнем, пристегнутый к быльцам лодыжками и кистями. Бился и негромко выл. Койкой дальше хромой надзиратель кормил из большой алюминиевой кастрюли тридцать четвертого. Рот сразу же наполнился тягучей слюной. Двадцать седьмой встал на ложе в полный рост, и хромой тотчас обернулся.
— Очнулся, голубь? — сказал он неожиданно дружелюбно. — Жрать, поди, охота? Погоди, сейчас накормлю.
Надзиратель утер лицо тридцать четвертого бумажной салфеткой и мягко уложил, хотя тот явно был не прочь закусить еще. Потом переместился к двадцать седьмому.
В кастрюле оказалось какое-то пряное пюреобразное варево. Двадцать седьмой был достаточно велик, чтобы орудовать ложкой самостоятельно, чем тотчас беззастенчиво и воспользовался. Хромой не возражал.
Когда кастрюля опустела, двадцать седьмой почувствовал себя много лучше. Даже смог думать об окружающем его мире и о переменах. Самым ярким казалось иное ощущение собственного тела. Он был еще слишком мал, чтобы осознать и сформулировать свои чувства, но сам факт перемен оспорить было трудно. И видеть он стал иначе — теперь удавалось разглядеть мельчайшие детали на таком расстоянии, на котором раньше двадцать седьмой, будучи еще простым бродягой, различал только контуры и, если доставало освещения, — основные цвета.
Вскоре его опять одолел сон; когда двадцать седьмой проснулся, четырнадцатый уже не двигался. В углу палаты ложка в чьей-то нетвердой руке скребла по донышку знакомой кастрюли. Под этот тоскливый аккомпанемент хромой надзиратель и незнакомый, закутанный в черное парень унесли четырнадцатого из палаты. Теперь их осталось двое на восемь коек — двадцать седьмой и тридцать четвертый. Днем позже их перекатили в соседнюю палату, где точно так же маялись в новом для себя мире пятый, девятнадцатый и двадцать первый.
Через неделю девятнадцатый умер. Их осталось четверо. И с этого момента все четверо стали стремительно крепнуть, набирать вес и безудержно расти. В первый год дни были неотличимы друг от друга. Подъем, завтрак, разминка под руководством Весемира или парня в черном. В спортзале по соседству. Обед. Сон. Потом занятия с Весемиром, Хицфуртом или Оксенфельдом — малышей учили грамоте и счету. Ужин. Сон. И так день за днем.
Двадцать седьмой ясно запомнил день, когда привычный и уже мнящийся неизменным уклад был в одночасье нарушен.
В тот день вместо утренней разминки их загнали в душ и бассейн, а когда из бассейна вывели, Весемир не свернул, как обычно, в конце длинного коридора, а отпер всегда закрытую дверь в торце его и еле заметно качнул головой.
Двадцать седьмой осмелился взглянуть налево — там хромой Владзеж и по обыкновению закутанный в черное Филипп вкатывали в палаты койки на специальных колесиках, и к каждой был пристегнут мальчуган, кажущийся совсем малышом.
Весемир не позволил двадцать седьмому долго смотреть.
Их новое жилище больше походило на казарму, нежели на больничную палату, но об этом, естественно, будущие ведьмаки узнали много позже. Теперь вместо утренней разминки всех четверых использовали на хозяйственных работах — приходилось драить полы в коридорах клиники, чистить на пищеблоке картошку, одновременно постигая азы обращения с ножом, таскать непонятного предназначения предметы, зимой — убирать снег перед входом в здание. Но послеобеденные занятия никто не отменил.
Как-то сами собой к ним прилипли новые прозвища — пятого дразнили Головастиком, вполне справедливо — взрослые часто шутили, как, мол, такая спичечная шея удерживает эдакий жбан? Двадцать первого звали Палец, а причина успела благополучно забыться. Двадцать седьмого прозвали Генерал — не то за размеры, не то за то, что в четверке он сразу занял главенствующее положение. К тридцать четвертому, самому маленькому и подвижному, приклеилась кличка Шустряк.
Время потекло еще быстрее. Через год троица выживших после очередного испытания фармацевтикой малышей присоединилась к растущей как на дрожжах четверке. Еще через год будущих ведьмаков стало пятнадцать. Головастик, Палец, Генерал и Шустряк, естественно, верховодили в этой компании. В силу возраста и уже накопленного опыта. Случалось все — и драки, и ссоры, но Весемир с остальными учителями умело и терпеливо приводили мальчишек к мысли, что все они — братство, а братья стоят друг за друга горой.
Когда Головастику исполнилось десять лет (он был единственным, чей день и год рождения были известны достоверно), четверку старших начали обучать обращений с оружием.
— Геральт! Смотри!
Ведьмак соизволил повернуть голову только на втором слове. Просто на зов он не отреагировал.
Там, куда указывала Ксана, на куче какого-то невнятного мусора шевелился продолговатый сверток, напоминающий червячка-шелкопряда. Извивался. И тоненько хныкал.
Геральт нахмурился.
— Этого только не хватало!
Ксана преобразилась в мгновение ока. Еще секунду назад она могла думать только о том, как постыл ей этот бесконечный путь и как надоела увесистая ноша с продуктами за спиной. Теперь она не могла думать ни о чем, кроме находки. Ибо сверток оказался младенцем, а материнский инстинкт в женщинах любой расы сидит чрезвычайно глубоко и просыпается едва ли не мгновенно.
— Геральт! Он голоден!
— Естественно, — процедил ведьмак сквозь зубы. — Кто ж его тут накормит?
— Надо найти молока! И бутылочку!
Геральт вздохнул.
— Вообще-то надо идти дальше. Потому что молока мы все равно не найдем, не говоря уж о бутылочке. Потому что тащить пацана придется именно тебе, мне это сто лет не нужно. Потому что ты бестолковая дикарка с большого завода и не умеешь ухаживать за детьми. Поэтому он у тебя сначала начнет беспрерывно орать… впрочем, он уже начал. Потом на него нападет какая-нибудь хворь, и орать он станет гораздо громче. Потом он умрет, и орать начнешь ты, ведь тебе будет его жаль.
Ксана потрясенно выпрямилась.
— Ты что? — недоуменно прошептала она. — Предлагаешь его бросить?
После вчерашнего вечера со сказочным ужином и сливяницей Ксана почти уже решила, будто сердце у ведьмака все-таки наличествует. Не хотелось верить, что она ошибается.
— Именно это я и предлагаю. Бросить. Тогда он умрет быстро и почти безболезненно. Или его кто-нибудь найдет. В конце концов мы даже не знаем — брошен ли он? Вдруг его мамаша как раз занята поисками молока?
— Ты еще убить его предложи! — возмущенно выкрикнула Ксана и взяла младенца на руки. — Чтоб не мучился зря!
— Я не убиваю детей, — равнодушно сообщил Геральт. — К тому же такое решение напрочь лишает сию недоросль законного шанса выжить путем счастливой случайности.
Личико младенца было красненьким и сморщенным. Плакал он уже давно, наверное, не первый час. Грязная пеленка скрывала тщедушное тельце. Впрочем, Ксана действительно совершенно не представляла себе, как полагается выглядеть новорожденному младенцу и какого вообще он возраста. Может, он как раз и должен именно так выглядеть.
— Бросила бы ты его, — снова скептически предложил Геральт. — Через пустоши с такой обузой…
Ксана перехватила ношу поудобнее, пристроив маленькую горластую головку на сгибе локтя.
— Неужели тебе его не жаль? — спросила она горько.
— Мне не может быть его жаль, — терпеливо пояснил Геральт. — Я ведь ведьмак, воплощение безразличия ко всему, кроме работы и денег. К тому же я все равно не могу ему помочь, поэтому жаль или не жаль — не имеет абсолютно никакого значения.
— Ты ведь призван защищать живых от чудовищ!
Ксана все никак не могла успокоиться.
Геральт удивленно огляделся:
— А где здесь чудовища? Кроме меня — ни одного. А от меня этому заморышу не исходит никакой угрозы. Говорю тебе, брось, не выходишь ты его.
— Может, это девочка. — Ксана сбилась на ворчание. — Откуда ты знаешь?
— Да от него разит за версту! — Ведьмак брезгливо сморщил нос. — От девки, правда, разило бы ничуть не приятнее, но иначе. Пацан, можешь не сомневаться.
Ксана покорно вздохнула. Главное — хозяин не ПРИКАЗЫВАЕТ бросить. Пока только советует. А значит, можно его чуть-чуть ослушаться. Несмотря ни на что, она точно знала: нельзя бросать маленьких детей в ненаселенном районе! Да еще так близко к окраине.
Целый час Ксана заглядывала в каждое строение, хоть отдаленно напоминавшее продуктовый склад или давно разворованную бродягами лавку. Все напрасно. Никакого молока. А что еще можно предложить младенцу кроме воды — Ксана не знала. Не тушенки же?
— Геральт! — взмолилась Ксана. — Может, ему сгущенки развести? Воды нам хватит…
— А у тебя есть сгущенка? — У Геральта натурально отвисла челюсть. — Ну и дура же ты! Давай разводи. Где вода? Да не из фляги, там сырая, бутылочку «Аква минерале» откупорим. Не эту! Ту, что без газа, балда!
Ксана аккуратно опустила малыша прямо на асфальт и лихорадочно рылась в драной сумке, обнаруженной сегодня утром на памятном складе. Банку сгущенки она приметила именно там, и Геральт действительно ничего не заметил. Да он и не смотрел особо, чем рабыня занимается. Только велел набрать побольше тушенки — паршивой, кстати, пекинской, но на складе другой не нашлось. Ксана послушалась, а потом весь день маялась с тяжеленной сумкой. Но мысль о том, что предстоит поход через пустошь между Большими Киевом и Москвой, путь в несколько дней… Да по пустоши, по пустоши, где ни единого дома, ни единого заброшенного магазинчика, из воспоминаний детства или осточертевшей заводской столовки, где, случается, можно порыться и найти какие-нибудь крохи…
— Вот…
Небольшая поллитровая пластиковая бутылочка «Аква минерале» перекочевала к Геральту. Половину воды он бесцеремонно выпил; потом проделал обычным гвоздем две небольшие дырочки в банке сгущенки. Ксане пришлось помочь — одной рукой Геральт не мог одновременно удерживать гвоздь и ударять по шляпке подобранным по соседству булыжником. К счастью, Ксана не попала ведьмаку по руке.
Вскоре в бутылочке плескалась жидкость, по виду и впрямь довольно похожая на молоко. И тут Ксана растерялась вторично.
Соска. Где ее взять? А пить малыш явно не умеет. И не скоро еще научится.
Снова пришлось просительно смотреть на Геральта, который, оказалось, понимал все без слов.
— Нянька из тебя, — пробурчал Геральт и полез в свой шмотник.
Ксана уже привыкла, что это не просто рюкзачок, а прям какая-то волшебная сумка-самобранка, где может найтись что угодно из до зарезу необходимых именно в данную секунду вещей.
«Неужели и соска есть? — не поверила Ксана. — И этот живой предлагал обречь младенца на смерть от голода или даже оставить на корм бродячим собакам?»
Но Геральт извлек из чистого пакетика всего лишь белую тряпичную салфетку.
— На, держи…
Ксана взяла протянутую тряпицу и беспомощно поглядела на ведьмака. Мысль его осталась совершенно для девушки непонятной.
Странно, но ведьмак, если и злился, оставлял злость где-то внутри себя. Да и первую досаду от неожиданной находки, сулящей немало проблем, уже подавил.
— Сделай затычку. Она намокнет, пацан будет ее помалу цмоктать. Только бутылочку сильно не наклоняй, смотри.
Ксана сделала все как надо, уселась поудобнее и приступила к кормежке. Ребенок, почувствовав еду, жадно присосался к влажному от молочной смеси кончику импровизированной пробки-затычки.
«Откуда ведьмак все эти штуки знает?» — Ксана впала в состояние, близкое к замешательству. Теперь она на самом деле поняла, что уход за ребенком — дело вовсе не решаемое одним только материнским чувством.
Нужен банальный опыт.
— Сиди тут, я сейчас, — велел Геральт, вставая. — Да не дергайся попусту, нет тут никого в округе. Я чувствую.
Через секунду он уже исчез в развалинах ближайшего дома. Собственно, это уже и домом назвать было трудно. А Ксана полностью отдалась такому новому для себя делу.
Было удивительно приятно и трепетно видеть, как слезы высыхают на крохотном личике.
Вернулся ведьмак довольно быстро. Пацан к этому моменту успел слопать около трети бутылки — граммов сто пятьдесят, не меньше.
Косо взглянув на это, Геральт сказал:
— Хватит.
Сказал он это так, что Ксана сразу поняла: действительно хватит. К тому же пацан сосал уже не так активно, как в самом начале.
— Больше своего желудка он все равно съесть не в состоянии, — снизошел до объяснения Геральт. — А желудок у него пока с кулачок. На вот, учись пеленки менять. А я пока воды добуду, вымоешь его…
В качестве пеленок он притащил простыню и тут же разодрал ее на четыре части. Простыня выглядела старой и далеко не стерильной, но все равно была чище той рвани, в которую ребенка укутали прежние опекуны.
Воды ведьмак добыл всего литр. Спустя какие-то минуты Ксана уже имела представление, как ребенка моют, а перепеленать даже сумела без помощи Геральта, чем осталась очень довольна.
Уснул пацан моментально. И продолжал спать на руках у Ксаны. Как ни странно, с дополнительной ношей идти оказалось даже немного легче. Вес прилаженной за спину сумки теперь в какой-то мере компенсировался весом младенца.
Геральт все это видел. И прекрасно знал, что буквально через час-полтора у рабыни затекут руки.
«Надо будет люльку шейную приладить», — подумал он.
А вслух ничего не сказал.
Долгими осенними вечерами Весемир любил собирать будущих ведьмаков в зале, полном смешных кресел с опрокидывающимися сиденьями. Работы по хозяйству к этому часу, как правило, давно уже заканчивались, кухня была отдраена, посуда (не без помощи совсем еще сопливых малышей из последней партии испытанных) перемыта и расставлена по местам. Тренироваться — поздновато.
Читать — так ведь за день в голову все равно не впихнешь больше знаний, чем уже успел впихнуть.
Наверное, эти диалоги в форме вопросов и развернутых ответов заменяли им, утратившим нормальное детство, вечерние сказки родителей.
Весемир тоже очень любил такие вечера. Не меньше, чем подрастающие счастливчики, пережившие суровое испытание фармацевтикой и клиническим кабинетом.
Голос Весемира, вроде бы и негромкий, проникал в самые дальние закутки зала, даже за пыльный занавес, сдвинутый к одному из краев сцены:
— Там, за стенами ЗАТО, расстилается совсем иной мир. Незнакомый вам. Мир гигантских мегаполисов, городов такого размера, рядом с которыми наш Арзамас покажется вам жалким крохотным райончиком. Ведьмаки призваны хранить этот мир. Именно ведьмаки, потому что обычные живые сохранить его не в состоянии. Это не значит, что мир готов рухнуть в любой момент, нет. Но слишком уж много в нем враждебной науки, техники и механизмов. Поверьте мне, это могучая наука, могучая техника и могучие механизмы. По неведению ли, по глупости или злому умыслу, но существует бездна возможностей, когда обычный живой простым нажатием кнопки способен инициировать такие процессы, которые остановить потом будет уже нельзя. Подобные процессы мы называем необратимыми. Сущность работы ведьмака состоит в недопущении необратимых процессов. Естественно, что каждый ведьмак обязан обладать целым рядом необходимых для такой работы качеств. Ну-ка, давайте вместе подумаем — какими?
Весемир обвел взглядом немногочисленную аудиторию. Перед ним собрались мальчишки после четырех ежегодных испытаний. Но достаточно взрослыми, чтобы рассуждать и беседовать, были только семеро старших; остальные просто слушали разинув рты.
Правильно слушали. Нынешние старшие тоже пару лет назад молча разевали рты во время подобных бесед с теми, кто теперь готовится сдавать последний выпускной экзамен. Экзамен, позволяющий получить настоящее имя и зваться ведьмаком. Теперь для семерки старших пришел черед искать собственные ответы на вопросы Весемира.
— Итак! Какими же качествами, по-вашему, должен обладать ведьмак? Давай ты, Головастик!
Головастик порывисто вскочил. Шея у него теперь окрепла и не казалась непропорционально тонкой. Да и сам он из сущего заморыша превратился в сухого жилистого подростка, подтянутого и проворного, словно бродячий уличный кот.
— Ведьмак должен быть сильным и быстрым! — выпалил Головастик. — Иначе он не выстоит в поединке с чудовищем!
— Правильно, — согласно кивнул головой Весемир. — А еще?
Головастик наморщил обширный лоб, но мысли, видимо, не торопились посещать его внушительных размеров голову.
— Может быть, ты, Шустряк? — Весемир жестом поднял другого подростка.
— Ведьмак должен быть терпеливым, — наугад предположил Шустряк, явно идя от противного в сравнении с собственной натурой.
— И это тоже, — не стал возражать Весемир. — Что? Тополь, ты хочешь ответить?
— Хочу, — пискнул один из троих пацанят, выживших год спустя после старшей четверки.
— Говори.
— Ведьмак должен много знать. Об оружии, о повадках чудовищ…
— …и особенно о повадках живых, — добавил Вессмир. — И это верно. Но и это не главное. А что думаешь ты, Генерал?
Генерал поднялся степенно, не вскочил, подобно товарищам. Он все делал степенно и рассудительно, по-взрослому.
— Мне кажется, что ведьмак всегда должен четко сознавать: что стоит делать, а что нет. И когда ему спешить, а когда не обязательно.
Весемир только кивнул.
— А еще, — добавил Генерал, — мне кажется, что вы имеете в виду нечто совсем иное, учитель Весемир. Нечто такое, что покажется нам неочевидным и нелогичным. Так?
Весемир улыбнулся в густую светлую бороду:
— Ты, как всегда, на высоте, Генерал. Все обстоит именно так, как ты сказал. Садитесь все. Садитесь, слушайте и запоминайте. Ведьмак должен стать быстрым, но он может оставаться не самым быстрым существом и тем не менее успешно при этом ведьмачить. Ведьмак может чего-то не знать, но все же справиться со своим незнанием и с выполняемым заданием. Ведьмак может не вытерпеть или поспешить — но и тогда он останется ведьмаком и не потеряет шансов завершить начатое. Существует только одно качество, без которого нет ведьмака. Это качество — безразличие. Безразличие ко всему, кроме судьбы города. Вы должны стать безразличными к голоду, холоду, погоде, окружающим вас живым, к благам и ценностям — ко всему. Как только ведьмак становится небезразличным к чему или кому-либо — он перестает быть непобедимым.
Вы должны уметь пройти мимо умирающего, умоляющего вас принести ему воды. Потому что, спасая его, вы можете погубить город, а возможно, даже и мир. Вы должны уметь перешагнуть через кого угодно, если того потребует ситуация. А для того чтобы пройти мимо умирающего и перешагнуть через кого угодно, нужно стать безразличными ко всему. Абсолютно ко всему. С одной-единственной оговоркой — кроме города, находящегося под вашей защитой.
Весемир оглядел не по-детски серьезные лица. Ведьмачата слушали, впитывали его слова всем телом, каждой порой мутировавшей кожи.
Тишина не нарушалась ничем. Весемир ждал вопроса. Неизбежного вопроса, который задавали ему после этого рассказа бесчисленные поколения будущих ведьмаков. Этот вопрос задавали всегда. Задали и сейчас.
— Мы не должны никого любить? — На этот раз вопрос был задан одним из старших, Пальцем.
Ответ у Весемира всегда был наготове. Такой же, как и в прошлый раз, и в позапрошлый…
— Не в этом дело. Любовь или ненависть — это эмоция. Безразличие — отсутствие эмоций. Эмоции ведьмаку только мешают, а значит, они непозволительны.
— А как же наше братство? — поинтересовался умный Генерал. — Братство ведьмаков? Мы и друг к другу должны стать безразличными? И к вам, учитель?
— Да, — устало подтвердил Весемир. — Друг к другу тоже. И ко мне. Но и это еще не все.
Он поглядел на преданные мальчишеские лица и добавил:
— Вы должны стать безразличными даже к самим себе. Только тогда из вас получатся настоящие ведьмаки.
— Как мы его назовем? — спросила Ксана, когда малыш уснул, а ночь зашептала о небе, полном звезд.
В этом районе электрические огни были редкостью. Поэтому звезд на небе виднелось — не счесть.
Геральт вяло перемешал чай в мятой жестяной кружке, прихваченной на одной из прошлых ночевок.
— Мне все равно.
— Тебе всегда все равно, — обиделась Ксана.^- Тебе безразлично даже мое имя!
Геральт не ответил. Казалось, все его внимание поглотил горячий ароматный налиток, до которого ведьмак недавно приохотился.
— Как можно быть таким бессердечным, Геральт?
— Легко, — невозмутимо ответил Геральт. — Если знать, как именно.
— А ты знаешь?
— Знаю.
— И давно ты таким стал?
— Года в четыре примерно. Давно.
— А зачем? И почему?
— Потому что я ведьмак.
— Ведьмаки что, все такие?
— Все.
Ксана протяжно вздохнула. Не понимала она Геральта. За три дня все ее естество переполнилось нежностью к крохотному и беззащитному существу, способному только плакать, если ему плохо, и совершенно неспособному защитить себя или прокормить. Ее сильно беспокоило то, что единственная баночка сгущенки заканчивается, а больше ничего пригодного малышу в пищу они не отыскали, хотя Геральт сказал, будто бывают специальные сухие смеси в цветастых коробках или банках.
Они вышли к самой окраине, где почти нет магазинов и складов — только унылые серые заборы разнообразных мелких фабрик, на которые не зарятся даже захудалые кланы. Пыль, битое стекло, пятна мазута и масла на грязном асфальте, запустение, осиротевшие строения…
— А что изменится, если ты дашь малышу имя? Или узнаешь мое? — поинтересовался Ксана.
— Ничего, — пожал плечами Геральт.
— Тогда почему ты не хочешь?
— Именно поэтому, — вздохнул Геральт. — Видишь ли, сначала я узнаю твое имя, потом помогу тебе, если ты ошибешься, потом мы переспим… А потом я уже не смогу оставаться безразличным к тебе.
— Что же в этом плохого? Мир и так слишком безразличен. Когда живые заботятся друг о друге, когда они небезразличны один другому — это же прекрасно!
— Во-первых, я не живой, посему меня это не касается, — ровным голосом пояснил Геральт. — А во-вторых, ваша жизнь и жизнь всех без исключения городов строится как раз на безразличии ведьмаков. Хоть кто-то в этом мире должен оставаться безразличным. Иначе мир сгорит в пламени вашей хваленой бескорыстной любви.
Ксана не нашлась что ответить. Позиция ведьмака казалась странной даже ей, дикарке с большого завода. Но, с другой стороны, декларируя безразличие, ведьмак делал все, чтобы их маленький отряд не знал нужды ни в чем. Положа руку на сердце — разве сумела бы Ксана сама накормить ребенка? Догадалась бы перепеленать и после каждого перехода мыть? Нашла бы несколько тюбиков шампуня в ничем не примечательном домишке, к которому Геральт свернул сразу, едва увидел? Да не какого-нибудь шампуня, детского! Там же, кстати говоря, отыскалась и настоящая детская бутылочка с настоящей соской.
Геральт делал все, что мог, и даже чуть чуть больше. И при этом продолжал декларировать полное безразличие.
Ксана находила это странным.
Ночью малыш дважды просыпался и приходилось вставать, брать его на руки, укачивать, успокаивать. Понятно, что все это свалилось на Кеану. Ведьмак даже не поднимал головы от любимого рюкзачка, успешно заменяющего подушку, хотя Ксана чувствовала: ведьмак не спит.
Утром, скормив малышу последние четверть бутылочки разведенной сгущенки, Ксана зачем-то громко объявила:
— Я назову его Ламбертом!
Геральт мгновенно оторвался от умывания.
— Нет, — холодно сказал он.
— А мне нравится! — заявила Ксана. — Нужно же ребенка как-то называть!
— Назови иначе.
— Не хочу! — упорствовала Ксана.
В мгновение ока ведьмак оказался рядом с Ксаной.
— Кажется, ты кое-что позабыла, рабыня. Мне тебя проучить?
Слова Геральта, казалось, целиком состояли из металла. Холодного как лед. У Ксаны не замедлила уйти в пятки душа: даже одноруким ведьмак оставался много сильнее ее,
— Прости… — пробормотала Ксана. — Я сделаю, как ты скажешь!
— Не нужно ничего делать, — жестко закруглился Геральт. — Ламберт — ведьмачье имя. И пока Ламберт жив, его имя принадлежит только ему. Поняла?
— Поняла, господин…
Геральт невозмутимо вернулся к умыванию. Он снова стал безразличным. Безразличным, как серая бетонная стена вокруг ближайшей фабрики.
— Скажите, учитель! Почему у ведьмаков нет фамилий? Только имена?
Весемир покосился на Головастика. Любопытен малый! Впрочем, это хорошо. Любопытство ведет к новым знаниям, а ведьмаку никакие знания нелишни.
— Да и имена какие-то странные, так? — вопросом на вопрос ответил Весемир.
— Странные? — Головастик, похоже, не понял, о чем речь. — По-моему, нормальные имена.
— Да? — Весемир секунду поразмыслил. — Наверное, ты прав. Но не в этом дело. Живые не пользуются именами, которые носят ведьмаки. Имя ведьмака — его визитная карточка.
— Что такое визитная карточка? — не замедлил поинтересоваться Головастик.
Весемир обвел воспитанников вопросительным взглядом:
— Кто-нибудь знает? Генерал?
Генерал степенно встал. Степенно — как всегда. Не по годам серьезный парень.
— Визитная карточка — это специальный кусочек плотной бумаги или пластика, на котором указаны имя владельца, род его занятий, адрес и телефон.
— Знаешь, — кивнул Весемир. — Ну а имейся у тебя визитная карточка, что на ней было бы начертано?
Подросток даже не запнулся:
— Генерал, воспитанник, Арзамас-шестнадцать, Блок Сигма, казарма номер три, койка у ближнего окна.
Весемир не сумел сдержать улыбку:
— Что ж! Довольно точно! Койку, кстати, можно и не указывать. Но вернемся к ведьмачьим именам. Их много, несколько сотен. И, смею вас уверить, на всей Земле не сыщешь двоих ведьмаков с одинаковыми именами. Если ведьмак гибнет — а такое случается, увы, — его имя вскорости дают новичку, успешно сдавшему экзамен.
— Значит, мы когда-нибудь будем носить имена погибших?
— Именно так.
Незадолго до полудня они вышли к городской окраине. Впереди лежала пустошь — свободная от строений земля, сплошь поросшая травой. Кое-где попадались небольшие рощицы — березовые, ясеневые. Многие деревья Ксана видела впервые и не знала, как они называются. Да и не очень-то она интересовалась деревьями.
Малыш заболел.
Когда закончилась сгущенка, Геральт мрачно приладил к правой подмышке кобуру с большим вороненым пистолетом, велел Ксане сидеть в укрытии и по возможности не позволять ребенку кричать.
И исчез.
Ребенок хотел есть, а Ксана могла ему предложить разве что мутноватую воду из ближайшей колонки, потому что «Аква минерале» тоже кончилась.
Геральт отсутствовал шесть часов, а когда вернулся, в его рюкзачке что-то звякало. Трудные это были для Ксаны часы.
Звякало, как оказалось, молоко. Детское ионитное молоко в стеклянных бутылочках с синими этикетками. Где Геральт его раздобыл, Ксана интересоваться не стала. Но когда она покормила ребенка и тот наконец уснул, ведьмак заставил ее чистить свой пистолет. Ксана уже приобрела по этой части кое-какой опыт, поэтому сразу поняла: недавно из этого пистолета стреляли. Обойма была опустошена наполовину, плюс один патрон из ствола… Получается, Геральту пришлось стрелять семь раз. С левой, «неудобной» руки.
К вечеру малыш стал ныть и капризничать; Ксана сначала не. поняла почему. А Геральт едва глянул на него, сразу догадался приложить ладонь к розовому лобику.
— Жар у него… Заболел…
Жар усиливался. Всю ночь младенец хныкал и даже есть отказывался. Ксана пришла в отчаяние.
Она полагала, что с утра Геральт отправится за лекарствами, но ошиблась. Геральт вывел ее к окраине Большого Киева и повел дальше, в пугающую пустоту, что раскинулась между Киевом и Москвой.
Здесь вопреки ожиданиям все же встречались строения — небольшие домики, сараи какие-то. Но стояли они, как правило, обособленно, и это выглядело еще более странным, чем пейзаж без строений. Непривычные звуки доносились со всех сторон, и лишь спустя некоторое время Ксана поняла — это поют птицы.
Первой же ночью в открытом поле младенец умер. Плач его постепенно становился все тише и тише, пока совсем не прекратился. Дыхание затруднилось. А потом и вовсе остановилось. Геральт проверил жилку на шее и глубоко вздохнул.
— Все. Надо его похоронить.
Ксана ревела часа два без перерыва, и Геральт ее почему-то не трогал. А когда немного успокоилась и вернулась к костру, он встретил словами, которых лучше бы и не произносил:
— Я говорил: тебе его не выходить. Надо было оставить, где нашли. Только задержались из-за него.
Ксана молчала. Самое странное — головой она уже понимала, что ведьмак прав. Но сердцем — нет. И еще она понимала, что ведьмаки сами лишают себя голоса сердца, оставляя лишь голос рассудка.
Их зовут чудовищами и за это тоже.
А самое обидное, что ведьмаки всегда оказываются правы. По большому счету — правы. Но как мириться с их большим счетом, если по малому прерываются чьи-то жизни?
Ксана начала подозревать, что на этот вопрос ответа просто не существует.
Малыша, так и не обретшего имя, похоронили утром. Около одинокого необитаемого домика. Ксана молча орудовала ржавой лопатой из хозпристройки, толком не видя, что делает: мешали застившие глаза слезы. Маленькому живому требовалась маленькая могила, поэтому Ксана управилась довольно быстро.
В махонький холмик рыхлой земли Геральт воткнул саженец вишни, непонятно где раздобытый. Ксана полила его водой из колодца.
Теперь они шли гораздо быстрее. Первое время — молча. Правая рука Геральта к этому дню уже почти сравнялась по длине со здоровой, но была гораздо тоньше и суше. Да и ладонь казалась игрушечной, ненастоящей. Ведьмак еще не мог как следует действовать коротенькими и тонкими пальчиками, очень напоминающими детские. На ходу он разминал и тренировал руку: Ксана знала, что подобные упражнения ускоряют и стимулируют регенерацию тканей..
На ночевку они устроились в неглубоком овраге. Где-то вдалеке слышался отдаленный шум и вроде бы даже автомобильные гудки.
— Что там? — вяло поинтересовалась Ксана.
— Трасса, — коротко отозвался ведьмак. — На Большой Волгоград.
— Ты же говорил, там Большая Москва! — Ксана нашла в себе силы удивиться.
— Ну… В принципе это уже Москва. Просто Москва давно слилась с окрестными городами — Большим Питером, Большим Уралом. С Волгоградом тоже. Границы условны, есть пустоши кое-где. Но вдоль трасс пустошей нет. Это Киев отделен очень четко, даже от Большого Кишинева. Впрочем, сколько того Кишинева — одна Одесса и то больше…
— А Арзамас ваш — он в черте города или нет? И если да — то какого?
Геральт поморщился:
— Я же говорил тебе не произносить название вслух.
— Да кто тут услышит. — Ксана пожала плечами. — Птицы?
— Хоть бы и птицы, — буркнул Геральт.
Он помолчал немного, но все же ответил:
— Раньше ЭТО находилось в том районе Большой Москвы, который называют Нижним Новгородом. После одной заварушки там камня на камне не осталось. В общем, перебрались в степь, подальше от населенных мест. А название оставили прежнее. В память, наверное. Тогда много наших погибло, много имен освободилось…
Геральт умолк, погрузившись в воспоминания. Ксана не поняла — сам ли он участвовал в давних, наверняка страшных и кровавых событиях или же знал их только со слов тех, кто постарше.
Чудовище атаковало стремительно и безудержно, как бродячий кот — воробьиную стаю. Ксана толком ничего не успела понять: ведьмак вдруг прямо из положения сидя щучкой нырнул через костер, в кувырке сграбастал ее за лямку полукомбеза и отшвырнул в сторону. А в следующий момент со склона оврага прямо в костер рухнуло нечто приземистое, квадратное, с гнутыми трубами поверх корпуса. Сразу же стал слышен шум двигателя, хотя несколько секунд назад вечернюю тишину не нарушало ничто.
Взвыла трансмиссия: чудовище разворачивалось прямо в костре. Ксана проворно отползла в сторону кустов и затаилась. А Геральт не иначе спятил: вместо того чтобы пробираться к своему шмотнику-самобранке, в котором наверняка нашлась бы управа на ночного гостя, кое-как встал из партера и прыгнул… Ксане хотелось сказать «навстречу смерти».
В общем, ведьмак прыгнул на чудовище. Прямо под редкий решетчатый каркас из гнутых труб. Что-то противно скрежетнуло, потом послышались приглушенные ругательства Геральта и сердитые цокающие удары — не иначе ведьмак пинал чудовище подкованным гномьим ботинком. Колесный монстр судорожно ворочался в овраге, словно в узеньком переулке. Пытался развернуться, наверное.
А потом жутковатое родео разом прекратилось. Какая-то продолговатая железка, вышибленная могучей стопой Геральта, кувыркаясь, полетела в сторону, чудовище всхрапнуло двигателем и застыло у костра, равномерно фырча. Стало нестерпимо тихо.
— Выходи, — сказал Геральт, поднимаясь и утирая лоб. — И приготовь йод, поцарапался я, елы-палы…
Чудовище на поверку оказалось небольшим спортивным автомобильчиком-багги. С минимумом элементов кузова. Рама, подвеска, колеса, двигатель да кожаное сиденье. Эдакий оживший механический скелет.
— А… — Ксана боязливо выглянула из-за кустов. — Он того… не задавит?
— Уже нет. Я управляющий блок выкорчевал. Подберешь его, кстати, потом. Пригодится.
Ксана все еще с опаской приблизилась, зайдя автомобильчику сбоку. А то не ровен час газанет… Хотя что-то подсказывало ей: словам Геральта можно верить на все четыреста процентов. Если сказал, что опасность миновала, значит, так оно и есть.
Минут пять ушло на врачевание ран Геральта; заодно Ксана решила сделать ежевечерний укол, но ведьмак жестом остановил ее.
— Погоди. Сменим, пожалуй, препарат. Надо двигательные функции восстанавливать, массу потом нагоним.
Ведьмак добыл из рюкзака аптечку и выдал Ксане новую упаковку ампул. Жидкость внутри стеклянных баллончиков была ядовито-желтой и почти непрозрачной. Привычно зарядив пистолет-инъектор, Ксана впрыснула дозу Геральту в шею. Ведьмак слабо дернулся и поморщился.
— Активный, з-зараза… — выдохнул он. — Жжется.
Подвигав головой и шеей, ведьмак встал, приблизился к автомобильчику, перегнулся через боковую трубу и заглушил двигатель. Стало еще тише.
— Ловко ты с этим… чудищем справился! — искренне сообщила Ксана.
Геральт фыркнул:
— Да какое это чудище! Так, балбес с автопилотом. Вот в Умани как-то…
Ведьмак умолк на полуслове; по глазам его Ксана поняла, что на хозяина вновь нахлынули воспоминания.
Контрольное задание Генералу выпало сдавать в Умани. Палец, Головастик и Шустряк отбыли накануне куда-то в Большую Москву. Повел их пожилой ведьмак по имени Шараф. Генерала, как рожденного в Большом Киеве, решили ориентировать на родной город. Весемир сказал, что дома, мол, и стены помогают.
Генерал не возражал: во время предыдущих визитов Киев его просто очаровал, чего не скажешь о Москве. Москва казалась холодной и равнодушной; Киев же был зелен, приветлив и радостен, как ясное летнее утро. Особенно Генералу приглянулся Центр Большого Киева. Крещатик, Бессарабка… Улочки, бульвары. Фонтаны. Улыбчивые гномы из обслуги метро, деловитые вирги в малиновых пиджаках с золотыми значками «Оболонь» на лацканах…
С Генералом отправился Весемир — решил почему-то тряхнуть стариной. Первым делом Генералу выдали ружье и боеприпасы. Настоящую ведьмачью помповуху. Медицинский комплект в кожаном кейсе — содержимое Генерал знал на память и прекрасно умел комплектом пользоваться. Неприкосновенный запас продуктов. И еще некоторое количество необходимых мелочей, как-то: всепогодные спички, фонарик, чистые носки, моток капронового шнура, коробочку с зубочистками, солнечные очки, блокнот с вечно сонной авторучкой… И конечно же, ведьмачий ноутбук с радиомодемом и встроенным телефоном-мобильником. Все ведьмачье знание, хранящееся в сети, в любой момент могло востребоваться обладателем такого ноутбука.
Ноутбуки будущим ведьмакам пришлось осваивать с девятилетнего возраста. Нынешняя модель у Генерала была уже четвертой освоенной.
— Ну, — вздохнул контролировавший сборы Весемир, — кажется, ты готов. Отбой, Генерал. Спи покрепче.
— А когда завтра выезжаем? — поинтересовался Генерал, пытливо глядя на учителя.
— Так я тебе и сказал! — Весемир хитро улыбнулся в бороду. — Потом узнаешь! Ведьмак должен быть всегда готов вскочить и отправиться к черту на рога, к смерти в пасть. Такая уж у него судьба, мой малыш…
Генерал не любил, когда его называли малышом. Но никогда не возражал: старшим виднее. К тому же Весемир не далее как вчера назвал малышом сурового Шарафа, мужчину, битого жизнью и профессией. Шрам на шраме. Но для Весемира практически все действующие ведьмаки этой части Евразии оставались малышами. Старейшина Арзамаса-16 всех их воспитал. И каждому досталась крупинка его богатейшего опыта и его отточенного годами безразличия. Странного заботливого безразличия, такого необходимого истинному ведьмаку.
Генерал проникся этим безразличием совсем недавно. И — о чудо! — старшие теперь частенько вместо «Эй, малек!» бросали ему «Эй, ведьмак!». Хотя, разумеется, полноправным ведьмаком любой воспитанник Арзамаса-16 становился только после ряда испытаний. Контрольных заданий.
Назавтра Генералу предстояло выполнить первое.
Местом испытания почему-то был избран огромный эльфийский парк. О городе здесь напоминали только редкие дорожки, посыпанные гравием, да металлическая ограда на бетонном фундаменте, опоясывающая парк. Возможно, столь непривычная для горожанина обстановка была выбрана нарочно. Дабы Генералу жизнь медом не показалась. Все возможно.
Перед литыми чугунными воротами Весемир велел остановиться. Генерал послушно придержал видавший виды джип с желтыми ведьмачьими номерами.
— Здесь. — Весемир шумно откашлялся и толкнул дверцу. Выбрался наружу и Генерал.
— Ну что, парень. Задание у тебя простое. Пересечь парк. Просто пересечь. Можешь даже ни с кем не связываться по дороге, хотя, как ты сам понимаешь, тебя попробуют задержать. Я дам тебе всего три совета. Первый: ничему не удивляйся. Второй: не зевай! И третий, самый главный: оставайся спокойным и безразличным ко всему, кроме задания.
— Да, учитель, — смиренно сказал Генерал.
— Я буду ждать тебя с противоположной стороны. Там такие же ворота. Времени тебе — до вечера. Вопросы есть?
— Нет, учитель. — Генерал изо всех сил пытался выглядеть спокойным и безразличным. Получалось — по крайней мере внешне.
— Готов?
— Да, учитель.
— Пошел! — Весемир клацнул кнопкой большого старинного секундомера-хронометра. Серебряный корпус тускло блеснул на солнце; массивная литая цепочка тянулась от столь же массивного кольца к специальному карману куртки предводителя ведьмаков.
Генерал неторопливо развернулся и двинулся к воротам, на ходу выуживая ноутбук.
«Первым делом скачаю план, — подумал он, рассуждая вполне трезво и по-взрослому. — Надо ведь знать, куда суешься?»
Ступив на территорию парка, Генерал присел под первым же деревом и вошел в сеть. Искать он решил по ключевому слову «Умань»; а адрес сайта с подробными планами районов Большого Киева он запомнил после первого же урока компьютерной грамоты.
План уманского парка он отыскал очень быстро. Собственно, никаких трудностей с ориентировкой не предвиделось: ворота, в которые он вошел, и вторые, в которые предстояло выйти, соединялись главной аллеей. Совершенно прямой, как бориспольская автострада. От главной аллеи разбегалось множество дорожек и тропинок помельче; Генерал справедливо рассудил, что на плане скорее всего обозначены далеко не все. Поэтому лучше не искать на шею приключения и спокойно пройтись по главной аллее к противоположному входу-выходу, по мере сил пытаясь совладать с подготовленными сюрпризами. К чему усложнять жизнь во время первого ведьмачьего экзамена?
Упрятав ноутбук в порядком уже потертый рюкзачок (как недавно он был еще совсем новеньким!), Геральт поднялся и мельком взглянул на ворота. Весемир как раз садился в джип.
Проводив взглядом машину учителя, Генерал погладил ладонью безволосую голову и двинулся в глубь парка.
Впервые в жизни он видел столько деревьев сразу. Под их сенью царил таинственный полумрак, а в пышных кустах можно было спрятать что угодно — от танка до гаубицы. Но Генерал продолжал рассуждать вполне трезво: ну кто ради проверки сопляка-подростка потащит в эльфийскую пущу настоящий танк? Положим, ведьмакам даже эльфы не посмели бы отказать в проходе. Хотя это еще бабушка надвое сказала. Танк тут наломает столько, что ботаники-эльфы поумирают от разрыва сердца. Стальные траки и стальное сердце машины как-то не очень сочетаются с травкой и зелеными побегами. Недаром на городских улицах зелени сравнительно мало, не то что в парках.
Судя по масштабу карты, аллея тянулась, разделяя парк на две неравные части, километров пятнадцать. Идти, значит, часа три, прикинул Генерал. Или даже больше, сюрпризы ведь отнимут какое-то время. На то они и сюрпризы.
Скоро отдаленный шум трассы Центр — Одесса окончательно стих. Генерал остался один на один с парком — чужим, непонятным и оттого слегка пугающим.
За сорок минут Генерал не встретил ни души. Вокруг не скажешь чтобы было тихо — пели птицы, шумели кроны на ветру, кто-то подозрительно шуршал в подлеске. Но эти звуки были до странности чужеродными, от чего Генерал ощущал непонятную душевную пустоту. Хоть бы движок какой затарахтел или железо звякнуло. Ан нет, только протяжное лиственное «шшшууу»…
Первый сюрприз он встретил на сорок третьей минуте марша. Выглядел сюрприз как натянутая поперек аллеи стальная проволока; оба конца ее скрывались в кустах справа и слева; именно в этом месте кусты по обочинам аллеи росли особенно густо и пышно.
Генерал машинально положил руку на пристегнутое к боку ружье. При нужде он мог изготовиться к стрельбе меньше чем за секунду, не зря Филипп, Эскель и оружейник Маркус день за днем ведьмачат натаскивали…
Тишину не нарушало ничто. Проволока неподвижно висела над дорогой на уровне колена.
«Думай, — приказал себе Генерал. — Что это за фокус?»
У него было два пути. Путь первый: полезть в кусты и поглядеть, куда эта проволока, жизнь ее забери, приведет. В кустах, кстати, вполне может крыться какая-нибудь неприятность. Путь второй: переступить через проволоку и идти дальше. В пользу второго пути говорило следующее соображение: эта проволока может не иметь никакого абсолютно отношения к испытанию будущего ведьмака по прозвищу Генерал. Эльфы, к примеру, на кого-нибудь западню поставили. А посему самый умный выбор — пройти мимо.
Переступая через проволоку, Генерал с удовольствием сказал сам себе:
— Мне совершенно безразлично, что там, в кустах!
Впрочем, если начистоту, мальчишеское непрошедшее любопытство все-таки жило в Генерале. И узнать — что там, в кустах? — хотелось. Тем приятнее оказалось одержать над собой маленькую победу.
Из кустов так никто и не вылез. Первый сюрприз, если это был сюрприз, Генерал счастливо миновал.
Второй сюрприз ожидал его на сто семнадцатой минуте. Этот сюрприз выглядел как косо лежащее на аллее дерево и безобразная просека с левой стороны.
И еще — обморочный эльф в пяти шагах от гравиевой дорожки. Трава около него была темной от крови. И куртка эльфа с правого бока тоже была темной от крови. Эльф лежал лицом вниз; куртка на спине и щегольские замшевые штаны перепачкались в свежей глине, словно эльф недавно шастал по каким-то подземельям или подвалам.
Генерал застыл в растерянности. К подобным сюрпризам в свои плюс-минус тринадцать лет он еще не успел привыкнуть.
Первым позывом, вполне естественным и объяснимым, стало едва сдерживаемое желание задать стрекача. Но Генерал тут же взял себя в руки. В конце концов это не очередная шалость, за которую Весемир или кто-нибудь из старших может и по шее накостылять, и на штрафные работы отправить, и даже упечь на сутки-двое в карцер. Да и не спасает бегство от неотвратимого наказания, как показал опыт. Только оттягивает.
Поэтому Генерал подавил желание немедленно удрать и сделал несколько осторожных шагов к раненому эльфу.
Тот не шевелился. Присмотревшись повнимательнее, Генерал убедился, что эльф дышит.
«Помочь? — подумал Генерал. Мысли лихорадочно прыгали, как караси на сковородке. — Но я ведь ведьмак… почти. Я должен оставаться безразличным. У меня есть задание…»
В этот момент эльф слабо дернулся и застонал. Кажется, он пытался перевернуться набок. Генерал отпрянул.
«Помрет же. — Мысли продолжали скакать. — Вон крови сколько потерял…»
Рука сама поползла к шмотнику, к аптечке.
«Или бросить его и идти своей дорогой?»
Эльф снова шевельнулся, и на этот раз Генерал увидел его лицо. Аж морозом пробрало от чужого взгляда.
Глаза у эльфов — словно кристаллики льда. Казалось, они полнятся концентрированной вечностью. Годы, десятилетия и века глядят этими глазами. А то и тысячелетия.
Но не только это пригвоздило Генерала к месту. Еще — выражение лица эльфа. Лишь одно читалось на этом лице.
Безнадега.
Полная и страшная безнадега, когда точно знаешь, что спасения нет и быть не может.
Эльф тяжело перевалился на спину, раскинув руки. Крови натекло столько, что Генерал удивился — человек от такой кро-вопотери давно бы уже лишился сознания. Наверное, эльф принуждал себя двигаться на голой воле и самовнушении.
Помимо крови на траве обнаружились небольшой пульт, похожий на ноутбук с оторванной матрицей, и металлический штырь длиной в два с лишним локтя, весь липкий и темный от крови.
«Шахнуш тодц!» — ужаснулся Генерал и решительно сдернул с плеча шмотник.
Безразличие безразличием, а если он промедлит — хана эльфу. В конце концов Большому Киеву в данный момент ничего не угрожает, а если и угрожает, то Генерал совершенно точно не стоит перед выбором: спасать город или спасать эльфа. А значит, стоит помочь этому несчастному.
Генерал выудил аптечку, а из нее — баллончик с универсальным спреем. Живым подобными препаратами пользоваться не рекомендовалось. Чисто ведьмачие, чрезвычайно активные компоненты, взрывная каталитическая биохимия… Обычный человек, не мутант, скорее погиб бы от такого лечения, чем от ран. Эльфы — немного другая статья, это чрезвычайно живучие существа. Совершенно чудовищный жизненный ресурс, заторможенный на тысячелетия механизм естественного старения, врожденный иммунитет практически от всех болячек — заученные на занятиях строки из толстых и умных книг всплывали в памяти словно бы сами по себе.
В общем, Генерал решил рискнуть. Склонился над эльфом, бесцеремонно расстегнул куртку, потом расшитую бисером рубашку, задрал влажную от крови футболку.
Так и есть. Рана во весь бок. Не кровопотеря, так заражение. Без лечения кранты, сто процентов. А так есть хоть призрачные шансы на спасение.
Облачко аэрозоля, шипя, окутало рану. Эльф болезненно дернулся и скрипнул зубами. На узком и худом лице рельефно проступили напрягшиеся челюстные мышцы.
На обработку раны ушло с полминуты. Кровотечение прекратилось сразу же: спрей застывал на плоти вязким, быстро твердеющим слоем. Одновременно и перевязка, и дезинфекция, и лекарство. В ближайшие минуты у эльфа должна была резко скакнуть температура до критических сорока — сорока двух градусов и отключиться сознание. Хотя стоп, у эльфов-нормальная температура тела тридцать четыре-тридцать пять, а критическая — тридцать девять.
Генерал с некоторым удивлением выуживал из памяти информацию, которую сам считал давно и прочно забытой.
Взгляд у эльфа начал туманиться. Нетвердо двигая рукой, он пытался сунуть ладонь в карман куртки и никак не мог расстегнуть молнию. Генерал на всякий случай помог ему.
— Ключ, — сказал эльф еле слышно. — Управляющие коды… Подберешь — остановишь…
И отрубился.
В кармане куртки и впрямь нашелся маленький изящный ключик на серебристом колечке. Еще к колечку был пристегнут брелок: плоский, неправильной формы, отшлифованный до какой-то неправдоподобной бархатной гладкости кусочек металла. Его так и хотелось беспрерывно гладить, вертеть в пальцах.
Генерал спрятал ключик в карман своей куртки, как мог аккуратно оттащил потерявшего сознание эльфа к краю гравиевой дорожки и вернулся к пульту, поскольку ключик больше ни к чему предназначаться не мог. Но даже рассмотреть пульт Генерал не успел — совсем рядом, за ближайшими деревьями оглушительно взревел запущенный двигатель какого-то механического монстра. И был это не автомобиль, и даже не трактор захудалый. Что-то огромное и необузданно мощное вроде судовой турбины или дизеля карьерного самосвала. Скрежетнуло. Взревело еще раз. Плюнуло в безмятежное небо парка струей темно-сизого отработанного выхлопа.
«По просеке ползет… — подумалось Генералу. А секундой позже: — Жизнь забери! Да это оно просеку и сделало! Совсем недавно — листва на поваленных деревьях еще не успела увять и высохнуть…»
Стало муторно и неуютно. Генерал проворно отбежал к эльфу и шмотнику, оставленному рядом с нежданным пациентом. Взялся за помповуху, клацнул затвором…
И едва не выронил оружие, которым второй день не уставал гордиться. Потому что жалким и никчемным оно показалось Генералу, когда он увидел,- что именно ползет по просеке.
Экскаватор. Приземистый и длинный, словно тепловоз, с далеко вынесенной суставчатой тягой и чудовищным зубатым ковшом. Гусеницы глубоко вминались в почву, оставляя две непрерывные ребристые дорожки. Разящее солярой, лязгающее, оно перло не разбирая дороги и готово было сокрушить все на своем пути.
Оно.
Чудище.
Генерал прирос к месту, не в силах пошевелиться. Если это контрольный сюрприз, то Весемир оч-чень высокого о будущем ведьмаке мнения!
А потом страх и замешательство неожиданно схлынули, осталось только спокойствие и глубокая уверенность: разум ведьмака, пусть даже и начинающего, все равно гибче и быстрее тупых инстинктов дикой машины. Победить бесхитростную мощь можно и без оружия, одной лишь силой мысли.
Если знаешь — как.
Генерал знал. Пока только в теории. Но ведь в том и состоит смысл контрольных полевых заданий — в привязке теоретических знаний к реальной обстановке.
Одновременно мелькнула шальная и в данный момент малоуместная мыслишка — вот зачем устроили испытание в пустом и ненаселенном парке! Такой экскаватор на городских улицах столько бы всего порушил, за десять лет не отросло бы…
Итак. Имеется карьерный гусеничный экскаватор модели… модели… а черт его знает, какой модели. Многотонная лязгающая громадина. По всей видимости, оснащена бортовым компьютером с возможностью удаленного доступа и дистанционного управления. По всей видимости, вышла из-под контроля и успела натворить лихих дел — вон эльф весь окровавленный валяется. Кстати, прет-то она прямо на эльфа… Надо отвлечь.
Генерал прекрасно знал слабое место таких механизмов. Неповоротливость. Ползают так, что человек на своих двоих обгонит.
Поэтому он сорвался с места, на бегу подхватил с травы шмотник и пульт, сиганул через некстати подвернувшийся куст и обежал экскаватор слева. Тот сразу замедлился и вдруг проворно выпростал полусогнутый доселе ковш. С хрустом переломилось молодое деревце. Словно спичка. Генерал успел вовремя убраться на безопасное расстояние.
Чудовище разворачивалось, готовое ринуться на прячущегося в подлеске ведьмачонка. Генерал не утратил хладнокровия: напротив, он уже просчитал, куда метнется сейчас. Во-он туда, за огромный столетний дуб в несколько обхватов. У него, поди, такие корни, что и экскаватору с ходу не своротить.
Жизнь — она всегда сильнее железа и моторов.
И вдруг у Генерала появился нежданный союзник. Мелькнула среди ветвей и стволов коричнево-зеленая курточка и невдалеке показался еще один эльф. Одет он был точно так же, как и недавний пациент Генерала, но р отличие от первого пребывал в полном здравии и сохранности.
— Пульт у тебя? — крикнул он Генералу.
Генерал молча показал ему черный, начиненный электроникой брикет.
— А ключ?
Теперь Генерал столь же выразительно похлопал себя по карману куртки.
Эльф словно под землю провалился — растворился на фоне листвы. А потом возник уже совсем рядом, в паре шагов. Выскользнул из-за ствола того самого дуба.
Экскаватор громыхал гусеницами и натужно лязгал ковшом, пробираясь сквозь парк. Деревья жалобно трещали и ломались. Рождалась новая просека.
Эльф требовательно протянул руку, и Генерал, не колеблясь, отдал ему пульт с ключом. Медлить эльф не собирался: тут же вставил ключ в едва приметную щель на торце пульта. Раздался негромкий щелчок, еле слышный на фоне производимого экскаватором шума. Пальцы эльфа запорхали над клавиатурой; пульт и впрямь очень походил на ноутбук, с той лишь разницей, что экран у него был совсем крохотный и располагался не на откидной крышке, а прямо рядом с клавишами. Крышки, собственно, и не было вовсе.
— Отвлеки его! — властно скомандовал эльф и беззвучно канул в кусты.
Что-то у него, видимо, не ладилось.
Генерал послушно потрусил по широкой размашистой дуге. Экскаватор на какое-то время притих, отслеживая его перемещения, а потом стал грузно разворачиваться. Под гусеницами захлюпало — он въехал в обширную, отороченную мхом лужу. Генерал, пользуясь моментом, шмыгнул монстру за корму: на разворот у того уйдет довольно много времени.
Сравнительно быстро Генерал отступил к обширной овальной поляне. Почему-то ему было жалко гибнущие под гусеницами и ковшом деревья. В конце концов парки — такая же часть города, как и кварталы. А ведьмак обязан хранить город. Весь. Целиком.
«А поляну пусть утюжит, — подумал он. — Трава — не дерево. Еще в этом году отрастет…»
Не успел монстр выползти к полянке, как откуда-то сбоку показался давешний эльф. Мелкой вихляющей рысцой он приблизился к Генералу.
— Плохо дело, — сообщил эльф. — Он заблокировал все входные порты. Надо лезть в кабину.
Генерал вдумчиво шмыгнул носом. И ничего не сказал. Да и что он мог сказать?
— А ты, собственно, кто? — поинтересовался эльф. — Ведьмак, что ли?
— Начинающий, — уточнил Генерал скромно.
— Какой выход? — Первый, — не стал врать Генерал.
Эльф саркастически хихикнул.
— Везет же мне! Впрочем, чего это я? Иначе пришлось бы в одиночку. Кстати, что с Ранавенором?
— Это твой… приятель? — на всякий случай справился Генерал. — Который пульт потерял?
— Да.
— А ты не видел? Лежит рядом с аллеей. Без сознания. У него весь бок разодран, я его аэрозолем спрыснул.
— Вашим? — Эльф нахмурился.
— Да.
— Веса маэ, — выругался эльф. — Он может не выдержать…
— Твой приятель умирал, когда я на него наткнулся. Улыбнется судьба — выживет.
— Судьба редко улыбается эльфам, ведьменыш. Запомни это.
Генерал смолчал.
— Ладно. Слушай меня. Нужно задурить этой махине его поганые навигационные рецепторы и попасть в кабину. Ты мне поможешь, раз уж ввязался в это дело. Боюсь, там, в кабине, одной пары рук будет мало. По деревьям лазать умеешь?
— Умею.
— Пошли.
Эльф заткнул бесполезный пока пульт за пояс штанов и деловито зашагал к уже выбравшемуся на поляну экскаватору.
— Отвлекай пока, — напомнил он. — Побегай у него перед мордой. Только смотри, под ковш не угоди.
— Угу, — буркнул Генерал как можно безразличнее.
Бегать перед мордой экскаватора оказалось настолько же утомительным занятием, сколь и небезопасным. Первое же забегание едва не закончилось трагически: монстр резко выпрямил полусогнутый ковш, одновременно подавшись вперед, и задел плечо Генерала. Тот кубарем полетел в траву, совершенно ошарашенный, еще в падении сообразив, что придется молниеносно вскакивать, невзирая на боль, и убираться метров на двадцать в сторону. Сообразил он правильно: с двухсекундной задержкой в место, где он приземлился, впечатался ковш, похожий на гигантский железный кулак.
Экскаватор умел двигаться быстрее, чем казалось сначала. Но все же недостаточно быстро для готового к сюрпризам живого. Особенно такого шустрого и проворного, как подросток, обучающийся на ведьмака. Теперь Генерал позволял себе забегание в зону досягаемости ковша только на противоходе и только на секунду-две.
Вскоре он отследил эльфа: тот потихоньку зашел экскаватору сзади, вскарабкался на развесистую липу и сиганул прямо на кожух двигателя над кормой.
Чудовище взревело громче и отчаянно крутануло башней-корпусом. Молодой дубок на самой опушке вывернулся из почвы с корнями, еще от двух деревьев потолще остались только обломанные щербатые стволы в рост человека.
Тут Генерал сообразил, что от резкого движения ковш монстра на несколько секунд завяз в чаще. Прежде чем Генерал опомнился, ноги уже доставили его вплотную к экскаватору. Прямо к широченной гусенице. Все естество ведьмачонка захлестнуло азартом, пьянящим азартом схватки и удивительной уверенностью в своей быстроте и ловкости. В три движения он буквально взлетел к кабине.
И едва не поплатился за это.
Доселе запертая дверь кабины вдруг резко распахнулась. Окажись Генерал на полшага ближе к краю — его смахнуло бы прямо под чудовищную шипастую гусеницу. А так только сбило с ног — он успел уцепиться за поручень у штатной лесенки и повис, навалившись грудью на платформу перед кабиной. Ноги болтались совсем рядом с вентиляционной диафрагмой; Генерал явственно ощущал тепло и вибрацию работающего двигателя.
Но нет худа без добра: в открывшуюся дверь немедленно проник эльф и тут же принялся колдовать над бортовым пультом монстра. Не успел Генерал вскарабкаться обратно на площадку, как рев двигателя стал равномернее и как-то послушнее. Судорожные рывки прекратились.
— Все, — объявил эльф сверху. — Если хочешь, залезай ко мне.
Генерал с удовольствием повиновался. Эльф вольготно сидел в кресле, положив руки на рычаги. Переносной пульт лежал на полу, рядом, поверх резинового коврика. Уверенно двигая рычагами, эльф освободил ковш и перевел его в походное положение — вытянул сначала вперед, а потом согнул тягу посредине, подобрал ковш почти под лобовой кожух.
И в этот же самый миге проложенной экскаватором просеки на поляну, сигая по кочкам, вырвался джип Весемира. Помимо старого ведьмака в салоне был еще кто-то.
Эльф неторопливо встал и вышел наружу, на площадку.
— Ба! Сам Весемир! Мое почтение! — поздоровался он.
— Устерхофф? Что тут у вас, жизнь забери, происходит? — Весемир тоже поспешил выбраться наружу и требовательно глядел на эльфа снизу вверх.
— Да вот, экскаватор самовольничает. Сбежал с Марушского карьера, бедокурить в парке принялся… Ранавенора чуть не погубил… Как он там, кстати?
— Лежит, — буркнул Весемир, недоверчиво склоняя голову. — Один из моих вышел на него посмотреть. Генерал, ты в порядке?
— Да, учитель! — заверил Генерал слегка дрогнувшим голосом.
Эльф по имени Устерхофф неожиданно протянул руку и несильно ткнул Генерала в плечо:
— А парень-то молодчина, Весемир! Очень мне помог. Ставь ему «отлично», не ошибешься. Из него получится настоящий ведьмак.
— С чего это ты взял? — Весемир немного смягчился.
— Видно. Соплей не пускал, Ранавенора без колебаний вашим зельем лечить взялся. Не боялся, но и в самое пекло без нужды не лез. Из таких и вырастают настоящие ведьмаки. Уж я-то в этом толк знаю, ты ведь в курсе.
— А что с этим? — Весемир указал головой на экскаватор. — Что-то серьезное?
— Не особо. Ранавенор пульт вырубил, а этот не будь дурак заблокировал все входные порты, включая дистанционку.
— А ограничители?
— Да кто на них смотрит на прирученных машинах-то…
— А надо смотреть, — вздохнул Весемир. — Половину всех бед сами и провоцируете. А потом жалуетесь — где, мол, были ведьмаки…
— Разберемся, Весемир. Подвезешь нас? Ранавенора устроить надо…
— Садитесь…
В джипе обнаружилась хмурая личность чуть постарше Генерала. Расселись, потряслись, попрыгали на неровностях просеки, подобрали раненого. У Генерала наступил неизбежный откат, расслабление. Захотелось спать.
Лишь на обратном пути, когда уже возвращались вечерней трассой в Арзамас-16, Весемир неожиданно спросил:
— Скажи, Генерал… О чем ты думал, когда увидел раненого эльфа?
Генерал, не отрывая взгляда от дороги, а рук — от руля, честно признался:
— Да ни о чем… Не получалось у меня думать. Просто взял баллончик и обработал рану. Потом экскаватор попор…
— А тебе было его жалко?
— Эльфа? Или экскаватор?
— Эльфа.
Генерал сокрушенно вздохнул.
— Было. Живой все-таки.
— Но ведь ты знал, что наши препараты могут его погубить.
— Знал. Но от раны эльф бы умер наверняка, а после аэрозоля у него все же оставались шансы.
Весемир немного помолчал.
— Знаешь, — сказал он чуть погодя, — мне кажется, что Устерхофф прав. Из тебя действительно получится хороший ведьмак. Только не спеши задирать нос… и не болтай друзьям своим особенно, понял?
— Понял, учитель.
Они еще немного помолчали.
— Учитель?
— Что?
— А что с моей контрольной? Зачет или нет? До выхода-то я не дошел…
— А тебе не все равно?
Генерал посопел и признался:
— Нет. Только… не говорите никому, что мне не все равно.
— Зачет, зачет… — проворчал Весемир. — Считай, что сдал на «отлично».
И подумал:
«Ведьмак. Настоящий ведьмак. Без каких-то пяти минут».
Разумеется, когда учитель и ученик приехали в Арзамас, на лицах их прочно держалась маска спокойствия и безразличия.
Потому что так надо.
В багги двоим было тесновато, но зато они моментально наверстали упущенное время. Два дня пути и еще одна ночевка в степи, на этот раз прошедшая вполне спокойно. Геральт рулил, Ксана переключала передачи, когда нужно.
А потом впереди встал небольшой райончик — язык не поворачивался назвать такой крохотный жилой лоскут городком. Райончик прятался за высоким бетонным забором.
— Стоп! — скомандовал Геральт, и Ксана послушно переключилась на нейтраль.
— Приехали? — спросила ома тихо.
— Да. Приехали. Это Арзамас-шестнадцать. Дом ведьмаков. Родина безразличия.
Ксана невольно взглянула на ведьмака. Лицо его смягчилось лишь самую малость, но глаза светились чем угодно, только не безразличием.
Радостью.
Любовью.
Теплом.
Что могут отражать глаза скитальца-одиночки, если после долгого отсутствия он возвращается домой? Особенно если вдали от дома то и дело приходится заглядывать в глаза смерти?
Но поняла Ксана и то, что здесь не принято обсуждать очевидное. И что всему остальному миру совершенно не обязательно знать об истинных чувствах ведьмаков. Поэтому она просто спросила:
— Ну что, будем ехать или будем стоять?
Безразлично так спросила…
сентябрь — октябрь 2001 Москва, Соколиная гораСергеи Синякин МРАК ТЕНИ СМЕРТНОЙ
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме.
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
М. ВолошинПьяный от бессонницы и умопомрачительных рассуждений, Нильс Рунеберг бродил по улицам Мальме, громко умоляя, чтобы ему была дарована милость разделить со Спасителем мучения в Аду.
X. Л. Борхес. «Три версии предательства Иуды»Глава первая ПОЯВЛЕНИЕ ИЗ ТЬМЫ
Гестаповец весь был какой-то усталый и замотанный, и под глазами у него были угольно-черные круги, поэтому голубые арийские глаза казались ледяными звездами.
— Господин Рюгге? — вежливо спросил он открывшего ему дверь старика. — Я ищу господина Рюгге, который работал инженером у Путмана на «Канцкугельверфен».
— Да, это я, — сказал хозяин дома, понимая уже измученным подсознанием, что перед ним открывается та самая пустота, о которой когда-то, в другой жизни, ему говорил Савинков. Или это говорил Жаботинский? Нет, все-таки это был Савинков, он всегда был склонен к некоторому позерству. Как всякий литератор, он был несколько себялюбив и тщеславен. Рюгге прошел в комнату, слыша за собой четкий и уверенный стук сапог, достал из секретера германский паспорт и протянул его терпеливо ждущему гестаповцу. Гестаповец рукой в перчатке взял паспорт, вежливо кивнул и принялся просматривать страницы. В этот момент он был похож на молодого глупого пса, который, убежав вперед хозяина, тщился доказать ему свою полезность и необходимость, еще не понимая, что хозяин, который вырастил его из беспомощного щенка, ценит в этой суетливой преданности именно свое отношение к собакам.
— Та-ак. — Гестаповец закрыл паспорт, сунул его в карман черных бриджей и с неожиданной силой хлестнул рукой по лицу хозяина дома. — Jude!
Евно показалось, что на него рушится небо. Конечно, это не могло не быть глупостью типа метафоры и склонного к эпатажу раннего Маяковского, но что вы хотите от человека, заканчивающего седьмой десяток лет своей жизни и ощутившего с полученной оплеухой всю ее никчемность и ничтожность. Когда-то Евно казалось, что позор навсегда остался в прошлом, как остался где-то в копотном пожарище России Блока убитый Плеве, безусые террористы, готовые на смерть за идею, рассудительные и знающие дело жандармы, суетливые эсдэки и не менее суетливые эсэры, жаждущие всемирного масонского благополучия и готовые за это эфемерное благополучие взорвать к чертовой матери всех, кто, по их мнению, против него выступает, расстрелянные цари и наследники, до которых не дотянулся Каляев, но которые не убереглись от многочисленных рук идиотского народного гнева в подвале Ипатьевского особнячка холодного уральского города. Теперь Азеф, прикрыв руками полусорванную маску добропорядочного бюргера, под которой он жил долгие годы, понимал, как ошибался. Прошлое никогда не уходило навсегда, просто оно иногда терялось, как теряется та или иная реальность в бредовых снах кокаинистов, перешедших на опиум, но потом вновь обретало свои реальные и жестокие черты, возвращалось в виде вот такого белокурого ангелочка с льдисто-голубыми глазами и скалилось в усмешке с высокой тульи залихватски изломанной фуражки, рождая желание припасть к глянцевитым зайчикам на вычищенных сапогах.
— Взять его! — приказал белолицый и чернокожий ангел, сверкнув молниями петлиц, и двое дюжих молодчиков умело встали за спиной бывшего инженера Рюгге, который еще ранее, совсем в другой реальности, был российским иудеем по имени Евно Азеф и главой Боевой организации социал-революционеров, которому предстояло теперь стать участником нацистской театрализованной и полной дешевых эффектов игры под названием «Хрустальная ночь».
Кто постарше, про эту операцию все знает. Другим требуется немного пояснить. Когда Гитлер сидел в тюрьме и писал свою книгу «Mein Kampf», его подельник Рудольф Гесс почитывал разные книжки, которые брал в тюремной библиотеке. И вот однажды ему попалась еврейская книга «Хаггада». Лежа на нарах, Гесс в свободное от мастурбаций время почитывал эту книгу.
— Слушай, Ади, — сказал он однажды. — Ты правильно заметил, что нация нуждается во внутреннем враге. Однако глупо искать таких врагов в тех, кто рыж. Сколько их наберется на всю Германию? Психбольные вполне подходят, ведь они совершают порой чудовищные преступления и совсем нетрудно направить народный гнев на этих изгоев. Но и их не хватит, чтобы консолидировать общество и заставить его прийти к единому консенсусу.
Адольф Шикльгрубер лежал у окна и мечтал о своей племяннице Гели Раубель.
— Руди, отвали, — тяжело дыша, сказал он. — Какого черта ты пристаешь к занятому человеку?
Гесс не обратил на гнев товарища внимания.
— Евреи, — сказал он. — Вот враг для нации. Презренные толстосумы и жиды, задавившие нацию своим хищным ростовщичеством. Ади, это идеальный враг. Объединившись против него, нация встанет на ноги. Да и ценности они действительно скопили немалые, они помогут немецкому народу преодолеть позорные последствия Версальского мирного договора.
— Хорошо, хорошо, — с некоторым раздражением сказал Шикльгрубер, которому судьба уготовила великое и страшное будущее всемирного людоеда. — Пусть будет по-твоему, только не мешай. О-о, Гели! Милая Гели! Ангелика, душа моя!
Гесс свесил с нар босые ноги.
— Нет, ты посмотри, — сказал он. — Какая шикарная история! Представляешь? Ежегодно в канун девятого Аба, во время пребывания народа в пустыне, Моисей объявлял по всему стану Израилеву: «Выходите копать могилы! Выходите копать могилы!»
Каждый израильтянин, выкопав себе могилу, ложился в нее на ночь. По утрам выходил ихний глашатай и объявлял:
«Живые, отделитесь от мертвых!»
И каждый раз в живых оказывалось меньше на пятнадцать тысяч человек. Так они избавлялись от проклятия. А на сороковой год смерти прекратились и евреи поняли, что Бог их простил! Нет, ты представляешь, Ади?!
Адольф Шикльгрубер с досадой сел и застегнулся.
— Ты меня достал! — злобно сказал он. — Чем тебе не понравились жиды? Нормальные люди, я сам на треть…
Гесс засмеялся.
— Господи, Ади, очнись. Какое мне дело до евреев; если у меня самого их в родословной хватает. Я тебе говорю о возрождении нации!
— Если бы ты знал, как мне надоело сидеть с тобой в одной камере! — Шикльгрубер подошел к ведру с водой и склонился над парашей, ополаскивая лицо. Он сел рядом с Гессом. От капелек воды его лицо казалось заплаканным. — Выкладывай, Руди! — сказал он.
— Мы объявим немцам, что им живется тяжело именно из-за засилья евреев, — сказал Гесс. — Все беды Германии от того, что власть опархатилась, что деньги принадлежат евреям, а простые немцы гнут на них спину. Мы скажем, что наши евреи смотрят в рот американским плутократам, русским комиссарам, масонам и прочему отребью. И люди проснутся, они будут ненавидеть евреев. А все потому, что именно из-за них истинным немцам живется плохо. Надо внушить людям, что живой немец важнее мертвого еврея.
Шикльгрубер задумчиво пощипал усики. Еще не ставшая знаменитой, его челка небрежно свалилась на узкий лоб.
— А что потом? — спросил он.
— А потом, — сделав небольшую паузу, сказал Гесс, — потом мы уподобимся Моисею. Мы прикажем им копать себе могилы!
Шикльгрубер пожал узкими плечами.
— Не вижу смысла, — сказал он.
— Они выкопают себе могилы, и мы скажем, что наступила ночь, пусть они укладываются в них. Но потом, когда наступит утро, мы не станем отделять живых от мертвых, пусть они — живые и мертвые — покоятся в земле!
— Руди, ты псих! — сказал Шикльгрубер. — Тебе не в тюрьме сидеть, тебе в клинике доктора Вайцмана лечиться!
Через несколько лет он вернется к этой мысли Рудольфа Гесса, теперь она не вызовет у него прежнего внутреннего протеста. В развитие этой мысли будет разработан план операции «Kristallnacht». Первые эшелоны с евреями загромыхают на стыках рельсов готовящихся к войне железных дорог в еще несовершенные концлагеря, где одних освобождали от химеры, называемой совестью, а других возносили до небес в буквальном смысле этого легкого слова. В один из таких эшелонов попадет престарелый Евно Азеф, бежавший от суда неистовых социал-революционеров и попавший-таки под суд не менее неистовых национал-социалистов. Обе партии желали счастья своим народам и во имя этого счастья не жалели человеческой крови.
7 ноября 1938 года 17-летний беженец из Польши Гершель Грюншпан застрелил в Париже советника германского посольства фон Рата. В ответ на этот акт в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацистами по личному приказу Гитлера и при активном пропагандистском и организационном участии Геббельса и Гиммлера был инсценирован, как некое стихийное выражение народного гнева, всегерманский еврейский погром: 20 000 евреев брошены в концлагеря, 36 человек убиты. Разрушено и сожжено 267 синагог и 815 магазинов и предприятий.
— А вот не надо было Гершелю Грюншпану стрелять в фон Рата, — сказал Шикльгрубер, бывший уже к тому времени вождем германского народа Адольфом Гитлером. — За ошибки надо платить и все они заплатят полной мерой!
Трудно сказать, почему рейхсканцлер Германии вспомнил это идею партайгеноссе Гесса. Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд стал бы доказывать сексуально-фаллические корни произошедшего, указывая на то, что, возможно, свою роковую роль сыграла трагическая смерть Ангелики Раубаль, убившей себя из револьвера вельможного любовника, или, может быть, «Kristallnacht» родилась из стойкой неприязни в полных скрытой гомосексуальности взаимоотношениях бывших сокамерников Гитлера и Гесса, которые привели к бегству последнего в Англию на стремительном, как стрекоза, «мессершмитте» в мае сорок первого года, или же ненависть Адольфа к евреям родилась из бесцеремонно прерванного Гессом служения культу библейского пастуха, который отправлял тогда в камере Шикльгрубер. Трудно об этом судить, особенно если ты не являешься специалистом, по классу сравнимым со знаменитым австрийским психоаналитиком. Однако факт остается непреложным — потомкам колен Израилевых было предложено рыть могилы.
Уже позже, в конце 60-х, отбывая наказание в Шпандау, Рудольф Гесс на вопрос одного из обслуживавших его тюремных психиатров об истоках зарождения идеи, пожевав тонкими синими губами и глядя куда-то в прошлое, ответил: «Молодые были. Хотелось посмеяться. Тюрьма нас тогда не пугала».
Как всякий богоборец, Адольф Шикльгрубер не верил в богоизбранность одного народа и его превосходства над другими. Но внутренний страх перед возможностью невозможного, живущий в душе каждого человека, заставлял Шикльгрубера искать выход, как когда-то в Вене он терпеливо искал цветовую гамму, которая бы дала ему возможность изобразить рассвет над Дунаем именно таким, как он его увидел. И он нашел выход. Он пришел к нему во время прогулки в окрестностях Берхтесгадена однажды бессонной ночью, когда в альпийских лугах зацвели травы и нежность ночных альпийских вершин заставляла трепетать душу. Адольф едва не подпрыгнул от восторга, но рядом была охрана, и, хмуро покосившись на них, фюрер поспешил укрыться в кустах, охватившее его сексуальное наслаждение от гениальной идеи требовало немедленного облегчения.
Идея была в следующем — уж коли евреи мнят себя богоизбранным народом, то нужно пойти дальше и вообще перестать считать их людьми! Но почему — людьми? Надо поставить их вне всего живого, что существует на Земле. Если они принадлежат Богу, то пусть он за них и заступается! Да, пусть их спасает Бог, а если он не может спасти, то из этого проистекало три вполне самостоятельных предположения: либо Бога нет, либо евреи не являются богоизбранным народом, третье же — еще более важное — предположение ставило Адольфа на одну ступень с Всевышним, а это, в свою очередь, уже ничем не ограничивало его права на строительство более совершенного человечества.
И теперь именно волею фюрера германского народа бывший эмигрант и беглец из своей реальности Евно Азеф ехал в скотном вагоне навстречу своей судьбе. Поезд шел в Ад, но Евно, как и окружающие люди, считал, что он просто меняет место своего жительства. Говоря по совести, он совсем не обманывал себя. В конце концов, что значит смерть человека? Всего лишь смена среды своего обитания. А среду своего обитания Евно Азеф уже менял минимум три раза: первый раз — когда начал сотрудничать с охранкой, второй раз — когда был разоблачен неутомимым охотником за провокаторами Бурцевым и бежал от своих товарищей в Германию, и третий раз — когда инсценировал собственную смерть от болезни почек в берлинской клинике.
Наглухо задвинутые двери вагона, четкий лай немецких команд снаружи, тихий плач женщин и капризы измученных дорогой детей воспринимались Азефом как-то отстраненно, словно это было на экране синематографа, а он просто смотрел на все происходящее со стороны.
«Вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, — бормотал рядом некто, который, возможно, в недавней жизни был священником и выходил от чужого имени благословлять или прощать, а теперь сам жил в ожидании, — потому что Я звал — и вы не отвечали, говорил — и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно мне».
— Господи, — сказала сидящая рядом с Азефом простоволосая женщина с измученным серым лицом. — За что? Мы просто жили, ничего злого или плохого не делали… За что?
«Наверное, именно за это, — отрешенно подумал Азеф. — Надо было выбирать ту или иную сторону. Не бывает тех, кто живет по ту сторону от Добра и Зла, их просто уничтожают, потому что в них нет нужды ни Добру, ни Злу».
— А ты? — насмешливо возразил кто-то внутри.
«И я, — подумал Азеф. — Мне будет еще хуже, потому что я попытался встать одновременно на сторону добра и вместе с тем продолжал защищать зло. То, что нас ждет, — гезера, роковое предопределение, никто из смертных не может устранить ее».
Ему было за пятьдесят, когда Азеф понял, что у любой стратегии любой революции обязательно есть острие и всякое насильственное изменение есть прежде всего разрушение сложившегося порядка вещей. Сделанная бомба должна была обязательно взорваться, заряженный револьвер — выстрелить и кого-то убить. Гезера! До того Азеф не особенно задумывался над происходящим. Уж больно увлекательна была игра — быть тайным руководителем боевой революционной организации, поставившей на террор, и вместе с его участниками продумывать изощреннейшие планы покушения на царей, великих князей, министров и губернаторов, а с другой стороны, предавать своих соучастников, докладывая охранке о разработанных планах и участвующих в покушениях товарищах. Но теперь было совсем иначе, безжалостную игру начали с ним и начали в том возрасте, когда исчезает азарт.
«Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жить».
В маленькое зарешеченное окошко скотного вагона Евно Азеф смотрел на свободные и далекие облака.
АЗЕФ ЕВНО ФИЛИППОВИЧ, 1870, еврей, сын портного, окончил Высшие технические курсы в Карлсруэ, инженер-электрик. Там же в 1893 году связался с департаментом российской полиции. В 1899 году по заданию охранки вступил в заграничный Союз социал-революционеров, в 1901 году вместе с Гершуни объединил партию и занял в ней руководящий пост, руководил Боевой организацией эсэров. Гениальный провокатор. Рабочие псевдонимы в охранке — «Раскин», «Виноградов». Участвовал в организации покушения уфимского губернатора Богдановича, убийства министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича, в покушениях на петербургского генерал-губернатора Трепова, на киевского генерал-губернатора Клейгельса, на нижегородского губернатора Унтерберга, на московского генерал-губернатора адмирала Дубасова, на министра внутренних дел Дурново, на заведующего политическим розыском Рачковского, в убийстве Гапона, в покушении на адмирала Чухнина, на премьер-министра Столыпина, в трех покушениях но русского царя и в ряде иных менее значительных. Одновременно с этим выдал охранке Харьковский съезд представителей союза эсэров в 1901 году, типографию Северного Союза в Томске, Северный Летучий Боевой отряд, в 1905 году боевой комитет по подготовке восстания в Петербурге, в 1907 году предотвратил убийство министра внутренних дел Дурново, убийство царя в том же году, а в 1908 году выдает всю Боевую организацию, казнены 7 человек. Разоблачен в 1908 году и скрылся. Путешествовал по Германии, Испании, Италии, Греции и Египту. С 1910 года жил в Германии под фамилией Нимайера, по паспорту, выданному русской полицией. В 1915 году арестован германской полицией и пробыл в тюрьме до конца 1917 года. В 1918 году после заключения Брест-Литовского мира освобожден под своей настоящей фамилией. Боясь возмездия, Азеф симулировал собственную смерть от болезни почек и скрылся. Арестован гестапо в 1939 году в Берлине, где проживал по паспорту гражданина Германии И. Рюгге. Активно сотрудничал с гестапо в выявлении евреев, нелегально проживающих в Берлине и его окрестностях. Прирожденный актер. Склонен к философии. Несмотря на возраст, активен. В январе 1940 года направлен в концлагерь Берген-Бельзен.
Из личного дела агента «Раскин»Глава вторая ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Азефа трясло.
Конвоиры некоторое время топтались у входа, закинув карабины за спину. Зигфриды, годные к нестроевой. В другое время Азеф не преминул бы это отметить, но сейчас ему было страшно. Эти самые годные к нестроевой Зигфриды взяли сторону дракона и принялись за людей. Сюда его привели со штрафного двора, где годные к нестроевой Зигфриды деловито расстреливали людей, прибывших на берлинском транспорте. Вначале расстреляли женщин, потому что от них было слишком много шума, потом расстреляли детей, ведь ложащиеся в могилы евреи должны были видеть, что корни подрублены и из могил не поднимется никто, со Как говорится в Третьей книге Царств, отец ваш наказывал вас бичами, а мы вас накажем ядовитыми скорпионами. Сказано было! Если потусторонний мир все-таки существовал, то в нем сейчас торжествовал Ирод.
Азефа трясло. Сохранявшая и в старости остатки цвета борода его стала окончательно седой. Он не знал, кого ему благодарить за то, что взрослые дети его уехали из Германии до этого страшного начала, в котором уже проглядывал всеобщий конец. Однако он точно знал, кого ему благодарить за то, что он покинул Россию до начала ее кровавой зари и тем самым дал своим детям саму возможность вырасти. О себе Азеф не думал, как не думает ни о чем, кроме смерти, поднятый с плахи человек.
Гестаповец приветливо покивал ему, радушно усадил за стол.
— Успокоился? — Он налил Азефу «сельтерской». — Выпей, выпей, а то тебя подводят нервы. Я понимаю, господин Азеф, возраст. Да и картина не слишком приятная. Не научились еще! В конце концов еще ничего страшного не произошло. Ты жив, и это самое главное. Радуйся, что я успел, я ведь узнал о тебе в самый последний момент. Есть хочешь?
Боже мой! Азеф вспомнил штабеля трупов на штрафном дворе лагеря, запах пороха и вспотевшей от нетерпения смерти, крики, плач, тонкие юркие струйки жизни, бегущие по бетону, мертвых детей — и ему стало дурно. Его тошнило от одной мысли о пище. Азеф покачнулся. Лицо его потемнело.
Гестаповец наклонился к нему, жестко похлопал ладонью по щекам. Глаза гестаповца стали свинцовыми.
— Не думал, что ты так слаб. Может быть, я ошибся? Ты никуда не годишься. Но если так, то самое лучшее, что я могу для тебя сделать, — это вернуть туда, откуда тебя привели. Подумай, Азеф. Ты можешь все решить для себя. Ответить очень просто, достаточно будет кивнуть головой.
Азеф заставил себя протянуть к стакану руку. Рука тряслась, заставляя газовые пузырьки в воде бежать вверх чаще. Зубы бились о край стакана, вода сушила небо и десны, как спирт, но Азеф принудил себя сделать несколько глотков. Не поднимая глаз, он отрицательно помотал головой.
— Не надо, — сказал он и удивился тому, как фальшиво и безжизненно звучит его голос.
Так могла бы звучать скрипка из оркестра, додумайся кто-нибудь напихать в нее опилок и трухи. Оживить мертвый инструмент было бы не под силу и Герберту фон Карояну, будь он хоть трижды любимцем сумасшедшего фюрера. Боже мой! Что мы сделали? Почему? Почему с нами так? За что!
Последний раз он испытывал подобный страх, когда к нему пришли Савинков с Черновым. «Евно,. — сказал Чернов. — Все мы знаем тебя и не верим в распускаемые Бурцевым слухи. Он никогда не ходил по лезвию ножа. Ты ответишь ему?»
Но что он мог ответить? Не им было сказано: «И отдам их на озлобление и на злострадание, во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах». Иегова это сказал устами Иеремии! «И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую дал Я им и отцам их».
Азеф закашлялся и снова протянул руку к стакану.
— Кровь, — пробормотал он.
— Не надо, — уже несколько раздраженно сказал гестаповец. — Только не закатывай глаза и не впадай в беспамятство. Ты думаешь, после ваших терактов жертвы выглядели иначе? Помните, вы планировали одно время батюшку царя при выезде бомбами взорвать? А ведь он тоже с детьми ехать собирался. Думаешь, ваши бомбы действовали бы избирательно? Царя в клочья, а детишек не тронет? Ладно, Евно Филиппович, у нас с тобой нет времени. Речь идет о сотрудничестве. Да или нет?
Нет, и все вернется на круги своя. Сейчас он скажет «нет», и его вновь приведут на штрафной двор, краснолицый унтершарфюрер прикажет снять с себя одежду и проследит, чтобы Евно аккуратно свернул все, ведь вещи не должны напрасно пачкаться и мяться, а прекрасный костюм Азефа серой английской шерсти мог еще послужить возрождению фатерланда, как служили уже еврейские лавки, магазины и предприятия, национализированные рейхстагом. Потом пузатого, с обвисшими боками и морщинистым лицом Евно Азефа проведут к ближайшему штабелю, в глубине которого кто-то еще плачет и вздыхает, заставят уложить на верхний голый труп ряд дубовых поленьев, полить их тягучим и жирным, как время, керосином и лечь на поленья на живот, вытянув руки по швам. Когда он все это исполнит, краснолицый унтершарфюрер, кряхтя, залезет на шаткий, еще дышащий жизнью штабель, встанет над Евно Азефом, наклонится, беря у товарищей карабин, и щелкнувший затвор оповестит Евно о том, что черный зрачок дула уже, прищуриваясь, ищет место в его седом и лохматом затылке, и до Вечности остаются мгновения, которые становятся все короче и короче… «И придет на тебя бедствие; ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь»… Страх снова липко и вонюче проступил на теле Азефа. Евно не был готов к смерти.
Не поднимая седой головы, он снова сказал:
— Да!
Снова? Да, да, да! Первый раз он сказал «да» несколько десятков лет назад, когда согласился сотрудничать с охранкой в России. Только тогда было иначе, тогда он был молод и полон надежд, никто не гнал его на страшный своей недавней прошлой жизнью штабель, в котором умирающая древесина смешалась с уже мертвой плотью, а души, покинувшие тела, все кружили над этим штабелем, точно чайки, покидающие океанские волны лишь с началом шторма. Тогда было все по-другому. Тогда это он сделал сам… Азеф допил «сельтерскую» из стакана и поднял глаза на своего мучителя, ставшего теперь обязательным собеседником на все время, которое было оставлено ему судьбой. Какой он молодой! Совсем еще мальчик. Судя по интеллигентности и напыщенной значительности, институт, наверное, недавно окончил. Господи, что же это делается с людьми! Что это делается с нами!
Евно Азеф судорожно вздохнул.
Похоже, что гестаповец не сомневался в ответе. Он пододвинул к плачущему Азефу бланк, заполненный странной затейливой готикой, похожей на иероглифы, достал из кармана кителя «вечное перо» и с деловитым спокойствием и сухостью сказан:.
— Тогда оформим твою подписку о сотрудничестве.
Второй раз в жизни Азеф оформлял подобную бумагу. В первый раз это вызвало в его душе трепет, почти сексуальный и близкий к оргазму восторг, сейчас породило безразличную пустоту, ибо оформление бумаг было всего лишь чертой, в третий раз отделившей его прошлую жизнь от неведомого, но почти предсказуемого будущего, в которое вновь вторгалось уже забытое прошлое. От прошлого пахло порохом и кровью. Азеф взял «вечное перо» и, не поднимая глаз, спросил:
— Кем мне подписываться? Йоганном Рюгге или Евно Азефом?
Гестаповец засмеялся.
Он смотрел, как Азеф, ворочая непослушными толстыми губами, читает текст обязательства. Этот старик вызывал в молодом немце чувство почти мистического удивления. Перед ним сидел человек, который предал своих товарищей по борьбе и сделал это не из-за того, что боялся боли и смерти, не из-за того, что его пытали, заставляя признаться во всех мыслимых и немыслимых грехах, нет, перед ним сидел тот, кто сделал из своего предательства возбуждающую своим азартом игру, возведя ее, таким образом, на христианский уровень. Если следовать букве текста, то ведь и Иуда всего лишь выполнял правила установленной однажды игры. По сути, это был мистический обряд, или, как говорят сами иудеи, гезера, в которой страшным образом все случайности сплетены в единую нитку рока.
Сидящий перед Азефом немец по складу своего ума был близок к гончаровскому Штольцу, кризисы, поразившие Германию и пришедшие с кризисами социальные беспорядки, раздражали его, как дворника раздражает промасленная салфетка от пирожка на только что выметенной мостовой, как раздражает вышколенного лакея пятно подливки на крахмальной скатерти обеденного стола.
А перед немцем сидел человек прошлого, обладающий смешанной ментальностью Робеспьера и Каина, человек, у которого не было ничего впереди, да и позади оставались лишь взвихренные обломки отечества, докатившиеся до Германии с кровавыми вихрями Веймарской республики. Гестаповец не видел пользы в разрушенном временем человеческом духе, еще сохранявшемся в бесформенном теле человека, который лишь условно мог считаться живым, но он свято выполнял приказ, полученный от своего руководства.
— Конечно же, Азефом! Ведь Йоганн Рюгге всего лишь метафора, которая красочно оттеняла твое прошлое. «Забытых имен преходящие прелести, я вспомнил, / Теперь бы запомнить, кем жить…» Знаешь, кому принадлежат эти строки? Твоему старому знакомому Борису Викторовичу Савинкову, он их написал в коммунистической тюрьме незадолго до своего самоубийства.
Азеф вздрогнул. Он до сих пор не мог спокойно слышать имя Савинкова. Это было имя верного друга, который стал Азефу не менее верным смертельным врагом. Азеф навсегда сохранил удивление тому, что большевики не казнили Савинкова, а дали ему срок. Это за всю кровь, что Савинков пролил в двадцатые! Рядом с поздним Савинковым Азеф чувствовал себя невинным агнцем, к горлу которого ошибочно приставили нож. Слухи о смерти Савинкова в коммунистических застенках не смогли успокоить Евно, ведь он хорошо знал, как быть мертвым, оставаясь в живых.
— Вы думаете, что он покончил жизнь самоубийством? — спросил Азеф, почти машинально расписываясь в местах, указываемых гестаповцем, и умышленно не называя фамилии своего бывшего товарища. Верх взяла привычка, которой он так и не одолел за всю свою вторую, по-немецки пунктуальную жизнь.
— Почему думаю? Я знаю. — Гестаповец встал, открывая сейф, и спрятал туда подписку Азефа. — Это хорошо, что ты взял себе все тот же псевдоним. Раскин — это очень хорошо! Почти как русский! Виноградов было бы еще лучше. А насчет Бориса Викторовича, — у гестаповца получалось «Виктарровитша», — так мне всю его одиссею надзиратель внутренней тюрьмы НКВД, где он сидел, рассказывал. Я стажировался в России. Мы были, — следователь нетерпеливо пощелкал пальцами, — союзниками. Так вот, Савинков прыгнул из окна, когда понял, что Россия в его услугах не нуждается и что из тюрьмы он выйдет на свободу только стариком, неспособным ни на что. Как он писал? «Глухо стукнет земля. Сомкнется желтая глина. И не станет того господина, который называл себя я»… А ты этого не знал?
— Не знал, — скупо уронил Азеф.
Он действительно этого не знал.
— И ты никого не видел из своих старых товарищей? — с некоторым любопытством спросил молодой гестаповец. — С того самого момента, как в апреле 1918 года симулировал свою смерть от почечной болезни в берлинской окружной больнице?
Полупустой кабинет его напоминал больничную палату. Собственно, таковой он и был — здесь лечили от жизни.
— Не видел.
Молодой немец стал вдруг раздражать Азефа. Теперь, когда животный ужас, вызванный расстрелом евреев из берлинского транспорта, несколько отпустил его, когда кровь перестала кипеть бесполезным адреналином, Евно обрел способность к некоторому самоанализу. Кровь еще булькала, но мышцы уже тряслись, подавая спинному мозгу сигналы о невыполненной работе. За напряжением пришла слабость. Она деловито ощупывала тело Азефа, словно хотела убедиться, не пора ли душе оставить это непрочное и усталое тело. Азеф исподлобья посмотрел на немца.
— Я не знаю, в каком вы звании и как вас зовут, но мне хотелось бы знать, зачем вам понадобился готовящийся к смерти старый иудей?
— О jude! — Гестаповец засмеялся и погрозил Азефу пальцем. — Самокритично, господин Азеф! Очень самокритично! О твоей полезности рейху мы поговорим несколько позже, сейчас я хотел бы представиться, ведь ты должен знать, на кого будешь работать. Я штурмфюрер СС Генрих фон Пиллад.
ГЕНРИХ ФОН ПИЛЛАД, 1906 года рождения, немец, окончил в 1933 году Берлинский университет, по специальности юрист. Член НСДАП с 1932 года, участник Мюнхенского восстания 1929 года, в СД с 1935 года, в ноябре 1935 года присвоено воинское звание — шорфюрер СС. С декабря 1935 года назначен на оперативную работу в концлагерь Берген-Бельзен, присвоено звание штурмфюрер СС. С товарищами по партии и работе поддерживает устойчивые нормальные отношения. Идеям национал-социализма предан. Увлекается психологией. Имеет склонность к агентурной работе. Обучаясь в университете, принимал участие в работе студенческого театра. Табельным оружием владеет хорошо. Принимал участие в операции «Хрустальная ночь». Воевал на Восточном фронте, награжден медалью «За храбрость». Женат. Хороший семьянин. Имеет одного ребенка — сына Михеля, 4 лет.
Из служебной характеристикиГлава третья БРАТЬЯ ПО КРОВИ
В учебниках психологии сказано, что стресс — это всего лишь состояние душевного и поведенческого расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуации.
Вот странно, Азеф пережил стресс во время своей неслучившейся казни, но в этой ситуации он действовал вполне целесообразно и разумно, совершая именно те действия, которые могли ему помочь сохранить жизнь. Возможно, что он действовал чисто рефлекторно, но тогда придется признать, что предательство есть такой же условный рефлекс, как тот, что воспитывался академиком Н. Павловым в своих лабораториях и заставлял собак вырабатывать обильную слюну при виде вареной колбасы.
Что есть предательство в его чисто научном виде? Поведение человека, адекватное сложившейся ситуации и отвечающее при этом требованиям инстинкта самосохранения. Да и подписка о сотрудничестве с секретной службой Третьего рейха еще не являлась предательством в чистом виде, предательство начиналось там, где Азеф исполнял свои обязательства по сотрудничеству. А до этого подписка являлась обычным юридическим документом, нечто вроде договора о намерениях.
Иногда фон Пиллад вызывал заключенного к себе для бесед. Фон Пиллад не скрывал, что ему интересны побудительные пружины предательства. Включившись в разведработу, он пока еще находил нечто интересное в вербовках, тайных встречах, конспиративных заданиях и прочей золотой мишуре, в которую облекалась грязь доносительства и Предательства. Фон Пиллад боготворил разведывательный гений Николаи, мог часами рассказывать, как австро-венгерская разведка разоблачила педераста Редля, работавшего на российский Генштаб, об успешной работе во враждебной России графини Кляйнмихель и о многом ином, что не имело никакого отношения к его бедной на события лагерной деятельности. Впрочем, фон Пиллад и не скрывал временности своего пребывания в лагере, мечтая о дне, когда он станет работать у Вальтера Шелленберга, которого считал величайшим умом и талантливейшим разведчиком.
С уважением фон Пиллад относился и к русской разведке, высоко ставил агентурные разработки покончившего с собой Зубатова, разгибая пальцы, отмечал Гартинга, Рачковского, Мартынова uod andere…
— Скажи, Евно, — с интересом сказал однажды он, — это было давно, но все же… Как получилось, что ты стал работать на российскую охранку?
Азеф ответил сразу, видимо, и ранее он размышлял над этим вопросом. Что ж, у него для этого были причины, ведь в 1917 году, будь он всего лишь организатором и руководителем Боевого отряда Союза эсэров, но не тайным его палачом по совместительству, революционная волна могла вознести Азефа к самым вершинам власти; террорист его ранга мог бы получить больше, нежели было отведено до июльского выступления Марии Спиридоновой. По популярности он мог бы соперничать с виднейшими марксистами из РСДРП. Но что толку жалеть об утраченных возможностях? Это все равно что жалеть о бездетности женщине, которая в глупой юности сама себя лишила будущих радостей материнства.
Если бы батько Махно, получивший за боевые заслуги перед Советской властью орден Красного Знамени, не выступил бы против этой власти, возможно, что в более позднее время были бы созданы отряды юных махновцев, а сам израненный и умудренный опытом командарм, а быть может, и заслуженный учитель Советской республики, делился бы с молодежью воспоминаниями о героических и кровавых временах гражданской войны, а в центре Гуляйполя стоял бы бронзовый бюст героя, на который бы с ненавистью гадили белые голуби.
— Глупости юности, — сказал Азеф. — Кружок в Карлсруэ, контакты с противниками самодержавия, выступления?..
В молодости все мы куда как горячи… А потом подошел молодой человек, предложил посидеть в ресторации, поговорить о жизни. Я пошел поговорить за жизнь и узнал от этого молодого человека, что могу потерять многое. А мне было что терять! Возвращаться назад, к отцу, стать местечковым жидом, которого уважают лишь за умелые руки и способность орудовать иглой… Отец слишком много вложил в меня, чтобы я вернулся вот так — недоучившимся идиотом, у которого никогда не будет твердого положения в обществе. Я растерялся. Через день я дал молодому человеку свое согласие на сотрудничество. А потом я почувствовал вкус в своей тайной работе. Вы даже представить не можете, что я чувствовал, когда с товарищами по партии разрабатывал план покушения на государя на крейсере «Рюрик», а еще через день докладывал о готовящемся покушении в охранку, не раскрывая при этом, разумеется, всех деталей, будто бы неизвестных мне. А потом я с наслаждением следил за тем, кто одержит верх в тайной борьбе. Ведь я был чист: с одной стороны, разработанный план был весьма и весьма перспективен и учитывал все детали, которые были важны для дела, но оставались неизвестными полицейским. Обе стороны были в равном положении, успех мог сопутствовать как одной, так и другой стороне. Я был над схваткой и это, поверьте старому человеку, господин штурмфюрер, приносило мне немалое удовольствие.
Азеф задумался.
Внешность его, и ранее неприятная — круглая арбузообразная голова, маленькие злые глаза, почти плоский нос, под которым над грубыми похотливыми губами темнела редкая поросль усов, — теперь приобрела совершенно гипертрофированные черты. Старость, превращавшая сбалансированные в юности человеческие черты в подлинную карикатуру на них, сделала из облика Азефа что-то жутковатое, но все скрашивала улыбка, теперь она казалась виноватой, и эта виноватая улыбка несколько сглаживала грубые черты, не давая внешности стать чудовищной.
Фон Пиллад, напротив, являл собой образец арийской чистоты, именно в том виде, в котором ее представляли Адольф Шикльгрубер и Альфред Розенберг. Это был высокий плечистый блондин с голубыми глазами и правильными чертами лица, придававшими фон Пилладу безликую плакатную привлекательность. Мменно таких красавчиков рейхсфюрер Генрих Гиммлер использовал для воспроизводства населения Германии с началом Второй мировой войны. «Встать напротив избранной партнерши! Равнение — налево! Господин штандартенфюрер! Подразделение СС, отправляющееся на Восточный фронт, готово к воспроизводству! Разрешите приступать, господин штандартенфюрер?»
Ах, старомодные Гретхены и Михели! Двадцатый век не оставляет времени для чувств.
— Ты испытывал страх от возможного разоблачения? — Фон Пиллад сделал пометку в своем блокноте.
— И не однажды, — вздохнул Азеф. — ,Вы даже не можете представить себе, что значит ходить по лезвию бритвы. Представьте себе, что вы во Франции и находитесь там нелегально…
Фон Пиллад представил.
Надо сказать, что картина ему понравилась. Фон Пиллад всегда любил французскую кухню, французские вина и французских женщин, знающих толк во французской любви.
— Напрасно смеетесь, — сказал, обиженно тряся щеками, Азеф. — Скорее всего вы представили себе удовольствия, а надо попробовать представить дело.
В начале сентября 1908 года неутомимый охотник за провокаторами Владимир Бурцев встретился в поезде с бывшим директором департамента полиции Лопухиным.
От Алексея Александровича Лопухина трудно было ожидать сдержанности, когда он узнал о двойной игре Азефа. Евно понял, что суд партийной чести ничего хорошего ему не сулит. Узнав о встрече Лопухина и Бурцева, Евно испытал животный страх. Надо было бежать, но полиция успокаивала Азефа и затягивала выдачу паспорта. Жена и дети уже были в Берлине. Евно Азеф метался по огромной гостиной, чувствуя себя запутавшейся в паутине мухой, к которой медленно и неотвратимо подбирается паук. Некоторое время он сидел, положив перед собой маленький блестящий револьвер, пока не понял, что застрелиться не сможет. Он почти зримо представлял себе маленькую медную пулю, вылетающую из курносого ствола револьвера и впивающуюся в синюю жилку, голубовато вздувающуюся на виске. Теперь Азеф понимал, что чувствовал Георгий Гапон, когда на шею его надевали веревку и Рутенберг зачитывал ему свой приговор.
Звонок в дверь показался ему ревом труб Страшного суда. Некоторое время он сидел неподвижно, надеясь, что кто-то просто ошибся квартирой. Звонок повторился, и Азеф понял, что это пришли к нему, а быть может даже — за ним. Нехотя он побрел открывать. В дверях стояли Савинков и Чернов. Бледное лицо Савинкова говорило том, что произошло что-то неожиданное для всех. Азеф не ошибся. Савинков даже не протянул руки для пожатия. Чернов сделал такую попытку, но взглянул на Савинкова, и рука Азефа, протянутая к Чернову, повисла в воздухе.
— Мы пришли, — сказал Борис Викторович Савинков, — пригласить вас на партийный суд. Есть ли у тебя, Евно, причина, чтобы не явиться на суд своих товарищей?
Кровь медленно приливала к щекам Азефа. Он оживал, понимая, что слова Савинкова означают отсрочку.
— Борис, — укоризненно сказал Азеф. — Вы знаете меня не один год. За мной нет такой вины, которая заставила бы меня бежать от своих товарищей. Мы вместе ходили по лезвию бритвы, мы с тобой провожали в последний путь своих товарищей. Конечно же, я приду на суд!
Савинков немного расслабился. Только сейчас Азеф заметил, что рука Бориса Викторовича по-прежнему лежит в кармане пальто. Сердце Евно екнуло, он-то хорошо понимал, что может находиться в кармане члена Боевой организации.
— Пустое, — слегка дрогнувшим голосом сказал он. — Я не боюсь Бурцева и его обвинений. То, что говорит Бурцев, не выдерживает никакой критики и всякий нормальный ум должен крикнуть: «Купайся сам в грязи, но не пачкай других!» Кроме лжи и подделки у Бурцева ничего нет. Мне остается только надеяться, что суд сумеет положить конец этой грязной клевете!
Савинков смягчился.
— Не знаю, Евно, — сказал он. — Мы все знали тебя с лучшей стороны, и не хочется верить, что ты мог запачкать себя сотрудничеством с охранкой. Но в рукаве Бурцева тайный козырь — мы знаем, что он встречался в Германии с Лопухиным.
Говоря это, он не отрывал цепкого взгляда от Азефа.
Азеф постарался спокойно встретить его взгляд.
— Друзья мои, — сказал он. — Я не знаю, что может сказать бывший полицейский, но я по-прежнему утверждаю, что Бурцев — маниак. Я даже требую суда — ведь моей биографии многие не знают, а коли так, то остается почва для бесчестных манипуляций и спекуляций. — Савинков расслабился и вытащил руку из кармана пальто. Чернов, тенью стоявший подле него, улыбнулся. Увидев это, Азеф понял, что своим хладнокровным спокойствием он выиграл собственную жизнь.
Уже потом, после их ухода, Евно начало трясти от страха и ненависти, он схватил револьвер и выстрелил во входную дверь, потом позвонил Виссарионову, добился у него свидания на явочной квартире, требовал немедленно арестовать Савинкова и Чернова, валялся в ногах, вымаливая паспорт на чужое имя, и добился-таки, что через сутки выехал в Германию под фамилией Неймайсра.
— А если бы не выехал? — жадно спросил фон Пиллад. — Ты ведь мог оправдаться? Верно?
— А черт его знает, — чисто по-российски ответил Азеф. — Вряд ли, к тому времени меня крепко зажали.
— Бурцев был опасным врагом? — поинтересовался немец.
— Он был просто занудой, — покачал головой Азеф. — Куда опаснее были мои прежние друзья. Такие, как Савинков, Гершуни, Чернов… Эти бы мне не простили! Слава Богу, что к тому времени уже не было в живых Каляева и Желябова, эти идеалисты гнали бы меня до Антарктиды.
Азеф сидел в кабинете фон Пиллада, и в зарешеченное окно был виден лагерный плац, по которому с метлами бродили тени людей. Лагерный мир был похож на площадку аэродрома, с которого никогда не взлетят «юнкерсы» и «хейнкели», но лишь потому, что бетонная полоса плаца была предназначена для взлета человеческих душ. Отсюда души уносились в вечность.
— Можно задать вопрос? — спросил Азеф.
— Пожалуйста. — Фон Пиллад курил, лениво разглядывая глянцевые носки своих щегольских сапог. Впрочем, вид сапог не вызывал у штурмфюрера особенного восторга, фон Пиллад не привык к форме, его всегда более прельщал цивильный костюм.
— Почему вы так ненавидите евреев? — спросил Азеф.
Фон Пиллад удивился.
— Ты заблуждаешься, — сказал он. — Можно ли ненавидеть стул за то, что он неудобен? Или ненавидеть кочку, о которую ты споткнулся? Вы мешаете жить немецкому народу, ваша смерть — это просто плата за то, что вы стали помехой. Любить, Евно Филиппович, равно как и ненавидеть, можно только людей.
Азеф захлебнулся.
— Но мы тоже страдаем, любим, чувствуем боль, — тихо сказал он, исподлобья глядя на немца.
— Фюрер сказал, что все это ваши собственные проблемы, — покачал головой гестаповец. — И боюсь, что отныне вам всем придется с этим жить и умирать. Кстати, о смерти… Вы когда-нибудь наблюдали непосредственные последствия задуманных вами терактов?
— Никогда, — сказал Азеф. — Конспирация требовала, чтобы такие руководители, как я, имели бесспорное алиби где-нибудь вдали от места покушения.
— В этом была ваша ошибка, — резюмировал фон Пиллад, аккуратно притушив сигарету в пепельнице. — Нельзя стоять в стороне. Задумывающие убийство должны быть подобны врачам, вид крови не должен вызывать у них содрогания.
Фон Пиллад имел право говорить так.
Сам он давно не боялся чужой крови, это кровь боялась его.
Стал рабби Исмаил ходить по небу и видит подобие жертвенника подле Престола Всевышнего. И спрашивает он Гавриила:
— Что это?
— Алтарь, — отвечает архангел.
— А какие жертвы приносятся на этом алтаре?
— Души праведников.
— А кто совершает жертвоприношения?
— Великий архангел Михаил!
Выписки из еврейской книги «Хаггада»Глава четвертая ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Репетиция проводилась прямо в бараке.
Хор состоял из изможденных и усталых от ожидания смерти людей и руководил ими известный Азефу человек — дирижер еврейского хора из музыкального городка Бухенвальда Гаррик Джагута. Гаррик Джагута стоял, ожидая, пока певцы лагерного хора разберут тексты. Все было, как обычно: теноры стояли на своем краю, баритоны занимали свое место, басы чистили легкие чуть позади, за нежными альтами, пению которых с удовольствием внимал сам Господь.
— Господа! Господа! — Гаррик нетерпеливо постучал палочкой по подобию дирижерского возвышения. — Начинаем!
— Пора бы уже! — хмуро буркнул руководивший лагерным оркестром рыжий вахмистр Бекст.
Был он грузен, мордаст и небрит. Форма вахмистра обтягивала его фигуру, делая ее похожей на защитного цвета грушу, поставленную на начищенные сапоги. Бекст с подозрительностью и нескрываемой злобой оглядывал хористов. По выражению лица вахмистра можно было понять, что давать певцам каких-либо послаблений Бекст не собирался.
Хористы выжидательно уставились на своего руководителя.
— С первой цифры, — нервно сказал Джагута, стараясь не смотреть в сторону вахмистра. — Прошу! — и взмахнул палочкой.
Воздайте Господу, сыны Божии, Воздайте Господу славу и честь…— Стоп, стоп, стоп! — Бекст рьяно ринулся в полосатые ряды небритой рыжей мордой, маленькими ржавыми от шнапса глазами высматривая нарушителя. — Ты сфальшивил сейчас, подлец!
Каждый сжался, надеясь, что обращаются не к нему.
— Ты сфальшивил! — Палец вахмистра обличающе уперся в нарушителя.
— Никак нет, господин вахмистр! — У отвечавшего певца был красивый и глубокий баритон, но сейчас он лепетал, как испуганный ребенок. — Я не фальшивил! Это не я!
— Я слышал, — со злорадством сказал Бекст. — Меня не проведешь, дерьмо! У меня абсолютный слух! Вон из рядов!
У вахмистра Бекста действительно был слух. Он прекрасно играл в компаниях на губной гармонике, но вот аккордеон ему не давался, возможно, он был излишне тяжел, а быть может, инструмент этот был создан совсем не для Бекста. Вахмистр терпеть не мог, когда над ним подсмеивались, сейчас он мстил хористу, как только может мелко и ничтожно мстить истинному таланту рядовая посредственность, которая обрела над талантом внезапную власть. Посредственность всегда полагает, что ничего сложного в мастерстве нет. Так, во время представления оперы Моцарта «Дон Жуан» в Париже один развязный молодой человек стал громко подпевать исполнителям, и это мешало зрителям. Один из них, не выдержав, громко воскликнул: «Вот бестия!» «Это вы мне?» — спросил молодой человек. «Нет, — сердечно сказал зритель. — Я имел в виду Моцарта, который мешает вас слушать». Вахмистр Бекст был из тех, кто бездарно подпевает, но требует восхищения своим призрачным мастерством. Губная гармошка — это, знаете ли, тоже инструмент! Кто знает, каким инструментом пользовался бы Моцарт, не случись у него рояля!
— Вон из рядов! — сказал вахмистр и с хищной нетерпеливостью потащил хориста за шиворот.
— Господин вахмистр! Клянусь, что это не я! — Певец чуть не плакал, и Азеф понимал причину его испуга. Изгнанный из хора, певец становился ненужным и отправлялся на штрафной двор.
Последняя и самая горькая неудача!
— Я сказал — вон! — загремел Бекст. — Вздумал надуть меня! Никогда ты не пел ни в какой опере, дерьмо! Ты — дерьмо! Повтори!
— Я никогда не пел в опере. Я никогда не пел в опере. Я — дерьмо, — забормотал хорист.
Вахмистр осклабился. В пустоте его бутылочных глаз загорелся живой огонек.
— Лжец! — сказал он.
— Лжец! — упавшим голосом согласился провинившийся хорист.
— И ты никогда не пел в опере?
— И я никогда не пел в опере, — безжизненным голосом повторил хорист.
Азеф узнал и его.
Господи, что делают с людьми люди!
Вчера еще многие считали бы за счастье внимать в тишине несущемуся со сцены божественному голосу Соломона Беная, которого пресса иной раз сравнивала с Батом Колом, падающим на землю с хрустальных небес. Истинно божественный голос был у этого оперного певца, Бат Кол, божественный глас, о котором упоминали в стольких рецензиях критики и за который певцу отплачивалось корзинами цветов и аплодисментами. Из-за него теряли разум и осторожность экзальтированные поклонницы, в его уборной устраивали скандалы люди света и полусвета. «Две черных розы я принес / и на немое изголовье / их положил, / и сколько слез / я пролил с нежностью любовной. / Но тьма нема…»
Тьма нема.
— Вон, негодяй! — с важной значительностью дорвавшейся до власти бездарности сказал вахмистр Бекст. — Ты ответишь за свой обман. Клянусь, не будь я Бекст, еще сегодня ты расплатишься за все свои гнусные поползновения! Уведите его!
Тьма нема…
— Господин вахмистр, — услышал Азеф и вдруг догадался, что это говорит он сам. — Он действительно талантливый оперный певец, я не раз слушал его в Вене.
Вахмистр побагровел, и щетина на его упрямом подбородке встала торчком.
— А это еще что за защитник? — зловеще сказал он и двинулся к Азефу. — Мне показалось, что здесь кто-то воняет? Ты, старик?
Он легко и брезгливо ударил Евно по щеке.
Азеф упал. Много ли нужно воздушному змею, прожившему жизнь, полную бурных ветров?
— Отведите это дерьмо на штрафняк! — сладостно приказал вахмистр конвоирам. Назначив себе жертву, вахмистр обрел душевное равновесие. — После репетиции я сам объясню ему, кто он такой и где его место! А ты, — он повернулся к Соломону Бенаю, — ты стань в строй! Возможно, ты еще сумеешь проблеять в такт остальным баранам!
Ему не довелось привести в исполнение свою угрозу Евно Азефу. Через несколько минут, когда растерянный хор еще собирался с силами, чтобы пропеть:
Воздайте Господу славу имени его; поклонитесь Господу в благолепном святилище его!и спеть это так, чтобы не вызвать недовольства привередливого небритого меломана в военной форме, в бараке появился разъяренный штурмфюрер фон Пиллад, ведя перед собой спотыкающегося Азефа. За ними шли растерянные конвоиры, опустив головы в рогатых касках. Карабины висели за их спинами.
Хор замер в страшных предчувствиях.
— Кто приказал отправить этого заключенного на штрафной двор? — спросил фон Пиллад. — Я спрашиваю, кто это сделал?
— Это сделал я, господин штурмфюрер, — признался вахмистр Бекст, но в голосе его звучала некоторая дерзкая усмешка, словно бы говорившая начальнику: «Ну я это сделал. Не нравится? А что ты. мне сделаешь? Я здесь для этих дохляков Бог и король, как бы это тебе ни претило, сопляк. Ты еще в пеленки ссался, а я уже за кайзера Вильгельма в бой ходил!»
Фердинанд Бекст действительно принимал участие в Первой мировой войне. Правда это было или нет, но Фердинанд в подпитии не раз рассказывал товарищам по команде, что он был в окопах вместе с будущим фюрером и даже, было дело, спас этого сосунка, когда французы на немецкие позиции танки пустили. Фердинанду не особо верили: «Ты, браток, пиво сквозь зубы соси да пальцы особо не разгибай с подсчетами своих услуг фюреру, вот и проживешь долго и счастливо, а то ведь смотри, кого гестапо берет, тот назад не возвращается, а тут и сажать никуда не придется, сунут в толпу кацетников, и тогда худей, Ферда, может быть, женщинам нравиться станешь. Если, конечно, до конца срока продержишься».
Но только очень может быть, что какая-то правда в словах Фердинанда была, потому что в гестапо его не забирали и даже в начале года прислали медаль «За храбрость». Не Железный крест, конечно, но все же, все же… В лагере Фердинанда Бекста уважали, оттого его порой и заносило.
Только на штурмфюрера это наглое признание Бекста особого внимания не произвело. Лишь кивнул головой, как бурш, которого на дуэль вызвали:
— Благодарю, солдат!
После чего без особой торопливости достал маленький пистолет «вальтер» и так же неторопливо прострелил наглому вахмистру его арийскую рыжую, но оттого не менее глупую башку.
Наклонившись над хрипящим вахмистром, фон Пиллад удовлетворенно кивнул, выпрямился и посмотрел на хористов, чей строй уже потерял свою стройность. На него со страхом смотрели серые лица лишенных будущего людей, фон Пиллад знал это лучше остальных. Все они гонялись за пылью, сердца ввели их в заблуждение, и никто из них не мог освободить души и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Фон Пиллад даже не стал говорить им, что он, и только он, является хозяином душ, живущих в лагере людей. Это было ясно и так.
— Начали! — приказал фон Пиллад Гаррику Джагуте. — С первой цифры! Ну!
Странной была реакция Берлина. Вроде убит был ариец, убит без следствия и суда, за подобные действия многие могли погонами поплатиться. Кого защищал штурмфюрер? Еврея махрового, да к тому же с явным коммунистическим душком! Такие вот нигилисты стреляли в принца Фердинанда перед Первой мировой войной! (История Евно Азефа в нужных пропорциях известна была обитателям лагеря и восторга среди обеих сторон не вызвала.) Руководство лагеря не сомневалось, что паршивый интеллигент, волею случая попавший в славные ряды СД, жестоко поплатится за свой неразумный поступок. Тем более что линия партии совершенно не менялась, и первые эшелоны с узниками., на одежде которых желтели кривые шестиконечные звезды, уже начали поступать со всей Европы. Говорили, что король Дании Христиан сочувственно относился к евреям и даже сам нашил на свою королевскую одежду шестиконечную звезду, а его примеру последовали многие подданные и даже, рискуя жизнью, переправляли жидов в нейтральную Швецию. Некоторые сомневались в том, что подобное могло произойти, другие говорили, что фюрер проявляет ненужную нерешительность, уж если датский королек поставил себя на одну степень с этими человекоподобными существами, то надо бы и его привезти в любой из германских лагерей превентивного заключения, а доктору Геббельсу подать все это в «Фолькише беобахтер» как пример истинного человеколюбия. Сказано же самими иудеями: «Розга и обличение дают мудрость».
Рейх должен был наказать фон Пиллада за смерть своего бойца. Однако в ответе из Берлина было сказано: «Оставить без последствий». Стало ясно, что СД обладает jus vitae ntcisque, вечным правом над жизнью и смертью.
И, следовательно, лучше этого было не обсуждать.
Недочеловек — это на первый взгляд полностью идентичное человеку создание природы с руками, ногами, своего рода мозгом, глазами и ртом. Но это совсем иное, ужасное создание. Это лишь подобие человека, с человекоподобными чертами лица, находящееся в духовном отношении гораздо ниже, чем зверь. В душах этих людей царит жестокий хаос- диких, необузданных страстей, неограниченное стремление к разрушению, примитивная зависть, самая неприкрытая подлость. Одним словом, недочеловек. Итак, не все то, что имеет человеческий облик, равно. Горе тому, кто забывает об этом.
Г. ГиммлерКто бы из евреев и славян, выживших в нацистских лагерях, не подписался бы под этими словами? Кто бы с ними был не согласен? Разве можно было назвать людьми тех, кто охранял концлагеря? Достаточно посмотреть на сохранившиеся пожелтевшие фотоснимки охранников, чтобы понять — Генрих Гиммлер был прав.
Глава пятая ЛИВАНСКИЙ КЕДР
Фюрер был в прекрасном настроении.
Гиммлеру даже показалось, что вождь мурлычет в усики модную в Берлине песенку из оперетки. Гитлер был в белом костюме, под пиджаком темнела коричневая рубашка. Галстук был подобран в тон рубашке. На лацкане пиджака желтел золотой значок члена НДСАП, на правом рукаве краснела повязка со свастикой.
— Доброе утро, Генрих, — первым сказал фюрер, и это было знаком расположения вождя. — Как спалось?
— Спасибо, хорошо, мой фюрер. — Гиммлер старался быть лаконичным. — Мне кажется, у вас сегодня хорошее настроение?
— Прекрасное, Генрих, прекрасное! — с улыбкой поправил рейхсфюрера Гитлер. Губы вождя раздвинулись в улыбке, чуть приподнимая щеточку черных усиков. — Я понял, что вы с утренним докладом? Боже мой, до чего надоели государственные дела! Вы не представляете, Генрих, как хочется отбросить в сторону все заботы, уехать в Бертесгаден, побродить по лесу, полюбоваться красотой, которую нам дает мир…
Он подозрительно посмотрел на рейхсфюрера.
— Конечно, — сказал он. — Вы, подобно Герингу, не можете бродить по лесу без охотничьего ружья. Говорят, что он в своем поместье охотится на ручных оленей?
Герман Геринг был страстным охотником. В своем восточном поместье, среди столетних дубовых рощ, он действительно держал ручных оленей. Иногда Боров, как называли рейхсмаршала в окружении рейхсфюрера, мнил себя древним тевтоном, надевал тунику и охотился со специально изготовленным для того луком на доверчивых и привыкших брать хлеб из рук животных. Несколько раз Гиммлер докладывал фюреру о художествах партийного товарища, об излишествах, которыми он окружил себя в «Каринхалле», о коллекции картин, которые он начал собирать из имущества репрессированных евреев. Реакция фюрера была неожиданной.
— Не трогайте Германа, — сказал фюрер. — Вы ведь понимаете, Генрих, он лицо нашей партии. Замок Геринга принадлежит народу, как и все то, что находится в нем. Лицо нашей партии должно быть улыбчивым!
Рейхсфюрер понял, что позиции Геринга по-прежнему сильны, а потому избегал в разговорах с вождем обсуждать поведение его любимца. Кумиром Адольфа Гитлера был советский вождь Сталин, фюрер любил его и ненавидел, он преклонялся перед русским диктатором, он вспоминал о нем ежедневно и ежечасно, особенно сейчас, когда в далекой России шли судебные процессы по делам политических противников Иосифа Сталина. Копируя русского вождя, фюрер уделял большое внимание авиации, естественно, что летчики были его любимцами и первыми из них были герои прошедшей войны — Геринг и Рихтсгофен.
— Но я вами недоволен, Генрих, — с ласковой улыбкой, показывающей на притворство, сказал фюрер. — Скажите, зачем вашей службе ливанский кедр?
Вопрос ошеломил рейхсфюрера. Он не знал, что ему ответить на него. Сказать, что ты осведомлен? А вдруг все сказанное будет простой дружеской подначкой, Гитлер не любил сальности или двусмысленности, но обожал розыгрыши, все сказанное им, возможно, предназначалось только для того, чтобы полюбоваться замешательством на лице начальника тайной полиции, этой святой инквизиции великого рейха. Нельзя было сказать и то, что ты ничего не знаешь, ведь обязанностью начальника тайных служб как раз и является знание всего того, что делается в государстве. Что же можно сказать о том, кто ничего не знает о делах своей собственной службы. Надо было отвечать, и Гиммлер выбрал путь осторожности.
— Ливанский кедр? — улыбнулся рейхсфюрер.
— Именно. — Гитлер наслаждался видимым недоумением Гиммлера. — Сегодня утром у меня были Риббентроп и граф Чиано. Граф любезно сообщил, что дуче выполнил просьбу вашего Эйхмана. Три кубометра прекрасного ливанского кедра отправлены в Берген-Бельзен.
— Эйхман — хороший организатор, — осторожно сказал Гиммлер. — Я выясню и доложу, мой фюрер. Я не думаю, что Эйхман решит тратить государственные деньги на пустяки.
— Полно, Генрих! — Фюрер был доволен своей маленькой победой: он поставил в тупик своего министра-всезнайку. — Ты мне лучше скажи, как решается еврейский вопрос?
Адольф Гитлер был убежден, что среди евреев были и порядочные люди, но он был убежден, что число их крайне мало, в основном евреи не сознают деструктивного характера своего бытия. Но тот, кто разрушает жизнь, считал Гитлер, обрекает себя на смерть, и ничего другого с ним не может случиться. Однажды, в застольной беседе, он сказал Гиммлеру: «Мы не знаем, почему так заведено, что еврей губит народы. Может быть, своей разрушительной деятельностью он стимулирует активность других народов? Порой евреи не кажутся мне людьми, они кажутся мне бациллами, которые проникают в тело и парализуют его».
Рейхсфюрер был полностью согласен с ним. Да, мой фюрер, это унтерменьши, имеющие человеческий облик, они лишены арийского величия и не могут претендовать на какую-нибудь значимую роль на земле. Рейхсфюрер СС имел маленькую птицеферму, на которой бывал в редкое свободное время. Для того чтобы птицы росли здоровыми, требовалось постоянно вести выбраковку больных и уродливых птиц. Чтобы росло здоровым человечество, необходимо было постоянно заниматься селекцией человеческого рода, безжалостно уничтожая унтерменьшей. Если не делать этого, унтерменьши погубят человечество, как это уже не раз бывало в истории.
Открыв папку, он приготовился к докладу.
— Не надо, — сказал Гитлер, отметая саму возможность доклада рукой. — Не надо цифр, мой дорогой педантичный друг! Я знаю, как ты у нас любишь цифры! Как себя чувствует Гудрун? Я слышал, твоя дочка болела?
— Кризис позади. — Рейхсфюрер закрыл папку и снял пенсне. — Рождество мы встречали вместе. Если бы вы знати, как была рада жена, что в эти дни мы были вместе! Что касается евреев, мой фюрер, можете быть уверены, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы в Европе этот вопрос был решен навсегда! Из Германии выехали лишь те евреи, которые доказали, что могут выехать. Но далеко ли они уехали, мой фюрер! Вы же знаете, что еврей всегда держится близ мутной воды, в ней удачливее ловить рыбку. Придет время, и мы будем ввозить их обратно, но не для того, чтобы они заводили у нас свои экономические порядки!
— Знаете, Генрих, я подумал, а стоит ли ввозить их в рейх? Может быть, нужно решать вопрос прямо на месте? С польскими евреями надо решать вопрос в Польше, с венгерскими — в Венгрии. Вы ведь знаете, как чувствителен и сентиментален немецкий обыватель, ему может не понравиться происходящее. Зачем ранить душу немецкого бюргера? Пусть евреи идут в небеса с родной земли, где они верили в рай и ад.
Гиммлер сделал торопливую пометку в блокноте.
— Я понял вашу мысль, мой фюрер!
— Я знал лишь одного порядочного еврея, — задумчиво заметил Гитлер, наливая в стакан висбаденскую минеральную воду. — И о том мне известно со слов Дитриха Эккарта.
— И кого он считает порядочным евреем? — удивился Гиммлер.
— Отто Вейнингера, — сказал фюрер, принимаясь мелкими глотками пить воду. — Закончив книгу «Пол и характер», он осознал, что еврей живет за счет других наций, и покончил с собой.
— Да, это мужественный поступок, — согласился Гиммлер. — Я думаю, что он правильно поступил, избавив моих людей от излишней работы.
Кстати, о людях! Я познакомился с чешской уголовной полицией. Великолепный человеческий материал! Таким место в СС, мой фюрер!
— Гитлер вновь наполнил стакан. Казалось, он пропустил слова своего начальника тайной полиции мимо ушей.
— Странно, — сказал он. — Меня с утра мучит жажда. А насчет Вейнингера… Знаешь, Генрих, я давно пришел к выводу, что не следует так уж высоко ценить жизнь каждого живого существа. Если эта жизнь необходима природе, она не погибнет. Муха откладывает миллионы яиц. Все ее личинки гибнут, но — мухи остаются. С людьми происходит то же самое, и я согласен с Дарвином — в природе выживают сильнейшие особи. Евреи — слабы духом, их кровь уже не может родить субстанции, из которой родится мысль. Следовательно, они тормозят развитие более сильной нации.
— Вы совершенно правы, — вежливо сказал Гиммлер.
Выждав, он осторожно осведомился: — Я вам еще необходим, мой фюрер?
Фюрер поднялся, мягко прошелся по комнате, сжав пальцы рук перед собой. Постояв у окна, он с доброй улыбкой повернулся к Гиммлеру.
— О делах в рейхе мне доложит Гесс, — сказал Гитлер. — Можете заниматься своими делами, Генрих. Я еще должен выгулять Мека и Блонди. Удивительные собаки, Генрих, они признают только меня, своего хозяина. И еще, пожалуй, Еву…
Гиммлер поднялся.
— Неудивительно, что Мек признает именно вас, мой фюрер, — сказал он. — Хозяином вас признает вся Германия. Придет время, и признает весь остальной мир.
Гитлер засмеялся и поставил на стол пустой стакан.
— Идите, Генрих, идите, — сказал он, весело ухмыляясь. — = У рейхсфюрера СС очень много работы, а лизнуть меня в зад найдется много и менее занятых людей.
На Принцальбрехтштрассе дорога была перекрыта, велись подземные работы. Рейхсфюрер СС нетерпеливо заерзал по коже сиденья, с досадой человека, не привыкшего тратить время даром, он подумал, что было бы очень хорошо, если бы соответствующие службы придумали телефон, который можно было бы устанавливать прямо в машине. Тогда можно было бы спокойно поднять трубку и попросить фройляйн телефонистку соединить рейхсфюрера с оберштурмбан-фюрером СС Эйхманом, чтобы выяснить, для каких нужд ему понадобился ливанский кедр, да еще так срочно, что он лично обратился в итальянское посольство к дипломату и родственнику дуче графу Чиано.
Важно всегда иметь перед собой конечную цель. Вы должны быть особенно упорными в достижении своей цели. Тем более гибкими могут быть ваши методы достижения этой цели. Выбор методов предоставляется на усмотрение каждого из вас, если нет общих подходящих указаний в форме директив.
Упорство в достижении целей, максимальная гибкость в выборе методов. Поэтому вы не должны быть особенно строгими к ошибкам ваших подчиненных, а должны постоянно направлять их на путь достижения цели…
Ставьте себе высокие, кажущиеся даже недостижимыми цели, с тем чтобы фактически достигнутое всегда казалось частичным. Никогда не пресыщайтесь достигнутым, а всегда оставайтесь революционерами.
«Двадцать заповедей поведения немцев на Востоке». Директива от 1 июня 1941 годаГлава шестая НАЧИНКА ДЛЯ ГОЛГОФЫ
Он был худ, рыжеволос и бородат.
В редкие свободные минуты он углублялся в себя, думал о чем-то и улыбался своим мыслям. Даже придирки конвоиров, которые после гибели вахмистра Бекста были более сдержанными в своих поступках и желаниях, даже их злые окрики не могли вывести этого странного человека из состояния внутреннего равновесия. Спокойствие и сдержанность — вот стороны монеты, которую он постоянно держал в кармане своей души.
Азеф наблюдал за ним со стороны.
Человеку было немногим более тридцати, он не отличался особой властностью, но, странное дело, люди прислушивались к его спокойному негромкому голосу, когда вечерами он начинал говорить, в бараке, где беспокойными волнами ходил людской гомон, наступала внимательная тишина.
— Сказано было, — сказал этот странный человек, присаживаясь среди других и нервно потирая длинные сухие пальцы, которые, казалось, жили отдельной самостоятельной жизнью, — остерегайтесь людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас и поведут вас к правителям и царям…
— Не в судилища они нас отдают! — зло сказал невысокий черноволосый крепыш, ртутно-подвижный, он не мог оставаться на месте и все мерил пространство от грубых нар со скудными человеческими пожитками до зарешеченного окна, из которого влажными глазами звезд смотрели тоскливые небеса. — Они нас без суда и следствия убивают, детей, сволочи, не щадят. Нужны мы их правителям, как же! Слышали, что они поют? Сегодня им принадлежит Германия, завтра будет принадлежать весь мир!
Чем покорнее мы ждем смерти, тем быстрее она нас настигнет и тем злее будет. Подставь им щеку, они тебе голову снесут!
Рыжеволосый человек поднял на него внимательный взгляд.
— Успокойся, Андрей, — сказал он. — Это предопределено, люди уходят, а народ пребывает в вечности.
— А я не хочу уходить! Не время еще уходить, — возразил крепыш. — И потом, если уходят люди, не значит ли это, что скудеет народ, который эти люди составляют? Что останется от народа, если станут сжигать на кострах его представителей?
— В нашей ситуации можно сделать лишь одно, — мягко возразил собеседник. — Мы должны молиться и верить в небесную справедливость.
— Мы должны запасаться ножами и заточками, — возразил черноволосый противник непротивления злу. — Если каждый из нас унесет с собой жизнь врага, то наступит время, когда и им будет несладко. А главное — надо думать, как бежать отсюда!
Азеф подмечал многое. Андрей Дитрикс и Симон Ленц, евреи из Мюнхена, сделали нечто вроде заточенных пик и самодельное оружие свое прятали в тайнике, сделанном в туалете. Левий Бенцион использовал время для изучения территории лагеря и прикидывал, нельзя ли сделать подкоп для побега. Иаков Алферн собирался умереть не в одиночку, он надеялся прихватить с собой в ад кого-нибудь из немцев, все равно кого, лишь бы оказался поближе к нему в день казни.
Азеф добросовестно докладывал фон Пилладу о своих наблюдениях. К его удивлению, фон Пиллада не интересовало оружие, подкопу и мыслям о побеге он вообще не уделил внимания, как и желанию Алферна уйти из жизни не одному. Более внимательно он выслушивал то, что Азеф рассказывал о проповеднике из барака. Он заставлял Евно вспоминать детали, дословно воспроизводить сказанное и даже записывал все это на странный громоздкий аппарат с двумя катушками, на которых вращалась тонкая коричневая лента.
— Странно, — сказал Азеф, когда они в очередной раз закончили свою работу. — Вы обращаете внимание на смиренного дурака и совсем не опасаетесь тех, кто может представить реальную угрозу.
Фон Пиллад засмеялся, убирая в шкаф свой громоздкий записывающий агрегат.
— В этом мы не одиноки, — сказал он. — Нам есть с кого брать пример!
Он наклонился за столом, роясь в его тумбе, и выпрямился,‘держа в руках человеческий череп.
— Знаешь, чей это череп?
Азеф равнодушно посмотрел на человеческий череп в руках штурмфюрера. Когда-то высокая лобная кость черепа скрывала человеческий мозг, в котором бушевали страсти, любовные устремления и ненависть, радости, боли и несомненные обиды. Обиды прошли. Осталась бело-розовая, еще не пожелтевшая от времени кость, темные впадины на месте бывших глаз сохраняли укоризненное выражение, отсутствующий нос навевал мысли о люэсе, а испорченные зубы черепа напоминали о том, что человек жил бурной жизнью, полной излишеств и столкновений.
— А какая разница? — спросил он.
— Действительно. — Фон Пиллад аккуратно поставил череп на стол.
Сев на свой стул, он некоторое время вглядывался в пустые глазницы.
— Разницы нет, но я скажу, что этот человек был первым посетителем нашего исправительно-трудового лагеря. Его звали Адам Лейбович, не знал такого?
— Не знал, — сказал Азеф. — А вы коллекционируете черепа?
— Разве я похож на некрофила? — удивился фон Пиллад. — Нет, я не собираю черепов, но этому… Этому предстоит особенная судьба. Ведь он некто вроде прародителя.
Азеф поднял глаза на немца.
— Ты знаешь, Раскин, у человечества особое отношение к черепам, — сказал фон Пиллад. — Кажется, это у
вас в России из черепов побежденных князей делали чаши для вина? Украшали их золотом и драгоценными камнями, и это считалось… как это будет по-русски?
— Откуда мне знать? — Огонек интереса в глазах Азефа вновь погас. — Мне не доводилось пить из черепов.
Фон Пиллад погрозил пальцем.
— Раскин умаляет себя, — сказал он. — Конечно, ты не русский князь, но и в жизни Азефа были торжественные дни.
Азеф покачал головой.
— А вы знаете, что в свое время могилу Николая Васильевича Гоголя разрыли для того, чтобы забрать его череп? — криво улыбаясь, спросил он.
— Гоголь? — Немец недоуменно вздернул глаза. — Я не понял. Гоголь есть русская птица, так?
— Это для вас Гоголь — птица, — вздохнул Азеф. — А для тех, кто жил в России, Гоголь — великий русский писатель.
— О-о, Гоголь! — Немец радостно закивал головой. — Нотш перед Рождеством! Да, я знаю, знаю, доцент Беккер рассказывал нам об этом мистическом авторе России. Но он умер давно?
— Да. — Азеф жадно смотрел в окно. — Господин шар-фюрер, для чего вы заставили меня работать на вас? Неужели для того, чтобы я рассказывал вам о мелких грехах заключенных, которых вы вскоре ликвидируете?
— Ты — молодец, — сообщил штурмфюрер. — Ты смотришь в корень, Раскин. А у тебя не возникает мыслей по поводу того, для чего ты нужен? В конце концов, не из-за каждого расстреливают без суда и следствия немецкого солдата, вся вина которого заключалась в том, что он дал волю чувствам!
— Я теряюсь в догадках, господин штурмфюрер, — сказал Азеф.
— Прекрасно! — воскликнул фон Пиллад. — Догадки позволяют совершенствовать свой разум. Хотя современная наука не считает еврея мыслящим существом, мне кажется, что на тебя наложила свой отпечаток Россия.
Продолжай ломать голову дальше. В мире нет ничего необъяснимого, он материален, а потому рано или поздно, но все разъяснится. Мне хочется, чтобы ты нашел ответ сам. Твой выбор должен быть осознанным. Скажи, Раскин, какое качество своей натуры ты считаешь основополагающим? Какой краеугольный камень заложен в основание твоей души?
Хороший вопрос задал штурмфюрер.
Что было главным в характере Азефа? Природная изворотливость?
Ненависть к той и другой стороне человека, стоящего на терминаторе — сумеречной полоске между добром и злом? Удивительное дело, но понятия добра и зла менялись в зависимости от взгляда, которого придерживалась исповедующая эти понятия сторона. Проповедуя терроризм, эсэры резко выступали против применения смертной казни к пойманным революционерам. Царские сатрапы, проводя подлую политику в отношении своего народа, были против того, чтобы народ в них за это стрелял и метал бомбы. Человек, оказавшийся в терминаторе, противостоял и тем, и другим. Проводя теракты, он мстил одной стороне, выдавая участников терактов, поступал не менее справедливо по отношению к другой. Может быть, главным была именно обособленность позиции? Или главным было то, что он относился к происходящему, как к игре? По сути своей человеческая жизнь напоминает театр, в котором каждый играет предопределенную ему роль. Понятия этики и морали условны, они зависят от ценностей, которым поклоняется общество. Именно поэтому Азеф не воспринимал тех, кто считал стыд вечной категорией, существующей в мире независимо от природы. Мир блефовал, у него на руках была слабая карта. Почему должен был открывать карты Азеф?
— Я не задумывался об этом, — сказал Евно. — Мир был жесток, и я просто пытался в нем выжить.
— И это тебе едва не удалось, — без усмешки сказал немец. — Старайся, Раскин, у тебя еще остается шанс умереть от старости.
Он посидел, постукивая сухими длинными пальцами с ухоженными ногтями по черепной кости.
— Как там у Шекспира? — спросил он. — Бедный Йорик… Когда-то он носил меня на своих плечах…
— Довольно вольное переложение Шекспира, — криво усмехнулся Евно Азеф.
— Дело не в словах этого англосакса, — отмахнулся штурмфюрер. — Придумать Гамлету монолог можно было бы и помудрее. Древние источники говорят, что Голгофа скрывает в своих недрах череп первого человека — Адама Кадмона. Христианский Бог принял страдание там, где был зарыт первородный грех. Тебе не кажется, что Бог слишком склонен к эффектам?
Но если мы это прощаем Ему, то почему не быть немножечко позером человеку, ведь это простительно, человек — всего лишь плохая копия своего всемогущего создателя. Верно?
— Не знаю, — сказал Азеф. — Я не успеваю бежать за вашей мыслью, господин штурмфюрер! Философия — плохое занятие для голодного человека, еще опыт Греции и Рима учит нас, что философствовать хорошо на полный желудок, философствовать натощак — просто опасно.
— Да, да, — согласно кивнул фон Пиллад. — Я сам должен был подумать об этом. Сейчас тебе принесут поесть.
Он позвонил.
Высокий темнолицый и оттого кажущийся хмурым рядовой эсэсовец выслушал приказ штурмфюрера и принес судки, в которых еще дымились горячие блюда. Азеф с некоторой опаской принялся за еду. После каждой ложки супа он застывал и прислушивался к своему организму, который на внезапную сытость мог отреагировать своеобразно.
Однако обошлось.
— Знаешь, Раскин, — сказал штурмфюрер, с брезгливым любопытством наблюдавший за тем, как жадно поглощает еду Азеф. — Меня всегда поражало лицемерие христианских художников. Если они рисовали путь на Голгофу, то Иисус Христос у них всегда сгибается под тяжестью креста. А ведь в Евангелии точно указывается, что крест нес Симон Киренеянин. И Матфей пишет о том, и Марк… Зачем же лицемерить, тем более что висеть на кресте под жарким пустынным солнцем не самое сладкое занятие?!
— Не знаю, — устало сказал Азеф. Закончив поглощать пищу, он сразу осоловел. Мысли его стали ленивыми и тягучими, сейчас даже неожиданная угроза смерти не могла бы встряхнуть достаточным образом душу, уставшую от внезапно навалившейся сытости.
— А вы говорили, что философствовать хорошо на полный желудок, — несколько разочарованно сказал штурмфюрер фон Пиллад. — Ладно, Раскин, иди в барак и попытайся подумать над тем, что я тебе сказал сегодня.
— Над чем именно? — поинтересовался Азеф. — Над лицемерием художников? Над монологом Гамлета? Или о фундаменте, на котором стоит человеческая душа?
Штурмфюрер внимательно посмотрел на него.
— Я вижу, что сытость — это обязательное условие для сарказма, — сказал он. — Но в твоей ситуации он неуместен.
Подумай над тем, что скрывают толщи Голгофы. Суть пирога именно в начинке, Раскин. Именно в начинке.
Мученичество Богочеловека и искупление мира через Его кровь было существенной частью многих религий. Восточно-индийский эквивалент Христа — это бессмертный Кришна, который, сидя в лесу, играет на флейте и чарует своей музыкой зверей и птиц. Считается, что этот боговдохновенный Спаситель человечества был распят на дереве его врагами, но при этом были приняты все меры для того, чтобы скрыть произошедшее. Материальная смертная плоть Спасителя исчезла, обретая небесное жилище, и дерево, на котором висело тело, вдруг покрылось красными цветами, распространяющими тончайший аромат. По другой версии Кришна был привязан к крестообразному, дереву и только после этого убит стрелами.
В книге Мура «Индусский пантеон» есть картина, на которой изображен Кришна, руки и ноги которого пронзены гвоздями.
На знаменах римских легионов, оккупировавших Малую Азию, были изображения распятого на кресте человека.
История тайных учений, том 2Глава седьмая СПАСЕНИЕ ПО ЭЙХМАМУ
Гиммлер любил размышлять, сидя в уютном кожаном, слегка продавленном кресле. Он стеснялся своей слабости, которая заключалась в мещанской тяге к уюту. Рейхсфюрер СС не должен был показывать человеческих слабостей. Вождь новых людей, в которых фюрер оживил арийского зверя, он должен был держаться, как и полагается вожаку стаи, — высокомерно и немного обособленно.
Обычно он встречал посетителей в своем аскетично обставленном кабинете и, поблескивая пенсне, буравил человека немигающим пристальным взглядом, который, как Гиммлеру казалось, проникал в самые глубины человеческого сознания, порождая в человеке страх и ощущение личной неполноценности. Редко он был в штатском, черный мундир с серебряным шитьем совершенно не стеснял его, более того, он давал рейхсфюреру чувство превосходства над человеком. Иной выделяется из общей массы живущих незаурядной физической силой. Как Макс Шмеллинг, например. Другой — своей хитрожопостью и изворотливостью, как Йозеф Геббельс. Третьих, как Германа Геринга, над человеческим стадом поднимают связи и слава, добытая в юности. И только редкий человек поднимается к вершинам власти силой своего духа и ума. К таковым Гиммлер относил фюрера, таким отчасти считал итальянского дуче, но прежде всего относил себя.
Властвуя над черным орденом, сосредоточив в своих руках тайные пружины власти, Генрих знал маленькие стыдные тайны сподвижников, и знание этих тайн поднимало его в собственных глазах. Часто так бывает, что слабости одних делают сильными других.
Адольф Эйхман был слабым именно потому, что рейхсфюрер знал про него все. Тех подчиненных, в чьей душе жила тайна, рейхсфюрер боялся и старался удалить из своего окружения. Как он это сделал с чересчур интеллигентным Гейдрихом, который был слишком умен, чтобы постоянно оставаться в тени. Рано или поздно такие люди сами начинают отбрасывать тень, и, если не принять мер, может вполне наступить тот день, когда ты сам окажешься в тени, отбрасываемой более сильным. Поэтому самым главным было вовремя отобрать у человека тень, как это было проделано с Петером Шлемилем. Гиммлер любил эту романтическую историю и даже читал ее своей любимой дочери Гудрун. Дочь сильного человека должна с детства знать, где живут истоки человеческой силы и могущества.
Адольфа Эйхмана Гиммлер никогда не опасался. Эйхман был умен, но недостаточно умен, чтобы достичь всемогущества. Эйхман был отличным организатором, порой он напоминал Гиммлеру инженера с завода Густава Круп-па, который мог одинаково умело организовать приготовление стали или отливку из этой стали заготовок для' пушечных стволов.
И вот эта история с ливанским кедром. Рейхсфюрер не понимал того, что делает его подчиненный, а это всегда порождает настороженность и недоверие к человеку.
— Итак, Адольф, — сказал Гиммлер, еще уютнее умащиваясь в продавленном кресле, — я жду объяснений. Чего ради вы решили обратиться к союзникам? А главное, для каких целей вам понадобился ливанский кедр?
Рейхсфюрер напрасно опасался. Адольф Эйхман был продуктом эпохи. Он любил фюрера, старался быть полезным рейху, а потому каждое указание воспринимал как личный приказ ему, Эйхману. Исполнительность, точность и аккуратность — вот девиз Эйхмана, и он скорпулезно, как всякий истинный немец, следовал ему.
Недоумение рейхсфюрера угнетало Эйхмана, в расчетливой покорности своей он полагал, что Гиммлер сердится, а гнев начальства всегда чреват неприятностями.
Эйхман не хотел неприятностей, а потому он начал путано излагать задуманное. Рейхсфюрер слушал его, высоко заломив реденькую бровь, и в глазах у рейхсфюрера было удивление. Видно было, что Гиммлер не понимает его. Это пугало Эйхмана, и в глубине его исполнительной души росло удивление: выходит, и великие мира сего не всегда могут ухватить и понять то, что лежит на поверхности?
«Евреи жаждут спасения, — рассуждал Эйхман. — И в вере они опираются на Бога Израилева, который, как кажется евреям, не бросит их в беде. Иначе чем объяснить, что многие из них остались жить там, где их перестали считать людьми? А раз так, — считал Эйхман, — то не худо было бы повторить обряд спасения. Ведь лучше всего спасаться, как ни крути, на небесах. Там ты у Бога под боком, он знает, как тебя от бед уберечь. Следовательно, — рассуждал Эйхман, — это только кажется, что национал-социалисты уничтожают, на самом деле они их для Судного дня и проживания в Граде Небесном сберегают. Дай им долгой жизни, они ведь нагрешить могут, а грешники в Град Небесный не попадут.
Фюрер был прав, в преддверии затеянного Армагеддона евреям, как богоизбранному народу, лучше было быть подле Бога, чтобы он за ними уследить мог».
Поэтому Эйхман и старался.
С организационной точки зрения задача была архисложной. Вы только попробуйте перевезти всех евреев с оккупированных к тому времени территорий в концентрационные лагеря и при этом так, чтобы не особо мешать государственным перевозкам, найти вагоны, завезти необходимое количество боеприпасов, обеспечить работников, способных без душевных терзаний и нервных расстройств осуществить переселение такого количества евреев в мир иной и, несомненно, более пригодный для компактного проживания семитов. А ведь к этому надо было еще организовать надежную охрану лагерей, обеспечить эти лагеря минимальным количеством продуктов, ведь люди были не боги, они. не могли решить еврейский вопрос в один день. И это тоже надо было иметь в виду. Не зря ведь организаторские способности Эйхмана были высоко оценены германскими вождями, а впоследствии и израильским трибуналом.
В своих воспоминаниях кто-то рассказывал, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер однажды, качая головой, горестно заметил, что фюрер не прав, приказав решить еврейский вопрос в ближайшее время.
— Да, — осторожно заметили ему. — Борьба с евреями в Германии и их уничтожение были ошибкой.
— Ошибкой? — удивленно спросил Гиммлер, льдисто глядя на собеседника через стеклышки своего пенсне. — Кто я такой, чтобы обсуждать великие замыслы нашего фюрера? Я говорю о грандиозности поставленной перед нами задачи! Невозможно в такое короткое время уничтожить такое количество людей! Физически невозможно.
Но, как мы уже отметили, каждый понимает поставленные перед ним задачи по-своему. Эйхман считал, что он действует во спасение. Он твердо верил в то, что не уничтожает евреев Европы, а переселяет их в места, более близкие Богу.
В силу этой причины он считал необходимым повторить обряд очищения человечества божественной жертвой. Кто-то должен был взойти ради этого на Крест.
На роль Спасителя Эйхман избрал католического священника мемзера Ицхака Назри. Откровенно говоря, не последнюю роль в выборе Эйхмана сыграла фамилия священника, который к тому же отличался праведностью, красноречием и пользовался в силу своей рассудительности уважением прихожан.
Ицхак Назри был арестован гестапо и доставлен в концентрационный лагерь Берген-Бельзен. Теперь следовало подобрать ему необходимых апостолов. По мнению Эйхмана, апостолы должны были соответствовать типажам, радостная весть о которых дошла до XX века.
— Зачем вам нужен этот театр, — поморщился Гиммлер, выслушав Эйхмана. Выслушав и поняв подчиненного, он наконец расслабился. — Не понимаю. Если устали, прокатитесь в Бабельсберг. Геббельс всегда отдыхает там, когда устает от работы. Только не трогайте жену Макса Шмеллинга, все-таки чемпион мира по боксу!
Эйхман настаивал.
Гиммлер некоторое время смотрел на него.
— Зигмунд Фрейд сказал бы, что из вас так и прет мужское начало, — наконец заметил рейхсфюрер. — Крест — своего рода фаллический символ, вам мало стереть еврейский народ с лица земли, вам обязательно хочется напялить его на х…!
— Я говорил о спасении их душ, — возразил Эйхман.
— Не надо, — поморщился рейхсфюрер. — Вот этого не надо. Национал-социализм — это прежде всего сопротивление гнилым христианским догмам, которые лишают мир борьбы и тем высасывают из него все жизненные соки. Лучше уж скажите, что вам хочется позабавиться, Эйхман! Что ж, я не возражаю. Своим великим трудом на рейх вы заслужили это право.
Генрих Гиммлер был человеком интеллигентным и получил достаточное образование. Он прекрасно понимал, что человечество проживает не на внутренней поверхности земного шара и Млечный Путь не отделен от Земли коркой вечного льда. Однако в теории об Ариях было нечто безумное и героичное, и Генрих Гиммлер оставлял за человеком право верить в то, во что ему хотелось бы верить. Сам он воспитывался в глубоковерующей семье и, взбунтовавшись против отца, оставил церковь, но открыто порвать с ней решился только после смерти родителя. Борьба против деспотичных установок отца настроила Генриха Гиммлера на терпимое отношение к другим.
Если доктор Гербигер в свое время хотел видеть себя пророком и последним физиком Земли, то почему бы ему не позволить эту причуду, этому бородатому любимцу фюрера, немного похожему на Бога с живописных полотен средневековых художников? Гербигер имел на то право.
Да и сам Гиммлер с удовольствием отдал дань искрометной и заманчивой игре в Средневековье, когда приказал построить в Вевельсбурге замок для истинных властителей Земли, замок, в котором двенадцать группенфюреров восседают вокруг стола, рука об руку с рейхсфюрером, этакие рыцари Круглого стола Камелота. В замке было предусмотрено все для удобства повелителей, даже предусмотрен погребальный зал с маленьким крематорием, в котором предполагалось сжечь тело умершего группенфюрера после прощания с павшим товарищем тех, кто еще живет. Гиммлер всегда с большим удовольствием вспоминал свою маленькую романтическую задумку и даже дважды посылал экспедиции в Малую Азию и Египет, чтобы найти Грааль и украсить им стол Властителей. Игра, но романтическая и чертовски привлекательная игра! Можно ли было упрекать за это рейхсфюрера?
Никто же не осуждает толстого Германа, который в своем замке, расположенном в окрестностях Кёнигсберга, переодевается в белое одеяние римского патриция и из лука стреляет ручных оленей, которых специально прикармливают для него егеря.
У каждого есть свой пунктик. Гесс обожал порнографические журналы, с помощью которых давал волю своему воображению. Геббельс, напротив, увлекался актрисочками. Юлиус Штрейхер обожал молоденьких мальчиков, и рейхсфюрер знал, как ночью этому грязному животному, которого он не уважал, но в котором нуждался рейх, привозили молоденьких симпатичных еврейчиков. Но никто ведь не обвинял его в осквернении арийской крови!
Но если каждый человек имеет свой пунктик, то почему бы его не иметь исполнительному и добросовестному Эйх-ману, не раз доказавшему делом свою полезность рейху?
Гиммлер был прагматиком. Он великолепно понимал, что любого рода сублимация прежде всего способствует адаптации человеческого организма в непривычных условиях. Если человек организовывает смерть, ему лучше всего отождествлять себя с нею. Ничего страшного не было в том, что Эйхман присваивал себе божественные функции, это не страшно, воображая себя демиургом мира, Эйхман не претендовал на роль его властителя.
— Значит, ливанский кедр? — усмехнулся рейхсфюрер.
— Конечно же, кедр, господин рейхсфюрер. — Адольф Эйхман крепко сжал ладони, и на губах его появилась фанатичная складка. — Обязательно кедр!
«В нынешней исторической схватке каждый еврей является нашим врагом независимо от того, прозябает ли он в гетто, влачит ли существование в Берлине и Гамбурге или призывает к войне в Нью-Йорке. Разве евреи тоже люди? Тогда то же самое можно сказать и о грабителях, об убийцах, о растлителях детей, сутенерах. Евреи — паразитирующая раса, произрастающая, как гнилостная плесень, на культуре здоровых народов. Против нее существует только одно средство — отсечь ее и выбросить. Уместна только не знающая жалости холодная жестокость! То, что еврей еще живет среди нас, не служит доказательством, что он также относится к нам. Точно так же блоха не становится домашним животным только оттого, что живет в доме».
Йозеф ГеббельсГлава восьмая ХВАЛА И ХУЛА
Фон Пиллад странным образом все больше привязывался к уродливому седоволосому человеку, с которым его однажды связали чужие фантазии. Возникает зачастую тайная и непонятная связь между доносчиком и оперативным работником, получающим эти доносы. Связь эта никем не изучена, но она существует, тайная, почти родственная нить, заставляющая оперативника не только выслушивать постоянные жалобы своего осведомителя, но и оказывать тому посильную помощь в их разрешении.
Фон Пиллад пытался внушить себе, что не должен ничего чувствовать к этому опустившемуся, пропахшему бараком и смертью человеку, ничего, кроме презрения. Однако тоненькие ростки неведомо откуда взявшегося сочувствия прорастали в душе штурмфюрера. Было непонятно, являются ли они следствием интеллигентности фон Пиллада или же сочувствие это рождено общением в те короткие часы, когда Евно Азеф неторопливо писал свои сообщения на чистых листах канцелярской бумаги, и позже — во время бесед, которыми фон Пиллад оттачивал свой мозг и рождающиеся в нем формулировки.
— Вы напрасно брезгуете мной, — сказал Евно Азеф. — Доносчик внешне отвратителен, но вместе с тем он крайне полезен государству. Представьте себе, что вы служите в криминальной полиции, а я сообщаю вам о человеке, который имеет запасы морфия, которым он активно торгует и тем калечит человеческие души. Преступник в тюрьме, вы получаете благосклонность начальства, но что получает доносчик? Он по-прежнему окружен презрением, хотя никто не будет отрицать, что им совершено богоугодное и крайне полезное государству и обществу дело. Парадокс — осведомитель работает на презирающее его государство, поэтому оно даже не благодарит его за то, что осведомитель делает для него. А если благодарит, то тридцатью сребрениками, которые заставляют осведомителя вспомнить о первоистоках и еще острее почувствовать собственную неполноценность. Этакая повесть о горе и злосчастии…
Он смотрел в зарешеченное окно, разглядывая плац, который убирали заключенные. Каждую ночь на плац вываливалось две машины мусора, чтобы утром кацетникам был фронт работ. Машина, даже если она выполняет бесполезную и бессмысленную работу, должна работать бесперебойно.
Фон Пиллад задумчиво курил сигарету.
— И все-таки это не случайно, — возразил он. — Со времени Иуды имя предателя окружено презрением. Тридцать сребреников стали символом самого позорного человеческого греха. Так уж сложилось в человеческом восприятии, что предать — это еще хуже, чем убить.
— Но вы продолжаете пользоваться услугами осведомителей, — возразил Азеф. — Кто лучше осведомителя может вычислить шпиона или сообщить о готовящейся государственной измене? Разве гестапо перестало пользоваться услугами осведомителей? Сыск — вечен, а он, между прочим, всегда поставлен на работе осведомителей. Осведомители необходимы обществу, не будет, их и вам придется арестовать половину населения фатерланда и бить их, пока не будут получены необходимые, но не всегда правдивые признания. И только осведомитель способен сделать это лучше и тоньше. Вы думаете, тридцать седьмой год в России был вызван всеобщим недовольством или паранойей вождей? Нет, он явился следствием нехватки осведомителей. Вместо того чтобы знать наверняка, органам пришлось опираться на подозрения, а это всегда означает избиение невинных.
— Возможно, ты прав. — Фон Пиллад внимательно разглядывал тоненькую струйку дыма, плывущую к потолку. — И все-таки… Предателей презирают обе стороны. Те за кем осведомители следят, ненавидят соглядатаев и при каждом удобном случае принимают меры для того, чтобы избавиться от них. Государство забывает о них, едва только надобность в осведомителе сходит на нет. Разве тебя не списала российская охранка, едва только слух о твоем сотрудничестве с ней разнесся среди революционных кругов?
Азеф усмехнулся.
— Они хорошо заплатили мне. И дали паспорт вашей страны. Вы плохо знаете русских, они полны жалости даже к доносчикам и находят оправдание их действиям. Был такой гений полицейского сыска по фамилии Зубатов. Он оставил после себя наставление по работе с агентами. Так вот, он пишет в этом наставлении, что полицейский чиновник. должен относиться к своему тайному сотруднику, как к члену семьи. И немудрено, ведь именно осведомитель, рискуя своей жизнью, обеспечивает служебное благополучие чиновника.
— И где теперь этот герр Зубатофф? — оживился фон Пиллад.
— Покончил с собой, — равнодушно сказал Азеф и, подумав, добавил: — Если верить большевистским газетам. А скорее всего они его просто расстреляли как социально чуждый элемент. Когда начинается анархия, опора власти и государства рубится под корень. Можете не сомневаться, если в Германии произойдет переворот, первыми по этапу пойдут политики и гестапо. Первые пойдут по этапу за то, что оказались дураками, вторые — за то, что не смогли уберечь политиков и общество в целом от социальных потрясений.
Азеф был во всем прав. Во всем, кроме судьбы Зубатова. Здесь он ошибался.
Полковник Зубатов действительно покончил с собой, когда к власти пришли красные. Уехать он уже не успевал, а перспективы ему были хорошо известны. Слишком хорошо, чтобы оставаться в живых. Зубатов был в деле, а потому он хорошо знал, что произойдет в недалеком будущем, когда еще никто не заговаривал о терроре. Анализ событий первой русской революции не оставлял в нем сомнений — первыми всегда страдают те, кто боролся за империю, вылавливая ее политических противников. Когда революционеру нужен наган, то он берет его у первого попавшегося и оттого убитого им городового, нимало не задумываясь, сколько у городового детей, которых этот мечтатель о светлом будущем делает сиротами.
Штурмфюрер фон Пиллад засмеялся.
— В своем рвении ты упускаешь из виду, что мы, национал-социалисты, определенным образом тоже революционеры. Только если российских нигилистов и ниспровергателей можно в лучшем случае уподобить сельхозартели, то мы поставили дело на уровень промышленной отрасли. А все, что мешает достижению справедливости…
— Должно быть стерто с лица земли, — спокойно заметил Азеф. — Я только не понимаю, какую угрозу национал-социализм увидел в детях? Ладно, возможно, мы, старики, и те, кто воспитан был нами, действительно не можем принять ваших мыслей и вашего мировоззрения. Мы отличаемся от вас, как шаббат отличается от Рождества. Вроде бы все это праздники, только вот предпосылки у них крайне отличны друг от друга. Но дети, господин штурмфюрер! Ведь они всего лишь чистый лист бумаги, на котором даже не самый опытный педагог может написать все, что сочтет необходимым.
— Это вопрос крови, — сказал фон Пиллад. — Все определено, Раскин. Волчья кровь арийца не должна быть разжижена кровью существа, стоящего по уровню своего развития ниже макаки.
Но ты заинтересовал меня. Так ты лично знал Зубатова?
— Разумеется, — сказал Азеф. — Его я тоже знал. И он считал, что предательство имеет право на существование? Более того, — Азеф показал в безрадостной усмешке редкие желтые зубы, еще оставшиеся у него от прежней жизни, — он оправдывал его. Понимаете, господин штурмфюрер, Зубатов полагал, что существует зло, которое творится во благо.
Фон Пиллад не сказал своему осведомителю, что положения из тайного наставления русского жандарма использовались при подготовке специалистов РСХА, призванных блюсти имперские интересы. Зерна мыслей попали на благодатную почву — новые специалисты делали все тоньше и умнее, провокации их спекулировали на прежних знаниях, но все дополнялось изощренной хитростью и умом тех, кто пришел в СС в конце тридцатых годов. Тогда в СС пришли сливки общества — среди них были выпускники университетов и институтов, писатели, поэты и даже художники. В РСХА пришло то, чего службе постоянно не хватало, — фантазия.
— Видишь, — сказал он, приподняв левую бровь. — Ты сам отвечаешь на свои вопросы. Если существует зло, которое творится во благо, то должно быть понятно, почему национал-социализм занялся окончательным решением еврейского вопроса. Это неизбежное зло, которое мы творим во славу общечеловеческого будущего. Ваше спасение в ваших руках, Раскин. Я говорю не о тебе лично, тебе уготована иная судьба. Я говорю о еврейском народе. Вы хотели быть богоизбранными? Пожалуйста, немецкий народ не может отказать вам в свободе выбора. Точно так же он оставляет и за собой свободу известного выбора.
— Значит, я играю отведенную мне роль? — Азеф с сомнением пожевал синие губы впавшего от беззубости рта. — Сомнительная честь!
Фон Пиллад встал, пожал плечами и прошелся по кабинету, разглядывая остатки седых волос на затылке осведомителя. Сейчас он немного жалел его.
Тайные нити, соединяющие доносчика и администратора, крепли. Чтобы разорвать эти нити и избавиться от недостойного чувства, штурмфюрер жестко сказал:
— Тебе бы больше понравилось, если бы я заставил тебя лизать свои сапоги? Сидишь здесь в относительном уюте, ешь пищу из офицерской столовой лагеря, философствуешь о предательстве… И это после всей твоей жизни, в которой ты жрал, пил, предавал друзей и между делом взрывал царские поезда!
— Я уже старик, — глядя в пол, сказал Азеф. — Это только юность живет ожиданием дня. Старость, если она не измучена болезнями, живет одним днем. Завтрашним. Старик ложится спать в надежде, что смерть не придет к нему ночью и завтра обязательно наступит. Знаете, господин штурмфюрер, когда я покинул Россию, я радовался, что все кончилось. Больше всего в жизни я боялся, что вдруг появятся мои прежние товарищи. Однажды я уже чувствовал прикосновение смерти. Это было, когда в Петербурге ко мне пришли Савинков и Чернов. Они пришли убивать меня. Знаете, я многих предал, но Савинкова и Чернова я не предавал никогда. Они были моими учениками. Я сам учил их террору. И вот они пришли ко мне, они смотрели на меня жадными блестящими глазами и задавали вопросы. И я почувствовал, что, если только я кивну утвердительно, если только соглашусь с их выводами, они безо всякой жалости пристрелят меня, оставят мой труп в квартире и уйдут делать свою революцию дальше.
— Не удивлюсь, если они поступили бы именно так. — Фон Пиллад стоял у окна и смотрел, как кацетники на четвереньках собирают мусор. Смешно было смотреть, как заключенные опасливо поджимают свои тощие задницы, опасаясь пинка охранника. — Революция всегда очищается от разной пакости. Победив, мы тоже беспощадно разделались с педрилами, которыми окружил себя Рем. Чему ты улыбаешься?
— Я просто подумал, господин штурмфюрер, что революции задумываются и совершаются романтиками, но плодами победы пользуются обычно отъявленные негодяи.
— Хамишь? — Фон Пиллад подошел и потянул Азефа за редкие седые волосы, заглядывая ему в лицо. — Почему ты считаешь себя незаменимым?
— А я действительно незаменим? — спросил Азеф.
— К сожалению. — Фон Пиллад отпустил волосы осведомителя, вытер пальцы носовым платком и выбросил платок в мусорную корзину. Не стесняясь осведомителя, он достал из сейфа пузырек туалетной воды и протер ею пальцы. — К сожалению, пока ты нужен, Раскин.
— Значит, спектакль? — едва заметно усмехнулся Азеф.
— Жизнь, — в тон ему отозвался фон Пиллад. — Не играй, Раскин, если действительно тебе хочется умереть от старости.
— Это может случиться каждую минуту, — невесело засмеялся Азеф. — Я еще не понимаю, какую роль вы мне отвели в вашей пьесе, но что будет, если я умру прямо на сцене и не успею ее доиграть?
Фон Пиллад пожал плечами.
— Ты доиграешь свою роль, даже если будешь покойником, — насмешливо сказал он. — А что касается роли… Знаешь, Раскин, Каину никогда не доверят роль Авеля, а ты слишком многих отправил на Голгофу, чтобы получить иную роль.
Штурмфюрер сел за стол, некоторое время со скучающей улыбкой перечитывал доносы, составленные осведомителем, потом поднялся и спрятал исписанные листки в сейф.
— Есть хочешь? — словно бы не было и длинного, и неприятного разговора позади, спросил он. — Сейчас Гейнц покормит тебя, а потом мы продолжим наш разговор об Ицхаке Назри. Как говаривал святой апостол Павел, «согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели».
— У меня такое ощущение, что главным персонажем вашей пьесы является именно Ицхак Назри, — сказал Азеф.
Штурмфюрер покачал головой, хотел что-то сказать, но в это время в комнату вошел пожилой ефрейтор, неся судки с офицерским обедом.
— Ешь! — приказал фон Пиллад. — Ты становишься слишком сообразительным, Раскин, это, наверное, от голода.
Есть старое безумие, оно называется добро и зло. Вокруг прорицателей и звездочетов вращалось до сих пор колесо этого безумия.
Некогда верили в прорицателей и звездочетов, и потому верили: «Все — судьба: ты должен, ибо так надо!»
Затем опять не стали доверять всем прорицателям и звездочетам, и потому верили: «Все — свобода; ты можешь, ибо ты хочешь!»
О братья мои, о звездах и будущем до сих пор только мечтали, но не знали их, и потому о добре и зле до сих пор только мечтали, но не знали их!
Выписка из книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»Глава девятая КАНДИДАТ
Рыжеволосый священник, приказом шарфюрера ставший предметом внимания Евно Азефа, все больше занимал воображение бывшего боевика, растерявшего свои революционные качества, но оставшегося предателем в силу обстоятельств и собственного характера, который невозможно уже было более изменить.
Ицхак Назри был средоточием жалости и любви.
Ночью его можно было видеть у нар, на которых харкал кровью доживающий свои последние дни человек. Возложив ладони на пылающий лоб, Ицхак что-то ласково шептал человеку, и тогда пронзительный кашель прекращался, жившее напряжением тело расслаблялось, и человек засыпал, чтобы увидеть в своем лихорадочном и полном усталости сне прежние ласковые времена, полные безмятежности и покоя.
Человек этот одновременно поражал и раздражал Азефа. Даже сейчас, в старости, он не мог поверить, что могут существовать люди, для которых чужое жизненное благополучие так же важно, как собственное. Азеф подозревал, что Ицхак Назри имеет какие-то корыстные причины для того, чтобы поступать именно так. Священник восхищал и раздражал Евно. Он казался Азефу кривым зеркалом, в котором отражалась прожитая им самим жизнь — она была именно без тех изъянов, которые не хотел помнить Азеф.
Однажды, подойдя к человеку, который мучился от головной боли, Ицхак Назри возложил руки на темя ему, и боли у человека быстро прошли, уступив место спокойному сну. Утром человек встал на колени перед Ицхаком, говоря: «Я знаю, кто ты!» Ицхак ласково улыбнулся ему, заставляя молчать. И Азеф в ненависти позавидовал священнику. О, если бы он мог так же, как этот рыжеволосый человек, заставлять людей верить, если бы его убеждение было столь же действенным. Увы!
Не каждый может нести бремя убеждения и не каждому дано убеждать других в невероятном. А этот худой и невысокий человек мог многое. Однажды к нему подошел солдат из охраны лагеря, сами понимаете, из тех, кто мог стрелять, но не был отправлен на фронт по состоянию здоровья. Озираясь по сторонам, он косноязычно заговорил со священником о вере. Ицхак выслушал охранника и сказал ему, что душа охранника больна, и болезнь эта происходит от чужого неверия. «Gott mit uns!» — сказал Назри, и охранник, пугливо озираясь, кивнул ему. Большего он позволить не мог, да и кто бы стал держать в охране лагеря человека, который поцеловал бы руку заключенного? И все-таки жест охранника не остался незамеченным.
Едва ли не на следующий день охранника отчислили из охраны и перевели в строевую часть куда-то на Украину. Ходили слухи, что под Киевом, в местечке, именуемом Бабий Яр, он отпустил еврейского юношу, превосходно игравшего на скрипке, и в наказание должен был играть на скрипке этого мальчика во время расстрелов, проводимых его айнзатц-группой. К слову сказать, охранник тот на скрипке играть не умел и обделен был слухом. Можно себе представить, какие гнусные звуки вырывались из-под смычка, которым он водил по струнам, в те ненастные дни, когда мокрая глина, смешанная с негашеной известью, обрушивалась на безжизненные тела тех, кто еще вчера ждал от жизни радостей и сладкого чуда!
Вечерами Ицхак Назри вел беседы с теми, кто жаждал утешения.
— Здоровые не нуждаются во враче, — говорил он. — В них нуждаются больные. Праведники не нуждаются в покаянии, в прощении нуждаются грешники и именно за них следует поднимать свой голос.
И когда самые правоверные иудеи упрекали его в том, что он врачует наложением рук и словами своими в субботы, Ицхак неизменно отвечал им, что добро не должно знать выходных, ведь зло также выходных не знает. Разве не трудятся истовые иудеи в выходные дни под наставленными на них дулами карабинов? Но если зло не знает выходных, должно ли блюсти шаббат добро?
— Но добро бессильно, — возражали ему. — Можно ли спорить со злом, которое есть сила? Что можно противопоставить карабинам, которыми утверждается злая истина? Есть ли что-нибудь, способное быть равным пуле, летящей тебе в голову.
— Есть, — отвечал Ицхак Назри. — Это слово.
Слово — то семя, что взрастает даже на бесплодном поле невежества. Один не задумается, и тысячи не задумаются, но будут те, кто услышит слово и станет размышлять о нем. Рано или поздно слово дает свои всходы, и из него произрастают стебли посевов Добра.
— Черт побери, — сказал фон Пиллад. — Он умеет убеждать. За последнее время пришлось заменить почти половину охраны.
— Да, — согласился Азеф. — Будь он на свободе, этот Ицхак Назри, он бы стал достойным соперником вашего фюрера.
Фон Пиллад долго рассматривал своего осведомителя.
— Знаете, Раскин, — наконец сказал он. — Многих вешали и за менее серьезные проступки. Ваше счастье, что я выполняю программу, в противном случае вы давно бы уже кончили свою жизнь в одной из только что установленных печей. Фирма «Топф и сыновья» — геенна, сконструированная человеком. Держите язык за зубами и говорите не то, что думаете, а то, чего от вас требуют. Именно в этом секрет долголетия. Надо быть неустрашимым фантастом, чтобы говорить всю правду о вождях.
— Каждый изгоняет из человеческих душ чужих бесов, — философски сказал Азеф. — Я не хотел обидеть германского фюрера, господин штурмфюрер. Я просто хотел сказать, что у каждого человека есть его незримые таланты, они становятся видны лишь тогда, когда человек вырастает до определенного политического уровня.
— Не знаю, может ли слово кормить, — сказал фон Пиллад, — но факт остается фактом: за последнюю неделю заключенные не только не потеряли в весе, напротив, они стали весить несколько больше. Что вы скажете на это, Раскин? Не нашли ли ваши соплеменники какой-то иной источник, подкрепляющий их силы?
— Перекличка проводится каждый вечер, господин штурмфюрер, — равнодушно заметил Азеф. Равнодушие это было напускным, не выдержав паузы, Евно с досадой заметил: — Как вам хочется опустить нас ниже животных, господин штурмфюрер. Волею полученных вами приказов вы отказываете нам в праве на человеческое достоинство.
Фон Пиллад промолчал.
Уже в бараке Азеф неожиданно понял, что молчание немца было вызвано сомнением, зародившимся в глубинах его души, еще не ставшей душой выращиваемого обществом сверхчеловека, а потому способной сопереживать и сочувствовать.
Ицхак Назри! Злой гений Евно Азефа, его антитеза, как может явиться противоположностью носителю адского зла верный заветам Господа Ангел. Жизнь Азефа была продолжительным и страшным приключением. Рогатый Ангел, он боролся с двойным злом: совершая террористические акты против зарвавшихся чиновников, он боролся с изжившим себя самодержавием. Предавая своих товарищей, он вел борьбу со злом революционности. Ему ли было не знать, какими гильотинами завершилась Французская революция!
Утешение было недостаточным. Весь день Азеф чувствовал досаду, и эта досада помогала ему в работе, когда они таскали землю из котлована, предназначенного для неведомого строительства.
Вечером, незадолго до сна, разгорелся спор.
— Все, что вы не будете просить в молитве, — произнес Ицхак Назри, — верьте, что получите, — и будет вам.
— Свободы! — с горящими глазами сказал Левий Бенцион. — Свободы и смерти нашим тюремщикам! Если бы Бог был милостив, он бы покарал наших врагов. Что же он медлит?
— Еще не исполнилось предначертанное, — сказал священник. — Верьте — и будет вам.
Подумав, он негромко добавил:
— Что говорить, заблудшие овцы — вот кто они. Молитесь за спасение душ врагов своих, и отмеряно вам будет по справедливости.
— Что за бредовая идея! — вспыхнул Андрей Дитерикс. — Молиться за тех, кто уничтожает твой род и твое племя.
— Наш Бог — Бог живых, а не мертвых, — сказал ему Назри. — Придет время, и все будут воскрешены. И каждому будет воздано по делам, что он творил.
В эту ночь Азеф не спал.
Он давно бросил курить, тогда ему еще не было пятидесяти. Но бессонной ночью он мучился от отсутствия никотина. Чертов священник! Он опять напомнил, что у Азефа был свой Бог, и этот Бог был Богом мертвых. Все были жертвами — и те, кого он отдавал на заклание своим террористам, и сами террористы, которых он после совершения террористического акта передавал охранке. Он жил в обреченном мире, только теперь это пришло в голову Евно. В этом мире он пользовался незримой властью и обрекал других на смерть, но при этом и сам был обреченным. Жизнь, наполненная приключениями! Какие, к черту, приключения? Сначала он испугался, что не закончит свое обучение в Европе, потом боялся, что его разоблачат. И еще он боялся, что настанет время, и охранка поймет его двойную игру, и тогда он, Азеф, перестанет быть нужным. Он сросся со шкурой осведомителя, он предавал, потому что круговерть тайной жизни захватила его. Однажды написанный донос должен был подтверждаться другими предательствами. Смерть жила вокруг него, и Азеф жил в ядовитой атмосфере ее дыхания, которая называлась страхом. Даже когда он вырвался из круга и старательно доказывал себе, что освободился, страх не отпускал его до самого дня ареста гестапо.
Слова Назри открыли ему глаза, и Евно Азеф ненавидел за это священника, а потому отныне его доносы, полные объективности, стали лживыми. Они обвиняли священника в тех грехах, которые он не совершал. Евно Азеф назвал священника главой лагерного Сопротивления.
— Вы действительно так считаете? — спросил фон Пиллад, просматривая очередной донос, оформленный рукой Азефа и. подписанный им давней и, казалось, уже забытой кличкой «Раскин».
— Кажется, я не давал вам оснований для недоверия, — огрызнулся Азеф. — В конце концов я не единственный ваш осведомитель, и вы можете проверить мои слова через других.
— Полно, — усмехнулся фон Пиллад. — У меня… нет причин не доверять вам, я просто хотел убедиться, что ваши предположения действительно стали вашими убеждениями. Кстати, что это за история с воскрешением из мертвых?
История эта была непонятна и Азефу.
Однажды ночью барак разбудил пронзительный вой. Зюскинд, ювелир из Вены, сидел на нарах, прижимая к груди холодеющее тело своего семнадцатилетнего сына.
— Нет, Господи! Нет! — стонал он. — Только не это!
Сквозь собравшуюся толпу протиснулся священник.
— Успокойся, — сказал Ицхак Назри. — Господь дал ему упокоение от мук! Разве ты не хотел покоя для своего сына?
Зюскинд рыдал.
— Разойдитесь, — сказал собравшимся людям Ицхак Назри. — Завтра будет тяжелый день…
— Никто не знает, о чем они разговаривали, господин штурмфюрер, — заключил рассказ Евно, — но только утром этот мальчишка бегал быстрее любого.
— Может, он просто потерял сознание, — с сомнением наморщил лоб фон Пиллад. — Потерял сознание, а потом пришел в себя… Могло ведь случиться и так?
— Могло, — согласился Азеф. — Только я видел этого мальчишку в объятиях отца и могу сказать, что у меня богатый опыт, чтобы отличить мертвеца от живого.
— Теперь вы созрели, — удовлетворенно сказал штурмфюрер.
И наутро начали закапывать котлован, который находившиеся в лагере люди считали своей будущей могилой. Когда земля заняла свое место и выровняла края ямы с поверхностью, начали приходить тяжелые грузовики, в кузовах которых не было ничего, кроме странной, чуть желтоватой земли, смешанной с серыми глыбами известняка. Машины разгружали на месте бывшего котлована. Делалось это руками. Тучный, с жирным двойным подбородком Пауль Блобель, ведавший в лагере хозяйством, добродушно показывая золотые зубы, выдававшие в нем исправившегося вора, сказал, что лопаты нужны на фронте, чтобы копать противотанковые рвы. Так они узнали, что хваленый немецкий блицкриг провалился и расстояние до небес вследствие этого стало значительно ближе.
Те, кто наследует мертвое, мертвы сами, и они наследуют мертвое. Те, кто наследует живое, — живы, и они наследуют живое и мертвое. Мертвые не наследуют ничего.
Евангелие от ФилиппаГлава десятая ЛЕД И ПЛАМЯ
Запустив руку в окладистую, белую от седины бороду, пророк сидел в кресле и читал в «Фолькише беобахтер» посвященную себе статью. Доктор Геббельс был красноречив.
«Главное в научной доктрине арийского гения то, что он построил свою теорию на принципе противоречия. Именно борьба пламени и льда — этих противоречивых сил великой природы — на протяжении тысячелетий питала душу человека, наполняя ее силой и могуществом. Воскресив интуитивное знание арийских предков, доктор Гербигер научно обосновал грандиозный облик мира, связанный с дуализмом Природы. Закон единства и борьбы противоположностей, искаженный еврейскими «мыслителями», очищен великим арийским ученым от наносов псевдофилософии и приведен в соответствие с истинно арийским учением.
Великий германский вождь Адольф Гитлер изгнал евреев из политики. Великий немецкий ученый Ганс Гербигер изгнал их из науки. Своей жизнью фюрер доказал, что дилетант может стоять выше профессионала. Потребовался другой дилетант, чтобы дать нам полное представление о Вселенной…»
— Этот ваш Геббельс, конечно, дурак, — задумчиво сказал Гербигер. — Но в целом он верно ухватил суть проблемы. Борьба льда и огня — вот что определяет историю человечества. — Да-да, Адольф! Нам предшествовали гиганты, и именно германской расе предстоит возродить расу гигантов. Мутации! Да, именно мутации, Адольф! Нельзя бросать работу по созданию атомного оружия. Еще супруги Кюри показали, что распад атома ведет к изменениям в природе. Подобные мысли можно найти и в древнеиндийской литературе.
А ведь индийцы — это еще одна ветвь деградировавших Ариев древности…
— Но профессор… — нерешительно вступил в разговор фюрер.
Гербигер кинул на него гневный взгляд.
— Молчать! — привычно прервал он фюрера. — Что ты понимаешь о Вселенной? Русский ученый Чижевский был прав: солнечные пятна действительно определяют жизнь людей и влияют на них. Они образовались от огромных ледяных глыб, которые оторвались от гигантских планет и упали на Солнце. Русские — дураки, но и среди них порой случаются люди, в некоторой степени обладающие талантом.
Гитлер был похож на пристыженного мальчишку, пойманного с поличным за постыдным занятием. Маленький, взъерошенный, он постоянно трогал щеточку усиков и время от времени вытирал потеющее лицо рукавом коричневой рубашки. Здесь, в кабинете Гербигера, он не был вождем, к которому уже прислушивался народ. Здесь он был одним из адептов, допущенных милостивым пророком к неведомому ранее знанию.
— А твои идиоты забили палками Кеннига! — зло рявкнул Гербигер. — Мне плевать на то, что он состоял в компартии. Главное, он мог своими наблюдениями подтвердить верность моего учения, Адольф! Я понимаю, ты вождь, и тебе некогда вникать в то, что творят твои костоломы. Но, Адольф, в вопросах науки мы должны быть выше ненависти! Кенниг сделал важные наблюдения. За орбитой Нептуна действительно находится кольцо льда, которое ошибочно называют Млечным Путем и считают скоплением звезд. Ты меня понимаешь, Адольф?
Адольф Шикльгрубер ощущал себя школьником, которому разъясняет прописные истины учитель.
— Меня абсолютно не интересует политика, Адольф, меня интересует чистая наука. Ты мог бы стать хорошим художником, прекрасным архитектором, но ты выбрал политику и стал великим политиком. Скоро ты станешь вождем великого народа, а им может быть только великий человек. Рано или поздно ты поведешь по великому пути народы. Не спорь, Адольф, я так вижу! Но народы должны знать цель, и именно поэтому я занимаюсь наукой.
Конечно, рано или поздно, но Луна упадет на Землю, чтобы замкнуть цикл и начать все сначала. Но прежде чем это время наступит, достойные народы достигнут пика своего могущества, и в этом поможешь им ты и твоя партия, которая пока еще состоит из недоумков, и ей только предстоит познать истину, которой владеем мы!
Во мне живет лед холодного научного познания, Адольф, а в тебе бушует пламя политического трибуна. Вместе мы составим то учение, которое потрясет мир и поставит Германию с нашей Родиной на невиданную высоту. Ты согласен со мной?
Лед холодного научного познания! Как бы не так! Профессор Челленджер, способный размахивать кулаками, чтобы утвердить свои истины. И хорошо, что он умер в тридцать втором году, сейчас Адольф не стал бы выслушивать его крики с прежним смирением. Каждый должен уходить в свое время. Особенно это касается гениев!
Гитлер прошелся по кабинету, чуточку сутулясь и заложив руки за спину. Пиджак с золотым партийным значком остался висеть на спинке кресла. Верная овчарка Блонди преданно наблюдала за хозяином. Именно так, собаки всегда лучше людей. Они не умеют предавать. Рудольф! Он плюнул ему в самое сердце, этот Гесс! Впрочем, чего еще можно было ждать от человека, воспитанного за границей? В Гессе тайно жило преклонение перед англичанами. К тому же он был слишком высокого мнения о своих политических способностях. За спиной у фюрера он допускал разного рода высказывания, порой даже утверждал в приватных разговорах, что это он вылепил фюрера из тюремного дерьма. Гитлер ценил его заслуги перед движением, но, честно говоря, в последнее перед побегом в Англию время Рудольф позволял себе слишком многое. Как Ганс Гербигер, возомнивший себя единственным в Германии мыслителем. У народа может быть лишь один гений, остальным должно развивать его мысли и воплощать в жизнь его идеи.
Верный Генрих на днях объяснил ему эту историю с ливанским кедром. Адольф с удовольствием посмеялся над ней и даже простил своего тезку Эйхмана, позволившего себе дипломатические шаги помимо ведомства Риббентропа.
Спасти евреев, отправив их поближе к Богу. В этом было нечто фантасмагоричное, как в саге о Нибелунгах. Зигфрид, умывающийся кровью еврейского дракона. Гм-м-м… Пожалуй, неплохо. Надо подкинуть эту мысль Геббельсу. Очищение нации через кровь! Ссылки на это можно было найти в «Mein Kampf». Нет, этот Эйхман настоящий немец. Он исполнителен, знает счет деньгам и при этом не лишен чувства юмора. Надо будет сказать рейхсфюреру, чтобы он как-то отметил тезку.
Адольф Шикльгрубер не любил попов. У народа должен быть один вождь и один Бог. Католицизм растлевает нацию. Вера в Бога вредна, она лишает народ уверенности в себе. Строители тысячелетнего рейха должны быть уверены в себе и своем вожде, в него они должны безоговорочно верить, даже если он противоречит всему, что когда-то было сказано религией. Христианский тезис о загробной жизни несостоятелен. Но вера в вечную жизнь имеет под собой определенные основания. Ум и душа возвращаются в общее хранилище, как, впрочем, и тело.
А евреи принесли в общество скотскую идею о том, что жизнь продолжается и в потустороннем мире. Можно губить души на этом свете, на том их ждет лучшая участь. Под видом религии еврей внес нетерпимость туда, где именно терпимость являлась подлинной религией: чудо человеческой} разума, уверенное независимое поведение и вместе с тем смиренное осознание ограниченности всех человеческих возможностей и знаний. Это евреи построили алтарь неведомому Богу. Тот же самый еврей, который некогда протащил христианство в античный мир и загубил его, теперь вновь нашел слабое место: больную совесть современного мира. В первый раз он из Савла стал Павлом, теперь из Мордухая обратился в Маркса. Он протиснулся сквозь щель в социальной структуре, чтобы несколькими революциями потрясти мир.
Способные нации должны руководить подчиненными менее способными. Еврейство разрушило этот миропорядок. Чем решительнее будет вестись борьба с евреями, тем неизбежнее однажды народы мира повергнут большевизм.
Еврей — катализатор, воспламеняющий горючие вещества. Народ, среди которого нет евреев, обязательно вернется к естественному миропорядку. И в этом Адольф Шикльгрубер видел свою историческую миссию.
Лед и пламя. Вера и неверие — вот два кремня, из которых высекутся искры, освещающие будущее. Но прежде следовало сосчитать агнцев и козлищ и отделить их друг от друга. В затее Эйхмана был определенный смысл, но смысл этот был доступен пока лишь гению фюрера.
В дверь постучали, и в кабинет вошел адъютант.
— Мой фюрер, пришла Ева Браун, — доложил он.
Оттолкнув адъютанта, Гитлер выскочил в приемную. Секретарша перепечатывала на пишущей машинке какой-то документ.
— Ева! — Он поцеловал женщине руку. — Как кстати!
Глянул строго на адъютанта. Тот вел себя строго, смотрел в сторону.
Уже в кабинете Адольф позволил себе поцеловать Еву.
— Я устал, — признался он. — Русские воюют с большим ожесточением, нежели я ожидал. Потери неоправданно велики. И все-таки скоро мы закончим эту войну с русским медведем. Тогда весь мир ляжет около твоих ног, дорогая. Ты хотела бы позагорать на бразильских пляжах или побывать в Голливуде?
— У тебя круги под глазами, Ади, — сказала Ева. — Ты совсем не бережешь себя.
Как всегда, выглядела она великолепно. Крепдешиновое платье ловко обегало ее стройную фигуру, светлые волосы кропотливо были увязаны в хитроумный венок, придававший Еве целомудренный вид. В руке у нее была лакированная сумочка. Пожалуй, это был единственный человек, которого не досматривали при входе в кабинет фюрера. И единственный человек, который мог бы убить Гитлера без всякого оружия. Своей красотой.
— У меня слишком много забот, — сказал Адольф. — Фюрер должен думать обо всем и обо всех. Впереди зима, а солдаты на фронте совершенно не подготовлены к ней.
— Тогда объяви сбор теплых вещей по всей Германии, — предложила Ева, подбирая платье и садясь в его кресло.
Фюрер улыбнулся.
— Вы, женщины, даже не представляете, из каких мелочей порой складывается победа, — сказал он. — Носильные вещи — всего лишь часть проблемы, всего лишь одно из многих слагаемых. Поговорим о тебе, дорогая. Чем ты занималась последнюю неделю?
— Ездила к сестре, — рассеянно сказала Ева. — Но дорогой! Ты должен отдыхать. Шмундт сказал, что в иные дни ты работаешь по восемнадцать часов в сутки. Это же работа на износ. А ты уже не мальчик и должен думать о своем здоровье.
Фюрер любовался женщиной.
— Пожалуй, я бы мог бросить все, — сказал он. — Мы могли бы на пять дней закатиться в горы. Хочешь в горы?
— Ты знаешь, чего я хочу сейчас, — сказала Ева, вставая. Ее губы оказались в опасной близости от губ Адольфа. От женщины пахло французскими духами и чистым женским телом — взрывное сочетание, заставляющее мужчину дрожать от нетерпения.
Оставив женщину, фюрер вышел в приемную.
— Меня нет, — сказал он. — Меня нет, даже если явится рейхефюрер СС и скажет, что вражеские парашютисты высадились в Берлине.
Говоря эти слова, он цепко вглядывался в лицо адъютанта. К чести Шмундта, ни единый мускул его лица не дрогнул.
Адольф Гитлер вернулся в свои апартаменты.
Полураздетая Ева стояла, гибко изогнувшись телом, в дверях комнаты отдыха.
— Одну минуту, дорогая, — сказал Адольф. — Я хотел бы сделать тебе сюрприз.
Он достал из письменного стола кожаную коробочку, открыл ее и повесил не шею любовницы брызнувшее искрами колье.
— Не снимай его, — сказал фюрер. — Не снимай его даже тогда, когда окажешься голой.
В день своего первого совокупления, растянувшись на постели и трогая друг друга дрожащими пальцами, они еще не подозревали, что их соединила смерть и через несколько лет состоится печальное бракосочетание, похожее на похороны, где вместе с обручальными кольцами супруги обменяются маленькими ампулами, таящими в себе смерть.
Зло возвратилось, оно не могло не возвратиться, чтобы не забрать с собой маленького невзрачного человека, который много лет обоготворял зло и делал все, чтобы оно воцарилось в мире.
Раскусив ампулы, они вновь ощутили забытый было экстаз единения. Он протянул в последнем усилии руку, чтобы коснуться ее, она некоторое время мутнеющими глазами, в которых отражалась бездна, смотрела перед собой и не видела ничего, кроме собственного страха перед тем, что так неожиданно открылось ей.
И в это время в приемной загромыхали, ударяясь друг о друга, еще полные пока канистры с бензином.
Завернутые в одеяла тела вынесли наружу. Было время цветения — яблони, под которыми положили тела, были усеяны белым цветом, над которым, несмотря на близкие разрывы артиллерийских гранат, назойливо кружили пчелы.
Тела полили бензином. Шмундт чиркнул зажигалкой, и занялось неяркое пламя, постепенно съедая покрывавшие мертвых одеяла. На белый цвет яблонь садилась копоть. Пчелы исчезли. И это было последнее зло, сотворенное человеком, некогда потрясшим устои всего мира. Пчелы и цветы, а не любимая женщина, были его последними жертвами. Уводя за собой в царство Аида женщину, он пытался прихватить следом и окружавший его мир.
В то же самое время, когда тела обугливались под воздействием пламени, на станциях затопленного по его приказу метро всплывали женщины, дети и старики. Взрослых мужчин, кроме инвалидов, не было. Все, кто мог держать оружие, еще продолжали держать его, умирая во славу уже несуществующего государства и его принявшего яд вождя.
Из ненаписанного романа Й. Геббельса «Смерть Нибелунга»Глава одиннадцатая ПРАВЕДНИКИ И ГРЕШНИКИ
Тьма и свет живут в человеческой душе.
Один и тот же человек способен на подлость и на гордый поступок.
Двое из заключенных попались на воровстве. Боже мой, до какой низости должен был опуститься человек, чтобы украсть у товарищей по несчастью, присвоить жалкие пожитки, которые и имуществом назвать было нельзя. Но еще страшнее было то, что не сами заключенные поймали их за гнусным и недостойным занятием, это сделали охранники лагеря.
— Виновные будут достойно наказаны, скорбно сказал фон Пиллад перед простуженно кашляющим строем скелетов в полосатых робах. — Воровать у товарищей по несчастью — позорное занятие. Мне стыдно за них. Впрочем, чего ждать от животных, попавших в естественную для них среду обитания? Своим поведением они доказывают, что великий фюрер Германии во всем прав!
Он помолчал, оглядывая угрюмые лица кацетников. Заключенные старались не встречаться со штурмфюрсром взглядами.
— Вы сами изберете им наказание, — сказал фон Пиллад. — Воровать нехорошо, очень нехорошо. Адольф Гитлер сказал, что в новой Германии не будет воров. В новой Германии не будет преступников. Великий рейх будет государством честных людей и для честных людей.
Он знал, что говорил.
Он прошел обучение в бюргере — уединенном замке-монастыре, созданном по типу тех, что когда-то использовались Тевтонским орденом. По замыслу фюрера лица, прошедшие подготовку в бюргерах, приближались к арийским идеалам и могли занимать после окончания обучения самые высокие посты в рейхе.
Испытания были жестокими.
В программу психофизической подготовки входила тир-кампф — борьба с дикими зверями. Гиммлер мечтал о пантерах, но они в Германии были редкостью и тогда их заменили огромными догами, дрессированными на человека. Обнаженные по пояс, лишенные какого-либо оружия, будущие хозяева мира в течение двадцати минут должны были оказывать сопротивление жестоким псам, которых на них натравливали.
Затем проводилось испытание гранатой. На глазах свидетелей кандидат должен был выдернуть из гранаты чеку и осторожно положить гранату на собственную каску. Четыре секунды до взрыва эсэсовец должен был стоять по стойке «смирно». Если граната взрывалась, оглушая кандидата, он считался прошедшим испытание, и его принимали в СС. Дрогнувший и получивший ранение обретал право на пенсию по инвалидности. Погибшего хоронили с почестями за счет государства. Тот, кто трусил и отпрыгивал в сторону, подлежал уничтожению на месте. Обычно его использовали в дальнейших тренировках будущие господа.
А прошедших это испытание ждало новое — их обкатывали танками. В тесном строю, гусеница к гусенице, танки шли на эсэсовцев сомкнутым строем. У каждого из эсэсовцев была лишь саперная лопатка и двадцать четыре секунды для того, чтобы отрыть себе окоп и спастись. Не выдержавшие испытание были недостойными войти в расу господ, а потому о них никто не жалел.
В унтер-офицерских школах СС выпускник, засучив рукава и вооружившись скальпелем, должен был схватить кошку и лезвием скальпеля вылущить ей глаза, не повредив их. Каждому кандидату давалось три кошки.
В офицерских школах кошек заменяли уголовники, которым суд отказывал в заключении. Кандидат должен был голыми руками убить трех уголовников, яростно борющихся за свою жизнь. Если побеждали уголовники, они получали право на жизнь, если можно было назвать жизнью скотское существование в Бухенвальде или Дахау.
Каждый, кто вступал в СС, должен был придерживаться трех принципов — верности рейху и его руководителям, честности по отношению к своим товарищам и ненависти к врагам. Честность — вот краеугольный камень, бывший в основании их воспитания. Эсэсовец никогда не крал, эсэсовец никогда не врал, невозможно было представить, чтобы прошедший суровую школу жизни эсэсовец занимался мародерством. Они были выше этого. Превратное представление об СС возникло тогда, когда в ряды воспитанников бюргеров влилось пополнение. Пополнение было необходимостью, слишком велики оказались потери элитных подразделений на Восточном фронте. Но именно это пополнение оказалось повинным в том, что об СС сложилось превратное представление.
В первые годы своей карьеры Генрих мечтал, как будет приглашен в Вевельсбург. Там, в Вестфалии, ежегодно проходила тайная мистерия, на которой председательствовал лично рейхсфюрер. В огромном замке стоял круглый стол, вокруг которого располагались тяжелые стулья для двенадцати группенфюреров. В течение недели приглашенные в замок предавались медитации и умственной концентрации.
В огромной библиотеке были собраны тысячи томов, в которых содержались сведения об арийской расе.
Вместо этого фон Пиллад попал в Польшу и оттуда на Восточный фронт. Там, ведя яростное наступление на доблестно сражавшихся русских, фон Пиллад был ранен, заслужил Железный крест, а позже, когда войска, скованные русским морозом, замерли у стен Ленинграда и в московских лесах, Генриха выдернул в Берлин его старый знакомый Адольф Эйхман, ставший к тому времени большой шишкой в СС.
— Генрих, — сказал он. — Дружкще, надеюсь, ты уже достаточно нахлебался крови и покормил вшей в окопах. Ты мне нужен. Я не забыл, что ты изучал в университете философию и религиозные трактаты древности. Твоим знаниям пора найти применение, твоя голова слишком умна, чтобы оставить ее в русских просторах. Я не сомневаюсь, что ты любишь фюрера и Германию, но настало время послужить отечеству разумом, а не автоматом!
И Эйхман отправил его в Берген-Бельзен.
Генрих фон Пиллад не слишком понимал заумные речи старшего товарища, за месяцы войны он отвык от необходимости облекать простые мысли в красочные словеса. На фронте не требовалось особых слов. Для того чтобы отдать приказ или допросить пленного, требовались самые простые и незамысловатые выражения.
Честно говоря, Эйхман спас его от неприятностей. Генрих лично расстрелял одного немецкого солдата, который мародерствовал в русской деревушке, именуемой Осташки-но. Конечно, следовало передать мародера в руки военного трибунала, но неприкрытый цинизм солдата возмутил фон Пиллада. Конечно, фюрер прав, несомненно, славяне являлись низшей расой, но все равно нельзя было забирать теплые вещи у стариков. Немецкий солдат должен был заплатить за вещи, которые он взял. А этот недокормыш не заплатил и тем поставил немецкого солдата еще ниже обиженных им унтерменьшей.
Конечно, нахождение в лагере имело свои минусы, но и достоинств тоже хватало. По крайней мере здесь не донимал мороз, голод, а главное — здесь не стреляли. Не надо было постоянно горбиться, чтобы не попасть на прицел русскому снайперу. У русских хватало сибирских охотников, которые могли попасть немецкому офицеру точно в глаз. Это у русских называлось «не попортить шкурки». «Ворошиловских стрелков» у русских хватало. Говорят, что за меткость этим самым стрелкам правительство выдавало золотые значки, которые вручал в Кремле чуть ли не сам Сталин.
Командование за такой значок обещало солдатам отпуск в Германии, но фон Пиллад не помнил случая, чтобы кто-то отпуск получил именно за то, что доставил значок. Нет, случалось, что русских снайперов тоже подстреливали. Только вот значков у них не находили. Хитрые русские, выходя в засады, даже документы и письма оставляли у своих командиров, а золотыми значками «ворошиловских стрелков» дорожили еще больше.
В концлагере было спокойнее.
К тому же Генриху всегда нравилось заниматься разведывательной работой. Одно время он очень хотел работать в шестом отделе РСХА у самого молодого генерала рейха Вальтера Шслленберга. Адольф Эйхман обещал, что после выполнения задания в лагере молодой фон Пиллад будет работать у Шелленберга, а Генрих знал, что старому товарищу, занимавшему теперь высокий пост в иерархии рейха, определенно можно верить.
Поэтому он с увлечением занимался со старым провокатором, который из удовольствия когда-то предавал русских революционеров, а теперь из желания жить с не меньшим усердием предавал своих соплеменников.
Фон Пиллада интересовали пружины предательства.
Он понимал тех, кто предает из-за выгоды или страха. Скажем, тех, кто стучал на крипо или гестапо. Доносительство гарантировало человеку спокойную жизнь и известное вознаграждение, а потому было выгодным. И главное — тайным. Сотрудничество со службами, обеспечивающими безопасность рейха и общества, было возведено в ранг самой большой тайны, личные дела агентуры являлись секретными и недосягаемыми для простого гражданина. Поэтому стукачи иногда даже перебарщивали в своем рвении услужить. Они добавляли в свои доносы совсем немного фантазии, и эта фантазия превращала порой безобидное преступление против личности в тягчайшее преступление против государства. А крипо или гестапо в своей деятельности всегда руководствовались одним принципом — в деле безопасности государства и общества нельзя было недоработать, уж лучше переусердствовать, чтобы потом не было упреков или обвинений в бездеятельности.
Похожая ситуация перед войной была в России, где из-за шпиономании и внутриполитической борьбы сотрудники НКВД пересажали всех своих прежних лидеров. Даже армия подверглась чистке. И все потому, что русские слишком поверили донесениям своих стукачей. А ведь должны были понимать, что человек, пишущий доносы, может быть отравлен завистью или просто ненавидит свою будущую жертву. Да мало ли причин, которые могут толкнуть человека на уничтожающую ложь?!
Понятным был тот механизм, который заставлял людей продавать секреты своей страны. Деньги! Вот был тот лакомый червячок, на который клевала жадность. Иногда деньги заменяла ненависть к стране, которая не оценила достоинств будущего шпиона.
Это фон Пилладу было понятно, хотя и отталкивало от себя именно своей патологией.
Больше Пиллада интересовали авантюристы.
Деньги для них значили мало, больше их привлекали острота ощущений и риск, который был необходимым элементом разведывательной работы. Зачастую люди с авантюристическим складом характера работали на две, а то и три разведки, продавая каждой из них секреты соперников. Для таких людей не существовало запретов, они нарушали библейские заповеди и нравственные нормы любого общества с необычайной легкостью, и именно это позволяло им владеть государственными секретами и знать истинные пружины тех или иных политических ходов.
Сейчас Азеф служил ему, движимый страхом.
Но тридцать с лишним лет назад им двигало совсем иное. Секреты старого провокатора заставляли Генриха замирать перед тайной. В глубине души Генрих фон Пиллад понимал, что, даже будучи хозяином жизни и души старого еврея, он все равно остается мальчишкой, чей житейский опыт совершенно не сравним с опытом предателя. Жадно расспрашивал он Азефа о деталях его падения, смутно понимая, что знание тайных пружин, которые двигали Азефом, приблизят его к пониманию сути самой работы в разведке.
К заданию Адольфа Эйхмана он относился со спокойным недоумением человека, понимающего, что его начальник блажит, но имеет на то право и основание.
Чужие жизни при этом в расчет не принимались.
Более сильные призваны господствовать, а не сливаться с более слабыми, чтобы таким образом пожертвовать своим величием. Так говорил фюрер.
Генрих фон Пиллад верил своему великому вождю.
На столе у него лежала брошюра под названием «Расовая гигиена и демографическая политика Германии». В книге много говорилось о биологических основах приумножения и сохранения нордической расы. Народ, говорилось в книге, есть мощный поток крови. Зов крови и земли — вот то, что двигало человечеством.
Жалость и смирение были ненужным атрибутом жизни неудачников. Жалость вела к слиянию со слабыми, смирение подрывало корни нордического благополучия.
Жалость ничего не значила для Генриха фон Пиллада, но чувство справедливости, воспитанное в бюргере, не давало ему быть спокойным и довольствоваться достигнутым.
— Что ты думал, когда давал согласие работать на охранку? — спросил шарфюрер.
— Я уже не помню, — утомленно сказал Азеф. — Это было так давно…
— И все-таки… Ты пришел к выводу о необходимости сотрудничества после размышлений или согласился не раздумывая?
Азеф пожевал губами, задумчиво глядя в прошлое.
— В ту ночь мне было не до сна, — сказал он. — Сами можете представить, господин шарфюрер… Пусть
семейство не столь уж и благородно, но скандал, скандал! Водка у вас, извините, паршивая, российской во многом уступает, а главное — не берет до такой степени, чтобы отчаяние веселью место уступало. И под утро вспомнилась мне старая притча. Я вас не утомил?
— Мне даже интересно, — искренне сказал немец.
— Жил-был один волшебник. Овец у него было немерено, а пастухи никудышные. Вот овцы и разбегались. Они знали, что будет делать с ними этот волшебник, который, надо сказать, был большим любителем баранинки. Однажды волшебник задумался, как ему сделать так, чтобы любимые его овечки не бегали и были всегда под рукой. Он долго думал, а потом внушил овечкам, что он не злой кровожадный волшебник, а душевный и ласковый правитель, который только что и думает о бараньем счастье и благе. А бараньим вожакам он внушил мысль, что они не бараны, они сильные и мужественные вожаки, настоящие львы.
— И что же из этого вышло? — поднял голову от бумаг фон Пиллад.
— Вышло то, что бараны перестали бегать и были всегда под рукой у волшебника, который любил баранину, — грустно усмехнулся заключенный. — Вот тогда я и подумал: уж если все равно придется прожить баранью жизнь, не худо было бы хотя бы воображать себя вожаком из львиного сословия. И утром я дал согласие на негласную работу.
— Разумеется, у тебя припасена какая-то мораль, — усмехнулся шарфюрер.
— У каждой истории есть своя мораль, — внезапно помрачнев, сказал Азеф. — Боюсь, что мораль этой истории придется вам не по душе.
— Валяй, — с внезапным благодушием сказал фон Пиллад. — Сегодня можно, у меня сегодня вегетарианский день.
Азеф задумчиво пожевал губы, оценивающе глянул на собеседника и решился:
— Ваш волшебник тоже хорошо знает дело. Боюсь, что однажды его баранам придется совсем худо. Но это не столь уж и важно, господин шарфюрер, главное, чтобы было хорошо вожакам.
Шарфюрер встал, внимательно осмотрел заключенного, покачиваясь с носка на каблук, он некоторое время размышлял, не следует ли ему наказать кацетника за нахальство в оценках вождей рейха. Потом решил, что не стоит: все-таки он сам дал Азефу повод.
— Наглец! — сказал он. — Нет, все-таки фюрер был прав, когда запретил вам жить среди настоящих людей. Еврей подобен глупому голубю, он обязательно нагадит в руку, из которой клюет!
Встав у окна, шарфюрер долго смотрел на открывающийся из этого окна унылый вид лагеря, потом повернулся.
— Вернемся к нашим баранам, — сказал он и внезапно ощутил всю двусмысленность своих слов. — Что последнее время говорит вожак стада?
— Последнее время он изъясняется исключительно притчами, — вздохнул Азеф. — Похоже, это привычная форма выражения своих мыслей для каждого, кто берется руководить стадом…
— Не забывайся, — построжал лицом фон Пиллад, и этих слов было достаточно, чтобы добродушная улыбка сползла с морщинистого лица заключенного. Именно так! Беспородный пес должен знать свое место, ему никогда не сидеть на равных за столом со своим господином.
Фон Пиллад вернулся за стол и сел, вытягивая в сторону Азефа длинные ноги в начищенных сапогах.
— Ладно, — лениво сказал он. — Отвлекись от лишнего рвения, Азеф. Выкладывай притчи вашего проповедника.
Не относись к притче пренебрежительно. Подобно тому, как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой или жемчужина, так с помощью притчи познается истина.
Шир-Гаширим РабаГлава двенадцатая ПРИТЧИ В НОЧНОМ БАРАКЕ
Истошно кашляющий во сне барак похож на круг ада.
Можно не сомневаться, что дьявол признал бы Берген-Бельзен своим владением, доведись ему в нем оказаться. Казалось невозможным, чтобы здесь велись разговоры, полные внутреннего смысла и воспоминаний о жизни, оставленной за воротами лагеря.
— Мы здесь сдохнем, — хмуро сказал Фома. — Даже странно, что они нас не прикончили сразу. К собакам из охраны они относятся куда более гуманно. Ах, если бы я умер тогда в Веймаре от брюшного тифа! По крайней мере я бы не знал, что существуют периоды хуже революций! Слава Богу, мама не дожила до этих дней. Ее сердце просто не выдержало, когда соседи начали громить отцовский магазин. Представляете, многим из них отец частенько давал продукты в кредит, он даже устраивал распродажи! Его дядя Соломон говорил: Меир, доброта погубила не одного человека, она погубит и тебя. Меир, помни — человеку всегда воздается за добро злом. И он был прав! Отцу таки пришлось отвечать за его доброту! Да что отец, нам всем пришлось оплачивать его счета, иначе почему бы я оказался здесь, а сестры поехали к новому месту жительства в треклятую Польшу, в которой у нас нет ни одного родственника! Я не понимаю, почему они должны жить в каком-то Освенциме, а я даже не могу написать им письма!
Он помолчал, прислушиваясь к стонам и надсадным кашлям, потом пробормотал:
— А ведь как было все хорошо! Мне было двенадцать лет, и в субботние дни мы с отцом шли в парк около берлинского зоопарка. Отец шел в черной шляпе и в черном костюме-тройке, у него была темная борода, и знакомые немцы раскланивались с ним — тогда они не знали, что евреи должны сидеть в лагерях и таскать тяжелые носилки с землей, когда делится их имущество.
Они сидели в темном углу барака. В маленькие подслеповатые оконца был виден свет прожекторов на сторожевых вышках. Свет выхватывал из темноты то одно, то другое лицо, и тогда Азеф отмечал, как они не похожи друг на друга, эти люди, с которыми его связала неумолимая судьба. Ему хотелось жить общей болью и несчастьем, но это было невозможно — еда, которую приносил в кабинет фон Пиллада пожилой ефрейтор, непреодолимо разделяла Евно Азефа с соседями по нарам, обещание спасения, данное ему гестаповцем, заставляло его совсем иначе смотреть на заключенных. Близилась остановка, на которой безжалостный контролер должен был вывести из вагона всех, кто не имел билета на дальнейший проезд, а Азефу этот билет был обеспечен за послушание и предательство.
— Не в того стрелял Грюншпан, — тоскливо вздохнул в темноте Андрей. — Не в того… Зачем ему был нужен этот дипломат, который был всего лишь проводником чужих идей? Надо было… — Он замолчал, в темноте на мгновение сверкнули его глаза и было слышно учащенное прерывистое дыхание.
— Мы здесь сдохнем, — повторил Фома. — Иногда я думаю, чего они тянут? Лучше умереть, чем выслушивать оскорбления и подвергаться унижениям. Разве это жизнь? Человеческая тень всегда следует за человеком, но никто никогда не утверждал, что тень живет. Знаете, мне уже не страшно. Мне даже уже хочется, чтобы все быстрее закончилось. Лучше испугаться один раз, чем делать это по сто раз на дню.
— В чем же дело? — меланхолично спросил из глубины жестких деревянных нар Иаков. — Колючая проволока под током. Два шага — и ты свободен. Если ты уже не можешь терпеть — давай действуй, для этого даже не надо дожидаться дня!
— Ты же сам знаешь, в чем дело, — хмуро сказал Андрей. — Я не могу наложить на себя руки сам. Очень не хочется вечность быть неприкаянным. Бог не прощает самоубийц. Другое дело, если я предстану перед ним после мученической смерти. Тогда мне будет обещано прощение. Зачем же я буду лишать себя пусть и загробного, но будущего?
— Ты смотри, какой рассудительный! — язвительно сказал Иаков. — Не иначе твой отец был таким же.
Рядом с Иаковом тяжело заворочался Ицхак Назри.
— Глупые евреи, — мягко сказал он. — Лучше послушайте одну старую историю, она имеет к нам самое прямое отношение. Однажды умер старый раввин. Поскольку он чтил Тору и не нарушал установленных Богом правил, Всевышний отнесся к нему снисходительно и спросил, чего равви хочет. Ободренный Божьей милостью равви попросил показать ему рай и ад. «Будь по-твоему», — сказал Бог. Он завел священника в комнату. Там стоял большой котел, около которого сидели несчастные люди с ложками. В котле был суп, но ручки у ложек были такие длинные, что всякий мог дотянуться до котла и зачерпнуть из него супа, но никто не мог поднести эту ложку ко рту. Поэтому все были голодные и несчастные. «Это Ад», — сказал Бог. Потом он привел равви в другую комнату. Там сидели точно такие же люди, с точно такими же ложками, а посреди комнаты стоял котел с супом. Только люди там были счастливые и сытые. «Это Рай», — сказал Господь. «А в чем разница, Господи?» — спросил недоуменный равви. «В Раю люди научились кормить друг друга», — объяснил Бог.
Некоторое время в бараке царила тишина.
— Вечно ты вылезешь, Ицхак, со своими поучениями, — с досадой сказал Иаков. — Если верить тебе, то я должен вылизывать этого нытика, все достоинство которого лишь в том, что в беде он оказался рядом.
Ицхак Назри покачал головой, но во тьме этого никто не увидел. Луч прожектора на мгновение высветил изможденное лицо Андрея. Он саркастически улыбался. Странное дело, даже перед лицом ожидавшей их смерти люди продолжали шутить и смеяться, житейски поддевали друг друга, ссорились и даже ругались, хотя все ссоры были глупы и бессмысленны перед ожидавшей людей Вечностью.
Вечером этого дня Ицхака вызвал штурмфюрер фон Пиллад.
— Слушайте, — деловито сказал он. — Вы умны и вам не откажешь в некоторых способностях. Ваши знания нужны рейху. Что вы скажете, если мы заберем вас из лагеря и создадим сносные условия для жизни? Вами интересуется рейхсфюрер. Он видит способных людей. В его усадьбе работают разные люди и с самыми разнообразными специальностями. Не хотите занять место среди них? Время пошло, я жду вразумительного и точного ответа!
— Отказ, конечно, ускорит приближение моего конца? — мягко спросил Назри.
— Все люди смертны, — философски сказал штурмфюрер. Ицхак поразился его молодой горячей энергии и покачал головой.
— Тогда я останусь с теми, кто нуждается во мне, — сказал он. — Поверьте, господин штурмфюрер, я боюсь смерти и хочу жить, но мой Бог требует, чтобы я остался с теми, кто обречен на страдания… Мне тяжело отказываться, господин штурмфюрер, но я вынужден это сделать.
— Ваш Бог, — фыркнул фон Пиллад. — Что он сделал, чтобы уберечь вас всех от несчастий? Я поражаюсь, вы поклоняетесь тому, кто ничего не сделал для вас. Я же предлагаю тебе пусть временное, но спасение. Для тебя я больше, чем Бог!
В какой-то мере он был прав, для обреченного на смерть, как это ни странно, судья и палач остаются единственной надеждой на земле, кроме них есть только чудо. Приговоренный к смерти всегда становится верующим, он либо верит в Бога, либо надеется на чудо, а разве это в конце концов не одно и то же?
— Неужели ты выберешь вместо свободы вонючий барак, из которого каждое утро выволакивают десяток трупов? — удивленно спросил фон Пиллад.
— Мне страшно, — сказал Ицхак. — Но я не могу иначе, господин штурмфюрер.
— Искушение закончено, — сказал Пиллад. — Второй раз тебе никто не сделает такого предложения, рыжий идиот! Убирайся! Мне не о чем больше с тобой говорить. Ты выбрал общение с мертвецами вместо того, чтобы встать рядом с теми, кто тайно влияет на судьбы мира. А ведь им было абсолютно наплевать на то, что ты еврей, для них главное в том, что ты обладаешь магическими способностями.
— Я только человек, — покачал головой Ицхак Назри. — Я всего лишь слабый человек, господин штурмфюрер.
Сейчас рядом с товарищами он молчал, мучительно пытаясь понять, кто из них понял и одобрил бы его отказ.
— Послушай, Ицхак, — сказал Фома. — Ты у нас все знаешь. Чем кончатся наши муки? Будут ли когда-то наказаны палачи? Будет ли восстановлена справедливость? Или все это надолго, а для нас уже навсегда? Поступит ли Господь по справедливости?
— Ты нуждаешься в утешении? — сказал Назри. — Сам Господь нуждается в утешении. Ведь если виноградник был у виноградаря, а пришли люди и вырубили его, то кто более в утешении нуждается — виноградник или виноградарь? Дом сожгли — кого утешать надо: дом или хозяина? Так говорил Господь. «Пришел Навуходоносор и разрушил виноградник Мой, вас изгнал и обитель мою сжег, — в утешении я нуждаюсь. Утешай Меня, утешай Меня, народ мой!»
А что касается справедливости… Разбойнику, что разбойничает на дорогах, рано или поздно отрубают голову, но есть ли утешение в том для его жертв?
Молчание воцарилось в бараке.
В наступившей тишине был слышен тяжелый гул высоко летящих самолетов. Самолеты летели в направлении Берлина.
И Он оставил их в руках диких зверей на съедение. И Он призвал семьдесят пастырей — и отверг тех овец, — чтобы они пасли их, и сказал пастырям и их товарищам: «Каждый из вас должен пасти овец, и все, что Я вам прикажу, то делайте! И Я предаю их вам по числу и буду вам объявлять: кто из них должен погибнуть, тех истребляйте!» И Он призвал другого и сказал ему: «Замечай и смотри за всем, что будут делать пастыри с этими овцами: ибо они будут губить их более, чем Я им повелел.
И всякий излишек, и уничтожение, которое будет совершаемо пастухами, запиши, и именно: сколько губят они по Моему повелению и сколько по своей собственной воле; и запиши о каждом пастыре в отдельности все, что он губит.
Книга Еноха, 17—89Глава тринадцатая ЗАПИСИ НА СКРИЖАЛЯХ
Главное административно-хозяйственное[1]
Управление СС Управление D —
концентрационные лагеря. Ораниенбург, 5.09.1940 г.
D11/1 23 МА/Hag. -
О заключенных евреях
Комендантам концлагерей Бухенвальд, Дахау, Флоссенбюрг, Гросс-Розен, Маутхаузен, Натцвейлер, Нейенгамме, Нидерхаген, Равенсбрюк, Саксенхаузен, Штутгоф.
Рейхсфюреру СС угодно, чтобы все расположенные на территории империи концлагеря были очищены от евреев. Поэтому все находящиеся в Вашем лагере евреи должны быть переведены в Освенцим или Люблин. Прошу сообщить мне до 9-го числа сего месяца число сидящих в Вашем концлагере евреев и при этом специально отметить, кто из этих заключенных используется на работе, если это не позволяет перевести их немедленно.
Начальник отдела D11 Маурер, оберштурмфюрер ССГиммлер внимательно дочитал документ до конца, снял пенсне и стал задумчиво протирать линзы специальной бархатной тряпочкой, которую он постоянно хранил в футляре.
Это было действо, предназначенное для того, чтобы обдумать документ и прийти к какому-то заключению. Рейхсфюрер был слишком методичным человеком, чтобы высказываться о происходящем, тем более о документе, который готовила подчиненная ему служба, слишком поспешно и невнятно. Указания должны быть ясными и понятными любому, кто с ними ознакомится.
— Не вижу в списке Берген-Бельзена, — задумчиво отметил он.
— Вы же сами сказали, что этот лагерь какое-то время будет подчиняться непосредственно Эйхману, — удивился обергруппенфюрер Отто Гоффман, делавший утренний доклад. Обергруппенфюрер был начальником Главного расового и переселенческого управления СС, а следовательно, владел предметом доклада, как всякий немец, добросовестно делающий порученное ему дело.
— Верно, — удовлетворенно согласился рейхсфюрер. — Тем не менее мы не можем выводить этот лагерь из-под имперского влияния. Даже если контроль поручен человеку, имеющему определенные и, я бы сказал, значительные заслуги перед рейхом. Сколько евреев находится в лагере?
Обергруппенфюрер Гоффман торопливо зашарил глазами по подготовленным ведомостям. Рейхсфюрер с отеческой улыбкой терпеливо наблюдал за подчиненным.
— Отто, — с мягкой укоризной сказал он, — каждый живой еврей есть имущество рейха. И мертвый еврей, пока он не превратился в дым или не захоронен, тоже является этим имуществом. Я уважаю Эйхмана как трудолюбивого и исполнительного работника, но он всего лишь распорядитель, а не хозяин.
— Сто сорок четыре единицы, — сказал обергруппенфюрер. Полное лицо его апоплексически побагровело, галстук врезался в мощную шею.
— Сто сорок четыре еврея, — с мягкой улыбкой сказал Гиммлер. — Что ж, Адольф Эйхман не лишен определенной театральности. Вы любите театр, Отто?
— Разве можно не любить театр, господин рейхсфюрер? — удивился Гоффман. — Я всегда с удовольствием хожу в Берлинский театр. Особенно если играет эта красавица Ольга Чехова. Она прекрасная женщина и изумительная актриса!
— Восхищаетесь славянкой? — поднял брови рейхсфюрер, с удовольствием наблюдая, как тушуется обергруппенфюрер. — Ладно, ладно, не смущайтесь. Эта женщина очаровала даже фюрера, а фюрер знает толк в женской красоте. В жилах этой женщины течет немецкая кровь.
Он неторопливо надел пенсне, встал из-за стола и с непонятной улыбкой прошелся по кабинету. Весь он был домашний, даже строгий черный мундир на Гиммлере смотрелся гражданской одеждой, и Отто Гоффман вдруг понял, почему рейхсфюрера в СС любовно прозвали «наш маленький Гейни».
— Фрау Ольга, — пробормотал Гиммлер. — Очаровательная госпожа Чехова…
Он вдруг вспомнил, как совсем недавно он разговаривал о театре с фюрером. Как ни странно, причиной разговора вновь стала полубезумная идея Эйхмана.
— Генрих, — спросил фюрер. — Вы любите театр? Безусловно, он есть отражение жизни. В 1925 году я жил в Байройте. Боже мой, какое это было время! Я жил в доме подруги матери Елены Бехштейн. Иногда я смотрю фотографии, их тогда во множестве сделала дочь Бехштейнов — Лотта. Днем я расхаживал в баварском костюме. Ну, вы сами знаете, открытая рубашка, короткие кожаные штаны, чулки до колена и черные полуботинки. Вечерами или если мы ехали на фестиваль, который готовил Зигфрид Вагнер, я надевал смокинг или фрак. В свободные дни мы ездили в Фихтелевы горы или во Французскую Швейцарию.
Генрих, это была сказочная жизнь! Я слушал там «Парсифаля» с Клевингом. У него были сказочная фигура и голос! Я приходил в экстаз, слушая «Волшебство страстной недели»! Там же я посмотрел «Кольцо нибелунга» и «Нюрнбергских мейстерзингеров». Вы представляете, Генрих, партию Вотана исполнял еврей Шорр! Это было прямое оскорбление немецкой расы! И это было сделано намеренно, ведь они могли доверить эту роль Брауну или пригласить исполнить партию Роде из Мюнхена. Но им было наплевать на достоинство нации!
Гиммлер усмехнулся неожиданной повторяемости событий и повернулся к терпеливо ждущему обергруппенфюреру.
— Идите, — отпустил он его. — Идите, Отто. Жизнь стала труднее, я бы рекомендовал вам посетить музкомедию. Сходите на «Летучую мышь». Это хорошая зарядка для организма. Смех лечит все болезни, он дает возможность смотреть на жизнь более оптимистично.
Оставшись один, Гиммлер некоторое время бесцельно перебирал бумаги, не вдумываясь особенно в смысл написанного в них.
Сам Гиммлер не испытывал ненависти к евреям, более того, прежде он со многими из них поддерживал если не приятельские отношения, то по крайней мере встречался с ними на правах хорошего знакомого. Бакалейщики, зеленщики, продавцы птицы, которым Гиммлер поставлял кур и индеек со своей птицефабрики, искренне порадовались неожиданному возвышению знакомого и соседа. «О Генрих, — говорили они в тридцать четвертом. — Вы теперь сидите так высоко, что, наверное, и не помните своих старых друзей. Однако вы ведь не откажете им в защите, если случатся какие-нибудь неприятности?»
Теперь из них почти никого не осталось. Те из них, кто еще оставался жив, находились в концентрационных лагерях или вообще покинули страну.
Однажды в разговоре с Герингом, которого рейхсфюрер откровенно недолюбливал за его псевдоаристократические замашки, Гиммлер спросил, откуда у того такая ненависть, ведь с некоторыми Геринг воевал в Первую мировую войну, одно время, пусть и непродолжительное, механиком, обслуживающим самолет, на котором летал Геринг, был еврей. А ведь от него зависела жизнь Геринга.
Некоторое время Герман Геринг подозрительно смотрел на рейхсфюрера, справедливо ища в его словах подвох. Случившийся при этом разговоре доктор Геббельс с интересом наблюдал, как министр выкрутится из интересного положения.
— Агитаторы, — наконец проворчал Геринг. — Все дело в агитаторах, Генрих.
Во времена Веймарской республики безработный летчик Герман Геринг оказался в разъяренной толпе, которую подстрекал агитатор с характерной внешностью. Геринг был в форме. Толпа пыталась сорвать с него «Железный крест» и погоны. Особенно старались женщины. После этого случая Геринг убедил себя в том, что социалисты и евреи одно и то же, все беды общества происходят именно от них. В одно из воскресений ноября в центре Мюнхена на Кенигсплац проходила манифестация. Именно там он познакомился с невысоким человеком с острым профилем и маленькими черными усиками. Этим человеком оказался Гитлер, о котором к тому времени уже начали говорить в Баварии. Их знакомство переросло в дружбу. Отныне его престиж героя войны, летчика из блестящей эскадрильи Рихтгофена работал на национал-социалистов.
Вместе с тем ненависть, которую Гитлер так необъяснимо питал к евреям, не находила в Геринге того живого отклика, какой она находила у Геббельса или Лея.
Он всегда заступался за своих друзей-евреев, служивших с ним в армии, и с безапелляционностью нацистского бонзы брал их под свое покровительство, вырывая, если это было необходимо, даже из лап гестапо.
Был в жизни Германа Геринга еще один маленький штрих, о котором был прекрасно осведомлен рейхсфюрер. В дни ноябрьского путча 1923 года Герман Геринг получил две пули в живот во время перестрелки на мюнхенской улице Фельдгернгале. Ему тогда удалось скрыться в доме еврейской семьи Баллен. Вскоре верные люди провели Геринга через австрийскую границу и далее в Инсбрук, где будущему рейхсмаршалу сделали операцию. Геринг умел быть благодарным. Семейство Баллен находилось под его покровительством, и некоторые чины из гестапо имели серьезные неприятности из-за того, что не приняли это обстоятельство во внимание.
Но это касалось лишь тех, кому Геринг был чем-то обязан. К остальным он был равнодушен.
Гиммлер понимал и даже уважал слабости Геринга, но считал его рабом обстоятельств. Слишком подвержен был маршал сентиментальности. Это вредило Герингу, делало его зависимым от несчастий отдельных лиц и, следовательно, вредило рейху. Государственный деятель должен быть независимым, над ним не должны довлеть жалость и сострадание, он не должен нуждаться, он не должен быть слабым, государству такие не нужны, государство само нуждается в постоянной подпоре сильной личностью.
Сам Гиммлер был свободен от нравственных предрассудков и глупых обязательств.
Рейхсфюрер считал, что все находится в руках провидения. Гиммлер был мистиком. Он верил своему личному астрологу и считал, что все события на Земле подчинены ходу звезд в небесах.
Великая Германия явилась следствием хода истории. Ее вождь волен был строить великий рейх в соответствии со своими философскими и архитектурными планами. А следовательно, все происходящее было оправдано движением звезд.
Ненависти к евреям Генрих Гиммлер не испытывал. Они были глиной, которая шла на изготовление кирпичей для германской крепости. Что поделать, если в этом промышленном процессе им суждено было уйти в небытие?
Поэтому, посещая концлагеря, рейхсфюрер обращал особое внимание не на людей, которые в них сидели, а на организацию работы. Иногда он даже брал в поездки свою дочь Гудрун. Девочке нравилось внимание со стороны лагерных должностных лиц. Из поездок в лагеря она возвращалась счастливая и с множеством подарков. Она видела, с каким уважением относятся к ее отцу в лагерях, а это укрепляло авторитет Гиммлера в семье.
В семейной жизни рейхсфюрер не был счастлив, но чувство ответственности, позволившее ему стать одним из первых лиц государства, не позволяло ему уйти. Так рейхсфюрер и разрывался между женой и любовницей. От обеих у него были дети. Рейхсфюрер полагал, что человек, не чувствующий ответственности перед детьми, не может руководить народом, ведь он должен любить свой народ куда больше детей.
К евреям Генрих Гиммлер старался относиться как к участвующим в процессе государственного строительства среднестатистическим единицам. И наплевать ему было на то, что в этом строительстве евреи принимали участие жизнью и смертью. В конце концов истинные германцы, тевтонцы, если хотите, они тоже отдавали свои жизни на полях сражений. Чем евреи были лучше элиты рейха?
Польза для государства была главным для рейхсфюрсра. Если еврею суждено умереть, то он должен это сделать с максимальной пользой для рейха. Смерть не должна быть бессмысленной, поэтому Гиммлеру не нравилась затея Эйхмана. Эта затея обесценивала человеческий материал. Умереть легко. Прежде чем умереть, каждый еврей должен был выполнить свой долг перед обществом — искупить вину своей жизни работой.
Вернувшись к столу, Гиммлер поправил пенсне и снова углубился в чтение документов.
Срочно — секретно
В ходе усиленной доставки рабочей силы в концлагерь, завершить которую по приказу необходимо до 30.01.1943, в отношении евреев надлежит действовать следующим образом:
1. Общее число: 45 000 евреев.
2. Начало переброски: 11.1.43 года.
Окончание переброски: 31.01.43 года (имперские дороги не в состоянии в период с 15.12.42 по 10.01.43 года предоставить особые поезда для эвакуации ввиду усилившихся перевозок отпускников из состава вооруженных сил).
3. Разбивка на группы: эти 45 000 евреев делятся на 30 000 евреев из района Белосток и 10 000 евреев из гетто Те-резиенштадта. Из них 5000 трудоспособных евреев, которых до сих пор использовали 8 гетто на необходимых мелких работах, и 5000 вообще нетрудоспособных евреев, в том числе и старше 60 лет. Эту возможность использовать в интересах расширения гетто, так как это мероприятие несколько уменьшит слишком большой контингент, насчитывающий 48 ООО единиц. Прошу выдать на это особое разрешение. Как и до сих пор, для эвакуации будут отбираться только те евреи, у которых нет особых связей и знакомств и которые не имеют высоких наград. 3000 евреев из оккупированных областей Голландии, 2000 евреев из Берлина. Итого: 45 000 единиц. В эти 45 000 включены также нетрудоспособные (старики и дети]. Учитывая реальное соотношение, при отборе прибывающих в Освенцим евреев по меньшей мере 10—1.5 тысяч окажутся пригодными для использования в качестве рабочей силы.
Начальник полиции безопасности и СД 1Y В4 Клейн А — 2093/42 Клейн секр.(391) Исполняющий обязанности Мюллер, группенфюрер СС Исходящий № 229793 от 16.12.1942 года 21.00— Gr, рейхсфюреру СС. Информационное сообщение.Глава четырнадцатая РАСЧЕТЫ ДЛЯ АДА
Человек, который хочет работать, ищет способ, как эту работу выполнить. Бездельник всегда ищет причину, по которой работу выполнить невозможно.
Адольф Эйхман относился к первой категории работников и удивлял своей работоспособностью весь аппарат СД. Действительно, порой было трудно поверить, что объем работ, выполнявшийся оберштурмбанфюрером, можно выполнить в течение одного дня. Начать день в Дахау, а закончить его в Швейцарии, решая противоположные по значимости для рейха задачи.
Эйхман не зря имел превосходные характеристики от руководства.
Он умел, а главное — любил работать.
— Прекрасно, — сказал оберштурмбанфюрер, закрывая округлую дверцу муфельной печи. — И какова производительность этого чуда?
— Мы увеличили производительность каждой, — сказал доктор Прюфер.
Он был представителем администрации машиностроительного завода по строительству отопительных сооружений «И. А. Топф и сыновья», где работал старшим инженером.
— Наша фирма всегда охотно выполняет ваши заказы и идет навстречу пожеланиям своих основных клиентов. Эти новые печи предназначены для кремации и их производительность в комплексе составляет 1440 трупов в сутки. Неплохо, господин Эйхман, не правда ли? Мы обсуждали возникающие проблемы с генерал-майором Каммлером. Он был удовлетворен качеством нашей работы.
Эйхман еще оглядел печь.
— Что ж, — рассудительно сказал он, — доктор Каммлер в высшей степени знающий специалист. Вы предусмотрели автоматическую подачу сырья в печи?
Прюфер снял шляпу и вытер высокий лоб цветным носовым платком.
— У этой модели — нет, — признался он. — Но все последующие крематории будут оснащены транспортерными лентами. Физический труд будет сведен к минимуму — погрузка трупов на линии и чистка печей. Пепел, господин оберштурмбанфюрер, от него никуда не денешься.
Эйхман кивнул.
— Пожалуй, я тоже удовлетворен, — объявил он.
— Вы не хотите увидеть работу печи в действии? — робко поинтересовался Прюфер.
— Увольте, — засмеялся Эйхман. — Терпеть не могу этого запаха. И потом — сажа… После посещения Треблинки мне пришлось выбросить мундир и фуражку. Знаете, доктор, в нашем деле самое главное — это подобрать исполнителей, лишенных обоняния. Воспитать все остальные необходимые качества значительно легче.
Они вышли из крематория.
По безлюдному плацу гулял ветер, завивая маленькими смерчиками пыль. У белого домика коменданта лагеря занимались строевой подготовкой провинившиеся охранники. День был достаточно теплым, и синева неба едва нарушалась проседью облаков. Чистота царила в лагере. Такой чистоты Эйхман не видел даже в Бухенвальде, где жители были буквально помешаны на регулярной тотальной уборке города и даже выходили на улицы, чтобы обеспечить своему уютному городу необходимый порядок.
— По поручению руководства завода разрешите пригласить вас на скромный обед, — с легкой улыбкой сказал Прюфер.
— Надеюсь, это не будет рассматриваться как взятка? — пошутил Эйхман. — Благодаря нам у фирмы «Топф и сыновья» довольно много заказов.
— Да, — сказал Прюфер. — Большая часть Германии, значительная часть Европы. Даже итальянцы заинтересовались нашими изделиями. И все благодаря СС, господин оберштурмбанфюрер!
Эйхман покровительственно похлопал инженера по плечу.
— Держитесь за СС, Карл, — сказал он. — В наше время это беспроигрышный вариант. Все иные приводят лишь к убыткам.
Держитесь СС! В этом была истина тех лет.
Самая могущественная организация Европы, загадочный орден, строящий никому еще непонятное общество, в котором порядок был движущей силой, тем рычагом, которым СС переворачивал мир, имея опорой расовое учение.
Все заключалось в крови. Кровь была носителем Духа.
Это поняли даже добивающиеся собственной независимости представители богоизбранного народа, требующие выезда евреев в Палестину. С самого начала века они пытались строить свой рейх на каменистых землях Малой Азии. Неудивительно, что германская национальная политика пришлась им по душе. Знаменитый еврейский лидер Бен-Гури-он восторженно отметил: «То, чего не могла за многие годы достичь наша пропаганда, совершил за одну ночь несчастный случай».
Держитесь СС!
Печатный орган СС «Das schwarze сог» в середине тридцатых годов с умилением писал: «Недалеко то время, когда Палестина сможет принять назад своих сыновей, потерянных более тысячи лет назад… Пусть их сопровождают наши пожелания плюс благосклонность государства».
Немцам было от чего ликовать. Каждый эмигрант мог взять в Палестину лишь десять процентов своего имущества, остальное оставалось в рейхе. Предприниматели, выезжавшие в Палестину, способствовали притоку туда капитала. Сотрудничество двух мировых сил было выгодно обеим сторонам, поэтому и не был принят план американского президента Д. Рузвельта, которым предусматривалось создание всемирного убежища для преследуемых нацизмом лиц.
С представителем «Хаганы» Фейфелем Полкесом Адольф Эйхман познакомился еще в бытность сотрудником отдела «11 — 112». Было это, кажется, в тридцать пятом. Тогда они оба были моложе, фюрер еще не объявил евреев существами, стоящими в иерархии мира вне людей и животных, поэтому Фейфель и Адольф быстро нашли общий язык. Они импонировали друг другу. Кажется, в те годы они даже называли друг друга по именам и даже бегали в один публичный дом из числа тех, которые организовывал в целях обеспечения государственной безопасности Гейдрих.
В тридцать седьмом Полкес организовывал визит Хагена и Эйхмана на Ближний Восток. Обершарфюрер СС Герберт Хаген был тогда начальником отдела «11 — 112» и отправился на Ближний Восток под видом студента. Эйхман ехал в командировку как редактор газеты «Berliner tageblatt». Командировка пришлась на время арабского восстания, и в Хайфе эсэсовцы не смогли сойти на берег. Поэтому встреча с Полкесом состоялась в Каире. Командировка оказалась удачной. Полкес согласился сотрудничать с СД и передал ценную информацию о передвижном передатчике коммунистов, курсировавшем вдоль границы рейха с Люксембургом, и сообщил о просоветски настроенных арабских эмирах. Спустя некоторое время Полкес стал шефом резидентуры разведывательных служб рейха в Сирии и Палестине. Одновременно в ведении Полкеса находилась вся служба безопасности евреев в Палестине. Что и говорить, это был крайне выгодный союз! -
Теперь они встретились с некоторой настороженностью.
Время изменило обоих.
У Полкеса четко обозначились залысины. Во рту у него появились золотые зубы, и Эйхман невольно обратил на них внимание. Глупо, но директивные документы не забывались. В начале их знакомства Эйхман был гаупт-шарфюрером и скромным сотрудником отдела «11—112». Фон Мильденштейн вложил в него много, он мог гордиться своим учеником, поднявшимся до возможных вершин германской иерархической лестницы. Совсем недаром Эйхман считался сейчас специалистом по еврейскому вопросу и сионизму. Он настолько изучил свой предмет, что в Главном управлении СД ходили слухи, что он родился в семье палестинского немца и лишь недавно переселился в Германию. На самом деле Адольф знал Палестину лишь по книгам и рассказам агентуры, он родился в Золингене и долгое время жил в Верхней Австрии, откуда и прибыл в Берлин с одобрения другого австрийца — Эрнста Кальтенбруннера.
Полкес с интересом рассматривал старого знакомого. В черных глазах еврея не было страха, в них жило нетерпеливое любопытство и желание понять, как сильно изменился Эйхман.
Они встретились в небольшом и уютном швейцарском ресторанчике на берегу Женевского озера. Полкес представил Эйхману человека, из-за которого он приехал в небезопасную Европу из Иерусалима.
Эйхман, в свою очередь, с интересом разглядывал сидящего напротив человека.
— Доктор Рудольф Кастнер, — представил его Полкес.
Даже на первый взгляд этот человек произвел на Эйхмана впечатление. Высокий, поджарый, с внимательным ледяным взглядом, доктор Кастнер кивнул.
— Рад познакомиться, — сказал он. — Надеюсь, вам нравится этот ресторанчик? Самое спокойное и уютное место в этом сонном царстве.
Пока официант сервировал стол, беседа велась на нейтральные темы — о правительстве Виши и поведении де Гол-ля, этого французского верзилы, возглавившего бежавшую из Франции армию «лягушатников». Поговорили о снабжении Берлина и урожае года. Доктор Кастнер курил ароматные сигареты, доставая их из серебряного портсигара и прикуривая от серебряной зажигалки. Вел он себя непринужденно и хладнокровно, словно беседовал с коллегой, а не эсэсовским чиновником, от которого зависела судьба евреев, оставшихся на оккупированных территориях.
Его лоск и выдержка изумляли Эйхмана.
— У вас изумительная выдержка, — заметил он. — Вы моли бы стать идеальным гестаповским офицером, доктор.
Кастнер еле заметно усмехнулся и, прежде чем ответить, сделал ленивую затяжку.
— Я уполномочен руководством сионистского движения вести эти переговоры, — сказал он. — Полкнес посвятил вас в детали?
— В общих чертах, — сказал Эйхман, умышленно оставляя инициативу собеседнику.
— Нас беспокоит судьба многих евреев, которые пока еще находятся в Венгрии, — сказал Кастнер. — Не скрою, там находится много лиц, которых мы хотели бы видеть в Палестине.
Эйхман покачал головой.
— Наши руководители смотрят на эти вещи иначе, — сказал он.
— Фюрер дал указание решить еврейский вопрос до конца сорок третьего года. Вы сами знаете, что это значит.
Кастнер внимательно посмотрел ему в глаза и спокойно стряхнул пепел в пепельницу.
— Разумеется, — сказал он. — Но хорошо известно, что из любого правила бывают свои исключения. Мыс вами могли бы поискать компромисс…
— Например? — спросил Эйхман, глядя, как Полкнес разливает вино, жестом отпустив официанта.
— Мы могли бы выплатить за каждого из тех, в ком заинтересованы, определенную сумму.
— Я не думаю, чтобы это могло заинтересовать руководство рейха, — честно ответил Эйхман. — Как я понял, вас интересует не один и даже не десять человек. Вы рассчитываете на большее.
Кастнер едва заметно кивнул.
— Возможно, речь пойдет о сотнях или даже тысячах человек, — сказал он. — Это был бы хороший гешефт, господин Эйхман. Часть денег мы могли бы перечислить на отдельный счет в ту страну, где его владельцу было бы удобно открыть его…
Эйхман засмеялся.
— Все-таки не зря говорят, что в каждом еврее живет торгаш, — сказал он. — Мы еще не договорились в деталях, а вы уже пытаетесь купить меня, доктор Кастнер. Но ведь вам прекрасно известно, что я из СС, а СС денег не берет, эсэсовцу легче потерять жизнь, чем свою честь!
Доктор Кастнер нетерпеливо взмахнул сигаретой.
— Оставим это для агитационных брошюр, — сказал он. — Я понимаю, что за вашей спиной тоже не пусто и вам трудно принять решение сразу, не обсудив его со своим руководством.
Будем говорить откровенно, мы могли бы обеспечить порядок среди тех, кто останется в ваших лагерях. Они не будут бунтовать, они не возьмут в руки оружие, они будут терпеливо дожидаться своей участи. Взамен вы закроете глаза на то, что несколько тысяч отобранных нами людей эмигрируют в Палестину. Разумеется, вопрос о денежных компенсациях остается прежним и будет определен соглашением сторон. Вы считаете это справедливым?
— Я думаю, это будет правильным, — согласился Эйхман. — Что касается отобранных вами людей… Не будет ли справедливым, если мы их немного разбавим теми, кого отберем мы?
— Согласен, — сказал доктор Кастнер. — Но вопросы компенсационных выплат на этих лиц распространяться не будут. Я полагаю, что эти люди будут противостоять английскому влиянию в арабском мире? В этом будем заинтересованы и мы. Вы создаете в Европе свой тысячелетний рейх для немцев. Мы будем делать то же самое, но в Палестине. Вы изгоняете нас из Европы, мы с этим готовы смириться. В обмен на историческую родину, с которой нас так несправедливо изгнали.
— Вы меня удивляете, — сказал Эйхман. — Я не думаю, что вы так наивны, как пытаетесь показаться. Тысячелетняя империя не ограничится Европой. Это организм, которому будет нужен весь мир. Знаете, во времена кайзера была такая песенка. — Он прикрыл глаза и пропел:
Даже негритята В Африке большой, Даже негритята Просятся домой: — Хотим опять в колонию, в рейх наш дорогой, в рейх, в рейх, в рейх…Боюсь, что ее поют и сейчас. Даже более усердно, чем раньше!
— Пусть в этом разбираются вожди, — хладнокровно сказал Кастнер. — По моему мнению, все не так страшно. Вы — молодая нация, в вас играет сила. Придет время, и она уступит место мудрости. Фюрер не вечен, вечен народ, а народу однажды надоест убивать и захочется созидать. Мы подождем.
— Ожидание может затянуться, — сказал Эйхман. — В один прекрасный день вы можете обнаружить и себя, и свой народ возле возлюбившего вас Господа. Лично мне кажется, именно в этом спасение для евреев. Вы — нация-вирус, во все времена и во всем мире вы были изгоями. Евреи оказались слишком умны для всего остального мира. Тем они и опасны. Вы достаточно умны, и образованны, доктор, чтобы я опирался сейчас на исторические примеры.
Кастнер широко улыбнулся.
— Не старайтесь уязвить меня, — сказал он. — Во времена Чингисхана монголы вторглись в Персию и вырезали там всех, до кого смогли дотянуться. И что же? Империя не ушла в ничто, хотя от населения ее осталось чуть более десяти процентов. Вы забываете, мы были в египетском рабстве до Моисея, тем не менее мы выжили. Нас резали римляне, но мы снова выжили. Выживем и теперь, надо только запастись терпением, а нашему народу терпения не занимать.
— Я доложу ваши соображения рейхсфюреру, — сказал Эйхман, тайно восхищаясь способностью доктора вести разговор в нужном ему направлении. — Думаю, что мы можем найти определенные точки для взаимопонимания.
Он поднял свой бокал, в котором нежно переливалось «кьянти».
Доктор Кастнер чокнулся с ним, уважительно опустив край своего бокала чуть ниже бокала Эйхмана, словно признавая, что окончательное решение принадлежит собеседнику и его окружению в Германии.
— Послушайте, доктор Кастнер, — сказал Эйхман, делая маленький глоток восхитительного вина. — Но ведь тем, кто останется у нас, им ведь будет обидно, что вы спасаете избранных?
Кастнер качнул головой, неторопливо достал свой серебряный портсигар, так же неторопливо достал из него новую сигарету и прикурил от своей замечательной зажигалки. Над столом поплыл голубоватый дымок. Пожалуй, уже этот сигаретный дым был ответом Эйхману, но его собеседник все-таки сказал, твердо глядя в глаза Адольфа:
— Мы не будем их считать погибшими. Просто это будут те среднестатистические единицы, которые эмигрировали не в Палестину.
Простота, с которой этот рафинированный иудей предал своих собратьев во славу идеи еврейского государства в Малой Азии, удивила Эйхмана. Более того, она его поразила. Работая в СД, Эйхман часто встречался с предательством. Иногда предавали из-за неудовлетворенного самолюбия, чаще предавали из-за денег или иной, не менее гложущей душу корысти, были и такие, что предавали из-за идеи, в большей степени это относилось к коммунистам, работающим на Советы. Но масштабы задуманного предательства, высказанного в качестве идеи в ресторанчике нейтральной страны, не могли не поразить воображения Эйхмана. В конце концов редкие вожди могут послать на смерть целый народ лишь только для того, чтобы этот народ имел возможность вернуться на обетованную родину и посадить этих вождей на свою шею в качестве правителей.
Иуда был мелок.
Эйхман досадливо поморщился. Его идея казалась ему сейчас тривиальной и лишенной блеска.
— Хорошо, — сказал он. — Если главное уже сказано, от нас ничего не зависит. Я доложу рейхсфюреру. А пока… Пока давайте отдыхать. Немцу во время войны так редко удается почувствовать себя нормальным человеком… Как вы думаете, Фейфель, здесь есть приличные бабы? Или вы, как патриот и истинный сионист, думаете только о еврейках?
Кастнер неторопливо потушил сигарету.
— Кстати, — сказал он, — в вашем ведении находится некий Ицхак Назри. Скажу откровенно, меня очень интересует этот человек.
Эйхман торжествующе улыбнулся.
— Вы что-то говорили о среднестатистических единицах? — спросил он. — Так вот, эта самая среднестатистическая единица, которую именовали когда-то Ицхак Назри, является моей исключительной собственностью. Вы можете купить у рейхсфюрера всех евреев Европы, но не сможете купить у меня Ицхака Назри. Он мой и останется таковым до самого последнего дня!
— Пусть так, — терпеливо сказал Кастнер, закуривая новую сигарету. — Скажите, вы не заметили в нем что-то удивительное?
— У него удивительная судьба, — мечтательно и почти счастливо сказал Эйхман.
АДОЛЬФ ЭЙХМАН, оберштурмбанфюрер СС, родился в Золингене в 1907 году. В НДСАП с 1935 года. Прирожденный организатор. Весьма одаренный, скурпулезный и трудолюбивый специалист. В СД с 1934 года, прошел путь от рядового картотетчика отдела «11 — 112» до компетентного эксперта по вопросам сионизма и еврейства и позже начальника отдела 1Y-B гестапо. Награжден орденами и медалями рейха. Женат. Прекрасный семьянин. По отношению к подчиненным справедливо требователен и заботлив.
Неоднократно выезжал за границу рейха для выполнения специальных заданий правительства. При выполнении заданий рейха за границей проявил себя с исключительной стороны. Пользуется уважением рейхсфюрера СС. Выполнял специальные задания руководства на восточных территориях рейха, где проявил себя как жесткий и требовательный, но справедливый руководитель.
Из служебной характеристикиГлава пятнадцатая ЖИЗНЬ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
Среднестатистическая единица безлика.
Никого не ужасает, что ежегодно в автомобильных катастрофах на Земле гибнет около миллиона человек. Ужасает конкретная авария, разбитые машины, кровь и куски тел на асфальте, вопли машин «скорой помощи» и крики пострадавших. Не ужасает сообщение о том, что на Земле ежегодно от голода и болезней умирает более двух миллионов детей. Ужасает конкретный маленький рахитик с вздувшимся животом и потухшим взглядом. Даже узнавая, что на сто тысяч человек приходится сто восемьдесят две тысячи ног, мы не можем высчитать число инвалидов, ведь нам неизвестно, сколько из них потеряли только одну ногу, а сколько — обе.
До сих пор историки спорят, сколько человек погибло в гитлеровских лагерях. Оперируют миллионами и забывают, что каждый ушедший человек — это погашенная свеча и несбывшаяся надежда.
В вонючем бараке задыхались и кашляли среднестатистические единицы, сброшенные рейхом с пространства, именуемого жизнью.
Вчера еще они были разными людьми, еще только подававшими надежды или отгоревшие, словно осень, но чаще полными сил и желания жить. Вчера они были теми винтиками, без которых механизм, именуемый обществом, не мог нормально работать. Но нашелся безумный механик, который разобрал этот механизм и собрал его заново. Оказалось, что адское изобретение этого механика продолжает действовать, но уже без них, и работа, производимая механизмом, стала безжалостной и точной, потеряв без них главное — необходимость человечеству.
Но, устраненные из общества жесткой рукой, они сами не перестали быть людьми. Сколько ни пытайся унизить и произвести в скотское состояние человека, он не перестанет быть самим собой. Унизится тот, кто и при жизни был недалек от животного, станет скотом тот, кто сам жил вожделениями и кормами, человек в любых обстоятельствах останется самим собой.
В канун Рождества немецкий ефрейтор из охраны лагеря, воровато озираясь, сунул Ицхаку Назри увесистый сверток и принялся толкать его прикладом в барак, словно стеснялся своего поступка и яростно сожалел о нем.
В своем углу Ицхак рассмотрел подношение неожиданного волхва.
В свертке было пять круглых хлебов и пять продолговатых рыбин, породы которых никто не знал.
— Бог знает свое творение, — сказал Ицхак. — Дели, Симон!
Откуда-то взялся кусок газеты, в которой доктор Геббельс обещал германским подданным рай. Два пустых спичечных коробка, уравновешенных на нитке, вдетой в иглу, превратились в хитроумные весы.
— Если когда-нибудь Бог будет взвешивать человеческие поступки, — сказал Ицхак, — он обязательно будет делать это на таких вот весах. Именно на них будет видна цена слезам и горю, подлости и коварству…
— Не мешай, — сказал Симон, разрезая суровой сапожной ниткой маленькие куски хлеба на совсем уже мелкие. — Только не говори ничего под руку, ведь так легко ошибиться!
Люди сумрачно подходили к нарам. Иаков, отвернувшись к стене, называл, кому достанется пайка. Хлеб был пшеничным, он совсем не походил на лагерный суррогат, смешанный с опилками. От него пахло домом и прошлым. От рыбных крошек на хлебе исходил аппетитный дух.
— А мои в Освенциме, — сказал Фома, печально разглядывая хлеб. — Хоть бы письмо прислали… Как они там устроились, есть ли жилье… У Исава слабые легкие, надо ему больше гулять на свежем воздухе. Ему всего двенадцать, а врачи одно время даже подозревали туберкулез. Слава Богу, туберкулеза у него не оказалось, просто хронический бронхит. Я не понимаю, почему Руфь не пишет? Кстати, хоть кому-нибудь за последнюю неделю приходили письма от родных?.
Никто ему не ответил.
Фома посидел немного рядом с Симоном и, сгорбившись, побрел на свое место. Все знали, что там, в щели между досками, у него лежит маленькая фотография семьи, которую Фома ухитрялся сберечь во время любых шмонов, которых в лагере было достаточно, ведь поводов к ним охране искать было не нужно.
Рыба и хлеб будили воспоминания о прошлом.
Дитерикс долго по-стариковски облизывал пальцы, потом печально сказал в пространство перед собой:
— У фрау Мельткен на Фридрихштрассе была замечательная кондитерская. Мы с детьми всегда покупали у нее меренги. Боже, какие это были меренги! Она удивительно готовила взбитые сливки. Мы ставили вазочку с меренгами на стол и дети тут же расхватывали все пирожные…
Еще несколько лет назад будущее представлялось нам Зеленой лужайкой… У англичанина Уэллса я читал рассказ… Кажется, он называется «Зеленая калитка»… Странный рассказ о человеке, который в детстве открыл попавшуюся ему на дороге калитку и оказался на цветущей лужайке. На этой лужайке играла мячом пантера. И вот он стал взрослым, но воспоминание о цветущей поляне не отпускает его, и человек, который уже стал к тому времени министром, мечтает найти зеленую калитку и вновь вступить в чудесный мир, где ему было так хорошо. И вот ему кажется однажды, что он нашел такую калитку. Он ее открыл, шагнул вперед — но за калиткой мрак. Там нет лужайки с пантерой! Оказывается, он шагнул в шахту, в которую и провалился…
Иногда мне кажется, что мы все провалились в темную шахту и на дне ее копошатся чудовища…
Это же ощущение было и у Евно Азефа.
Ощущение, что его окружает ад, не отпускало Азефа.
Ночами ему снилось, что из темного угла барака появляется хмурый и сосредоточенный Савинков. За спиной Бориса Викторовича стоит Чернов и держит руки в карманах. Савинков наклоняется, пристально вглядываясь в изможденное лицо своего бывшего боевого руководителя, удовлетворенно кивает и негромко говорит:
— Это тебе за обман, Евно! Это тебе за обман!
И тогда Азеф слышит, как где-то внизу, ниже холма, возведенного у колючей проволоки, отделившей лагерь от остального мира, кто-то урчит умиротворенно, словно страдания людей насытили неведомую утробу.
Одним серым безрадостным утром он услышал, как кто-то хрипловато декламирует в туалете:
Этот господин в котелке, С подстриженными усами, Он часто сидел между вами Или пил в уголке. Он родился, потом убил. Потом любил. Потом скучал. Потом играл. Потом скончался. Я не знаю, как он по имени назывался И зачем свой путь совершал. Одним меньше. Вам и мне все равно. Он со всеми давно попрощался. Когда принесут мой гроб, Пес домашний залает, И жена поцелует в лоб, А потом меня закопают, Глухо стукнет земля, Сомкнется желтая глина, И не будет того господина, Который называл себя: Я…[2]Азеф прижался щекой к холодному острому углу грубо оштукатуренной стены и едва не заплакал от внезапного отчаяния — Савинков все не оставлял его, даже мертвый, он пытался схватить Евно Азефа из гроба и увести туда, откуда еще никто не возвращался.
Он вошел в туалет, сделал утренние дела и заторопился на построение. Охрана очень не любила опозданий на утренние построения, опоздавшие сурово наказывались поркой перед строем на специальных козлах, которые изобрел бывший учитель биологии, а ныне штурмфюрер СС Отто Блаттен.
Стоны из угла смутили Евно Азефа, и он торопливо отвернулся. В углу Фридрих Мельцер, бывший парикмахер из Дрездена, отдавался Герду Райну за две сигареты из эрзацтабака.
Все-таки Евно не повезло. На выходе его поймал ефрейтор Кранц и приказал сделать двадцать отжиманий от земли. Евно ворочался на земле, в ноздри ему бил запах гуталина от сапогов охранников, над охранниками плыло сизое облако дыма.
— Ты проиграл, Вилли, — сказал один из охранников ефрейтору Кранцу. — Этот старик и десять раз не отожмется, а ты говорил о двадцати! Самое время послать его на проволоку, этот жид только зря ест германский — хлеб!
— Ты дурак, Герхард! — сказал Кранц. — Из-за этого старика пристрелили Бекста. Боже упаси нас участвовать в играх, которые задуманы наверху! — Он приподнял Евно Азефа за шиворот, пинком ноги в костлявый зад направил его в сторону плаца. — Быстро! Старый маразматик, тебе надо тренироваться, в твои годы надо быть в лучшей форме, ты не должен огорчать честных людей!
Вечером Азеф сидел перед фон Пилладом.
Штурмфюрер, выслушав обстоятельный доклад своего доносчика, задумчиво подергал мочку своего уха.
— Значит, он все-таки накормил их хлебом и рыбой, — пробормотал штурмфюрер. — Странно… Он казался мне более слабым человеком.
Сообщение о том, что Азеф наблюдал в туалете барака, штурмфюрер принял с необычным хладнокровием.
— Другого я и не ждал, — сказал он. — Грешники остаются сами собой в любых условиях. Они согрешат даже в аду, если у них появится такая возможность. А вы ждали иного, Раскин? Между прочим, жители Содома и Гоморры, которых наказал за гомосексуализм Господь Бог, они были иудеями. Немцы в этом отношении куда чистоплотнее, фюрер приказал посадить всех гомосексуалистов в лагеря, пусть они предаются своим грешным наклонностям за колючей проволокой. Это вы постоянно бормочете о свободе и демократии. Смысл жизни в наследственной крови. А самец, как бы его ни трахали, никогда не сможет дать потомства! Так ты говоришь, за две сигареты? Щедрая плата за свальный грех! Но вернемся к делам, Раскин!
Почему в твоих сообщениях нет информации о том, что ваш проповедник призывает к сопротивлению?
— Потому что он к этому сопротивлению никого не призывал, — сказал Азеф.
— Мне плевать на то, что думаешь ты. Непокорный дух должен звать к непокорности. Садись и пиши, что тебе сказано!
Видно бйло, что фон Пиллад не в духе. Мало ли причин могло быть у штурмфюрера для этого? Начальство накричало или дела пошли совсем не так, как фон Пиллад этого хотел. Или неприятности случились в семье. Наконец, штурмфюрера могла просто мучить изжога. Какое дело было Евно Азефу до настроений начальства? Он пожал плечами и молча склонился над листом бумаги, пробуя с уголка перо. На столе перед Азефом стояла вычурная бронзовая чернильница. Такая чернильница была бы достойна Гёте — на плоской подставке высился холм, на холме горел костер и в пламени его темнел котел, в который были налиты чернила. Рядом с чернильным котлом сцепились в поединке дьявол и черт. Одному року было ведомо, кто в этой жестокой схватке победит.
Уже позже, лежа в вонючем бараке и слушая ночные стоны и хрипы товарищей по несчастью, Азеф пытался быть особенно честным с собой и пытался понять, что заставляет его предавать тех, кто был с ним по одну сторону баррикад. Страх? Но страха больше не было, однажды вспыхнувший животный ужас ушел, оставив место тупому отчаянию и покорности судьбе.
Он вновь и вновь вспоминал свой разговор с фон Пилладом, уже не удивляясь превратностям этого разговора. Штурмфюрер использовал Азефа, как парикмахер использует оселок, чтобы отточить на нем бритву, которой назначено коснуться горла клиента. Азеф привык к его хамскому обращению. Возражать было глупо, не может бритвенный оселок возражать против бесцеремонного обращения с ним хозяина, не может коса протестовать против того, что ее режущую кромку отбивают часами, добиваясь немыслимой, но обязательной остроты.
— Нас часто упрекают в ненужной жесткости, — сказал штурмфюрер. — Особенно коммунисты и проросшая евреями финансовая верхушка Америки. Но ведь это их Дарвин утверждал, что жизнь — это яростная борьба видов за выживание. Чего скулить, если один вид проявил великое искусство выживания и подмял под себя остальные? Германской расе уготовано великое будущее, мы идем вперед там, где все остальные топчутся на месте, сдерживая ложной позицией гуманизма.
— Легко вместе с водой выплеснуть ребенка, — возразил Азеф. — Бескомпромиссность не лучший способ прорваться вперед. Природа не терпит расталкивания ее среды кулаками, поэтому все революции обречены на поражение.
Я никогда не верил в террор, сила не сокрушает власть, ее сокрушает такая же власть, если она более надежно и всесторонне прорастает в массах.
— Глупая сентенция, — заметил фон Пиллад. Во взгляде его горело упрямство и возражение. — Побеждают не книгой, а кулаком, бомбами, пулеметами, кровью! Идею утверждают силой!
— У меня такое чувство, что это не я, а вы были знакомы с Савинковым, — вздохнул Азеф. — Вы повторяете то, что не раз говорил он. Слово в слово… Был у него такой роман, «То, чего не было» этот роман назывался. Там эти слова произносит один из героев. Кстати, там есть и о предательстве, проблемы которого столь милы вашему сердцу.
Фон Пиллад усмехнулся.
— Раскин, — сказал он. — Ты никак не можешь забыть мертвеца. Ты нерасторжимо связан с ним. А ведь он мог кончить жизнь на плахе из-за твоего предательства. Если ты неотделим от Савинкова, почему ты не покончил с собой, когда был уличен в предательстве? Почему не поступил подобно библейскому герою, самостоятельно выбрав себе наказание?
— Наверное, потому, что тот предал Сына Божьего, — сказал Азеф. — А я предавал людей с их страстями и недостатками.
— Трудно предавать друзей? — с любопытством спросил Пиллад.
Азеф безразлично пожал плечами.
— Это же дело, как и всякое другое. К нему со временем просто привыкаешь и стараешься не мучить себя угрызениями совести.
Савинков так сказал о терроре Сомерсету Моэму. Английскому разведчику было трудно свыкнуться с мыслью, что убийства, способные решить политические противоречия, можно было приравнять к делу. Фон Пиллад был воспитан иначе, поэтому он даже не удивился, когда его агент назвал делом предательство. Вся страна, весь тысячелетний рейх жили в понимании, что предательство бывает преступлением, когда предают рейх и его интересы, но предательство становится благим делом, когда оно направлено на защиту интересов рейха. Впрочем, не теми же вывертами живет любое иное государство, не является ли для любого государства героем тот, кто в угоду интересам этого государства предает интересы своей страны? Не стало ли привычным деление предателей на своих хороших разведчиков и их плохих шпионов?
И опять встает вопрос: бывает ли предательство благам?
Нет в этом вопроса. Человек, который отдает государственной службе бандитов и торговцев наркотиками, — не действует ли он во благо общества и не является ли хорошим разведчиком, этаким чужим среди своих, пусть даже с подмоченной судимостями биографией.
Благородно ли и по совести поступает агент, разрабатывающий в камере серийного убийцу и склоняющий последнего к полному признанию его черных деяний?
Иной скажет, что это хорошо.
Но почему же виновным и грешным становится тот, кто предает своих друзей, имеющих взгляды и действующих против интересов своего государства? Особенно если за это предусмотрена уголовная ответственность? И чем отличаются друг от друга тот, который предает товарищей из-за веры в незыблемую справедливость законов, и тот, кто делает это за деньги?
Если мы оправдываем первое, как неизбежное и полезное зло, но напрочь отвергаем второе, то следует говорить о безнравственности законов, возводящих помыслы и суждения в преступление, но не обвинять в безнравственности «стукача».
Отвергая предательство целиком, мы порой оставляем на свободе и в безнаказанности зло, позволяем убийце убивать дальше, бандиту перейти от грабежей к убийствам, насильнику продолжать калечить человеческие судьбы. Разве это не безнравственно и подло?
Но, думая об этом, можем ли мы найти золотую середину, которая удовлетворила бы все общество?
Воспитание… Именно оно порождает отношение к предательству. Это отношение различно у американца и русского, но оно схоже у русского и немца, и у ряда иных народов, которые жили под властью нацизма и сталинского государственного капитализма и знали, каким образом режимы решают задачи охраны власти.
Человек в таком обществе только функция, которая решает государственные задачи. Впрочем, эта функция является постоянной, удивительно ли, что предательство остается единственным грехом, у которого нет светлой оборотной стороны. Ты можешь предавать из идейных соображений, можешь руководствоваться корыстью, предавать из мести и ревности, из ложного чувства патриотизма, из обиды, что тебя не оценили должным образом, но в любом случае ты предаешь того, кто тебе доверился, будь это государство, группа единомышленников или один-единственный человек, который поверил в твою бескорыстную дружбу.
Мысли эти не давали Азефу спать, он ворочался на жестких нарах, мысленно возражая фон Пилладу или соглашаясь с ним, потом из темного угла барака вышел хмурый Савинков, прожег Азефа взглядом и сказал:
— Это тебе за обман, Евно! Это тебе за обман!
Мы хотим жить, как люди живут… Ну вот я подумал: что же тут странного, что какой-то там доктор Берг — вероятно, крупный богач — провокатор? Ну испугался или, может быть, продал себя… Велика важность — продал? Ведь он же интеллигент… Интеллигенты каждый день ведь себя продают… Разве, например, чиновники не интеллигенты? А разве они себя не продают на базаре, потому что в чем служба? Служба в том, чтобы делать против народа и за то получать деньги… Ха… Ну и, значит, они себя продают.
Борис Ропшин. Из романа «То, чего не было»Глава шестнадцатая ЗАПАХ ДЕРЕВА, НЕБЕС И ЗЕМЛИ
Древесина подобна человеческой плоти.
В одном случае она являет собой мягкость и покорность замужней женщины, берегущей свой очаг. Такова древесина у липы и ореха, она податлива, она мягко обволакивает резец, впуская его в свои глубины и раскрываясь навстречу так, как только может раскрыться навстречу любимому человеку женщина.
У дуба древесина подобна плоти силача, она напружинена, она полна внутреннего сопротивления резцу, задумавшему лепить из нее изделие, необходимое человеку. Но наступает момент, когда она поддается и становится тогда незаменимой для изготовления мебели и панелей, которыми так гордится изготовивший ее мастер.
С дубом связано еще одно качество, недоступное другим. Попав в воду, иная древесина гниет, дуб же, оказавшись в воде, только темнеет и приобретает прочность металла. Поделки, изготовленные из мореного вымоченного дуба, столь же прочны и условно бессмертны, как изделия из керамики и металла.
Тверда и неуступчива древесина бука, но в ней есть внутреннее благородство, неуступчивость бука сродни жесткости и неуступчивости сильного духом мужчины, склонного к авантюрам и не боящегося смерти.
Благороден тис.
Древесина лиственницы подобна тренированному телу спецназовца, с годами она становится только прочнее и крепче. Она тяжела в обработке, но изделия из нее почти вечны. Она тяжела и молчалива, она с трудом поддается обработке, но все-таки ткани лиственницы хранят и приумножают лучшее из того, что дала дереву природа.
Корабельные сосны прямы и величавы, но годятся лишь на мачты для гордых парусников.
Обычная сосна, истекающая смолой, мало пригодна для поделочных работ, но в большинстве своем именно ее древесину используют люди на свои нужды — от стропил крыш своих жилищ до последнего убежища своей плоти, когда приходит время предать эту плоть земле.
Иосиф Цукерман любил работать с деревом, а потому стал плотником.
Древесина была в его длинных умелых пальцах как бумага в руках философа, оставляющего на ней следы своих размышлений. Резец снимал стружку, убирал лишние бугорки, и постепенно мертвое дерево превращалось в живое произведение, при виде которого любопытствующего свидетеля охватывал восторг и удивление — да можно ли так обращаться с куском древесной плоти?
Когда-то изделия мастера с успехом продавались на торговых выставках, но с началом кампании, призывающей ничего не покупать у жидов, Иосифу пришлось заняться новым делом — он стал гробовщиком, и немало последних прибежищ для бессловесной плоти вышло из-под его рук.
Мастер, взрастивший себя до художника, Иосиф и в нехитром ремесле поднимался до высот, делавших это ремесло подлинным художеством.
В концлагере никому не было дела до высокого мастерства, а гробы — ну что же гробы? — они тоже в лагере никому не были нужны. Разве что вахмистру Бексту, — его увезли на родину в закрытом гробу, который изготовил Цукерман. Да и то в этом случае Иосиф Цукерман впервые в жизни схалтурил, даже дерево для гроба использовал сырое и некачественное. Хорошему человеку обязательно нужен хороший гроб, плохому человеку достаточно будет и плохого.
Смешно, но Иосиф Цукерман гордился, что сделал такое — с виду гроб выглядел роскошно, коричневый бархат на нем лежал торжественно, а внутренности напоминали из-за атласа свернувшуюся ракушку. Но ведь не жемчужина человеческого духа лежала в нем! Поэтому Иосиф и сделал так, чтобы в первые же осенние дожди или с таянием жидкого южногерманского снега гроб этот вобрал в себя все подземные потоки. Ни к чему сохранять плоть человека, чей дух будет обязательно мучиться в Аду!
Сейчас, с удовольствием разглядывая тяжелые желто-розовые пластины, плотник, кажется, даже мурлыкал от удовольствия.
— Видишь, мальчик, — сказал он семнадцатилетнему Ионе Зюскинду. — Это хорошее дерево. Это очень хорошее дерево, мальчик. Это ливанский кедр, дерево, которое плачет под инструментом. В палестинских церквях распятия сделаны из него. Хорошее дерево… — удовлетворенно пробормотал он, взяв в руки рубанок и проглядывая на свет плоскость его широкого дерева. — Видишь, оно розовое, как плоть человека. От него пахнет пустыней и морем, ведь оно и есть дитя двух стихий — пустыни и моря.
Иона, открыв рот, смотрел, как умелая рука бережно укладывает длинный тяжелый брус на верстак, как бежит по неприметным изгибам дерева рубанок, оставляя за собой гладкую поверхность, которую хотелось гладить пальцами.
Еще больше ему нравился запах дерева, стоящий в столярной мастерской концлагеря. Охрана знала, что Иосиф Цукерман мастер во всем, что касается дерева, поэтому приватных заказов у него было хоть отбавляй. Из-за этого у Цукермана никогда не переводились сигареты и хлеб, а порой даже мастер позволял себе выпить шнапса из бутылки, которую ему приносил концлагерный Михель, чтобы Цукерман сделал ему заказ с баварской широтой, которую так любили южные немцы.
Они даже прощали Иосифу Цукерману его еврейские шуточки и дребезжащий козлетон, которым мастер напевал ариетки. У Цукермана не было ни голоса, ни слуха, поэтому в хор ему путь был категорически заказан. А вот в своей мастерской он мог петь в полный голос и не бояться насмешек и унижений, на которые было гораздо лагерное воинство, проявлявшее суровость и жесткость, чтобы не попасть на Восточный фронт. Мечты немецких обывателей об украинских раздольных поместьях, где колосилась пшеница и свиньи запросто вымахивали до трехсот, а то и поболее килограммов, эти мечты постепенно теряли свою привлекательность.
Шорох рубанка, вгрызающегося в сладкую плоть дерева, рождал в Цукермане чувство, близкое к сексуальному экстазу.
Иона смотрел, как он щурит левый глаз, проверяя брус на прямоту, собирал стружки в фанерный короб, а потом сам неуверенно становился за верстак, чтобы попробовать обнажить дерево до невыносимо нежной гладкости, походящей розовостью своей на женскую плоть, которая жила еще лишь в воображении юноши.
Однажды Иона спросил:
— Мастер, каковы женщины? Мне уже семнадцать лет, а я никогда не знал женщины. Действительно ли они так хороши, как иногда говорят о них мужчины в бараке?
Иосиф Цукерман с тоской и сожалением посмотрел на юношу и вновь взялся за рубанок. Тому, кто никогда более не увидит женщины, надлежит узреть Бога. Но Иосиф Цукерман уже пожил на свете и знал, как больно человеку услышать правду. Поэтому он только нахмурился и сказал'Ионе:
— Что мои разговоры? Они ничем не отличатся от грязного барачного трепа, который ведут люди, знавшие плоть, но не знавшие женщины. Лучше всего об этом сказал Танхума, сынок. — Рубанок двигался в такт словам плотника, и слова он произносил с некоторой задержкой и напряжением. — Однажды Авраам приближался к границам Египта… Он знал дурной нрав потомков Мицраима… Когда знаешь, всегда опасаешься… И вот он спрятал Сару в сундук. На всякий случай… Когда чувствуешь опасность, но не ведаешь, когда она наступит, лучше заранее принять меры предосторожности… — Цукерман поднял брус и принялся внимательно его разглядывать. Неудовлетворенный, он вновь взялся за рубанок. — И вот Авраам спрятал Сару. В сундук. У заставы его стали спрашивать: «Чего ты везешь в сундуке?» «Ячмень», — сказал Авраам. «А не пшеницу?» — засомневались надсмотрщики. «Ну, возьмите с меня, как за пшеницу», — сказал Авраам. «Может, ты везешь перец?» — продолжали сомневаться надсмотрщики. «Возьмите с меня, как за перец», — согласился Авраам. «А если там золото?» — строго сказали надсмотрщики. «Тогда я готов заплатить, как за золото», — согласился Авррам. А надсмотрщики продолжали сомневаться: «А если ты там везешь шелковые ткани?» «Тогда считайте, как за шелковые ткани», — опять согласился Авраам. «Но в сундуке может быть и жемчуг», — продолжали сомневаться те, кому надлежало сохранять достояние фараона… Ты ведь знаешь, Иона, кто охраняет чужое достояние, тот всегда немного прибавляет к своему… — Плотник снова поднял брус на уровень глаз и остался доволен. — Авраам согласился заплатить пошлину, как за жемчуг… Тут уж надсмотрщики заволновались. «Нет, — сказали они. — Мы должны обязательно открыть сундук. Не иначе, как ты везешь в нем нечто особо ценное…» — Иосиф Цукерман с натугой приподнял брус и поставил его в угол, заключив свой рассказ: — Когда Авраам открыл сундук и Сара вышла из этого сундука, от красоты ее разлилось сияние по всему Египту. Вот какова женщина, сынок, и вот каким должно быть к ней отношение настоящего мужчины!
Иона мечтательно смотрел в зарешеченное окно. За окном ничего не было, кроме плаца и столбов, на которых в плоских алюминиевых юбочках покачивались ветром светильники. В глубине лагеря, там, где зеленела трава и чернела земля, краснела толстыми женскими боками возведенная до половины труба. Мастера фирмы «Топф и сыновья» обещали закончить ее к Пасхе. Старший инженер Прюфер, представлявший в лагере фирму, осмотрев сооружение и завезенные запасы материалов, сказал, что это вполне реально.
— Это и в самом деле редкое дерево, учитель? — робко спросил Иона.
— А ты думал. — Плотник ловко подхватил новый брус, внимательно разглядывая его. — Его срубили в Ливане или Абиссинии, потом распилили дерево, потом долго сушили его, а потом корабль привез его к нам для того, чтобы какой-нибудь свихнувшийся от крови ублюдок сделал из него что-то необходимое в хозяйстве, например стул с фамильным гербом.
Мастер, если в нем нуждается Ад, будет иметь сносные условия жизни и в преисподней. Редкие люди достигают предельного благосостояния, обычно талантливые люди живут и умирают в нужде. Моцарт похоронен в могиле для нищих, Винсент Ван Гог застрелился и умер нищим в приюте для душевнобольных в Сен-Поль-де-Мозоле. А как тяжело умирал французский художник Эдуард Мане? Да что там говорить, если незабвенного Иегуду Галеви затоптал копытами своего коня арабский рыцарь, едва этот философ и поэт прибыл на землю Израиля и, припав к земле, с поцелуями читал «Оду Сиону»!
Если и в Аду ты имеешь сносные условия жизни, глупо роптать на рок.
Иосиф все это понимал и несчастья воспринимал как данное Всевышним.
— Иона, — сказал он. — Твой тезка, пророк Иона, был несчастный человек. Его бросили в море, чтобы умилостивить стихию, его проглотил кит. Помнишь, как он говорил: «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травой обвита была голова моя. До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада».
Надо верить, Иона. Если жизнь мрачна и беспросветна, может быть, подле Бога мы станем наконец свободными…
Мальчишка вздохнул.
Он был в том возрасте, когда ждут радостей от жизни, а не задумываются, что находится там, за дверью, на которой написано: тьма.
Иосиф понимал, что слова утешения его подмастерью не нужны, юность редко внимает словам и чужому опыту. Поэтому он просто сунул рубанок в руки Ионы.
— Попробуй, — сказал он. — Это отвлекает от невеселых мыслей.
Работа действительно отвлекает.
Однако все чаще и чаще в руках Ионы стал появляться потертый требник его отца. В свободные минуты подросток читал его и, не понимая написанного, поднимал глаза на Иосифа.
— Тут сказано, — недоверчиво сказал он, — «Это народ разоренный и разграбленный; все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад!»
Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего?..
Я понимаю, учитель, это про нас. Но почему пророк говорит, что мы не хотели ходить путями Бога и не слушали закона Его?
— Это Исаия, — сказал Цукерман. — Он всегда слыл путаником и хулиганом!
— А Ицхак говорит, что он мудр, — возразил Иона.
— Это сам Ицхак мудр, — сказал Цукерман. — А умный человек всегда приписывает хорошие мысли чужому голосу. Вставай, нам пора делать работу. Ливанский кедр ждет.
— И что мы будем делать?
— На этот раз наша работа будет несложной, — сказал Иосиф ученику. — Даже жаль, что мы будем тратить на нее такое роскошное дерево. Мы будем делать кресты.
Адам, предчувствуя смерть, наказал своему сыну Сету совершить паломничество в Сад Эдема. и добиться от стоящего на воротах Ангела Масла Прощения.
Следуя наставлениям отца, Сет без труда отыскал Сад Эдема, и Ангел позволил ему войти туда. В середине Сада Сет узрел огромное дерево, достигавшее небес. Дерево это было в форме Креста и стояло на краю пропасти, которая вела прямо в глубины Ада. Среди корней дерева Сет увидел брата своего Каина, тело которого было привязано к корням за руки и за ноги. Ангел не дал Сету Масла Прощения, но дал вместо этого три семени от Древа Жизни. С этими семенами Сет вернулся к отцу, и обрадованный этим Адам не захотел жить дальше.
Через три дня он умер, и три семени были положены ему в рот, как наказывал Ангел. Семена проросли в деревце с тремя сросшимися стволами. Это дерево поглотило кровь Адама, и с этого дня жизнь Адама продолжалась в дереве.
Перед Потопом Ной выкопал дерево и взял с собой на Ковчег. Когда вода, уничтожившая грешный мир, сошла, Ной похоронил череп Адама под Голгофой, а дерево посадил у подножия горы Ливанской.
Моисей, следуя видению, вырезал из древесины этого дерева волшебную дудочку, пользуясь которой, он мог добывать воду из камня. Но поскольку ошибкой своей и небрежением к имени Господа он прогневал последнего, то Моисею не позволено было унести эту дудочку в страну обетованную. Поэтому он посадил ее у холмов Моава. Царь Давид обнаружил ее после долгих поисков, а его сын, мудрый Соломон, использовал дерево для строительства моста, связывающего Иерусалим с окружающими холмами. Сделано это было в ожидании визита Царицы Савской. Однако Царица отказалась ступить на мост, а преклонила колени и совершила молитву перед бревном, после чего перешла реку вброд.
Соломон, впечатленный этим, приказал подвесить бревно с золотыми украшениями над входом в Храм. Однако его жадный внук украл золото и спрятал бревно, чтобы скрыть следы своего преступления.
Он зарыл бревно в землю, и в этом месте немедленно забил ключ, известный под названием Бетезда. В воде этого ключа излечивались больные со всей Сирии.
Постепенна Адамово дерево вновь вышло на поверхность и стало использоваться как мост между Иерусалимом и Голгофой.
По преданию, из него был сделан крест, на котором распяли Сына Человеческого. Крест этот был установлен там, где был захоронен череп Адама.
По книге «Ветры легенд» Якова де ВоргейнаНадо ли удивляться, что этим деревом был именно ливанский кедр?
Глава семнадцатая НОЧЬ ПРОЩЕНИЯ
Храпел и постанывал барак.
Зимние холода уже ушли, но печь в бараке горела. Голубые рыжие языки пламени над поленьями свивались в кольца, и стоял запах костра, перебивая запах немытого человеческого тела и грязи. Из проема, за которым скрывался туалет, несло ледяным гадким запахом слежавшихся нечистот.
Евно Азеф плотнее запахнулся в полосатый бушлат, подсел поближе к огню и безрадостно усмехнулся. Хорошо, что он не видел себя в зеркало. Бугристый уродливый череп, обтянутый серой кожей, заставлял вспомнить о смерти.
Впрочем, в отношении своей внешности Евно не обманывался.
До ареста он весил более ста килограммов. Пища, лишенная белка, не давала восстанавливаться организму, и теперь, там, где когда-то были складки жира, так раздражавшие Азефа после его пятидесятилетия, кожа висела складками, по-прежнему подчеркивая несовершенство фигуры. Но не это занимало мысли Азефа.
Сейчас он вернулся к тому, что когда-то давно забыл и старался не вспоминать. Умер Макарка, как говорили русские, и хрен с ним!
Но теперь, когда нацистское государство востребовало его низменные качества, Азефа вновь охватили сомнения. Да, провокаторы предавали. Предавала Серебрякова, предавали Гапон и Малиновский, даже Гартинг занимался провокаторской деятельностью. Но делалось это на благо империи и, следовательно, было на пользу обществу. С другой стороны, такие работники охранки, как Бакай, предавали подпольщикам уже самих провокаторов. А так как подполье действовало в нарушение законов, иначе оно не было бы подпольем, то действия этих охранников противоречили задачам их службы и подпадали под статьи Уголовного Уложения империи, а значит, были вредны и опасны для государства. С победой большевиков все поменялось. Большевики судили и расстреляли Малиновского и Серебрякову, они не пощадили .. _ бы и попа Гапона, останься тот жив, но возвели в герои Бакая и ему подобных. Но в то же самое время больше вики не гнушались пользоваться услугами предателей и провокаторов. Ведь только наивный и неискушенный человек мог полагать, что деятельность ВЧК была бы возможна без агентуры. «Что же получается? — думал старый провокатор. — Взгляд на предательства меняется в зависимости от того, по какую сторону баррикад мы находимся?»
Выходит, марксисты были правы — предательство, как любое общественное явление, требует диалектического подхода, а все эти моральные оценки, которые дает людям общество, зависят лишь от того, на чьей стороне выступает предатель.
В глубине души Азеф понимал, что он уникален — в свое время он предавал сразу обе стороны, потому что презирал всех. Охранке он отдавал своих боевиков, а боевикам отдавал тех, кого берегла политохрана. Все они были безразличны ему. Но и нужны — ведь финансовое благосостояние Азефа как раз и зависело от его умения лавировать в мутных революционных волнах, а не спокойствие житейского моря гарантировало ему постоянные дивиденды.
С годами Азеф пришел к мысли, что предательство по своей сути сродни проституции, только при проституции продается тело, а предательство имеет предметом продажи душу. Оба занятия есть обычный гешефт, который помогает человеку выжить, поэтому не надо быть излишне щепетильным и презирать человека, если он делает то, что только и умеет делать. Оскорбительность сравнения не пугала Азефа, это сравнение сделал он сам, а не кто-то другой. В конце концов и предателем, и проституткой человека делает окружающая его действительность. Кто знает, кем бы стал сам Азеф, не приди к нему в тот вечер курирующий Германию жандарм и не случись тот вечер в ресторане, когда Азефу был предложен выбор. Вполне вероятно, он стал бы рядовым инженером, забыл свои псевдореволюционные мысли, стал бы одним из столпов нарождающегося в России капитализма, может быть, даже стал бы российским Фордом или Эдисоном. Но история не знает сослагательного наклонения, и подающий надежды инженер Евно Азеф стал главой Боевого отряда социал-революционеров и агентом охранки, проходившим в ее архивах под фамилиями «Раскин» и «Виноградов».
Но в этот холодный вечер перед приближающимся праздником, в котором Евно ощущал какую-то непонятную ему угрозу, его вновь мучили сомнения. Они копошились в его душе потревоженными червями и не давали уснуть измученному дневной работой телу. Мозг Азефа хотел спать и не мог.
Тени бродили по бормочущему бараку.
Евно Азеф был одинок.
Он всю жизнь был одинок. Даже жена не стала ему товарищем, ведь он не мог рассказать ей о своей роли в революционном движении, как не мог рассказать ей и о своем сотрудничестве с охранкой. Человек, скрывающий стыдную тайну, всегда ощущает вокруг себя пустоту. Стену, которая отгораживает его от остальных людей, можно разрушить только признанием. Может быть, это одна из причин, по которым преступник признается в преступлениях, которые ему никогда не смогли бы доказать.
Поэтому, когда Евно Азеф не увидел, а скорее почувствовал движением рядом, он испытал чувство облегчения, которое, впрочем, тут же исчезло, уступая свое место секундному животному страху. Это уже было с ним один раз, когда, повинуясь секундному импульсу, Азеф купил в 1924 году вышедшую в Берлине книгу воспоминаний Владимира Бурцева, приложившего столько усилий к его разоблачению. Наткнувшись на описанную Бурцевым сцену их встречи в Финляндии, Азеф вздрогнул — Бурцев очень точно угадал его состояние в момент встречи. Это было в Выборге, и Бурцев ждал Чернова с деньгами для подготовки побега арестованного к тому времени Бакая из Сибири. Но вместо Чернова явился сам Азеф. Он хотел прощупать Бурцева, уже тогда он боялся, что Владимир Дмитриевич понимает его истинную роль в терроре.
«Когда он стоял в дверях, — читал Азеф о себе, — его лицо было какое-то перекошенное, как у изобличенного преступника. Мне и тогда, в тот самый момент, оно показалось именно таким, каким я видел, тоже в дверях, лицо Ландезена, когда он вернулся к нам в Париж после поездки в Россию и мог думать, что в его отсутствие его роль уже разгадана и его встретят как предателя. Азеф явно волновался и не знал, приму ли я его или, быть может, брошу ему обвинение в предательстве…» Азеф закрыл книгу и поразился, как точно Бурцев угадал его состояние при той встрече. «А ведь он играл со мной, — подумал Азеф. — Уже тогда подозрения Бурцева переросли в уверенность, и он проверял меня, когда начал рассказывать о высоком чине из прокурорского надзора, который помогает ему в разоблачении провокаторов. А я, дурак, поверил ему и написал агентурную записку в охранку. Сколько мне тогда заплатили за эту информацию? Кажется, пятьсот рублей… Да, пятьсот рублей мне заплатили за выдумку Бурцева, которая не стоила ни гроша. На эти деньги я ездил тогда в Баден-Баден…»
Потом он не раз вздрагивал при чтении книги, ужасаясь тому, как Бурцев угадывал детали его предательства и связи, о которых не мог знать никто.
Вот и теперь он испугался.
Рядом с ним сидел Ицхак Назри.
В следующее мгновение испуг уступил место безразличию.
— Тебе тяжело, — сказал священник. — То, что лежит у тебя на душе, тяготит тебя.
Первый страх уже прошел, и он больше не вернулся.
Остались пустота на душе и желание выговориться.
Выговориться и наконец-то сбросить свою ношу, выпрямиться и ощутить себя человеком. Некоторое время Азеф лениво боролся с этим желанием, глядя на скручивающуюся от жара белую березовую кору, так напоминающую черными крапинками татуированную кожу.
И так же лениво и не глядя на собеседника, принялся рассказывать Ицхаку Назри историю своей жизни. Пламя плясало в выцветших зрачках Азефа, и трудно было догадаться, что за отраженным пламенем живут равнодушие и пустота.
Уже под утро, когда серый рассвет возвестил наступление Пасхи, Азеф закончил свой рассказ событиями последних дней.
Ицхак Назри долго молчал.
— Значит, вот, что они уготовили нам, — нарушил он тягостное молчание. — И Симон должен трижды отречься от меня, и окружающие отшатнуться. А этот эсэсовец омоет руки… И эти двое, что пойманы были за воровство у заключенных…
— Да, — сказал Азеф.
— И воскресения не будет, — сказал Назри. — Человеческая Смерть — это как заход солнца; зайдя на западе, человеческая жизнь не возвратится, пока не совершит новый виток.
Он положил длинные худые пальцы на костлявое плечо Азефа.
— Бедный, бедный, Евно, — сказал он. — И ты все это носишь в себе?
Азеф вздрогнул.
Против воли он заплакал и, чувствуя, как бегут теплые струйки по его морщинистым щекам, уже больше не сдерживался. Ицхак Назри прижал голову старика к своей груди и гладил грязные седые волосы Азефа, негромко повторяя:
— Бедный, бедный, Евно…
Сдавленное рыдание вырвалось из груди Азефа.
— Простите, простите меня, — сиплым от слез голосом сказал он.
ИЦХАК БЕН НАЗРИ, 6 января предположительно 1910 года рождения, место рождения неизвестно, родители неизвестны. Воспитанник сиротского дома в Линце. С детства начал петь в церковном хоре, окончил приходскую школу, далее, совершенствовал свои религиозные знания в различных учебных заведениях, с 1936 года — доктор богословия и руководит приходом в Гарце, одновременно занимаясь научной работой в области теологии. Тема диссертации «Непреложность догматов Фомы Аквинского». Был близко знаком с крупными деятелями сионизма, дружеские отношения поддерживал с Наумом Соколовым и Хаимом Вейцманном, вел переписку с Владимиром Жаботинским и Давидом Бен-Гурионом (Груеном), которые подготавливали еврейскую автономию в Палестине. Хотя Ицхак Бен Назри и не поддерживал ортодоксальную хасидскую религию, он все-таки считал, что будущее еврейское государство должно быть построено в Палестине. Арестован после аннексии Австрии нацистами в мае 1938 года и направлен в концлагерь Берген-Бельзен, где следы его теряются. Вероятнее всего, в этом лагере Ицхак Бен Назри и казнен гестапо, ориентировочно в апреле 1943 года.
Глава восемнадцатая БРЕМЯ ВОЖДЕЙ
Ах, слякотная весна 1943 года!
Казалось, природа плакала над двумя древними народами — один из них взялся полностью искоренить другой, а у обреченных на гибель не было достаточных сил для сопротивления.
Эйхман совершал лихорадочные визиты в концентрационные лагеря.
«Мы должны развить технику обезлюживания, — высказывал соображения Гитлер. — Если вы спросите меня, что я понимаю под техникой обезлюживания, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить. Откровенно говоря, это моя задача. Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими. Кто там говорил о естественном отборе? Я вам скажу, этот человек прав, предельно прав. Речь идет о селекции народов. Мир и спокойствие на планете в ближайшую сотню лет будут зависеть от того, насколько точно и быстро германский народ решит эту задачу».
Держитесь ближе к СС!
Лучшие его представители методично и упорно решали задачи, поставленные перед ними фюрером. Польские евреи для Эйхмана не являлись проблемой, генерал-губернатор Польши был служакой. С ним легко было найти общий язык. Проблемой оставались венгерские евреи, но еще было время, чтобы управиться в назначенные рейхефюрером сроки. Вместе с тем Эйхман чувствовал определенное беспокойство. Дела на фронтах шли все хуже и хуже, капитуляция Шестой армии серьезно подорвала военную мощь вермахта. Адольф Эйхман ощущал, что становится жертвой своей старательности. Суд, который собирались устроить над немцами Сталин и его союзники, не мог миновать Эйхмана.
Редкими свободными вечерами, сидя в пустом и гулком домашнем кабинете, Адольф Эйхман исписывал и швырял в урну листы писчей бумаги. Десятки листов содержали только цифры, одни цифры, а между ними был один арифметический знак — знак сложения. Рейсфюрер СС хотел знать точно, сколько евреев он убил. Выходящие из-под пера шестизначные цифры ужасали Эйхмана, но не количеством безликих статистических нолей, а тем, что эти цифры могли лечь в обвинительное заключение по его, Эйхмана, делу. Несомненно, что русские коммунисты и американские плутократы не преминули бы расценить действия оберштурмбанфюрера как предательство интересов человечества. Холодок пробегал по спине, когда оберштурмбанфюрер воочию представлял себе масштабы развязанной бойни.
Он с трудом засыпал. Шнапс и коньяк не делали душу спокойнее, даже самооправдание, что он всего лишь пешка в чьей-то игре, не делало будущее спокойнее.
«Левые» транспорты с евреями пошли в Палестину.
Кастнер выиграл, но не был довольным.
А чего ему быть довольным, этому еврейскому снобу, который продолжал курить арабские сигареты? Рейхсфюрер СС Гиммлер согласился выпустить за пределы рейха некоторое количество евреев, полагая, что это временное отступление и рано или поздно все они вернутся туда, где и должны были быть. «Никто не осуждает кошку, что она играет с пойманной ею мышью, — рассуждал рейхсфюрер. — Она даже дает надежду мыши, что та доберется до своей норки. Но зря мышка полагает, что там она окажется в безопасности! И кошка — это просто хитрое животное, она никогда не имеет выгоды от своей игры с мышью. А мы эту выгоду имеем!»
С еврейского барашка драли три шкурки.
Первую брали имуществом. Вторую — жизнью родственников, которые не попадали в списки, составленные в далекой Палестине.
Третья шкурка с евреев снималась в соответствии с операцией «Endlesung» — за миллион венгерских евреев их партнеры по переговорам должны были поставить десять тысяч грузовиков и оружие. В дальнейших переговорах Эйхман не участвовал, их вел штандартенфюрер СС Бехер. Он выработал прейскурант по обмену евреев на валюту.
«Выжмите из них все, — дал команду Гиммлер. — Если еврей не может быть полезен рейху своей смертью, пусть пользу великой Германии принесет его жизнь…»
Прежняя затея потеряла для Адольфа Эйхмана прежнюю привлекательность. Теперь он уже немного жалел, что затеял этот фарс. Рейхсфюрер был прав: пустая трата времени, за которую, возможно, предстояло расплатиться головой.
Тем не менее отказываться от задуманного спектакля оберштурмбанфюрер уже не мог. Слишком велик был круг лиц, который знал о замысле Эйхмана, а главное — о нем знали германский Бог и его заместитель по безопасности немецкого рая.
Сто сорок четыре специально отобранных иудея сидели в концлагере Берген-Бельзен, сто сорок четыре, каждый из которых символизировал колено Израилево. И был Ицхак Назри, и был Азеф, и был фон Пиллад, которому предстояло символически умыть руки.
Собственная фантазия казалась Эйхману безумной, иногда он думал, что у играющейся пьесы уже совсем другой режиссер, и тогда закрадывалась жуткая мысль о том, что все это происходит на самом деле — пришествие во спасение.
В канун Пасхи он позвонил фон Пилладу в Берген-Бельзен.
— У нас все готово, Адольф, — доложил штурмфюрер. — Ждем только вас. Вы успеете до начала спектакля?
— «Топф и сыновья» успели? — спросил Эйхман, и его институтский товарищ поразился странной надломленности, прозвучавшей в голосе оберштурмбанфюрера.
— Монтаж закончен, — доложил штурмфюрер. — Они прислали дельного специалиста, я думаю, все пройдет великолепно. Так когда вас ждать?
— Начинайте, — устало сказал Эйхман, — возможно, меня вообще не будет. Много работы, Генрих. Очень много работы. Последний месяц я сплю по три-четыре часа.
— Жаль, — сказал фон Пиллад. — Мы хорошо подготовились, Адольф. Голгофа получилась даже лучше настоящей. А Иуда просто великолепен!
— Я понимаю, — тяжело вздохнул оберштурмбанфюрер. — Но мне, возможно, придется ехать в Румынию. Если меня не будет, Генрих, заканчивайте все, а потом приезжайте в Берлин. Предписание коменданту лагеря уже направлено. В кадрах вас будут ждать документы о новом назначении… У вас там спокойно?
— Да, — с удивленным холодком непонимания отозвался фон Пиллад. — Что-то случилось, Адольф?
— А Берлин бомбят, — снова вздохнул Эйхман. — После Сталинграда все идет наперекосяк, Генрих. Толстый Герман обещал, что ни одна бомба не упадет на территорию рейха. И где его хваленые люфтваффе? Мы живем в преддверии Апокалиписиса, дорогой мой Генрих. Я заканчиваю, мне пора идти к Мюллеру. Удачи тебе, дружище!
Он положил телефонную трубку на аппарат и вытер выступивший на висках пот.
Решение не ехать в Берген-Бельзен он принял совершенно неожиданно для себя. И снова он поймал себя на мысли, что это решение за него принял кто-то другой.
Смешно верить в Бога, если на твоей душе груз в несколько миллионов чужих душ. Что было дозволено средневековым инквизиторам, то было невозможно оберштурмбан-фюреру СС. И все-таки, положив трубку на рычаги аппарата, Эйхман поймал себя на том, что пытается вспомнить слова давно забытой молитвы.
«А я ведь и в самом деле умыл руки! — с неожиданным страхом подумал Эйхман. — Я, а не Генрих фон Пиллад! Сегодня это сделал я. Завтра это сделают они. И тогда Адольф Эйхман останется один-одинешенек со своими грехами, которых ему никто и никогда не простит. Иуда — щенок по сравнению с каждым из нас».
В камере израильской тюрьмы перед началом своего судебного процесса Адольф Эйхман вспомнит эти мысли. Но петля уже будет приготовлена, а никто не может изменить судьбы.
В те же самые дни Германия отмечала тезоименитство фюрера.
Фюрер находился в «Волчьем логове».
В офицерском клубе и даже в подсобных помещениях были накрыты праздничные столы, которые украшали белые крахмальные скатерти и вазочки с цветами. Офицерский состав потчевали отбивными, краснокочанной капустой, картошкой и различными соусами, а на десерт подавали фруктовый салат. Эскорт вдоволь угощали красным вином «Pisporter Goldtropchen», к обеду им полагалась чашка натурального кофе.
Гитлер, как вегетарианец, не прикасался ни к вину, ни к мясу.
С утра люди из его окружения встали у входа, чтобы поздравить фюрера. Чуть позже пришли дети из соседних деревень, которые с цветами смогли пройти все заслоны. В ожидании фюрера они катались на броневике, завидев вождя, де^и бросились к нему с радостными криками. Гитлер счастливо смеялся, заглядывая в детские глаза. Одного из деревенских крепышей он поднял на руки и подбросил над головой.
Поздравить фюрера прибыли Геринг, адмирал Редер, Риббентроп, Ламмерс и с ними несколько мальчиков и девочек из «Гитлерюгенда» и «Союза германских девушек».
Незадолго перед обедом приехала Марта Геббельс с двумя старшими детьми. Фюрер расцеловал ее, по очереди обнял детей. Самого Геббельса не было, фюрер не желал видеть своего министра пропаганды за неправильное поведение в семье. Слишком уж увлекался Йозеф Геббельс чешскими актрисочками, чтобы это не отражалось на семейном благополучии.
Получив от фюрера подарки, дети побежали кататься на броневике.
Гитлер долго с явным умилением смотрел им вслед, потом положил руку на плечо женщины.
— Крепись, Марта, — сказал он.
— Я надеюсь на Бога, — неосторожно сказала фрау Геббельс.
Адольф сморщился.
— Марта, о чем ты говоришь? Любой разумный человек понимает, что церковное вероучение просто чушь! Как можно насаживать человека на вертел и поджаривать в аду, если происходит естественный процесс разложения, а душа в таком случае должна быть бесплотна? Ерунда и то, что небеса — это место, куда надо стремиться попасть. Если верить церковникам, туда попадут в первую очередь те, кто себя никак не проявил в жизни, оказался умственно неполноценным. Ты только представь себе, кого можно встретить на небесах? Идиотов? Ты только вдумайся в эти слова, Марта: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное!» Как можно увлечь мужчину верой, внушая ему, что на небесах он найдет невзрачных и духовно немощных женщин?
Глаза Марты Геббельс недобро сверкнули.
— Зато здесь хватает пригожих телом и душевно раскрепощенных девиц, — едко сказала она.
Фюрер улыбнулся и развел руками.
— Это твой крест, Марта. Это твой крест.
Гиммлер приехал уже после официального обеда, когда уехали генералы и фрау Геббельс с детьми.
Адольф поцеловал Еве руку.
— Дорогая, я прошу простить нас с рейхсфюрером, но государство требует своего даже в такие торжественные минуты.
— Конечно, Ади, — сказала, улыбаясь, Ева. — Но не увлекайтесь, ко мне приехала Ольга!
Знаменитая немецкая актриса Ольга Чехова была давней подругой Евы Браун, они доверяли друг другу свои женские тайны, Ева даже прощала своему любовнику и покровителю некоторую увлеченность подругой.
Поздравив фюрера еще раз, Гиммлер коротко доложил ему о нескольких разведывательных операциях, проведенных СД. Гитлер поинтересовался работой Шелленберга, и рейхсфюрер дал своему любимцу самую высокую оценку. Поговорили о положении в Африке. Дел на Восточном фронте они, не сговариваясь, не касались. Фюрер не хотел портить себе праздничное настроение, верный Генрих это великолепно понимал.
— Генрих, — неожиданно сказал фюрер. — Я все хотел спросить вас, чем кончилась эта история с ливанским кедром?
— А чем она могла кончиться, Адольф? — хмуро улыбнулся рейхсфюрер. Он совсем недавно вернулся из Освенцима, где наблюдал казнь евреев. При виде того, как женщины и дети во рву молят о помощи, рейхсфюрер утратил свою знаменитую бесстрастность и хлопнулся в обморок, как институтка. Он знал, что недоброжелатели обязательно доложат фюреру об этой слабости руководителя СС, и специально для этой беседы выбрал исключительно деловой тон. — Ваш тезка немного развлекся, евреи вспомнили свою историю, а эмиссар сионского центра оказался без своего любимца, на которого он имел виды. Все закончилось гораздо скучнее, нежели мы думали. Священник умер на кресте прежде, чем его распяли. Надо думать, от страха. А быть может, он принял яд, чтобы испортить Эйхману спектакль. Толпа, как обычно, безмолвствовала, и потом, когда представление закончилось, никто особенно не сопротивлялся. Но говорят, они прекрасно пели, когда шли в газовую камеру. Этот жид Джагута, он, конечно, не фон Кароян, но надо отдать должное — пели они замечательно. Говорят, что охрана даже прослезилась. Впрочем, черт с ними! Одно жаль — испортили прекрасную древесину, лучше бы мы перебросили брус Брауну в Пенемюнде.
— Жаль, что история закончилась так быстро, — лицемерно вздохнул Гитлер. — Я ожидал большего, Генрих.
— Я был против этой идеи, — напомнил Гиммлер. — Мы имеем только негативные последствия, мой фюрер.
Рейхсканцлер вопросительно посмотрел на него, ожидая продолжения.
— В концлагерях рассказывают фантастические истории, — продолжил рейхсфюрер СС. — Имеются случаи, когда охрана лагеря отказывается наблюдать за процессом в газовой камере. Какие-то бредни о том, что среди евреев появляется худой бородатый человек, утешающий их перед смертью… Якобы имеются случаи ослепления лиц, которые ведут наблюдения за экзекуцией… Некоторые даже открыто начинают поговаривать, что мы и в самом деле распяли в Берген-Бельзене Бога, который второй раз явился в наш мир.
— Глупость! — жестко отрезал Адольф Гитлер. Встав, он принялся расхаживать по кабинету, потирая рукой тщательно выбритый подбородок. — Генрих, тебе должно быть стыдно повторять за идиотами их бредни! Если Бог и существует, а я это категорически отрицаю, то какое ему дело до наших междоусобиц? У богов более серьезные задачи, ты же не обращаешь внимания на бегущих по тропинке муравьев? Какое дело тебе до битвы, случившейся между муравейниками? Человек умирает один раз, и он не может разгуливать по камерам после смерти. Прикажи, каждый, кто распускает подобные слухи, должен быть сурово наказан. Своей безответственной болтовней он вредит рейху, а у нас сейчас не самые легкие времена. Сейчас мы должны сплотиться как никогда, поэтому нельзя допустить, чтобы слухи ослабляли арийский дух немца.
— Я подготовил распоряжение, — сказал Гиммлер, воинственно поблескивая стеклышками пенсне. — Мой фюрер, недавно я принимал участие в ликвидации одного из транспортов в Освенциме, и это произвело на меня тяжелое впечатление. Наши ветераны, которые служат в лагерях, очень страдают, когда им приходится ликвидировать женщин и детей. Все они имеют семьи, и участие в таких акциях негативно сказывается на их психике. Возможно, все слухи рождаются именно вследствие этого. Согласно моему распоряжению, семейные работники не должны привлекаться к подобным акциям, мы должны щадить их нервы. А провокаторы… Провокаторы будут наказаны, мой фюрер!
Фюрер неопределенно хмыкнул, и Гиммлер понял, что его опередили и вождь все знает о его участии в акции, и знает это не из доброжелательных источников. Бледное и обычно бесстрастное лицо Гиммлера побагровело от негодования. Гитлер заметил это и, не желая ссориться с руководителем службы имперской безопасности, примирительно сказал:
— Но вы, как всегда, правы, Генрих. Люди устали, их надо беречь. Война возложила на СС нечеловеческие нагрузки. Давайте отвлечемся. Хотите анекдот?
И он рассказал, как к партайгеноссе Борману пришли вступать в партию два жида. Один из них был обрезанным, а другой сохранил верхнюю плоть. Партайгеноссе остроумно отказал одному на основании того, что он был обрезанным, а потом и другому за то, что тот не обрезался вовремя.
Они немного посмеялись и перешли к текущим делам.
Положение на фронтах вызывало тревогу.
Русские партизаны активизировались, и это значило, что Сталин готовил новую наступательную операцию. А в тылах царил беспорядок. Внутренние коммуникации были неимоверно растянуты, на узлах войскового снабжения шли диверсии, и надо было что-то делать, чтобы поскорее вывести рейх из намечающегося кризиса. Тем более что полководцы Красной Армии набирали опыт быстро, а талантов в этой армии оказалось более чем достаточно — удары последнее время начали сыпаться один за другим, вот уже и непобедимая Шестая армия, которой командовал фон Паулюс, застряла в заснеженных развалинах Сталинграда, а сам Паулюс сдался в плен.
Оба они ошибались.
История не кончается.
Она существует, пока с лица Земли не исчезнет последний человек.
Глава девятнадцатая и последняя, которая бы могла стать прологом АГАСФЕР
Он посмотрел вверх.
Небеса были чисты и безмятежны.
В пронзительную синеву из новенькой толстой трубы, выложенной из красного кирпича, полз густой желтый дым. На уставшую землю оседала копоть сгоревших человеческих надежд.
И тогда он закричал в тоске и смятении:
— Я вспомнил, Господи! Я вспомнил!
Он вспомнил.
Песок.
Жаркий ветер облизывал угловатые глыбы известняка вдоль извилистой тропы на Голгофу. Иисус остановился, облизывая пересохшие и жаждущие губы. Несший за ним крест также остановился.
Легионеры не торопились, с ленивым любопытством они наблюдали за происходящим. Один из них опирался на копье.
— Воды, — попросил Иисус.
Толстый сонный сапожник, скрестивший пальцы на поясе, отвернулся.
— Иди! — сказал он. — Не накликай беды на мое жилище! Проходи, проходи, пес! Скоро тебя не будет мучить жажда! Там ты напьешься вдоволь.
Иисус не слушал его.
За спиной сапожника белее пшеничной муки маячило испуганное, но полное любопытства лицо Иуды. Приоткрыв рот, бывший апостол смотрел на того, кого он предал так глупо.
Два разбойника с крестами уже ушли далеко вперед.
Один из римских легионеров легонько кольнул Иисуса копьем в спину, показывая, что надо поторопиться.
— Идите, равви! Идите! — против воли прошептал Иуда, стараясь не смотреть на крест.
Иисус понимающе улыбнулся ему.
— Я иду, — сказал он. — Легко ли будет идти тебе, дожидаясь моего пришествия?
Евно Азеф задрал голову и с надеждой смотрел в небеса. Легкий ветерок трепал его седые волосы, ласково сушил слезы на глазах. С пониманием истинного своего предназначения на земле горло Азефа перехватила горькая струна, она натянуто дрожала и в воздухе стояла тоскливая рыдающая нота, которой в жизни Иуды предстояло длиться до нового Пришествия…
Второе Пришествие завершилось, и теперь ему надлежало блуждать до третьего своего появления в полной неизвестности, когда оно будет и в чьем обличье он явится в мир.
— Я вспомнил!
Где-то в невидимой бездонной высоте, где остывали, готовясь к падению на землю, звезды, кто-то печально вздохнул:
— Ну, что ты кричишь, мой Сын? Это хорошо, что ты вспомнил. Радуйся, ты теперь ЗНАЕШЬ.
Утром Евно Азефа вывели за ворота. У ворот стоял автобус, который должен был отвезти его на станцию. Фон Пиллад сказал, что он может вернуться в свой дом и жить там до самого дня Страшного суда, которого, впрочем, ждать оставалось не так уж и долго, и вернул ему прежние документы. Евно Азеф исчез и вместо него появился добропорядочный немецкий пенсионер Рюгге, которому предстояло вновь продолжить странствия, начатые при распятии на Кресте. Йоганн Рюгге повернулся к решетчатым воротам, к кажущемуся бесконечным колючему периметру лагеря, за которым белели опустевшие бараки. Новая труба только что законченного и опробованного в деле крематория уже еле дымила.
«Прощай», — сказал Иуда, вновь ставший немцем по имени Рюгге, а до того носивший имя Азефа, а еще раньше — сотни иных имен, не вызывавших у людей ничего, кроме ненависти и презрения. Прощай, сказал Сын Божий, собираясь в свою бесконечную дорогу, которой предстояло продлиться до третьего, теперь уже последнего Пришествия.
Тысяча с лишним лет лежала у него за спиной, тысячи лет беспокойства и смятения оставались впереди. Теперь он завидовал тем, кого больше не было. Всю свою жизнь он завидовал им и мстил за эту зависть. Мстил, мстил, мстил, предавая и протягивая руку тем, кого предал. Отныне он знал причины своей зависти, и знание это стягивало скулы и заставляло слезиться глаза.
Он не знал, кем явится в мир в Третьем Пришествии, Он только догадывался, что однажды это Ему предстоит. А пока Ему предстояло странствовать. Странствовать — предавая, чтобы таким образом познать метафизику человеческого зла, как когда-то Он понял страдания. Выпив чашу страдания. Он должен был понять причины этих страданий. Догадка билась в Сыне, как бьется ребенок в теплом чреве матери, который, еще не родившись, осознает неизбежность своего вхождения в безжалостный мир.
Шофер нетерпеливо посигналил.
Йоганн Рюгге тяжело двинулся к воротам.
— Стой! Стой! — От ворот бежал длинный капрал, размахивая нескладными руками. Достигнув Рюгге, он остановился и протянул ему тоненькую пачечку купюр.
— Можете не проверять, — сказал он, переводя дыхание. — Здесь ровно тридцать марок. Гауптштурмфюрер фон Пиллад сказал, что расписка ему не нужна.
Не последнее оскорбление и не последний удар.
Люди больше богов знают о предательстве, и не Богу состязаться в этом с человеком. Уже на выходе, когда впереди замаячили белые постройки пригорода, водитель остановился и сказал, что дальше Йоганну Рюгге придется идти пешком.
Едва только Сын Человеческий начал спускаться на землю, повернувшись спиной к водителю, тот достал «парабеллум» и, точно следуя инструкциям гауптштурмфюрера фон Пиллада, выстрелил своему пассажиру в седой затылок.
Волгоград, июль — декабрь 2000 годаГенри Лайон Олди ГДЕ OTEЦ ТВОЙ, АДАМ?
Разбито яйцо.
Опустела скрижаль.
Ржавеет под кленом обломок ножа.
И тайное жало терзает безумца:
«О, жаль…»
Кирилл СычСегодня у меня убили отца.
Странно, что я так взволнован. Неприятное чувство: обыденность, случайное совпадение обстоятельств, каждое из которых имеет в лучшем случае значение разбитой чашки, вдруг заставляет сердце биться чаще, а по спине бегает холодная гребенка. Плотских отцов у меня убивали множество раз. В мятежном Льеже, когда толпа затоптала Хромого Пьеркина. У села Мисакциели двое грабителей обиделись на пастуха Ираклия — упрямец вцепился в барана, словно тот был его братом. В предместьях Бэйцзина, в дни бунта их этуаней, более известного как Боксерское восстание. В Краковском гетто. Если начать вспоминать… Бывало, я сам, собственными руками лишал родителя жизни. Нет, все-таки я волнуюсь. Разумеется, не жизни — тела. Физического существования. Сейчас почти все мои отцы здесь, со мной. Во мне. Те же, кого еще нет, вскоре присоединятся.
Кроме этого..
Будь иначе — разве изменился бы мой пульс?
Я возвращался из школы. Первый раз в первый класс — самое удачное время и место для насилия. Жаль, юмор не помогает. Да и выглядит он, юмор, подозрительно. Не смешно. Мама ушла заниматься похоронами. Она спокойна и уравновешенна, моя плотская мама. Она очень любила отца, и тем не менее: покой и уравновешенность. Впору позавидовать. Полчаса назад она вышла на связь: с крематорием все оговорено, венок заказан. Чувствовалось: случившееся волнует ее примерно так же, как порча любимого сарафана или разбитая чашка. Она права. Или просто умеет блокировать лишние эмоции. А я не умею. Особенно чуждые, тупиковые эмоции. Мне в отличие от мамы, родившейся до Искупления, не приходилось это делать. Вот и не научился.
Папа, зачем ты полез защищать Владика?
Ты же никогда не умел — защищать…
Детство — чудесная пора. Сейчас длится мое последнее детство: хрупкое, очаровательное, прекрасное самим угасанием, неповторимостью своей, и надо пользоваться каждой его минутой, каждой прохладной каплей. Скоро оно закончится. Начнется вечный рай, но детства там не будет. Хоть наизнанку вывернись — не найдешь. Почему мне кажется, что детство сегодня закончилось? Не хочу так думать. Не буду так думать.
Не бойтесь убивающих тело, душу же убить не могущих. Цитата неточная, но разве дело в этом?
Вот твои записи, папа. Лежат на столе, будто ждут возвращения — твоего. А вернулся я. Один. Мы редко разговаривали на серьезные темы. С мамой мы были одним целым, были и остались, с момента рождения и до скончания веков, а с тобой держались на расстоянии. По-моему, ты не сумел перестать бояться меня, своего сына. Ну, пусть не бояться — побаиваться. Вот и не откровенничал. Давай пооткровенничаем сейчас. В одностороннем порядке. Ты будешь говорить, прямо с листа, а я буду слушать. Теперь я боюсь тебя, папа. Побаиваюсь. Тайный голос подсказывает, что ты способен не только навсегда завершить мое прекрасное детство, позволив убить себя перед школьным двором, но и 6 силах, дотянувшись из темноты, отравить мой будущий рай.
Иногда яд — ад. Верно, папа?
Давай оживай. Хотя бы на минутку.
Искушение сильнее благоразумия. — Моя рука берет пачку исчерканной бумаги. От некоторых листков пах-
нет свежими чернилами и еще почему-то — яблоком. Зеленой, крепкой, надкусанной антоновкой.
Скулы сводит.
КИРИЛЛ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 11.32
…у меня проблемы во взаимоотношениях с жизнью.
Любовь без взаимности.
Причем, как это ни странно, взаимность отсутствует с моей стороны.
Из окна видны гаражи, погруженные в море зелени. Большая часть заброшена, тихо ржавея и предаваясь воспоминаниям. Полагаю, в их утробе легко найти остовы машин. Сколько нужно времени, чтобы «хонда» или «Таврия» тихо сгнила на приколе? Год? Десять? Не знаю. Изредка, когда настроение становится похожим на женскую акварель, я пью чай и думаю: в случае катастрофы смерть гаражей выглядела бы совсем иначе. Развалины, клыки рваного металла, проломы, наспех сшитые лозой вьюнка. Разбросанная требуха автомобилей. Впрочем, тогда и дома вокруг были бы руинами. А так ничего, дома как дома. Разве что две трети квартир пустуют. Люди чертовски ошибались, полагая концом цивилизации войну. Ядерный реквием. Инфаркт климата. Агонию геологии.
Все что угодно, кроме утопии.
Мне тридцать шесть лет, я — сейф, и утопия для подобных мне — тихое бульканье воды над головой. Пузыри на поверхности. Покой.
Топь.
Никогда не скажешь, что пейзаж, открывающийся из окна, — двор в центре города. Два дятла увлеченно долбят старый клен. Белочки мелькают в кронах, вспыхивая ослепительно рыжими хвостами. Птицы сыплют терциями. Цветут кусты-оккупанты, захватив львиную долю территории. Самим цветением своим утверждая: мы пришли ненадолго. Мы пришли навеки. Не знаю, что это за кусты и почему им вздумалось цвести в начале осени. Жасмин? Вряд ли. Сумасшедший жасмин, который цветет, когда хочет, игриво ощетинясь ворованными у шиповниками иглами? Может быть. Аромат щекочет ноздри, отдаваясь в затылке сладкой истомой. Хочется спать. В последнее время мне все чаще хочется спать: утром, днем… Вместо простейшего решения — отправиться баю-бай в незастеленную кроватку — продолжаю смотреть в окно. Сосед Пилипчук выгуливает болонку Чапу, похожую на измочаленный клубок шерсти. Он не сейф, как я. Обычный, из большинства. Просто, когда все началось, Пилипчуку стукнуло шестьдесят, а старики подозрительно относятся к новшествам. Из-за этой подозрительности, оставшейся у соседа по сей день, Пилипчуку не повезло. Так он и доживает свой век: пссвдосейфом. Вернее, век доживает тело Пилипчука. А душа — она бессмертна. Согласно фактам, подтвердившим сей сомнительный тезис. Болонка же — истеричная дура. Но Пилипчук ее любит. Еще он любит гулять с правнуками, но правнуков у него нет. Внуки выросли, а правнуки не родились. Изредка, когда я останавливаюсь покурить с соседом, мне приходится долго выслушивать исповедь в любви к несуществующим правнукам. Болонка в это время скулит у ног, притворяясь правнучкой.
Потом я иду вдоль переулка, а спину мне буравит исполненный зависти взгляд.
Я везунчик. У меня есть сын. Адам Кириллович Сыч.
Сегодня, первого сентября, Адам пошел в школу. В первый класс.
Сколько сейчас школ в городе? Три? Две? Наверное, вопрос следовало бы поставить иначе: сколько населения осталось в некогда двухмиллионном городе? Я не уверен, что больше пятисот тысяч. Меньше. Существенно меньше. А на Земле, мутирующей в райские кущи? Одни говорят: популяция сократилась впятеро. Другие увеличивают сокращение, жонглируя цифрами. Но если мерить другими мерками, малодоступными для сейфов, населения окажется тьмы и тьмы. Просто этому населению-исполину не нужны квартиры, гаражи и школы. Им даже тела не нужны. Вот какие они неприхотливые. Мой Адам пошел в школу, и вместе с ним (в нем?!) за парту сели тысячи. Вполне помещаясь за одной партой. В тесноте, да не в обиде.
Один дятел улетел.
Второй продолжает стучать.
Зачем я достал эти тетради? Разбросал по столу, вяло разглядывая выцветшие от времени обложки. Самой старшей — почти четырнадцать лет. Помню, мне казалось увлекательным делать записи от руки фиолетовыми чернилами. А эпиграф к первой тетради сделан фломастером. Желтым. Наверное, я подобрал эпиграф позже. Хотя не уверен. Я вообще не уверен, что знал в ту пору о существовании римлянина. Сенеки. Кажется, спектакль «Театр времен Нерона и Сенеки» — жестокую, мудрую, болезненную притчу! — увидел только через год. Даже рецензию для «Вестей» делал… Нет, не вспомнить. Цитата случайно подвернулась в книге афоризмов? Скорее всего. Иногда кажется: это не я. Кирилл Сыч тех лет, самовлюбленный мальчишка с почерком, лихо сбитым набекрень, которому лень было даже почистить наивный текст от повторов и корявостей — а ведь полагал в будущем сделать книгу, бестселлер, пищу для умов! Сейчас я бы многое переписал заново, если бы впрямь делал книгу. Жаль, книга закончилась, не начавшись. Пусть остается, как есть: пять тетрадок, зафиксированный мимоходом путь становления почерка.
Перечитаю с начала.
Улыбнусь, глядя в кривое зеркало времени.
Днем Адам вернется из школы, Ванда угостит нас пирогом, и я торжественно сожгу тетрадки. Возглашу тост в похвалу глупости. Своей глупости, естественно. Но это будет позже. Ночью я стану жалеть о поступке, опрометчивом и непростительном. Я знаю это, но все равно сожгу тетрадки. Они надоели мне. Напоминают о прошлом. О временах, когда мы презрительно именовали массу обывателей «интеллектуальным большинством», себя же тайком представляя элитой, кухонными избранниками — даже не догадываясь, что придет день, тихий, малозаметный, как тать в ночи, заставив нас мучительно страдать из-за невозможности присоединиться к большинству, искупившему грехопадение. Окруженные любовью и заботой, словно умирающие родственники, мы… Ненавижу слово «мы». Возможно, потому, что в этом слове мне больше нет места. Возможно, потому, что это слово уходит в небытие, уступая сцену возвышенному «Я», настолько огромному, что воображение сейфа бессильно себе его представить.
В безымянных кустах мяучит кошка: серая в полоску.
Закрываю окно.
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
Время и до нас, и после нас не наше.
Ты заброшен в одну точку; растягивай ее —
но до каких пор?!
СенекаВанда, как всегда, оказалась на высоте. Любимая шутка семьи — цитата из древнего кулинарного талмуда»: «Для салатов «Оливье» или «Паризьен» возьмите дичь (рябчика, фазана, тетерева, куропатку), маслины «Зизи Кокот», раковые шейки…» Рябчиков пришлось заменить «Докторской», маслины — соленым огурчиком, а раковые шейки — зеленым горошком, но внушительный тазик опустел почти сразу. Губы залоснились от майонеза, животики приятно оттопырились. Следом, по протоптанной дорожке, пошел винегрет. А на кухне, в духовке, ожидая триумфального выхода, томился горяченький пирог — «Куча мала», фирменный рецепт Вандиной мамы. Кирилл втихаря зажевал кусочек, спровоцировав семейный скандал, но гости уже стояли на пороге, и Ванда сменила гнев на милость. Зато теперь можно не глотать слюнки в предвкушении.
Молодой муж сыто икнул: не рассчитав сил, успел объесться оливье.
Кстати, в заначке есть еще полкастрюли…
Гулялось двухлетие свадьбы. «Ситцевое» или «льняное» — Кирилл вечно путался в определениях. Помнил лишь, что «золотая» — это явно на склоне лет. Собрались старые друзья (хотя какие там «старые»?! — все вчерашние дипломники…), отдавая должное последнему «школярскому» застолью — немудреные закуски, кислый рислинг, шутки, смех, песни под гитару… Впрочем, гитара пока скучала в чехле, зато Мишель, крививший губы от одного вида «сухаря», успел откупорить принесенную контрабандой бутылку «Пшеничной».
— Эх, надерусь! — радостно потер руки Эдик, наполняя бокал минералкой.
Хитрый Эдик спиртного не пил. Вообще. Даже пива. Зато на виске у него прилепился «патник», позволяя наслаждаться общей эйфорией и потихоньку пьянеть, совершенно не опасаясь утреннего бодуна.
— Халявщик! — возгласил Мишель, разливая водку.
— Наоборот! Благодетель! Вам же больше достанется, алкаши!
— Упырек ты, Эдя! Насосешься нашей кровушки, и баиньки…
Подобный обмен шпильками давно стал своеобразным ритуалом. Мишель с Эдиком были, что называется, на ножах с первого курса, тщательно скрывая этот факт. Со стороны посмотришь: шуточки-подковырки закадычных приятелей. Гигант-Портос рядом с изящным Арамисом. Еще раз посмотришь. Еще… И однажды поймешь: количество неприятно перешло в качество. Над каждой шуткой висит темненькое облачко, и лучше махнуть рукой. Не обращать внимания. Особенно это усилилось, когда Эдик — первым из компании! — раскошелился на «патник». Тогда и словечка такого не было — «патник». Только-только входившие в моду эмпатические коммуникаторы «Эмпаком» называли по номерам моделей: «Сэнсит-002», «Сэнсит-003»… Сейчас у Эдика красовалась «пятерочка-спец», с расширенным спектром восприятия и эманации.
Хорошо, однако, иметь богатеньких предков!
Как всегда, вспоминая о предках, Кирилл слегка взгрустнул. Родители Ванды вечно обещаются в гости, но с их здоровьем вряд ли приедут из своих Збышевцев. Опять же визы оформлять: старики любого чиновника боятся больше, чем Страшного суда. А мама самого Кирилла, после того как отец в одночасье сгорел от инфаркта… Эй, хватит печалей! Праздник в доме! И тем не менее, с одной стороны, нет классических проблем типа «зять-теща» или «невестка-свекровь» — но пойдут дети, и без любимых бабушек с пирожками…
Кому-то придется работу бросать, наверное. Или на няньку горбатиться.
— Итак, третий тост банален, как банальна сама любовь! За наших молодых! — басом объявил Мишель. Рюмка, утонув в его лапище, притворялась наперстком. —
За чувства, не нуждающиеся в костылях техники! За вас, ребята! Горько!
— Горько! Горько!
— Раз! Два! Три!.. Десять!.. Одиннадцать!..
— Двадцать один!..
— Сто! Тысяча! Они до утра целоваться могут, я их знаю!
«Наши молодые» с трудом разомкнули объятия. Ванда разрумянилась, глаза блестели — она была чудо как хороша, и Кирилл еле удержался, чтобы снова не наброситься на жену с поцелуями. Если бы не гости, не теснота малогабаритки… Впрочем, гости уйдут, а они останутся. Вся ночь впереди, завтра выходной, можно отсыпаться сколько угодно. Молодец, Мишель. Хороший тост сказал. Правильный. Как «патники» в моду вошли, многие пары, подав заявление в ЗАГС, спешили обзавестись «Сэнситами». Походят месяц-другой, сроднятся духовно, выражаясь высоким штилем… Кирилл с Вандой тоже хотели попробовать. Все хвалят, языками цокают, а магазин «Весна» по местным каналам рекламу гонит — брачующимся 50 процентов скидки! Вот тут-то и выяснилось, что Кирилл — «невосприимчивый». Или, как позже окрестили подобных ему, сейф. Человек в футляре, вещь в себе. Не работал у него «патник»: хоть на прием, хоть на передачу. Нейроэлектронщик из сервис-центра объяснил: бывает, мол. Вы, молодой человек, не расстраивайтесь, ничего страшного. Для семейной жизни это дело необязательное, там больше другое дело в чести. Просто у вас… Тут он явно сел на любимого конька и долго вещал про совмещение альфа-бета-гамма-ритмов, наложение синапсов, стандарт резонансных частот-модуляций — у Кирилла в итоге создалось впечатление, что консультант и сам толком не знает, отчего у одних людей эмпат-коммуникаторы работают, а у других — нет. И никто не знает.
Таких, как Кирилл, по статистике, оказалось что-то около тринадцати процентов. Плюс-минус корень квадратный. Причем нельзя было сказать, что «патники» отказывали исключительно у твердолобых тупиц. Или, наоборот, у людей «продвинутых», тонко чувствующих. Вроде абсолютного слуха: поди пойми, почему Иванову медведь на ухо, а Хейфец четверть тона ловит. Шанс угодить в «сейфову дюжину» имел любой. Самым, можно сказать, демократическим образом: по теории вероятности.
Кириллу просто не повезло.
Поначалу он изрядно расстроился. И Ванда, чувствуя его угнетенность без всякого «патника», поспешила дать обещание: когда они вместе, обходиться без коммуникатора. С тех пор она действительно очень редко надевала крупные черно-белые клипсы «Сэнсита-004». Кирилл пытался отговорить ее: «Зачем лишаться новых ощущений?» — но Ванда стояла на своем, и он отступился. В глубине души испытывая благодарность к жене. Не то чтобы чувствуешь себя ущербным — но все-таки… Сейф? «Черный ящик» без входа и выхода? Словно глухонемой среди нормальных людей. Едва не за-комплексовал на этой почве. Когда б не жена…
Вот и сейчас Ванда оставила клипсы в шкатулке. В отличие от большей части гостей. Вон и Шурик с Алиной, зимой обвенчавшиеся в настоящей церкви, и хохотушка Томочка, и Илона с новым кавалером — толстеньким врачом, и, само собой, хитрюга Эдик. Зато Мишель «патник» не носит принципиально. Утверждает, что для его «чувствительной и тонко организованной натуры вредны усиленные посторонние эмоции». Ибо, значит, способны легко нарушить хрупкое душевное равновесие. В устах Мишки Савельева, конопатого медведя-растрепы; Мишеля, числившегося на курсе символом непоколебимого спокойствия; Мишунечки, который пьет водку, не пьянея, кого отродясь не видели раздраженным или подавленным… Короче, именно в его устах фраза о «хрупком душевном равновесии» звучала с особенной прелестью. Но тесты на эмпатию Савельев прошел играючи.
Молодчина Мишель. И насчет «чувств без костылей», и вообще. Отличный парень.
Свой в доску.
— Кирюш, водочки?
— Не-а…
— Ну за компанию! Кирнем по маленькой?!
— Не хочу. Ее, матушку, закусывать надо, а я скоро лопну… Мишель, дай гитару!
Увы, Эдик еще раньше добрался до дистанционки, врубив телик. Кирилл хотел шикнуть на «возмутителя спокойствия»: телевизор во время застолья — последнее дело. Но на экране возник моложавый дядечка с залысинами, и Илонин кавалер («Вадим» — имя вспомнилось не сразу) удивленно выдохнул:
— Ух ты! Мой шеф! Решился-таки… — и прилип к экрану.
— …не побоюсь этого слова — просто преступно, — вещал меж тем Вадимов шеф, мерцая стеклами очков. — Опыты, проведенные на добровольцах, закончились весьма плачевно. Да, разработанные «Эмпакомом» экспериментальные модели телепатических, иначе — ментальных коммуникаторов работают. Это факт. Таким образом, прямая передача мыслей — подчеркиваю: именно мыслей, логической и образной информации в совокупности! — была осуществлена на практике. Однако мыслепередача вызвала у реципиентов совершенно чудовищные побочные эффекты на уровне сильнейшей психопатологии. Как установили независимые эксперты, мозг человека бессилен контролировать поток невербальной, неопосредованной информации. На реципиента обрушивается хаотический выброс, большая часть которого транслируется донором подсознательно. Лишенный ориентиров, при полном отсутствии естественных фильтров, мозг реципиента воспринимает чужие мыслеобразы как свои собственные, в результате чего развивается сложнейшая форма шизофрении с множественным расщеплением сознания и личности…
— То-то я думаю: почему реклама телепатеров скисла? Еще с ноября, — вслух прокомментировал Эдик, заглушив последние слова оратора. — Дулю им, а не телепатию! А врали: военные лапу наложили, засекретили…
— Я слышал — конкуренты прижали…
— Да тише вы! Дайте послушать. Это серьезно.
— …попытки лечения реципиентов не увенчались успехом. Тем не менее, игнорируя рекомендации специалистов, руководство «Эмпакома» намерено продолжать эксперименты с ментальной связью. В этой ситуации мне и ряду моих коллег не осталось ничего другого, как обратиться к широкой общественности через средства массовой информации. Я врач, я давал клятву Гиппократа!.. В конце концов, я гражданин, я просто человек!.. И спокойно наблюдать, как на алтарь прибылей…
— А ведь и правда, серьезно… нервничает…
На экране возникла фигуристая блондинка-ведущая. Стрелы ресниц (накладные?), заученный рефлекс улыбки. Наивный, незамутненный мыслью взгляд голубых глаз, сквозь которые при желании, наверное, можно увидеть заднюю стенку черепа.
Красавица.
— Но Вачаган Арсенович! Позвольте! Ведь в свое время и «патники»… ой, простите! — эмпатические коммуникаторы тоже считались вредными? Может быть, история всего-навсего повторяется?
Камера вновь нащупала дядечку с залысинами. На этот раз его сопровождала бегущая строка: «Проф. Казарян В. А., доктор психологии, зав. региональным НИЦ «Эмпаком».
— Я был бы только рад, окажись мои опасения беспочвенными. Черт возьми, я бы сплясал на столе, случись так!
Профессор, вдруг став похожим на безумца-абрека, закусил губу. Чувствовалось: спокойный деловой тон дается ему большой кровью. Куда легче было бы сорвать галстук, скинуть пиджак и, обнажив верный кинжал, броситься резать экспериментаторов, словно бешеных собак. Но гнев полыхнул дальней зарницей, раскатился громом — и ушел за горизонт.
Очки.
Тугой узел галстука.
Размеренная, убедительная речь почти без акцента.
— Однако на сей раз мы располагаем реальными фактами, в то время когда вокруг эмпат-коммуникаторов ходили лишь ничем не подтвержденные слухи. Даже на стадии лабораторных испытаний приборов серии «Сэнсит» не было выявлено никаких побочных эффектов. Теперь же нами накоплен огромный статистический материал, однозначно подтверждающий: эмпатические коммуникаторы совершенно безвредны. Более того, они успешно применяются при лечении тяжелейших депрессий, нервных расстройств, различных фобий и даже наркомании с алкоголизмом. А об их использовании в быту вы наверняка осведомлены не хуже меня. Но ментальный коммуникатор — это нечто принципиально иное! Повторяю, это устройство крайне опасно для психики человека! Я могу привести полученные в ходе исследований данные…
В памяти всплыла февральская статья, подготовленная Кириллом по заказу еженедельника «Горизонты бизнеса». До окончания института оставалось еше полгода, но к нему, дипломнику журфака, все чаще обращались различные издания. Поначалу — откровенно «желтые», но позднее — более солидные, вроде тех же «Горизонтов…». Платили сносно. Кирилл даже начал подумывать: а не взять ли свободный диплом?
Статья была о сферах применения «патников». Для Кирилла, врожденного сейфа, написать ее стало делом принципа. Поработал на совесть: торчал на молодежных дискотеках, где тинейджеры с «патниками» за ушами, в ушах, в волосах, на затылке балдели от счастья, подзаряжаясь от тусовки «драйвом»; на стадионах, когда половина трибун с восторженным ревом вскакивала в едином порыве, едва центрфорвард «Металлиста» засаживал мяч «в девятку». Общался с влюбленными, с молодоженами, с врачами-психиатрами и невропатологами; вошел в доверие к юнцу — начинающему наркоману, выяснив из первых рук: «ловить кайф» стало куда проще, дешевле и безопаснее. Собирается компания любителей забить косячок или нюхнуть, берут одну дозу на всех, цепляют «патники», усаживаются кружком… Один «долбится», а кайф ловят все. Пусть опосредованный, фильтрованный, на «голых эмоциях», но все-таки… С жесткой наркотой такие шутки не проходили, но с травкой и даже с морфием — вполне. Эйфория транслировалась запросто. Между прочим, лечили наркоманов по весьма сходной методике. «Толкачи», ясное дело, были не в восторге: спрос на легкую отраву неуклонно падал. Ходили слухи, что готовится законопроект о легализации слабых наркотиков с продажей их в аптеках по «групповым заявкам».
Статья получилась на славу. В номер прошла с первого раза, почти без правок. А главред «Горизонтов…» обещал, как возникнет надобность, непременно связаться. Можно гордиться. У сейфа получилось! Еще и получше, чем у коллег с «патниками». Читал он подобные статейки в других изданиях — чушь, бумагомарание…
И сейчас Кирилл почуял тему! Острую, сильную, потенциальную сенсацию. Крах проекта телепатической связи от «Эмпакома», выступление руководителя исследовательского центра с публичным разоблачением… Фарисей Савл, побиватель христиан, на глазах почтенной публики линяет во вражеский лагерь! Секс-бомбу из телика пора гнать в шею: профессор доброй волей к ним пришел, тут лови момент, жми по максимуму, а она виляет разговором, будто сучка — хвостом… Статья — статьей, но видно же: у человека душа болит! Отчего не помочь чисто по-человечески?!
— Вадим, слушай… Он что, прав? Это действительно опасно?!
Илонин кавалер вздрогнул от неожиданности. Передача близилась к финалу, ведущая хлопала ресницами, загадочно улыбаясь Казаряну, и Вадим наконец оторвался от экрана.
— Прав. Я его ассистент. Насмотрелся на этих добровольцев… Камикадзе, блин. Глаза горят, улыбки до ушей — как же, телепатия! Мысли, блин, читать! Я! Первый! Без мыла!.. А теперь?
— Что — теперь?
— Все теперь. Глаза пуговицами, изо рта слюна капает. Собачки Павлова. Бормочут без умолку, иногда на трех языках сразу. Некоторые, блин, вообще под себя ходят. Другие держатся, но в башке — полный бардак. Что такое множественная шизофрения, представляешь?
— В общих чертах.
— В общих, блин… Расщепление личности на ряд псевдосамостоятельных субличностей. На ряд, понимаешь?! А тут не ряд! Тут шеренгами, повзводно! Бум в истории психиатрии, блин… Наши умники намылились по-быстрому диссеры клепать. Полное, черт бы его побрал, самообеспечение! Сами шизофреников плодим, сами изучаем. А людей больше нет, понимаешь?! Не люди они теперь. Короче, Казарян — мы его «Горцем» прозвали — полез на амбразуру: один, блин, останусь, а гадов придушу! Знаешь, что после этой передачи начнется?!
Кирилл отхлебнул рислинга.
— Ни хрена не начнется, Вадюша. Спустят на тормозах. Если в деле большие бабки…
— Вот и я так думаю, — разом скиснув, протянул Вадим. — Добровольцы подписку давали о возможных последствиях. В здравом уме и трезвой памяти… Значит, Вачагану Арсеновичу кранты! Да и меня, пожалуй, выпрут. Хрен с ним, с центром.
Сам бы все равно ушел! На этих Менгеле пахать…
— Ребята, хватит о работе!
Странно было не то, что Илона наконец возмутилась. Странно, что она не сделала этого намного раньше.
— Задолбали! Мишель, доставай гитару…
Позже, когда Вадим выбрался на балкон покурить, некурящий Кирилл вышел за компанию. Договорились быстро. Познакомить с профессором Казаряном? Отлично! Горцу сейчас нужна максимальная огласка. Конечно же, Вадим с радостью…
Расходиться гости начали за полночь. Охрипнув от песен, крепко выпившие. О телепередаче никто не вспоминал. Даже Кирилл. Посуду они с Вандой мыть не стали — оставили на завтра. Успеется. Им сегодня не терпелось. Обоим. Как в первый раз… «Или в последний», — мелькнуло совершенно некстати. И исчезло. Вместе с остальными мыслями. Гулкое биение двух сердец. В такт. В унисон. Сладкий — стон? вздох?
Звезды заглядывали в форточку.
Через два дня, беря интервью у Казаряна, Кирилл и помыслить не мог, что вскоре выяснится: профессор ошибся. Хочется добавить: «К счастью, ошибся», — но язык не поворачивается. «К сожалению»? Тоже вроде мимо…
У телепатического проекта «Эмпакома» неожиданно открылось «второе дыхание».
КИРИЛЛ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 11.54
…забавно.
Тайна за семью печатями: почему я решил вести записи от третьего лица? Игра ума? Или страх оказаться голым «я» перед толпой? Хотя толпа предполагалась лишь втайне… Но хотелось. Ах, как хотелось: вы видите! это он! автор того самого… Знал бы, во что выльется, — вовсе не начинал бы. Зато теперь мне дарована возможность закончить. Спички и маленький костерок. Что горит, принц?
Слова, слова, слова.
Представляю лица сотрудников чертова «Эмпакома», когда они поняли, что судьба, повернувшись к ним задницей, вдруг наклонилась, задрала подол и сказала: «Ладно, ребята! Хрен с вами. Пользуйтесь…» Уже позднее набежала куча мала академиков — разъяснили, подтвердили, сделали умный вид. А поначалу крестные отцы ментал-коммуникации чувствовали себя, мягко говоря, скверно. Заставить прогресс прыгнуть выше головы — и увидеть, что твое изобретение способно лишь плодить психов. Швейцарец Бауэр, глава проекта, запил. Кое-где начались митинги протеста: вялые, больше для рекламы митингеров, чем от реального возмущения. Через полгода о неудаче вообще забыли. Пресса переключилась на подавление мятежа в Катманду, телевидение смаковало бурные разводы «звезд». И вдруг, громом с ясного неба: эврика!
Поначалу не поверили.
Но когда трезвый как стеклышко Бауэр в присутствии своего заклятого друга Казаряна явил «городу и миру» бывших шизофреников, якобы пострадавших от экспериментов… Журналисты стали охотиться за каждым из отставников-реципиентов, как изголодавшийся кроманьонец — за жирным мамонтом. Или за кем он там охотился, этот кроманьонец, если жрать хотел. Оказалось, в башке у братцев-сапиенсов есть такая маленькая штучка… Честь открытия «штучки» принадлежала мятежному профессору Казаряну. Из ревностного сотрудника «Эмпакома» став яростным защитником угнетенных реципиентов, Горец все силы бросил на поношение былых соратников и поиск методов лечения для пострадавших. А сил у Вачагана Арсеновича оказалось изрядно, равно как и ума понять в конце концов, что с борьбой пора завязывать. Наблюдение вкупе с реабилитационными процедурами показало: выход рядом. Главное — не мешать. Да, действительно: мозг и впрямь не способен справиться с приемом чужой информации, отягощенной образным и эмоциональным фоном. Поначалу не способен. Как ребенок надорвется, подымая мамочку — но дитя растет, бегает трусцой, «качает железо», вскоре таская родительницу по квартире за милые веники! И псевдошизофрения, расслоение личности — защитная реакция. Временная броня, дающая мозгу возможность перестроиться, включить программы, дремавшие в нем до изобретения ментальных коммуникаторов, живо прозванных «ментиками». Пройдя стадию «расслоения», отставные реципиенты научились выделять группу узкоспециализированных субличностей, каждая из которых без вредных последствий контачила с донором-передатчиком. С десятком доноров. С сотней. И поговаривали, что предела этому нет. Кстати, по первому, совершенно рефлекторному желанию «хозяина» субличности, имя которым — легион, мгновенно интегрировались в общую, базовую.
Мозг привыкал, становясь похожим на руки пианиста.
Время адаптации — полгода. Не годится. Внесли коррективы в технические установки «ментика». Время адаптации сократилось до двух месяцев. Подключили психологов, бросили все силы на разработку программ, позволяющих ускорить запуск «рефлекса Казаряна». Ускорили — месяц. Какой-то далай-лама предложил медитативный тренинг «Древо Бодхи», заявив, что готов способствовать приходу в мир новых архатов. В «Эмпакоме», переименованном в «Ментат интернешнл», к далай-ламе отнеслись с пониманием. Исследовали, проверили, добавили. Древо Бодхи пустило корни. Зазеленело. Расцвело.
Время адаптации — около недели. Говорят, есть шанс сократить еще чуток.
Вот она, вторая тетрадка. Я вернулся к записям через шесть лет после интервью у Казаряна. Вернулся другим человеком: помнится, в отличие от деятельного юнца тогда меня увлекала психологичность текста. В ущерб сюжету и прочим интригам. Мои материалы стали излишне длинными — редактора бранились, сокращая. Видимо, здесь я собрался реализовать «новые веяния» без чужого карандаша.
Когда я перелистываю страницы, изнутри выпадает огрызок листа для принтера. Кружится бабочкой-капустницей, падает на пол. Поднимаю, вчитываюсь в безликий машинный шрифт:
…Зима скатилась к февралю, И, напоследок огрызаясь, Вчерашний волк, Сегодня — заяц, Готовится почить в раю.Очень кстати. Откуда взялся февраль, если на дворе стояло лето?
Хоть убей, не помню — кто такой Индж, чью фразу я поставил эпиграфом.
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
Когда прародители бежали из рая, Адам, вероятно, сказал Еве:
«Дорогая, нам выпало жить в переходный период!»
Уильям ИнджЗубная паста закончилась крайне не вовремя.
Выдавив из тюбика «Blend-a-med» жалкие остатки, Кирилл рьяно орудовал щеткой. Сказывалось напряжение, не отпускавшее с прошлого четверга. Десна на месте двух выпавших зубов слегка кровоточила. Надо сходить к стоматологу. Надо. Но позже. Он лукавил, зная: это «позже» будет тянуться до последнего. Всегда боялся боли, вторжения в свое тело. Не по-мужски? Настоящий мачо запросто отгрызет себе лодыжку, лишь бы не показаться трусом? А мы и с лодыжкой… Так, теперь побриться. Хочешь быть красавцем? — запросто.
Мачо — они в придачу бреются редко. С щетиной ходят.
Голуби-сизари.
Сегодня Ванда вернется из тест-центра. После разлуки — домой. После огромной, чудовищной, невероятной разлуки в целую вечность: пять дней. Когда сам уезжаешь в недельную командировку, собирая материал или желая урвать эксклюзив-интервью, не испытываешь ничего особенного. Знаешь, что жена дома, что она ждет… Есть большая разница: когда ждут тебя и когда ждешь ты. Очень большая. Покидая дом, ты движешься, покупаешь билеты, ешь сваренные вкрутую яйца, посыпая их солью, говоришь с попутчиками о пустяках, теряешь взятые в дорогу шлепанцы, встречаешься с людьми, возвращаешься, наконец. Поток жизни не прерывается, создавая иллюзию постоянства. Зато отсутствие любимого человека, пусть короткое… Ждешь, ждешь, ждешь, утопая в бездействии — что бы ты ни делал при этом, бездействие неотвратимо, как похмелье после недельного запоя! — в полной уверенности, что вернется кто-то другой, подменыш, восковая кукла с глазами-пуговицами, и никаким делам, никакой водке не выбить этого странного и страшного ощущения. По идее, если верить рассказам приятелей, следовало устроить загул. Праздник одинокого мужчины. Навести баб, учинить дым коромыслом и сейчас спешно выносить на помойку пустые бутылки и мятые лифчики, испещренные предательскими отпечатками пальцев. Матерясь, опаздывая в тест-центр и с ужасом представляя грядущий скандал.
Кирилл улыбнулся.
Жуткое зрелище: улыбка тонет в пене для бритья.
Соскучился. И чуть-чуть страшновато: увидеть Ванду с «ментиком». Умом понимаешь, что все просто, обыденно, что это ничуть не отличается от вида жены, сидящей за рулем автомобиля — чудо техники, приятный подарок прогресса. Чужих людей видел навалом. Сразу и не поймешь: очки, слуховой аппарат, обруч в волосах, крупные яркие клипсы — или?.. Иногда под шляпой прячут. Каждый располагает «ментик» там, где ему нравится. Никаких чипов, электродов, вживленных в висок, — лишь бы вплотную к голове. Но это чужие, посторонние люди… чужие головы. Почему мы еще больше вторжения в тело боимся вторжения в мозг?! В душу?! Хотя душа здесь ни при чем. И «мы» ни при чем. Боящееся «мы» — это мычание тринадцатипроцентного отряда сейфов и стариков, ворчащих по поводу всего нового. Отряд не заметит потери бойца…
Брызги одеколона (Ванда в марте подарила…) обожгли щеки. Хватит думать о глупостях.
Пора одеваться.
Во дворе бегал эрдельтерьер Маргинал, для друзей Марчик или Маря. Лохматый кирпич морды излучал буйное удовольствие от выгула. Временами пес падал на спину, катаясь по траве, и надо было числиться закоренелым пессимистом, чтобы не позавидовать «брату меньшему». Кирилл порадовался теплому деньку за компанию с Марчиком, вдруг сообразив, что, несмотря на брюзжание синоптиков, последнее время погода вообще баловала народ. Теплая, обильно снежная зима. Мягкое лето. Даже обычные ливни в мае и начале июня… Ванда называла их «шампанским». Легкие, прозрачные, искрящиеся. Пена на лужах, и почти сразу: умытое дождем солнце. В небесной канцелярии у человечества явно объявился тайный протекционист.
— Маря, Маря… Эй, сардель-терьер! Ты это брось! Лапами грязными…
Хозяин пса, Семен Григорьевич, лежал под истасканным «фордом», временами брякая инструментом. Иногда казалось: в отличие от непоседы Марчика без почесывания железного пуза «форд» с места не двинется.
— Здрасьте! Как жизнь?
— …Бурлит! — утробным эхом всплыло из-под днища. — Кириллище, ты?
— Ага!
— За Вандейкой? — Сосед очень вкусно именовал жену Кирилла, вызывая сразу цепь ассоциаций, от Вандеи до рождественской индейки. — Обожди пяток минут, я тебя подвезу. Вишь, «форд» это… фордыбачит…
— Спасибо, Семен Григорьевич! Я лучше на такси.
Кирилл прекрасно знал: «пяток минут» для соседа — понятие растяжимое. Ухватив за шкирку разомлевшего эрделя, он смотрел, как Семен Григорьевич мало-помалу являет себя миру. Сперва ноги в стареньких джинсах, следом — широкий пояс с заклепками, над которым громоздился внушительный живот любителя пива… расстегнутая до пупа рубашка-ковбойка, цепь с крестом… Время поджимало, но вдруг очень захотелось увидеть соседа целиком. Человека с «ментиком». Пусть дешевым, внутригородского радиуса действия. Когда трудишься на побегушках, сводя гору с горой и имея навар от случайных знакомств, расположенных в нужном порядке, без «ментика» не обойтись. Иногда Кирилл и сам пользовался связями Семена Григорьевича — например, в мэрии.
— Сигареткой угостишь? Барской?
— Вот… — Курить Кирилл начал в прошлом году. Без видимых причин.
Эрдель чихнул, удрав от курильщиков подальше. Принялся гонять голубей — жирных, ленивых.
— Ты, Кириллище, не дрейфь. — Обманчиво туповатый с виду, сосед с первого взгляда подметил «мандраж» собеседника. Этим и брал: тюфяк-увалень, с таким хочешь не хочешь, а расслабишься. — Привыкнешь. Моя тоже поначалу дергалась. Ночами ругалась: сними да сними, иначе не дам! А я ей: Маруся, ша! Это навроде мобильника, только лучше. Угомонилась…
— Я не боюсь. Так… странно просто.
Губы. Семена Григорьевича слегка дрогнули невпопад. Сложились в беззвучные слова. Сигарета двинулась в уголок рта, где и замерла. Лицевые мышцы «проиграли» десяток разных гримас: эскизно, малозаметно, как опытный музыкант спешит пальцами по клавишам, переходя от одной мелодии к другой. Окно, из которого, быстро меняясь, выглянули жильцы. Поймав взгляд Кирилла, сосед тронул пальцем очки, дужки которых были вдвое толще обычного. Громко рассмеялся:
— Что? Засек?! Расслабься, еще у супружницы насмотришься… Это поначалу бывает. Начинаешь машинально говорить. Врачи предупреждали: спонтанный эффект вербализации и это… микс-мимика, вот!
Сложный термин сосед выговорил без запинки, явно гордясь эрудицией.
— Пока устаканится. Я себе новую модель взял, в рассрочку. Радиус: аж до Югославии! Или за Урал шибает, если на восток.
Кирилл не понял, почему на восток «шибает» дальше, чем на запад. А спрашивать постеснялся.
— Зачем вам такой радиус?
— Надо. Скоро, говорят, все модели будут вообще… Безразмерные. Через спутник, что ли?.. А у твоей какой «ментик»?
— Не знаю. Наверное, безразмерный. Ей издательство оплачивает. Им по авторским правам постоянный контакт с зарубежом требуется. Франция, Германия… Штаты…
— A-а… Кто б мне оплатил? Найдешь — звони.
— Мне пора, Семен Григорьевич.
— Ну, бывай! Вандейке привет…
Уже собравшись идти, Кирилл не удержался:
— Семен Григорьевич, вы… А как оно? Ну, действует?
Работая над статьями, он сто раз слышал мнение специалистов. Читал брошюры. Но сейчас позарез захотелось услышать это от знакомого, привычного человека.
Не научная белиберда, а «на пальцах», для своих.
— Эх, Кириллище… — В глазах Семена Григорьевича мелькнуло искреннее сочувствие к сейфу. — Как бы тебе объяснить? Знаешь, как на пианино играют? Левой рукой вот так, а правой по-другому? Вразнобой, значит. А ногой еще и по педали топают. И губами шевелят. И носом шмыгают, если насморк. Короче, пять дел сразу. С «ментиком» так же, только для мозгов. Умственный осьминог получается. Уяснил?
— Выделение субличностей?
— Ну, это для врачей. Суб, шмуб!.. Я тебе по-нашенски. Иначе, извиняй, не умею. Здесь главное другое — врать не получается. Вранье, оно кислое. Сразу оскомина. Для дел — лучше не придумать. Хотя, знаешь, не всегда…
— Кислое?
— Ну, такое… Вроде яблочка. Зеленой антоновки. Пробовал?
Кирилл кивнул, делая вид, что понял. Значит, вранье кислое. А правда сладкая. Зеленая антоновка и варенье из малины. А эротические фантазии отдают фиалками, сияя перламутром. Трудно, почти невозможно представить себе всю цепочку образов, передаваемых «ментиками». Информация, сращенная с чувствами. Текст, неотделимый от ощущений. Слово «кипарис», как абстрактное понятие «хвойное дерево», слово из семи букв, трех гласных и четырех согласных, вкупе с йодистым ароматом моря, огнем заката, криками чаек над водой…
Пять дел одновременно. Сто дел. Тысяча. Только для мозгов.
Пора ехать за Вандой.
— Я тебе вот что скажу, Кириллище, — бросил в спину сосед, прежде чем вновь скрыться под днищем машины. — Дурят нашего брата. Я слыхал, «ментики» — они… Короче, с самого начала безразмерные были. Их с глушаками в продажу пустили, временно. Чтоб капусты побольше срубить. Ох, дурят…
Эрдель Маргинал проводил Кирилла до угла и умчался обратно: жировать на травке.
Такси подкатило сразу, едва потенциальный клиент успел встать на обочине и поднять руку. Распахнулась
— Далеко?
— На Отакара Яроша. Возле отеля «Мир».
— В тест-центр, шеф? Тогда червонец.
— Сам ты шеф. Семь, и ни копейкой больше.
— На восьми сойдемся? — Таксист попался молодой, веселый. Бывают такие ухари: кепка с залихватским напуском, лоб скрыт под козырьком. Одни глаза блестят зайчиками. И руки на баранке: сплошь в синеве наколок. — Мне алименты платить, рубля не хватает!
— Поехали…
Шины зашуршали по асфальту. Обогнав скучную «мазду», такси набрало скорость.
— Заказывать едешь, шеф? Или так, приглядеться?
— Приглядеться, — разговаривать не хотелось. — Я сейф, мне только глядеть осталось.
— А-а… — Таксист вдруг стал чертовски похож на Семена Григорьевича. — Ясно. Ну и правильно. Хрена там, в этих новшествах. Я, когда женихался, «патник» сдуру нацепил. Чую сердцем: клевая у меня телка! Всегда радостная, довольная, душа поет… И у меня в ответ: соловьем. Потом, после штампа, выяснил: стерва она. Радостная. Дусту в чай подсыплет и по жизни счастлива. Чувства, м-мать иху…
— Разошлись?
— Ну! Говорю ж: алименты… Пацан растет. Хороший пацан, ласковый. В меня. А «ментик» я себе не возьму, нет! Башка не арбуз, чего ее на ломтики, иху м-мать…
Кирилл вдруг обиделся. За Ванду.
— Никто вашу башку резать не собирается. Телепатическая связь — гигантский прорыв в истории человечества! Выделение субличностей с узкой специализацией, их расслоение и интеграция по первому желанию…
Таксист сбил кепку на затылок.
— Тиграция-хренация! А башку все одно не дам… И потом, шеф, ты-то чего разоряешься? Если не врешь, что сейф… Платят тебе за рекламу, что ли? М-мать иху, куда прешь! Не дергайся, шеф, это я не тебе…
Замолчав, Кирилл стал смотреть в окно. Они уже выехали на проспект, и теперь вдоль дороги тянулись витрины, вывески, рекламные щиты. На троллейбусных остановках толпились люди, у входа в метро торговали
арахисом, батарейками и журналами. Таксист, видимо, обидевшись, тоже не пытался продолжить беседу. Включил радио, нашел хриплый «блатняк» и принялся наслаждаться. Кирилл вдруг подумал, что этот таксист скорее всего еще до Нового года обзаведется «ментиком». В кредит. Или у друзей подзаймет. Потому и бранится, сам себя накручивает: чтобы страх преодолеть. Этот страх, свойственный многим, преодолевается быстро. Только у стариков, с подозрением относящимся к любым новшествам, он доминирует. Вот и таксист: спрячет «ментик» под кепкой, станет крутить баранку, одновременно делая десять дел. Одна субличность обсудит с шоферней вчерашний матч «Торпедо» — «Металлист», другая договорится с дружками, кто прихватит пива для воскресной рыбалки, третья подцепит заказ у диспетчера — напрямую, без вечно ломающегося радиомаячка…
— Приехали, шеф.
Расплачиваясь, Кирилл удивился, когда таксист не стал клянчить «прибавочки за скорость». Вместо этого кепка доверительно подалась к клиенту:
— Слышь, шеф… А правда, что все армяшки — сейфы?
— Глупости. Кто вам такое сказал?
— А ты наш, местный?
— Наш. А что, на армянина похож?
— He-а… Они носатые. И с усами. Витек, козел, в гараже брехал! Вот я и…
Не договорив, таксист захлопнул дверцу и стал разворачиваться.
Ванда ждала в скверике возле тест-центра. Едва не уронив купленный на углу букет роз — любимых Вандиных гладиолусов, как назло, не нашлось, — Кирилл сперва испугался, что опоздал, и лишь потом, видя сияющее лицо жены, понял: она нарочно. Вышла заранее, села на скамейку, чтобы встретить его не в казенном фойе, а снаружи, под старой липой. Ускорив шаг, он обогнул памятник мрачному деятелю искусств и подошел, почти подбежал к жене.
— Ну как ты? Как здоровье?
Уже выдохнув вопрос, удивился собственной глупости: при чем тут здоровье? Тест-центр — не больница. Здеш-ioq ние процедуры скорее сродни медитациям или приемам у психоаналитика. С единственной целью: выработать у клиента навык обращения с «ментиком». В газетах писали: в ближайшее время благодаря новым методикам такие навыки будут формироваться амбулаторно — один, максимум два дня.
— Кирюша… я очень соскучилась…
Букет все-таки упал на землю. Пенсионер напротив, блестя иконостасом орденов, неодобрительно наблюдал за обнимающейся парочкой. В его время… Небось, еще и не расписаны, молокососы. Впрочем, даже предъяви «молокососы» свидетельство о браке, это не поколебало бы блюстителя нравственности. Семья — дело серьезное. Грешно на людях лизаться. Думают, ежели в мозгах репродукторы, так теперь и все дозволено?
Нет, милые!
— Ванда…
Потом они долго собирали рассыпавшиеся розы — Ванда терпеть не могла обертки из фольги, и Кирилл об этом знал. Смеялись. Шутили. Говорили о пустяках. Медленно, обнявшись, шли к стоянке такси, потом к стоянке автобуса, потом — по проспекту, решив двинуться домой пешком. Съели по мороженому в открытом кафе. Все было чудесно. Лучше не бывает. Кирилл усердно делал вид, что не замечает обруча в коротко стриженных волосах жены. Получалось хорошо. Гораздо труднее было не заметить периодической игры лицевых мышц и шевеления губ. «Это скоро пройдет, Кирюша! — Ванда смущенно улыбнулась. — Консультант заверял: в течение месяца…»
Кирилл, смутясь, махнул рукой: пустяки, мол!
И подумал: кажется, они стесняются своих «ментиков». Чуть-чуть, самую малость. Возможно, только поначалу. Возможно, навсегда. Но стеснение это удивительно по самой природе. Так близорукий подросток стесняется очков. Хромой мальчишка — костылей. Если учесть, что задача «ментика» — вовсе не компенсировать физический недостаток, а наоборот… Странно. Стесняться хорошей машины? дорогой квартиры? кольца с бриллиантом?! Или все-таки очки с костылями? — просто они еще не знают, но догадываются, чувствуют подспудно…
Черт возьми, надо быть сейфом, чтобы морочить себе голову такими дурацкими мыслями!
— Слушай, а давай пойдем в кино?
Ночью он будет очень стараться, чтобы все прошло как обычно. Жена вернулась домой. Любящий муж сгорает от нетерпения. В сущности, правда. Но ощущение, что они теперь в постели не одни, сохранится надолго.
Обруча Ванда не снимет, сославшись на рекомендации консультанта.
Еще через месяц они уедут отдыхать на море.
КИРИЛЛ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 12.10
…сейчас понимаю: написать роман «for sale» — проще простого.
Взять тетрадки. Довольно скучные, местами разные по стилю. Вместо вялой, сегодняшней рефлексии, не имеющей ни смысла, ни цели, кроме как вскоре полыхнуть от зажженной спички, добавить десятка два высосанных из пальца эпизодов. Шустрых, бойких. Кого-то похитить, кого-то убить. Пострелять в переулке. Найти укромное место для откровенного секса. И сложить карточный финал с намеком на продолжение. Это очень важно: намек. Бодренькое подмигивание из-за занавеса. Седобородый мудрец XX века — Яков, сын Эммануила — иронизировал, имея в виду якобы древнюю Александрию:
«Чем теперь гетера — не муза; чем муза — не гетера? «Дайте мне вина, девицы!» Пить, лишь бы не думать! Возвышенная трагедийность, пиндарова величавость в век господства авантюр, религиозного сумбура, ученого универсализма, музейной науки и площадного суеверия, винегрета из обычаев и обрядов всех культур Востока и Запада… Шибче и веселее! Веселее! Веселее! Вот моральный лозунг эпохи вселенства. Трагедия же? Кому нужна сейчас трагедия — этот Эдип? Пожалуй, еще нужен Еврипид, да и то кучке гурманов. И что такое теперь трагедия, если не душещипательная забава и приятное времяпрепровождение? Для катарсиса же, то есть очищения зрителя при созерцании трагедии, как учил Аристотель, существуют бани и врачи. Не угодно ли вам термы Каракаллы? — Очищайтесь!»
Я был бы счастлив сделать из обрывков собственного жалкого существования что-нибудь, о чем критики могли бы насмешливо воскликнуть: «Шибче и веселее!» И ответно всласть поиздеваться над почтенной публикой. Жаль, издеваться больше не над кем. Те, кто остался, не заслуживают насмешек или оскорблений. Я, например, остался. А мне меньше всего хочется стать лживым и многословным. Я ведь очень хорошо помню годы, прошедшие между приобретением Вандой «ментика» и моим первым посещением «Ящика Пандоры».
Удачные годы.
Счастливые годы.
Возможно, странный привкус неизбежности лишь добавлял счастью остроты. Возможно, это я придумал себе прошлое счастье. Помнится, я был нарасхват. Статья за статьей. Причины смягчения климата: повсеместно. Мирные переговоры израильтян с палестинцами, впервые на памяти человечества завершившиеся реальным успехом. Демократические выборы в Южной Корее. Массовое закрытие атомных станций. Врачи разводят руками: безнадежно больные доживают дни без мучений. Смерть никуда не делась, но боль отступила. Люди стали меньше страдать телесно, у здоровых также поднялся болевой порог — визит к стоматологу превратился в пустяк. Агония партии «зеленых»: любимая мишень исчезала на глазах. Загрязненность среды самопроизвольно упала: заводы, не меняя изношенных фильтров, начали гадить если небезопасно, то вполне сносно. Упал уровень излучения радиоактивных отходов. Реки принялись самоочищаться. Популяции редких животных увеличились вдвое. Втрое.
Вдесятеро.
Многие журналисты не выдерживали. Если раньше публику держали на игле чернухи — пожар в Саратове! истребление осетров! террористы взорвали школьный автобус!!! — то теперь, желая напугать, приходилось редкостно изворачиваться. Обрадовать стало много проще. Вот и не выдерживали.
Ломались. Переквалифицировались в управдомы.
О чем писать, акулы пера и киты клавиатуры?! О празднике урожая?! О высокой производительности труда и росте благосостояния?! О сокращении числа вооруженных конфликтов и дорожных катастроф?! Самолеты давненько, знаете ли, не падали… Ну и что, что правда! — на такой правде тиража не поднять.
Мы были наркоманы стресса, некроголики дурных известий. И — началась ломка. Страшная. Тяжелая. Как выяснилось, сейфы и журналисты особенно плохо переносили хорошие новости. Осколки прошлого, привычные к постоянному испугу, сроднившиеся с ним, каждую радость воспринимавшие как преддверие стократ большей опасности. Мастера плевать через плечо. Знатоки черных кошек. Заклинатели демонов удачи.
Остальным было легче: еще сами того не зная, они уже учились общей радости.
Одной для всех.
…всей — для одного.
АДАМ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 16.14
Папа, как бы мне хотелось перестать читать.
Не могу.
Машинально тяну руку — перелистнуть страницу, пахнущую болью и яблоком.
Я уже отравлен? Никогда не задумывался: какой брусчаткой вымощена дорога в рай? Папа, неужели ты сможешь наконец войти в меня — таким чуждым, таким противоестественным образом…
ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ
Пересчитай свои годы на деньги, и ты увидишь, как это мало.
Магдалена СамозванецВход в клуб «Ящик Пандоры» весьма смахивал на дверь банковского сейфа-великана: лоснящийся блеск металла, внушительная тяжесть бронеплиты-многослойки, заклепки по периметру, штурвал запорного механизма…
Намек. Как и само название клуба.
Кирилл, чуть-чуть робея, шагнул вслед за Мишелем. В стальной зев. Странное чувство: будто тебя, сопляка, старший брат впервые вывел во взрослую компанию, где парни курят, не прячась, а девушки улыбаются так, что начинаешь стыдно заикаться в ответ. Вдвойне странное, когда ты привык считать себя битым, тертым, в трех щелоках мытым газетчиком, способным одинаково разговорить лауреата Нобелевки и панка из скандальной группы «Христ-Анти».
— Он со мной. Я поручитель, — тихо, но веско бросил Мишель. Охранник на входе кивнул в ответ, со спокойным достоинством освобождая дорогу. Серьезный парень: волосы ежиком, лицо кирпичом и цепкий взгляд добермана, который не станет зря лаять — сразу в горло вцепится. Костюм сидел на нем как влитой. Белизна рубашки, запонки, стильный галстук с вышивкой… И все равно за версту ясно: сторожевик. Элитной породы. Насмотрелись мы на его коллег.
— Значит, так: здесь бар, курительная комната, дальше дискуссионный зал и дансинг, — хозяйским тоном взялся перечислять Мишка Савельев. — На втором этаже: бильярд, пинг-понг, шашки-шахматы, домино. Рюмочная. В цокольном — сауна, душ, тренажеры. Гуляй, братва!
Савельев хлопнул Кирилла по плечу своей медвежьей лапищей.
— Располагайся. Мне тут надо кое с кем… Схожу на заточку лясов.
— А я?
— А что ты? Не маленький. Я тебя потом сам найду. Ты где будешь?
— В баре, наверное. Или в курилке. В сауну уж точно не полезу!
— Заметано. Через полчаса-час появлюсь. Да, плащ оставь в гардеробе. — И Мишель затопал вверх по старинной винтовой лестнице с надраенными до блеска перилами из латуни. Хотя с другой стороны холла имелась обычная (ну, не совсем — мраморная, с темно-зеленой ковровой дорожкой) лестница, на первый взгляд, куда более удобная.
Гардероб оказался на самообслуживании: вешай шмотки и уходи. Машинально переложив документы в пиджак, Кирилл отправился в бар. У стойки помедлил, любуясь сперва витриной за барменом, потом — вывешенным сбоку прейскурантом. «Рядовой Сыч! Приказано не скучать! Есть, сэр!» Удивить Кирилла изобилием спиртного и закусок было трудно: презентации, открытия, вольные хлеба… Короче, гулял по-всякому. Правда, за чужой счет. Поэтому если что и впрямь удивило — цены в «Ящике…». Даже армянский коньяк с текилой стоили по-божески. Не удержался, взял сто граммов серебряной «Саузы». Устроился на высоком табурете, осуществил веселый ритуал: «лизнуть-куснуть-хлебнуть». Соль, лайм, текила. Хорошо! Сразу чувствуешь себя ацтеком под кактусом.
Самое время оглядеться.
В баре наблюдалось великое смешение народов. Пара старичков-пенсионеров в ветхих пиджаках, тряся бакенбардами, ожесточенно спорили за столиком в углу. На столике имела место быть литровая бутыль «Немирова». Пустая на две трети. И полтора надкусанных бутерброда с ветчинкой. Хорошо гуляют деды! Дай бог нам в их годы… Ближе, сдвинув столы, рьяно «гудела» тусовка разнополой молодежи, время от времени срываясь на мат; пышная дама бальзаковских лет скучала в гордом одиночестве, лаская стакан сока; двое толстяков в костюмах «от Версаче» вели деловую беседу. Один извлек мобильник, набрал номер…
Из колонок, под аккордеон и гитару, лился тихий шансон:
— Мы — яблоки, надкусанные жизнью. Мы — райские. Любили, ненавидели, дружили По-разному. Для яблок нежеланье в гроб ложиться — Заразное…Ни у кого из посетителей Кирилл не заметил «ментиков». «Ящик Пандоры» — клуб сейфов. Здесь собирались только «невосприимчивые». Или седые ветераны, принципиально отказавшиеся проходить тесты, — продолжая жить по старинке, с тоской вспоминая минувшие дни, когда никто и слыхом не слыхал о «новомодных цацках».
Или верующие ультраортодоксальных конфессий, кто по разным причинам счел «ментики» происками Мирового Зла. Резервация. Гетто. Санаторий для глухонемых и дальтоников…
«Рядовой Сыч! Прекратить!»
«Есть, сэр!»
Кирилл поморщился. Дурная привычка: сразу начинать «прибрасывать» статью, отбирать «жареные» факты, словечки… Никто никого никуда не загонял. Сейфы сами создали «Ящик…» и забили крышку гвоздями в виде охранника и системы поручительства. Место, где можно общаться с себе подобными, расслабиться… Финансируется клуб по высшему разряду. Наверняка есть какие-то взносы, но реальные источники денег — побочные. Спросить Мишеля? Дескать, явился сюда изучить жизнь клуба, собрать благодатный материал для серьезного обзора, исследования феномена… Обзор с удовольствием опубликуют — сейчас материалы за подписью «К. Сыч» выходили в свет быстро, с минимальными купюрами, а чаще — вовсе без купюр. Привилегия модного репортера, умеющего «нащупать нерв». Но к чему врать? На самом деле «К. Сыч» здесь по иной причине. Пускай сюда его затащил друг детства Мишка Савельев, принципиально не желавший подключать к своей драгоценной голове любую машинерию. Тоже, кстати, интересный случай. Понятно, когда от «ментиков» отказываются косные упрямцы из подвида «божьих одуванчиков». Но молодой, неглупый и целеустремленный парень вроде Мишки?
Нонсенс…
А Кирилл — не нонсенс?! Рефлексия, депрессия. Надоело. Тайное чувство ущербности ретрограда поневоле… В последние годы из общения с женой, с друзьями и знакомыми, с коллегами по профессии стал исчезать некий отзвук. Трудновыразимый словами, даже если слово для тебя — рабочий инструмент. Ушло присутствие. Человек разговаривает с тобой, шутит, смеется в ответ твоим остротам, спорит, делится новостями — но перед тобой лишь часть этого человека. Вполне самостоятельная, надо заметить, часть. Субличность. Внешне вроде бы ничем не отличающаяся от прекрасно знакомого Эдика, Вадика… Ванды. Однако существует чутье, которое не обманешь. Ему, этому чутью, не требуются «патники-ментики». Твой собеседник не здесь. Он далеко, во многих местах сразу. Глядит на мир чужими глазами со склона Фудзи, болтает с приятелем, гуляющим по Монмартру, докладывает шефу в офисе о проделанной работе. С тобой общается лишь малая часть знакомого некогда существа. Да, в любую секунду все субличности способны вновь интегрироваться, но это — не для тебя. Ванда однажды призналась: от слияния она получает странное удовольствие. Отдаленно сравнимое с… Жена поспешила увлечь Кирилла в постель, собираясь на деле продемонстрировать: сравнимое — с чем. А он все никак не мог отделаться от старого, вдруг вернувшегося ощущения, что в постели они с Вандой не одни. Через день подлый сдвиг крыши исчез, но не до конца. Кирилл ждал его возвращения, как ждешь притихшую зубную боль, боясь признаться, что ожидание куда страшнее собственно боли.
А здесь, за толстенной дверью-крепостью — осколок старого мира. Пусть даже не осколок — иллюзия. Фантом. Голограмма. Но именно сейчас все вокруг кажется настоящим, и более того — единственно возможным. Остальное вне этих стен — сон, бред, и только здесь — реальность, данная человеку в ощущениях. Шум голосов, смех, трели почти забытых мобильников…
Кирилл допил текилу (умеют, ацтеки, молодцы!). Расплатился — и двинулся через бар, мимо столиков и голосов, раздвигая занавеси сизого дыма. В голове мелькнуло: «Если здесь так накурено, то что же творится в курилке?!» Как ни странно, опасения не оправдались. Накурено в следующем зале было не в пример меньше, чем в баре. Кирилл выбрал столик в углу. Пепельница, удобное кресло, стопка журналов — много ли надо человеку, чтобы выкурить хорошую сигарету, собраться с мыслями или, наоборот, прогнать оные мысли прочь?
— …с рождаемостью?
— Но ведь это общая тенденция…
Разговаривали двое за столиком по соседству. Один, вальяжный брюнет лет сорока пяти, курил сигару, лениво пуская дым кольцами. Его собеседник, блондин спортивного вида, нервно терзал уже третью подряд сигарету.
— …Сокращается?! Казимир, побойтесь Бога! Да она упала практически до нуля! Посмотрите статистические отчеты в сети!
— Дорогой мой Володенька, не преувеличивайте. И не относитесь к этому так серьезно. Известно ведь: есть ложь, большая ложь и — статистика.
— Да пускай они вдвое сгустили краски! Втрое! Вчетверо! Это все равно — катастрофа! Понимаете?!
Брюнет саркастически улыбнулся:
— Володенька, милый… Ну почему тогда никто не бьет тревогу, кроме вас?
— Бьют! В рельсу они бьют! В било… Казимир, нас никто не слышит. Люди оглохли. А в Азии пляшут от радости: наконец-то демографический кризис закончился, можно вздохнуть спокойно. Идиоты… Это не кризис, это полные дрова! Если тенденция сохранится — два-три десятка лет, и человечество тихо вымрет. Как динозавры.
— И тем не менее вы преувеличиваете…
— Казимир! Я вас умоляю! Откройте глаза, оглядитесь по
сторонам! — Блондин покраснел, брызнул слюной. — Много вы видели в последнее время на улицах маленьких детей? Совсем малышей? Ну-ка, припомните! '
На лицо брюнета набежала тень. Он задумчиво стряхнул пепел с сигары:
— Пожалуй, вы отчасти правы. Я особо не обращал внимания, но сейчас пытаюсь вспомнить…
— Вот именно! Пытаетесь — и не можете! Вы забыли, как выглядят младенцы! Знаете, что в городе закрылось больше половины детских садов? Это уже не статистика — это факты, в которых вы можете убедиться сами! Дети просто не рождаются. Без всяких на то причин. Родители здоровы, хотят иметь ребенка, а врачи разводят руками или лепечут всякую чушь. Мы с женой…
Блондин вдруг оборвал фразу на полуслове. Безнадежно махнул рукой; низко склонился над столиком, гася в пепельнице очередной окурок.
— Хотите еще водки? Я принесу. Нет? А я выпью.
Когда он проходил мимо, Кирилл на миг встретился с ним глазами — поспешив отвести взгляд. Стало неловко. Сухие глаза блондина источали почти физическую боль. Этот человек хотел быть отцом, но успел понять: надежды не осталось. Как у многих других — здоровых, молодых, любящих друг друга людей. Как до недавнего времени думал и Кирилл, просыпаясь среди ночи и обнаруживая, что Ванда тихо плачет в подушку. Хотелось волком завыть на луну, но выть было нельзя, потому что… потому. И вместо этого он принимался утешать жену, гладить по голове, как маленькую девочку, шептать всякую успокоительную чушь — и Ванда наконец успокаивалась, засыпала, а он выходил на кухню и долго курил, дурея от дыма, не в силах остановиться…
Но в начале лета все переменилось. Тесты наконец подтвердили: Ванда беременна! У них будет ребенок! Сын, обязательно сын, почему-то решил Кирилл. У них будет сын, и все будет хорошо, и…
А у блондина — не будет.
«Рядовой Сыч! Прекратить! Есть, сэр…» Да, глупо. Да, им с Вандой просто повезло. Но… Уже не в первый раз накатывало острое чувство вины. За одинокое счастье. Но ведь остальные не винят себя в том, что некий журналист волей природы оказался сейфом?! Так почему он должен стыдиться?!
Почему?!
Кирилл докурил сигарету и, стараясь выглядеть беззаботным, направился к выходу.
Дискуссионный зал в данный момент использовался по назначению. Вернее, почти по назначению. Ибо действо, творившееся в сих стенах, дискуссией можно было назвать лишь с некоторой натяжкой.
Пророк был вульгарен.
Пророк был в грязной рубахе навыпуск.
Пророк был в мятых штанах из вельвета. Пророк — вещал. Пророка слушали. Без разинутых ртов и огня во взглядах, но вполне доброжелательно. С пониманием.
— …недаром сказано: широка дорога, ведущая к вратам Ада, и многие пойдут по ней! Лишь малая часть узрит тропу узкую, ведущую в Небесную Обитель, — но и зрячие не отважатся ступить на нее! Оглянитесь вокруг! Узрите правоту вещих слов! Что есть хваленая ментальная связь, как не дьявольский искус? Кому это выгодно: связать души и умы человеческие единой сетью, а на самом деле — поймать в сеть?! Один человек — свободен. Он может пойти за пастырем — но по своей воле, по своему выбору. Толпа идет за вожаком, не за пастырем. Кому нужно превратить нас в стадо? Кому, я вас спрашиваю?! Куда он это стадо поведет?!
Передергивает, отметил Кирилл. Люди с «ментиками» — не стадо. Зато аналогия с сетью весьма уместна. Вроде стремительно приходящего сейчас в упадок Интернета в пору его расцвета. Каждый мозг — мощный сервер, способный одновременно связываться со множеством себе подобных. Сразу приходит мысль о коварном психовирусе или тайном коде, найденном в лабораториях вездесущих спецслужб. В считанные часы зараза распространяется по ментальной «сети», поражая бедное человечество (кроме сейфов, конечно!). Массы безумцев, орды зомби… Сколько копий было сломано в «желтой» прессе! Сколько скороспелых бестселлеров изверглось на лотки и прилавки! Люди с удовольствием пугались, втайне понимая: чушь. Страшилка дутая. Даже существуй психовирус — побоялись бы связываться. Разве что полный маньяк…
…или сейф!
Мысль была внезапной и слегка жутковатой. Но только в первое мгновение. Кирилл рассмеялся. Никогда раньше не пытался анализировать бульварную чепуху. А едва задумался — вот он, результат. Значит, лежало на поверхности, как любая банальность. Сам виноват.
Увы, «пророк вульгарис» заметил усмешку Кирилла, приняв ее на свой счет.
Гневно-обличительный перст уперся в дерзкого:
— А знаешь ли ты, сколько людей лишились работы? Сколько пошли по миру, проклиная мерзкого спрута — «Ментат интернешнл»?! Ты веселишься, а их семьи голодают! Отвечай — знаешь?!
Кирилл пожал плечами:
— Знаю.
Он действительно знал. К Новому году написал большую аналитическую статью по этому вопросу. «Ментики» поставили на грань банкротства целую сферу индустрии: информация и связь. Интернет, сотовая и обычная телефонная связь, в определенной мере — радио и телевидение. «Бумажные» издания пока держались, хотя и их позиции заметно пошатнулись. Тем не менее глобального кризиса мировой экономики это не вызвало, несмотря на прогнозы ряда социологов. Даже безработица оставалась в приемлемых рамках. Благодаря «ментику» человек мог в кратчайшие сроки освоить новую специальность, выучить иностранный язык, переквалифицироваться — в десятки раз быстрее, чем это делалось раньше. Опять же мозг, работавший теперь у большинства в многозадачном режиме, как правило, быстро находил выход из тупика. Мало кто из сотрудников фирм-банкротов в итоге вылетел «на обочину жизни». Во всех развитых странах успели включиться мощнейшие социальные программы помощи…
Где только деньги нашлись?
— …И ты смеешься над словами правды, зная, какова она?!
— Во-первых, я смеялся не над вами, а над собой. — Кирилла начал раздражать самоуверенный проповедник, от которого в придачу разило спиртным. Слушать пьяные откровения, да еще и безропотно терпеть личные выпады?! Увольте-с! — А во-вторых, я тоже не в восторге от происходящего на нашем шарике. Только надо быть объективным. Корпорация «Ментат интернешнл» — один из главных спонсоров социальных программ защиты. Плюс создаваемые корпорацией новые рабочие места. Или вы об этом предпочли тактично забыть?
Теперь взгляды слушателей были прикованы к Кириллу.
— С-сука! — Пророк подавился слюной, разом оставив возвышенный штиль. — Иуда! Подлянку строишь?! Люди!!! Они уже здесь, они сюда пробрались!
— Угомонись, Степан, — бросил кто-то вполне миролюбиво. — Парень свой. Наш, значит, парень. Вон, «ментика» нету…
— «Ментик» он дома оставил!
— И то верно, кстати…
— Они!!! Они без «ментиков» могут!
— Точно! Я слыхал…
— Слыхал он! Я сама видела!..
Это была правда. Через несколько лет работы с «ментиком» человек обретал способность к менто-контакту без «костылей техники», как выразился однажды Мишель. Ванда, к примеру, уже почти год обходилась без обруча. Коммуникаторы пробуждали и закрепляли в пользователях способность к телепатии, и даже самые закоснелые ретрограды не… могли этого отрицать. Еще пять-шесть лет…
— Сука! Сучара! Шпион! Подсыла!..
Пророк в исступлении визжал недорезанной свиньей. Лицо его побагровело, налилось дурной кровью, руки тряслись.
— А ведь верно, Степа. Казачок-то засланный…
Сбоку к Кириллу подступил заморыш в футболке и спортивных штанах. Впрочем, малый рост и худоба компенсировались аурой злобы, излучаемой человеком. Наголо бритая голова, переносица, неправильно сросшаяся после перелома, на щеках — сизая щетина. И белые, словно мраморные, костяшки сжатых кулаков.
«Рядовой Сыч? Влипли?!»
«Так точно, сэр!..»
— Попался, гаденыш?
Замаха Кирилл не увидел. Он вообще ничего не увидел. Просто под ребрами взорвалась граната. Было очень больно. Однако вторая граната медлила со взрывом. Когда наконец удалось разогнуться, выяснилось: друг детства Мишель облапил заморыша сзади, крепко прижав руки к телу, — и что-то горячо шепчет драчуну в ухо. Заморыш слушал, расслабляясь. Чувствовалось: захоти он вырваться — вырвется. Не удержит Мишка. Хваткой не удержит. Силой не удержит. Зато словами…
— Подурели, козлы?! Это ж Кирюха Сыч, мой однокурсник! Сейф! Журналист! Я ручаюсь! Ясно?! Что, Степа, опять нажрался?! Ну, козлы… дуры рогатые…
— Сам ты козел, Савельев…
— Ладно, погорячились…
— Извини, Сыч. — Заморыш легко выскользнул из объятий Мишеля. Протянул Кириллу руку: узкую, деревянную. — Виноват. У меня от Степки крыша летит… Пошли, мировую выпьем? Я угощаю. Или вмажь мне разок, для расчета.
Наверное, следовало молча уйти прочь и никогда больше не возвращаться в «Ящик Пандоры». Но Кирилл вместо этого улыбнулся жилистому, ответив рукопожатием.
— Все нормально. Бывает. Кирилл.
— Петрович. Ну как, вмажешь?
— В другой раз. Аида мировую пить, Петрович. Уговорил.
А потом Кирилл, изрядно пьяный, возвращался домой по ночным улицам. Думая, что, в сущности, «Ящик…» не для него. Много ли общего у журналиста Сыча с тем же Петровичем, отставным кулачным бойцом «без правил»? С пророком-Степаном? Со старичками-пенсионера-ми, с блондином, страдающим за человечество?
Врать самому себе было приятно. Особенно в подпитии. Зная, что ты придешь в «Ящик Пандоры» еще раз. И еще. Потому что там собираются твои братья. Сейфы. Там собеседнику глядят в глаза. Там общаются только с тобой и больше ни с кем. Даже когда бьют морду — бьют тебе. Только тебе. Тебе одному. И бьет — один. Целиком.
Кирилл остановился, прислонился к фонарному столбу и начал хохотать.
Долго.
Счастливо.
Вспугнув гулящих кошек.
За сейфовой дверью клуба он вновь ощутил «эффект присутствия», которого, оказывается, так не хватало ему в последнее время.
КИРИЛЛ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 12.18
…телефон и телевизор.
Я борюсь с желанием снять трубку или включить «ящик». Так пьяница смотрит на недопитую вчера бутылку: утреннее похмелье приносит стыд, желание завязать, но зов отравы сильнее. Им никому больше не нужны эти смешные игрушки. Им, большинству. Но они сохранили игрушки для нас. Телефон работает, чтобы сейфы могли связаться друг с другом. По телевизору регулярно идут два… нет, три канала, и еще что-то со спутника. Чтобы сейфы были в курсе последних новостей. Все это напоминает барахло любимой бабушки, которое не выбрасывают и даже пересыпают нафталином — когда старушка загнется, тогда и выбросят, предварительно поплакав над могилкой. Искренне, с чувством.
Что-то я злой сегодня. Это нехорошо.
Надо добреть.
Они все добрые. Участливые. Общительные. Черт побери, они даже разговаривают в нашем присутствии! Всегда. Вслух.
Хотя сами не очень-то нуждаются в устной речи… Я чудесно помню день, когда доброта и участливость сделали качественный скачок. И смерть любимой бабушки-сейфа сделалась вдвойне трогательной, вдесятеро грустной, ибо большинство, резко увеличившись в размерах, вдруг отчетливо поняло: «Нас-то не коснется…» Вернее, коснется, но легонько, мимоходом. Не больно. Неопасно. Единственно справедливый царь, смерть перестала быть беспристрастной. Для большинства она вообще едва ли не перестала — быть. Стальная коса, по-прежнему острая для немногих, сделалась воздушным поцелуем, улыбкой клоуна, месяцем в небе…
Они добрые, потому что чувствуют себя виноватыми перед нами.
Я помню день, когда это зацепило лично меня. Впервые, зато наотмашь. Кривые, сбивчивые строки бегут по клетчатой пустыне: повторы, неудачные обороты, суета боли, выплеснутой гноем из воспаленной раны. Не люблю противные сравнения. Не люблю банальности, которой пропитана вся четвертая тетрадь — насквозь. Цинизма не люблю. А куда денешься? Довериться бумаге, беззвучно высказаться — и то было трудно. Где уж тут возвращаться, править, вносить коррективы…
Сжечь — другое дело.
Но сперва перечитать. Чтобы обрести право — сжечь.
Помнится, перед самым пробуждением — липким, вздорным! — мне приснилось стихотворение. Короткое и удивительное, словно нож под лопаткой. Вот оно. Тогда я не решился записать его. Мне казалось, оно вскрывает в душе что-то темное, жуткое. Чужое.
Решаюсь сейчас.
Спи, сестра! Я — твой страх. На кострах Боль быстра. Спи, сестра! Я и страсть — Словно прах На ветрах. Пой, кастрат! Дуй, мистраль! Сталь остра — Спи, сестра! Зной с утра…ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Я твердо верю в жизнь после смерти.
Но я уже не так уверена насчет жизни до смерти.
Эйлис ЭллисНадо собираться. Надо. Собираться. Мишель вот-вот подъедет. Надо одеться, а перед тем — умыть опухшую рожу. Причесаться. Побриться. Времени осталось с гулькин нос. Надо взять себя в руки. Мужчина ты или тряпка, черт побери?! «Рядовой Сыч! Смир-р-рна! Равнение на ванную комнату! Левое плечо вперед — шаго-ом марш! Ать-два, ать-два!..» Вода из крана ледяная — до боли, до ломоты в пальцах, в многострадальных, латаных-перелатаных зубах, которых, кажется, скоро останется меньше, чем стоит в них пломб… Хорошо. Еще не совсем хорошо, но уже куда лучше…
Это точно, рядовой Сыч! Куда уж лучше!
Стыдно. Мерзко.
Ох как стыдно-то!..
Кирилл чувствовал себя не в своей тарелке, и от гнуса самоедства некуда было сбежать, потому что весь мир с недавних пор сделался «чужой тарелкой». Кроме разве что «Ящика Пандоры» — но ведь не станешь отсиживаться в клубе круглосуточно?! Особенно когда пришло время забирать любимую жену из роддома? Спасибо Мишелю — обещал заехать на машине… Без Мишки все было бы стократ хуже. А так, чувствуя за спиной дружескую поддержку, можно чуть-чуть расслабиться. Постараться хотя бы для виду задрать хвост трубой. Ты умеешь задирать хвост, рядовой Сыч?! Умеешь. Профессия обязывает. Улыбнись. Улыбайся, кому сказано! И нечего кривить губы. У тебя сын родился. Сын! Жена здорова, малыш тоже, ты соскучился, тебе не терпится увидеть их, привезти в родимое гнездышко. Радуйся, идиот! Сейчас легче выиграть миллион в лотерею…
Кирилл послушно радуется, подчиняясь внутреннему «сержанту». Радуется — до оскомины, до меди на языке. Теперь — свежая рубашка, галстук… Пальцы машинально вяжут «малый Виндзорский узел». А в зеркале вместо физиономии, облитой кислой радостью, маячит трещина. Призрачная, но от того не менее реальная. Пропасть. Бездна непонимания и отчуждения. Между ним, Кириллом, и Вандой. Причем виден треклятый разлом лишь с одной стороны.
С Кирилловой.
Это и бесило больше всего.
Ванде, узнав о ее беременности, позволили работать дома: для телепата его местонахождение несущественно, а компьютер у Ванды теперь был свой, завязанный с компом Кирилла в квартирную «локалку». Что еще нужно менеджеру по авторским правам (Ванду недавно повысили в должности)? Ничего. А что нужно ему, Кириллу? Жена все время дома, обеды готовит — пальчики оближешь! Выпьет муж лишнего — словом не попрекнет. Баиньки уложит, чтоб проспался, любимый; ежели требуется — «Алко-Зельтцеру» поднесет, дабы наутро очухался. Понимает с полуслова, без всякого «ментика». О такой жене только мечтать можно. Понимающая, любящая, ласковая. А он, дурак… Даже когда жена клялась-божилась, что она вся здесь, Кирилл не мог ей поверить. Хотя умом понимал: не врет, на самом деле любит… Гнусно это: про любовь умом понимать. Особенно остро он чувствовал раскол в моменты, когда Ванда ластилась к нему в постели, ища близости.
Какая уж тут «близость»…
Беременность оказалась вполне благовидным предлогом, чтобы постепенно свести эту мучительную «близость» на нет. Конечно, Ванда все прекрасно поняла, и он знал, что она понимает, но не упрекает, не осуждает его, — отчего кошки на душе скребли в сто когтей. Кирилл ощущал себя тупым бессердечным эгоистом, големом, неспособным на тепло и ласку. Теперешняя Ванда (или ее «домашняя» субличность?!) была слишком хороша для него! Слишком терпелива, слишком ласкова, слишком…
Хоть бы скандал закатила, что ли?
Кирилл чувствовал: за скандал он готов встать перед женой на колени. Хотя нет. Не встану. Ведь если и будет скандал, то лишь по одной причине — уловит потребность мужа в ссоре, в острых эмоциях, и из любви… из жалости… из сочувствия, м-мать его в тридцать три шаланды!..
Месяц назад врачи настояли, чтобы Ванда легла на сохранение, хотя беременность протекала идеально. Дети — такая редкость в наше время! Вы ведь знаете: в городе остался один работающий роддом на Мельникова, и еще родильное отделение при 3-й клинической. Но это на Карла Маркса, вам далеко. Вы полежите у нас: уход, питание, наблюдение специалистов… Лучше перестраховаться, вы ведь понимаете?!
Ванда легко дала себя уговорить. И теперь Кирилл запоздало терзался сомнениями: не нарочно ли жена пошла на поводу у врачей? Не угадала ли тайное желание мужа: побыть месяц-полтора одному, лишь временами навещая жену? Не ради него ли ушла из дома?
Если правда — истекший месяц свободы не прошел даром.
В город приехал на гастроли «Ренессанс». Театр сейфов. Последний писк богемной моды. Кстати, не только среди «сеймовом дюжины»: для большинства телепатов «Ренессанс» тоже являлся своеобразной изюминкой. Аншлаг, миллион алых роз, овации — и, естественно, пресса, телевидение… А какая пресса-телевидение без Кирилла Сыча? Совершенно верно, никакая.
«Ренессанс» — это действительно было явление. Об этом стоило написать, и Кирилл взялся за театральную тему с удовольствием. Ведь классических театров почти не осталось. Как достичь сопереживания, если у актера на лице — гнев и ярость: убью подлеца! — а в голове: «Не забыть поднять темп на «Мерзавец!!!», и шаг влево — иначе закрою Марь Ванну…» Откуда катарсис, когда зритель всю тайну на пять штыков вглубь как открытую книгу читает? Много ли гениев сыщется, чтоб мысли-чувства с действием-речью совпали? Кто нашелся — те сейчас «мономенталы» для избранных ставят. Усядется на сцене один-единственный актер (он же режиссер, гример, осветитель и весь сценперсонал разом) — и разыгрывает пьесу у себя в голове. «Зрителям»-телепатам остается внимать постановке вкупе с ощущениями автора-исполнителя. Либо аналогичное действо проводилось с прямым участием зрителей и становилось «интерактивным». Подобные люди-театры были редкостью, представления они давали камерные, на сто — двести человек — ну а таким, как Кирилл, на «ментал-моно» вообще делать было нечего.
Конечно, это был уже не театр в старом понимании, но неологизмы искусствоведов не прижились. Кино, правда, пока что удерживало свои, пускай сильно пошатнувшиеся, позиции. А театр…
Кончились Шекспир с Эсхилом.
За исключением постановок, где все актеры — сейфы. Тогда другое дело. Тогда творящееся на сцене вновь обретает смысл. Да еще и с налетом ретроэкзотики.
На спектаклях «Ренессанса» зал ломился от наплыва народа. Особенно на премьере года: «Шутов хоронят за оградой». Эдакий мистико-триллерный сюр. Согласно замыслу режиссера, зрители умело вовлекались в общую игру, радуясь, словно дети. Кириллу особенно та девица понравилась, что жену главного героя играла. С душой играла девица. Кирилл хлопал-хлопал, а в антракте, вместо того чтобы пить в буфете пиво, коньяк или шампанское (это смотря кто на что учился), смотался на угол и, не торгуясь, купил у тетки-цветочницы дорогущий букет лимонно-желтых гладиолусов. Который и вручил девице, когда зал рукоплескал, а актеры уже устали кланяться и улыбаться…
Потом настал черед интервью. Нет, не у девицы. Интервью принято брать у «звезд». А Владимир Шерстобрюхов, весь из себя народный и заслуженный, — настоящая «звезда», без дураков. Значит, в первую голову — к нему.
С девицей Кирилл столкнулся в холле, совершенно случайно.
— Спасибо за цветы, — у нее оказалась излишне опытная, но приятная улыбка. — Где вы нашли такие желтые?!
— Места знать надо, — банально отшутился Кирилл. — Это вам спасибо. Вы сегодня были восхитительны. Разрешите представиться: Кирилл Сыч, журналист. Сейф.
Знал акула Сыч, зачем произнес сакраментальное слово. Сейф с сейфом на контакт идет куда лучше. Проверено. Радиомаячок, система «свой-чужой». Между прочим, он и Шерстобрюхову так представлялся…
Как оказалось, «жену главного героя» на самом деле зовут Ольгой, и против интервью она, конечно же, ничего не имеет, но только, если можно, давайте зайдем в какое-нибудь кафе, а то я просто умираю с голоду!
Несмотря на конец января, долженствующий сопровождаться лютыми крещенскими морозами, погода на улице стояла просто волшебная. Пушистый снег искрился отражениями рекламных огней, с неба торжественно падали редкие огромные снежинки; тишина — лишь в отдалении нет-нет да и прошуршит машина или раздастся женский смех. Воздух пронизан запахом снега, давно прошедшего Рождества и весны одновременно. Ни ветерка. Температура однозначно плюсовая, но снег при этом не тает, не расползается под ногами в грязную противную кашу. Пальто нараспашку, в руке — упругий снежок… может, найдем кафе на открытом воздухе? Зимой? А почему нет? Это ведь вечер чуд^с!..
В мире действительно творились чудеса. Не тающий при плюс пяти снег, вода рек и морей, где невозможно утонуть (действительно невозможно!), комары перестали кусаться… Ученые сходили с ума, не в силах объяснить буйство феноменов. Одна за другой вспыхивали и гасли, подобно метеорам, великие теории: от идеи божественного вмешательства до влияния коллективного бессознательного человечества, объединенного ментал-коммуникацией, на эргрегор Земли… А чем не объяснения? Не хуже, не лучше других.
Они действительно нашли кафе под открытым небом. Отбивные по-гавайски, с ананасами? Шампанское? Десерт? Отлично! За что? За знакомство двух сейфов, конечно же! Интервью? Оленька, давайте потом. Хоть ненадолго забыть о работе, посидеть просто так… Да, мне эта музыка тоже нравится. Кстати, вы танцуете?
Двое медленно кружатся, обнявшись, под звездным небом, под падающими ниоткуда хлопьями снега…
Еще одну бутылку шампанского они взяли с собой. Кирилл, чувствуя себя совершенно трезвым, долго не мог попасть ключом в замок, давая повод к. новым взрывам веселья. Темнота прихожей. Руки Ольги, мягко опустившиеся ему на плечи. Ее дыхание — совсем рядом; полузабытое, сладостное волнение юности, словно впервые… Им было хорошо вдвоем. Боже, как им было хорошо! Два сейфа, нашедшие друг друга в этом безумном чужом мире, больше не принадлежавшем им. Только двое. Он и она. Никого кроме. Они отдавались друг другу целиком, без остатка, чувствуя это, упиваясь этим…
Наутро, когда Ольга ушла, Кириллу стало стыдно. Очень стыдно. Он бранил себя предателем, подлецом, мерзавцем. Ведь Ванда не виновата… она для него… а он!.. Она вот-вот родит ему долгожданного ребенка — а он тем временем… Ты любишь жену, скотина? Любишь. Иначе не переживал бы так, не заливался бы жаркой краской стыда, не курил сигарету за сигаретой, бессилен успокоиться. С кем не бывает, сорвался, загулял, снесло крышу… Все! Все! Никогда больше! Потом, позже, надо будет повиниться…
Вечером он позвонил Ольге в гостиницу. Схватил такси, примчался. И снова они были вместе. Вдвоем. Целиком принадлежа друг другу.
А утром на краешке кровати опять сидел Его Величество Стыд. Кирилл понимал, что предает Ванду, — и ничего не мог с собой поделать! С Ольгой он ощущал ту полноценную близость, целостность, какой давно был лишен. Отказаться? Вот завершатся гастроли, театр уедет, и все закончится само собой. А пока…
В третий раз она пришла к нему без звонка. Кирилл разрывался между двух огней, выжигавших душу изнутри, — и Ольга, словно почувствовав его метания, пропала на неделю. Потом позвонили из роддома, и Кирилл, на миг забыв о душевных терзаниях, как мальчишка, радостно скакал по комнате, выкрикивая глупую несуразицу. Сын! У них с Вандой родился сын! Он теперь отец! Они с женой заранее договорились: если родится мальчик, назовем Адамом. Если девочка… Впрочем, это уже не важно. У них сын!
Адам Кириллович Сыч явился на свет!
Ольга позвонила через три дня. На этот раз Кирилл нашел в себе силы устоять. Мне послезавтра жену с ребенком из роддома… вдобавок материал горит, редактор ругается. Извини, никак. Повесив трубку, он снова почувствовал себя скверно. Ну почему все люди, как люди, а у него, дурака, — совесть?!
Во дворе требовательно просигналила машина. Раз, другой. Кирилл вздрогнул, очнувшись, выглянул в окно. Так и есть, Мишель на своем темно-синем «фиате». Распахнув окно, Кирилл помахал другу рукой:
— Иду, иду! Сейчас!
Ссыпался вниз по лестнице, раз за разом прокручивая в голове спасительную мысль-соломинку: «Надо по дороге купить Ванде цветы. Обязательно купить цветы. Она любит гладиолусы. Желтые…» И снова — болезненный укол. Именно желтые гладиолусы он купил для Ольги во время антракта, ни о чем еще не помышляя. Просто понравилось, как играет. Он и имени-то ее не знал…
— Привет. Спасибо, старик.
— Да чего там! Поехали?
— Поехали. Только цветов по дороге купим.
— Ну, это само собой…
Рулевое колесо утонуло в лапищах Мишеля. «Фиат» мягко выкатился из двора, незаметно набрал скорость. Притормозил Мишель лишь однажды — возле цветочного магазина. Желтые гладиолусы в ожидании глядели на Кирилла из высокой вазы с водой. Вспомнилось невпопад: говорят, желтые цветы — к разлуке. А красные — знак страсти.
Он купил сиреневые.
В фойе роддома их ждали. Целая делегация: три улыбчивые акушерки, пожилая толстуха-санитарка и врач — высокий, худой, похожий на Дон-Кихота. Все в белоснежном парадном облачении. Хотя какое оно парадное?! Медработники всегда так ходят. Писака хренов, сразу штампы наружу прут, даже в мыслях!
— Ваша фамилия Сыч?
— Да.
— Здравствуйте! Поздравляем от души! На диво здоровый ребенок!.. Роды — идеально, без разрывов… без малейшей патологии, как по маслу! Она у вас молодец!.. Она…
Кирилл слушал доктора невнимательно, в пол-уха. Все это ему уже подробно изложили по телефону, и еще раз — когда он наведывался в роддом три дня назад. Слегка раздражало: говорил один человек, а создавалось впечатление, что Дон-Кихот в халате — голос всех пятерых.
Рупор общей радости. Скорее всего так оно и было, но — раздражало. Надо справиться с собой. Рядовой Сыч! Прекратить рефлексию!
— Спасибо, доктор. Я знаю, что Ванда молодец. Спасибо. А…
— Ваша жена сейчас выйдет. За ней уже пошли.
Врач словно читал мысли Кирилла, хотя это было невозможно. Впрочем, догадаться, о чем думает молодой отец, легко без всякой телепатии. Вернее, о чем должен думать. Все папаши одинаковы… Мишель топтался позади, не вмешиваясь, но Кирилл спиной ощущал его тайное участие. «Эх, Мишка, Мишка, друг ситный! Тебе ведь и невдомек, что у меня на душе творится. Да оно и к лучшему, что невдомек…»
— А вот и ваша жена с ребенком. Ну? Что ж вы стоите?
На мертвых, вялых ногах Кирилл шагнул навстречу. Две молоденькие сестрички, сопровождавшие роженицу, нарочито отстали, чтоб не мешать встрече любящих супругов. Ванда шла по лестнице, шла к нему, а Кирилл, как завороженный, прикипел взглядом к ее лицу. Не лицо — лик! Глаза — большие влажные звезды. Покой, благость, умиротворение. И загадочная улыбка Мадонны. Кирилл даже не сразу заметил ребенка на руках у жены — до того был поражен переменами в знакомом облике. Да и ребенка Ванда держала настолько естественно, непринужденно, что дитя казалось продолжением ее самой. Будто всю жизнь только этим и занималась.
Наконец, очнувшись, он моргнул, а через мгновение Ванда была уже рядом.
— Ну как ты? В порядке?
Дурацкий вопрос. Разве и так не видно? Это он не в порядке, а она…
— Здравствуй. — Жена разглядывала его пристально, с жадным вниманием. Будто не виделись целую тысячу лет. — Спасибо, мы в порядке. И я, и Адамчик. Хочешь на него взглянуть?
— Конечно! — На этот раз Кирилл был почти искренен.
Из пеленок на него уставилось брюзгливо-сморщенное личико, похожее на покрасневшее от раздражения печеное яблоко. Как ни странно, от лицезрения сына Кирилл вдруг успокоился. Притянул Ванду к себе, обнял за плечи, зашептал на ухо:
— Ты представить не можешь, как я рад! У нас сын! До сих пор не верится. И за тобой соскучился. А ты здорово выглядишь! Такая стала… уверенная, спокойная. Будто светишься изнутри.
Ванда отстранилась. В глазах мелькнули удивление и радость;,
— Ты заметил? Заметил, что я проснулась? Возьми Адама, я пальто надену. Привет, Мишель! Да, подержи цветы, я сейчас…
С некоторым страхом и опаской Кирилл осторожно взял драгоценный сверток. Уставился на заворочавшегося внутри Адама. Младенец в ответ покосился на родителя (как показалось Кириллу, вполне осмысленно) — и вдруг, без всякого предупреждения, заорал благим матом. Кирилл даже вздрогнул от неожиданности. Повопив секунд десять на одной надрывной ноте, ребенок так же резко смолк, вновь скосился на Кирилла и, видимо, удовлетворенный результатом, закрыл глаза, умиротворенно засопев.
— Поехали, предки? — весело спросил Мишель.
В хрустале вазы томились гладиолусы, пытаясь заглянуть Кириллу в лицо, когда Ванда выходила из комнаты. В остальное время цветы безраздельно принадлежали ей.
— Раньше мне красные нравились, — заметила Ванда, расставляя на столе тарелки. — Или желтые. Сейчас вспоминаю — приятно. Только сиреневые красивее.
Кириллу подумалось, что жена являет собой наглядную иллюстрацию к мечте под названием «Что муж ни сделает — все к лучшему!». Едва переступив порог квартиры и уложив спящего Адамчика в заранее купленную кроватку, Ванда, легко преодолев слабые попытки сопротивления со стороны Кирилла, взялась за приготовление обеда. Из аскетического минимума, обнаруженного в холодильнике и на полках кухонных шкафчиков, она ухитрилась за час состряпать чистую фантастику. Во всяком случае, обоняя доносящиеся с кухни ароматы, Кирилл просто истекал слюной.
— Кхема маха-карри барта! — торжественно возвестила Ванда, внося дымящуюся кастрюлю. Увидев лицо Кирилла (санскрит? хинди?!), объяснила с улыбкой: — Ну, мясо, тушенное… в кислом молоке. И соус из огурца с чесноком и лимоном.
Кирилл даже под угрозой расстрела не смог бы повторить название блюда. Впрочем, Ванде всегда хорошо давались языки. А сейчас, с поправкой на ментал-коммуникацию… Интересно, рецепт она прямо в роддоме получила? Раньше в основном борщи… котлеты…
— Вкусно, — заметил Кирилл, уплетая «кхему» за обе щеки. — Где научилась?
— Вспомнила, — равнодушно отозвалась Ванда. Кирилл чуть не подавился. Взглянул жене в лицо — и долго не мог отвести взгляд, машинально доедая мясо, а после еще продолжая скрести вилкой по пустой тарелке. Перед ним сидела незнакомка. Не та Ванда, на которой женился студент журфака Сыч. Даже не та женщина, что вышла ему навстречу из тест-центра с обручем «ментика» в волосах. Словно она вдруг стала старше Кирилла на много-много лет. На целую вечность.
Иконописный лик. В глазах — понимание и всепрощение.
Господи, как теперь с ней, такой, жить дальше?
— Тебе еще положить?
На миг Кириллу показалось, что Ванда все знает. И про Ольгу, и… вообще все! Научилась читать мысли сейфа?!До боли, до темноты в глазах захотелось, чтобы жена рассердилась, упрекнула гулящего муженька, расплакалась, наконец, — чтоб сквозь свет чужого-знакомого лица, пусть ненадолго, проступила прежняя Ванда, обычная, своя, родная! Тогда он сможет покаяться, вымаливая на коленях прощение… У них есть сын, есть все, что нужно для счастья любящих людей — жаль, в этом счастье нет места для «черного ящика», наглухо забитого невидимыми гвоздями, и женщины с лицом Мадонны…
Назавтра Кириллу будет дико вспоминать о случившемся. Он слетел с нарезки. Он рассказал жене все. Про Ольгу, про двух сейфов, нашедших друг друга в чужом мире сплошных телепатов, — в деталях, с подробностями, с самыми-самыми, каких не расскажешь никому, какие даже не суметь выговорить вслух. Кирилл метался по комнате, срывался на крик, на свистящий шепот, размахивал руками, падал в кресло, вновь вскакивал, потом, кажется, плакал… Но вся злость, отчаяние, укоры и самобичевание пропали втуне. Зря! Напрасно!!! Ванда внимала молча, со странной полуулыбкой на губах — так мать смотрит на нашкодившего первенца! — а когда Кирилл иссяк, рухнув на стул и закрыв лицо руками, осторожно тронула его за плечо.
— Я понимаю. Тебе трудно со мной. Все будет хорошо, Кирюша. Ты даже не представляешь, насколько теперь все будет хорошо. Давай я тебе коньяку налью? Расслабься, отдохни…
А дальше она сказала такое, что Кирилл не поверил своим ушам, и Ванде пришлось повторить еще раз.
— Если хочешь, позвони ей… Ольге. Пока она не уехала.
Можешь провести эту ночь у нее, в гостинице. Я с Адамчиком сама управлюсь.
Было очень страшно чувствовать себя подонком, не понимая, кто же все-таки из них двоих сошел с ума.
Уже позже Кирилл с удивлением отметил, что, несмотря на поднятый шум, Адам во время безобразной сцены не издал ни звука. Будто понимал: не стоит вмешиваться. Зато после, едва опустошенный и разбитый Кирилл проглотил коньяк, поданный женой, и полез за сигаретами, — именно тогда ребенок заорал с властной требовательностью. Кирилл сунулся было помогать, но помощь не потребовалась: жена управилась сама — быстро, спокойно и сноровисто, едва ли не играючи. Она все теперь так делала. Словно получала удовольствие от каждого шага, каждого действия, от всего вокруг.
Как она сказала в роддоме? «Я проснулась»?
Кирилл ушел на балкон — курить и терзаться угрызениями совести.
Ольге он, конечно же, не позвонил.
КИРИЛЛ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 12.31
Ловлю себя на снисходительной усмешке. Из текста так и прет дедушкой Фрейдом. Комплексы, чувство вины, либидо всякое… Скрытый конфликт с судьбой-индейкой, которая постепенно выдавливает неудачников на обочину. Уже выдавила. Обочина, правда, весьма комфортабельная: клумбы, клубы, ведро варенья, корзина печенья… Он очень добр к нам, этот дивный новый мир. Заботится, старается, чтобы мы ни в чем не нуждались, чувствуя себя полноправными членами общества… И от его заботы ощущаешь свою ненужность во сто крат больше! Нет, я больше не мучаюсь по этому поводу. Так, легкая грусть осени, бархатный сезон. Неторопливое, красивое увядание, коллапс человечества. И мы, сейфы, глядящие на это со стороны.
Иногда трудно смотреть с обочины на своих жену и ребенка.
На следующее утро после возвращения из роддома я застал Ванду за странным времяпрепровождением. Она усердно занималась акробатикой! За моей ленивицей сроду такого не водилось. Да еще и через неделю после родов!
В ответ на изумление — смущенная улыбка.
— Тело — будто чужое. Хочу войти в форму. Не волнуйся, Кирюша, мне уже можно.
А под вечер взяла гитару. Фламенко?! — безудержный огонь неведомого мне танца. Нет, Ванда и раньше — три аккорда, бряк-бряк…
— Это фандангильо «Еl puente», Кирюша. Я играла… В Кандайе.
Ни в какой Кандайе Ванда отродясь не была. Это я знал точно.
— Я понимаю, это звучит странно — но ведь я говорила тебе, что проснулась? Теперь я помню себя-прошлую. Двести, триста… тысячу лет назад. Кандайя (это в Испании), Лемберг, глухая деревушка на юге Индии — ее название тебе все равно ничего не скажет. Конотоп, Аляска…
— Ты хочешь сказать… — В голове царил полный кавардак. Ванда сошла с ума? Разыгрывает?! — Ты вспомнила свои предыдущие рождения?
— Не совсем. Мне трудно объяснить… Представь себе: ты просыпаешься утром — и помнишь, что делал вчера, позавчера, месяц, год назад. Это ведь тебя не удивляет? Одно помнится смутно, другое — яснее ясного. Не пугайся, Кирюша, я не сошла с ума. Это я, твоя Ванда… Прежняя. Просто больше, чем только «прежняя». В Лемберге я была площадной акробаткой, в Кандайе играла на гитаре… Если хочешь, я расскажу. Только это будет долго.
— Напиши что-нибудь на санскрите! — Ничего умнее в голову не пришло.
Ванда виновато развела руками:
— Извини. В Индии я была неграмотной.
Вот это меня и убедило. Будь это розыгрыш…
Конечно, до конца я поверил не сразу. Но постепенно убедился, что Ванда действительно помнит свои предыдущие инкарнации! Или, как впоследствии предпочитали говорить «проснувшиеся», — ипостаси. Моя жена оказалась одной из первых. Подобных «уток» — «генетическая память», мальчик-тибетец, воплощение далай-ламы — всегда хватало. Только на этот раз дело завертелось всерьез. «Рефлекс Казаряна» стремительно развивался, плодя побочные эффекты, следствия и метаморфозы мозга у телепатов. Расщепление и интеграция субличностей сказались рикошетом. Процесс пошел лавинообразно, как выражались психиатры. Но — исключительно в благоприятном направлении. Фотографическая память, абсолютный музыкальный слух, расширение спектра цветовосприятия, ускорение мышления, временами — вспышки ясновидения, случаи общения с душами умерших…
Кульминация?! — нет, прелюдия.
Пролог к выходу на сцену «проснувшихся».
В конце концов я привык. Мало ли! — у одних жена стерва, у других деньги транжирит… А у меня — акробатка из этой… Кандайи. И характер золотой: терпеть в доме такого истерика и эгоиста, как я… Впрочем, все метания в прошлом. В некотором роде я даже счастлив. Жена-красавица, сын, любимая работа, достаток в доме — что еще надо человеку, чтобы спокойно встретить старость?
…Проглядел написанное. Не выйдет из меня писателя. Вместо книги — заготовки для статьи. Сухой конспект, выспренние отступления, изложение новостей шестилетней давности, и все это перемежается привычными штампами, выдранными из контекста цитатами… Рукописи не горят, но разве это рукопись — так, бумагомарание. Сжечь! Вот перечитаю до конца, заберу Адама из школы — и…
Забавно: кто мог знать, что «проснувшиеся» — далеко не последнее и даже не самое сильное из ожидавших нас, потрясений?
ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ
Жизнь — карантин у входа в рай.
Карл Вебер— Степочка, увольте! Я меньше всего расположен вести теологический диспут…
— Мочить! Мочить беспощадно!
— Степочка, милый, ваша наивная, можно сказать, пещерная кровожадность…
— Мочить! Взращивая критическую массу первородного греха!
— Это даже не смешно. Вы бы чудесно смотрелись в Ветхом Завете. Книга Пророка Степанаила Неистового — все с заглавной буквы…
Кирилл слушал вполуха, допивая вторую кружку «Баварского». Взять третью? В «Ящике Пандоры» отличное пиво — резкое, свежее. Пожалуй, не стоит. Еще Адама из детского сада забирать. Обойдусь двумя. Нет, но каков Степан! Его напор, да в мирных бы целях. Критическая масса греха? Нашел к кому прицепиться: к Казимиру…
Неприятное, расслабленное веселье овладевало им. Злое, будто дворовая шавка. Сегодня утром выплачивали деньги в кассе «Зеркала недели». Якобы аванс за будущий цикл статей. Наверное, попроси Кирилл удвоить гонорар — дали бы. С улыбкой, с удовольствием. Даже зная, что цикл статей — фикция, обманка. О, дивный новый мир к услугам почтенных сейфов! Персональные надбавки к зарплате, первоочередные рабочие места, для желающих — льготные курсы переквалификации, где в придачу платили огромную стипендию. «Проснувшиеся» опекали бедняг, как редкий, реликтовый цветок — да, суждено увясть, да, скоро, но хочется, чтобы цвел подольше! И вот создаются тепличные условия… Поначалу это бесило. Когда понимаешь, что тираж издания упал до мизерной отметки, что журнал висит на дотациях, а все твои сногсшибательные гонорары — чистой воды благотворительность… Хотелось стать в позу, гордо заявив: «Я в ваших подачках не нуждаюсь!» Вот только кому? Главному редактору? Такой же сейф, сидит на тех же самых «подачках». Найти руководителей фондов помощи и устроить скандал?
Глупо.
Плюнуть и уйти?!
Прессу теперь читают практически одни сейфы. Стабильная аудитория. Упрямство победило: остался. Для своего же брата стараюсь! Выложимся, в лепешку разобьемся — будет вам газеточка, будет журнальчик! Правда, мир да любовь — из них сенсации не выжать. Изредка случаются теракты — у кого-нибудь из «невосприимчивых» падает планка. Но на одних терактах далеко не уедешь. В позапрошлом году границы открыли. Обсосал эту новость, как мог, лично слетал на торжества: пнул шлагбаум, снимков наделал… Дальше что? Восхвалять постоянное улучшение экологии? Миграцию остатков населения из мегаполисов в пригороды и деревни?! Можно, конечно, вспомнить, что перестали летать в космос, что не было зафиксировано ни одного реального открытия, ни одного принципиального прорыва в области новейших технологий… Дивный новый мир равнодушно пожмет плечами. Весь наш замечательный НТП закончился не катастрофой, не тупиком — просто пшиком. Люди даже ездить перестали. Зачем? — если в течение жизни, вдруг ставшей невероятно долгой, ты уже побывал во множестве мест, а в остальных можешь побывать или пообщаться со знакомыми ментально-моментально, не покидая домашнего кресла!
«Мудрец путешествует, не переступая порога родного дома…»
— Степочка, я мог бы на ходу состряпать дюжину теорий хоть в защиту Божьего промысла, хоть в обвинение… И что? Если это промысел Его, то моя защита будет нелепой. А обвинение… Вы читали Книгу Иова? Верю, верю, конечно, читали. Как минимум слушали в кратком, но энергичном пересказе. Если же это случайность или выверт эволюции, я покажусь дураком. Дорогой мой Степанаил, вы не поверите, но на свете еще остались люди, кому крайне неприятно чувствовать себя дураком…
— Ну, например! Казимир, я жду!
Господи, они все стали благожелательны и инертны! Они лишаются большинства потребностей — легко, словно собака отряхивается после дождя. Ванда сократила гардероб до минимума. Отказалась от машины и ходит пешком, вернее, бегает. Перестала есть мясо, процветая на каких-то салатах. Впрочем, Кириллу по первому требованию подает отбивную. На улицах иногда мечтаешь встретить курильщика. Пьяного под забором. Матерящегося еявку. Их больше нет, и ты, кто с брезгливостью отворачивался от грязного бомжа, теперь ловишь себя на ищущем взгляде — где? отзовись?! Не потому ли, что чистый, умытый, накормленный, ты чувствуешь себя таким же бомжем, грязным по определению и навеки лишенным возможности умыться?!
Волна — это мириады «проснувшихся» капель, осознавших себя единым целым.
Вода, морская вода… она топит тебя без злого умысла.
С любовью.
Деньги жгли карман. Кирилл не знал, как к этому относятся другие сейфы, живущие на подачки от фондов, — и знать не хотел. Хотя бы потому, что не находил в себе силы отказаться. Терпи, казак! Делай вид, что это зарплата — честная, правильная. Точно оценивающая уровень твоего великого дарования. Правда, атаманом тебе, казак, не бывать…
— Например? Милый мой, в Каббале есть такая теория, что душа Адама в миг грехопадения разделилась на 600 000 душ. Как зеркало тролля — на осколки… Ах да! «Снежной Королевы» вы тоже не читали… Извините, Степочка. И когда работа всех этих душ-осколков по искуплению греха будет завершена, они опять сольются в единого Адама — блаженного, безгрешного, счастливого. И наступит вечное состояние Шабат, что значит Суббота Отдыха…
— Точно! Шабаш! Ведьмовской шабаш! Мочить!
— Степочка, вы противоречите сами себе. Вы ведь у нас сейчас правоверный сатанист, вам следует приветствовать любой шабаш…
— Я так и знал! Все зло от жидов! Мочить!
— Милейший радикал! Почтеннейший экстремист! Когда же вы поймете, что больше нет жидов, чурок, хохлов, кацапов… Даже с неграми напряженка. Они есть, но если посмотреть глобально — их тоже нет. Есть мы, сейфы, в ничтожно малом количестве. И есть они, остальные, — в подавляющем большинстве. В настолько подавляющем, что все ваши вопли, Степан, напоминают, уж извините, писк комара на загривке трицератопса…
— А кроме! Кроме шабаша? Что вы еще можете предложить?!
«Было бы много легче, — думал Кирилл, — если бы естественный отбор или Божий промысел подразумевал какие-то ясные критерии. Ты праведник, подаешь нищим, кормишь бездомных кошек — пожалте в «проснувшиеся» телепаты. Не чистишь зубы по утрам, подкладывал кнопки на стул учительницы, смотрел порнуху — ты сейф, Или наоборот: сейфы — элита человечества, прекраснодушное меньшинство, а прочие — бездумное быдло. Боже, что творишь?! Дай хоть слабый намек на критерий водораздела «агнцы-козлищи»! Подай знак, сбрось реестрик! Ведь не бывает так: наугад, от фонаря?! Мы же не в силах принять Твою неисповедимость! Впрочем, неизбежность мы принимаем ничуть не легче…»
— Я ничего не предлагаю. Я просто высказываю предположения — заметьте, подчиняясь вашим требованиям, а не по собственной воле. Если вас не устраивает Шабат, могу предложить вам, мой вспыльчивый Степа, идею Страшного суда…
— Вы меня за идиота считаете?! Страшный суд — это гром, молния, мертвые встают из-под земли…
— Не будем уточнять, кем я вас считаю. Это неинтересно мне и излишне для вас. То, что вы описали, это Судный День Вульгарис. Гром, молния…
Кирилл все-таки решился на третью кружку. Уж больно не хотелось вставать и тащиться в детский сад. Лишние полчаса ничего не изменят. Адамчик поиграет с воспитательницей, подышит свежим воздухом… Беседа, как ни странно, увлекала. Ах, Степа, пророк-Степа, с позапрошлой осени зачисливший себя в рекруты полковника Сатаны! Значит-ца, ежели добрый боженька смотрит с облачка, как мир катится в тартарары (со Степиной просвещенной точки зрения!) и умывает крылышки — следует присоединиться к Князю Мира Сего. И кого-нибудь мочить, мочить непременно, увеличивая «критическую массу первородного греха», дабы колесо повернуло вспять, в накатанную тысячелетиями колею. Степе хорошо. У него всегда есть цель и метод. Простые, как правда. Понятные, как правда. Степе есть для чего жить. А для чего жить Кириллу Сычу? Для чего Сычу доживать?! Вот, например, блондина Володеньку, вечного Казимирова оппонента, в апреле похоронили. Якобы инфаркт достал. Знаем мы эти инфаркты — у Володеньки тоже жена из «проснувшихся». Все мы знаем, все уясняем помаленечку…
— …Вавилонская Блудница! Всадник бледный со взором горящим! Кто вам сказал, Степа, что Судный День — это наш день? Это день в понимании Творца. А для нас это может оказаться неделей, годом… Веком, наконец.
— А мертвые! Почему не встают?!
— Встают они, Степа. Оглянитесь кругом! — встают. Внутри людей. В людях. Не телами — жизнями, памятью. А вы ожидали, что мифическая косточка «луз» начнет обрастать мышцами и кожей? Что гробы и впрямь разверзнутся? Блаженны материалисты, ибо погибнут правды ради…
— Ну и падлы! — вмешался Петрович.
Подумал, хлопнул стопку «Посольской» и, во избежание недоразумения, уточнил:
— Все падлы. И вы тоже. И я.
Петровичу было тошно. Тяжелое детство, приют где-то на Алтае, прорубь, где он тонул, бардак тетки Алтын, где он терял невинность, и бабки, жизнь без правил, бой без правил, переломы-вывихи… Там, в прошлом, маячил один, главный, сильно раздражающий эпизод: старый хрен, пытавшийся исправить юного буяна. Старый хрен поил Петровича козьим молоком, учил бессмысленно шевелить руками и рассказывал про малопонятные «инкарнации». Там, в прошлом, Петрович набил старому хрену морду и «зайцем» уехал в Крым: драться. Сейчас же, по прошествии многих лет, старый хрен начал сниться Петровичу. Сидел возле кровати, молчал. «Ну, кто был прав?» — молчал. «Эх ты…» — молчал. И еще о всяком молчал. Когда спящий Петрович однажды попытался дать хрену в рыло, то проснулся с мокрыми трусами. Теперь, ложась в постель, Петрович всякий раз начинал сильно сомневаться: бил ли он старому хрену морду в прошлом. Или просто решил, что бил? Черт его знает… А сомневаться Петрович не любил. Не умел. И чуял, что ни к чему хорошему это не приведет.
Кирилл, глядя на Петровича, тоже предчувствовал беду. Этот сорвется. У него от Степки крыша едет. И не только от Степки. Ходили слухи о реальных экстремистах, которые пытались уничтожать «проснувшихся». Бессмысленно: к уничтожению тела люди (люди?!), подобные Ванде, относились равнодушно. Хоть своего, хоть чужого. Слишком равнодушно даже для существ, реально осознавших бесконечность жизни. Кирилл предполагал наличие какого-то дополнительного, еще неизвестного сейфам фактора, вызывающего это всеобъемлющее равнодушие. Профессиональное любопытство подталкивало к обнаружению нового фактора, изучению его, обнародованию, в конце концов! — но здравый смысл подсказывал: хватит. Ни к чему не приведет.
Здравый смысл — и страх. Страх узнать что-то, что сделает существование Кирилла Сыча окончательно лишенным смысла.
Кирилл встал, держа в руке початую кружку:
— Пойду я, ребята. Мне сына из садика забирать.
— …мочить!!! — заглушил его слова истерический визг пророка Степы.
— И последняя теория, — очень тихо, но вполне слышно сказал Казимир. Голос вальяжного эрудита напоминал сейчас колючую проволоку. — Грех искуплен, наступает рай. Где будут жить Адам и Ева. Степа, вы знаете, это хорошо, что в раю не окажется нас с вами. Не потому, что мы плохие, а они — хорошие. Совсем по другой причине. Мы — боль остатков греха. Старая кожа, линялая шерсть. Пусть кому-то будет больно, пусть кто-то окажется наказан без видимой причины. И пусть этот кто-то уйдет навсегда. Не сетуя и не сопротивляясь. Склонясь перед произволом рока. Я, например, уйду с чистой совестью, не торопя отмеренный срок. Володенька был неправ. Испугался, засуетился. Останься он среди нас, я, его друг, не постеснялся бы повторить ему это в лицо. Кирилл, вы слышите? Или вам неинтересно мое мнение?
Кирилл медленно допил пиво.
Страх вспыхнул с особой, болезненной остротой. Неправота покончившего с собой Володи? Адам и Ева? При чем тут Адам… Брось, ты уже везде усматриваешь дурацкие намеки! Надо расслабиться… И тем не менее вдруг показалось — Казимир знает нечто, скрытое от тебя, знает суть нового фактора, обусловливающего часть туманных историй о грядущем рае. И Степа знает. Поэтому недоговаривает — кого именно мочить! — хотя для себя решил эту проблему. Они все знают, а тебе не говорят, потому что ты — свой, ты — из родного гетто, тебя не хотят расстраивать, пугать…
Последний глоток отдавал помешательством.
— Интересно, Казимир. Очень. Но вы тоже неправы. Мы не наказаны. Мы с вами имеем то, о чем раньше, до открытия ментал-коммуникации, могли только мечтать. Обеспеченную, сытую жизнь среди цветника. Субсидии, уход, опеку. Свободу поступков. Долгую, если пожелаем, жизнь. Безболезненную, спокойную смерть. Мы получили мечту обычного человека. И мы не виноваты, что остальные получили гораздо больше. Мы не виноваты, и мы никогда не сможем понять до конца: что же на самом деле получили они?
— Все получили. И еще получат. Потому что все падлы, — уверенно подытожил Петрович.
Налил очередную стопку.
Поднял ее на уровень глаз и добавил, противореча своему предыдущему утверждению:
— Все падлы, кроме меня. Я — человек. Я звучу гордо.
Внизу, в холле, Мишель трепался с охранником о бабах. Собственно, охрана «Ящика…» с самого начала была бессмыслицей, пустой тратой времени — но сейчас это позволяло еще двум-трем сейфам полагать свой кусок хлеба с маслом честно заработанным, а не брошенным в качестве милостыни.
Рядовой Сыч! Или, если угодно, генерал Сыч!
Отставить!
Есть, сэр…
— Ты далеко? — спросил Мишель, отвлекшись от сравнительного анализа блондинок и брюнеток.
— В садик, за пацаном.
— Подвезти?
— Спасибо, я пешком…
Под Новый год Кирилл вдруг стал задаваться странным вопросом: почему Мишку в «Ящике Пандоры» уважают больше всех? Ведь не сейф, не родной-обреченный, а просто идейный упрямец, способный в принципе обзавестись «ментиком» в любое время, ринуться по накатанной, сладкой дорожке… Да, идейный, очень спокойно сказал Мишель, узнав о Кирилловых сомнениях. Таких, как ты, Кирюша, мало. А таких, как я, очень мало. Но ты понимаешь… Вокруг творится черт знает что — или Бог знает что. Короче, они знают, а я не знаю. И вся эта утопия мне не по душе. Хотя бы потому, что решал не я — решали за меня, полагая некоего Мишку Савельева винтиком грядущего Эдема. Так вот, я и мне подобные не любят быть винтиками. А когда приходится быть винтиками не по собственной воле, мы пытаемся выпасть из общей машины, откатившись в траву. Возможно, машина обойдется без нас. А возможно, не обойдется. Вот я и хочу это узнать. Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит…
Тогда Кирилл счел Мишкины идеи блажью.
Но позже Казимир, подсев к Кириллу за столик и случайно выйдя в разговоре на эту тему, раскрыл истинную цену блажи Мишеля. К нему стучатся, сказал Казимир, попыхивая сигарой. Нам хорошо, дорогой мой, мы закрыты, опечатаны, и если чем терзаемся, так только личными комплексами. А Мишенька — из большинства. Проклятого или благословенного, этого знания я лишен, но большинство… У него свои законы. Оно зовет. Оно тянет, приказывает, потому что большинство, потому что иначе не умеет. Стоит Мишеньке хотя бы раз откликнуться на зов, проявить минутную слабость — он и безо всякого «ментика» очень быстро присоединится к большинству. Особенно сейчас. А он держит двери на засове. Упирается. Руками и ногами. Зубами. Упрямством своим немереным. Старым таким упрямством, исконным. Раритетным. Как вы полагаете, Кирилл, кто больше заслуживает уважения — мы или он?
— …Эй, Кирюха! Ты кого больше любишь? Блондинок?
— Я Ванду люблю, — невпопад заметил Кирилл, разглядывая Мишеля, словно увидел его впервые. И когда Савельев комически развел руками (дескать, вольному — воля!), вдруг, изумляясь самому себе, спросил: — Мишка, скажи мне, пожалуйста… Почему Казимир такой умный?
— Так он же поп, — ничуть не удивившись, ответил Мишель.
— Как поп? Какой поп?!
— Обычный. Ну, не вполне обычный — расстрига он. Бывший отец Михаил. Еще когда все только начиналось, взял да и сложил с себя сан. А так: поп себе и поп. Священник. Профессор богословия, что ли? У него еще ксива от епархии была: разрешение на экзорцизм. Или на что-то похожее, не помню уже.
— А-а… — чувствуя себя умственно отсталым, протянул Кирилл.
Расстриг он себе представлял как-то иначе. Во всяком случае, вальяжный эстет Казимир с его сигарами…
Погода радовала: раньше в июле — августе жара стояла — хоть яичницу на мостовой жарь! А сейчас — тень от буйно разросшихся кустов, прохлада от крон деревьев, легкий ветерок, аромат зелени и цветов. Георгины, астры, гладиолусы… Сезон, не сезон — цветут. Под окнами сплошные клумбы. Уже почти рай. А скоро будет совсем, если верить Казимиру.
В нынешнем мае даже пуха от тополей не было. Тополя есть, а пух отсутствует.
Однако умиротворение бежало Кирилла. Свербел в душе хитрый червячок, мешал окунуться с головой в нирвану расслабленного пивного благодушия. Слова Мишеля лишь добавили веса теориям бывшего священника. Искупление первородного греха; интеграция душ в единого Адама; восставшие не телесно, но ментально — духовно?! — мертвецы внутри «проснувшихся»; маячащий на горизонте Нью-Эдем с ограниченным контингентом населения… Вот, идет Кирилл Сыч по центру города — а много ли прохожих за те пятнадцать минут, что он идет, на пути встретилось? Пять? Десять?! Три машины проехали — чудо… Знаем, знаем: миграция в деревню, исход из городов, учили, проходили, сами статейки кропали — с цифрами, с графиками. Но и кое-что другое тоже знаем. Уходят из жизни старики, больные, просто уставшие жить люди — тихо, без мучений, без боли и ожидания. Толпами. С улыбкой на устах. Озноб от такой улыбки пробирает. Никогда, ни за какие коврижки не научиться сейфу так улыбаться — вот и вздрагиваем. Зачастую уходят и вполне бодрые, полные сил здоровяки. Словно с автобусной остановки, когда надоело ждать. _
Ждать — чего?!
Может, они просто на такси пересаживаются?!
Зато рожать перестали. Спокойно, равнодушно, словно закрыли производство безнадежно устаревшей одежды. Год рождения Адамчика был последним. Говорят, кто-то не поленился сосчитать — «последышей» на шарике родилось сто сорок четыре тысячи. Поколение праведников? Адам вчера тайком за вареньем лазил… чашку разбил — мамину любимую! Праведник…
— …Наталя Петловна, вставайте! Ну вставайте же!..
— Она на’ошно! П’итво’яеца!
— Не толкайся, пончик!
— Сам пончик!
— Не хоцу-у-у так иглать! Ну Наталецька Петловна зе!..
— А давайте ее водой польем! Я в мультике видел…
— Давайте!..
Слышал ли Кирилл все это на самом деле? Или уже потом перевозбужденный мозг сам достроил, воссоздал испуганно-растерянный хор?
Детвора сгрудилась над молодой воспитательницей, лежавшей около турничка-рукохода. Разметавшиеся по земле светлые волосы, левая рука без сил откинулась на край песочницы, правая неловко подвернута. На лице — восковая бледность и. застывшая, почти младенческая обида. Как же так, все было хорошо, все было просто прекрасно, и вдруг, ни с того ни с сего… Кирилл замер у низкой, аккуратно выкрашенной известкой ограды. Бежать к воротам? — Далеко. Он перелез прямо через забор, но, проламываясь сквозь буйную сирень, споткнулся. Упал. Острая боль в лодыжке. Черт, как минимум растяжение! С трудом поднялся, цепляясь за гибкие, ненадежные ветки, упрямо заковылял к площадке.
— Разойдитесь.
В тоненьком, гибком голосе, словно в клинке шпаги, таилась скрытая сила. Малыши невольно расступились, подчиняясь. Пропуская к упавшей воспитательнице — Адама. Самого младшего. Владика, его одногодка, родители уже забрали домой, а Кирилл вот запоздал… Крохотные пальчики уверенно легли на шею, нащупали артерию. Одновременно Адам приложил ухо к груди женщины, пять-шесть секунд вслушивался…
— Ты в доктола иглаешь, да?
Адам не ответил. Молча вскочил на ноги и, оттолкнув загораживавшего кратчайший путь мальчишку, рванул со всех ног. В медпункт. Это выяснилось довольно быстро, но не сразу.
Тут дети наконец заметили шкандыбающего к ним Кирилла.
— Дядя Ки’ил, дядя Ки’ил! Наталя Петровна!.. Она!..
— А вас Адам убезал!
— Где медсестра?!
— Она не сестла, она — тетя доктол…
— У меня сестла… Танюска…
— Бегите кто-нибудь за ней скорее! Я ногу подвернул, не могу быстро…
— Я! Я побегу! — Два огромных голубых банта на соломе косичек, широко раскрытые глаза-васильки и веснушки, веснушки… — Я бегу, дядя Ки’ил!
Девочка помчалась к корпусу. Кирилл наконец доковылял до пострадавшей, неумело сунулся щупать пульс.
— У нее сердце. Отказало. Я сейчас, сейчас, — рядом стоял запыхавшийся Адам. Серьезный и собранный, с большой картонной коробкой в руках. В коробке — шприцы, какие-то баночки, ампулы, вата, бинт…
Чужой, взрослый человек.
— Дай сюда! — аккуратно поставив коробку с медикаментами на землю, Адам бесцеремонно выхватил из чьих-то рук плюшевого медведя-толстяка. С усилием подсунул воспитательнице под голову. — Папа, делай ей непрямой массаж сердца. И искусственное дыхание. Я пока шприц приготовлю. Должны успеть… Ну давай, чего смотришь!
Кирилл подчинился, не успев осознать, что подчиняется. Как щенок, на которого рявкнул низкорослый, но старый и опытный пес. Дети притихли, чуть попятившись и молча наблюдая за происходящим. Отлетели две пуговицы с кофточки. Полупрозрачный бюстгальтер. Отличная грудь… «Рядовой Сыч, м-мать твою! Отставить!» Четыре толчка — один вдох; четыре — один… Так учили на кратких медицинских курсах для населения. Вернее, даже не его учили — видел, как учат других, слышал, что при этом говорила молоденькая инструкторша. Заметку для газеты готовил, еще будучи студентом. «Курсы жизни», практическое задание.
Курсы жизни…
— Сильнее, пап! Все, хватит. Отодвинься.
В руках Адама — мокрая вата. Острый запах спирта. Бред, чушь, наваждение! — четырехлетний пацан… Кирилл запоздало вздрагивает от ощущения нереальности происходящего, но ничего больше сделать не успевает. Адам с размаху всаживает шприц, налегает всем тщедушным телом. Тонкая и длинная игла входит до упора — ни малейшей реакции со стороны женщины. Адам начинает осторожно вдавливать поршень. Губы мальчишки беззвучно шевелятся: «Ну! Ну же!» — и еще брань, страшная, ломовая, хирургическая… Взгляд Кирилла на миг касается пустой ампулы. Отломанный кончик валяется рядом, хищно поблескивая. Адреналин. Это значит… прямой укол в сердце! Да что же Адам делает?!
— Давай, папа! Рот в рот…
Вдох, другой, третий. Хриплый стон. Дергается рука. Грудь судорожно вздымается.
— Ф-фух, успели. Ну, папа, считай, повезло…
Потом была прибежавшая растрепа-медсестра (отлучилась на минутку в «Гастроном»), шум, охи, суета, мигалки «скорой». Это папа ей помог, это он. Я?! Ну да, ты, папа… Как вас зовут? Кирилл? Спасибо вам, Кирилл, вы как нельзя вовремя, еще бы пара минут — и все. Журналист? Где же вы научились? На курсах?!
Тем не менее Кирилла мучило ощущение, что люди лгут, восхищаясь «подвигом» сейфа.
Когда они покидали детский сад, Адам заметил, глядя в сторону:
— Хороший у них медпункт. Даже адреналин нашелся. Молодцы. Мне бы этот адреналин в Аль-Джаннаре…
Кирилл не нашелся, что ответить. Почти до самого дома они шли молча. У подъезда Адам взял отца за руку. Поднял голову, заглянул в глаза:
— Ты неправильно думаешь, папа. Совсем неправильно. Я не чудовище. И не ангел. Просто Наталья Петровна — такой же сейф, как ты. Будь иначе, разве я стал бы спасать внешнюю оболочку? Ты не думай плохо, папа…
— Ты способен читать мои мысли?
— Нет. И никто не способен. Я просто знаю, о чем ты думаешь.
Он улыбнулся — светло, открыто. Так мог бы улыбнуться океан на рассвете.
— Давай поговорим? Вот лавочка…
КИРИЛЛ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 12.45
…фактор сидел рядом со мной на лавочке.
В голове вертелись какие-то «Омены», «Ваал» Роберта Мак-Каммона, разные хитроумные детишки и их хитроумные делишки… Нет, папа, сказал Адам. Ты опять неправильно думаешь. У тебя на лице все написано. Давай я тебе расскажу…
И я узнал о Концентраторах.
Если Ванда, «проснувшись», помнила свою жизнь на десять — пятнадцать шагов назад, то Адам помнил свою — на мириады шагов. Насквозь. И количество жизней прибавлялось с каждой минутой. Вот почему люди уходили в небытие, смеясь — потому что никуда не уходили. Просто снимали изношенный костюм. А в памяти, в душе, в сердцевине кого-то из «последышей» возникала новая ячейка — память? жизнь?! — словно свежий лист на ветке клена. Мальчики концентрировали мужчин, девочки — женщин. Гибель человечества оказалась мифом, ошибкой Кирилла Сыча — отторгнутого, сухого побега, обреченного на отмирание. Неспособного прочувствовать все величие замысла. Пожалуй, Казимир с Мишелем узнали или догадались об этом еще раньше. Но решили не говорить мне, отцу маленького мальчика по имени Адам. Я понимал их… Я сейчас много чего понимал. Умом, ибо сердцем принять это я не смог по сей день. Сердце — оно упрямое.
Передо мной на лавочке сидело Человечество в новом качестве.
Нет Человека, кроме Адама, и я, Кирилл Сыч, — отец Его.
— Зачем ты притворялся? — спросил я.
— Притворялся? — Он с недоумением моргнул. И вдруг рассмеялся, сообразив: — A-а, это… Варенье, шалости… Папа, поверь: детство — наилучшее время жизни. Я знаю, я часто был ребенком. Зачем мне добровольно лишаться подарка, если больше ни одного детства у меня не будет? Мама, она сразу поняла…
— У нас хорошая мама? — спросил я.
— Очень, — серьезно ответил Адам.
И мы пошли домой. Жить-поживать. Через два года Адам отправился в школу. Первый раз в первый класс. Зачем добровольно лишаться подарка? Классы теперь были маленькие и смешанные по возрасту. А учителя-«проснувшиеся» с удовольствием играли в новую игру: «школа». Скоро игра закончится. Надо спешить. Я тоже играю. С сегодняшнего дня.
Все, пора.
Где отец твой, Адам? Встает из-за стола…
АДАМ СЫЧ: 1 сентября…18 г… 16.51
…Вот и закончились твои записи, папа.
Как и жизнь — на самом интересном месте.
Или все-таки?! Умерло лишь тело, бренная плоть, как это случается с нами? С большинством?! Я не знаю. Оказывается, я еще многого не знаю. Выходит, Адам не разучился удивляться? делать открытия? пытаться постичь?! — несмотря на тысячи тысяч прожитых жизней. Ты сумел удивить меня, папа. Я скорее откушу себе язык, чем назову тебя «плотским отцом». Сейчас, закончив чтение, я поймал себя на странном, незнакомом ощущении: мне вдруг захотелось почувствовать себя — тобой. Стать тобой. Или хотя бы — таким, как ты.
Влезть в «черный ящик».
Это было бы естественно для шестилетнего мальчишки: «Хочу быть, как папа!» Беда в том, что мальчишку зовут Адам. Рябь по воде — в меня входит кто-то, миг назад бывший посторонним. Неужели?.. Мгновенная радость, и сразу — разочарование. Нет, папа, это не ты. Очередной присоединившийся. Пора бы привыкнуть. Я и привык, вот только…
Неужели я надеюсь?
Надеюсь и жду — тебя?!
Я знаю, как это: собирать. По крохе, по крупице. Сочетать в себе, ощущать единым целым, океаном бытия. Я знаю, что скоро нас останется двое: Адам и Ева. Навсегда. Даже если завтра мне на голову упадет кирпич. Моего поколения хватит, чтобы двое — дожили. Двое в Эдеме. Двое на Земле.
Двое, значит, все.
Вернее, почти все. Кое-кого не будет с нами. Тебя, папа. Таких, как ты. Почему? У меня нет ответа, зато есть странное чувство. Несправедливость, равнодушие чужого замысла — это всегда странно. Может быть, ответ был у тебя? Отчего мне кажется, что сегодня, погибнув у школьного двора, ты сумел ответить на риторический вопрос?! Что узнал ты, чего не знаю я?
Сейчас я попытаюсь ненадолго стать тобой. Понять, ощутить. Я уже давно ничего не писал. Я уже давно не пытался стать кем-то. Но я возьму в руки шестую (шестьдесят шестую? шестьсот шестьдесят шестую?!) тетрадь в клеточку — чистую, со слегка пожелтевшими листами. Возьму ручку с фиолетовыми чернилами (компьютер не для нас с тобой, правда, папа?).
Сяду за твой стол.
Это ты, папа? На самом деле ты?! Стоишь рядом, кладешь руку на плечо, улыбаешься ободряюще. Я не знал, что можно — так. Не внутри, вместе, единой жизнью, но — рядом, с рукой на плече. Генерал Сыч! Разрешите доложить — рядовой Сыч к выполнению задания готов! Как хорошо, что ты писал от третьего лица. Иначе у меня ничего бы не вышло. А так — мы сделаем это вместе. Вместе, рядом, локоть к локтю, плечом к плечу — видишь, я научился банальностям. Выходит, можно.
«Можно», — киваешь ты, и я улыбаюсь, кивая в ответ.
Значит, я все делаю правильно.
Мы с тобой все делаем правильно.
ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ
Принимая огонь, соглашаясь на тьму,
Забывая про все, обучаясь всему,
Мы становимся старше — богаче? беднее?! —
И бессмысленно к небу взывать: «Почему?!»
Кирилл СычКирилл вышел из дому около часа дня. До школы — пятнадцать минут неспешной ходьбы. Уроки заканчиваются в 13:30, как сказала завуч Клара Наумовна. Времени — вагон.
…Учительница, уроки, школа… Имеет ли это теперь хоть какой-то смысл? Для Адама, для его одногодков? Ведь в телах «последышей» — концентрат многих жизней, личности, постоянно собирающие, аккумулирующие в себе тех, кто раздумал длить отдельное существование, сбрасывая за ненадобностью телесную оболочку. Для старших детей, кому сейчас девять, десять и больше, — смысл есть. «Ментики» начинают работать в среднем с 13–14 лет. Природа — или кто там? впрочем, не важно! — предусмотрительна. Пока ребенок не стал хотя бы подростком, поток мыслеобразов по менто-связи способен необратимо изменить сознание и мировосприятие, а нахлынувшие ипостаси — так и вовсе задавить, подмять под себя неокрепшую психику. До этого рубежа дети учатся, как все. Потом вступают в силу новые методики, система прямого обучения…
Зато Концентраторы изначально помнят свои жизни, имя которым — легион, с самого рождения. Им не нужны «ментики» для запуска «эффекта Казаряна», они никогда не болеют, их обожают собаки и не кусают осы… Зачем им азбука? Зачем — счет?! Ну, разве что ознакомиться с последними новинками и достижениями… И тем не менее Адам с явным удовольствием собирал накануне портфель, аккуратно укладывая в него пенал с ручками и фломастерами, угольник, тетради, дневник… Точно так же, как раньше увлеченно возился в песочнице с паровозиками и машинками, играл в жмурки, в догонялки… Почему? Впрочем, ответ был. Адам в свое время ответил прямо и понятно. Им нравилось быть детьми. Это было их последнее детство, и они старались взять от него все, что можно.
Похоже на правду. Заслуживает доверия. Кирилл и поверил… почти. Но сейчас, буквально пару минут назад, вдруг подумалось, что это — лишь одна из причин подобного поведения. Возможно, даже не самая главная. Крылась здесь иная подоплека — до боли знакомая, такая простая и очевидная, что Кирилл никак не мог ухватить ее суть. Скорее всего сами Концентраторы тоже не подозревают о первопричине. Тайна за семью покрывалами, дышащая на уровне подсознания, ясный посыл, движущий ими — что заставляет их выдумывать стройные и очень убедительные теории на сознательном уровне.
Сворачивая возле аптеки, Кирилл принялся насвистывать.
Вот и чисто символическая ограда школьного двора, которую легко одолеет любой первоклашка. Шум, крики, звучит запоздалый звонок (все уже давно во дворе). Ну конечно, первого сентября ребят отпустили с уроков чуть раньше — праздник все-таки. Правда, галдеж во дворе жидковатый. Детей-то в школе мало… А старшеклассники вообще по домам сидят. Или за город умотали. С «ментиком» — без проблем! Одновременно купаешься в речке, учишь алгебру, физику, информатику, обмениваешься с приятелем свежими анекдотами, договариваешься с девушкой о свидании.
Красота!
А где Адам? Наверное, задержался в классе.
Порыв ветра метет по асфальту редкие желтые листья, напоминая, что сегодня — первый день осени. И где он их только нашел, ветер? Вроде зелено кругом…
— …Ишь, гаденыши! Хиханьки строят. Над нами с тобой, между прочим. Житуха наша, значит, псу под хвост! Вот они и радуются, ангелочки гребаные! Мочить! Чтоб на своей шкуре! Чтоб сами поняли и Ему передали!.. Чтоб чаша грехов снова — до краев… На круги своя!.. Рай им, гнидам! Геенну им огненную, геенну!..
— Это ты верно, Степа. Все гниды. И ты гнида. Дай хлебнуть…
Старые знакомые. Степан, отставной пророк, ныне честный сатанист, и его соратник Петрович. Оба изрядно поддатые. Петрович отбирает у Степы бутылку «Алушты», делает основательный глоток, крякает, утирая ладонью губы… Кирилл поспешно отворачивается. Ему стыдно. За Степу, за себя. Уйти? Пока не заметили, не полезли на глазах у всех обниматься, дыша перегаром и требуя выпить со старыми корешами…
Где же Адам?!
— Эй, пацанва! Хлебнуть хотите?
— Го-о-ордые! Нос воротят. Зазорно с сейфами знаться!
— Вот я им сейчас сворочу!.. Эй, шкет, подь сюда. Пей. Угощаю, значит. Мы — не то что ваши. Нам не жалко!.. Пей, кому говорю!
Даже спиной Кирилл чувствует: лицо у Петровича плывет, дергается нервным тиком. Страх — липкий, мокрый — рождается в животе. Движется вверх, к сердцу, к голове.
Волной стекает обратно.
— Ты кому это сказал, шкет?! А ну, повтори!
Ф-фух, наконец! Вот и Адам. Сейчас они уйдут — домой…
— Ах ты, падла малая! Как со старшими базаришь, щенок?
Звон оплеухи.
Еле слышный хлопок, удар, гром, колокол — отзывается в груди, в сердце, в животе, где угнездился страх. Наверное, не стоило оборачиваться. Не надо было смотреть, что там происходит. Не надо было…
Красный от бешенства, совершенно озверевший Степан, грязно матерясь и брызжа слюной, наотмашь хлестал по щекам мальчишку лет шести. Владика Гринберга, Адамова одногодка — они в детском саду вместе были, а теперь — в одном классе. Что ж ты творишь, сволочь пьяная?!
— Степан, прекрати!
Но взбешенный пророк не слышал.
— Зови! Зови своих на помощь, сучонок! Где они? Где? Где твои козлы?
Самым страшным для Кирилла была Степанова правота. Люди — взрослые, подростки — шли мимо. Скользнув равнодушным взглядом. Не обращая внимания. Насилие над телом больше не интересовало их — вечных, идущих в райские врата не плотью, но душой. Насилие над телом, рождение тела, болезни тела, старение тела, гибель тела — нет, не интересовало. Волнение? Негодование?! Гнев?! Разве это повод? Не бойтесь убивающих тело… Детвора вообще исчезла, один Адам спешил по дорожке к отцу, но он тоже был беззаботен, словно ни Степана, ни избиваемого Владика просто не существовало.
Более того, сам Владик был спокоен.
Что произошло дальше, Кирилл не успел заметить. Может быть, мальчишка изловчился и укусил Степана за руку. Хотя вряд ли. Скорее уж внезапно ударил взрослого мужчину в ответ — ловко, деловито, безошибочно угодив в уязвимое место. Или сказал что-то очень обидное: так умеют обижать глубокие старики — наотмашь.
— П-паскудник! Убью!
Кулак пророка с размаху врезается в детское лицо. Брызжет кровь. От серьезной травмы Владика спасает малый вес — он отлетает, катится по земле, прижимая руки к лицу. Степан настигает, примеряется пнуть ногой… В следующее мгновение Кирилл уже бежал. В ворота, мимо кустов сумасшедшего жасмина с колючками — туда, где пьяный изувер бил ребенка. Жестоко, насмерть — Кирилл не нуждался в «патнике», чтобы почувствовать чужую боль. Долго мальчишка не выдержит. Надо успеть, надо… Конечно, он думал совсем иначе — проще, без слов, банальных и нелепых, как сама ситуация, он вообще не думал, а делал, забыв испугаться, и душа Кирилла Сыча неслась, на шаг опережая тело, надрываясь в беззвучном крике. Не важно, что малыш — Концентратор, что он жил и умирал тысячи раз, и если его сейчас убьют, он просто сольется с остальными, с тем же Адамом… Это было не важно, как и то, что окружающие люди не спешили Владику на помощь. Доподлинно зная: тело — лишь оболочка. Которую древнее дитя без малейшего сожаления сменит на другую, продолжая жить. Для «пробудившихся» не происходило ничего страшного, ничего особенного.
Глупый пьяный сейф зря терял время.
Умный трезвый сейф тоже зря терял время.
Пусть их.
Умом Кирилл понимал: «пробудившиеся» по-своему правы. Умом. Но не сердцем. В последние годы он слишком много понимал умом, оставляя сердце в тревожном недоумении, и теперь сердце решило отыграться за все. Здесь и сейчас взрослый избивал ребенка. Даже если истинный возраст Владика несопоставим с годами пророка Степы — взрослое тело калечило детское тело. И здравый смысл поджимал хвост, прячась в тень.
Высшая правда, высшая логика — ложь и путаница.
Где отец твой, Адам? Вот, бежит.
Отец всегда бежит, когда его ребенку угрожает опасность. Смешной, слабый, наивный отец — бежит, торопится, задыхаясь, хватает ртом сухие крошки воздуха… Вам все равно, живы или мертвы, ибо вы всегда живы?! Бессмертны?! Вечны?! А отцу все равно, жив он или мертв, свой ребенок корчится под ударами или чужой, — потому что отец, потому что готов умереть до срока, продолжаясь в сыне.
У каждого свое бессмертие.
Вам — вечность, мне — миг.
Кирилл засмеялся на бегу. Он смеялся, сшибая Степана с ног, отшвыривая прочь. Он смеялся, хрипя и булькая кровью, когда Петрович («Степку, гад?! Ты — Степку?! Ты?!») крушил кулаками его ребра. Он смеялся, когда двое остервенело пинали дергающееся на земле тело…
«Они — дети. Наши дети. Мои дети. Вот почему они с таким упоением играют в детей! А потом, вырастая, будут играть во взрослых. На самом деле они просто маленькие. Новые. Наплевать, что жили и умирали тысячи раз, что за их плечами — опыт и знания многих поколений, что к нам они относятся снисходительно и чуть свысока, хотя при этом — любят, действительно любят… Дети всегда считают себя умнее и современнее родителей. Но при этом очень, до одури, до дрожи в коленках боятся их потерять. Мы боимся потерять друг друга, а все остальное не имеет значения. За детьми — будущее. А за родителями — прошлое, которое ничуть не хуже будущего. Вместе это и называется — настоящее. Жизнь продолжается. Быть отцом — чуть-чуть больно, но необходимо. Если бьют ребенка, надо спешить на помощь. Я спешил, как мог. Кажется, успел. Кажется…»
И сквозь звон в ушах, сквозь сгущающуюся тьму, сквозь тупую, ненастоящую, нестрашную уже боль:
— Папа-а-а!!!
Кирилл нашел в себе силы улыбнуться. Все в порядке, сынок. Делай, что должен, и будь, что будет. Скажи маме, чтоб не грустила. Не первый муж, не первый отец — так хоть последний. Хоть какой-то фарт, ребята. Встретимся.
Где-нибудь.
Когда-нибудь.
Обязательно.
— Вот так, папа. Ты еще здесь? Мы все написали правильно, папа? Мы с тобой? Ведь так и было…
— Где отец твой, Адам?!
— Разве я сторож отцу своему?..
И тихонько, знакомым голосом, издалека, куда нет доступа, даже если ты проснулся, и еще раз проснулся, и снова проснулся, потому что проснуться — это одно, а перестать быть ребенком, сыном, наследником — совсем другое…
— О пощаде не моли — не дадут. В полный голос, немо ли — не дадут. Божья мельница, мели, Страшный суд! Дайте сдохнуть на мели! — не дадут…— Я все понимаю, папа. Я различаю добро и зло. Нам… мне… нам будет не хватать вас в Эдеме. Вас, наших отцов.
Адам родил сыновей. Сыновья выросли, повзрослели, сами стали отцами — ив конце концов круг замкнулся.
— Да, папа, я слышу тебя.
— Хочешь жалости, глупец? — не дадут. Хочешь малости, скопец? — не дадут. Одиночество в толпе. В ските — блуд. Хочешь голоса, певец? — не дадут…— Отцы уходят. Круг замкнулся. Смогу ли я, отравленный добром и злом, не превратить его в спираль? Все начнется сначала, на новом витке — и мы снова встретимся с тобой, папа. Мы встретимся, и на этот раз все будет хорошо.
— Все обязательно будет хорошо, ведь я знаю…
— Разучившийся просить — не прошу, Без надежды и без сил — не прошу. Шут, бубенчиком тряси! Смейся, шут! Подаянья на Руси — не прошу.— Я не знаю главного: ты вернешься — или я отправлюсь искать тебя?!
— Найду ли?!
— Папа, мертвый, ты улыбался так, как мне никогда не суметь.
— Грязь под ногтем у Творца — это я. Щит последнего бойца — это я. Бремя сына, скорбь отца, Выражение лица, Смысл начала и конца — это я.— Все будет хорошо. Мне это известно доподлинно. Кому, как не мне?!
— Почему я плачу, папа?..
Роман Злотников НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА
1
Как все-таки удачно, что железные законы природы не всегда срабатывают. Когда ломовой выброс тахионов, неизвестно почему исторгнутый этой безымянной звездой (уникальный спектр которой, буквально сводящий с ума всех астрофизиков Содружества, и послужил причиной его пребывания рядом с ней) за несколько секунд до ее превращения в Сверхновую, как раз в тот момент, когда Глеб уже готов был отдать команду «на старт», намертво заблокировал все управляющие цепи. И полторы сотни тысяч тонн вещества, сгруппированные в глоуб-рейдер, должны были, повинуясь этим законам, превратиться даже не в раскаленный газ, а просто в излучение, в поток осколков атомов. Глеб таким отчаянным усилием, что, казалось, череп взорвался, за мгновение до того, как потерять сознание, пробился-таки управляющим импульсом к генераторным контурам и… прыгнул. Это было невозможно. Поскольку он прыгнул так, как ни в коем случае прыгать было нельзя — в никуда, дико, не успев задать ни вектор, ни дальность, ни площадку выхода. Любой, самый занюханный пилот знает: прыжок в никуда — верная смерть. И потому ни один корабль просто не сможет войти в NE-пространство, если не заданы все параметры выхода. Лишь один-единственный тип кораблей — глоуб-рейдеры — способен уйти в прыжок, если заданы два или даже один параметр. Но Глеб просто не успел ничего задать. Его управляющий импульс был скорее чем-то вроде отчаянного вопля «О, бля!» — из которого даже столь совершенное создание, как его «Громовая птица», могло бы понять только одно: «Нужно линять и как можно скорее!» Но он все равно не мог бы этого сделать. НИ ОДИН корабль не может уйти в прыжок, если не задан хотя бы один параметр. Впрочем, если вспомнить о том, что творится в той точке пространства, которую он все-таки сподобился покинуть, то можно согласиться, что в этом случае имеют право на жизнь даже самые дикие предположения. Скажем, что в той забившей все мыслимые диапазоны какофонии, что грянула в пространство в момент взрыва Сверхновой, какие-то пульсации достаточно точно совпали с код-управляющими импульсами, и что именно они отправили в прыжок его «Громовую птицу». Такое предположение имело право на жизнь ничуть не меньше, чем то, что рейдер прыгнул в никуда, или что он сам выдал управляющий импульс такой мощности, что перекрыл тераваттный тахионовый выброс (причем полноценный управляющий импульс, в котором таки был хотя бы один параметр для прыжка). Ибо, даже по самым скромным подсчетам, в этом случае выходило, что, во-первых, он задал параметр, даже не осознав этого, а во-вторых, что он превысил свою пиковую мощность, не менее чем на четыре-пять порядков (то есть выдал импульс мощностью сравнимой с суммарной мощностью М-поля всей человеческой популяции землян). Конечно, он был сильным интеллектом, иначе его не было бы в пилотской рубке этого корабля, но…
Глеб почувствовал, что потихоньку приходит в себя, и постепенно, по мере того как оживали органы чувств, черепную коробку стала заполнять острая, колющая боль, сродни зубной, но гораздо хуже. Поскольку даже самый большой зуб все-таки много меньше того комка серого вещества, который делал человека человеком, а сейчас предательски превратился в орудие пытки. Головная боль забивала все остальные ощущения. «Идиот, — Глеб чуть не заскулил, — кретин, баран, надо же было зависнуть так близко от эпицентра». Боль достигла своего пика и стала волнами стекать куда-то вниз, как чай из переполненной чашки стекает в блюдечко. Глеб почувствовал, что отключается. Последнее, что он успел сделать, это послать «Громовой птице» команду на выход и… заорать в полный голос.
Когда сознание снова вернулось, то еще до того, как окончательно очухаться, Глеб успел осознать две вещи: во-первых, что он все-таки жив, и, во-вторых, пока он был в отпаде, рейдер вынырнул-таки из прыжка. Причем удачно, не внутри какой-нибудь звезды и не в облаке межзвездного газа, а в том идеально пустом пространстве, которое так редко в Галактике и на языке инструкций называется «Площадкой выхода», а в просторечии «пузырем», и сейчас мчался с бешеной скоростью неизвестно где и куда. Все это было приятно. Неприятно было другое — что все эти сведения он вывел из того, что у трупа так не болит. Боль не исчезла, она разлилась по всему телу. Голова болела по-прежнему, но как-то уже более ровно что ли, по туловищу, казалось, промчалось стадо носорогов, причем несколько раз, а в рубке витали запахи паленого мяса и еще какой-то дряни. И, судя по всему, основным источником этих запахов был он сам. Так что, пожалуй, считать ту рухлядь, в которой пока пребывала его душа, телом можно было с большой натяжкой. Глеб несколько минут привыкал к своему состоянию, а затем аккуратно приподнял веки. В следующее мгновение он широко распахнул глаза и чуть не заорал от всплеска боли, вызванного этим движением, но через секунду уже забыл о нем. Мать моя женщина! То, что раньше было пилотской рубкой, сейчас представляло собой отполированную до зеркального состояния промоину, затянутую сверху только что наращенной регенерационным контуром обшивкой. Как будто кто-то лизнул огненным языком корпус рейдера и оставил в месте соприкосновения гигантскую щель. Пилотское кресло, обтянутое этакой прозрачной изолирующей мембраной, прилепилось небольшим бугорком на самом дне промоины. По всему выходило, что его опять, как во время взрыва Сверхновой, спасло чудо. «Второе доказательство существования божьего сегодня, — подумал Глеб, — уже слишком». Он скосил глаза на зеркальную стенку промоины. «Вот это да!» На стенке, чуть искаженно от кривизны поверхности, была представлена красочная иллюстрация того, во что превращается симпатичный молодой человек после профессионально проведенного аутодафе. Гигантские сочащиеся ожоги, густо покрывающие то, что раньше было кожей, волдыри, комки сажи вместо волос, вздувшиеся и лопнувшие от жара ногти. Глеб некоторое время рассматривал свое изображение. «Да, так и концы откинуть недолго, — подумал он, — просто в процессе химического разложения. Незаметно потерял сознание и все. Гроб, правда, получится роскошный». Следовало немедленно заняться регенерацией. Но чертова головная боль! Любое движение, любое напряжение мысли вызывало острые всплески боли. В общем, голова никуда не годилась. А жить хотелось.
Глеб медленно, стараясь не делать даже мелких резких движений, протянул руки к контактным пластинам и аккуратно, как хозяйка снимает пену с бульона, самыми кончиками самых маленьких извилин, стараясь ничем не замутить этот раскаленный котелок, в который превратилась его голова, начал проверять контуры и цепи корабля.
Когда он закончил, боль заметно усилилась, но как бы отошла на второй план. Несмотря на то что он ожидал что-либо подобное, действительность оказалась настолько удручающей, что Глеб даже на мгновение пожалел, что все-таки успел выпрыгнуть из области взрыва.
Из пятисот миллиардов основных контуров корабля работало порядка тридцати тысяч и, что самое паршивое, всего полторы тысячи регенерационных. Сейчас они на пределе возможностей поддерживали в рабочем состоянии разрушенный и все еще продолжающий разрушаться корабль. Но об активном восстановлении не могло быть и речи. Кроме того, это значило еще и то, что ни одной сотни контуров к себе Глеб подключить не мог. Корабль просто умер бы, пока Глеб регенерировался. Лететь здоровому мужику в огромном мертвом и холодном куске материи и ждать, от чего скорее умрешь — от голода или от холода, когда мертвый корабль насквозь промерзнет в межзвездной пустоте. Бр-р-р, такая перспектива леденила кровь хуже любого фильма ужаса. Включить внутреннюю регенерацию он тоже не мог. Прежде чем мыслеимпульс достигнет необходимой силы, Глеб успеет десять раз потерять сознание от головной боли.
Глеб аккуратно, одним движением хрусталиков огляделся. Промоина в теле корабля затянулась, и кресло теперь находилось в центре овального помещения, отдаленно начинавшего напоминать рубку. Но корабль умирал. Это было видно по тому, как шла регенерация. По стенкам рубки тянулись беспорядочные приливы, с потолка свисали сталактиты, а пол напоминал морские волны. Что ж, все понятно, остатки регенерационных контуров изо всех сил пытались залатать хотя бы самые страшные повреждения, но их мощности катастрофически не хватало. К тому же, пока они занимались ими, остальные части корабля продолжали разрушаться.
Глеб перевел взгляд на мембрану, окутывающую пилотское кресло. Защитный кокон заметно истончился и стал мягким. Следовательно, особой опасности снаружи не было, так, неблагоприятные условия. А значит, у него оставался только один шанс. Да и тот — пятьдесят на пятьдесят. И этот шанс был ОЧЕНЬ неприятным. Глеб несколько мгновений собирался с духом. Если он сможет, до того как потеряет сознание, тем или иным способом вызвать болевой импульс, превышающий то, что медики называют «порог разрушения», то начнется так называемая взрывная регенерация. На Земле так выживали люди, скажем, разбившиеся после падения с большой высоты или погибшие в иных схожих ситуациях. Связка «боль — восстановление» закладывалась в клетки человека изначально, еще при формировании эмбриона, но и она не была абсолютной панацеей. Например, у утопленников в момент смерти болевой импульс так и не достигал «порога разрушения». Так что их можно было восстановить только медицинскими методами. В общем, у него шанс был. Но… Если он не потеряет сознания или… не умрет от боли прежде, чем дойдет до болевого порога. От такой рухляди, которую сейчас представляло собой его тело, всего можно было ожидать. Однако выбора не было. Глеб медленно, протяжно и глубоко вздохнул и резким движением вывалился из кресла, пробив совсем истончившийся кокон, рухнул на ухабистый пол рубки.
В последнее мгновение, какими-то остатками корчившегося на костре боли сознания, он почувствовал, как наливаются, звенят все жилочки, сосудики, суставчики, и понял, что получилось (ему было знакомо это ощущение — все пилоты Корпуса дальней разведки в обязательном порядке проходили через «взрывную регенерацию»). А в следующий миг он провалился в глухую, непроглядную темноту.
2
Глеб ловко подтянулся на руке и легко закинул свое тело на ветку. Сидевший в гуще мелких молодых листиков щупокол тут же воткнул жало в большой палец. Руку пронзила резкая боль. Палец быстро покраснел. Глеб с ленивым снисхождением уставился на глупое насекомое, присосавшееся хоботком к красной коже. Через некоторое время палец посинел, пошел пятнами, а потом стал постепенно приобретать свой естественный цвет. Щупокол, усиленно манипулирующий хоботком, вдруг дернулся и повис на жале. Глеб усмехнулся и выдернул жало из ранки, которая тут же затянулась. Глеб брезгливо отбросил уродца в сторону. Полтора месяца назад, когда такое же насекомое атаковало его впервые, он почти два часа провалялся с распухшей ногой, а сейчас… Яд организмом расшифрован, противоядие синтезировано и выброшено в кровь. К тому же, как оказалось, оно отлично травит щупоколов. Так что никаких проблем. Как будто наступил на колючую лиану… только на лиану больнее.
Глеб внимательно оглядел крону, ничего подозрительного больше не было, и, опершись спиной о ствол, сел поудобнее.
Планетка вообще была чудо. А в его положении даже вдвойне. Когда Глеб остатками исследовательских контуров «прокачал» эту планетку, он сначала не поверил. Потом, припомнив все, что он слышал о древних суевериях, плюнул три раза через левое плечо, прошептал «чур меня» и, машинально поискав дерево, стукнул, за неимением оного, три раза по собственному лбу. Планета земного типа с азотно-кислородной атмосферой, гравитацией 0,97, вращающаяся вокруг желтого карлика класса Г-2, причем почти прямо по курсу, так что остатков генераторных контуров вполне хватало на маневр, была такой неожиданной соломиной, что явно забрезжила возможность спасения…
Памятуя о законе подлости, Глеб до самого последнего момента, до того, как рухнувший по абсолютно безумной посадочной глиссаде (которая стоила ему самому еще трех сломанных ребер и смешения двух шейных позвонков) прямо в гигантское болото корабль последним напряжением своих дохнущих контуров выбросил к поверхности шлюзовую камеру и сдох, не дотянув до поверхности двух метров, до того, пока он не вынырнул из густой болотной жижи, уже начавшей превращаться в гиблую трясину, и не выполз на оказавшийся рядом островок, не верил, что выживет. Но… положительно ему везло. Планетка, прокачанная искалеченными исследовательскими контурами, оказалась настоящим, стопроцентным, фирменным чудом. Полтора месяца спустя Глеб мог утверждать это твердо.
Первые две недели он мучился животом, приспосабливаясь к незнакомым плодам, хромал, напарываясь на неизвестные колючки, страдал от укусов неизвестных насекомых и животных и… отсыпался. В общем, приспосабливался. Глеб даже поражался своей гигантской приспособляемости. Любой более или менее отдаленный предок давно бы тапочки откинул от разных ядов, токсинов, которые внедрялись в его организм через укус, царапины, плоды, которыми он питался. А он жив. Конечно, в теории он знал об этом, но видеть воочию, как все происходит, как организм с каждым разом все быстрее и быстрее справляется с ядами, как у плодов, от которых еще недавно были судороги в желудке, сухость во рту, ломота, головная боль и страшный понос, вдруг начинает появляться вкус, было настолько любопытно, что Глеб получал от этого громадное удовольствие. В принципе все это можно было бы представить этаким затянувшимся пикником, за одним-единственным исключением. С пикника обычно рано-или поздно возвращаются…
После двух недель приспособления он начал расширять географию своих прогулок и выбираться за пределы болота, похоронившего его корабль. На второй день он оборудовал себе удобную берлогу под огромным деревом, свалившимся под собственной тяжестью (слабый глинистый грунт не смог удержать такого гиганта с жиденькими деревянистыми корнями, а может, все дело было в волне, которую поднял его корабль, в тот момент, когда он рухнул в это болото), и даже успел несколько обустроить свой быт, слепив из глины несколько примитивных мисок, сложив из камней очаг и устроив себе лежанку из болотной травы. Кроме того, он отыскал пару десятков растений, которые, с некоторой натяжкой, заменили ему лук, петрушку, чеснок, редис и немного разнообразили его скудненький рацион. А также соорудил себе примитивную пращу, наловчившись сбивать камнями некоторую летающую и бегающую живность, которая здесь по большей части оказалась с шестью конечностями. Его огороды располагались вокруг болота, а охотничьи угодья, наоборот, начинались в паре километров от его логовища, там, где чахловатые болотные растения окончательно вытеснялись лесным буйством и тянулись километров на пятнадцать на северо-восток, до самых песчаных холмов, в которых водились мелкие шестиногие грызуны, по вкусу чем-то напоминающие кроликов. Но в сторону, где упала его «Громовая птица», он не ходил ни разу…
Однако сегодня, выбравшись из берлоги, Глеб вдруг обнаружил, что ноги сами несут его к трем разлапистым деревцам в полукилометре от корабля. Он остановился, нахмурился, но затем криво усмехнулся, тряхнул головой и двинулся дальше, на ходу утоляя аппетит ярко-фиолетовыми ягодами, вызревающими на стелющемся по всему болоту кустарнике…
Глеб поерзал на ветке. Никаких видимых признаков корабля не наблюдалось. Он покрутил головой, обозревая окрестности, но шей, будто пружина, почему-то быстро разворачивала голову обратно. Решив больше не играть в прятки с самим собой, Глеб, спрыгнув с дерева, побрел по колено в жиже к островку, на который он выбрался, выкарабкавшись из застрявшей в толще болота шлюзовой камеры.
Спустя десять минут он вынырнул из мутной жижи и выполз на островок. Корабль лежал на глубине десяти метров. Судя по тому, что границы болота увеличились ненамного, он просто собственным весом выбил в мягкой почве болотного дна огромную ямину, не только принявшую его в себя практически полностью, но и, кроме того, еще и основательно углубившую этот участок болота. Восьмиметровый отросток с пузырем шлюзовой камеры был на прежнем месте. Глеб даже не стал приближаться к нему, а только обогнул по короткой дуге.
Глеб сел, рывком стряхнул с головы местную разновидность ряски и тупо уставился на мхи. На него навалилась страшная тоска. Старательно подавляемая эти полтора месяца, укрытая завалами новой информации, ощущений, борьбой за выживание, загоняемая вглубь почти инстинктивной психорегуляцией, она вдруг прорвалась и рухнула всей мощью горного селя на его сознание. Глеб до боли стиснул зубы, но отчаяние наконец прорвало все плотины и захлестнуло каждую клеточку его мозга. Да, он выжил. Но что ему предстоит?! Еще сотня лет жизни? Один! На чужой планете. ОДИН! Бессмысленное существование. Все знания, которыми он был напичкан под завязку, здесь ничего не стоили. Большая часть навыков и умений была ни к чему. Что он мог? Исследовать этот мир — в какой-то мере. Но что дальше? Как сохранить накопленные им знания? Высекать на скале или делать фрески в пещерах? И через сколько тысяч или миллионов лет корабли Содружества наткнутся на этот неизвестно где расположенный мирок?!
Когда Глеб очнулся, его горло саднило, на опухших губах запеклась пена, кулаки были разбиты в кровь. Видимо, он в исступлении колотил ими по земле. Глеб приподнялся на руках и сел. Никогда с ним не было ничего подобного. Видимо, умение мыслить, анализировать на нескольких уровнях сознания, которым обладали все офицеры Корпуса, сейчас сыграло с ним злую шутку. Отчаяние, зародившееся еще с момента взрыва, копилось и копилось, чтобы черной тяжелой массой прорваться сквозь все барьеры и пороги, сквозь все заслоны тщательно тренированной психики и обрушиться на мозг вспышкой бешенства, помутнением рассудка и страшной тоской.
Глеб провел рукой по лицу, как бы смывая наваждение, глубоко вздохнул и, поднявшись, подошел к кромке болотной жижи. Все, эта вспышка отчаяния открыла для него многое в нем самом. Оказалось, он вовсе не тот, крутой, не теряющийся ни в каких ситуациях, дальний разведчик, повелитель пустоты, к которому еще десять лет назад (после ухода Марион) приклеилось холодновато-уважительное прозвище Скат, а человек, у которого есть нервы и который вполне может впасть в панику. Глеб несколько минут сидел, прикрыв глаза и успокаивая дыхание, а затем тяжело поднялся на ноги, бросил еще один взгляд в сторону трясины и… ему вдруг очень захотелось еще раз нырнуть в ее мерзкие глубины и последний раз дотронуться до холодного, мертвого, но… земного корабля.
Завтра он составит скрупулезный план исследований. Завтра он распишет себе жизнь по минутам на годы вперед. Завтра он станет сухим, бесстрастным педантом, в сотнях мелочей топящим всякое воспоминание о Земле. Иначе не выжить, отчаяние будет возвращаться снова и снова, пока не затопит разум окончательно, и тогда однажды его тело встретит рассвет, раскачиваясь на какой-нибудь прочной ветке дерева на окраине болота. Но сегодня… Сегодня он еще может позволить себе этот глупый, сентиментальный поступок.
Глеб согнул ноги и, резко оттолкнувшись, без всплеска, как упавший в воду клинок, вошел в болотную жижу.
Когда его ладони нащупали покатую поверхность шлюзовой камеры, он непроизвольно, как бы прощаясь, изо. всех сил надавил на мембрану, как будто она могла расступиться и пропустить его в свое мертвое нутро, и… рухнул в открывшееся отверстие. В первую секунду он ничего не понял. Этого ПРОСТО НЕ МОГЛО БЫТЬ! На мертвом корабле мембрана шлюза не может открыться! В голове метались обрывки мыслей, и только в самой глубине подсознания вдруг вспыхнул и стал разгораться какой-то огонек. И когда этот огонек окончательно разгорелся, Глеб засветил себе по лбу с такой силой, что заболела ладонь, и расхохотался нервным, судорожным, но счастливым смехом. «Баран! Кретин! Тупица! Забыл! Забыл!!!» Глеб давился смехом и захлебывался обрывками мыслей.
КОНТУР АВАРИЙНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ!
Сейчас там, на глубине десяти метров, под мощной броней корабля бушевали температуры ядерного синтеза. Метались между броневыми стенами миллионы рентген излучений. Корабль рождался заново. Впрочем, забыть было немудрено. Контур аварийной регенерации не может действовать, когда пилот находится внутри корабля.
А пилоты покидали корабли только в обитаемых мирах. Где он тем более не нужен, поскольку во много раз проще отбуксировать корабль на верфь и там восстановить. Никогда еще он не включался в космосе во время выполнения задания. И вот!
Глеб всхлипнул и замолчал. Да-а, парень. Нервишки у вас? Две истерики за последний час. И это Скат? Ну и черт с ним! Жизнь приобретала цвет, вкус и запах. А главное — СМЫСЛ!
3
Глеб сосредоточенно укладывал слеги, не обращая внимания на сопение, визги и всхлипы испуганного стада за спиной. До островка оставалось метра два-три. В принципе оставшееся расстояние можно было перепрыгнуть, но в стаде были две беременные женщины и десяток детенышей. Поэтому Глеб старательно уложил три оставшиеся лесины в болотную жижу и ловко скользнул по ним на берег. За ним, шатаясь и повизгивая от страха, перебралось все стадо.
Глеб устало опустился на землю у одного из деревьев. Стадо разбрелось по островку. Мужчины и женщины, взрослые и детеныши карабкались по деревьям, рвали сочные крупные плоды и, урча, там же, на ветках, уплетали добычу. Сок тек по шеям, животам, рукам. У одного дерева с особенно крупными плодами возникла стычка. Глеб несколько минут раздраженно наблюдал, как двое здоровенных мужиков, злобно рыча и подвывая, молотили друг друга, царапались, впивались друг другу зубами то в голень, то в бедро. Потом громко рыкнул. Мужики испуганно откатились в сторону и, забыв о стычке, потрусили в дальний конец рощицы. Глеб проводил их взглядом, откинулся на спину и прикрыл глаза…
Он встретил это стадо три недели назад. Первую неделю после того путешествия к кораблю Глеб не отходил далеко от места падения «Громовой птицы», время от времени возвращаясь на островок, ныряя к камере и млея от мысли, что через каких-то пару месяцев он усядется в знакомое пилотское кресло, положит руки на контактные пластины и… распростится с этим роскошным приключением у причалов родной Базы. Но потом спохватился. У него не так уж много времени, а он так бездарно его теряет. Исследованный район ограничивался окружностью радиусом километров в пятнадцать с центром в районе его берлоги, а конкретно — участком болота, в котором лежал корабль, и куском прилегающей местности. А с вершин самых высоких деревьев на горизонте в сизоватой дымке просматривались горы. Кроме того, на планете был и океан. Разумной жизни быть не должно. Искалеченный' пул исследовательских контуров корабля все-таки успел произвести измерения мощности М-поля почти в полутора миллионах точек поверхности и нигде не обнаружил даже зачатков разумной мыслительной деятельности. Поэтому, когда Глеб отправился в глубь окружающих болото лесов, он опасался только крупных хищников, которые здесь явно были. Хотя, видимо, в районе болот их было мало, но кое-какие обглоданные останки попадались.
Встреча произошла на шестой день пути. На закате, когда Глеб уже подыскивал себе место для ночлега, он вышел на открытую полянку и… замер, почувствовав опасность. Кто-то собирался на него напасть. В принципе это было не ново, за время своего путешествия позавтракать Глебом попыталась уже добрая дюжина различных представителей местного животного мира, причем на этот раз этот кто-то отнюдь не рассматривал его в качестве пищевого компонента. Он быстро вычислил количество и место расположения нападавших по векторам распространения местной напряженности АТ-поля и приготовился к отражению атаки, но… был просто ошарашен видом четырех голых мужиков, кинувшихся на него из густых зарослей. За что немедленно поплатился. Его тут же сбили с ног, пару раз заехали по голове пудовым кулаком, укусили за ляжку, а когда он почувствовал, что чернявый мужик с всклокоченной бородой намеревается попробовать остроту своих крепких желтоватых зубов на его шее, то понял, что еще немного, и столкновение современной земной цивилизации с доисторическим уровнем развития вот-вот может закончиться не в пользу первой. Впрочем, особых проблем не было. Через некоторое время Глеб стоял на ногах, а нападавшие, противно воя, расползались в разные стороны от него. Глеб просканировал окрестности по более широкому лучу и почувствовал, что в зарослях впереди еще кто-то есть. Он тут же резко оттолкнулся двумя ногами, перемахнул через кустарник и повис на толстой нижней ветке дерева, растущего у края поляны. Такой прыти от него не ожидали. Мгновение спустя толпа голых людей, среди которых были женщины, дети разных возрастов и несколько морщинистых стариков и старух, визжа и завывая рассыпалась по зарослям. Один из убегавших стариков вдруг рухнул на землю и судорожно задергался. Глеб спрыгнул с дерева, одним махом преодолел разделявшее их расстояние и, разглядев ужас в глазах старика, придавил ему сонную артерию, другой рукой нащупывая контактную точку. Старик потерял сознание. Глеб быстро вычислил у него инфаркт, нашел резонансную частоту и постарался, насколько это возможно за пару минут, прочистить и привести в порядок сердце и кровеносную систему.
Потом он еще раз вскарабкался на дерево. Осмотрел окрестности. Нападавшие на него мужики не успели далеко отковылять и собрались ошарашенной группой метрах в ста, у дальнего конца зарослей. Чуть поодаль виднелась и вновь собравшаяся толпа. Заметив его, они опять завопили и вновь рванули в сторону, но отбежав еще метров на сорок и увидя, что он висит на прежнем месте, остановились.
Глеб спрыгнул на землю, привел старика в сознание, поставил его на ноги и, повернув лицом к соплеменникам, чуть толкнул в спину. Старик сделал несколько шагов, воровато оглянулся на него, вжав голову в плечи, потом бросил взгляд на соплеменников и вдруг… рухнул на землю лицом к Глебу и распластался в униженном поклоне. Глеб попытался его поднять, но тот изо всех своих старческих сил цеплялся за пучки травы и жалобно поскуливал и подвывал. И когда Глеб в конце концов решил оставить его в покое, тот, повалявшись еще некоторое время, начал плашмя отползать к своим, все так же скуля.
Глеб до темноты бродил по зарослям, постоянно ощущая присутствие аборигенов и ломая голову над происшедшим. Откуда здесь люди? В принципе людских цивилизаций в Галактике, видимо, много. Только в Содружестве четырнадцать базовых цивилизаций. А ведь даже сотой части Галактики не исследовано. Но эти особи! По физическому облику полностью сформировавшийся человек. Прекрасное телосложение, современная нижняя челюсть, отстоящий большой палец, масса других признаков… Но образ жизни?! И никакого превышения мощности М-поля над фоном. Или контур уже ни черта не сек? Тоже не может быть. По всем параметрам сек, а по М-полю нет? Скорее уж было бы наоборот.
Постепенно стемнело. Глеб улегся в центре небольшой полянки и уснул. К утру нападение повторилось, но закончилось так же, как и первое, только еще более молниеносно. И с первыми лучами солнца все стадо повторило сцену, сыгранную стариком. Глеб даже ошалел, увидев три десятка взрослых и детей, завывая и скуля, ползущих к нему на пузе. Короче, он стал вожаком и вот уже почти месяц водил это стадо по лесам и болотам, защищая от нападения других, более крупных стад, которых в этом регионе оказалось еще два, и крупных хищников. А после того как он свалил огромного быка на шести ногах (их стада паслись на больших прогалинах и, видимо, в саванне, которая широким языком выхлестывала из-за гор, расположенных уже довольно близко, и с размаху врезалась в лес, рассыпалась на те самые прогалины, которые постепенно мельчали и превращались по мере углубления в лес в симпатичные полянки), его положение вожака стало абсолютно непререкаемым. Глеб позабыл о флоре, фауне, геологии и занимался только своим стадом. Он «прокачал» почти всех. Несоответствия прямо-таки кололи глаза: мозг — явно кроманьонского типа, а сознание — на уровне животных инстинктов. Костяк и ступни, явно рассчитанные на прямохождение, и обезьяноподобная привычка передвигаться с опорой на три-четыре конечности. Отлично развитый речевой аппарат и… всего два десятка используемых сигналов. У волков более разумная речь! И такое впечатление, что центры памяти отсутствуют либо (что казалось совсем уж непостижимым) заблокированы на очень высоком психоделическом уровне (ну кто станет применять столь тонкую и трудоемкую технологию в отношении стада особей, находящихся на первобытном уровне). Впрочем, они могли быть не заблокированы, а просто уничтожены. Глебу даже не хотелось думать о том, что кто-то оказался _ способен на такое варварство. Но некоторые признаки, особенно заметные у стариков, косвенно указывали на то, что подобное отнюдь не исключено. А кроме того, кое-что указывало на то, что, возможно, в мозгу запущены какие-то реверсивные цепи. Конечно, без приборов, одной био-мозговой локацией много не наработаешь, тем более это не его профиль, но дети! Как будто совершенно другой тип. Пушок на коже загустел и напоминает шерстку, явно меньшая голова и увеличенные надбровные дуги, да и мозг непропорционально малого размера. Причем чем моложе, тем явственнее изменения. Двух-трехлетние уже больше напоминали не людей, а этаких человекоподобных зверенышей. При естественной эволюции просто не может быть столь молниеносных изменений, тем более с обратным вектором…
Глеб сел и посмотрел на насытившееся стадо. В принципе все было ясно. Вернее, все было ясно уже неделю назад. Большей информации выжать было неоткуда, но Глеб всю эту неделю водил стадо по недоступным уголкам, вроде этого островка, усыпанного плодоносящими деревьями, полу-инстинктивно пытаясь отдалить миг расставания. Жалость к этим диким существам неожиданно оказалась слишком сильной, и к мысли о том, что надо идти дальше, неотвратимо примешивалось чувство вины за то, что они, за это время успевшие уже привыкнуть к его заботам, вновь остаются одни. «Черт возьми, — вдруг рассердился на себя Глеб, — а может, тебе вообще не возвращаться к кораблю, так и ходить здесь до конца дней своих с голым задом во главе стада». Он резко вскочил на ноги. Стадо насторожилось. Глеб оглядел лежащих, усилием воли подавил в себе новую вспышку жалости и решительно вступил на гать.
Он успел добраться до противоположного берега, когда стадо, уже привыкшее всюду следовать за своим вожаком, зашевелилось и, недовольно ворча, поползло в сторону уже слегка притопленных в болоте лесин. Глеб бросал на них прощальный взгляд и, взяв с места резкий старт, рванул вдоль края болота. Спустя пару минут его догнал тоскливо-умоляющий многоголосый вой. Стадо пыталось не отстать, но бежать таким темпом эти существа (после того как он покопался в их мозгах, у него как-то язык не поворачивался называть их людьми) не могли и отчаянно сигнализировали об этом своему вожаку, не понимая, что этот вожак навсегда исчез из их жизни…
Он бежал широким, размашистым шагом, ровно и быстро. Спустя десять минут, когда болотный берег сделал небольшой поворот, из виду исчезли фигурки самых упорных самцов из его стада, которые пытались-таки удержаться за ним и не отстать, а еще через час он удалился от стада настолько, что до его ушей перестал доноситься и их вой. Еще через пару часов прогалины наконец слились в одно широкое пространство, хотя еще и прерываемое кое-где небольшими рощицами и зарослями кустарников. Впереди высились горы. До них было еще километров сто — сто пятьдесят, но если двигаться таким же темпом (а причин снижать его Глеб пока не видел), то он доберется до них уже к вечеру.
На этих обширных открытых пространствах следовало опасаться крупных хищников, и он отрегулировал зону локации АТ-поля метров на семьдесят и переключил свои мозги на то, что занимало его последние двадцать дней. Загадка людей-животных мучила его все больше и больше. На планете совершенно точно не было городов и сколько-нибудь заметных зон сельскохозяйственных посадок. Конечно, искалеченные контуры корабля работали едва ли на три-четы-ре процента эффективности, но даже в этом случае они должны были засечь участки поверхности, модифицированные для использования в сельскохозяйственном обороте. Это означало, что общая численность человеческой популяции на планете едва ли превышала два-три миллиона человек. Большее число экономика, основанная в основном на охоте и собирательстве, ну и каких-то зачатках примитивного животноводства, прокормить вряд ли смогла. Впрочем, возможно, аборигены уже овладели и сельскохозяйственными технологиями, просто за то время, что прошло после случившейся с ними катастрофы (с тем, вызвано это естественными или искусственными причинами, он пока не определился), территории, ранее используемые для земледелия, вновь отвоевала себе дикая природа. Значит, первоначальный уровень развития — конец каменной эры — начало эры металлов. Чрезвычайно интересно. Все четырнадцать базовых цивилизаций Содружества удостоились, так сказать, «права контакта», только достигнув уровня, соответствующего где-то концу XX — началу XXI века на Земле. При том, что сами земляне впервые наткнулись на братьев по разуму в своем XXII веке. И из-за этого в лучших философских умах Содружества бродили очень противоречивые теории. А тут… Интересно, а может, тот неожиданный взрыв Сверхновой оказал на него и его «Громовую птицу» еще и некоторое другое влияние, о котором пока можно только догадываться? Уж больно сильно все произошедшее не укладывается в статистические ряды теории вероятности…
Спокойный, размеренный бег не мешал мыслям. Ноги сами вывели его на невысокий пригорок. Глеб на мгновение притормозил, намереваясь осмотреться, и тут резкий и сильный удар в спину опрокинул его на землю. Перекувырнувшись несколько раз, Глеб вскочил на ноги. В голове мутилось, но тело уже самостоятельно перешло в положение нижней стойки. Глеб быстро огляделся по сторонам, ища, кто или что опрокинуло его, но вокруг ничего не было. Голова кружилась все сильнее. Глеб почувствовал, что теряет сознание. «С чего бы это? Удар был не сильный, спина совершенно не болит». Но сознание мутнело все сильнее и сильнее. Глеб упал на колени, сразу же попытался снова встать, но вслед за головой отказали и ноги. Последней его мыслью было: «Видно, какой-то паралитический яд. Но откуда?.. Как глупо…»
4
Глеб, косолапо ступая, проворно волок поднос со стаканами, наполненными янтарным напитком, к столу, за которым сидели два десятка мужчин и женщин. Великоватые шорты хлопали по его сухим, мускулистым ляжкам. Глеб подбежал к столу и неуклюже шмякнул поднос на его поверхность, чуть не разлив содержимое. Сидевшие за столом разразились бурными аплодисментами и веселыми выкриками.
— Поздравляем, Йола!
— Сразу видно — это настоящая наследница.
— Конечно, любой мужчина за право есть у нее с руки готов надеть на себя ошейник…
Шутки, наверное, продолжались бы довольно долго. Но как только высокая стройная девушка поднялась из-за стола и даже не окинула взглядом, а будто обмахнула присутствующих опахалом своих ресниц, все тут же сбавили тон и, уже просто улыбаясь, принялись за еду. Девушка повернулась к Глебу и, взяв с тарелки несколько сладких ягод, скормила их Глебу, ласково поглаживая его по волосам. Тот изобразил на лице гримасу удовольствия, как раз в духе мимики местных аборигенов, и, довольно урча, с чавканьем сжевал угощение. Йола ласково обхватила его за плечи, развернула в сторону навеса и, сунув ему в руки миску с местными плодами, тихонечко подтолкнула в спину. Глеб косолапя подбежал к уже давно определенному для него месту и плюхнулся на землю. Сейчас можно было выйти из образа полуобезьяны, прирученной прекрасной дрессировщицей, и поразмышлять.
Месяц назад, когда его роскошный бег привлек внимание поисковой группы и его завалили выстрелом из парализатора и привезли сюда, в экспедиционный городок, Глеб сгоряча решил, что именно они и произвели такой чудовищный эксперимент над аборигенами. Впрочем, эти мысли появились (и рассеялись) несколько позднее. А первое, что он увидел, когда сознание вернулось к нему, были глаза. Огромные человеческие глаза темно-зеленого, прямо-таки малахитового цвета, обрамленные длинными густющими ресницами. Отчего они могли бы показаться кукольными, если бы не невероятное изящество, с которым матушка-природа отработала, создавая данный шедевр. Но главное было не в этом. Глаза были ОСМЫСЛЕННЫЕ! Потом возник лоб, тонкий, нервный нос, рельефно очерченные губы… и все это оказалось таким же совершенным. Глеб пару раз блямнул веками и совсем уже было собрался ляпнуть что-то романтически-восторженное, но тут до его ушей донеслись звуки какой-то неизвестной речи. Позднее он расшифровал сказанную фразу. Синхронизация понятий и звуков, доступная любому интеллекту выше третьего уровня (а на допуск для управления глоуб-кораблем имеет право претендовать интеллект не ниже двенадцатого уровня, причем претендовать совсем не значит получить, большинство пилотов имели квалификацию «прим», а у самого Глеба вообще был «поул»), дает возможность быстро обучиться понимать любой язык. А вот разговаривал он плохо до сих пор. Хотя почти каждый день уходил подальше в саванну и тренировался. На людях было нельзя, и так из него получалась слишком смышленая обезьяна. Конечно, эти люди не владели ни технологиями биоэнергетического обмена, ни даже механическими приемами интеллики (что вообще уж странно, примитивные заговоры бабки-ведуньи умели применять еще в седое средневековье), но за прошедшее время он успел совершить столько ляпов, что его разумность должна была прямо-таки бросаться в глаза. Впрочем, скорее всего его спасало то, что эти ребята также сумели понять, что возвращение аборигенов этой планеты к животному уровню — результат какого-то внешнего вмешательства. А в этом случае вполне возможны отдельные рецидивы. В общем, пока у него все получалось. Но в тот первый день…
— Действительно, Йола, необычный экземпляр, — произнес голос. Глеб скосил глаза. Голос принадлежал мужчине возрастом между тридцатью и восьмьюдесятью (по земным меркам), одетому в ярко-зеленый комбинезон необычного покроя. — Полтора часа, а он уже очнулся. Другие приходили в себя не менее суток. Я бы советовал тебе отойти. Он может быть агрессивен.
Глеб вернул взгляд на девушку, стоявшую рядом с ним на коленях. В голове у него уже прояснилось и он воспринимал все ясно и четко.
— Да, Аек, он мне сразу понравился, — раздался звонкий и чистый голос девушки, — он двигался так грациозно, что я… мне показалось, что такое существо не может быть столь же ущербным, как все остальные. И сейчас, посмотри, у него такой осмысленный взгляд, мне кажется, что он нас понимает.
Глеб осознал, что разговор (который он в тот момент не понимал, но который запомнил до последнего звука) идет о нем, и чисто инстинктивно состроил тупую рожу, каковые постоянно пребывали на лицах у мужчин «его» стада. Мужчина весело рассмеялся.
— Чепуха, Йола, посмотри на выражение его морды — такое же животное, как и все. Пойдем, пора ужинать, а то наши мужчины подумают, что твое неприступное сердце наконец-то пало перед этой обезьяной, — и, увидев, как Йола нахмурилась, поспешно продолжил: — Молчу, молчу.
Девушка гибким движением вскочила на ноги и повернулась к мужчине. Глеб украдкой огляделся. Он лежал у дальней стены огороженного вольера. Вольер окружал забор высотой метров пять, верхняя часть которого была тщательно запутана колючей лианой. Кроме того, над забором на высоте пары ладоней был протянут тонкий блестящий провод. По углам вольера жалось к стенам десятка полтора аборигенов, в основном мужчин.
— Нельзя так относиться к тем, кому пытаешься помочь, — резко сказала она и пошла к небольшой калитке, проделанной в стене и забранной густой решеткой.
— А я и не пытаюсь никому помочь, — возразил Аек, следуя за ней, — я просто исследую факты, формулирую на их основе гипотезы и устанавливаю их истинность или отрицаю ее. Прости меня, Йола, но мы здесь кто угодно, но только не спасательная команда для целой цивилизации. Пусть и крайне примитивной, но все же цивилизации. Нас для этого пока слишком мало, и мы не можем ничего, кроме как только накапливать информацию.
— Нет, Аек, мы как представители высшей цивилизации обязаны хотя бы попытаться помочь этим несчастным, ты же сам доказал, что их животное состояние искусственно…
Этот спор, как потом, расшифровав и проанализировав разговор, понял Глеб, велся в экспедиции уже черт знает сколько времени, и конца и края ему видно не было. А в тот момент, уже выйдя за калитку, Йола вдруг оборвала свою речь, повернулась и посмотрела на Глеба, а потом тихо произнесла:
— Может быть, он поможет мне разгадать эту тайну…
Всю следующую неделю Глеба исследовали на каких-то приборах, цепляли на него присоски, датчики, кучу разных контактов. Все эти контакты, провода, экраны на жидких кристаллах вызывали у Глеба снисходительную усмешку. Он просто перекачивал на приборы М-параметры одного из мужиков, содержащихся в вольере, и по. всем показателям соответствовал среднему аборигену. Тем более что само М-поле они еще сечь не умели. Глеб, конечно, тоже не терял времени даром и основательно разбирался в происходящем. Его предположение о том, что эти люди имеют некое негативное отношение к происходящему, рассеялось на второй день. Как только он более или менее разобрался с языком. А через неделю он знал о них почти все. Во-первых, они тоже были с другой планеты. Она называлась Эотения, и на ней тоже жили люди. Причем Глеб был даже несколько ошарашен, насколько они были похожи на землян. Даже не внешне, нет. Все людские цивилизации очень близки физически. Даже смешанные браки существуют. Здесь было другое. Способы выражения чувств, жесты, привычки и т. п. На самой Земле лет триста — четыреста назад было больше различий, чем у современных землян с нынешними эотенийцами. Ну прямо близнецы какие-то. Конечно, различия были, и существенные. Все-таки и уровень технологического развития, и история разнились, и довольно сильно. Но общего у землян и эотенийцев (во всяком случае, по субъективным ощущениям Глеба) чувствовалось гораздо больше, чем было у землян с любой другой базовой цивилизации Содружества. Во-вторых, это была вторая экспедиция. Первая, побывавшая здесь лет семь назад, обнаружила этих полуживотных и была потрясена. В первую очередь, конечно, тем, что еще где-то во Вселенной есть люди. Хотя бы и в животном состоянии. Судя по всему, на Эотении это открытие произвело фурор. «Как, впрочем, и на Земле четыреста лет назад, — усмехнулся про себя Глеб, — впрочем, мы-то встретили уже достаточно развитую цивилизацию, уже исследующую свою планетную систему» (кстати, тот факт, что в одном и том же рукаве Галактики вдруг обнаружилась чертова туча. людских цивилизаций, да еще находящихся на очень близких витках развития, вновь породил массу теорий об искусственном происхождении человека). Но сам факт: «Люди! Нас много!»
Эта экспедиция сидела на месте первой уже два месяца. И в отличие от первой занималась в основном аборигенами. Через полгода должны были подойти еще два корабля. Потом еще… сколько успеют построить и отправить. Глеб, узнав об этих обширных планах, даже застонал: «О боже! Такое нашествие на эту бедную планету. Причем четко видят, что где-то рядом, в головах этих аборигенов разум гуляет.
Что за методы?» Впрочем, и этим они очень напоминали землян на заре звездных полетов. Ну что ты будешь делать?
За столом задвигались — начали вставать. Трапеза окончилась.
— Лан!
Глеб проворно вскочил на ноги и кинулся к Йоле. Это она дала ему такую кличку. Йола ласково потрепала его за аккуратно подстриженную бородку и пристегнула кожаный ремешок к широкому мягкому ошейнику, довольно свободно болтающемуся на его шее. Аек все время ворчал, что для столь здорового зверя надо бы придумать какой-нибудь самозатягивающийся или там ошипованный строгий, но Йола решительно пресекала все его поползновения. Она занялась его дрессировкой две недели назад, когда после всех доступных им исследований ими был установлен факт, что он такой же абориген, как и все остальные. Сначала Глеб обрадовался этому, как возможности получить большую свободу действий. Хотя слинять можно было давно. Забор вокруг вольера он перемахнул бы шутя. Но такой солидной возможности изучения внутренних взаимоотношений будущих, как он предполагал, членов Содружества вряд ли кому представилось. Да и сама ситуация казалась ему настолько оригинальной, что отказываться от своего положения он не собирался. Короче, сначала на поверхности присутствовали чисто прагматические рассуждения. Но через некоторое время Глеб вынужден был признаться себе, что все это чепуха, а главное в том, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поддается дрессировке. То ли первое впечатление от огромных глаз Йолы оказалось слишком сильным, то ли еще что, но он вдруг осознал, что буквально млеет от каждого ее ласкового взгляда или прикосновения. Вообще-то, несмотря на довольно длительный период большой популярности (ну еще бы, какая женщина не попытается захомутать или хотя бы не затащить в постель не просто глоуб-пилота, а чемпиона Содружества по А-рал-ли, героя Тронгреймского конфликта и… просто широкоплечего красавца со стальным взором), он был крайне неуклюж в отношениях с противоположным полом. Он так и не понял ни того, почему Марион, сразу после появления на-Базе получившая тут же ставший вполне официальным и признанным всеми титул «Королевы космоса», обратила на него свое благосклонное внимание. Причем настолько, что после двух месяцев отношений, которые он считал скорее приятельскими, сама перенесла свои вещи в его жилой блок. Ни того, почему через два года она, так же решительно, собрала свои пожитки и исчезла из его жизни (напоследок, правда, грохнув об пол его любимую богемскую глиняную пивную кружку). А он только вроде бы начал к ней привязываться и, как ему казалось, даже где-то понимать ее… Так что его отношения с женщинами скорее напоминали отношения проводника по каменной осыпи. По которой тот ходил уже сотни раз, и каждый камешек как бы известен, но все равно каждую минуту ждешь подвоха. Но тут было нечто другое. Йола была уникальным существом. Если остальные эотенийцы, по его ощущениям, сильно напоминали землян, то никого, подобного Йоле, он еще не встречал. Во-первых, у нее была М-аура уникальной для взрослого человека чистоты. К тому же уже на второй день Глеб поймал себя на том, что начинает ее не только понимать, но и чувствовать. Ощущать ее реакции, ее отношение. Не просчитывать, а именно ощущать и… реагировать — радоваться, сердиться вместе с ней, иногда даже не осознавая, что именно является причиной этого чувства. Язык эотенийцев он выучил практически мгновенно. И именно потому, что Йола оказалась раскрыта для него так, как никто и никогда до этого. И все, буквально все в ней притягивало его с такой силой, что он прямо растерялся. Но противиться этому сил тоже не было. Конечно, сейчас она смотрела на него скорее как на любимую кошечку или забавного щенка, но он был согласен и на это. Впрочем, как он мстительно заметил, на это были согласны и все остальные мужчины экспедиции, несмотря на присутствие еще четырех очаровательных девушек. Которые, впрочем, отнюдь не были ошарашены подобной реакцией, а тоже относились к Йоле с некоторой долей восторженного почитания. Так что Глеб, несмотря на свое положение домашнего, вернее, одомашненного животного, в последнее время стал ловить на себе довольно ревнивые взгляды. Особенно со стороны Аека.
Они подошли к небольшому транспортеру. В нем уже сидели четверо мужчин и девушка. Йола ловко перескочила через борт и опустилась на сиденье. Глеб устроился на небольшом наружном багажнике.
— Опять ты берешь с собой эту свою обезьяну, — недовольно проворчал Аек, сидевший на месте водителя.
— Ты что, ревнуешь, Аек? — ехидно поддел его Обара, веселый хохотун средних лет.
— Не говори ерунды, — огрызнулся тот, трогая с места.
— Лан отлично чувствует опасность, — заступилась за него Нояна, — позавчера он первым заметил быкобоя, притаившегося в траве. Природное чутье!
«Ох, милая, — подумал Глеб, трясясь на багажнике, — насчет опасности это ты верно заметила, но знала бы ты, что чутье тут ни при чем».
Позавчера он действительно очень красиво провел схватку с быкобоем, здоровенным хищником килограммов на триста живого веса (как раз под стать здешним быкам, достигавшим двух тонн массы и двух с лишним метров в холке). Он засек его метров за семьдесят. Пока зверюга готовился к прыжку, Глеб успел вычислить пару нервных узлов. И когда животное прыгнуло, Глеб, как стрела, сиганул ему навстречу, сбил его с траектории, на лету врезав по нервным узлам, а когда они оба рухнули на землю (полупарализованный быкобой и «обезьяна» Лан), он картинно впился в ухо хищнику и пару секунд трепал его, пока Аек не всадил в животное заряд из парализатора. Так что о его хитрых ударах никто и не догадался.
Транспортер въехал на пригорок и остановился. Глеб оторвался от воспоминаний, торопливо просканировал окрестность и… насторожился. В принципе все было в норме, напряженность АТ-поля и распределение по векторам вполне соответствовали бурной и дикой жизни местной саванны, но… где-то у висков и в лобных долях появилась какая-то странная тремоляция. Как будто где-то далеко, за пределами его чувствительности накапливалась какая-то угроза. Глеб сморщился. Эта гримаса была очень похожа на принюхивание, но на этот раз он не играл, при таком рисунке сокращений лицевых мышц кровоснабжение лобных и височных долей мозга резко возрастало, и это могло добавить еще пять — семь процентов чувствительности, но… ничего так и не засек.
Йола тут же заметила его настороженность. Она живо повернулась к нему и стала поглаживать его по щеке, приговаривая, будто занервничавшей собаке: «Хороший, хороший». Глеб отмяк, но беспокойство не проходило. Приехавшие разгружали приборы из транспортера. Аек, ворочая ящиками, ревниво поглядывал в их сторону, но молчал. Вчера он попытался было высказаться по поводу того, что столь здоровую «обезьяну» стоило бы выдрессировать для перетаскивания грузов, но Йола так на него взъелась…
Наконец Йола набросила поводок на ограждения транспортера, Затянула тугим узлом и соскочила с транспортера. Глеб дернулся было, но сел. Обезьяна узлы развязывать не умеет. Йола подошла к группе, обвешанной приборами, взяла у Аека свою долю, и все стали спускаться вниз по склону. Глебу ничего не оставалось, как поудобнее усесться на багажнике и уставиться им вслед. У самого подножия Йола оглянулась и махнула рукой. У Глеба трепыхнулось сердце, и ему сразу стало так хорошо, что все его тревоги показались ему глупыми наваждениями.
Они отошли больше, чем на полкилометра, когда Глеб вскочил на ноги от сильного всплеска напряженности АТ-поля. Локация по-прежнему не давала никакой опасности, но… его расширенные ноздри (он снова сморщился в своей специфической гримасе) явственно ощущали запах тревоги, как будто она была разлита в окружающем воздухе. Глеб нервно ощупал горизонт сузившимися от возбуждения зрачками. Он вдруг понял, что им надо немедленно возвращаться. Глеб дернулся, лихорадочно пытаясь найти выход и, так ничего и не придумав, заорал. Йола и остальные в этот момент как раз подходили к полосе высокой, почти в рост человека, и густой травы. Услышав его вопль, Йола затормозила и обернулась. И вдруг в этот момент где-то в глубине травы раздался рык быкобоя, потом еще и еще. И трава ожила. Огромное стадо шестиногих быков, голов в четыреста, разом встало в траве, перекрыв половину горизонта, и всей массой рвануло прямо на маленькую группку людей. Все оцепенели. Первым опомнился Аек. Он завопил, швырнул приборы на землю и, схватив за шиворот Йолу и Нояну, двух женщин, входивших в состав этой команды, рванул в обратную сторону, таща их за собой. За ним рванули мужчины. Но шестиногие гиганты стремительно набирали скорость.
Когда Глеб опомнился, то осознал, что стоит в мчащемся навстречу людям транспортере, упираясь коленом в джойстик управления, и с обеих рук бьет из парализаторов, столь легкомысленно оставленных эотенийцами в транспортере. Стадо уже нагнало удирающих, но Глеб пока успевал укладывать тех гигантов, под копытами которых должны были оказаться люди. Однако зарядов в парализаторах оставалось все меньше и меньше. Притирмозив рядом с людьми, он лихо, на двух колесах, развернул транспортер и, на мгновение перехватив парализатор, который был в правой руке, под мышку, рывком втянул внутрь задыхающегося Аека вместе с девчонками и шмякнул его на водительское место. Остальные уже подбегали. Парализатор в левой руке последний раз отчаянно пыхнул и тоненько зазвенел, показывая, что заряд кончился. Глеб двумя выстрелами из правого завалил еще двух здоровенных самцов, и в этот момент последние из людей наконец добежали до транспортера и, хрипло дыша, перевалились через бортик. Аек топнул по газам, и транспортер буквально выпрыгнул из-под нависшей морды очередного гиганта, уже почти наступившего на транспортер своим передним копытом размером с Глебову голову. Несколько секунд, пока груженый транспортер набирал скорость, все сидели, оцепенело замерев, даже не уворачиваясь от шлепков желтой слюны самца, здоровенными шматками летевшей в спину, и ожидая, что вот-вот это величественное чудо животного мира этой планеты настигнет-таки их утлое средство передвижения. Но транспортер, натужно воя двигателем, постепенно отвоевывал у быка сантиметр за сантиметром. Спустя минуту стало ясно, что если никто из бегущих рядом животных, чьи бока возвышались по сторонам, как крепостные стены, не вильнет в сторону, то они выкрутятся из этой невероятной ситуации, и все немного ожили. Йола резко развернулась к Глебу, обдала его изумленным и каким-то жарко-восторженным взглядом, но сказать ничего не успела. Впереди раздался такой же, как и несколько минут назад, многоголосый рык быкобоев, и тут же слева, проломив такую же стену травы, навстречу и немного под углом вынеслось новое стадо. Еще больше первого. Горестно вскрикнула Нояна. Мужчины окаменели. В том коловороте, который должен был образоваться на месте столкновения двух стад, не смогли бы остаться целыми даже скалы. Глеб сжал зубы и, резко вскочив на ноги, раскинул руки в стороны. Черт, так долго корчил из себя обезьяну, а теперь приходилось открываться сразу и полностью.
— Ну маленький, — процедил он, резко, с мгновенно отдавшейся в висках головной болью, запуская НТ-ритм собственного М-излучения, — поскрипим.
Стадо, окружавшее транспортер, прянуло в сторону. Набегавшая волна животных остановилась, будто натолкнувшись на невидимую стену. Животные тормозили одновременно и в первых, и в последних рядах. Спустя несколько мгновений раздался оглушающий трубный рев сотен и сотен глоток, огромные самцы вставали на дыбы, пятились, некоторые, отпрянув, падали на колени, а затем, надсадно ревя и мотая головой, валились набок, отчего земля вздрагивала, как при землетрясении. С Глеба ручьями тек пот, головная боль тягучей волной затопила виски и затылок, но он гнал и гнал вокруг себя волны дикого ужаса. Люди, сидевшие в транспортере, повалились на пол или сползли по борту на землю, стискивая руками раскалывающиеся головы и судорожно глотая воздух, ставший для них вдруг слишком плотным, и только Аек сохранил сидячее положение, но он сидел, вцепившись в переднюю панель и громко икая. Когда земля задрожала от грохота мчащихся в разные стороны животных, у которых этот наведенный ужас уничтожил прочнейший из инстинктов — стадный, заставив каждое животное спасаться в одиночку, Глеб позволил себе снизить амплитуду и мощность пульсации и, опустив руки, обессиленно рухнул на лавку.
Спустя несколько минут люди начали оживать. Аек прекратил икать, повернулся к Глебу и воткнул в него злобно-настороженный взгляд. Во взглядах остальных тоже сквозили испуг и тревога. Глеб стиснул зубы, отчего в висках отдалось резкой болью (НТ-пульсация такой мощности НИКОГДА не проходит бесследно), и устало привалился к бортику транспортера. Вот черт, все одно к одному. Он предполагал, что его игры в ручную обезьянку рано или поздно плохо кончатся, но вот так… одним махом из ручного животного в полубоги… более мерзкой ситуации представить себе было трудно. На него вдруг навалилась страшная усталость. Глеб покосился в сторону Йолы, в неосознанной надежде получить хоть какую-то поддержку, но девушка сидела, наклонив голову и осторожно массируя себе виски. Ее лицо было скрыто толстым пологом рассыпавшихся волос. А вот взгляд Нояны был откровенно паническим. Глеб задрал лицо, чтобы не видеть этих испуганных глаз, и, перекинув ноги через бортик транспортера, выбрался наружу.
Он остановился в двухстах метрах от транспортера и тяжело опустился на землю. Несколько минут Глеб просто лежал, пялясь на траву, втоптанную в землю чудовищными копытами, а затем перевернулся на спину и уставился в небо. Голова была пустой и звонкой. Боль от НТ-пульсации ушла, остались только какие-то отголоски и… горечь от того, что все произошло именно так. Люди очень редко прощают обман, особенно такой, который выставляет их не в лучшем свете (даже если им это только кажется). А здесь произошло именно так, и как только все они отойдут от шока, то сразу же примутся вспоминать все, что говорили и делали, и, естественно, обязательно найдут в своих поступках, совершенных тогда, когда вокруг все вроде как были свои, что-то, что, по их мнению, не делает им чести. И их охватит стыд, а избавиться от этого стыда проще всего, если убедить себя, что во всем виноват именно он, чужак, так ловко притворившийся обезьяной. И Йола тоже. Так что… все было кончено. Господи, ну надо же было так облажаться! Вроде и диплом психолога имеется среди толстой пачки всяких других, а стоило впервые в жизни встретить существо, которое зажгло в тебе что-то серьезное, как… все рухнуло. Причем вина стопроцентно своя собственная. Тут его самобичевание было прервано ощущением того, что рядом кто-то стоит. Глеб приподнял голову и посмотрел на подошедшего. В двух шагах от него стояла Йола, а чуть дальше маячил неизменный Аек с парализатором в руках. Секунду они с Йолой смотрели друг на друга, потом она сделала шаг вперед, опустилась на колени и спросила:
— Кто ты?
Глеб несколько мгновений плавал в ее огромных глазах, в которых отчего-то не оказалось ни стыда, ни испуга, потом опомнился и потряс головой, как бы стряхивая наваждение, и робко улыбнулся. У Йолы во взгляде появилось то же восторженное выражение, что он уловил тогда, подлетев к ним на транспортере (и, черт возьми опять никаких признаков стыда или испуга), и Глеб, чувствуя, что вновь начинает растворяться в ее глазах, поймал пальцами обрывок поводка и, осторожно вложив его в ее горячую ладошку, поднялся на ноги.
— Пошли, приедем в лагерь — расскажу.
5
Глеб поймал себя на мысли о том, что его состояние точно соответствует идиоме «пребывал на вершине блаженства». Они расположились на вершине крутого холма, одиноким прыщом торчащего в полукилометре от исследовательского лагеря эотенийцев, голова его покоилась на коленях у Йолы, ее прохладная ладонь лежала у него на лбу, а чистый звонкий голос рассказывал об Эотении. Вокруг была саванна, небо и больше ничего.
Уже почти неделю Глеб жил в экспедиции как землянин. Первые три дня к нему относились настороженно, а Аек — так даже враждебно. Но по мере того как Глеб раскрывался все больше и больше, настороженность уступала место восторженному интересу. Во Вселенной есть еще люди! И их много! И они умеют много того, что пока не умеем мы!!! И они готовы нас этому научить!!! Вау!!! Только у Аека осталась неприязнь, но Глеб подозревал, что ее причиной была не настороженность или недоверие, а несколько другое чувство. И, судя по всему, такие подозрения были не у него одного. Поэтому последователей у Аека не было. Вообще эотенийцы были настолько откровенны и непосредственны в чувствах, что Глеб сначала просто поражался. А затем предположил, что все дело в том, что их цивилизация прошла намного более легким путем, чем земная. Эотении не пришлось, как Земле, да и почти всем остальным планетам Содружества, прежде чем стать гуманистически ориентированным обществом, идти долгой дорогой крови и ненависти. У них даже не было глобальных войн. Возможно, оттого, что на всем протяжении своего развития доминантной формой организации их общества была та или иная форма матриархата. И столь подчеркнутое преклонение перед Йолой как раз и было вызвано тем, что она была дочерью той, которая сейчас исполняла функции главы планеты. Впрочем, все это имело и другую сторону. Страшно было бы подумать, что случилось бы, если бы первыми, на кого наткнулись эотенийцы, был бы Форгот…
Йола взяла его голову обеими руками и повернула лицом к себе.
— Ты меня совсем не слушаешь.
— Неправда, слушаю.
— Ну я же вижу.
Глеб улыбнулся.
— Хочешь, повторю все, что ты мне рассказала. Причем дословно.
Йола нахмурилась, но, увидя его хитрый взгляд, не выдержала и, рассмеявшись, прижала его голову к своей груди (отчего у Глеба все поплыло перед глазами).
— Никак не могу привыкнуть к этим твоим способностям.
Глеб счастливо вздохнул и, млея, проблеял:
— Ну и ничего особенного. Способности как способности.
Йола, дурачась, спихнула его голову с колен и, гибким движением вскочив на ноги, припустилась вниз по склону холма. Глеб одним движением взлетел с земли и ринулся вслед за ней. В голове метались обрывки мыслей, как будто внутри черепа сидел какой-то ненормальный и восторженно орал: «Здорово! Ну влип! Втюрился! Ну дает!»
У подножия Йола, запыхавшись, остановилась. Глеб обнял ее за плечи, она прижалась к нему и замерла.
— Знаешь, я давно хотел тебя спросить… — Глеб запнулся, не зная, как продолжить, но Йола пришла ему на помощь.
— О чем?
— Почему Аек ведет себя так… как будто он имеет на тебя какие-то права.
Йола улыбнулась.
— А он действительно имеет.
— ?!
Йола потерлась носом о его грудь.
— Понимаешь, моя мать, она самая старшая правительница нашей планеты. А я ее наследница…
Глеб недоуменно моргнул.
— Но у вас же правительниц… избирают.
Йола кивнула.
— Да, конечно. Но круг тех, из кого избирают, довольно узок. Около трех тысяч семей. Причем подавляющее большинство там только числится. Это очень почетно — быть среди семей, из которых может быть избрана правительница. Так что иногда, очень редко, в число этих семей включаются роды из тех, кто на протяжении многих поколений служил на благо нашему миру и достиг впечатляющих успехов. Но приоритет всегда имеют наиболее чистые линии. А таких всего немногим более трех десятков. Например, все мои предки по женской линии обязательно стояли во главе планеты. Кто несколько лет, а кто и целые десятилетия. Часто их сменяли правительницы из других семей, но наша семья была у власти дольше, чем все остальные. Поэтому ни у кого не вызывало сомнений, что я тоже когда-нибудь стану наследницей своей матери, — Йола задумчиво улыбнулась, — конечно, вряд ли я сменю именно свою мать. К тому моменту, как она отойдет от дел, я еще буду не слишком опытна, но потом…
Глеб стоял как громом пораженный. Вот тебе и на. Черт, а он-то считал, что она просто дочь кого-то вроде одного из Сенаторов Содружества или Президента планеты. То есть просто девушка из высокопоставленной семьи.
— А… при чем здесь Аек?
Йола улыбнулась.
— Понимаешь, мне ведь тоже надо родить дочь, способную принять на себя семейное бремя. И Аек был выбран.
— Кем?
— Многими. Советом, матерью, мной…
Глеб сглотнул и стиснул зубы. Йола рассмеялась.
— Вот глупый. Я же тогда не знала, что встречу тебя.
Глеб с шумом выпустил воздух между зубов, а потом осторожно поинтересовался:
— А… мать? Она разрешит тебе?
Йола покачала головой и, гибко изогнувшись, развернулась в кольце его рук и, запрокинув голову, уперлась затылком в его подбородок.
— Знаешь, временами я совершенно забываю, что ты не эотениец и не знаешь того, что у нас известно любому ребенку. Я, как любая дочь-наследница, САМА выбираю себе пару. Матери и Совет подбирают кандидатов. По многим параметрам. Кандидаты проходят огромное количество тестов. Но максимум, что разрешается им после утверждения Советом, — это всего лишь более тесное общение с нами. А решение принимаем мы сами. И в истории известно немало случаев, когда супругом дочери-наследницы и отцом ее детей становились совершенно не те, кто был одобрен Советом в качестве кандидата. Любовь — это не только и даже не столько эмоции. Когда ты встречаешься с человеком, ты обмениваешься с ним не только словами и улыбками, но и многим другим — гормонами, фитоницидами, твои М- и иные поля входят во взаимодействие с его полями. Наше тело — довольно тонкий инструмент, и оно способно настраиваться на другого человека намного точнее, чем многие могут себе представить. А без такой настройки очень трудно получить здоровое и развитое потомство. Так что чем сильнее чувство, именуемое любовью, тем по большему числу параметров подходит тебе в партнеры тот, кто рядом с тобой. — Она сделал паузу, погладила Глеба по щеке и продолжила: — Конечно, чаще всего для того, чтобы появилась тяга друг к другу, должно пройти некоторое время. А затем нередко случается так, что ПОТОМ любовь уходит. Мы меняемся, и тот, кто еще не так давно казался нам идеальной парой, становится другим, возможно, совсем чужим. И остается в лучшем случае просто дружба либо пустота или даже ненависть. Но потомство все равно будет здоровым и способным. А это главное. — Она сделала паузу, потерлась щекой о его руку и продолжила: — Конечно, иногда случается чудо. Появляется ОН. Человек, к которому тебя бросает, на которого не нужно настраиваться, потому что это ОН, тот, который только твой. И каждая из нас втайне мечтает об этом, но… мы слишком разумны и прагматичны, и на нас долг перед семьей. Так что, несмотря на все свои детские мечты, мы чаще всего подчиняемся выбору матерей и Совета и избираем себе партнера из числа кандидатов. — Йола на мгновение замолчала, а затем ее голос слегка изменился. — Я общалась с Аеком почти два года, прежде чем поняла, что он станет наиболее подходящим отцом моих детей из тех, кто меня окружает. И это было действительно так. Скорее всего наше партнерство не продлилось бы долго и после рождения детей я отдалила бы его от себя, но он был бы хорошим отцом моих детей. Но когда я увидела тебя… — Йола резко развернулась и резанула Глеба гневным взглядом. — О господи, сколько боли ты мне принес. Я считала себя неполноценной от того, что меня так сильно потянуло к столь недоразвитому существу. Я искала в тебе хоть что-то, объяснявшее эту тягу и… не находила. Но я верила, вернее, пыталась не потерять веру… — Тут она оборвала себя и уткнулась лбом в его грудь. Глеб стоял замерев. Черт, как, все становится сложно, когда в дело оказывается вмешана женщина. Но он точно знал, что от этой женщины не откажется ни за какие богатства Космоса.
Потом они, обнявшись, шли по высокой траве к видневшимся на горизонте строениям лагеря экспедиции.
Они подошли уже почти вплотную, когда из крутой лощины, отделявшей лагерь от саванны, вылетел транспортер, в котором сидели Аек и Нояна. Заметив их, Нояна закричала:
— Глеб, с орбиты передали, что видят приближающиеся неопознанные объекты. Те передвигаются со слишком большими для естественных объектов скоростями, четко держат строй и, судя по всему, являются искусственными. Это, наверное, твои земляки.
Глеб мягко кивнул и, с явным неудовольствием разомкнув оправу своих рук, обрамлявших его главную драгоценность, рванул напрямик, за пару прыжков достигнув противоположного, почти отвесного склона лощины. Спустя минуту он был уже наверху. Аек развернул транспортер, бросил раздраженный взгляд в сторону уже исчезнувшего в проеме люка посадочного модуля землянина и буркнул:
— Вот обезьяна.
Нояна бросила встревоженный взгляд на Йолу, но та не обратила на выпад Аека никакого внимания, напряженно всматриваясь все в ту же сторону, как будто могла разглядеть или услышать то, что сейчас происходило внутри посадочного модуля. Впрочем, может, и могла. Кто его знает, на что способны дочери-наследницы? Ведь вопреки всем полученным объективными исследованиями данным, разглядела же она что-то необычное в этом так ловко притворявшемся обезьяной инопланетнике.
В рубке связи царило радостное оживление. Капитан транспортника, с которого и засекли приближающиеся объекты, выглядел настоящим именинником. По рассказам Глеба, тут уже довольно сносно представляли себе, что такое Содружество, так что все жили предвкушением скорой встречи. Конечно, вряд ли кто из миров Содружества был бы столь доверчив к рассказам столь подозрительного одиночки, но путь эотенийцев наложил свой отпечаток, и Глебу верили безоговорочно.
Глеб ворвался в рубку, сопровождаемый радостными возгласами, улыбками, и, подскочив к экрану, хрипло выдохнул:
— Покажите картинку.
Все затихли, недоуменно оглядываясь и не понимая, почему в голосе этого симпатичного землянина отчетливо звучит тревога. Через несколько мгновений на экране вспыхнул четкий рисунок, напоминающий нарисованную пунктиром семиконечную звезду неправильной формы. Глеб с минуту напряженно всматривался в экран, пытаясь отыскать признаки ошибки и все еще не позволяя себе поверить в то, что он видел и чего так испугался. Но на экране четко горел походный ордер штурмовой эскадры Форгота.
— Так, — сумрачно сказал Глеб (его голос в полной тишине прозвучал особенно зловеще) и на секунду запнулся. — Капитан.
Картинка исчезла, уступая место встревоженному лицу капитана.
— Немедленно уходите. Куда угодно. На Эотению, к черту, к дьяволу… И как можно быстрее.
— Но…
— У вас нет времени ни на какие вопросы. — Глеб обернулся к окружающим. — Мы тоже уходим. Немедленно. Взять только запас продуктов. Через полчаса все собираются у крайних строений лагеря, — и, обернувшись к экрану, добавил: — Капитан! Вам дорога каждая секунда.
— А почему мы должны тебе верить, землянин?
Аек стоял у входа в рубку, опершись спиной о стену и скрестив руки на груди. Все обернулись к нему.
— Что ты хочешь этим сказать, Аек? — воскликнула Йола.
— Оставь, Йола. — Аек отделился от стены. — Ты… я знаю тебя намного лучше, чем любой из нас, и я ВИЖУ, что эта обезьяна так возбудила твои гормоны, что ты не замечаешь очевидного.
Все ошарашенно замерли, а потом вокруг Аека образовалась пустота. По-видимому, сказать такое о Йоле было чем-то из ряда вон выходящим. Но Аека уже понесло. Он подошел вплотную к Глебу и смерил его враждебным взглядом.
— Вот уже неделю слушаем твои красивые сказочки о счастливом Содружестве цивилизаций, и вдруг стоит только появиться первым посланникам этого Содружества, как ты предлагаешь дать тягу! Как это понимать? Объясни.
Глеб обвел глазами присутствующих. Вокруг Аека по-прежнему была пустота, но в обращенных на Глеба взглядах читался вопрос. Что и говорить, слова Аека звучали очень разумно. Глеб внутренне усмехнулся. Ой боже, в эотенийцах проснулось недоверие. Ну что ж, все стало возвращаться на круги своя. Но все дело в том, что к такой жизни Глеб был гораздо привычнее присутствующих.
— Что ж, — Глеб усмехнулся, — упрек справедлив. Но у нас нет ни минуты на объяснения и уговоры. Могу только сказать, что эти корабли не имеют к Содружеству никакого отношения и… что теперь я точно знаю, кто именно поработал на этой планетке. Остальное обещаю объяснить на первом же привале. А сейчас тех, кто мне все-таки сможет поверить, я прошу подойти и встать рядом со мной.
После его слов наступила тишина. Все обдумывали сказанное. Спустя полминуты Йола, бросив гневный взгляд на Аека, подошла к Глебу и, взяв его за руку, стиснула ему ладонь. Это сразу же развернуло ситуацию. Следом за Йолой к Глебу подошла Нояна, потом Обара и другие. Наконец Аек остался один. Глеб смерил его взглядом.
— Похоже, тебе придется идти с нами, Аек.
Тот упрямо мотнул головой.
— Я тебе не верю. Поэтому я хочу дождаться этих, — Аек ткнул пальцем вверх, — и послушать ИХ рассказы. Может быть, они расскажут что-то другое.
Глеб качнул головой.
— Они не будут ничего тебе рассказывать. Они вообще не будут с тобой разговаривать, а просто убьют тебя и всех, кого сумеют отыскать.
Аек набычился и снова упрямо произнес:
— Я не верю тебе.
Йола гневно вскинула голову и качнулась вперед, собираясь что-то сказать, но Глеб вскинул руку, давая понять, что сейчас говорит он.
— Что ж, это твое право. Но если я все-таки не вру, то ты не успеешь даже понять, что произошло, как превратишься в пыль. — Он сделал паузу и, усмехнувшись, добавил: — К тому же, если я все-таки именно вру, неужели ты оставишь их всех со мной наедине, без твоего скептического и недоверчивого взгляда?
Аек стиснул кулаки, несколько мгновений молча сверлил Глеба тяжелым взглядом, потом разжал руки и нехотя шагнул вперед.
— Но почему вы не можете подняться к кораблю? Подготовка к старту посадочного модуля займет часа два-три? — раздался голос капитана.
Глеб развернулся к экрану:
— Капитан, я знаю, что говорю, вы сейчас в гораздо большей опасности, чем мы. Немедленно уходите. Немедленно.
Через полчаса цепочка людей в походных комбинезонах изумрудно-малахитового цвета, навьюченная мешками с провизией и снаряжением, потянулась через лощину, в сторону видневшейся на горизонте темной полосы леса. Глеб с Аеком, решившим ни на минуту не оставлять землянина, немного задержались, отключая в лагере всю энергию, а затем вывели из боксов все имевшиеся в наличие транспортеры и, заклинив педали, отправили их в сторону гор. Глеб надеялся, что когда форготцы разыщут пустые транспортеры с севшими батареями, они посчитают, что люди ушли в горы, и основной вектор поиска, хотя бы первые пару дней, будет направлен именно туда. Аек же ворчал, что все это чепуха и они вполне могли бы добраться до леса именно на транспортерах, а уж там замаскировать их хорошенько и, если уж так взбрело в голову землянину, дальше двигаться пешком. К тому же он был взвинчен требованием Глеба не брать с собой никаких устройств, требующих для работы источников энергии. Даже оружия. Впрочем, по поводу самого Глеба он особых иллюзий не строил. После того случая в саванне он даже пленение Глеба считал всего лишь подлым и ловким трюком.
Люди шли весь день. В сумерках они вошли под кроны густого леса, длинным, гигантским языком выдававшегося в саванну. Опушка была еще достаточно солнечной, а вот дальше вглубь лес превращался в сумрачную чащу, перемежаемую только мелколесьем огромных болот. Глеб отвел свой отряд подальше от опушки, в заросли колючего кустарника и плюща, и остановил на привал.
— Отдохнуть, перекусить, через час двинем дальше. Двигаться будем по ночам. Днем отдыхать.
Все попадали на землю. Глеб скинул с плеч мешок со снаряжением и быстро вскарабкался на дерево. В радиусе трех километров не было ничего подозрительного; Флюктуации АТ-поля были в норме, но его это не успокоило. Его возможности АТ-локации ограничивались парой десятков километров, так что уловить вероятность орбитального удара он сможет только тогда, когда в прицельные комплексы уже будут введены координаты залпа и на ауру всего живого в зоне залпа наползет тьма небытия. А если учесть, что даже самый слабый орбитальный залп обычно накрывает пятно диаметром километров пять, то к тому моменту его способности будут уже абсолютно бесполезны.
Он уже начал спускаться, когда в той стороне, откуда они пришли, сверкнул огромный сполох. По глазам резанула страшная вспышка. Глеб ухнул с дерева и, заорав «Ложись!», повалился на Йолу, закрывая ее своим телом. Через несколько мгновений накатился страшный грохот. Деревья пригнуло к земле ураганным порывом ветра.
Когда все затихло, Глеб поднял голову и прислушался. Стонов не было слышно. Видимо, никого не задело. Он слез с Йолы и поднялся на ноги.
— Поднимайтесь.
Все зашевелились, начали подниматься, ощупывая себя и оглядывая других. Йола воткнула в Глеба тревожный взгляд. Он попытался улыбнуться, но губы сложились в измученную кривую гримасу. Удар по лагерю означал, что форготцы не испытывали необходимости в дополнительных источниках информации. Значит, транспортник так и не успел уйти с орбиты. Но рассказывать об этом эотенийцам он не хотел. Форготцы были очень привержены собственным традициям (большинство из которых на Земле, например, остались в далеком средневековье), в том числе и в области отношения к пленным и добывания информации. Йола шагнула к нему и провела рукой по его щеке. К ним подошел Обара.
— Что это было?
Глеб на мгновение прижался щекой к руке любимой, а затем отстранился и повернулся к нему:
— Прощальный салют вашей экспедиции. А если серьезно, то орбитальный залп. Удар батареи гравитационных пушек.
Над поляной пронесся изумленный вздох, а затем воцарилась пораженная тишина. Несколько минут все оглушенно молчали, не в силах понять, как можно вот так, походя, уничтожить мирных и совершенно незнакомых людей. Братьев по разуму. Потом Обара снова повернул к Глебу свое посеревшее лицо и воткнул в Глеба горько-напряженный взгляд.
— Ты обещал все рассказать.
Глеб, собиравшийся было скомандовать начало движения, почувствовал, что оказался под прицелом множества напряженных глаз, и понял, что без объяснений все же не обойтись. Все произошедшее так сильно ударило по морально-этическим представлениям эотенийцев, что они уже перестали верить и ему самому.
— Вы помните, на что была похожа картинка на экране?
— Да, — вновь ответил Обара, к которому отчего-то перешли функции лидера эотенийцев взамен неожиданно притихшего Аека. При том, что как-то само собой возникшее абсолютное лидерство Глеба никто, кроме Аека, не оспаривал. — Семиконечная звезда.
— Это походный ордер штурмовой эскадры Форгота. Я расскажу вам, что такое Форгот, и вы поймете все. — Он замолчал, размышляя, с чего бы начать, а затем продолжил: — Я уже рассказывал вам, что в Содружестве четырнадцать базовых планет и порядка шестидесяти колоний. Содружество рождалось трудно. Каждая из четырнадцати базовых цивилизаций прошла свой путь от первого контакта до полного членства. Для Тауры, скажем, этот путь составил всего девять лет. А Лобару, при почти равном уровне технологического развития, потребовалось восемьдесят шесть — целых три поколения. Дело в том, что основным критерием для получения статуса полного члена является не уровень развития технологий. Содружество способно подтянуть до своего уровня любую цивилизацию буквально за одно поколение. Главное — близость моральных принципов. Чем ближе моральные критерии новой цивилизации к общепринятым моральным принципам Содружества, тем короче дорога до полного членства. Но всегда считалось, что даже если моральные критерии какой-либо цивилизации и не соответствуют общепринятым в Содружестве, то дело лишь во времени. И до определенного момента все так и было. Даже Лобар, с его древней культурой поклонения войне и силе, сумел-таки измениться. Хотя многие до сих пор считают, что статус полного члена Лобару был присвоен несколько авансом, но с того момента прошло уже более полутора столетий. А потом мы встретились с Форготом…
Он замолчал. Над поляной висела напряженная тишина.
— С Форготом впервые установила контакт именно цивилизация Лобара. Одна из его колоний сообщила, что ее корабли повстречали в пространстве признаки существования какой-то мощной цивилизации. Потом сообщили о контакте. А затем…
Глеб сделал секундную паузу и окинул взглядом сидящих перед ним. Рассказывая о Содружестве, он многое упустил. Не потому, что хотел обмануть или что-то скрыть, просто… на фоне эотенийцев история Земли и остальных членов Содружества выглядела какой-то… кровавой, что ли.
— Колония была уничтожена. Погибло около сорока миллионов человек. Планету просто расстреляли с орбиты из гравитационных орудий. Как и наш лагерь. Только по нему ударили бортовым залпом одного крейсера, процентов на десять мощности, а там работала эскадра почти из двух тысяч боевых кораблей… Содружество и особенно Лобар охватил шок. На Лобаре пошли разговоры о том, что отказ от старых традиций был ошибкой, что культ воина следует возродить, что РАНЬШЕ, до вступления в Содружество, такого бы не произошло… Короче, разразился самый серьезный кризис за всю историю Содружества. И он оказался едва ли не опаснее самого Форгота…
— А что Форгот?
Глеб вздохнул.
— Военные корабли Содружества встретили Форгота на подходе к Лобару. Форштцы отчего-то решили, что Лобар — это, так сказать, Самая Главная Планета Содружества. Впрочем, для получения информации они допрашивали жителей колонии Лобара, так что это вполне объяснимо. Битва была тяжелой, но закончилась полным разгромом Форгота. Это произошло сто сорок лет назад. — Он замолчал. Все сидели оглушенные услышанным. Потом Обара спросил:
— А что было дальше?
— Они пробовали еще три раза. Последний из них — пятьдесят лет назад.
— И вы до сих пор терпите?
Глеб повернулся. Голос принадлежал Аеку.
— Разум неприкосновенен, — мягко сказал Глеб, — мы можем только защищаться.
— Но ведь когда-нибудь они уничтожат вас.
Глеб покачал головой.
— Нет.
— Почему?
— Мы сильнее.
— Но они…
Глеб покачал головой.
— В их силе кроется основа их слабости. Их мораль основана на непреложном постулате абсолютного превосходства форготского фенотипа над любой другой разумной жизнью Вселенной. А потому все, что создано другими, изначально ниже и хуже того, что изобретено на Форготе. Поэтому они очень плохо ассимилируют знания и технологии других. Они создали систему с очень жесткой иерархией, и эта система жестко подавляет любое отклонение от нормы. А ведь именно подобные отклонения и позволяют устанавливать новые границы возможного. Гений — это ведь тоже отклонение. Сколько раз в нашей истории было, что невзрачная тропинка в стороне от уже вроде бы определившейся столбовой дороги развития технологий вдруг выводила к таким уровням, до которых по той столбовой дороге мы тащились бы столетия. Во время первого конфликта мы были почти равны по силам. Но сейчас Форгот уже безнадежно отстал. Последняя попытка стоила им всего их флота, а потерь с нашей стороны не было вообще.
— Почему?
Глеб вздохнул.
— Нам пришлось использовать для создания кораблей почти весь свой запас глоуб-кристаллов. Около двухсот единиц. Это особые образования, иногда встречающиеся в межзвездном пространстве. В их структуре иногда удается развить что-то вроде особой формы жизни. И тогда их возможности становятся чрезвычайно велики. Эти кристаллы могут стать великолепными инструментами по преобразованию планет, позволяя уменьшить сроки терраформирования в сотни раз, сокращая их до времени жизни одного поколения, они могут стабилизировать неустойчивые процессы внутри звезд и делать многое другое… И такое сокровище мы пустили на постройку боевых кораблей.
— Но они ведь тоже могут…
Глеб покачал головой.
— Нет. Для того чтобы воздействовать на структуру глоуб-кристалла, необходим особый тип мозга, обладающий способностями к так называемой интеллевике. — Он сделал паузу и, усмехнувшись, пояснил: — Раньше на Земле это называлось магией и считалось сказкой. Потом носителей некоторых ее проявлений стали признавать и называть их сеансами пси. А теперь, в той или иной мере, интеллевикой владеют практически все члены Содружества. Но этот тип мозга НЕ МОЖЕТ развиться в условиях цивилизации Форгота. — Глеб снова замолчал. Все присутствующие сидели, напряженно размышляя над услышанным. Потом Обара робко спросил:
— А как силен твой корабль?
— Он может уничтожить весь этот флот, а потом, не останавливаясь, еще и эту планету, всех се сестер и саму центральную звезду этой системы. А нанести ему ущерб может только что-то из ряда вон выходящее. Например, близкий взрыв Сверхновой (здесь Глеб усмехнулся про себя). Да и в этом случае он может зарастить повреждения. — Глеб сделал паузу и тихо добавил: — Надеюсь, что он уже сделал это.
Все понимающе кивнули. Землянин рассказывал, что его корабль поврежден и сейчас самовосстанавливается. А потом кто-то спросил:
— И эти корабли используются только для… разрушения?
— В общем-то нет. Я, например, в этом полете выполнял исследовательскую задачу. Ни один другой тип кораблей не может летать так далеко, быстро и не обладает таким уровнем защиты. Но… для этих задач вполне могли бы подойти и корабли, созданные по намного более простым технологиям. Однако после Форгота мы вынуждены содержать флот глоуб-кораблей… Даже когда сам Форгот в конце концов изменится и перестанет представлять угрозу Содружеству.
Тут подала голос Йола:
— Но если вы так сильны, то почему не… освободите Форгот, не научите их, как правильно строить свою жизнь?
Глеб вскинулся.
— Невозможно! Ни разу в истории цивилизаций Содружества сила, даже самая справедливая, не смогла принести пользу. Свободу ДАТЬ нельзя. Свобода, принесенная извне, впоследствии становится новой формой рабства. Общество может измениться только само и только тогда, когда будет готово к этому. Призывы типа «этого нельзя больше терпеть» и «с ними надо что-то делать» очень много навредили в нашей истории. Поэтому нам остается только ждать… Хотя это и самое трудное.
Несколько минут все молчали, а затем Обара спросил:
— Значит, здесь тоже поработал Форгот?
— Вероятно. Точно сказать можно будет, когда я доберусь до своего корабля. Сейчас мои возможности довольно ограниченны.
— А зачем они это сделали?
Глеб пожал плечами.
— Не знаю, возможно, они выбрали эту планету в качестве своей будущей колонии и решили «очистить» ее. А может, — тут он усмехнулся, — они решили испытать свое «новое оружие», которым собираются ударить по Содружеству.
— А почему ты улыбаешься?
— Просто, судя по некоторым результатам моих скудных самостоятельных изысканий, это «оружие», вероятнее всего, не способно нанести вред цивилизации, подавляющее число представителей которой обладает способностями в интеллевике. — Он поднялся на ноги. — Ладно, пора идти. Чем дальше мы уйдем от лагеря, тем лучше.
6
К концу недели они подошли к окраинам огромного болота, прятавшего в своих глубинах корабль Глеба. Последние два дня в воздухе то и дело проносились боевые дисколеты с высокомерными эмблемами Форгота, намалеванными на брюхе. Глеб и не ожидал, что им удастся совершенно обмануть форготцев. При том уровне развития технологий, которыми обладали форготцы, скрыть то, что в уничтоженном лагере не было людей, было совершенно невозможно. Но к тому моменту, когда форготцы достоверно установили этот факт, район поиска расширился настолько, что у их маленького отряда эотенийцев, возглавляемого землянином, появился шанс незамеченными добраться до «Громовой птицы». Впрочем, Глеб отдавал себе отчет, что этот шанс был достаточно призрачным. Конечно, легче всего их было засечь по всплескам флюктуации М-поля. Но этого Глеб боялся меньше всего. Все-таки искусственные системы замеров М-поля, применявшиеся форготцами, в уровне чувствительности на порядок отставали от систем усилителей естественных способностей, используемых в Содружестве. А на дисколетах таких систем вообще не могло быть. Уж слишком были громоздки. Но все равно их могли засечь в любую минуту. Па-скольку остальные системы разведки и наблюдения у форготцев ничем не уступали системам Содружества.
Следующие два дня они шли через болото, подчиняясь привычному графику. Ну а вчера вечером Глеб принял решение не останавливаться на дневку, а продолжать идти. Несмотря на то что все были крайне измучены. Йола осунулась и похудела. Глаза, казалось, занимали половину ее изнуренного лица. Но она безропотно переставляла ноги, не отставая от Глеба больше чем на десяток шагов.
Остальных девушек время от времени приходилось нести. А Нояну, угодившую в промоину и сломавшую ногу, меняясь, несли на руках уже сутки. За последние два дня у них во рту не было ни маковой росинки. Тюки с провизией утопили в первый же день путешествия по болоту, вытаскивая провалившегося в трясину Обару, а остатки снаряжения бросили вчера, когда пришлось тащить Нояну. Только Аек упрямо тащил свой мешок, не бросая его и не отдавая никому даже тогда, когда ему, в свою смену, приходилось нести Нояну.
Перед последним броском Глеб объявил привал. Как только он отдал команду, все повалились на землю, не обращая внимания на грязь и слизь, покрывавшие бугорки как бы сухой земли. Глеб взобрался на небольшой пригорок. Впереди, на протяжении трех километров, оставшихся до того островка, на который он выбрался сразу после падения корабля, тянулась ровная водная гладь, затянутая местными разновидностями тины и ряски. Глубина болота на всем протяжении составляла от десяти до сорока сантиметров. Так что, если учитывать их среднюю скорость передвижения, на протяжении трех с лишним часов они окажутся абсолютно открыты для наблюдения по большинству доступных системам форготцев параметров. Конечно, можно было подождать ночи, но напряжение АТ-поля, флюктуации которого и заставили его принять решение идти днем, не останавливаясь на отдых и сон, в последние несколько часов начало нарастать прямо-таки лавинообразно. И это означало, что они могут просто не дожить до ночи.
Сзади кто-то подошел. Глеб оглянулся. Обара, тяжело дыша, опустился на корточки.
— Руки отваливаются.
Последние два часа Нояну тащили именно они с Аеком. У остальных уже почти не оставалось сил, чтобы идти хотя бы самим. Глеб захватил его за запястья и немного снял усталость одеревеневших мышц. Обара поболтал кистями и удивленно произнес:
— Спасибо. — Он подтянулся поближе и, приблизив губы к уху Глеба, прошептал: — Слушай, а как ты собираешься защититься от гравитационных орудий в момент старта? Ну пока генераторы, или что у тебя там есть, не наберут достаточной мощности.
Глеб устало улыбнулся. Ну, наивный народ. Обара явно уже придумал какой-то план. Всю дорогу эотенийцы, несмотря на усталость, спорили о природе гравитации, методах управления ею, о М- и АТ-полях, интеллевике и всем, о чем они услышали от Глеба. Сам Глеб в дискуссиях не участвовал, отговорившись тем, что это не его профиль и что, даже учитывая его способности, ни один человек все знать не может. Чувствуя себя при этом уже даже не человеком, а сторожевой собакой, ощетинившейся и на форготцев, и на всякую дрянь типа щупоколов, которой были полны болота и укусы которых, если бы не Глеб, были для эотенийцев смертельно опасны. Обара напряженно ждал.
— Я же тебе сказал, «Громовая птица» — глоуб-корабль. У него нет генераторов, которые необходимо выводить на режим полной мощности. Он, можно сказать, как бы живой и… всегда в готовности. Так что даже суммарный залп всего флота будет ему что слону дробина.
— Чего? — не понял Обара.
— Идиома, — буркнул Глеб и, поднимаясь, обернулся к остальным: — Ну ладно, двинулись!
Дисколеты появились внезапно. Видимо, их засекли с одного из кораблей во время очередного витка, и капитан решил не сразу сообщить координаты на наземную базу, а самостоятельно уничтожить врага (такая конкуренция среди форготских военных негласно поощрялась их руководством), что подарило им где-то лишних полчаса. Так что дисколеты упали прямо из зенита. Они с ревом развернулись прямо над островком, на котором Глеб разрешил сделать последний привал, сбив измученных путешественников с ног воздушной волной. Глеб, кошкой извернувшись в опрокинувшем его воздушном потоке, приземлился на ноги, подхватил на руки Йолу и, заорав «За мной!», плюхнулся прямо в мутную жижу. Мембрана метнувшейся навстречу по его мысленному приказу шлюзовой камеры мгновенно раскрылась, и Глеб ввалился внутрь вместе с любимой, по едва заметному дрожанию стенок и особой силе отзыва поняв, что корабль полностью исправен, здоров и… страшно рад возвращению пилота. И в его сердце затеплился огонек восторга. Он любил свою «Громовую птицу». Но времени не было. Глеб опустил на пол Йолу и рванул обратно. Спустя пару мгновений он втолкнул в шлюзовую камеру Нояну, потом еще кого-то, а затем рванул вверх, на поверхность.
Когда он вынырнул, на поверхности крутилась водяная воронка, втягивая неуклюже бултыхающихся людей внутрь шлюзовой камеры. Дисколеты завершили разворот и теперь шли прямо на островок… на котором, широко расставя ноги, стоял Аек, один, и палил в мчащуюся на него смерть из неизвестно откуда взявшегося парализатора. «Пижон, — взбеленился Глеб, — так вот почему они нас все-таки засекли». Отследить с орбиты источник энергии, включенный в систему питания электронного устройства, для форготцев было раз плюнуть. Похоже, что Аек все это время волок парализатор отключенным и подсоединил источник питания только сегодня, собираясь, так сказать, в последний момент вывести Глеба на чистую воду и «обезопасить» Йолу. Идиот, как он собирался управлять кораблем? Не говоря уж о том, что любого, кто причинил бы вред ее пилоту, «Громовая птица» просто разнес бы на атомы. Но спасать его все равно было надо.
Глеб выметнулся из воды, заехал окаменевшему Аеку по шее и, отшвырнув бесполезный парализатор (он бы еще попробовал сбить боевой дисколет, плюясь горохом из трубки), ухнул в жижу, кожей чувствуя, как срывается с излучателей дисколета смертоносный гравитационный заряд. Но «Громовая птица» уловил опасность; угрожающую пилоту, и успел заслонить его шлюзовой камерой.
Пилот второго дисколета озадаченно заложил вираж над остатками уничтоженного гравитационным ударом островка. Только что его напарник, шарахнувший из бортовых излучателей по барахтавшимся в болоте людишкам, вдруг странно вздыбил машину и… рухнул в болото, как будто сам получил прямое попадание. Или напоролся на рикошет. Пилот даже улыбнулся от такой мысли. Гравитационный рикошет от болота. Чепуха. Но времени терять не следовало. Пока этот растяпа очухается в своем блюдце, следовало окончательно добить этих неполноценных, думающих, что можно укрыться от доблестных воинов Форгота, просто нырнув в эту вонючую жижу. И… доложить о том, что это сделал именно он.
Потому что на горизонте уже появилось несколько десятков точек, выраставших по мере приближения в характерные силуэты боевых дисколетов, но им нужна была еще пара минут полетного времени. А ему достаточно было нескольких секунд. Пилот удовлетворенно перевел взгляд на болото, представляя, как сейчас вскипит вода от его залпа. Как вдруг болото внезапно начало расти и подниматься вверх. Пилот оторопело уставился на эту невероятную картину, и тут из вонючей жижи под ним выросла горбатая спина огромного глоуб-корабля Содружества. Пилот рванул в сторону, молясь всем известным ему богам, чтобы пилот этого корабля обратил на него внимание в последнюю очередь. Ведь всего в паре миль на север приближается почти три десятка отличнейших целей-дисколетов, ничуть не хуже, чем у него. Тем более что там цели были сосредоточены и их можно было снять одним залпом…
Дисколеты шарахнулись в стороны, как шавки от медведя, и сидящие в них пилоты поняли, что Форгот опять вляпался в крупные неприятности. И теперь не будет веселой атаки на странно беззащитный новый мир, координаты которого они узнали всего десять дней назад, не будет веселящего чувства всемогущества, стонов гибнущих врагов, пожаров и плача, не будет и этого нового мира, завоеванного и очищенного во славу Форгота, не будет НИЧЕГО. А вновь будут гигантские глоуб-корабли, висящие над самим Форготом и..
РАССКАЗЫ
Екатерина Некрасова ТАНЯ
В стакане с минералкой плавала одинокая лимонная долька. Из-под хипповской кожаной повязки-ленты челка лезла девчонке в глаза. Опустив голову, девчонка глядела на суету газовых пузырьков, и он видел пробор в каштановых волнах волос — точно посередине. Волосы были не длинные и не короткие: сзади — до плеч. Густые, очень красивые волосы. И разноцветные бисерные ромбики на коричневой, кое-где растрескавшейся коже повязки. В прошлой жизни повязка почти наверняка была брючным ремнем.
И серая, застегнутая доверху джинсовка была явно с чужого плеча, скорее — с мужчины, из широкого ворота беззащитно торчала тонкая шея, и почему-то он был почти уверен, что под джинсовкой больше ничего нет.
…Как будто ее впопыхах одевали в чужое. И штаны, модные псевдосолдатские, защитно-пятнистые, с многочисленными карманами, были ей велики — сразу представлялся утянутый на талии, под курткой, пояс, за счет которого они только и не падают, — и все это было не просто ношеное, а ношеное и нестираное, мятая затерханная джинса, грязевые разводы на внутренней стороне манжет, а девочка была такая чистенькая, совсем из другого стиля, лежащие на засаленном воротнике завитки волос были такие свежевымытые, пушащиеся, рассыпающиеся… Даже волосы у нее были такие же, как у той, другой. И глаза — слишком широко расставленные, большие, раскосые… Как у кошки. Редкость, если разобраться, — он первый раз видел такое.
Точнее, второй.
Он заставил себя отвести взгляд. Она же не просто похожа. Она — копия. Дубликат. Дубль два.
А может быть, и нет.
Он вертел в руках стакан. На поверхности пива — тени от отпечатков пальцев на стекле. Что осталось от той девушки? Черно-белые фотографии посредственного качества. Цвет волос, цвет глаз, оттенок кожи… А все нужные тексты — переводы с французского либо английского, а в английском, к примеру, шкала цветовых определений куда беднее — «blue», в частности, у них и «синий», и «голубой», хотя дураку понятно, что голубой и синий — совсем не одно и то же. Голубые глаза — они были серо-голубые? Просто голубые? Темные? Светлые? И то, чего не могли удержать никакие фотографии, — манеры, походка, голос… Впрочем, насчет манер-то как раз проще — сохранилась кинохроника.
…Мельтешащий загогулинами царапин телевизионный экран. Четыре одинаковые царские дочки поочередно подходят целовать икону — то ли публичный молебен, то ли крестный ход. Очередной документальный фильм о последних Романовых. И Генка, задыхаясь и фыркая, читает из тонкой растрепанной книжки — чьих-то мемуаров: «Она была свежа, хрупка и чиста, как роза… — и с хохотом валится на диван, на искусственно меховой плед с дурацкими оленями у водопоя, а откашлявшись, продолжает: — Она была наделена изящным профилем камеи…» Над диваном качается задетое бра, и тени мечутся по стенам…
— Забавно, что ты тоже Таня, — сказал он.
Она подняла глаза. Отставила так и не початый стакан.
— Забавно?
Губы у нее были не тонкие и не пухлые. Пальцы — не тонкие и не толстые. Плечи — не прямые и не покатые. Нос красивый — тонкий, чуть-чуть приподнятый… да вот еще ресницы — темные, длинные… Ничего особенного. Еще кто-то из охранников Ипатьевского дома, попавшись белым и давая показания по поводу внешности царевен, сказал: ничего особенного.
…Вспышки молний за высокими старинными окнами.
Вода стекает по стеклам сплошной пеленой, точно из направленного шланга. Тусклые блики на полосатом шелке гардин. «Обратите внимание вот на этот задрапированный проем в глубине комнаты. Через эту дверь вошел генерал Корнилов, чтобы сообщить императрице, что она арестована». — «А портьера подлинная?» — И негодование в голосе маленькой рыжей экскурсоводши: «Нет, конечно!» Кучка людей, гуськом бредущих вдоль белых веревок, отгораживающих проход через анфиладу комнат от собственно комнат. «Будуар императрицы, так называемая Сиреневая комната. Самое знаменитое помещение в России начала двадцатого века!» «Чайный столик, подлинный — вот, мы видим его на фотографии, сделанной в то время… (Круглая мелкоморщинистая старческая рука показывает на громадный, во всю стену, черно-белый снимок.) Сервиз, подлинный… (На низком восьмиугольном столике бордовый чайник и четыре чашки — желтая, зеленая и еще какие-то.) Это сервиз, хотя все приборы разного цвета…» «Это зеркало не отсюда, оно из княжеского дворца в Санкт-Петербурге…» (Вспомнилось — из какого-то анекдота, что ли — про музейную опись: «Кинжал утерян, ножны не от него…») «Какой камин, дама, здесь батареи! А… Это не камин, а экран от камина. Да, подлинный…» Бывший царский дворец, во времена блокады побывавший штабом германского командования, ныне поделенный между новоявленным музеем и военным институтом — в одно крыло пускают экскурсантов, другое огорожено колючей проволокой; неприветливые тетки-экскурсоводши с их стандартным: «Здесь столько бурь пронеслось…»
И эта девчонка, бродившая вроде бы с экскурсией и в то же время отдельно, приседавшая перед стеклянными шкафчиками-витринами в одном конце зала, когда все уходили в другой… И уже в последней по счету комнате — бывшей-царской ванной, известной как Мавританская уборная — она задала свой единственный вопрос: «А от детских комнат ничего не осталось?» — «Весь второй этаж — институт». И только тут он обратил внимание на ее лицо. Детские комнаты…
Экскурсанты уже выходили в распахнутые двери, у киоска с открытками снимали и бросали в корзину сменную обувь — громадные растрепанные тапки с резинками вместо задников. А она повернулась и пошла обратно — по второму кругу. И он пошел за ней. Держась на расстоянии, приглядывайся — сомневаясь, удивляясь и обалдевая… Ему становилось все интереснее.
Ему и сейчас было интересно.
И никто, никто больше не заметил в ней ничего особенного. Слишком нерезкими были редкие фотографии на стенах… Неприязненно смотрели тетки из персонала, о царской семье повествовавшие чуть ли не со слезой в голосе. «Девушка, ничего нельзя трогать!» — «Но веревку-то можно?» — «И веревку нельзя! Если каждый потрогает… Я ее стирала, так вода черная была!»
Навстречу двигалась следующая экскурсия — с другим, но так же вдохновенно бубнящим экскурсоводом. «Мундиры старших дочерей, Ольги и Татьяны. Все дочери Николая Второго были шефами полков…» Он запомнил мундир Татьяны — синий с желтым. Головной убор, похожий на лакированную каску, с козырьком и конским хвостом на макушке. Мундиры шились точно по фигуре, и по ним можно судить о телосложении. Талия. Грудь. Плечи — не прямые и не покатые…
В соседней витрине сидела кукла — большая, с локонами, в пожелтевших розовых кружевах. А у витрины стояла девушка, прижавшись лбом к стеклу.
…Ветер трепал фигурный край зонта над столиком, мел песок по плитам террасы. По ногам дуло.
— А вам понравилось во дворце? — спросила она, сглотнув — нервно.
— Давай на «ты», — предложил он.
— Тебе понравилось? — помедлив, поправилась она.
Он пожал плечами. Слишком низкие потолки, слишком маленькие, тесно забитые разнокалиберными предметами помещения, слишком мало света… И все это облезлое песочно-белое здание, которое он по первости счел захудалым на окраине парка павильоном, а уж никак не дворцом… Если уж на то пошло, у него куда больше положительных эмоций вызывал берег пруда — в погожие дни умилительное воплощение мечты ранних коммунистов. Перед бывшим царским дворцом, на самом охраняемом когда-то бережку России бегают дети простых людей, рассаживаются на покрывалах и полотенцах семейства, и девушки плетут венки из ромашек…
Он промолчал. И она снова замолчала. Официантка, женщина с лицом накрашенного поросенка, забрала у него пустой стакан.
…Он проморгал момент, когда она ушла. И когда сбежал с крыльца на мокрый после ливня песок двора, ее нигде не было видно. На скамейке у крыльца курила освободившаяся экскурсоводша. «Скажите, а еще какие-нибудь достопримечательности здесь есть?» Женщина развела руками — в одной сигарета, — затем показала в сторону пруда. «Вот — Татьянин дуб». — «Почему — Татьянин?» И он услышал трогательную историю о том, что играть в парке с царскими детьми иногда приглашали посторонних ребятишек, но те не всегда понимали субординацию и иной раз случались ссоры. Обиженная Татьяна не шла жаловаться, она просто отходила в сторону, к тому вот дубу, и оттуда смотрела на играющих…
Она и стояла у дуба, положив ладони на морщины коры. Дубы у пруда и вправду были старые, дубы-великаны, кора затянула шишки на месте срубленных когда-то — должно быть, еще царскими садовниками — ветвей… Она не оглянулась на звук шагов. Напряженные пальцы гладили, ощупывали ствол.
— Меня зовут Игорь, — сказал он, остановившись в шаге.
Она обернулась — и в первый миг он решил, что напугал ее, а потом струхнул сам. Она молча смотрела на него, и зрачки ее были огромны, лишь по краю радужки оставался ободок — голубой без претензий. Потом прижала пальцы к груди, будто указывая на себя — так в фильмах знакомятся представители разных народов, не знающие языка друг друга.
— Таня.
…И они шли по улице — сквозь запахи зацветающей сирени. Улицы Пушкина почему-то напоминали ему южные города — особенно вот эта, выходящая к вокзалу. В Крыму по таким же улочкам толпы курортников валят к морю…
— Таня, — сказал он. — Улыбнитесь. А то мне все время кажется, что я вас обидел.
…А когда за полями уже поднялись здания Питера, «маршрутку» подбросило на колдобине, охнул сидевший напротив парень с видеокамерой на коленях, женщина рядом уронила сумочку, и пальцы девчонки вцепились в его плечо. Даже сквозь рубашку они показались ледяными.
А теперь он разглядел их как следует. Ногти синевато-сиреневые у корней.
И зрачки во весь глаз.
— Таня, — сказал он, поднимаясь. — Ты все равно ничего не пьешь. Пойдем, я тебя провожу… Где ты живешь? — спросил он, когда они выбрались из лабиринта столиков и спустились по ступенькам. — (Она махнула рукой куда-то вдоль аллеи.) — Там? Ну, это ты путаешь. Там Петропавловка… через мост… Ты что, плохо здесь ориентируешься? — (Она неожиданно кивнула.) — Да? Ну… А вон там аттракционы. Может быть, лучше туда сходим? Ты на «американских горках» каталась?
Он тараторил — ему вдруг искренне захотелось развлечь эту странную неулыбающуюся девицу, так непонятно, невозможно похожую на расстрелянную восемьдесят лет назад царскую дочь. Рассмешить ее, что ли.
И она улыбнулась. Впервые. И, помедлив, кивнула.
С террасы кафе вслед им смотрел третий.
Он насвистывал, наблюдая, как они уходят по аллее. Парень что-то говорил, наклоняясь к своей спутнице. Вот взял ее за руку — и она не отстранилась. Они шли, и вместе с ними смещался наведенный крестик прицела.
…Интересно, почему все-таки сегодня, думал он. И не дата вроде бы никакая. Не годовщина расстрела. Просто, что ли, день такой подходящий? Серый. Без теней. И никто не подумает, что под ее ногами тени не было бы и на самом ярком солнце…
Он поерзал локтями по ржавым перилам. Сзади официантка звякала посудой. Кафе закрывалось.
…А парень, конечно, ничего не замечает. Прямо в лучших традициях «ужастиков», где дураки никогда вовремя не понимают, что рядом с ними — труп. Смотрят, щупают — и холодный, и морда белая, и улыбка кривая, и зрачки на свет не реагируют… И клыки, между прочим, изо рта выглядывают… Интересно, как у нее на предмет клыков? (Поморщился, не сводя глаза с шагающей в круге объектива парочки.) И зачем ей понадобилось тащить этого типа с собой в Петропавловскую? К могиле?
Внизу проехала машина — проплыли голые коленки женщины рядом с водителем. У лотка с воздушными шариками громко лопнул оранжевый в яблоках конь.
…А зачем им вообще убивать? Еще один выплеск энергии, что ли… Катализатор… Кровь — воплощение жизненной силы… А ведь без этой крови ничего не будет, процесс не запустится, максимальный срок существования зомби в стадии куколки — около сорока часов…
И откуда, главное, они сами это знают? А ведь знают, это факт. Даже если при жизни ничего такого им и в голову не приходило. Чувствуют.
…А вот если бы у меня на самом деле был автомат?.. (Подкрутил колесико увеличения, навел крестик на спину в мешковатой серой джинсовке.) Как в кино, на куртке одно за другим появлялись бы рваные отверстия, а она, пошатываясь от выстрелов, смотрела бы на меня большими чистыми глазами… Ох-хотник за привидениями, сказал он себе, поднимая камеру на плечо. Двое уходили, держась за руки, и парень смеялся, и ни о чем таком не думал… И надо, надо было догнать, схватить за плечо, но… Я мерзавец. Но ведь тогда все сорвется. Кто ее знает — может, она просто тут же исчезнет. Сам дурак, соображать надо, а если соображать нечем, то хоть доверять инстинктам, а я тоже не виноват, я два года ждал этого дня, я только по Романовым месяц за калькулятором сидел…
Он спускался по ступенькам, перешагивая через плевки.
…Один человек из нескольких, погибших одновременно и в непосредственной близости друг от друга… причем именно погибших, а не умерших своей смертью; причем, что называется, во цвете, то есть тех, кто при иных обстоятельствах мог бы жить еще долго, какие-нибудь смертельно больные сюда не подходят… Скорость накопления энергии зависит от количества покойников; в среднем — несколько десятилетий. И очень интересно, что больше одного человека на группу не бывает, даже если в качестве группы рассматривать всех павших в какой-нибудь грандиозной битве и со всех воюющих сторон. Просто значительно выше скорость энергоконденсации и несколько больше потенциальный срок действия зомби. Но это — ненамного, все равно в пределах нескольких лет…
Ведь я гений. Я совершил прорыв в науке. Величайшее открытие. Новое, совершенно неожиданное проявление закона сохранения энергии! Это их энергия, отпущенная им на значительно больший срок и оставшаяся невостребованной, их здоровье, их несбывшиеся мечты, их непрожитые жизни… Наверное, так положено, чтобы гениям сразу никто не верил. А уж, блин, гений-вундеркинд, двадцати трех лет, подогнавший научное обоснование под сказки о вампирах… Я лучше буду практичным гением. Я на одной этой пленке озолочусь…
Он шел за ними, прячась в толпе. Он ошибся — они не свернули к мосту. Но пока с маршрутом ему везло — это были на редкость удачные кадры. Лотки с сувенирами, бесчисленные игрушки за стеклами ларьков, гроздья разноцветных воздушных шаров… Тонкая фигурка в таком нелепо не сочетающемся со всем ее обликом прикиде, так очевидно чужая идущему рядом смеющемуся парню, бледное неподвижное лицо на фоне праздника жизни… А какие сенсационные шапки появились бы в соответствующих газетенках, если бы в самом деле нашлепать с этой пленки фотографий и распродать! Или загнать бы всю пленку целиком — в какую-нибудь паранормальную телепередачу… Да. И не исключено, что на пленке и не оказалось бы худой девушки почти с изможденно осунувшимся лицом. Разговорчивый ухажер обращался бы к пустому месту, и нелепо раскачивалась бы в воздухе его сжатая рука… Вот так и предъявляй видеозапись в качестве доказательства. Нетушки, не дождетесь, нам, гениям, в дурдоме не место…
А может быть, наоборот, на пленке проявилось бы что-нибудь, чего мы, грешные, простыми своими глазами не замечаем. Сияние какое-нибудь. Или через нее стали бы просвечивать предметы…
Он нагнал их у лотка с нэцкэ. Это был экспромт. Внезапная идея.
— Молодые люди!.. — позвал он еще с расстояния. — Молодые люди, — продолжал, когда они обернулись. — Я с телевидения. — (Он улыбался изо всех сил. Разумеется, они могли его узнать. В музее и в метро могли и не заметить, а вот в «маршрутке» из Пушкина до Питера… Но разве это криминал?) — Мы готовим передачу о лете в нашем городе. Вы не против, если я вас немножко поснимаю? Вы будете туристы…
Из-за расширенных зрачков ее глаза были черными. Ничто не дрогнуло в ее лице — худом, с проступившими скулами, обескровленном до изжелто-зеленого… сухие бледные губы, тени в глазницах… Она все молчала — он ждал, ощущая, как его широкая дружелюбная улыбка превращается в натужный оскал. Камера вдруг стала давить на плечо. Способность к самовнушению у него, видимо, оказалась развита не по разуму — ему даже чудился запах. Еле-еле заметный, вдвойне невозможный здесь, в толпе, в нескольких метрах от цветочницы с шеренгой букетов… Какой-то совершенно не органический запах не то новой резины, не то резинового клея — только раз в жизни ему довелось нюхать подобное. В позапрошлом году — когда Рекс выскочил из кустов с облепленной муравьями дохлой кошкой в зубах.
…Провоняла вся квартира. Мать распахивала окна, Рексу промыли пасть марганцовкой и в дезинфекционно-профилактических целях влили в него столовую ложку водки…
Татьяна, не сводя глаз, медленно кивнула.
Она хорошо держится, думал он, шагая следом за ними. Впрочем, это он понял еще в метро — девушка из начала века бестрепетно ступила на движущуюся дорожку, на глазах складывающуюся ступенями… Хотя чего ей бояться?
Он снимал непрерывно — теперь уже открыто забегая с разных сторон. Приседая, ловил отсветы на ее лице. Наверху, в кроне липы шелестел занесенный ветром кулек от букета — небо отражалось в трепещущей фольге.
…Художник был лохмат. Шар полуседых — «перец с солью» — мелких кудряшек плавно переходил в такую же бороду. Между волосами и бородой помещались горбатый нос со шрамом поперек и веселые глаза.
— Портрет? Барышня!.. Молодой человек! Хотите — двойной портрет? Два лица в листе!..
Она прошла мимо. Кажется, она даже глядела сквозь этого вольного творца в тельняшке. И вдруг круто остановилась. Но смотрела по-прежнему не в лицо художнику, а на выставленные рядком в траве позади этюдника планшеты с готовыми работами — образцами творческой манеры. И сначала он растерялся — не позировать же этому хмырю она собралась в самом деле, — а потом понял.
Разноцветная пыль пастели. Синди Кроуфорд в волнах желто-коричневых волос — родинка над губой тонко подчеркнута карандашом, прорисована каждая ресница — только вот рот и нос почему-то разминулись в обратной перспективе. Внизу листа была прикноплена натура — маленький снимок, вырезанный из журнала.
А рядом стоял портрет старшей Николашкиной дочери — Ольги. Он помнил эту фотографию — видел в Интернете. Голова вскинута, и шея в нитке жемчужных бус кажется особенно длинной и изящной…
— У Ольги были светлые волосы, — сказала она, перебив художника, распространявшегося о технике рисования сухой пастелью.
— Что?
— Эту девушку, — объяснила она, показывая пальцем, — звали Ольга. И у нее были светлые волосы.
На портрете царевна была брюнеткой. А ее сестра повернулась и пошла, не слушая доводов об условности искусства. (Он перевел дыхание. Художник выглядел симпатичным дядькой. Хватит с меня и одного. Следить за человеком, целенаправленно идущим навстречу смерти, не за тем, чтобы предупредить, а чтобы отснять материал для остросюжетного ролика, — это, извините…) Каштановый затылок мелькнул в объективе. Он двинулся было следом, и тут ее ухажер, которого он все это время старательно силился воспринимать как совершенно постороннего, до кого нет никакого дела — ну, просто незнакомый парень, цыганисто-чернявый, плечистый, простецкое скуластое лицо… дурак, не помогут тебе твои бицепсы, — вдруг решительно шагнул вперед, прямо-таки рыцарственно, как и подобает настоящему мужчине, за чьей девушкой ни с того ни с сего увязался болван с видеокамерой.
— Все, — заявил ухажер. И закрыл объектив растопыренной пятерней.
Это тоже были удачные кадры.
На фоне серой мути туч мчались, кружили по невидимым рельсам разноцветные пятна вагонеток. Ползли вверх и падали, и ветер, должно быть, трепал волосы людей, которых она не могла рассмотреть, а только слышала — визг, смех, голоса… Вверх-вниз. Горки.
Гулкие доски помоста скрипели под шагами.
— Давай я вперед, а ты сзади, — сказал Игорь, занося ногу.
— Лучше наоборот, — посоветовала служащая, барышня в таких же, как у Игоря, синих штанах с отстроченными швами — бывших, видимо, здесь в безумной моде. На барышне штаны сидели будто на барабане, но как-то очень ловко — это не казалось уродливым, а фигура у нее была красивая…
И Татьяна послушно перелезла на нос вагонетки, поерзала, устраиваясь верхом на кожаном сиденье, а Игорь втиснулся сзади и взялся за руль — и вагонетка тронулась, заскользила, поползла вертикально вверх, а потом такой же отвесный склон открылся впереди и внизу — и вагонетка ухнула вниз, Татьяна вцепилась в борта, руки Игоря сжимали ее ребра… Мысли неслись. Если бы ее сейчас видели… родители, близкие… хоть кто-нибудь из той жизни — в с лязгом летящем в никуда железном ящике, в объятиях чужого парня… Она, всегда так стеснявшаяся незнакомых… Правда, это она давно наловчилась скрывать. И скрывала так успешно, что ее стали считать гордячкой. Все как у мама…
Ветер в лицо. Вагонетка падала, земля летела навстречу, едва различимые полоски рельсов, которые не выдержат удара, и тогда — трава и замусоренные каменные плиты… Она ясно представила, как выбирается, целая и невредимая, из груды смятого железа, из-под окровавленного Игорева тела — залитая его кровью… Вот и будет тебе кровь.
Их тряхнуло так, что, казалось, выбросит, — но не выбросило, пальцы держались за борта, как за последнюю надежду, руки хотели жить, они ничего не желали понимать, не желали понимать, что давно мертвы и сгнили, распались на отдельные кости, и часть костей утеряна, а часть пошла в центрифугу на предмет выделения ДНК, и только чудом… Это — твой последний шанс, сказал голос внутри. Год жизни. Год. В конце концов год — это так мало, сопротивлялась она. Я собиралась жить долго…
Вагонетка снова поднималась. Снизу, кажется, махали руками.
Она знала, что год — это много. Год жизни, двенадцать месяцев, триста шестьдесят пять дней… наступит осень, ветки рябин прогнутся под кровавыми гроздьями… зима, снежинки на перчатках, холод в легких… как Анастасия тогда угодила мне в лицо снежком с камнем внутри — я лежала на спине в сугробе и думала, что у меня больше нет носа… Это Анастасии больше нет. Никого нет. Почему из одиннадцати — я одна?
Чужие руки. «Он хороший. Я не могу. Он добрый. Это же видно». — «Да-a, тот парень тоже показался тебе добрым…» Милый, симпатичный, простой парень, мятая гимнастерка, оттопыренные уши… Было так странно слышать, как его называют начальником охраны. Павел. Павел, Павел… Не помню. Ему предстояло умереть от тифа в госпитале на территории, занятой войсками адмирала Колчака, он ненадолго пережил нас, да… Мне казалось, что у него доброе лицо. Я была уверена, что уж он не сделает нам ничего плохого.
Вагонетка стояла. И неподвижна была земля внизу. Она медленно разжала руки. Пальцы ныли.
…И тогда, в подвале, это не по возрасту мальчишеское лицо было не злым, а просто сосредоточенным — он так старательно целился, он хотел попасть с одного выстрела… Она взялась за затылок. Потом — за висок. Все равно там ничего нет. Сейчас. Пока.
Я ничего не понимаю в людях. Ничего.
Игорь стоял перед ней, протягивая руку. Она послушно ухватилась за эту руку и выбралась на помост. Внизу, в смутной зеле, ни травы, расплывались блики — должно быть, осколки. Дощатые ступени прогибались под ногами.
И тень появится, думала она, сосредоточенно всматриваясь под ноги. Еще год жизни. Триста шестьдесят пять суток, в сутках по двадцать четыре часа, в часе шестьдесят минут, в минуте шестьдесят секунд… Секунда — один вдох. Как странно не дышать.
Рука Игоря легла на ее плечо. Она терпела. У них так принято, этот год мне предстоит прожить среди них… Трава. Я снова увижу тени в траве и искры в изломах осколков. Я смогу дышать… есть… Я буду делать что угодно, хоть прислугой наймусь, я куплю билет до Ливадии… или и Ливадия теперь называется иначе?.. Она замерла и напряглась, вспоминая, — безрезультатно. Эти ниоткуда всплывающие в памяти обрывки сведений слишком случайны. Я понимаю, что такое анализ ДНК, я знаю, чем кончил человек, который меня убил, но вопросов, на которые мне не ответить, куда больше.
Игорь подхватил ее под локоть. Разберусь, пообещала она себе, шагая. Да хоть без билета влезу в поезд… это же не принесет никому убытков…
Она зажмурилась. Дорожки, посыпанные песком вперемешку с обломками ракушек, голубое море, сливающееся с голубым небом, в волнах прибоя синеватые с фиолетовой оторочкой купола медуз… Мне так долго было холодно. Так холодно. Так долго.
— Ты что дрожишь? — спросил он, сжимая ее плечи. — Замерзла?
Она кивнула, затылком чувствуя его дыхание. Да, я замерзла, я так замерзла и так устала… У меня больше нет сил. И я слепну — а ведь утром могла читать надписи на указателях… Мой единственный день подходит к концу. Мой единственный шанс.
Кровь. Кровавые пузыри на Ольгиных губах. И дикий визг Нюты, и как она металась, заслоняясь подушкой… И столпившиеся в дверях фигуры с револьверами, палящие через плечи друг друга — кашляя, щурясь… И тусклая лампочка сквозь дым… Они тоже не хотели такого. Они хотели, чтобы все было быстро — на каждого по одному выстрелу. Они не были злыми. Леньку Седнева они пожалели. Они просто считали, что так нужно. И мне тоже нужно. Я хочу жить. За всех. За папа и мама, за брата и сестер, за Евгения Николаевича и Нюту… Мы тоже не были ни в чем виноваты. Папа и мама… хорошо. Мы, дети, не были виноваты ни в чем. А Евгений Николаевич, Харитонов, Трупп и Нюта — тем более. И Настенька Гендрикова, и Нагорный с Седневым, и Валя… их ведь тоже убили, да?
…Больше года все равно не получится. Не дано. Ни за что. Никак. Год для одного человека — за все годы, непрожитые одиннадцатью. Много, видимо, было лет… Только нужна еще одна смерть. Много крови. На могилу.
— Игорь, — проговорила она, глядя в землю. — Давай — (это «давай» стоило ей отдельного усилия — несмотря ни на что, было мучительно неудобно обращаться на «ты» к чужому, едва знакомому человеку) — сходим в Петропавловскую крепость. Я хотела бы… — И замолчала, не зная, что сказать. «Посмотреть?» Она же сказала ему, что живет в Санкт-Петербурге. Никогда не смотрела?
Она так и не взглянула ему в лицо. И всю дорогу смотрела только под ноги. На песке, на плитах, на асфальте, должно быть, все-таки двигались тени — легкие, едва различимые. От всего и от всех, кроме нее.
…Вытертые ступени собора. Волоча ноги, она поднималась, держась за его руку. Не гнуть спину… Ни один человек не поведет на экскурсию женщину, которой дурно. Она отчаянно старалась держаться прямо — сама понимая, что вместо этого лишь нелепо вытягивает шею. Почему женщины перестали носить корсеты?
Петропавловская крепость. Стены цвета красной охры под яркой голубизной неба. Булыжник площади. И мама идет, взбивая ногами кружевной подол, а рядом Лили, Лили Ден… Или это было не здесь?.. «Лили, как вы носите эту юбку?» И веселое лицо меняется, делается растерянным. «Видите ли, мадам… это модно…» И мама: «А ну-ка, докажите мне, что эта юбка удобна! Бегите, Лили, бегите!» Ах, эти узкие юбки — если верить Лили, многие дамы связывали себе ноги, чтобы ненароком не шагнуть слишком широко и не разорвать подол… А у этих можно сшить платье, которое будет обтягивать тебя, как чулок. И бегать в нем будет легче, чем в самом широком пеньюаре…
Она все-таки ударилась скулой о стену — твердую, шершавую и неожиданно холодную, крашенную под мрамор — зеленоватую с белыми разводами…
— Таня?..
Он подхватил ее свободной рукой — в другой все еще держал оторванные половинки билетов. В гробницу ее предков продают билеты, как в балаган…
— Тебе плохо?
Она помотала головой.
— Споткнулась…
Она экономила слова. У нее уже не оставалось сил на разговоры.
Угловатые бронзовые кресты на сером мраморе надгробий. Пучки выцветших знамен на стенах. Царское место — бахрома балдахина без осыпавшейся позолоты серая, как паутина… Она всматривалась, шурясь. Бархат помоста, вытертый ногами людей, позднее похороненных вокруг. И голоса, голоса… Она понимала слова — французские, английские, но говорили все одно и то же. Кажется, не осталось места, связанного с ее жизнью, ее семьей, ее родом, где теперь не водили бы любопытствующих.
Она шла.
«Ни сына его, ни внука не будет в народе его… поселятся в шатре его, потому что он уже не его…» Лица. Фотоаппараты. Даже молодой человек-кинооператор, снимавший их по дороге, был здесь — и, поймав ее взгляд, сразу отступил, затерялся в толпе. Должно быть, боясь нарваться на еще одну грубость — а она так и не поняла, почему Игорь был с ним груб. Да пусть бы снимал, разве жалко? Хоть на пленке, но она вошла бы в этот мир как часть…
Про себя она начала считать шаги. Раз шаг… два… четыре… уже немножко осталось… Выщербленные плиты пола. «О дне его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом…»
А Екатерининский придел, маленький и гулкий, был почему-то пуст. Точка начала и конца, Лобное место, где замыкается круг ее второй жизни. Совсем-совсем коротенькой. Недостойной упоминания. Жизни, которая не войдет ни в историю, ни даже в легенды… Она вцепилась в рукав Игоря. Золотые буквы лезли в глаза: «Ее императорское высочество… благоверная великая княжна… Татиана…» На все Божья воля… да. И темно глядели иконы со стен. И впервые она в страхе отводила глаза. Благоверные — либо тут, либо там, но никак не посередине…
Отгородивший надгробие малиновый шнур вдруг растаял. Стены дрогнули и поплыли, завертелись: памятные доски, только кажущиеся мраморными — дерево, оклеенное тонкой пленкой с совершенно мраморным узором; и само надгробие — общее, лишь один кусок мрамора нашелся для тех, кому принадлежала вся эта страна, спустя восемьдесят лет после их смерти; вазы с искусственными цветами, мутные складки кисеи на окне… искры в хрустале люстры, расплывающиеся разноцветными звездами… И снег все падал, но пахло сиренью, да, как пахла сирень в будуаре мама, когда за окнами уже стреляли… а небо было голубым и ярким… нет, серым, и хлопья снега были крупными, папа с Валей пилили дрова, а охранники толпились в сторонке, поплевывая… И еще когда-то было смеющееся лицо Анастасии, ее замахнувшаяся рука со снежком, и когда он ударил меня в лицо — это было так неожиданно и так больно, и показалось таким подлым… Что мы знали о подлости — тогда?
«Взывай, если есть отвечающий тебе. И к кому… из святых… обратишься ты?..» И в ушах звенит, и она уже не видит вены на шее стоящего рядом человека. Я не умею кусаться… никогда не умела. Анастасию бы сюда — это она у нас кусалась, царапалась, пиналась…
— Таня?
— Уйди, — сказала она, зажимая ладонью вздрагивающее горло. Вышло тихо и невнятно.
— Тань, ты чего?
— Уйдите! — крикнула она сдавленно, с облегчением переходя на «вы».
Парень смотрел на нее, как на сумасшедшую, и вышел, пятясь. Ей казалось, что он пятится вверх по вставшему дыбом полу — куб помещения вращался все быстрее, стены, потолок, вазы с искусственными белыми каллами и кадки с настоящими фикусами, а потом выложенный коричневой плиткой пол оказался вверху, и на нем откуда-то возник давешний юноша-журналист. Объектив камеры надвинулся — снимает!.. Зачем? и откуда он здесь взялся? Он снимает… мне же плохо!., он должен бы бежать за помощью… Лицо парня оказалось совсем близко — азартное, с горящими глазами, — и что-то сдвинулось в ее сознании. И вместо этого лица она вдруг увидела другое — напряженное, сощуренные глаза вглядываются сквозь дым… люстра превратилась в лампочку, потолок опал, тяжестью низких сводов задавив дневной свет… она снова стояла посреди ТОЙ комнаты, а вместо объектива было дуло нацеленного револьвера, она повернулась и с воплем метнулась в глубину комнаты, к стене, к запертой двери куда-то… витой малиновый шнур оказался перед самыми глазами, и она уцепилась за него, пытаясь удержаться на ногах… ну хотя бы на коленях… С грохотом повалились тяжелые бронзовые столбики. Белые каллы лежали в луже растекающейся воды.
— Дать бы вам по мозгам этой камерой, — на ходу мечтательно рассуждал милиционер. — И пленку вырвать…
Туристы испуганно расступались, давая дорогу.
— У нас разрешение, — в очередной раз повторил Игорь, стараясь сохранять достоинство и дергая рукой в бесполезном чаянии освободить рукав.
— Да пустите же нас, — подал голос Генка. — Мы же не… — (здесь он был встряхнут так, что едва устоял на ногах) — не с-сопротивляемся… — (это — уклоняясь от очередного толчка богатырского плеча)… — Да что вы делаете!.. Сами пойдем…
— Сами вы уже сходили. — Широченный, прямо-таки квадратный — разъевшийся, видать, за время ленивого сидения на входе и трепотни с билетершами, — мент был здоровее их обоих. — И ты иди, — добавил он, зажатой Генкиной рукой подталкивая Таню в спину. — Другой бы не посмотрел, что девушка…
А на крыльце, сунув камеру в руки помятому Генке, он очень демонстративно поправил дубинку на поясе и договорил:
— А еще раз сюда сунетесь — и не посмотрю, — и — Тане: — А то… совсем уже…
— Мне стало плохо, — очень спокойно сказала Таня, в упор глядя ему в глаза. — Вдруг. Я ничего не разбила… не сломала… Хотите, помогу пол вытереть?
— Я тебе помогу… — ласково закивал мент.
На пороге он оглянулся — через плечо смерил всех троих последним тяжелым взглядом и шагнул в полумрак притвора.
Они остались стоять на крыльце.
— Н-да, — потирая локоть, сказал Генка после молчания. — Танек, с тебя бутылка.
— Гад, — сказала Таня, глядя вслед менту и потирая спину. Обернувшись, старательно улыбнулась — обоим по очереди: — Ребята, извините, что так вышло… Спасибо вам.
— Да не за что, — отозвался Генка, ухмыляясь в ответ. — Мировая киноиндустрия оценит наш подвиг.
— Да уж… Пленки хватило, оператор?
Генка гордо похлопал по сумке от видеокамеры, где, видимо, лежали отснятые кассеты. Она кивнула, задумчиво почесывая щеку, и повторила:
— Спасибо, ребята.
— Пожалуйста, — на этот раз ответил Игорь — небрежно. Было все-таки сложно так сразу переключиться с роли едва знакомого поклонника на роль давнего — и без ничего такого — приятеля. — Танек, пудру смажешь.
— Это не пудра, — объяснила она наставительно, — а тональный крем. Пополам с тенями. Синими, желтыми и серыми. Целая живопись. — Но руку опустила, капризно добавив: — Блин, я боялась, от меня на улицах шарахаться будут. А никто даже внимания не обратил. Народ у нас все-таки… пуленепробиваемый…
— Ничего, — заявил оператор Генка, укладывая камеру в сумку. — Вот возьмет наша кинулька первый приз, тебя к нам на «Ленфильм» с руками оторвут. Станешь знаменитой актрисой, и будет народ на тебя шарахаться.
Болван, воззвал Игорь мысленно. Таня не ответила, только дернула носом, но сразу посерьезнела. Дурак, думал Игорь. Шуточки тебе… Она же все понимает. Шансы любительской короткометражки, даже с профессиональной съемкой, даже если смонтировать вы сумеете, а как режиссер и сценарист Танька проявила себя с самой лучшей стороны… все равно — шансы взять первый приз на кинофестивале, пусть и в демократичной номинации любительских фильмов… да, шанс наш никак не больше, чем шанс никому не известной девушки без специального образования на роль в кино…
Он не сразу осознал, что молчит, глядя на нее. Будто ждет чего-то. Распоряжений. И что так же смотрит на нее Генка. Вот так и становится ясно, кто в коллективе лидер.
А ведь раньше этого не было. Мы всегда гордились тем, что у нас не компания, а многоглавый дракон. И на тебе… Повзрослели наконец окончательно, что ли. Завершился период становления личности…
— А ты молодец, Танек, — серьезно сказал Генка, щелкая замками сумки. Со своим синевато отсвечивающим свежевыбритым черепом, в майке с англоязычным нецензурным ругательством, на крыльце царской усыпальницы — хоть и ободранном, и в строительных лесах, — он смотрелся явно не на месте. — Я почти поверил. Я даже сам вроде играть начал. — (И я, думал Игорь. И я.) — Будто все на самом деле, а я вас снимаю, чтобы пленку куда-нибудь продать. — (В широченной улыбке продемонстровал черный излом на месте дальнего зуба.) — Но ты… — (Восхищенно закатив глаза, развел руками.) — Ты талант. Если та Татьяна действительно была на тебя похожа, то мне ее жаль.
А может быть, не так уж и похожа, подумал Игорь. Слишком некачественны фотографии и архивные кинозаписи — они не сохранили ни цвета волос, ни цвета глаз; слишком несовершенна методика восстановления лица по черепу… тем более — по изуродованному черепу…
— Та Татьяна была пробка, — спокойно ответила Таня. — Как и они все. — (Перевела взгляд с Генки на Игоря — секунду смотрела, затем отвернулась и принялась деловито отряхивать штаны.) — Самозванцам вообще положено быть умнее тех, за кого они себя выдают. Они пытаются реализовать возможности, которые проворонили оригиналы.
Помолчали.
— Тань, что у тебя с глазами? — спросил Игорь.
Она секунду смотрела на него, сдвинув брови, — поняв, засмеялась.
— Это атропин. Это случайно так совпало. Я вчера у окулиста была. — Должно быть, его лицо не выразило понимания, и она назидательно пояснила: — Атропин — это препарат, который капают, когда хотят посмотреть глазное дно. Он расширяет зрачки. Но зрение на этот период ухудшается. Он чего-то там расслабляет в глазу, что ли… — Она подмигнула. — А эффект хороший, да?
— Тань, — с ухмылкой позвал Генка. — А вот если бы на самом деле… Перекусила бы ты ему горло?
И она улыбнулась в ответ.
— Ему — нет. И тебе — нет. Вы же мои лучшие друзья. — Потянулась и обняла их обоих за плечи. И, глядя Игорю в глаза, медленно, демонстративно облизнулась. — Я бы нашла кого-нибудь другого.
— Это же чудовище, — тихо сказала Татьяна.
Из тени соборного крыльца на площадь спускались трое — смеющаяся девушка тащила за руки двоих парней. Тот из двоих, что был пониже и пощуплее, с сумкой через плечо, что-то говорил, жестикулируя свободной рукой. Захохотали все трое.
— Ну что ты так сразу… — возразила Ольга, вглядываясь в чужое, разрумянившееся даже под слоем косметики лицо, счастливое лицо. Покосилась — сравнивая — на сестру и вздохнула. — Она старалась. Она даже думать старалась, как ты. И даже иногда попадала…
— А то, что они придумали… — перебила Татьяна и замолчала, не сводя глаз со своей смеющейся тезки. Лицо ее дрогнуло, сделалось тоскливым и страстным. — Год жизни… — договорила она сдавленно — так тихо, что лишь умоляюще сморщившаяся Ольга и разобрала.
— Таня…
— А ужас интересно, — встряла, хихикнув, пролезая между ними, не расслышавшая Анастасия. — Выйдет из нее артистка?
— Нет, конечно, — отозвалась Мария. — Много ты понимаешь, шибздик.
А та, другая Таня, Таня, Пока Еще Мечтающая Стать Актрисой, жмурясь, смотрела сквозь них — на проглянувшее в облаках солнце.
31 августа — сентябрь, октябрь 2000 г.Дмитрий Скирюк КОПИЛКА
Звонок, в дверь, настойчивый и долгий, медленно выталкивал меня в реальный мир из темного похмельного небытия. Я приоткрыл один глаз. Сглотнул. Мир был полон солнца, детских голосов, а также изжоги и головной боли; возвращаться мне в него ну совершенно не хотелось, я зарылся под подушку и постарался не обращать на шум внимания. В конце концов когда-нибудь ему надоест стоять у двери.
Однако звонок продолжал трезвонить. Я сел, потер лицо, подождал, пока не перестала кружиться голова, после чего поплелся-таки открывать, на ходу натягивая майку.
— Иду! — крикнул я.
Звонок надрывался по-прежнему.
На часах была половина одиннадцатого. Если судить по моему «распорядку», то проснулся я не так уж поздно. Даже, можно сказать, рано. Расшвыривая пустые упаковки из-под «одноразовой» лапши, чипсов и прочей лабуды, я мимоходом запинал под диван пустую бутылку и наконец добрался до двери.
— Да иду же! — снова крикнул я, поскольку звонок не умолкал.
Вот черт! Кто бы это мог быть?
Дверных глазков я не признаю — уж очень их легко закрыть ладонью. Даже одним пальцем — легко. Или, скажем, спрятаться у стенки, и хорошо, если ради шутки. А там попробуй догадайся, кто пришел, а открывать-то все равно придется. По мне уж лучше старая добрая дверная цепочка. О-хо-хо…
Я в меру сил пригладил свои торчащие спросонья во все стороны вихры, набросил цепочку и открыл замок.
— Ну что там еще?
Звонок умолк. За дверью был какой-то парень с чемоданом. Так себе парнишка, на вид лет двадцать. Не из наших, но одет нормально — джинсы, рубашка навыпуск. Рубашка тоже нормальная, в клетку. Никаких тебе балахонов, никаких бейсболок, выбритая морда, стрижка не короткая, не длинная. Встретишь такого на улице — не обратишь внимания, а после и не вспомнишь. В руках чемоданчик, знаете, из тех, что носят клерки, — плоский такой. Очки под Джона Леннона. И улыбается, зараза.
— Привет!
И голос такой… Невзрачный такой голос.
— Привет, — недружелюбно буркнул я. — Ты кто такой?
— Прости, что разбудил, — он поправил очки, — но Майк мне посоветовал звонить подольше, а иначе ты не откроешь…
— Ну, черт с ним, — поморщился я, — открыл и открыл.
— Ты ведь Вендер? Тим Вендер?
— Ну, я Тим Вендер. Чего тебе?
— У меня здесь диски. — Он поднял чемоданчик. — Хочешь посмотреть? Мне сказали, что тебя это может заинтересовать.
Ах вот оно что… Ну конечно! Как же я сразу не допетрил: один из тех «комми», что ходит по квартирам и впаривает людям всякую туфту. Причем втридорога. Я почувствовал, что начинаю звереть. Нашел, кому пудрить мозги! Ох, Майк, ну доберусь я до тебя когда-нибудь с твоими шуточками…
— Ша, парень, — осадил я его и демонстративно похлопал себя по карманам. — Неприемный день. Я ничего не покупаю, у меня голяк.
И попытался закрыть дверь. Он торопливо вклинил ногу между косяком и дверью. Я закряхтел. Профессионал, однако…
— Постой, — быстро заговорил он. — Мы можем поменяться. Майк сказал, что ты меняешь диски. У меня здесь неплохие вещи. В самом деле неплохие. Первые перепечатки, бутлеги. Итальянский концерт Рэя Воэна… «Живые» «Роллинги» в Германии, неизданные «Битлз»…
Я замешкался. Да, знал, подлец, на что давить…
Если, конечно, не врет.
— Хотя бы взгляни.
И смотрит, понимаешь, мне в глаза сквозь свои очки. И взгляд такой… Как будто видит все насквозь. И вот эти самые очки-то меня и добили. Я медленно вздохнул и отбросил цепочку.
— Ладно, черт с тобой. Заходи.
Пока он в комнате свой чемодан раскладывал, я пустил в ванной воду, плеснул разок-другой в лицо и посмотрелся в зеркало. Да, ну и рожа у меня сегодня… Всем рожам рожа. «Абсолютная». В смысле после водки «Абсолют». Бутылочка пивка сейчас бы мне не помешала. Хотя вообще-то лучше бы не надо, тем паче если парень в самом деле принес что-то стоящее, лучше иметь на плечах трезвую башку. Пускай похмельную, но трезвую. Я тронул щетину на подбородке, хмыкнул, бриться не решился, вытер морду полотенцем и двинул в комнату.
Я уже настроился, что парень расположит на диване свой товар. На диване, потому что стол загромождали всякие журналы, грязные тарелки и развороченные потроха усилителя, который я вчера не допаял. А не допаял я его, потому что завалился Ларри с очередной бутылкой и очередной своей историей, мы загрузились, приняли на грудь, поставили «Сержанта Пеппера» и ушли в глубокий бинт. Пестрая коробочка из-под «Сержанта» все еще лежала раскрытая на проигрывателе — я так и не вытащил диск. Где меня носило ночью, я помнил смутно, но гитара была здесь, значит, поиграть мы так и не решились.
Парень между тем стоял посреди комнаты и осматривался. Мне даже как-то не по себе стало, так внимательно он на все глядел. Чего смотреть — квартира как квартира. Дешевая меблирашка. Гитара с усилителем в углу, мой старый CD-плейер, неработающий телевизор да выгоревший постер старых «Пинк Флойд» с пирамидами. Единственная гордость — стойка со «стекляшками», да и то там не все: те, что поценнее, я храню в шкафу. Бардак, конечно, и не прибрано, ну так с тех пор, как от меня ушла Мелинда, у меня все валится из рук. И песни пишутся через одну, и выступать мы стали реже, да и вообще. А тут еще у друга начались проблемы…
— Ну, давай показывай, чего у тебя есть.
Парень оглянулся. Поправил очки. Странноватый был жест — очки он поправлял не указательным, а средним пальцем, будто бы показывал, ну, сами знаете чего. А он помедлил чуточку и говорит мне так.
— Перед тем как я раскрою чемодан, — говорит, — я должен кое-что тебе сказать.
Ну, начинается! Сперва забрался в квартиру, теперь еще и в позу, гад, становится. «Дурь» у него там, что ли, в чемоданчике? Так я сегодня не настроен. Мне только обдолбаться сегодня не хватало для полного счастья.
— Ладно, — говорю, — валяй.
— Мой товар не из обычных. Может быть, тебя он удивит… Ну, в общем, ты сначала посмотри, потом можешь задавать любые вопросы. Я отвечу.
И щелкает замком. Замок наборный, кодовый. Хороший чемоданчик. А внутри ряды компактов пластиком отсвечивают, разноцветные. Ну, я сунулся туда, лениво так по ряду пальчиками пробежался, один достал, другой… Вдруг чувствую — не то здесь что-то. А что — не то, и сам не пойму. И тут достал я из этой стопки диск битловского «Сержанта», вертел, вертел его в руках, вдруг у меня сердце как екнет — и вскачь… Поднимаю я глаза на парня, а он серьезно так смотрит на меня через очки и ничего не говорит, а только на проигрыватель косится, ты, мол, поставь, поставь…
Тут объяснить, пожалуй, надо, а иначе не поймете. У вас, наверное, тоже так бывает. Мечтаешь или сон такой приснится — ходишь ты, допустим, в магазине или там в развале у лотка, а там альбомы разные любимых музыкантов, притом названий куча, и все как один незнакомые. И только хапнешь такой диск, только домой притащишь, как тут же просыпаешься. И злишься — вот, блин, не успел послушать!
Так вот, смотрю я, значит, в этот чемодан и ничего не понимаю. Вы скажете, подумаешь, мол, «Клуб одиноких сердец». Мол, тоже мне, переиздание, «раритет». Сперва и я так подумал. Но в том-то и дело, что альбом, который я держал в руках, был… двойным!
Я как-то этого сразу не сообразил. Почему — нетрудно догадаться. Когда повсюду царствовал винил, альбом «Оркестр Клуба одиноких сердец Сержанта Пеппера» выпустили одинарным диском, а конверт сделали «двойной» — с огромным разворотом, где портреты всех битлов. А тут вдруг под одной обложкой — два компакта, и половина песен вовсе незнакомые! «С тобой и без тебя» на диске нет, зато есть «Пенни Лейн» и «Земляничные поляны навсегда», какой-то «Блюз Сержанта Пеппера», «Рождественская песня» и еще пяток, которых у битлов нигде и никогда вообще в природе не было! Доковылял я, как во сне, до проигрывателя, вытащил свой диск, поставил один из этих и первым делом запустил одну такую.
И в самом деле — «Битлз», притом какие «Битлз»! Золотая олдуха! На этикетку глянул: «Битое стекло» песенка называется, и как раз в том месте, где на альбоме мне всегда казалось, будто чего-то не хватает — сразу после «Риты-Метр». Джордж поет, Джон с Полом подпевают. Клавиши, гитара, Ринго на тамтамах, и что-то там про Индию. Наверное, Джорджа заморочки. Звук неописуемый. Сижу я, слушаю, а сам думаю — вот сейчас проснусь, сейчас проснусь… Не хило хотя б мелодию запомнить…
Прогнать еще раз, что ли?
Ущипнул себя. Глаза скосил. Башкой потряс. Нет, вроде бы не сплю. И тут я как вскочу, как заору, на парня на того как наброшусь: «Откуда?!» А он так грустно смотрит на меня и улыбается. Потянулся к проигрывателю.
— Не выключай, — говорю, — пусть играет!
— Хорошо, — отвечает и садится прямо на пол. — Слушать объяснения будешь?
Я подумал и сел рядом с ним, поближе к чемоданчику.
— Буду.
Расселись мы, я кофейничек поставил, крекеры достал. И битлы поют…
Минут пятнадцать он телеги мне толкал. Толково, обстоятельно, как видно, на самом деле знал, о чем говорит. И постепенно картина начала проясняться.
По его рассказу выходило, что Вселенная состоит из многих миров, уложенных друг на дружку навроде стопки блинчиков и проткнутых вилкой, чтоб не расползлись. И весь наш мир, в котором мы живем и существуем, — суть один такой вот «блинчик». Ну, это мы и сами понимаем, тоже иногда фантастику почитываем — параллельные миры и все такое прочее. Но мой утренний гость всерьез утверждал, что придумал способ, как скользить по этой самой «вилке» вверх и вниз из мира в мир, соорудил для этого машину и отправился путешествовать. А поскольку соседние миры похожи, но не очень, где-то отыскался мир, в котором «Битлз» не распадались, где-то мир, в котором они все-таки распались, но потом сошлись опять, а где-то мир, где полностью распались, но зато хоть Джона не убили. А поскольку парень оказался, как он выразился, «страшный меломан», то он, естественно, не удержался и стал собирать коллекцию таких вот «параллельных» альбомов.
«Бред!» — думаю, а сам одним глазом на него смотрю, а другим в чемодан заглядываю. И вижу, что не бред, и голова у меня от этого не то что кругом, а уже каким-то квадратом идет. Рок-н-ролльным, которым в динамиках маккартниевская бас-гитара кружит. Смотрю, а там и в самом деле — диски «Битлз». Альбомов тридцать, и это если еще сольники у каждого не считать. А иногда на корешке стоит не «The Beatles», а просто «Beatles» или «The Beetles». А иногда — «The Silver Beatles», «John Silver & The Beatles», «Long Jonny & The Moon Dogs» и даже почему-то «Beat Legs». Но все равно все это — Джон, Пол, Джордж и Ринго, в крайнем случае — Джон, Пол, Джордж и Пит. И совершенно неизвестные альбомы, «сорокапятки»… Один оформлен просто потрясающе, в каком-то ярком авангардном стиле: четыре их портрета «под кубизм». Переворачиваю — так и есть! «Дизайн обложки — Стюарт Сатклифф».
— Вот «Черный альбом», — комментировал тем временем мой незваный гость. — Его записали трое оставшихся битлов в измерении № 15, считая вверх от нас, когда погиб Джон Леннон. А это — «Битлз возвращаются» с пятого снизу: они его писали тогда, когда здесь был сделан «Пусть будет так». Иоко тогда объявила Джону, что беременна, и Пол под это дело уговорил его дать несколько концертов. Тот на радостях согласился. После они ругались, сходились, расходились, но уже не так страшно, как здесь… Эти два диска — сольники Харрисона с Рави Шанкаром. А это «Молоко и мед», но только не такой, каким он вышел, а такой, каким он должен был бы выйти; здесь Леннону Гарри Брукер помогал…
А сам все достает и достает из чемодана. Диск за диском, альбом за альбомом. И ладно бы только «Битлз»! Как будто знал, зараза, что я люблю. Пять или шесть дисков «Цыганского оркестра» Джими Хендрикса. Тройной и, видимо, полный вариант «Стены» «Пинк Флойд» и дюжина альбомов их же, с Сидом Барреттом. Я не удержался и тут же поставил один. Поставил и застонал. Ох, Господи, действительно ведь Сид — его безумная гитара! А вы слышали хоть одно нормальное соло Сида Барретта после «Владений Астрономии»? А я вот слышал! И это, доложу я вам, такое соло!.. Дальше — больше. Дженис — дисков пять, «Иггн Поп и Студжиз» — альбом под совершенно неизвестным мне названием «Relax» — «Расслабься» (Нет, каково! Вы представляете? «Расслабься»! У меня в голове мгновенно закрутились вывихнутые эштоновскис соло, диск хотелось сразу же схватить и послушать.) Марк Болап и «Ти Рэкс» (уже не помню, сколько их там было штук), совместный сольник Джеггера и Маккартни (чума!). «Блэк Сэббэт» с Оззи навсегда, «Лед Зеппелин» живые и здоровые — «Восточный фронт», «Дневники негодяя», да плюс еще альбомов пять и никакой ублюдочной «Коды». И даже — здрас-сьте-пожалуйста! — уж совсем недавняя покойная «Нирвана»: «Белый альбом» и «День безумия»…
Похоже, у меня сегодня тоже — день безумия.
«Стоп! — вдруг думаю себе. — А какого же лешего этому чуваку в таком разе надо от меня?»
— Ну хорошо, — говорю. — Затея клевая, хочу с тобой дружить. Но от меня-то ты что хочешь?
Только я вот так его спросил (а парень и ответить не успел), как тут же подцепил и вытащил еще один компакт. Вытащил и обмер: «The Venders» — «Just Do It».
Признаться, я до этого момента как-то все-таки не верил происходящему. Ну мало ли, собрали пару-тройку талантливых ребят, заделали две песни «под битлов», на каком-нибудь пиратском «дискорезе» сляпали компакт… Решили подшутить, в общем. При современных технологиях — раз плюнуть. Но не над моей же группой! Ну, мы с ребятами поигрываем вместе… по клубам и по гаражам. С полгода тому назад даже контракт как будто бы наметился, да обломился — менеджер, который нас приметил, попал в аварию и загремел в больницу, да так, что валяется по сей день. Как только жив остался. Мы сейчас засели в студии, да что-то не идет, заморочки какие-то. А здесь… Ну, просто все, как мы задумывали — вплоть до рулона туалетной бумаги на обложке, с отпечатанным на нем портретом президента. Перевернул. «Стифф рекордз», 60 минут, и наши морды на обратной стороне. 13 песен в общем списке плюс бонус-трек под занавес — мой вариант «The End» Джима Моррисона. Все, как мы задумывали, все почти как на наших тэйпах-демонстрашках! Вот только не знаю, что за песня такая — «Пришелец», и кто такая эта Энни Белл на бэк-вокале. Но все равно — как обухом по голове. Издали! Где?
— Где… — только и смог я сказать. Чувствую: голос сел, руки трясутся, перед глазами пелена. Глотнул из чашки. — Где ты его нашел?
— Я все ждал, когда ты наконец до него доберешься, — говорит меж тем парнишка. Очки поправляет. — Я купил его на измерении четыре, если двигаться вверх. У них там Эдди Бери под мотоцикл не попал, устроил вам контракт и студию. Вот вы и записались.
Ну, я встал и с низкого старта — к проигрывателю. А он мне в спину ненавязчиво так:
— Ты уверен, что хочешь это сделать?
Хочу ли я? Еще бы!
А хотя постой… Ведь в общем-то все песни мне и так известны, а если и у нас такая штука выйдет, у меня таких компактов будет — слушай, не хочу. А так, за просто так если слушать… как будто своровал чего. А зачем? Стою, компакт в руках трясется, и снова думаю: зачем он это делает?
— Послушай, — говорю и оборачиваюсь. — Ведь ты на этом, верно, жуткие бабки бьешь. А у меня кроме гитары и неподписанного контракта нету ничего, даже девчонка моя от меня ушла. Ума не приложу, сколько ты за такие вещи можешь запросить. Чего ты хочешь?
— Видишь ли, Тим, — отвечает тот. (Черт, я ведь даже не спросил, как его зовут!) — Моя машина обходится дорого, уж слишком много потребляет энергии и запчастей, и прочего всего. Вот я по разным измерениям музыкой и торгую. Я мог бы спекулировать на технологиях, возить туда-сюда открытия, но, видишь ли, открытия и так свершаются везде почти одновременно — научный базис разных измерений очень схож. Потом, ведь в большинстве своем они все засекречены. А музыка — это нечто эфемерное, нечто такое, что творится по наитию, по озарению… Вот я и переправляю такие «озарения» из одного мира в другой для избранных друзей. Своего рода элитарный клуб такой.
— Постой, постой, — говорю, — это как же получается? Купишь альбом, а после его в ящик спрятать, так что ли? Ни тебе с друзьями заслушать, ни девчонке своей прокрутить? Нет, я так не хочу. _
— А если подумать? — спрашивает тот.
А если подумать…
А если подумать — хочу! Сил нет, как хочу все это заиметь. Все это вот, что он притаранил, и еще много-много чего. Прямо хоть бей этого сукиного сына по кумполу и отбирай чемодан — вот как хочу. Ну, почесал я репу и руками развел: не знаю, мол. А он вздохнул и снова в чемодан полез. И достает оттуда, из кармана в крышке (блин, я, прям, как чувствовал, что там еще что-то есть!) — «Роллинг Стоунз» номер. Не свежий, правда, майский, но вполне. И мне протягивает: «На». А на обложке — снова мы и подпись: «Вендерс» — крах желаний?» Думаю, к чему бы это? Раскрываю. Так, где мы тут… Ага, вот: страница двадцать пять — одноименная статья. Восторги, хит-парады, «…новые веяния…», «…дебют, неслыханный со времени «Дорз»…» и прочие там тыры-пыры… Однако… Стою я и чувствую, как моя физиономия против воли растягивается в улыбке до ушей и даже дальше. Мою гитару хвалят, песни тоже хвалят, черт дери! «Закон и порядок», «Чикита-поп» и «Просто сделай это» — просто хвалят, а «Продажные» и «Поздно Никогда» и вовсе возносят до небес. Правда, чуть-чуть проехались по «Пришельцу», ругаются на «Бог-отец и К0», ну, это уж как водится. Даже эпитет подобрали к нам: «психоделический джаз-панк».
Черт, неужели нам и впрямь удалось сковырнуть всю эту танцевальную бодягу? Ведь не продохнуть же от них.
Стоп, стоп… А это что?
«…к сожалению, гибель Тима Вендерса в апреле от передозировки героина поставила крест на дальнейшей карьере группы, казалось бы, уже готовой занять место новых героев альтернативной музыки. Все, что можно сказать по этому поводу, уже давно сказано, но все же…»
Журнал выпал у меня из рук, и я ошалело плюхнулся на диван.
А парниша сложил так ручки на груди, смотрит на меня и говорит, говорит…
— Я объездил восемнадцать измерений в обе стороны — на большее моя машина пока не способна. Джими Хендрикс погиб в большинстве из них, но в двух ухитрился спрыгнуть с иглы, а в одном ширяется до сей поры и все еще живой, навроде как у вас здесь Джерри Гарсия из «Грэйтфул Дэд». Со старушкой Перл сложнее — Дженис умерла почти везде, и только в одном мире выжила и не перестала петь. Полегче было с Джоном Лешюпом — маньяк непредсказуем, да и сам Джон тоже хорош. В двух измерениях, известных мне, битлы вообще не собрались.
— А как насчет «Дорз»? — спрашиваю.
— Вот с Джимбо, — отвечает, — сложнее всего. Во всех мирах, где он не умер (а таких всего штуки три наберется), он отошел от музыки, обосновался в Париже и пишет стихи. Марк Болап, так тот вообще счастливчик, если так, конечно, можно сказать — он хлопнулся на машине только в вашем мире, а в других живет и процветает.
Тут шестеренки у меня в голове приходят наконец в движение.
— А я… А мы?! — кричу. — А как же мы?!
А тот качает головой:
— А вот тебя, Тим, нет в живых уже почти нигде. Вот только там, на пятом мире и… вот здесь. Но там, на пятом, как ты видишь, тебя уже тоже нет. Так что ширяйся дальше, если хочешь. Но только помни, что на твой новый диск у меня было заказов больше всего. Понял?
— Понял, — говорю. — А ты? Почему бы тебе не воспользоваться этой музыкой и самому не стать звездой?
— У меня слуха нет, — грустно отвечает тот. — Совсем. К тому же в моем мире так никогда и не возник рок-н-ролл. Только джаз и блюз, да и тех в итоге затравили.
Ну, помолчали мы. Встает он, собирает шмотки. Я даже противиться не стал — как-то мне вдруг сделалось совсем не по себе. А он так оборачивается в дверях и говорит:
— Так вот чего я тебе сказать хочу. Искать меня не надо. Останешься в живых и станешь побогаче — я сам тебя разыщу. Тогда поговорим всерьез. А у меня есть что тебе предложить.
— Да уж, — говорю. — Это точно.
— Ну раз так, тогда — прощай, а может, до свидания.
И ушел. Хоть бы «Сержанта» для приличия оставил, что ли… Козел.
Наверное, с полчаса я просидел на диване — заколдовал он меня, что ли? — потом встал и поперся в ранную. Душ принял, вымылся, кофейку попил. Сижу. Думаю, что делать. И что-то меня такое зло вдруг разобрало. Какого хрена, думаю, на кой мне это надо, даже если он вернется — диски под кроватью слушать?! Ведь если так, то и делать ничего не надо — поезди по мирам и все найдешь, что хочешь. Подумал я еще немного, пошел на кухню, залез под раковину, выволок пакетик с «дурью» и вывалил все в унитаз. Подумал и отправил туда же все «колеса», и оставшиеся полбутылки виски тоже туда вылил. Ох, думаю, и поломает же меня денька через два-три… А, ладно. Как-нибудь перетерплю. Не в первый раз.
Тут телефон затрезвонил. Я аж подпрыгнул. Поднимаю трубку: Вик.
— Тим, ты? — кричит. — Куда ты запропал?
— Да, — отвечаю, — приходил один придурок. Я его послал.
— У тебя чего голос дрожит? Послушай, у меня тут такая вещь написалась, тебе обязательно надо заценить. А еще меня тут с одной девчонкой познакомили, девка класс, поет — закачаешься. Короче, давай, брось грузиться и приходи. Придешь?
— Приду, — говорю.
Пошел я, включил гитару — пальцы так и прыгают — и стал играть.
Назло не так сделаю. «Пришелец», ха! Я лучше напишу. И ребята у нас в группе все-таки клевые. Вик — басист божьей милостью, двоих стоит, все время у меня соляк отбить стремится. Ну и пусть отбивает, может, так оно даже лучше будет. «Психоделический джаз-панк» — тут явно без него не обошлось… А Уильям такие стихи пишет — отпад, зря я только с ним вчера поругался. Ну ничего, сегодня помирюсь.
Черт, да мы еще зададим им жару!
А Ларри к лешему со всеми его закидонами. Пускай пьет один. Или пускай трезвеет, сволочь. Тогда поговорим.
А этот парень, путешественник который; никакой он получается в таком разе не коллекционер, а так… коллектор. Копилка. Пока не расколешь, на фиг она и нужна. И вот играю я вот так, и представляться мне вдруг стала эта самая наша Вселенная не как блины, а как стопа компактов, на пруток нанизанных. А по прутку вверх и вниз шныряет таракан и музыку ворует. Только музыка-то все равно останется, а таракан подохнет, если только раньше не раздавят. Рано или поздно эти самые миры найдут ведь общую дорогу и тогда…
А в общем-то хрен с ним, пускай приходит. А не придет, так тоже ладно. Ведь если я эту музыку не напишу — никто ее не напишет.
Я правильно думаю или нет?
Ну и молчите в тряпочку.
Андрей Дашков ЧЕРНАЯ МЕТКА
И я видел, как он переложил что-то из своей руки, в которой держал палку, в ладонь капитана, сразу же сжавшуюся в кулак.
— Дело сделано, — сказал слепой [3].
Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ»С точки зрения статистики, шансов получить метку было совсем немного. Один из тысячи или даже меньше. Особенно если вести упорядоченную жизнь, избегать случайных связей, проявлять неусыпную бдительность и не поддаваться на уловки, сообщения о которых регулярно публиковались в дешевых газетенках типа «Обозрения Охоты» или «Счастливчика», а также передавались по телевидению, не говоря уже о залежах ценной информации на «черных» сайтах.
Ник был предельно осторожен. Он вел размеренную, предсказуемую с точностью до десяти минут жизнь. Маршрут его передвижений по городу был почти неизменным; круг общения крайне ограниченным; подозрительность давно приобрела откровенно параноидальный оттенок и отпугивала тех немногих, кто пытался идти на сближение без всякой задней мысли.
Друг — один-единственный, но зато в нем Ник был уверен на все сто процентов. В детстве они, как говорится, писали в один горшок, позже вместе разглядывали порножурналы, совершали мелкие кражи и читали друг другу незрелые юношеские вирши. В общем, доверие абсолютное.
Коллеги по работе — многократно проверенные. Совместный стаж — не менее пяти лет. Все понимали друг друга без слов и не лезли с опасными рукопожатиями или слюнявыми жалобами.
Со своей девушкой Ник встречался уже три года; считал, что «аккуратно» влюблен без потери памяти, и готовился создать в перспективе крепкую, основанную на правильном расчете и взаимном уважении семью. Никаких интрижек на стороне — Боже упаси! Секс — раз в неделю, как по расписанию. Тщательное предохранение; дни овуляций зачеркивались в календариках, которые хранились у обоих. Девушка была, что называется, «из хорошей семьи», отличалась чрезвычайной порядочностью и в любой ситуации выбирала комфорт и спокойствие.
Чего еще желать? Только того, чтоб и в этот раз пронесло. Тем более что, судя по всему, сезон Охоты подходил к концу.
Стояла осень. Основные события обычно разворачивались с мая по ноябрь. Никаких специальных мероприятий. Вбрасывалась черная метка — и…
Зимой и ранней весной двуногой дичи давали отдохнуть. Загонщики и пираты имели возможность готовиться к ежегодной Охоте и тренироваться.
Ник любил осень. Приближался его тридцать пятый День рождения. Он ждал этой даты без всяких предчувствий и суеты. Его зодиакальным знаком были Весы, и он справедливо считал себя весьма уравновешенным человеком. Ничто не могло надолго вывести его из себя. Более легкомысленные люди находили его скучноватым педантом, занудой и ханжой, но зато легкомысленные люди не жили долго. Они приходили и уходили. Вернее, их «убирали» как лишние детали интерьера. Ему доставляло удовольствие наблюдать за их сменой. Собственная стабильность внушала уверенность в том, что он обрел точку опоры, зацепился за ось бешено кружившегося мира, который только детям и придуркам кажется веселым аттракционом, а люди с умом и опытом знают: мир — это центрифуга, фильтрующая тех, кто потенциально и так уже мертв…
Может сложиться впечатление, что Ник был пессимистичен и мрачен. Вовсе нет. Ничего подобного. Он умел радоваться жизни, имел чувство юмора и ценил каждую минуту удовольствия. Вот и свой День рождения он собирался отпраздновать весело, хоть и в узком кругу проверенных людей. Ему не требовалось составлять список гостей; их всех можно было пересчитать по пальцам: отец, мать, друг, девушка, старший брат с женой.
Несмотря на разницу в возрасте, родители Ника отнюдь не казались ему сдерживающим фактором и ни разу не испортили вечеринку своим присутствием. Он не знал, что такое пресловутый конфликт поколений. С родственниками у него было полное взаимопонимание. Вероятно, потому, что они тоже являлись людьми положительными, уравновешенными, одним словом, «правильными».
Так что неприятные неожиданности Нику вроде бы не грозили. Он пребывал в этом заблуждении, пока не наступил его День рождения. Ровно в восемнадцать часов он начал принимать гостей. Первыми пришли мамочка и папочка, по очереди облобызали любимого сыночка, вручили подарок и сели смотреть восемьдесят четвертую серию «мыльной оперы».
Затем явился друг с шикарным презентом — это был редчайший компакт-диск с записью «Троянцев» Берлиоза, который Ник, большой любитель классической музыки, безуспешно разыскивал в течение нескольких лет.
Брат с женой подъехали чуть позже; все были в прекрасном расположении духа. Девушка Ника отчего-то запаздывала, и он слегка забеспокоился. Хотел уже выйти на улицу, чтобы встретить ее, но тут условный звонок в дверь рассеял его тревогу.
Она стояла на пороге — утонченная, трепетно-нежная, с необъяснимой влагой в глазах, такая хрупкая, что защемило даже его глиняное сердце.
Они обнялись; она подставила щечку для поцелуя, но он предпочел ее губы, пусть и накрашенные. Коснулся милого личика и мягко повернул к себе.
Они поцеловались. В какой-то момент он ощутил твердый предмет у себя во рту, который проник туда вместе с ее, в общем-то целомудренным, язычком.
Ник отпрянул и выплюнул себе на ладонь нечто похожее на большую таблетку.
Вместе с поцелуем девушка передала ему черную метку.
День рождения был, конечно, безнадежно испорчен. Впервые за тридцать пять лет. Почернев от последнего «подарка», Ник выгнал гостей, не объясняя причины. Но они и сами все поняли. Кажется, мать пыталась утешить его, но он твердо выпроводил и ее. Девушка виновато хлопала ресницами, пускала слюни и что-то лепетала о прощении. Ник убедился: от любви до ненависти действительно один шаг.
Загонщики были еще далеко, и у него оставалось время, чтобы ознакомиться с краткой историей и маршрутом метки. Он вставил ее в считывающее устройство, и на экране домашнего компьютера замелькали изображения людей, запечатленных в характерные моменты ПЕРЕДАЧИ.
Все действия Ник выполнял машинально. Сам факт обладания меткой был вполне убийственным, и потому его не слишком поразило то, что он увидел. В любое другое время подобные откровения отправили бы его в нокаут. Человек с талантом, вероятно, разродился бы трагедией. Более чувствительная натура заболела бы неизлечимой мизантропией. А существо с любящим сердцем неминуемо оказалось бы на самой грани: крушение иллюзий, мысли о самоубийстве и все такое…
Ник, к счастью, не обладал ни талантом, ни излишней ранимостью, ни сколь-нибудь заметным комплексом жертвенности. Поэтому он просто сжал зубы и смотрел на то, как…
Но вначале не об этом. Вначале о том, что в его мозгу прокручивалось параллельно совсем другое «кино». Он вспоминал события последних двух месяцев и отчетливо понимал, что стал жертвой какого-то заговора случайностей. В этом было нечто более зловещее, чем в разумной воле. В конце концов любой сознательной силе можно противостоять. А вот стихии вероятностей противостоять нельзя. Она неотвратима, если ее выбор пал на тебя. И не важно, какую форму принимает угроза: крушение поезда, или смертельная болезнь, или… метка.
Он впервые почувствовал себя ничтожной статистической единицей, вырванной из бесконечного ряда таких же серых, одинаковых и уверенных в себе единиц, прикрывающихся щитом своей множественности. Но очень скоро он превратится в ноль. В пепел. В дичь, которая будет мертва и навеки занесена в анналы Охоты.
Раньше он и сам, случалось, заходил из любопытства на соответствующий сайт, вызывал из архива досье и подолгу рассматривал лица «меченых». В каком-то смысле все они были похожи. А может, то, что он знал их судьбу, искажало его собственное восприятие. Во всяком случае, при жизни лица, казалось, излучали глупое овечье счастье. Топор судьбы уже был занесен, а эти невинные жертвы улыбались, мечтали, копили деньжата, делали детей, работали локтями, пробиваясь поближе к кормушке. Но разве не всегда было так? И разве это не закон существования любого вида? Что же изменилось? На всех без исключения влиял новый фактор?
Сущий пустячок — черная метка. Теперь у смерти появился почтальон.
И она посылала уведомление…
С безадресной злостью и сожалением Ник вспомнил, что избежал нескольких сомнительных контактов, стоически преодолел парочку сильных искушений и отказал себе в маленьких утехах, которые скрашивают эту нелепую, абсурдную (теперь он думал именно так!) жизнь. В результате он все равно обзавелся меткой, а мог бы вдобавок получить удовольствие. Да еще какое удовольствие!
Он с обостренной тоской представил себе ту шикарную блондинку в серебристом «купе», недвусмысленно приглашавшую его к близкому знакомству. Она призывно облизывала пухлые губы; ее соски бесстыдно торчали под тонкой сетью едва обозначенного лифа — и, насколько он мог судить, пялясь на нее с тротуара, она была без трусиков. Пока он стоял, ошеломленный столь откровенной атакой, она сжала бедрами рулевое колесо, а потом наклонилась и сделала с ручкой переключения скоростей то, чего так и не научилась толком делать его девушка.
Блондинка почти целиком заглотила гладкий цилиндр, обтянутый розовой кожей, и совершила несколько возвратно-поступательных движений. При этом ее левый глаз косил в сторону завороженного робкого самца; она наблюдала за его реакцией.
Кровь стучала у него в ушах. Мыслей не было. Он с трудом повернулся и с неменьшим трудом сделал несколько шагов, ощущая мучительное неудобство при каждом движении. Брюки вздулись спереди, и встречные ухмылялись, глядя на него, однако шарахались в сторону от серебристого «купе», как будто именно на таких тачках и разъезжала Костлявая.
Даже сейчас у Ника сладко заныло в чреслах. Да, какая эрекция пропала зря! Ему было тем более обидно, что, поняв тщетность своей ловушки, блондинка дала газ и, прошелестев мимо него, злобно бросила: «Сраный импотент!» А он не импотент. Совсем наоборот. Правда, сейчас это уже не имело ни малейшего значения. Он поменял бы всю свою потенцию на абсолютную гарантию того, что никогда больше не увидит метку.
…Или взять хотя бы того педика в баре. Всякий желающий мог застать там Ника после работы или в выходные. Он любил это местечко, и привязанности не менялись уже несколько лет. Его маршрут предусматривал соответствующий поворот и статью расходов, что вовсе не являлось проблеском разгула или эдаким предохранительным клапаном, с помощью которого Ник стравливал давление, накапливавшееся в чересчур дисциплинированных мозгах. Это было высококультурное заведение, посещаемое хорошо воспитанными и известными Нику людьми (главным образом, коллегами) в строго определенные дни и часы. Здесь они отдыхали после напряженных трудовых будней, беседовали об искусстве и спорте, обменивались книгами, компакт-дисками и новостями. Иногда играли в бридж или шахматы. В баре всегда было тихо, спокойно, чистенько, исключительно пристойно. Почти домашняя обстановка, в то же время одухотворенная приятным общением. Клубная атмосфера, насыщенная расслабляющими флюидами.
Поэтому появление незнакомого, грязноватого и небритого типа не могло остаться незамеченным. Тот ввалился в бар, с порога обвел завсегдатаев нагловатым и каким-то отчаянно-веселым взглядом, а затем, по-видимому, сделал свой выбор и устремился прямо к Нику, мирно беседовавшем} возле стойки со своим шефом о сравнительных достоинствах цикла симфоний Бетховена в трактовках Клемперера и Вейнгартнера. Грязный тип грубо вторгся в уютный мирок двух истинных меломанов, мгновенно разрушив очарование хрустального островка, на котором те собирались наслаждаться еще как минимум пару часов.
Бродяга без предисловий впился в Ника, словно бультерьер. Брезгливо поморщившись, шеф благоразумно ретировался. У Ника такой возможности уже не было. Типчик взял его в оборот. Он прямо предлагал немыслимые деньги, а за это просил оказать ему «услугу». Разумеется, Ник отказался, не желая даже вникать в суть предложения и в то, какого рода помощи от него ожидают. Незнакомец бормотал что-то о двух месяцах «райской» жизни, затем насчет личного самолета, самых дорогих девочек и неограниченного кредита в любом уголке планеты. И все это — за одну-единственную «услугу»!..
Только теперь Нику пришло в голову, что тип мог и не быть свихнувшимся педиком. Наверняка нет. Он ошибся. Спрашивается, где были его глаза? Он вдруг осознал, что незнакомец действительно выглядел как опустившийся миллионер, причем павший на дно не так давно. Человек, в одно мгновение лишившийся скелета…
Ник заскрипел зубами. Он мог бы лежать сейчас где-нибудь на Лазурном берегу — пляж для двоих, голая кинозвезда под мышкой, яхта, казино, шампанское, раболепные слуги, швейцары, официанты, метрдотели и много-много вкусной жратвы…
Неужели таковы его подавленные мечты? Неужели он настолько примитивен? Придется признать, что так оно и есть. Чем он хуже других, чтоб воротить нюхальце от стереотипных вожделений? Или, может быть, он меньше подвержен зомбированию? Ничуть не бывало. Такой же болванчик, как и большинство вокруг. Вот только теперь обстоятельства заставят его измениться. О да…
Во всяком случае (педик? миллионер? псих?), искуситель ушел ни с чем. Нику хотелось грызть локти. Господи, он же настоящий монах! Особенно по сравнению с некоторыми… Где же Ты, Бог с большой буквы — Тот, Кто Действительно Заправляет Всем? Ау, шеф?! Где Твое снисхождение к невольным праведникам? Чтоб Ты знал, иногда они страдают сильнее, чем грешники в аду. Это Тебе так, для информации…
Глупые сетования. Ник был уверен, что Охоту не в силах отменить никто и ничто. Помощи ждать не от кого. Спасения не будет, если только… Если только он сам не позаботится о себе.
Он прекрасно знал правила Охоты. Их обязаны были знать все, кто достиг возраста дичи. Принуждения не требовалось. Это было прежде всего в их интересах. Тем не менее в его голове мелькнула недостойная и несерьезная мыслишка — точно так же, как она мелькала в тысячах голов, пока очередь не дошла до него. Прямо скажем, рудиментарная мыслишка. Пережиток дикости, когда охотников можно было вульгарно ОБМАНУТЬ. Ник подумал, что самым простым способом спастись было бы уничтожить метку. Раздавить, сунуть в мусоросжигатель, спустить в унитаз. Избавиться любым путем, но не ПЕРЕДАТЬ кому-либо другому…
Согласно правилам, это каралось немедленной казнью. Поэтому подобная мыслишка всегда означала самоубийственную панику. Кому-то удавалось подавить ее в зародыше; кто-то давал ей вырасти до гигантских размеров и скармливал себя этому ненасытному монстру. В последнем случае загонщикам оставалось только прийти и взять жертву тепленькой…
Нику удалось справиться с нарастающей паникой довольно быстро. Хаос улегся; желание бежать без оглядки сменилось ощущением, которое лучше всего характеризуется двумя словами: «нечего терять».
У него хватило силы воли и на то, чтобы досмотреть жестокий фильм до самого конца. Три десятка незнакомых физиономий, мелькавших вначале на экране, не слишком заинтересовали его. Неприятные события, происходившие с ЧУЖИМИ, лишь подготовили Ника к восприятию худшего. Он наивно полагал, что знает все основные способы ПЕРЕДАЧИ. Оказалось, их гораздо больше. Люди совершали чудовищные поступки, лишь бы всучить метку ближнему, лишь бы избавиться от этого маленького, почти невесомого предмета, означавшего тяжкий, чаще всего невыносимый груз — приглашение к смерти…
Но вот на экране впервые появилось лицо старшего брата, и Ник уменьшил скорость просмотра. Стало ясно, от кого брат подхватил «заразу». От какой-то самоуверенной рыжей стервы — кажется, секретарши своего босса. Ник видит это, словно подглядывает в замочную скважину — причем скважину в любой момент можно сменить, чтобы рассмотреть ситуацию с различных сторон.
Рыжая бросает метку в чашку с черным кофе. Это происходит прямо в офисе, пока брат докладывает на важном совещании. Поскольку звук отключен, брат представляется Нику безмозглой аквариумной рыбой, шевелящей плавниками и разевающей рот. Должно быть, от волнения он забывает просканировать чашку индивидуальным искателем. Проклятый карьерист! Ник всегда считал, что излишнее служебное рвение до добра не доводит…
Когда во время короткого перерыва брат залпом выпивает свой кофе и обнаруживает метку, уже поздно что-либо предпринимать. ПЕРЕДАЧА зафиксирована. Даже на экране видно, как брат разительно меняется в лице, становится белее мела. Все отодвигаются от него. Шеф закрывает совещание, показывает ему рукой на дверь и сразу назначает нового начальника отдела. Раздавленный случившимся, брат еле тащится домой…
Дальше следует не очень интересный кусок записи. Ник делает скачок вперед. Судя по счетчику, проходит двое суток. Они заполнены нытьем, дрязгами и семейными скандалами, которые чаще затевает жена брата. Оказывается, тот не обеспечил ее всем необходимым и не оформил так называемую вдовью страховку. Действительно, для женатого человека это серьезное упущение. Нельзя же быть таким эгоистом! Надо подумать и о будущем ребенка! Ага, значит, она беременна…
Ох и сучка! А ведь все считали их чуть ли не идеальной парой. Нику эта баба представлялась образцом тактичности и покладистости. Не раз он говорил — наполовину в шутку, наполовину всерьез, — что хотел бы иметь точно такую жену. Или никакую… ‘
Ну вот, теперь все открылось. Тайное становится явным. Маски сброшены. И это только первый слой новой, окрысившейся реальности. Дальше — хуже и хуже…
(Между прочим, оформила ли страховку ОНА? Ник в этом сильно сомневается…)
Брат приглашает в гости родителей. Весьма кстати подвернулся и юбилей свадьбы. У Ника невольно сжимаются кулаки — он ведь тоже там был! Ну а как же без него-то, без любимого младшего братца!.. Он снова замедлил просмотр. Тягуче тянутся минуты. Он видит, как брат незаметно для остальных подкладывает метку в сумочку собственной матери.
Ника охватывает какой-то мрачный азарт. Дальше, дальше… Слежка за перемещением смерти — словно наркотик. Оторваться трудно. Потрясающая игра случайностей. Несчастные или счастливые стечения обстоятельств. Плюс человеческая мерзость во всей своей красе…
Несколько дней мать держалась неплохо. Во всяком случае, она не пыталась выбросить метку или сбежать. Правда, у нее был вид женщины, заболевшей раком и знающей об этом. Ник плохо представляет, каково ей пришлось. Она обнаружила метку только тогда, когда вернулась домой, и могла подозревать кого угодно — сыновей, невестку, мужа… Выбор, вставший перед нею, также невероятно труден. Она колеблется долго, слишком долго.
А загонщики между тем уже близко. По телевидению передают подробные репортажи об Охоте. Район поисков сузился до восемнадцати кварталов. Это каких-нибудь сорок — пятьдесят тысяч человек. Нику в его положении число такого порядка кажется смехотворно малым. А мать тянет до последнего.
Отец слишком толстокож, чтобы почувствовать перемену в ее поведении, и они слишком много прожили вместе, чтобы он внимательно вглядывался в ее лицо. Правда, у нее случается небольшой прокол, когда она забывает проверить искателем почтовый ящик. Отец шокирован такой небрежностью и возмущенно выговаривает ей. Она ссылается на недомогание. Мол, что поделаешь — климакс. Надо быть терпимее.
После этого отец лично дважды проверяет почту. В письмах и газетах — чисто. Шумный вздох. Однако он не знает, что метка уже лежит в коробочке с его сердечными таблетками. Долго ждать не пришлось. Очередной приступ — и ему не до искателя. Мать делает вид, что вызывает «скорую помощь». На самом деле в трубке — короткие гудки. Отец шарит рукой по прикроватной тумбочке. Находит на ощупь пузырек, открывает его. Рассыпает таблетки. Берет две и кладет под язык…
Через пару минут ему становится легче. По лицу разливается блаженство. Слава богу, кажется, пронесло. Но потом он тянется, чтобы собрать рассыпавшееся таблетки, и находит среди них метку.
Против ожидания, второго приступа не случилось. Ник невольно вспомнил одно из правил, подходящее к данному случаю. Если бы предок внезапно скончался, Охота была бы прекращена до вброса новой метки. Лучший выход для всех, не так ли? Кроме папочки… Кстати, самоубийц не так много, как может показаться на первый взгляд. Все мы цепляемся за жизнь до последнего — даже тогда, когда надежды нет. Ни малейшей.
Ник с нарастающей болезненной жадностью смотрит, что было дальше. Отец впервые поднял руку на мать. Сцена безобразная; раньше Ник ужаснулся бы, а теперь отнесся с пониманием… Сутки холодной войны. Загонщики дышат в загривок. Окруженная территория — шесть кварталов. Работы осталось всего на несколько часов. Обычно круг поисков «меченого» сужается до одного-двух зданий. Затем вызывают пиратов — и конец.
Если дичь не убегает и не сопротивляется, ее убивают максимально болезненным способом. В этом случае пираты считают потраченными зря долгие месяцы тренировок. Им скучно резать безропотных баранов. Они хотят сражаться с волками. Однако бывшие спецназовцы попадаются намного реже, чем в дешевых боевиках…
Ник мысленно всматривается в себя — есть ли в нем, худом, парниковом, испорченном цивилизацией, избалованном теплыми сортирами существе, хоть что-нибудь от волка? Хватит ли у него дерзости показать зубы? Будет ли он защищаться, когда его загонят в самый угол и припрут к стенке? Правда ли, что самый страшный зверь — это загнанная в угол овца?.. О, скоро у него будет возможность проверить многие бесполезные «истины»!
А пока он все еще смотрит. В сущности, теряет драгоценное время. Или, может быть, не теряет? Накапливает злобу, ярость, решимость, силы для борьбы? Кто знает, из какого дерьма прорастает стремление выжить во что бы то ни стало; кто ведает, чем подпитывается неистребимый инстинкт самосохранения?..
У отца шансов заведомо меньше. Мать предельно внимательна, и тому приходится искать другие варианты. Контакты с посторонними чрезвычайно ограничены. Пару раз отец предпринимает нелепые попытки передать метку случайным людям на улице, но его легко раскалывают. Он выглядит жалко — стареющий, растерянный человек, пытающийся удержаться в стаде, которое уже отвергло его. Он ПОМЕЧЕН, и это ясно написано на его испуганном лице. С таким же успехом он мог бы носить плакат с надписью «Внимание! Черная метка у меня». И все-таки отец находит выход.
Он назначает встречу единственному человеку, не являющемуся членом его семьи и при этом пользующемуся уважением и доверием. Друг младшего сына — чем не подходящая кандидатура? Надо только выдумать предлог, который не внушит подозрений. Безграничное доверие может и не быть взаимным…
Отец звонит ему и говорит, что хотел бы побеседовать о Нике. Точнее, о ПРОБЛЕМАХ Ника. Отца якобы тревожат неопределенные отношения сына с девушкой. Кажется, у них не все в порядке…
Поскольку тот день был выходным, уже через пару часов отец и друг Ника встречаются на теннисном корте. Сначала пара геймов, чтобы растрясти жирок (больше не позволяет больное сердце). Затем пиво и неторопливая беседа. Друг считает, что Ник сделал отличный выбор. Отец выражает сомнение. Почему тогда добрачная стадия тянется так долго? Он (ха-ха!) хотел бы успеть понянчить внуков. Может, не все в порядке с сексом? Или — страшно выговорить, какие только вещи не лезут в голову, — может, Ник стал голубым?
Друг иронично улыбается. Это самая большая нелепость, которую он слышал за всю свою жизнь. Однако видно, что он в замешательстве. Он старается быть предельно корректным. Он не в курсе интимных проблем. Он уважает своего друга и его любимую девушку. С ЭТИМ у них наверняка все в порядке. Он думает, что и свадьба не за горами. Просто… вы же знаете, Ник такой обстоятельный. Тысячу раз взвесит все «за» и «против», прежде чем принять столь важное решение…
В самом деле? Отец судорожно вздыхает. Ну что ж, ему стало гораздо лучше. Спасибо, дорогой, успокоил. Это, наверное, старость. Знаешь, всякие мысли лезут в голову, когда вокруг такое творится. Маразм, одним словом.
Ничего, ничего, посмеивается друг. Подача у вас еще вполне! Дадите фору молодым.
Отец самодовольно поглаживает крепкие худые ноги. Его лицо выражает громадное облегчение. И есть от чего: метка находится внутри теннисного мячика, который он успевает подменить во время игры. Они тепло прощаются. Друг Ника забирает мячи с собой.
Дома его начинают одолевать сомнения. Оказывается, паранойя свойственна не только Нику. Повод для встречи уже не кажется другу убедительным. Отец явно переиграл. Мотивация недостаточна. Какой, к черту, голубой?!
Спустя полчаса друг начинает тщательно сканировать искателем сумку и шмотки. Все чисто. Он добирается до теннисного снаряжения — и тут получает самую горькую пилюлю в своей жизни…
Ник смотрит на экран, не отрываясь. Ему кажется, что он видит гениальные эпизоды, бесценные зарисовки человеческих эмоций. Куда там напыщенному и лживому искусству! Все фальшивят, пока не встретятся со смертью лицом к лицу, а тогда уже поздно кривляться или что-либо сочинять! Причем фальшивят не по злому умыслу — просто такова людская сущность. И вот она — обнаженная правда! Жестокая, как остро заточенная бритва. Мерзкая, как фаната, снаряженная дерьмом… Ник понимает: все, что он читал и видел раньше, — жалкое подобие истинной драмы!
Друг был один, поэтому Ник мог наблюдать метания смертельно раненного зверя. Мы великолепны, когда остаемся наедине с животным страхом и с нас слетает этот поддел ный лоск, эта паршивая шелуха культуры!..
Друг пришел в себя к вечеру. Он обладал гораздо более гибким умом, чем отец Ника, и был намного лучше приспособлен к современной жизни. Он залез на один из «черных» сайтов и почерпнул оттуда информацию о самых изощренных способах ПЕРЕДАЧИ. Кроме того, он знал многие байки об Охоте, з изобилии ходившие среди молодежи и превратившиеся в неотъемлемую, животрепещущую часть фольклора.
Чего стоили, например, анекдоты о двуногой дичи и пиратах! Самое интересное, что симпатии сочинителей неизменно оказывались на стороне охотников…
Но в сторону эти дурацкие и неуместные социологические исследования! Ник внимательно следил за тем, что предпринял его друг. Еще бы — он ощущал несомненное внутреннее сходство с ним, даже некое родство душ. Но, может быть, и это — всего лишь очередная вредная иллюзия, чреватая разочарованием? Ведь началась предельно серьезная и жесткая игра под названием «каждый за себя». Чужой опыт бесполезен, потому что полновесный опыт приобрели только мертвецы, а те уже ничего никому не расскажут.
И все-таки Ник стал свидетелем трех изящных финтов, которые чуть было не закончились ПЕРЕДАЧЕЙ метки. Однако «чуть», как известно, не считается. Оказывается, в городе было полно параноиков, которые тщательнейшим образом блюли свою безопасность и оберегали неприкосновенность своих жилищ. Те, что побогаче, нанимали охрану. Кое-кто использовал непрерывное круговое сканирование — это стоило чертовски дорого, поскольку требовало огромных затрат энергии и внушительной аппаратуры, однако оправдывало себя. Друг Ника убедился в этом на собственной шкуре. Для него все могло закончиться гораздо раньше и без вмешательства пиратов.
Бездомный, которого он принял за немощного старика, исподтишка ударил его заточкой, и друга спасла только быстрая реакция. Еще дважды он нарывался на подставную дичь, снабженную искателями, и был жестоко избит. Но ему повезло. Фактор времени сыграл немаловажную роль — у него появилась возможность отлежаться, зализать раны. Больница находилась в другом районе, и загонщикам пришлось заново готовить облаву. Это только повысило интерес к Охоте.
Друг тоже не терял присутствия духа и держал сломанный нос по ветру. Он использовал вынужденную передышку, чтобы изобрести новый финт, прекрасно понимая, что другого шанса может и не быть. Ник, «перелистывавший» целые дни за несколько минут, довольствовался дайджестом событий. Вероятно, от него ускользнули мелкие детали и подробности, но главное он уловил точно. Под конец он почти восхищался своим БЫВШИМ другом. Восхищался и все сильнее ненавидел. У Охоты появилось олицетворение — шумливая морда, маска предателя. Нику казалось, что в хаотичном движении стада он вдруг разглядел причину и смысл. Смыслом было причинить ему наибольшее страдание, уничтожить, унизить и растоптать его. Но он оказался крепким орешком.
Ник так и не понял, под каким предлогом его друг заманил к себе его девушку. Возможно, сначала он просто взывал к сочувствию и жалости. Попросил проведать несчастного избитого «калеку». На третий день, уже выйдя из больницы, он соблазнил ее.
В ускоренном режиме просмотра тела двигались судорожно и комично.
Все это сильно напоминало старое немое кино. Дружище был в хорошей форме, несмотря на обилие гематом. Он проявил ласковую настойчивость. И Ник был вынужден признать, что его другу удалось растопить многолетний лед. Прежде она была куда более сдержанной. А тут выделывала такие штуки!.. И главное, с очевидным удовольствием. Друг кончил трижды; судя по ее повизгиваниям, она испытала оргазм не меньше пяти раз, чего не случалось за всю историю их отношений с Ником.
А когда она, удовлетворенная, благодарная и накачанная спермой, погрузилась в сон, друг нежно и аккуратно, чтобы не разбудить, засунул ей в вагину черную метку.
Ник отчего-то решил, что между ними все началось гораздо раньше. Секс был лишь итогом давней тайной привязанности. Он вспоминал взгляды, которыми они иногда обменивались и которые он случайно перехватывал; вспоминал их объятия и прикосновения; вспоминал, что иногда чувствовал себя третьим лишним — это чувство было почти физиологическим. Кажущийся парадокс обернулся вполне логичным продолжением.
Что было дальше, он знал. Поцелуй на память. На ВЕЧНУЮ память. Если бы она «поцеловала» раскаленным клеймом его мозг, он и то не запомнил бы это лучше…
Он вытащил метку из считывающего устройства. Скорее всего компьютер ему больше не понадобится. Разве что оставить послание живущим… Зачем? Гнилая мелодрама… Он уничтожил комп, но сделал это без истерики. Не разбил монитор, а раздавил его, положив на пол и наступив двумя ногами. Он обнаружил, что избавляться от собственности даже приятно — все равно что избавляться от НЕДВИЖИМОСТИ в буквальном смысле слова. Он воображал себя кораблем, сорвавшимся наконец с вечной якорной стоянки и уносимым в открытый океан невиданным штормом. Рано или поздно он разобьется о скалы. Но, черт возьми, может, он зато узнает, что это значит — ПЛАВАТЬ?!
Загонщики были в пяти кварталах от него.
Он оделся так, чтобы быть готовым заночевать где угодно — хоть на крыше, хоть в канализации. В его одежде не было не только наружных карманов, но даже сколько-нибудь заметных складок. Все швы надежно прошиты, обшлаги рукавов туго пригнаны, вокруг шеи предусмотрен самозатягивающийся воротник — на жаргоне «удавка». Он не был оригиналом. В сезон Охоты все предпочитали одеваться подобным образом, выходя на улицы. Лучше испытать несущественные неудобства во время перемещения среди толпы, чем однажды, вернувшись домой, обнаружить у себя в трусах черную метку.
Ему эта неприятность уже не грозила. Поэтому он прорезал в подкладке дополнительные внутренние карманы, ослабил «удавку», чтоб не мешала вертеть головой, и стал совать за пазуху то, что считал необходимым. Тут же выяснилось, что он знал так мало о реальной жизни в экстремальных условиях. То есть ДИКОЙ жизни. В ближайшие часы он действительно станет дикарем, изгоем, зверем, взятым на мушку. А что он умеет?..
Нет, он не напрасно просмотрел историю метки. Теперь он знал, что ему не на кого рассчитывать. А ведь мог бы поддаться самообману! Побежал бы к другу, родителям, брату… Это знание, избавившее его от иллюзий, дорого стоило. Хирургическая операция — резекция души — прошла успешно. Немного болезненно, зато радикально. В течение нескольких часов он перестал быть сопляком и превратился в ветерана незримой войны, которая шла повсюду. Оставалось лишь набраться практического опыта.
Безоружный одиночка против всех. Безоружный? Но у него были руки, ноги, зубы, в конце концов. И кто сказал, что кусок водопроводной трубы не может стать оружием? Чтобы убедиться в этом, он раскрошил свой CD-плейер и коллекцию компакт-дисков. Подслащенная жвачка для дебилов. Ник с презрением смотрел на разбитые зеркала, которые так долго были свидетелями его дутой респектабельности и пустой жизни. Теперь эта самая жизнь обрела горький вкус, цвета, объем, продолжительность и реальную цену. За нее стоило побороться.
Он вышел из квартиры, не заперев дверь, и направился к станции метро. Заберется какой-нибудь урод — тем лучше. Загонщики пойдут по ложному пути… В небе был слышен гул вертолетных турбин. Облава приближалась.
Он был далеко не первым, кто пытался сорваться с крючка, но вот как раз об этих «героях» почти ничего не известно. Они сгинули, не оставив после себя никакого следа. Не то что «образцовые» жертвы! В общем, Нику не на кого было равняться.
Он шел по вечерним улицам, и местные гопники шарахались от него, как от бешеного пса. Он понимал, что и эта удача скоро закончится: он перестанет излучать на всех волнах свое единственное послание миру — «мне нечего терять!» — и тогда за него примутся и ТЕ, и ДРУГИЕ.
Но пока ярость и решимость еще подпитывали его. Он шагал и на ходу хлебал странный коктейль из силы и обреченности. Сила вливалась в него с холодным осенним воздухом, а обреченностью было пропитано все вокруг — тротуары, дома, человеческие существа. Они скользили мимо, словно призраки, и каждое уже перестало быть плавучей миной, столкнувшись с которой можно было подцепить простую болезнь под названием смерть. Он не то чтобы презирал их за стадную покорность — в конце концов совсем недавно он тоже был в этом стаде. Просто они были неинтересны ему; и еще не известно, кто от кого отрекся…
Что двигало теми, кто придумал Охоту? Какие мысли рождались в их извращенных умах? Что они при этом испытывали? Желание поразвлечься или нечто большее? Если поддаться слабости, во всем этом можно было увидеть какой-то дьявольский заговор. И многие поддавались. И намекали на вмешательство сверхъестественных сил.
Пиратов объявляли «ангелами смерти», «посланниками сатаны», «проклятием грешников» и даже «карающими псами Господа». Они стали частью новой, нарождающейся религии со жрецами безжалостными, как средневековая инквизиция. Они и были инквизиторами компьютерной эпохи. Но в чем состояла ЕРЕСЬ? И в чем был грех? Вот этого Ник не мог постичь, в противном случае с удовольствием назвался бы еретиком. А так он кто? Просто жертвенный баран, убежавший из загона накануне жертвоприношения и слегка подпортивший весь ритуал.
Теперь, обретя холодный разум, он снова взвесил возможность избавиться от метки. Его сведения были обрывочны и почерпнуты из не вполне надежных источников. Он подозревал, что вполне надежных и не существует — иначе Охота потеряла бы смысл. Безликое молчаливое совершенство неуязвимо. Тайна придавала происходящему мистический налет; зло не только непобедимо, но даже неуловимо…
Метка автоматически перенастраивалась на последнего «владельца»; в случае ее уничтожения или длительного отсутствия контакта с телом жертвы активизировался вирус, полученный в момент ПЕРЕДАЧИ. Вирус переносился всеми возможными путями (включая проклятый поцелуй!), и в том, что он внедрен в организм, сомневаться не приходилось. «Вакцины» не существует — иначе она появилась бы на черном рынке. После ПЕРЕДАЧИ вирус самоликвидируется.
Наверняка существует внешняя система, отслеживающая все перемещения метки.
Загонщики получают сигнал, по которому находят жертву. Возможно, источником сигнала становится также тело жертвы. Не известны ни длительность сеансов, ни их периодичность, ни диапазон. Определение этих параметров заняло бы слишком много времени, которого у дичи нет. Пытаться экранировать себя бессмысленно — это значит уподобляться страусу, прячущему голову в песок.
Слишком много неопределенностей… Что остается? Убегать, менять место, нигде не задерживаться надолго, прятаться от загонщиков, если удастся — убивать их, всякий раз зарабатывая этим небольшую отсрочку приговора.
Это звучало так просто, однако Ник не был уверен, что у него получится. Для начала он попытался сбить облавных со следа. Смешался с толпой в метро и поехал на другой край города. Поднявшись на поверхность, он зашел в магазин, торговавший бытовой техникой, покрутился возле витрины с телевизорами и посмотрел вечерние новости.
Красивая девушка рассказала ему и еще нескольким миллионам зрителей, что Охота перешла в финальную стадию. Отныне сообщения будут поступать в режиме нон-стоп. По каналу «Неусыпное око» показали его квартиру. Какой-то болван, комментируя крупный план с разбитой аппаратурой, намекнул, что хозяин «не в себе». Ник криво ухмыльнулся. Еще как не в себе!
В репортажах он был представлен «гражданином X» — наиболее вероятной жертвой. Объявлены ставки на тотализаторах Охоты. Судя по всему, в долгую жизнь гражданина X почти никто не верил. Большинство обозревателей сходилось на том, что все будет кончено еще до завтрашнего вечера. У дичи шансов дожить до послезавтра — около одного процента.
Что ж, он постарается втиснуться в этот жалкий процент, который отчего-то представился ему узкой норой — единственной из сотни выводящей к воздуху и свету. Он сделает все от него зависящее, чтобы свиньи проиграли свои деньги. Он хотел бы увидеть растерянной и лепечущую с экранов стерву. Только бы достать настоящее оружие — и тогда он объявит им всем: «Сюрпри-и-из!»
Ник вышел из магазина, не дожидаясь, пока устремившийся к нему продавец затянет свою назойливую песенку. Это была избыточная мера предосторожности. Его фотографию не показали — с некоторых пор подобные приемы были запрещены правилами Охоты. Выяснилось, что распространение портретов жертвы чересчур облегчает загонщикам их задачу. Охотниками становились все. Граждане с таким упоением стучали друг на друга, что дичь отлавливали за несколько часов. А вот охота за «темными лошадками» иногда продолжалась месяцами. Соответственно росли и доходы тех, кто стоял за всем этим. И не только. Например, телевизионщики гребли бабки лопатами. Но существовало еще и огромное количество полуподпольных тотализаторов, на которые власти смотрели сквозь пальцы. Стадо было сытым, здоровым и, в основе своей, довольным, вовремя получая свои порции стресса, дозы счастья и инъекции страха.
А как еще бороться со скукой?..
Перед Ником стоял новый выбор — держаться людных мест или пробираться на окраину, а затем пуститься в бега по сельской местности. Подарить ублюдкам незабываемые впечатления. Сафари с кроссом по пересеченке… Оба варианта не сулили ничего хорошего. После полуночи жизнь вяло течет в ночных клубах, но это. просто позолоченные мышеловки. Соваться туда крайне глупо — все равно что пришпилить себя булавкой к стене. В лучшем случае он успеет трахнуть дорогую проститутку и сорвать куш на рулетке. Затем пираты выпотрошат его прямо на бильярдном столе. Пару лет назад он видел по телевизору нечто подобное. Тогда жертвой оказался жирный тупой торгаш, решивший напоследок «повеселиться»… Нет, оставаться в центре нельзя. Городские клоаки немногим лучше. А в лесу он сдохнет от холода и голода. Даже если бы он умел охотиться, это ему не пригодилось бы — всю настоящую дичь и живность в отравленных реках давно извели…
Да и был ли у него выбор? Беги, куда глаза глядят, и слушай подсказки пробуждающихся инстинктов — вот и весь выбор. Остальное — интеллигентская блажь, пережиток благополучных времен, когда он еще испытывал потребность в самоутверждении.
И он пошел, куда глядели глаза.
Осколки раздробленной реальности… Кусочки стекла в калейдоскопе… Витраж уже никогда не сложится снова…
Сумасшедшая баба, радостно орущая ему вслед: «Метка! Метка! Метка! Метка!..» Ему хочется свернуть ее дряблую шейку, руки чешутся, однако нельзя привлекать к себе внимания. Впрочем, внимание на него уже обратили. Головы прохожих поворачиваются в его сторону, словно башни танков. Вместо смотровых щелей — глаза… Ник торопится убраться с той улицы, спрятаться, остаться в одиночестве, лихорадочно соображая при этом: «Откуда она знает?!» Одно из сверхъестественных свойств, данных безумцам в обмен на утраченный рассудок? Возможно, граница гораздо ближе, чем кажется «нормальным»…
Тихий закоулок. Затем грунтовая дорога. Холм без всяких построек… Ник взбирается на вершину и останавливается. Двинуться дальше — все равно что прыгнуть с вышки. Вдруг открывается небо над пустырем. Облака плывут в несколько ярусов, будто белые яхты в бездонной голубизне, подгоняемые холодным ветром из пасти грядущей зимы… Чувство красоты и утраты настолько пронзительно, что Ник понимает: он видит все это в последний раз. Перед смертью не надышишься. Бессмысленно впитывать ускользающий свет; явно не тот случай, когда накопленное можно забрать с собой…
Сентиментальный слизняк, которого вот-вот раздавит сапог… Но он ползет, ползет дальше…
Дети, играющие между уродливыми заборами. Этим пока ничего не грозит, и «близкие контакты» не омрачены взаимной подозрительностью. Черная метка и Охота являются для них частью интересной взрослой игры. Иногда они тоже играют в пиратов… Малыши возятся друг с другом — немного неуклюжие и забавные, как щенки… Ник не понимает, куда девается собственное прошлое человека. В какой-то черный день из него вынули ребенка, словно он был матрешкой. Но этим дело не кончилось. Потом из него вынули подростка, юношу, студента, невинность, эфемерную любовь, молодость. И так далее… Десяток Ников разного возраста запечатлены на фотокарточках. Мертвые изображения. Но сами оригиналы преданы теперь забвению, будто их никогда и не существовало. «Где настоящий я? — думает он. — Можно ли собрать себя снова, хотя бы на мгновение ощутить прежние целостность и полноту? Не говоря уже о том, чтобы опять почувствовать себя ЖИВЫМ…»
Дети кричат. Начинается драка. Не поделили, кому быть пиратом, а кому — дичью… Ник устремляется прочь, чтобы не видеть этого. Репетиция будущего. Малолетние актеры уже разучивают роли. И этот театр нельзя сжечь…
Метка изменила все. Отравила существование и в то же время сделала его потрясающе острым и вкусным. Райский сад, оказывается, находится совсем рядом. Запретный плод близок как никогда. Чего не отдашь теперь, лишь бы отведать кусочек? А то ведь гложет ужасное чувство, что прожил напрасно…
Но слишком поздно. Рецепторы атрофированы; ложный аппетит — очередная ловушка. Жри, жри быстрее, пока еще есть время. Чем больше сожрешь, тем сильнее будут предсмертные муки… И Ник пытается убежать от самого себя, даже не осознавая этого. Отчаяние опережает тело — летит впереди, сметая малоподвижные сонные оболочки, маскирующие предметы, и они тают, обреченные на мгновенность…
«Я поставил на тебя, — раздается хриплый шепот из подворотни…
— Покажи им, сынок! Не подведи, твою мать…»
Ник оборачивается на голос и видит единственный глаз, пьяно, весело, маниакально сверкающий в полумраке. Этот глаз то ли моргает, то ли подмигивает ему. Заговорщик… Но против кого заговор?
Вот сейчас Ник готов поверить в черта. Одноглазого картежника, с легкостью проигрывающего и выигрывающего сотни крепостных душ. Ник — среди них; его карта — в сносе… Внезапно он понимает, что чуть не подвергся распаду. «Покажи им, сынок!» — это было заклинание, снова слепившее его воедино, а после «Не подведи, твою мать…» в него влилась необходимая порция злобы.
И он не подвел.
Первого загонщика он убил на утренней заре.
До этого Ник успел пообщаться с бездомным мужиком, который нашел себе временное пристанище под мостом. Ник долго сидел в десяти шагах от него, пытаясь согреться между проложенными поверху трубами теплосети, а потом Мужик позвал его к своему костерку, но не поделился едой, собранной в мусорных баках. Огонь — бесплатно, но за еду надо было заплатить. Ник заплатил без возражений; у него было приятное чувство, что он просто не успеет истратить свои деньги. Спиртного он не покупал, чтоб оставаться в форме, а вот от горячего чая сейчас не отказался бы. Мужик мог предложить ему только вонючее варево из грязной миски.
Они поели, пристально следя друг за другом. Бомж был тертый и видел Ника насквозь, поэтому тот не делал заведомо тщетных попыток сбросить метку. Зато бродяга посвятил его в тонкости своеобразного кодекса отверженных. Например, Ник усвоил, почему метку нельзя всучить насильно, отдать недоумку или ребенку. Прежде всего такие клиенты не являлись полноценной дичью — по определению. Не все с этим соглашались. Правила уравнивали мужчин и женщин, молодых и пожилых, здоровых и больных. Почему же надо делать исключение для оставшихся?..
Ему и раньше был известен случай, когда один человек заставил безрукого инвалида проглотить метку. Публичная казнь мерзавца длилась два дня, и ее транслировали на всю страну. Но теперь Ник понял, чем было обусловлено соответствующее правило Охоты и каким образом приговор приводился в исполнение.
В какой-то момент он почувствовал приближение опасности. И дело даже не в том, что две фигуры, сидевшие возле чахнущего костерка, представляли собой отличные мишени. Ветер трепал огонь, и точно так же вдруг затрепетала от страха душонка Ника. Она рвалась и металась во внутренней тьме… Это была минута слабости, когда он готов был сдаться. Что мог противопоставить мощной, отлаженной, отлично смазанной и набравшей ход машине уничтожения он — голодный, замерзающий человечек? Гордо встать, держа наперевес обрезок трубы? Он предвидел, как все будет в этом случае. Для начала пираты раздробят ему коленные чашечки, и он* уже не сможет больше стоять. Только ползать, но далеко не уползет. А лежа можно изображать что угодно, только не сопротивление…
Он отогнал эти предательские мысли, будто раздвинул липкий туман, выползавший из черной пропасти отчаяния. Сквозь удушающую слизь проступали фигуры — неразличимые, но определенно враждебные. Это было какое-то новое, интуитивное зрение. Призраки — предвестники реальной угрозы — были частью морока, убаюкивавшего на краю темноты. Они отвлекали, пугали, маскировались под ночной кошмар… Ник справился и с этим.
Он оборвал на полуслове неторопливый разговор, который вел с хитрым бродягой, схватил трубу и скользнул в темноту. Необходимость учила быстро: он двигался бесшумно и стремительно. Все уроки усваивал на ходу. Точного пеленга нет; загонщикам запрещено применять огнестрельное оружие; стреляют на поражение только пираты, однако прикончить жертву издалека считается недостойным настоящего охотника, лажовым поступком, проявлением дурного тона. Можно испортить себе репутацию, но, самое главное, во много раз снижаются ставки. Автоматически вводится коэффициент безопасности. Винтовки с оптическим прицелом — только для тех, кто рискует покрыть себя позором и не получить ничего. Пираты предпочитают ножи. Бритва считается элитным оружием. В общем, ангелы смерти далеко не безгрешны и тоже любят бабки.
Все это добавляло ему уверенности в себе. Тусклая лучина позднего осеннего рассвета затеплилась в промежутке между заброшенными цехами какого-то завода. На этом фоне стали заметны движущиеся силуэты. «Тихая» облава, понял Ник. Загонщики вели себя достаточно осторожно. В таком месте подобная тактика была вполне оправдана. Это совсем не то, что гнать растерявшуюся домохозяйку по сияющему огнями проспекту. Одна жертва из десяти выкидывала какой-нибудь фортель. Ник собирался слегка подправить эту статистику.
Неожиданно он услышал звук чужого дыхания. Человек оказался совсем близко от него, на расстоянии вытянутой руки. Ника спасло только то, что он затаился в глубокой тени. На какое-то время преследователь и жертва поменялись местами. Ник понял, что это ОН сидит в засаде, а загонщик еще не подозревает о его присутствии, более того — стоит, повернувшись к нему спиной. Человек изучал противоположную набережную, разглядывая ее в инфракрасный бинокль. Насколько Ник мог судить, это был кто-то из рядовых загонщиков, не имевший пеленгатора. Не исключено, что любитель, заплативший приличные деньги за разрешение поучаствовать в Охоте и получить острые ощущения.
Нику потребовалось несколько секунд, чтобы собраться и сделать то, чего он не делал ни разу в жизни. Эти секунды тянулись-очень долго, и он ощутил, что его начинает подташнивать от мысли о предстоящем убийстве. Еще немного — и он превратился бы в медузу…
Поэтому он выступил из тени, размахнулся и ударил человека трубой, использовав ее в качестве импровизированной дубинки. Кусок металла со свистом рассек влажный густой воздух, описывая широкую дугу. Удар пришелся в основание черепа. Ник вложил в него остаток тающих сил. Раздался тихий хруст; человек упал лицом вниз, дернулся пару раз и затих. Ник покачнулся, но выстоял.
У него хватило ума снова спрятаться в тени и немного выждать. Ничего не происходило. Жертва лежала неподвижно. Если загонщики и двигались цепью, то расстояние между ними было слишком велико. Быстрое и почти бесшумное нападение прошло незамеченным.
Ник выполз из своего укрытия на четвереньках и приблизился к… (трупу?)… телу, чтобы обыскать его. Для начала он убедился в том, что загонщик мертв. Пеленгатора не было — тут он угадал. Зато Ник нашел кое-что другое: мобильник, отличный нож в чехле, суточный сухой паек, флягу с водой, капсулы стимулятора и переносную аптечку. Ублюдки были неплохо экипированы…
Обшаривая мертвеца и забирая себе его побрякушки, Ник не испытывал ни малейшей брезгливости. Это были его первые трофеи, захваченные пусть не в открытом бою, но все же… Как ни крути, он рисковал своей шкурой. Нож — уже кое-что. У него хватило наглости помечтать о том, что будет, когда он обзаведется пушкой…
Он отмахнулся от этих мыслей, чтобы не дразнить судьбу. Судьба — капризная шлюха. Он был твердо уверен в этом, несмотря на то что та «изменила» ему всего один раз. Он попытается вернуть себе ее расположение.
Возможно, он услышит по мобильнику что-нибудь полезное. Возможно, это даст ему шанс ускользнуть от облавы, но вряд ли сработает больше одного раза. Он получил фору ровно до тех пор, пока не будет обнаружено тело. А тогда против него бросят все силы, лучших, самых натасканных псов. Убийство загонщика — это уже серьезно. Каждый из пиратов посчитает делом чести прикончить его лично.
Смертельный случай во время Охоты? О-о-о, такого давно не было! Ник знал, что буквально через несколько минут он произведет сенсацию. Миллионы паразитов прилипнут к экранам телевизоров, чтобы всосать новое развлечение в свои пустые мозги.
Его «подвиг» станет однообразной песенкой, которую будут крутить без перерыва и затаскают до отвращения; он — резкий звук смычка, которым будут возить недолгое время по ржавым нервам. Еще бы: ведь он — один из них! Среднестатистический гражданин X, переживающий вместе с ними смертельно опасное приключение; они — в креслах, жуя чипсы и бутерброды, а он — в какой-то индустриальной клоаке, среди крыс и дохлых кошек. Он ненадолго потряс это болото, но любые волны быстро гаснут в вязком дерьме…
Он жадно сожрал пару плиток шоколада, запил водой из фляги и проглотил капсулу стимулятора. Вероятно, с непривычки и на голодный желудок он сразу же почувствовал себя гораздо лучше. Так, словно за спиной выросли крылья. А заодно клыки во рту, когти на пальцах и шерсть по всему телу… Прилив темной силы подхватил его и повлек туда, куда звал инстинкт. Он ощутил, что такое охотничий азарт.
Держа трубу в одной руке, а обнаженный нож в другой, увешанный всем необходимым для выживания в течение ближайших суток, он зашагал в ту сторону, откуда двигались облавные. Рискованный, но необходимый маневр. Ник пробил брешь в их редкой сети и отвоевал себе еще несколько часов жизни.
Следующий вечер застал его в предназначенной под снос развалюхе, стоявшей посреди выселенного частного сектора. Тут не было даже бродячих собак. Только птицы изредка садились на дырявую крышу. Всюду белел их помет. Мародеры давно выскребли сараи и погреба.
День прошел на удивление спокойно. Видимо, облавные готовили решающий удар. Труп был вполне красноречивым предупреждением. Посетив универмаг, Ник посмотрел дневные новости. Гражданину X присвоили код «00», которым обозначали особо опасных преступников. Он поздравил себя с тем, что его приняли всерьез. А что будет, если он прикончит еще одного загонщика? Бросят ли против него войска? Готовы ли эти сволочи нарушить основной принцип, гласивший, что в процессе Охоты замены не допускаются? Он узнал это очень скоро.
Мобильник ему не пригодился. Никто не вышел на связь, чтобы шепнуть дичи на ушко: «Алло, я иду искать!..» На всякий случай он выбросил аппарат по пути, опасаясь, что в нем может быть установлен маячок. Вода и паек были на исходе. К счастью, осенью не было проблем с влагой. Он наполнил флягу дождевой водой, скопившейся во врытой в землю бочке, ополоснул лицо и руки. Купаться не рискнул, хотя ощущал собственные неприятные запахи пота и немытого тела. Такое зловоние исходило от бездомных. Если Охота затянется, запах приобретет звериную силу…
Он никогда не подумал бы, что в подобной ситуации ему будет не хватать зубной щетки и электробритвы. Помойка во рту раздражала, отвлекала, заставляла снова и снова пережевывать выделяющуюся слюну. Щетина вызывала зуд… Отчего-то он вдруг вспомнил ту шлюху в серебристом «купе». Попалась бы она ему теперь! Он насиловал бы ее до тех пор, пока не стер бы себе член… И все же интересно, как этой твари удалось избавиться от метки? Должно быть, кто-то получил бесплатное удовольствие…
Его мысли снова вернулись в накатанную колею. Ведь ему тоже еще не поздно! Но кто подпустит близко к себе небритого типа с диковатым блеском в глазах и следами грязноватого ночлега на одежде? Это не значит, что он не делал попыток финтить. Был еще призрачный шанс ВЕРНУТЬСЯ. Он честно использовал все возможности.
В универмаге его отшил кассир, когда он пытался передать метку с горстью монет на сдачу. После этого целый этаж почти мгновенно опустел. Ему пришлось поспешно сматываться оттуда и долго кататься на общественном транспорте, пересаживаясь с маршрута на маршрут. Надежда встретить дремлющего или пьяного простофилю не сбылась — с тех пор, как началась Охота, людей перестало укачивать, а пьяных на улицах не было вообще. Оказывается, достичь идеального общественного порядка было так легко!
Не прошел номер и в зоопарке, где Ник выслеживал человечка, лизавшего мороженое, — на вид стопроцентного лопуха. Но «лопух» проявил неожиданную сообразительность и реакцию боксера; в результате Ник почувствовал себя дебильным павианом, очутившимся в компании гениальных шимпанзе. Комплекс неполноценности развивался стремительно.
Трюк с «потерянным» бумажником он забраковал по причине исключительной примитивности. На такую дешевку уже давно никто не ловился, даже умирающие от голода. К вечеру он был измотан до предела и вынужден принять еще одну капсулу стимулятора. Однако загонять организм не имело смысла — он знал, что отходняк потом будет жуткий.
Несколько часов спокойного сна в тихом месте — все, что ему нужно. Вот только где он, этот потерянный рай — спокойное место?!
Но он отыскал нечто подходящее.
В том брошенном доме без мебели ему приснился страшный сон. Он был женщиной, получившей метку ВО ВТОРОЙ РАЗ. Наяву такого не случалось за всю историю Охоты. Ник запомнил кошмарное ощущение, заставившее его сжаться даже в бездонной колыбели сна. Он узнал, что это значит — пережить предательство и ужасное приобретение; пройти через немыслимые муки, превратиться в живого мертвеца, ходячую куклу; наконец, с громадным трудом избавиться от метки ценой отказа от самого себя; воскреснуть, родиться заново, наслаждаться жизнью — и снова быть ввергнутым в жутчайшую трясину безысходности.
Дьявол стоял за всем этим. Дьявол с человеческими лицами. Шесть миллиардов масок, а под ними — пустота… Дьявол хохотал над иронией судьбы, снова подбросив бедняжке метку. Его ужимки были изощреннейшим шутовством над гнилой и одновременно возвышенной человеческой сущностью. И даже самопожертвование, способность любить, вера, добро — все эти прекрасные символы наличия души оказывались абсолютно бесполезными в подобной ситуации. Как вести себя, когда не можешь проявить лучших своих чувств, когда нелепо сострадание, когда животворящая влага любви уходит в песок, когда фонтан нежности хлещет, разбивая манекены прошлого, когда некого и не за что прощать, когда теряет смысл любая добродетель, кроме способности страдать, а единственным ощущением остается страх?.. Дьявол смеялся. Его хохот заполнял стылую Вселенную…
Ника прошиб ледяной пот. Яйца превратились в две заиндевевшие гирьки, изо рта потекла слюна, будто пена эпилептика…
Проснулся он от холода, пробравшегося сквозь кожу и клетку из ребер до самого сердца. Резко сел. Что-то хрустнуло в пояснице. Наручный хронометр показывал четверть одиннадцатого. Как бы не проспать собственную смерть! А то перережут глотку сонному — и самое важное событие пройдет незамеченным… Он еще был способен на юморок. Не бог весть какое утешение, но все же…
Следующие сорок минут его терзала неопределенность. Он сидел в центре погруженного во тьму квартала и не имел ни малейшего понятия о происходящем вокруг. В частности, о том, где находятся загонщики. Отдохнувшим он себя не чувствовал. Башка соображала плохо. Сбой биологических часов ощущался все сильнее, потому что Ник привык к устоявшемуся режиму. Рваное время…
Но, видать, что-то было в древней мудрости. Пока он сидел на своем черном троне — владыка смертельной ночи и безлюдной земли, лишившийся желаний и связных мыслей, — враги пришли к нему сами.
Он услышал приглушенный расстоянием шум двигателей. Лучи прожекторов стали призрачной зарей. Ненадежный покой улетучился, как будто его и не было. Ник вскочил и подбежал к окну.
Разглядеть отсюда силуэты облавных «луноходов» было невозможно, но шестое чувство подсказывало ему, что это ОНИ. Где-то, на большом расстоянии (пока еще большом!), двигатели пожирали бензин и кислород. Чуть позже донесся возбужденный собачий скулеж. Зная свое дело, псы не лаяли, однако полностью сдержать восторг предстоящей охоты не могли.
У Ника тоже появилось предвкушение. Горьковатый привкус во рту. И страх, конечно, — как же без него!.. Несмотря на это, спустя восемь минут он обзавелся рваной раной на руке, зарезал двух доберманов и одного «кинолога». Его черная метка записывала в автоматическом режиме уникальную историю, которая, возможно, станет «гвоздем» сезона и будет распродана тиражом не менее пятидесяти миллионов экземпляров. Для удобства пользования хронология происходящего была расписана по секундам.
Эпизод спустя еще шестнадцать минут: гражданин X (код «000» — ТРИ нуля!) добирается до спецмашины облавной команды, убивает вооруженного водителя и без особых помех покидает место представления. Водит он плохо, но все же отрывается от погони, сбивает по пути некстати подвернувшуюся старушку, а затем бросает машину на подземной стоянке.
Во время нападения его лицо остается невозмутимым. Это не значит, что он не испытывает никаких эмоций. Но какая запись может выразить немое чувство, охватившее его, когда рука впервые легла на рукоятку пистолета! Да, чувство было немым, однако Нику хотелось кричать.
Облавные получили приказ передвигаться как минимум по двое. Это им не слишком помогло. В течение последующих полутора суток он ранил троих и застрелил десятерых загонщиков, а также двух пиратов. То есть расстрелял всю обойму. Но к тому моменту это уже не было для Ника проблемой. Он обзавелся еще двумя пушками и доброй сотней патронов.
Дело дошло до того, что, вопреки всем правилам, фотографии гражданина X были вывешены на каждом углу. А это уже популярность, которую Ник проклинает. Почти все пути для него отрезаны. Закрыты аэропорты и вокзалы, усилены патрули на дорогах. Город практически оцеплен. В дневное время выбраться на улицу Ник уже не может. Это вызовет такой же эффект, как появление хорька в курятнике. Его узнают даже дети. Приняты исключительные меры безопасности и охраны населения от «маньяка». Из запаса призваны престарелые загонщики, чей опыт первых «диких» Охот оказался не лишним, и пираты, давно ушедшие на покой.
В средствах массовой информации раздаются робкие голоса, предлагающие запретить хождение черной метки, но они сразу же тонут в негодующем хоре. Во что превратится это общество без Охоты? Разве чертовы либералы и поборники человеческих прав уже забыли, как низко пали нравы в предшествующие годы? Разве одна жертва из миллиона помешает нам вырастить здоровее и морально устойчивое поколение? Разве под колесами машин и в авиакатастрофах не гибнет в тысячу раз больше людей? А рак? А СПИД? А наркотики? Короче говоря, руки прочь от Охоты! И не мешало бы увеличить финансирование облавных команд. Подумать только, вторую неделю не могут изловить одного придурка!
Однако почему придурка? Нашлось не менее сотни людей, которые потирали загребущие ручонки при упоминании о гражданине X. Слава придурку, обогатившему нас! За его счет поживились немногие рисковые держатели тотализаторов, но гораздо больше свиней он пустил по миру. Он встряхнул обывателя так, что у того зубы застучали. Некоторые прикусили языки. Обыватели мирно дремали, пока смерть кривлялась по ту сторону телевизионных экранов. Гражданин X напугал всех до дрожи в хилых коленках. Бараны инстинктивно сбились в кучу и сплотились еще сильнее, а облавные окончательно озверели.
Двое суток он воевал в катакомбах. За это время случайными жертвами Охоты стали несколько диггеров и неопределенное количество бомжей, застреленных пиратами то ли по ошибке, то ли на всякий случай. Стоило нарушить одно правило — и стали необязательными остальные. Охота превратилась в бойню.
В условиях полного беззакония Ник чувствовал себя совсем неплохо — рыбкой в мутной воде. Он ходил по самому краю. Смерть всегда была рядом, иногда подбираясь очень близко к нему, но известный сценарий облавы был безнадежно скомкан. В катакомбах он прикончил шестерых загонщиков. Еще семеро оказались погребенными под завалом. Ник выбрался из подземелья вовремя.
Церковь стояла на его пути. Он выглядел немногим лучше, чем убогие, копошившиеся на паперти. Не так оборван, зато не менее грязен. Собравшись вместе, члены самого закрытого профсоюза на свете представляли серьезную опасность — особенно если чуяли конкурента. Он обошел десятой дорогой этих озлобленных шавок, перелез через высокий забор и оказался на заднем церковном дворике.
Здесь все дышало умиротворенностью. Справа виднелся крест над могилой какого-то иерарха. Старый клен осыпал ее желтыми листьями.
Это навело Ника на отвлеченную мысль о том, где, в каком наспех вырытом рву закапывают убитую двуногую дичь. Но скорее всего дичь нигде не покоится, а, превращенная в пепел в печах крематория, переносится в виде мельчайшей пыли с ветром — бесплодное семя смерти. Или служит пособием для начинающих студентов-медиков; после встречи с пиратами едва ли можно стать полноценным донором внутренних органов…
Через неприметную боковую дверь Ник проскользнул внутрь и очутился в пустом гулком коридоре. Тут приторно пахло каким-то ароматизатором. Горели обыкновенные электрические лампочки. Под потолком тянулись телефонные провода.
Ник впервые попал в церковь и весьма слабо представлял себе здешнее расписание и расположение помещений. Никакого благоговения он точно не испытывал, хотя были поводы для аналогий: он познал вкус отравленного поцелуя, и обманутая толпа готовилась к зрелищу его казни. Однако на Иисуса, пострадавшего во имя спасения всех грешников, он никак не тянул. В лучшем случае — на чертика из табакерки, способного устроить переполох местного значения. Он не хотел умирать и не понимал, почему Иисус не уехал куда-нибудь подальше. Например, в Китай…
Ник вдруг ощутил потребность переброситься с Иисусом парой слов. Он спросил бы, что представляла собой черная метка в те времена и неужели от нее нельзя было избавиться.
Он свернул налево, миновал добротные закрытые двери. Чаши, иконы, столики. Что-то вроде служебного помещения. Везде было как-то по-мещански чистенько, и витал ханжеский дух. Ник вообразил себе здешнюю клиентуру: румяных набожных старушек, впитавших благочестие и заключивших с Богом полюбовные соглашения. Одновременно обстановка напоминала хорошо финансируемый сиротский приют.
Позади скрипнула дверь.
— Вот это правильно, сын мой, — раздался хорошо поставленный сладковатый голос.
Ник увидел попа, выходящего из темной комнаты, в которой мерцал экран телевизора. При виде постороннего тот не выказал ни малейшего удивления.
— Лучше поздно, чем никогда, — сообщил поп. — Бог никого не отвергнет.
Может, и так, только Ник не собирался вступать в теологические дискуссии, замаливать грехи и дожидаться, пока пираты выпустят ему кишки прямо перед алтарем. А попу не откажешь в проницательности — сразу догадался, с кем имеет дело. Но только ли догадался? Ник насторожился.
— Дайте поесть, — попросил он без особой надежды, прикинувшись простачком.
— Сын мой, в твоем положении надо думать о спасении души. Слышишь?
Поп воздел указательный перст. Тяжелый крест, лежавший почти горизонтально на его жирном брюхе, отбрасывал маслянисто-желтый, непристойный блеск.
Ник действительно слышал отдаленный вой сирен. Звук сопровождал его повсюду, проникая даже в короткие неспокойные сны. Трубный глас для единственного слушателя. Приближался личный апокалипсис…
«Что ты знаешь о моем положении?» — зло подумал Ник. Но вслух сказал другое:
— Мне бы пожрать чего-нибудь, а о душе я позабочусь сам.
— Хм, почему бы нет? — внезапно согласился поп. — Но прежде… Я хочу посмотреть на НЕЕ. Покажи мне. Только издалека. Когда еще представится случай…
В эту секунду Ник угадал в нем извращенца. Кому еще могли принадлежать этот взгляд и этот голос! Возможно, таким же тоном поп просил молоденьких грешниц снять трусики в исповедальне и показать ему ЕЕ.
— Пошел ты! — сказал Ник.
— Не оскверняй святое место подобными речами! — предупредил поп, не сразу выйдя из роли. Потом он, по-видимому, счел Ника безнадежным. Из-под рясы появился ствол парализатора…
Для Ника такой оборот событий не стал неожиданностью. В конце концов поп-пират — не более редкая цаца, чем поп — агент госбезопасности. Если вдуматься, официальная церковь и была одним из эффективнейших подразделений этой самой госбезопасности, тонким инструментом приручения. Недаром попы именовали себя «пастырями», прихожан — «паствой», а таких, как Ник… Ну конечно же, «заблудшими овцами»! Вот только он имел наглость не звенеть колокольчиком, оповещая о своем местопребывании, когда им понадобилось его мясо.
Немного позже у него появилось время для подобных обобщений. Получалась довольно стройная картинка. Но тогда он отреагировал мгновенно.
Ник находился в двух шагах от попа и не стал стрелять в упор, чтоб не поднимать шума. Он просто совершил резкое движение и стукнул попа рукояткой пистолета по голове. Затем поддержал массивную тушу, сползающую по стеночке, мягко опустив ее на пол.
Он уже приобрел некоторый навык в такого рода делах и правильно рассчитал силу удара. Поп вырубился как минимум на несколько минут. Ник оттащил его в темный закуток и прошел в огромный зал, утопавший в роскоши. Гордо сверкало золото. Святые взирали осуждающе. Множество горящих свечей заставили его отчего-то вспомнить мессу из фильма ужасов. По мнению Ника, это было место, где баранов утешали за их же деньги. Насилие в церкви? Один шаг до кровопролития? А что дальше?..
Он вытравил из себя еще одно никчемное суеверие. Скверна была не на нем; он остался чистым. Существо без предрассудков продолжало двигаться в поисках жизненного пространства. Оно без усилий разорвало прелую сеть вины, в которую его пытались уловить…
Иногда он сам удивлялся тому, с какой легкостью скрывался от профессионалов. Обострившееся до предела чутье безошибочно подсказывало, где могла быть ловушка. Любое место он воспринимал как ЛИЧНУЮ территорию, на которую вторглись посторонние. Он все меньше думал и анализировал, зато все больше доверял своей темной половине, обитавшей в вечных сумерках на изнанке привычного мира — в обстановке непрерывного голода, лишений и угрозы. Возникали новые состояния; он испытывал необычные ощущения, однако странными они казались только вначале.
Теперь ему удавалось подолгу удерживать в сознании некий важный и зыбкий образ — пятно, обозначавшее часть жизненного пространства, где он был в безопасности. Это пятно непрерывно изменялось: то пульсировало, словно гигантское сердце бесплотной твари, то превращалось в сжимающийся круг, а потом вдруг выбрасывало одно или несколько «щупалец». Двигаясь вдоль них, он находил путь сквозь заслоны, просачивался в щели, выскальзывал, как угорь…
Но если честно, то ему тоже помогали. Он был не на чужой планете, и далеко не все принимали участие в травле.
Случалось, другие изгои показывали ему выход, когда он уже считал свое положение безнадежным. Это была кратковременная солидарность, которая в любую секунду могла обернуться враждебностью — стоило лишь Нику посягнуть на скудную пищу нищих, на их картонные жилища и даже — смешно сказать! — на их извращенное представление о «свободе».
Самый таинственный эпизод произошел в очистных сооружениях, куда его занесла нелегкая. Ему пришлось пару часов брести по колено в дерьме, и Ник вполне оценил изящный юмор ситуации. Прах к праху, дерьмо к дерьму. Сдохнуть здесь было бы, конечно, крайне символично.
Облавные пустили слезоточивый газ, и Ник понял, что на этот раз они его все-таки достали… Полуослепший, задыхающийся и потерявший ориентировку, он тащился, наугад по вселенскому сортиру, через зловонную и хлюпающую трясину, растекшуюся внутри железобетонного лабиринта. Эхо уже доносило до него голоса загонщиков, а потом…
Чья-то рука вдруг перехватила его правое запястье. Наверное, она протянулась из бокового хода или ниши, погруженной в темноту. Движение было быстрым и точным. Он дернулся, но чужая клешня держала крепко, хотя и не делала попыток выбить пистолет. В левой руке Ник сжимал нож и от неожиданности мог нанести почти мгновенный рефлекторный удар, однако что-то помешало этому.
Он замер, пытаясь разлепить ужаленные сотнями ос веки и разглядеть того, кто решился на близкий контакт с дичью. Тщетно. По глазам струилась обжигающая пелена; слизистая оболочка была будто посыпана абразивом…
Неизвестный благодетель мягко, но настойчиво потянул его за собой. Ник подчинился — а что ему оставалось делать?
Они шли долго, очень долго. Ник чувствовал себя слепым ребенком, которого ведет (домой?..) мать. Или ласковый педофил — но это уже не имело особого значения.
Существо без запаха (все забивала нестерпимая вонь), без лица (вокруг ничего, кроме темноты) и, может быть, с од-ной-единственной черной рукой, вылепленной из сгустившегося кошмара, двигалось совершенно беззвучно. Оно вывело Ника туда, где воздух был чуть посвежее и куда еще не добрались облавные. Вывело — и бесследно исчезло. Хватка разжалась, и в следующее мгновение Ник понял, что рядом уже никого нет.
Что это было? Если рука, то… ЧЬЯ? (Как там в книжонках — дьявол, Бог, провидение?..)
Он недолго задавал себе этот вопрос. Спасен — и спасибо. Благодарность требовала новых жертв. За ними дело не стало.
К тому моменту он превратился в национального героя и одновременно в национальное бедствие. Престиж облавных катастрофически падал. Заодно пошатнулось доверие к властям. Кое у кого на самом верху началась сильная головная боль. Раскачивать лодку и дальше становилось опасным. Против беглеца были брошены отборные силы полиции, элитные отряды спецназа и армейские подразделения. Но впереди все равно шли пираты.
И в конце концов они загнали Ника в угол.
Он был ранен. Истекал кровью. Запас воды кончился. Стимулятор тоже.
Все бинты и ампулы с обезболивающим препаратом использованы. Вдобавок по ночам начались заморозки.
Раны не смертельны, но без профессиональной медицинской помощи ему не обойтись. Каменная кладка, к которой он прислонился спиной, была той самой пресловутой расстрельной стенкой, возле которой рано или поздно заканчивают свой славный или бесславный путь все бунтари. Он ни о чем не жалел. У него оставалось достаточно патронов, чтобы покончить с собой и таким образом избежать пыток.
Пираты наверняка догадывались об этом и захватили с собой парализаторы. Он был слишком ценной дичью, чтобы так просто умереть. Его казнь стоило бы растянуть на месяцы и показывать в лучшее эфирное время — если бы, конечно, выдержал организм. Медицина находится на приличном уровне и вполне способна обеспечить всем желающим это удовольствие. А желающих много. Даже слишком много, и в вечерние часы потребление энергии превышает все мыслимые показатели. Племя копрофилов жрет почти непрерывно. Их аппетит неутолим.
Нику безразлично, что творится в параллельной жизни. Он готовится принять свой последний бой. И странная вещь: если сейчас вдруг случится невероятное и какой-нибудь человечек приблизится к нему и сам попросит ОТДАТЬ метку, Ник вряд ли поймет, о чем вообще идет речь. А если и поймет, то вряд ли согласится. Метка стала для него не тем, чем была раньше. И обозначает совсем другое. Она уже не символ смерти, хотя смерть неминуема. Она — символ сопротивления, знак утраченного и вновь обретенного смысла краткого существования. Он не отдал бы ее ни за какие блага мира, потому что прогрыз дыру в этот мир, вошел с черного хода — и его это устраивало. Все ничтожные «ценности» лежали у его ног, и он смотрел на них как на мусор. Они и были мусором. Только тут и могли жить крысы…
Он сидел, истекал кровью и ждал. На его лице застыла презрительная гримаса. Он презирал свою боль и свое тело, оказавшееся слишком слабым для долгой войны. Такой негодный кусок мяса! Если бы это помогало, Ник собирал бы свою кровь руками и глотал бы ее, чтобы продержаться подольше.
Он слышал какие-то звуки, но не был уверен, что это не биение его сердца. Или все-таки шаги? Он вытер липкую от крови ладонь, которой зажимал рану на боку, взял пушку и открыл глаза.
Кольцо пиратов медленно сжималось. Теперь жертве некуда было деваться, и они не спешили. На их лицах можно было прочесть усталость и мрачное удовлетворение. В этом сезоне попалась классная дичь. Охота получилась интересной и опасной, как никогда. Для многих «ангелов смерти» — последней. Оставшиеся в живых могли зачерпывать адреналин ложками…
Ник с трудом поднял руку, сжимавшую пистолет. В глазах потемнело, и ему стоило неимоверных усилий удержать на мушке слитный трехголовый силуэт. (Это что еще за дракон?! Такси из ада?..) Он усмехнулся про себя. Эти идиоты открыто приближались к нему!
Он выжидал, чтобы стрелять наверняка, хотя рисковал получить заряд из парализатора. Но слово «риск» уже имело для него совершенно абстрактный смысл.
Вдруг вперед выступил вожак пиратов — громадный детина с кошмарными шрамами на роже. Его улыбка смахивала на медвежий оскал. Против ожидания раструб парализатора был направлен вниз.
— Неплохо, сынок, — прохрипел этот недорезанный Франкенштейн. — Совсем неплохо… Из тебя выйдет толк. Считай, что ты принят на работу. Добро пожаловать в стаю.
Те, что стояли за ним, подняли руки, отдавая что-то вроде салюта.
Ник не верил своим ушам и глазам. С другой стороны, откуда еще берутся пираты и загонщики, если не из числа жертв? Исчадия ада? Посланцы с того света? Сказочка для дураков и пугливых домохозяек! Все они тоже когда-то были дичью, но заслужили право перейти в разряд хищников. Заплатили за это своей кровью. Ник видел шрамы, увечья, черные дыры зрачков… Простенькое открытие, однако оно согревало душу.
Ник держал паузу. Искушение было велико. Гордость распирала его. Он сдал этот страшный экзамен. Прежде всего самому себе. Плевать ему на то, что думают все пираты, вместе взятые. Не говоря уже о баранах… Теперь он сам был волком. Матерым охотником. ОНИ только что признали это. Ему предлагали вступить в СТАЮ — именно так вожак назвал свою банду веселых убийц.
Но разве ОНИ не понимали, что такие, как Ник, обречены на одиночество? Он — последний боец сопротивления. Его личная борьба будет продолжаться, пока он жив, и закончится с его смертью. Не останется даже легенды. Все имеет значение только здесь и сейчас…
Он снова медленно обвел взглядом пиратов. Можно было бы, конечно, красиво умереть, забрав с собой еще одного или двоих. Но много ли от этого толку? Задержит ли это следующую Охоту?..
Что подсказывал ему инстинкт?
Жить дальше.
Бороться, но изменить тактику. Разрушать систему изнутри. Втереться в доверие, стать своим среди чужих, подняться как можно выше в иерархии стаи, приобрести влияние, а затем начать резать ИХ тайком и поодиночке. Возможно, для убедительности во время будущей Охоты придется прикончить и парочку ни в чем не повинных баранов. Что ж, цель оправдывает средства. Древние ведь тоже приносили кровавые жертвы на алтари Победы. Нет, он не сдастся.
По-прежнему один против всех. И войне не видно конца.
Алексей Бессонов ТЕНИ ЖЕЛТЫХ ПОРОГ
…в шестой год эпохи Сэн, когда необычайно ранняя весна заставила мир укрыться пестрым одеялом цветов, по желтой, ведущей в гору дороге неторопливо шествовал крупный мужчина в черном — сведущий глаз безошибочно распознал бы в нем одного из тех монахов-воинов, что, покидая стены своих обителей, каждый год отправляются в путь, ведущий их к покаянию осмысления; и мало какой мудрец, разве что из числа просвещенных, догадается, какими дорогами пустится тот или иной инок.
Наш монах был немолод, седина щедро посеребрила его локоны, собранные на макушке в сложной формы косу. В нем ощущалась сила и спокойное, без тени смирения, достоинство — из-под ризы виднелась рукоять дорогого и очень древнего меча. Он медленно поднимался в гору, вокруг него луково золотились старые сосны, пахло смолой. Неожиданно остановившись, инок поднял голову — далеко в небе занудливой мухой пели моторы королевского воздушного корабля. Монах проводил серебристую сигару долгим задумчивым взглядом, отчего-то вздохнул и продолжил свой путь.
Вскоре он оказался на вершине горы. Сосны здесь были редки. Замерев, монах вперил свой взор в причудливую черно-медную храмовую башню, что стояла на вершине соседней горы; лес на ее склонах был тщательно вырублен, и средь невысокого разнотравья там и сям мелькали многокрасочные островки простых полевых цветов. Тропа, все такая же желтая, петляя, вела к низеньким храмовым воротам — отсюда они казались изящной лаковой игрушкой.
Монах присел на пень, устало вытянул ноги в прочных дорожных сапогах и теперь только увидел, что он не один — в десятке локтей от него, уютно умостившись в складном креслице, сидел перед мольбертом художник: такой же седой, упругий стан выдавал в нем то ли старого солдата, то ли любителя ездить верхом. Он ничуть не походил на тех бродячих маляров, что продают свои работы на рынках и берутся нарисовать ваш портрет за две серебряные монеты — одежды на нем были дорогими, с пояса свисал небольшой кинжал в сафьяновых ножнах. Заметив на себе взгляд монаха, мастер с легкостью поднялся на ноги и приветствовал своего невольного гостя коротким элегантным поклоном.
Инок ответил ему тем же. Поглядев — не без любопытства — на холст, он на секунду широко раскрыл глаза и, вдруг отчего-то смутившись, зашарил рукой на груди, отыскивая свою привычную трубку с длинным янтарным мундштуком. Работа была великолепна. Кисть мастера, неведомым образом сочетая в себе лаконичность с некоторой небрежной даже размашистостью, запечатлела кривые ветви сосен, песок и дальше — гору, покрытую цветами. Тропа показалась иноку ожившей… он кашлянул и поднял голову, встретив понимающий, но спокойный, без тени самодовольства, взгляд художника.
— У вас прекрасная рука, — произнес инок тихим голосом, в котором чувствовалась огромная, не забытая еще сила. — Я давно не получал такого наслаждения.
— Покорно благодарен. О, у вас замечательный табак! Был бы счастлив угоститься — здешние сорта, знаете ли…
— Да, это с острова Сирт. Примите, прошу вас.
Художник взял в руки объемистый кожаный кисет, с наслаждением вдохнул густой запах зелья и принялся набивать свою трубку. Инок тем временем продолжал всматриваться в картину.
— Не хочу показаться невежей, однако же, уважаемый мастер, мне непонятно, отчего на вашей прекрасной работе на уместилась храмовая башня…
Ответом ему был негромкий смех.
— Но, досточтимый, — ветерок легко унес небольшое облачко табака, — известна ли вам легенда, связанная с этим
местом, — легенда, породившая новую богиню весны и любви?
— Известна, — коротко кивнул монах. — Собственно, именно поэтому, вспомнив о старых страстях, я и пришел поклониться ей. В память…
— Гм…
Художник негромко кашлянул, посмотрел на лицо своего собеседника, изборожденное ранними, не по годам еще, морщинами, и продолжил:
— Если вы помните, то когда-то здесь, на этой горе, жила молодая отшельница, давшая обет смирения. Люди долины носили ей еду, она держала каких-то коз… и вот однажды, весной, на эту гору поднялся молодой воин, раненный в недалеком бою. Он умирал.
— …а она не могла принимать его у себя, — глухо отозвался инок, — и все же ее сердце дрогнуло, и отшельница оставила юношу в своей хижине. И, полюбив ее, он совершил чудо — он выжил… а потом она родила сына. И с тех пор мрачный, голый холм каждую весну покрывается цветами. Насколько я знаю, сюда приходят бесплодные женщины и те, кто несет в своем сердце неразделенную любовь. Но почему храм?..
Мастер ответил не сразу. Некоторое время он смотрел на прекрасный пейзаж, открывавшийся перед ним.
— Видите ли, досточтимый, — тихо, в задумчивости, проговорил он, — храм все считают жилищем этой юной богини, так? А я рисую не жилище, я рисую ее саму — в этих цветах, в этом чуде жизни, возникающем каждый раз, когда солнце превращает холод и мрак в свет и нежность.
Инок застыл, пораженный услышанным. Перед его мысленным взором вдруг встала целая вереница образов — тех, что он давно уже считал погребенными в пыли собственного сердца. Он поднял глаза к небу и глубоко вздохнул; а потом, встав, низко поклонился художнику, оправил на себе пояс и, не говоря ни слова, зашагал прочь.
Когда его фигура отчетливо прорисовалась на желтой змейке восходящей тропы, художник выбрал тонкую кисть и несколькими точными, резкими мазками набросал ее на готовой уже картине.
Все, кто видел ее, поражаются, насколько живым выглядит этот темный, кажущийся сгорбленным силуэт.
Сергей Лукьяненко АХАУЛЯ ЛЯЛЯПТА
— Чего-чего? — спросил Павел подозрительно.
— Ахауля ляляпта! — повторил Андрей, демонстрируя клиенту что-то маленькое, волосатое, черное, сморщенное, похожее на высушенную обезьянью лапку. — Сувенир. Купил у старого индейца.
— Убери ты эту гадость от стола! — рявкнул Павел. — Она же обезьянья…
— Да кто этих индейцев поймет, — пряча лапку в карман, заявил Андрей. — Может, человеческая?
Он облокотился на перила и уставился вниз С балкона. Не иначе, как высматривал человеческих особей, похожих на свежеприобретенный сувенир.
Павел только презрительно фыркнул и налил себе вина. Нет, отношения у них сложились хорошие, в чем-то даже дружеские. Индивидуальный тур в Чили стоил немалых денег, и к выбору персонального гида Павел Арсенов подошел очень внимательно. С ходу отмел смазливых девочек — кто же ездит в Тулу со своим самоваром? Понравился было средних лет интеллигент, выпускник МГИМО, успевший и дипломатом поработать, и свой бизнес завести, и прогореть. Но вовремя выяснилось — бывший мгимошник подорвал здоровье на дипломатической ниве и теперь вынужден цедить безалкогольное пиво. Разве это достойный товарищ для двухнедельного вояжа по Чили?
Андрей же был всем хорош — и языки знал в совершенстве, и по миру успел помотаться, и водку готов был пить наравне с клиентом, при этом не утрачивая ни бдительности, ни дружелюбия. Немного настораживала его непрерывная веселость и слабое чувство дистанции. Арсенов даже заподозрил гида в нетрадиционной ориентации. Но нет, и тут все было в порядке. Просто такой характер. Выбор был сделан, и вначале Павел не мог нарадоваться на своего гида. Мотаясь по всей стране, от горнолыжного курорта Портильо до пустыни Атакама, от Огненной Земли до заросшего виноградом каньона реки Майпо, молодой гид оставался энергичным, деятельным и компанейским. Вот только стоило Арсенову постановить, что последние три дня они проведут в Винья дель Мар, как Андрей заметно сник.
Ну не умел этот парень спокойно отдыхать! Не понимал, что есть свое удовольствие в трех днях, проведенных в спокойном чилийском захолустье, когда ожидающие в Москве проблемы уже приближаются во времени, но все еще остаются отдаленными в пространстве — на целых семнадцать тысяч километров. Ему требовалось действие, все равно какое — взбираться на склон вулкана, вести машину по зажатой между океаном и горами автостраде, знакомиться с чилийками или попросту напиваться с клиентом.
Арсенову же хотелось сейчас только покоя…
— Вот и еще одна мечта детства исполнена, — сказал он, глядя на океан. — Веришь, с детства мечтал в Чили побывать.
— Верю, — согласился Андрей. — А я в Россию хотел… Папаню из Перу отозвали, когда мне шесть лет было… ох как же я радовался!
Все это уже было не раз сказано. И про юность Андрея, безалаберного сына дипломатических работников. И про детскую мечту Арсенова — побывать на Огненной Земле, посмотреть на пингвинов.
Ну — посмотрел. Местный гид с готовностью привез их на огромное стойбище… или как оно там называется? Гнездовье? Лежбище? Птичий базар? Да не важно. Посмотрели они на пингвинов. А потом Арсенов поймал взгляд гида, болтающего с аборигенами, пока они с Андреем ловили пингвинов в объективы камер. И представилось ему, как приехавших в Россию туристов везут посмотреть на местную экзотику — воронье гнездовье. И как стоят богатые южноамериканцы, с восторгом фотографируя каркающее воронье… а окрестные мужики крутят пальцами у виска…
Что русскому экзотика, то немцу банальность. Вот что обидно по-настоящему — прошло время уникальных впечатлений. Даже на Южный полюс с парашютом прыгнуть — всего лишь вопрос денег и бесшабашности.
— Покажи-ка свою… ахулю… — попросил Павел.
— Ахаулю, — поправил Андрей, с готовностью извлекая скрюченную лапку. — Индеец называл ее ахауля ляляпта.
— Как переводится? — со скукой разглядывая сувенир, спросил Павел.
Гид неожиданно засмущался.
— Честно говоря, не знаю. Индеец по-испански совсем не говорит. Наверное, настоящий мапуче. Их на лицо и не отличишь-то особо, это не североамериканцы.
Павел внимательно рассматривал лапку. Потом положил ее на столик и сообщил:
— Фальшивка.
— Чего? — обиделся Андрей.
— Фальшивка, говорю. Нагрел тебя индеец.
— Почему? — хватая лапку, возмутился Андрей.
— Да ты глаза открой, — объяснил Павел. — На этой лапке — шесть пальцев! Два противостоящих пальца, понимаешь? И еще — в каждом пальце по четыре сустава.
— Ну… — вертя лапку и осторожно пробуя согнуть черные скрюченные пальцы, произнес Андрей. — Это…
— Я, дорогой ты мой, МГУ заканчивал, — пояснил Павел. — Биофак. Животных с такими конечностями не существует.
— Может, ящерица? — предположил Андрей.
— Покрытая шерстью? Да и у ящериц нет таких лап. Так что, Андрей, ахаулю эту сшила бабка твоего мапучи, специально для идиотов-туристов.
— Все равно забавно, — сказал Андрей, изучая опозоренный сувенир. — Нет, постой, ну как это — сшила? Нет тут никаких швов… сейчас!
Он бросился в гостиничный номер, хлопнула дверь. Оставшись на балконе в одиночестве, Павел снова взял в руки ахаулю.
Да, швов не наблюдалось — кроме зашитой тонким шнурком культи. Павел подковырнул шнурок — внутри лапка оказалась аккуратно набита сухой травой.
— Нет таких животных, — повторил уже для себя Павел и отложил лапку. Но в душу начало закрадываться сомнение. Для чего старому индейцу сооружать такую правдоподобную фальшивку? Туристу вполне сгодится высушенная обезьянья лапа…
Вернулся Андрей — с огромной лупой в руках. На недоуменный взгляд Павла пояснил:
— Купил внизу, в газетном киоске. Хорошая лупа, да?
Минут пять он простоял, изучая лапку вооруженным глазом, после чего гордо заявил:
— Никакая это не фальшивка. Нет тут швов.
Павел почувствовал азарт:
— Давай лупу сюда, Паганель хренов! Сейчас покажу, чем профессионал отличается от любителя!
Через четверть часа Павел был вынужден признать (конечно, лишь себе самому), что в данном случае профессионал от любителя не отличается ничем. Андрей, надо отдать ему должное, тактично молчал и об опрометчивом обещании не напоминал. Можно было просто вернуть обезьянью лапку и объявить ее сделанной на заводе в Китае…
Но Павел уже был задет за живое.
— Выпотрошим? — предложил он.
Андрей пожал плечами:
— Давайте.
Шнурок был распущен, сухая трава вытрясена, лапка — вывернута наизнанку. Павел еще раз осмотрел ахаулю изнутри и его прошиб пот.
Не выглядел этот дрянной сувенир фальшивкой! Похоже было, будто кожу и впрямь содрали, словно перчатку, с лапки животного.
— Я вот помню, — задумчиво произнес Андрей, — что когда чучело утконоса первый раз в Европу привезли, ученые его обозвали подделкой. Не бывает, мол, таких зверей…
— Помолчи, — сказал Павел очень серьезно. — Вопрос серьезный…
Конечно, на дворе — двадцать первый век. Да и Чили — не Австралия. Но вот же, лежит перед ним лапа существа, которого не может существовать в природе!
— Что еще продавал индеец? — спросил он.
— Камешки какие-то, — начал вспоминать Андрей. — С дырочками, на шнурках… вроде как амулеты. Еще какие-то лапки, шкурки…
— Пошли. — Павел поднялся, подтянул живот, заправляя его в штаны. — Будем трясти твоего индейца. Он у нас живо испанский вспомнит.
Ну где может приложить свои силы современный биолог, жаждущий оставить след в истории? Разве что искать новые виды тараканов и глубоководных рыб. А вот открыть настоящее животное, дать ему гордое имя вроде «Шестипал Арсенова»… Даже в наивные годы далекой юности Арсенов такими амбициями не страдал.
Но вот, вот же она, шестипалая четырехсуставчатая лапа невиданного, зверя!
— Пятнадцать баксов, между прочим, отдал, — тараторил Андрей, идя рядом с Павлом. — Я еще удивился, с чего индеец столько денег ломит, но решил — редкий какой-то сувенир…
— Головой чаще думай, — сурово сказал Павел. — Если цена слишком высокая или слишком низкая — сразу насторожиться следует.
Индейца они нашли на окраине городка, в месте совершенно нетуристическом — и как туда забрел неугомонный Андрей? Все здесь было неприглаженное, нетуристическое, обшарпанное. Маленький местный рынок, никак не рассчитанный на туристов. Всякая экзотическая жратва, несколько магазинчиков с единым для всего мира выбором товаров…
И скромно сидящий в пыли у дороги индеец. И впрямь очень старый, спокойный, никого к себе не зазывающий — будто дремлющий над разложенными на земле сувенирами. Старая соломенная шляпа на голове, неподвижное морщинистое лицо, грязное пончо, торчащие из-под него босые ноги.
— Здорово, отец! — добродушно сказал Павел, покосился на Андрея — тот затараторил по-испански, потом — на каком-то знакомом ему местном наречии.
Индеец, похоже, ничего не понял. Но неспешно кивнул.
А Павел уже склонился над его товаром.
Да, сувенирчики и впрямь — дрянь дрянью. Камешки с дырочками на шнурках вроде «куриных богов», что любят собирать на Черном море детишки. Примитивные фигурки, вырезанные из дерева.
И еще одна ахауля. Андрей купил левую, а эта была правая.
Павел поднял с земли странный сувенир, внимательно изучил. Спросил:
— Сколько?
Индеец неторопливо нарисовал в пыли пальцем цифры. Лукаво посмотрел на покупателей. И добавил значок доллара.
— Пятьдесят? — растерялся Андрей. — Павел Данилыч, он мне утром за пятнадцать продал, честное слово…
— Подожди, — велел Павел. Сел перед индейцем на корточки. Внимательно посмотрел в глаза.
Черт, ничего не разберешь, будто стеклянные. Душа индейская — потемки.
— Много хочешь, Виннету, — сказал Павел. — Пятнадцать.
И, зачеркнув назначенную цену, начертил в пыли «15».
Индеец покачал головой. И повторно написал «50».
— Издевается, — решил Андрей.
— Нет, парень, — сказал Павел. — Он не дурак. Ты думал, он с тебя много слупил за первую ахаулю? Он тебе крючок закинул. Нарочно продал задешево… чтобы ты присмотрелся и снова прибежал.
Индеец молчал и улыбался. Будто понимал по-русски.
— Откуда оно? — потрясая сушеной лапкой, спросил Павел. — Что за зверь, где живет?
Индеец разгладил пыль морщинистой рукой и принялся рисовать. Вокруг потихоньку собиралась толпа аборигенов — глядели, похохатывали, то ли над старым торговцем, то ли над чужестранцами-покупателями. Подошел полицейский, постоял, изучая обстановку, проследовал дальше.
Павел и Андрей ошарашенно смотрели на схематичный рисунок.
Была на нем цепочка холмов и деревья, нарисованные со старанием пятилетнего ребенка. Было два странных существа, неподвижно лежавших на земле. «Ляляпта!» — провозгласил индеец, указывая на них.
А еще было нечто большое, округлое, наполовину воткнувшееся в землю, — из этого округлого шел дым. Индеец внимательно посмотрел на Павла — понял ли, что ему показывают. Потом одним взмахом руки стер рисунок.
— Я же тебе говорил, нет на Земле таких животных, — сообщил Павел гиду. — Дошло?
— Павел Данилыч… — Андрей полез в карман, вытащил первую ахаулю. — Так это что же… мне руку инопланетянина продали?
— Спрячь! — скомандовал Павел. Он был сейчас в своей стихии. Требовалось действовать. Требовалось уломать посредника и выйти непосредственно на товар. Требовалось решить проблемы с властями, таможней… не позволить оттереть себя в сторону. Требовалось при всем этом остаться живым. Это даже не «Шестипал Арсенова»! Это Нобелевская премия, это настоящая слава, это настоящее положение в обществе. Да это, если на то пошло, маленькие дивиденды для одного человека, но огромный кредит для всего человечества!
— Отведи нас туда, старик, — сказал Павел. — А? Я заплачу. Много заплачу. Сто баксов. Нет, шучу, пятьсот. Файф хандред. Понял?
Индеец покачал головой.
— Значит, так, Андрюша, — велел Павел. — Тащи нам по бутылочке пивка, вискарика какого-нибудь поприличнее… и потрись в толпе. Поговори с аборигенами, узнай, откуда этот старичок взялся, где живет. Одна нога здесь…
— Другая уже там, — исчезая в толпе, отрапортовал. Андрей.
Через полчаса Павел был вынужден признать свое поражение.
Индеец не отказался от пива. Индеец глотнул виски. Индеец согласился принести тутитоку — нижнюю конечность существа. Индеец сумел жестами объяснить, что одного инопланетянина при падении разорвало на куски — которые он сейчас и продает, другой почти целый, но из него тоже пришлось набить чучело. Жара, мухи, личинки… все это он продемонстрировал с настоящим актерским мастерством, хоть сейчас его в ГИТИС принимай.
А еще индеец наотрез отказался отвести покупателя к месту падения тарелки.
— Значит, так, Андрей, — подвел наконец итоги Павел. — За две тутитоку старый хрыч хочет по сотне. За вторую лапу полтинник. Это все фигня. За целое чучело требует штуку. Что ж, придется покупать.
— А как же сама летающая тарелка? — жадно спросил Андрей.
— Вот когда он нам чучела продаст, тут и до тарелки дело дойдет, — уверенно сказал Павел. — Какие-то штуки оттуда он уже доставал… но не хочет пока ничего говорить.
— Он вообще испанский не знает…
— Да все он знает, ему торговаться так удобнее! — в сердцах сказал Павел. — Пошли в отель. Завтра утром он все принесет…
— А если проследить за ним? — предложил Андрей, когда они отошли от старого индейца.
— Нет, не стоит. — Павел строго глянул на гида. — Тут самодеятельность вредна… дикий-то он дикий, но мозги у него работают. Заметит слежку — ничего больше не получим.
— Не заметит, — самоуверенно сказал Андрей.
— Если дальше будет упираться — попробуем в детективов поиграть… — решил Арсенов. — Что ты про него выяснил?
— Неделю уже ходит на рынок, продает всякую дрянь, — сказал Андрей. — Кто такой, откуда — никто не знает.
— Умен, — согласился Павел. — Умен и осторожен. Искал настоящего покупателя.
Вечером пили. По такому случаю — не вино, а хорошую русскую водку. Под копченное на ветру, на испанский манер, мясо ламы водка шла замечательно.
— Павел Данилыч, — захмелев, начал Андрей разговор на волнующую его тему. — А ведь это дело большими деньгами пахнет… и не только деньгами.
Арсенов усмехнулся.
— Не бойся, в стороне не останешься.
— Нет, я все понимаю, — гнул свое гид. — Вы человек знающий, опытный… а у меня и денег-то нет, чтобы целую ляляпту выкупить. И все-таки…
— Гарантий хочешь? — Павел с живым интересом наблюдал за гидом. — Ладно, объясняю, чем ты мне дорог в этом деле. В посольстве связи есть?
— А? — насторожился Андрей.
— Как повезем чучела через границу? А если удастся инопланетные железяки добыть? Бластеры всякие? Нас же на таможне повяжут.
— Повяжут, — согласился Андрей.
— Так вот, ты у нас мальчик из дипломатической семьи, родители твои в этих краях трудились… завязки остались?
Андрей мигом протрезвел и задумался:
— Что же… дипломатической почтой?
— С государством делиться все равно придется, — философски заметил Арсенов. — И уж лучше со своим, точно? Можно к американцам пойти, но те нас сразу в сторонку отодвинут. А то и прикончат. «Секретные материалы» смотрел? То-то…
— Так-так-так… — воодушевился Андрей.
— Все, что добудем, сдадим в посольство, — продолжал Арсенов. — Ну или почти все. Решим. Под гарантии. Под очень большие гарантии!
— Под совсем большие? — с детским восторгом спросил Андрей.
— Под самые большие! Будь мы с тобой, Андрей, американцами, тут бы завтра морская пехота высадилась, весь район оцепила и никто бы не пикнул! Но мы граждане России, страна у нас не столь сильна. Пока не столь сильна! — Он выразительно покосился на сушеную ахаулю, лежащую на столе. — А вот с неземными технологиями…
— Может быть, нам еще памятник поставят, — предположил Андрей. — Как Минину и Пожарскому! За возрождение славы и силы Отечества!
Арсенов усмехнулся. Нет, все-таки при всей положительности гид оказался совсем еще мальчишкой.
— Может быть. Давай, гражданин Минин, еще по одной…
— Почему это я Минин… — запротестовал было Андрей, но развивать вопрос не стал. Зато задал другой, который волновал и Арсенова: — Павел Данилыч, а нет у вас ощущения, что нас все-таки дурачат? Тут ведь уже большие деньги…
— Это не подделка, — мрачно сказал Павел.
— А все-таки? Вдруг — телепередача какая-то, съемки скрытой камерой. Дурачат туристов, потом с извинениями деньги возвращают. Вот будет позорище…
Арсенову сразу же вспомнился один серьезный человек, надолго потерявший деловую репутацию из-за подобной телепрограммы. И всего-то объяснял симпатичной иностранке, потерянно стоявшей возле своего «мерседеса», как проехать к Кремлю. Там ехать-то было — два поворота! А оказалось, что странная карта, по которой он водил пальцем, указывая дорогу, была выкройкой из журнала мод. Мелочь, казалось бы, а сколько возникло проблем…
— Ничего, Андрей. Придется рискнуть, — решил Арсенов. — Так что с посольством?
— Папе надо позвонить, — признался Андрей.
— Только аккуратно говори, хорошо? — напомнил Арсенов.
В глазах Андрея вдруг появилась легкая ирония.
— Павел Данилыч, вот с этим не беспокойтесь. Папа у меня хоть и в отставке, но с его работы насовсем не уходят.
«Как бы не получилось, что и ты там подрабатываешь», — обеспокоенно подумал Арсенов. Впрочем, в нынешней ситуации это было даже удачно.
Он взял со стола ахаулю и убрал в шкаф. Пояснил:
— Нехорошо получается, все-таки представитель высшего разума.
— Да и не схарчить бы ее по пьяни, — хихикнул Андрей и достал телефон.
Утром индеец был на прежнем месте. Рядом с ним лежал грязный мешок. При появлении новоиспеченных Минина и Пожарского индеец изобразил подобие улыбки.
Арсенов открыл мешок и внимательно изучил его содержимое. Да, индеец не соврал. Тут лежали две тутитоку — шестипалые перепончатые нижние конечности. Была и аккуратно содранная с несчастного пришельца шкура — жаль только, что без головы.
— Куда голову дел, зараза? — поинтересовался Павел.
Индеец на себе показал, что голову у ляляпты оторвало, и ее пришлось выбросить.
— Ведь врешь, отдельно хочешь загнать… — обреченно сказал Арсенов. Но спорить не стал, расплатился. Деньги перекочевали куда-то под пончо, индеец дружелюбно улыбнулся и встал.
— Эй, старикан, ты куда? — забеспокоился Андрей, хватая индейца за локоть. — А как же все остальное?
Индеец улыбался, но рисунков в пыли больше не делал и в объяснения не вступал.
— Пусть идет, — процедил Павел. — Захочет еще денег — вернется.
И незаметно подмигнул компаньону. Его все сильнее и сильнее одолевало дурацкое подозрение, что индеец понимает русский язык.
Андрей выпустил продавца, сказав вслед:
— Вали… чучельных дел мастер. Еще разобраться надо, не живых ли пришельцев ты потрошил!
Индеец неспешно удалялся. Он даже ни разу не оглянулся.
— Эх, сюда бы пару-другую хороших топтунов из наружки… — сказал Андрей. — Ну…
Павел раскрыл сумку и протянул гиду приготовленную заранее яркую рубашку. Через несколько секунд Андрей уже надел ее поверх футболки, на голову нацепил легкомысленную кепочку — и двинулся за индейцем.
Павел шел следом, стараясь не терять Андрея из виду. Молодец все-таки гид. Только бы старик не заметил слежки…
Старик слежки не заметил. Он свернул в ближайший переулок, Андрей выждал десяток секунд и двинулся следом.
Павел наткнулся на Андрея сразу за поворотом. Гид стоял, вытаращив глаза и безмолвно озирая короткий грязноватый тупик. Сюда выходила лишь пара дверей, но давно и основательно заколоченных. Интернациональный запах наводил на мысль, что окрестные жители и продавцы с рынка используют этот тупик для самых низменных потребностей. То же самое следовало из взгляда потасканной девицы, стоящей чуть в сторонке и нетерпеливо поглядывающей на Андрея. Павел подергал висячие замки, почему-то будящие воспоминания о российских селах и старых амбарах, потом повернулся к Андрею. Толкнул его в плечо:
— Где дед? Куда он делся?
— Нет его, — сообщил Андрей. — Куда же он…
Бросившись к девице, даже шарахнувшейся от такого напора. Андрей быстро заговорил по-испански.
Разговор длился не больше минуты, после чего гид вернулся к Арсенову и убитым голосом сообщил:
— Никого она тут не видела! Говорит, что я первым зашел, что никакого старика не было… предлагает обслужить нас обоих за десять баксов…
Арсенов сплюнул и сообщил:
— Руссо туристо, облико морале…
Они еще раз изучили тупичок. Три стены. Две двери, которые явно не открывались несколько лет. До крыши никак не допрыгнуть. Никаких люков в земле.
Девица получила свои десять долларов и подверглась допросу. Получив деньги она от восторга готова была признать что угодно: и зашедшего в тупичок старика, и то, что старик до сих пор тут. Арсенову даже пришла в голову нелепая мысль, что сама потаскушка и притворялась стариком, а зайдя за угол быстро и ловко переоделась. Вот только старый индеец был выше девицы сантиметров на двадцать…
— Павел Данилыч, нас кинули, — обреченно сказал Андрей. — Как детей развели.
— Кинуть — не кинули, — честно признал Павел. — Что старик обещал, то и продал, о другом речи не было. А развести — развели.
Девица, еще раз предложив свои услуги, обиделась и ушла. Компаньоны проверили тупик снова.
Никаких следов старого индейца.
— Знаете, Павел Данилыч, — вдруг сказал Андрей, тихо и убежденно, — а ведь они его забрали!
— Кто они?
— Пришельцы. Прилетели своим на помощь, обнаружили, что трупы подверглись поруганию… выследили индейца, да и втянули в тарелку силовым полем! Все, конец старику!
Арсенов посмотрел в горящие энтузиазмом глаза гида и промолчал.
Они толкались у рынка еще два дня. Арсенов даже подумывал, не продлить ли поездку, но интуиция подсказывала ему — бесполезно. Нобелевскую уже не получить. Отечеству не придется рассчитывать на чудеса внеземной техники и тратиться на памятник новым героям.
С «Шестипалом Арсенова» тоже вышло кисло. Оказалось, что шкура ляляпты для насекомых является невиданным деликатесом. Через два дня расползающуюся на куски шкуру пришлось залить каким-то местным дихлофосом. Остатки пришельца были спасены, но идти с ними в посольство или в аэропорт уже не стоило. Проклиная все на свете, Павел и Андрей зарыли шкуру за городом.
Уцелели только две ахаули, которые Павел в сердцах отдал гиду.
На Андрея случившееся произвело очень сильное впечатление. Через пару месяцев он заглянул в гости к Арсенову — хотя тот, разумеется, и не оставлял ему адреса. Был вежлив, тих и корректен, одет в скромный неприметный костюм. Очень убедительно попросил бывшего клиента собственноручно описать все, свидетелем чего довелось быть в Чили. От виски отказался, объяснив, что не пьет на работе. Расспрашивал, не случалось ли с Арсеновым иных странных происшествий, не возникало ли провалов в памяти.
Павел о случившемся вспоминал неохотно. Жалко было не денег, выброшенных на ветер. Обидно было, что так и не смог понять логику индейца. Чувствовал какую-то хитрую игру — но так и не понял, в чем она заключалась.
Впрочем, со временем досада притупилась, и чилийское недоразумение превратилось в одну из тех занятных историй, что так приятно рассказывать друзьям после третьей рюмки чая. Единственное, чего не хватало рассказу, — так это вразумительной концовки.
…Избавившись от двух назойливых русских, потаскушка отправилась в ближайший магазин электроники. Там, расплачиваясь наличными, она купила почти четыре килограмма различных электронных компонентов, собрать которые воедино не рискнул бы самый опытный радиомеханик.
Далее путь потаскушки лежал в недалекую деревеньку, в холмах за которой, надежно укрытое маскирующим полем, лежало поврежденное атуано.
Прежде чем приступить к ремонту корабля и предстартовой подготовке, единственный ляляпта, не пострадавший при крушении, заглянул в реанимационную камеру. Там, в сосудах с жидким гелием, дожидались возвращения на родную планету и новых тел две замороженные головы — пилота и навигатора.
Маленькое существо с шестью пальцами на руках и перепончатыми лапами, преисполнившись тихой гордости, стояло перед ранеными товарищами. Ему, молодому неопытному таксидермисту, удалось спасти и себя, и коллег!
Что делать несчастному страннику, затерявшемуся в чужом, отсталом мире? Суровые галактические законы запрещают вступать в контакт с примитивным человечеством. Не менее суровые моральные нормы не разрешают применять силу, обманывать, запугивать и продавать неизвестные на планете технологий.
И всего-то есть в наличии, что тела изувеченных при крушении товарищей!
Ляляпта удовлетворенно хрюкнул, переступая босыми ногами по влажному полу атуано. Его совесть была чиста.
Сергей Лукьяненко ОТ СУДЬБЫ
Он боялся, что контора окажется похожей на больницу — каким-нибудь невнятным, едковатым запахом, чистотой оттертых стен, строгими одеждами и заскорузлым цинизмом в глазах персонала.
Еще не хотелось попасть в богатенький офис: стандартный и комфортабельный, с натужными постмодернистскими картинами полупризнанных полугениев на стенах, мягкими коврами, кожаной мебелью (и не важно, что кожа обтерлась, обнажая пластиковую изнанку), с вежливыми до приторности девочками и хваткими молодыми менеджерами.
Ну а больше всего он боялся увидеть нечто с «домашней обстановкой», и не дай Бог — в духе «а-ля рюс». Книжные шкафы с туго вколоченными книгами (как известно, западные муляжи книг стоят чуточку дороже, чем собрания сочинений многочисленных российских классиков), герань в горшочках, толстый сонный кот на диване, чаек из самовара и бормочущий в уголке телевизор.
Да он и сам не понимал, что его, собственно говоря, устроит. Мрачная пещера ведьмы? Лаборатория алхимика? Церковь?
А как должно выглядеть место, где можно поменять судьбу?
Нет, не снаружи — тут все, как обычно. Обычная офисная дверь с видеоглазком, электронным замком и скромной вывеской. Старая московская улица, узенький тротуар и столь же узкая проезжая часть, спешащие прохожие и едва ползущие машины…
Выход был только один — войти. Стоять на улице до бесконечности под пронизывающий сырой ветер и февральские минус пятнадцать — удовольствие невеликое. Дотлевшая в руке сигарета уже обжигала пальцы. Видеоглазок, казалось, ехидно следил за ним. Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе, синяя… нет, не так. Страшно ли тебе, маленький ослик?
Страшно. Ох как страшно…
Он нажал кнопку под объективом. Замок сразу же щелкнул, открывая дверь. Помедлив секунду, он вошел.
Лестница на второй этаж, будочка с охранником. Против ожиданий на вошедшего он даже не посмотрел — с увлечением читал какую-то книгу, все еще неторопливо убирая руку с пульта. Тусклый синеватый экран монитора, демонстрирующего увлекательный фильм «московская улица зимой», охранника тоже не интересовал.
— Простите…
— На второй этаж, пожалуйста, — сказал охранник, на мгновение отрываясь от книги. — Туда.
Он стал подниматься.
Если предбанник наводил на мысли о «богатеньком офисе», то второй этаж разочаровывал. Больше всего это походило на небогатую государственную контору. Что-нибудь вроде НИИ по проектированию самоходных сноповязалок. Длинный коридор, на полу — протертый линолеум, стены выкрашены коричневой масляной краской и на метр от пола покрыты пластиком «поддерево», на часто натыканных вправо-влево дверях — таблички. «Инженер». «Инженер». «Старший инженер».
Он обернулся:
— Простите, но…
— Вам во вторую дверь направо, — сказал охранник, откладывая книгу. — Проходите, не стесняйтесь.
— К инженеру? — полувопросительно спросил он.
— К инженеру.
По крайней мере это не походило ни на одну из его догадок.
Вторая дверь направо была приглашающе приоткрыта. На всякий случай он постучал и, лишь дождавшись «да-да, входите», переступил порог.
Сходство с бедным НИИ на полном гособеспечении усилилось. Стол из ДСП, дешевый крутящийся стул, старый компьютер с маленьким монитором и совсем уж неприличный матричный принтер, телефон… Господи, телефон с диском!
Но сам хозяин кабинета, молодой и розовощекий, выглядел куда приличнее. Костюм неброский, но явно не хуже, чем «Маркс энд Спенсер», шелковый галстучек баксов за пятьдесят, часы на руке — пусть средняя, но Швейцария.
— Вы не удивляйтесь обстановке, — сказал хозяин кабинета. — Так принято.
— У кого?
— У нас. Вы — Сорс, верно? Вы звонили утром. Садитесь…
Он кивнул, усаживаясь на шаткий венский стул. Именно так он и представился, без фамилии и отчества, всплывшим вдруг в памяти латинским словом, умом понимая всю наивность маскировки при звонке с домашнего телефона… и все-таки…
— А меня зовут Иван Иванович, — сказал молодой человек. — Нет, вы только не подумайте, что я шучу! Меня действительно так зовут, вот паспорт. Иван Иванович. Причем Иванович — фамилия. Ударение на последнем слоге. Это важно.
Паспорт был немедленно выложен на стол, но Сорс не рискнул взять его в руки. Пробормотал:
— Я не хотел бы называть свое имя… настоящее…
— Разумеется, — с готовностью согласился Иван Иванович. — Для меня вас зовут Сорс. Какая разница?
— Ну мало ли… бухгалтерия не пропустит…
Иванович строго погрозил ему пальцем.
— Бухгалтерия вас никоим образом не касается! Мы не вступаем с вами в товарно-денежные отношения.
— А как же…
— Мне как-то неудобно вас звать только по имени, — вдруг заявил Иван Иванович. — Как же мне вас называть? Товарищ Сорс — напоминает Щорса. Господин Сорс — так это почти Сорос… Можно — мсье Сорс?
Человек, которого теперь звали мсье Сорс, согласно кивнул.
— Итак… — Молодой человек подпер подбородок рукой, на миг задумался. — А как вы узнали про наше учреждение?
— Из газеты «Из рук в руки»…
— Да-да, вы же упоминали по телефону… — Иванович рассеянно взял свой паспорт, спрятал во внутренний карман пиджака. — Мы занимаемся исключительно гуманитарной деятельностью. По юридическому статусу мы — общественное объединение «От судьбы». Все наши услуги носят некоммерческий характер.
— Знаете, — честно сказал Сорс, — когда я слышу про гуманитарную деятельность и некоммерческий характер, то хватаюсь за бумажник.
Иван закивал, грустно улыбаясь:
— К сожалению… так часто самыми благими словами прикрываются… Так вот, мсье Сорс, все, что мы вам предлагаем, — обменять некоторое количество своей судьбы на некоторое количество судьбы чужой. Мы не взимаем деньги ни с одних, ни с других участников сделки.
— Тогда — какой ваш интерес?
— Благотворительность.
Иван Иванович улыбался. Иван Иванович был рад посетителю.
— Хорошо. — Сорс кивнул. — Допустим, я вам верю. Объясните, что это такое — сменить судьбу?
— Пожалуйста. Допустим, судьба готовит вам какой-либо прискорбный факт… например, упавшую на голову сосульку. Или крупные проблемы в бизнесе… или тяжкий недуг… или ссору с любимой женой… или подсевшего на наркотики сына…
Называя какую-нибудь очередную гадость, Иванович постукивал костяшками пальцев по столу, будто утаптывал ее в смеси опилок и формальдегида.
— Причем для вас наиболее печальными будут проблемы в семье. А для другого человека — его собственное здоровье или коммерческий успех. Для третьего — проигрыш любимой футбольной команды. От судьбы, как известно, не уйдешь, сама неприятность неизбежна… но можно ее заменить. Итак! Вы боитесь, что жена узнает о существовании у вас любовницы. Кого-то другого это совершенно не волнует! Зато он боится провалить важную коммерческую встречу. И вы меняетесь риском.
Последнее слово он выделил голосом настолько сильно, что Сорс невольно повторил:
— Риском?
— Именно. Если неприятность еще не случилась, если вы только ожидаете ее — то вы приходите к нам и говорите: «Я боюсь того-то и того-то, что может случиться тогда-то и тогда-то». Мы подбираем вам взамен совершенно другую неприятность с той же вероятностью осуществления. Вот и все.
— Я могу выбрать эту другую неприятность? — быстро спросил Сорс.
— Нет. Вы избавляетесь от какого-то совершенно конкретного страха, понимаете? Взамен у вас будет определенный риск, но совершенно другого плана.
— Как вы это делаете? — спросил Сорс.
— А вы долго держались. — Иванович улыбнулся. — Многие начинают с этого вопроса… Скажите, что такое ток? Как работает телевизор?
— Я не физик.
— Но это не мешает вам включать свет, смотреть новости, пользоваться холодильником?
Сорс беспокойно заерзал. Чего-то подобного он и ожидал.
— Я понял аналогию. Но мне хотелось бы быть уверенным…
— В чем? Вы верите в Бога? Боитесь, что здесь попахивает дьявольщиной? — Иван Иванович усмехнулся. — Могу вас уверить…
— Тогда в чем дело? Кто вы? Что это, секретные эксперименты?
— Господи, да где же тут секреты? — Иванович развел руками. — Наша реклама по всей Москве, в каждой крупной газете.
— Тогда…
Только не говорите про космических пришельцев! — воскликнул Иван. — Ладно?
— Тогда вы — аферисты, — твердо сказал Сорс.
— Мы не берем денег. Не требуем подписывать какие-либо бумаги. Вам ничто не мешает проверить. Ведь… вы чего-то боитесь?
Сорс кивнул. Ах, как все было нелепо. Дурацкое объявление, которое он с удовольствием зачитывал знакомым. А потом этот нелепый страх… и случайно попавшийся на пути офис.
— Мне надо лететь. В Европу. По делам.
— Так, — доброжелательно кивнул Иванович.
— И я боюсь.
— Коммерческие проблемы?
— Я боюсь летать! — выпалил Сорс. — Аэрофобия. Это не смешно, это такая болезнь…
— Даже не думаю смеяться, — сказал Иванович. — Билеты уже куплены?
— Да…
— Даты?
Он назвал даты, назвал даже номера рейсов.
— У вас нет врагов, которые могут подложить в самолет бомбу? — деловито осведомился Иванович.
— Да вы что!
— Тогда ваш риск на самом деле абсолютно минимален. Хорошо, мы найдем человека, который поменяется с вами судьбой на эти три часа с четвертью… и обратно три с половиной… итого шесть часов сорок пять минут… давайте учтем люфт в полчаса на каждый взлет и посадку?
— Давайте час, — пробормотал Сорс.
— Хорошо. Итак, ничтожный риск, но зато с большой вероятностью гибели, длительностью десять часов сорок пять минут… Можете лететь спокойно!
Сорс скептически покачал головой.
— Это вовсе не психотерапия, — обиделся Иванович. — Все, теперь с самолетом ничего не случится! Если вдруг риск и впрямь был — то неприятность настигнет вашего партнера по обмену.
— Какая именно неприятность?
— Откуда мне знать? Отравиться вареной колбасой. Быть укушенным бешеной собакой. Мало ли есть смертельных, но редко случающихся опасностей? Кстати, колбаса — куда более реальная опасность! И на каждый предмет, на любое понятие, поверьте, найдется своя фобия. Кто-то боится дневного света — это фенгофобия. Кто-то боится есть — это фагофобия. Кто-то боится идей — идеофобия, кто-то боится числа тринадцать — тердекафобия, кто-то путешествий в поезде — это сидеродромофобия… — Иванович перевел дыхание и зловеще добавил: — А самая интересная, на мой взгляд, это эргофобия. Боязнь работы.
Сорс невольно улыбнулся:
— Вы психиатр?
— Я? Что вы. Я инженер. Просто нахватался за время работы…
— Какой инженер?
— Человеческих душ.
— Вы шарлатаны и аферисты, — сказал Сорс. — Честное слово, я не пойму лишь, какую выгоду вы хотите получить…
— Слетаете — и заходите снова, — дружелюбно сказал Иванович. — Вдруг мы снова понадобимся?
— Если я слетаю благополучно… а так скорее всего и будет, — быстро добавил Сорс, — это еще ничего не докажет.
— Докажет. Вот увидите.
На этих словах они и расстались. Сорс все-таки пожал «инженеру» руку, но говорить «до свидания» было глупо, а «прощайте» — слишком уж патетично.
Все-таки аферисты… но в чем смысл?
Выйдя в коридор, он не удержался, прошел до конца — там обнаружился маленький чистенький туалет, потом обратно — стараясь идти рядом с дверями в кабинеты. Все двери были прикрыты, из-за каждой доносился негромкий разговор. Посетители у общественного объединения «От судьбы» были.
На лестнице навстречу ему прошла женщина с заплаканным усталым лицом. Даже не глянула в его сторону… интересно, что за беду она собирается отвести? Может быть, ее ребенку предстоит операция? Или муж собрался уйти к другой?
Это ведь только от судьбы не уйдешь.
В «Шереметьево» было грязновато. Хорошо хоть, зима — нет духоты, которую не встретишь ни в одном аэропорту мира, кроме африканских и российских.
Сорс стоял с таможенной декларацией в руках и искал глазами, куда бы приткнуться. Слишком людно. Слишком шумно. Слишком грязно. И никто здесь не боится летать на самолетах… только он один…
— Дяденька, — тихонько позвали его со спины. — Подайте, сколько не жалко…
На миг Сорс забыл обо всех своих страхах. Уж слишком нелепая была картина — маленькая, лет восьми — десяти девочка, красиво причесанная, дорого и модно одетая, с маленькими золотыми сережками в ушках — и с протянутой рукой.
Хотя чему удивляться? Обычных побирушек из международного аэропорта быстро выдворили бы секьюрити. Это вам даже не «солидный Господь для солидных господ». Это солидные нищие для солидных господ.
— Шла бы ты в школу, девочка, — проникновенно сказал Сорс.
— У нас с девяти часов занятия, — сообщила девочка и, мгновенно утратив интерес, двинулась к следующему потенциальному спонсору.
Сорс смотрел ей вслед, разрываясь между желанием сказать что-нибудь укоризненно-ехидное и брезгливой жалостью — к маленькой, совсем не бедной, но уже профессиональной попрошайке.
И тут мир раздвоился.
Он уже отвернулся от девочки. Он нашел кусочек стола и быстро заполнял строчки декларации… оружие… наркотики… валюта… книги… антиквариат… компьютерные носители информации…
Он сидел в темной комнате, а пыльные шторы превращали раннее утро в ночь. Телефон стоял на столе перед ним, обычный старенький телефон, от которого нельзя было оторвать взгляд, потому что если сейчас он позвонит… если он позвонит…
Сорс прошел к регистрации, нырнул в пискнувшие воротца металлоискателя (опять забыл вытащить ключи), присел на лавочке в накопителе.
Сорс сидел, поглаживая белый матовый пластик телефона. Боролся с желанием снять трубку и услышать гудок, убедиться, что линия исправна.
Сорс шел по длинной кишке пристыкованного к самолету трапа.
Сорс опустил голову на стол и смотрел на телефон. Как жалко, что на аппарате не написан номер.
С кем он поменялся судьбой? Кто ждет звонка и чем этот звонок столь страшен?
Не важно. Теперь самолет не упадет. Он поменялся судьбой с тем человеком, кто ждет сейчас звонка. Сменил риск авиакатастрофы на риск звонка… очень маленький риск, если верить Ивановичу…
Он не боялся телефонных звонков. Он вообще терпеть не мог, когда телефон отключен. Сорс смотрел на телефон с любопытством и ленивым ожиданием.
А тот, с кем он поменялся судьбой, не боялся летать. Сорс смотрел, как уносится вниз земля, как самолет закладывает вираж, как подрагивает кончик крыла.
Когда стюардессы стали разносить завтрак, он сидел и улыбался, глядя на плывущие за иллюминатором облака.
Второй визит дался куда легче. Сорс больше не мялся у входа. Коснулся кнопки звонка, открыл приветливо щелкнувшую дверь.
— Проходите, — дружелюбно сказал охранник. Как ни странно, но казалось, что он узнал посетителя.
Сорс не стал уточнять кабинета. Вторая дверь направо — она вновь была приоткрыта. Инженер человеческих душ Иванович стоял у окна и смотрел на серый подтаявший снег.
— За вчерашний день два человека сломали ноги на этой улице, — сказал он. — Представляете? Трезвые, нормальные люди. Шел, упал, очнулся — гипс… Здравствуйте, мсье Сорс.
— Здравствуйте, Иванович.
Руки инженеру он все-таки не протянул. Что-то удерживало. Это было словно признаться в полной капитуляции.
— Все прошло нормально? У вас нет претензий?
Иван Иванович вовсе не иронизировал. Смотрел пристально, с любопытством, будто даже надеясь услышать упреки.
— Нет. — Сорс покачал головой. — Никаких претензий… все и вправду работает.
Широко улыбнувшись Иванович указал на мягкое кресло, занявшее место ветхого стула. Да и телефонный аппарат на столе оказался нормальным «Панасоником». Дела у фирмы явно шли в гору.
— Я что-либо должен вашему… объединению? — спросил Сорс, прежде чем сесть.
— Ничего. У нас гуманитарный некоммерческий
Сорс сел. Хозяин кабинета занял свое место напротив.
— Так не бывает, — сказал Сорс. — Я не понимаю, как вы это делаете… я даже не понимаю, что, собственно говоря, вы делаете! Но бесплатного сыра не бывает. В конце концов содержание этого офиса…
— Мсье Сорс, — укоризненно сказал Иванович. — Прошу вас, не надо предлагать нам деньги или услуги. Иначе мы будем вынуждены прервать с вами все отношения.
— Какие еще отношения?
— Будущие. Ведь вы хотите произвести обмен судьбы еще раз?
Врать было бессмысленно. Заготовленная заранее речь: «мне это не столь уж и важно, но я хотел бы еще раз ощутить, что именно и как вы делаете» показалась Сорсу до невозможности фальшивой.
— Да. Я хочу… обменять свой риск.
— Опять полет?
— Нет… — Сорс замялся. — Это глупо звучит, вероятно…
— Любовь? — негромко спросил Иванович. — Что вы, мсье Сорс. Любовь — это самое чудесное из человеческих чувств. Сколько прекрасного и сколько трагического сплелось в одном слове. Божественная чистота и низкие интриги, святое самопожертвование и гнусные предательства… Очень, очень часто к нам приходят люди, спасающие свою любовь… Какова вероятность?
— А? — Переход от высокого стиля к сухой арифметике был слишком резок. — Какая еще вероятность?
— Того, что вам откажут.
— Я не знаю.
— Расскажите мне все, мсье Сорс.
О таких вещах говорят либо близким друзьям, либо совершенно незнакомым людям. Но Сорс начал рассказывать. Все, без утайки. В какой-то момент он поймал себя на том, что достает из кармана фотографию, а Иван Иванович, участливо обняв его за плечи, кивает и говорит что-то одобрительно-успокаивающее.
История, старая как мир. История, банальная как мир. Он уже год, как развелся с женой. Хорошо развелся, по-мужски, интеллигентно. Оставив и квартиру, и машину, позванивая по праздникам и посылая цветы к дню
рождения. Сорсу повезло — ему вообще часто везло. Их любовь умерла раньше, чем он полюбил снова. Детей не было. Квартирный вопрос не успел его испортить — он хорошо зарабатывал.
Вот только та, ради которой он ушел от умной, красивой и удобной во всех отношениях женщины, не торопилась выйти за него замуж.
Показалось — или глаза Ивановича и впрямь стали оживленно поблескивать?
— Я бы оценил ваши шансы как двадцать — двадцать два процента, — сказал Иванович наконец. — Это такой тип женщин… нет, я не хочу сказать ничего плохого… но семейная жизнь редко их привлекает. Она должна по-настоящему вас любить.
— Вот я и хочу, чтобы она любила.
— Не любовница, а жена. — Иванович кивнул. — Это очень здорово, мсье Сорс. Это так редко сейчас встречается! Итак, у вас один шанс из пяти. Вы согласны обменять свою судьбу, исходя из этих условий?
Что-то царапало. Что-то смущало.
— Какой риск я получаю взамен?
— Давайте оценим последствия отказа, — неожиданно легко стал объяснять Иванович. — Вы ведь не покончите с собой, если она откажет. Не сопьетесь, не уедете на край света. Вы просто будете страдать — около года, возможно — полтора. Итак, вашим риском станут тяжелые душевные страдания на протяжении полутора лет… впрочем, что я говорю! На протяжении года.
— Почему я буду страдать?
Иванович развел руками.
— Это не болезнь, вероятно, — рассуждал Сорс вслух. — Не смерть кого-то из близких… я не прощу себе, если поменяю свое счастье на чужую беду.
— Разумеется, — быстро вставил Иванович. — Мы не затрагиваем других людей. Это исключительно ваш выбор и ваш риск.
— Она будет со мной? — еще раз уточнил Сорс.
— Да, — быстро ответил Иванович. — Да.
— Я согласен.
На этот раз все было иначе. Они встретились в ресторанчике на Таганке, в приличном, пусть и шумноватом месте. Едва увидев ее, Сорс понял — она знает. Чувствует, зачем он позвал ее сюда, на место их первой встречи (два года, а словно все было вчера, когда он был моложе, то не верил в такие сравнения). Женщины часто чувствуют загодя, когда им признаются в любви, а уж предложение выйти замуж почти никогда не застает их врасплох.
Они выпили по бокалу вина, Сорс говорил о какой-то ерунде, она отвечала… и все сильнее и сильнее ему становилось ясно, каким будет ответ на еще непроизнесенный вопрос.
А раздвоения не было. Может быть, на этот раз его и не должно было быть, ведь Иванович не спрашивал насчет времени?
— Ты выйдешь за меня замуж? — спросил Сорс.
Она долго смотрела ему в глаза. Ну что же ты медлишь, хотелось крикнуть Сорсу. Твои родители спят и видят, что мы поженимся. Твои подруги сходят с ума от зависти. Все твои тряпки куплены на мои деньги. Ты студентка заштатного вуза, а я еще не стар, я обеспечен, я люблю, я обожаю тебя…
Она медленно покачала головой.
В кармане Сорса зазвонил мобильный телефон.
Он выхватил трубку, чтобы хоть как-то оттянуть ее ответ. Изреченное слово становится правдой, но пока оно еще не произнесено — возможно все.
— У нас проблема, — даже не здороваясь, сказал его компаньон. И голос был таким, что сразу становилось ясно — и впрямь проблема. — Вагоны остановили на таможне… что-то не в порядке с декларацией…
Он знал, что именно не в порядке. Знал это и Сорс. Но о таких вещах не говорят по телефону.
— Я занят, — сказал Сорс.
— Да ты что! — закричал его компаньон, с радостью переходя от уныния к злобе. — Ты понимаешь, что случилось?
Сорс выключил аппарат. Снова посмотрел на девушку. И сказал:
— Кажется, моей фирме конец. Допрыгались. Ладно. Ты выйдешь за меня замуж?
— Ты это серьезно?
— Да.
— О фирме?
Сорс кивнул. И увидел, как теплеют ее глаза.
— Тогда что ты здесь делаешь? Тебе теперь не до игрушек.
— Ты никогда не была для меня игрушкой, — сказал Сорс. И подумал — пораженно, растерянно, что она и впрямь не понимала того, что для него казалось само собой разумеющимся. Она не игрушка, с которой он ездит на теплые тропические острова и ходит по кабакам. Она для него — весь мир. Вся жизнь.
Она взяла его руку в ладони и прошептала:
— Сядешь в тюрьму — разведусь. Понял? Я женщина молодая и горячая.
В тюрьму Сорса не посадили.
До этого было близко. Фирма трещала по швам, бухгалтер пила валокордин столовыми ложками. Сорса вызывали на допросы по два-три раза в неделю. Потом взяли подписку о невыезде — как раз накануне свадьбы. Веселья на свадьбе не было, родственники сидели словно пришибленные, большинство деловых партнеров проигнорировали приглашение, компаньон быстро и умело напился. Арестовали, а потом выпустили бухгалтера. Компаньон внезапно исчез из Москвы, прихватив немногую оставшуюся наличку. Следователь, молодой и энергичный, не то из этой, новой, очень честной породы юристов, не то хорошо имитирующий государственность своего подхода, сказал: «Я бы поставил десять к одному, что вы сядете. Может быть, ненадолго. На год, полтора. Но сядете».
Но Сорса не посадили.
Выходя из двери под скромной офисной вывеской, он поскользнулся на невесть как долежавшем до середины апреля клочке подтаявшего снега, упал и получил тяжелый перелом. Боль была дикая, он даже потерял сознание. Его оперировали, соединили сломанные кости таза, посадили на титановый болт головку бедра, почти полгода он провалялся в больнице — пусть и в дорогой, комфортабельной палате, но все-таки не вставая с койки. Жена приходила к нему каждый день, сразу после института, глупенькая девочка, что так неудачно вышла замуж за разорившегося бизнесмена. Приносила фрукты, бульон, какие-то неумелые, подгорелые пирожки. Искусно делала минет — на большее Сорс еще долго был не способен. Приохотила его к чтению Вудхауса и Гессе. Жаловалась на то, как одиноко и грустно в большой квартире, рассказывала «вести с фронтов».
Следователь утратил интерес к Сорсу. Его компаньон, чьи подписи и стояли под большинством незаконных контрактов, был объявлен в розыск Интерполом. Бухгалтер уволилась. Но фирма кое-как жила, даже приносила небольшую прибыль, и уходя от Сорса, его молодая жена до поздней ночи просиживала в офисе — пыталась склеить треснутое доверие и связать порванные нити.
Сорс лежал на кровати, смотрел телевизор и вспоминал Ивана Ивановича. «Вы согласны поменять судьбу из расчета восьми процентов удачи? В тюрьму вы не сядете, это я гарантирую».
Десять к одному.
Восемь процентов.
Сорс улыбался.
Октябрь был теплым, неожиданно теплым для Москвы. Сорс оставил машину за два квартала от офиса, у метро, припарковаться ближе было бы трудно, да и врачи советовали ему больше ходить. Поздоровался с охранником и прохромал на второй этаж.
Инженер человеческих душ Иван Иванович (с ударением на последнем слоге) встретил его у двери. Пожал руку, даже сделал попытку подвести к креслу.
— Не надо, — сказал Сорс.
Иванович кивнул. Печально сказал:
— С вами было интересно работать. Вы ведь зашли попрощаться?
Сорс кивнул. Поинтересовался:
— Всем хватает трех раз?
— Кому как, — уклончиво сказал Иванович. — Нет, ну вы скажите мне, мсье Сорс, почему всех так раздражают эти два процента? Ведь это совсем небольшие комиссионные. За услуги, подобные нашим, плата была бы столь высока… я боюсь, не по карману большинству граждан. А тут — всего два процента!
— Я и сам не знаю, — ответил Сорс. — Я много думал. Ведь и впрямь — мелочь. Два процента риска. К тому же основное обещание вы выполняете. Но есть в этом что-то…
Иванович напряженно слушал.
— Что-то бесчестное, — кое-как сформулировал Сорс. — А сколько получаете вы лично?
— Полпроцента с каждого клиента, — признался Иванович. — Остальное идет выше. Вы же сами понимаете. Как часто сильные мира сего гибнут в катастрофах, болеют неизлечимыми болезнями, теряют близких, попадают в скандальные истории?
— Ну, всякое бывает, — не удержался Сорс.
— Эх, вы бы знали, мсье Сорс, что должно было происходить на самом деле, — таинственным шепотом сказал Иванович. — Что ж… удачной вам судьбы.
— Спасибо. — Сорс встал, тяжело опираясь на подлокотник. — И вам счастливой судьбы.
Они пожали друг другу руки вполне по-дружески.
У дверей Сорс все-таки остановился и спросил:
— Скажите, Иванович, а приходят к вам счастливые люди? Менять ненужное счастье на нужное?
— Что вы, мсье Сорс! — Иванович развел руками. — Разве бывает счастье ненужным? Это уже не счастье, это горе. Мсье Сорс, все-таки, рано или поздно…
— Нет. — Сорс покачал головой.
— От судьбы не уйдешь, — напомнил Иванович.
— А вы не судьба. — Сорс уже шагнул в двери, но все-таки не удержался и добавил: — Вы только два процента судьбы.
Сергей Лукьяненко ШАГИ ЗА СПИНОЙ
Когда он подъезжал к городу, день уже умирал.
Съехав на обочину с эстакады, бетонной петлей захлестнувшей дорожную развязку, он остановил машину. Мотор взвыл — жалко, умирающе, прощально, и наступила тишина.
Он открыл дверцу, сел, спустив ноги на серую от пыли и желтую от осени траву. Достал пачку сигарет, сорвал целлофан, закурил. Миг — и гаснущее пламя жадно облизнуло белый кончик сигареты, превращая ее в окурок.
Он выпустил первый клуб дыма и посмотрел на город.
Падающее за горизонт солнце было невидимо под пологом туч. Он просто чувствовал его — так же легко, как остывающий мотор, как чахнущую траву, как плещущий на дне бака бензин. Кончался еще один день.
Тоскливо и одиноко.
А в ушах — будто бился незримый метроном, все чаще и чаще, разгоняясь, захлебываясь собственным стуком…
Очень хотелось напиться. Он даже представил, как это будет. Маленький номер в дешевой и ветхой гостинице, остатки бренди на дне бутылки, гулкая пустота в голове, скомканное шершавое покрывало, в которое можно уткнуться лицом, даже не разбирая постели…
Солнце, невидимое сквозь тучи, скрылось за горизонт.
— К черту… — прошептал он, выбрасывая недокуренную сигарету. — К черту, к черту…
Он повернул ключ, мотор зашуршал — мягко, радостно, удивленно. Город рванулся навстречу. На улицах вспыхнули фонари, расчертили путь желтыми стрелами. Будто посадочные огни аэропорта, стремительно набегающие под колеса…
Он въехал на проспект, когда вечер окончательно вырвался на свободу. В серой полутьме вставали дома, вспыхивали желтые пятна окон — будто невидимый великан щедро осыпал стены сияющим конфетти.
Вечер начался.
Он не мог не смотреть в проплывающие мимо окна. В окна с теплым светом настольных ламп под цветными абажурами, в окна с рядами цветочных горшков под белыми трубками дневного света, в окна с ослепительным блистанием хрустальных люстр, в окна со стыдливыми желтыми огоньками голых лампочек, в окна с неярким мерцанием ночников. Люди садились за обеденные столы, люди переодевались в домашнее, люди собирались в гости, люди укладывали спать детей, люди включали телевизоры и компьютеры, разворачивали газеты и доставали припасенную на вечер книжку.
Ему стало хорошо.
Он остановил машину у первого же ресторана, маленького и уютного, словно бы прячущегося между жилыми домами. Запарковался. Мотор умиротворенно умолк.
Метрдотель — спокойный, солидный, снисходительно доброжелательный, отвел его к столику — подальше от оркестра, в мягкий полумрак, к столику на двоих. Официант — молодой, улыбающийся парень, не прислуживающий, а словно играющий в услужение, подал винную карту и меню. Поднес массивную зажигалку, когда он раскупорил новую пачку и закурил, принял заказ и ушел — не торопливо, но быстро.
Вначале он утолил голод. Чашка картофельного «деревенского» супа. Молодая телятина с рассыпчатым рисом, острый пахучий соус, бокал красного вина — в меру терпкого, хранящего солнечное тепло. Потом — официант наполнил бокал прежде, чем он успел об этом подумать, и вновь исчез в отдалении — откинулся на стуле, посмотрел в зал.
Заиграл оркестр — негромко, ласково. Что-то из Тинсли Эллиса. И это было правильно — сейчас он хотел именно блюз…
Потом он увидел девчонку за соседним столом. В простом светлом платье, скорее симпатичную, чем красивую, — одинокую девчонку, что утопив лицо в ладонях слушала блюз.
Поднявшись — собственное тело сейчас казалось ему мягче, пластичнее, вечернее, чем обычно, — он подошел к ее столику. Может быть, это шутило с ним вино. А может быть — вечер. Склонив голову, он не произнес ни слова, но девочка поднялась, вложила руку ему в ладонь щедрым движением королевы. Он обнял тонкие хрупкие плечи, они закружились в танце — самом простом, который только танцем и можно назвать.
— Все мужчины сволочи, — сказала девочка, запрокидывая голову. Глаза у нее были синие. Глаза юной королевы, которой не требуется быть красивой, чтобы оставаться прекрасной.
— Не все, — сказал он на всякий случай.
Ее плечи дрогнули под его руками — в снисходительном отрицании. Минуту они кружились молча.
— На самом деле я знала, что он не придет, — сообщила девочка. — Позвонил, когда я уже собралась… очень извинялся. Сказал, что столик заказан, что все хорошо… но он не рассчитал время — и уже не успеет приехать. Скорее всего не успеет. Представляешь?
— Это плохо, — сказал он. Не для того, чтобы опорочить незнакомого соперника, а потому, что и впрямь так думал. — Нельзя не рассчитывать время.
— Он всегда такой… — думая о чем-то своем, сказала девочка. — А я решила, что сегодня слишком хороший вечер… чтобы быть одной.
— Сегодня очень хороший вечер, — подтвердил он. Не для того, чтобы понравиться незнакомке. Он и впрямь так считал. — Лучший вечер недели.
— Ты кто? — вдруг спросила она.
— Беглец.
— А от кого ты бежишь?
— От… — Он осекся. Как объяснить то, что не поддается объяснению? — От смерти, наверное. От себя.
— Тогда ты и есть смерть.
Он покачал головой и улыбнулся.
Оркестр все играл и играл блюзы. Они танцевали под Джона Кэмпбелла и под Петера Грина. Говорили о чем придется и пили вино…
Вторая бутылка кислила. Он поежился, ощутив, как давит воротничок рубашки. Расстегнул верхнюю пуговицу. Оркестр устал и начал фальшивить. Плешивый старичок, сидевший с двумя молодыми девушками, что не мешало ему бросать взгляды и на его собеседницу, заказал оркестру что-то тягучее, полузабытое, давно и заслуженно погребенное. Молодой официант со слащавой улыбкой педераста косился в их сторону совсем уж неодобрительно — ресторан был полон, а они заказывали слишком мало. Чавкали — уже не от аппетита, а по инерции — сытые рты, звякали заляпанные жирными пальцами бокалы, люди полусонно таращились друг на друга. И туго, туго бился в висках ускоряющийся метроном…
Он посмотрел на свою тарелку — в месиво из соуса и остатков пищи. Вытер руки, комкая салфетку. Поднял глаза на девочку, сидящую перед ним, и сказал:
— Вечер кончился.
Девочка кивнула. Понимающе.
— Я могу отвезти тебя домой, — предложил он. — У меня машина.
— Хорошо, — легко согласилась она.
Метрдотель, одутловатый, обрюзгший, недовольно принял из его рук купюру, всем видом показывая, что чаевые слишком мелки. Они торопливо вышли из ресторана.
Машина не хотела заводиться. Хрипел, кашлял, постанывал остывший мотор. Было холодно и неуютно. Но девочка сидела спокойно, приоткрыв окно, задумчиво глядя в небо.
— Сколько звезд, — сказала она неожиданно. — Будто мы и не в городе. Ты любишь ездить ночью между городами?
— Да, — признался он, осторожно проворачивая ключ еще раз. Мотор смирился и заработал ровно и мощно.
— Какая красивая ночь, — сказала девушка. — Удивительная ночь.
Он тоже опустил стекло, вдохнул свежий и чистый, будто после грозы, воздух. Посмотрел в усыпанное звездами небо. Признался:
— Это самая лучшая ночь месяца. Честное слово.
Машина мягко скользнула на проспект. Пустой, лишь редко-редко проносились навстречу те, кто тоже знал — это лучшая ночь месяца.
— Сейчас вперед и направо, — сказала девушка. — У тебя есть сигарета?
Он открыл одной рукой пачку, протянул ей.
— Спасибо, — будто извиняясь, она добавила: — Я вообще-то не курю… А где ты живешь?
— Пока не знаю. Я еще не искал гостиницы.
— Ты можешь переночевать у меня.
Он посмотрел на нее — мимолетно, согласно, но она все-таки уточнила:
— В такую ночь нельзя быть одному. Не подумай, что я всегда… так.
— И мысли такой не было.
Они остановились у здания — высокого, темного, лишь в двух окнах горел свет. Лифт бесшумно, интеллигентно свел створки дверей, девушка не глядя надавила на кнопку.
Он чуть наклонился, ловя ее губы. Глядя в ее глаза, чуть сощурившиеся, потемневшие, в их густую, глубокую синь. Они целовались долго, а лифт послушно ждал, не закрывая дверцу.
В прихожей она скинула туфельки, и он взял ее на руки — снова найдя губами ее губы. Девушка лишь успела сказать:
— Вперед и налево…
Под ногами был мягкий ковер, на стенах — маленькие акварели, полуоткрытое окно задернуто тюлем. Он опустил ее на кровать, но она осталась сидеть — позволяя раздеть себя. Ночь коснулась их своим дыханием — жаркая, щедрая, осенняя ночь. Он остановился на миг, пытаясь запомнить именно этот миг, но тонкие пальцы вцепились в плечи, и он вскрикнул, когда лучшая девушка этой ночи стала его — безраздельно.
Ему показалось, что он слышит, как где-то далеко-далеко невидимый метроном застывает, погруженный в липкую патоку; как изгибается, плавясь и падая, неумолимый маятник; как время, беспощадное и бесконечное, взрывается, исчезая навсегда. Лучшая девушка лучшей ночи целовала его губы, и он ловил ее дыхание, сладкое и горячее, вне времени, вне звуков и красок, вне всех миров.
И время умерло — на целую мгновенную вечность.
И умирало вновь и вновь этой лучшей ночью.
Потом она уснула, а он лежал рядом, касаясь ее бедер, поглаживая одной рукой, которая будто зажила собственной жизнью, и иногда подносил к губам почти полную бутылку шампанского, пытаясь вспомнить и пережить все заново. Три часа — пик ночи. Ему не хотелось спать. Иногда он поворачивался, касался губами ее волос, ловил мочку уха, просто прижимался — щека к щеке. Девушка спала.
А потом где-то в комнатах ее квартиры ударили очередной раз часы. И сквозь их затихающий звон он уловил биение метронома.
Ночь умирала.
Неохотно, сопротивляясь, прячась в темных переулках и за тяжелыми шторами. Отползая в прокуренные залы ресторанов и клубов, всасываясь в последние сны, подтягивая к городу плотный щит дождевых туч.
Но в окно пробивался бледный свет, и кровь колотилась в висках все чаще и чаще. Он повернул голову, зная, что делать этого не стоит, и посмотрел на девушку, что лежала рядом с ним. На приоткрытый рот, на спутанные волосы, на узкую полоску белков из-под полуопущенных век. На размазавшуюся тушь, на синяки под глазами, на красную полосу, оставленную на щеке скомканной подушкой. Он вдохнул ее запах — запах алкоголя, пота и любви.
И осторожно поднялся.
В тесной, неухоженной ванной он долго смывал с себя прелый прах этой ночи. Вымыл голову шампунем из пластиковой литровой бутылки. Метроном стучал все чаще и чаще, но он все-таки вернулся в комнату, подошел к окну. Он не мог и не хотел уйти так. Откинул шторы, до половины перегнулся через подоконник. Его едва не стошнило вниз, в стылый осенний рассвет. Но он стоял, цепляясь за облупленное дерево рам, то закрывая глаза, то пытаясь смотреть вдаль — чтобы хоть на миг забыть о победно грохочущем метрономе.
А потом первый розовый луч вспыхнул на востоке, и он понял, что родилось утро.
Процокали по мостовой чьи-то каблучки. Задорно, пусть и устало. Торжествующе и радостно. С вызовом.
Он улыбнулся.
Светлели стены домов, вспыхивали окна, будто салютуя утру. Облака таяли, расползались. Проехала поливальная машина, скользя струями воды по тротуарам.
Он отдернул штору, прикрыл окно и присел на кровати.
Посмотрел на самую красивую женщину этого утра, что куталась в одеяла, ни о чем не думая и ни о чем не тревожась во сне. Красивую так, как только может быть красива любимая женщина. На милые, спутанные волосы, на устало прикрытые глаза, на пухлые от поцелуев губы. Не удержался, наклонился, целуя ее — нежно, ласково, вдыхая запах ее тела, шампанского, любви.
Он подумал, что хотел бы остаться с ней навсегда. До скончания вечности. Строить дом, растить детей, сажать деревья…
Счастливы те, кто не видит течения времени. Кто никогда не слышит неумолимого метронома. Кто не слышит шороха рассыпающихся кирпичей, едва уложенных в стену. Кто не замечает подслеповатого прищура старика в невинных глазах младенца. Кто не видит дырявой осенней желтизны в едва развернувшемся клейком листочке. Кому не нужно бежать — всегда, всегда, всегда.
— Я не сволочь, — прошептал он на ухо самой красивой женщине прошлой ночи. Тихо, чтобы она не проснулась. — Честное слово. И я не смерть. Я лишь тот, кто слышит ее шаги. Шаги за спиной.
Время уже кончалось. Время спешило, старя лица и осыпая листья. Время не могло остановиться. Время шло за ним — беглецом и проводником, способным видеть рождение заката и смерть рассвета, увядание и расцвет мира. Всегда нужен кто-то, умеющий слышать шаги времени. Кто-то, обреченный бежать.
Он поцеловал женщину еще раз и вышел из спальни. Дверь не предала его, это была юная, утренняя дверь, она закрылась совершенно бесшумно.^Он спустился по лестнице пешком, сел в машину, завел мотор. Открыл пачку сигарет, пока машина прогревалась, закурил.
И выехал из города навстречу еще не рожденному дню.
13 октября 1999 г.Александр Лайк TBOPЦЫ МИРОВ
Сидящий за столом быстро поднялся навстречу вошедшему. Быстро, да, но без единого мгновения излишней поспешности. Даже с некоторой усталой безысходностью смертельно занятого человека. Тем не менее он очень доброжелательно улыбался. Даже приветливо. Даже гостеприимно. Даже в едва заметной степени снисходительно.
Вошедший на секунду замер посреди кабинета, весело глядя на хозяина. Даже чуть иронично. Даже с некоторой долей циничного скепсиса. Потом решительно шагнул вперед и пожал протянутую руку. Крепко и уверенно, как старому другу. Даже брату. Даже младшему брату. Даже свысока. Даже слегка надменно.
Теперь они застыли, выдерживая почти неуловимую для непосвященного паузу. В. воздухе отчетливо запахло обоюдной симпатией. Ну еще бы — знатоки и ценители ритуалов, оба они не могли не восхищаться работой друг друга. Все чувства и эмоции, довлеющие встрече, были предъявлены, измерены и взвешены, а затем исполнены в идеальной форме.
Рослый, худощавый, длинноволосый посетитель и невысокий, круглолицый, коротко стриженный хозяин, несомненно, были идейными близнецами на некоей невидимой сцене психологического театра. Так могли бы встретиться два самурая из враждебных кланов — вежливо улыбаясь и кланяясь перед смертельной схваткой. Так могли бы встретиться после десятилетней разлуки, два паладина-побратима, делившие в сарацинских землях последний кусок гнилой конины — «Вы благополучны, доблестный сэр брат?» — «Да, благодарение Господу, вполне».
— Здравствуй, Коля, — с искренней теплотой сказал вошедший.
— Привет, Саня — радушно отозвался хозяин, поправляя очки левой рукой. — Присаживайся, где видишь. Ты уж извини, это ж рабочий кабинет…
Саня бесцеремонно стащил со стула четыре пачки книг и занял стул сам. Коля вернулся на место за столом и улыбался над ворохом распечаток.
— Новый Серега вышел? — поинтересовался Саня, кивая на низложенные пачки. — Что-то долго вы его тянули.
— Вышел, вышел, — кивнул хозяин. — Вот как раз авторские привезли. Типография шалит, понимаешь. Все время график под них меняем.
— Ладушки, — твердо сказал посетитель. — Времени у тебя, я понимаю, нет, так что давай сразу к теме.
— Да времени никогда нет, — обиженно сказал Коля. — Ну, давай. Значит, первое… Ну, в общем, мы это берем. Окончательно.
Он положил ладонь на пухлую распечатку.
— Сумму оговорили? — равнодушно спросил Саня. Движение правого плеча предупредило: можем поцапаться.
— Да, оговорили — плюс двадцать процентов, — сокрушенно сказал хозяин. Брови его чуть дрогнули: цапайся, сколько влезет, больше ни копейки не выдерешь. — Извини, ну ты ж понимаешь…
Саня склонил голову набок: сейчас посмотрим, чую, ты не все сказал.
— Договор стандартный?
Да, наш типовой. И продолжение мы тоже склонны взять, только с тобой же на твердый срок не договоришься…
Строго сверкнувшие линзы очков сказали: если б на тебя, гада, можно было бы положиться, и о деньгах говорили бы не так. Сам виноват.
— Ну, тогда позвоню, как будет готово, — уверенно сказал Саня.
Сомкнутые губы не шелохнувшись добавили: тогда я сам не знаю, когда будет готово.
Больно оно мне надо…
— Позвони, позвони, — согласился Коля. — Да, авансик я тебе на всякий случай выписал… если сейчас все оформим, можешь и забирать сразу.
Он откинулся на спинку стула: только не говори мне, что деньги тебя не торопят. А то вроде я не прикину, сколько у тебя сегодня в кармане.
— Авансик — это хорошо, — проворчал Саня, скривившись: ну что тебе сказать — уел, кровопивец. — Давай тогда посмотрим бумажки.
Коля выпростал из-под бумажных завалов несколько заполненных бланков и протянул их через стол. Саня придвинулся ближе к столешнице и придирчиво стал их разглядывать.
— Так… тираж, хорошо, год с момента… так. Потиражная?
— Пункт два-семь.
— Так… ладно. Налоги. Так. Копирайт. Так. Вроде…
Он отодвинул бумаги.
— Если ты меня где-то наколол, я этого не вижу.
— Стараемся, — просиял Коля. — Большой опыт.
Оба сдержанно похихикали над взаимным ехидством.
— Вот еще, — озабоченно сказал Коля, снова сдвигая брови. — Тут есть несколько… мне… претензий по тексту…
— Отдашь редактору — убью, — сразу ощетинился Саня. — И даже Славу звать не буду.
— Да тут не редактору, — мягко сказал Коля. — Тут, понимаешь, хорошо бы тебе самому подработать.
В глазах Сани мелькнула искорка: вот они где, искомые проценты. Искорка отразилась на дужке очков: именно здесь. Хотя много все равно не дам. И не надейся. Саня глубоко вздохнул: тогда переделаю листа два, не больше. Ну… три. Все.
— Надо немного, — сказал Коля, извлекая листик с пометками. — Листа два, не больше. Ну… может, до трех.
Искорка погасла.
— Что именно?
— Да вот… ну, мягко ты пишешь, очень мягко. Надо бы мяса подбавить. А то, сам понимаешь, на твою философию читателей мало, тираж тормозится, а это деньги, а потом ты сам же на гонорары жалуешься…
— Я — мягко? — фыркнул Саня. — Опять пол-империи в первом томе перемочил, второй половине недолго ждать осталось, а вам все мало?
— Так оно ж у тебя как бы за кадром, — объяснил Коля. — Ну, перемочил, а кто это видел? А где это написано? Я здесь читаю о мятущемся духе героя и духовных исканиях монаха. — Он снова положил ладонь на распечатку. — А все драки где-то там, на дальнем плане. Ну попробуй резче, ну, может, где-то ближе к Анджею… или Глену, ты ж их любишь…
— Я их читать люблю, — тоскливо сказал Саня. — А писать я люблю себя. Ладно. Где менять, что менять?
— Ну, это ж вообще-то тебе виднее…
— Было б виднее, я б сразу сделал, — решительно сказал Саня. — У тебя есть какие-то прикидки, я вижу. Говори, сделаем.
— Ну… во-первых, эта девчонка… ну, дочка которая…
— Ну?
— Они ведь с героем больше не встретятся, я правильно понимаю?
— Правильно. Не судьба им.
— Так ты б ее грохнул, бот когда Эргент штурмом берут — вбей кусок описания штурма и вкусно ее уложи. Я там не знаю — может, например, в горящем доме… или с изнасилованием… только тогда без особого натурализма.
— Рыцарем в шлеме с черными крыльями, — скривился Саня. — Ладно. Это можно. Гибель города — крупными мазками, она влипает в плен, в ближней перспективе — изнасилование и рабство, она пытается драться, обухом по башке, последняя фраза сержанта: «Ежели кто хочет, поторопись, пока дышит еще». Пойдет?
— Думаю, пойдет, — близоруко щурясь, сказал Коля. — Теперь дальше. Разгром под Альбо… Альтро… ну речка где?
— Арномонд, — устало сказал Саня.
— Сократи там философствования в храме страниц на пять и залей столько же драки. Чтоб стало понятно, что это таки действительно разгром. Куча безнадеги и что-то такое… ну типа десять негритят… ну ты меня понял.
— Нас осталось только трое. — На лице Сани читалось нескрываемое отвращение. — Погибаю, но не сдаюсь. Не надоело?
— Мне так уже вот где сидит, — честно сказал Коля. — А читателям, гадам, все мало.
— Сделаю, — уныло сказал Саня. — Дальше?
— Ну и финал. Тебе во второй части нужен кто? Монах нужен, воин, еще кто?
— Еще парочка второстепенных рож — в основном из первой команды. Те, которые еще из замка вышли. Остальные в принципе не обязательны.
— Тогда сделай отступление за перевал пострашнее. Оставь там всех в каком-нибудь горном проходе стоять насмерть, чтоб герои ушли.
— Вот, блин, — досадливо сказал Саня. — Мне еще только трехсот спартанцев не хватало.
— Ну зачем так прямо? — укоризненно сказал Коля. — Ты аккуратненько, ты ж умеешь. По одному, по два, чтоб отряд потихонечку таял, таял… И красивую последнюю фразу. Что-нибудь… «За спиной разливалось море огня» или там «Охваченный огнем до самого горизонта»…
— Фу, — сказал Саня. — А старая последняя фраза разве чем плоха?
— Да не плоха. Просто нейтральная очень. Умозрительная.
— Ладно, — сказал Саня. — Сделаю. А что мне за это будет? Бесплатные профанации сродни храмовой проституции.
— А смотря когда сделаешь. Если уложишься в наш график, смогу отдать тебе редакторские.
— А когда надо?
— Да надо бы к понедельнику. Следующему, конечно.
— И сколько там редакторских?..
— Ну… — Коля помялся. — Процентов пять сверху будет. Но это, ты понимаешь, уже с основной выплатой пойдет.
— Хорошо, — твердо сказал Саня. — Будут тебе к понедельнику горы мяса и реки крови. Хотя…
— Что-то не так? — вежливо поинтересовался Коля, протирая очки белоснежным платочком.
— Да я вообще-то хотел в понедельник уже уехать. А вдруг тебя переделка не устроит? Ты ж за понедельник прочитать не успеешь, я тебя знаю. Пойдешь наверх и спустишься к вечеру.
— Может такое быть, — серьезно сказал Коля.
— Вот что, — задумчиво сказал Саня. — Вот как мы сделаем. Ты в субботу у Саши на «круглом столе» будешь?
— Должен быть, — сказал Коля. — Я там уже и договорился на пару встреч. Часикам к шести буду.
— Вот я тебе туда дискетку и принесу, — решил Саня. — А ты за воскресенье проглядишь, а в понедельник утречком я тебе сюда перезвоню.
— А ты успеешь к субботе? — подозрительно спросил Коля.
— А куда ж я денусь? Это ж ведь будет уже вечер субботы, а в воскресенье мы все равно в баню собрались. Дима уже и номер заказал.
— Ну, тогда… — нерешительно сказал Коля. — Только ты уж тогда меня не подведи. Значит, в субботу у Саши.
— Принесу, — убедительно сказал Саня. — Тем более как-никак традиция.
— Какая традиция? — не понял Коля.
— Да мы, творцы миров, вроде как привыкли на шестой день это гиблое дело кончать. А в воскресенье — в баньку, ибо хорошо весьма.
— Ага, — сказал Коля, — Только, по-моему, там неделя не так считалась. По-моему, он как раз в субботу отдыхал, потому же она и как бы праздник.
— Может, и так, — согласился Саня. — Тогда я тебе дискетку отдам и в субботу тоже отдохну.
— Значит, подписываем?
— Подписываем. Давай ручку.
— А ты, значит, орудие труда с собой не носишь?
— Мое орудие труда называется клава, — брезгливо сказал Саня. — А на ноутбук с твоими гонорарами хрен заработаешь.
— Да, кстати, авансик, — вспомнил Коля. — Подписывай, а я еще раз пересчитаю.
— Пойдем кофе попьем? — предложил Саня, размашисто чиркая на последних листах всех трех экземпляров. — А то я умираю без сигареты. Когда у тебя в кабинете курить можно будет наконец?
— Кажется, никогда, — без особого сожаления сказал Коля. — Держи денежку. И еще вот здесь мне подпиши — сумму прописью и автограф.
— Так пойдем на кофе? — Саня придавил ручкой неподписанный ордер и сосредоточенно шуршал купюрами.
— Не смогу, наверное, — огорченно сказал Коля. — Кофе вообще-то хочется, но мне сейчас звонить должны, а в три должен Володька зайти…
— О! — восторженно сказал Саня. — Так ты его тогда гони в буфет, а я пива возьму, заодно и обмоем. Так. Где тут тебе?..
— Внизу. Получил, сумму прописью, дата, подпись.
— Держи. Значит, на всякий случай до свидания, а я еще часик в буфете. Если вырвешься, приходи с Володькой, а коли нет — ну, тогда до субботы, значит.
— До субботы. — Коля встал для прощального рукопожатия и лицо его снова стало безупречно вежливым и совершенно непроницаемым.
— Удачи, — кивнул Саня, пожимая протянутую руку и точно так же каменея мышцами лица. — Не забудь Володьку в буфет загнать.
Земля пылала уже давно. Теперь, казалось, запылало само небо.
Двое стояли на перевале и смотрели вниз.
Воин оцепеневшими пальцами взялся за рукоять меча.
— Надо вернуться, — почти беззвучно сказал он, скорее всего самому себе. — Надо вернуться к ним.
Но монах услышал его.
— Ты должен дойти до Дымной башни, — без выражения отозвался он. — И я должен. У нас нет иного пути.
Отчаянный далекий крик пробился сквозь гул пожаров.
— И возвращаться уже поздно, — помолчав, добавил монах. — Пусть примет души их милостивая Тена, во имя богов и отцов-героев… — Он поднял глаза к небу и замер, шевеля губами.
— Боги… — прошептал воин. — Ты говоришь — боги… Как могут они равнодушно смотреть на то, что творится на земле? Ты говоришь — кара небес… За что они карают нас? И того больше — за что они карают невинных?!
— Кто, кроме бога, решится разделить виновных и невинных? — спросил монах, переводя взгляд на спутника. — Кто знает промысел божий?
— Будь проклят промысел, отдавший Эргент в руки Черных! — сквозь зубы сказал воин. — Будь проклят бог, погубивший Нерли!
— Я понимаю тебя, — скорбно сказал монах. — Но то, что ты говоришь, — богохульство. Богохульство и кощунственная ересь. Ты усомнился в замысле Творца, смертный?
— Я презираю замысел, заставляющий гибнуть тысячи и сотни тысяч, — резко сказал воин. — Мне ненавистна мысль, что по воле Творца могут резать и насиловать, жечь и предавать.
— Может быть, в том и нет его воли, — спокойно сказал монах. — Не зря была дана нам свобода. Кто повинен в том, что мы использовали ее во зло?
— Но тогда почему же Он не вмешался? — дрогнувшим голосом спросил воин. — Он безволен? Или бессилен?
Он запрокинул голову и закричал в низкое дымное небо:
— Создатель! Ты, породивший зло и потакающий злу! Почему ты молчишь? Ответь мне! Если ты сотворил наш мир, зачем ты наполнил его страданием? Что нужно тебе от нас? Разве мы — просто игрушки, которые ты ломаешь себе на потеху? Ты упиваешься нашим горем и болью? Ты… Ты есть Зло? Ответь мне!
Небо молчало.
— Ты разлучил нас с Нерли и погубил ее! — Жгучие слова уносились к звездам и метались между ними в поисках бога. — Я проклинаю тебя за это! Ты не заслуживаешь нашего уважения и поклонения, убийца! Не трудись грозить мне адом, ничтожный дух, я вижу ад на земле, и ты тому виной!
— Ты слишком устал, — сказал монах. — Твоя душа больна.
Воин резко повернулся к нему.
— Говорят, Творец всеприсущ, он и есть мир, он и есть душа мира. Так черна душа величайшего из богов? Так много в ней боли и грязи? Говорят, он создал людей по образу своему и подобию. Так жалок, труслив и подл образ нашего повелителя? Я не хочу служить такому богу.
— Говорят также и то, что создал Творец мир, но брат его, Властелин Тьмы, попросил изменить сотворенное, чтобы нашлось в круге земном место для его утех, — сказал монах. — И кто знает, о чем думали в этот миг Творец и Его брат?
Внутри воина словно что-то сломалось. Он замер, опустошенный и постаревший на десятки лет. Медленно посмотрел с перевала вниз и снова обернулся к монаху.
— О чем могли думать сотворившие это? — севшим голосом спросил он.
— Кто знает, — повторил монах.
Небо на востоке заметно посветлело, и на сей раз то было не зарево дальних пожаров.
— Идем, друг, — сказал монах. — Надо торопиться. Половина империи в огне, и недолго запылать другой половине.
Он замолк на несколько мгновений. Потом положил руку воину на плечо.
— Богам трудно. Придется нам исправлять их ошибки. Ты хотел добра и света? Любви и счастья?
— И сейчас хочу, — хрипло сказал воин.
— Тогда идем. И не ропщи. Нелегко совершить то, с чем не справились сами боги. Идем, наш путь далек.
Воин медлил. Он еще раз посмотрел на покинутую долину и тихо спросил:
— За что ты чтишь Создателя? За что ты любишь его?
— За то, что Он даровал мне жизнь и право прожить ее, — так же тихо ответил монах. — За право пытаться изменить то, что мне в Его замысле кажется несовершенным.
Он вновь умолк, потом посмотрел воину в глаза и улыбнулся.
— Понимаешь, друг мой, — почти шепотом сказал он, — мне кажется, что глядя на нас, переживая нашу боль вместе с нами…
— Ну?.. — Воин ждал.
— Создатель учится творить.
Леонид Каганов ВИЙ-98
Вот уже третью ночь семинарист Хома Брут читал молитвы в старой церкви над гробом усопшей дочери пана, очертив на полу круг мелом. Первые две ночи ведьма вставала из гроба и ходила рядом, творя черные заклинания, но не в силах переступить черту. Хома чувствовал, что самое страшное случится в последнюю ночь. Так и стало — вдруг средь тишины послышался шум, как от множества летящих крыльев, раздался жуткий вой и изо всех щелей несметная сила чудовищ ринулась в церковь. И в миг все пространство было наводнено страшными чудовищами и места не было ступить в сторону. Не в силах увидеть Хому в круге, нечистая сила металась рядом, едва ли не цепляя его своими крылами, когтями, клешнями, жвалами и рогами. Они искали Хому Брута, но не могли увидеть.
— Ступайте и приведите Вия! Вий нам укажет его! — вдруг раздался истошный вопль ведьмы.
Тотчас же все умолкло и в наступившей тишине послышалась тяжкая поступь. Взглянув искоса, Хома с ужасом увидел, как семеро жутких существ ведут под руки громадное лохматое страшилище, напоминавшее гигантского паука, человека и волка одновременно. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Остановившись посреди залы, Вий ощерил рот и произнес густым подземным голосом:
— Поиск Хомы Брута. Начать?
— Да! — заорали упырй и вурдалаки изо всех углов церкви.
— О’кей, — ответил Вий и принялся своими узловатыми ручищами шарить вокруг себя, не сходя с места. Вскоре натолкнулся он на морды упырей, приведших его, и объявил: — Обнаружена новая версия нечистой силы! Для продолжения удалите старую нечистую силу!
По рядам нежити прошел тяжкий вздох, и наконец старые упыри и вурдалаки поднялись и вышли, остались лишь молодые. Церковь вполовину опустела.
— О’кей, теперь порядок, — сказал Вий. — Поздравляю, вы пригласили Вия! Для поиска Хомы Брута нам потребуется сорок три минуты. Перед началом мне необходимо уточнить свою конфигурацию. Начать?
— Начать! — заголосили упыри.
Существо замерло и, казалось, мыслью было погружено внутрь себя.
— У меня обнаружены органы: клыки, раздвоенный язык, гланды. Удалить гланды?
— Не время! — пискнул кто-то из совсем молодых упырей и тотчас испуганно смолк.
— О’кей, — согласился Вий. — Отмена. Продолжаю поиск на лицевой стороне. Обнаружены органы — щетинистый подбородок, нос крючком, гланды… Обнаружены еще одни гланды! — Вий тревожно поцокал языком и добавил озабоченно: — Возможен конфликт органов! Удалить вторые гланды?
— Удалить, — растерянно ответили ему.
— О’кей. Начинаю удаление. Стоп! Это не гланды, это веки. Оставить?
— Оставить! — закричали со всех сторон.
— Оставляю. Обнаружен орган — глаза.
— А-а-а!!! — торжествующе провозгласили упыри.
— «Глаза» не может быть использован для прямого доступа из-за конфликта с органом «веки». Удалить глаза? Оставить?
— Оставить!
— О’кей. Поднять веки?
— Да!
— Ошибка. Попробовать еще раз?
— Да!
— Ошибка. Попробовать еще раз?
— Да!
— Ошибка. Попробовать еще раз?
Нежить тревожно смолкла. Вий подождал ответа и, не дождавшись, предложил:
— Попробуйте поднять веки вручную?
Тут же все сонмище кинулось подымать ему веки.
— «Глаза» открыт в режиме доступа! — заявил Вий и сей же час начал оглядываться.
Хома Брут сжался от страха. Вий повертел головой из угла в угол, посмотрел на двери, на окошки под потолком и сказал:
— Поздравляю, вы пригласили Вия! Слишком мало места для работы в церкви. Закройте все окна и удалите часть нечистой силы.
— А окна зачем закрывать? — пискнул маленький упырь и вновь испуганно умолк.
Вий пожал плечами, как если бы речь шла о само собой разумеющемся, и предложил:
— Попробуйте заменить церковь?
Без дальнейших пререканий толпа чудовищ разделилась, и немалая часть их покинула церковь. Оставшиеся чудища взлетели и запахнули железные окна под потолком.
— Поздравляю, вы пригласили Вия! Начинаем поиск! — сказал Вий и начал сызнова оглядывать вокруг себя. — Обнаружена церковь. Обнаружен пол, обнаружены вурдалаки, упыри, оборотни, вампиры. Обнаружен круг на полу. В круге обнаружен… Ошибка! Мало памяти — я забыл, как выглядит Хома Брут.
Сей же миг нежить наперебой стала описывать облик Хомы Брута своими жуткими голосами, да столь подробно, что Хома не переставал дивиться тому, забыв про лютый страх. Наконец все смолкли.
— Поздравляю, вы пригласили Вия! — сказал Вий, нарушив тишину. — Продолжение поиска. Обнаружена церковь, нечисть, пол, круг, а в круге…
Хома почувствовал, как сердце его ушло в пятки.
— Вот он! — Вий вытянул вперед корявую лапу и уставил на Хому свой палец, но промахнулся и указал на маленького упыря, оказавшегося близ круга.
— Это не я! Это не я! — заверещал было тот, но вмиг был разорван на клочки.
— Ошибка, — объяснил Вий. — Попробуйте установить пальцы более высокого разрешения.
— Вий, ну пожалуйста, ну попробуйте еще раз! — взмолились упыри и вурдалаки.
— Попробуйте заменить церковь?
— Ну Вий, ну пожалуйста, ну что вам стоит?!
— О’кей, — согласился Вий. — Поздравляю, вы пригласили Вия. Продолжение поиска. Обнаружена церковь. Обнаружена нечисть. Обнаружен пол. Обнаружен круг…
Вий замер и наступила тишина. Казалось, взгляд его указывает на Хому, но Вий лишь смотрел поверх его головы на дальнюю стену церкви.
— Обнаружены иконки! — объявил он.
— А-а-а!!! — возмущенно закричало сонмище.
— Перенести?
— Да!!!
— Начинаем перенос иконок! — скомандовал Вий. — По окончании переноса иконки не могут быть восстановлены! Согласны?
— Согласны!!! — радостно закричали чудища.
Забыв о Хоме, нежить ринулась на стену, сдирая иконки, круша и ломая их и кидая в дальний темный угол. Хома было решил покинуть таинственный круг и улизнуть в общей суматохе, но так и не набрался духу — он лишь крестился и твердил молитвы, стараясь не глядеть на такое богохульство. Через час разгром церкви был окончен, и Вий продолжил поиск:
— Обнаружена церковь, обнаружена нечисть…
Вдруг прокричали первые петухи.
— Быстрее, Вий, у нас рабочий день кончается! — заволновалась нечистая сила, но Вий, казалось, не слышал.
Напротив, замогильный голос его стал еще более размерен и тягуч. Он продолжал не спеша оглядываться, называя именами все вокруг. Наконец взгляд его снова упал на Хому в центре круга. Тут прокричали вторые петухи, но Вий уже поднимал свой жуткий корявый палец:
— Об-на-ру-жен пол. Об-на-ру-жен круг. Об-на-ру-жен Хо-о… — Он на миг запнулся. — Системная ошибка! Попытка деления на букву «о»!
С этими словами Вий покачнулся и грузно рухнул на пол. Дрогнули стены и зазвенели стекла в витражах. Чудища остолбенели от неожиданности, а затем ринулись ставить его на ноги, и через некоторое время это им удалось. Вий сперва лишь оторопело мотал головой, вспоминая зачем он здесь.
— Поздравляю, вы пригласили Вия! — И опять он грузно упал.
Ему снова помогли встать, и наконец Вий окончательно вернулся в себя:
— Поздравляю, вы пригласили Вия! Поиск Хомы Брута. Обнаружена церковь. Обнаружена нечисть. Обнаружен пол. Обнаружен круг. В круге обнаружен…
— Сгинь, проклятый! — не стерпев ужаса, заорал Хома Брут не своим голосом и замахнулся на Вия кулаком.
Вий от неожиданности моргнул и его веки со щелчком хлопнули в воздухе.
— Вий! Где Хома? Это он кричал? Что случилось? — наперебой затараторили вурдалаки, упыри и оборотни.
Вий стоял неподвижно.
— Орган веки совершили недопустимую операцию и будут закрыты. Согласны?
— Нет!!! — заорала нечисть в ужасе.
— Поздно. Орган веки закрыты и не могут быть открыты до завершения сеанса. Для завершения сеанса выведите меня отсюда и снова введите.
Вий покачнулся и грузно рухнул на пол. Чудовища заново бросилась поднимать его тяжкую тушу, но тут прокричали третьи петухи. Бросив Вия лежащим на полу, испуганная нежить ринулась кто как попало в окна, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было — окна были закрыты. Так и остались они там, завязнув в окнах.
Получив у пана обещанную тысячу червонных, Хома Брут возвращался в город, в семинарию. Ярко светило полуденное солнце и за плечами звякали монеты в узелке. Когда Хома проходил мимо церкви, он видел, как в распахнутых настежь дверях метался местный священник, не в силах вынести такого посрамления Божьей святыни, и долетали оттуда грозные крики:
— Сгинь! Сгинь нечистый! Я должен вести службу!
— Компонент Вий не может быть удален, так как является системным, — раздавался в ответ густой замогильный голос. — Дружелюбный интерфейс…
— Сгинь нечистый!
— …позволяет обеспечить работу с пользователем и обеспечить стопроцентную надежно-о-о-о… Системная ошибка! Попытка деления на букву «о»! Продолжить поиск Хомы Брута? Да? Нет? Отмена?
Игорь Ревва ОТСТАВКА
Я открываю глаза и оглядываюсь. Небо надо мной свинцово-серое, гнусное, давящее на нервы. По нему медленно плывут то ли темные тучи, то ли клубы густого дыма. Вернее всего, второе. Потому что в ноздри настойчиво лезет отвратительный запах горелого мяса.
Я сижу, прислонившись спиной к еще теплой стене полуразрушенного взрывом здания. Улица передо мной просматривается как на ладони. Она пока пуста, но я знаю, что это будет недолго. Скоро здесь вновь будет полным-полно разной мерзости, вывалившейся на Землю из какой-то неизвестной космической клоаки.
Я чувствую себя хорошо отдохнувшим и полным сил. Но идти все равно никуда не хочется. Если бы я был в силах решать свою судьбу, я бы не тронулся с места. Но Хозяин настойчиво гонит меня вперед. Я очень хорошо это чувствую. И мне приходится встать и отправиться в путь.
Хозяин мой неопытен в бою и совершенно незнаком ни с повадками врагов, ни с расположением ловушек и укромных местечек в этом городе. Но — он Хозяин, а я… Я просто солдат. И у меня нет выбора. Я обязан выполнять все его приказы, какими бы идиотскими они ни были.
Вот и сейчас он заставляет меня переть напролом, прямо посередине улицы. И в результате я тут же попадаю под перекрестный огонь двух пулеметов. Я едва успеваю отскочить в сторону и вжаться в спасительный дверной проем. Изо всех сил налегаю на дверь плечом. Никакого результата. Дверь, разумеется, закрыта и укрыться в здании мне не удастся.
Пулеметные очереди хлещут по стенам прямо над моей головой. В лицо летит кирпичная пыль, и осколки камня барабанят по плечам. Так… Выкручиваться из этого дерьма, естественно, мне предстоит самостоятельно. Как и всегда.
Я сдергиваю с плеча винчестер и щелкаю затвором. Улучив момент, я высовываюсь из дверного проема и стреляю в пулеметчика. В того, что находится слева от меня. Стреляю удачно, пулеметная очередь тут же смолкает. Но второй противник начинает палить с удвоенной силой.
Вжавшись в запертую дверь, я лихорадочно перезаряжаю винчестер. Интересно, кончатся ли у него когда-нибудь патроны?
Стрелять во второго пулеметчика опасно. Он справа и почти на одной линии со мной — пули лупят прямо перед дверью.
Я бросаюсь на противоположную сторону улицы и стремительно бегу по направлению к нему, стреляя из винчестера. Есть! Попал!!! Теперь можно было бы и отдохнуть, но над головой опять раздается визг пули и через секунду до меня доносится грохот выстрела.
Прямо за моей спиной стоит еще один из этих подонков. Он торопливо дергает затвор, перезаряжая свой винчестер. Но я успеваю раньше. Так, теперь вроде бы все в порядке.
Я наклоняюсь над трупом и забираю магазин. Всего четыре патрона. Маловато, но лучше, чем ничего.
У того парня, которого я уложил в самом начале, еще осталось с два десятка патронов в его пулемете. Забираю и их. Здесь не получится экономить на боеприпасах. А взять их в общем-то негде. Разве что у убитых. У убитых людей.
Вот чего я никак не могу понять, так это то, почему некоторые люди так горячо кинулись помогать этим инопланетным тварям?! В расчете на выгоду? Из ненависти к своим собратьям? Черт его знает! Но сразу же после Нашествия предателей появилось более чем достаточно. С другой стороны, если бы не они, фиг бы я дошел до этого города. Ведь только они пользуются нашим, человеческим оружием. И боеприпасы можно раздобыть только у них. Разумеется, предварительно пристрелив их обладателя.
Задумавшись, я совсем упускаю из виду то, что Хозяин гонит меня прямо на башню. Вот недоумок! Башня же расположена в центре площади! Самое удобное место! Оттуда же очень хорошо простреливаются все прилегающие к площади улицы! Ну вот! Пожалуйста!!!
С верхушки башни срываются яркие зеленые вспышки и летят ко мне. Я еле успеваю отпрыгнуть за угол. Но мне все-таки достается. Один выстрел этой погани достигает цели, и я чувствую сильную боль от ожога. Левое плечо становится словно чужое, и по руке будто бы пробегают электрические разряды. Очень высокой мощности. Мне приходится стиснуть зубы, чтобы не закричать. Я глубоко втягиваю в себя воздух и достаю из-за спины гранатомет. Эту тварь, что на башне, винчестером не возьмешь. Нет, возьмешь, конечно… Если в упор, десять — двадцать выстрелов подряд, и если сумеешь остаться в живых после этого. Выскочив из своего укрытия, я влепляю в самое верхнее окно башни одну за другой семь гранат. Ствол гранатомета раскаляется и обжигает руки. Честно говоря, и пяти гранат хватило бы, но уж очень мне было больно, когда эта тварь в меня попала…
Медленно, озираясь по сторонам, приближаюсь к башне. Этого делать совсем не надо, но с Хозяином не поспоришь. Ему очень хочется, чтобы я обошел башню кругом. И воздух опять оглашается грохотом выстрелов, и бледно-зеленые молнии лупят по мостовой прямо возле меня. Я падаю и отползаю за угол. И чего ему приспичило обходить башню?
Додумать эту мысль до конца я не успеваю. Из-за угла показывается один из этих инопланетных уродов. Паукообразный монстр, на две головы выше меня. Он тупо поводит по сторонам глазами, замечает меня и открывает огонь. Яркая бледно-зеленая молния на миг ослепляет меня, бьет в грудь, сжигает кожу даже сквозь защитный костюм. За первой молнией следует вторая, третья…
Я ору во все горло от выкручивающей суставы боли и изо всех сил давлю на гашетку. Гранатомет стреляет не переставая. Я стараюсь приподнять ствол и направить его хотя бы приблизительно в сторону этого монстра. И, видимо, мне это удается, потому что обжигающие молнии вдруг исчезают.
Я встаю на ноги. Колени дрожат, все тело болит, в голове туман. И сквозь него пробивается одна-единственная мысль… это конец. Теперь мне не дойти. Да и вообще, если бы у меня в руках был не гранатомет, а винчестер, я бы уже лежал тут хладным трупом. Или обгорелым трупом… Впрочем, большой разницы в этом нет. Как нет и большого значения в том, что я сейчас остался жив. Потому что теперь из меня боец — как из дерьма пуля! Еле стою на ногах…
Машинально, просто подчиняясь приказам Хозяина, вхожу в развалины дома и вижу в углу аптечку. За спиной раздается лязг затвора, я механически поворачиваюсь и всаживаю пулю в грудь очередного противника. Опять человек! Ну, это и хорошо. От инопланетной аптечки мне не было бы никакого толку, успеваю подумать я, и без сил валюсь на пол.
Анаболики, транквилизаторы… Вроде бы живой… Хотя особой уверенности в этом нет. Да и радости по этому поводу, признаться, тоже…
Поднимаюсь на ноги, оглядываюсь по сторонам. Что-то мне здесь не нравится. Наконец-то соображаю, что именно. В углу штабелем лежат запечатанные коробки с патронами. Быстренько перезаряжаю винчестер, беру одну коробку с собой. Если здесь устроен склад боеприпасов, то наверняка охраняет его не один человек.
И тут же с улицы доносится металлический лязг. Все понятно. Опять «паук»! Откуда их здесь столько?!
Выскакиваю на улицу и всаживаю в него четыре гранаты. Достаточно. Инопланетная гадость превращается в груду обугленного и дымящегося мяса. Не люблю насекомых, подумал я.
Проверяю, сколько у меня еще осталось гранат. Всего пять штук. Маловато, но взять негде.
Возвращаюсь в комнату и обшариваю каждый угол. Гранат нет. Ну, на нет и суда нет… Поворачиваюсь к выходу и вдруг чувствую, что не могу пошевелиться. Мир перед глазами задрожал, стал зыбким и нереальным.
Понятно, Хозяин фиксирует меня в этой пространственно-временной точке. Что ж, неплохо.
Мир снова обретает свои прежние очертания, и я спокойно покидаю склад. Теперь мне надо бы идти во-о-он к тому высокому забору. Там есть одна дверка… Но Хозяин хочет иначе… И я поворачиваю к башне, понимая… что иду на верную смерть…
Мне остается преодолеть всего каких-то пять-шесть шагов, когда земля под ногами предательски проваливается и я лечу вниз, в темноту, полную воя и визга инопланетных мутантов.
Быстро вскочив на ноги, я обнаруживаю, что оказался в узком извилистом коридорчике, убегающем куда-то под землю. И оттуда, из тьмы, в меня летят ярко-алые молнии. А у меня в руках гранатомет! И из него нельзя стрелять в таком узком коридоре! Граната обязательно зацепит за стену и тогда…
Видимо, Хозяин этого не понимает. Потому что он заставляет меня поступить именно так, а не иначе. И раскаленные осколки камня летят мне прямо в лицо. Меня отбрасывает взрывной волной к стене, и только это спасает меня от несущихся снизу алых молний.
Захлебываясь кровью, я срываю с плеча винчестер и палю в темноту. К счастью, удачно. Вой смолкает и я, хромая и держась за стену, начинаю спускаться вниз.
Мутант лежит на сырой земле без движения. Пуля попала ему прямо в грудь, распотрошив его не хуже неумелого практиканта на биологическом факультете. Невысокий мутант, ниже меня. Отвратительная коричневая шерсть на его плечах все еще шевелится. Ну, это уже не страшно.
Пинаю его ногой и — о чудо! Под трупом этого гада лежит аптечка!
Оттаскиваю мутанта в сторону, наклоняюсь над аптечкой, и вдруг сзади раздается пулеметная очередь.
Я пытаюсь обернуться, дотянуться рукой до винчестера, но пули бьют меня в бок, разрывая защитный костюм.
Больно. Очень больно…
Я открываю глаза и обнаруживаю себя стоящим посреди склада с боеприпасами. Ага, так и должно быть! Именно здесь меня зафиксировал Хозяин. Ну что ж… Пойдем дальше…
На этот раз я направляюсь к знакомой двери. Толкаю ее ногой, перешагиваю порог. Вот он! Вожделенный выход из этого проклятого города!
Улицу передо мной пересекает глубокая и широкая трещина. Ее не перепрыгнуть, но этого делать и не понадобится — через трещину перекинут узенький мостик. Правда, мостик коротковат, он немного не достает до противоположной стороны. Можно попытаться разбежаться по мостику и допрыгнуть до спасительного асфальта, но лучше этого не делать — все равно ничего не выйдет.
Зато справа от меня, в стене, за потаенной дверцей, находится рубильник. Достаточно будет дернуть его вниз, и мостик удлинится. И тогда можно будет спокойно перейти эту пропасть. Но Хозяин решает, что нужно прыгать…
Пропасть заполнена зеленоватой и едкой жидкостью. Я плюхаюсь в нее с пятиметровой высоты, и она сразу же начинает разъедать мой защитный костюм. Я стою, погрузившись в это болото почти по пояс, окутанный клубами густого и вонючего. дыма, в который с шипением превращается мое хваленое облачение. Да нет, напрасно я так про спецкостюм. Если бы не он, я не успел бы даже понять, что случилось. Хозяин заставляет меня метаться по дну этой трещины, и я бестолково суечусь, разбрызгивая по сторонам тускло светящиеся зеленоватые кляксы этой кислоты. Я чувствую, как густая жидкость начинает проникать сквозь одежду. Кожу словно бы обжигает огнем, но боль сразу же становится слабее — выступившая кровь смывает разъедающую мерзость с моего тела. Вот жаль только, что крови во мне гораздо меньше, чем гадости в этой огромной и зловонной трещине.
Я успеваю сделать еще несколько бестолковых движений, и силы оставляют меня. Я падаю, погрузившись с головой в ядовитую зеленую лужу.
Обычно Хозяин, после того как я два-три раза погибаю, начинает искать другой путь. Но сегодня ему явно наплевать на мои ощущения. Все понятно — не ему же приходится раз за разом растворяться в этой кислоте! У нас с ним вообще очень странное сотрудничество.
Он видит то, что вижу я. А я делаю то, что хочет он. К сожалению, Хозяин не может испытывать ту боль от ожогов и пуль, которую приходится переносить мне. Иначе он не гнал бы меня так бездумно на верную смерть.
Естественно, что и в этот раз мне не удается допрыгнуть. И следующий прыжок тоже не увенчался успехом…
После двадцать пятой попытки я понимаю, что Хозяин просто растерялся. Он не видит иного выхода, как прыгать через эту пропасть. Но это же не выход! Надо просто потянуть за рычаг, и мостик удлинится! Но до противоположного берега — рукой подать. И Хозяин снова и снова продолжает заставлять меня разбегаться, отталкиваться и лететь в зловонную жгучую жидкость на дне трещины.
Как мне хотелось бы подсказать ему, что решение проблемы совсем рядом! Решение проблемы и окончание моих мучений. Но я не могу этого сделать. Хозяин меня не услышит.
Не знаю, насколько хватило бы его терпения, но мое иссякает после сорок третьего прыжка.
Когда я- опять оказываюсь на складе боеприпасов, в том самом месте, где зафиксировал меня Хозяин, я понимаю, что это может продолжаться до бесконечности. Эта боль, эта смерть, это разочарование и чувство обреченности.
И тогда я разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов и вижу перед собой то, чего никогда еще раньше не видел, — лицо Хозяина. Взгляд его удивлен, но страха в нем нет. Он еще не понимает, что его ждет. Ему ведь никогда не доводилось испытывать то же, что и мне. Ту же боль, то же угасание сознания. Ну, это дело поправимо…
Я стреляю ему прямо в лицо. Сразу из обоих стволов. Пули разбивают вдребезги стекло монитора и разносят на куски его голову. Обезображенное тело дергается в предсмертной агонии и падает на стол, обильно заливая кровью клавиатуру.
Будем считать, что я подал в отставку, подумал я, перезаряжая винчестер. И будем также считать, что Хозяин эту мою отставку принял…
Я разворачиваюсь и ухожу в сторону одного из немногих уцелевших зданий. Боеприпасов у меня достаточно, жизни — двести процентов… А свободы теперь — сколько угодно!
И все-таки Хозяину можно позавидовать, думаю я напоследок. Еще ни одному игроку в «DOOM» не доводилось увидеть подобного финала…
КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
Андрей Шмалько СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ ФАНТАСТОВ СВОБОДНЫХ?
(Доклад на конвенте Фантастов «РОСКОН», Москва, 2001)
Гостю, на трибуну конвента взошедшему, не очень годится вещать о делах серьезных, а тем паче неприятных. Конвент — праздник, а на празднике хорошо послушать нечто легкое, слух наш ублажающее, а посему с первых слов винюсь, что говорить буду об ином, не столь нам всем лестном и душеелейном. Но нужда, как известно, челобитчик неотступный и довлеет злоба дня сего.
I
Призрак бродит по нашей Земле, призрак Заединства. И не столь важно, откуда сей фантом вынырнул, из чего соткался: Из миазмов ли всемирного пугала — Глобализма или из наших родных традиций еще времен Ивана Калиты. Заединство живет, торжествует и требует жертв. Не будем о бесчестной политике и о бессчастной экономике. Но взгляните! Не диво ли? Лобызает писатель-демократ Пулатов писателя-патриота Ганичева, договариваясь о воссоединении расколотого ими же во времена недавние Союза советских писателей, и вот уже вновь пишет творческая братия слезницы вождям, и снова вожди на местах и в центре собирают оную братию для отеческого внушения. Что поделаешь! Баррикады возле Белого дома давно разобраны, все вернулось на круги своя, и Прекрасный Новый Мир, которого мы все так ждали, оказался весьма похож на Уродливый Старый. И снова, согласно партийному поэту Маяковскому, «единица — ноль, единица — вздор», и засуетились привычно малые, собираясь в стаи.
Стоит бухгалтер Иванов возле разбитой летающей тарелки, и плачет, и рычит, но знает, что не улететь ему на Бету Лебедя, а возвращаться в совхоз «Путь Зари», где директор уже собирает сонмище, дабы коллективно вступить в очередной «Аграрный Союз» и выдвинуть того же директора депутатом… все равно чего, но выдвинуть. И слушает бухгалтер Иванов сопелку одинокого фавна, и понимает, что никуда ему не деться, не умчаться в межзвездную даль…
Прочувствовали, уважаемые коллеги? Всплакнули солидарно?
Разговоры о возможном объединении фантастов идут не первый год, а в последнее время стали еще чаще. И это, увы, не прихоть, ибо страшный призрак Заединства обрастает плотью, и вот уже личину видать… И не настал ли час стать плечом к плечу, словно гренадеры Миниха под Хотином, дабы встретить оного призрака, как когда-то встречали турок в чистом поле?
Союз нерушимый фантастов свободных… Отчего бы и нет?
II
Однако же, прежде чем объединять, должно представить, что именно мы хотим объединенным видеть. Конечно, Вселенная Фэндом (назовем ее так) велика, разнообразна и порой даже трудноуловима для осмысления, но если постараться и в меру упростить, мы получим нечто, издали напоминающее Солнечную систему (привет вам, о любители звездолетной фантастики!).
Солнце — это, конечно, наши читатели. Причем Солнце, как и положено, имеет протуберанцы — тех, кого мы чаще зовем фэнами, наиболее активную часть солнечной плазмы, время от времени устремляющуюся от поверхности к тому, что вращается на орбитах.
А вот орбитальные объекты — планеты, спутники их, астероиды и пыль космическая — это народ пишущий и печатающийся: писатели, переводчики, критики, литературоведы, художники-иллюстраторы. Планеты, в меру крупные, окружены целыми созвездиями мелких лун. Примеры приводить не стану, дабы оные' луны-сателлиты не обиделись окончательно, однако поглядите в безоблачную ночь на наших Юпитеров и Сатурнов — и все станет ясно. Некоторые планеты ярко освещены читательским Солнцем, другие лишь время от времени греются в его лучах, есть и погасшие, и сорвавшиеся с орбиты. Некоторые планеты даже сталкиваются — но не о них пока речь.
Поскольку наша Вселенная Фэндом, как ни крути, весьма фантастическая, то свет читательского Солнца часто идет не напрямую, а, по догадке Эйнштейновой, преломляясь в некоей искусственной сфере вокруг звезды-Солнца. Сфера эта состоит из очень многих сегментов, главные из которых (в произвольном порядке):
1. Журналы, фантастику печатающие.
2. «Большая» пресса и иные СМИ, иногда о фантастике информирующие.
3. Конвенты, фестивали.
4. Творческие семинары (их можно посчитать, конечно, и спутниками крупных планет).
5. Немногочисленные все еще действующие клубы любителей фантастики.
6. Уцелевшие бумажные и виртуальные фэнзины.
7. Общественные организации, официально существующие и зарегистрированные, созданные участниками Фэндома. Пока их по меньшей мере две: фонд «Аэлита» и общественное объединение «Интерпресскон».
8. Одиноко блуждающие премии: Беляевская, АБС и прочие.
9. Особый, быстрорастущий сегмент — виртуальный: конференции ФИДО, сайты Интернета, виртуальные библиотеки.
Прежде чем идти дальше, полюбуемся миг малый нашей Вселенной Фэндом. Она хороша! Творилась она много лет, она существовала и существовать будет. Нам есть что объединять.
Полюбовались?
А теперь давайте критически прищуримся. Ведь ежели все было ладно, то пропели бы мы себе хвалу и на том все дела завершили.
Что же мы видим?
Планет-писателей (переводчиков, критиков и т. д.) немало — но и не много. Тех, кто печатается, менее сотни; молодых, растущих, но под солнечные лучи еще не попавших — значительно больше. Вывести их на свет — задача очень непростая и часто решаемая, увы, вне пределов Фэндома, но иногда по плечу структуре официальной, о которой речь еще впереди.
Читательское Солнце, без коего мы все в космический лед обратимся, имеет немалую массу. По очень предварительным подсчетам фантастику в СНГ регулярно читают несколько сотен тысяч человек. Вы правы, хотелось больше. Но это зависит не только от планет-писателей, но и от сферы вокруг Солнца. В нашей весьма фантастической Вселенной эта сфера не только преломляет свет, но и увеличивает массу самой звезды. А вот тут видны прорехи, пробелы, черные дыры и даже сгустки антивещества.
Еще недавно главным недостатком следовало назвать малое количество журналов, в которых могли бы «засветиться» новые планеты-авторы, критики, литературоведы, а также произведения малых жанров. Однако за последний год положение стало меняться к лучшему, журналов стало больше, чаще стали они выходить. Совершенству, конечно же, нет предела, но сейчас куда более серьезную проблему, как кажется, представляют собой «большие» СМИ, пишущие о фантастике редко, зато имеющие огромную, по сравнению с собственно «фантастическими» изданиями, читательскую аудиторию.
Тут объясниться должно. Не столь давно довелось автору сравнить нашу фантастику с гетто, что вызвало у некоторых недоумение и даже соблазн. Смысл недоумения вот в чем состоит: надо ли нам печалиться, что фантастика до сих пор считается среди литературных эстетов и власть имущих задворками словесности? Нам ведь и так хорошо, мы пишем, нас читают — причем куда больше, чем пресловутые «толстые» журналы, кои ныне по заслугам «детьми капитана Гранта заморского» прозваны, и лауреатов Смирновско-водочной премии. Нечего, мол, разводить комплексы литературной неполноценности на ровном месте.
Увы, место неровное. Разные жанры (виды, методы) литературы в неравные условия поставлены. Для чего нужны публикации в «больших» СМИ? Прежде всего для пропаганды фантастики и привлечения потенциальных читателей, а возможно, и новых критиков, и писателей даже. Ведь «большие» газеты и журналы читает главным образом интеллигентная публика, то есть та, которая и любит фантастику. Но гетто не дозволяет «достучаться» до них. Десятки тысяч тех, кто в детстве зачитывался Ефремовым и Саймаком, просто не ведают, кто и что сейчас пишет и издает. Ведь лет двадцать назад фантастику читали не сотни тысяч, а миллионы. И не надо снобистского кваканья о том, что сначала стань Ефремовым, а потом читателя требуй. Все или, скажем точнее, многие — знают, что такое раскрутка книги, серии, автора. Сколько раз слышать доводилось: «Я и не знал, что сейчас издают современную фантастику! А я вот читал и читаю только западную фантастику, а что, есть и наша? Я фантастику вообще не читал, думал, это для детей, а вот прочел книгу замечательного писателя Н., о которой мне рассказал приятель, и теперь, читаю!» И скажите мне, что вы такого не слыхали, а я погляжу вам в глаза!
Между прочим, тем и хороши наши конвенты, что привлекают внимание к фантастике тех самых потенциальных читателей, но на конвент могут заглянуть десятки, а телевидение, радио и «большие» газеты работают с десятками тысяч.
Одна из причин нечастого внимания упомянутых «больших» СМИ к фантастике как раз и заключается в неофициальности ее статуса. И не пробуйте переубедить меня, что это не так. Пресса до сих пор интересуется прежде всего организациями, она была и, увы, еще долго будет обслугой власти, ниже этой власти и структур ее, мало что прозревающей. Просмотрите, когда и в каких случаях СМИ обращают внимание на литературу да на братию пишущую? Вручение официально признанных премий, конфликты и контакты опять-таки властью признанных писательских союзов, юбилеи и новые публикации официально признанных — или столь же официально непризнанных — авторов. Что поделаешь, так было и так будет еще долго.
Некоторые из пишущих, уже греющиеся в лучах читательского Солнца, могут подумать и сказать, что все сие не для них, ибо им и так хорошо. Рад за них душевно, но, поверьте, может быть еще лучше — и намного. Тираж в двадцать (и в пятьдесят тоже) тысяч, которым многие справедливо гордятся, — тираж элитарный, он может и должен быть значительно больше. Русскоязычных читателей десятки миллионов. Миллионов, господа и товарищи!
На это возразить можно: вступайте, братья-фантасты, в один из существующих писательских союзов и в честной конкуренции с деревенщиками и авангардщиками боритесь за читателя и за место под солнцем. Какая-то часть писателей-фантастов так и делает. Но одно не исключает другого, кроме того, как ни крути, а несколько хороших писателей в гигантском сонмище очередного творческого спрута (напомню, только в литсоюзе Ганичева более пяти тысяч гениев признанных) тенденции не переломят, более того, так и останутся в том самом гетто, на положении авторов неизвестно какого сорта. Один очень хороший писатель чуть ли не обиделся на то, что я в докладе о литературном гетто не упомянул факт выдвижения его, хорошего писателя, на премию Букер, поелику это-де не встраивается в концепцию. Увы, еще как встраивается! Местное отделение литсоюза выдвинуло, послало бумаги в Смирновско-водочный комитет… И где твой Букер, дорогой друг?
И вновь подчеркну — не в премии букерной, водкой пахнущей, дело, хоть и достоин сей писатель премии куда более престижной. Да и не подачки от скоробогачей наших и заморских нужны фантастике. Но всякая такая премия, должным образом прессой обсужденная, любой наш лауреат, приведет в фантастику не одну тысячу тех, кто ныне не по своей вине ее не читает.
Не стану более доказывать очевидное. Периферийное положение Вселенной Фэндом отсекает фантастику от читателей. И это, увы, факт.
Само собой, неофициальный статус фантастики, наше полусуществование с точки зрения властей предержащих, затрудняет проведение тех же конвентов и всех подобных акций. Одно дело — к властям приходит представитель творческого союза или, на худой конец, любой признанной структуры (общественного движения или фонда), с другой — пресловутая «группа товарищей». В Петербурге и Екатеринбурге, где организаторы конвентов имеют наибольший опыт, это давно поняли, посему и зарегистрировали соответственно «Интерпресскон» и «Аэлиту».
Конечно, это далеко не единственный недостаток нашей Вселенной, о котором вспомнить следует. И вновь, увы. В последние пару лет Фэндом сотрясают конфликты, не имеющие отношения к творчеству. Что характерно, сферой, где эти конфликты реализуются, являются не журнальные страницы, не фэнзины и даже не конвенты. Почти все ссоры безобразные и разборки происходят в виртуальной составляющей Фэндома — в ФИДО и Интернете, превращая эту виртуальную сферу в настоящее «мягкое подбрюшие» нашей Вселенной. Именно там, среди искренних любителей фантастики, притаились люди недостойные, боящиеся оскорбить в лицо, а посему кусающие в спину. Искренние и истинные любители фантастики, еще раз подчеркну, не о вас речь! А что касаемо сих людей недостойных, имя фэна чернящих, то о них, вероятно, придется поговорить отдельно — и не сейчас.
Сейчас же о том, что можно сделать для преодоления маргинального статуса фантастики, для того, чтобы в нашем постфеодальном обществе всякие (не буду пачкать язык, уточняя, кто именно) перестали снисходительно похлопывать фантастику по плечу.
Совершенно верно, я об объединении в некую структуру по примеру иной пишущей братии, уже выстроившей свои ряды, дабы отразить атаку очередного Ислам-Гирея. Некую — ибо о форме еще предстоит думать, и это тоже разговор отдельный (опять-таки творческий или профессиональный союз, общественное объединение, фонд и так далее). Сейчас же — о принципе.
III
Итак, принципы, которые могут быть положены в основу гипотетического Союза Свободных Фантастов.
Прежде всего Союз сей не должен превращаться в касту и делить писателей на сорта. Такое уже предпринималось. В свое время писатель Ст. (я не Иосифа Виссарионовича имею в виду) разразился громокипящей речью, в которой объявлял войну всем подряд. В качестве критерия подлинности писателя-фантаста упомянутый Ст. предложил считать получение или не получение оным писателем некоей премии, которую Сам Ст. и учредил. И до сих пор, говорят, он от мысли своей не отрекся. И что же? Вслед за одной появилось еще несколько премий, каждая из которых главной себя видит, при желании же можно учредить их любое количество (в прекрасной Франции, например, число премий точно соответствует количеству писателей, чтоб не обидно было). Тем более награждают большей частью не деньгами, а очередной железякой, что делает сей вал премиальный сходным с игрой в фанты или же с вручением грамот в пионерском отряде. Несерьезно это. А потому не станем создавать «академии», подобной французским «бессмертным», ведь не избрали Жюля Верна в оные «бессмертные», постеснялись. Предполагаемый Союз должен быть максимально демократичным или (кому не нравится это слово) общедоступным, как МХАТ при Станиславском.
Прежде всего должен стать он международным, причем не ограничиваться, скажем, русскоязычными авторами ближнего и дальнего зарубежья, а принимать всех желающих, хоть с планеты Плутон. Принцип приема (естественно, только желающих) должен быть максимально упрощен. Скажем, для писателя это — одна авторская книга, для критика и литературоведа — несколько публикаций, для художника — иллюстрация опять-таки одной книги в жанре фантастики. Для всех остальных, для начинающих писателей и фэнов в первую очередь установить, скажем, рекомендацию двух членов Союза. А можно еще проще, не о том речь. Таким образом, весь Фэндом, чисто теоретически, конечно, имеет право в этот Союз вступить.
…И не говорите мне, дорогие фэны, что лишняя «корочка» вам помешает. Пригодится — и в отделении милиции, и на работе, когда надо отпрашиваться на очередной конвент, и вообще на память. А молодой писатель, заглянув в провинциальное издательство, может для начала выложить на стол членский билет Союза. Отчего бы и нет?
Можно возразить, что подобная общедоступность превращает Союз в тусовку. Ну и пусть превращает, не велика беда. Все равно до пяти с хвостом тысяч гениев, что окопались в литсоюзе Ганичева, мы не доберемся.
Необходимо также предусмотреть и коллективное членство для уже существующих и будущих зарегистрированных объединений фантастов, а в принципе и для любых объединений.
В целом, принцип членства должен исходить из формулировки, предложенной Мартовым во время дискуссии по Уставу РСДРП: каждый член союза должен «принимать участие» и не больше. Активной работы требовать ни от кого не должно, мы не бомбистское подполье, где нужен каждый штык. Союз для фантастов — но не фантасты для союза.
Необходимо также сразу же оградиться от чар Златого Тельца. Смешно и противно читать о многолетней склоке литсоюзов за очередной особняк и квот в санаториях. Новый Литфонд мы создать не сможем, да этого и не требуется. Желающие могут вступать в упомянутый Литфонд вполне самостоятельно и с полным правом отдыхать в Коктебели. Значит — как можно меньше имущества! А для этого необходимо сразу юридически отделить собственность Союза, ежели таковая все же появится, от собственности его предполагаемых коллективных членов. Скажем, некий фонд, входящий в Союз, таковым имуществом располагает, однако это его Златой Телец, и посягать на оного Тельца Союз не должен.
Все это, конечно, скучная материя, но склоки за пригоршню долларов, поверьте, еще скучнее.
Ни одна премия, ни один конвент, ни один журнал не должен считаться главным. Более того, таковых и в будущем вводить не следует. Пусть Вселенная Фэндом развивается, как и прежде, по своим законам. Дело Союза — создать для этой Вселенной соответствующий (нашим дурным феодальным традициям соответствующий) фасад и одновременно, извините за скверный термин, — «крышу».
И наконец, руководство. Почти во всех творческих союзах реальную работу выполняют не свадебные генералы, а совсем другие люди. Посему необходимо сразу же отделить, так сказать, Президиум, нужный прежде всего для представительства, от тех, кто будет заниматься конкретной работой. Тут можно поступить просто. Если Союз будет организован, то его организаторы и станут техническими руководителями, условно говоря Секретариатом. Что касаемо генеральского Президиума, то лучше всего его не избирать, а предложить туда записываться всем желающих — не жалко! Естественно, глава Союза должен быть известен не только в кругу фантастов, но такие люди, думаю, найдутся. Мы их знаем и мы их любим.
Можно придумать также немало иного полезного. Скажем, собирать членов Союза в одном зале для принятия решения совершенно лишнее. Вот тут и должно нам помочь «мягкое подбрюшие» ФИДО и Интернета, где есть уже немалый опыт таких заочных сонмищ, но о подобном довольно, ибо не сие главное, а коль решится главное, то и детали отшлифовать можно.
Так что? Все в Союз? Пускаем по рядам огрызок бумаги для записи всех желающих?
Нет! Погодим немного.
IV
Снова прищуримся и поглядим, но уже иначе, на все три главные составляющие замысла: на власть, к которой придется прилепиться, на структуру, что будет нами возведена и, наконец, на нас самих, грешных.
Ницше не советовал долго вглядываться в бездну, поскольку бездна тоже вглядывается в тебя. Создавая официальное объединение, мы идем под «высокую государеву руку», как Малороссия при Хмельницком. На этом остановлюсь и не буду напоминать, что государство, обеспечивая упомянутую «крышу», забирает у нас куда большее, что вчера, сегодня и, очевидно, завтра мы можем спать спокойно, однако будет еще послезавтра, что в феврале 1917-го со свободой творчества тоже был полный порядок, но пришли годы с другими номерами, и что при первом же давлении государственного пресса любой творческий союз расколется на лояльных, менее лояльных — и так далее, до самых Мордовских лагерей. Умному достаточно. Напомню лишь один давний случай. В 1919 году красные после взятия Киева обнаружили список подписчиков «черносотенной» газеты «Киевлянин», издававшейся Шульгиным, за 1912 год. Кое-кто за эти годы успел сменить адрес. Но большинство, увы, не успело…
Но это перспектива, а люди мы веселые и оптимистические, да и думаем больше о дне сегодняшнем. Что ж, давайте о сегодняшнем. Если мы будем создавать структуру, даже самую простую, самую общедоступную, мы должны помнить, что создаем Левиафана. Пусть пока еще маленького, наивного Левиафанчика, который поначалу будет ласково тыкаться нам в ладони. Но генотип не изменить, и очень скоро структура начнет жить по своим законам, всем хорошо известным, если не в теории, то на практике. Люди творческие не любят ходить строем, и любить подобное не могут, но смысл любой структуры, любой организации именно в этом. А ежели будут ходящие в строю, то появятся и те, кто идет перед строем и принимает парад. Если есть преданные организации люди, то появятся и преданные ею, если есть веселое и радостное подавляющее большинство, то, значит, будет и подавляемое меньшинство. Появятся и главная премия, и главный конвент, допущенные к столу и обладающие «правом табурета». Любая организация не может жить без оппозиции, которую необходимо укорачивать, без чистки рядов, расколов, дележа если не денег, то идей. Это придет само собой, причем из самых правильных побуждений. Представьте хотя бы, что некий несознательный и невоспитанный из ФИДО начнет подписывать свои словеса непотребные в адрес хороших людей «член союза фантастов». Не стерпит душа, взыграет праведно, и захотим мы оного несознательного исключить. И вот уже иные несознательные да невоспитанные шипят в защиту собрата, а вот и честные, принципиальные люди защищают пресловутую «свободу слова», вот и голосование, а вот и спор из-за подтасовки голосов. Но жизнь идет дальше, и наконец структура рано или поздно уполномочит очередного, уже не функционера — вождя, заняться не только скучной «оргработой», но и определением творческого курса, причем не только всех, но и каждого персонально. Будьте готовы, вольные фантасты, вольные планеты на своих орбитах, что в один день или в одну ночь (или, согласно традиции, перед рассветом, когда стучат в дверь), придется пожалеть.
Можно не верить в такую перспективу. Но, извините за очередной историко-партийный пример, в год своего Второго съезда РСДРП была куда меньше, чем наша Вселенная Фэндом.
И наконец, люди — мы сами. Люди слабы, и надо ли накладывать на них ярмо неудобоносимое? Соблазн велик, ибо даже в пионерском отряде можно интриговать, создавая фракцию второго заместителя первого помощника санитарки. Так и вижу, к примеру, славного парня писателя Н., восседающего в отдельном кабинете и беседующего по душам с писателем М. о том, что на очередном историческом съезде Союза Фантастов хорошо бы прокатить на выборах в правление или секретариат писателя Ж., а за помощь в этом писатель Н. поспособствует командировке писателя М., скажем, на Еврокон, как полномочного представителя Союза за казенный кошт. А вот и вечный оппозиционер писатель В. входит в буфет Союза, дабы тяпнуть пивка, но отворачиваются собратья, не здороваются, ибо не люб оный В. очередному вождю, в кресле восседающему…
Увы, вижу и худшее! Не быть нашему Союзу богатым, а значит, все равно придется искать и просить презренный металл на конвенты и журналы, как просим сейчас. Но ежели сегодня от Златого Тельца с конкретным именем, фамилией и чековой книжкой зависит отдельный человек кии, что хуже, отдельный конвент или журнал, то, построившись в нерушимые фаланги Союза мы станем зависеть от очередного или внеочередного благодетеля скопом. И хорошо, если сей благодетель будет подобен вечному винопийце фэну А., что ныне стал спонсором Интерпресскона, ибо желает сей А. малого — на фантастов перегаром подышать да в фонтане искупаться. Но иные и умнее, и ненасытнее, и вот уже становится наша демократия направляемой, зеленой смазкой подмазанной, и вот уже сидит жюри будущей главной нашей премии и рассуждает, как ловчее исхитриться и спонсорско-барскую душеньку потешить, и вот уже воротит рыло наш самый главный журнал, ибо не желает благодетель, чтобы некий писатель на журнальные страницы попадал. И вновь — не говорите мне, что такого не будет, ибо есть уже оно, но нет предела совершенству, а несовершенству — того пуще.
Не буду продолжать, ибо мерзко становится на душе, и не лучше ли оставить все как есть и отправиться в упомянутый буфет, не будучи ни секретарями правления, ни председателями, ни оппозиционерами, ни гонимыми, ни гонителями, — и вместе выпить пива, без всякого Союза Фантастов?
Что и говорить, лучше, конечно! Но проблема не исчезнет после третьей бутылки «Балтики № 6», и скоро в очередном городе придется организовывать новый конвент, и еще один толковый парень с дискетой зайдет в издательство, и снова будет цедить сквозь зубы хулу на «низкий жанр» все тот же, помянутый мною когда-то поэт-матерщинник К. И вновь скажу — довлеет злоба дня сего, а злоба дня грядущего довлеет сугубо. И не решить такое одному, и вдвоем не решить тоже, потому обращаюсь я к коллегам и собратьям: если неправ, если вопрос, мною потревоженный, не стоит и пустой скорлупы, то и лежать ему рядом со скорлупой за порогом буфета, где мы пьем пиво. Но если прав я, то отворачиваться поздно, и на вызов Прекрасного Нового Мира надлежит дать ответ.
Дмитрий Байкалов. Андрей Синицын ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ?[4]
(Опыт экзистенциального анализа российских Фантастических премий)
Человек должен обращаться к цели, когда он ставит вопрос об истине.
Мартин ХайдеггерСобрались мы как-то с целью почитать Хайдеггера, что с успехом и осуществили, причем не без удовольствия, хотя и с некоторым скепсисом, памятуя о нацистском эпизоде в прошлом Херра Мартина. Хайдеггер, надо сказать, оказался очень даже правильным, качественным и добротным, так что в пограничное состояние мы вошли довольно быстро и стремительно начали приближаться к конечному пункту онтологической триады — трансценденции. Необходимо отметить, что нас было всего двое, что, вообще говоря, не совсем соответствует национальной традиции прочтения Хайдеггера, поэтому, обнаружив на месте «зияющей пустоты ничто» некоего третьего, мы даже обрадовались, чем заведомо нарушили процесс и немедленно вывалились в мир — арену обезличенного, неподлинного существования.
Между тем некий третий, окинув нас горящим взором, протянул два ярко-оранжевых прямоугольника. «Московский Кремль — Твин Пикс. Маршрут № 88» значилось на билетах. В ответ на напрашивающийся немой вопрос наш новый знакомец, неестественно жестикулируя, прошептал: «Нас ждет агент Купер (не путать с агентом Малдером) для изучения феномена сов». Мы переглянулись. «Там карлик гадко танцует перед алыми гардинами», — менее уверенно произнес он. Тут уж мы не сдержались. Оранжевые клочки полетели по закоулочкам. «Дорогой коллега (мы назвали его так), да будет Вам известно, что у каждого уважающего себя субъекта есть свое представление о том, что Вы хотите нам навязать. Так, один из нас навсегда принадлежит Полдню, он вот уже несколько десятков лет лежит там, на травке, рядом с Леонидом Андреевичем и соответственно недалеко от речки. Другой же живет во Внутренней Монголии с женщиной по имени Анна, и каждое утро они поливают желтую розу, стоящую в бутылке с золотой этикеткой, сделанной из квадратика фольги. Understand?»
Некий третий отнесся к этой тираде с пониманием, пожевал губами, закатил глаза и изрек: «Так в этом и есть ваша экзистенция?» Мы мгновенно успокоились, прочитали еще по паре страниц и подробно изложили свои соображения по этому поводу на бумаге.
Соображение первое: Мир
Любая эпоха становления Мира есть время человеческих ошибок.
Мартин ХайдеггерДля лучшего понимания нашей позиции начнем с нескольких обобщающих тезисов. Во-первых, мир несовершенен (взять хотя бы моногамию брака или персональный состав российской Государственной думы). Во-вторых, мы в этом несовершенном мире осознаем себя в качестве настоящих «НФ-парней»: «Мы бы занимались фантастикой даже «за спасибо», задаром… Наши мысли — это научная фантастика, наша вера — это научная фантастика, Наши сны и мечты — это тоже научная фантастика» (Брюс Стерлинг).
Для грезящих фантастикой несовершенство мира представляется еще более вопиющим, ведь в повседневной жизни им приходится играть роли, навязанные обществом (семьей, работой, политикой и т. п.). Отсюда со всей неизбежностью следует необходимость возникновения такой среды, в которой происходило бы духовное общение «немногих», в противоположность массовому общению, в процессе которого человек превращается из субъекта общения в объект информационного воздействия. У любителей фантастики такая среда получила название Конвент. Конвент, таким образом, является полем битвы с всемирным абсурдом, бунтом против рутины, мятежом против судьбы. Подавляющее большинство участников конвентов действительно свободны. Каждый из них раскрывает себя в качестве актера, который самостоятельно исполняет все роли. Казалось бы, чего проще — выбрать путем дискуссии объективно лучшего из лучших и провозгласить его своим королем. Ан нет. Короли-то, конечно, провозглашались, и не всегда они были голыми. Но вот насчет объективности выбора вопрос остается открытым.
История проведения российских (советских) конвентов насчитывает чуть более двадцати лет. Для сравнения скажем, что церемония вручения премии Хьюго в сентябре 2001 года в Филадельфии прошла уже 59-й раз. Старейшим отечественным конвентом по праву считается «Аэлита», проводящаяся с 1981 года. Сотни и сотни любителей фантастики съезжались в Свердловск буквально отовсюду. Кульминации это движение достигло к началу 90-х годов. На «Аэлите-90» только официально было зарегистрировано около полутора тысяч человек (рекорд этот не побит и по сей день: даже на беспрецедентном по количеству участников «Зилантконе-2000» их было несколько меньше). Но несмотря на внешне демократические атрибуты проведения фестиваля фантастики, сам приз «Аэлита» долгие годы оставался официозным, нивелирующим все индивидуальное, навязывающим Фэндому усредненный вкус. Так, братья Стругацкие хоть и получили свой приз первыми еще в 1981 году, но только лишь в сомнительной компании с А. Казанцевым, без которого не могло обойтись тогдашнее руководство Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе Союза писателей РСФСР. В последние несколько лет авторитет самой старшей отечественной литературной премии стал падать, и организаторы конвента, надо отдать им должное, пошли на радикальные меры: изменили систему голосования, расширили состав и региональное представительство жюри. Сделан пусть небольшой, но крайне важный шаг по направлению к истине.
В начале 90-х годов в нашей фантастике происходят серьезные изменения. Ослабевает роль. Свердловска, и роль лидера переходит к Ленинграду (кто бы мог подумать, что в конце 90-х то же самое произойдет и в политике). «Вчера в фантастике — сегодня в политике». Неплохой слоган. В феврале 90-го года прошел семинар, посвященный фэн-прессе, получивший соответствующее название «Интерпресскон». Этот конвент на долгие годы стал центром притяжения как писателей фантастов, так и читателей. Еще бы. Теперь каждый участник встречи чувствовал себя приобщенным к таинству выбора, причем выбора свободного, не ограниченного ничем, практически к «зову экзистенции». А если к этому всему еще добавить незримую тень Улитки, тихо ползущей по склону Фудзи, то становится абсолютно ясной престижность премий, вручаемых на «Интерпрессконе». Однако время неумолимо. Фантасты «четвертой волны», провозгласившие целью сближение фантастики и литературы, так и не приблизились к последней, но и первую покинули. Издательства стали выпускать больше фантастики, много хорошей, но в основном разной. И как-то незаметно мнение мэтра, прежде довольно часто совпадавшее с мнением участников конвента, стало заметно с ним разниться. Все это происходит на фоне того, что номинационная комиссия из года в год не включает в списки для голосования лидеров продаж, таких как В. Головачев, А. Бушков, Макс Фрай, А. Белянин и др. В результате последние несколько лет публика съезжается, по инерции голосует, неформально общается в баре, где констатирует отличие своего мнения от мнения Б. Стругацкого, и удовлетворенно разъезжается. Налицо процесс стагнации, прорыв в «Лес» обернулся новым «Управлением».
Там же, в городе на Неве, с 1996 года проходит Конгресс фантастов России, безусловно, лучший по уровню организации и сервиса конвент из всех проводящихся в настоящее время. В его рамках вручается премия «Странник», задуманная и присуждаемая, как озвучил в свое время Б. Стругацкий, «по гамбургскому счету». Премия, по своему статусу напоминающая американскую «Небьюлу» (и ту и другую присуждает жюри, состоящее из профессионалов), но по сути таковой не является. В SFWA — профессиональную ассоциацию англоязычных фантастов, которые и производят голосование, входят несколько тысяч (!) человек, причем не только писателей, но и художников, критиков, литагентов и т. п., в жюри же «Странника» уже который год не могут пробиться супруги Дяченко, неоднократные обладатели (!) этой премии. Впрочем, в 2001 году жюри конвента наконец-то разродилось и увеличило свой состав аж на одного человека, и, кооптировав Александра Громова, достигло численности в 12 человек. Кроме того, стал заметен серьезный уклон в коммерческую сторону, для чего приглашается большое количество зарубежных звезд, таких как Р. Шекли, П. Андерсон, Л. Буджолд и др., и соответственно назначается приличный оргвзнос (до 160 долларов США). Собственно, в этом ничего плохого нет, начинание можно только приветствовать, но, простите, это и не «гамбургский счет».
Ведущие конвенты «старого фэндома» пребывают в кризисе, одни в более глубоком, другие в менее. У любителей же ролевых игр внешне все намного благополучнее. В Казани на «Зилантконе-2000» собралось, как уже отмечалось выше, около 1200 человек. Феноменально! После раскола начала 90-х годов два фэндома развивались в противоположных направлениях. Одни были в основном направлены в будущее, другие — в прошлое. При кажущейся демократии происходящего на «Зилантконе-2000»: спальники, гитары, хайратники, фенечки; буквально всюду виднелась жесткая, практически феодальная пирамида. Мастера игры, старые заслуженные бойцы — это повелевающая элита, остальные — чернь, готовая есть, спать и жить в пропахшем потом зале на сто топчанов. Если кому-то такая жизнь нравится — нет проблем, но и провозглашаемого чистого светлого утонченного сообщества, занимающегося постижением высших истин, здесь отнюдь не наблюдается.
Соображение второе: экзистениия
Свобода человеческой экзистенции часто находится в рабстве у мнения толпы.
Мартин ХайдеггерКартина Мира, описанная нами, апокалиптична. С одной стороны — снобизм, с другой — мракобесие. Куда же податься бедному фэну? Да все туда же — на конвент. Главное — быть самим собой, не поддаваться влиянию толпы. И не важно, куда она тебя влечет: голосовать за нудного и неинтересного тебе писателя (не бойся показаться глупым) или в лес, размахивать деревянным мечом (не бойся показаться слабым). Наслаждайся мудростью «Аэлиты», бесшабашностью «Интерпресскона», сервисом «Странника», прекрасными семинарами и шумным балом «Зиланткона». Тем более полку конвентов прибыло: в полный голос заявили о себе наполненный ароматом терпкого вина харьковский «Звездный мост», богатая таежной романтикой томская «Урания», вьюжный московский «Роскон». Приезжай и наслаждайся общением, ибо никакой Internet не заменит блеска человеческих глаз, тепла человеческих рук. Только в процессе коммуникации появляется возможность обрести собственное «я». Остальное зависит от организаторов: позволят ли они проявить себя этому «я», этой чистой, как первый снег экзистенции, самостоятельной, свободной личности, или загонят в рамки догм, решат все сами и этим разрушат ее самое. Очень многое зависит от того, какую систему голосования изберут на конвенте.
Собственно, если отвлечься от нюансов, таких систем две — открытого и закрытого типа. Чем-то они по такому делению сродни акционерным обществам. Что есть «закрытый тип»? Это когда в голосовании принимает участие ограниченный круг личностей, выделяемый по какому-либо признаку, будь то профессиональный, географический или просто тусовочно-клубный. В голосовании же открытого типа, напротив, может участвовать любой желающий, а единственным ограничителем в подобных системах становится, как правило, лишь вопрос финансовый. Например, если право голосовать имеют только участники конвента, заплатившие специальный взнос, — это голосование открытого типа, ибо доступно любому действительно желающему, а если для того, чтобы выразить свое мнение, тебя кто-то должен посчитать профессионалом и милостиво дать тебе такую возможность — тут уж никакие деньги не помогут.
Впрочем, иногда «выборщики» подобного рода сорганизовываются сами. Главное, объединиться по какому-либо признаку — по принадлежности к им-перцам или демократам, националистам или космополитам, гуманистам или турбореалистам, и начать шумно вручать премии за лучшее произведение в данном стиле или по данной тематике авторам, доселе не подозревавшим, что принадлежат к такому литературному направлению. Подобные попытки привлечения известных авторов для пропаганды своей тусовки — одна из самых неприятных тенденций среди премий закрытого типа. Как, впрочем, и довольно мощные возможности лоббирования из-за небольшого, как правило, количества решающих голосов. С другой стороны, в премиях открытого типа тоже не исключено эффективное применений PR-технологий, так хорошо отработанных в последнее время в нашем многострадальном государстве. Кроме того, как показывает практика, произведения — лауреаты премий открытого типа носят гораздо более массовый, даже «попсовый» характер, по сравнению с имеющими более «элитарный» уклон победителями голосований противоположного вида. Естественно, это опять же никак не отражает ни объективность, ни собственно экзистенциальность или трансцендентность каждой премии. Но голосования закрытого типа субъективны априори, хотя зачастую весьма престижны, в то время как общедоступные выборы лучшего отражают лишь объективные взгляды читательского большинства.
Кроме того, все премии, вне зависимости от типа, можно разделить по двум признакам, касающимся непосредственно технологии принятия решений. Это наличие или отсутствие номинационных списков и/или номинационной комиссии — то есть имеет ли место выбор из ограниченного количества или он полностью свободен. Наличие номинационной комиссии, особенно в премиях закрытого типа, говорит, как правило, о лишнем этапе голосования и о лености жюри. Заметим, что в самых престижных мировых премиях окончательные номинации составляет само жюри, и посему даже участие в финальной стадии является весьма престижным событием. Ведь быть номинированным на «Оскар» ненамного менее престижно, чем победить.
В дальнейшем, при сравнении систем голосования, нам неизбежно придется ссылаться на так нелюбимый «патриотами» зарубежный опыт. Хотя бы потому, что этот опыт огромен, и за долгую историю существования западных премий учтены, пожалуй, все тонкости и недостатки выборных технологий. Настолько учтены, что порой чрезмерная сложность системы приводит к ситуации, сложившейся в 2000 году с президентскими выборами в США.
Самой знаменитой премией закрытого типа является «Небьюла». Голосовать имеют право лишь члены SFWA. Голосование ведется в несколько этапов, номинационная комиссия отсутствует, произведения для предварительных списков выдвигаются самими членами ассоциации. Однако председатель ассоциации назначает несколько дополнительных комитетов, в состав которых входят самые уважаемые писатели, издатели, критики. Эти комитеты имеют право добавлять по одному произведению на свой выбор в окончательные номинации. Премии за предыдущий год вручаются, как правило, на специальной конференции, обычно в мае.
Наиболее престижная из премий открытого типа — «Хьюго», названная так в честь «отца» американской фантастики Хьюго Гернсбека. Некая номинационная комиссия присутствует, отбор финальных номинаций идет с учетом предварительных голосований. В финальной стадии выборов лауреатов может принять участие любой участник конференции «WorldCon» (проходящей в разных странах обычно в третьем квартале года), заплативший соответствующий взнос. В обеих премиях голосуемые произведения делятся на четыре типа в зависимости от объема текста.
Однако вернемся к нашей реальности и попробуем разделить по классам и оценить все плюсы и минусы большинства современных российских литературных премий в области фантастики (только в части художественных произведений). Начнем с премий закрытого типа.
«Аэлита» (вручается с 1981 г.) — ранее вручалась специальным московско-свердловским комитетом за лучшее прот изведение последних двух лет. Писатель, получивший приз из уральских самоцветов, по уставу больше не-имел права на премию. В результате «Аэлита» стала восприниматься скорее как приз «за заслуги». В конце 90-х престиж премии несколько повысился, особенно в связи с тем, что ныне шансы получить старейший российский фантастический приз имеют не только пенсионеры. Номинационная комиссия отсутствует — как правило, предварительные списки составляет некая инициативная группа из членов жюри, любой из выборщиков имеет право добавлять свои кандидатуры.
«Бронзовая улитка» (вручается с 1993 г.) — самая закрытая из всех закрытых премий. Но тем не менее весьма престижная в тех писательских кругах, где модно считать себя «наследниками традиций братьев Стругацких по превращению фантастики в Большую литературу». Членом жюри является один-единственный человек — Борис Натанович Стругацкий, номинационная комиссия та же, что и у премии «Интерпресскон». Произведения поделены на три категории, в зависимости от объема. Престижность этой премии в том, что ее вручает человек высокого литературного вкуса. Но вкус, как известно, далеко не всегда совпадает с литературными (социальными, политическими и т. п.) взглядами. Таким образом, есть несколько весьма неплохих писателей, которые никогда не получат эту действительно престижную премию, лишь по причине того, что они, при всех литературных достоинствах их произведений, не вписываются в концепцию Бориса Натановича об антиэскапистской сущности литературы.
«Странник» (в 1994 и 1995 гг. вручение происходило на «Интерпрессконе», с 1996 г. — на Конгрессе фантастов России) — очень престижная премия, главный претендент на звание русской «Небьюлы», стать которой, как уже упоминалось выше, до недавнего времени мешал всего лишь один пункт Устава о праве «вето» при кооптации новых членов в состав жюри. Результатом работы этого пункта стал немногочисленный состав голосующих, что, естественно, подразумевает возможность лоббирования. Кроме того, некоторые члены жюри «Странника» неоднократно высказывались в том смысле, что давно уже не пишут фантастику. Тогда возникает вполне закономерный вопрос: как в таком случае эта премия может считаться профессиональной премией в области фантастики, когда ее вручают самодекларированные «не фантасты»? Голосование ведется в три этапа. Номинационная комиссия при участии жюри определяет» финальные семерки, далее из семерок отбираются по три кандидата, окончательное решение жюри принимает во время Конгресса Фантастов России (обычно проходит в сентябре в Санкт-Петербурге). Произведения разделены по литературоведческому признаку — на роман, повесть и рассказ. Кроме основной премии «Странник», раз в два года вручаются жанровые «Мечи». Произведения разделяются на четыре жанра, номинационные списки составляются секретарем «Странника», право голосовать имеют все приехавшие на конвент писатели. Писатель от не писателя отличается наличием хотя бы одной изданной книги. Например, неоднократный лауреат «Бронзовой улитки» Василий Щепетнев при таком подходе писателем не считается.
«АБС-премия», или Медаль имени Стругацких, — сравнительно молодая петербургская премия, вручаемая с 1999 года. Принцип голосования отдаленно напоминает «Странник», однако выбираются всего два лауреата — за художественное произведение вне зависимости от объема и за произведение в жанре «поп fiction». Единственной серьезной новацией были анонимные (точнее, известные лишь Б. Н. Стругацкому) составы жюри и номинационной комиссии. Что теоретически должно было исключить возможность лоббирования. Однако с 2001 года состав голосующих публикуется в прессе. Премия вручается каждый год 21 июня — в день, равноотстоящий от календарных дней рождения Аркадия и Бориса Стругацких.
«Большой Зилант» — вручается оргкомитетом казанского фестиваля «Зиланткон» с довольно оригинальной формулировкой — «За лучшее произведение, не завоевавшее другой престижной премии». Принцип: «Всем сестрам по серьгам, или пусть никто не уйдет обиженным». На фоне многочисленных премий закрытого типа такие декларации выглядят по крайней мере честно.
«Филигрань» — новорожденная премия, впервые вручалась в 2000 году в Москве, во время Чтений памяти Аркадия Стругацкого. Идея премии принадлежит главному редактору журнала «Если» Александру Шалганову. Членами жюри здесь выступают активно пишущие о фантастике литкритики и публицисты. Основной критерий — «За литературное мастерство». Номинационная комиссия, как и номинационные списки, отсутствует. Ибо критикам в отличие от писателей положено самим знать, из чего выбирать.
Существует еще несколько премий закрытого типа, однако их локальность и ограниченный объем статьи не позволяют остановиться на них подробнее. Стоит упомянуть разве что приз, вручаемый литературно-философской группой «Бастион» (с 2000 г.) за лучшую фантастику имперского направления, питерскую «Беляевскую премию» (с 1990 г.) и, в качестве анекдота, премию «Фанкон» (с 1995 г.), вручавшуюся анонимным жюри на одесском конвенте всем хорошим людям, хоть что-то написавшим (а иногда и не написавшим — даже номинация такая была, созданная под конкретного человека, — «За лучшее недописанное и неизданное произведение»), Воистину экзистенциальная премия!
Теперь перейдем к премиям открытого типа. Итак:
«Великое кольцо» — «первая ласточка» среди подобных премий. С 1982 по 1984 год голосование проводилось среди клубов любителей фантастики по системе «один клуб — один голос» в номинациях «Крупная форма» и «Малая форма». В 1987 году была реанимирована омским КЛФ «Алькор» с новой схемой голосования: номинационная комиссия из числа наиболее авторитетных фэнов и профессионалов (коих тогда еще было немного) составляла номинации — являющиеся на тот момент еще и своеобразным рекомендательным списком для чтения — в трех объемных категориях, затем бюллетени рассылались по КЛФ и принять участие в голосовании мог любой желающий. Прекратила существование в 1994 г. после возникновения премии «Интерпресскон».
«Интерпресскон» (вручается с 1994 г.) — самая стабильная и престижная на сегодняшний день премия из премий открытого типа. Голосуют участники одноименной конференции, ежегодно проходящей под Питером в начале мая. Номинационная комиссия и номинационные списки такие же, как и у «Бронзовой улитки». Неоднократно дискутировался, решался и отменялся вопрос о праве голосовать всем желающим, посетившим место проведения конференции в день голосования. Несколько неприглядных случаев лоббирования некоторыми несознательными питерскими писателями результатов голосования посредством привлечения своих родственников или друзей для получения дополнительных голосов (а зачастую результаты были настолько плотные, что разрыв между первым и пятым местами составлял лишь несколько баллов) показали, что система полностью открытого голосования несколько порочна и дает серьезное преимущество местным авторам. В результате было решено вернуться к схеме, принятой в премии «Хьюго» (младшим братом которой по сути и является «Интерпресскон», очень младшим, ведь в отличие от пятизначного числа голосующих по номинациям «Хьюго» на «Интерпрессконе», как правило, голосует немногим больше сотни человек) — бюллетени заполняют официальные участники конференции и все желающие, заплатившие символическую сумму за право голосования.
«Звездный мост» (с 1999 г.) и «Урания» (с 2000 г.) — недавно возникшие харьковская и томская премии, принцип голосования коих почти аналогичен интерпрессконовскому. Из новаций стоит отметить приз за лучший литературный сериал в Харькове и приз за «гуманистическую фантастику» в Томске. Количество голосующих тут обычно меньше, чем на «Интерпрессконе», поэтому результаты, как правило, больше поддаются влиянию тусовки.
«Сигма-Ф» — самая, пожалуй, демократичная и открытая премия. Вручается с 1998 г. по результатам голосования читателей журнала «Если». Нет ни номинационных комиссий, ни соответствующих списков. Эта премия наиболее полно отражает мнение «профессиональных» читателей фантастики; ведь для того чтобы проголосовать, не надо никуда ехать и ничего платить — достаточно лишь отправить письмо. Единственный минус премии — это то, что при голосовании по малой и средней форме читатели в основном опираются на произведения, опубликованные в журнале, мало обращая внимания на остальные источники. Хотя, как показала практика и корреляция результатов «Сигмы» и того же «Интерпресскона», мнения «профессиональных читателей» и «читающих профессионалов» зачастую совпадают. Еще стоит заметить, что западные журналы тоже проводят голосования среди читателей, но требуют голосовать лишь за произведения, опубликованные на своих страницах, — видимо, боятся вручать призы конкурентам. Единственный иностранный журнал, объявляющий лауреатов года вне зависимости от места публикации, — нехудожественный «Локус».
«Роскон» (с 2001 г.) — в последнее время в околофантастической среде бытовало мнение, что в премиях открытого типа следует вообще отказаться от номинационных списков. В частности, с довольно резкими заявлениями по этому поводу постоянно выступает один из создателей премии «Интерпресскон» питерский писатель Андрей Легостаев. А раз такое мнение существует, то, с точки зрения субъективной реальности, оно должно быть реализовано в Мире. Попытку подобной трансцендентной реализации предприняли организаторы первой конференции в третьем тысячелетии «Рос-кон-2001», на которой использовалась принципиально новая для России система голосования: двухэтапная, без номинационных списков, без разделения по объему и жанру. К сожалению, практика показала, что при объединении произведений разного объема в одну номинацию романы неизбежно получают преимущество (в финальную дюжину «Роскона-2001» пробилась лишь одна повесть). Поэтому, сохранив принцип отсутствия номинационных списков (участники конвента используют при голосовании библиографический справочник, подготовленный оргкомитетом), организаторы фестиваля решили все-таки прибегнуть к разделению голосуемых произведений по объему.
Многим может показаться, что авторы статьи чересчур резки по отношению к большинству премий. Однако о преимуществах той или иной премии неоднократно говорилось в различных СМИ, а о недостатках и несовершенстве практически любой системы голосования деликатно умалчивалось. Авторы сами являются членами жюри или номинационных комиссий многих из этих премий и потому отнюдь не имели целью дискредитацию кого-либо, они просто попытались острее поставить вопрос и выступить согласно своей экзистенции.
Соображение третье: трансиегшенипя
Когда человеческая экзистенция продвигается в Ничто, то она перешагивает за Сущее в сферу Трансценденции.
Мартин ХайдеггерПродолжим упражнения с атеистическим экзистенциализмом. «Истинное — это то, что является желанным и долженствующим, а жизнь субъектов только тогда является рациональной, когда она способна осуществить желанное и должное». В повседневной жизни найти этот рациональный путь практически нереально. В рамках же Конвента это представляется возможным хотя бы отчасти. Во-первых, личности в силу постоянного общения друг с другом практически очищены от наносного, от шелухи предметного мира. Во-вторых, в силу того же общения они постоянно находятся в пограничном состоянии, остается лишь слегка подтолкнуть, и вот она — изнанка мира, истина в последней инстанции, трансценденция, как бы она ни выглядела: засасывающей в себя бездной, свалкой студенистой слизи или цветистым вишневым садом. Как невозможно заглянуть за грань, так и невозможно однозначно определить, кто же возведен на пьедестал: герой нашего времени, калиф на час или сама овеществленная вечность. Рассудить всех в состоянии один-единственный арбитр — Время. На наш взгляд, если проверку временем выдерживает произведение, одобренное и любителями, и профессионалами, то есть одновременно ставшее лауреатом премий открытого и закрытого типа, то в этом случае мы как раз и начинаем потихоньку приближаться к той самой грани, за которой расположена истина…
Например, перенесемся во времени на двадцать — тридцать лет назад и посмотрим, какие англоязычные крупные произведения умудрились получить одновременно «Хьюго» и «Небьюлу». Итак, в 60-е годы: «Дюна» Фрэнка Герберта, «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин и «Мир-кольцо» Ларри Нивена; в 70-е «золотой дубль» сделали «Свидание с Рамой» и «Фонтаны рая» Артура Кларка, «Сами Боги» Айзека Азимова, «Вечная война» Джо Холдемана, «Врата» Фредерика Пола, «Враг мой» Барри Лонгиера и «Обездоленный» все той же Jle Гуин; в 80-е отличились «Звездный прилив» Дэвида Брина, «Нейромант» Уильяма Гибсона и два года подряд на пьедестал вставали первые книги Орсона Скотта Карда об Эндере — «Игра Эндера» и «Голос тех, кого нет». Неправда ли, впечатляющий список? Все эти произведения уже вошли в анналы НФ. И заслуженно!
Отечественные фантастические премии еще слишком молоды, чтобы можно было говорить о проверке временем. Поэтому попробуем совершить небольшую экстраполяцию и рассмотреть результаты последних пяти лет.
Не так уж много произведений начиная с 1996 года получали как читательские, так и профессиональные премии. Это «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики» С. Витицкого («Странник-96», «Интерпресскон-96»), «Словесники» Е. Лукина («Странник-97», «Интерпресскон797»), «Желтая подводная лодка «Комсомолец Мордовии» А. Лазарчука и М. Успенского («Бронзовая улитка-98», «Интерпресскон-99»), «Ночной дозор» С. Лукьяненко («Странник-99», вторая часть романа «Инквизитор» получила «Сигму-Ф» как отдельная повесть). Зато в 2000 году лауреатами премии закрытого и открытого типа стали аж сразу три произведения: «Казнь» М. и С. Дяченко («Сигма-Ф», «Странник»), «Монах на краю Земли» С. Синякина («Сигма-Ф», «Интерпресскон», «Бронзовая улитка», «АБС-премия») и «В стране заходящего Солнца» Е. Лукина («Сигма-Ф», «Интерпресскон», «Бронзовая улитка», «Странник»). В 2001 году отличились «Армагед-дом» М. и С. Дяченко («Сигма-Ф», «Бронзовая улитка») и «Вычислитель» А. Громова («Сигма-Ф», «Интерпресскон», «Странник»).
Таковы, на наш взгляд, основные претенденты от границы тысячелетий на место на скрижалях фантастики. Подождем десяток лет и выясним, насколько наши сегодняшние премии близки к абсолюту. Конечно, если в литературе он вообще возможен…
…Некий третий тихо внутренне вспотел: «Много я встречал на своем пути… э-э-экзистенций, но таких, как вы, признаюсь, впервые. Наверное, не там бредил». — Он начал медленно отходить… «Кстати, какой ваш ближайший конвент?» — «Близится начало года, а значит, скоро «Роскон», «Аэлита» и п «Интерпресскон». Wellcome!».
Примечания
1
Здесь и далее переводы подлинных документов из архивов. Смотри Документы о преступлениях СС, М., «Прогресс», 1969 год, стр. 219. 127
(обратно)2
Стихи Бориса Викторовича Савинкова, написаны в 1913 году, изданы в Париже в 1931 году после смерти Савинкова под псевдонимом Б. Ропшин. Публикация на русском языке журнал «Кодры», 1989 год, № 7, стр. 117. 147
(обратно)3
Перевод Николая Чуковского.
(обратно)4
Сокращенный вариант статьи был опубликован в журнале «Если» № 2, 2001 г.
(обратно)

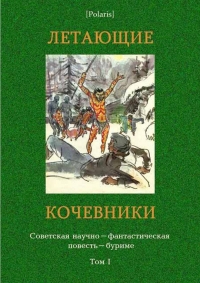

Комментарии к книге «Фантастика 2002. Выпуск 1», Сергей Васильевич Лукьяненко
Всего 0 комментариев