Фантастика, 1965 год. Выпуск 2
Сборник
От составителя
Пожалуй, наиболее характерной чертой настоящего сборника является то обстоятельство, что половина его участников - это профессиональные литераторы и старые члены Союза советских писателей. Одни из них (Г. Гор, А. Громова) давно уже “натурализовались” в фантастике, другие (например, В. Берестов, А. Шаров) выступают в этом виде литературы впервые.
Новая повесть Геннадия Гора “Мальчик” знаменует, по-видимому, очередной и очень интересный этап в творческой биографии этого писателя-фантаста - переход от холодноватого философского диалога к менее масштабным, но живым и горячим интересам сегодняшнего дня.
Повесть Ариадны Громовой “В круге света” посвящена разоблачению психологии буржуазного индивидуалиста наших дней. Одно-единственное фантастическое допущение (автор наделяет героя мощными парапсихологическими свойствами) позволило в небольшом произведении последовательно разрушить идею “круга света”, интеллектуализированную модификацию древней и особенно опасной сейчас идейки хаты, которая с краю… Заодно читатель убеждается и в том, что гангрену животного ужаса перед миром лечить надо не гипнозом.
Как бы в противоположность произведению Громовой повесть Аркадия Львова “Человек с чужими руками” дает любопытный опыт анализа психологии людей коммунистического будущего. Имя А. Львова уже известно читателю по повести “Мой старший брат, которого не было”.
С остроумным антифашистским памфлетом впервые выступает в фантастике Александр Шаров. Его “Остров Пирроу” выдержан в лучших традициях советской политической сатиры и, вероятно, доставит читателю истинное удовольствие.
После сравнительно долгого молчания вновь вступает в разговор с читателем Генрих Альтов. Рассказ “Порт Каменных Бурь” - это крепкое, сильное научно-фантастическое произведение с философской глубиной, с интересной идеей.
Редкие пока (к сожалению) в фантастике юмористические миниатюры дали в сборник писатель Валентин Берестов и научный сотрудник Р. Яров. Новые имена представлены первыми рассказами журналиста Всеволода Ревича и инженера Ольги Ларионовой.
В статье “Разговор с редактором” заведующий отделом редакции “Комсомольской правды” Дмитрий Биленкин резко и убедительно критикует неудачные научно-фантастические произведения, вышедшие в пoслeдние годы. Нельзя не согласиться с его призывом к писателям и редакторам быть взаимно требовательными.
В сборнике публикуются также письмо доктора технических наук М. Каганова, одного из руководителей Клуба любителей фантастики при Харьковском доме ученых, и рецензия на сборник рассказов Айзека Азимова, написанная публицистом “Литературной газеты” Н. Разговоровым. Стоит напомнить, что Разговоров - автор полюбившейся читателю отличной фантастической повести “Четыре четырки”.
Чуть ли не помимо (но отнюдь не против) воли составителя получилось так, что сборник в какой-то мере представляет основные эмоциональные направления в современной советской фантастике. Во всяком случае, составитель надеется, что, перелистывая страницы сборника, читатель отцутит жгучее любопытство вместе с героем “Мальчика” и посмеется над злоключениями основателя цивилизации в юмореске Ярова, с гневом отпрянет от микроидеалов теории “круга света” и проникнется насмешливым презрением к правителю острова Пирроу, задумается над мечтой альтовского Зороха и погрустит вместе с Ларионовой. Другими словами, я думаю, читатель еще раз убедится: эмоциональное разнообразие советской фантастики под стать разнообразию тематическому.
А. СТРУГАЦКИЙ
Геннадий ГОР Мальчик
Герман Иванович принес в класс стодку наших тетрадей.
Взяв одну тетрадь, он сказал обычным своим тихим, усталым голосом:
– Если Громов не будет возражать, я прочту вслух его домашнюю работу. Она заслуживает внимания.
И он начал читать. Читал он здорово, и мы сразу же почувствовали, что речь идет о чем-то очень странном и необыкновенном. О мальчике, затерявшемся в холодных просторах вселенной. Сам-то мальчик не знал, что он затерялся.
Для него все началось там, в пути, в беспрерывном движении, и он сам тоже там начался. Начался? Человек редко задумывается о своем начале. Для него нет начала, как, в сущности, нет и конца.
Мальчик родился в пути, среди звезд, и то, с чем за десять лет не могли свыкнуться взрослые - его мать, и отец, и спутники, - было для него родным и привычным, как для нас школьный двор: космический корабль, повторяющий в миниатюре оставленную планету.
Где-то в бесконечности вселенной остались густые, пахнущие теплой хвоей и озоном леса, синие реки, дома, веселые, шумные, длинные дороги. Все это мальчик видел на экране, но для него это были обрывки сновидений. Может быть, всего этого на самом деле не было?…
Спутники с большой настойчивостью стремились доказать мальчику, что все это было, и лучше всех это удавалось мечтателю-музыканту. Слушая его музыку, мальчик ощущал леса и реки, дома и дороги далекой планеты, которую экспедиция покинула задолго до его рождения. И тогда мальчику хотелось протянуть руки и дотронуться до мерцающего на экране мира, столь непохожего на жизнь корабля, но даже если бы руки протянулись на миллионы километров, все равно не дотянуться было до лесов и рек, домов и дорог - так далеко все это было.
Да, все-таки было. Это утверждала музыка, утверждал экран и подтверждали знания: ведь мальчик не просто жил в стремящемся куда-то корабле, он еще и учился.
С мальчиком занимались все - и родители и остальные взрослые, в том числе всегда занятый, всегда чем-то озабоченный командир. Приборы искусственной памяти бережно хранили и щедро отдавали мальчику знания о прошлом. Но мальчику порой казалось, что можно отдать все знания за один только час в лесу на берегу стремительной речки. О береге и о лесе рассказывала музыка. Музыкант тоже тосковал по покинутой родине и не старался скрыть своей тоски. Он имел на то право, он был музыкант, мечтатель, его грусть не мешала, а даже помогала жить и работать спутникам.
Мальчик учился. У него не было сверстников, он видел детей только на экране, как реки и леса. Ему не с кем было играть, разве что с роботом - забавной игрушкой, придуманной специально для него, но робот был слишком серьезен и деловит. И однообразен.
Иногда мальчик принимался бегать по кораблю (он мог бегать, потому что на башмаках у него были гравитационные подошвы), ему хотелось пошалить, поиграть в прятки или “пятнашки”, и тогда робот обеспокоенно ковылял за ним следом, растопырив руки, - он боялся, бедняга, что мальчик невзначай налетит на какой-нибудь прибор и сильно ушибется.
Мальчик спрашивал себя: какие они, дети? Он все хотел увидеть их во сне, но ни разу ему не удалось увидеть во сне детей. Он видел только робота, хотя робот, возможно, чем-то походил на детей и на самого мальчика.
Мальчик спрашивал о детях у всегда ласковых и внимательных взрослых и у всезнающих машин, но никто не мог рассказать что-нибудь толковое и вразумительное. Ни взрослые. Ни машины. Ни экран. Ни даже музыка. Дети были слишком далеко, там же, где реки, и деревья, и отраженные в воде облака. Взрослые, наверное, забыли о том, что были когда-то детьми. Впрочем, может быть, они просто пе хотели напоминать мальчику о своем детстве. Ведь их детство прошло не на космическом корабле, падающем в ледяную черную бездну.
Но мальчик не так уж часто думал о бездне. Космический корабль сам по себе был для него целым миром, и в этом мире были запретные уголки, куда взрослые не пускали мальчика, всякий раз обещая впустить, когда он вырастет.
Вырастет? Это слово и пугало и радовало мальчика своим чуточку странным и неожиданным смыслом. Ведь на корабле никто, кроме него, не рос, все давно успели вырасти дома, на своей планете, задолго до отлета. И только он один рос, быстро менялся, и все это замечали с легкой грустью, как примету неумолимого хода времени, еще более неумолимого здесь, на корабле, чем дома, на своей планете. Да, мальчик менялся, и ему еще долго нужно было расти и меняться, чтобы стать зрослым.
Куда двигался корабль, зачем? Мальчик инстинктивно чувствовал, что взрослые не любят отвечать на эти вопросы, и потому он спрашивал не их, а самого себя. Эти вопросы не были под запретом, но в них было много неясного и спорного. Корабль должен был доставить экспедицию на одну из планет в окрестностях Большой Звезды, чтобы выяснить, есть ли там разумные существа. И вот часть экипажа считала, что разумные существа там есть, а другая часть в этом сильно сомневалась. Мальчик тоже немножко сомневался, может быть, потому, что в числе сомневающихся был его отец. Мальчик больше всех на свете любил своего отца, больше даже, чем музыканта, хотя и не смог бы себе объяснить, за что он его любит.
У отца было нервное, дергающееся от тика лицо. Но и это лицо, несмотря на тик, нравилось мальчику.
В глазах отца появлялся иногда странный блеск, и мальчик знал, что отец в отличие от многих не умеет и не желает скрывать свое нетерпение, свое страстное стремление поскорей достичь планеты в окрестностях Большой Звезды. Мальчик прощал отцу его нетерпение, потому что он догадывался о его причинах. Отец мальчика был геологом, и очень уж большая часть его жизни уходила на ожидание в корабле, где он никак не мог применить свои знания и свой труд. Уже много лет отец тосковал по любимому делу. Мать мальчика, по специальности знаток лесов и деревьев, тоже проводила годы в томительном ожидании. По-видимому, она рассчитывала, что на планете окажутся необыкновенно большие и густые леса с незнакомыми деревьями, которые целые века ждут, чтобы им дали названия и определили их породу. Ведь на планете могло и не быть разумных существ.
Было просто удивительно, что почти все уже названо, и, чтобы назвать неназванное, нужно преодолеть миллионы миллионов километров и десятки лет. Мальчик жил среди имен и названий. Он давно понял и привык к тому, что названия и имена облегчали его родителям и спутникам общение друг с другом и с вещами. А что было бы со всеми, если бы ни у кого не было ни названий, ни имен? Мальчик даже боялся это себе представить. Имело название даже то бесконечное и бездонное, что было за стенами корабля. Его назвали “вакуум”, “пустота”. Звучно назвали! И от этого она, пустота, казалась мальчику чуточку менее пустой и чуточку менее страшной.
Да, мальчик жил среди всего названного и нареченного.
Но из всех живых существ, населявших корабль, он один почти не нуждался в имени. Все называли его просто мальчиком, даже мать и отец.
– Мальчик! - окликали его спутники.
– Мальчик, - обращался к нему робот-игрушка.
Со стороны неодушевленного предмета это, конечно, было несколько фамильярно. Но мальчик не обижался. В конце концов робот не был хозяином своих слов, слова произносились роботом только согласно программе.
– Мальчик, - говорили взрослые, - ну, как ты провел день?
И их лица, он не мог этого не заметить, светлели и становились менее озабоченными. Почему? Кто знает? Может, и потому, что, глядя на мальчика, они вспоминали себя такими, как он. И только лицо командира корабля не светлело при встречах с мальчиком. Он оставался таким же строгим и озабоченным, каким был всегда. И мальчик понимал и одобрял его поведение. Командир не позволял себе мысленно уноситься в прошлое и этим облегчать свое пребывание здесь. Щадя других, он никогда не щадил себя, постоянно думая о той ответственности, которая на нем лежала.
Командир уходил к себе, к своим приборам и помощникам.
А мальчик оставался там, где его настигал интерес к вещам, явлениям или спутникам. Он постоянно чем-нибудь интересовался и, в сущности, был все время чем-нибудь занят.
– Мальчик! - окликали его спутники.
Вещи тоже окликали мальчика, даже те вещи, которые но умели ни говорить, ни думать.
И мальчик отзывался.
В этом месте рассказа Герман Иванович остановился и опустил тетрадь.
– А дальше? - спросил кто-то из учеников.
– Дальше, - ответил Герман Иванович, изменив голос и снова став тем, кем он был до чтения: обыкновенным старым, уставшим учителем, - дальше нет ничего и стоит точка. Надо надеяться, что Громов напишет продолжение. Пока рассказ без конца.
Учитель снова стал самим собой, а ведь только что он казался нам артистом. Более того, он казался нам чем-то вроде посредника, помогавшего ученикам понять странный мир корабля, летящего много лет в пустоте, и живущего в этом странном мире мальчика.
Герман Иванович покачал головой и посмотрел в угол на сидящего у окна Громова, явно предлагая нам всем вспомнить, что истинным посредником был не он, Герман Иванович, а Громов.
И все вспомнили о Громове, хотя во время чтения все о нем забыли. Громова и все остальное заслонил мальчик, голосом Германа Ивановича захвативший наше внимание. Теперь мальчик исчез, и перед нами сидел Громов, делавший вид, что он не имеет к мальчику никакого отношения. Лицо у него было настороженное, и он смотрел на нас, словно ждал какого-нибудь подвоха. Но, честное слово, никто из нас не собирался его подводить. И если уж на то пошло, подвел он себя сам, написав такую странную домашнюю работу.
Зачем он это сделал? Я не знал, не знали и другие, не знали и не догадывались. И странно, что он написал в своей домашней работе не о себе и не о своих знакомых, как мы все, а о каком-то необыкновенном мальчике с другой планеты.
И вот сейчас, когда наступила тишина, Громов, наверное, чувствовал себя неловко и невольно заставлял этим чувствовать себя неловко и всех нас, не исключая Германа Ивановича.
Громов сидел в своем углу у окна, но казалось, что он где-то далеко, за миллионы километров от нас, со своим необыкновенным мальчиком.
Уж кому-кому, а Громову не следовало писать об этом мальчике. Он был сыном известного ученого-археолога, и это все знали. И еще все знали, что несколько лет назад отец Громова сделал какое-то крупное открытие, нашел какие-то загадочные предметы, вызвавшие спор. В вечерней газете и в двух-трех журналах появились заметки о пришельцах с других планет, следы которых якобы открыл отец Громова. Но потом журналы почему-то замолчали, как они замолчали вдруг о снежном человеке, о котором сначала так много писалось.
И в школе пронесся слух, что все это не подтвердилось: и пришельцы и даже снежный человек. А ведь в снежного человека все уже успели поверить, и всем было очень жалко.с ним расставаться.
Никто из ребят не хотел бы оказаться на месте Громова, когда журналы вдруг замолчали об археологических находках его отца. И поэтому при Громове мы старались не говорить на археологические темы, понимая, что Громов не виноват.
И отец Громова тоже был не виноват, что какой-то нетерпеливый журналист поторопился раззвонить об этих спорных предметах, вместо того чтобы благоразумно обождать, пока ученые договорятся и вынесут свое авторитетное решение.
Громов, конечно, страдал, держался он отчужденно, домой всегда возвращался один и никого из ребят, кроме меня и Власова, к себе не приглашал. Но Власов был тихоня и от застенчивости вечно заикался, а не приглашать меня Громову было просто неудобно. Я жил в доме напротив и однажды разбил в его квартире стекло - это случилось еще до того, как его отец сделал свое открытие. Громов опасался, что если он меня не пригласит, то я подумаю, будто это из-за стекла. Стекло стоило дорого, оно было толстое, как в витрине.
Если не считать Власова, который был так застенчив, что в чужой квартире боялся оглядеться, я один из всего класса хорошо знал квартиру Громова. Это была большая старинная квартира. В ней всегда стоял какой-то странный, не знакомый ни мне, ни Власову запах. На шкафу торчало несколько желтых и коричневых черепов с написанными на них цифрами, а на стене висел деревянный божок, таращивший на всех светлые жестокие глаза, сделанные, как мне объяснил Громов, из обсидиана - вулканического стекла.
В кабинет ни Громов, ни его отец не приглашали ни меня, ни Власова. И я всякий раз с любопытством смотрел на дверь кабинета, думая про себя, что за этой дверью, наверное, хранятся всякие редкости и даже предметы, вызвавшие ожесточенные споры специалистов. В глубине души я очень жалел, что журналисты вдруг замолчали и не стали больше писать о находках громовского отца. Мне почему-то очень хотелось, чтобы отец Громова победил всех своих противников и оказался прав. Ребята объявили, что мне дорога не истина, а самолюбие и тщеславие, ведь я приятель Громова. Но это неправда, я очень дорожил истиной, и мне хотелось только одного: чтобы истина оказалась необыкновенной и интересной. Обыкновенных и неинтересных истин и без того слишком много на свете.
А потом Громов вдруг перестал приглашать меня и даже Власова. И когда мы спросили его, в чем дело (спрашивал, собственно, я один, а Власов только стоял и застенчиво моргал глазами), Громов ответил:
– У нас, понимаете, ремонт.
– А долго он будет продолжаться, ваш ремонт?
Громов странно посмотрел на Власова, потом на меня и ответил тихо, еле слышно. И мне и даже тихоне Власову очень не понравился его ответ.
– Долго, - ответил Громов.- Ремонт почти капитальный.
Он вежливо дал нам понять, что ходить нам к нему нечего.
Я подумал, что все это из-за стекла, и обиделся. Но Власов попытался найти другое, более разумное объяснение.
– Это, наверно, не Громов, - сказал он, - а его отец. В квартире таятся загадочные ценности.
– А мы что, украдем эти ценности?
– Не в этом дело. Отцу Громова нужна тишина. Он работает. И наверно, есть еще какие-нибудь веские причины.
Я с удивлением посмотрел на этого застенчивого человека.
Видно, он очень любил Громова, если плюнул на свою обиду и стал защищать его отца.
Идея Власова о веских причинах, однако, почти убедила меня. Действительно, если разобраться, то иначе и не могло быть. Работа археолога должна быть ограждена от посторонних, раз речь идет о предметах, вызвавших сомнение епециалиетш. Мне даже стала нравиться эта мысль, не нравишеъ в ней только то, что посторонние - это мы.
Короче говоря, я тоже иочти стал на точку зрения Влаеова, забыл о когда-то разбитом стекле и рассчитывал, что и другие о нем давно забыли. И однажды в скверике, где мы гоиялн мяч, я спросил Громова: - Ну, как ремонт?
Громов ответил:
– Еще продолжается.
В сущности, я и не ожидал другого ответа. Всего три месяца прешло с тех пор, как я последний раз разглядывал нумерованные черепа, дверь в таинственный кабинет и обсидиановые глаза деревянного бога. И мне очень хотелось побывать у Громова еще хотя бы раз, но я понимал, что пока это невозможно. Надо было ждать.
Кажется, я уже упоминал о том, что мои одноклассники любили поговорить об истине. И один из них, Мишка Дроводелов, часто повторял где-то вычитанные слова.
– Платон, - говорил он, подходя ко мне или к Власову с важным видом. - Платон, ты мне друг, но истина мне дороже.
Это у Дроводелова неплохо получалось. Но я лучше всех знал, что до истины ему нет никакого дела. Если бы он так дoрoжил истиной, то не получал бы двойки.
Но я истиной дорожил, честное слово. Я был убежден, что археолог Громов и через него чуточку его сын имели отношение к истине, но не торопились с ней, боясь навлечь на себя упреки специалистов, и тщательно готовились, чтобы предъявить неоспоримые доказательства.
Именно в это время Громов посвятил домашнее сочинение на свободную тему рассказу о мальчике.
Класс сидел тихо под впечатлением рассказа. А Громов мелчал. И тишина была какая-то необычная. Она томила нас, как ожидание несбывшегося. Ведь рассказ о мальчике ся на самом интересном месте…
Загремел звонок, и все зашевелились. Вдруг Дроводелов вскочил, подошел к Громову и, вытаращив глаза, проревел во весь голос:
– Громов, ты мне друг, но истина мне дороже!
И я подумал, что теперь рассказ о мальчике не будет дописан. Все испортил этот дурак Дроводелов. И действительно, конца рассказ не имел, но продолжение мне все-таки удалось услышать. Правда, это произошло не скоро, уже после летних каникул.
В летние каникулы мне ни разу не удалось встретиться с Громовым. Он уехал в Комарове, в пионерский лагерь Академии наук, а я в Молодежное, в лагерь от завода, на котором работал мой отец. Я, конечно, мог случайно с Громовым встретиться, Молодежное было не так далеко от Комарова. Но за все лето я не встретился ни с кем из наших ребят, кроме Дроводелова, который попал вместе со мной в один лагерь. Его мать работала кладовщицей, и он жил не с нами, а с матерью во флигеле для обслуживающего персонала, но встречались мы каждый день.
В то утро, когда я приехал, он подбежал и, сделав важное лицо, пробубнил: - Платон, ты мне друг, но истина…
Я не выдержал, схватил его за ворот рубашки и пригрозил:
– Если ты еще раз скажешь о Платоне и об истине, пусть меня выгонят из лагеря, но я тебя проучу!
Он, видно, забыл, какое впечатление произвели его слова на Громова и на всех нас после чтения рассказа.
Дроводелов очень обиделся, у него на глазах даже слезы выступили, и он сказал мне:
– Отпусти! Во-первых, эти слова принадлежат не мне, а Сократу. А он был мыслитель. А во-вторых… Отпусти! Ты сейчас не на улице, а в пионерском лагере.
– На этот раз ладно, - согласился я, - отпущу. Только чтоб об истине я больше ничего не слышал.
И он действительно образумился, перестав говорить об истине и о Платоне, который, по его словам, был его другом, хотя жил две тысячи лет тому назад. Но моей угрозы он мне не простил. Это я видел по лицу его матери-кладовщицы всякий раз, когда я с ней встречался. На ее лице было написано все: и про истину, и про Платона, и про то, что я чуть не оторвал ворот у ее сына. Лицо ее, впрочем, было вполне благообразное, большое, полное и даже симпатичное, но оно выражало слишком много чувств.
Нет, Дроводелов больше уже не упоминал об истине.
И на том спасибо. Я давно заметил, что, когда не очень умный человек произносит чужие умные слова, эти слова тоже глупеют, хотя говоривший ничего не прибавляет от себя. Почему это происходит? Не знаю. Но хватит о Дроводелове. В лагере он всем надоел, вечно торговался, что-нибудь выпрашивал, сплетничал про команду, против которой играл. В конце концов он добился, что его оставляли стоять в стороне в роли болельщика. Вместо того чтобы упрекать в этом себя, он сразу же обвинил меня.
– А еще одноклассник, - нудил он, - разве это по-товарищески?
Эти слова почему-то растрогали меня, и я стал просить ребят не выгонять его на мусор.
Не хочется мне рассказывать о Дроводелове, честное слово, не хочется, не очень-то это интересный человек. Но так получалось, что без него никак нельзя обойтись. В тот день, о котором я сейчас рассказываю, он подошел ко мне, хлопнул по плечу ладонью и объявил:
– Я вчера с матерью в город ездил.
– Ну, ездил, и что из того?
– Новостишки есть!
– Какие?
– Громов переводится в другую школу.
– Это почему?
– Квартиру им новую дают, уже ордер выписали. Не будет же он с Черной Речки ездить на Васильевский остров.
– Не может быть, чтобы из-за квартиры он захотел уйти из класса, - сказал я, чувствуя, однако, всю неубедительность своих доводов.
Дроводелов посмотрел на меня, и вдруг его лицо стало похожим на лицо его матери.
– По-твоему, он должен тебя предпочесть новой квартире?
– Если бы Громовы собирались переезжать, вряд ли они стали бы возиться с капитальным ремонтом.
– Выходит, ты мне не веришь?
– Не верю.
– Разве тебе не известно, что я всегда говорю только одну правду?
Дроводелов действительно считал себя правдолюбом. В позапрошлом году он перевелся в нашу школу откуда-то с Бабурина и всем хвастал, что его мать самый крупный в Ленинграде инженер и работает на Металлическом в цехе паровых турбин. Но потом выяснилось, что она торгует зимой в пивном ларьке, а летом работает кладовщицей в пионерских лагерях.
Мы узнали об этом, но, чтобы не конфузить Дроводелова, всякий раз, когда речь заходила о паровых турбинах, начинали говорить о чем-нибудь другом. А тихоня Власов даже высказал предположение, будто мать Дроводелова действительно когдато работала инженером, но дисквалифицировалась и переменила профессию.
Но хватит о матери Дроводелова! Довольно!
Известие про Громова очень огорчило меня. Как известно, судьба не очень балует школьников. Интересных людей с загадочным прошлым или настоящим чаще встречаешь в книгах, чем в школе. А Громов давно привлекал мое внимание не только в связи с находками его отца, но и сам по себе, как самостоятельная личность.
Если бы меня попросили описать наружность Громова и его характер, вряд ли я бы справился. Наружность у него была самая обыкновенная, если не считать седой прядки волос над левым ухом. Поседел Громов сразу, как появился на свет, еще до того, как научился переживать и огорчаться. Седая прядка и очки в зеленоватой оправе придавали лицу Громова серьезное и даже солидное выражение. Кто-то из ребят назвал его Академиком, но прозвище не пристало. К Громову ничего не приставало: ни грязь, ни пыль, ни завистливые и недобрые слова. Он чем-то походил на мальчика, о котором писал в домашней работе. Когда Герман Иванович читал его сочинение, я мысленно представлял себе мальчика с седой прядкой над левым ухом, как у Громова, хотя о прядке в рассказе ничего не было сказано. Я уже давно обратил на это внимание: когда читаешь повесть, рассказ или поэму, всегда ищешь у героя сходство с кем-нибудь из твоих знакомых. Помню, когда я первый раз читал знаменитую поэму Пушкина, я сразу догадался, на кого похож Евгений Онегин. Он был очень похож на одного щеголеватого красивого парня, которого я как-то видел на Невском возле кафе “Север”. Парень стоял, отставив ногу в узкой штанине, а на лице его было написано, что ему наскучило все на свете и он не знает, чем бы заняться.
Да, сейчас я убежден, что Громов был похож на мальчика, который родился в космическом корабле. Дело было не только в седой прядке, но и в том, что Громов очень много знал. Никто в школе не знал столько, сколько знал Громов. Но он никогда не был первым учеником. То, что он знал, не имело никакого отношения к программе. Например, он откуда-то знал, и совершенно точно, какой величины мозг у вымершего миллионы лет назад плезиозавра. Этого не знал даже сам Иван Степанович, преподаватель биологии. Но мы не понимали, какой толк от всех этих знаний, раз их не было в учебниках и в школьной программе. Учителя за исключением Германа Ивановича эти знания не очень-то ценили. Глупо было бы думать, что они ценят только то, что вставлено в учебники и программу. Просто у них был житейский опыт, и они отлично понимали, что знание величины мозга у плезиозавра вряд ли пригодится Громову в его дальнейшей жизни и деятельности и что надо хорошо знать то, с чем мы встречаемся на каждом шагу.
Вряд ли ему, или нам, или вам когда-нибудь доведется встретиться с плезиозавром.
Я не удержался и однажды сказал об этом Громову при Власове и Дроводелове, который, как всегда, оказался тут как тут. Дроводелов совсем некстати расхохотался, а Громов насмешливо посмотрел на меня, молча достал из портфеля газетную вырезку и протянул нам. Мы прочли и от удивления вытаращили глаза. В газетной вырезке говорилось, что на днях в одном из шотландских озер обнаружен живой плезиозавр.
На уроке биологии мы показали вырезку Ивану Степановичу, и он почему-то очень смутился и, по-видимому, был недоволен этой находкой. В конце урока он нам сказал:
– Это ничего не прибавляет.
И затем добавил, подумав: - И не убавляет.
Эти его слова нам показались тогда не менее загадочными, чем обнаружение плезиозавра.
Пожалуй, довольно про плезиозавра. О нем и без того все знают. Но Громов знал очень много такого, о чем даже и намеков не было в наших учебниках. Он знал, например, про воду, чего не знал никто из нас. И про лед он тоже знал, чего, возможно, не знала даже наша химичка Вера Николаевна.
И однажды на уроке химии он сказал, что лед вовсе не является твердым телом, как думают многие.
– А чем же он является? - заинтересовались мы.
– Твердыми телами называются те вещества, частицы которых образуют регулярную структуру, кристаллическую решетку.
Я вспомнил про стекло, вспомнил, что оно такое твердое, что его приходится резать алмазом, и задал Громову коварный вопрос.
– А стекло, - спросил я, - твердое тело или нет?
– Нет, - ответил Громов. - Стекло - это переохлажденная жидкость высокой вязкости.
Вера Николаевна не принимала участия в этом разговоре.
Когда речь заходила о химии и физике, с Громовым лучше было не связываться. Никто не знал, откуда он черпал свои знания, и проверить его было трудно.
Первые ученики тоже много знали, они посещали разные кружки при Дворце пионеров и следили за новинками.
Но, употребляя полюбившееся нам выражение Ивана Степановича, эти знания ничего к ним не прибавляли и ничего от них ие убавляли. Громов - другое дело. Знания превращали его в другого человека. Что я этим хочу сказать? Сейчас постараюсь объяснить. Пока Громов молчал, это был обыкновенный ученик, такой же, как мы все. Но стоило ему заговорить, как он становился совершенно другим. Он делался много умнее и больше обыкновенного ученика, и казалось, что такой он настоящий и есть, только до поры до времени скрывает это.
Отвечая на вопрос преподавателя, Громов никогда не спешил, как первые ученики и отличники. Наоборот, он отвечал медленно, словно еще не зная правильного ответа и безмолвно советуясь с кем-то внутри себя.
Что я еще могу сказать о Громове? Пожалуй, ничего. Пока. Вот когда он переедет на Черную Речку и переведется в другую школу, тогда, возможно, я смогу сказать больше.
Ведь пока человек каждый день сидит с тобой в одном классе, со своей седой прядкой и раздвоенным подбородком, и пока ты каждый день видишь, как он пишет, постукивая мелом по доске, или читает новый номер “Знания - сила”, трудно сказать о нем что-либо интересное. А может быть, Громов и не переедет на Черную Речку и Дроводелов все это придумал, чтобы поделиться со мной новостишкой.
Когда начались занятия и я пришел в класс, я не очень-то рассчитывал увидеть Громова. Но он спокойненько сидел на своем месте у окна и, чтобы не терять время, читал какую-то книжку.
Я поздоровался с ним, а потом, словно потеряв над собой контроль, вдруг спросил:
– Ну, а как мальчик? Будет о нем продолжение?
Я думал, что Громов пропустит мой вопрос мимо ушей, но он ответил, и, кажется, охотно:
– Тетрадка у Германа Ивановича. Летом мне удалось найти кое-какой материал о нем.
– Но он же придуманный, этот мальчик, ты же писал фантазию, или там сказкуГромов посмотрел на меня и ответил вопросом:
– Ты в этом уверен?
– А ты? Ты разве не уверен?
Он усмехнулся и произнес слова, истинный смысл которых я, сколько ни старался, никак не мог понять.
– Дело не в том, уверен кто-то или не уверен. Все гораздо сложнее.
Я хотел переспросить, но не успел. Появился Дроводелов и сел рядом. А при Дроводелове мне не хотелось говорить о мальчике. Дроводелов обязательно бы вмешался и счал бы расспрашивать, он всегда любил совать нос в чужие дела.
– Есть одна новостишка, - тихо сказал Дроводелов, наклоняясь ко мне, чтобы не слышал Громов. - После уроков Герман Иванович будет читать продолжение про мальчика. Муть, правда? Выдумка. Неужели придется слушать эту муть?
Он говорил очень тихо, но я все-таки боялся, как бы не услышал Громов. Он в это время уже снова читал свою книжку.
Дроводелов не ошибся. Уроки кончились, и Герман Иванович прочел продолжение рассказа. В этот раз он читал намного хуже.
Космический корабль нродолжал свой путь. Мальчик успешно сдал экзамены и проводил каникулы тут же, на корабле. Летние каникулы? Или зимние? Это не существенно. В космическом корабле не было ни лета, ни зимы.
Кто экзаменовал мальчика? Все, кому не лень, начиная от командира корабля и кончая поваром-фармацевтом. А самыми придирчивыми и строгими из экзаменаторов были памятливые машины. Одна машина задала мальчику каверзный вопрос.
– Скажи, мальчик, - спросила она красивым мужским голосом, - в каком году изобрели колесо?
Мальчик смутился. Он мысленно перебрал все даты значительных открытий и изобретений, но про колесо не вспомнил ничего.
Машина долго ждала ответа, а потом сказала, почему-то переменив голос на женский:
– Не трудись. Этого никто не знает, даже я. В ту эпоху жители нашей планеты не имели представления о датах.
Машине, наверное, не следовало задавать мальчику вопрос, на который не существует ответа. И при этом еще менять свой голос. Ведь мальчик и без того волновался и переживал.
На все остальные вопросы он отвечал без запинки.
Наступили каникулы, и мальчик сразу забыл о каверзном вопросе. Он был счастливее всех на корабле, потому что он здесь родился и обо всем остальном знал только от других.
В отличие от других на далекой планете у него не было знакомой или знакомого, по ком он мог бы скучать. Все его знакомые были здесь, рядом с ним, на корабле. Здесь было не только его настоящее, но и прошлое, а что касается будущего, то о нем приходилось только гадать. Будущее зависело от теории вероятностей и от той неизвестной планеты, на которую они летели. Об этой планете много говорили на корабле. Каждый, по-видимому, представлял ее по своему вкусу. Одни считали, что там живут высокоразумные и цивилизованные существа, другие полагали, будто для разумных существ там еще не наступил черед и обитают там пока только ящеры.
У мальчика тоже была своя гипотеза. Ои был уверен, что планета населена детьми. В глубине души он понимал, что это невозможно. Но ему очень хотелось увидеть детей еще до того, как он станет взрослым и состарится. Мальчик никому не высказывал свою гипотезу, он боялся холодной и беспощадной логики взрослых, которые докажут ему, как доказывают теорему, что его мечта несбыточна.
На корабле за много лет беспрерывного, безостановочного движения создался совсем особый ритм жизни. И этот ритм облегчал существование всем членам экспедиции и команде, так что они почти не чувствовали, что лишь стены корабля отделяют их от холодной и страшной пустоты без дна.
Для этого ритма, как узнал мальчик, существовало свое название. Этот ритм назывался обыденностью. Сколько ни вдумывался мальчик, он никак не мог понять истинный смысл этого слова, хотя другие слова и названия понимал сразу и без труда. Он чувствовал, что это слово скрывало в себе нечто необычайно важное и даже таинственное. Может быть, взрослые сразу сговорились между собой, едва сели.в корабль, совсем не думать о бездонной пустоте, а потом возник этот ритм, который отвлек их от тревожных дум, как отвлекает сон или работа.
На космическом корабле были представлены почти все профессии. Был там и философ. Он осмысливал все происходящее и с помощью мысли приводил в должный порядок.
Однажды, встретив философа в отделении логических машин, мальчик набрался храбрости и спросил, что такое обыденность.
Философ ласково улыбнулся мальчику.
– Обыденность, - ответил он, - это цепь привычек, которых мы, в сущности, не замечаем, как не замечаем одежду, когда мы одеты. Но стоит нам раздеться и выйти на мороз…
Философ вдруг замолчал, вспомнив, что говорит не со взрослым, а с мальчиком.
Он улыбнулся еще раз и ушел.
Мальчик больше не спрашивал. И старался не думать об этом. Он догадался, что обыденность существует только для взрослых, а у детей ее нет и не может быть. И действительно, все казалось необычным и новым мальчику, даже то, что он видел много раз.
Он видел, как все трудились, что-то вычисляя, изобретая или изучая. Он заходил в лаборатории. Ему везде были рады, и особенно почему-то там, где занимались исследованием самых сложных явлений, например в лаборатории еубмолекулярной биологии. Может быть, это происходило потому, что исследователи, углубясь в невидимое и неведомое, доступное только сложнейшим приборам, на целые часы теряли связь с окружающим миром, и мальчик являлся им как посланец этого прекрасного мира, напоминая об этом мире всем своим видом.
Потом мальчик уходил, и в лаборатории наступала тишина.
Но все знали, что мальчик где-то рядом, потому что хотя корабль и был большой, но на нем все было рядом, все было близко. А мальчик, выйдя из лаборатории, сосредоточенно думал о субмолекулярном мире, и мысль его уносилась уже не за пределы корабля в просторы вселенной, а в бесконечное малое. И тогда он сам себе начинал представляться бесконечно большим, состоящим из множества миров.
В свободные от исследований часы некоторые участники экспедиции играли в шахматы. Мальчик через плечо игрока заглядывал на доску и гадал, какой будет следующий ход.
Слабее всех играл в шахматы музыкант. Он всем проигрывал - и машинам и живым партнерам. И очень огорчался проигрышам, но не в силах был удержаться от игры. У мальчика его частые проигрыши вызывали досаду.
Проиграв партию, музыкант уходил в свое помещение сочинять музыку. Однажды он поманил мальчика, привел его в свою каюту и включил проигрыватель, чтобы мальчик мог послушать новую мелодию.
Мальчик слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя и налетая на камни.
И постепенно мальчику представилась незнакомая планета с множеством рек, речек и ручейков. Вода пела удивительную песню.
И мальчик вдруг почувствовал, что песня уже есть, но нет еще уха и разума, чтобы понять ее и услышать. На планете еще не наступил черед для разумных существ… Да, на той планете, о которой рассказывала музыка.
А звуки лились и лились, тонкие и светлые. И мальчику казалось, что реки, ручьи, потоки и льдинки - здесь, рядом с ним, такой ясной и красивой была мелодия.
Потом наступила тишина. Молчали оба - и композитор и мальчик. Но мальчик все-таки был мальчиком, и он не мог долго молчать.
– Расскажи, пожалуйста, - попросил он музыканта.
– О чем?
– Все о том же, - сказал тихо мальчик.
И музыкант догадался, о чем просит мальчик, и стал рассказывать о планете, на которой родился и провел свою молодость. Он был хороший музыкант, но рассказчик неважный, часто сбивался, топтался на месте и все повторял одно и то же.
Он родился в лесу под горой, на вершине которой было озеро. Прямо от дверей домика его отца, хранителя заповедника, начиналась тропка. Петляя, она уходила в лес и там терялась.
Но, кроме тропки, деревьев и горы с озером на вершине, рассказывал дальше музыкант, было еще нечто иное, называемое необходимостью. Когда будущий музыкант подрос, ему пришлось расстаться с тропой, с речкой, с горой и с озером, которое было на самой верхушке возле синего облака. Быстрая, как молния, машина доставила его в город. В городе тоже было хорошо. Но там не было горы с озером на верхушке.
Жизнь отобрала у будущего музыканта эту гору и это озеро.
Однако музыкант не отчаивался, он уже догадался тогда, что жизнь состоит не только из приобретений, но и утрат.
– Что же ты приобрел? - спросил мальчик.
– Я приобрел опыт, - ответил музыкант.
– Но ведь ты за него отдал гору с озером.
– Может быть, я когда-нибудь и вернусь к этой горе, - сказал задумчиво композитор.
– Когда?
– Разве я это знаю? Нам еще надо побывать на загадочной планете. Потом много лет займет возвращение на родину. А жизнь коротка…
Музыкант вдруг замолчал, и на его лице появилась тень заботы. На всем корабле это был самый беззаботный человек.
Но сейчас он стал похожим на других. И мальчик впервые подумал, что расстояние, которое нужно преодолеть кораблю, измеряется не пространством и временем, а жизнью. И это было удивительно… Годы уходят, и если даже музыканту удастся увидеть еще раз гору своего детства, то только тогда, когда он станет дряхлым стариком. А может быть, он и не доживет.
Желая сказать музыканту приятное и облегчить его тоску по озеру на вершине горы, мальчик сказал:
– Если ты не увидишь, то, может, я увижу эту гору. Я передам ей от тебя привет.
Наступила пауза. Неловко почувствовали себя оба - и взрослый и мальчик. Потом мальчик подумал, что музыкант сказал не все. Самого главного он не сказал, и это хорошо.
Мальчик знал, что от музыканта ушла любимая женщина, предпочтя ему другого. И если даже она и раскается в своем проступке, дела уже не поправить - композитор теперь слишком далеко от нее и вернется домой стариком.
На корабле был только один очень старый человек. Это был главный техник-вычислитель, специалист, распоряжавшийся вычислительными машинами. Все знали, что он уже не вернется домой, для этого он был слишком стар. Но он был очень крепкий. И повар-фармацевт, не отличавшийся крепким здоровьем, однажды позавидовал ему и сказал, что этот старик переживет всех, даже мальчика, и если кому суждено вернуться домой, то именно ему.
Мальчик украдкой разглядывал старика. Между ним и стариком было нечто общее. Старик был всех старше, а мальчик всех младше.
Было ли когда-нибудь детство у этого старика? Возможно, и было, не сразу же он состарился. Когда он встречался с мальчиком, он с изумлением спрашивал:
– Откуда ты взялся, мальчик?
Мальчик понимал, что это была шутка. Но стоило ли повторять одно и то же столько раз? И старик смотрел на мальчика, у которого не было прошлого, а у старика его было почти столько, сколько в памяти машин, хранителей сведений и фактов. Примерно года два назад старик уличил одну машину в неточности, и все долго смеялись и подшучивали, вспоминая этот случай.
Глядя на старика, мальчик слышал прошлое. Прошлое жило в старике, в его глазах, неласково смотревших из-под седых бровей. Оно хранилось в нем, как в памяти машин. Но оно молчало из чувства собственного достоинства. Ведь старик не был памятной машиной, готовой отвечать всем и каждому на любой легкомысленный вопрос. И прошлое в старике было совсем другим, не таким, как в памяти информационных приборов. Машины помнили даты, факты, события и происшествия. А старик помнил среди всех этих фактов и происшествий еще и себя и других.
Странно, что именно о старике мальчик вспомнил в ту самую ночь, когда бездна чуть не поглотила корабль. Но об этом будет дальше, о бездне, о корабле и о мальчике.
– Пока все, - сказал Герман Иванович, не то огорчаясь, не то радуясь, и закрыл тетрадь. - Будем ждать продолжения.
Все молчали. Даже первые ученики и выскочки, любившие задавать вопросы. Только Дроводелов не вытерпел и, наклонившись ко мне, сказал;
– Муть. Ну и муть! Даже голова заболела от этой мути. При чем тут старик или это озеро на верхушке горы? Зачем оно там? К чему?
Я тоже чувствовал: рассказу о мальчике чего-то не хватает. Громов увлекся информационными машинами и стариком и ушел в сторону от главного. Нужно будет ему об этом сказать.
Конечно, Дроводелов был не прав, когда заявил, что рассказ о мальчике - муть и одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие, впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок. А поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно - неизвестно.
Выходило, что кое в чем Дроводелов прав. И со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допустить, чтобы такие, как Дроводелов, могли хвастаться своей правотой. Но довольно о Дроводелове. Тем более что он потом отсутствовал целую неделю, уехав с матерью к каким-то родственникам в Лугу.
Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко:
– Я тут при чем? Не я же летел в этом корабле.
К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик.
Громов ответил:
– Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился?
– Я родился на Васильевском острове в больнице имени Отто.
– А как ты думаешь, - спросил Громов, - есть какая-нибудь разница между больницей имени Отто и той точкой пространства, где родился мальчик?
Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на нас всех свысока.
Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того, как перестали писать, Громов немножко сник. И мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка, и эта ниточка порвалась. Вообще неясно все это было. Но с того времени как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась, протянувшись между нами, им и теми находками, о которых перестали писать. Тоненькая это была ниточка, невидимая, но тем не менее ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно Дроводелову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона-автомата и принес в класс. Мы спросили его:
– Тебе что, мешала эта трубка?
– Нет, помогала, - сказал он.
– А сколько людей из-за тебя потеряли время?
– Мне на это наплевать, - сказал он, - время для того и существует, чтобы его теряли.
Возвратившись из Луги, куда он ездил с матерью, Дроводелов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчике нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил: пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик и жить так много лет, летя неизвестно куда.
И ему отвечали:
– Как гипотеза это возможно.
– Хорошо, это я еще могу допустить, - соглашался он, - но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?
И мы отвечали:
– Конечно, можно обойтись и без них. Но все-таки с ними лучше. Один писал музыку, другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями.
– Отлично, - не успокаивался Дроводелов. - Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте подсчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находился в пути много лет.
– Может, и сейчас находится. Мы же конца еще не знаем…
– Нет, давайте подсчитаем.
И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присбединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирался заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это не давало покоя Дроводелову, и он садился с карандашом, чтобы вести свои подсчеты.
Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль - фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль, с обыкновенным эйнштейновым временем? Или с нуль-пространством, о котором не раз уже писали фантасты?
О нуль-пространстве у нас были большие споры. Никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фантастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль-пространстве не может быть и речи, мальчик жил во вполне реальном трехмерном мире и двигался со скоростью, близкой к световой.
Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать Дроводелов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь - не телефонная, не телеграфная, не радио и не квантовая, а чисто психическая, что ли, соединяла нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке вселенной.
Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, поле-пси, физическая сущность которого еще не известна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь.
Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально лихорадило. А один из нас, Леонид Староверцев, завел даже картотеку, записывая на отдельную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассовав по карманам, и, щурясь близорукими глазами, рассматривал их во время уроков. О чем только не говорилось в этих карточках! Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про автоматическую родовую память птиц, и про разумных животных дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков.
Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог пополнять свои знания.
Однажды я спросил Староверцева: - А про снежного человека у тебя что-нибудь есть?
– Нет. Эту карточку я пока оставил незаполненной.
– Это почему же? - спросил я.
– Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос.
Мне от этих холодных слов стало как-то не по себе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытиях Громова-отца, тоже не заполнена и ждет, когда наука решит спорный вопрос.
Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную Речку по не зависящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку или оказалась слишком непокладистой комиссия и не захотела принять дом, обнаружив трещину на потолке и забраковав заодно и покраску. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и перерезать ниточку.
Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и, когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было большое, широкое, светлое, а за окном внизу улица, и деревья, и люди на тротуарах.
А напротив окна дом, а там тоже окно, и в окно выглядывает толстая старуха, и кушает сливы, и выплевывает косточки прямо из окна на тротуар. И, глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна, так часто ее видно.
И, глядя в окно, я думал, что МАЛЬЧИК не имел ни малейшего представления об окнах (какие же окна в наглухо замурованном корабле?), и окна ему заменял экран, но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно - прекрасная вещь, стены словно и нет совсем, и видны даль, небо, облака, деревья и старуха, которая кушает сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках чтонибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно.
Староверцева немножко смутил мой вонрос, и он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной.
– Почему? - поинтересовался я.
– Потому что окно - это изобретение далеких эпох, - ответил он. - А я заношу в карточки только то, что имеет отношение к будущему.
– А разве в будущем не будет окон?
– Будут, но другие. Скажем, ты увидишь в окно не парикмахерскую и не сапожную мастерскую, а кусок вселенной. Вот какие, наверно, будут окна.
Громов прислушался к нашему разговору, но ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал. Но он не вмешался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать.
Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову. Тоже из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает, особенно тех, кто не мог проверить и должен был верить ему на слово. Ребята считали, что Староверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стоят ящики с этими карточками, как у какогонибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громова, во даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у женя и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там пи одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивает летом цветы. И все невольно пришли к тому выводу, что у Громова необыкновенная память.
В памяти ли тут было дело или в чем-то другом - не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное, все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И всем казалось, что существует не видимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с атомом, с дном океана, с интеллектом муравья или пчел, с самим Наполеоном или Аристотелем. И Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, Луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом.
Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали, никогда не выскакивал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже отчего-то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все, и ни от чего, в сущности, не уклонялся: ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел. Может, он гораздо меньше спал, чем все мы, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить? Не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой, а Староверцев спросил:
– Сколько же миллионов лет он существует?
У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал: возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Короче говоря, Громов имеет дело не е самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находится в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения.
Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом со стороны громовского отца вряд ли было этично утаить информационную копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против.
Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но сильнее их были чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности: а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия. Предположим. А где же она находится, эта копия?
В кабинете громовского отца? Допустим. Ну и что же, она стоит там, эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы?
Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности.
Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразиться, он сидел в другом углу комнаты, которую мои мать и отец в силу автоматизма по-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыв о моем существовании.
– Ты мог этим заняться дома или в библиотеке, - сказал я.
– Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь, у тебя.
– Согласен с тобой, - сказал я, - но раз ты сидишь здесь, у меня, то хоть спрячь свои карточки в карман. Можешь ты без них обойтись хоть минутку?
– Я очень ценю свое время.
– Ну и цени, - сказал я. - Это твое дело.
– Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других.
– Для других? А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ценишь свое время…
– Для Дроводелова? Нет, - ответил рассеянно Староверцев. - Дроводелов, понимаешь, отрезал и принес в класс…
– Опять телефонную трубку?
– Нет, лисий хвост. Говорит, в Зоологическом саду отрезал у живой лисы. Врет. От хвоста пахнет нафталином…
– И это все новости? - спросил я.
Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол. - Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю. Презираю!
– Почему же презираешь? За что?
– Презираю! Новости - это сплетни. Это еще академик Вернадский говорил. В его биографии написано.
Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола карточек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым.
Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев.
В одной карточке было написано про Собор Парижской богоматери, в другой про молекулу АТФ и про водородные связи, а в третьей - я не поверил своим глазам - про информационную копию мальчика.
Первый ученик Дорофеев оказался прав.
В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времен юрского периода.
Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чепуха и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться.
Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка - слишком священная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как арбитр, слушал их доводы, еще не зная, какому из них отдать предпочтение.
Голоса спорили, приводя сотни доводов “за” и “против”.
Потом один голос стал побеждать, тот голос, который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу же представил себе Марка Семеновича с мелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться.
Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал.
“Предположим, - говорил он, обращаясь ко всем и к каждому, - предположим, что существование копии мальчика не известно, и обозначим ее через икс. Тогда спросим себя, зачем игрек, то есть Староверцев, поспешил заполнить карточку, которую столько времени хранил незаполненной? Предположим, что Староверцев…” Голос с сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня не трудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы шутить. Значит? Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика.
Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты.
– Сегодня понедельник, - сказала мать, - газеты не принесли. А во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила к починку.
Я набрал номер телефона и, услышав густой и низкий мужской голос, сказал:
– Мне нужно Староверцева.
– Староверцев слушает вас, - ответил голос.
От волнения я даже сразу не сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос.
– Староверцев слушает вас, - раздраженно повторил голос.
– Мне не вас. А вашего сына.
– Его вчера увезли в больницу, - ответил голос. - Приступ аппендицита.
Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина.
Все на свете сговорились, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотая таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники.
Потом пришел врач - старая обиженная женщина и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться; пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, сорок минут. Сегодня она, боясь потерять время, поостереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать по крайней мере два дня, и ушла.
Два дня… Я лежал два дня и думал. Я думал о копил мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова. Со времен юрского периода, того периода, когда на Земле жили ящеры, прошло много миллионов лет.
Значит, копия лежала в земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение.
Мне захотелось узнать побольше об юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учебник палеонтологии, по которому учился старший брат, когда был студентом. Мать учебника не нашла и принесла мне “Палеонтологию позвоночных”.
И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние ноги с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров.
И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычайно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит, и люди.
И я подумал, что раз существует информационная копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза.
Мне самому она показалась не совсем справедливой.
Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня Староверцевым, самому Громову.
Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву и летел в пропасть, но я ничего не мог с собой поделать, желание выяснить тайну было сильнее меня.
Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дроводелова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову.
Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают.
Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил:
– Ну и что? Что тебя тут удивило?
– Как что? - ответил я. - Разве с копией мальчика подтвердилось?
– Подтвердилось.
– Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было?
– Нет. Староверцев узнал от меня. А на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось ссылаться на частное лицо. А я - частное лицо.
Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный треугольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств.
Я совсем выключился, и не слушал Марка Семеновича, и вместо теоремы думал о динозавре, воровавшем яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого воришки произошли все млекопитающие, а значит, и люди, меня вовсе не устраивал такой предок. А установить истину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова.
Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на Земле еще в юрский период.
При одной мысли о том, что копия мальчика существует и и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал, что врачиха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты. А минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уж никак нельзя было сомневаться.
Я подумал, что он сомневается в теореме и в ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Эвклидом, а я сижу и не сомневаюсь в существовании копии мальчика только потому, что верю карточке и Громову.
Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. И я хотел было подойти к Громову, но возле него уже стоял Дроводелов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дроводелов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дроводелов протянул Громову, были произведены расчеты, сколько мальчик съел, выпил и выдышал, находясь так долго в пути. Дроводелов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты.
Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дроводелов настаивал, чего-то требовал и не отставал. Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дроводелов от него не отступится.
Возвращаясь домой, я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние ноги обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь бы погиб, то на Земле не появились бы млекопитающие и в том числе даже я сам.
Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознании спорили между собой. Один голос был согласен с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал.
Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся.
Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи.
– Кто там? - спросил я.
– Я, - ответил обиженный женский голос. И по голосу я сразу узнал районного врача.
– Мы ведь больше не вызывали, - сказал я ей. - Я выздоровел.
– Я шла не к вам, а на четвертый этаж. По срочному вызову к Новотеловым.
– Ладно, - сказал я, - немножко потерпите. Я сейчас поднимyсь к себе, и мы вызовем ремонтника.
И я стал быстро-быстро подниматься по лестнице, уже не думая ни о мальчике, ни о динозаврах. Я думал о том, почему лифт действует исправно, когда поднимаюсь я, моя мать и все жильцы и их знакомые, но стоит туда войти врачу, как лифт принимается за свои подлые штучки. Я думал об этом, и о теории вероятности, и о теории игр. И потом снова вспомнил про мальчика.
Дроводелову все-таки удалось всучить свой счет. Войдя в класс, я застал Громова с этой позорной бумажкой в руке.
А Дроводелов стоял рядом и ухмылялся. Опять пришлось отложить разговор. Но потом Дроводелов со своей бумажкой ушел, и я приблизился к Громову.
– А нельзя ли, - спросил я, - повидаться с копией мальчика? Мне нужно выяснить один вопрос.
Вся эта фраза прозвучала очень глупо и дико. Она была по-дурацки выдернута из того контекста, который протекал в моей душе.
– А что это за вопрос? - спросил Громов спокойно и как бы даже безучастно.
И я рассказал о динозавре, и его передних конечностях с хватательной функцией, и о млекопитающих, которым вряд ли могла понравиться гипотеза, связывающая их происхождение с этим сомнительным животным.
– И что же, - спросил Громов, - ты хочешь задать этот вопрос копии мальчика?
– Хочу, - ответил я.
– Тогда тебе придется немножко обождать.
– Почему?
– Потому что ты не один хочешь задать вопрос. Это во-первых. А во-вторых, мой отец и его сотрудники уже давно бьются над тем, чтобы дешифровать код и понять язык, на котором думал и разговаривал мальчик…
Но тут наша беседа опять прервалась. Начался урок.
Я ждал перемену, чтобы продолжить разговор. А урок тянулся и тянулся… Наконец прозвенел звонок, и я спросил Громова:
– А нельзя ли все-таки с ним повидаться?
– С кем?
– С копией.
– Это невозможно. Она находится в Институте археологии, и доступ туда запрещен всем, за исключением сотрудников лаборатории.
– А ты сам ее видел?
– Разреши оставить твой вопрос без ответа.
Я обиделся - как в тот раз, когда он намекнул насчет ремонта. В его словах сквозило явное недоверие.
По выражению моего лица Громов догадался, что я обижен. Ему, по-видимому, стало неловко, и он спросил: - Что же ты не заходишь?
– Но у вас в квартире ремонт…
– Ремонт давно кончился. Заходи хотя бы завтра вечером. Я буду дома.
Он что-то еще хотел сказать, но не успел. В класс вошла преподавательница истории. Она стала работать в нашей школе совсем недавно, никого из нас еще не помнила по фамилии и даже не подозревала, что Громов много знает.
Раскрыв классный журнал, она назвала первую попавшуюся фамилию:
– Громов!
Громов встал, и она задала ему вопрос о первобытном обществе и о чем-то еще более древнем.
Я смотрел на ее лицо, пока Громов отвечал. Выражение ее лица все время менялось, и на лице можно было увидеть целую гамму чувств и переживаний.
А Громов отвечал, как только он один умел отвечать во всей школе, а может, и на всем Васильевском острове. И казалось нам, отвечает не он, а те люди, которые жили в древнюю эпоху, отвечает сама древняя эпоха, все факты и события, сами, не очень громким размышляющим голосом Громова.
И я подумал, что, наверно, так же спокойно и задумчиво будет отвечать мальчик через свою копию, когда дешифруют его язык.
Я не знаю, о чем думала преподавательница, слушая, как отвечает на ее вопросы Громов. Сама она молчала, зато безмолвно, сменой выражений, говорило ее лицо.
Потом Громов сел, а учительница встала. По-видимому, она так растерялась, что забыла его фамилию.
– Молниев? - обмолвилась она. Никто из класса не рассмеялся, даже Дроводелов. Такой напряженной была эта минута.
– Нет, я не Молниев, а Громов, - спокойно сказал Громов.
– Благодарю, - сказала учительница. Она почему-то сказала это очень тихо, так тихо, что слышали не все.
А потом она целую минуту молчала, пока на лице ее не появилось то же самое выражение, с которым она вошла в класс. По-видимому, усилием воли она заставила себя успокоиться и снова обрести обычное состояние, с которым учителю легче продолжать урок. Спрашивать она больше никого не стала. А стала рассказывать сама, спокойно, буднично, как и полагалось.
Рассказывала она о далеком прошлом. Но это было совсем другое прошлое, не то, о котором нам сообщил Громов.
В чем тут дело? Я не могу объяснить. Тому прошлому, о котором она рассказывала, не было никакого дела до нас. И я подумал, что и нам тоже нет до него никакого дела. Но учительница думала иначе, чем я. Она рассказывала страшно спокойно, как в учебнике, и даже еще спокойнее и очень методично, как, наверное, ее учили вести урок, чтобы мы могли его лучше усвоить.
Громов же сидел у окна и, казалось, внимательно слушал.
А в окно мне были видны небо и облака, а Громов, наверно, видел и прохожих на тротуаре, а также старуху, евшую сливы и выплевывавшую косточки. Я думал, что в прошлом, о котором рассказывала новая учительница, не было ни этого окна, ни тротуара с прохожими, ни этой старухи, евшей то вишни, то яблоки, а то щелкавшей утюгом орехи на подоконнике. И оттого, что всего этого не было в прошлом, прошлое становилось еще более странным, и неуютным, и не совсем убедительным, таким, какое оно было в рассказе учительницы.
Вот она, эта дверь, обитая сукном, с синим ящиком для газет и писем.
Я звоню. Долго не открывают. Может, никого нет дома?
Я еще раз звоню. Открывает сам Громов, не отец, конечно, а сын.
– Проходи, - говорит он и ведет меня в переднюю.
– Я у вас давно не был, - говорю я. - А родители дома?
– Мать дома, отец в институте. А почему это тебя так интересует?
– Да нет, я это так просто. А божок с обсидиановыми глазами все еще висит?
– Висит. Сейчас ты его увидишь, вот вешан пальто сюда. Староверцева видел?
– Откуда? У него аппендицит на днях вырезали.
– Не аппендицит, а аппендикс. Он сейчас уже поправляется и карточки заполняет. Прислал мне вопросник… А ты что остановился? Проходи.
Мы пошли в бывшую детскую, где жил Громов. Прошли через столовую, и я увидел прозрачные глаза деревянного божка и его узкую фигурку с тоненькими ручками и слегка поджатыми ножками.
– Ну, а что за вопросник? - спросил я.
– Чудак он, этот Староверцев. Задает вопросы, на которые мог бы ответить только мальчик или его копия. А главное, требует, чтобы я ответил сейчас же и письменно, пока он еще не ходит в школу.
– И ты ответишь?
Громов удивленно посмотрел на меня и ничего не сказал.
Тогда я спросил: - У тебя есть продолжение про мальчика?
– Есть где-то, если не потерялась тетрадка. У нас ремонт был. А что?
– Почитай.
– Нет, - сказал Громов, - не хочется. Извини, настроения нет. И потом я не люблю читать вслух.
– Да нет, почитай, - стал просить я. - Почитай, пожалуйста…
Мне стало противно от своих слов и от голоса, которым я просил, словно просил не я, а Дроводелов, но я все-таки продолжал канючить. Очень уж хотелось мне послушать про мальчика еще до того, как дешифруют его код. Ведь это будет не скоро.
– Почитай, что тебе стоит, ну почитай…
– Нет, - сказал решительно Громов. - Читать я не буду. А если хочешь, включу проигрыватель, и мы послушаем мелодию, которую сочинил композитор, который… У отца в кабинете есть запись. Только смотри, об этом никому…
Он пошел в кабинет и скоро вернулся, бережно держа пластинку, а потом включил проигрыватель, чтобы я мог послушать мелодию, которую сочинил один композитор за много миллионов лет до того, как разум и человеческое ухо появились на Земле.
Я слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то громя, то налетая на камни. Это по-человечьи билось нечеловеческое сердце музыканта, который вопреки законам времени и пространства сейчас, казалось, был рядом с нами.
Звуки лились, объединяя необъединимое, они были тут, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от нас.
Мальчиком называл в своем рассказе Громов того, кто сумел оказаться рядом с нами. Он и был мальчик, наполненный детством, хотя это детство продолжалось миллионы лет и до сих пор не кончилось.
Мальчиком называли его на корабле. И он тоже так называл себя.
И мы с Громовым тоже пока были еще мальчиками, но наше детство должно было скоро кончиться. Его же детство длилось и длилось, сливаясь со звуками мелодии, которую я сейчас слушал.
Когда мелодия кончилась, я спросил о том, о чем, может быть, не следовало спрашивать:
– Что же, эту запись отец нашел вместе с информационной копией?
– Да нет, откуда ты это взял? Один отцовский приятель сочинил. Член Союза композиторов. По моей просьбе.
Я глядел на Громова, и, должно быть, лицо мое менялось, как у нашей новой преподавательницы истории. И Громову, должно быть, стало жалко меня и досадно за свои слова, и он спросил:
– А тебе, видно, хотелось, чтобы это тот музыкант написал, который дружил с мальчиком?
– Хотелось бы, - ответил я тихо.
– Но музыка же хорошая. Она тебе понравилась?
– Да. Но она понравилась бы мне больше, если бы со сочинил тот и тогда…
– Когда еще не было разума и человеческого уха? - спросил Громов.
– Да.
– А ты представляешь себе, какой была тогда Земля?
– Раньше не представлял… А сейчас представил, когда слушал эту мелодию. А ты представляешь?
– Зачем мне представлять? - сказал тихо Громов. - Я пе только представляю, по и знаю.
– Откуда?
– Разреши мне не отвечать на твой вопрос.
И я разрешил. Разрешил ему не отвечать на мой вопрос.
Я просто ушел. Надел пальто в передней и ушел. Не мог я больше канючить, выпрашивать, подлизываться.
Но, наверно, не всякий бы ушел на моем месте, так и не узнав истину. Какой-нибудь исследователь и крупный ученый ради науки плюнул бы на свое самолюбие и остался.
А я ушел. Правда, мне от этого было не легче. Я почти не спал ночь.
На другой день в классе случилось неприятное дело.
Не знаю, почему я назвал это дело неприятным. Впрочем, пускай. Вот что случилось.
Пришел новый, очень молодой преподаватель биологии вместо старого, который ушел на пенсию. При старом бы все сошло. Того ничем нельзя было удивить.
Этот новый задал Громову вопрос. И Громов, разумеется, ответил. Дело, конечно, не в том, что Громов ответил не по программе. Дело в том, что Громов знал, чего не знал и не мог знать никто. И новый преподаватель все это понял. Я увидел это по его глазам. Таких глаз я не видел нигде, ни в кино, ни в театре. Казалось, на лице у него ничего не осталось, кроме этих глаз. А в глазах было все: восторг и ужас, недоумение и гнев, отчаяние и радость и еще что-то, чего мне не передать с помощью слов.
Я подумал, что он заболел или помешался. Он стал ходить по классу из угла в угол, словно забыв о нас.
Минут пять прошло, а он все ходит и ходит.
Потом он подошел к Громову.
Он сказал что-то, но так тихо и невнятно, что я не расслышал. Только по ответу Громова я догадался, о чем идет речь.
Речь шла о животных, вымерших миллионы лет тому назад.
И дело не в том, что Громов рассказал о них обстоятельно, живо и слишком конкретно. У него вырвалось словечко, которое ему ни в коем случае не следовало произносить, если уж он хотел все сохранить в тайне. Когда учитель ему возразил, он сказал:
– Вы знаете это из курса палеонтологии, а я помню…
И он стал выкладывать одну подробность за другой. Он словно решил на все наплевать - на тайну, на учителя, на первых учеников, и он опять употребил это выражение: “я помню”… Учитель прямо остолбенел, не в силах ни слова вымолвить.
Мне стало жалко учителя, а еще больше самого Громова.
И я крикнул:
– Да он просто оговорился!
Учитель ухватился за мои слова, как хватаются за соломинку. И ему кое-как удалось завершить урок. Громов тоже успокоился.
Я был чертовски рад, что своей находчивостью дал им выйти из трудного положения.
Но тут выскочил Дроводелов. Лицо его ухмылялось.
– Платон! - крикнул он на весь класс. - Платон, ты мне друг, но истина мне дороже!
Я очень сердился на Дроводелова за его выходку. И ребята сердились. Но истина, конечно, была не виновата.
А новый преподаватель заболел. Подцепил где-то воспаление легких. И говорят, из куйбышевской больницы прислал Громову письмо. Содержание письма никому в классе было не известно, даже Дроводелову. Но конверт видел на столе у Громова Староверцев. И по обратному адресу догадался, кто и откуда писал Громову.
Я почему-то предполагаю, что учитель объяснял Громову свое состояние и почему он так волновался на уроке. А это вовсе не надо было объяснять. Не знаю, было ли в письме что-нибудь об истине.
А я думал о ней всякий раз, когда видел Громова. Потом Громов вдруг тоже перестал ходить.
Прошел слух, что он переезжает, и не на Черную Речку, а в академический городок под Новосибирском. Только что прошли выборы в Академию наук, и его отца выбрали членом-корреспондентом в Сибирский филиал академии. А раз выбрали, то хочешь или не хочешь, а ехать надо. Так мне объяснил один ученик, у которого отца тоже выдвигали в членыкорреспонденты, но не выбрали.
Вот тут я снова вспомнил об истине. Я понял, что Громов скоро уедет, а Новосибирск далеко, и мне так и не удастся ничего узнать о мальчике, пока не появится о нем что-нибудь в газетах. Мне необходимо было повидаться с Громовым еще до его отъезда. Я все ждал, что он появится в классе, но он не появлялся. Может быть, он уже оформил свои документы в школе и ждал, когда отец сдаст дела.
Новый учитель биологии поправился и выписался из больницы. Держался он в классе как-то нервно, смущенно и время от времени бросал свой взгляд на пустое место возле окна, где раньше сидел Громов. И тогда в его глазах появлялось странное выражение, словно он там видел то, чего не видели другие.
Я тоже смотрел туда и видел там пустое место и окно.
А за окном были улица с пешеходами на тротуарах и окно напротив, возле которого сидела толстая старуха, евшая яблоки или щелкавшая утюгом орехи на подоконнике.
Но учитель видел там другое, об этом говорили его глаза.
Может быть, его глазам представлялась живая и впечатляющая картина древней Земли, Земли еще до человека и до млекопитающих, о которой рассказывал тогда Громов.
Когда я возвращался домой, позади меня застучали каблуки, и я догадался, что кто-то меня догоняет. Я оглянулся.
Это был новый учитель.
Он нагнал меня и некоторое время шел со мной рядом. Мы оба молчали. Потом учитель спросил:
– Что вы думаете о Громове?
– Громов переезжает в Новосибирск, - сказал я. - Он будет жить в академическом городке. Там есть школа для талантливых математиков и физиков. Он, наверное, туда поступит.
– А вы думаете, ему нужна эта школа?
– Туда все стремятся попасть, - ответил я, - но не всех принимают. Только талантливых. Уж кого-кого, а Громова примут сразу.
– Я тоже не сомневаюсь, что его примут, - сказал учитель. - Но я сомневаюсь, нужна ли ему средняя школа. Он слишком много знает.
– Да, - согласился я. - Он знает много, слишком много даже для самого хорошего ученика.
Лицо учителя оживилось. И он наклонился и доверительным тоном спросил меня: - А откуда он все это знает?
– Очень просто, - ответил я, - у его отца хорошая библиотека.
– Вы думаете? - сказал учитель. По его голосу я догадался, что он остался не совсем доволен моим ответом. Но что он думал, когда задавал этот вопрос? Может, он думал, что я выложу ему все, что знаю и предполагаю про мальчика? Слишком уж он много хочет.
Учитель сделал еще несколько неровных шагов, потом сказал:
– Всего хорошего.
И свернул на Пятую линию.
Я мысленно похвалил себя за то, что не ответил на его вопрос. Потом подумал: а что я мог, собственно говоря, ему ответить? Ведь я тоже не знал, откуда Громов черпает свои познания.
Придя домой, я взял с полки подаренную мне на день рождения книжку и стал читать. Книжка называлась “Хочу все знать”. Название мне понравилось, хотя и показалось немножко неточным. Разве можно знать все? Нет, все, наверно, знать нельзя. А так в общем книжка была ничего. Познавательная.
Вроде тех карточек, которые заполнял Староверцев.
Почитал я немножко, потом скучно стало. Я подошел к окну и посмотрел. Падал снег. От снега улица стала новенькой, свежей, словно только что возникла. И неизвестно почему, мне стало вдруг хорошо, хотя я жил не в летящем куда-то космическом корабле, а в самом обыкновенном, давно не ремонтированном доме. И дому ничего не угрожало. Ни случайная встреча с метеоритом, ни другие опасности такого рода. Он не мог сбиться с трассы и заблудиться в бесконечной вселенной. Все было очень обыкновенно. Внизу на той стороне я видел булочную со старинной вывеской, на которой нарисован вкусный крендель, и пошивочную мастерскую с восковым гражданином в мешковато сшитом костюме в витрине, и телефонную будку, ту самую, где Дроводелов отрезал трубку.
Мне стало как-то уютно и радостно, словно завтра начнется праздник и будет длиться долго-долго. Но затем мой взгляд упал на подъезд того дома, где жил Громов. Радость и уют сдуло как ветром. И хотя это было обычное парадное в обычном жактовском доме, мне казалось, что за дверью начинается другой мир, мир, полный неожиданностей и тайн. И я стоял у окна и думал, какой из этих двух миров лучше: этот, с булочной и пошивочной мастерской и телефонной будкой, или тот, где вместо пошивочной и телефона-автомата летают метеориты?
И тут я вспомнил мальчика. Ведь он был лишен выбора.
За него все выбрала судьба. Он родился на корабле в пути.
А потом все летел и летел. А за стеной того отсека, где спал мальчик, была не пошивочная мастерская, а ничто, именуемое вакуумом.
Мне стало как-то неловко, словно я поделился своими мыслями с целым залом слушателей. Затем я стал надевать пальто. И ровно через минуту я стоял уже у тех самых дверей.
Я стоял, все не решаясь поднести палец к кнопке звонка.
В тот момент, когда я решился, дверь сама отворилась. Вышел отец Громова. Он куда-то уходил и был в пальто.
– Дома, - сказал он мне. - Заходите.
И я сделал шаг. В то мгновение, когда я делал этот шаг, я не подозревал о последствиях.
Громов мне как будто даже обрадовался.
– Заходи, - сказал он. - Раздевайся. У нас уже и вещи связаны.
Зачем он добавил о вещах, которые были действительно связаны, не знаю.
Когда мы проходили через столовую, я взглянул на стену.
Но божка там уже не было. Он лежал на полу рядом с чемоданом, поджав свои узкие деревянные ножки.
Тогда я вдруг осознал, что Громовы переезжают. До того момента, когда я увидел божка на полу рядом с чемоданом, я еще сомневался.
Когда мы пришли в детскую и сели, Громов спросил:
– Ты так или по делу?
– По делу, - сказал я.
Громов сразу же замолчал. Я тоже не решался сказать, по какому делу пришел.
– И черепа тоже везете? - спросил я.
– Везем.
– И божка?
– Божка тоже.
– А мальчика?
Это слово само вырвалось у меня почти невзначай. Я бы много дал, чтобы вернуть его назад. Лицо у Громова сразу изменилось. Его словно что-то отодвинуло от меня. И казалось, я его вижу не в комнате перед собой, а на экране телевизора.
– А зачем тебе мальчик? - тихо спросил Громов.
– Я ему вопрос хочу задать.
– Так задавай, - так же тихо сказал Громов. - Я отвечу.
– Я хочу, чтобы сам мальчик ответил.
– Я и есть мальчик.
–Ты?
– Да, я. Разве ты об этом не догадался?
Я ничего не сказал. Меня бросало то в озноб, то в жар.
На лбу выступил пот.
– Ну, что же ты не задаешь вопросы?
– Я лучше потом, - сказал я.
– Когда же потом?
– В следующий раз.
– Мы завтра уезжаем в Новосибирск.
– Когда?
– В девять вечера.
– Тогда я после обеда забегу, можно?
– Забегай.
Но я, конечно, не забежал к нему после обеда. Почему?
Я сам не знаю. Может быть, потому, что я не знал, о чем его спрашивать. Не мог же я спрашивать про динозавра с хватательной функцией в передних ногах, который воровал яйца у своих соседей. Это было бы слишком мелко. А более крупных вопросов у меня в сознании, к сожалению, не возникло. Слишком уж я волновался и переживал.
Я долго переживал и волновался. Дней пять или шесть.
А потом перестал переживать и больше уже не волновался.
И как только перестал волноваться, в моей голове появилось множество вопросов, которые следовало бы задать мальчику, то есть Громову. Но Громов был уже далеко, в академическом городке под Новосибирском. А в их квартиру въехала какая-то чужая семья. Я видел, как подъехала трехтонка с вещами.
Но то были обыкновенные вещи, столы, кровати, стулья, диваны. И конечно, среди этих вещей не могло быть деревянного божка с поджатыми ножками и нумерованных черепов.
Я смотрел, как носили эти вещи, и сердце мое сжималось от тоски. И я думал, вот была в доме напротив необыкновенная квартира, и в ней жил Громов, а сейчас туда въехала незнакомая семья, и это уже необратимый процесс, как любит говорить наш учитель физики Дмитрий Спиридонович.
Вообще настроение у меня было плохое в эти дни, и ребята это заметили сразу.
– Что нос-то повесил? - спросили меня.
– Громов уехал, - сказал я.
– Ну и что? Подумаешь! Вместо него другой уже сидит ученик. Новый. Он тоже, кажется, много знает. Приехал из Горького. Говорит на трех языках.
И действительно, на том месте у окна сидел новичок, издали он даже был чем-то похож на Громова. Такое же задумчивое выражение лица. И волосы жесткие, прямые, ежиком.
И как Громов, он то и дело смотрел в окно. Потом сделал кому-то гримасу и показал язык. И я подумал, что он это, наверно, старухе в доме напротив, которая ела яблоки или щелкала утюгом орехи. Громов этого себе никогда не позволял.
Он ко всем относился с уважением и к этой старухе тоже.
Да, неважное было у меня настроение. А тут еще стали тревожить меня вопросы, которые я не успел задать Громову.
Уроки тянулись долго. А когда я возвращался домой, я увидел рядом с собой того, новенького, который сидел на месте Громова.
– Ты далеко живешь? - спросил он меня.
Я назвал улицу и номер дома. Он удивился.
– Значит, ты живешь напротив, - сказал он.
И я догадался, что это он поселился в квартире Громова.
Это их вещи привезла трехтонка. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, как к нему отношусь: хорошо или плохо?
Два голоса спорили во мне. Один голос говорил: он же не виноват, что сел на место Громова у окна и поселился в его квартире. И Громов все равно уехал бы в академический городок под Новосибирском, раз его отца выбрали в члены-корреспонденты. А другой голос возражал: разумеется, он не виноват. Но все равно что-то в нем есть. И наверное, задается.
И я решил задать ему, этому новичку, вопрос, один из тех, которые хотел задать Громову.
– Почему, - спросил я его, - существует мир?
– Потому что существует, - ответил он.
– А что было бы, - спросил я, - если бы мира не было?
– Не было бы и нас, - ответил он.
– Ну, это не ответ, - сказал я.
– А почему ты об этом спрашиваешь? - спросил он.
– Потому что хочу знать.
– Мало ли что ты хочешь…
– А почему я должен хотеть мало? Я хочу много.
– Но ты задаешь глупые вопросы.
– Вовсе они не глупые. Ты ничего не понимаешь.
– Глупые. А главное, неконкретные. Разве можно спрашивать о том, почему существует мир?
– Можно.
– Нет, нельзя.
– Громов так бы не сказал.
– Громов? Это тот, что жил в нашей квартире?
– Не он в вашей, а вы живете в его квартире.
– Мы въехали по ордеру. А он выбыл.
– Не выбыл, а уехал в Новосибирск.
– Ну, уехал. Это все равно. А ты в пинг-понг играешь?
– Играю.
– Так заходи. После обеда заходи. У нас есть. Сыграем.
– Может, и приду, - сказал я. - А как тебя зовут?
– Игорь, - ответил он важно. - Игорь Динаев.
Два голоса спорили во мне: идти или не идти? И все-таки я пошел. Больше из любопытства.
В столовой вместо божка с поджатыми ножками уже висела картина. Квартиру я не узнал. Везде мебель, вся новенькая, как в мебельном магазине. А ведь когда Громовы там жили, квартира походила чем-то на отсек космического корабля. Вещей почти не было. А сейчас от мебели и от картины, на которой была изображена купальщица, трогающая воду в реке длинной ногой, мне как-то стало не по себе.
И даже в пинг-понг расхотелось играть. Почему-то захотелось пить. Но я вспомнил про пустыни и как там люди мужественно превозмогают жажду. И я тоже превозмог.
– Что ты молчишь? - спросил Игорь.
– Думаю, - ответил я.
– А o чем ты думаешь?
– Мало ли о чем я могу думать!
– Ну, а все-таки? - спросил он.
– Я думаю о пустыне Гоби.
– А ты там бывал?
– Нет, не бывал.
– А почему же ты тогда о ней думаешь?
– Я всегда думаю о тех местах, где не бывал.
– Значит, ты псих. У вас все в классе какие-то не такие. Я сразу заметил. А кто тот парень, про которого у вас все так много говорят?
– Громов.
– А что в нем особенного? Почему про него так много говорят?
Я взглянул на картину, на которой была изображена купальщица, и на новую мебель. Потом сказал:
– У них не было столько мебели.
– У кого?
– У Громовых.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего.
Я нарочно заговорил о другом. Не хотелось мне с ним говорить о Громове, да еще в этой самой квартире.
Потом я встал.
– Ну, пока. Уроки учить надо. Сегодня много задано.
А задано было совсем немного.
Что еще осталось мне сказать? Почти ничего. Без Громова в классе все стало очень обыкновенным. Все к этому скоро привыкли. И постепенно стали забывать о Громове. И даже я редко о нем думал. Слишком задавать стали много. Свободного времени совсем мало оставалось. Но я все-таки старался пополнять свои знания. Читал разные книжки, в том числе ту, которая называется “Хочу все знать”.
И голос (один из двух спорящих во мне голосов) говорил, что всего знать нельзя. А второй возражал, напоминая о Громове, и утверждал, что можно.
Из академического городка под Новосибирском не было никаких известий. Я уже стал думать, что Громов просто пошутил, когда сказал мне перед отъездом, что он и есть тот самый мальчик.
Но вот что случилось в субботу после занятий. Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную Речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской “Север”. Все было, как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и Досмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть: “Найденные профессором Громовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются… Исследовать возможности восприятия человеком психологии и знаний инопланетного мальчика помогал коллективу пятнадцатилетний сын ученого… Резервы памяти оказались огромны…” Слова прыгали. И мне стало холодно, и сразу же жарко, и снова холодно.
– Что с тобой? - спросила мать.
Я не успел ответить и бросился бежать за гражданином, который встал с места и быстро пошел к дверям.
– Газету! - кричал я на весь трамвай. - Дайте, пожалуйста, газету!
Ариадна ГРОМОВА В круге света
Все началось неожиданно… Впрочем, я ведь знал и все знали, что так это и будет - неожиданно. Наступит какоето последнее утро… или день, или вечер, все равно, а потом… потом - это можно было тысячу раз представлять себе поразному. Но своего, этого варианта я не предвидел. Мне он и сейчас кажется самым невероятным из всего, что могло случиться. Со мной или с кем угодно другим, неважно. Иногда мне кажется, что я схожу с ума… Да это, наверное, так и есть! Но тогда… что же будет тогда с ними? Они ведь теперь целиком зависят именно от меня, от моего сознания, от моей воли, от моей любви…
По-видимому, я должен торжествовать - моя теория, моя вера победила. Но какая странная, горькая победа! Зачем теперь все это? Кому я расскажу? Им? Но им-то как раз и нельзя ничего рассказывать. Если б я мог, я бы скрыл от них вообще все. Но этого не скроешь.
Я даже не могу представить себе, что сейчас творится в Париже. Радио умолкло сразу. Кругом все мертво. По ночам на востоке над холмами встает тусклое багровое зарево.
Что это? Отсвет пожаров, свечение радиации или просто продолжают пылать пережившие людей знаменитые огни ночного Парижа?
Недавно мы с Робером видели фильм… Странный, очень грустный фильм. Я долго не мог отделаться от глубокой печали, которую навеяли кадры этого фильма… Впрочем, там были не кадры в обычном смысле слова, а чередование статических фотоснимков - будто подлинные документы. Третья мировая война там изображалась так. На Париж (он снят с птичьего полета) ложится тепь. Потом тень исчезает - и половина Парижа лежит в развалинах. Трижды падает эта трагическая тень на Париж. Под конец - города нет. Торчат обломки Триумфальной арки, оплавленные, изуродованные конструкции Эйфелевой башни; тени домов, тени улиц. “Немногие уцелевшие укрылись в подвалах дворца Шайо”, - говорит печальный голос диктора.
Что ж, может, так оно и есть на деле и где-то укрываются уцелевшие. А может, это пустая надежда… Мы с Робером за последнее время почему-то смотрели много фильмов о грядущей войне. Были очень страшные. Но на меня сильно подействовал этот, американский, не помню, как он назывался. Где от всей Америки уцелел экипаж одной подводной лодки, а от всего человечества - население Австралии. И то на время, все они обречены, незримая волна радиации неотвратимо движется на них. Да… интересно, жив сейчас режиссер, что делал этот фильм? Вряд ли… на таких фильмах капитала не сколотишь, так что атомного убежища у него нет…
Там, в этом фильме, американские моряки долго не могут поверить, что все, вот так сразу, кончено, что нет их семей, нет Америки. Они слышат таинственные беспорядочные радиосигналы откуда-то из Сан-Диего и все надеются: может, кто-то все же остался в живых и вот подает сигналы. Потом оказывается, что по ключу рации стучала бутылочка из-под кока-колы: она зацепилась за кольцо шторы, колеблемой ветром.
У меня тоже была своя бутылочка… Впрочем, кто знает, что это было, - может, и вправду живая душа. Вон в том доме на склоне холма по вечерам загорался свет. В одном только окне. Раньше - всего неделю назад! - там жила большая семья. Я часто видел детей, носившихся по берегу Сены вперегонки с великолепным серым догом; видел юношу, ездившего на мотоцикле; иногда вывозили на кресле старика. Воспоминание об этом старике меня ужасает: а что, если он остался в живых и зажигал свет в своей комнате, чтобы дать о себе знать? Уже два вечера света нет…
Нас семеро тут, в вилле у подножия холма. И это все, что осталось от человечества? Возможно… Вот она, третья мировая война! Год от рождества Христова 196…, июль, солнечный французский июль… До самой последней минуты все верили, что как-то обойдется. Ведь и раньше бывали такие ситуации, что казалось, еще секунда - и все полетит к чертям. Вот и иолетело в конце концов. Интересно, кто первым нажал ту знаменитую кнопку? Хотя какая разница теперь…
Снова и снова я думаю: а если еще кто-нибудь уцелел?
Не таким странным образом, как мы, а более естественно?
Ну, в противоатомных убежищах, например, или на подводимх лодках, как в том фильме… Или в горах, где-нибудь в Тибете. Хотя кто знает, где и как это началось… Ну, все равно - не может быть, чтобы всюду так уж одновременно… Где-нибудь подальше от главных очагов пожара, возможно, успели принять меры. Тогда… Впрочем, что тогда? Медленное угасание? Нет, если спаслось много людей и среди них ученые, кто знает, может, у человечества и есть надежда на спасение, на медленный, трудный путь - куда? Неужели опять в прошлое, по замкнутому кругу? Неужели?…
Странно, что я многого не могу вспомнить уже сейчас, через неделю. Помню мирное, очень ясное и теплое утро.
Я собирался ехать в Париж, к Роберу Мерсеро, мы с ним договорились… О чем? Ах, да, его опыты с электродами.
Он обещал продемонстрировать мне, как это делается. Да, Робер… Я его почему-то теперь боюсь. Впрочем, сейчас я всего боюсь, и самого себя в особенности… Итак, я собирался поехать в Париж… Я помню даже, что вывел машину из гаража… Вот сейчас мне почему-то кажется, что я был в Париже, в кабинете Робера… Нет, это, конечно, чушь, я не мог там быть. Да, это он ко мне приехал, а не я к нему. Он был уже на полпути к нашей вилле, его машина подпрыгнула на шоссе от страшного подземного толчка, он обернулся, увидел вдалеке над холмами сияние яркой вспышки и погнал машину изо всех сил… А мы… да, мы тоже все увидели и поняли. Мы ждали неминуемой гибели, но все же наглухо закрыли окна и двери и сели внизу, в большом сумрачном холле. А потом появился Робер. И вместе с ним - отец и Валери.
Вот это самое странное! Почему они именно в эту минуту решили отправиться ко мне? Отца я не видел три года, а Валери… если не считать случайных встреч на улицах и в театрах, мы с ней не виделись уже девятнадцать лет. Почему она… Ну, я понимаю, Шарль умер, а она ведь тоже всегда боялась одиночества… поэтому так все и вышло тогда, во время войны…
Нет, все это не поддается логическому объяснению. Робер смеется надо мной, он говорит, что моя теория вообще построена не на логике, а на вере. Пусть так, но я не во все могу поверить. Почему именно в этот день отец решил навестить меня? Он говорит - старость, одиночество. Да, конечно. Одиночество! Они словно сговорились с Валери! Впрочем, оба они хорошо знают, как я всегда боялся одиночества, и понимают, что это объяснение я приму охотней, чем всякое другое. Но ведь Женевьева умерла три года назад - почему же он только сейчас решил приехать? Тогда, на похоронах Женевьевы, я уговаривал его переехать к нам - он наотрез отказался.
Ну, допустим, он все же передумал. Как-никак ему 73 года, хоть он и выглядит намного моложе. Но Валери! Пускай тысячу раз одиночество - но искать спасения от одиночества в доме своего бывшего мужа, в его семье? И я должен в это верить? Впрочем, Робер прав: она действовала не рассуждая. Как только первый приступ горя миновал, она почувствовала себя бесконечно одинокой и кинулась ко мне, потому что больше было некуда. И потом Констанс - она ведь такая спокойная, мягкая, рассудительная, Валери это знает…
Вообще - прошло девятнадцать лет, все изменилось и вне и внутри нас… А все же… если это моя любовь удерживает их всех в жизни, то, может быть, моя любовь и собрала их всех здесь в минуту опасности? Это, правда, уж совсем похоже на мистику, но они появились именно в этот момент, все трое… И Робер… А ведь я должен был ехать к нему в Париж… Странно, теперь я уже не могу понять, как мы с ним уговорились, все путается… да, да, лучше не думать об этом, ведь это в конце концов несущественно.
Итак, на исходе первая неделя третьей мировой войны.
Мы - возможно, последние остатки человечества - сидим в наглухо замкнутой вилле среди отравленной пустыни. Чего мы ждем, на что надеемся? Конечно, на то, что погибла не вся Земля, что где-то есть люди. Будем держаться до последнего… До последнего - чего? Что нас держит?
Не могу понять, откуда у меня эта глубокая, подсознательная уверенность, что надо выдержать, что все держится на мне, все зависит от меня. Я не могу объяснить, что это.
Просто свойство человека - надеяться вопреки всему? И Робер… Он верит тоже. Почему? Иногда мне кажется: он знает что-то неизвестное мне. Но что? Что можно знать теперь о мире? А вдруг он поймал сигналы? Но как же он может молчать об этом?
Ну вот, контакт налажен… отчетливость поразительная, я бы не поверил заранее… хотя что удивительного после такой подготовки… По сколько сможем выдержать мы оба?…
Теперь попробуем включить ток… Это даст передышку… если только… Ну, тут уж приходится действовать наудачу… Будем искать…
Боже, почему я вдруг вспомнил эту встречу с отцом? Я ее даже и не помнил в общем. А теперь вижу все так ясно, будто мне снова шесть лет и мы сидим с отцом на скамейке в парке Монсо. Вот странно, я впервые вижу, что отец сидит, неловко вытянув правую ногу, и опирается на тросточку, - а ведь верно, он после войны не сразу вернулся домой, долго лежал в лазарете. С ногой было неладно и с легкими, кровохарканье не унималось. Я все это знал со слов матери.
А сейчас вижу…
Яркое весеннее солнце, удивительно яркое, даже глаза слепит, но от него весело. Деревья и кусты в легкой желтоватой дымке. Над нашей скамейкой - старый каштан; я оборачиваюсь и вижу, что почки уже лопнули, от них остались клейкие коричневые чешуйки, а листья, очень яркие, глянцевитые, еще не развернулись и похожи на маленькие сморщенные лапки. Я все время верчусь и болтаю ногами. Башмаки у меня стоптанные, на правом - аккуратная маленькая заплатка, закрашенная чернилами. Это мама красила вчера вечером. Отец тоже смотрит на мои башмаки и не то вздыхает, не то кашляет. Лицо у него землистое, усталое. Странно, я даже не помнил, чтоб он носил усы. Ах да, на свадебной фотографии, но там - маленькие, аккуратные, а эти - большие, некрасивые и вниз свисают. Но я сейчас же перевожу взгляд на аллею. Там движется что-то непонятное: половина человека. Это страшно. Я, наверное, не хотел этого помнить, а сейчас я чувствую, как мне было жутко тогда.
Бледное, измученное лицо запрокинуто, глаза жмурятся от ярких лучей, рот растянут в гримасе усталости, и кажется, что он беззвучно хохочет.
– Папа, почему он смеется? - с трудом выговариваю я.
– Он не смеется, что ты… - отец тяжело встает со скамьи, опираясь на палку, и подходит к калеке. - Закуривай,- говорит он и протягивает пачку сигарет. - Где это тебя?
– На Сомме, летом шестнадцатого года. Высота 80, нe слыхал? - хрипло отвечает тот. - Снаряд. Я один в живых остался из всего взвода, а уж лучше бы…
Мне страшно, что отец с ним разговаривает. Я осторожно сзади подбираюсь к отцу и тяну его за рукав. “Идем!” - шепчу я.
– Твой? - равнодушно спрашивает человек. - А меня, конечно, жена вытурила: на что я ей такой! С другим снюхалась, пока я по лазаретам валялся. Тебя, ясное дело, не выгонят: ноги при тебе, а что хромаешь чуть… - он затягивается глубже и болезненно морщится. - Везет людям! Мне вот никогда не везло!
– Мы с женой тоже разошлись, - тихо говорит отец.
Я этого разговора не помнил, могу поклясться. Надо будет спросить отца. И того, что мне говорил отец немного позже, в маленьком полутемном кафе на площади Терн, где он угощал меня кофе с ванильной булочкой, я тоже не помнил. Наверное, я был занят лакомой едой - я и сейчас чувствую, какой вкусной мне казалась эта разнесчастная булочка, да оно и не удивительно, жили мы тогда почти впроголодь.
Отец сидит, слегка откинувшись на спинку стула и вытянув ноги. Он говорит тихо, почти бормочет - не мудрено, что я его не слушал тогда.
– Клод, мой мальчик, война - это такая штука… Тебе этого не объяснишь. Но она человека всего переворачивает. Она тебя убивает. А если ты все-таки остался в живых, приходится вроде как заново на свет рождаться. И все по-другому. А твоя мама, она этого не понимает. В тылу никто этого не понимает. Но твоя мама, она хорошая женщина, ничего не скажешь, ты ее слушайся, ладно?
Я киваю головой, продолжая уплетать булку. Отец вздыхает и морщится.
– С деньгами вот плохо, - говорит он доверительно, как взрослому. - Работать я пока не могу, сам видишь…
Да, понятно, почему его не принимали ни в один магазин, хоть он был хорошим продавцом. Он хромой, лицо у него истощенное, серое. Мать мне говорила, что он хватался за любую работу, но отовсюду его выгоняли, как только появлялся здоровый и сильный конкурент. Мать была уверена, что, если б не это его увечье, все сложилось бы иначе и мы жили бы но-прежнему вместе.
– Они все вернулись из окопов какие-то чудные, - говорила она, - но у других это прошло понемногу, а ему, видишь, с работой не повезло, вот он и озлился. А тут еще эта гадина появилась, купила его задешево… подумаешь, счастье какое - бистро в Бельвилле! Грязная дыра на вонючей улице…
Эти разговоры я хорошо помню, они часто повторялись.
– Мы с тобой будем часто видеться, да, сынок? - бормочет отец и, протянув руку через стол, треплет меня по голове - рука у него большая и горячая. - И ты на меня никогда не сердись, ладно? Я водь не виноват, что война была. И никто не виноват. Только - или бы уж всем воевать, чтобы все друг друга понимали, или никому. Никому-то, оно, конечно, лучше…
Он долго молчит. Я смотрю на его длинные смуглые пальцы, отбивающие военный марш на грязном столике, потом перевожу взгляд на темный, в полоску пиджак, на галстук бабочкой. Хозяин кафе оглушительно зевает, я с интересом присматриваюсь к нему: какой он толстый, и вот уж усы так усы! В кафе душно, пахнет ванилью и жженым кофе, с улицы ложится широкий сноп света, надвое разрезая узкий темный зал. Ослепительно сверкают в луче бутылки на стойке. На одной из них - яркая этикетка, изображен негр.
– …А нам с ней все равно не жить вместе, - бубнит отец. - Ты уж не сердись, малыш. Это все война. А Сесиль не понимает… Только это чистая правда, и ничего уж тут не поделаешь… Если б не эта проклятая война… Может, это и потому, что мы с ней четыре года не виделись…
Вот как это было, значит. Кто знал, что через четверть века я буду опять слышать эти слова: “Война… ничего уже не поделаешь… почти шесть лет, Клод! Если б не эта война… Я думала, что ты не вернешься. Мне ведь сказали, что ты убит… Я ждала… а потом…” Она ждала год. “Всего год”, - думаю я. “Целый год одиночества!” - говорит она.
Да, уж этот-то разговор я помню и никогда не забывал.
Помню голос Валери, ее лицо - я все время глядел ей в лицо, стараясь понять, что произошло. Очень хорошо помню, как надсадно жужжала большая муха, колотясь о стекло.
Помню запах табака в комнате, в нашей комнате. “Ты куришь?” - удивился я. “Нет, нет!” - поспешно ответила Валери. И запнулась. Я увидел белую мужскую сорочку на спинке стула и опять ничего не понял. Я даже обрадовался: мне показалось, что Валери ждала меня и начала готовить одежду. Я шагнул к стулу, взял сорочку, она почему-то была очень большая. И тогда Валери сказала за моей спиной совсем чужим, сдавленным голосом: “Я… прости меня, Клод… я замужем…” Я круто повернулся, словно меня поленом хватили, и уставился на нее.
Можно тысячу раз все себе представить заранее, и не поверить, и надеяться на лучшее. Мы в лагере узнавали многое - большей частью случайно. У одного всю семью отправили в лагерь, у другого умерла мать, третьего жена бросила. Все это дела обычные, в лагере то и дело слышишь такие истории. Но все равно думаешь -нет, со мной этого не будет! Не то что думаешь, а веришь, и все тут. Иначе не выжить. И потом - разные бывают браки. Но мы-то с Валери были созданы друг для друга. Поэтому Валери и оказалась тут, в круге света, через столько лет. Мы просто не переставали любить друг друга, никогда. Мы могли годами не видеть друг друга, но, если с Валери случалось несчастье, я об этом узнавал. Когда она упала и сломала руку, я увидел это, увидел крутую уличку на Монмартре, увидел, как Валери падает, и ощутил толчок падения и на миг - резкую боль в левой руке. И так было всегда.
А Констанс… Впрочем, что ж! Значит, мне так суждено - любить всю жизнь двух этих женщин, любить по-разному, но одинаково сильно. И теперь обеих одинаково удерживать в жизни своей волей и любовью… И если я не удержу… Нет, я не вынесу этой ответственности, я всего лишь человек, я не могу, чтобы жизнь других людей зависела от того, достаточно ли сильно я люблю… от того, достаточно ли я уверен в своей любви… Этого никто не сможет выдержать, даже самый сильный!…
Что со мной делается? Я немедленно ухожу от размышлений и опасных сомнений, переключаюсь на что-то другое, на воспоминания. Наверное, психика автоматически экранирует очаги слишком сильных переживаний, предохраняясь от перегрузки…
А, браво! Это ведь он сам придумал! Хорошая мысль, надо ее подкрепить. Но почему он опять волнуется? Что аи видит? Фронт… Нет, это ни к чему…
Не понимаю, что со мной творится… Только что я вспомнил войну… Да нет, даже не вспомнил, не то слово: просто мне показалось, будто я снова сижу на бревне у блиндажа и слушаю, как Селестен Нуаре поет какую-то развеселую песенку. Это линия Мажино в Арденнах, неподалеку от Живе. Ноябрь тридцать девятого года, “странная война”, мы, собственно, и не воюем, а стоим на бельгийской границе, мерзнем, мокнем и проклинаем все на свете. Я слушаю песню и ощущаю привычную глухую боль в сердце - это тревога за Валери, тоска по Валери. Вечер после дождя - багровый закат с темно-фиолетовыми рваными тучами, и лужи красные, словно в них кровь, а не вода, и вся холмистая равнина вокруг блестит мрачным, резким блеском. Я смотрю на широкое смуглое лицо Селестена, на его блаженно прижмуренные глаза. Он сидит рядом со мной, я вижу каждую складку на его шинели…
И вдруг все исчезло: и песня, и мрачный резкий свет, и сырой ветер… Надо мной сияет летнее солнце, такое ясное, мирное, безмятежное, а войны и в помине нет. Я выхожу из реки на берег, поросший травой, чувствую под босыми ступнями эту примятую шелковистую траву и прохладную, чуть влажную упругую землю, дышу свежестью воды и зелени. Капельки воды высыхают на теле, я чувствую, как приятно они щекочут кожу. Молодость, счастье, ощущение полета! Кажется, касаешься земли только потому, что тебе хочется чувствовать ее прикосновение.
Валери сидит на траве и смеется. Смуглая, кареглазая семнадцатилетняя девчонка. Все исходит от неё: и солнце, и трава, и река, и счастье. Как она красива! А может, и не очень красива, это ведь неважно. Просто - в ней для меня все. Как я жил раньше, не понимаю. Мне уже 22 года. Я мог встретить ее раньше, хотя бы на год! Ну, ничего, у нас все впереди.
Валери - в легком платьице, белом, в синих цветах. На загорелых ногах - белые туфельки с пряжками. Темные пушистые кудри коротко подстрижены в кружок - странные прически тогда носили… Впрочем, Валери все к лицу. Даже серьги. Маленькие золотые, с бирюзой, сережки. Я и забыл, что она носила серьги - тогда.
Сверкающая река и смеющееся девическое лицо исчезают…
Почему я сижу здесь один? Надо пойти посмотреть, что с другими.
Так, Констанс на кухне. Ее светлые волосы светятся в солнечном луче, как корона. В ней и вправду есть что-то царственное: осанка, походка, это лицо, спокойное, ласковое и строгое, редко меняющее выражение… Я прожил с Констанс девятнадцать лет, но до сих пор она мне кажется иногда загадочной. Валери, со всеми ее бесконечными переменами настроения, с ее лицом, на котором отражалось все, даже тень облачка, проплывшего в небе, казалось, оставляла след на этом смуглом подвижном лице, - Валери я знал и понимал всегда.
Пока мы не расстались на шесть лет… А Констанс…
Констанс поворачивается ко мне, лицо ее спокойно и светло.
– Ты ошибаешься, - говорит она низким звучным голосом. - Ты не видел в Валери очень важного: ее слабости, ее постоянной потребности в защите. А во мне ты видишь и понимаешь все самое важное. Но тебе все еще хочется видеть во мне черты Валери, и ты не можешь поверить, что мы с ней совсем разные. Не можешь поверить потому, что любишь нас обеих…
Неужели она это сказала? Нет, мне почудилось, должно быть. Констанс опять стоит вполоборота ко мне и помешивает ложкой в кастрюле. Да, теперь, когда нет нашей Софи…
– Ты не должен об этом думать, - быстрее обычного произносит Констанс. - Это от тебя не зависело, ты же сам понимаешь.
Я смотрю на нее, похолодев. Такой совершенной связи у нас никогда еще не было. Что ж, она прямо читает мои мысли? Нет, невозможно. Наверно, она увидела рядом свой образ и образ Валери, уловила мои сомнения. Потом увидела Софи, поняла, что меня терзают угрызения совести.
Да, Софи, - такой, какой я ее видел в последний раз…
Она проработала у нас восемнадцать лет, заменила нам мать.
Я был уверен, что она в Светлом Круге… И вдруг я понял - нет! Что она поняла, что почувствовала - не знаю. Она стояла у двери и смотрела на меня своими узкими карими глазами в темных набрякших веках, ее лицо выражало лишь бесконечную усталость. Она медленно развязала передник, положила его на стул у двери, медленно покачала головой. Я молча глядел на ее высокую худую фигуру в синем платье - она так четко вырисовывалась на белом фоне двери. Потом дверь открылась, снова закрылась… Софи уже не было, и я знал, что это значит: ее нет вообще, и я тут виной, моя эгоистическая любовь. Софи была очень нужна мне и всем нам, но, значит, я не любил ее по-настоящему… Еле переступая, я побрел по дому; мне казалось, что уже никого нет: почем я знаю, кого люблю по-настоящему! И сейчас не знаю. Вспоминать о Софи - все равно что поворачивать нож, торчащий в теле; и я знаю, что тут не только угрызения совести, но и тоска и любовь… Почему же я не смог ее удержать?
– Ты понял, что любишь ее лишь после того, как ее уже не стало, - не поворачиваясь ко мне, тихо говорит Констанс.
Нет, это слишком много, даже для нас с ней! А впрочем - почему бы и нет, в таких условиях? Ведь телепатические способности обостряются в час смерти или смертельной опасности. Правда, обычно в таких случаях речь шла о минутах; сейчас это состояние растянулось на часы и дни…
Да, и вот лагерь, там тоже…
И вообще - о чем я думаю? Разве это обычный случай телепатической связи? Разве это не мы с Констанс, не самые близкие друг другу люди, связанные этой странной, загадочной связью уже долгие годы… почти девятнадцать лет? Разве эта способность не могла как угодно обостриться и трансформироваться в таких чудовищных, невероятных условиях?
И что я знаю о природе той связи, которая сейчас удерживает всех нас в живых? Робер все-таки прав - то, что я делал, всегда относилось больше к интуиции, чем к логике, больше к вере, чем к познанию. Но разве это моя вина? Да, я слишком мало знал, я шел на ощупь, добивался случайных результатов и довольствовался ими. Но разве кто-нибудь знает об этом и вправду больше? Больше того, что я постиг путем опыта? Я ведь не ученый - то есть в этой области я не был экспериментатором, не вел продуманных, планомерных исследований, вроде тех, какими занимался последние лет десять “по долгу службы”, изучая физиологию ретикулярной формации. Или тех, какие вел Робер со своими пациентами.
Да, странно, что именно Робер после войны начал заниматься парапсихологией, гипнозом, а я - я этого боялся как огня. Единственное, на что я согласился - и то из-за Робера, чтоб быть поближе к нему, чтоб работать в одном институте с ним, - это переключиться на нейрофизиологию: я ведь до войны ею даже не интересовался. Но все равно я занялся вещами, не имеющими прямого отношения к тому, что мне довелось пережить и во время войны и потом… К тому, что определило нашу судьбу сейчас. Вся теория Светлого Круга - если эту отчаянную попытку самозащиты можно назвать теорией! - вся она возникла вне того, чем я занимался как ученый. Да и какая это действительно теория? Просто я всегда боялся одиночества. Два раза было так после войны, что я оставался одиноким среди людей. В третий раз я бы этого не вынес - так мне казалось. А если б я знал, что мне придется выносить взамен одиночества? Если б я мог предвидеть эту утонченную пытку, от которой не может избавить даже самоубийство? Боже, как я был слеп и наивен!
Нет, нет, я ни за что не стал бы заниматься опытами в этом направлении! Мои способности всегда внушали мне ужас - но в лагере они были хоть полезны людям; а после войны на что они могли пригодиться? Я даже не огорчился, когда чуть не на год вообще утратил этот зловещий дар. Правда, с Констанс эта связь мне была необходима… Впрочем, так ли уж необходима, кто знает? Просто мне казалось так… А если подумать… Но к чему теперь об этом думать, когда все уже случилось так, а не иначе и ничего не исправишь, ничего ее вернешь…
Мои способности за этот долгий, чуть ли не двадцатилетний перерыв между войнами ничуть не развились, скорее несколько атрофировались от бездействия, а может, дремали, ожидая этого нового потрясения, чтоб опять проявиться, совсем по-новому, неожиданно, непонятно… Если вдуматься, так оно и было: нужна страшная, неестественная обстановка, нужно предельное напряжение всего организма, чтобы эти странные способности проявились во всю силу. Вероятно, в лагере этому способствовало и крайнее физическое истощение… Ведь недаром йоги и факиры умерщвляют плоть, как и наши христианские святые и пророки… Разве Можно себе представить румяного, упитанного пророка?
А после войны это было ни к чему… Наверное, даже с Констанс можно было обойтись без этого, если б я так панически не боялся одиночества, если б не стремился проникнуть в душу Констанс, связать ее со своей душой той странной связью, которая тогда представлялась мне единственно надежной и прочной в ненадежном и изменчивом мире. Любовь, семья, дети - о, я на личном опыте убедился, как все это зыбко и непрочно! Уходит любовь, распадаются семьи, и дети никого не удерживают. Связь с душой Констанс, власть над ее душой казалась мне тогда последней надеждой, единственной защитой от одиночества, перед которым я испытывал панический, заново обострившийся ужас. Никого, кроме Констанс, у меня тогда не было - или так мне казалось. Робер женился, и мне это показалось чуть ли не изменой - ну, глупо, конечно, да что поделаешь, э,то все из страха перед одиночеством, из-за того, что я уже не мог просиживать целые вечера с Робером, не мог вообще жить с ним в одной квартире, - а я боялся уходить от него, боялся до смерти, как пытки, как работы в каменоломне. И Робер это понимал. “Но, видишь ли, я просто не могу не жениться на ней, раз она все эти годы ждала меня”, - смущенно сказал он. И ото была нравда. А впрочем, если бы даже речь шла не о Франсуазе, а о другой: что ж ему, оставаться холостяком во имя лагерной дружбы? Все это было неизбежно. И наша с ним связь была в этих условиях тоже слишком тесной; она выглядела теперь бессмысленной и даже неделикатной. Робер об этом и не заикнулся, но я сам понимал все и приложил немало усилий, чтобы потом, когда мои телепатические способности снова пробудились, обрывать все спонтанные контакты с Робером; я запрещал себе видеть его.
Светлый Круг - собственно, это очень давний термин, но тогда он не имел такого глубокого и страшного смысла, как сейчас. Я, кажется, впервые применил его, когда в начале нашей совместной жизни рассказывал Констанс о своем прошлом - и о своем страхе перед войной и одиночеством. Я тогда сказал, помнится, что война всегда приносила мне в конечном счете одиночество. “Оба раза было так, - сказал я. - Война разрушала светлый круг любви и счастья, который защищал меня от ударов. И для себя я боюсь войны прежде всего поэтому”. Констанс тогда нашла, что “Светлый Круг” - это звучит очень хорошо, и как-то у нас с ней это определение удержалось в обиходе. А я даже не знаю толком, откуда оно взялось. Возможно, из стихов Вердена, где говорится о световом круге под лампой - символе семейного счастья и уюта.
И кто мог тогда знать, какой жуткой реальностью обернется этот мирный символ!
Нет, недаром я после войны чурался телепатии, не хотел работать в этой области! Я, правда, следил за тем, что публиковалось во Франции по этому вопросу, читал “Revue Metapsychiqtie”, работы Херумьяна, Варколлье, Дюфура, коечто из американских и русских исследований, - но в клинику Робера боялся даже заглядывать. Один раз он меня все-таки затащил к себе, попросил загипнотизировать и вылечить больную, страдающую истерическим параличом, - он никак не мог наладить с ней контакта. Я согласился очень неохотно; к тому же я вовсе не был уверен, что мне удастся проделать такой опыт в обычных, не лагерных условиях. Однако опыт удался превосходно, и я сразу понял, почему она так упорно не поддавалась воздействию Робера: эта некрасивая старая дева была в него влюблена. Я увидел, как она представляет себе его поцелуи и объятия, мне стало смешно и противно, я еле смог закончить внушение и больше ни разу не появлялся в клинике… до этого утра, последнего утра перед войной…
Все-таки почему мне кажется, что я был у Робера? Ведь я же не ездил в Париж…
Поищем какой-нибудь участок. Надо бы отдохнуть, так нельзя, все может плохо кончиться…
Что это? Как причудливо перескакивают мои мысли!
И опять - какое яркое воспоминание…
Узкая, крутая уличка Лозена в Бельвилле, серый, пасмурный день, холодно - мне холодно, я в изношенной куртке, слишком короткой, синие руки нелепо торчат из рукавов.
Я стучу зубами, но не от холода, я его почти не замечаю, а от волнения, от горя и недетской тоски. Я стою на пороге бистро “Под золотым орлом”, а вокруг, напирая на меня, толпятся какие-то люди, я их совсем не знаю, да и почти не вижу, мне не до них. Я вижу одного отца, и то сквозь туман слез, его лицо расплывается и дробится, я отчаянно кричу, обращаясь к этому далекому, смутно видимому лицу: “Папа, ну я тебя прошу, идем домой! Я тебя очень прошу! Я без тебя не могу вернуться!” Кто-то сочувственно и насмешливо басит: “Вот разоряется малец, даже сопли пустил!” Я машинально вытираю нос рукавом куртки и снова кричу: “Папа, ну, папа!” Мое плечо упирается в чей-то мягкий дряблый живот; вдруг этот живот начинает бурно колыхаться, и над моей головой раздается визгливый крик: “Негодяй, иди домой, что ты ребенка мучаешь!” Я запрокидываю голову и вижу отвисший прыгающий подбородок, широко разинутый щербатый рот, обмазанный по краям ярко-красной помадой, соломенно-желтые пряди волос, торчащие из-под залихватской сиреневой шляпки, и мне становится страшно и противно. “Папа, - говорю я совсем тихо, и он, конечно, не слышит меня в этом шуме и гаме, - папа… я… тогда я лучше умру…” И мне вправду хочется умереть - так все тяжело, невыносимо тяжело, и я даже не успел сказать, что мама заболела, очень заболела, и я с ней один, и не знаю, что делать, и теперь этого уже не скажешь, все шумят и кричат, а ведь я совсем не хотел устраивать скандала, я только хотел, чтобы отец пошел со мной и помог маме, но когда я увидел его лицо, то потерял голову от страха и горя и начал кричать. Еще с порога я увидел отца рядом с Женевьевой за стойкой и вдруг понял: он совсем чужой. Он не сердился ничуть, он приветливо улыбнулся мне, но я понял, что ему совсем не до меня, а так никогда еще не было, и до этой минуты я никак не мог понять, что отец бросил нас с мамой, что он совсем ушел от нас, а теперь я все понял и ничего не мог с собой поделать, так мне стало больно…
Эту сцену я не любил вспоминать, но всегда помнил - конечно, в общих чертах, довольно смутно, мне ведь тогда и семи не было. Я, например, почти сразу потерял из виду Женевьеву и вообще толком не разглядел ее: высокая, худая, волосы рыжие, а лицо… Мне было не до ее лица, я на отца глядел: какой он ласковый, молодой, веселый - и совсем чужой мне. А теперь я вижу, что Женевьева все время так и стояла за стойкой, не шевелясь, и лицо у нее было хорошее и грустное, и она смотрела то на отца, то на меня… Как странно перемешиваются у меня чувства: тогдашняя детская обида, боль, гнев - и теперешняя спокойная печаль…
Когда я сказал, что умру, и убежал, отец догнал меня внизу улицы Лозена, сунул мне в карман денег, дал шоколадку.
Я так плакал, что ничего не соображал. Я и не заметил, как он дал мне деньги, только дома их нашел, и шоколадку тоже, И что мама заболела, так и не смог сказать, слезы не давали.
Насколько помню, я очень редко плакал в детстве, но в этот день и еще три года спустя, когда умерла мать, слезы у меня сами лились, и я не мог их удержать.
Я не слышал, что говорил отец. Мама спрашивала, я сказал: “Ничего не говорил!” А сейчас я вижу, что он проводил меня до площади, которая теперь названа именем полковника Фабьена, купил билет в метро - оттуда шла линия к площади Терн, мы с мамой жили на улице Понселе. И он все время говорил, очень тихо и печально: - Малыш, не надо так плакать, право, не надо. Вот вырастешь - поймешь, почему так получилось. А мне сейчас домой идти, ну, просто ни к чему, уж ты поверь. Мы с твоей матерью обо всем уже поговорили, что ж заново-то волынку начинать. Она не понимает, я ж тебе говорю, ей хоть неделю подряд толкуй - не понимает, и все тут. И про Женевьеву тоже неправильно совсем говорит - будто я на ее кабачок польстился. Ты этому не верь, сынок, слышишь? Женевьева - баба душевная и горя хлебнула вдоволь. Мужа у нее на фронте убили в пятнадцатом году. Женевьева, знаешь, две недели не отходила от него, когда он умирал в лазарете, - это ведь подумать только, чего ей стоило пробиться туда, почти к самой передовой… А потом, когда он умер, Женевьева там осталась до самого конца войны, сиделкой работала… Она все понимает, вот в чем дело… Я уж лучше с ней буду, сынок. А тебя я никогда не оставлю, мы помогать тебе будем… Женевьева, она ведь добрая, очень добрая, право…
Что он видит? Почему так волнуется?… Нет, я что-то ничего не могу уловить… Попробуем сделать перерыв…
Я спал? Который час? Впрочем, это неважно. Который час, который день… будто не все равно… Где отец? Мне кажется, что я его давно не видел…
Они все в гостиной - и отец, и Натали, и Марк. Я молча стою на пороге. Они меня не замечают. Отец читает журнал, то и дело поправляя сползающие очки. Марк, полулежа в кресле, уткнулся в какую-то толстую книгу, Натали облокотилась на подоконник и смотрит в окно… Как ей не страшно смотреть вот так, прямо в это пыльное стекло? Или она не понимает, что пыль на стекле - радиоактивная, что там, за стеклом, смерть, невидимая и неумолимая? Что только моя воля, моя любовь мешает ей проникнуть внутрь дома и убить всех нас?
Я смотрю на Натали, и сердце у меня сжимается. Какая она худая, хрупкая, бледная, какое у нее бесконечно усталое лицо… и эти короткие густые волосы, только начавшие отрастать после того… после апреля… Если б все шло нормально, Натали выздоровела бы, а теперь… Она и всегда была тоненькой, как хлыстик, но сколько в ней было жизни, веселья, энергии, пока не появился этот проклятый Жиль!… Думает она сейчас о нем или забыла?
Марк - тот куда крепче и спокойней. Он пошел в Констанс: светловолосый, сероглазый, высокий - на вид ему все двадцать, а не шестнадцать лег. Он уже сейчас чуть ли не на голову выше меня. Лицо у него хмурое… И вдруг я понимаю, что оно давно такое, что я не видел улыбки на лице моего сына уже много дней, может быть, недель. Почему; я именно сейчас, только сейчас это сообразил? И Констанс…
Она ничего не говорила…
Отец смотрит на меня поверх очков. Я не привык видеть его в очках, он завел их перед самой войной, но я как-то не заставал его за чтением и об очках только слышал. Очки в светлой металлической оправе резко выделяются на его темном худом лице. Теперь я замечаю маленький беловатый шрам над верхней губой… почему я его раньше не видел? Или - видел, но не замечал, не запоминал?
Отец снимает очки, встает и подходит ко мне.
– Это ты тогда, во время войны, был ранен? - спрашиваю я, показывая на верхнюю губу.
Отец инстинктивно подносит руку к шраму.
– Да, осколок на излете. Разворотил губу, я ведь даже усы тогда отрастил побольше, чтоб незаметно было. Ты маленький еще был, не помнишь.
Да, да, конечно, я был маленький, а вот помню, оказывается. Как жаль, что теперь уже не удастся поработать над этой проблемой - памяти активной и памяти пассивной, странных, неизвестно для чего существующих резервов мозга, заброшенных, недоступных кладовых, чердаков, подвалов нашего сознания, где вперемежку с кучами мусора и хлама, вероятно, лежат несметные сокровища, а мы об этом и не подозреваем…
– Ты выглядишь очень усталым, Клод, - озабоченно говорит отец. - Из-за этого?
Он показывает на окна, и мне становится смешно и грустно.
– Да, из-за этого, еще бы!
“Нет, это все же немыслимо, - опять думаю я, - такое буквальное исполнение пророчества… мрачного пророчества Робера тогда, после истории с Натали. “Если ты всех их поставишь в такую зависимость от своей любви, ты взвалишь на плечи непосильный груз и переломишь себе хребет… А что тогда будет с ними? Ты потащишь их за собой в могилу, как древний воин, которого хоронили вместе с женами и слугами? Ты думал об этом?” Конечно, я думал. Но тогда, в обычной мирной жизни, это не выглядело опасным. Разве это плохо, что очень близкие, любящие люди связаны между собой более тесно, более прочно и глубоко, чем все остальные? Разве плохо, что существует Светлый Круг любви и взаимопонимания среди нашего страшного, жестокого, разобщенного мира? Неужели это ошибка, даже преступление - вырваться из дьявольского хоровода замкнутых, непроницаемых, лживых лиц-масок, лиц-личин? Создать для себя хоть маленький светлый мир, где лица и глаза - живое зеркало души, где нет ни лжи, ни лицемерия, ни страха, ни злобы? Ведь должен же быть какой-то отдых, просвет во мгле, надежда на счастье? Разве не этим жив человек?
Так пускай каждый идет своим путем к этой цели! Мой путь для большинства не годится - что ж! Это не причина, чтоб я им не воспользовался.
“Твой путь! - говорил Робер. - Ты идешь по доске, перекинутой через пропасть, а воображаешь, что это половица в уютной комнате. Как только ты поймешь свое заблуждение, ты сорвешься”. Да. Сейчас я действительно балансирую на доске над пропастью. Но тогда?…
Тогда… Что поделать, если я больше всего на свете боялся одиночества? Возможно, это болезнь. Фобия. Бывает ведь агорафобия - страх перед открытым пространством, и для человека, который заболеет этим, невыносимо трудно даже переходить через улицу, а тем более идти по полю. Мало ли какие навязчивые, непреодолимые страхи преследуют иногда людей!
Есть люди, которые боятся воды, темноты, кошек, лифтов - чего угодно. Я знал в лагере одного человека, который больше всего боялся, что его похоронят заживо, - в детстве он наслушался страшных рассказов о летаргии… Да… Жан Ламарден, высокий, долговязый, с бугристым черепом. Я помню, как он повернулся ко мне, проходя по бараку вместе с другими, чьи номера только что были названы по лагерному радио, и прошептал: “Ну, из газовой камеры живым не выйдешь, это уж наверняка!” Я только минуту спустя понял, что означали эти последние слова: его не похоронят живым. Меня даже озноб прохватил - радоваться газовой камере… о боже!
Так вот - я боялся одиночества, и тогда, в 1945 году, это, пожалуй, уже приобрело характер фобии. Наверное, этот страх нарастал постепенно. Уход отца, а потом смерть матери впервые заставили меня ощутить одиночество. Я ненавидел Женевьеву, потому что мать говорила о ней плохо, но мне было так тяжело одному, что я перебрался жить к отцу. Конечно, это дело другое. Когда мать умерла, мне еле исполнилось десять лет. Но и то правда, что за время болезни матери - а она болела долго - я стал очень самостоятельным, научился и наше несложное хозяйство вести и подрабатывать при случае.
Я мог бы, вероятно, и сам прожить, но не решился. И конечно, все это было к лучшему. Отец и Женевьева очень обо мне заботились, и, если б не они, я бы не получил настоящего образования. Разве я мог бы мечтать о медицинском факультете, если б не помощь Женевьевы? Правда, к этому времени и отец начал неплохо зарабатывать, открыл маленькую шляпную мастерскую… Но главное - Женевьева. Мне было стыдно вспоминать, как я плохо думал о ней раньше. Впрочем, она все понимала, отец был прав, и это она тоже поняла.
После второй войны одиночество было страшнее. Правда, и оно скоро кончилось, но я с ужасом вспоминаю те летние месяцы 1945 года, когда я ходил по Парижу один, без Валери, все время думая о ней, зная, что она тут, рядом, в нашей комнате на улице Сольферино, а я даже постучать к ней в дверь не имею права: она там с другим… Странно, меня почти не мучила ревность, я слишком страдал от одиночества. Не было ни Валери, ни Робера, они отошли от меня, у нее был Шарль, у него - Франсуаза, а я остался один, совсем один. И это было невыносимо страшно и тяжело, я не мог один.
Да, в лагере не было одиночества, потому что там был Робер. Если б я не встретился с Робером, все пошло бы иначе в моей жизни, совсем иначе. Вероятней всего, я еще тогда, в первые месяцы плена, сошел бы с ума или покончил самоубийством - так терзала меня разлука с Валери, так тревожило ее непонятное молчание. А если б я и остался в живых, то мои телепатические способности не проявились бы так ярко.
Самое большее - мне иногда удавалось бы видеть Валери: с этого ведь началось, этим бы и кончилось.
У меня эти способности были с детства, только проявлялись очень редко. Я, например, сразу узнал, когда умерла мать в больнице. Это было утром, я стоял у стола и жевал холодную картофелину, оставшуюся от ужина: лень было готовить завтрак. И вдруг меня будто ледяным ветром обдало, и я понял, что мать умерла, - не знаю почему, но понял сразу и не ошибся.
Года через четыре я напугал Женевьеву - готовил уроки и вдруг вскочил и крикнул: “Боже! Отца машина задавила!” Я даже видел вывеску бакалейщика на углу улицы, где это произошло, видел усатого шофера грузовика. Отец тогда долго лежал в больнице…
А с Робером у меня все началось чуть ли не с первого взгляда. Я стоял у дверей барака. Высокий смуглый юноша в форме пехотинца почти пробежал мимо, перепрыгивая через свинцовые, рябые от ветра лужи. И вдруг он резко остановился, повернулся ко мне. С минуту мы молча глядели друг на друга.
– Как тебя зовут? - спросил он наконец. - Я Робер Мерсеро.
– Я Клод Лефевр, - сказал я, не сводя с него глаз.
Мы, конечно, могли и раньше встретиться. Оба коренные парижане, оба медики. И возможно, все было бы примерно так же: ощущение прочной духовной связи, родства душ…
Но в условиях лагеря все это приобрело обостренную и странную форму. Робер уверял меня, что тогда, при первой встрече, он остановился лишь потому, что его поразил мой напряженный взгляд, мои глаза. Кто знает, может, это так и есть. Активной стороной в нашей лагерной дружбе действительно был я. Активной или пассивной - это уж с какой точки зрения смотреть. Просто мне эта дружба была необходима, а Робера она поначалу тяготила, хоть он и любил меня. Потом, в гестапо и в концлагере, он иначе относился к нашей мысленной связи и даже научился извлекать практическую пользу из моих способностей, но вначале… Ну, это понятно: разве легко ощущать, что в любую минуту кто-то, пусть и очень дорогой тебе человек, может узнать, о чем ты думаешь, или увидеть тебя, когда ты не подозреваешь об этом. В лагере это не так неприятно, как в обычной жизни, ведь в лагере ты никогда не бываешь наедине с собой, и мысли как-то проще, конкретней, приземленной, но все же… Робер о телепатии кое-что слыхал раньше, но, как и большинство людей, не придавал этим разговорам никакого значения. Я для него был поразительным открытием. Дикарь на его месте объявил бы меня богом; средневековый человек сказал бы, что я одержим дьяволом; Робер Мерсеро, дитя XX века, посмеивался и поддразнивал меня, уверяя, что мне было бы полезней установить постоянную телепатическую связь с начальником лагеря, чтоб всегда быть в курсе его затей; на деле, однако, Робер хоть и любил меня, но слегка побаивался. Даже не то что побаивался, но…
Да, с ним это было уже настоящей телепатической связью.
Я в любую минуту мог увидеть его, прочесть его мысли. Он - нет. Вначале. Потом и у него стала проявляться эта способность. Особенно в концлагере.
Воспоминания, нескончаемой чередой идущие воспоминания. Они начинают уже мучить меня, слишком они навязчивы - и те, яркие и неожиданные, вдруг всплывшие из неведомых провалов сознания, и те, что неотступно следуют за мной всю жизнь. Память - страшный дар, я это знаю по всей своей прежней жизни. Мне не надо было помнить в лагере о счастье и уж тем более не следовало так много помнить о лагере потом. Другие не все запомнили и редко вспоминали. Я запомнил слишком многое, я вспоминал слишком часто, и это сломало мне жизнь, отравило душу. Будь ты проклята, память, оставь меня в покое хоть сейчас, перед смертью, пожалей! Память о лагере, память о смертях и муках, унижении и позоре, память о страхе, непрестанном страхе, увечащем душу! Разве ты, сама по себе, не новый, изощренный вид пытки? Пытки, сконструированной, как бомба замедленного действия? Чем дальше, тем сильнее терзает меня эта жестокая лагерная память, наследство страшных лет, тем больше отравляет и глушит она другую, светлую, благодарную память о счастье, о юности, о красоте, о любви, о свободе.
Все обесценивается, обесцвечивается под ее разъедающим пристальным взглядом, и я снова, все чаще, чувствую себя узником № 19732, вечным лагерником, у которого один путь к свободе - через трубу крематория.
Отец бормочет что-то успокаивающее и медленными, старческими, совсем уже старческими шагами отходит к своему креслу. И спина у него уже согнулась, и голова слегка трясется - боже, как он сразу постарел после смерти Женевъевы, да и что удивительного, какая это была верная подруга, и прожили они вместе целую жизнь… в самом деле, 42 года!
Как я жалею его, как люблю… “Люблю? - спрашиваю я вдруг себя и вздрагиваю, словно от удара плетки. - А если - нет? А если - недостаточно?” Нет, это тоже дьявольски хитрая пытка! Подлая, отвратительная пытка, бесчеловечная, унизительная! Поставить все в зависимость от моих чувств! Да какое же чувство, какая воля выдержит такой противоестественный груз и не надломится? Почему от меня можно ожидать того, чего не могли бы ждать от самых сильных?
“Кому ты жалуешься? - спрашиваю я себя. - Ведь некому жаловаться. Никто не в силах помочь тебе. Как на допросе. Как в лагере. Как на страшной крутой лестнице из каменоломни. Камень, который ты несешь на согнутой спине, непосильно тяжел, но, если ты упадешь под этой тяжестью, ты погибнешь сам и вдобавок столкнешь в пропасть других - тех, кто идет следом за тобой. Держись, тебе нельзя падать… Еще шаг, и еще шаг, и еще, и так без конца, под неумолимо палящим солнцем или под ледяным ветром…” И все же это не то. Мускулы могут в конечном счете подчиниться воле. А любовь? Разве она зависит от воли, от добрых, от самых прекрасных намерений?
Любовь… В спорах с Робером - а мы часто спорили за последний месяц, когда Робер вернулся из Америки, - я всегда утверждал, что это и есть самая прочная и надежная защита, что разум не может спасти мир, разум сейчас поставил мир перед угрозой гибели и не в силах отвести эту угрозу. Только любовь, дружба, извечные, простые чувства, которые естественно и крепко соединяют людей и дают им силу жить, - только они могут противостоять гибели и хаосу.
– Всеобщая дружба? Всеобщая любовь? - сардонически улыбаясь, спрашивал Робер. - Оно бы, может, и неплохо, но ведь ты не об этом думаешь. Ты просто маскируешь словами свое дезертирство с поля боя. Пускай, мол, человечество устраивается, как знает, а мне - лишь бы семья хорошая была. Поразительно, как ты с твоим талантом и с твоей душой после всего, что пережито нами, мог скатиться в мещанское болото, стать шкурником, эгоистом, самодовольным обывателем!
Робер знал, что неправ, когда говорил мне все это. Он хорошо понимал, что я ненавижу мещан не меньше, чем он сам. А уж что касается самодовольства… Но он опять, как всегда, как в лагере, добивался, чтоб я шел его путем, а не каким-либо иным… А я и сейчас не знаю, правильно ли я поступал, когда вопреки самому себе делал то, чего хотел он.
Может быть, я должен был искать свое… Впрочем, что я тогда знал! Когда мы встретились, мне было 27 лет, а Роберу - 23, но в нашем союзе старшим и более сильным был он. Это Робер организовал побег из эшелона; это он был одним из самых смелых, находчивых, энергичных работников подпольной организации там, в филиале Маутхаузена, куда мы попали после гестапо. Из-за него и я стал смелее, активней, - вероятно, лучше и честней. Но все, что я делал в лагерях, было из-за Робера и для Робера. А теперь он и это считает моим недостатком… Конечно, со своей точки зрения он прав, я его понимаю.
Пожалуй, напрасно он так много об этом думает… И главное, так волнуется… Все, оказывается, гораздо сложней, чем я думал… А впрочем, чего же можно было ждать?
Воспоминания… Опять воспоминания… Как странно-ярко светит солнце - такой праздничный, щедрый, веселый свет!
Где это я? Ну да, все ясно. Мы жили тогда в XIV округе, на шумной улице Алезиа. А маленькая Роз, дочь бакалейщика, жила рядом, на улице Саррет. Нам с ней было по тринадцать лет, и это была моя первая любовь. Я хорошо помнил всегда, что я испытывал, увидев Роз хоть издали. Я помнил ее звонкий, резковатый, но мелодичный голос - голос взрослой девушки; ее выразительные зеленоватые глаза, ее странную улыбку - когда Роз улыбалась, мне казалось, что она сердится. Но я многого о ней не помнил, а может, и не знал.
Сейчас я вижу, как она идет ко мне под ярким солнцем, кокетливо склонив голову набок, и испытываю то детское чувство, смесь восторга и страха, счастья и жгучего стыда, которое запомнилось мне на всю жизнь, и одновременно странное, горькое и грустное чувство переоценки, гибели прежних бесспорных ценностей.
Прежде всего я с изумлением вижу, что Роз некрасива.
Глаза у нее действительно живые и выразительные, но детской прелести в них нет - это глаза маленькой женщины, порочные, жадные, насмешливые. Рот у нее большой и бледный, лицо землистое, шея длинная, худая, голова кажется слишком крупной для ее маленького тщедушного тела. Это дитя парижской улицы, рахитичное, малокровное, чуть ли не от рожденья посвященное во все тайны жизни. Теперь я понимаю, почему Женевьева была недовольна, когда видела меня в обществе Роз.
Роз - в немыслимо коротком зеленом платье, с поясом на бедрах и с короткой складчатой оборкой вместо юбки, почти ничего не прикрывающей. Платье вдобавок так вырезано и спереди, и сзади, и под мышками, что Роз шагает почти голая, но это ее ничуть не смущает - такова мода, даже пожилые дамы до предела укоротили юбки и увеличили вырез декольте.
Вот идет одна, толстая, как мопс, раскрашенная, увешанная побрякушками. Я и Роз провожаем ее взглядом и фыркаем - как смешно, какие толстые ноги, какая жирная, дряблая шея и грудь, и что ей гнаться за модой, ведь старуха, ей уж тридцать, наверно, а может, даже и сорок. Почти все женщины острижены, как мальчишки, затылки “под нуль”, небольшие чубики надо лбом. “Боже, что за нелепая мода!” - думаю я, а мой тринадцатилетний двойник и не смотрит ни на кого, кроме Роз, и она ему кажется самой прекрасной на свете. Он с замирающим сердцем касается ее руки, и меня вдруг пронизывает такое острое чувство - смесь ужаса и наслаждения, - что я вздрагиваю. В то же время я - теперешний - ощущаю, какая сухая, загрубевшая кожа у Роз, как выступают узловатые суставы на ее руках, слышу, что от нее пахнет смесью перца, корицы и дешевых приторных духов… Я морщусь от этого странного букета - и в то же время замираю от восхищения.
Все-таки очень странно… У меня всегда была хорошая память, даже очень хорошая, с самого раннего детства. Я поражал отца и Женевьеву тем, что помнил самые неожиданные и для меня даже не вполне понятные сцены и разговоры, о которых они, взрослые, давно забыли. Иногда бывало, что мотив какой-нибудь старой песенки или повеявший внезапно запах - особенно запах, у него наибольшая власть воскрешать прошлое! - вызывал в памяти целые картины, будто забытые. Но никогда не было таких странных воспоминаний, в которых я действительно помню или, вернее, ясно вижу то, чего никогда не помнил и даже толком не видел, хоть и смотрел.
Вот и это, с маленькой Роз. Ведь я будто из зрительного зала смотрю фильм, героя которого играю я сам. И его ощущения соседствуют с моими. На что это похоже? Ведь это… да, больше всего это напоминает опыты с электродами, вживленными в мозг… или не обязательно вживленными, а только наложенными на череп… Но просто так, ни с того ни с сего… или все же эта проклятая радиация проникает сюда, хоть и в меньшей дозе, и мы по-разному испытываем на себе ее воздействие?
Да и как она может не проникать, ведь это обычная вилла, ничуть не похожая на атомное убежище!
Боже, как это трудно! Его психика целиком настроена на трагический лад. А кроме того, он, как и положено ученому, старается докапываться до сущности явлений… А я устал до того, что… Нет, ничего не поделаешь, надо тянуть дальше…
Откуда, откуда эта странная уверенность, что твоя воля, влияние твоей любви может противостоять всемирной гибели?
Какая нелепость, если вдуматься! Ведь когда я спорил с Робером, речь шла совсем не об этом. Мы часто спорили в последнее время, и больше все об одном. О том… - ну, как бы это поточнее выразить? - о том, что должен делать человек, каждый отдельный человек, видя, что мир стоит на краю гибели. А в том, что мир стоит перед катастрофой, я убеждался с каждйм днем все прочнее. Начиная с Хиросимы. Испытания в Бикини и трагедия японского рыболовного судна, Корея и Алжир, пластики наших “ультра” и расправы с неграми в Америке - все это были звенья одной цепи, симптомы одной и той же смертельно опасной болезни, поразившей человечество: разобщенности, взаимного непонимания и недоверия. Мир гибнет от этой разобщенности, и его не спасти никакими, пусть тысячу раз правильными призывами. Только внутри человека может родиться сопротивление, только любовь и дружба помогут преодолеть недоверие и бессмысленную вражду.
Робер высказывался в том же духе, что и всегда: совместные усилия… если парни всего мира… и так далее. Я от него это еще в лагере слышал. Он называл меня индивидуалистом, эгоцентриком, эгоистом - ну, словом, выдавал весь набор интеллектуальной ругани по адресу таких, как я. А я говорил, что нет ничего более ненадежного, чем все эти мифические общие цели в нашем разобщенном и враждующем мире. Людей труднее всего заставить действовать во имя их собственного блага, это давно было известно. А сейчас - тем более: ведь сейчас понятия о добре и зле так противоречивы и опасно запутаны, как никогда еще не бывало в истории человечества. Я не философ и не политик - не в том смысле, что я не интересуюсь философией и политикой, а в том, что не претендую ни на какую самостоятельность в решении мировых проблем. У меня для этого не хватает и теоретических познаний и практического опыта. Я много читал и много пережил, это верно, но не изучал этих предметов специально… ну, в общем об этом не стоит даже распространяться. Просто - я не гений, я обычный, рядовой житель планеты Земля. И я вижу, что эта моя любимая прекрасная Земля вот-вот превратится в радиоактивную пустыню.
Я, Клод Лефевр, рожденный накануне первой мировой войны и участвовавший во второй, песчинка, былинка, муравей, - что я должен делать, чтоб помешать чудовищной и бессмысленной катастрофе? Я вижу, что политики никак не могут договориться друг с другом, а опасность все растет, и в любую минуту можно ждать катастрофы. Что мне делать? Я не могу спасти мир, я не бог. Но я думаю, что можно спасти хотя бы часть человечества от гибели…
– И ты это можешь сделать один? - спрашивает Робер: я отчетливо слышу его голос.
– Да, на своем участке я один. Пусть каждый обеспечивает свой очаг сопротивления, свой участок. Если все или хотя бы многие сделают так, бой за человечество пусть не будет полностью выигран, но и не приведет к бесповоротному поражению и всеобщей духовной гибели. Мир можно спасти не мифическими “совместными усилиями”, этим бумажным копьем, нацеленным в пустоту, а чувством личной ответственности за свое конкретное дело. Я здесь стою, я отстаиваю этот пункт, этих людей, за которых отвечаю и с которыми связан.
– Нелепость! - восклицает Робер. - Психология рядового, который убежден, что в штабах ничего не смыслят.
– А ты уверен, что там смыслят?
– Не очень уверен. Но одни рядовые никогда не выигрывали войну, даже если каждый из них до конца отстаивал свой участок фронта. Они отступали или погибали. Но не побеждали.
– Я не хочу сдаваться без боя. А вести бой в масштабах фронта не могу. Я отвечаю только за свою огневую точку.
– Да это у тебя не бой! Это уход от боя! Какая там огневая точка - просто ты рекомендуешь всем спрятаться в свои дома и носа не высовывать. И вдвойне лицемеришь: ну, у тебя есть телепатическая связь с близким, но ведь ты же знаешь, что у других такой связи нет. Допустим, ты спасешься, и Констанс, и дети, ну, а другие?
Воспоминание это - или разговор продолжается сейчас?
Ну, конечно, что это со мной? Робер сидит тут, рядом со мной, в библиотеке, и на его лицо падает тот же мутный, зловещий свет сквозь пыльные стекла.
– А я и не заметил, как ты вошел, - неуверенно говорю я и вдруг чувствую странную усталость. - Может, я спал?
– Да, ты спал. И говорил во сне, - подтверждает Робер. - Ты и во сне продолжаешь спор со мной.
– Я все время об этом думаю. Да и что удивительного!
– Как ты считаешь теперь: ты победил в этом споре? - глядя на меня в упор, спрашивает Робер.
У меня такое ощущение, будто громадная тяжесть навалилась мне на грудь и на голову. Я с трудом выговариваю:
– Я не знаю, можно ли назвать это победой. Я не того ждал. Я и сейчас не понимаю, почему мы все живы.
– Ты перестал верить в свой дар?
– Не в этом дело… То, что сейчас происходит с нами, не имеет ничего общего с телепатией…
– Имеет. Другого объяснения ведь нет. Значит, ты сам не понимаешь границ своих возможностей. Ты же не захотел заниматься теорией и знаешь лишь то, что дал тебе личный опыт. А личный опыт всегда ограничен, даже у тебя.
“В самом деле, - опять думаю я, - что мы знаем о телепатии, тем более в таких необычных условиях? Кто мог бы заранее предсказать, как очень прочная и глубокая телепатическая связь, возникшая в нормальных условиях, будет проявляться в условиях совершенно исключительных, небывалых, в абсолютно изменившейся среде, свойства которой, в свою очередь, не изучены (да и будут ли когда-либо изучены?)? Да, необычные, чудовищные, невообразимые условия! Дело даже не в том, как влияет на нас радиация (хотя она не может не влиять, я в этом убежден), а прежде всего в нашем безграничном, безнадежном одиночестве, в том, что мы - крохотный островок жизни, чудом уцелевший среди океана тьмы и смерти… Надолго ли, кто знает?”
– Но рассуждай же спокойней и логичней! - снова вмешивается Робер. - Почему бы не быть другим “островкам”? Хотя бы и на телепатической основе? Разве мало на свете людей, которые занимались телепатическими опытами и в то же время были глубоко связаны любовью или дружбой с другими? Наконец, в Индии - там ведь йоги проделывали поразительные опыты: обходились подолгу не только без пищи и воды, но и без кислорода. Почему бы им не научиться противостоять радиации?
– Йоги… возможно… - неохотно отвечаю я. - Но Индия так далеко…
– А может, рядом с тобой, во Франции, есть люди, которые успели достичь того же, что и ты?
Все так же льется пыльный, мутный свет из высокого окна библиотеки. Я вижу перед собой смуглое, резко очерченное лицо Робера, его блестящие карие глаза. Но мне трудно шевельнуться, я лежу в кресле, словно скованный невидимыми цепями. Я пытаюсь встать и не могу. Что со мной?
– Вспомни еще, - говорит Робер, пристально глядя на меня, - недавно мы с тобой читали об этом загадочном острове Ниуэ, где люди издавна, а может, извечно живут и благоденствуют при убийственно высокой степени радиоактивности. Они высокие, сильные, красивые, у них рождаются здоровые, полноценные дети. Кто знает, может быть, есть люди, от природы способные переносить радиацию. Наверное, их немного, - но, может быть, больше, чем можно предположить a priori? Достаточно для того, чтобы не дать человечеству исчезнуть с лица земли?
– Возможно… - бормочу я. - И что же? Ждать? Терпеть? Надеяться?
– Твоя задача, - Робер не спускает с меня глаз, и мне Кажется тяжелым, материально весомым этот неподвижный пристальный взгляд, - твоя задача состоит именно в том, что ты раньше наметил для себя: отвечать за свой участок. Если ты сможешь уберечь всех нас, отстоять этот опорный пункт, бой будет выигран.
– Но почему? - вяло протестую я. - Откуда у тебя уверенность в том, что есть другие, есть надежда для человечества?
– А ты сам? - не отводя от меня своих тяжелых глаз, спрашивает Робер. - Разве ты сам в это не веришь?
На минуту я совершенно отчетливо ощущаю, почти вижу: Робер знает нечто крайне важное, скрытое от меня. Я вздрагиваю, пораженный этим ясным, безошибочным ощущением, мне хочется спросить: “Что же это?” Но Робер вдруг ласково улыбается, проводит рукой по моему лбу, говорит:
– Ну что ты? Что с тобой? Успокойся! Тебе надо заснуть!
Я все еще ощущаю это его загадочное знание. Я успеваю даже подумать: “А вдруг эта занавеска там, в доме на холме…” Но потом все мысли смывает сладкая, блаженная усталость. Я засыпаю мгновенно. Я слишком устал.
Когда я просыпаюсь, передо мной сидит Валери. Должно быть, я спал недолго - солнце стоит так же высоко, и тот же мутный желтоватый свет заполняет комнату, - но чувствую я себя отдохнувшим и свежим. Я легко встаю с кресла.
– Валери, - говорю я, - как хорошо, что ты пришла! Я уж беспокоился, что так долго тебя не вижу.
Валери поднимает на меня свои продолговатые блестящие глаза. Она очень бледна.
– Клод, - говорит она и слегка откашливается, будто в горле у нее что-то застряло. - Клод, я поняла, что сделала ошибку. Я не должна была…
Мы с Валери всегда понимали друг друга с полуслова. Настоящей телепатической связи у нас не было, но мы знали друг о друге все, как знают очень любящие, очень близкие люди. Мы наперебой высказывали одну и ту же мысль одинаковыми словами, и это нас всегда смешило и трогало. Мы безошибочно угадывали все оттенки настроения друг у друга.
Ни со мной, ни с Валери не случалось несчастий за те четыре года, что мы прожили вместе, - но думаю, что, если б с одним из нас случилось что-либо плохое, другой немедленно почувствовал бы это.
Долгая разлука оборвала эту связь, казавшуюся нерасторжимой. Вначале, в армии, были хоть письма… письма моей Валери, такие отчаянные и нежные, что я потихоньку плакал по ночам - от любви, от тоски, от мучительной тревоги за нее, такую одинокую, такую беззащитную и хрупкую… Я думаю, что способности к телепатии пробудились у меня прежде всего под воздействием этой непрестанной тревоги, тоски, страха за Валери. Когда я попал в плен, наша переписка оборвалась… Я тогда не понимал почему - ведь других разыскивали через Красный Крест, слали письма, посылки… Потом, после войны, я узнал: Валери была убеждена, что я погиб, ведь ей это рассказывал Анри Дювернуа, который видел своими глазами, как снаряд разорвался на том месте, где я стоял. Это было почти правдой - только я за секунду до разрыва успел нырнуть в индивидуальный окопчик, очень аккуратно отрытый; меня, правда, оглушило и присыпало немного землей, но я даже не терял сознания, хоть долго не мог выбраться из окопчика - так меня трясло. Ну, а потом сразу - немцы зашли с тыла, мы начали поспешно отступать на север; еще полторы недели боев - и 23 мая я уже оказался в плену.
И вот тогда, не получая вестей от Валери, терзаясь горем и сомнениями, я начал видеть. Помню, что меня это даже не особенно поразило - должен же я был каким-то образом знать, что с Валери, не мог же совсем оборваться контакт с ней, которая была частью меня самого! Значит, любым путем… Меня огорчало лишь одно - что я вижу Валери редко, мало, не успеваю узнать о ней ничего, не могу спросить ее ни о чем.
Началось с того, что в сентябре 1940 года я сидел у окна барака. Сеялся мелкий серый дождик, быстро смеркалось.
Я неподвижно глядел на маленькую продолговатую лужицу под окном - она слегка рябила от дождя, в ней отражался неяркий свет фонарей над воротами лагеря, - и вдруг все отодвинулось, я увидел Париж и Валери.
Вначале мне это было необходимо - сидеть и глядеть на что-то блестящее, либо лечь и скрестить руки на груди, плотно переплетя пальцы. Потом я научился сосредоточиваться почти мгновенно, одним усилием воли, не прибегая ни к каким дополнительным средствам.
Итак, я увидел Валери, освещенную ясным вечерним светом. Она медленно шла по набережной Анатоля Франса. Мы с ней часто там ходили - дом наш был неподалеку, на улице Сольферино. Я хорошо видел ее лицо, она шла прямо на меня.
Валери похудела, побледнела, в глазах у нее было незнакомое мне отрешенное выражение, будто она стояла на краю пропасти и уже решилась прыгнуть вниз. У меня сердце сжалось, я крикнул: “Валери! Валери!” Видение сейчас же исчезло.
И вдобавок мне влетело от часового-немца за то, что я ору как сумасшедший.
Снова мне удалось увидеть Валери очень нескоро, лишь весной. Она тогда, вероятно, уже была замужем, но я этого не понял из минутного видения. Валери сидела в нашей комнате и тревожно глядела в окно. Меня удивило, что она хорошо причесана, что на ней красивый синий свитер, незнакомый мне. Удивило и огорчило, хотя я тут же обругал себя за эгоизм.
Прошли долгие годы, целая жизнь, а наша душевная связь с Валери не порвалась. Да иначе Валери и не оказалась бы здесь, в Светлом Круге… Я вдруг вспоминаю, как мы - все четверо - увидели Валери. Удивительный это был случай.
Мы вчетвером - я, Констанс и дети - отправились в автомобильное путешествие по югу Франции. Однажды мы заночевали у небольшой рощицы на берегу реки. У нас были надувные матрацы и подушки, так то устроились мы превосходно, и ночь была тихая, такая ясная. Полная луна стояла почти в зените, когда я открыл глаза и в призрачном белом сиянии увидел перед собой Валери. Вид ее поразил меня. Она была в пестром халатике, надетом поверх ночной рубашки, и в домашних туфлях на босу ногу. Лицо ее осунулось, глаза опухли от слез.
– Клод, - сказала она, и голос ее дрожал, - Клод, у меня такое горе, я так одинока! Клод, милый Клод… Шарль умер, только что. Мне позвонили, сказали. Он умер на операционном столе. Клод, я просто не могу одна.
Она смотрела не на меня, а куда-то прямо перед собой.
Руки ее конвульсивно сжимались и разжимались. Это продолжалось минуту-две, потом Валери исчезла.
Я повернулся и увидел, что Констанс не спит. И что она тоже видела.
– Натали и Марк спали поодаль, у машины. Они встали и подошли к нам.
– Кто это был? - спрашивали они с испугом. - И куда она ушла?
Они никогда не видели раньше Валери. Но точно описали ее одежду, лицо - насколько они могли разглядеть издалека.
Мы с Констанс молча переглядывались, не зная, что сказать.
В конце концов Констанс своим обычным спокойным голосом заявила, что мы выясним все утром.
Наутро я позвонил Валери из Тулузы. Все подтвердилось.
Я спросил, не приехать ли мне. Валери помолчала, потом сказала, что не йадо.
– Нет, действительно не надо, - повторила она. - Я сначала подумала… но мне будет еще тяжелей, если ты… Нет, не приезжай, спасибо, Клод.
Это было год назад. Как она прожила этот год? Она не звонила мне, я ее не пытался видеть ни обычным путем, ни телепатическим. И вот она оказалась тут, в Светлом Круге. Это, конечно, не случайно.
Однако я сразу понимаю, что кроется за ее словами: “Я совершила ошибку”, - понимаю и холодею от ужаса, ибо тут же ощущаю, что Валери права. И что мне не удастся ее удержать.
Валери говорит очень спокойно и тихо, а мне кажется, что каждое ее слово мне молотками вколачивают в сердце - так оно болит и сжимается от горя и страха.
– Тебе не стоит тратить на меня силы, Клод. Я ведь чувствую, что ты силой принуждаешь себя любить меня. Я знаю, что это означает для меня, - если ты не сможешь дальше любить. Но ты не должен из-за этого огорчаться. Я устала, Клод, очень устала. И ведь никто ни в чем не виноват, кроме меня самой.
– В чем ты виновата, бога ради, Валери! - восклицаю я. - Ты была так молода, шла война, ты осталась совсем одинокой. Я ведь все понимаю… Теперь-то, во всяком случае, понимаю… Тогда мне было слишком больно…
Валери качает головой. Лицо у нее действительно очень усталое, но молодое. Я плохо рассмотрел ее в первый день, не до того было. А потом она казалась мне по-прежнему молодой и красивой. И сейчас не скажешь, что через месяц ей будет сорок шесть лет. Будет?… Мне опять становится страшно. Ощущение такое, будто ты альпинист и изо всех сил тянешь за веревку, пытаясь удержать повисшего над пропастью товарища, а веревка скользит, скользит… И вдобавок тебе понятно, что это ты сам, от равнодушия, от подлости не можешь держать веревку как следует. Даже не от страха - тебе самому смерть не угрожает, ты не соскользнешь в пропасть…
Впрочем… я ведь не знаю, что будет со мной, если все…
О чем ты думаешь, боже! Если все уйдут, зачем тогда ты?
И разве ты выдержишь такую пытку?
Валери встает и бесконечно знакомым мне движением скрещивает руки на груди, охватив ладонями плечи. Руки у нее все такие же - гладкие, смуглые, узкие, с длинными, слегка заостренными пальцами. И белый тонкий шрам на правом мизинце - след глубокого пореза еще в детстве… Я вижу на ушах у нее еле заметные точки проколов и вспоминаю то утро на реке и серьги с бирюзой.
– Клод, дорогой! - говорит она, глядя мне прямо в лицо.
Я вижу мелкие золотые искорки в ее карих зрачках, голубизну белков, легкую темную тень в наружных уголках век, удлиняющую рисунок глаз… Такие знакомые, так часто видевшиеся мне во сне и наяву глаза моей Валери. И вдруг мне становится легче. То, что хочет сказать Валери, - бессмыслица, явная бессмыслица. Я любил ее всю жизнь и люблю сейчас. Констанс права - я люблю их обеих. Но с Констанс было иначе, совсем иначе. Был мучительный страх одиночества, был расчет - не корыстный, не денежный, а более сложный, психологический расчет человека, который слишком много всего навидался и натерпелся и не может действовать очертя голову, не взвешивая всех обстоятельств. С Валери я не рассчитывал - я был счастлив, молод, силен, и это были самые прекрасные годы жизни.
И если б не война… Да, вот так говорила и мать, незадолго до смерти, в больнице: “Это все война виновата, сынок. Фернан, он ведь был такой хороший, веселый, заботливый. Родился ты, и все было так хорошо. Мы решили, что потом будет еще девочка. И тут началась война… Война все испортила, все поломала… Если б не война…” Да, если б не война… Мы были бы счастливы с Валери, я работал бы по-прежнему в лаборатории профессора Арминьи… Правда, не было бы многого другого. Опытов с телепатией… а может, меня что-нибудь натолкнуло бы на это? Не было бы Натали и Марка… Констанс вышла бы замуж за когонибудь совсем другого… Мне вдруг становится больно от этой мыслиВалери кладет мне руку на плечо.
– В том-то и дело, Клод, - говорит она. - Обеих нас ты не удержишь. И перевес не на моей стороне. Ты и сам понимаешь: я - прошлое, Констанс - настоящее. Со мной ты был всего четыре года…
– И шесть лет войны, плена, лагерей!
– Это не то… Это уже воспоминания… А с ней - девятнадцать лет. Половину сознательной жизни.
Я встряхиваю головой, стараясь отделаться от тягостного ощущения кошмара. Мне кажется, что это не Валери говорит - я сам, внутри себя веду этот опасный и бесчестный спор со своей совестью. Но Валери стоит передо мной, и от исхода этого спора зависит ее жизнь. Веревка скользит, скользит…
– Впрочем, дело не в Констанс, - продолжает Валери. - Я знаю, что она все понимает и мое пребывание здесь мало ее тревожит. Но сам подумай: зачем мне оставаться?
Я смотрю на нее, недоумевая: ведь она сама сказала, что знает.
– Да, я знаю, конечно, - говорит Валери.
Значит, связь стала теперь всеобщей? Но почему же я не могу по произволу видеть других? Вот и сейчас - где отец, я не знаю. И о чем думает Валери, тоже не знаю. Значит, действует только обратная связь? Они для меня закрыты, а я для них насквозь прозрачен? Самое плохое, что может случиться при такой ситуации.
– Клод, я так не могу, - мягко и настойчиво говорит Валери. - Ты знаешь, какая я. За эти годы я не так уж изменилась. Что для меня - такой, как я есть, - осталось ценного в этом мире? Твоя любовь? Боже, Клод, я не упрекаю тебя, пойми, но ведь ты же знаешь, что это любовь-фантом, любовь-воспоминание. Мне этого мало. Было бы мало даже в нормальном мире. А здесь… Клод, дорогой, здесь я задыхаюсь. О любви я сказала, потому что для тебя это очень важно. Но ведь здесь вообще ничего нет, кроме запертых, наглухо дверей и этих зловещих пыльных стекол. Нет дорог, вьющихся по холмам, нет свежего ветра, нет реки - все это там, за стеклами, и нереально, как декорация. А мы сами - мы разве реальны? Мы, запертые здесь, неизвестно как и для чего?
– Валери, умоляю тебя, успокойся! - с трудом произношу я. - Наше спасение в том, чтоб терпеть и надеяться.
– Терпеть - во имя чего? - страстно спрашивает Валери, и лицо ее совсем молодо, как в давние годы. - Надеяться - на что? Клод, не обманывай себя! Мир погиб, а мы случайно уцелели. Если и остались на земле еще живые, до них добраться так же трудно, как до жителей других планет. Да и к чему? Ну, будет наб тогда не семеро, а вдвое, втрое, вчетверо больше - что из того? Кругом смерть. Выйти за пределы узко очерченного, тесного, страшного, бессмысленного мира нельзя. Если даже объединятся две-три разрозненные группы, к чему это приведет? Исчезли все перспективы.
Это говорит Валери? Нет, не может быть, это не ее слова, она другая. Это голос внутри меня. Холодный, вкрадчивый, неотвязный. Ведь это правда. На что я надеюсь?
– Но я люблю тебя, Валери! - с отчаянием говорю я. - Я не могу отпустить тебя… не могу согласиться, чтоб ты ушла… совсем…
Валери улыбается, и мне становится не по себе от этой незнакомой, холодной, какой-то отрешенной улыбки.
– Любишь? - говорит она. - И ты уверен, что это любовь? А не страх одиночества? Не страх гибели? Ведь не только наша жизнь зависит от того, действительно ли ты любишь нас, - твоя тоже. Что ты будешь делать, если мы все уйдем?
Веревка скользит и тянет меня в пропасть. Выпущу я веревку или буду отчаянно сжимать ее до конца, все равно я погибну вместе со всеми. И никого мне не спасти…
– Ты сам понял, видишь, - сочувственно говорит Валери и делает шаг к двери. - Прощай, Клод. Ничего тут не поделаешь. Я больше не выдержу.
Валери медленно отодвигается к двери, будто плывет над полом. Я не в силах шевельнуться, не в силах крикнуть, но мысль работает с небывалым напряжением. “Как это будет? - думаю я. - Если она откроет дверь на веранду, то… Впрочем, неужели обычная дверь способна защитить от радиации, не будь Светлого Круга? Но тогда… тогда логично предположить, что мы можем выйти из дома… свободно ходить… Тогда уход Валери ничего не означает, я ее люблю и буду любить…”
– Нет, ты не прав, - я вижу, что это говорит Валери, ее губы шевелятся, но голос звучит внутри меня, - я ухожу совсем… навсегда… И другим выходить нельзя. Светлый Круг не движется. Тот, кто уходит, выключает себя из защиты Круга… Прощай, Клод!
Все происходит, как в кошмаре. Я по-прежнему скован, а Валери нее движется к двери, медленно, будто скользя. Потом легко, неожиданно легко раскрывается застекленная дверь, силуэт Валери на миг очень четко проступает на фоне дальних зеленых холмов и светлого праздничного неба. И сейчас же дверь захлопывается. Я вижу, как Валери, высоко вскинув голову, проходит но веранде, сбегает вниз по ступенькам - и исчезает.
Мое оцепенение сразу проходит от невыносимой, острой, отчаянной боли в сердце. Такую же боль я испытал много лет назад, в нашей комнате на Сольферино, когда понял…
Я бросаюсь к двери. Валери уже не видно. Я хочу распахнуть дверь. И резко оборачиваюсь, услышав голос Констанс.
– Клод, не надо, - спокойно и печально говорит она. - Валери уже не вернешь. И не надо так горевать. Она права: прошлое есть прошлое.
– Ты… ты слышала? - с трудом бормочу я, кусая губы, чтоб не кричать.
– Я теперь все слышу, - так же печально и медленно отвечает Констанс. - Клод, ты должен успокоиться. Я знаю, как тебе тяжело. Но… думай о других. О нас.
– А ты уверена, что есть зачем думать? - почти кричу я. - Ведь ты слышала! Валери права! Я уже сам не знаю, люблю ли вас или только боюсь потерять. Я сам не знаю, есть надежда или нет. Я не могу выдержать… Я теряю силы… Прости меня, Констанс, если можешь!
Констанс обняла меня и гладит по волосам. Ее ласковые, сильные, теплые руки. Как давно я знаю их, и сколько счастья они мне принесли! Но сейчас и они не в силах избавить меня от боли, от страха, от острого чувства вины и бессилия.
– Констанс, - бормочу я, уткнувшись лицом ей в плечо, - Констанс, дорогая, наверное, это уже конец! Я больше не вытяну, да и к чему?
Констанс ласково отстраняется, охватывает ладонями мою горящую тяжелую голову, заглядывает мне в глаза своими большими, ясными, серыми глазами.
– Ты устал, ты так устал, - говорит она. - Тебе нужно уснуть.
– Я не могу спать! - сопротивляюсь я. - Как я смог бы заснуть сейчас!
И ловлю себя на том, что мне хочется заснуть. И уже не просыпаться. Констанс озабоченно сдвигает свои прямые брови.
– Я позову Робера, - говорит она.
Да, конечно, Робера. Как странно, в сущности, что именно я оказался средоточием Светлого Круга! Я, а не Робер или Констанс. Конечно, способности были развиты больше у меня.
По крайней мере до этих дней: сейчас все изменилось. Но зато Робер и Констанс гораздо сильнее меня, спокойней, уверенней. Они бы удержали в своем Круге всех, кого захотели удержать. Они не ошиблись бы в своих чувствах, не начали бы позорно и преступно колебаться, обрекая других на смерть своей трусостью и нерешительностью. Мне этого не вынести.
Ну ладно, я получил от бога или от кого там еще этот странный дар. Но я ведь не стал от этого ни лучше, ни сильнее. Мне было бы легче, если б я обладал, скажем, властью над числами, умел бы молниеносно считать. Это ни к чему не обязывает. А мой дар обязывает ко многому. Это свойство, достойное гения. И я не соответствую - я, такой, как есть, - своему дару. В чем же дело? Только в том, что я придумал эту теорию Круга? Да полно, я ли? Ведь я совсем не то имел в виду, Робер, ты же знаешь…
Это я говорю, обращаясь уже прямо к Роберу. Констанс ушла, а Робер стоит передо мной, очень бледный и измученный.
– Я знаю все, - тихо говорит он. - Мы с тобой потом поговорим, посоветуемся, как быть. Сейчас ты должен поспать. Обязательно. Ложись вот тут, на диван.
Я покорно ложусь; Робер задергивает плотные желтоватые шторы, и в комнате становится почти темно.
– Спи, - говорит Робер, наклоняясь надо мной. - Ни о чем не думай. За время твоего сна ничего плохого не произойдет. Ты выспишься и будешь чувствовать себя хорошо.
“Странно, ведь это очень похоже на гипноз, - думаю я, погружаясь в сон. - Раньше Робер не мог меня гипнотизировать…” Потом я засыпаю.
Он слишком возбужден. Нервы у него хуже, чем я думал.
Сделать вливание аминазина? Но это может все испортить…
Нет, пускай отоспится… Боже, как я устал! Я не думал, что будет так тяжело… Который час? Половина четвертого… Иногда мне кажется, что я не вытяну… мне больно глядеть на него. Какое у него страшное бывает лицо! Но что же делать?
Что?
Я просыпаюсь. В библиотеке уже совсем темно. Я сразу все вспоминаю и сажусь на диване. Но воспоминание о Валери уже не причиняет такой нестерпимой боли. Я чувствую себя крепче и думаю, что есть еще смысл бороться. Надо только обдумать, как поступать дальше. Поговорить с Констанс и Робером. Посоветоваться. Мне стыдно перед Констанс за этот недавний приступ отчаяния и бессилия, но Констанс, она ведь все понимает, она такая мудрая и спокойная…
Я сижу в темноте и думаю о Констанс. Мне хорошо думать о ней, это защита и отдых. С первых дней нашего знакомства Констанс была для меня защитой от боли и холода одиночества, и я искал у нее этой защиты, еще не понимая, что привлекает меня к этой высокой светловолосой девушке, всегда такой спокойной, доброй, ласковой. Наверное, это нелепо и некрасиво, когда тридцатидвухлетний мужчина, проживший такую трудную, сложную, напряженную жизнь, ищет опоры и защиты у девушки, которой едва исполнилось девятнадцать лет и которая сама пережила бог знает какие ужасы. Но в том-то и дело, что жизнь, которой я жил всю войну, была мне не по силам. Если б не Робер, я бы не выдержал всего этого. Сошел бы с ума, бросился бы на проволоку под током - не знаю что.
Пять лет лагерей! Тот, кто не попробовал, что это такое, не поймет меня. Да и лагерники, пожалуй, не все поймут, многие вышли оттуда даже более сильными, готовыми снова драться… ну, хотя бы Робер. А я… я для этого не годился. И мне не стыдно признаться, черт возьми, что я не гожусь для такой нечеловеческой, страшной, невообразимой жизни. Другие выдерживали - ну что ж, честь им и слава! А меня и сейчас, даже сейчас охватывает панический страх, когда я вспоминаю о лагере.
Не надо об этом думать. Сейчас это позади; сейчас люди устроили себе такую надежную и прочную могилу, что даже миллионы сожженных в крематориях кажутся чем-то не таким уже страшным, если поразмыслить… Нет, нет и тысячу раз нет! Это крематории второй мировой войны, это пепел сожженных, который сыпался на поля и дома мирных обывателей, живших по соседству с лагерями, но не стучал в их сердца, это проклятое, невозмутимое, непробиваемое, позорное, преступное равнодушие большинства - вот что привело к сегодняшней трагедии! Вы все отмахивались от “политики”, вы думали, что гроза опять минует вас, прогремит, просверкает над вашими драгоценными тупыми головами да и уйдет! Ну, погибнут еще миллионы - евреев, русских, поляков, японцев, американцев, кого там еще, пусть и французов, разве мало кругом всякой красной сволочи, смутьянов, вот им и достанется, а мы-то, мы будем жить, уж как-нибудь да останемся живы, не пугайте, нас не убьешь… Да, да, вы были живы, пока оставалось в живых человечество, вы были его неотъемлемой частью, и из-за того, что вы были внутри и повсюду, человечество с таким трудом продвигалось вперед и так часто отступало назад. Торжествуйте, проклятые свиньи с самодовольно задранными пятачками, вы победили! Жаль, что вы не видите солнца своей победы! Оно так затуманено ядовитой пылью, что вы смогли бы смотреть на него, не щуря своих бесцветных самоуверенных глаз. Вот оно, ваше мертвое солнце, проклятые мещане!
Почему он проснулся так рано? Что с ним? Нет, так нельзя, я не должен спать, он один не справится… Надо быть всегда начеку, это может кончиться катастрофой. Ах, черт, что это? Зачем ему вспоминать о лагере? Не надо…
Минуту назад я думал, что сойду с ума. Но, видимо, моя психика теперь включает воспоминания, как защитное устройство. Это страховка. Очень остроумно устроила природа: подсовывает мне прошлое, любое прошлое, чтоб я мог позабыть о настоящем… Но как быстро, лихорадочно быстро сменяются самые разные картины! Сначала мелькнуло лицо Констанс, юное, светлое, задумчивое. Потом вдруг передо мной возникла ржавая колючая проволока, а на ее фоне - черное от щетины, грязи и усталости лицо с провалившимися сумасшедшими глазами. Это лагерь военнопленных поблизости от Арраса, и парня я знаю - это бельгиец Леклерк, он потом погиб во время нашего неудачного побега. Я не помню, почему он вначале не получал посылок Красного Креста, но голодал он очень. Я сую ему краюшку хлеба и кусок сыра. Он прерывисто вздыхает, и на глазах его проступают слезы. “Спасибо, дружище”, - хриплым шепотом говорит он и отходит, волоча по сырой земле ногу, обмотанную почерневшим бинтом.
Ну, вот и лагерь исчез. Светлое, ясное солнце детства светит над парком Бютт-Шомон, отражается в тихой зеленой воде озера. Мы, ватага мальчишек, сидим на теплых белых камнях и блаженно жмуримся от весеннего солнца. Отсюда, с высот Бельвилля, нам виден чуть ли не весь Париж в голубой апрельской дымке. Невдалеке блестит широкая полоса канала Сен-Мартен, а за ним дымят и грохочут вокзалы - Северный и Восточный; дальше уходят в гору улички Монмартра, такие же крутые и узкие, как здесь, в нашем Бельвилле; на самой вершине холма сияет белоснежный храм Сакр-Кер. Видна и Сена, и Эйфелева башня, и Триумфальная арка. Нам по 11-12 лет, мы наслаждаемся весной и свободой и лениво спорим о том, кто толще - мясник Жерар с улицы Лозена или дядюшка Сиприен, владелец бистро на улице Симона Боливара. Большинство держится того мнения, что дядюшка Сиприен потолще за счет брюха; некоторые говорят, что нельзя учитывать одно брюхо, - а загривок, руки и ноги у мясника куда внушительней. Мне спорить об этом уже надоело, и я растягиваюсь навзничь на разогретых солнцем камнях… Безмятежное счастье, кусочек светлого и доброго, безвозвратно исчезнувшего мира!
И мне становится очень грустно, когда гаснет ясное солнце далекой весны 1925 года и откуда-то наплывает пестрая хаотическая масса лиц, вывесок, деревьев, дорожных знаков, книг, птиц, лестниц - да, какая-то полутемная, выщербленная, остро пахнущая луком и кошачьей мочой лестница, ведущая кто знает куда, я не могу вспомнить, да и вспоминать некогда, я уже на улице, в каком-то тихом тупичке, там старые ветвистые деревья и густые шапки зеленого плюща на серых каменных оградах, и дети играют в “классы” на тротуаре, а я опять в другом месте, на шумной пыльной улице, кажется, это Пасси, только давнишняя, лет тридцать назад, вывеска “Франсуа Мишодо - король подметки” с лихо нарисованной туфлей роскошно-алого цвета, и еще вывеска “Специальность - обеды за семь франков”… И опять мельканье картин, будто смотришь из окна стремительно несущегося поезда…
Мелькающий мир внезапно замедляет свой бег, я лежу на соломенном тюфяке, а рядом сидит Робер, обхватив руками колени. В тусклом красноватом свете, еле сочащемся сквозь пыльное зарешеченное окно, я вижу, что у Робера громадный кровоподтек на левой скуле, что губы у него разбиты и опухли. Я пробую протянуть к нему руку и чувствую, что рука не слушается, что все тело нестерпимо болит, я прикусываю губу, чтоб не стонать, но губы тоже рассечены и болят, и зубы слегка шатаются. Это камера полиции, но мы с Робером и другими участниками побега находимся в ведении гестапо, и допрашивали нас гестаповцы, и завтра нас перевезут в Париж, чтоб допрашивать дальше.
– Клод, дорогой, ты очнулся? - обрадованно говорит Робер. - Ну, как ты, ничего? Пить хочешь?
– Хочу, - с трудом выговариваю я.
Я пью воду из алюминиевой кружки, Робер поддерживает мою голову и тихо говорит:
– Нас поместили в одну камеру, это удача, - наверное, думали, что ты не придешь в себя. Нам надо сейчас условиться, Клод, все отрицать не удастся, Фелисьена они заставили проговориться, он сказал, что о списке узнал от нас с тобой. Придется сказать, что список увидел я, случайно зашел в канцелярию, - пускай они с коменданта взыскивают за неосторожность, черт с ним. А насчет бланков и печатей - можно свалить на тех, кто погиб, на этого Леклерка и на Жана Вермейля. Леклерк тем более знал немецкий язык, скажем, что он и заполнял бланки.
– Они не поверят, - бормочу я. - Ты в канцелярии не мог быть, и я тоже, ведь Геллер им объяснил.
Робер молчит с минуту.
– Придется все же стоять на этом, - он наклоняется ко мне. - Клод, прости, что я втянул тебя в эту историю. Но сейчас уж надо держаться. Нам все равно отсюда не выбраться, а других подводить нельзя. Ладно, Клод?
Я так измучен, что мне почти все равно. Я говорю: “Да, ясно”. Мы еще плохо представляли себе, что нас ждет. Если б я знал… а впрочем, что я мог бы сделать, ведь даже самоубийством нельзя было покончить…
– Но подумать только, на какой чепухе попались! - говорит Робер. - На том, что Леклерк не вовремя достал зажигалку.
Да, на следующей станции мы должны были бежать, у нас в заплечных мешках была кое-какая штатская одежда, и всем участникам побега уже выдали на руки справки об освобождении из лагеря по болезни… Я увидел в лагерной канцелярии список тех, кого включили в очередной эшелон, я видел его ясно и продиктовал Роберу имена, и тогда Робер и другие решили, что из эшелона бежать удобней. Никого не подведешь, да и путь лежит куда-то на юг, ближе к Парижу. А бланки для справок нам достали писаря из лагерной канцелярии, датчанин Йоханнес и бельгиец Сегюр, и этих ребят выдавать мы не могли, а насчет моих телепатических способностей и заикаться не стоило, теперь оставалось только терпеть и молчать, что бы с нами ни делали. А если б Леклерк не начал закуривать, стоя рядом с конвоиром, и не выронил при этом справку об освобождении, мы были бы теперь далеко, кто знает где…
– Знаешь, мы могли бы попасться и потом. Эти справки тоже… - говорит Робер.
И на этом воспоминания обрываются, и боль уходит из тела, и надо мной загорается мертвый, тусклый свет вверху, под потолком библиотеки. В дверях стоит Робер.
– Ну как, отдохнул? - заботливо спрашивает он.
– Отдохнул… - неуверенно отвечаю я. - Ты прав, мне полезно было выспаться.
– Но вид у тебя не слишком-то… - замечает Робер, пристально глядя на меня. - Мне кажется, ты слишком много думаешь…
– То есть? - меня поражает это замечание. - Как это слишком? Что ты считаешь нормой в нашем с тобой положении?
Робер слегка усмехается.
– Ты, конечно, прав. Но я хотел сказать, что нельзя слишком сосредоточиваться на… ну, на этом самом нашем положении. Мы не в силах ничего изменить, и надо принимать это как факт, не рассуждая.
Мне становится холодно, словно на сквозняке.
– Робер, зачем ты это говоришь? Я думал… Я почему-то надеялся, что ты знаешь…
– Что знаю?
– Ну, какой-то выход из положения… - я невольно с надеждой смотрю ему в глаза.
– Какой же выход? - Робер отводит глаза. - Я не бог.
– Значит, нет надежды? - допытываюсь я.
– Надежда всегда остается. Мы не знаем, что происходит сейчас на всей земле. Но надо надеяться и ждать.
– Надеяться и терпеть… Я сказал это сегодня ей, Валери…
– Не думай о Валери! - поспешно говорит Робер. - Ее нет. Думай о тех, кто остался. О Констанс и о детях в первую очередь. Ты ведь их хотел сохранить, вот и старайся добиться этого.
Робер говорит очень серьезно, почти хмуро, и я стараюсь понять, почему мне мерещится, что он в душе подсмеивается надо мной. Здесь, в таких обстоятельствах? Невероятно! Сколько бы мы ни спорили об этом раньше…
– В Констанс и детях я уверен! - почти с вызовом говорю я. - Это прочная связь, нерасторжимая.
Робер долго Молчит.
– Разве есть нерасторжимые связи? - печально и мягко говорит он. - Разве в лагере ты не думал того же о Валери? И разве эти условия не страшнее той войны?
Я прикусываю губу, чтоб не вскрикнуть. Что он, нарочно? Я исподтишка гляжу на это лицо, такое волевое, гордое.
Робер Мерсеро, мой Робер говорит это? Я молчу, но он понимает меня и без слов.
– Что я сказал, я с ума сошел, должно быть! - Я вижу, что он сильно взволнован. - И на меня, видно, действует эта страшная обстановка. Прости меня, Клод!
Он встает и уходит, а я никак не могу понять, что произошло. Слова Робера не оговорка, он к этому вел, да и последнюю фразу долго обдумывал, не сгоряча ляпнул. Но что ото значит? Желать смерти Констанс, Натали, Марку? Даже если он ревнует меня к ним (хотя я этого никогда не замечал), то ведь сейчас не время сводить личные счеты! Нас осталось всего шестеро. Может быть, на всей земле. И хотеть, чтобы трое из нас погибли? Немыслимо! Даже если бы это был не Робер Мерсеро, а кто угодно другой… разве что опасный маньяк…
И вдруг я чуть не вскрикиваю от ужаса: а что, если Робер сходит с ума?
Я сам не в порядке. Не стоило начинать в таком состоянии… Но кто знал? Как нелепо вышло! Как он волнуется, бедняга! Что же делать? Нет, с Натали ему говорить сейчас нельзя.
Я спал? Опять спал? Как странно! По-прежнему горит лампа вверху, кругом тихо, я один в библиотеке. Который час? Сколько я проспал? И где все остальные? Почему всетаки я потерял способность видеть их? От непрерывного напряжения и страха? Возможно. Я на время терял уже эту способность - сразу после выхода из лагеря и разрыва с Валери.
Почти на год. Констанс сначала и не подозревала об этом.
Только когда я узнал, что она беременна, и стал все время думать о том, где она и не случилось ли с ней что плохое, способность видеть вернулась. О Констанс я знал все в любую минуту. Ее это сначала очень пугало, и я стал скрывать свое знание, но мне это плохо удавалось. Потом она привыкла.
Потом сама стала… постепенно.
В первый раз она позвала меня на расстоянии, когда мне было нестерпимо тяжело. Я медленно шел по улице Мира, невдалеке от Вандомской площади, и толстая консьержка, стоявшая у дверей, прокричала мне в самое ухо: “Вот счастливая парочка, не правда ли?” Я поднял глаза - и застыл на месте. Валери с мужем. Они шли счастливые, нарядные, красивые, им ни до кого не было дела. Мне было так больно, что я не мог двинуться с места и все стоял, а консьержка трубила мне что-то в ухо, и я думал, что хорошо бы сейчас умереть или хотя на время потерять сознание, сойти с ума, - что угодно, лишь бы не эта боль. Совсем так же, как тогда, в лагере после побега. Нас подвесили вниз головой, язык распух и душил меня, голова разрывалась от боли и казалась горячей и громадной, втрое больше всего тела, и я хотел умереть или потерять сознание, но мне не удавалось ни то, ни другое. И тогда, на улице Мира, я не упал в обморок и не умер от боли, а неподвижно стоял и вдруг услышал далекий, но ясный голос Констанс: “Клод! Клод! Где ты, отзовись, отзовись!” Тогда меня это не удивило и не обрадовало, но боль немного утихла, я прошел дальше, к Вандомской площади, и попробовал ответить Констанс. Она уловила мой ответ и немного успокоилась. Я подозвал такси и поехал домой. Только по дороге я сообразил, что произошло, - и так обрадовался, что забыл о недавних мучениях…
Да, Констанс… Что было бы со мной, если б я не встретил ее? Она неправа, я вовсе не искал в ней черт Валери, меня привлекала ее цельность, ее спокойная сила и ясность…
Впрочем, кто знает… Констанс понимает, возможно, больше меня самого. Ведь были такие дни, когда ее спокойствие казалось мне слишком невозмутимым, почти мистическим, лишенным человеческого обаяния. В самой сильной и верной любви есть свои черные дни, есть полосы кризисов, и я не раз уже думал, что Констанс рассудочна, равнодушна, что ее спокойствие опирается не на силу, а на отсутствие эмоций, что нет в ней истинной доброты, нет живого огня. Было и такое, и она это знала. Не путем телепатии; ведь она раньше, до катастрофы, могла воспринимать мои мысли и чувства либо в момент какого-то очень высокого их напряжения - как при встрече с Валери, - либо когда я сам, сознательно передавал ей что-то на расстоянии. Просто она всегда была внимательней, проницательней, тоньше…
Робер часто подсмеивался надо мной, уверяя, что в моем организме явный избыток женских гормонов и психика у меня скорее женская, чем мужская. Может быть, это и так; ведь принято считать, что повышенная чувствительность, острая потребность в любви и дружбе, в опоре и защите - это чисто женские черты. У меня они, видимо, существуют от рождения; то, как сложилась моя жизнь, в одинаковой мере определяется и внешними обстоятельствами и особенностями моей психики.
Да, война дважды разрушала все вокруг меня; но будь у меня другой характер, я вел бы себя по-другому. Прежде всего я мог не реагировать на все так резко и бурно. Мало ли у кого распадалась семья в наше время, и далеко не все делают из этого трагедию. Тем более что у меня все складывалось не так уж плохо. Отец всегда старался помогать мне - это мать отказывалась от помощи, потому мы с ней так и бедствовали, - а потом Женевьева сразу приняла меня, как родного сына. Потеряв Валери, я тут же встретил Констанс, идеальную жену и подругу.
Выходило внешне так, что я даже выигрывал от этих перемен. Если б отец остался с моей матерью, я вряд ли получил бы образование; если б мы продолжали жить с Валери, я не смог бы так много и хорошо работать, как с Констанс, которая сняла с меня все житейские заботы, никогда не жаловалась на нехватку денег, даже если их было явно недостаточно, и обеспечила мне то душевное равновесие, которого мне всегда не хватало. И все же… все же я не мог ничего забыть, я не умел приказать себе - хватит, брось самокопание, не будь слюнтяем.
Робер еще потому так говорит, что наши с ним взаимоотношения с самого начала строились по принципу: слабый ищет защиту у сильного, а тот милостиво снисходит. Ну, мо жет, и не совсем так, ведь Робер искренне любил меня, а в лагере дружба и любовь ценятся куда выше, чем в обычных условиях. Но о Робере-то уж не скажешь, что у него есть женские черты в психике! Он - воплощение мужественности и внешне и по характеру. А я…
К сожалению, я не наделен другими чертами, тоже причисленными к женским: у меня нет той чуткой внимательности, которая действительно присуща большинству женщин.
Или, вернее, она есть, но не всегда включается. Иногда я вообще ничего не замечаю вокруг себя - и не по недостатку интереса, вовсе нет! Констанс всегда уверяла, что это от занятости, от увлеченности работой, и я принимал это объяснение - лестно и удобно. А на самом деле - кто знает?
Во всяком случае, в истории с Натали эта моя ненаблюдательность едва не привела к трагедии. Едва не привела?
Или трагедия все же произошла? Я так и не знаю, как об этом судить. Констанс и Робер - каждый со своей точки зрения - считают, что я не имел права так поступать. Возможно, они правы… Если б я мог с ними посоветоваться…
Но Констанс тогда была в Лионе у родственников. Робер улетел в Америку на конгресс нейрофизиологов. И тут появился этот проклятый Жиль.
Сначала я услышал, как Натали говорит с кем-то по телефону, и впервые понял, что моя дочь - взрослая. И что она влюблена. Этот тихий, с нежным придыханием, смешок: “Ах, Жиль…” Я молча отошел от двери кабинета. Потом, за чаем, спросил: “С кем это ты говорила?” Натали ничуть не смутилась, только перестала улыбаться: “С одним знакомым”. Я не решился больше спрашивать, но, конечно, встревожился. Натали своенравная, скрытная, самолюбивая.
Впервые я пожалел о том, что побоялся проводить опыты с детьми. Психика Натали была для меня подлинным “черным ящиком”. Я рассеянно глотал чай и, делая вид, что читаю газету, исподтишка наблюдал за Натали. Да, она взрослая и, пожалуй, красивая девушка. Во всяком случае, “стильная”, как говорится. Сейчас в моде именно такие - длинноногие, с тонкой талией, с пышной шапкой взлохмаченных волос, с лицом, которое будто состоит лишь из глаз да губ.
Поймав мой взгляд, Натали выпрямилась, как пружинка.
Тонкий алый свитер обтягивал ее прямые плечи.
– Ты хочешь знать, кто такой Жиль? - слегка заносчиво спросила она. - Он работает в автомобильной фирме, рекламирует машины.
Я не очень понимал, что это значит, - нечто вроде коммивояжера, что ли? Но в ту минуту меня занимало другое: почему Натали это сказала чуть ли не через полчаса? Я ведь ничего больше не спрашивал. Мое молчание вряд ли могло ее смутить - я за завтраком всегда читаю газету, тем более в воскресенье. Желание пооткровенничать? Я этого за Натали даже в детстве не замечал. Интуиция? Возможно. Но что, если она ответила на мой внутренний вопрос? Я ведь все время думал об этом Жиле и даже разглядывал Натали с точки зрения постороннего мужчины - какое она должна производить впечатление?
Я безразлично пожал плечами и уткнулся в газету.
Но мысленно спросил: “Ты давно с ним знакома?” Я повторил этот вопрос три раза и услышал запинающийся ответ Натали: “Недавно. Я с ним знакома всего неделю”.
И вдруг Натали закричала:
– Я не хочу, слышишь, не хочу!
Я отложил газету и стал глядеть в глаза Натали. Она прикусила губу.
– Чего именно ты не хочешь? - спросил я. - И почему?
В общем на меня это мало похоже - такое поведение.
А тем более с Натали - она всегда была такой нервной, излишне чувствительной, я-то ее понимал лучше других и не хотел бы мучить. Но тут у меня появилась какая-то не очень ясная идея - вдруг удастся избавиться от этого Жиля хотя бы до приезда Констанс, а потом пускай она рассудит, как быть. Ну, а к тому же я поддался импульсу исследования, хоть и знал, что все эти занятия - палка о двух концах.
– Ты не должен читать мои мысли! - выпалила Натали. - Это… некрасиво!
Я усмехнулся: меня позабавило, как все перепуталось в ее восприятии.
– Но я вовсе не читаю твои мысли, девочка. Ты все говоришь вслух.
– Да… Это верно! - растерянно согласилась Натали. - Но ты… ты приказываешь мне. Я же чувствую. Это гипноз!
Ты не должен этого делать! Ты… ты не имеешь права, нет, серьезно. Ты даже не знаешь Жиля, а уже ненавидишь его.
– С чего ты взяла? - сказал я, понимая, что она в общем правильно все воспринимает, хоть и преувеличивает: я не мог ненавидеть неизвестного мне Жиля, но хотел бы от него избавиться; впрочем, для Натали тут существенной разницы нет.
Натали замолчала и долго глядела на меня. Я потом думал: почему эта внутренняя связь между нами возникла так внезапно? Ведь я боялся посвящать детей в нашу связь с Констанс и никаких опытов с ними не проводил. Правда, я знал, что, если они будут в опасности, я это увижу на каком угодно расстоянии, - знал и проверил на фактах. Но что создало наш контакт с Натали? С ее стороны была влюбленность, сразу резко изменившая ее внутренний мир. С моей - крайняя усталость (я заканчивал серию очень сложных опытов с животными, один лаборант к тому же срочно уехал к больной матери и вслед за этим заболел другой, так что у меня остался всего один помощник) и тоска по Констанс - мне всегда было тяжело расставаться с ней, я чувствовал себя словно черепаха, лишенная панциря. В ночь под воскресенье я рассчитывал отоспаться по крайней мере, но почему-то напала бессонница, я проворочался до рассвета, потом глотнул снотворного, а Софи меня разбудила, как мы уговорились с вечера, в десять часов. Я вышел к завтраку с тяжелой головой и по дороге услышал этот самый телефонный разговор. В общем какие-то сдвиги в психике были и у меня и у Натали.
Я понимал: эта мысленная связь именно потому так испугала и раздосадовала Натали, что совпала с ее первой “взрослой” влюбленностью, с таким периодом, когда потребность в тайне особенно возрастает. Она боялась, что я читаю ее мысли. Но это было не совсем так. В ту минуту, во всяком случае, я примерно догадывался, что она сейчас чувствует, просто на основании собственного опыта. Потом я стал добиваться большего уже сознательно.
Жиль вскоре появился в нашем доме, и я решил, что мои инстинктивные опасения оказались справедливыми. Это был высокий черноволосый парень, очень элегантный по теперешним понятиям, с уверенными, чуть небрежными манерами опытного соблазнителя. Я таких всегда ненавидел. Может быть, из зависти, уж не знаю. Хотя меня никогда не прельщала слава покорителя женских сердец. Думаю, что, если б какая-нибудь фея одарила меня этим свойством, я скорее счел бы себя несчастным. Но рядом с этими уверенными, элегантными, неотразимыми парнями я все-таки чувствовал себя ничтожеством. Валери расхохоталась, когда я признался ей в этом: “Да зачем тебе?… Разве ты донжуан?” Даже ей я не мог объяснить, в чем тут дело. Да и сам не до конца понял.
Так или иначе, Жиля я действительно возненавидел с первого взгляда. Но прежде всего потому, что понял, какой властью он пользуется над Натали. Он был старше ее всего на семь лет, а выглядел зрелым, опытным мужчиной, и Натали беспрекословно подчинялась его молчаливому взгляду, легкой улыбке, движению руки. Мне стало по-настоящему страшно, когда я увидел из окна, как они идут по улице и как Жиль целует ее. В эту минуту я решился.
Писать Констанс, советоваться с ней было невозможно, да и медлить не следовало. Я подсыпал Натали в вечерний чай дозу снотворного и ночью провел с ней сеанс гипнотического внушения. Утром она сидела молчаливая, тихая, глаза у нее были испуганные, и у меня сжалось сердце. Вечером пришел Жиль, и я, страдая, наблюдал, как мечется бедная девочка между его и моей волей. Под конец она разрыдалась и выбежала из комнаты. Тогда Жиль подошел ко мне.
– Вы думаете, это хорошо - так поступать? - спросил он.
Я пожал плечами. Он продолжал:
– Я вообще не понимаю, что вы имеете против меня. Я вас чем-нибудь обидел? По-моему, нет.
– Зачем вам Натали? - резко спросил я.
Он снисходительно усмехнулся.
– Вы, старшее поколение, вечно задаете какие-то дикие вопросы. Зачем это действительно парню в моем возрасте может понадобиться девушка?
– Вы хотите на ней жениться? - не обращая внимания на его тон, спросил я.
– Не знаю еще. Возможно. Я не знал, что вы торопитесь выдать ее замуж. Она ведь так молода.
Меня разозлили не столько слова, сколько снисходительная, поучающая интонация, ленивая наглость, с которой он это произнес. Я встал и довольно нелепо выкрикнул: - Убирайтесь вон из моего дома!
“Господи боже мой! - подумал я тут же. - Что за идиотская ситуация! Благородный отец и коварный соблазнитель - прямо из старинной мелодрамы!” Если б Жиль реагировал как-нибудь иначе, я, наверное, просто сдался бы. Но он возразил тоже повышенным тоном, что привлечет меня к ответу “за все эти штучки с гипнозом”, и тут я совсем разъярился - вероятно, оттого, что чувствовал себя виноватым.
Вспышки такой бешеной ярости у меня бывают крайне редко, и я сам их побаиваюсь, потому что теряю власть над собой. Силы у меня тогда удесятеряются. В двенадцать лет я чуть не убил человека. Я был худеньким невысоким парнишкой, а мой противник, шестнадцатилетний силач Жан, слыл опытным драчуном. Но он грязно обругал Женевьеву, и вдруг у меня перед глазами пошли красные круги. Я даже не помню толком, как все случилось. Я поднял его на воздух и швырнул с такой силой, что он скатился вниз по крутым ступеням бельвилльской улички и два месяца провалялся в больнице с переломленными ребрами и пробитым черепом. Отчасти из-за этого отец и Женевьева продали бистро и перебрались в XIV округ, на улицу Алезиа, распустив слух, что мы вообще уезжаем из Парижа: они боялись, что Жан со своей компанией убьет меня, как только выйдет из больницы…
Я поднял тяжелый дубовый стул и взмахнул им над головой.
– Убирайся немедленно, подонок! - крикнул я.
Жиль понял, что дело нешуточное, и попятился к двери. На пороге стала Натали. Я еле различал белые пятна их лиц - перед глазами плясали красные круги, застилая все.
Но я услышал, как Жиль властно сказал:
– Натали, ты идешь со мной!
– Нет! - крикнул я. - Нет! Натали, не смей!
Я увидел, что Натали застыла на пороге. Потом она зашаталась и упала. Красные круги прекратили свою бешеную пляску. Я тяжело опустил стул.
– Видите, что вы наделали! - неожиданно мягко и растерянно сказал Жиль.
Стоя на коленях, он поддерживал Натали - она лежала с закрытыми глазами, белая как мел.
– Ладно, вы все-таки уходите, - пробормотал я. - Дяйте ей успокоиться.
– Я-то уйду, раз вы настаиваете, - он поднял Натали, уложил ее на диван. - Но разве так можно поступать, если вы ее любите? О ней нужно думать, а не о сeбе, ведь верно?
– Ладно, ладно, идите, - повторил я, и он ушел, а я позвал Софи.
Может, он и вправду был совсем неплохой парень.
Но крайней мере так уверяла Констанс. Но уж очень все неудачно сложилось…
Натали вскоре пришла в себя, но весь день пролежала молча, отвернувшись к стенке. Я решил было ночью внушить ей, чтоб она немедленно уехала в Лион к Констанс, но вечером у нее было уже около сорока градусов, она бредила.
Врач сказал, что это вирусный гринп. В девятнадцатом веке это назвали бы нервной горячкой, тем более что болезнь дала осложнение - менингит.
Констанс немедленно приехала, не успев даже получить моей телеграммы, - она почувствовала беду. И начала распутывать все, что я так безнадежно и опасно запутал…
Мало что можно было сделать в таких обстоятельствах.
Констанс подолгу беседовала и с Жилем и с Натали, когда той стало получше. Я уж готов был примириться с этим парнем, но Констанс объяснила мне, что Жиль из-за всей этой истории охладел к Натали.
– У них ведь все только начиналось - во всяком случае, у него. А тут какие-то нелепые трагедии, гипноз… - говорила она, не глядя на меня. - Ну, поставь себя на его место… даже себя. А он парень трезвый и бестолковых трагедий инстинктивно избегает. Да и Натали сейчас очень подурнела.
Действительно, Натали, бледная, осунувшаяся, с обритой головой, ничуть не была похожа на ту “стильную” девушку, которую я недавно рассматривал через стол поверх развернутой газеты. У меня сердце болело, когда я входил в палату и видел ее большие, неподвижные, равнодушные глаза.
Она по-прежнему не сказала мне ни слова, а с Констанс говорила только наедине, и то неохотно.
– Что же делать с Натали? - спросил я. - Я понимаю, что во всем виноват… Но ведь тебя не было! И что теперь? Как нам быть?
Констанс долго обдумывала ответ. Он оказался совсем неожиданным для меня. Она считала, что дня через три-четыре, когда Натали немного окрепнет, надо будет проделать во сне сеанс гипноза и внушить ей, чтоб она разлюбила Жиля и не думала об этой истории вообще. Может, понадобится и не один сеанс, но это необходимо, иначе она будет очень страдать и возненавидит меня.
– А ты не думаешь, что это опасно? - спросил я.
– Из двух зол приходится выбирать меньшее, - вздохнув, ответила Констанс.
Он волнуется… очень волнуется… Но ведь об этом надо помнить, иначе… Или, может, не стоит так долго?… Слишком уж много у него болезненных наслоений.
Конечно, все мы люди искалеченные, и Робер тоже, хоть он и держится лучше. Я так и не понимаю, как могла Констанс полюбить меня, особенно тогда, в сорок пятом году.
Я:ведь был совсем сумасшедший после лагеря и после разрыва с Валери. Правда, в присутствии Констанс я становился спокойней, мягче, даже смеялся, но это было так внешне, так ненадежно! Она не могла этого не чувствовать, да и не только она. Стоило мне улыбнуться, как губы начинали непроизвольно дергаться, улыбка походила на судорогу, и я отворачивался смущаясь.
Я долго не понимал, не решался понять, что Констанс меня любит. Это было невозможно, невероятно. Я и сам не мечтал об этом: просто ходил к ней по вечерам, сидел, и мне всегда было очень трудно уходить. Да и куда уходить? Робер женился на женщине, которая ждала его все шесть лет: он сам был несколько смущен этой верностью и объяснял, что от Франсуазы он этого никак не ожидал. “Все у нас было, понимаешь, как-то наспех. Не успели толком переспать, а тут война… Правда, она заявила, что будет меня ждать, но мало ли что говорят в таких случаях…” Оставаться с молодоженами в одной квартире не годилось, а мне - тем более. Я снял комнату в паршивенькой гостинице на улице Бернардинцев, потому что это было рядом с домом, где жила Констанс, и мы начали проводить вместе все вечера.
Она неохотно рассказывала о себе; я знал только, что она круглая сирота, работает в министерстве юстиции стенографисткой.
Собственно, насчет министерства юстиции я знал с самого начала; там я с ней и познакомился. Пришел проведать Марселя Рише, моего лагерного дружка, и увидел Констанс: она шла навстречу мне по длинному коридору, и волосы ее светились, как ореол, каждый раз, когда она проходила мимо окна. Когда она прошла, я молча повернулся и пошел за ней - почему, сам не знал. Я никогда не умел знакомиться с девушками вот так, на ходу, а уж после лагеря и вовсе разучился разговаривать как следует, ухаживать… Впрочем, это не то слово, я не собирался тогда ухаживать за Констанс и вообще не знал, что я собираюсь делать. Просто вошел в комнату вслед за ней и самым дурацким образом уставился на нее. Она сначала пыталась выяснить, что мне угодно, потом мило улыбнулась и сказала: “Простите, у меня срочная работа”, - и принялась очень быстро стучать на машинке.
Наконец я собрался с силами и встал. Молча постоял с минуту - мне казалось, что уходить нельзя, что потом я вернусь и, как в сказке, не будет уже ни этой комнаты, ни светловолосой девушки за машинкой. Но Констанс все так же приветливо и безлично улыбнулась мне, и я вышел, хотя каждый шаг давался мне с трудом.
Я говорил с Марселем, смотрел на страшный багровый шрам, наискось рассекавший его лицо, и вспоминал, как он лежал в ревире, до полусмерти избитый в каменоломне, и еле слышно хрипел: “Париж, я еще увижу Париж, я увижу Париж, я не умру!” А лицо у него было залито кровью, и глаз затек и распух, и все тело было исполосовано плетью, перевитой проволокой, - плетью капо Гейнца Рупперта, истоптано тяжелыми подкованными сапогами, и мы не знали, доживет ли он до утра. А он дожил, и я дожил, и Робер, и мы все унесли с собой эту страшную память, и можно ли человеку, на чьей душе неизгладимая печать лагеря смерти, тянуться к молодому, здоровому, спокойному существу? Зачем? Чтоб душевно омолодиться за чужой счет, ценой чужого спокойствия? Престарелый царь Давид клал себе в постель молоденьких девочек, чтоб они согревали его кровь, - ну что ж, на то он и царь, да и власть его простиралась лишь на тело, а не на душу. Девушки уходили и с насмешливой улыбкой вспоминали о старике, которого уже собственная кровь не греет, а он все цепляется за жизнь…
И все равно я спросил:
– Послушай, Марсель, а кто эта высокая блондинка? Которая работает в 436-й комнате?
Я старался говорить небрежно, и все же Марсель сразу понял.
– Вот не знал, что ты интересуешься девушками! Ты какой-то, знаешь ли, не от мира сего… Или это в лагере так казалось, черт его знает… Ну, объект ты выбрал не очень-то удачный. Констанс - девушка серьезная, ей не до флирта… - Он поглядел на меня. - Да ты что, Клод? Ты всерьез, что ли?
Я молчал и глядел на него. Он встал.
– Ну, пойдем, я тебя познакомлю. А там уж смотри… - он сделал неопределенный жест.
Мы пошли к Констанс, Марсель меня официально представил. Я неловко пробормотал слова извинения, Констанс опять улыбнулась, мило и безлично. Она и сейчас умеет так улыбаться, если хочет поскорее отделаться от собеседника. В принципе это хорошо действует, я наблюдал; но на меня тогда ничто не могло подействовать.
Это не было ощущением яркого счастья, праздника, пылкой влюбленности, как с Валери. Просто я боялся уходить от Констанс, боялся, что больше ее не увижу, - и тогда конец мне, я не вытяну. Чего я от нее хотел, от этой чистенькой, беленькой, ласковой и замкнутой девочки, я и сам не понимал. Вначале я вовсе не думал на ней жениться - может, потому, что никак не рассчитывал на ее согласие. Соблазнять ее я тем более не собирался. Мне даже не приходило в голову поцеловать Констанс. Вообще я вначале относился к ней не как к женщине, а как к источнику света, тепла, спокойствия - всего этого так не хватало мне тогда!
И вот вечер за вечером я сидел в ее чистенькой, очень скудно обставленной комнате, смотрел, как она ходит, заваривает чай, как она штопает чулки. Однажды я принес ей две пары нейлоновых чулок - выменял у американца за уникальную лагерную зажигалку из снарядной гильзы. Эту зажигалку мне подарил чех Франтишек, я его вовремя предупредил об опасности - увидел его имя в списке для газовой камеры на столе у начальника лагеря, и ребята дали ему номер мертвеца, перевели в другой барак - ну, как обычно делали в таких случаях, если удавалось заранее узнать. Я тогда уже научился видеть…
Констанс не испугалась и не смутилась, когда я принес ей чулки. Я даже удивился, - думал, она будет отказываться, рассердится. Но она улыбнулась - по-хорошему, не той официальной улыбкой - и сказала: “Это замечательно. Мне так надоело штопать чулки! А нейлон, говорят, очень прочный”.
После месяца ежедневных встреч мы поразительно мало знали друг о друге. Я сказал ей, что был в лагерях, - да и Марсель представил меня: “Мой друг по лагерю”. Сказал, где работаю, где живу. О Робере рассказывал. Один раз заговорил об отце и Женевьеве, но о матери сказал только, что она умерла. И это все. О лагерях и о Валери мне было, пожалуй, одинаково трудно говорить, у меня в первые годы даже температура поднималась до сорока градусов, если я начинал рассказывать. О телепатии я попросту побаивался упоминать, тем более что у меня эти способности вдруг исчезли, и я склонен был думать, что они могли проявляться так ярко лишь в лагерной обстановке. Ну, а если исключить три эти темы, рассказывать мне было особенно нечего.
И как-то не хотелось. И Констанс тоже не хотела говорить о себе. Я спросил, давно ли умерли ее родители. Она коротко ответила: “В сорок втором году”, - и надолго замолчала.
Я больше не решился расспрашивать. Я вообще болезненно не люблю спрашивать. Мне даже трудно расспросить о дороге, если я не знаю, куда идти. Это у меня с детства. Отец считал, что это от избытка самолюбия. Вряд ли. По-моему, от робости.
Через неделю после свадьбы мне приснился лагерь. Тогда он мне часто снился, да и сейчас еще случается. Приснился допрос. У меня все еще болели ребра, переломанные в 1940 году, и почки, отбитые в 1943-м. Так что кошмары были очень реальными, я опять задыхался от боли и ужаса и опять кричал: “Больше не могу, убейте меня, убейте меня, я ничего не знаю!” Это я всегда кричал, пока мог выговаривать слова, хоть.невнятно. Потом я выл, хрипел - и в особенно счастливых случаях терял сознание. То есть начинал все чаще терять сознание. Вначале меня отливали водой, и все повторялось: нестерпимая боль, нечеловеческий крик, раздирающий рот, разрывающий глотку, и опять спасительный провал в черноту. Потом, наконец, меня оставляли в покое. Робер уже без шуток говорил, что и в этом я похож на женщину - внешне слабый, тщедушный, а выдерживаю то, что не под силу атлетам. Это верно - и сознание я терял так редко, так ужасно, невыносимо, беспощадно редко!
Я двадцать часов висел на вытянутых, нестерпимо болящих руках и хрипел: “Убейте, убейте меня, я больше не могу!” Но я это вынес. Меня пытали неделю подряд, с перерывами по три-четыре часа, не больше. Делали все, на что у них хватало фантазии и техники: прижигали кожу сигаретами, загоняли длинные раскаленные иглы под ногти, стегали плетьми по часу, по два, по три, обливали водой из ведра, и снова ложились на спину не удары, нет, а будто падали горящие балки, переламывали мне хребет, переламывали изо всех сил и все никак не могли доломать, и я беззвучно кричал: “Скорее, только скорее, я больше не могу, убейте меня, убейте меня скорее!” Самое страшное было, когда меня и Робера пытали одновременно, в двух разных камерах. Мы оба испытывали двойную боль, двойной ужас, двойное умирание. Как мы выдержали, не понимаю. Позднее мы договаривались, чтобы не попасть в одно время - телепатически договаривались, - перестукиваться мы не могли, сидели на разных этажах. Это было трудно, очень трудно устроить. Однажды мне удалось внушить своему следователю на расстоянии, что он болен, совсем болен, с сердцем плохо, и он вызвал меня лишь под конец дня, когда Робер уже лежал без сознания в своей камере. В другой раз Роберу сказали в кабинете следователя: “Валяйся тут, мы при тебе допросим другого, потом опять примемся за тебя! Жди своей очереди!” Робер успел передать мне это прежде, чем потерял сознание. Я сейчас же начал внушать своему следователю, чтоб он вызвал меня.
Это было очень трудно потому, что я боялся вызова больше всего на свете, и, если б можно было покончить самоубийством, я бы, не задумываясь, воспользовался этим выходом.
Но он вызвал меня, и вскоре я хотел лишь одного - поскорее потерять сознание, поскорее, пока Робер не придет в себя, иначе… Кричать я уже не мог, голос был сорван, я хрипел, бормотал и иногда с недоверием слушал: неужели это мой голое?… Робер все же пришел в себя, и пытка удвоилась, но вскоре это кончилосьПрошло много времени, прежде чем я научился терять сознание по произволу. И то мне это удавалось лишь тогда, когда давали хоть короткую передышку и я мог сосредоточиться. Я вспомнил “Межзвездного скитальца” Джека Лондона и попробовал повторить его опыты. Но это было не то. Во-первых, получалось слишком медленно - эсэсовцы не давали столько времени; во-вторых, из этого состояния можно было довольно легко вывести. Герою Джека Лондона не загоняли иголки под ногти, его просто встряхивали, пинали, развязывали, и он приходил в себя. Это показывает, что цивилизация продолжает совершенствоваться. По крайней мере в одном направлении. Разве во времена Джека Лондона могли себе представить, что такое газовая камера и крематорий? А через четверть века после его смерти с этим познакомились на личном опыте миллионы людей. Еще лет через пять некоторая часть человечества узнала, как здорово действует даже небольшая атомная бомба, если ее сбросить на город. А теперь все человечество на личном опыте убедилось, что обитателям Хиросимы и Нагасаки 6 августа 1945 года пришлось и вправду нелегко. Впрочем, большинство, наверное, уже не успело осознать этого.
Когда боль превышает силы и уничтожает в человеке человеческое, люди кричат в общем одинаково. Все мы, заключенные концлагерей, узники гестапо, слыхали не раз этот страшный захлебывающийся вой, в котором нельзя уже распознать слов, нельзя узнать знакомого голоса, не всегда можно даже отличить, мужчина это или женщина. Все мы слыхали невнятное бормотанье, всхлипыванье, стоны сквозь горячечный бред, когда человек с телом, превращенным в кровавое месиво, валяется на полу камеры и уже не сознает, где он, продолжается ли пытка или наступила передышка, остался он еще в живых или умирает.
Года три назад мне пришлось лечь в больницу - какието лагерные памятки остались, и иногда у меня начинается обострение воспалительного процесса: лихорадка, боли.
Ночью мне приснился лагерь, я проснулся в холодном поту, но и наяву не мог отделаться от кошмара. За стеной кого-то пытали. Я сразу узнал это всхлипывающее бормотанье, прерываемое хриплым воем, эти невнятные, бессвязные мольбы, такие бессмысленные, такие трагически-наивные: “Я не могу больше… Я не выдержу… честное слово… я не могу, не могу, лучше убейте меня!” Я с невероятным усилием открыл глаза, ожидая встретить нагой, мертвый свет рефлектора или пересеченный решеткой тусклый световой квадрат тюремного окна. Но в палате царил ровный синеватый свет ночника, делавший все призрачным, я лежал на мягкой, чистой постели и слушал эти невероятные, фантастические в мириой обстановке крики. Я вскочил, кинулся к двери. В коридоре за столиком сидела пожилая сестра милосердия с очень усталым лицом.
– Что… что это? - спросил я. - Крик… почему?
– Сейчас подействует морфий… - тихо сказала она. - Это печеночная кома.
Я вернулся в палату и лег. Крики за стеной становились все глуше, слабее, перешли в жалобное бормотанье, прерывистые вздохи. Я слушал, обливаясь холодным потом, даже сейчас, когда узнал, что это. При печеночной коме сознание помрачено, и когда к человеку прикасаются, то вся боль, которую он терпит, сосредоточивается именно в том месте, до которого дотрагиваются руки врача. Боль от укола он воспринял как жестокую, бессмысленную пытку… “Сколько ему лет? Может, он тоже лагерник?” - думал я. (Утром я узнал, что он умер; ему было всего 24 года.) Итак, мне приснился лагерь, и я стонал во сне, а может, и кричал. Констанс разбудила меня.
– Тебя… пытали? - спросила она незнакомым, сдавленным голосом.
И вдруг уткнулась лицом в подушку и так горько, отчаянно заплакала, что я растерялся. Я просто не представлял себе, что Констанс может плакать, - такая она была ясная и сильная.
– Констанс, милая, ведь это уже прошло… это прошло и больше не повторится, - бормотал я, гладя ее плечи, ее разметавшиеся шелковистые волосы.
Потом я принес воды, она выпила, понемногу успокоилась.
Это в первый -и в последний раз я увидел ее плачущей. Мы сидели на постели, обнявшись, Констанс прижималась ко мне, все еще неровно дыша от рыданий.
– Ты прости, Клод, - сказала она наконец. - Это изза тебя… И еще из-за родителей. Они ведь погибли в тюрьме Френ, и мне рассказывали, как их пытали… вместе, нарочно, чтоб им было тяжелей… чтоб заставить их заговорить… Мне рассказывала женщина, которая сидела в одной камере с матерью. Но они никого не выдали.
Только в эту ночь я узнал, что Констанс, как и ее родители, работала в подполье, что она была связной, ездила в другие города, перевозила листовки и гранаты, передавала инструкции…
– Почему ты мне раньше ничего не сказала? - спросил я.
Констанс ответила застенчиво и чуть удивленно:
– Но ведь ты не спрашивал… Я думала, что ты знаешь обо мне от Марселя Рише… и что тебе тяжело вспоминать обо всем, что связано с войной…
Вряд ли есть хоть что-нибудь в моей жизни, о чем Констанс не узнала после этого. Мне вдруг отчаянно захотелось рассказать все, выговориться, самому понять, что и как было со мной. Это был почти сплошной монолог: Констанс слушала, бледная, спокойная, и я знал, что она все понимает. Иногда я спрашивал ее: “А ты? Расскажи о себе!” Она говорила, но скупо и неохотно. Я шел на уловки - рассказывал о каком-нибудь дне своей жизни и добавлял: “Это было такого-то числа, такого-то месяца. А что было с тобой в этот день?” Иногда Констанс начинала рассказывать:
– Ах, девятое октября сорок второго года… В этот день я поехала в Лион… В поезде ко мне придрались полицейские, будто у меня документы не в порядке… В Лион мы прибыли вечером, и меня до утра продержали в камере… Там были две воровки, но они ко мне отнеслись очень хорошо и все советовали, чтоб я побольше плакала, когда меня будут допрашивать. Но утром меня допросил комиссар и выпустил. Даже обругал полицейских: “Свиньи, мучают детей!” Правда, они зря придрались, документы у меня были в порядке. А потом уж все в Лионе прошло хорошо.
Констанс совсем иначе воспринимала все, что ей пришлось пережить, даже гибель отца и матери. Для нее это была борьба за идею, битва против фашизма. Гибель в этой битве была хоть горькой, но почетной; жизнь вне борьбы - бессмысленной и жалкой. Ее отец был коммунистом, участвовал в испанской войне; она росла в атмосфере политических споров, борьбы во имя политики, подвига во имя борьбы, и для нее все это казалось нормальным и естественным.
Кстати, ее молчаливость, нежелание расспрашивать и рассказывать, ее удивительная выдержка - все это было результатом не только врожденных свойств, но и воспитания в определенной среде.
Я и сейчас не могу понять, как это Констанс вышла замуж за меня, родила мне детей, отошла от политической жизни, - не потому, что я был против политики, вовсе нет, просто ее поглотили заботы обо мне и о детях. Конечно, большую роль тут сыграло то, что я был в лагерях, и она меня причисляла к борцам, к людям ее окружения, ее душевного склада (вот, пожалуй, единственная польза от этих страшных пяти лет!). Я понимал это и чувствовал себя неловко, будто самозванец.
Но я ничего не мог тогда объяснить Констанс. Она спокойно улыбалась и говорила: - Но ведь это правда, что ты участвовал в организации побега? Правда, что, когда вас так ужасно пытали в гестапо после провала, ты никого не выдал? Правда, что ты и в Маутхаузене продолжал работать в лагерной организации и сделал очень много?
Я пробовал возражать:
– Но, дорогая, это все внешнее. А внутренне я вовсе не способен бороться. И если б не Робер…
Констанс отвечала:
– В борьбу многие вступают из личных побуждений: любовь, дружба, семейные связи. Что ж из этого? Вот, например, моя мать: она приняла участие в борьбе из любви к мужу. Разве это порочит ее? Разве она не делала все, что могла, и не погибла, как героиня? Разве к великой цели ведет лишь один путь?
Что я мог на это сказать? Со своей точки зрения Констанс была права. Но разве действительно важны лишь действия, а побуждения безразличны? Может быть, к цели ведет и не один путь, а множество параллельных и переплетающихся между собой, но ведь вопрос и в том, что считать целью!
– А что же было твоей целью? - серьезно выслушав все это, спрашивала Констанс.
И это ставило меня в тупик. В самом деле, как определить мою цель? Разве я хотел чего-то другого, не того, что Робер? Разве мне не хотелось уничтожить фашизм, прекратить войну? Боже, да кому этого не хотелось!
– Может быть, дело не в цели, Констанс, - соглашался я. - Дело во мне самом. Я хотел бы стать таким, как Робер и другие, но не могу. Ну, ведь бывает же сплошь и рядом, что человек занимается делом, для которого он совершенно не годится. Потому что так складываются обстоятельства, понимаешь? Вот так было и со мной в лагере. И я без ужаса не могу об этом вспомнить!
– О чем - об участии в лагерной организации?
– Вообще о лагере! Обо всем, что с ним связано! Если б я узнал, что меня снова отправляют в лагерь, я бы покончил самоубийством! Я замираю от ужаса, когда вспоминаю, что там было, я теряю всякое мужество!
– Но ведь всем страшно вспоминать такие вещи…
– Значит, не всем одинаково… Робер - он другой, он ничего не боится. Вот он - герой, борец, а я… я невольный участник борьбы. Я трус, пойми это! Ты принимаешь меня за героя, а я всего лишь жертва. Не ставь меня на пьедестал, я там все равно не удержусь.
– Видишь ли, герои бывают разные, - отвечала Констанс. - Почему ты считаешь, что герой - это тот, кто ничего не боится? Я даже не знаю, есть ли на свете люди, которым так уж никогда и не страшно. Ну, я понимаю, что иногда можно совсем не бояться смерти. Но не бояться пыток - это может только помешанный. Ты слишком честен, Клод, и слишком многого от себя требуешь, в этом все дело. Не надо так. Может быть, это и благородно, но ты так мучаешь себя! Смотри, как получается: ты хотел того же, что все хорошие люди, и делал то же, что они. А сейчас ты доказываешь мне, что ты не такой, как они, потому что ты боялся. Ну, неужели ты думаешь, что Робер не боялся? Я его мало знаю, это правда, но разве он не человек? Может быть, он скрывал свой страх, чтоб другим было легче…
– Вот видишь! Ты сама думаешь…
– А что я думаю? Разве ты выказывал свой страх? Конечно, нет. Иначе тебе не позволили бы участвовать в таких важных делах.
Я старался вспомнить себя в минуты ожидания опасности.
Кто знает, может, Констанс и права со своей ясной логикой борца. Действительно, если б товарищи по лагерю понимали, что я испытываю, они бы меня отстранили, и все. Наверное, я невольно вел себя, как все, подстраивался к ним… Наверное…
В конце концов я перестал спорить с Констанс. Какой в этом был смысл? Я даже перестал понимать, кто из нас прав. Мне казалось, что герой - это тот, кто идет к цели, несмотря на все препятствия, ясно видит эту цель, считает ее главной в жизни. А я? У меня была другая цель, чем у них, - поскорее вернуться домой, увидеть Валери, работать, жить… И вот я вернулся. Чем я занимаюсь? Личными проблемами, и они меня больше всего интересуют, так уж я устроен. Теперь, когда у меня есть Констанс, когда начала затихать тоска по Валери, я буду с удовольствием работать.
Меня многое интересует в науке. Но политика? Боже мой, ведь, я в ней по-прежнему ни черта не понимаю! Я знаю лишь одно: что я до безумия боюсь новой войны, а она опять угрожает миру. Я с удивлением и завистью гляжу на многих моих товарищей по лагерю - они так и рвутся еще подраться. Ну, вот они и есть настоящие мужчины… А я… что ж, прав Робер, у меня в характере слишком много женских черт. Не могу же я себя переделать!
О чем он думает? Констанс… лагерь… пытки… Констанс…
Валери… почему-то лаборатория… сцена митинга… лица Марселя и Симона… Я не могу поймать ход его рассуждений…
– О чем ты думаешь? - спрашивает Робер, появляясь на пороге библиотеки с подносом в руках. - Констанс прислала тебе кофе, давай выпьем.
Мне вдруг становится почему-то жутко. Кофе, он сказал? А когда я ел и пил в последний раз? Когда вообще ктонибудь из нас ел, вот за эту неделю? Почему я не могу вспомнить ни одного обеда, ужина, завтрака? Почему?
– А мы сегодня разве обедали? - неуверенно спрашиваю я Робера.
Он ставит поднос с чашками и кофейником на низенький журнальный столик, садится рядом со мной на диван, берет мои руки в свои большие теплые ладони и смотрит мне прямо в глаза. Я отвожу взгляд.
– Конечно, обедали, чудак! - убедительно говорит он. - Разве ты не помнишь? Констанс приготовила чудесное рагу, даже не скажешь, что оно из консервированной говядины. И компот из клубники. Как же это ты забыл, а?
Да, теперь я ощущаю на языке вкус острого соуса - Констанс прекрасно готовит соусы, не хуже Софи! - и аромат клубники… Действительно, как странно, что я забыл… Мы обедали и сидели все вместе… Да, наверное, все вместе…
– Послушай, - говорит Робер, - что это ты все время сидишь один? О чем ты думаешь?
Действительно, почему я так долго сидел один? И думал о прошлом - словно оно имеет теперь какое-то значение! Как странно… Я опять поднимаю глаза на Робера: почему мне стало так трудно, физически тяжело выносить его взгляд?
– Так о чем же ты думаешь? - повторяет Робер.
Я делаю безразличный жест.
– О чем можно сейчас думать? Так… вспоминал прошлое…
– Ты прав, - неожиданно соглашается Робер. - Сейчас лучше всего вспоминать прошлое. Мы пока обречены на бездействие и ожидание. Но давай еще подумаем вот о чем: чего мы можем ждать от будущего, мы, такие, как мы есть? Ну, если спасемся, конечно… во что я верю! Верю! - Он предостерегающим жестом поднимает руку. - Ну, ну, я понимаю, ты не так уверен, как я, это даже естественно - ведь ты столько тянешь сейчас на себе… Но все же и ты не собираешься, я надеюсь, кончать самоубийством, хотя бы потому, что ты и нас за собой потащил бы. Итак, давай подумаем: кто мы, случайно уцелевшие? Ведь согласись, что это случайность: твои уникальные свойства, наша почти мистическая связь с.тобой…
Меня все больше охватывает тревога. Мне упорно кажется, что Робер подсмеивается надо мной. Но это же нелепо, кошмарно нелепо! Почему он может смеяться надо мной в такой обстановке? Это бред…
– В конце концов могло быть иначе, - продолжает Робер. - Допустим, что налицо не загадочная телепатическая связь, а вполне реальное, хорошо оборудованное противоатомное убежище. Конечно, такая штука стоит бешеных денег. Но вдруг ты нашел клад, получил наследство от неизвестного родственника - американского миллионера или что-нибудь еще в этом роде. И мы все, вполне естественно, пользуемся твоим гостеприимством…
– Боже, насколько это было бы проще и легче! - вздыхаю я.
– Почему же? - возражает Робер. - Запасы кислорода, воды и продовольствия наверняка лимитировали бы нас куда строже и точнее, чем твоя загадочная и практически неисчерпаемая сила. Я могу, например, предполагать, что ты относишься ко мне совсем иначе, чем к Констанс или к детям, твой мозг работает для меня на каких-то иных волнах, и я вряд ли забираю энергию, предназначенную для них. А воздух и еда для всех одинаковы, и я бы, пожалуй, не решился…
– Ах, Робер, ничего я не знаю и не понимаю! - с отчаянием говорю я. - Может быть, ты и прав… Но я так боюсь, что от одного этого страха с ума сойти можно… а сходить с ума мне ведь нельзя, и поэтому я еще больше боюсь… очень боюсь, что не выдержу. Если ты что-нибудь знаешь, Робер, не мучай меня, помоги!
– Что же я могу знать? - очень серьезно отвечает Робер, не спуская с меня взгляда. - Но поверь моей интуиции, мы дотянем, мы выживем! Ты мне веришь?
– Верю… - И я чувствую, что мне действительно верится. - Верю, потому что я с тобой… ты же знаешь…
– Ну, это ты все вверх ногами ставишь… Но пусть так, если тебе легче со мной, то я очень рад…
Робер явно взволнован и смущен. Странно: его на сантименты не подденешь, да и слишком привык он к тому, что я вечно цепляюсь за него.
– Ладно, - помолчав, говорит Робер. - Давай все же пофилософствуем: что нам еще остается, верно? Так вот, давай сравним наше теперешнее положение с той ситуацией в лагере. Ну, ты знаешь, что я имею в виду: когда ты больше суток не спал и непрерывно напрягал волю, чтобы видеть, слышать и внушать свою волю. Тебе было тяжело, разве нет? Физически куда тяжелее, чем сейчас: ты был страшно истощен, измучен, и вдобавок тебя избил этот скот Вернер…
Ничего тут не поделаешь - вот уже случилось самое страшное, что могло случиться и со мной и с человечеством, а я все-таки вздрагиваю от ужаса, вспоминая лагерь. А ведь прошло так много лет, и, когда туристы, разъезжая по Австрии, направлялись от Вены к Линцу, большинство из них даже не думало о том, что здесь, над голубым Дунаем, в живописной холмистой местности, десятки, сотни тысяч людей терпели жесточайшие муки без надежды на избавление и погибали такой страшной смертью, какая мирному жителю и во сне не приснится. Туристы, наверное, с восторгом смотрели на мощные цепи Альп, встающие на горизонте, а мы… для нас не существовала красота гор, мы вглядывались в очертания горной цепи лишь с одной целью - узнать, будет сегодня дождь или нет: ведь в каменоломни надо было отправляться при любой погоде…
Каменоломни… Действительно, с этими моими таинственными способностями обстояло так: чем хуже, тем для них лучше. Чем ужасней была обстановка, тем ярче и разнообразней они проявлялись. В лагере военнопленных я был связан этой незримой связью главным образом с Робером; в гестаповской тюрьме после пыток я научился по произволу видеть других, даже чужих и враждебных мне людей, научился на расстоянии внушать им свою волю… В концлагере я владел своим странным искусством уже достаточно для того, чтоб защитить от многих опасностей себя и Робера, а иногда помочь и другим. Надо было лишь взвесить и оценить все условия и продумать, когда и что можно сделать.
Начал я действовать внезапно, случайно, в минуту крайней необходимости… Впрочем, такие минуты в лагере бывали слишком часто, чтобы… Ну, словом, я увидел - обычным образом, своими глазами, как Робер ударил капо. Мы тогда всего неделю пробыли в концлагере и не успели привыкнуть к его правилам - если в этом аду существовали какие-то правила… Впрочем, старожилы лагеря, поляки, говорили, что незадолго до нашего прибытия порядки в лагере резко изменились к лучшему… Но с меня и этого хватало, боже, кто угодно счел бы это адом, я сам не верю, что смог все это вынести!
Итак, Робер ударил капо, Гейнца Рупперта.
Мы тогда еще не знали, что это обычное развлечение Рупперта. Он подходил к какому-нибудь заключенному и начинал с ним мирно беседовать. Потом вдруг, ни с того ни с сего изо всей силы бил его кулаком в лицо. Когда заключенный с трудом поднимался, Рупперт как ни в чем не бывало продолжал беседу. Но заключенный, ожидая нового удара, при первом движении Рупперта невольно вскидывал руки, закрывая лицо. Тогда Рупнерт, от удовольствия скаля кривые желтые зубы, наносил жестокий, точно рассчитанный удар под диафрагму. После такого удара подняться было почти невозможно, и Рупперт деловито добивал человека; обычно он просто затаптывал его насмерть своими короткими, кривоватыми мощными ногами. Иногда он изо всей силы бил носком сапога в пах - после этого и топтать уже не приходилось, человек выл несколько минут от нестерпимой боли и умирал.
Поведение Рупперта ошеломило нас не только дикой жестокостью, но и какой-то нелогичностью. Гестаповцы были жестоки не менее любого из лагерных убийц, но цель их действий была ясна: они хотели добыть сведения. Попусту мучить они не стали бы: это не входило в их обязанности.
А здесь… Я не сразу понял, что означают слова - концлагерь третьей степени, лагерь уничтожения.
Здесь убивали и мучили не только за проступки против лагерного режима - да и проступки эти были до такой степени несоразмерны с чудовищным наказанием, что первое время мы глазам своим не верили. Не успел сдернуть шапку перед эсэсовцем - смерть; испачкал только что начищенные ботинки в жидкой грязи на полу умывальной, где заключенные в страшной спешке кое-как оплескивают ледяной водой лицо и руки, - смерть. Не обязательно, не по уставу, без всякого церемониала, но очень часто - смерть. Мало ли как может сытая безмозглая тварь, вооруженная револьвером и дубинкой, прикончить истощенного, безоружного, беззащитного человека! Но дело даже не в проступке; дело в том, что людей сюда присылали для уничтожения. Значит, можно уничтожить любого из них в любую минуту, придравшись к любому поводу или вообще ни к чему не придираясь…
Когда я научился видеть, что творится в душе у этих лагерных заправил, я сначала себе не поверил. Я ведь не мог видеть всего: для меня заметны были лишь основные стимулы, самые сильные желания и страсти, а мелкое оставалось неразличимым. Но что делать, когда мелкое как раз и оказывается главным, когда душа вся состряпана из мелочей - иэ инстинктов, из примитивных страстишек, из тупой, хищнической свирепости?… Нет, не из ненависти, ненависть - это уже человеческое качество, она доступна пониманию, даже если несправедлива. А эти вооруженные питекантропы не умели ненавидеть. Иногда у них бывали приступы бессмысленной, стихийной злобы, вот и все. А большей частью они убивали и пытали просто потому, что это было выгодно, - пусть и не прямо выгодно, но таковы были условия их работы, в лагере это было принято, как принято в обычном, нормальном мире носить чистую рубашку.
Но вначале ни я, ни Робер этого не знали, и именно дикая, зловещая беспричинность действий Рупперта вывела Робера из равновесия. “Ты понимаешь, я просто испугался и потерял власть над собой, - говорил потом Робер. - Я ведь уже знал, что ударить капо - это самоубийство, и вдобавок нелепо жестокое: уж лучше прыгнуть вниз с обрыва каменоломни, чем вытерпеть перед смертью все, что может придумать осатаневший от злобы питекантроп”. Может быть, на Робера подействовало и другое: Рупперт расправлялся с чудесным парнем-поляком, лагерным поэтом. Звали его Виктор - поляки и русские произносят это имя с ударением на первом слоге, -и у него были великолепные синие глаза… Так или иначе, а Робер размахнулся и отвесил Рупперту такой удар, что тот грохнулся наземь и некоторое время лежал недвижимо.
Пока никто не видел, что случилось. Мы - Робер, Виктор и я - работали за выступом скалы, на крохотной площадке. Но в любую минуту должны были появиться заключенные с носилками для камня, да и сверху мог заглянуть эсэсовец-охранник. Мы молчали. Виктор лежал, скорчившись, и глухо стонал: он вряд ли понял, что произошло. Могу заставить эту тварь слушаться - ведь есть же у нее мозг, пусть самый неразвитый.
Я знаком попросил Робера молчать и не шевелиться и направил всю свою волю на Рупперта. Мне было очень тяжело, физически тяжело, я обливался потом и цеплялся за руку Робера, чтоб не упасть. Но я вскоре добился своего: Рупперт встал как ни в чем не бывало, подобрал свалившуюся фуражку и ушел не оглядываясь. “Ты ничего не помнишь, - мысленно приказывал я ему вслед. - Не помнишь, был ли здесь вообще. Но нас ты помнишь, всех троих, и тебе не хочется нас трогать. Нас нельзя трогать. Ты знаешь, что нельзя”.
Робер не спрашивал, что я сделал: он видел.
С этого все и началось. Тут, в Гузене.
У Робера чаще бывали всякие осложнения, чем у меня.
Ко мне в общем меньше цеплялись, хотя он и физически был сильней и выдержка у него обычно была железная. Но он порядком смахивал на еврея, особенно в лагере, когда глаза и нос сделались непропорционально большими на его истощенном лице, и этого было достаточно, чтоб привлечь внимание эсэсовцев и капо. Даже если они знали, что Робер не еврей, им все же хотелось его помучить. Я не в силах был защитить его всегда и всюду. Поэтому я решил добиться, чтоб нас обоих зачислили в команду, строящую бараки. Это было нелегко - туда все стремились, там и работа была полегче, и, главное, капо, баварец Франц Юнге, был на редкость порядочным человеком: никого никогда не бил, заступался за своих работников не только на строительстве, но и вообще в лагере, часто выручал их из беды. Пришлось “уговаривать” и самого Франца, чтоб он согласился принять в свою команду двух людей, понятия не имеющих о строительных работах (впрочем, он это делал уже не раз, и без всякого гипноза), и Рупперта, чтобы он не поднимал шума, и еще кое-кого из лагерного начальства. Так или иначе, а мы оказались в этой бригаде. Там мы работали до начала 1943 года; потом в лагере произошли большие перемены к лучшему, и тогда мы с Робером попали на работу по специальности, в медицинский блок - ревир, как он назывался по-лагерному.
Но Роберу всего этого было мало, и он втянул меня в лагерную организацию. Он считал, что просто грех не использовать мои возможности как следует: “как следует” в его толковании означало: для всех. Я тщeтно объяснял ему, что это безумие. Что весь секрет моих успехов - в сосредоточенности на близкой, очень важной для меня лично цели. И еще - что если о моих способностях будут знать многие, то рано или поздно до меня доберутся эсэсовцы.
Не могу же я держать весь лагерь под контролем! Но на Робера все эти доводы плохо действовали, и кончилось, разумеется, тем, что я уступил. И вдобавок Робер сказал мне:
– Если б ты был вполне убежден в своей правоте, ты бы постарался меня загипнотизировать и подчинить своей воле. Разве нет?
Он это сказал с ехидцей, а я промолчал. Отчасти потому, что обиделся, но главное - потому, что впервые пвнял: Робера мне не удастся подчинить своей воле. То есть я впервые об этом вообще подумал, мне и в голову не приходило гипнотизировать Робера, но тут я почувствовал, что это для меня практически невозможно. Не знаю почему, но мне стало тогда страшно. Я испугался, ясно увидев границу своих возможностей именно в тот момент, когда узнал, что от меня потребуют полной отдачи, максимального напряжения. А может, ощутил, что, несмотря на свою загадочную силу, нахожусь в подчинении у Робера.
Вскоре я начал понимать, что Робер был прав. Лагерная организация так блестяще продумывала разные предприятия с учетом моих способностей, так интересно и успешно разыгрывались сложнейшие акции, что мне становилось горько: сколько людей можно было бы спасти, если б я с самого начала работал не один! Я и сам раньше не подозревал, сколько могу сделать при настоящей крепкой поддержке… Но не всегда… боже, не всегда…
О чем он думает? Да, все то же… Ряды серых бараков, мокрый, потемневший песок лагерной улицы и монотонные узоры колючей проволоки, четко проступающие на зеленом вечернем небе… Капо Шуман - Ходячая Смерть… Бог мой, до чего страшные лица у всех лагерников, ведь это живые трупы, неужели это так выглядело? Неужели мы все это прошли?
Я поздно узнал - на четверть часа позже, чем следовало, - о том, что Феликс и Леон, поляки из Варшавы, попались на глаза капо Шуману-Ходячей Смерти в ту минуту, когда они наносили новые данные на карту военных действий.
Какая это была великолепная карта и сколько она стоила труда! Сведения для нее собирались украдкой, по крохам.
То кто-нибудь из эсэсовцев бросит неосторожное слово, то заключенный, ремонтируя что-либо в кабинете начальника лагеря, услышит обрывки радиопередачи, то удастся заглянуть в газету… Но зато можно было воочию видеть, как неуклонно продвигаются по карте линии фронтов с востока и с запада, как они сближаются, все плотнее сжимая Германию и неся нам свободу.
Леон и Феликс сделали эту карту, они и вели ее почти три месяца, до середины апреля сорок пятого года. И надо же было попасться, погибнуть так ужасно, в преддверии свободы!
Я увидел их уже избитыми, с окровавленными лицами.
Допрос только начинался. Что они пережили потом! Сорок часов пыток. Они молчали. Я знаю, что они молчали бы в любом случае. Но они надеялись на меня. Они прямо обращались ко мне, пока были в сознании… да и потом…
А я… я был бессилен. Я потерял способность воздействовать, я мог только видеть. Лишь потом понял, в чем дело: я выглядел очень плохо, и перед началом операции, которую мы разработали, чтобы спасти товарищей, мне дали какоето питье для подкрепления. В нем была изрядная доза брома. В лагере мне никогда не приходилось принимать бром, и я впервые узнал, как он может подействовать на меня, - узнал ценой мучений и смерти двоих чудесных людей, моих товарищей! Тогда я ни о чем не знал и выбивался из сил, пытаясь действовать. В конце концов от этой жестокой борьбы с самим собой, от немыслимого напряжения я потерял сознание. Меня еле привели в чувство, я был очень слаб, и Робер запретил мне продолжать попытки.
Начали тогда действовать обычными путями, подкупом эсэсовцев. Но единственное, что нам удалось сделать, - это избавить товарищей от последней пытки, от газовой камеры.
Они умирали среди своих, и мы достали морфия, чтоб они не мучились. Я видел их вывихнутые, распухшие руки; я-то знал, что это значит - провисеть больше суток! Я выдержал двадцать часов, но и сейчас не понимаю, почему я не умер.
А они висели двадцать восемь часов, и это после шести лет лагерей и тюрем.
Да, но туннель… тут Робер прав…
Туннель… Впрочем, это был не туннель, а гигантский подземный зал, вырубленный в скалах. Заключенные работали в три смены, готовя эти громадные убежища для работы военных заводов. Как только заканчивали хоть вчерне один зал, в нем сейчас же устанавливались станки, и работа продолжалась. Под слоем земли и камня толщиной в 35-40 метров не страшны были никакие бомбежки. А в это время, к концу 1944 года, авиация союзников начала все чаще навещать соседние с лагерем промышленные центры Австрии.
Когда бомбили Линц, мы хорошо слышали и разрывы бомб и лихорадочную пальбу зениток. Как мы радовались! Все были уверены, что лагерь бомбить не будут, и, как только начинали выть сирены, мы, несмотря на строгие запреты эсэсовцев, высыпали из бараков и вовсю глазели на сверкающие в синем небе самолеты. Громадные серебряные птицы, несущие нам свободу. Несущие смерть нашим палачам. Гибель и разорение их домам и фабрикам, их семьям и лавкам. Проклятый черный паук-свастика,-сосущий кровь из всей Европы, скоро тебя раздавят самолеты и танки! Мы гадали, кто придет в эти места первым, русские или союзники; но нам-то было, в сущности, все равно: кто угодно, лишь бы скорее свобода.
Но эсэсовцы начали загонять нас во время налетов в подземные цехи: они не хотели из-за нас торчать наверху, рискуя жизнью. В начале 1945 года стали гнать в подземелье всех, даже больных, которые еле передвигались. Гнали в бешеной спешке, натравливая собак, колотя прикладами автоматов.
Им надо было.загнать заключенных и успеть спрятаться самим, а эскадрильи союзников возникали на горизонте очень быстро вслед за сигналами тревоги…
4 апреля 1945 Года в полдень над лагерем опять завыли сирены, и эсэсовцы начали загонять заключенных в подземелье. Но нам сразу почудилось что-то недоброе. Сирены умолкли, а самолетов все не было, да и эсэсовцы, как нам показалось, меньше торопились, чем обычно.
Мы с Робером из окна ревира тревожно наблюдали за всей этой процедурой.
– Дело плохо, - сказал вдруг Робер. - Посмотри, многие эсэсовцы не пошли в подземелье. И капо остались - вон, видишь, мордастый Отто прохаживается, а там сейчас прошел Рупперт… Дело плохо, говорю тебе, Клод. Никаких самолетов нет, сам видишь.
Подошел польский врач Казимир. Он тоже был очень встревожен. На лагерном жаргоне, примешивая немногие известные ему французские слова, он сказал, что вчера прибыл товарный поезд, и один вагон разгружал лично начальник лагеря с двумя своими помощниками. Таскали они какие-то ящики. Кроме того, ему известно, что все выходы из подземелья замурованы, остался лишь один, а неподалеку от него в скале высверлена большая ниша. По мнению Казимира, эсэсовцы решили уничтожить сразу всех, заключенных - ведь в подземелье сейчас более двадцати тысяч людей, и если завалить выход, то все они там погибнут.
Мы давно опасались такого финала и сейчас сразу поняли, что это может быть правдой. Робер и Казимир поглядели на меня.
– Что же делать? - беспомощно спросил я. - Ведь некогда даже обдумывать…
– Выход пока один: ты должен оседлать Бранда. Можешь ты его найти?
Я кивнул. Тело стало невесомым и будто чужим, голова казалась прозрачной и хрупкой, все вокруг начало туманиться и двоиться. Я знал, что это означает: Свободу и Власть. Я уже не видел двухэтажных коек ревира с пожелтевшим застиранным бельем, не видел странных рыжевато-синих потеков на грубо выбеленных стенах. Я лишь смутно ощущал, как кто-то усадил меня на табурет, как голос Робера произнес:
– Ты его видишь?
Я его видел. Начальник лагеря Пауль Бранд стоял на широких бугристых ступенях лестницы, вырубленной в скале.
Неподалеку зиял огромным темным отверстием вход в подземелье. Сухое костистое лицо Бранда было скривлено гримасой недовольства, он постукивал стеком о высокие сапоги, зеркально блестевшие на солнце.
– И вы ручаетесь, что этого будет достаточно? - раздраженно спрашивал он.
– Разумеется, герр штандартенфюрер! - с убеждением отвечал румяный крепыш Отто Лехнер, его помощник. - Это научно рассчитанная порция на такую кубатуру.
– Я знаю эти расчеты, - мрачно говорил Бранд. - Но ведь тут двадцать две тысячи заключенных. И потом в газовых камерах все наглухо заперто, и циклон сыплют сверху, через отверстия. А тут? Самое большее, что мы можем, - бросить открытые банки внутрь… и то с опасностью для жизни.
– Они наденут противогазы, - с готовностью отвечал Лехнер, указывая на двух эсэсовцев, понуро стоявших у входа в подземелье.
– Да вы представляете себе, что начнется, если мы будем швырять туда, внутрь, эти банки с циклоном? Нет, я против. Взорвать и завалить выход, и только. Они и без газа отправятся на тот свет.
Лехнер был явно недоволен.
– Как вам будет угодно, герр штандартенфюрер, - отвечал он. - Но тогда придется надолго поставить часовых с ракетами у всех выходов. Иначе они пробьются на волю. Инструменты там есть…
Я сказал товарищам, о чем говорят Бранд и Лехнер.
Я улавливал, что, кроме Робера и Казимира, рядом со мной находится еще кто-то. Потом я узнал, что это был немецкий коммунист Бруно Шефер, - он тогда лежал в ревире с громадной флегмоной на бедре. Все остальные члены лагерной организации были в подземелье.
– Ну, пробуй, пробуй, Клод! - говорил Робер. - Внуши ему, что он боится.
Я молчал: мне всегда трудно было говорить в таком состоянии. Я чувствовал, впрочем, что Бранд и так боится.
Боится ответственности, наказания. Но боится и ослушаться приказа.
– Ты можешь что-нибудь сделать? - спрашивал Робор.
Я пробовал ответить - и не смог. Я напрягал всю свою волю, приказывая Бранду: “Ты этого не хочешь, ты боишься, из этого ничего хорошего не выйдет, ты боишься, ты не можешь брать ответственность на себя…” Я видел, что надменно-брюзгливая мина Бранда сменилась выражением растерянности и страха. Он медлил, опустив голову и помахивая стеком. “Ты боишься! - кричал я ему из дощатого барака ревира. - Тебе очень страшно! Отвечать за это придется тебе, а не другим! Ты боишься, пошли они все к черту, ты боишься!” Кто-то осторожно обтер мне лицо чем-то приятно холодным, влажным. Товарищи всегда говорили, что на меня в таком состоянии страшно смотреть - я бледнею до синевы, обливаюсь потом, и чувствуется, в каком я страшном напряжении.
Бранд поднял голову, в его глазах было выражение испуга.
– Ничего из этого не выйдет, - сказал он глухим голосом. - Отвечать придется мне в случае чего. Дайте отбой тревоги, и пускай они все выходят.
Лехнер очень удивился, по-видимому, но молча откозырял и ушел. Вскоре над лагерем завыли сирены, и заключенные длинной нестройной шеренгой потянулись из подземелья. Бой был выигран, и я потерял сознание от усталости. Я просто свалился с табуретки, и Робер еле успел меня подхватить и отнести на койку.
– Бог нас спас, только бог! - крестясь, повторял в тот страшный день вышедший из подземелья польский священник. - Мы видели, что они затеяли, и смерть глядела нам прямо в глаза. Но бог отвел руку убийц…
Я уже пришел в себя и слушал это, лежа рядом на койке. Бог… Вот он, твой бог, валяется на койке в грязном полосатом тряпье и рукой шевельнуть не в силах от истощения. К этому времени в лагере опять начался жестокий голод, посылки от семей и с востока и с запада перестали приходить, даже скудное лагерное продовольствие поступало с перебоями. Я недавно глянул в зеркало в умывальной и невольно отшатнулся - жуткая, грязно-белая кожа, обтяяутые скулы, провалившиеся глаза, уши торчат, волосы коротко острижены, голова кажется бесформенной, бугристой от шишек и чирьев… Бог… ходячий скелет, как и все кругом…
“И все-таки я сотворил чудо”, - вяло подумал я и тут же заснул.
Затея с подземельем больше не повторялась. Правда, после этого случая многие выкопали себе тайные укрытия и во время тревоги прятались там, чтобы не ходить в подземелье: эсэсовцы не очень тщательно обыскивали лагерь, им было не до того, налеты повторялись все чаще. Но Бранд окончательно решил плюнуть на приказы из Берлина. Я ему, правда, время от времени внушал это, но думаю, что ен и без моего воздействия уже не решился бы вторично затевать всю эту историю.
– Что ты вспоминал? Подземелье? - спрашивает Робер. - Да, это было здорово. Но все это продолжалось максимум десять минут. А вот история со списком!
Да, это было сложно и трудно. Я не думал, что выдержу.
Без помощи я и не выдержал бы. Капо Шумахер через своих пособников разузнал кое-что о лагерной организации.
Он составил список - я потом увидел этот список на столе Брэнда, там были и члены организации и люди, никакого отношения к организации не имевшие, но чем-то не угодившие Шумахеру. Нужно было действовать немедленнo и решительно. Мы разработали план, но почти все зависело от того, выдержу ли я…
– Да, так вот: если ты выдержал тогда, почему ты боишься, что не выдержишь теперь? - спрашивает Робер.
– Это ведь совсем другое… - нерешительно говорю я после долгого раздумья. - Я был все-таки намного моложе…
Робер нетерпеливо взмахивает рукой.
– Ну при чем тут возраст? Ты и сейчас не старик. А по характеру тебе легче и естественней любить, чем ненавидеть. Так что действие, наполовину продиктованное ненавистью, было для тебя вдвойне трудным. Разве не так?
Я стараюсь припомнить, что я тогда чувствовал. Ненависть? Вряд ли, мне было уже не до этого. Просто - адское напряжение и… да, тоже страх, что я не выдержу, и тогда все пропало. Тогда - пытки для десятков людей, смерть для сотен, а может, и тысяч… То есть я знал это, но старался об этом не думать.
Нельзя было думать об этом. Вообще ни о чем нельзя было думать. Нужно было все время видеть Бранда, его красное, изрезанное морщинами лицо, его водянистые голубые глаза и говорить ему: “Ты знаешь, что капо кухни Шумахер - вор, наглый вор, что он и тебя обкрадывает и позорят и, чего доброго, потащит за собой на суд, а потом на Восточный фронт. Тебе давно пора с ним расправиться. Список, который он тебе подсунул, сплошное вранье, он просто старается отвлечь твое внимание от своих грязных махинаций”.
Я в это время уже знал, что лучше всего удается внушение, если не просто приказываешь, но при этом заранее видишь, как тот, кому ты посылаешь приказ, выполняет его.
Надо во всех подробностях представить себе, что и как он делает, а потом… потом сразу освободиться от этого образа, будто вытолкнуть его из себя. При этом нужны перерывы в действии - для разрядки и нового накапливания энергии.
Я рассчитал, что в этой операции такие перерывы в принципе возможен, и решился, для начала по крайней мере, прибегнуть к самому верному способу.
Я знал, что товарищи все подготовили там, у Шумахера, и пдатому отчетливо представил себе, как Бранд берет список, застегивает мундир на все пуговицы и своим деревянным прусским шагом направляется к бараку, где живет Шумахер. Он быстро проходит, почти пробегает по коридоPy, ударом ноги распахивает дверь и… Тут его, собственно, можно было бы отпустить. Он и сам сделал бы все, что нам нужно, увидев, как Шумахер делится награбленным продовольствием со своим любимчиком Вилли, он и сам начал бы обыскивать все шкафы, перерыл бы постель и нашел бы и золотые коронки, и кольца, и портсигары, которые Шумахер выменивал путем сложных комбинаций у обслуживающих крематорий и у команды “Канада”. Но мне нужно было еще, чтобы Бранд в ярости разорвал список и швырнул его в лицо Шумахеру, в это наглое, сытое лицо с телячьими глазами, теперь некрасиво, пятнами побелевшее и исказившееся от животного страха. Он сделал этр, я отключил образ и сразу почувствовал себя опустошенным.
Обливаясь холодным потом и стуча зубами, я смотрел сквозь туман смертельной усталости на сосредоточенные, напряженные лица товарищей.
– Выпьешь? - спросил Марсель Рише. Он протянул мне помятую алюминиевую кружку; на дне ее колыхалась синеватая пахучая жидкость - разбавленный медицинский спирт.
Я покачал головой. Я знал, что алкоголь может усилить мою способность видеть и действовать, но уж очень я был слаб. Все плыло и туманилось перед глазами, и я не понимал, откуда возьму силы, чтобы действовать дальше.
– Мне бы кофе… или кофеину, - еле выговорил я.
Я до сих пор не знаю, где и как раздобыли мне кружку горячего, крепкого, сладкого кофе. И два белых сухаря.
Я вернулся к жизни. Голова стала ясней, туман перед глазами рассеялся, и я снова увидел маленькую комнату врача при ревире, дощатые стены с паклей, торчащей в щелях, электрическую лампочку с колпаком из пожелтевшего газетного листа… Пригибаясь по привычке в дверях, вошел Длинный Курт и посмотрел на меня с тем характерным выражением острого любопытства и тревоги, к которому я уже успел привыкнуть: так смотрели на меня все, кто знал об этом.
– Бранд потащил Шумахера к проволоке, - сказал Курт. - Он зол, как тысяча чертей.
Теперь мне следовало включаться. Я должен был заставить Брэнда немедленно доложить о случившемся начальству главного лагеря, Маутхаузена, - Бранд был начальником нашего филиала, Гузена. Если он сообщит начальству, делу уже нельзя будет дать обратный ход. Клочки разорванного списка успели подобрать и уничтожить, но, если Шумахер выкрутится из этого дела, он снова составит список и снова найдет способ его подсунуть… Он ловок и хитер, Франц Шумахер, мюнхенский карманный вор, капо лагерной кухни, но мы его перехитрим. Пускай он простоит ночь у проволоки, щелкая зубами от холода, а утром получит 25 горячих да в придачу дюжину крепких затрещин и пинков, пускай отправляется в штрафную команду, в главный лагерь. Разжирел на краденых харчах, подлец, да еще мало ему показалось, что обворовывал голодных и беззащитных, захотел выслужиться, захотел кровью запить жирную жратву - так получай от нас сполна! Получай, сытая скотина! Ты до поры до времени был не хуже, даже лучше своих дружков, ты был слишком ленив и жирен, чтоб много драться, и мы не думали, что именно с тобой придется рассчитываться раньше, чем с другими, но ты сам сунул голову в петлю - так вот тебе, получай, что выбрал!
– Нет, я ненавидел его, ненавидел, как все, - говорю я Роберу, вспомнив все это. - Мне тогда ненависть не казалась неестественной.
– И все-таки тебе было очень тяжело, - отвечает Робер, пристально глядя на меня. - Ты припомни, как получилось тогда с Кребсом!
С Кребсом! Да, действительно… Это было совсем неожиданное осложнение. Тот же Длинный Курт прибежал и сказал, что к ревиру идет Кребс.
– Какого дьявола ему понадобилось в ревире, да еще в такой поздний час? - удивился Робер, которому он это шепнул на ухо.
Курт пожал плечами и поглядел на меня. Я как раз в эту минуту отключился от Брэнда. Я испытывал то особое чувство облегчения, которое означало, что внушение удалось.
Это очень хорошее, сильное и какое-то чистое чувство.
“Чистое” - наверно, не то слово, но по крайней мере в лагере оно соответствовало сути: я никогда не применял там своих способностей в нечистых, нечестных целях.
Услышав имя Кребса, я встревожился. Даже не только потому, что появление эсэсовца ночью, в неположенном месте почти наверняка означает беду. Моя тревога была несколько иного свойства. Дело в том, что обершарфюрер Кребс был одним из моих “подопечных”. Я уже не раз приказывал ему, и он довольно послушно выполнял приказы.
Сейчас, отключившись от Бранда, я сразу почувствовал, что Кребс ищет меня. Я не успел перехватить его, внушить, чтоб он забыл об этом намерении, - по коридору ревира прогромыхали подкованные сапоги, и Кребс распахнул дверь комнаты врача, где я сидел.
Я смотрел на него, пытаясь сообразить, что ему нужно.
Кребс был на редкость красивый парень, этакий идеал арийца: белокурый, румяный, голубоглазый, с четкими, правильными чертами лица. Если б он не косил так здорово, с него можно было бы плакаты писать. Он смотрел на меня своими разбегающимися глазами - один в темное окно, до половины занавешенное накрахмаленной марлей, другой в угол, - а я ловил его мысли и никак не мог понять, в чем дело.
Я тогда еще не знал, что при такой связи может возникнуть спонтанный контакт, - особенно когда я напряженно работаю. Тот, кто уже принимал от меня телепатемы, может внезапно, помимо моей и своей воли, включиться в цепь контакта, не имеющего к нему никакого отношения. Так вот и получилось у меня с Кребсом. Я, наконец, уловил: он понятия не имеет, что его заставило прийти сюда, и уже начинает злиться. Но я был слишком истощен экспериментом с Брандом и не мог сразу, без отдыха перестроиться на Кребеа. А тот злился все больше, но пока помалкивал. Все тоже молчали.
– Вы нездоровы, герр обершарфюрер? - спокойно спросил врач Казимир.
– Не твое дело! - оборвал его Кребс. - Вы что тут делаете? Почему собрались?
– Привели больного, - все так же спокойно ответил врач, указывая на меня. - У него сердечный приступ. Сейчае я сделаю ему укол. Кофеин, - добавил он.
Казимир быстро приготовил шприц и сделал мне укол.
Кребс все еще колебался: он был сбит с толку, не знал, зачем пришел. Тут я почувствовал себя лучше и начал командовать. Кребс повернулся и молча ушел. Тогда мы стали совещаться, как с ним быть.
– Если он будет вот так, без толку лазить за тобой, ми все пропали, - сказал Марсель.
– А если и другие? - предположил Робер.
Я ничего не мог сказать, для меня это было совсем неожиданно, и я здорово встревожился. Хорошенькое дело, вот такие спонтанные, непроизвольные контакты с эсэсовцами и капо! К чему это может привести?
– Насчет других пока ничего не известно, - сказал Казимир, - а вот Кребса, пожалуй, придется убрать.
С этим все согласились - тем более что Кребс считался одним из самых злобных надсмотрщиков в каменоломнях и на его совести были уже сотни застреленных, затоптанных сапогами, забитых плеткой узников. Недавно он завел сoбаку, здоровенную темно-серую овчарку, и теперь тренировал ее, стараясь, добиться, чтобы Рекс различал, когда хозяин приказывает хватать заключенных за ноги, а когда прямо вцепляться в горло. Рекс пока что плохо разбирался в этих тонкостях…
Мы начали обсуждать, что и как сделать. Убивать Кребса было, разумеется, нельзя: за убийство эсэсовца жестоко поплатился бы весь лагерь. Скомпрометировать его было пока невозможно: Кребс не участвовал в спекуляциях и кражах, и вообще, по нашим сведениям, за ним никаких особых нарушений не числилось. Эсэсовский ангелочек, такой же идеальный, как его арийское косоглазое лицо. Оставалось одно - симулировать самоубийство.
Это можно было сделать, в сущности, одним путем - послать Кребса на проволоку.
– Ты же понимаешь, Клод, - сказал Робер. - Без тебя нам не спрариться с этим молодчиком. Ты как, в форме?
Я молча кивнул. Кофеин для меня доставали “с воли” путем сложных комбинаций. Действовал он безотказно: мне даже не приходилось напрягать волю, чтобы видеть; энергия расходовалась только на внушение.
План мы разработали такой: вывести Кребса из его комнаты, где он сейчас сидит по моему приказу, и заставить пойти к проволоке неподалеку от сторожевой вышки, чтоб часовой видел и потом мог подтвердить, что Кребс сам бросился на проволоку. Все это было нетрудно, за исключением самого последнего действия: такого приказа Кребс не сможет выполнить, страх смерти пересилит любое внушение.
– А ты внуши ему, что проволока не под током, - посоветовал Робер, когда я объяснил это.
Я задумался.
– Даже если не под током, какого ему черта трогать проволоку? Чтоб проверить? - сказал Марсель. - Нет, это не то…
– Я знаю, что надо сделать, - заявил Казимир. - Ты ему внуши, что через проволоку лезет заключенный. И пускай он его схватит. Верно?
Это была блестящая идея. Я “вывел” Кребса к проволоке. Я видел, как он идет, привычно печатая шаг, и прожекторы на вышках равномерными, медленными взмахами рубят тьму, обливают белым мертвым светом ладную, статную фигуру Кребса и уходят дальше, двигаясь плавно и ритмично, как в зловещем танце. Я увидел, как Кребс нерешительно остановился у самой проволоки. Тут я выключил зрение, мне было уже не до этого. Я начал во всех деталях представлять себе, как Кребс видит фигуру в полосатой одежде, видит, как узник, озираясь, подбегает к проволоке и начинает взбираться вверх. Видит даже кожаные перчатки на руках заключенного и понимает, что это он надел для защиты от колючей проволоки. “Ведь он убежит! - внушал я Кребсу. - Хватай его!” Я представил себе, как Кребс молча, одним прыжком оказывается возле заключенного и яростно хватает его обеими руками, чтоб стащить на землю, затоптать начищенными сапогами, избить до полусмерти, а потом поволочь на допрос, на новые пытки. Я представил все это ярко, точно, детально, вплоть до последней слепящей вспышки - и, словно толчком, выбросил из себя этот образ.
Я медленно открыл глаза, возвращаясь в комнатку при ревире.
– Ну как? - спросил тревожно Робер.
– Удалось, - еле выговорил я.
Мне не нужно было идти к проволоке, чтоб увидеть там скорченное смертной судорогой тело Кребса с руками, прикипевшими к проволоке: я знал. И счастье удачи отнимало у меня последние силы.
– Отнесите его на постель, - успел я услышать голос Казимира, а потом провалился в черную, тихую тьму.
Неужели мне тогда было легче? Нет, наверное, я просто забыл о том страхе и нечеловеческом напряжении, забыл за эти двадцать с лишним лет и теперь уже не могу по-настоящему представить свое тогдашнее состояние.
– Не знаю, Робер, - говорю я наконец. - Может, ты и прав: мне и тогда было не легче. Но какое это имеет значение?
– А вот какое, - Робер наклоняется ко мне, и я опять чувствую его тяжелый взгляд. - Тебе не кажется в эти дни, что ты один, совсем один несешь на себе всю тяжесть и никто тебе не помогает?
Я откидываюсь на спинку кресла, чувствуя, что меня вдруг обливает холодный пот. Робер говорит правду, жестокую правду. Подлую правду!
– С чего ты это взял? - как можно спокойней отвечаю я.
– Что толку притворяться? - возражает Робер, и я понимаю, что он видит меня насквозь. - Именно потому тебе и тяжело. В лагере ты хорошо знал, что на нас можно вполне положиться: свою часть работы мы выполним, мы облегчим твою задачу, насколько это в наших силах. И ты действовал по заранее намеченному, здорово продуманному плану. Ведь были придусмотрены все варианты, подстрахованы все опасные пункты. Конечно, если б ты не выдержал, весь план рассыпался бы, как карточный домик. Но план и был рассчитан на твои способности… на крайнее напряжение этих способностей, верно?
Я молча киваю головой. Подлая правда, жестокая, никчемная правда! Я не хотел ее знать, она лишает меня сил.
Да, там был план, была организация, были верные, надежные друзья. А здесь? Боже мой, здесь, среди тех, кого я считаю самыми близкими и дорогими людьми, я один. Никто мне не помогает. Наоборот… Я одинок, непонятно, бессмысленно, несправедливо одинок. Почему? Что я сделал, за что они бросили меня, отвернулись от меня, когда мне так нужны их помощь, их любовь, их понимание?
– Но почему? Почему? - беспомощно бормочу я.
– Почему? - как эхо, повторяет Робер. - Разве ты все еще не понял? Мы ни в чем не виноваты. Не виноваты, что ты своей волей попытался спасти нас от гибели. Мы были частицей человечества, кирпичами гигантского здания всемирной цивилизации. А что мы сейчас? Жалкая горстка отщепенцев. Мы потеряли все: Париж, Францию, весь мир, все человечество. Мы, словно кусок дерна, насильственно вырезаны из питавшей нас почвы и брошены среди ядовитой пустыни. Пускай даже яд не убьет нас; но разве мы сможем жить без почвы, без ее живительных соков, без солнца, дождя и вольного ветра? Чего ты хочешь от нас и от себя? Разве ты не понимаешь, что жизнь теперь потеряла смысл? И твоя любовь - тоже?
– Зачем ты говоришь мне это… теперь? - еле шевеля губами, произношу я. Мне кажется, что я повис в черной, холодной пустоте, совершенно один, один во всем мире, и никого вокруг.
Робер долго молчит.
– Да, ты прав! - неожиданно мягко говорит он. - Ты прав, Клод. Я не должен был говорить тебе это. Мне просто хотелось, чтоб ты здраво судил о вещах и не строил ненужных иллюзий. Но если тебе так легче…
Он ставит недопитую чашку с кофе и уходит. Я сижу, стараясь собраться с мыслями… “Жить без почвы”, - сказал он… Конечно, это так…
– Констанс! - кричу я, вскакивая. - Констанс, где ты?
Мне так хочется ее видеть, так мне страшно и одиноко без нее, что я, как ребенок, внезапно потерявший из виду мать, бросаюсь к двери. Но Констанс уже стоит на пороге, бледная, спокойная, ясная.
– Что с тобой? - тихо говорит она. - Сядь, успокойся, на тебе лица нет. Ты должен быть спокоен, понимаешь, очень спокоен…
“Я схожу с ума, конечно же, я схожу с ума”, - думаю я. Даже в этих простых и ласковых словах мне чудится горечь и скрытая издевка. Но ведь это невозможно, чтобы Констанс… Впрочем, почему невозможно? “Надо трезво смотреть на вещи, - говорит Робер, - и не строить иллюзий”. Констанс могла измениться, потому что все вокруг изменилось, потому что я сам изменился… Жить без почвы…
Я сажусь рядом с Констанс на диван, глажу ее руку и пытливо вглядываюсь в ее ясное лщо. Она немного осунулась и побледнела, под глазами легли синеватые тени, но все равно это прежняя Констанс, моя верная, сильная, надежная Констанс. Разве не так?
Может, и не так. Что я знаю? Ведь я потерял внутреннюю связь с Констанс… и со всеми. Я не знаю, о чем она сейчас думает. А она безошибочно читает мои мысли… Лучше, чем я сам, пожалуй…
– Я-то прежняя, - тихо говорит она. - Но ведь все кругом изменилось. И что толку в том, что я прежняя? Человек тем и силен, что может примениться к обстановке. А я чувствую, что не могу. Я не знаю, как мне дальше жить и что делать.
– И ты говоришь, что осталась прежней! - с отчаянием отвечаю я.
“Значит, и Констанс тоже… самая верная, самая прочная опора… Значит, прав Робер… и тогда…” - Да, конечно. Я вообще с трудом меняюсь. Даже тогда, в молодости… Мне ведь было очень трудно отойти от партии…
– Я понимаю… - неуверенно говорю я. - Но ты была всегда такая спокойная…
– Я должна была сохранять спокойствие - ради тебя. Мне нужно было сделать выбор, не вмешивая тебя.
– Между мной и партией? Констанс, но разве я…
– Нет, нет, - поспешно отвечает Констанс, и ее серые, с золотыми искорками глаза слегка темнеют. - Ты никогда ничего не сказал бы, я знаю. Но я не умею так делить душу пополам. Ты был как больной ребенок: надо было или принимать всю ответственность за тебя, или сразу отказываться…
– Ты мне никогда этого не говорила… - бормочу я. - И почему, собственно…
– Потому, - мягко говорит Констанс, - что ты не смог бы этого вынести. Если б тебе пришлось отвечать за это, тебя совесть замучила бы… Разве я не понимала тебя уже тогда?
– Значит, ты была несчастлива все это время? - тихо спрашиваю я.
– Я была счастлива, - спокойно отвечает Констанс. - Но тогда пришлось делать выбор сразу, и мне было очень трудно. Еще и потому трудно, что я прятала это от тебя. Как хорошо, что ты тогда не читал в моей душе! А потом я понемногу успокоилась, и все было в порядке. Нет, ты не должен огорчаться. Просто я хотела сказать, что очень медленно меняюсь. Вот и сейчас…
Мне становится страшно, очень страшно. Нет, если подумать, Констанс никогда не была счастлива. Просто она очень сильная, добрая, мужественная, она взвалила на себя тяжелый груз, да так и тащила его все эти годы, никогда не жалуясь, не прося помощи, не выдавая даже мне своей боли и усталости… А я воображал, что все знаю о ней! Эгоисты всегда знают только то, что их устраивает, остальное они прекрасно умеют не замечать.
– Я эгоист, Констанс, - говорю я. - Теперь я вижу, до чего я был слеп и себялюбив. Теперь, когда уже поздно…
– Ты большой ребенок, - Констанс улыбается мне своей бесконечно знакомой, доброй и тихой улыбкой, еле трогающей уголки губ и глаз. - Зачем ты себя упрекаешь? Мне было хорошо с тобой. А если б я отказалась от тебя, мы оба были бы несчастны, разве не так?
– Я был бы несчастен. Я вообще не знаю, что со мной сталось бы без тебя. Но ты… ты могла найти другого, нормального, спокойного человека, и тогда не понадобилось бы делать выбор…
– Я полюбила не другого, а именно тебя. И никогo другого полюбить не смогла бы. Разве ты этого не понимаешь?
Да, я понимаю, я все понимаю. Ей так кажется. Так мне казалось, когда я был с Валери. Но Валери давно нет… Теперь ее совсем нет… совсем нет, это невероятно, и об этом не надо думать, не надо думать… И вот я прожил долгие и счастливые годы с Констанс и без нее, вероятно, вообще не смог бы жить… А впрочем, кто знает? Теперь я во всем готов усомниться. “Человек многое может вынести”, - говорит один из героев Ремарка, и мне ли этого не знать! Правда, всему есть мера и предел; но если б я не встретил тогда Констанс… ведь не умер бы я с горя, это смешно в наш век, и не сошел бы с ума, не покончил бы самоубийством, раз уж я не сделал ни того, ни другого в лагере. Я даже не спился бы, потому что не люблю и не умею много пить, и хмель не приносит мне даже того минутного ощущения легкости и счастья, из-за которого можно пристраститься к алкоголю. У меня были друзья, была работа… Смешно выдумывать детские сказки… Жил бы, женился и детьми обзавелся бы. Да, это были бы не Натали и Марк, а другие… Ну и что ж? Разве в этом для тебя оправдание? В том, что они такие, а не иные?
Да и какие, собственно?… Впрочем, все равно. Если даже считать, что продолжение рода само по себе может оправдать существование человека, то и в этом случае твоей заслуги тут мало. Неустанные заботы Констанс, ее сила и доброта - вот что держало нас всех, вот что помогало нам жить.
– Констанс, - говорю я и целую ее руки, ее добрые, сильные руки. - Констанс, без тебя ничего не было бы… и меня не было бы…
Слова эти сами сказались, будто из глубины души, я вполне искренен. Но ведь минуту назад я думал иное, и тоже был искренен, горько искренен. Тут я замираю от страха - я забыл, я не могу привыкнуть к тому, что Констанс меня видит… И вдруг я понимаю впервые, что означало для Констанс мое постоянное присутствие в ней, внутри ее души.
Это было как тюремный глазок - в любую минуту, в любой позе тебя могут увидеть чьи-то глаза. И если это не чужие глаза, пожалуй, тем хуже. Мне казалось, что это так прекрасно, что это высшая форма связи, возможная между людьми, что это предвестие будущего…
– Но ведь ты прав, - отвечает мне Констанс, и меня опять ужасает, что она видит. - Ты прав: наверное, в будущем все смогут так…
Да, в будущем. В далеком, очень далеком будущем, которое теперь отодвинулось еще дальше, а верней всего, исчезло.
В том ясном, счастливом, гармоничном мире, которого никто из нас никогда не увидит. Я видел его отдаленный отсвет в глазах Констанс, я слышал отзвук его гармонии в ее душе.
Но и это оказалось обманом… самообманом, еще одной эгоистической ложью, вполне достойной нашего века. Делать вид, что все хорошо, когда ясно видишь, что ни черта хорошего быть не может; уверять себя, будто ты создал оплот идеальной любви и дружбы, когда отлично знаешь, что нет и не может быть никаких баррикад против всего мира, против всего человечества, гибнущего от взаимного непонимания, от нелепой, бессмысленной вражды. И вдобавок закрывать глаза на то, что делается внутри твоего крохотного, мнимо идеального мирка! Ну, разве ты этого не видел? По совести - так совсем и не видел? Ты никогда не думал над тем, что означает для Констанс, с ее убеждениями, с ее воспитанием и биографией отход от партии? Ты верил ее спокойствию, ее уравновешенности, ее тихой улыбке, - так уж безусловно, безоговорочно верил? Брось притворяться, ты просто закрыл глаза на то, что тебе не хотелось видеть, и решал, что это для тебя не существует.
А то, что случилось с Натали, когда ты попробовал вмешаться в ее жизнь, - это разве не должно было раскрыть тебе глаза? А Марк? Ты постарался забыть, какое у него было лицо в те дни, когда Натали… Ты постарался забыть его разговор с приятелем… А какой толк забывать,.вытеснять из памяти все это, если сам Марк ничего не забыл и не простил?
Да, его разговор с приятелем… с этим рыжим пареньком Луи Милле… Я постыдился рассказать Констанс об этом, ведь вышло так, что я шижшил за Марком, - и это сразу после трагедии, разыгравшейся с Натали. Но я был глубоко встревожен… Я поймал очень странный взгляд Марка, мне показалось, что сын меня не то боится, не то ненавидит…
И мне вдруг нестерпимо захотелось узнать, что он делает.
Мне показалось… ну, в общем я начал искать Марка и нашел его. Я даже не думал, что мне так быстро и прочно удастся установить контакт. Правда, в лагере это уже стало для меня обычным, но после войны…
Марк и Луи оказались возле Нижнего озера в Булонском лесу. Луи откинулся на спинку скамейки, щуря глаза от солнца, Марк сидел сгорбившись и упорно разглядывал свои ногти. Разговор шел как раз о том, что меня интересовало, - наверное, поэтому мже так и захотелось искать Марка именно в зту минуту.
– Нет, ты пойми, этот самый Жиль мне вовсе ни к чему, - говорил Марк. - По-моему, он дешевый парень, а Тали - просто дуреха, что в него втрескалась. Но дело не в нем, а в родителях.
– Да… это верно, - отозвался Луи. - Я от них не ожидал, то есть от твоей матери, отца-то я плохо знаю.
– Мать, она еще ничего. Если б она дома была, все обошлось бы. Но отец… Я, знаешь, никак опомниться не могу. Раньше девушек в монастырь отдавали. Так, по-моему, уж лучше монастырь, чем такие вот штучки.
– И что ж, она позабыла этого своего парня? - спросил с любопытством Луи. - Совсем-совсем?
– Не позабыла. Я этот их разговор, отца с матерью, слышал… Случайно, ты не думай, - добавил он, краснея. - Если б отец внушил ей забыть, мог получиться скандал. Жиль - он ведь кузен Люси, той длинной брюнетки, что ты у вас видел…
– Ага… ничего девочка, - Луи прищелкнул языком.
– Ну вот. Рано или поздно Тали встретится с этим Жилем или еще с кем-нибудь, и если она его не узнает… Ну, словом, отец ей внушил, чтобы она разлюбила…
– Да-а, - протянул Луи. - Черт знает что! Жутко даже, - Вот именно, что жутко! - с ожесточением, потрясшим меня, сказал Марк. - И, знаешь, мне и сейчас жутко. По-моему, он за нами следит. Нет, ты не думай, я не псих, Он ведь может следить, это уж точно. Я… если он и слышит, то пускай… я иногда его ненавижу, вот даю слово!
– Это я читал, - авторитетно заявил Луи. - Называется “эдипов комплекс”.
Марк выслушал довольно путаное объяснение насчет эдипова комплекса и недоверчиво усмехнулся.
– Это все, по-моему, чепуха. И вообще речь идет о другом, я же тебе объясняю… Нет, я чувствую, он следит, давай кончать разговор.
“Неужели и этот разговор не раскрыл тебе глаза? - спрашиваю я себя. - Неужели ты не понял, что твой мир - это тоже мир, основанный на деспотизме, и вдобавок на деспотизме самого страшного вида - деспотизме всепроникающем, всевидящем, всемогущем, владеющем душой человека, а не телом?”
– Не надо так! - говорит Констанс, сжимая мою руку. - Что ты себя терзаешь? Это ведь преувеличение. Ты сам говоришь, в этом мире не может быть ничего идеального. И все-таки мы были ближе всех к будущему.
Ближе всех? Что ж, может, Констанс все же и права. Первые проявления будущего всегда непривычны, часто смешны, иногда страшны. Потом они входят в норму, и их перестают замечать. Но до того как они станут обычными, они проходят долгий путь и выглядят, может быть, совсем не так, как вначале. Кто знает, как будет проявляться и восприниматься в будущем то, что сейчас именуется внечувственным восприятием, мозговым радио, криптэстезией, шестым чувством, телепатией - какие еще есть термины для того, что пока далеко не всем доступно и не всем кажется вероятным, для того, что одни считают зачатком будущего, а другие атавистическим рудиментом вроде аппендикса? Может быть, и вправду жители Земли будут общаться между собой и с обитателями других планет посредством этого “мозгового радио”, не страдая от разноязычия, не тратя времени на изучение все возрастающего количества необходимых языков?
Будут? Жители Земли? До чего странно, что я сижу и вот так преспокойно рассуждаю о блестящих перспективах нашего будущего, словно не понимаю, что будущего нет. Будущего нет. Ничего уже нет.
– Ты же не знаешь, что творится на всей планете, - опять вмешивается Констанс. - Вполне возможно, что и другие уцелели.
– Да, да, конечно, - спешу согласиться я. - Ты права. Просто я еще не привык. А где Натали и Марк?
Констанс вдруг отводит глаза. Я холодею от ужаса.
– Они… с ними что-нибудь… Констанс!
– Нет, нет, - торопливо отвечает Констанс. - Пока ничего. Но… я тревожусь, особенно за Натали. Она хочет говорить с тобой, я ее давно удерживаю…
– Почему же? - стараясь казаться спокойным, говорю я. - Я и сам хочу с ней поговорить.
Констанс вздыхает.
– Тебе будет трудно… Она очень странно настроена… Я не знаю, сможешь ли ты выдержать…
В эту минуту Натали появляется на пороге. И я сразу ощущаю, что дело плохо, что я не выдержу, что не надо этого разговора, нет, не надо, прошу, молю, не надо. Я пробую внушить это Натали, но убеждаюсь, что она не воспринимает моих внушений. Это я впервые пробую, после того как внушил ей забыть Жиля. Я дал слово Констанс, но ведь сейчас…
– Натали, девочка, не надо сейчас говорить, - мягко и настойчиво шепчет Констанс. - Папа очень устал, ему тяжело.
– Не знаю, кому тяжелее, - ломким, безжизненным голосом говорит Натали. - Я, во всяком случае, больше не могу. Это не в моих силах. Ты, мама, уйди. Я при тебе не могу. Мама, ты все равно не защита мне. - Она не смотрит ни на Констанс, ни на меня, вообще не поднимает глаз, и лицо ее кажется в белом свете лампы гипсовой маской. - Мама, я тебя прошу, уйди. Я больше не могу выдержать. Я не хочу лгать! Ты же сама учила меня - не лгать! Только трусы лгут, да? Так вот, я не трушу! Мне очень тяжело, - она судорожно откашливается, - но это не от страха. Да и чего теперь бояться, ведь все равно…
– Натали… не надо, все это не так… - шепотом говорит Констанс.
– Нет, так, именно так, и ты сама это знаешь! - выкрикивает Натали.
Она впервые поднимает глаза, и я поражаюсь: она чужая, совсем чужая! Глаза чужие, холодные, горькие, и лицо, это белое, осунувшееся лицо с глубокими тенями под глазами.
Это лицо взрослой страдающей женщины. Ненавидящей меня женщины, вдруг понимаю я. Пускай я потерял способность по-настоящему видеть, что происходит в душе других, но ведь есть же обычное человеческое чутье… Я ощущаю токи ненависти, идущие от Натали, ощущаю их почти физически, кожей, глазами, губами. За что? Почему? Этого не может быть, Натали, что с тобой, Натали?
Мы все трое стоим и молчим, глядя друг на друга. Молчание гнетет меня все сильнее, я чувствую его тяжесть, мие становится трудно дышать. Почему молчит Констанс? Какое у нее лицо - скорбное и смертельно усталое… Почему она уходит? Констанс?
Констанс останавливается на пороге.
– Я ничем не смогу помочь, - тихо говорит она. - Все зависит от тебя, Клод, только от тебя. Боже, если б ты оказался в силах!
Она уходит, а я молча смотрю, как закрывается дверь, отделяя меня от Констанс, и мне хочется кричать от страха.
Только от меня… Если б я оказался в силах… Нет, Констанс не может так говорить, мне померещилось, я схожу с ума, Констанс не оставит меня одного, я не выдержу, мне страшно, это страшнее всех пыток на свете. Я невольно делаю шаг по направлению к двери.
Натали загораживает мне дорогу.
– Нет, ты не уйдешь, - тихо говорит она, и ее губы сжимаются в узкую обесцвеченную полоску.
– Почему ты так говоришь со мной, Тали? - голос у меня прерывается, еще немного, и я не выдержу, закричу, разрыдаюсь, убегу…
– Потому что… Ты сам знаешь. Я хочу покончить со всем этим, я больше не могу. А ты боишься. Но ведь рано или поздно…
– Что? Что рано или поздно? С чем ты хочешь покончить?
Я сажусь, почти падаю в кресло. Я вижу свои руки, лежащие на подлокотниках, - они дрожат. Натали стоит передо мной, такая хрупкая, бледная, измученная. Ее волосы уже отросли немного, перестали топорщиться, они теперь похожи на пушистый блестящий мех, темный, с рыжеватыми отсветами. Глаза кажутся громадными на этом бескровном истаявшем лице. Боже, ведь полтора месяца назад, когда Натали выходила из больницы, она выглядела куда здоровей и спокойней… Я был уверен, что все миновало…
– Ты был уверен! - с горечью говорит Натали. - В том-то и дело. Я никак не могу привыкнуть к этому ужасному ощущению, когда ты для окружающих весь будто стеклянный, а люди для тебя - черные ящики. Всегда было наоборот…
– Теперь ты понимаешь, - говорит Натали, - каково бьйто другим с тобой! Но я сначала не очень боялась, даже когда все поняла. Я думала… я была уверена, что ты меня любишь и никогда не причинишь мне зла. А оказалось… Нет, нет, можешь не говорить, я ведь и так понимаю тебя. Теперь я тебя вижу, а ты меня нет! - злорадно и торжествующе восклицает она, и лицо ее на миг оживляется, но сейчас же снова гаснет и мертвеет. - Я знаю: ты думал, что так лучше. Но думал один, сам, за меня! А разве я не человек? Какое ты имел право думать и решать за меня, без меня? Только потому, что я твоя дочь! Да, только потому! Ты не сделал бы ничего подобного с другой девушкой, ведь нет? А я… а со мной… Ты хуже, чем рабовладелец! Знаешь, кто ты? Ты… ты этому у фашистов в лагерях выучился!
– Боже мой! Натали, что ты делаешь, - Я вскакиваю. Сквозь гнев и возмущение пробивается все тот же неотступный страх: мне показалось, что Натали совсем чужая, что я не люблю ее, что…
– Я знаю, что я делаю! - Натали вплотную подходит ко мне и, глядя прямо в глаза, отчетливо и медленно произносит: - Я размыкаю Круг, да? Я уже вне твоего Круга, верно?
Последним усилием воли я удерживаюсь от того, чтоб не кричать, не биться головой о стенку. Итак, все пропало.
Все усилия этих страшных дней - ни к чему. Все это лишь предсмертная пытка, жестокая и бессмысленная, как в лагере. Если б я верил в бога или дьявола, я решил бы, что это они придумали… эту веселую шуточку в мировом масштабе…
Все кончено, теперь я понимаю, что все кончено. Еще раз откроется и захлопнется дверь, и не будет Натали… Нет, нет, только не это! Я не вынесу этого, лучше я сам уйду, чтобы все сразу…
Натали все стоит и смотрит на меня в упор. Ее глаза постепенно оживают, лицо, застывшее и жесткое, смягчается.
– Я, наверное, не должна так говорить с тобой, - медленно произносит она. - Тебе тоже тяжело. И потом я не имею права решать за всех остальных, а ведь если ты не выдержишь… - Она говорит очень тихо, почти бормочет, словно размышляя вслух. - И вообще ты прости, мне очень больно, я кричу от боли, а не рассуждаю…
“Как она похожа на меня!” - думаю я, и вдруг меня словно теплой волной обдает нежность, любовь, жалость к этой измученной, несчастной девочке, моей дочери. Пускай она несправедлива ко мне - я тоже был несправедлив к ней в том, прежнем мире, громадном, великолепном и жестоком, а теперь мы с ней связаны общим горем и не смеем бросать друг друга в беде, потому что от прочности нашей связи в конечном счете зависят все остальные, уцелевшие вместе с нами… Кто знает, может быть, зависит судьба всего человечества…
– Я люблю тебя, разве ты не видишь, Тали, моя девочка! - говорю я.
Натали печально и покорно улыбается.
– Да, ты прав, конечно, ты прав, и я постараюсь… я только не знаю, как у меня получится. Сейчас мне будто бы легче, а вообще…
Голос у нее срывается, она опять судорожно глотает и подносит руку к горлу. Потом Натали поворачивается и уходит, такая тоненькая в этом алом свитере и узкой черной юбке - вот-вот переломится пополам и упадет, да и походка у нее неуверенная… Но я уже ничего не смогу сделать, даже слова сказать не могу, силы меня покинули, и мне хочется одного - чтобы пришла Констанс, чтобы поскорее пришла Констанс, она одна может мне помочь, без нее я пропал, и все мы пропали.
Констанс входит, я порывисто обнимаю ее, мы стоим молча, моя голова лежит у нее на плече, и я чувствую запах ее кожи, ее белой, нежной, чуть вянущей кожи, такой знакомый, такой дорогой, и мне становится чуть легче, страх отступает…
– Мне стыдно, Констанс, если б ты знала, до чего мне стыдно! - шепчу я. - Всю жизнь я цеплялся за тебя, всю жизнь был для тебя тяжелым грузом и сейчас ничего не могу с собой поделать…
Констанс слегка отстраняется, чтобы заглянуть мне в глаза.
– Клод, не мучай себя, - спокойно и ласково, как всегда, говорит она. - Ты хорошо понимаешь, что для меня ты был всей жизнью, а ведь жизнь - это не так просто и легко, - она улыбается и привычным жестом приглаживает мои волосы. - Зачем ты говоришь об этом?
– Потому что я устал… Впрочем, Констанс, ты ведь теперь видишь меня, все видят меня, а я вдруг ослеп… Ты знаешь, как все это получилось… с Натали… Почему она… Констанс, ты все понимаешь… почему она так со мной… Неужели я и вправду преступник?
Констанс тихонько вздыхает.
– Нам всем сейчас очень тяжело, - уклончиво говорит она.
– Нет, нет, я о другом… об апреле…
– Апрель? Что ж, мы ведь говорили об этом, еще тогда… Ты поступил опрометчиво, необдуманно… Натали пришлось очень тяжело…
– Я думал, что она излечилась от этого…
– Излечилась? - грустно переспрашивает Констанс. - Что ты называешь этим словом? То, что ей удалось разлюбить Жиля при твоей помощи? Но ведь она ничего не забыла, ты же знаешь!
Да, мы с Констанс тогда решили, что я не должен заставлять Натали все забыть, потому что ей могло бы показаться, что она с ума сошла. И потом - этот Жиль: у них с Натали много общих знакомых, рано или поздно они бы встретились, и тогда опять начались бы разговоры о гипнозе и о нравах в нашей семье…
Так было благоразумней, конечно. Но лишь сейчас я понимаю, что происходило все эти месяцы в душе Натали. Первая любовь, первое счастье, в самом начале, никаких еще плохих воспоминаний, никакой горечи - одни надежды, мечты, предчувствия… И вдруг все это насильственно обрывается - и она не может противодействовать, она беспомощна, она чувствует себя опозоренной тем, что ты с ней сделал, тем, что у нее такой отец. Она знает, что Жиль и ее начал считать сумасшедшей… Любовь ушла, пускай и безболезненно.
Но ведь осталась память о ней, остались пустота, холод, чувство бессилия перед моей нелепой и трагической властью…
Ну, конечно, при всем этом должна была возникнуть ненависть ко мне. Ведь это я был всему виной, я грубо вмешался в то, во что нельзя вмешиваться, все разрушил, уничтожил - почему, по какому праву? Разве не права Натали, когда бросает мне в лицо самые страшные оскорбления, когда называет меня рабовладельцем и фашистом? Она имеет на это право, бедная девочка! Только бы она выдержала, боже, только бы она нашла силы выдержать все это, дождаться!…
– Да, да, мы дождемся! - подхватывает Констанс и улыбается мне. - И Натали, она поймет, она успокоится, она ведь умная…
Мне становится бесконечно грустно. Констанс видит все во мне, но все ли она понимает? Это ведь я повторяю себе: “Дождемся, дождемся”. Повторяю порой почти без веры. Но, может быть, я внушаю эту веру другим? Ведь Констанс не может знать ничего, кроме того, что знаю я… Или всетаки Робер?… Нет, неужели Робер все же…
– Мне Робер ничего не говорил, - низкий, певучий голос Констанс звучит ласково и успокаивающе. - Но я знаю, что он тоже верит. И ты веришь, но почему-то нервничаешь… Как перед началом работы…
Перед началом работы! Я горько усмехаюсь - когда теперь начнется работа, да и какой она будет? Но это правда: перед началом какой-нибудь новой работы я всегда испытывал мучительную неуверенность, даже, вернее, - мучительную уверенность, что ничего у меня не выйдет, что я бездарен и глуп, как пень, и через это отвратительное состояние мне неизбежно приходилось пробиваться к началу работы, к первым ее строкам, к первым наброскам. Но что будет тут…
– Нет, нет, я только в том смысле, что ты напрасно нервничаешь, все уладится, - поспешно отвечает Констанс.
Что уладится? Боже, что она говорит? Нет, я не должен даже думать об этом, пускай она верит, я ведь и сам ничего не знаю…
– Где Робер? - спрашиваю я.
Робер сразу же появляется на пороге, будто он подслушивал за дверью.
– Ну, как ты себя чувствуешь? - заботливо спрашивает он, и этот вопрос, такой мирный, такой не соответствующий обстановке, поражает меня так, что я с трудом удерживаюсь от истерического смеха. Да, в самом деле, как я себя чувствую? Благодарю, голова немного побаливает, надо прогуляться на свежем воздухе, и все пройдет.
И вдруг я начинаю ощущать, что это не бессмысленная вежливость, что Робер спрашивает не зря. Мне и вправду плохо, я болен, меня трясет озноб, все кости ломит. Что это, радиация? Нет, будто непохоже.
– Нет, это не радиация. Ты просто переутомился, - отвечает Робер. - Я уже давно вижу, что ты страдаешь от перенапряжения. Надо, чтоб ты побольше спал. Засни опять, прими снотворное.
– Не хочу снотворного, - почти машинально отвечаю я.
Меня гнетет предчувствие какой-то новой неотвратимой беды. Я заметил, что Робер еще с порога обменялся взглядом с Констанс, и взгляд этот был тревожный и понимающий. О чем это они?… Нет, я решительно не завидую тем, кто имел со мной дело прежде! Ходить вот так, ощупью, как слепому, рядом с человеком, который все видит в тебе, даже самое потаенное, скрытое ото всех, - боже, какое это мучительное, унизительное ощущение!
– Что случилось? - почти кричу я. - Почему вы ничего не говорите, ведь вы знаете! Я должен знать!
Робер и Констанс опять обмениваются тревожным взглядом, будто советуясь. Потом Робер пожимает растерянно плечами.
– Видишь ли, Клод, - говорит он. - Тебе сейчас важнее всего отдохнуть. Ты никому и ничем не поможешь, если будешь убивать себя перенапряжением. Вот отоспись, и тогда мы поговорим. Все равно…
Это “все равно” меня добивает.
– Кто? - кричу я. - Кто, ради бога? Говорите правду! Натали?
– Нет… - почти беззвучно произносит Констанс. - Отец…
– Отец? Где он? - Я с ужасом соображаю, что все это время даже не вспомнил об отце. - Где он?
Робер и Констанс отводят глаза. Нет, не может быть!
– Но он… он же не мог, вот так… Почему вы мне ничего не сказали?
– Ты говорил в это время с Натали… - тихо и печально отвечает Констанс. - Он все время, с утра, сидел и курил. Потом подошел ко мне - я стояла у окна - и сказал: “Девочка, ты крепкая, я тебе одной и скажу. Я решил пойти прогуляться вон туда, видишь? Тропинка идет по склону холма, огибает его, а что дальше - не знаю. Даже сквозь это проклятое пыльное стекло видно, как там хорошо”. Я сказала: “Разве вы не знаете, что там смерть?” Он ответил: “Да толком не знаю. Я ведь человек простой, в науке не разбираюсь, а то, что Клод устроил с нами, это, знаешь ли, штука тонкая. Чертовщина просто. А потом - что ж такое смерть? Мне с ней давно уж пора поговорить. Вот пойду, может, и встречусь”. Я умоляла его остаться, просила хоть поговорить с тобой, но он только головой качал. “Клод, он меня простит за невежливость, он мальчик добрый. А мне лучше уйти потихоньку. Ничего он тут поделать не может, только расстраиваться попусту будет. Я посидел, знаешь ли, в уголке и все обдумал. Ему всех не удержать, так что уж лучше мне отпустить веревку - как Валери сделала”.
– Отпустить веревку? Он так сказал? - холодея, спрашиваю я.
“Значит, он слушал мой разговор с Валери, мои мысли?
Или это случайность? Неужели меня слышат даже на расстоянии? Боже, о чем я думаю! Ведь отец - он ушел туда, он умер… или умирает? Умирает? Почему я не думал о том, что сталось с Валери, Софи, почему я не понимал, что они, наверно, еще ходят или лежат там где-то… умирают, беспомощные, в невыносимых мучениях? Почему я не думал о настоящем облике атомной смерти, а только об уходе?”
– Ты не должен об этом думать, - приказывает Робер, глядя мне в глаза.
– Но я не могу…
– Можешь. Я объясню тебе, в чем дело. Я наблюдал за всеми. Если видел, что приближается критический момент, то давал таблетку - знаешь, эти, с цианистым кали, которые убивают мгновенно.
– Ты не имел права этого делать! Ты с ума сошел!
– Имел. Все зависит не от них, а от себя. Если ты не можешь удержать кого-нибудь из нас, то я могу хоть избавить его от мучений. Скажи, что я неправ! Наша старая лагерная правда, Клод. Да. Та правда, во имя которой мы дали смертельные дозы морфия Леону и Феликсу, когда я… не смог удержать веревку! Все верно, Робер, ты прав, тысячу раз прав, а я… своим равнодушием я отправил на смерть любимую женщину и отца.
– Это не равнодушие, ты же знаешь, Клод, - говорит умоляюще Констанс. - Ты не виноват. Это… ну, просто это жизнь.
Жизнь? Чудовищная нелепость этого слова в таких обстоятельствах лишает меня сил. Я молча смотрю на Констанс, на Робера. Боже, как они спокойны, хоть и печальны, как они уверены в своей правоте! Да и что удивительного - ведь не они за все отвечают… Не они… Все же страшный удар, доставшийся мне, - это поразительная несправедливость, он не по силам мне, он надламывает меня.
– Твой дар связан с твоим характером, - говорит Робер. - Ты же знаешь. Именно твоя повышенная впечатлительность, чуткость, острота переживаний делают тебя способным к ясновидению, к передаче мыслей. Человек более уравновешенный и сильный не добился бы таких потрясающих результатов, ему помешали бы именно уравновешенность и сила.
Мне стыдно признаться - именно перед ними, которые так хорошо все это понимают, - до какой степени тяготит меня этот странный односторонний разговор: я думаю, они отвечают. Впрочем, что я: ведь я признаюсь автоматически, раз думаю об этом. И чего мне стыдиться перед Робером и Констанс, с ними-то у меня была двусторонняя связь, пусть не такая четкая и налаженная с их стороны, но все же… Да, это правда, они меня видели почти всегда в исключительных обстоятельствах - в минуты опасности, тяжелых страданий. С Робером у нас связь была двусторонней практически лишь в тюрьме и лагере.
– Потому что в нормальных условиях эта связь вообще не нужна. Я же тебе говорил, - отвечает Робер. - А теперь ты на собственном опыте видишь, до чего это неудобно и даже, откровенно говоря, бессовестно. Ну, что хорошего вот так, в любую минуту, без стука и без звонка открывать дверь в чужую душу? Да еще пытаться наводить в ней порядок по собственному разумению. Ты ведь знаешь, какого я мнения был всегда об истории с Натали. Сам видишь теперь, к чему это привело…
Ладно, пускай он прав, пускай прав тысячу раз, но о чем мы говорим? Отец ушел, сам ушел, он понял, что я… да, что он понял, что подумал? Может быть, в эту минуту где-то, на тропинке среди дальних холмов, на пологом скате у реки или в прохладной тени леса, где нет больше птичьего щебета и свиста, а слышен лишь похоронный напев ветра в густой листве, он почувствовал предсмертную дурноту и присел, чтоб глотнуть крохотный белый шарик, избавляющий от мучений?
Впрочем, кто знает, сколько рентген там, снаружи? Может, ему осталось жить еще двое-трое суток, и он будет тянуть до последнего, пока страдания не перевесят удовольствия от свободы, от свежего воздуха, и ветра, и солнца. Может, он дойдет до городка, устроится в одном из опустевших домов…
Опустевших? А может, там еще есть люди… медленно умирающие, в мучениях…
– Не думай об этом! - взгляд Робера опять становится ощутимо тяжелым. - Ты не имеешь права зря растрачивать силы.
– А имею я право быть человеком? - медленно, с усилием, будто бредя против течения, говорю я.
Взгляд Робера сковывает меня все сильнее, он придавливает меня к креслу. Я начинаю думать, вяло и равнодушно, о том, что уровень радиации в нашей местности необычайно высок, по-видимому: ведь все кругом затихло и вымерло в первые же сутки. Ну, первые часы я почти не смотрел в окно, а народу тут не так много было, я мог и не заметить, если кто-нибудь проходил по холму. А животные или птицы? Нет, не помню, были ли они в - тот первый день; потом уж никого не было, это точно. Вероятнее всего, люди успевали добраться до дому, а потом им становилось настолько плохо, что они не могли выходить наружу, - да и к чему? Должно быть, все поняли, что произошло, ведь этого ждали и боялись столько лет подряд… Целое поколение выросло в страхе перед атомной войной - и вот…
– Не думай ни о чем. Тебе надо спать, - приказывает Робер. - Спи. Или вспоминай что-нибудь. Сосредоточься и вспоминай, это тебя хорошо отвлечет. А мы с Констанс уйдем.
Мне уже все равно. Я их не вижу. Я лежу на старой резной деревянной кровати с высокой спинкой, а на стенах и потолке играют причудливые струящиеся световые пятна - отблески речной зыби и трепещущей листвы платанов.
Рядом со мной Валери. Она мерно и легко дышит во сне, и синяя тень густых ресниц лежит на ее смугло-розовых щеках. Это - воскресное утро на Набережной Цветов; там мы с Валери прожили первые полгода, потом переехали на улицу Сольферино. Значит, это август или сентябрь 1935 года. Скорее сентябрь: утро солнечное, но свежее, от Сены тянет холодком, и в густой листве платанов перед энном уже просвечивает желтизна. Я счастлив; мне все кажется прекрасным: и эта продолговатая, довольно мрачная комната, обставленная тяжелой, старомодной мебелью, и большая ветвистая трещина, бегущая по высокому потолку как раз над моей головой, и поблекшие обои - букетики мелких желтых роз на палевом фоне, - и эта темная, потемневшая от времени, от сырости, от бесчисленных людских прикосновений кровать. Мне нет дела до того, кто лежал на ней, на этой парижской многотерпеливой кровати, до меня, - сейчас я здесь, я с Валери, с самой прекрасной девушкой на свете, и я все еще не могу поверить, что она моя жена. Валери вздыхает чуть глубже, и вдруг этот вздох, от- которого приоткрываются ее темно-розовые губы, переходит в легкий смех, в солнечную улыбку, распахиваются ресницы, и глаза Валери, сияющие сквозь дымку сна и счастья, смотрят на меня. Мне двадцать два года, и я вижу в этом высшее счастье. Да и сейчас, почти через тридцать лет, глядя на это юное смеющееся лицо в изменчивом свете ясного утра, я думаю, что высшего счастья в мире нет. Потом у меня было другое, многое другое, может быть, на том же уровне - но не выше… а впрочем, как это измерить, кто знает…
Я, двадцатидвухлетний, в той далекой, из другого мира, комнате обнимаю Валери, с восторгом ощущая, какие мы оба молодые, как свежа наша кожа и упруги мускулы, как чудесно пахнут темно-каштановые пушистые волосы Валери и как прекрасны ее горячие губы, тянущиеся навстречу моим. Как легко и естественно каждое движение, когда ты молод, когда ребра еще не переломаны, почки еще не отбиты и тебе не приходится иной раз припомнить, как долго ты лежал, широко разбросав руки, вывернутые в плечах, распухшие, горящие руки, потеряв даже силы стонать, после долгих, бесконечно долгих часов, которые ты прокричал, простонал, прохрипел, подвешенный к балке за эти руки, принявшие на себя всю тяжесть твоего тела, исхудавшего, истаявшего - и все же такого невыносимо тяжелого!
Что я говорю? Разве могло быть такое счастье потом?
После того как мы прошли войну? Разве эти воспоминания, эти бесчисленные незаживающие рубцы на теле и на душе не отравляли тебе самые прекрасные минуты? Медовый месяц с Констанс… это было прекрасно, но мы оба знали, что таится в глубине и всегда готово всплыть наверх: память в погибших, память о муках, память о том, что способны сделать люди с людьми - обычные люди с обычными людьми. Что было бы, если б я остался с Валери? Впервые, пожалуй, я так отчетливо задаю себе этот вопрос. Констанс знала; Валери - нет. Валери была по ту сторону страданий, бесчеловечности, бессмысленной и безграничной жестокости. Ей было тяжело - первый год, без меня; потом она нашла себе защиту и опору, и дальше все пошло обычно.
Да, в Париже были немцы, была война, трудновато получалось с продуктами. Но ведь я-то знаю Валери: она любила и была любима, а все остальное имело для нее мало значения. Да и что - остальное? Шарль, как видно, умел жить, он и при немцах устроил так, что Валери ни в чем не испытывала особого недостатка, - а Валери много и не надо было…
И я будто снова слышу бормотание отца, доносящееся из далекой дали лет, из призрачного девятнадцатого года, из давно не существующего полутемного маленького кафе на площади Терн: “Клод, мой мальчик, война - это такая штука… она человека всего переворачивает. Она тебя убивает. А если ты все-таки остался в живых, приходится вроде как заново на свет рождаться. И все по-другому. А твоя мама, она этого не понимает. В тылу никто этого не понимает… Я ведь не виноват, что война была…” Отец сознательно выбрал Женевьеву - ту, которая знала. Меня заставили сделать выбор. А если б не заставили?
Могла бы Валери, жизнерадостная, легкая, мечтательная Валери начать новую жизнь, невеселую жизнь со мной, новым, совсем иным, искалеченным, физически и душевно? Нет, положительно, все к лучшему в этом лучшем из миров, даже то, что он, этот наш распрекрасный, безнадежно запутанный мир валится в тартарары, туда ему и дорога!
Но, размышляя так, я сквозь проклятый, отравленный, гибнущий мир 196… года продолжаю видеть мир ясный и светлый, мир юности и любви - мир, каким он был для меня в 1935 году. Вот я встаю с постели и гляжу в настежь распахнутое окно на ослепительную рябь Сены, на серые теплые плиты набережной, на большие старые деревья острова СенЛуи, отделенного от нас узким протоком, и листва платанов шумит и трепещет перед окном, так близко, что протяни руку - и коснешься этих прохладных, гладких, узорчатых листьев.
А потом… потом мы пьем кофе за круглым столиком у окна, и на Сене рокочет буксир, по набережной с сухим шорохом проносятся машины, такие неуклюжие и громоздкие с моей теперешней точки зрения, такие нарядные и стильные для нас с Валери. Я перегибаюсь через стол и целую Валери, она тихо смеется, и на ее лицо ложится мелкая светлая зыбь от чашки с кофе, которую она держит в руке. Быстрая тень скользит по нашим лицам, по столу, накрытому пестрой скатертью, - это перед окном пролетел голубь. Я, сегодняшний, все больше удивляюсь своей тогдашней безмятежности. Что, собственно, делалось в мире? Ведь уже был фашизм и в Италии и в Германии, готовилась война… Или мы ничего не видели?
Стучат в дверь - коридорный принес газеты. Я шарю по карманам серого пиджака, висящего на стуле, нахожу мелочь, сую в потную лапу долговязого худосочного паренька с копной рыжих волос - я знаю, что его зовут Клод, так же, как меня, - и бодро говорю:
– Ну, Ри, сейчас мы узнаем, что творится в мире!
Боже, у меня не было никакого желания узнать, что творится в мире, я произносил пустые, ничего не значащие слова, мой мир был здесь, около Валери, вокруг Валери, а все остальное, даже работа, не очень-то занимало меня.
Я читаю газеты. Как странно читать их, видя все одновременно - через юношеский, нелепый, трагически-наивный оптимизм и через теперешнюю горькую мудрость обреченного… Я читаю газеты и все больше ужасаюсь - как я мог быть таким кретином? Ну ладно, молодость, беспечность, первая любовь, все понятно, - однако есть ведь какие-то пределы всему! Видеть - и не видеть; читать, даже раздумывать о прочитанном - и ни черта не понимать; слышать глухие раскаты грозы, надвигающейся на мир, - и принимать их с легким сердцем, смеясь и бессмысленно надеясь на то, что все уладится превосходнейшим образом! Да, таков мир, таковы люди, и нечего удивляться тому, что случилось и в четырнадцатом, и в тридцать девятом, и в этом году…
Я, двадцатидвухлетний, читаю газеты спокойно и весело, не видя, что мир балансирует на грани войны, как Лаваль, изображенный на карикатуре в виде большого полосатого кота, балансирует между Муссолини и Черчиллем, осторожно шествуя по забору с надписью “Женева”. Над этим безмятежным солнечным миром уже звучат все громче сигналы тревоги, часовой механизм безжалостно и поспешно отсчитывает последние минуты до взрыва, а люди затыкают уши и весело смеются.
Аддис-Абеба празднует окончание периода дождей. Празднует потому, что так принято, хотя конец дождей означает начало войны, Муссолини уже готовит свои войска, и абиссинские пехотинцы, темнокожие, босоногие, в узких белых штанах и живописно развевающихся накидках, тоже маршируют, готовясь к бою. “Что будет с Европой, - пишет “Матэн”, - если абиссинские события и их последствия создадут для Адольфа Гитлера неотразимое искушение? А последствия такого искушения можно уже сейчас предвидеть”. Мой юный двойник беспечно переворачивает газетный лист. Война на пороге, а он ничего не видит.
Карикатура - Муссолини и Гитлер обняли земной шар, и Гитлер уже целится флажком со свастикой в Мемель. Мемель должен вернуться к Германии. Немецкие военные корабли в бухте Клайпеды. Лаваль заигрывает с Муссолини.
Упражнения отрядов противогазовой обороны в Лондоне.
В Германии 15 сентября принят закон о защите германской крови и германской чести. Члены общества “Французская солидарность”, вооруженные дубинками и револьверами, нападают на евреев. Еще карикатура - Гитлер салютует у могилы неизвестного немецкого солдата, а Геринг шепчет ему: “Осторожнее, Адольф! А вдруг он был еврей?” Политики, видимо, понимают, что все это значит. Вот перепечатка из “Дейли геральд”: “Каждый сторонник мира надеется, что не понадобится прибегать к силе для защиты мира и права. Но если мы хотим сохранить право и мир, то все страны должны показать, что для этого они готовы в случае надобности применить силу. Допускать какие-либо послабления в этом пункте - значит отдать человечество в руки безумцев и поджигателей войны”.
Да, все это звучит прекрасно; только Англия и Франция думали-думали, торговались-торговались, да и отдали Муссолини Абиссинию, а потом погубили Испанию, потом вздыхали, глядя, как Гитлер глотает Австрию, потом отдали ему в добычу Чехословакию, а когда спохватились, было уже поздно.
А я весело смеюсь и говорю Валери:
– Смотри, девочка, в Брюссель на выставку прибыли 28 королев красоты! Будут избирать мисс Universum.
Валери садится ко мне на колени, и мы рассматриваем королев - белокурых и темноволосых, большеглазых, длинноногих, загадочно и беспечно улыбающихся; мы находим, что некоторые из них попросту дурнушки. Потом мы советуемся, когда пойти в Театр де Пари на новую пьесу Саша Гитри “Когда мы играем комедию”, хохочем над рекламой мыла “Пальмолив”: “Купите сегодня же три. куска мыла “Пальмолив”… Я всегда буду верна “Пальмоливу”.
– Я всегда буду верна Клоду! - заявляет Валери и звонко чмокает меня в ухо. - Смотри-ка, до чего симпатичный пляж в Сен-Жан де Люс! Хочу вот в такую полосатую палатку. И чтобы плавать до одурения! На волнах! Мы туда поедем будущим летом, да?
Мы не поехали в Сен-Жан де Люс ни следующим летом, ни потом. В мае тридцать шестого года мы славно побродили по Пиренеям, на другое лето отправились в Бретань…
Так я и не был в Сен-Жан де Люс, а жаль… даже сейчас жаль.
Пушистые волосы Валери щекочут мне щеки, ее дыхание смешивается с моим. Какая она прохладная, легкая, гибкая, какое счастье сидеть вот так, держа ее на коленях, и говорить о чем угодно! О том, что Жюля Лядумега зря исключили из Федерации атлетизма - подумаешь, получил плату за выступления, так это называется “торговать своими достоинствами”! - о том, что хорошо бы пойти на гастроли Жозефины Бэкер, но билеты нам не по карману, а впрочем, бог с ней, с Жозефиной Бэкер, и почему бы нам не купить загадочный артсель, живой камень, обладающий физико-химическими и магнетическими свойствами? “Каждый может иметь талисман всего за 1 франк 50 сантимов марками!” Вот и мы будем иметь талисман, почему бы и нет? Потом мы сходимся на том, что Морис Шевалье - великолепен, и что хорошо бы поехать еще в Виши, и что это, конечно, жуть, когда целая куча голых женщин на сцене, как в “Альказаре”.
Мы вместе читаем газеты, и нам хорошо. Нам всегда хорошо вместе. В Париже сегодня днем будет 22 градуса, ночью - 15; превосходно! Ирен Жолио-Кюри в интервью с нашим корреспондентом сказала об атоме и о четвертом измерении: “Я уверена, что через тысячу лет дети в школах будут проглатывать это, как молоко. Я верю в будущность человеческого разума”, - здорово сказано. А вот это, смотри-ка, до чего смешно, вот чудаки!
Я смотрю на газетную полосу вместе с этими великолепными и беспечными молодыми кретинами, которым я все же отчаянно завидую, - смотрю, и мне грустно, потому что эта спиритическая белиберда начинается со слова “война”, и это тоже одна из попыток спасти мир, хоть и жутко нелепая…
Война!
Спиритам принадлежит знание. Знание есть ответственность. Дух героев прошлой войны взывает к вам о мире.
Молитва принесет мир. Мы умоляем тебя дать твоим посланцам власть для создания мира и благожелательства на земле. Аминь.
Последняя фраза - текст молитвы. Спириты верят, что если люди во всем мире будут каждый вечер, ровно в девять часов, произносить эту фразу, обращаясь к богу, то они добьются мира. Что ж, вера не хуже всякой другой. Если б люди во всем мире могли хоть в девять часов вечера делать что-либо абсолютно дружно, они многого добились бы.
Спириты это поняли, молодцы, спириты, браво, спириты!
Валери слегка сдвигает брови, свои темные крылатые брови на гладком смуглом лбу и поворачивается ко мне.
– Клод, - говорит она и проводит мизинцем по моей брови. - Клод, милый, у тебя вот тут волосок торчит совсем отдельно и поперек. И не хочет приглаживаться. А что, если я его выдерну?
– Выдерни, - восторженно соглашаюсь я.
Валери соскальзывает с моих колен и роется в туалетном столике. Она приносит маленький пинцет и уже нацеливается на непослушный волосок, но вдруг останавливается и спрашивает:
– Клод, а почему они так пишут? Эти спириты? Разве будет война?
– Не знаю, - рассеянно отвечаю я, любуясь ею. - Наверное, будет.
Валери аккуратно выдергивает волосок и сдувает его с пинцета. Потом она откладывает пинцет, опять садится ко мне на колени и говорит: - А по-моему, войны не будет. Потому что это глупо - воевать. Зачем?
– Не будет, - сейчас же соглашаюсь я. - Действительно - глупо. Действительно - зачем? Ты умница, Ри!
Валери хватает газету.
– А вот газеты все время кричат про войну… Слушай, а кто такой Мотори Норинага? Великий Мотори Норинага?
– Понятия не имею, - чистосердечно признаюсь я. - Японец какой-то, наверно?
Мы с Валери читаем: “Дух Ямато - это цветы горной вишни, благоухающие на восходе солнца”. Что такое Ямато, я тогда тоже не знал и лишь впоследствии выяснил: так называлась Япония в древности. Дух Ямато - это нечто вроде понятия “галльский дух”. А вот если б спросить меня, читал ли я стихи Мотори Норинага, я готов был бы поклясться, что никогда не читал и имени такого не слышал.
Да, странная штука эти мои воспоминания… предсмертные, немыслимо яркие воспоминания…
Впрочем, это воспоминание вскоре обрывается. Я, тогдашний, успеваю еще встать, подойти к столику у постели, надеть часы на руку, увидеть новый, даже не разрезанный пока роман Жана Жироду “Жюльетта в стране мужчин”, подумать, что вечером мы его будем читать, обнявшись, в кресле у окна, - и светлый мир гаснет, исчезает, начинают беспорядочно мелькать какие-то обрывки воспоминаний.
Потом я снова оказываюсь на набережной Сены. Но это другая набережная - Сен-Мишель у Малого моста - и другая Сена, осенняя, обволакивающая все вокруг промозглой сыростью. Унылые гудки буксиров в мутном тумане, и хриплые пьяные возгласы вокруг, и мокрые, черные, озябшие кусты вдоль черно-блестящих плит набережной, и порывистый ледяной ветер - другой, совсем другой, неуютный, неприветливый Париж, чужой Париж, потому что Валери уехала к больному отцу в Тулузу, ее нет уже целую неделю, и мне так тоскливо, что я готов зайти вот в этот сомнительный кабачок и выпить что-нибудь для бодрости, а впрочем, черт с ней, с бодростью, на что мне бодрость, и из кабачка пахнет спиртным перегаром, потом и дешевой пудрой, и мне противно туда идти, лучше уж домой…
Я не успеваю попасть домой, не успеваю ни шагу сделать больше по мокрой и скользкой набережной. Ночь внезапно рассеивается, брезжит мутный туманный рассвет, и я в полосатой одежде стою на аппельплаце под моросящим дождем, под ледяным ветром, и кругом одинаковые полосатые тиковые куртки и брюки, и одинаковые, истощенные, страшные, неживые лица, и передо мной стоит эсэсовец Рюммель и замахивается плеткой, а я говорю: “Покорнейше сообщаю, герр роттенфюрер, что за ночь я хорошо отдохнул!”, и вдруг Рюммель круто поворачивается и уходит, печатая шаг по мокро шуршащему гравию, а я слышу, как рядом со мной облегченно вздыхает Марсель Рише.
“Ночь” - это был пароль для моих лагерных “крестников”. Мы долго придумывали, какое слово выбрать для этой цели: нужно было общеупотребительное, но не из самых необходимых и неизбежных в лагерном обиходе.
Это было после того, как я послал Кребса на проволоку.
Доказать ничего нельзя было, но шуму вся эта история наделала много, и мы понимали, что повторить такой номер уже нельзя. А спонтанные контакты с “крестниками” могли возникнуть у меня в любую минуту. Мы вспомнили и обсудили все, что знали о гипнозе, и решили, что самое лучшее будет, если я всем им внушу одно и то же: услышав слово “ночь”, они должны немедленно уходить и засыпать. Марселю и Казимиру это показалось невероятно забавным, они долго хохотали и никак не могли успокоиться, да это и вправду было смешно, однако и опасно в такой же мере.
Хорошо еще, если “крестник” подойдет ко мне наедине, - а если это будет при других? Послушается ли он приказа - идти спать, если рядом будет его начальник? И что подумают другие о моем странном упоминании насчет ночи, ведь eсли разговор будет сугубо официальным, вряд ли удастся ввернуть такую фразу, не вызвав никаких подозрений. Особенно если на эту фразу так необычно отреагирует мой собеседник. Раз-другой это может сойти, а потом…
К счастью, это заклинание пришлось применять редко.
И всего один раз я произнес фразу с паролем вот так, при всех, на аппельплаце, и никто из лагерного начальства не понял, что произошло. Наш блоковой потом спросил меня, с чего это я вздумал докладывать Рюммелю, как провел ночь, но Марсель сказал: “Да ты что, не понимаешь? Со страху что угодно брякнешь!” - и блоковой вполне удовольствовался этим объяснением. А вот Рюммелю здорово влетело за то, что он ни с того ни с сего отправился спать в часы службы…
Вот и кончились воспоминания. Я по-прежнему полулежу в глубоком кресле, и Робер пристально смотрит на меня.
– Выспался? - спрашивает он.
Разве я спал? Воспоминания - во сне? Такие яркие?
Странно. Впрочем, я вижу, что здесь, в этом мире, в этом моем фантастическом Светлом Круге, все возможно и ничто не странно.
– Робер, что ты делал в сентябре 1935 года? - спрашиваю я неожиданно для себя самого.
Робер не удивляется. Он хмурит брови, вспоминая.
– Ничего особенного, пожалуй, - неуверенно говорит он. - Ну, посещал лекции, работал в лаборатории… Я с первого курса начал работать, и даже не только из-за денег… В сентябре тридцать пятого, говоришь? Ну, два события я запомнил хорошо. Я отбил Жюльетту у Большого Мишо - ох, и девчонка была! - а еще я был на митинге Всеобщей Федерации Труда. Мне ребята добыли приглашение, и я пошел. Когда Торез шел к трибуне, весь зал поднялся и запел “Интернационал”. Так что любовь и политика, все на высоком уровне. А ты что делал в это время?
– Занимался любовью. Политикой - нет. Неужели ты в восемнадцать лет уже интересовался политикой?
– Даже раньше. Как и любовью, впрочем. Я более гармоничен, чем ты, вот и все.
Робер произносит все это своим обычным, небрежным, насмешливым тоном, и мне опять становится страшно. О чем мы говорим, о чем думаем!
– Как ты думаешь, Робер, почему у меня здесь начались также яркие и странные воспоминания? - спрашиваю я.
Нет, Робер положительно что-то скрывает от меня!
Он вдруг смущается, отводит глаза, и с неестественным оживлением начинает говорить о состоянии перевозбуждения, о том, что в этом состоянии, возможно, растормаживаются какие-то глубинные слои психики, что это было бы весьма любопытно для нейрофизиологов…
– А может, скорее для невропатологов и психиатров? - прерываю я его. - Послушай, Робер, ты ведешь какую-то дурацкую игру со мной, хитришь, что-то скрываешь… К чему? Ведь ты пойми: мне еще тяжелее, когда я вижу, что ты, даже ты - не со мной…
– И что ты совсем одинок, да? - с каким-то странным, жадным любопытством спрашивает Робер.
– Ты уже говорил об этом… - медленно отвечаю я, изо всех сил борясь со страхом. - Ты уже внушал мне это… Зачем, Робер? Зачем? Чего ты от меня хочешь?
Робер глубоко, очень глубоко вздыхает, будто ему не хватает воздуха. Лицо его вдруг становится бесконечно усталым, почти старым. Ни слова не сказав, он круто поворачивается и уходит.
И почти сейчас же появляется Натали. Я откидываюсь на спинку кресла, раздавленный ужасом и горем: сейчас мне ясно, что это конец, у меня нет больше сил держать Натали, она так глубоко и остро ненавидит меня, что эта ненависть рвет связь между нами, выводит ее из Светлого Круга. Мне хочется плакать, кричать, просить: “Натали, не надо так, Натали, я не виноват, верни мне свою любовь, свое доверие, иначе мы оба пропали!” Хотя… зачем кричать, зачем вообще говорить - теперь? Ведь я прозрачен, как стакан, для всех окружающих.
– Сейчас поздно говорить об этом, - отвечает Натали, и голос у нее безжизненный, матовый, хрупкий. - Сейчас вообще уже все поздно, кроме…
– Кроме?… - как эхо, повторяю я.
– Кроме того, чтоб уйти. Я… я старалась, но больше не могу выдержать, - голос Натали оживает, в нем звучит глухая боль и тоска. - Не могу.
– Это из-за той истории, да? - зачем-то спрашиваю я.
– Не знаю… - помолчав, отвечает Натали. - Вероятно… в конечном счете… Я ведь так и не могла прийти в себя понастоящему… Весь мой мир лежал в обломках и осколках - такие острые, куда ни ступишь, все больно. А теперь… теперь рухнул весь мир вообще. Я знаю, вы, старшие, на что-то еще надеетесь… Если б я не была так тяжело ранена, может, и я бы надеялась. Впрочем, дело не в надежде - я все равно не могу больше переносить эту боль, этот страх, эту пустоту. Лучше - туда, и сразу всему конец. Да, сразу. У меня есть пилюля.
Значит, и Робер это понял. Значит, все потеряно. Я ее не удержу, нет, и она права - лучше уж сразу конец.
– Прощай, - говорит Натали, и лицо ее становится серым, как пыль на окнах. - Если можешь, продолжай держаться. Я уже не могу.
Она идет к двери на террасу, осторожно, словно балансирует на доске, переброшенной через пропасть. Я сижу не в силах пошевельнуться, не в силах даже крикнуть. Дальше повторяется, как в неотвязном кошмаре, сцена ухода Валери: на фоне синего неба и пологих зеленых холмов возникает девический силуэт, потом дверь захлопывается, слышны легкие, стремительные, нетерпеливые шаги - вниз, вниз, по деревянным ступенькам, вниз, вниз, к свободе и смерти.
Только на этот раз я не встаю, не пытаюсь броситься вслед, и Констанс не приходит спасать меня от себя самого.
Я продолжаю сидеть, даже когда дверь библиотеки распахивается с такой силой, что бьет о стену и от этого удара дребезжат стекла книжных шкафов. Я только смотрю на Марка и молчу. Мне уже все равно, и я ничего не могу поделать.
Больше я не вытяну, надо кончать. Да и ему плохо.
Опасная это игра, но раз уж начал… Нет, я скоро свалюсь от усталости. Я не думал, что это потребует такого напряжения… то есть не думал, что я не выдержу. А он? Ну да, ему намного тяжелее оттого, что я устал, не успеваю за всем следить… Но до чего он изранен, бедняга! Чего ни коснись, все сводится в конечном счете к войне, к лагерю, и от этого не уйдешь… Надо кончать, а мне страшно. Да, страшно, и все тут. Боюсь, что я сделал такую ошибку…
Марк стоит, широко расставив ноги и засунув руки глубоко в карманы. Он ссутулился и нагнул голову к левому плечу. Так он делает, когда собирается драться. Марк не в меня, он умеет драться молча, спокойно, без ярости, но всерьез, по-деловому.
– Натали ушла? - отрывисто и глухо спрашивает он.
Я молчу. Он тоже хочет уйти, да? Так вот - мне все равно. Уходите все, а потом и я пойду - прогуляюсь по берегу Сены перед смертью, подышу напоследок этим прекрасным, свежим, смертоносным воздухом! Последний завтрак осужденного перед казнью. На закуску - пилюля.
– Ушла! - констатирует Марк почти спокойно. - Ну, так вот…
Мое безразличие вдруг сменяется приступом страха. Я невольно вскидываю руки к лицу: трагически-бессмысленный жест лагерника, которым он пытается защитить себя от ударов и только больше разъяряет палачей. Лучше стоять навытяжку, руки по швам, пока еще можешь стоять, а собьют с ног - старайся опять подняться, и опять - по стойке смирно… Так скорей отстанут. Я забыл их, почти забыл, эти бессмысленные и опасные жесты, эти запрещенные защитные рефлексы полосатой армии лагерников, мне все это снилось лишь по ночам, а теперь, в эти страшные дни, все всплыло наверх из подводных глубин психики, и с каждым часом я становлюсь все более похожим на заключенного № 19732, на тот скелет в полосатой одежде, который пять лет прожил в аду, в двух шагах от мирного австрийского рая.
Не знаю, понял ли Марк, что означает мой жест, - вряд ли! - но в глазах eго мелькает нечто похожее на жалость.
Однако он упрямо закусывает нижнюю губу и говорит: - Все это, понимаешь, ни к чему!
– Что ты имеешь в виду? - устало спрашиваю я: мне уже опять все равно.
– Все вообще. Ты знаешь. И все равно у тебя не хватит сил.
Я безразлично пожимаю плечами. Это тоже смахивает на одно из состояний лагерника, на то полнейшее отупение, рожденное дистрофией, которое вплотную подводит к грани между жизнью и смертью. Таких ко всему равнодушных, полумертвых людей называли в лагере “мусульманами” - из-за их покорности судьбе, из-за совершенной неспособности активно действовать. Это был первоочередной материал для газовых камер; впрочем, мусульмане и без газовых камер были обречены, они могли умереть в любую минуту, во сне, на ходу, сидя на койке или стоя на аппеле: они жили, так сказать, впритирку к смерти.
Итак, круг завершен. Почти через двадцать лет заключенный № 19732 все-таки вернулся, чтоб умереть. Вместе со всеми близкими. Методы массового убийства за это время усовершенствовались, полностью автоматизировались: прогресс, как известно, не остановишь! Теперь не нужно загонять людей, силой или обманом, в газовые камеры, не нужно экономить жестянки с “Циклоном Б”, не нужно сжигать трупы (а какая это была нелегкая работа, сколько пришлось поломать голову умникам и в Берлине и на местах, пока не придумали более или менее подходящие способы побыстрее и поосновательней сжигать тысячи трупов!). Вообще ничего не нужно - нажал кнопку, а дальше все происходит само собой. Правда, в этот безотказно действующий механизм уничтожения попадает в конечном счете и тот, кто нажал кнопку, - но это уже несущественная деталь. А зато - какой размах, какой блеск, какая чистая работа! Жаль, что любоваться некому.
– Что же ты решил? - спрашиваю я.
Марк не смотрит на меня. Он напряженно думает.
– Я хочу сказать, - говорит он наконец, - что так все равно нельзя. Понимаешь? Даже если мы останемся в живых - так зачем? Это и вообще было противно, - что мы не такие, как все… Ты, может, и не знаешь, но мне было чертов ски неприятно, ведь я понимал. А сейчас это выглядит… ну, как-то даже некрасиво: все погибли, а мы живем. Почему мы, именно мы? Разве мы лучше других? Мы не лучше, а даже, может б,ыть, хуже. Все-таки надо бороться. Не будь мусульманином.
– Чем же мы хуже? - с усилием спрашиваю я. - И разве война разбирает, кто хуже, кто лучше? Кто-то гибнет, ктото остается в живых, вот и все.
– Так ведь сейчас уже и не война, - мрачно возражает Марк. - Ну, какая это война, если сразу и воевать некому, и ни героев нет, ни трусов - всех прикончили? А что мы уцелели - вот это как раз и получается плохо.
– Если б мы оказались в противоатомном убежище, получилось бы все нормально, да? - говорю я. - Хотя мы не стали бы от этого ни хуже, ни лучше.
Марк упрямо встряхивает головой.
– Ты знаешь, что я хочу сказать! Мне всегда не нравилось то, что вы с мамой… ну, словом, эти штуки с телепатией - ты прости, но это, понимаешь… Сначала-то мне было плевать, но уже после того, что ты сделал с Натали!
– А ты знал? - уже задетый, выведенный из равнодушия, спрашиваю я.
– Как же я мог не знать? Что я, по-твоему, кретин? Да я, если уж начистоту говорить, - я хотел удрать из дому. И удрал бы, если б не это все… Пошел бы работать, я уж договорился, в редакцию рассыльным. А жил бы вместе с одним парнем, у него комнатенка неплохая, платили бы пополам… Это не потому, что я к тебе и к маме плохо отношусь, нет! - спохватывается он. - Но я больше не мог, когда вот так, прямо к тебе в мозги лезут без спроса, да еще и командуют… Не мог, и все тут!
– Тебя же никто не трогал… - слабо возражаю я, потрясенный этим взрывом.
– Натали тоже не трогали, а зато уж как тронули! - Марк передергивает плечами и морщится. - Разве вам можно после этого доверять?
Можно ли нам доверять? И это говорит Марк! Ну, пускай еще обо мне, я был тысячу раз неправ в истории с Натали, - неправ и жесток, от невнимательности, от слепоты, от слабости духа… но Констанс? Разве можно найти во всем мире такую изумительную мать… такую жену…
– В том-то и дело, что она - сначала жена, а лишь потом - мать! - почти кричит Марк, и мне кажется вдруг, что я уже слышал где-то эти страшные слова. - Она любит тебя и на все пойдет для тебя. Я ее не виню, но она не защита ни мне, ни Тали! Лучше уйти подальше.
Марк даже не заметил, что он прямо отвечает на мои мысли - мысли, а не слова. Итак, Констанс не защита для них… от меня… Да, ведь это сказала Натали. Не защита! Печаль и гнев охватывают меня. А расстояние - ты думаешь, это за щита? Я справлялся с этими тупыми и злобными тварямиэсэсовцами, так неужели я не смогу воздействовать на родного сына? Да на каком угодно расстоянии…
Лицо Марка медленно бледнеет, это заметно даже сквозь бронзовый летний загар. Он судорожно выпрямляется и сжимает кулаки. Конечно, он все это видит - то, что я думаю.
Но что же делать? Марк в и д и т - и уже сообразил, что видит, но так потрясен этим, что не может себе поверить… Идеальный брак… Идеальные дети… Светлый Круг… Боже, какая все это дикая чепуха и как можно так нелепо заблуждаться в моем возрасте… А Констанс? Неужели и она ничего не понимала? Или понимала, но молчала из любви ко мне, из страха за меня?… Тогда… тогда, вероятно, прав Марк, и она - прежде всего жена, моя жена, а остальное, даже дети…
Марк сдвигает свои густые темно-золотые брови, прикусывает губу и напряженно вглядывается в меня. Он сбит с толку и напуган.
– Зачем ты это делаешь? - наконец спрашивает он. - Чтоб напугать меня? Это… это же нечестно! И вообще неужели ты мог бы… - он бледнеет все больше.
– Не знаю… - честно признаюсь я. - Ведь тебе всего шестнадцать лет, я боялся бы за тебя, и кто знает… - Глаза Марка темнеют, я пугаюсь этих расширенных неподвижных зрачков и поспешно заканчиваю: - А сейчас… сейчас я вообще ничего не делаю и вовсе не пытаюсь тебя запугивать… Это получается само собой и не зависит уже от моей воли…
Марк переводит дыхание, поза его становится менее напряженной, но руки по-прежнему сжаты в кулаки.
– Ну ладно, - наконец говорит он, и я понимаю, как он ошеломлен новыми для него ощущениями. - Сейчас я хоть вишу, что ты говоришь правду. Но ты же сам понимаешь, как это могло получиться. Ты желал бы мне добра, как желал бедняжке Тали, а ведь ты мог убить меня, свести с ума… бр-р! - Он зябко передергивает плечами. - Даже помимо воли… ты прости, но я слышал, как ты объяснял маме, что с Тали все получилось помимо твоей воли…
– Это совсем другое дело… - тихо говорю я: усталость и равнодушие опять одолевают меня.
– Уж не знаю… а, да теперь это все равно! Но ты можешь мне объяснить, почему мы остались живы?
Я бессвязно и безнадежно бормочу что-то о Светлом Круге… о великой силе любви и дружбы, о невидимых нитях, связывающих людей… о том, что телепатия усиливает эту духовную связь… Марк слушает и качает головой.
– Я так и думал, что ты сам толком не знаешь, в чем дело. Теперь слушай. Оставаться здесь я больше не могу. И никто не может, ты же видишь. Один за другим уходят и уходят. Я тоже хочу пойти. Может быть, это вовсе и не смерть, мы же ни черта не знаем, сидим, как рыбы в запыленном аквариуме, а кругом, может быть, море, надо только решиться.
– Марк, ты с ума сошел! - Я не хочу сдаваться, хоть не верю в победу. - Ты видишь, что я не пытаюсь пускать в ход силу, чтоб удержать кого-либо из вас. А ведь это стоило сделать - вы уходите, чтоб умереть. Только потому, что не хватает терпения.
– Дело не в терпении, - объясняет Марк. - Для чего терпеть - вот вопрос. Или мы одни остались во всем мире, тогда… ну, все равно, тогда это не жизнь. Или же еще есть люди - вот я и пойду их искать.
– Марк, ну разве ты не понимаешь, что такое радиация?
– Понимаю. Мало я книг читал об этом, мало фильмов видел? Но мы-то сейчас не знаем, что там, за окнами. У нас даже счетчика Гейгера нет. Почем ты знаешь, может, это была “чистая” бомба, нейтронная и никакой радиации вовсе и нет?
Я ошеломленно молчу. А если в самом деле?
– Этого не может быть, - глухо говорю я наконец.
– Ах, не может? А чтобы телепатия защищала от радиации - это может быть?
– Но почему же тогда никто не вернулся? - растерянно бормочу я, стараясь сообразить, когда ушла Валери.
– А почему они должны были возвратиться? - спрашивает Марк.
Это меня добивает. В самом деле, почему? Что им тут делать, если они поняли, что я трус и жалкий эгоист, что никого я на самом деле не люблю и всеми этими побасенками о Светлом Круге и великой духовной связи лишь прикрываю свое душевное бессилие?
Марк ловит мои мысли и явно смущается. Что он испытывает? Жалость, смешанную с презрением? Ну да - вдобавок он все же подозревает, что я сознательно передаю ему свои мысли, и это кажется ему некрасивым. Еще бы! Дорого я дал бы теперь за возможность спрятаться, уйти в себя, не быть таким прозрачным и беззащитным!
– Значит, ты этого не хочешь? - недоумевая, спрашивает Марк. - Но тогда зачем же?… Ты, значит, действительно уже не можешь с этим справиться? - догадывается он. - Ну, вот скажи теперь: разве я неправ? Разве с тобой можно… Ну, прости, конечно. Но, знаешь, я хоть и не трус, а эти штуки меня пугают. Это чертовщина какая-то, что ни говори. И знаешь что - тебе лечиться надо, ты такой издерганный стал… Я маме уж говорил…
Вот он, результат долгих и терпеливых трудов, оправдание моей жизни - моя идеальная семья, соединенная такой прочной, такой глубокой связью, мой Светлый Круг, защищающий от враждебного мира! Дочь меня ненавидит, сын презирает, жена… жена, вероятно, жалеет по доброте своей, но и ей я основательно испортил жизнь. А другие? Отца и Валери я предал своим равнодушием, и они узнали мне цену… Даже Софи, простая душа, увидела сразу, чего я стою. И это ты считал прообразом будущего, окном в совершенный, гармонический мир? Имей мужество хоть признать свое поражение!
– Да, да, все вы правы, я один виноват! - кричу я, задыхаясь от боли и унижения. - И ты прав, Марк! Иди, что же ты стоишь!
Марк некоторое время колеблется, с тревогой глядя на меня.
– Я сейчас, только позову маму, - бормочет он.
Но как раз этого я уже не в силах вынести. Я чувствую, что не могу сейчас видеть никого, даже Констанс, и, может быть, даже особенно - Констанс.
– Ты не уходишь? - слова еле проходят сквозь мои сведенные судорогой губы. - Тогда я… я тоже не могу больше!
Я бросаюсь к двери на террасу; я бегу, боясь, что Марк меня опередит, удержит; я только одного хочу, уже не сознанием - сознание где-то вне меня, а кожей, сердцем, пересохшим ртом, руками, цепляющимися за пустоту, - хочу уйти, уйти куда угодно от осколков моего разбитого мира. Но я не могу уйти, я топчусь на месте, задыхаясь от нечеловеческих усилий, а звенящие, сверкающие осколки со всех сторон рушатся на меня, впиваются в тело, в мозг, я слепну, я глохну, я немею от яростной, беспощадной боли, я уже не в силах произнести хоть слово, не в силах молить о пощаде и только кричу, кричу нечеловеческим криком, как двадцать лет назад.
И, как тогда, спасительная тяжелая тьма наплывает на меня, наконец-то избавляя от пытки…
Начинало смеркаться, в глубине комнаты было уже совсем темно, и Робер включил настольную лампу у дивана.
– Клод все равно скоро проснется, - сказал он. - Я дал ему очень небольшую дозу.
Констанс смотрела на серое, осунувшееся лицо Клода - лишь легкое подергивание век говорило о том, что он жив.
– Все же я не понимаю, Робер, - тихо произнесла она, - как дошло до этого. Я ведь все время чувствовала, что ему плохо. А вы… разве вы не чувствовали?
Робер колебался.
– Видите ли, это был очень сложный эксперимент… - Он вдруг замолчал.
Констанс повернулась к нему.
– Сложный эксперимент? - медленно переспросила она. - Но ведь речь шла просто о гипнотическом внушении!
– Это и было гипнотическим внушением, - Робер шарил по карманам, ища спички. - Только не простым… Ну, вы же знаете, с Клодом ничто не просто.
– Да. Так что же все-таки? - Констанс глядела ему прямо в глаза.
– Я не мог просто внушить ему, чтоб он забыл. Или переменил мнение. Это была его idee fixe, центр его жизненной философии… Ну, все это, с телепатией, с подлинной связью между близкими людьми, с очагами сопротивления… Надо было наглядно показать ему, что получится, если Светлый Круг…
– Пожалуйста, продолжайте, - без выражения сказала Констанс.
– Ну, если Светлый Круг окажется реальностью… в условиях… в условиях третьей мировой войны. Если все кругом погибнут, а останемся лишь мы, которых он держит своей любовью. И все будет зависеть от его любви и нашего взаимопонимания.
Констанс долго молчала, опустив голову.
– Я не понимаю, как это было возможно, - наконец сказала она.
– Ну, я все заранее продумал и подготовил… Гипноз… И потом у нас с ним ведь существовала прочная телепатическая связь, так что я мог в известной степени контролировать опыт… Ему я обещал продемонстрировать опыты с электродами… Это я тоже делал для перебивки, вызывал различные воспоминания…
– Значит, Клод все это время был уверен, что началась война? - ровный голос Констанс слегка дрогнул, она откашлялась. - Но ведь война была его постоянным кошмаром, из страха перед войной он и придумал всю свою теорию! Теперь я понимаю… Боже, Робер, вы не должны были этого делать! Это может его убить!
– Я… нет, я в самом деле не подозревал, что он до такой степени болен страхом перед войной. У него все сводилось к мыслям о войне и к воспоминаниям о лагере.
– Вы-то знаете, что он пережил…
– Но я был вместе с ним, и Марсель, и многие другие, и мы в общем-то довольно редко об этом думаем.
– Он никогда не забывал. Не мог забыть.
– Теперь я вижу… Констанс, он, кажется, просыпается!
Дыхание Клода стало неровным, он пошевельнулся и простонал. Робер и Констанс молча стояли у дивана и ждали. Клод открыл глаза и сейчас же, вскрикнув, зажмурился.
– Клод, милый, что с тобой? - тихо спросила Констанс.
– Ты не ушла… и напрасно, - пробормотал Клод, не открывая глаз; лицо его было искажено судорогой глубокого страдания.
– У тебя глаза болят? Попробуй открыть глаза, Клод, пожалуйста, попробуй.
Клод осторожно приоткрыл глаза и сразу же, щурясь, сел на диване. Вид у него был растерянный.
– Подождите… Значит, это все-таки была нейтронная бомба?
Робер прикусил губу.
– Послушай, Клод, мы должны тебе объяснить… - начал он.
Клод внезапно встал и, нетвердо ступая, подошел к окну.
В Люксембургском саду серели прозрачные летние сумерки.
На аллее играли дети, их звонкий смех, приглушенный шелестом листвы и шорохом автомобильных шин, доносился в окно кабинета, на четвертый этаж старого дома на улице Вожирар.
Клод постоял с минуту, потом вернулся и лег на диван.
– Что со мной было? - еле слышно проговорил он, не открывая глаз. - Я… я болен?
– Нет… Ты помнишь, что мы с тобой уговорились встретиться сегодня утром?
– Сегодня утром? - ошеломленно переспросил Клод. - Нет…
– Ну, так вот, сегодня утром, в десять часов, ты приехал ко мне, - хмурясь, сказал Робер. - Твоя машина стоит и сейчас за углом, на улице Бонапарта. Ты поднялся ко мне и все это время провел в моей лаборатории. Сейчас девять часов вечера. Последний час ты проспал. Опыт продолжался около десяти Часов. Констанс почувствовала, что тебе плохо, и приехала.
– Какой опыт? - очень тихо спросил Клод.
Робер сделал жест отчаяния.
– Констанс, я больше не могу! Объясните ему бога ради!
Констанс взяла Клода за руку.
– Только не волнуйся, теперь все уже позади. И не сердись на Робера, он сам жалеет, что все так получилось…
Клод вскочил. На лбу у него заблестели крупные капли пота.
– Значит, опыт? - задыхаясь, спросил он. - Гипноз? И электроды на височных долях? Только и всего?
– Клод, ты должен понять… - начал Робер.
Клод провел рукой по мокрому лбу.
– Опыт… - прошептал он. - Опыт… Я всегда восхищался твоим умом, Робер! До такого эсэсовцам, конечно, не додуматься! Правда, эсэсовцы меня не знали так хорошо, как ты… Тебе легче было добраться до самой глубины… и все уничтожить… все… до конца…
– Я не хотел, Клод… - пробормотал Робер. - Но я должен был тебе это сказать. Я хотел, чтоб ты понял…
– И ты это сделал! Талантливо сделал! Я все понял, не беспокойся. Прекрасный урок с наглядными пособиями.
Он нагнулся, ища туфли. Робер и Констанс встревоженно переглянулись.
– Что ты хочешь делать, Клод? - спросила Констанс.
Клод завязал шнурки туфель, встал, надел пиджак, висевший на спинке стула. Он был по-прежнему очень бледен и не поднимал глаз.
– Я поеду домой, - глухо проговорил он. - Сюда, в город. Мне нужно побыть одному и подумать.
– Я с тобой, - сказала Констанс.
– Нет! - Клод покачал головой. - Я должен быть один. Даже без тебя. Не сердись, иначе я не могу.
Констанс посмотрела на Робера, но тот стоял, опустив голову, и словно разглядывал что-то у себя под ногами. Тогда она слегка вздохнула и сказала:
– Как хочешь, Клод.
– Ты знала об этом? - вдруг спросил Клод.
Констанс заколебалась.
– Знала… то есть не обо всем… так, в общих чертах, - с трудом выговорила она. - Мы хотели…
– Я понял, чего вы хотели, - без выражения произнес Клод. - Спасибо. Ты правдива, как всегда. Как почти всегда, впрочем. Теперь я знаю все, что мне нужно.
– Для чего? - сдавленным голосом спросила Констанс.
– Для решения задачи, - так же бесстрастно и невыразительно ответил Клод.
Сизый табачный дым извилистыми полосами плавал по комнате и, подхваченный легким током воздуха, устремлялся в окно. На низком столике темнела большая пепельница, доверху забитая окурками.
Робер встал и подошел к окну. Но тут же отошел, нервно передернув плечами.
– Я вспомнил, как он подошел к этому окну, и понял, что никакой войны не было… - глухо сказал он. - Спасибо, что ты пришел. Я уж совсем…
Марсель покачал головой. Его худое нервное лицо, изуродованное большим шрамом, наискось идущим от виска к подбородку, выражало неодобрительное удивление.
– Ты пей, - сказал он, подвигая Роберу недопитый бокал вина. - Все же легче будет разговаривать… Я чего не могу понять - это как вы с Констанс могли его отпустить одного в таком состоянии.
– Он заявил, что хочет быть один. Ничего тут нельзя было поделать. Констанс поехала вслед за ним в такси, увидела, что он действительно отправился домой. Она несколько раз потом звонила Клоду, просила, чтоб он позволил ей прийти. Он решительно отказывался. Потом перестал отвечать на звонки. Она ходила по другой стороне улицы, видела, что он сидит в кресле у окна, курит. Около часу ночи он перешел в спальню, зажег ночник. Констанс немного успокоилась, вернулась ко мне. На рассвете она разбудила меня и сказала, что Клод умер. Мы поехали на авеню Клебер и еще издалека увидели санитарную машину, полицию… Он был уже мертв… Ну, сам понимаешь, с пятого этажа на тротуар…
– Все-таки надо было иначе…
– Ничего бы не помогло. Он так решил, значит он сделал бы это рано или поздно. Нервы у него были чувствительны, как у девушки, и он считал себя малодушным и слабовольным, но на самом деле воля у него была стальная. Убить его было нелегко. Он правильно сказал, что эсэсовцам бы этого не добиться - это мог сделать только я, его лучший друг, при помощи Констанс. Ты пойми, Марсель, это лишь видимость самоубийства. Это убийство, и я убийца. Ты юрист, ты должен это понимать.
– Ладно, пусть будет так, если ты настаиваешь. Но почему ты все это затеял? Ты что, не понимал, какая это опасная игра? Да и Констанс…
– Ну, конечно, я не понимал по-настоящему! Что ж, ты думаешь, это было преднамеренное убийство? А Констанс - ну, она ведь понятия не имела о том, что я хочу сделать. Она думала, что это будет просто сеанс гипноза…
– А он-то как на это согласился? Он тем более ничего не знал. Я ему рассказывал, что дают опыты с электродами, наложенными на мозг. В институтской лаборатории мы вживляем электроды в мозг подопытных животных; ну, с людьми, сам понимаешь, обычно приходится накладывать электроды поверх черепа. Результаты не такие точные, но все же очень интересные. Клод рискнул испытать на себе это наложение электродов. О моих опытах с гипнозом он знал, но, конечно, не имел понятия, что я собираюсь его загипнотизировать. Я наложил ему на виски электроды, ток сначала не включал, а вместо этого начал мысленно гипнотизировать его. У нас с ним контакт был превосходный, так что мне быстро удалось…
– Значит, можно внушить человеку, что началась война? И он все увидит и ощутит?
– Что угодно. Можно даже внушить ему, что он ранен. А тут я все хорошо обдумал заранее, с деталями. Правда, вскоре выяснилось, что я далеко не все предусмотрел, но коечто можно было подправлять по ходу дела… Ну и ощущение времени я подправлял тоже - внушал ему, что прошел день… еще день… что сейчас утро, а теперь уже вечер… Я погружал его в глубокий сон, а потом внушал, что он проспал не минуту-две, а несколько часов… понимаешь? Забыл внушить ему вовремя, что он обедал, вообще ел, потом пришлось это исправлять, а то он забеспокоился… Ну, что ты на меня так смотришь? Выглядит все это дико, я понимаю. Но послушай, ведь я полагался на прочный контакт с ним, ты же знаешь по лагерю, как это у нас было. Я считал, что в состоянии гипноза этот контакт станет еще более четким. Я думал, что смогу держать под контролем весь опыт. Ну, был уверен, что смогу. Да я как будто бы все и воспринимал, что он видел.
Очевидно, я не рассчитал своих сил. Ведь от меня потребовалось громадное напряжение. Я только тогда по-настоящему оценил удивительную силу Клода. Ведь он в лагере, истощенный, избитый, смертельно усталый, подчинял своей воле людей, чуждых и враждебных ему, держал под контролем иногда сразу нескольких, посылал приказы. Недаром он, окончив внушение, часто падал в обморок. Я сам иногда думал, что потеряю сознание - в таких хороших условиях!
– А когда ты заметил, что дело обстоит неблагополучно, почему ты не прекратил опыт? Должен сказать откровенно, Робер, что твое поведение в этой истории непонятно мне с начала и до конца.
Робер встал и зашагал по комнате.
– Не знаю… - отрывисто бросал он на ходу. - Сейчас дело другое… все так повернулось… я оказался преступником, убийцей… Я этого не ждал, пойми!
– А чего ты ждал? - спросил Марсель, глядя на него из глубины кресла. - Что за жестокий эксперимент! И над кем - над лучшим своим другом, над Клодом! Как ты мог после всего, что мы пережили в лагере?…
Робер круто повернулся к нему.
– В том-то и беда, что Клод был совершенно искалечен войной. Я этого не понимал, пока не начался эксперимент.
– Ну, а когда ты понял?
– Почему не прекратил опыт? Да вот попробуй объясни это сейчас, даже тебе! Ну пойми, я следил за ходом опыта, я видел почти все, что видел он, и понимал, что он может переживать… Наверное, все же не до конца понимал. У него были совсем другие реакции, другой уровень восприятия. То, что меня могло лишь на мгновение взволновать, доводило Клода до грани помешательства. И вообще у него вся психика была настроена на одно - на память о войне. Конечно, я перемещал электроды вслепую и к тому же не всегда отчетливо понимал, что он видит в данную минуту, но главное, я плохо улавливал ход его мысли. У него все воспоминания, все переживания в конечном счете сводились к мыслям о войне. Я поймал для него чудесное утро, вдвоем с любимой, и войны тогда еще не было, а он ухитрился и по этому поводу огорчаться: мол, какие мы были кретины в 1935 году, ничего не понимали…
Марсель хмуро усмехнулся и покачал головой.
– Что ж, это верно. Мне тогда было двадцать лет, и я думал о чем угодно, только не о войне.
– Да, но сейчас-то ты вспоминаешь об этом, хоть и с грустью, но спокойно, - как и я. А у Клода немедленно наступало острое возбуждение, перегрузка, и мне опять приходилось искать новые участки памяти или прибегать к внушению… А я сам уже еле на ногах держался от усталости…
– Так какого же черта все-таки…
– Да пойми ты, я вел с ним спор! Я должен был его убедить!
– Странный метод вести спор, как ни говори…
– Только не для нас с ним! Для нас это был вполне естественный метод. Неужели ты не понимаешь, ведь ты же видел все это в лагере!
– Ну, допустим, метод хорош. А результаты?
– Что ж, я, по-твоему, сознательно добивался этих результатов? - Робер устало опустился в кресло. - Опыт был рискованный, сложный… Все получилось не так, как я предполагал… Я это ощущал, но очень приблизительно и неточно.
– Ну, вот видишь…
– Но ведь я мог предполагать лишь приблизительно! Таких опытов никто еще не делал. Сочетание сложнейшего гипнотического внушения с глубоким и прочным телепатическим контактом, да к тому же еще электроды! Разве тут есть точные критерии, разве можно на любой стадии дать однозначный ответ: да - да, нет - нет? Конечно, я сразу заметил, что Клод очень легко перевозбуждается, и старался притормаживать, приглушать его реакции в особенно острых случаях, когда перо электроэнцефалографа начинало чертить слишком резкие зигзаги на ленте. Но ведь если б мне не удалось вызвать у него яркие эмоции, это означало бы, что опыт провалился. Понимаешь? Я и то старался снимать и приглушать слишком сильные реакции - ну, когда уходила Валери, потом Натали, отец… Я оставлял ему память об этом, но приказывал воспринимать это спокойней, более философски, что ли…
– Просто черт знает что! - пробормотал Марсель, наливая себе вина. - Ты объяснял-объяснял, а я все-таки не понимаю, как это все возможно. Ну, вот хотя бы то, что он стал “прозрачным” для всех.
– Ну, это получилось само собой. Было бы намного сложней внушать ему, что он понимает всех, а сам непроницаем, пока не выскажется. Создалась бы путаница в восприятии… Ну, и для моих целей был полезней этот вариант - чтобы Клод понял, как это тяжело для других…
– Ладно, - вздохнув, сказал Марсель. - Я в этой вашей чертовщине все равно не разберусь как следует. Но, значит, ты затеял всю эту жуткую историю для того, чтобы переубедить Клода. А в чем? Я и этого что-то не понимаю. В том, что борьба за мир возможна? Но что ж ты ему доказал? Скорее уж обратное. Да и вообще что за методы…
– Ах, да не в этом дело! - нетерпеливо ответил Робер. - При чем тут борьба за мир? Ты пойми, ведь он ослеп, он шел по краю пропасти, и я видел, что он вот-вот свалится и, пожалуй, потащит за собой всех. Ну, представляешь себе, что это значит, когда человек делает ставку на одно, только на одно? И вдобавок на самые хрупкие, самые ненадежные чувства?
– Почему же самые ненадежные? Любовь, дружба, семья…
… - Не будем об этом спорить, хотя я считаю, что любовь между родителями и детьми - чувство сложное и обычно одностороннее. Но если от любви и дружбы, даже самой искренней, требовать слишком многого, она неизбежно надломится. Таков уж закон жизни. Это все равно, что впрячь скаковую лошадь в телегу ломовика. Если ты попробуешь отгородиться любовью от всего мира и видеть в ней единственное спасение и единственную подлинную ценность, ты проиграешь неминуемо. Проиграешь, как ты ни цепляйся за эту любовь!
– Ну, я-то ничего подобного и не собираюсь делать, меня ты не агитируй, - сказал Марсель. - Но как получилось, что Клод так ухватился за эту свою идею насчет внутренних очагов сопротивления? Как могло случиться, что Клод Лефевр, лагерник, отличный боец, идеально честный человек, - и вдруг увлекся такой теорией… Ведь если разобраться, это мещанство!
– Вот видишь! Это я ему как раз и пытался втолковать! Парадокс заключается в том, что мое определение его глубоко оскорбляло: он искренне ненавидел мещан! И был уверен, что его теория - именно антимещанская. Что эти очаги внутреннего сопротивления станут форпостами будущего мира, гармонического, прекрасного и доброго.
– Как же ты это объясняешь? - спросил Марсель.
– Я думаю, что он был слишком глубоко травмирован войной. Психика у него сверхчувствительная, для таких тонких организаций годы лагеря - это…
– Но он же превосходно держался в лагере!
– Боюсь, что никто из нас не понимал, чего это ему стоило. Ему было вдесятеро тяжелей, чем нам, а он, не жалуясь, выносил такие перегрузки, которые не под силу и людям покрепче. Но зато он уже и не смог выздороветь. Если б не Констанс, он умер бы с горя или покончил самоубийством еще тогда, девятнадцать лет назад.
– Но как же ты, зная все это, решился именно с ним на такой эксперимент?
– Я же тебе объясняю, что лишь теперь понял это понастоящему. А вмешаться в его дела мне казалось необходимым, да и Констанс просила. Ее очень встревожила эта история с дочерью… ну, я тебе рассказывал. И она боялась за сына.
– А он и сына втянул в эти дела?
– По-настоящему - нет… то есть, я хочу сказать, Клод специально этим не занимался. Но Натали он тоже не занимался до этого случая, а связь у них все же была. Атмосфера такая создалась в семье, тут уж неизбежно… Я долго не бывал у них, ездил много за последние месяцы, после смерти Франсуазы мне как-то не сиделось на месте… Да и раньше мы с Клодом больше встречались вне дома, он еще с тех времен, с 1945 года, инстинктивно сторонился Франсуазы… Понимаешь, не то чтоб он не любил ее, но всегда помнил, как ему было тяжело тогда, без Валери и без меня… Так вот, вернулся я из Америки, зашел к ним, посидел вечер - и жутко мне стало. Натали похожа на живой труп, а ведь была такая милая, веселая девчонка. Марк дома почти не сидит и ни с кем не разговаривает. Констанс, как всегда, держится молодцом, но я-то вижу, что на душе у нее кошки скребут. А Клод ничего не замечает и твердит: “Моя идеальная семья, мой Светлый Круг, мой очаг сопротивления…” С ним говорить было попросту невозможно. А за исключением этого пункта - семьи и телепатии - он был в порядке. Много работал, заканчивал очень интересную серию экспериментов.
– И ты решился тоже провести эксперимент?
– Да. Видишь ли, я считал, что отвечаю за него. Да и Констанс, по-видимому, так считала. Я хотел вылечить его от этой сумасшедшей идеи. Но как? Логические доводы на него не повлияли бы: это была вера вне логики, вне фактов. Вот я и решил создать модель его психики, его микромира, этого самого Светлого Круга, и показать ему наглядно, до чего хрупки все личные связи в нашем мире…
– Во имя дружбы и любви показать, что на дружбу и любовь рассчитывать нечего? - подхватил Марсель. - Нет, Робер, это просто черт знает что! Твой эксперимент мало того, что бесчеловечен и жесток, - он еще и лишен смысла. Что ты мог доказать в конечном счете? Что нельзя жить в наглухо изолированном от общества личном микромире? Но ведь такой идеальной изоляции в жизни не бывает. Ты поставил эксперимент в искусственном вакууме. И не бывает так, чтоб уж все абсолютно зависело от воли и чувства одного человека, тем более в такой прямой и трагической форме.
– Но ведь я должен был искусственно заострить и подчеркнуть все главное. Конечно, моя модель - не уменьшенный макет, а скорее символ внутреннего мира Клода. Логический вывод из его посылок.
– Возможно, ты и прав, - помолчав, ответил Марсель. - Но вообще - что за мрачная идея! Ты, Робер, прости меня, не обращался к психиатру? Или к этим, как их, психоаналитикам?
– Зачем мне психоаналитики? Я и без них понимаю, что меня толкнуло на этот эксперимент. Я привык отвечать за Клода еще со времен лагеря. Хоть он и был старше меня, но всегда искал моей поддержки, так уж получалось. При всех своих удивительных способностях он был совершенно беспомощен и беззащитен в повседневной жизни. Как большая птица с подрезанными крыльями - взлететь и оторваться от земли ей надолго нельзя, а ходить по земле она не умеет. Да… Многие считают, что телепатические способности - это проявление атавизма. Но как бы там ни было, а мне Клод Лефевр иногда казался человеком, который из будущего, ясного и гармонического мира попал в наш жестокий век. И тут его замучили насмерть - и друзья и враги… Меня его глаза поразили при первой же встрече, в лагере военнопленных. Я помню: Клод стоял у двери длинного серого барака, кругом была осенняя непролазная грязь, лужи, и все было такое же казенное, холодное, серое, как этот проклятый барак. Но глаза Клода - они были из другого мира, говорю тебе! Я с разгона пробежал мимо него, а потом сразу вернулся и уже не мог оторваться от его глаз, такие они были ясные и страдальческие. Большие, красивые, как у девушки, серо-голубые глаза с длинными темными ресницами.
– Это верно, глаза у него были необыкновенные, особенно когда он задумается, бывало. Но во время этих самых сеансов я на Клода просто боялся глядеть. И глаза у него становились мутные и страшные, и лицо застывало как-то… бр-р! Как он только выдерживал, действительно…
Они долго молчали.
– Что же мне делать, по-твоему? - спросил, наконец, Робер. - Идти в полицию? Можешь мне поверить, я колеблюсь не из страха. Мне легче было бы отсидеть, сколько положено, в тюрьме, чем вот так, как сейчас… Я Констанс не то что в глаза не смею смотреть, я… ну, да что говорить, сам понимаешь…
– Насчет полиции ты брось, это ни к чему. Тебя почти наверняка оправдают, а пока что ты потащишь за собой на скамью подсудимых Констанс и наделаешь шуму. Кому от этого будет легче, спрашивается? Если жаждешь славы, иди в редакции вечерних газет, они тебя благословят за такую сенсацию.
– Ты вправе издеваться надо мной, я заслужил, - устало сказал Робер. - Но пойми хоть одно: я вынужден был действовать! Вся эта история быстро кончилась бы катастрофой. Натали совершенно надломлена, рано или поздно Клод перестал бы тешить себя иллюзией, что она выздоравливает. А главное - Марк собрался уйти из дому. Констанс знала, что он медлит только из жалости к Натали, ждет, чтоб ей стало хоть немного лучше. Так вот - или Марк ушел бы, и тогда Светлый Круг рассыпался бы на глазах у Клода. Или - еще хуже, пожалуй, - Клод постарался бы удержать Марка гипнотическим внушением и искалечил бы душу сыну так же, как и дочери. Уж поверь, Констанс понапрасну бить тревогу не стала бы, у нее выдержки и спокойствия на троих хватит.
– Но все-таки… неужели он решился бы сделать это с Марком?
– В том-то и дело! Констанс осторожно спросила у него, пользуясь подходящим случаем, как он поступил бы, если б Марк предпринял какие-либо неверные шаги. Он ответил: “Что ж, вероятно, я вмешался бы. Ну, более продуманно, чем с Натали, - но не могу же я смотреть, как сын подвергается опасности, и не защищать его…” Этот ответ до такой степени напутал Констанс, что она тут же позвонила мне и условилась о встрече. Она-то знала, что Клод так и поступит, если успеет.
– Послушай, но получается так, что ты, спасая Клода от катастрофы, решил ускорить эту катастрофу! Разве нет?
– Нет. Скорее это можно определить так: я попытался сделать прививку, чтоб избежать смертельно опасной болезни.
– Хороша прививка, от которой умирают!
– Такое случается и с проверенными вакцинами. А тут слишком много неизвестных…
– Как же ты мог…
Робер опять вскочил.
– А что мне было делать? - выкрикнул он. - Смотреть и молчать? Тогда я был бы ни в чем не виноват, да? И, видя, как они все гибнут на моих глазах, мог бы считать, что моя совесть чиста? А я не могу так считать, пойми ты! Я никогда не боялся ответственности,
Марсель поднял голову и посмотрел на него.
– Знаешь, что я тебе скажу? - медленно произнес он. - Очень плохо бояться ответственности, от этого очень много зла на земле. Но еще хуже брать на себя ответственность за то, что неминуемо выскользнет из-под твоего контроля!
Робер долго молчал, расхаживая по комнате. Потом он сел в кресло и налил себе вина.
– Вероятно, ты нрав, - тихо сказал он. - Но, видишь ли, это не вообще ответственность за другого, не абстрактный вопрос: может ли А отвечать за В. Это мы с Клодом, наша с ним дружба. Почти четверть века, почти шесть лет лагерей и тюрем… Даже ты не все знаешь… Я многое изменил в его судьбе - может быть, не всегда к лучшему. Я заставлял Клода действовать вопреки его убеждениям… то есть четких убеждений у него тогда, пожалуй, не было, - но вопреки его натуре. Он не был бойцом - я заставил его участвовать в борьбе, и он это делал из любви ко мне, ну, и, конечно, из врожденной доброты и честности.
– Я не понимаю… - пробормотал Марсель.
– Да вот тебе пример: наш побег из лагеря военнопленных. Ведь это из-за меня Клод вынес такие нечеловеческие пытки в гестапо. Если б не я, он, может, вообще не решился бы на побег, - и лучше бы ему сидеть до конца войны там, чем попасть в Маутхаузен. Ну, а если б он и бежал, то иначе, без всей этой шикарно задуманной истории с подложными справками. Ведь нас с ним почему так зверски пытали? Потому что нельзя было объяснить, как мы узнали, кто включен в список на эшелон, и откуда достали бланки для справок. Доступа в лагерную канцелярию мы не имели… Походило на сговор с немецкой комендатурой - значит, гестаповцы выбивали из нас имена предателей рейха, врагов фюрера…
– Вон что! А на способности Клода вы не решались сослаться?
– Да гестаповцы либо не поверили бы, либо все равно убили бы нас обоих - на что им такие опасные типы! К тому же в это дело были действительно замешаны парни из комендатуры. Если б мы все рассказали, как есть, до них добрались бы обязательно. А они были хорошие ребята. Оставалось нам валить все на мертвых да твердить: “Больше я ничего не знаю, убейте меня!” И Клод все это вынес и никогда ни словом не попрекнул меня.
– А ты? Ты себя не упрекал?
– Я?… Видишь ли, я и тут не все понимал в душе Клода. Это я сейчас, после всего, понимаю, что он жил бы иначе, если б не мое вмешательство… Правда, он всегда уверял, что вообще умер бы от горя и тоски в лагере, если б не встретил меня… Может, так оно и есть. Клод, он ведь был совсем особым, непохожим на других. Но тогда - тогда я думал, что он все воспринимает в общем так же, как и я. Что борьба - это для него естественно и просто, ведь он благороден, кристально честен, ненавидит фашистов всеми силами души…
– Ты хочешь сказать, что, если б не дружба с тобой, Клод просидел бы всю войну, ни черта не делая? - удивленно спросил Марсель. - Однако не слишком лестная характеристика!
– Я думаю, что поступки Клода нельзя было мерить обычными мерками, - устало и задумчиво проговорил Робер. - Он был… ну, словно из другого измерения…
– В нашем мире все же действуют наши мерки, ничего тут не поделаешь. И я думаю, что дело не только в тебе. Не смог бы такой добрый и чистый человек, как Клод, оставаться в стороне… Ну, да ладно!
Марсель задумался.
– Ты хочешь сказать, насколько я понимаю, - сказал он потом, - что был уверен: Клод простит тебе любую жестокость по отношению к нему?
– Что он поймет: я действовал из любви к нему! - поправил Робер.
– Вот в этом и состоит твой страшный просчет, я же тебе говорю! Ты сначала показал ему в этой своей модели, как ты это называешь, что на любовь и дружбу не стоит рассчитывать, а потом и наяву убил его доверие к себе и к Констанс. Чего же ты хотел? Весь его мир вдребезги разлетелся под твоими ударами - ты знал, куда бить вернее! - и ты хотел, чтоб он после этого остался в живых?
Смуглое лицо Робера посерело.
– Вероятно, ты прав… - сказал он совершенно безжизненным голосом. - Но что же мне было делать? Я действительно считал, что дружба дает мне права… или, если хочешь, налагает обязанности…
– Права или обязанности мучить, убивать? Во имя дружбы? Да, ты должен был рискнуть, я понимаю, но есть же всему мера! Ты обязан был снова усыпить Клода, когда увидел, что с ним творится! И внушить ему, чтоб он все забыл!
Робер устало покачал головой.
– Он бы не поддался гипнозу. Я совершенно выдохся к тому времени и сам был настолько потрясен, что… И потом - я вообще не смог бы пойти на такое. К чему тогда были бы все мучения - и его и мои? Надо было, чтоб он продумал и понял…
– Но есть ведь границы всему, даже дружбе! Нельзя же насильно вторгаться в душу человека и переделывать там все по своему вкусу! Когда это попытался сделать Клод, ты возмутился и пожалел его семью. А ты сам? Клод, как я понимаю, действовал импульсивно и сам горько жалел об этом. Но ведь ты-то все продумал и подготовил заранее! Нет уж, прости, Робер, но эти твои шутки здорово попахивают лагерем. На более высоком уровне, да эсэсовцам бы до этого ни в жизнь не додуматься…
Робер медленно, с усилием встал. Лицо его было совсем серым.
– Спасибо, - глухо проговорил он.
Марсель тоже встал. Багровый шрам причудливо подергивался и пульсировал на его лице.
– Прости, но я должен был тебе это сказать! Лучше, чтоб ты понял…
– Сначала ты повторил то, что Клод сказал мне: что эсэсовцам бы до этого не додуматься. Потом - то, что я сказал Клоду: “Я должен был это сделать, надо, чтоб ты понял…” Вот видишь, как это все получается - во имя друягбы, во имя долга?
– Я ведь только сказал, может быть, слишком резко, слишком жестоко, но…
– В том-то и дело! Разве ты твердо знаешь, где граница между жестокостью полезной и жестокостью смертоносной? Разве ты можешь точно определить в таких случаях, какую дозу лекарства надо дать, чтоб оно излечило, а не убило? Всегда можешь обозначить, где грань между добром и злом? В лагере это было в общем ясно, а теперь… Видимо, я свернул с правильного пути, хотя и в другом направлении, чем Клод…
– Ну, направление-то у вас, пожалуй, одно - лагерь… Не сердись, но это так. Разве тебе никогда не приходило в голову, что не только Клод, но и ты, и я, и все, кто так или иначе прошли через это, - стали другими? Послушай, ну, вот припомни: каким ты был до войны? Ты мог бы - не то что сделать, а хоть задумать что-либо подобное по отношению к Другу?
– Абстрактный вопрос. Я же тогда ничего этого не знал.
– Дело не в том, что ты знал, - но что ты мог? Что вмещалось в твоей душе?
– Понимаю… Что ж, может, ты и прав… - Робер стал у окна, глубоко вдохнул влажный ночной воздух. - Может, война сместила и раздробила многое в наших душах. Изменился мир, изменились и мы. До войны мы не могли подумать, что вот такой ночной дождь над Парижем способен убить человека, - сейчас мы знаем, что это возможно. Но вряд ли человечество изменилось так уж радикально - ив плохом и в хорошем смысле. Человек остается человеком, хотя все очень усложнилось и запуталось… Разве совсем исчезли мерки добра и зла?
– Я этого вовсе не думаю. Я вообще говорил не обо всем человечестве… хотя…
Робер повернулся к нему.
– Ты мне ответь все-таки: что сделал бы ты на моем месте? Ждал бы катастрофы сложа руки? Или все же попробовал бы вмешаться, спасти то, что можно спасти? Даже если б надежда на успех была очень мала? Даже если б ты рисковал прожить остаток дней, терзаясь угрызениями совести? Что сделал бы ты, Марсель, на моем месте?
Марсель долго молчал. Потом он поднял глаза.
– Не знаю… - сказал он тихо. - По совести говоря, не внаю…
Валентин БЕРЕСТОВ АЛЛО, Парнас!
– Алло, Парнас, Парнас! Как меня слышите? Прием.
– Слышу вас хорошо. Какие распоряжения насчет эвакуации? Прием.
– График тот же. Через три часа всем быть на космодроме. Как поняли?
– Понял хорошо. Докладываю обстановку. Коллекции не влезают! Двенадцать отсеков загружены до предела. Прометей предлагает часть оборудования раздать ахейцам, а освободившееся место заполнить коллекциями. Твое мнение, шеф?
– Парнас! Парнас! Разрешаю отдать тринадцатый отсек под коллекции. Оборудование взорвать! Чтоб следа не осталось. Поручить это дело Прометею. Как поняли? Прием.
– Понял очень хорошо. Оборудование взорвем. Меркурий просит разрешения подарить свой велосипед Гераклу.
– Повторяю: никаких следов нашего пребывания на этой планете не останется. Меркурий - идиот! Неужели он не понимает, что велосипед нужен Гераклу в политических целях?
– Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав.
– Это еще что за шуточки? Прием.
– Шеф, я Мельпомена. Скажи Аполлону, пусть подбросит мне на полчасика вертолет. Забыла отснять театр в Эпидавре.
– Шеф! Шеф! Чепе! Гименея схватили. Опять тащат на свадьбу.
– Это ты, Марс? Пальни из ракетницы, пусть разбегутся. Мельпомена, никаких вертолетов, раньше надо было думать. Аполлон, куда смотришь? Девять лаборанток - и никакого порядка!
– Шеф, это опять Марс. У меня только красные ракеты. Они поймут это как сигнал к войне.
– Пора бы знать, что причины у войн социальные. При чем тут цвет ракеты? Действуй!
– Папочка, какую статую мы сейчас грузим! Помнишь, я позировала одному скульптору? И представь себе, в храме никого не было.
– Немедленно вернуть статую в храм. Она - шедевр человека и принадлежит людям.
– Папочка, откуда такое почтение к храмам? Ты жо атеист.
– Лучше б вместо богини любви они придумали богиню уважения! Парнас! Парнас! Где Гименей? Где Прометей?
– Гименей уже на базе. Прометей на складе, получает взрывчатку. Чтобы не пугать местных жителей, предлагаю ненужное оборудование сбросить в кратер Везувия и взорвать его там. Тогда это будет принято за нормальное извержение.
– Это ты, Вулкан? Придумано неплохо. Действуй.
– Шеф, я Аполлон. Может, все-таки оставим что-нибудь? На память. Пусть знают, что мы были здесь.
– Они превратят наши приборы в идолов, в фетиши. Они будут мазать наши телевизоры и вертолеты бычьей кровью и поклоняться им. Все взорвать!
– Может, зароем таблицы? Клио их уже приготовила. Они откопают их, когда займутся археологией, прочтут, когда откроют кибернетику, когда они станут такими, как мы.
– Понял тебя, Аполлон. Прежнее распоряжение остается в силе. У них странное свойство объяснять икс игреком. Где гарантия, что они не попытаются приписать нам все свои достижения? Между тем все, что они создали и создают, было и будет делом их собственных рук. И нечего примешивать к этому сверхъестественные силы. Например, нас. Все взорвать!
– Докладывает Нептун. Океанографический отряд закончил работу. Батискаф затоплен. Отбываем на космодром.
– Докладывает Плутон. Геологи взяли последние керны. Минут через пятнадцать-двадцать отбываем на космодром.
– Причина задержки?
– Цербер погнался за куропаткой. Вот паршивец!
– Ребята, погодите, не сворачивайте рации. Я Аполлон. Шеф, скажи ребятам что-нибудь красивое.
– Что ж сказать? Слушайте все. Поработали… э-э… хорошо. Хорошо, говорю, поработали. От имени руководства экспедиции благодарю и поздравляю весь коллектив…
– Внимание! Чрезвычайное сообщение. Прометей задержан на космодроме. Пытался взорвать ракету.
– Он сошел с ума. Эскулап, немедленно освидетельствовать этого безумца!
– Я Эскулап. Энцефалограмма хорошая. Отклонения от нормы незначительны. Он здоров.
– Дать его сюда! Прометей, я слушаю тебя. Прием.
– Шеф, я хотел, чтоб мы остались на Земле и помогли людям. Чтобы они были счастливы.
– Мальчишка! Они не созрели для этого. Они придут к этому сами. Я верю в них. А вот ты, как я вижу, не веришь.
– Шеф, я остаюсь на Земле. Я отдам людям свои знания, свой огонь.
– К твоему сведению, они просили у нас все что угодно, кроме знаний.
– А ты им предлагал знания?
– Ладно, договорим в пути. Марш в ракету! Ты отстранен от работы.
– Я же сказал, что остаюсь на Земле.
– Они убьют тебя и свалят это на нас.
– Я готов на все.
– Я не узнаю тебя, мой мальчик. Ты забыл родную планету. Ты чуть было не лишил нас возможности вернуться домой. Чем они тебя опоили? Что они с тобой сделали?
– А что они сделали с тобой? Почему ты скрыл от них, что мы не бессмертны? Почему ты допустил, чтобы они поклонялись нам, как божествам?
– Ну, слушай, это было сделано исключительно в интересах безопасности сотрудников экспедиции. И вообще на нынешнем этапе развития они еще не способны понять, кто мы такие.
– Вас они не поняли и сделали богами. Я понял их и стал человеком.
– Что-о?! “Вас”? “Человеком”? Связать его и затолкать в ракету! Мы будем его судить.
– Я Фемида. Даю справку. Если он человек, то действие наших законов на него не распространяется. Мы не имеем права брать его с собой.
– Понял тебя, Фемида. Закон есть закон. Развяжите его. Пусть у нас будет хоть один провожающий.
– Я Фемида. Даю справку. На планетах с незрелой цивилизацией присутствие местных жителей при запуске космического корабля не рекомендуется, ибо неизвестно, как они это воспримут и поймут.
– Ясно. Отправьте его куда-нибудь. Скажем, на Кавказ.
– Шеф, я Марс. Можно дать ему револьвер?
– Я Фемида. Даю справку. Передача техники существам незрелых цивилизаций воспрещается, ибо неизвестно, в чьи руки она в конце концов попадет и какое найдет применение.
– Шеф, но ведь он один из нас!
– Увы, он уже один из них. Слышал, что сказала Фемида? Прощай, Прометей. Надеюсь, что…
– Внимание! Я Меркурий. Согласно графику начинаю ликвидацию средств связи. Все радиостанции Земли прекращают свою работу.
– Я Шеф. Поправка. Временно прекращают. Гром и молния! Они уже породили Прометея!
Аркадий ЛЬВОВ Человек с чужими руками
У профессора Валка были странности. Собственно, сам профессор был убежден, что именно у него норма, а странности, или, точнее, аномалии, у всех прочих. Под прочими разумелись не только его сотрудники, но и вся та часть человеческого рода, которая имела неосторожность отстаивать привычки, чуждые. ему.
Работал профессор только стоя, у пюпитра, специально оборудованного для него. “Человек начался тогда, - неустанно повторял он, - когда вопреки воле творца ему удалось высвободить верхние конечности, чтобы с этим самым творцом состязаться. Но для чего высвобождать нижние конечности? Чтобы пользоваться задом? Заметьте, подавляющее большинство животных вообще не пользуется им, а остальные - в исключительных случаях. Кстати, поэтому они не страдают почечуем, то бишъ геморроем, и малоприятными перебоями в великих актах диссимиляции”.
Каждое утро, в шесть пятнадцать, Валк собственноручно чистил свой лучший костюм, прежде чем встать у пюпитра.
В театр, в гости можно заявиться в любом костюме, объяснял он, от этого никто не пострадает. Напротив, этим вы дадите своим ближним высококалорийную пищу для размышлений вслух. Но работа, труд - Валк держал перед носом оппонента безукоризненно выпрямленный палец - этого не потерпит.
Кстати, вспоминал он, Робеспьер, тяжело больной, даже на казнь явился в безупречном костюме, ибо безупречный костюм - это безупречная самодисциплина.
А великий Альберт, возражали ему, ведь он…
Что Альберт Эйнштейн, негодовал профессор, да, он подвязывал брюки веревкой, но когда, скажите мне, когда? Когда работал или тогда, когда принимал гостей? И наконец, взрывался Валк, в мятой пижаме и стоптанных туфлях дерзайте у себя в спальне - пардон, на кухне, - а ко мне извольте при полном параде.
– Как Робеспьер на казнь?
– Вот именно, - хохотал Валк, - на казнь, которая всю вашу жизнь будет откладываться со дня на день.
“Со дня на день, со дня на день”, - твердил он, хотя рядом уже никого не было. И так всю жизнь: со дня на день. А утром, в пятницу, двадцать седьмого июня, внезапно пришел день казни: в это утро сын профессора Валка, Альберт Валк из Центральной лаборатории лазеров, лишился обеих рук. Всю ночь накануне взрыва лаборатория работала.
Валку позвонили в семь, в восемь он уже был в клинике.
Сначала он надел нечищеный костюм, но едва захлопнулась дверь лифта, он тут же отворил ее и, поднявшись к себе, привел костюм в идеальный порядок, а затем отправился в клинику. Альберт был без сознания. Профессор снял простыню и сделал шаг назад. Это был очень странный шаг: профессор явно падал, но вместо падения получился шаг назад. Ему подставили стул, но он не сел, он только ухватился за спинку. Это продолжалось двенадцать секунд - так показала видеомагнитная запись.
Но никто, кроме самого профессора, не знал, каковы были его мысли в те двенадцать секунд. Никто не знал, что профессору отчаянно хотелось кричать, никто не знал, что профессор задавил крик чудовищной мыслью об убийстве и самоубийстве, никто не знал, что на двенадцатой секунде профессор решительно сказал себе: Валк, это не твой сын, Валк, ты должен, только ты. И никто не знал, что после этого приказа профессор стал другим человеком, с тем же именем - Александр Валк, - но другим, который уже ничего не боялся, потому что только в бесстрастии могло быть спасение.
Через двенадцать часов Альберта Валка перевезли из операционной в палату - теперь у него были, как прежде, две руки. Но останутся ли они его, Альберта Валка, руками?
В двадцать сорок пять профессор вернулся к себе в лабораторию, выпил стакан чаю и встал у пюпитра. “Работать!” - приказал он себе. Но мозг отказывался работать в том направлении, которое выбрал профессор, - власть ритма, заданного операционной, была еще чересчур велика. Хорошо, сказал Валк, значит, надо выключиться, чтобы погасить ритм. Но еще до самовыключения он успел подумать, как это унизительно, что человек до сих пор находится во власти ритмов, которые задаются извне и дезорганизуют мозг.
– В сущности, - сказал профессор вслух, - в этом главная причина недолговечности человека.
Но тут же, еще раз изумившись поразительной ловкости, с которой мысли, рожденные ритмом дня, овладевают мозгом, он сделал решительное усилие над собой. Теперь он уже не отдавал себе приказов: приказы чересчур насыщены энергией и возбуждают систему. Теперь тело Валка пронизывала аморфная мысль-воля, и с каждой миллисекундой усиливалось ощущение грузности ног, рук, торса, головы.
“Девять”, - плавно, бесшумно, как световая волна, пронеслось в руках, лежавших на пюпитре.
Спустя четверть часа, ровно в девять, Валк, развеяв, как он говорил, пепел впечатлений, приступил к работе.
“Решая проблему преодоления биологической несовместимости, - торопливо записывал профессор, - мы не вправе уходить от важнейшего вопроса: как будут вести себя трансплантированные конечности? Иными словами, каковы будут взаимоотношения памяти трансплантированных органов и ампутанта, или, еще точнее, периферической памяти, подключенной к центральной, с которой до пересадки связь ее была нулевой?” Поставив вопросительный знак, Валк внезапно увидел лицо профессора Даля, своего “дражайшего коллеги”, который считал абсолютной чепухой его, Валка, тревоги, ибо сотни экспериментов неопровержимо доказали, что трансплантированные конечности собак и обезьян в новой системе ведут себя вполне прилично. Ну, во всяком случае, достаточно прилично - разве что только “походка и осанка, - Даль при этих словах смеялся оглушительно, как манежный комик, - не совсем из той оперы”.
– Именно так, - со скрещенными на груди руками, окаменевшим лицом, на котором двигались только пепельные губы, Валк напоминал статую командора. - Именно так, не совсем из той оперы. И это вдвойне, втройне знаменательно, если учесть, что речь идет об операх, в которых всего-то по дюжине нот. А что же, дорогой Даль, произойдет с человеческой рукой, в которой сотня опер, а в каждой опере сотня тысяч нот!
Но профессор Даль вовсе не намерен был спорить, ибо, говорил он, спорить с блажью бессмысленно, даже если это блажь такого проницательного исследователя, как Валк. И подобно Катону, он все свои речи, даже о новой оперетке “Марсианки не должны плакать”, всегда кончал одной фразой: “А впрочем, никакой автономной памяти у трансплантированных органов нет!” До более обстоятельных возражений профессор Даль не снисходил.
Лицо Даля - мясистый нос, мясистые щеки и мясистые губы в трубочку - не оставляло Валка: оно гримасничало, строило нелепые рожи балаганного зазывалы и под конец, что было уже совершеннейшей чепухой, принялось хрюкать бегемотом. Все это было тем нелепее, что Валк и профессор были друзьями и, кроме того, по части джентльменства Даль мог дать сто очков вперед любому из своих коллег.
– Я устал, - громко сказал Валк, - я должен отдохнуть, чтобы вернуть профессору Далю его человеческое лицо. Хотя у него здорово получается это “хрю-хрю”.
Прохрюкав, Валк захохотал, восторгаясь неожиданным талантом своего друга, а потом вдруг сообразил, что хрюкает-то все-таки он, Валк, и приказал себе немедленно успокоиться.
“Черт возьми, - изумился он, - какая, однако, только чушь не прозябает в тебе, почтенный мой гомо сапиенс!” Подойдя к стене, Валк нажал кнопку - пластиковая, под красное дерево, панель бесшумно поползла вперед; раздевшись, профессор лег и привычным движением вдел обе стоны в электроды. Эти электроды, тщательно изолированные, были подключены к массивным медным пластинкам, утопленным в земле на три четверти метра. Таким путем шесть часов в сутки Валк в отличие от прочих гомо, не разувающихся, строго говоря, всю жизнь, получал живительные токи от своей матери Земли.
В кабинете было тихо, как в вакуум-камере. Только ровные глухие удары человеческого сердца дробили эту тишину на секунды, и тишина каплями стекала в пространство.
Но сон не шел, сколько Валк ни приказывал себе спать.
Мелькнула мысль о гшшогенераторе, хотя Валк не считал себя больным, а употребление искусственных стимуляторов здоровыми людьми полагал чудовищной безнравственностью.
Повернув регулятор климатизера до отметки 9 выше нуля, профессор сбросил одеяло и стал терпеливо ждать того легкого озноба, который, по опыту йогов, обязательно активизирует центр сна. Странно, однако, подумал он, что до сих пор никто не опроверг утверждения Мэгуна об активизации в состоянии сна дендритной системы в целом. Ведь совершенно очевидно, что это парадокс, которого природа не потерпела бы.
Засыпая, профессор смутно чувствовал, как удлиняются до бесконечности его ноги и руки, а тело становится крохотным комочком, в котором и гнездится собственно его “я”. Ничего внушающего тревогу в этих нелепых ощущениях не было.
О них говорил еще Дидро, который, кстати, использовал их как доказательство экзогенного [Термин, применяемый к таким частям растений, которые закладываются на поверхности из наружных слоев ткани, например листья почки на стебле. (Прим. ред.)] происхождения конечностей.
Но ощущение было все-таки крайне неприятно: нарушая чувство стабильности, оно рождало настроение непрочности и призрачности.
Наконец Валк заснул. Сон был глубокий, без сновидений, без того обычного фона окраинных тревог, который с недавних пор почти не покидал его. Но тем загадочнее был внезапный звонок, который выбросил Валка из сна. Это был очень резкий, пронзительный телефонный звонок, прозвеневший не вне, а где-то внутри. Причем - и это удивительнее всего - он с самого начала знал, что звонит не видеотелефон, а именно внутри звонит, хотя по тембру это был звонок видеотелефона.
Через минуту загорелся экран видеотелефона: когда Валк бодрствовал, фотоглаз отключал звонок.
– Извините, профессор, но срочно требуется ваше присутствие.
– Альберт жив? - воскликнул Валк, подойдя вплотную к экрану.
– Альберт жив, - ответила доктор Ягич, и Валк тотчас выключил аппарат.
В палате было полутемно - горела синяя лампочка-ночник. Здешний воздух, перенасыщенный кислородом, давал тягостное ощущение специфически больничной чистоты и свежести. Альберт, весь, как мумия Тутанхамона, плотно упакованный в белое, казался пришельцем из другого мира, у которого свое, неземное время, свое, неземное лицо. “Может быть, - подумал Валк, - этот другой мир - просто смерть”.
Но пустые размышления о смерти он считал такой же чудовищной безнравственностью, как употребление здоровыми людьми искусственных стимуляторов, и мысль о ней была погашена, едва оказалась опознанной.
– Почему в палате темно? - умеренный голос профессора прозвучал в ночной тиши больницы как брань. Профессор хотел еще пояснить, что нелепо гасить свет в помещении, если в этом помещении один только больной - не видящий, не слышащий, не обоняющий, но вместо этого он еще раз повторил свой вопрос: - Почему в палате темно?
Ординатор Ягич немедленно, без слов, включила потолочные плафоны и светильник у изголовья больного, хотя ей очень хотелось напомнить: таков приказ профессора Валка.
Теперь, при ярком, как полуденное солнце, свете, Альберт был уже не пришельцем из другого мира, а обыкновенным аемлянином, о котором санитары говорят - “он уже почти готовый”, а врачи - “сложный, но надо верить”.
Отгибая веки, Валк всматривался в зрачки Альберта - маленькие, неподвижные, как глаза мышонка. Пучок света, направленный в зрачок, не вызвал реакции. На стопе и висках пульса не было, нос заострился и приобрел матовую прозрачность воскового муляжа.
Щелкнуло реле: включился электроэнцефалограф. Медленно, как в замедленном кадре, поползла лента восьмидесятиканальной энцефалограммы. Все каналы показывали альфа-ритм, стремящийся к нулю. Ягич хотела предупредить Валка, что все прежние энцефалограммы были не лучше, но доктор уже поднял ворох лент и, рассматривая их, сначала прищурился, как от яркого света, бьющего прямо в глаза, а затем кивнул головой - так, дорогая моя, так.
Теперь самое время было напомнить Валку, что долго в таком состоянии больной оставаться не может, что надо немедленно, пока не поздно, ввести больному стимулятор серамин, иначе - ординатор Ягич задумалась, потому что на ум приходило одно только “экзитус”, - иначе можно опоздать.
Но ничего этого Ягич не сказала: пока она блуждала в поисках приличных слов, которые означали бы то же, что “экзитус”, но звучали бы менее категорично, профессор Валк неожиданно заговорил сам, спокойно, неторопливо:
– Скажите, Ягич, кто дал человеку право рисковать своими детьми? Обратите внимание, излюбленнейший мотив древних сказаний - это искупление, как правило, одной ценой: своими детьми. Так вот, не кажется ли вам, доктор, что дети - это самая дорогая цена, которую может заплатить человек, а за тайны, известные одним только богам, платить меньше нельзя? Потрясающий парадокс - смертью за бессмертие!
Потом Валк вдруг вспомнил Эдгара По, “изумительнейшего беллетриста-мыслителя позапрошлого века”.
– Это просто непостижимо, - профессор определенно забыл, что свою речь он произносит в больнице, а не в аудитории, - это просто непостижимо, что ни до него, ни после, почти в течение двух веков, никто не говорил об исключительной распространенности летаргического сна среди гомо. А что такое летаргический сон? Ну, говорите же, что это такое?
Испуганно улыбаясь, доктор Ягич лепетала о мнимой смерти, глубоком сне, панторможении, пока Валк не схватил ее за плечо, крича чуть не в самое ухо:
– Анабиоз, милая моя, элементарнейший анабиоз - вот что такое летаргия! И заметьте, в таком состоянии человек может пребывать годы, если, разумеется, живые и здоровые при этом не поторопятся, подобно невежественным современникам гениальнейшего По.
Только теперь Ягич поняла, что состояние, которое по традиции называли клинической смертью, профессор Валк вызвал у своего сына преднамеренно, что именно поэтому никакого серамина и вообще никаких электро- и биостимуляторов он применять не будет. Но как же это, думала она, ведь он не имеет права на это - он не закончил еще своего эксперимента!
–Слышите, вы не имеете права, профессор!
Валк улыбнулся:
– Я знаю, доктор, чем занята ваша мысль: вы поносите меня за… бесчеловечность. Так? Отец убивает сына. Увы, доктор, легенды продолжаются. Я говорю, легенды, потому что мифов нет - есть только легенды, поэтический экстракт действительности. Эксперимент, милая Ягич, всегда риск. Всегда.
Ягич была бледна, но, странное дело, извечный, еще со студенческой скамьи, страх ее перед профессором Валком прошел, и она очень спокойно объявила ему, что сутки назад, когда он делал операцию своему сыну, она была поражена его мужеством, а теперь, спустя сутки, она опять поражена - его жестокостью.
Да, думал Валк, так она говорит сейчас. А потом, когда будет успех, она скажет, что мужество и проницательность подсказали профессору единственно верный путь, что только так делается наука. А если будет неудача, она скажет, что профессор Валк убил своего собственного сына, который мог бы сейчас жить почти полноценной жизнью; эту жизнь возвращают ампутированному полимерные протезы.
Остаток ночи профессор провел за пюпитром. Мысль его была ясной и прозрачной, как июльское небо над Эльбрусом, но где-то неподалеку, за невидимыми зубцами гор, собирались грозовые тучи.
– Чепуха, - сказал себе Валк. - Чепуха! Просто, дорогой, в двух-трех клеточках твоего энцефалоса [Мозг. (Прим. ред.}] скопился в избытке адреналинчик. А когда он рассосется, от грозовых тучек и невидимых зубцов останется…
Валк так и не решил, что именно останется, хотя чувство было совершенно определенным - останется не больше, чем от капли жидкого кислорода под горячими лучами солнца.
Но тревога не исчезала, тревога нарастала, сколько он ни втолковывал себе, что все дело в избытке адреналина, что предчувствия - это полнейшая чепуха или, на худой конец, просто-напросто элементарное нарушение биохимического баланса в организме. А убедиться в этом очень просто: принять таблеточку анафобина сублингвиально, то бишь просто положить под язык, и ждать, пока она рассосется. Через пять минут, когда вернется идеальное равновесие духа, в самую пору идти с голыми руками на льва.
Продолжая писать, Ваяк потянулся к синему флакону с таблетками, но, едва прикоснувшись к стеклу, он отдернул руку - отдернул поспешнее, чем следовало бы человеку, у которого в перспективе охота с голыми руками на льва. “Ну, это уже черт знает что, - внушал себе Валк, - это уже почти истерика. Никаких таблеток, никаких таблеток, профессор: вы же образованный человек, вы же прекрасно понимаете механизм безотчетного страха. Наконец, природа снабдила вас изумительным рычагом - волей. Вслушайтесь еще раз в это слово: “воля”.
Сначала слово звучало отчетливо, звонко, как будто где-то вблизи скандировали его детские голоса, но с каждым всплеском оно становилось все глуше, и непонятно было, то ли оно отступает, то ли теряется в огромных, как океан, волнах. Волны эти обступали Валка со всех сторон, и через мгновение он уже почувствовал, как они понесли его, лишенного тяжести и того специфического ощущения плотности, которое дает мышечное усилие.
Потом пришло самое тягостное: Валка не стало. Точнее, не стало физически, потому что было только некое “я”, которое ничего не могло сделать, чтобы собрать воедино то, что прежде было Валком: его руки, его ноги, торс, голову. Это “я”, бесплотное, невесомое, потянулось к синему флакону, но внезапно померк свет, и флакон, качнувшись, полетел в пропасть.
Звонок видеотелефона застиг Валка на полу. И как тогда, в прошлый раз, первый сигнал он принял изнутри. Собственно, это был не звонок, а толчок, который тут же перешел в лихорадочный звон.
В комнате было поразительно много света. Подымаясь, Валк взглянул на часы - четверть восьмого. Едва голова человека оказалась в поле обзора фотоглазка, звуковые сигналы сменились бесшумными световыми. Но видны они были, эти сигналы, только при прямом наблюдении, и Валк подумал, что надо непременно установить вариатор яркости.
Вспыхнул экран. На экране появилась Ягич - усталая, без той специфической утренней серьезности, которая бывает у людей после долгого ночного сна.
– Доброе утро, профессор, это я, ординатор Ягнч. Почему вы не включаетесь? Ведь вы уже поднялись.
Прежде чем включить передатчик, Валк направился к гардеробной, где он обычно оставлял на ночь свой костюм. Но, подойдя к двери почти вплотную, он остановился: костюм был на нем - и об этом неопровержимо свидетельствовала его собственная тень - вполне приличная, застегнутая на все пуговицы тень.
– Так, - сказал Валк, включая передатчик, - я слушаю вас.
Ягич очень обстоятельно перечислила все, что произошло ночью, после ухода Валка, и Валк убедился, что ничего особенного не произошло, потому что альфа-ритм стабилизировался, а это было самое главное. Слушая своего oрдинатора, Валк отчаянно боролся с искушением остановить ее и популярно, как говаривали в клинике, объяснить, что уже все сказано и по этой простой причине разумнее всего было бы умолкнуть. Но Ягич не унималась, а Валк в это удивительное июньское утро, когда света, казалось, было вдесятеро больше, чем обычно, нашел в себе мужество не поучать.
Потом Ягич внезапно остановилась и, глядя Валку прямо в глаза, негромко, но с удивительной для нее твердостью сказала:
– Профессор, я не сказала еще самого главного. - Валк улыбнулся, но Ягич не ответила на его улыбку. - Я не сказала, что всю ночь ждала вашего звонка…
– И…
– …и ждала зря.
– И это самое главное?
– Да, самое главное. Для меня.
Валк терпеливо ждал последних, заключительных слов, ради которых, собственно, она и затеяла весь разговор. И хотя он уже точно представил себе не только слова, но и паузы и интонацию этих слов, они оказались какими-то другими, когда были произнесены вслух:
– У вас железные нервы, профессор. Чересчур железные.
Позже Валк понял, какими именно “другими” они были, эти слова: они были сказаны живым человеческим голосом, и этому, живому голосу надо было ответить, объяснить что-то. А что объяснять, собственно? Что у него, профессора Валка, нервы вовсе не железные, что, борясь со страхом, он потерял сознание, что вот только сейчас, за мгновение до звонка, сознание вернулось к нему? Но ведь так или иначе он не стал бы звонить, потому что нельзя погружаться в детали, потому что эти самые детали таковы, что могли бы лишить его твердости в решающий момент.
Стало быть, вот это и следовало объяснить ординатору Ягич, объяснить только для того, чтобы она думала о нем лучше?
Но это же ерунда, это же вздор, обыкновенный душеспасительный вздор! И Валк, улыбнувшись, - во всяком случае, сам он был уверен, что улыбнулся, - сказал:
– Спасибо, Ягич. В двенадцать я буду в клинике. Приготовьте энцефалограммы. До двенадцати меня можно найти в лаборатории.
Выключив передатчик, Валк секунду-другую наблюдал за ней: она смотрела так, как будто по-прежнему перед нею светилось на экране лицо Валка и она хотела увидеть в этом лице что-то такое, после чего все само собою встанет на место.
Странно, думал Валк, очень странно: она убеждена, что домогается истины, на самом же деле ей нужно только одно - уверенность в своей правоте. У нее появилась мысль, и она эту мысль не проверяет, а изыскивает лишь подтверждение ей.
Нет, зря он принял ее в клинику: Ягич никогда не станет настоящим ученым. Ученый должен быть своим первым и беспощадным оппонентом. Первым и беспощадным.
Валк повернулся к окну. Опираясь на белую крышу семиэтажного здания лаборатории бионики, солнце слегка покачивалось влево и вправо, следуя за Валком. И он опять удивился обилию света, который был везде, который ниоткуда не появлялся и никуда, казалось, не мог исчезнуть, свету, который не мог иметь своим источником солнце, потому что солнце чересчур локально, чересчур конкретно. “На каком расстоянии от тебя радуга?” - вспомнил вдруг Валк вопрос, который поразил его в детстве. Собственно, поразил его не столько вопрос, сколько ответ, который гласил - сто пятьдесят миллионов километров. Сначала это казалось абсурдным - радуга на уровне солнца! Та самая радуга, которую он видит в десяти шагах от себя в струях фонтана. Но тут же он представил себе солнце, отраженное в зеркале, в полутораста миллионах километров от поверхности стекла. И все вроде бы встало на свое место. И все-таки полного ощущения достоверности тогда не было. А теперь? Пожалуй, не было его и теперь. Валк вздохнул: ощущения опережают мысль, а нужно, чтобы они по меньшей мере были синхронны, и тогда предрассудков будет вдесятеро меньше. Педагогика еще не стала наукой: педагогика по-прежнему виснет на хвосте у очевидного.
Но откуда же так много света? И почему моя мысль юлит?
Она бережет меня, она бережет меня потому, что этого требует от нее нечто заключенное во мне, в моем гипоталамусе [Часть головного мозга, расположенная под зрительными буграми. (Прим. Ред], что лучше меня знает о моих нуждах. Но это же вздор, потому что все это - я! Я должен быть хозяином себе, я не могу позволить, чтобы это нечто из гипоталамуса играло со мной в кошки-мышки.
Отойдя от окна, Валк на мгновение замер, а затем решительно шагнул к пюпитру, который стоял в северном, самом темном углу комнаты. Но и здесь он не мог избавиться от этого ощущения совершенно фантастической, прямо-таки ослепляющей яркости. Лист бумаги, лежавший перед ним, утомлял глаза своей отчаянной белизной, и Валк глядел на него, щурясь, как в детстве, когда он считал постыдным уклониться от солнечного луча, посланного прямо ему в глаза зеркалом товарища.
Но самое удивительное, это мучительное ощущение не было неприятным. Напротив, оно было явно сродни тем гипнотическим воспоминаниям давно прошедших детских лет, которые пронизывают человека мгновенно, точно комета, оставляя где-то чуть повыше глаз темный, после яркой вспышки, след и долго не лроходящее чувство грусти и быстротечности.
Валк вздохнул: мы еще чересчур поэты! Ничто для нас не существует вне эмоций. “Дорогой коллега, ваша великолепная гипотеза доставила мне эстетическое наслаждение!” Ах, как прелестно! Как прелестно, прямо, как белокурое дитя с синими, в лолнеба, глазками!
Будь то лет на десять раньше, Валк наверняка прошелся бы кулаком по пюпитру. Но увы, и это ведь не что иное, как эмоции, которые лишь изредка проясняют мысль и почти всегда нелепо, кричаще расцвечивают ее. Гнев, страх, ярость, злоба нужны были животному - они помогали ему мобилизоваться. А гомо разумному они только помеха, только вредный атавизм: коронароспазм разрушает систему. А гнев - это всегда спазм. Почти всегда.
Опершись о пюпитр, Валк стоял неподвижно, тяжело, с плотно закрытыми глазами. Грандиозный белый город - белые дома, бeлые с белыми и блестящими, как тальк, листьями деревья, белые тротуары и мостовые - млел под полуденным солнцем. К северу, западу и востоку от него лежали белые, как закипающая известь, пески Руб-эль-Хали, к югу - белесые воды Индийского океана, замершие, как мраморные пряди волос на головах античных эллинов и римлян.
И Валк почувствовал, как медленно, но неуклонно тяжесть оцепенения покидает его тело, как становится легко и радость, которая однажды уже была, вновь возвращается после невероятно донгого отсутствия.
Только двое - он и его сын Альберт - были тогда на берегу: Альберту минуло десять лет, и всюду, где можно, он строил города. Белые города. Он никогда не мог объяснить, почему именно белые, но после смерти матери он строил только белые города. И в этих городах все было белым, даже деревья, даже листья на деревьях. Тогда, на берегу океана, профессор Валк, человек с железными нервами, после двух лет гнетущей скорби заново познал радость. Кажется, он плакал даже. Во всяком случае, потом, когда они перебрались на яхту, сын сказал ему: “Папа, у тебя слезы”. - “Это от ветра”, - объяснил он Альберту, и мальчик кивнул головой: да, от ветра.
Должно быть, это был самый большой день в жизни Валка: он увидел в этот день нового человека, проницательного и мудрого, с раскрытыми настежь глазами, и этим человеком был его сыи. “Мой сын, мой сын”, - твердил про себя Валк, все эпитеты - ласковые, величальные, сокровенные - блeкли подле этих двух слов.
Потом несколько лет кряду Валком овладевал циклами страх: он мысленно взбирался по отвесным ледяным кручам Памира, осваивал ледники, спускался по тросу в ущелья и приземлялся с парашютом в таежных дебрях, куда иным путем пробраться было невозможно. Одним словом, не покидая лаборатории, он проделывал с сыном обязательный комплекс юного альпиниста.
Иногда Валку казалось, что следовало, пожалуй, предпочесть комплекс юного морехода или аэронавта, но мысль эта немедленно разоблачалась - везде есть свои волчьи ямы, и, как обычно, виднее, разумеется, те, которые встречаются на твоем пути, а не те, которые могли бы встретиться. Увы, студенческая психология владеет человеком всю жизнь: ближайший экзамен - всегда самый трудный экзамен.
Позже, когда Альберт стал студентом института лазеров, опасения и страхи оставили Валка. Впрочем, возможно, дело было просто в неизменном благополучии.
И вот в один миг не стало благополучия: Альберт в клинике регенерации и трансплантации, его сын Альберт. В белом, весь в белом, словно призрак из беззвездных ночей средневековья, словно мумия из загадочного мира, огражденного от тлена, Альберт недвижим, Альберт безучастен, Альберт не может повторить полутысячелетней давности слова геометра-мудреца: cogito, ergo sum. [Мыслю - значит существую (лат.).]
Какая-то чудовищная нить раскалялась с непостижимой быстротой. Она была над головой, над теменем Валка, и погасить ее можно было только мгновенным сверхусилием. Сначала человек собрался в точку, точка стремительно тяжелела, но тяжесть прибывала не извне, а изнутри. Откуда изнутри? Впоследствии Валк не мог дать определенного объяснения этому феномену. Во всяком случае, мысль о сгущенной, материализованной воле не казалась ему вздорной. Но как бы то ни было, когда вернулось привычное восприятие пространства и тело обрело нормальные размеры, Валк почувствовал огромную усталость и ломотную, ноющую боль, особенно в плечах и груди. И вместе с этой болью пришел покой, пришло чувство освобождения и уверенности. Уверенность была беспредметной, но Валк явственно ощущал, что от него одного зависит дальнейшая судьба этой уверенности и он может придать ей любое направление.
Это чувство, немеркнущей уверенности сохраняло предельно четкую стабильность вплоть до того самого дня, двадцать восьмого июля, когда Валк решил, что пора вернуть Альберту сознание. Почему именно двадцать восьмого? Дать вразумительный ответ на этот вопрос Валк не мог ни себе, ни другим. Ягич в этот день смотрела на него своими огромными зелеными глазами, и, добро, было бы в них осуждение, недовольство, негодование - нет, ничего такого не было. Было только одно: ожидание неотвратимого бедствия, но неотвратимого в той мере, которая человеку уже не подвластна.
В полдень звонил Даль. Валк не сомневался, что звонком своего “дражайшего коллеги” он целиком обязан Ягич, которая, видимо, убедила себя, что лучше все-таки действие, пусть даже бесполезное, чем вообще никакого действия. И странное дело, хотя разговор с Далем был сейчас явно некстати, чтобы не сказать больше, Валк не сделал ординатору Ягич внушения за самочинность. Больше того, он даже передал ей содержание разговора, основной приметой которого, по его собственному определению, было полнейшее отсутствие информации.
Даль говорил об ответственности медика, и Валк поблагодарил его за свежую и оригинальную мысль, которую в последний раз слышал всего лет десять назад в интерпретации выпускника средней школы, трижды провалившегося на вступительном экзамене. Даль, в свою очередь, поблагодарил Валка за исключительно насыщенную информацию об интуиции, которую еще в прошлом, двадцатом, веке некий философ-обществовед определил как инвариант знаменитой проблемы схоластики “Сколько чертей может уместиться на конце иголки?”.
Ягич слушала очень внимательно. Но Валка не оставляла мысль, что в поле этого ее внимания не разговор его с Далем, а сам он, Валк. Это было неприятно, и он прямо сказал:
– Доктор, вы не слушаете меня.
– Да, - ответила она машинально, - я слушаю вас.
– Черт возьми, - рассвирепел Валк, - я же говорю, что вы слышите меня не хуже, чем дежурный по станций Селена-32.
Ягич извинилась, и то, что она извинилась, а не замкнулась, как обычно, когда отваживалась на некий полупротест, на мгновение озадачило Валка. Значит, Лихорадочно соображал он, есть во мне сегодня нечто… нечто пробуждающее милосердие. Отвратительное слово! Но бояться чувства и при этом еще бояться его словесного символа - это попросту нагромождать трусость на трусость. Нет, так далеко Валк никогда не заходил. И не зайдет.
Ну что ж, милосердие так милосердие!
– Послушайте, - вдруг воскликнул Валк, - а ведь Даль прав: мы по-прежнему ни черта не знаем об интуиции. Кибернетика еще в зеленом детстве своем окунулась в сказочное царство интуиции. И вот до сих пор в этом царстве не нашли ни кола ни двора. А что, если и царства-то никакого нет?
Странно, а ведь она испугалась, эта Ягич. Побледнела даже, и глаза ее от этой бледности стали вдвое больше. И теперь в них не испуг уже, а страх, самый доподлинный страх.
– Но вы же верите, вы же знаете, что интуиция есть. Выто не сомневаетесь…
Интонация ее постепенно сходила на нет, и последние два слова прозвучали почти как мольба, как вопрос, на который возможен был только один ответ: да, не сомневаюсь.
– Да, - сказал Валк, - не сомневаюсь. - И тут же зачем-то добавил: - Но наука не религия, одной веры здесь бывает недостаточно.
– Да, - подтвердила Ягич, - недостаточно. Недостаточно для тех, кто лишен интуиции.
Валк от неожиданности стал массировать свой нос: вот так антраша - секунду назад она испрашивала милостыню, а теперь сама выступает благодетельницей! Нет, пожалуй, она все-таки не совсем безнадежна. Черт возьми, будем мы когда-нибудь толком знать своего ближнего? Наука говорит: да.
Но при этом надо бы, наверное, добавить: если она сама будет закладывать в человека программу.
– Да, - решительно заявил Валк, - я верю, я убежден в существовании интуиции, как… - Валк на мгновение запнулся, - как убежден в том, что вы не автомат, а человек.
Ягич улыбнулась: профессор удостоил ее сейчас большого комплимента. Пожалуй, самого большого.
Валком овладело минутное сомнение: а не рассказать ли Ягич все, что думал о ней сейчас он, ее шеф, ее железный шеф? Впрочем, нет, не стоит: ведь она и без того поняла все, а попусту ковыряться в эмоциях - только ослаблять себя, Прозрачные кварцитоиые стены, пропуская солнечный свет, окрашивали палату Альберта золотистым колером ранней осени. Валк всегда отдавал предпочтение именно этому цвету - мягкому, теплому, ненавязчивому. Кстати, весь древний Египет до нашествия персов и Месопотамия представлялись ему именно такими золотистыми землями. Передний Восток был такой же золотистый, но, кроме того, там было еще много лазури, и поэтому он был холоднее и отрешеннее.
Подойдя к Альберту, Валк внезапно почувствовал тот же страх, что тогда, накануне операции, когда он должен был полностью подчинить себя надличному, чтобы сохранить способность к действию. Но сегодня он уже не мог отрешиться от своего сына, сегодня легенды древних об отцах и детях должны были обрести первозданную свою силу, и Валк вдруг с потрясающей остротой ощутил, что истинные жертвы нe сыновья, а отцы.
Доверял ли Валк своей интуиции сполна? Да, доверял.
Но где-то в глубинах его сознания всегда тлело сомнение, порожденное неограниченной верой в логос. И хотя не только история, но и личный опыт многократно убеждали Валка, что и наука подводит, он неизменно твердил, что подводит не наука, а невежество. Если же ему напоминали, что ложные знания всегда соседствуют с истинными и не во власти человека сразу отделить одни от других, он отвечал: “Вот тогда я и обращаюсь к интуиции, которая, увы, не знает такой великолепной категории, как надежность”.
Ягич не спрашивала, сколько времени понадобится дня пробуждения Альберта, - в экспериментах с животными Валк придерживался железного правила: длительность полного погружения в анабиоз и длительность пробуждения должны быть тождественны. И когда Валк предупредил ее, что полное пробуждение пациента - он так и сказал: пациента - придет к исходу вторых суток, она испуганно прошептала:
– Так долго? Почему?
– Но это вовсе не долго! - внезапно озлился Валк. - У этого пациента, как вы догадываетесь, не обезьяний, а человечий церебрум. А это, как говаривали в старину, две большие разницы.
– Да, - сказала Ягич, - вы правильно предположили, профессор: я действительно догадывалась, что у этого пациента человеческий мозг. И между прочим, у меня тоже.
Она хотела еще объяснить, что просто ее обеспокоил этот откровенно голый эмпиризм, хотя, в сущности, ничего иного она сама предложить не может, но Валк уже смеялся и, взяв ее под локоть, проникновенно пообещал:
– Коллега, я учту это. То есть то, что вы заметили между прочим.
Теперь, собственно, уже нечего было объяснять, и, пожалуй, даже лучше, что разговор сложился именно так: наконец у Ягич отлегло от сердца. Строго говоря, шутка не очень серьезное основание для душевного облегчения, но, если у тебя сняли камень с сердца, стоит ли упорствовать и водружать его на прежнее место? Еще недавно, лет сто назад, добровольное самоистязание - его называли тогда как-то иначе - считалось признаком высокого гражданского мужества, и, как это ни парадоксально, люди меньше всего интересовались при этом материальным кпд, заботясь лишь о так называемом нравственном кпд. Но и тогда, хотя была разработана специальная шкала - кодекс морального кпд, поставить учет этих функций на подлинно научную основу так и не удалось: они не поддавались математической обработке. А теперь, спустя целое столетие, они изъяты из обращения самим временем. И все-таки как трудно даже сегодня отделаться от этих бесполезных функций!
– Не томите себя попусту, - неожиданно произнес Валк.
Ягага покраснела - как всегда, когда Валк внезапно демонстрировал свое ясновидение на материале ее “я”. В таких случаях ей мучительно хотелось парировать выпад профессоpa неотразимой и откровенной колкостью, но нужные слова приходили с большим опозданием. Чересчур большим.
Однако сегодня - может быть, впервые - мстительное чувство не захлестнуло ординатора Ягич; сегодня - может быть, впервые - она с предельной ясностью осознала, что, подтрунивая над ней, Валк зачастую освобождает ее от истинного бремени.
Наклонившись над Альбертом, Валк подключал к его голове, позвоночнику, рукам, ногам датчики электроэнцефалоскопа и электробиостимулятора. Когда подключение было закончено, Альберт напоминал Гулливера в Лилипутии, прикрепленного тысячами нитей к своему ложу.
Лицо Альберта было безжизненно. Точнее, это было лицо покойника, о котором говорят: он как будто спит. И всякий раз, глядя на Альберта, Ягич должна была вспоминать показания приборов, чтобы увидеть в нем не покойника, который “будто спит”, а действительно живого человека, погруженного во временный сон.
Было ли такое же чувство у Валка? Ягич почему-то не решалась спросить об этом. Но вчера, когда они стояли у койки Альберта, Валк перехватил ее взгляд - отчужденный взгляд живого, обращенный на усопшего, - и сказал.
– Я знаю, что он жив. Я понимаю, что он жив.
Ягич молчала. Да и что, собственно, было говорить, что она понимает, как тяжело отцу? Но эти слова не для Валка.
Да и вообще для кого они, эти слова!
Теперь оставалось одно - ждать. И то, что при этом надо было еще следить за электростимулятором, за энцефалоскопом, не меняло главного - вот этой необходимости терпеливо ждать пробуждения Альберта.
С точностью хронометра Валк через каждые шесть часов требовал информации, и, так как заранее нельзя было определить, где следует его искать через ближайшие четверть суток, он сам вызывал клинику.
В первый раз, пока Ягич передавала информацию, голова ее с опущенными, как при чтении веками монотонно покачивалась в такт словам, оставляя свободными только уголки экрана. Валк с трудом дождался окончания доклада, и, едва она остановилась, он спросил: не хотела бы она показать пациента, и вообще, не кажется ли ей, что ему полезнее было бы видеть при докладе самого пациента, а не голову ординатора. Особенно, поспешил пояснить Валк, если учесть, что он нисколько не сомневается в добросовестности и объективности ординатора.
От неожиданности и карикатурной корректности этого выговора Ягич ухватилась за спинку стула - позже она уверяла себя, что сделала это вовсе не в испуге, а просто потому, что стул был единственным тяжелым предметом, стоявшим поблизости, - но спустя секунду, понадобившуюся для непроизвольного движения руки, она, глядя Валку прямо в глаза, неторопливо, с чеканными, как на уроках дикции, паузами объяснила:
– Да, профессор, я думаю, так будет полезнее. И не только для вас.
– Конечно, - неожиданно покорно согласился Валк, и почти тотчас у Ягич мелькнула странная мысль о робости, которая порою делает человека ненужно желчным. Вот как ее, к примеру, с минуту назад.
Валк долго и напряженно всматривался в лицо Альберта.
У него были странные глаза, у Валка, - это были глаза времени, которое остановилось, это были глаза времени, для которого нет ни прошлого, ни будущего. Ягич, оставаясь за экраном, смотрела в эти глаза, которые видели не только ту часть мира, что была слева, справа и впереди, но и ту, что простиралась сзади, и от этого чудовищного ощущения всеобъемлемости лихорадило ее, как в страхе. “Отвернуться, отвернуться!” - приказывала она себе, но чем категоричнее были приказы, тем упорнее было сопротивление. И вдруг она почувствовала, что эти глаза, огромные глаза времени, обращены на нее. Это продолжалось не дольше секунды, экран немедленно погас, но и после того она еще долго ощущала себя крошечной и пульсирующей, как звезда, подвешенная в черном небе космоса.
Затем, когда это ощущение прошло, ею овладело тягостное чувство неловкости, тем более тягостное, что поразительно напоминало то, которое бывает у человека, невзначай подсмотревшего чужую тайну. Ей почему-то захотелось непременно объясниться с Валком и убедить его, что она ни в чем не виновата, что все получилось само собой, что она случайно оказалась свидетельницей ТОГО. Она так и говорила про себя -ТО, как о чем-то безликом, у чего нет и не может быть имени.
Спустя шесть часов Валк позвонил, и теперь, уже не мешкая, она взяла в рамку Альберта. Профессор внимательно осматривал пациента, трижды просил дать крупным - самым крупным - планом глаза и ноздри, но в общем это был тривиальный профессорский осмотр. Только к концу сеанса, когда, несмотря на усиление магнитного поля, энцефалограммы оставались неизменными, у Валка в глазах на мгновение появилось ТО. Но через минуту кривая альфа-ритма стала явно круче, и он улыбнулся. Ягич, невидимая, тоже улыбнулась: щемящее чувство беспредельного, едва забрезжив, погасло в ней.
Тридцатого июля в семнадцать двадцать приборы зарегистрировали полное пробуждение Альберта, хотя глаза eго оставались закрытыми. Ошибка профессора Валка составила 20 минут.
Валк сидел на стуле, слева от койки, уложив расправленные кисти на колени. Ягич стояла у западной стены, прижимаясь к ней спиной и открытыми ладонями вытянутых до отказа рук. Валк напомнил ей, что можно бы принять более удобную позу; она улыбнулась, кивнула головой - да, профессор, - но позу не переменила.
Через десять минут Альберт открыл глаза - открыл после того, как Валк сказал ему:
– Альберт, ты уже проснулся.
Июльское солнце, даже вечернее, было невыносимо ярким.
Альберт зажмурил глаза. Не дожидаясь сигнала, Ягич торопливо нажала кнопку - дымчатый светофильтр обложил западную и южную стены, восточная оставалась свободной, но палата погрузилась в поздние июльские сумерки, когда у неба остается одна краска - синяя с чернотой.
– Норма, - сказал Валк. - Можешь открыть глаза. Ты хорошо меня слышишь?
Альберт прикрыл веки: да, слышу.
– Ты помнишь, что с тобой произошло?
Альберт задумался, глаза его беспокойно шарили по дымчатой стене и, наконец, остановились на синем диске ооянца.
– Взрыв. В лаборатории, - прошептал он.
– Ты помнишь еще что-нибудь? - Голос Валка был звонок и чист, как голос шефа, отдающего приказы по селектору.
Альберт молчал, глаза его уже не бегали по стене - они были прикованы к синему солнцу. Огромная, как на центрифуге, сила прижимала Ягич к стене, и она чувствовала себя тяжелой и расплющенной, словно стальной брус, схваченный гигантским магнитом.
Валк ждал. Кисти его по-прежнему лежали на коленях, бесстрастные, как у Рамзеса II в нубийском камне.
– Нет, больше ничего.
Так, кивнул профессор и, подавшись вперед, оживил, наконец, каменные кисти фараона:
– Альберт, у тебя повреждены руки. Да, обе руки, серьезно. Нет, нет, сын, ничего катастрофического - тебе сделали операцию, ты будешь работать… ты будешь работать, как прежде. А это твой доктор, наш ординатор Кора Ягич. Сейчас она немного взволнована. Как это писали беллетристы в прошлом веке, когда героиня обращала на путь трудовой доблести своего возлюбленного, дотоле бездельника и лоботряса?
“На глазах у нее стояли слезы, но это были слезы радости, слезы большого счастья”.
– Извините, профессор, - неожиданно возразила Ягич, - но в середине прошлого века так уже не писали. Во всяком случае, те, кто так писал, уже тогда не считались беллетристами.
Альберт улыбнулся, а Валк поспешно запротестовал:
– Коллега, вы украшаете историю. А это непростительный грех! У майя, вы помните работы Кнорозова, историков, уличенных в фальсификации, карали смертью. Боюсь, мне придется быть не в меру жестоким, хотя мне понятно ваше стремление говорить о предках только хорошо. Но мы не имеем, нрава забывать, коллега: правда - это информация о мире действительном, реальном; ложь - информация о мире вымышленном. Ложь в истории и философии - классический инвариант религии.
– Сдаюсь, профессор, - решительно объявила Ягич. - Я привыкла к своей голове, и мне было бы неуютно без нее. Как вам… без вашей.
Ваак сощурил глаза. Впрочем, возможно, это только показалось eй, что он сощурил глаза. Но в лаборатории, когда они остались наедине, она сказала:
– А ведь вам бы не сносить головы, профессор!
И Валк опять сощурил глаза, бросая слова отрывисто, как всегда в раздражении:
– Это разные вещи, доктор! Я не лгал своему сыну, я не оберегал его душевный покой. Я не говорил ему об ампутации и пересадке, потому что этого требовала чистота эксперимента. Его сознание не должно быть порабощено мыслью, что две теперешние руки его принадлежали прежде другому человеку.
– Но как вы скроете это от него? Ведь он увидит их, когда придет… если придет… время действовать ими.
– Увидит не раньше, чем это позволю ему я: он будет носить пластиковые чехлы на поврежденных руках ровно столько, сколько понадобится. Имейте в виду, доктор: на поврежденных, а не трансплантированных!
Здраво говоря, логика профессора Валка была безукоризненной с любой точки зрения: чем меньше больной знает о своей болезни, том лучше для него же; чем полнее неведение объекта эксперимента, тем чище эксперимент. В чем же дело?
Почему же ее, Ягич, не покидает отвратительное чувство вины? Ведь всем хорошо: и больному, и эксперименту, и Валку, и науке. Но если бы все они - и больной, и эксперимент, и Валк - знали, как трудно ей смотреть в глаза Альберту!
Как одолевает ее желание рассказать ему всю правду, чтобы устранить это оскорбительное… Ах, вот оно наконец: оскорбительное чувство подопытности! Оскорбительное и унизительное! Хотя какое же, собственно, чувство подопытности может томить его, если именно он ничего не знает? Ведь Альберт прямо сказал, что ничего, кроме взрыва в лаборатории, не помнит.
Но это теперь. Хорошо, теперь так: он ничего не помнит.
Ну, а потом? Что будет потом, когда он узнает всю правду?
Что она скажет ему? “Профессор приказал мне считать вас кроликом, и я не могла ослушаться”? Но это же вздор! У нее есть своя воля, у нее должны быть свои убеждения. Вот именно - свои.
Длиннейшая цепь ассоциаций и силлогизмов увела Ягич в то далёкое время, когда людям казалось, что неограниченное право на убеждения и личная реализация этого права - само собою разумеющийся двуединый комплекс. Но как они заблуждались! Они и не подозревали, какого мужества, какой ясности мысли требует оно постоянно от человека, это право. Всеобщее право, которое стало, по существу, всеобщей обязанностью.
Пятый пункт только что опубликованного кодекса медицинской этики предписывал ординатору Ягич отказаться от работы над проблемой, изначально или в процессе разрешения пришедшей в конфликт с ее убеждениями. Для сложных случаев существовал детектор подавленных реакций, но практически к нему не прибегали: самостоятельное разрешение внутреннего конфликта считалось не только целью, но и важнейшим средством самовоспитания, основанного на самопознании.
Разумеется, Ягич могла откровенно рассказать обо всем Валку и потребовать у него, как шефа, помощи в разрешении конфликта. Но ведь это был путь, этически допустимый при одном существенном условии: она противопоставляет объективным тезисам Валка такие же объективные антитезисы, а не субъективную лирику взволнованной девушки, по имени Кора, Кора Ягич.
Особенно скверно бывало к вечеру. Возможно, это было просто от усталости, а может, от мягких красок заката, когда хочется, чтобы все было хорошо. По-настоящему хорошо - без обмана или забвения. Но так или иначе вечерами она не могла смотреть в глаза Альберта - настежь открытые глаза, не помутненные настороженностью и недоверием.
На третий день утром Валк внезапно напомнил ей о пятом пункте кодекса. Ягич побледнела. Валк отвернулся, отвернулся демонстративно, не скрывая, что дает ей просто передышку.
Теперь уже нельзя было не ответить. Теперь непременно нада было ответить. Но как? Ягич лихорадочно перебирала варианты: сказать, что он заблуждается, что пятый пункт ни при чем? А детектор? Вот как! Значит, она боится только детектора, а не будь его… Нет, нет, это не ее мысль, чья угодно, только не ее! Может, просить о помощи? Но разве она уже исчерпала себя, разве она не властна над собой? Нет, она не исчерпала себя, но ее одолевают сомнения. Но разве нельзя работать сомневаясь?
– Нет, - очень спокойно произнес Валк, и она опять увидела эти чужие глаза - глаза времени. - Нет. Мы лечим не роботов, а людей. Ваш скепсис, или, если предпочитаете, неполная вера, заражает пациента. А пациент, вспомните латынь, - это страдающий. Так вправе ли мы еще увеличивать его страдания?
Это был не вопрос, это был категорический ответ, хотя Валк ни на пол-октавы не повысил голоса.
А муки здоровых, мелькнуло у нее, увеличивать муки здоровых можно?
– У постели больного врач не думает о себе. Он думает только о пациенте, о страждущем, иначе он не врач. - Валк неожиданно улыбнулся. - Кстати, доктор, я не телепат, но логика и опыт бывают так же беззастенчиво проницательны, как телепатия.
Да, все это так, все это она уже тысячу раз слышала на его же, Валка, лекциях. Но что же отсюда следует - что она должна уйти? Но ведь она не может уйти, как он не понимает!
Склонившись над анестезиометром, Валк пристально рассматривал контакты. Изредка он покачивал головой, и у Ягич появлялось нелепое ощущение, что это он отвечает ей, так синхронны были эти его движения и ее силлогистические циклы.
Трижды она возвращалась к его аргументу: “Я не оберегал душевный покой своего сына, я не говорил ему об ампутации и пересадке потому лишь, что этого требовала чистота эксперимента”, - и трижды опускала его: в этом аргументе была только видимость пренебрежения к больному, вызванная смущением логического акцента.
Значит, истинным побуждением его была забота о сыне?
Значит, именно она, шокированная мнимой cтранностью человеческого достоинства Альберта, норовит восстановить это достоинство ценой огромного бремени, возложенного опять-таки на него, Альберта? А она… она таким путем избавится от внутренней смуты? Стало быть, она заботится о себе, стало быть, элементарный эгоизм…
– Не тираньте себя, Ягич, - Валк резко, по-юношески выпрямился над анестезиометром, который только что был ему прикрытием. - Логика, избыточно окрашенная эмоциями, коварна. Не эгоизм управлял вами. Это не эгоизм, когда человек ставит себя на место другого, чтобы понять его страдания. Но это может стать эгоизмом, если руководствоваться не логикой, а исключительно заботами о безупречности своей совести. Скажите пораженному инфарктом, что он обречен, и он поверит вам, хотя не исключено, что он мог бы остаться в живых. Но вы сказали ему правду - и совесть ваша чиста. Не так ли?
Нет, хотелось крикнуть Ягич, не так! Это все разное: здесь лечение, только лечение, а там - эксперимент, помимо воли человека, без его согласия! Как он не понимает, что эксперимент над человеком без его ведома - насилие! Ведь это ясно как день, и она докажет…
– Зря трудитесь, доктор, - Валк глядел на нее в упор, будто хотел высмотреть то, что так долго оставалось незамеченным, - никакого насилия нет: мой сын доверяет мне сполна, и карт-бланш он выдаст мне без колебаний. Но кому нужно это жеманничанье с совестью? Разве не понятно, что в этот чистый бланк я все равно вынужден вписать то, что до поры до времени должно остаться неизвестным тому, кто подписал его? Карт-бланш - это всего лишь доверие ко мне или к вам, а не санкция конкретного нашего действия. Узнать же конкретно волю Альберта и при этом оставить его в неведении, которого требует наука, невозможно. Или - или, Ягич, а совмещать такие явления не дано никому. Даже богу, который, подчинив вселенную твердым и неизменным законам, сам стал рядовым гражданином этой вселенной. Гражданин Господь! Гражданин Всевышний! Гражданин Вседержитель!
Закончив монолог, Валк расхохотался и, хлопая Ягич по плечу, требовал оваций по поводу своей поэтической находки.
Досаднее всего, что и она, Ягич, заразилась этим хохотом, который мешал ей сосредоточиться, мешал продвинуть мысль в направлении, уже в предчувствии сулившем ясное, твердое решение. Но самое нелепое пришло потом, когда Валк вдруг утих, а она все еще не могла прийти в себя, хотя он ждал ее умиротворения с тем демонстративным терпением, которое красноречивее всякого откровенного нетерпения.
И только вечером, по пути домой, перебирая в памяти весь эпизод, она с удивлением обнаружила, что ничего нелепого в хохоте ее не было, потому что смеялась она вовсе не “поэтической находке” Валка, а тому превосходному ощущению легкости и раскованности мысли, которое вмиг нахлынуло на нее.
Оно было так неожиданно, что сразу она и не узнала его, но оно уже пришло, пришло еще задолго до того, как Валк сказал ей:
– Пожалуй, пятый пункт теперь не к делу. Не так ли?
Да, теперь это было именно так и нисколько, ни чуточку иначе: она смотрела на проблему глазами Валка, но отныне это были и ее глаза. Сам Валк, правда, говорил об этом иначе. Он говорил, что истинной вере - а истинной он считал только пережитую веру - почти всегда предшествуют нравственные кризисы, в которых высвобождается грандиозная энергия обновления человека.
Альберт прежде других заметил перемену в ее настроении.
– Доктор, - сказал он, - я завидую больному, которого вы лечите.
Это была вполне респектабельная шутка, но потому, что он, ее пациент, первый заговорил вслух о ее радужном настроении, она смутилась и, вместо того чтобы тотчас согласиться - да, Альберт, у меня сегодня отличное настроение! - зачем-то стала доказывать, что у нее всегда прекрасное настроение, но лишь сегодня он впервые обратил на это внимание.
– Наверное, - сказал Альберт, улыбаясь, и от этого его полнейшего непротивления она вконец запуталась и принялась лепетать о неких жизнерадостных молодых людях, которые готовы выжимать юмор даже из стеклобетона.
– Из стеклобетона, - очень серьезно заметил Альберт, - трудно, но можно. Творческим усилием - только очень пахнуть будет. А юмор с каплями честного пота на носу - тоже юмор, но не тот, который нам нужен.
– Ладно, - рассмеялась Ягич, - сдаюсь, вы угадали: у меня сегодня чудесное настроение. А у вас?
Альберт вздохнул, тяжело, по-стариковски, и вдруг принялся рассказывать забавную, “очень забавную, доктор, историю”:
– Года три назад я лежал в клинике. Был у меня ожог. В соседней палате лежал старик. Старик обварил себе ноги. Хорошо обварил. Было старику сто одиннадцать лет. “Молодой человек, - говорил мне три раза на день этот старик, - если бы я умер на год раньше, у меня были бы совсем новые ноги”. Уважаемый отец, отвечал я ему три раза на день, по-моему, это очень обидно - умирать с совсем новыми ногами.
“Вы глубоко ошибаетесь, молодой человек, - восклицал старик, - мои новые ноги могли бы через пять лет кому-нибудь пригодиться”. По утрам к этому старику с уже не новыми ногами приходил доктор, выстукивал его, выслушивал и делал какие-то заметки в блокноте. Доктор этот любил писать, а старику не терпелось узнать последние известия. Но все-таки он ждал, и, едва доктор кончал свое священнодейство, старик, лучезарно улыбаясь, заглядывал ему в лицо и заговорщически спрашивал: “Ну, доктор, как я себя чувствую?” Старик уверял меня, что помнит, как самолеты сбрасывали на людей бомбы. Старик еще жив, его ноги понадобились ему самому.
– Забавная история, - согласилась Ягич, - но мораль, признаюсь, не ясна мне.
– Мораль? - повторил Альберт, и не было в его голосе ни удивления, ни досады. - Мои руки уже никому не пригодятся. И еще: “Ну, доктор, как я себя чувствую?”
– У вас отличное самочувствие, Альберт, - воскликнула Ягич, может быть, чуть-чуть громче, чем следовало бы.
– А что я делал целый месяц, доктор?
Ягич силилась сохранить непринужденность доктора-оптимиста, но, видимо, она перестаралась, и получилась отвратная интонация хорошенькой девчушки, разыгрывающей легкомыслие:
– Ах, поверхностная летаргия.
– Зачем?
– Профессор так многих лечит. Это дает хорошие результаты.
Ягич уверенно улыбалась, и даже понадобись ей сейчас убрать эту улыбку - она была бы бессильна: тугие резиновые колки прочно фиксировали ее растянутые губы. Вот только глаза… Впрочем, и глаза вроде бы ничего; во всяком случае, она безошибочно уловила мгновение, когда зрачки Альберта, нацеленные в ее глаза, расширились, освобожденные от недоверия и тягостных догадок.
– Хорошо, - сказал Альберт, - но у меня, понимаете, как бы это пояснее выразить, странные ощущения - вроде бы мои руки, которые я вижу, длиннее тех, которые я чувствую. В общем, когда я открываю глаза, кисти оказываются дальше того места, где я рассчитывал их увидеть.
Все еще улыбаясь, Ягич пожала плечами:
– Но в этом ничего особенного нет. Даже у здоровых людей изменяется пространственное восприятие своего тела: иногда руки представляются им непомерно длинными, иногда, напротив, явно укороченными. Перечитайте “Сон Д'Аламбера”. И обратите внимание: это восемнадцатый век. Мы многое забываем.
– Значит, порядок, доктор: в Мадриде полночь, испанцы могут спать спокойно.
Лицо Альберта было безмятежно, но Ягич никак не могла отделаться от тягостного ощущения незавершенности - не то надо бы сказать еще что-то, не то сделать. Выходя из палаты, она чувствовала на себе взгляд Альберта, и внезапно oни сомкнулись, эти два ощущения - незавершенности и чужих глаз. Теперь все стало на место: она не вполне убедила Альберта, и ущемленная его вера индуцировала в ней тягостное ощущение незаконченности.
Она долго колебалась, прежде чем решилась рассказать об этом Валку. Но Валк, сверх всяких ожиданий, принял ее сообщение без эмоций:
– Больные, доктор, всегда немножечко не доверяют врачам. Полное доверие бывает только у людей, не знающих недомоганий. Но им не нужен врач.
– Однако профессору Валку его пациенты верят сполна.
– Да, вкупе с профессором они внушают себе, что верят ему безоговорочно. Как видите, пятый пункт установлен не безнадежными кретинами.
Ягич правильно поняла Валка: теперь она вкупе с ним должна внушить себе, что ей пациент верит тоже безоговорочно.
Разумеется, это выходило за пределы пятого пункта, но, в сущности, именно это - абсолютное доверие больного к врачу - было его конечной целью.
Уже к исходу первой недели она почувствовала ту восхитительную твердость, которую дает полное слияние прежде инородной, рациональной воли с физическим “я”. Движения ее стали замедленными, походка неторопливой, и, самое удивительное, она постоянно улыбалась. Точнее, это была даже не улыбка, а некая постоянная готовность улыбнуться, и Альберт однажды прямо сказал ей:
– Вы все время сдерживаете улыбку. Зачем?
Да, он был прав: у нее действительно не проходило ощущение внутреннего притормаживания, но ощущение совершенно бесспорное - настолько бесспорное, что не было нужды проверять его целесообразность.
Во всем этом была, однако, и неприятная сторона: уверившись в полном благополучии, Альберт стал крайне нетерпелив.
Агрессивно нетерпелив. Хотя ему предписана была полная неподвижность, он чересчур часто, пусть и не всегда предумышленно, пытался переменить положение своего тела. Добиться успеха в этом он все равно не мог бы: тело его было четко фиксировано на койке, - но чрезмерные мышечные усилия его были далеко не безопасны.
– Альберт, - по пяти раз на день увещевала его Ягич, - вы ведь не ребенок. Возьмите себя в руки.
Кстати, в первый раз, прежде чем произнести это метафорическое “возьмите себя в руки”, она запнулась. Заметил ли ее заминку Альберт? Пожалуй, нет. Во всяком случае, она предпочла твердо держаться этой версии.
В присутствии Валка Альберт был много сдержаннее.
Но трудно было решить, что интенсивнее здесь сказывается - авторитет профессора или авторитет отца. Сам же Валк ни разу не дал понять, что допускает мысль о каком-то ином поведении Альберта. Даже после того как Альберт без обиняков заявил, что ему надоела эта матрацная тюрьма, Валк по-прежнему вел себя так, будто реакции пациента остаются неизменными.
Спустя несколько дней Ягич с удивлением обнаружила, что ведет себя точно так же, как Валк. Точнее, удивилась не столько тому, что воспроизвела линию своего шефа, сколько тому, что все это сложилось спонтанно, без заданности волевого усилия и цели.
Но самое поразительное было то, что это свое уподобление Валку она обнаружила ранее всего через Альберта, обнаружила в ту среду, вечером, когда он признался ей:
– Вздор, но едва приходите вы - появляется отец. Вопреки очевидности я отчетливо ощущаю его присутствие.
Откровенно говоря, она была изумлена нe менее самого Альберта и все-таки принялась зачем-то убеждать его, что в общем-то это банальный психологический эффект, основанный на мощных ассоциациях. Но Альберта не удовлетворяло такое толкование, он утверждал, что речь идет не об ассоциативных представлениях, а об эффекте присутствия заведомо отсутствующего человека.
Впрочем, какое бы объяснение ни давали этому Ягич и ее пациент, одно оставалось несомненным - беспокойство уже не томило Альберта с прежней силой, и он терпеливо подчинялся установленному для него режиму.
Приживление конечностей пока протекало без эксцессов.
Но Валк с тревогой ждал двадцатого дня - счет дням он вел от пробуждения Альберта.
Произошла странная метаморфоза: то ли неведение было тому причиной, то ли меньший диапазон воображения, то ли какой-то мощный энергетический заряд, фантастически индуцированный в ней, однако Ягич явственно ощущала превосходство своей воли в эти дни. Внешне Валк ничем не выдавал своих тревог, но, когда она походя заметила, что глубоко убеждена в благополучном исходе, Валк поднял на нее глаза, потрясающе добрые глаза, и очень тихо поправил:
– Не убеждены, а уверены. Уверены, Ягич. Спасибо.
В ночь накануне двадцатого дня Валк не ложился. Он отказался от первоначального намерения остаться на ночь в клинике, но при этом заставить себя еще и спать, будто все ординарно, как вчера, или позавчера, или пятью ночами раньше, Валк не Мог.
Ягич позвонила в четыре пятнадцать. Оборвав запись на полуслове, Валк рванулся к видеотелефону. Передатчик был включен, и она, должно быть, заметила этот его импульсивный рывок, который случается у людей, проведших ночь в напряженном ожидании. Это было не очень приятно, и Валк приветствовал ее с сухостью, которая должна была исключить всякую участливость с ее стороны.
Но ординатор Ягич оставалась на редкость невозмутимой: она не заметила ни порывистости профессора, ни его сухости.
Очень спокойно, почти без интонаций, так, что голос ее мог соперничать по невыразительности с электронным, она сообщила, что все в полной норме и никаких предвестникои осложнений нет. И еще: о ее пребывании здесь, в клинике, Альберт не знает.
Занималось вязкое, синее утро августа. Луна, в последней четверти, была огромна, как огромный рот Пиноккио - вечно улыбающегося деревянного человечка, выдуманного два столетия назад маэстро Карло Лоренцини из Италии. Стоя у раскрытого окна, Валк улыбался, и рот его был почти так же огромен, как рот Пиноккио, или вот эта Луна, в последней четверти. Потом он нажал кнопку - медленно поползла панель, и казалось, что это она вытаскивает из стены кровать, а не наоборот - кровать выталкивает ее.
“Девять”, - мысленно произнес Валк, расслабляясь, как обычно, от пальцев стоп к шее и челюстям. Электроды сначала чуть-чуть холодили стопы, но через две-три минуты он перестал замечать их. Последнее, что он увидел, было лицо Даля - осунувшееся, небритое, с гримасой застывшего сверхудивления.
Двадцатипятилетней давности солнце взошло над Валком.
Вдвоем с Альбертом они строили белый город на золотых песках. Валк точно знал, что белого города строить не надо, по тому что мать Альберта жива. Но мальчик упорно воздвигал дом за домом, и отец помогал ему - расчищал новые площади, перетаскивал камни, черпал из моря воду. Альберт строил город по собственному плану, и Валк дивился его великолепному чутью архитектора. Город давал ощущение материализованной в белом камне вечности. Все вокруг было преходяще: и море, теплое, вязкое, как белок, и песок, оставлявший тончайшего помола пыль на ладонях, и солнце, скатывающееся к горизонту. Только город был вечен, потому что этот белый город был само время. Время и его, Валка, сын, который тоже время.
“Бессмертие, бессмертие!” - кричал Валк, но, как ни странно, вырываясь наружу, слово это звучало как имя его сына: Альберт, Альберт!
Наконец, повторившись тысячи раз, имя сына звучало уже не только извне, но и в голове, и во рту, и в груди. И чем чаще звучало имя, тем чаще колотилось сердце. Казалось, они подстегивают друг друга, но сердце норовило во что бы то ни стало опередить имя, а оно все неслось вровень с сердцем, тесня его, и невозможно было понять, чем же именно оно теснит его.
Очнувшись, Валк с минуту был совершенно беспомощен: бешеными своими толчками сердце расшвыривало его изнутри, и хотя он оставался неподвижным, руки, и ноги, и тело его вибрировали с чудовищной, непереносимой для человека частотой.
Методично, через каждые пять секунд, названивал телефон - кинескоп был отключен. Наконец Валку удалось приподняться - на столике лежал карманный электрокардиостимулятор. Подключив электроды стимулятора к груди, Валк подошел к микрофону. После мгновенного колебания он включил весь контур.
Ягич была взволнована - это Валк увидел сразу. Но, собственно, она и не пыталась скрыть своей встревоженности, и не исключено, что именно этому, а не кардиостимулятору Валк обязан был тем внезапным приливом бодрости, который стайеры называют вторым дыханием.
В семь сорок у Альберта поднялась температура. Минут через двадцать он впал в бред: сначала он твердил о квантовом ультрагенераторе и, скрежеща зубами, называл какое-то имя, а затем стал завывать. По первому впечатлению, это были беспорядочные звуки, но вскоре Ягич показалось, что она слышит какую-то знакомую мелодию, искаженную до неузнаваемости.
И еще ей показалось, что Альберт противится этой мелодии, но подавить ее не в силах. Теперь Альберт молчит, однако энцефалограммы показывают, что бредовые видения не оставляют его. Полчаса назад она ввела больному две ампулы гипотонического гидрата. Но, может, этего недостаточно?
Достаточно, кивнул Валкт пока достаточно, а затем вводить через каждые три часа по две ампулы. И самое главное - безостановочно следить за показаниями фотометра: при малешших признаках некроза [Омертвение какой-либо части органиама. (Прим. Ред] молниеносно уведомить его.
К вечеру температура Альберта пришла в норму, а перед рассветом упала до тридцати двух градусов. На трое суток гипотонический гидрат погрузил Альберта в средний парабиоз.
Утром Валк осмотрел Альберта. В местах приживления рельефно, как вшитый кант, розовели рубцы. Позднее можно бyдет удалить рубцы, но это позднее, когда Валк поручит своего сына заботам косметолога. А шока, по образному выражению предков, до этого еще далеко, как от земли до неба. Хотелось бы, однако, поскорее узнать, как велико это расстояние в данном случае. Но кто может ответить на этот вопрос, если сам он, Валк, не может?
Ягич обратила внимание Валка на пятнышко под ключицей пациента. Профессор махнул рукой: пустяки, небольшая гематома, через два дня рассосется.
Валк был удовлетворен и спокоен, настолько спокоен, что предложил своему ординатору немедленно отправиться домой и вернуться в клинику к шести. Ягич запротестовала и тут же принялась пересказывать статью из последнего номера парижского вестника “Регенерации и трансплантации”:
– Суассон и Шамо утверждают, что в ближайшие пять лет они решат проблему пересадки конечностей у человека. Но ведь это через пять, а профессор Валк…
Валк стремительно поднес палец к губам: замолчите! Затем, ухватив ее аа рукав, потянул за собой в коридор.
– Послушайте, - набросился он на нее, - вы совершенно потеряли голову: ведь Альберт слшпшт каждое слово! Хорошо, если по пробуждении он позабудет ваши слова. А если нет?
– Извините, - прошептала Ягич, стискивая лицо руками.
– Ну при чем тут извинение? - все еще не мог успокоиться Валк. - Я-то извиню вас…
– Да-да, - шептала она, - я понимаю, я все понимаю.
– Ну, будет, - решительно объявил Валк, - мы не дикари, нечего рвать на себе волосы.
Да, согласилась Ягич, не дикари, но досада по-прежнему теснила ее, тяжеля голову, ноги, руки.
– Кстати, доктор, - просветлел вдруг Валк, - страдания не всегда украшают женщину. Особенно молодую.
– Спасибо, профессор. Спасибо за информацию.
– Рад служить, - очень спокойно и деловито произнес Валк. - Но это урок мне: нельзя переутомлять людей.
– Возможно, - пожала плечами Ягич, - но почему за наши уроки должны платить другие?
– Успокойтесь, доктор, у жизни своя учебная программа. И своя бухгалтерия тоже. Целесообразность и справедливость она не всегда понимает так, как понимают их люди. Моему сыну было восемь лет, когда умерла его мать. Ей было тридцать. А мне вот без малого семьдесят, у меня свои руки, свои ноги и голова, в которую временами забредают не самые ублюдочные идеи. Идите домой. Пора.
Ягич ушла. Не попрощавшись. Впрочем, возможно, она попрощалась: Валк стоял у окна, лицом к каштану, который, наклонясь, доставал окно своими лапами. Листья каштана были еще по-утреннему влажны.
Через три дня, вечером, Альберт проснулся. Первая мысль его была встать и размяться. И только тогда, когда появилась эта мысль, он вспомнил, что болен. Рядом никого не было.
Небо на горизонте было того блекло-лимонного цвета, который напоминает кожу человеческого лица в сумерки. Блаженное ощущение непомутненного покоя томило Альберта, как в детстве, когда он оставался один на песчаной косе Каролино-Бугаза - вдали от шестнадцатиэтажных стеклянных домов пансионата и бесчисленных соляриев с фонтанами. Ему тогда уже казалось, что люди построили чересчур много домов и эти дома начали теснить человека. А отец говорил, что на земле становится тесно и дух кочевий возрождается в людях с новой силой. По-настоящему он понял эту мысль отца много позднее, на втором или третьем курсe, когда в путешествиях внезапно открылась ему энергия раскрепощения и обновления человеческого духа. Не только поиски новых источников сырья - он готов был даже утверждать: не столько! - но и освоение новых пространств, необходимых для нормального функционирования человеческого духа, - вот их цель. Интеллектуальное и эмоциональное поле человечества переломных периодов истории он невольно уподоблял сверхплотным звездам с их критической массой. Во всяком случае, классическая загадка великих переселений народов должна была, по его убеждению, решаться именно в таком ключе.
Вращаясь, Земля плавно и бесшумно уводила город и палату Альберта в собственную свою тень, густую, синюю августовскую тень. Запрокинув голову, Альберт произнес в диктофон, укрепленный над ним: “Свет десять люксов”.
Щелкнуло реле. Свет шел отовсюду, и предметы, как в полдень на экваторе, не имели тени, кроме той, что была под ними. Мягкое, бронзовое, с чуть заметным оранжевым оттенком сияние вновь вернуло Альберта на золотые пески Каролино-Бугаза, но теперь ощущение покоя было полнее, чем в тот, первый раз, когда ассоциации увлекли его в дебри человеческой истории. Он закрыл глаза, и пальцы его погрузились в песок, бархатный, как цементная пыль. Он зарывался все глубже, но не всей кистью одновременно, как бывало прежде, а перебираясь с клавиши на клавишу, причем самое странное было то, что он отчетливо видел эти клавиши - широкие белые и выступающие над ними узкие черные.
Вследствие того, что пальцы погружались неравномерно, песок ссыпался от одного пальца к другому, и Альберт явственно слышал монотонно разыгрываемые гаммы из первых пяти нот. Темп понемногу ускорялся, и сначала Альберт прислушивался к этим звукам, даже не без любопытства, но когда невесть откуда раздалась нетерпеливая, капризная команда - престо, престо фортиссимо! - он резко, с чрезмерным усилием открыл глаза. Песок, и клавиши, и звуки - все исчезло, но раздраженность не проходила. Альберт по-прежнему ощущал в себе нечто инородное, то самое нечто, которое готово было немедленно подчиниться этой вздорной команде - престо, престо фортиссимо!
Забавно, твердил про себя Альберт, забавно. И пусть пришел бы кто-нибудь, хотя, строго говоря, зачем? Чтобы полюбоваться заодно с ним на проделки расстроенной иннервации? Чтобы…
– Добрый вечер, Альберт. Я не потревожила вас?
– Нет, доктор, вы не потревожили меня. Но, мне кажется, доктор, вы…
– Да, Альберт, я наблюдала за вами.
Глаза и голос Ягич давали ощущение той изумительно точной, безукоризненно соответствующей предмету разговора и ситуации меры, которую и теперь, как в прошлом веке и две тысячи лет назад у эллинов и римлян, называли естественностью. В математическом анализе эмоций такое поведение предпочитали, правда, именовать попросту экономичным, но понятие это привилось только в узком кругу специалистов.
Альберт был обезоружен. Впрочем, нет, это слово - обезоружен - совершенно искажало истинный смысл его реакции: у него не только прошло всякое желание выкладывать свое недовольство, но и появилось нечто прямо противоположное - досада на себя. И хотя оно, это чувство, быстро нейтрализовалось, само появление его казалось Альберту, для которого щепетильность и необъективность были всегда на одно лицо, тревожным симптомом. Именно широта характера, исключавшая всякую индивидуалистическую мелочность, с детских лет была вернейшей чертой Альберта. Сначала, разумеется, она проявлялась совершенно стихийно, но с годами Альберт, постигая себя, развил ее до такой степени, что даже стимулирующая зависть, одобренная этикой, стала чуждой ему: ничего, кроме дела, ничего, кроме истины!
Разговаривая с Альбертом, Ягич вспомнила свои недавние сомнения, которые едва не привели ее к разрыву с Валком, и отметила про себя: в сущности, достаточно бывает посмотреть на вещи просто, чтобы они и в самом деле стали простыми.
И тут же поправилась: но до чего все-таки трудно бывает смотреть на вещи просто!
– Знаете, доктор, - ни с того ни с сего вдруг заметил Альберт, - мне иногда кажется, что умение просто видеть вещи, то есть видеть их такими, каковы они на самом деле, - это и есть мужество.
– Да, - улыбнулась Ягич, - я тоже об этом думала. Вот только сейчас, когда вы произносили эти слова. И в такой же формулировке, только без “кажется”.
– Ну, это понятно, - покорно вздохнул Альберт, - женщины всегда были категоричнее мужчин. Должно быть, потому у них и нервы крепче. И живут они подольше.
– Возможно, - вздохнула и Ягич, - но в таком случае природа часто и неумеренно забавляется. Боюсь, парадоксы - это ее истинное призвание, а банальные истины - трудповинность для нее.
Наступила пауза. Ягич спокойно и легко смотрела в глаза Альберту, как человек, который хотя и не знает, какой именно зададут ему сейчас вопрос, но нри этом абсолютно уверен, что, каков бы ни был этот вопрос, он ответит на него без промедления и сполна. И опять у Альберта появилось давнишнее ощущение, что Валк здесь, рядом, и, невидимый, смотрит ему в глаза.
– Скажите, доктор, - Альберт секунду помедлил, откровенно выискивая в арачках Ягич те единственные точки, которые дали бы ему ощущение безукоризненного контакта, - как вам работается с моим отцом?
– Профессор Валк - большой ученый. У нас в клинике говорят: суперинтеллект.
Альберт поморщился: запахло кумирней, которая формально была изничтожена еще в двадцатом веке, в нынешнем же последние развалины ее обращались в прах всем смыслом пункта об убеждениях, и все-таки даже прах, оказывается, может служить неплохим строительным материалом. В чем же дело - неужели люди и впрямь не могут обходиться без идолов, кумиров, предводителей, авторитетов или, как их там еще называли, отцов человечества и суперменов?
Ягич рассмеялась весело, звонко - так она еще не смеялась здесь, в далате.
– Альберт, но вы зря негодуете: у вас в физике все проще, а в медицине чересчур много неясного, и спасение человека еще достаточно часто представляется настоящим чудом.
– Да, это так, - задумчиво произнес Альберт, - иногда мне даже кажется, что состязание физики с биологией и медициной Зенон предвосхитил в апории “Ахиллес и черепаха”. Поразительно, но до сих пор не решена проблема биологической совместимости. Человек, мозг вселенной, довольствуется полимерными эрзацами, потому что бессилен воспроизвести даже элементарный акт регенерации конечности, который ежедневно на его глазах проделывают миллионы ящериц. Но о чем это я, если он не умеет пересадить даже готовую, данную ему самой природой, человеческую руку или человеческую ногу! Нет, ведь это чудовищно: как щедра природа и как беспомощен человек!
Распалясь, Альберт внезапно сделал попытку приподняться, и, не будь рядом доктора, это вряд ли кончилось бы добром. Ягич, однако, успела прижать его к койке, и все обошлось лишь тремя сломанными электродами. Но горячность, с которой Альберт обрушился на медицину и медиков, оставила у нее тягостную и ноющую, как давняя рана, тревогу. И дело было вовсе не в уязвленной профессиональной гордости, медики лучше других знали истинную цену всемогуществу медицины, хотя и уподоблялись зачастую матери, которая считает себя вправе говорить какую угодно правду о своем чаде, но за другими признает это право скрепя сердце.
Нет, профессиональная гордость, честь мундира были здесь ни при чем: почти с прежней силой на Ягич хлынули сомнения, и весь день она провела в томительном ожидании разговора с Валком. И то, что прежде ей казалось совершенно безупречным - консультации с шефом в заранее установленные часы, - теперь, почему-то вызывало раздражение и представлялось неуместным педантизмом. В конце концов, убеждала она себя, необычные ситуации самой своей сутью исключают предварительное распределение времени.
В семнадцать пятнадцать профессор Валк принял своего ординатора. Ягич не скрывала дурного настроения, но Валк был невозмутим. И эта невозмутимость его подстегнула недовольство Ягич. Но, самое удивительное, как ни горячилась она, профессор только кивал утвердительно головой и время от времени похлопывал стол ладонью. А затем, когда она кончила свое темпераментное донесение - это он, шеф, назвал так ее информацию, - ей было предложено сделать небольшой экскурс в историю медицины. Экскурс оказался самым элементарным, и мораль из него - откровенно азбучной: врач - не пациент, терпение для врача - не добродетель, а долг.
– А проще говоря, - подвел итоги Валк, - научитесь ждать и не убаюкивайте себя собственным благородством: когда ВАМ не терпится - это ВАМ не терпится, и забота о пациенте здесь - банальный камуфляж.
– Но, профессор, - чуть не взмолилась Ягич, - вы бы видели своего сына, когда он негодовал на медиков и медицину!
– У него есть право на это, - с неожиданной сухостью, как о постороннем, произнес Валк. - Его мать умерла, и единственное, что могла сделать медицина - объяснить и засвидетельствовать факт ее смерти. Кстати, я рассказывал вам однажды об этом, заботясь не только о вашем потревоженном любопытстве. Я надеялся, что многое в поведении Альберта прояснится для вас.
– Значит, вы исключаете догадку Альберта об истинном положении?
– Да, исключаю. И давайте с вами договоримся раз и навсегда: мой сын принимает правду в ее натуральных красках и требует того же от других.
Вся следующая неделя сполна подтвердила правоту Валка: Альберт ни о чем не догадывался и точно так, как с неделю назад он расправился с медициной, теперь он разделывал физику и физиков, которые через сто лет после смерти Эйнштейна едва-едва набрели на общую теорию поля. Притом разделывал тем яростнее, чем лучше себя чувствовал и чем упорнее думал о застое в собственных исследованиях.
О странных музыкальных своих наваждениях он рассказывал теперь менее охотно и реже, чем прежде, хотя интенсивность их не только не уменьшилась, но, напротив, даже усилилась. Однако, объясняя все расстроенной иннервацией, он полагал, что всякие иные наваждения были бы в данном случае столь же уместны, и потому не видел нужды искать другие, более конкретные и специальные объяснения. Врачи же полностью исключали всякую предумышленную концентрацию внимания пациента на необычных его ощущениях.
Наступило затишье. Такие временные затишья случаются в тяжелых и даже самых тяжелых болезнях, когда сама обреченность становится вроде бы условной категорией, реальный смысл которой целиком зависит от воли человека.
Валк называл это состояние “очаровательной передышкой между тысячной и тысяча первой ночью Шехерезады”. И в заключение обязательно пояснял, что это единственный случай; когда он верит не только в коварство, но и в злонамеренность бога. Вопреки Эйнштейну.
Ягич неожиданно замкнулась - видимо, для того, чтобы не поддаться очарованию мнимого благополучия. Отлично, твердил про себя Валк, отлично, в моем ординаторе проклевывается медик. Но самое нелепое, в дни великого затишья он больше всего думал не о сыне своем, Альберте, не об ординаторе Ягич, а о профессоре Дале.
Два месяца Даль не напоминал о себе. Два месяца он пропадал на юге, в Сухумском виварии, в компании шимпанзе, которые должны были убедить человечество, что между собственной рукой и заимствованной никакой разницы нет.
Со дня на день в лаборатории Валка ожидали реферативный вестник Сухумского центра трансплантации. В этом вестнике Даль намеревался произнести свое последнее слово, и это слово должно было стать приговором Валку.
Для Валка последнее слово Даля было из разряда великих секретов полишинеля, и все-таки ему не терпелось увидеть это слово овеществленным на меловой бумаге в типографии.
“Черт возьми, - укорял он себя, - во мне просыпается жажда аутодафе: я вижу чад и пламя, пожирающие вестник Даля”.
Однако двадцать пятого августа, в четыре часа пополудни, когда руки Альберта, освобожденные от фиксаторов, впервые приподнялись над койкой, Валк начисто позабыл и Даля, и вестник его, и чадное пламя, пожирающее этот вестник.
– Смелее, Альберт, смелее, - приказывал он сыну, когда тот внезапно останавливался, как изнуренный альпинист перед следующим шагом.
И Альберт поднимал руки все выше - пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать градусов, и казалось, одно небольшое еще усилие, и рубеж - сорок пять градусов - будет взят, но вдруг эти руки утратили жесткость усилия и шмякнулись, как подстреленные, на койку.
Ягич импульсивно подалась вперед, торопясь на помощь, а Валк, придержав ее протянутой рукой, спокойно, будто речь шла о спортивной дистанции, объявил:
– Отлично, сын! Превосходно!
Альберт был бледен. Даже глаза его, обычно синие густой синевой сумеречного моря, поблекли.
– Отец, - сказал Альберт, - эти руки никогда уже не будут моими.
– Они твои, - улыбнулся Валк, - они уже твои, Альберт.
– Нет, - покачал головой Альберт, - они не слушаются меня. Ты не представляешь себе, чего стоил этот подъем. Я с трудом заставил их сделать то, что хочу я. У меня было ощущение, что у них своя воля, свои желания…
Не дослушав Альберта, Валк стремительно поднялся, сделая несколько шагов к двери, а затем, круто повернувшись, уже спокойно, как накануне, присел у койки.
– В психологии и физиологии диссоциация такой же элементарный акт, как у вас в механике, Альберт. Но в механике нет эмоций и морали. Неодушевленные предметы не чувствуют себя ни сильными, ни слабыми.
– Нет, - повторил Альберт, - я не о том, отец. Мне надо подумать. Это уже много дней, но я не придавал этому значения; я тоже отделывался параллелями с элементарной дагссевршциен.
– Но, Альберт, - голос Валка был ровен, как голос диктора, извещающего об отправке очередного самолета, - это действительно диссоциация. Кстати, еще в прошлом веке писатель-аэронавт Сент-Экзюпери рассказывал в “Ночном полете” об этом феномене отчуждения рук. Добавлю: совершенно здоровых рук.
– Да, - кивнул Альберт, - я помню это место: чужие руки лежат на штурвале, и нет уверенности, что они поступят так, как им велят. Я подумаю, отец.
В ближайшие три дня Альберт не вспоминал о своих руках. Накануне Валк предупредил его, что никакой физиотерапии пока не будет, что до конца недели Альберт сам волен распоряжаться своими руками. И в присутствии профессора и Ягич Альберт оставался неподвижным, хотя был уверен, что все упражнения, которые он проделывает, оставаясь наедине с самим собою, наверняка записываются и просматриваются в лаборатории Валка. Впрочем, сколько он ни осматривал палату, никаких признаков фотоглаза обнаружить не удалось, но уверенность его от этого нисколько не меркла.
Напротив, что-то неуловимое - то ли чрезмерная беззаботность, то ля мгновенная непроизвольная задумчивость Ягич - убеждало его всякий раз, что упражнения эти не остаются секретом для врачей. И когда, третьего еще дня, она перед уходом демонстративно надела на объектив телекамеры колпак, ему отчаянно захотелось напомнить ей, что, черт возьми, он как-никак физик, а не кулинар какой-нибудь. Но спустя два дня, утром, он поймал себя на мысли о приборах слежения, - мысли, которой у.него еще за секунду до этого не было. И тогда он понял, что психологический расчет отца точен, ибо человек неизбежно забывает о незримом, которое к тому же не представляет никакой угрозы.
Руки Альберта вели себя крайне странно. Впрочем, самым странным было, видимо, все-таки то, что сам Альберт представлял себе теперь их не иначе, как некое “я”, противопоставленное его истинному “я”, то есть тому единственному “я”, в котором материализовалась его воля.
Уже к исходу первого дня Альберту удалось поднять руки на заветные сорок пять градусов, которые еще каких-нибудь четыре-пять часов назад были совершенно недоступны ему.
Но едва намечалась усталость, они, эти руки, начинали совершать беспорядочные движения, лишенные ритма и смысла.
Все это нисколько не удивило бы Альберта, если бы не одно совершенно определенное ощущение - в своих беспорядочных движениях руки пробиваются к какому-то известному им рисунку. Каков был этот рисунок, когда и в каких обстоятельствах он был освоен - ничего этого Альберт не представлял себе. У него мелькнула мысль об изолированном акте сомнамбулизма - руки вспоминают движения тысячевековой давности, точно так, как бывает это у всех сомнамбул. Но тут же он возразил себе, что сомнамбулизм и бодрствующее сознание несовместимы, а предположить самостоятельное, погруженное в транс сознание у твоих собственных рук - нет, это чересчур нелепо.
Вконец утомленный, Альберт выпрямил руки до отказа: чудовищно длинные, тяжелые, они лежали на койке рядом с ним. Вибрация в теле, вызванная непомерным физическим напряжением, уже почти угасла, когда Альберт вдруг услышал поразительно гулкое арпеджио рояля. И одновременно с этим арпеджио пальцы его забились в мелкой судорожной дрожи, и, хотя они были совершенно чужды возникшему в нем зрительному образу скользящих по клавишам пальцев, он с отчаянной ясностью улавливал в их дрожи тот же рисунок, но многократно, как в перевернутый бинокль, уменьшенный.
Все это само по себе было крайне неприятно. Но много хуже было то, что отчетливое ощущение раздвоенности, которое нарастало с секунды на секунду, сопровождалось изнуряющим страхом, тем более изнуряющим, что никаких разумных оснований для него не было. Чтобы жогасять тягостные видения, Альберт понуждал себя думать о лаборатории лазеров, но спустя минуту-другую он бежал оттуда в экспериментальный цех квантовых генераторов, чтобы еще через мвнут,у умчаться на лазерный полигон а Тянь-Шане. Но в там, на семикилометровой вершине, где надо было надеть кислородную маску, чтобы не задохнуться, нелепые арпеджио грохотали, как горные обвалы.
И тогда осталось одно: ждать, терпеливо ждать, противопоставив нелепому изнуряющему страху простейшую мысльнет ничего страшнее небытия. Но разве так уж страшно это - небытие?
Раза три-четыре после этого страх еще набегал волнами, но волны эти, которые с берега казались огромными, по мере приближения сникали и под конец почти вовсе исчезали, не то уходя на дно, не то растворяясь в огромной массе прибрежной воды, млеющей после бури на солнце.
Потом пришла тишина. Она была удивительна, эта тишина,:- она была конкретна и неуловима, как солнечный луч, который нельзя зажать в кулаке, она оборачивалась звоном в ушах, тупыми ударами сердца, переливчатыми, как звон далекого ручья в горах, едва человек прислушивался к ней.
А потом, после этой тишины, буря уже не возвращалась.
После этой тишины были только этюды Шопена, двадцать четыре. Они чередовались, как в концерте, с теми минимальными паузами, которые необходимы залу.
Никогда прежде Альберт не слышал их в таком безупречном исполнении. И никогда прежде он не знал этого изумительного ощущения идеальной реализации ожидаемого. Ощущение удовлетворенности было так полно, что только позднее, когда опять вернулась тишина, он заметил, что удовлетворенность эта идет - он сказал про себя: иррадиирует - от рук.
Причем она поразительно напоминала другую, из детства, которая бывала у него, когда мать опускала озябшие его руки в теплую воду.
Но, кроме удовлетворенности, была еще усталость. И хотя больше всего устали руки, потому что пальцы проделали все двадцать четыре этюда, скованность была во всем теле. Скованность от чрезмерного мышечного напряжения.
Ни отец, ни Ягич в течение целой недели не задавали ему тривиальнейшего, освященного веками вопроса лечащего врача - как чувствует себя больной? Строго говоря, это было естественным следствием предоставленного ему права свободной ориентации. Но необычность такого режима требовала объяснения, и вечером в пятницу он поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет Ягич. Однако, когда она отворила дверь со своим привычным “добрый вечер, Альберт”, он почему-то решил отложить разговор до следующего ее визита.
Между тем отвратительное ощущение недоговоренности и умолчания росло, настойчиво требуя исхода. Но, несмотря на ясность этого ощущения, сначала никак не удавалось четко сформулировать мысль. И тогда ему представилось безликое НЕЧТО, и он решил, что надо прямо так и сказать: милый доктор, НЕЧТО томит меня, не поможете ли вы мне понять, что оно такое, это НЕЧТО?
Пожалуйста, улыбнется Ягич и пояснит: “Все дело в свободе, которую мы предоставили своему пациенту”. Ага, значит, не безликое НЕЧТО, а именно эта свобода вызывает у него тягостную озабоченность. И стало быть, нет нужды обращаться к НЕЧТО, лишенному образа, а надо откровенно, без обиняков, справиться, чем он обязан этому восхитительному режиму полной свободы. Ведь врач на то и врач, чтобы опекать больного, а если больной не чувствует этой опеки, у него появляются всякие мысли. Но каждому известно, что всякие мысли как раз и не нужны больному.
– Доктор, - сказал Альберт, когда Ягич поправляла у него теменные электроды, - меня занимает один пустяковый вопрос. Вы слушаете?
– Да-а, - протянула Ягич улыбаясь, - я слушаю ваш пустяковый вопрос, Альберт.
– Нужна ли больному избыточная свобода? Точнее, имеет ли он на нее право? Разве сам статус больного не есть статус ограничений?
– Да, - отвечала Ягич, протирая его темя эфиром, - статус есть статус. Но бывают исключительные случаи…
Он почувствовал, как внезапно оцепенели ее пальцы, как вся она на мгновение замерла и как почти одновременно с этим ее пронизал импульс, вернувший ей прежнюю интонацию и легкость движений.
– …в этих исключительных случаях мы несколько изменяем режим больного.
– Для чего?
– Чтобы не стеснять естественных реакций.
– А если у этого больного как раз неестественные реакции?
Закрепив последний электрод, она присела на койку у ног Альберта.
– Я говорю о реакциях, естественных для больного. О спонтанных реакциях, не подправленных сознанием ни пациента, ни его врачей.
– Вы следите за мной все эти семь дней, с первого их часа?
– Да, Альберт, всю неделю, с первого ее часа, наблюдаем и записываем.
– Почему мой случай исключительный?
– Травма была серьезная.
– Кара, - это он впервые назвал ее по имени, Корой, и, наверное, поэтому она вдруг заметила свое дыхание, тяжелое; замедленное, не дающее удовлетворения, - эти руки - мое?
– Эта ваши руки, Альберт.
– Нет, - тихо сказал Альберт, - это не мои руки. У них своя воля, свои ритмы. Однажды меня укачало. В Магеллановом проливе. Потом мы вышли в океан. Океан был тих, как заболоченное озеро. Но едва я закрывал глаза, волны подхватывали меня, и все начиналось сызнова. Так продолжалось двое суток. А однажды мы с отцом собирали цветы. В степи. Ночью я не мог заснуть - перед глазами у меня мелькали цветы и я сам, беспрестанно наклоняющийся. Я ничего не мог сделать, чтобы избавиться от этих видений. Но они были мои, и я знал, что они мои. А эти руки, которые разыгрывают виртуозно двадцать четыре этюда кряду, они не мои. У меня всегда были посредственные успехи в музыке, и мама очень огорчалась.
– Дайте сваю руку, Альберт. Вот так. Сожмите мою. Крепче, еще крепче. Разве она не слушается вас? Осторожно, Альберт, вы раздробите мне кисть. А теперь сомневайтесь в свое удовольствие, сколько вам угодно.
Надо уйти, надо уйти немедленно, твердила себе Ягич.
Надо бежать, а не то всему конец. Я не могу, профессор, вы слышите, профессор, я не могу смотреть ему в глаза!
– Откуда же эта информация, доктор? Разве мои руки могут помнить то, чему никогда не учились? Я слушал эти этюды только в концерте, да и то запомнил лишь, что их было двадцать, четыре, а теперь они сидят у меня вот здесь, - Альберт потряс руками, - вот здесь, доктор. Вы бросаете вызов рассудку, вы хотите, чтобы я уверовал в информацию извне, которая предшествует опыту и познанию.
– Альберт, но разве мы всё знаем об источниках информации? Ученые прошлого века рассказывают об одном шотландце, который вдруг заговорил по-арабски, хотя достоверно было известно, что никогда до этого он не слышал арабской речи.
– Достоверно ли - вот вопрос, - задумчиво произнес Альберт.
– И я спрашиваю: а у вас все достоверно?
Альберт молчал. Повернувшись на правый бок, oн смотрел на Ягич в упор, и глаза его цвета сумеречного моря темнели быстро, как июльское море к ночи.
– Кора, вы можете сесть поближе? Нет, еще ближе. Да, так. А теперь наклонитесь. Еще чуть-чуть.
Он взял ее лицо в руки, его пальцы скользили, как пальцы слепого, вылепливающие лицо женщины, которая еще мгновение назад существовала только в звуках своего голоса.
Они дрожали, они отчаянно дрожали, его пальцы, и ои не мог унять их дрожи.
– Кора, - сказал он, - это не мои пальцы. Они хотят другого, они дрожат потому, что я не разрешаю им другого. Эта дрожь их - бунт против меня. Они бешеные псы, перегрызающие цепь.
– Но цепь перегрызть нельзя, Альберт.
– Нельзя, - повторил он шепотом. - Наверное, нельзя.
Внезапно руки его перестали дрожать. Она заметила это сразу, еще до того, как пальцы его сплелись у нее на затылке и губы, сухие, шершавьте, горячие, заскользили у правого виска, к глазу.
– Это я, Кора, - сказал он, - теперь, доктор мой, я, - успел он сказать еще, и руки его, судорожно сжавшись у нее на затылке, стремительно, как два жестких стержня с одинаковыми зарядами, разлетелись в стороны.
Движения их были беспорядочны и бессмысленны, но самым тягостным была их жесткость, точно живое человеческое тело нанизали на стальной прут.
– Успокойтесь, Альберт, - приговаривала Ягач, - сейчас все пройдет. Сейчас, одна минута - я включу стабилизатор, и все пройдет.
Стабилизатор был уже готов, когда за ее спиной веожиранио заговорил видеотелефон:
– Альберт, расслабиться! Не надо стабилизатора. Расслабляйся, еще расслабляйся, еще.
На экране чернели мучительно тяжелые глаза Валка. Глаза эти давили огромной тяжестью валунов, непонятно почему задержавшихся в небе, непонятно почему не падающих на землю. Но руки Альберта понемногу успокаивались, и, по мере того как движения их становились упорядоченнее и эластичнее, тяжесть истекала из глаз Валка, растворяясь где-то за экраном быстро и бесшумно, как водород из продырявленного зонда.
Через час, когда солнца уже не было, когда посинели гусиной синевой только что еще заревые облака, Альберт уснул.
Она сидела рядом. Она смотрела на желтое лицо человека, изнуренного мучительной борьбой, на шершавые, сухие и горячие его губы, на истончившийся нос, но все это было лишь фоном для того главного, что пронизывало, пропитывало ее всю, что было сейчас ее единственным и истинным “я”: вот лежит первый человек с чужими руками, первый, которому чужие руки стали своими.
Утром, за час до назначенного Альберту пробуждения, она сняла чехлы у него с рук. Валк готов был удалить их еще вчера, когда догадка Альберта стала уже, в сущности, уверенностью, и не только бессмысленно, но и вредно было хранить в тайне то, что перестало быть тайной. Ягич, однако, решительно воспротивилась этому, и Валк согласился в конце концов, что утро более подходящее время. Он даже вспомнил, что утро вечера мудренее, и подивился исключительной физиологической точности этой пословицы.
Едва проснувшись, Альберт увидел руки, которые лежали поверх белой простыни. В первое мгновение в глазах его не было ничего, кроме заурядного равнодушия - равнодушия к чужому предмету, случайно попавшемуся на глаза. Но тут же с непостижимой быстротой в них индуцировалась чудовищная энергия внезапно озаренного сознания: эти руки - его руки.
Сухие, с далеко выдвинутой в локте костью и длинными, тонкими, как деревянные бруски из детского “Конструктора”, пальцами, они были чужды мускулистому, с четким, упругим рисунком телу Альберта: это были руки Дон-Кихота, прилепленные к торсу Геракла. Но еще фантастичнее был их цвет - подсиненных свинцовых белил, сплошь зарешеченных тончайшими черными волосами. Даже теперь, при свете утреннего солнца, они были из мира полярных снегов и голубого полярного месяца.
Сначала Альберт молча перевел взгляд на свою грудь, загорелую, с золотистыми курчавыми волосами, под которыми ближе к краям глянцевито краснели три рубца, потом на руки, потом опять на грудь и закрыл глаза. Ягич наблюдала за ним безотрывно, нисколько не скрывая этого, но спокойно, с той профессиональной уверенностью, которая даже необычным ситуациям придает оттенок заурядной будничности.
– Чьи это руки? - прошептал Альберт, и, так как ему показалось, что она не услышала его шепота, он повторил громко, как на допросе: - Чьи это руки?
– Ваши, Альберт. А раньше - Сергея Чудновского.
– Пианиста?
– Да, пианиста.
– Ему было семьдесят два?
– Да, Альберт, семьдесят два.
– Доктор, сколько же мне? - Он ждал, но она не отвечала, и тогда он заговорил снова: - Допустим, доктор, вы выходите за меня замуж: кто будет обнимать вас, Альберт Валк, физик, двадцати девяти лет, или Сергей Чудновский, пианист, семидесяти двух лет? Хотя нет, давайте проще - сколько лет человеку, руки которого на три года старше его отца?
– Не надо, Альберт, - она взяла его руки, положила кисть на кисть и сжала крепко, как озябшие руки ребенка, - это твои руки, понимаешь, твои.
Глаза Альберта были по-прежнему закрыты. У правого, на полпути к виску, застряла слеза. Ягич высвободила руку, чтобы отереть ее, но Альберт стремительно повернул голову и прошелся щекой по подушке.
Она засмеялась: - Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?
– Ему? - Валк стоял в дверях, чересчур большой и чересчур бодрый. - Это вы у меня, доктор, спросите, сколько ему лет.
Усевшись на койку, Валк взял руки Альберта и, приказав сопротивляться, согнул их в локте и запястье. Затем, перебирая пальцы, снова приказал сопротивляться - сильнее, сильнее, еще сильнее! - и, наконец, хлопнув его но няечу, сказал громко и весело, как детский доктор мальчику, тяжело переболевшему:
– Все в порядке, сын. Можешь играть руками в футбол. Через неделю - вон из моей клиники.
– Отец…
– Я слушаю.
– Почему именно эти руки? Разве…
– Да, Альберт, были и другие. Но нужны были эти, именяо эти. Понимаешь, руки с огромной памятью. Гениальные руки.
Генрих АЛЬТОВ Порт Каменных Бурь
Полгода назад мне передали запись сообщения, посланного Зорохом с “Дау”.
Дешифровка сообщений, признанных безнадежно искаженными, - тяжелое ремесло. Дело не в трудности самой работы, это в порядке вещей. Страшно другое. Начиная работу, не знаешь, на что уйдут годы. Можно потратить жизнь - и расшифровать несколько ординарных сводок.
Таким, не имеющим особого значения, показалось мне вначале сообщение с “Дау”. Я не знал тогда, что смогу заглянуть на тысячи лет вперед.
Сообщение Зороха должно было лишь немногим опередить возвращающийся к Земле корабль. Однако до сих пор не удалось обнаружить “Дау”. Автоматы должны были каждый месяц повторять сообщения - таков общий порядок. Этих сообщений тоже нет.
Семьсот сорок метров темно-серой, местами совершенно черной ленты, засвеченной при аварии на спутнике внешней связи, - вот все, что я имел.
Иногда думают, что мы, дешифровщики, пользуемся какойто особой аппаратурой. Нет, у нас иное оружие - терпение и фантазия. Бесконечное терпение и ничем не скованная фантазия. Найти разрозненные, едва видимые штрихи, угадать их взаимосвязь и воссоздать картину - в этом суть нашей работы. Подобно художникам и поэтам, мы работаем в одиночку: фантазия требует тишины.
Отчет о дешифровке сообщения Зороха будет опубликован в ближайшем выпуске “Бюллетеня космической связи”. По традиции отчет содержит лишь абсолютно достоверное; это те самые штрихи, которые еще не дают представления о всей картине. Но по той же традиции я имею право на гипотезу.
Кто из нас не задумывался над вопросом: если коммунизм - предыстория человечества, что будет содержанием самой истории?
Уже в первой трети XXI века все люди получили условия, необходимые для существования. Давно прекратились войны.
Исчезли болезни и голод. Нет недостатка в жилье. Еще двадцать-тридцать лет - и мы создадим киберкомплексное производство, которое будет само развиваться и совершенствоваться. Исчезнут заботы, поглощающие ныне 90 процентов энергии человечества.
Так что же впереди?
Восстанавливая сообщение Зороха, я во многом полагался на интуицию: воображение по каким-то своим законам дорисовывало то, чего я не мог увидеть. Возможно, не все поверят в открытие, сделанное Зорохом в звездной системе Вольф 424.
У меня пока нет достаточных доказательств. И все-таки я утверждаю: еще не было открытий, столь важных для понимания будущего.
1
До Зороха никто не летал к звезде Вольф 424. Считалось, что такой полет ничего не даст науке. Действительно, 424-я - неинтересный объект. Две крошечные звезды, типичные красные карлики - класс звезд, хорошо изученных еще при первых полетах к Проксиме Центавра. Расчетами - многократно и надежно - было доказано, что в системе Вольф 424 не может быть устойчивых планетных орбит. Полвека 424-я была в стороне от космических трасс. А потом Бушард, работая со сдвоенным квантовым локатором, обнаружил у 424-й планету.
Так возник “парадокс Бушарда”: планета (Бушард назвал ее Химерой) двигалась по запрещенной орбите.
Экспедиция Зороха - это исследовательский рейс с обычной в таких случаях программой. Но фактически главной целью полёта было решение “парадокса Бушарда”.
Зорох летел один: рейс был на пределе дальности, пришлось взять дополнительное оборудование - навигационное, исследовательское - и усилить биозащиту кабины.
Трудно сказать, почему командиром “Дау” назначили Зороха. Выбор производила машина, специально созданная для комплектования экипажей звездолетчиков. Получив программу полета, машина вырабатывала комплекс психофизиологических испытаний и отбирала людей, наиболее подходящих для осуществления этой программы. Сейчас просто невозможно определить, почему машина отдала предпочтение Зороху.
Впрочем, тогда это тоже было загадкой. Другие астронавты не могли набрать больше НО-120 баллов из тысячи, а Зорох получил 937. Странно: Зорох был молод и неопытен. Сохранилась запись повторных испытаний; во второй раз машина поставила Зороху те же 937 баллов.
Перелет продолжался (по корабельному времени) почти три года. На Земле прошло пятнадцать лет, но космосвязь принимала лишь однообразные короткие сигналы, означающие, что все благополучно. Зорох берег энергию. Первая запись, которую я расшифровал, сделана, когда “Дау” достиг 424-й.
У 424-й оказалась планета, движущаяся по запрещенной, теоретически немыслимой, орбите вокруг одного из красных солнц. Я восстановил снимки Химеры, сделанные с “Дау”.
Одиннадцать последовательных снимков, по которым можно догадаться, что именно заинтересовало Зороха. На экваторе планеты, в средней части обширной горной системы, был Круг. Зорох тогда еще не знал, что это такое. Он только видел Круг - темную область диаметром более тысячи километров. Сутки на Химере вдвое короче наших, но быстрая смена дня и ночи не отражалась на температуре Круга. Она была постоянной - плюс 24 градуса. Впрочем, не это важно: загадочным было само существование Круга.
Орбита Химеры слишком близка к красному солнцу, и притяжение вызывало на планете приливы исключительной силы.
Насколько можно судить по снимкам, морей (во всяком случае, крупных) там нет. Приливы поднимали каменные волны.
Планета каменных бурь - вот что такое Химера. Дважды в сутки по Химере проходила приливная волна, вызывающая сильнейшие землетрясения - точнее, “химеротрясения”. Дело, конечно, не в названии, но каменные бури настолько сильнее самых разрушительных землетрясений, насколько ураган сильнее тихого ветерка. Сила этих бурь, измеренная по земной шкале, выразилась бы трехзначной цифрой. А главное - каменные бури регулярно, с чудовищной точностью повторялись каждые шесть часов. То, что было в короткие промежутки между бурями, лишь условно можно назвать затишьем.
Гремели вулканы - тысячи вулканов, разбросанных от иолюса до полюса. По ущельям ползли потоки лавы, прогрызая путь сквозь горные цепи. Кипели грязевые озера, нет, ие озера (это опять-таки не то слове), а моря и океаны юндаечущей грязи.
В течение трех-четырех суток все изменялось ва планете.
Все, кроме Круга. Казалось, бури обтекают Крут. Ничто не проникало в его пределы: ни огненные волны лавы, ни дым вулканов, ни пыль каменных бурь.
Я уверен, Зорох с самого начала догадывался о встрече с чужим разумом. Этой встречи тщетно искали с тех пер, как человек вышел в космос. Не мы не знали, что она будет такой.
Внизу была чужая жизнь, и Зорех нриематривался и вей.
Он не спешил. Прошло около двухсот часов, прежде чет он начал готовить посадочные планеры. Он смонтировал три планера со стандартными, по тому времени довольно совершенными, автоматами пилотирования и разведки. Первый планер направился к центру Круга, потом внезапно развернулся, ушел в сторону и исчез в черном хаосе туч.
Зорох отправил в разведку второй планер. На этот раз он сам запрограммировал полет. Место для посадки он выбрал странное: вершину пика, очень близкого к Кругу и очень высокого. Вероятно, посадка прошла благополучно, и автоматы успели что-то передать на “Дау” (иначе трудно объяснить ту уверенность, с которой в дальнейшем действовал Зорох).
Но через семнадцать минут после посадки поступил аварийный сигнал и связь прервалась.
Кажется, Зорох ждал этого. Он сразу же начал готовитьcя к спуску на Химеру.
Он ушел на последнем планере, оставив “Дау” та cутoчной орбите. Звездолет висел в зените над местом выезда”.
Первые снимки сделаны сразу же пocле спуска. Этo наиболее сохранившаяся часть ленты. Телекамера автоматически включалась каждые серок секунд и тередавала изображение на “Дау”. В дымном небе - расплывшееся краснее солнце; оно быстро уходит к горизонту. Там, у горизонта дoлжен быть Круг. На снимках его не видно. Зато отчетливо видны горы.
Они сняты с крохотной площадки у вершин скалистого пика: отсюда сорвался в пропасть второй планер.
Горы похожи на бушующий океан: словно кто-то в сотни раз увеличил ураганные океанские волны, а потом, когда они достигли наивысшей силы, заставил их мгновенно окаменеть. Вершины каменных волн припорошены белым, как пена, снегом.
Три снимка сделаны при свете прожекторов, в сумерках.
Зорвх работал, подготавливая свой “космодром” к каменной буре.
Я ничего, в сущности, не знаю о характере Зороха. Вообще индивидуальные отличия молодых астронавтов практически не сказываются на их поведении в обычных условиях.
Становление характера происходит уже в космосе. Прослеживая действия Зороха, я могу лишь весьма приблизительно объяснить, почему он поступал так, а не иначе.
Нечему, например, он остался на этой площадке?
Едва ли нужно доказывать, что, поступая так, Зорох шел против здравого смысла. Не было никакой необходимости подвергать судьбу экспедиции такому риску: планер мог перелететь на другое место, мог, наконец, вернуться на “Дау”. Оставаясь у вершины пика, Зорох ничего не выигрывал. Он словно нарочно шел навстречу безмерной опасности.
Зачем?
По снимкам видно, что это такое - каменная буря.
Минут за десять до начала бури в горах возникли фиолетовые огни. Кора планеты, еще сопротивлявшаяся приливным сдвигам, наэлектризовалась, и острые вершины скал осветились холодным сине-фиолетовым пламенем. Оно быстро разгоралось, это пламя: тени отступали, проваливались вниз. Стали видны даже очень далекие пики. И когда сине-фиолетовое свечение достигло предельного накала, прилив сдвинул горы.
На снимке, уловившем этот миг, горы кажутся мохнатыми, смазанными: звездное небо и мохнатые, ощетинившиеся вершины…
Каменный океан содрогнулся, пришел в движение. Скалы утратили жесткость: каменная твердь вопреки своей природе стала подвижной. Можно иеренлыть штормовой океан, можно преодолеть выжженную солнцем пустыню, можно пройти везде - кроме этих беснующихся каменных волн…
Рушились исполинские пики, словно их кто-то подрубал снизу. Сталкивались, дробились скалы, и плотная черная пыль быстро поднималась вверх, к площадке, на которой каким-то чудом держался планер.
Из-под сорванных каменной бурей гор хлынули огненные потоки. Узкие лучи прожекторов затерялись в хаосе огня и дыма. Потом глухой стеной надвинулась каменная пыль, и телекамера, передав на “Дау” последний снимок, выключилась.
Буря продолжалась больше часа. Когда все кончилось и пыль начала оседать, автоматы снова приступили к съемке.
Зорох установил на осветительных ракетах мощные квантовые генераторы, но снимки получились плохие. Как и прежде, кругом горы, похожие на застывшие волны. Однако это уже другие волны: каменный ураган стер с поверхности Химеры горную систему, равную Гималаям, и поднял новые цепи дымящихся гор. Уцелели только несколько могучих пиков.
Их вершины одиноко возвышались над пылевыми облаками.
Что же все-таки заставило Зороха остаться на маленькой площадке у вершины пика?
Я безуспешно пытался.ответить на этот вопрос, пока не понял: сначала надо разобраться в другом и хоть как-то объяснить, почему машина выбрала Зороха командиром “Дау”.
От этих машин давно отказались, мне даже не удалось найти подробного их описания. Я не могу доказать достоверность своей идеи. Пусть это будет простое предположение, не больше.
Так вот, главная, на мой взгляд, особенность программы полета - упоминание о вероятной встрече с чужой жизнью, достигшей высокого развития. Необычная орбита Химеры еще до полета заставила как-то учитывать эту возможность. А главная особенность выбора в том, что Зорох был самым молодым из кандидатов. Я уверен, что машина - будь у нее такая возможность - выбрала бы еще более молодого астронавта.
Машина считала, что представлять человечество при первой встрече с чужой и более развитой цивилизацией должен человек очень молодой. В этом есть своя логика. Разрыв в уровне цивилизаций мог оказаться настолько значительным, что переставало играть роль, чуть больше или чуть меньше знаний и опыта будет у астронавта.
Но, повторяю, я не берусь обосновывать выбор машины.
Для меня важно другое. Если молодость главное (в данном случае) качество Зороха, то многое становится понятным.
Два первых планера погибли. Будь на месте Зороха опытный космический ас, он удвоил бы осторожность. У Зороха удвоилась смелость - он был молод. Такой смелости нет оправдания, в ней нет смысла, если… если не допустить, что со стороны смотрел некто, впервые видящий человека. Этот некто не боялся каменной бури. Зорох тоже не захотел отступать перед бурей. Мальчишество! Но Зорох, в сущности, и был мальчишкой.
В ту короткую ночь на чужой планете Зороху было тяжело. Астронавтика не знает подобных случаев; штурму планет обычно предшествует систематическая групповая разведка.
Зорох был один. Три года, которые он провел на корабле, - тоже одиночество, но совсем иное. Корабль тесен и обжит; кажется, что за его пределами есть только пустота. Россыпь бесконечно отдаленных звездных огней - это воспринимается умом, а не сердцем. В кабине корабля свои масштабы: большой человек в окружении сильных и послушных машин, а где-то там, в глубине обзорных экранов, маленькие миры…
Еще за час до спуска на Химеру Зорох мог одним взглядом охватить всю планету. Когда же он, опустившись на горную площадку, открыл люк планера, все изменилось. Мир приобрел иные масштабы, и в этих масштабах человек оказался крохотной частицей, затерянной среди исполинских гор. А потом, словно утверждая новые масштабы мира, началась каменная буря.
Машину, выбравшую Зороха, построили люди. Понятно, что такая машина могла поставить знак равенства между молодостью и смелостью. Мне хочется подчеркнуть другое: машина, видимо, вкладывала в понятие “смелость” нечто большее, чем преодоление страха перед опасностью. Когда рушатся горы - это страшно, однако во сто крат страшнее, когда рушатся привычные, казавшиеся незыблемыми представления.
Машина (теперь я твердо в этом уверен) считала, что при встрече с чужой разумной жизнью такое потрясение неизбежно. Поэтому она выбрала самого молодого астронавта. Она рассчитывала на смелость иного, высшего порядка, а Зорох начал просто с нерасчетливо смелого жеста…
Я не хочу никого убеждать: это мое рабочее предположение, и только. Но, откровенно говоря, я рад, что Встреча (я привык обозначать это событие одним словом) началась так. Лучше, чтобы тот, кто впервые встретит человека, увидел его смелость, а не его осторожность.
Расшифровывая сообщение Зороха, я много думал о Встрече. Вся стратегия расшифровки основывалась на том, чтобы сначала понять, как произошла Встреча.
Я не пользовался, как обычно, информацией, отбираемой машинами. Все, что когда-либо писали о предполагаемой Встрече, я прочел сам. Фантастика, гипотезы, отчеты о дискуссиях, исследования астробиологов - я читал все, хотя на это ушло много времени. Не помню уже, когда в нагромождении фактов и контрфактов, догадок и контрдогадок появилось чтото похожее на систему. Сейчас я могу сформулировать свою мысль достаточно четко: предположения о Встрече тем ближе к истине, чем дальше мы уходим от геоцентрических позиций.
Когда-то Земля представлялась центром вселенной и человек считался единственным разумным существом - не было даже самой проблемы Встречи. С развитием науки люди поняла, каково в действительности место, занимаемое Землей в безграничной вселенной. Но такова уж инерция мышления: мы все еще думаем, что к нам должны прилететь, нас должны искать, нам должны посылать сигналы… Мы хорошо знаем, что Земля не центр мира. И все-таки мы хотим оставить себе (здесь-то проявляется инерция мышления) если и не главную, то равную роль. На этом построены все гипотезы. В идеале нам видится Великое Кольцо миров, соединенных радио- или оптической связью. В расчете на это мы планируем наши исследования - от первого радиопоиска по проекту ОЗМА до строительства Большого Солнечного Излучателя на Меркурии.
Почему же нам не удалось поймать сигналы чужих цивилиааций? Самый естественный ответ: их нет, этих сигналов.
Цивилизация есть, возможность посылать сигналы у них тоже есть, но они заняты другими делами. Эту предельно простую мысль заглушают остатки геоцентрических представлений: как так, ведь мы ищем, мы прикладываем к этому все усилия - значит, и нас должны искать…
Тусклое красноватое солнце поднималось над горизонтом, когда Зорох опустил планер на невысоком холме у самой границы Круга. Граница отчетливо просматривается на восстановленных снимках. Вдоль нее стелется бурый дым: какая-то сила не пускает его в пределы Круга. Зорох сделал два удивительных снимка: узкий лавовый поток доходит до границы, резко сворачивает и течет вспять - снизу вверх.
Круг имел непроницаемые границы, и все-таки Зорох нисколько не сомневался, что его пропустят: на планере смонтировано колесное шасси, рассчитанное на движение по гладкой поверхности Круга. Казалось бы, что стоит сначала проверить: пойти и самому перешагнуть через границу. Столкновение планера с незримым ограждением Круга могло привести к катастрофе. Но Зорох забрался в планер, и машина медленно (колеса вязли в пепле) пошла к Кругу.
Телепередатчик Зорох оставил у границы. Сделал он это не из предосторожности, а только для того, чтобы со стороны зафиксировать въезд в пределы Круга. Снимки сильно испорчены, но все-таки можно разглядеть, как тяжелый планер, раскачиваясь, катится с холма вниз.
Планер беспрепятственно, даже с некоторой торжественностью пересек границу. Потом Зорох остановил машину и вернулся за телепередатчиком. Он укрепил камеру передатчика на планере, под крылом, и она начала делать снимки с интервалами в пять секунд.
Круг мог оказаться каким-то естественным образованием.
Вначале я не исключал такой возможности. Но, изучая первые снимки, сделанные в пределах Круга, я понял, что Круг - это сложная машина, созданная очень развитой цивилизацией.
Впрочем, Зорох ни разу не говорит “машина”. Он называет это Порт Каменных Бурь. И тут же поясняет, что это похоже на стеклянное плато. Бегло, очень бегло рассказывает об этом Зорох!… А на снимках Порт Каменных Бурь кажется металлическим. Один снимок удалось реставрировать почти полностью: до горизонта простирается идеально ровная поверхность, матово отсвечивающая в косых лучах красного солнца. Зорох, однако, говорит, что поверхность Порта прозрачна. Там, в зеленоватой глубине, что-то непрерывно перемещалось, всплывали и таяли призрачные, мерцающие тени…
Почти пятьдесят часов (на Химере это четверо суток) планер оставался у границы Порта. Здесь не было “химеротрясений”, и Зорох, вероятно, думал только о Встрече. На то, что происходило за пределами Порта, он не обращал внимания.
Он не убрал планер, когда с гор устремилась, сметая все на своем пути, лавина камня и пепла. Лавина докатилась до самой границы. Почти отвесно взметнулся двухсотметровый КИПЯЩИЕ вал и мгновенно застыл, остановленный невидимым ограждением.
Прождав пятьдесят часов, Зорох отправился в глубь Порта.
Машина, быстро набирая скорость, бежала по зеркально гладкой поверхности.
Зорох искал “братьев по разуму”.
Примечательная деталь: автомат, управляющий телекамерой, раньше Зороха понял, что суматошная гонка ничего не даст. Камера была установлена под крылом планера и сначала включалась каждые три минуты. Автомат постепенно увеличивал промежутки между снимками, а затем вообще прекратил съемку.
Сообщение с “Дау”, эти семьсот сорок метров засвеченной пленки, я получил после того, как был проделан комплекс обычных реставрационных процессов. Уже тогда можно было - хотя и в самых общих чертах - разобраться в некоторых снимках. Хуже обстояло дело с восстановлением звука - наиболее ценной части сообщения (большинство снимков сделано автоматом, а звукозапись - это сказанное самим Зорохом). Мы быстро исчерпали немногие имеющиеся у нас дополнительные средства реставрации. Мне оставалось вновь и вновь слушать запись. Работа в высшей степени однообразная: раз за разом прокручивается лента - гул, треск, свист…
Варьируешь скорость, громкость, корректируешь тон, подбираешь звукофильтры, и вот сквозь плотную завесу шума прорывается слово. Одно слово, которое чаще всего ничего не дает… И все-таки нужно расшифровывать наугад десятки, сотни слов. В конце концов находишь ключевые слова и догадываешься, что записано до них или после них. Возникают предположительные фразы, протянутые - как редкий, часто рвущийся пунктир - сквозь всю запись.
Работа требовала тишины. Нужно было неделями жить в тишине, постепенно обострявшей слух. Я перебрался в Забайкалье, в маленькую лабораторию, расположенную на дне заброшенного рудного карьера. Здесь на километровой глубине была почти абсолютная тишина.
Террасы карьера, заросшие серебристой травой, круто уходили вверх, и только в полдень где-то в безмерной высоте ненадолго появлялось солнце. Место было диковатое и посвоему интересное. Добычу руды прекратили лет сорок назад.
Потом карьер долго служил полигоном для испытания подземоходов. В отвесных стенах террас зияли черные дыры уходящих вверх скважин, а на трещиноватом от взрывов дне карьера среди раздробленных камней лежали тяжелые корпуса старых машин.
Я почти не знаю, что это такое - подземоходы. Сейчас они не нужны, есть нейтринные анализаторы, легко просвечивающие планету. Я не пытался разобраться: просто ходил, смотрел, иногда с трудом протискивался в крохотные кабины, вспугивая полевок и пищух.
Метрах в двухстах от моей лаборатории из глубокой воронки поднимались металлические руки подземохода. Машины пе было видно, она осталась под землей. И только гибкие манипуляторы, пробив узкий ход, дотянулись до поверхности.
Они так и застыли, восемь рук подземохода, вытянутые вверх в последнем рывке и намертво вцепившиеся в камни.
По ночам над карьером, задевая красные огни на мачтах ограждения, стремительно летели плотные беловатые облака.
Где-то рядом проходила метеорологическая трасса, по которой облака перегоняли в монгольские степи. Ветер блуждал в скважинах и беззвучно приносил на дно карьера влажные запахи степной травы и скошенного сена.
Я быстро привык к тишине. На четвертый день, вслушиваясь в запись, я впервые уловил многократно повторяющуюся фразу. Вначале я даже не старался понять обрывки слов и слушал запись, как музыку. Ещё не расшифровав эту повторяющуюся фразу, я знал: Зорох говорит о чем-то исключительно важном.
Планер долго стоял в центральной части Порта Каменных Бурь. Потом Зорох отправился к границе и проехал вдоль нее километров двести. Планер медленно шел мимо частокола бурых скал, похожих на грубо обтесанные столбы. Часов через пять-шесть планер (все так же медленно) двинулся в обратный путь, к центру Порта.
Судя по снимкам, ничего не произошло. Но Зорох настойчиво повторял какое-то сообщение…
Сейчас трудно сказать, как именно пришла догадка. Однажды ночью облака расступились, растаяли, и над карьером возникло звездное небо. Четкая линия красных сигнальных огней на мачтах ограждения сразу затерялась среди бесчисленных звезд. Тогда, кажется, я и услышал слово “красное смещение” [Галактики как бы разбегаются во все стороны, и с тем большими скоростями, чем они дальше от нас. В соответствии с принципом Доплера - Физо линии на спектрограммах удаляющихся галактик сдвинуты к красному концу спектра.].
Пoрт Каменных Бурь, созданный чужой цивилизацией, противодействовал разбеганию галактик.
Если я правильно понял сообщение Зороха, таких машин было много. Расположенные в разных частях нашей Галактики, они образовывали единую систему. Мощность системы постепенно нарастала, и в дальнейшем разбегание соседних галактик должно было смениться их сближением.
Таков был Разум, с которым человечество встретилось в космосе.
Сейчас я отчетливо вижу основной просчет астробиологов.
Оаи рассуждали так.
Для возникновения жизни нужно, чтобы планета имела не слишком большую и не слишком малую массу. Планета должна быть не слишком близка к своему солнцу и не слишком от него удалена. Солнце на протяжении миллиардов лет должно излучать примерно постоянное количество энергии: не слишком большое и не слишком малое… Подобных ограничений набиралось так много, что вероятность обнаружения близ Земли обитаемых планет казалась ничтожной. Стоило ли удивляться, что на первый план выдвигалась одна проблема: как установить связь?
Для возникновения и развития жизни действительно нужно определенное сочетание условий. Но когда живые существа становятся разумными, они постепенно перестают зависеть от внешних условий. Они начинают менять эти условия, начинают управлять ими - прежде всего на своей планете, нотой в космических масштабах.
В нашей солнечной системе требуемое сочетание условий было только на Земле, но теперь обитаемыми стали и Луна, и Меркурий, и Венера, и Марс, и спутники больших планет…
Выход в космос неизбежно вел к встрече с высокоразвитой цивилизацией. Подчеркиваю: не вообще с чужой цивилизацией, а с такой, которая неизмеримо опередила нас.
Вероятность встречи с жизнью, только начавшей развитие, в самом деле мала - тут справедливы логика и расчеты астробиологов. Но для высокоразвитой цивилизация в космосе нет неподходящих условий. Завоевывая космос, такая цивилизация способна существовать везде, при любых условиях. Единственно неподходящими для нее являются как раз те планеты, на которых - в силу благоприятного сочетания условий - самостоятельно развивается своя жизнь. Эти планеты нельзя переделывать, а условия, благоприятные для одной формы жизни, почти всегда неблагоприятны для другой.
И еще одно обстоятельство.
Далеко перед фронтом распространяющейся в космосе цивилизации идут ее технические средства. С ними, с машинами на дальних окраинах чужого мира, нам прежде всего и предстояло встретиться.
Представьте себе, что обитатели заброшенного в океане островка решили впервые установить связь с другими странами. Островитянам, выросшим на клочке суши, казалось, что мир состоит из океана и разбросанных в нем островков, таких же маленьких, как их собственный. И вот они на берегу огромного континента. Берег пуст, и насколько хватает глаз никого не видно. Есть только башня, в круглом окне которой через равные промежутки времени вспыхивает и гаснет огонь.
Островитяне не знают, что это автоматический маяк. Они упорно ищут людей и лишь постепенно начинают догадываться, что обитатели этого колоссального острова где-тв очень далеко от берега, там, за высокими-высокими горами…
Зорох искал островок, подобный Земле. Или архипелаг, подобный планетам солнечной системы. Так думали все мы, не он один. Мы, например, тщательно разрабатывали линкос, нас беспокоило, как мы будем говорить при Встрече. А этой проблемы попросту нет. Цивилизация, с которой мы встретимся, давно располагает средствами, обеспечивающими взаимопонимание. Несоизмеримо важнее другое: что мы скажем тем, кто прошел путь в тысячи, в миллионы раз больший, чем прошли мы?
Об этом слишком мало думали.
Быть может, здесь сказалось влияние Великого Кольца - идеи эффектной, но по философской своей сути геоцентричной. Допустим, Великое Кольцо создано. Что это даст? Каждое сообщение будет идти десятки, сотни, может быть, тысячи лет. Установление контактов, если принять идею Великого Кольца, ничего не меняет: все, как и раньше, остаются на своих “островках”. Не случайно в романе, впервые выдвинувшем идею Великого Кольца, жизнь на Земле шла своим чередом, и поступающие по Кольцу сообщения практически не отражались на этой по-прежнему изолированной жизни.
Между тем, когда мы, обитатели маленького островка вселенной, впервые пристанем к берегу огромного континента, изоляция навсегда прекратится. И не будет более важного вопроса, чем вопрос о том, какое место мы, люди, займем в этом большом и новом для нас мире.
Просматривая книги, так или иначе связанные с проблемой Встречи, я выписал такие строки: “И тут мы подходим к серьезному вопросу: наблюдаем ли мы во вселенной такие “сверхъестественные” (то есть не подчиняющиеся законам движения неживой материи) явления? На этот вопрос ответить пока нельзя… А между тем не видно причин, почему бы, неограниченно развиваясь, разумная жизнь не стала проявлять себя в общегалактическом масштабе”.
Какие “проявления” нужны были? Разве в строении вселенной нет аномалий, которые естественнее всего объясняются созидательным действием Разума? Нельзя же ожидать, что - в порядке “проявления” - в небе вспыхнет надпись: “Пожалуйста, обратите внимание”…
Если я правильно понял Зороха, мощь развитых цивилизаций такова, что они способны вмешиваться даже в движение соседних галактик. Но тогда в пределах нашей собственной Галактики результаты деятельности Разума должны проявляться особенно ощутимо.
Здесь кончились данные, добытые дешифровкой сообщения с “Дау”. Дальше я должен был искать сам.
Нет, искать - не то слово. Мысль о том, что в самой структуре Галактики должны просматриваться следы разумной перестройки, сразу притянула множество фактов.
Изучение Галактики давно привело к открытию двух видов звездных скоплений - шаровых и рассеянных. Мы знали также, что в центре Галактики находится большое шаровое скопление, окруженное другими шаровыми скоплениями звезд. Но какая сила группирует звезды? Какая сила заставляет шаровые скопления, в свою очередь, группироваться вокруг центра Галактики? Пытаясь ответить на эти вопросы, рассматривали самые различные, порой очень сложные и тонкие факторы. Незамеченным оставался только один фактор - созидательная сила Разума.
Странно, например, почему не обратили внимания, что карликовые звезды, подобные нашему Солнцу, концентрируются именно в шаровых скоплениях. Уже одно это отделяет шаровые скопления от естественных рассеянных скоплений, образованных звездами-гигантами, лишенными планетных систем.
Впрочем, к идее искусственного происхождения шаровых звездных скоплений можно было прийти и иным путем.
Допустим, высокоразвитая цивилизация установила радиосвязь (или оптическую связь) с цивилизациями, возникшими близ других звезд. Что дальше? Переговоры? И через тысячу лет - переговоры, и через миллион лет - переговоры, и через миллиард лет - переговоры?…
Фантастика, отражая мечту человека, говорила: надо летать со скоростью, превышающей скорость света. Или использовать какие-нибудь, еще неизвестные нам свойства пространства для “сквозного” перехода из одной точки пространства в другую. Что ж, фантастика видела правильную конечную цель, но не могла (да и не была обязана) найти правильные средства.
При любых, сколь угодно больших скоростях звездолетов человечество в целом останется космически изолированным.
Быть может, поэтому даже в самых оптимистических рассказах о космосе присутствует некий пессимистический подтекст.
Огромные межзвездные расстояния и конечная скорость света сводят к нулю идею Великого Кольца. История и логика развития человечества, весь строй человеческого мышления (я бы сказал - сам стиль нашего существования) указывают иной выход: пусть трудное и долгое, но зато бесповоротное преодоление пространства и сближение с другими цивилизациями.
Потребовалось всего несколько тысячелетий, чтобы от бронзового топора прийти к космическим кораблям. Кто усомнится, что еще через двести или тысячу лет мы будем управлять движением Солнца?
Не переговариваться, сидя на своих “островках”, а объединяться в огромные звездные города - такова единственная возможность. А потом направлять шаровые скопления, эти звездные города, к центру своей Галактики, чтобы объединенной мощью взяться за решение сверхзадачи - сближение разделенных бездной галактик.
На какое-то время я забыл о Зорохе. Забыл, что там, на Химере, где-то в центре огромного Порта Каменных Бурь, стоял маленький планер. По привычной схеме Зорох должен был вернуться на корабль, чтобы лететь к Земле. Я еще не понимал, что Встреча научила Зороха мыслить иначе - так, как суждено вскоре мыслить всем нам.
Я был ошеломлен открытием, мне не сиделось в лаборатории. Я взбирался на террасы карьера, выходил наверх, в степь.
Пронзительно звенел ветер, и над бурой, выгоревшей за лето травой шли плоские, как льдины, облака. Временами мне казалось, что Земля, вся Земля мчится сквозь эти бесконечные облака…
Я лихорадочно перебирал накопленные астрономией сведения о структуре Галактики. Многое подтверждало мою гипотезу. Прежде всего поразительная благоустроенность (трудно подобрать другое слово) шаровых скоплений. В мире звезд - динамичном, подверженном колоссальным, подчас катастрофическим изменениям, - шаровые скопления резко выделяются своей устойчивостью. Они существуют давно, очень давно и не обнаруживают стремления к распаду. Именно там, в шаровых скоплениях, на планетах старых звезд скорее всего и должны быть высокоразвитые цивилизации.
В шаровых скоплениях нет сверхгигантских звезд, облаков космической пыли и газовых туманностей. Почему? Теперь я видел естественный ответ. Объекты, чуждые жизни или мешающие ее развитию, не могли быть в шаровых скоплениях, как не бывает в пределах города вулканов, болот или пустынь.
Но были доводы и против гипотезы. Если Разум - главный архитектор Галактики, то всюду (а не только в шаровых скоплениях) должны отчетливо просматриваться результаты перестройки.
Думая об этом, я пришел к идее заманчивого эксперимента.
Допустим, скорость света всего километр в столетие. Какой тогда увидит Москву человек, стоящий, скажем, на Ленинских горах? Ближайшие здания сохранят привычный вид.
Зато комплекс спортивных сооружений в Лужниках покажется таким, каким он был почти столетие назад, в двадцатом веке: без серебристых куполов, без шаровых бассейнов, без стартовой площадки для воздушных игр. А дальше - лес, Новодевичий и Андреевский монастыри, избы маленьких сел девятнадцатого и восемнадцатого веков. Там, где теперь поднимается гигантская башня Космовидения, были бы хаотически разбросанные постройки Шаболовской слободы. На месте Садового кольца (четыре километра - четыре столетия!) наблюдатель заметил бы свежеотсроенный Земляной вал. Кремль выглядел бы так, как шестьсот лет назад, при Иване Третьем.
А Красной площади и храма Василия Блаженного вообще не удалось бы увидеть: их построили позже, и свет не успел бы дойти до наблюдателя…
Вот так мы видим Галактику!
Скорость света велика, но конечна. Из дальних районов Галактики свет идет к нам десятки тысяч лет. Мы видим то, что было раньше: чем дальше от нас наблюдаемый район, тем больше разрыв во времени между видимой картиной и тем, что есть на самом деле.
Идея эксперимента состояла в том, чтобы внести поправку на время и рассчитать истинную структуру Галактики.
Ту структуру, которую мы бы видели, если бы свет распространялся мгновенно. Быть может, тогда отчетливее проступили бы признаки перестройки Галактики.
Однажды возникнув, идея уже не уходила, хотя я хорошо представлял сложность подобного эксперимента. В принципе, казалось бы, все просто. Известны расстояния до большинства звезд. Скорости звезд тоже известны. Значит, для каждой звезды можно вычислить место, где она должна находиться. Однако здесь-то и начинаются трудности. Движение звезд взаимосвязано. Скорости непрерывно меняются. Нужно вносить бесконечные поправки, это колоссальная вычислительная работа!
Мы, дешифровщики, находимся в особом положении. Мы имеем право пользоваться исследовательским оборудованием вне всякой очереди. В сущности, тут наши права безграничны.
Оставим в стороне модные, но не слишком точные аналогии между нашей работой и внутренней сутью науки, которая тоже есть дешифровка природы. Дело проще и строже.
От дешифровки подчас зависит жизнь людей, оказавшихся в аварийных ситуациях. Поэтому нам и дано право выбирать какое угодно оборудование. Однако еще ни разу ни один дешифровщик не воспользовался этим правом. Слишком большая ответственность - сломать ритм системы планомерно ведущихся исследований. Поднять шум без причины - значит не только перечеркнуть свою жизнь в науке, но и поставить под сомнение разумность самого права дешифровщиков на любое оборудование. А мы дорожим этим правом, оно еще может понадобиться.
Не буду отвлекаться и говорить о своих сомнениях. Но я создал бы ложное впечатление, не упомянув, что решение ставить эксперимент пришло после долгих колебаний.
Я не хотел покидать свою лабораторию в карьере. Большой город сразу нарушает “настройку на тишину”, а мне предстояло продолжить работу по дешифровке: я еще не знал, что случилось с Зорохом.
Координационный центр дал два дня на подготовку эксперимента. Вся информация должна была поступать сюда по существующим линиям оптической связи. Надо было только поставить приемную антенну и развернуть моделирующий экран.
Я закончил монтаж экрана за час до начала эксперимента, и этот час ожидания был очень нелегким. Я сидел на крыше домика перед огромным экраном, растянутым почти во всю ширину карьера. Белая пленка экрана, поддерживаемая невидимой в сумерках пневморамой, казалась совершенно неподвижной. Вероятно, Координационный центр предупредил метеорологов: за день до эксперимента наступил полнейший штиль.
Точно в назначенное время после коротких сигналов проверки на экране возникло объемное изображение Галактики.
Тысячи раз я видел - на рисунках, на макетах, на киносхемах - звездный диск с изломанными спиралями. Трудно передать это ощущение, но сейчас я смотрел на изображение Галактики так, словно видел его впервые.
По программе эксперимента разные типы объектов условно выделялись цветом. Все объекты, которые вряд ли могли быть связаны с разумной жизнью, имели желтый цвет. Гигантские звезды, диффузные и планетарные туманности, облака космической пыли образовывали плоский желтый диск. Яркую желтую окраску имели и спиральные ветви. На фоне этой “желтой” Галактики резко выделялись звезды-субкарлики и короткопериодические цефеиды[Пульсирующие звезды, светимость которых строго связана с частотой пульсации. Сравнив вычисленную по частоте пульсации светимость цефеиды с ее наблюдаемым блеском, можно легко определить расстояние до звезды. Поэтому цефеиды иногда называют “маяками вселенной], обозначенные голубым цветом.
“Голубая” Галактика была сферической и, я бы сказал, многослойной: большое шаровое скопление в центре Галактики окружали плотные “слои” других шаровых скоплений. Впрочем, внешние “слои” были уже не такими плотными: черными пятнами в них выделялись отдельные “незанятые места”…
Я попросил дать большее увеличение. “Желтые” районы Галактики сдвинулись к краям экрана. Теперь я увидел в “желтых” областях разрозненные или собранные в небольшие группы синие точки. Я почему-то подумал о нашем Солнце. Мысль была совершенно дикая: Солнце движется по направлению к созвездиям Лиры и Геркулеса, то есть к однсму из ближайших шаровых скоплений! Можйо, конечно, сказать, что это случайное совпадение. Можно сопоставить слишком малую скорость движения Солнца со слишком большим расстоянием до шарового скопления в Геркулесе.
Что же, вероятно, это и в самом деле случайное совпадение. Скорее всего я принимал желаемое за действительнее.
Едва осознав, что нам предстоит долгий путь, я невольно торопил события…
Экран на несколько секунд погас, потом снова осветился.
Началась основная часть эксперимента. Создать более или менее точную картину неподвижной Галактики сравнительно просто. Теперь для каждой звезды надо было внести “поправку на время”. Позже я узнал, что Координационный центр использовал уникальные машины серии “ОМ” и почти все вычислительные станции. Изображение Галактики на экране непрерывно менялось, и, хотя изменения были невелики, их можно было видеть!
По мере введения “поправок на время” структура Галактики определенно упорядочивалась. Четче вырисовывались “слои” шаровых скоплений вокруг центрального ядра.
Сами шаровые скопления, особенно удаленные от нас, принимали более правильную сферическую форму. Из центральных областей Галактики непрерывно и как бы по определенным маршрутам выбрасывались потоки межзвездной материи. Пространство между “слоями” шаровых скоплений становилось чище. Внутри шаровых скоплений увеличивалось число короткопериодических цефеид. Какую роль они играют в звездных городах-скоплениях? Быть может, это своего рода энергетические установки высокоразвитых цивилизаций?
К сожалению, это не единственный вопрос, на который я пока не могу ответить. Экран дает самое общее представление о результатах расчета, а окончательная обработка полученных данных потребует не одну неделю. И это еще не все, потому что мы будем ставить аналогичный опыт с системой галактик: при межгалактических расстояниях “поправка на время” намного больше и соответственно больше расхождение между наблюдаемой картиной и действительной. Возможно, удастся найти объяснение непонятному пока механизму взаимодействия галактик. Мы знаем, что гравитационных и электромагнитных сил недостаточно, чтобы объяснить эхо взаимодействие. Какие силы могут, например, создавать и пoддерживать перемычки, своеобразные “путепроводы”, между галактиками?…
Под утро, когда небо над карьером начало светлеть, изображение на экране почти замерло. Вычисления становились все белее громоздкими, новые данные вводились медленно.
Снова я ощутил странное чувство нетерпения. Хотелось как-то ускорить процесс, идущий на экране.
И вот тут я вспомнил о Зорохе: он должен был чувствовать то же самое, но в тысячекратно большей степени!
Что могло дать возвращение “Дау” на Землю? Все равно сообщение прибыло бы значительно раньше. Потерянное время… Время, которое отныне станет для человечества безмерно дорогим.
Значит, не возвращаться, а лететь вперед?…
Когда-то Зорох вылетел к 424-й с обычными, ставшими уже стандартной схемой представлениями о “братьях по разуму”.
По этой схеме все предрешено заранее: ведь они - братья.
Они могут быть похожими на нас как две капли воды, могут быть совсем иными, но они братья, и это, во всяком случае, предопределяет взаимный интерес, контакт и понимание.
Сначала события развивались в пределах этой схемы. Зорох обнаружил Круг и сделал верный вывод о Встрече с чужим разумом. Затем, когда Круг не допустил посадки первого планера, Зорвх принял опять-таки верное решение: высадиться близ границ Круга. “Братья по разуму” не торопились со Встречей, и Зорох (несмотря на надвигающуюся каменную бурю) остался на своем горном “космодроме”. Не сомневаюсь, что Зорох напряженно готовился к Встрече: в первые часы после высадки на Химере он действовал быстро и уверенно.
Это не только результат отличной профессиональной подготовки. Be всем, что делал Зорох, угадывается еще и вдохновение.
Зорок знал: вот она, долгожданная Встреча с “братьями по разуму”. При всей смелости и, я бы сказал, стремительности действий Зорох постоянно заботился о судьбе собранных им сведений. Каждые полчаса он выходил на связь с “Дау”. Случись что-нибудь с Зорохом, корабль сам ушел бы к Земле.
Однако ничего не случилось. Порт Каменных Бурь встретил Зороха доброжелательно, но без особого интереса. Теперь это понятно: в каждом шаровом скоплении множество планет с самыми различными формами жизни [Вероятно, поэтому никто не посылает нам сигналов. “Внешние” цивилизации, находящиеся на периферии шаровых скоплений, направляют все усилия на получение информации от “внутренних”, более развитых, цивилизаций. Для них это важнее, чем ведущиеся наугад поиски маленьких островков разума]. Я постепенно подходил к этой мысли, а на Зороха она обрушилась внезапно…
Говоря o величии разума, всегда имели в виду человека.
Мы привыкли гордиться силой его разума. Сотни, тысячи лет это было фундаментом человеческого самосознания. Именно поэтому так обостренно реагировали на малейшую - даже чисто теоретическую! - возможность появления “более умных братьев”. До сих пор нет роботов, способных мыслить на уровне человека, но споры не затухают второе столетие.
Да, мы охотно допускали, что во вселенной есть сравнительно более развитые цивилизации. У нас машины - и у них машины, но несколько лучше. У нас города - и у них города, но чуть побольше. У нас космические полеты - и у них космические полеты, но немного дальше… Можно понять, какая буря прошла в душе Зороха, когда рухнули эти привычные представления.
Что ж, поняв однажды, что Земля не центр мира, люди выиграли беспредельную вселенную. Точно так же мы ничего не потеряем, узнав о неизмеримо обогнавшем нас Разуме. Приобретем же мы многое, и прежде всего понимание будущего.
Рисуя будущее, романисты стремятся угадать детали - одежду, быт, технику. А какое это в конце концов имеет значение? Главное - знать цель существования будущего общества.
Мы ясно видим цели на ближайшие десятки лет. Но необходима еще и дальняя цель - на тысячи лет вперед. “Высшая цель бытия”. Смысл долгой жизни человечества. Это очень важно, потому что великая энергия рождается только для великой цели.
Предстоит долгий путь. Я даже приблизительно не могу сказать, сколько продлится путешествие к ближайшему шаровому скоплению. Быть может, сменятся несколько поколений.
И хотя не исключено, что с какого-то момента нам будут помогать, рассчитывать надо на свои силы. Мы будем как экипаж корабля, пересекающего великий и бурный океан вселенной.
Нет смысла преуменьшать трудности: будут штормы и будут тяжелые вахты. Дорогу в зазвездные дальние дали осилит лишь объединенное человеческое общество, навсегда покончившее с войнами и бесполезной тратой энергии. Общество, которое обеспечит условия для наилучшего развития каждого человека.
Вероятно, об этом думал и Зорох. Последние снимки сделаны ночью. Место, где стоит планер, освещено снизу мягким светом. Впечатление такое, будто свет пробивается сквозь очень толстое голубоватое стекло. А наверху - звездное небо.
Зорох сидит у планера и смотрит на звезды.
До сих пор не знаю, как Зорох говорил с Кругом. В восстановленной части сообщения об этом не сказано. Впрочем, если моя гипотеза верна, мы обязательно получим повторное сообщение с “Дау”.
Как я уже говорил, автоматы “Дау” должны были повторять сообщение каждый месяц. И если повторные сообщения запаздывают, значит, “Дау” удаляется от Земли. На корабле свой счет времени; полгода на Земле могут оказаться пятнадцатью-двадцатью днями по корабельному времени.
Машина, выбравшая Зороха командиром “Дау”, не ошиблась: встретив - первым из людей - разум чужого мира, Зорох не был подавлен его мощью. Неизмеримое превосходство чужого разума не парализовало веру Зороха в разум и возможности человека. Отправив сообщение к Земле, Зорох ушел на разведку дороги, которой когда-нибудь пройдем все мы.
Уже сегодня, сейчас, вот в этот миг, сквозь бескрайнее черное небо идут тысячи и тысячи планетных систем. Идут, чтобы объединиться и перестроить вселенную.
Настанет и наш час.
Небо, привычное небо, дрогнет, и, как облака над высокими мачтами, поплывут созвездия, медленно теряя знакомые очертания. А впереди будут разгораться новые звезды, сначала едва видимые, но постепенно набирающие яркость.
Их будет все больше, этих звезд, они заполнят небо, наше новое небо, в котором мы будем жить.
А. ШАРОВ Остров Пирроу,
история его кратковременного возвеличения и падения, составленная магистром историко-географических наук и членом-соревнователем Пирроуской Академии Фридрихом-Иоганном Таубергом
Казалось бы, жемчужная эпопея разыгралась так недавно, что в памяти должны быть свежи малейшие ее детали, а уже многие пытаются отрицать достоверность этих событий.
– “Жемчужникн”?! Сказки вы рассказываете о пресловутых “жемчужинках”, - сказал мне один человек, фамилию которого я не упоминаю из соображений такта.
Тем более своевременно придать гласности документы, освещающие эту эпопею; разумеется, только самые достоверные сведения и показания очевидцев.
О джентльмене с бакенбардами первое предварительное представление можно составить, выслушав таможенного чиновника Хосе Родригоса.
– Что поражало в интересующей вас персоне? - переспросил Хосе Родригос. - Четыре особенности выделили эту персону из двухсот тридцати двух пассажиров, сошедших в то утро с борта лайнера “Афина” и подлежащих согласно правилам таможенному досмотру. Во-первых, джентльмен носил бакенбарды, которые сейчас, при повсеместном росте культуры, не встретишь и у одного на миллион. И бакенбарды, если применить к столь архаическому предмету современную терминологию, нестандартные. Иссиня-черные, курчавые, они начинались в сантиметре от глаз, спускались несколько по скулам, но главнейшей своей порослью мощно устремлялись в стороны и вверх.
Во-вторых, персона поражала стройностью, здоровым румянцем и жгучим блеском больших черных глаз. Все это, особенно румянец, привлекало внимание потому, что на наш остров, как известно, прибывают люди, страдающие камнями во внутренних органах и отличающиеся нездоровым цветом лица; мы их между собой называем “желтяки”. Джентльмен с бакенбардами возник на фоне “желтяков”, прошу прощения, как майская роза в опавших и чернеющих листьях.
Родригос - человек маленького роста, худощавый; профессия наложила на него отпечаток: он педантичен, недоверчив, точен. Если он прибегает к метафорам, к тому, что может показаться поэтическими вольностями, то исключительно из стремления к полноте изложения.
– В-третьих, - продолжал Родригос, - джентльмен с бакенбардами обращал на себя внимание отсутствием багажа. Когда я вежливо обратился к нему: “Попрошу предъявить ваши вещи”, - он жестом фокусника выхватил из кармана большой носовой платок и помахал им в воздухе. Платок был белоснежный, отлично отглаженный, с широкой чернокрасной каймой. “И это все?” - спросил я. “Все”, - несколько вызывающе отозвался молодой человек.
Родригос замолк. Сверившись в своих записях, я заметил, что услышал только три особенности из обещанных четырех.
– Видите ли, - сказал Родригос, осматриваясь по сторонам, - четвертая… ну… э… э… деталь носит несколько иной характер. Но я не скрою ее. У нас, таможенников, - я говорю о старых, опытных работниках таможни, - вырабатывается профессиональная способность видеть предметы, спрятанные даже под светонепроницаемыми оболочками.
– Рентгеновское зрение? - попытался уточнить я.
– Предпочел бы не прибегать к научной терминологии, поскольку она вне моей компетенции, - недовольно произнес Родригос. - Просто у нас по долгу службы развивается способность видеть невидимое. Мой предшественник, Тибилиус Морико, заметил в живом гусе из партии, доставленной к рождеству солидной марсельской фирмой “Леон Боннар и К°”, бутылку Мартеля. Тибилиус так и сказал представителю Леона Боннара: “Мосье, в гусе… вон в том, с черным пером в хвосте, бутылка коньяка - Мартель 1923 года”. - “Вы спятили, милейший, у вас белая горячка! - развязно крикнул молодой и вертлявый представитель Леона Боннара. - В гусе нет ничего, кроме жира, гусиной печенки и мяса”. - “И все-таки, - настаивал Тибилиус Морико, - извольте уплатить 17 крамарро и 14 чиппито, причитающиеся за ввоз одной бутылки коньяка Мартель 1923 года. Иначе я поступлю по закону”. Представитель фирмы продолжал упорствовать, вследствие чего гусь был умерщвлен и вскрыт в присутствии портового врача и полицейского инспектора. Отчет о вскрытии смотрите в № 96 “Международного Таможенного Вестника”, страницы 47-65. Не скрою, Мартель оказался не 1923, а 1921 года; Тибилиус принужден был досрочно подать в отставку. Я привел этот произвольный пример в подтверждение того, что опытный таможенный чиновник обязан видеть любое из четырех тысяч восьмисот двенадцати родов изделий, облагаемых пошлиной, независимо от того, находится ли данное изделие на виду или скрыто под какими-либо покровами.
Родригос часто замолкал, как человек, приближающийся к цели, отклониться от которой он не вправе, а коснуться не решается.
– Что же вы обнаружили у человека с бакенбардами? - поторопил я.
– Вы хотите знать? - Родригос выпрямился. - Если это желание диктуется обстоятельствами дела, извольте. У джентльмена с бакенбардами не было ничего, кроме упомянутого носового платка. Ни-чего. Запишите это, как официальное показание. Но в нем заключалось нечто, и именно это важнее всего; нечто, не входящее в число облагаемых пошлиной четырех тысяч восьмисот двенадцати родов изделий. Нечто, я бы сказал, роковое. Надеюсь, вы воспримете это слово как деловой термин. В вечернем рапорте я так и доложил: “Особых происшествий не было, кроме того, что на остров прибыла персона, заключающая в себе нечто роковое”.
Теперь остановимся вкратце на экономике, демографии, истории и некоторых особенностях законодательства острова Пирроу, или, как он именовался в описываемое время, Независимого Курортного Президентства. Главным естественным богатством острова, расположенного в благодатном тропическом поясе, являются не финики, не кокосовые пальмы и даже не белые слоны. Главным богатством острова являются знаменитые MB - минеральные воды, вызывающие выделение из организма губительных камней, образующихся по разным причинам, касаться которых здесь неуместно, во внутренних органах: камней в почках, камней в печени, камней на сердце и, наконец, камней за пазухой (по-пирроуски - лапидус тумарикото).
Целебные свойства минеральных вод Пирроу были открыты еще во времена президента Грегуара Гримальдуса. Именно в ту эпоху компания “Зевс” наладила вывоз целебных вод во все концы света. Как известно, спустя двадцать один год генерал Плистерон, впоследствии Верховный Президент, без санкции законодательных органов издал декрет, запрещающий дальнейший вывоз вод. Многим еще памятно, что произошло, когда танкер “Зевс III”, прибыв к грузовым причалам Пирроу, встретил вместо опытных мастеров, готовых, как обычно, присоединить шланги к емкостям танкера, цепь молчаливых и решительных солдат национальной гвардии.
Между Плистероном, сохранявшим совершенное спокойствие, и разъяренным капитаном танкера произошел исторический разговор, опубликованный в “Курьере Пирроу” и перепечатанный всеми газетами:
Капитан. Какого дьявола вы самоуправствуете? “Зевс” терпит убытки, мы этого не допустим! Немедленно отмените ваше идиотское распоряжение!
Плистерон. Еще одно оскорбительное слово, и вы будете заключены под стражу. Извольте запомнить раз и навсегда, что историческое дело освобождения человечества от камней - камней в почках, камней в печени, камней на сердце и камней за пазухой (лапидус тумарикото) - дело, которое приведет к бескаменному, или золотому, веку, суверенный остров в лице его властей берет исключительно и полностью на себя. Люди будут освобождаться от камней только здесь, под нашими пальмами, среди нашего океана, уплачивая нам соответствующие налоги.
Капитан. Вы захлебнетесь в вашей зловонной воде, проклятый шут!…
Выкрикивая это и великое множество других вызывающих выражений, капитан удалился на свой корабль, который, не сбавляя огня в топках, готовый к отплытию, стоял у второго пирса.
События развивались с невиданной быстротой. Один за другим к шгреам Пирроу пристали остальные танкеры фирмы “Зевс I”, “Зевс II” и гигантский, только что отстроенный красавец “Зевс X”.
Фирма еще надеялась победить и терпеливо выжидала.
Действительно, к концу месяца цистерны хранилища минеральных вод оказались переполненными. На трибуну Национального Собрания поднялся старейший депутат Туомето Гамарро и произнес патетическую речь, которую мы публикуем (впервые) пo секретным отчетам.
– Количество камней, обременяющих организм человечества, если дозволено будет образно представить себе таковой, растет, и вместе с тем приходит в упадок мораль, сокращаются сроки цветущей молодости, розовые ланиты желтеют, а синие глаза блекнут, - прерывающимся от волнения голосом начал престарелый депутат. - Нравы ожесточаются, фирмы, производящие MB - минеральные воды, красу и гордость Пирроу, терпят убытки и прекращают платежи; на голубое небо ложатся черные тени. MB переливаются через серебристые борта резервуаров и текут по улицам. Опомнитесь, граждане!
На этом месте протокол обрывается словами: “Речь закончена в связи с исчерпанием времени, отведенного по регламенту; заседание прервано”.
По свидетельству депутатов оппозиции, протокол не передает бури, потрясшей в тот день Национальное Собрание.
Престарелый депутат отнюдь не исчерпал времени. Со слезами на глазах, превозмогая волнение, он со свойственной ему обстоятельностью только приступал к изложению главных аргументов, когда на трибуну в сопровождении взвода национальных гвардейцев поднялся Плистерон и за бороду (это следует понимать отнюдь не фигурально) стащил Гамарро с кафедры. Залп из автоматов (в воздух) восстановил тишину.
В этой могильной, по выражению осведомленного депутата “центра”, тишине Плистерон негромко, четким командирским голосом зачитал свойЛервый декрет.
– Во-первых, - обнародовал он, - отныне остров Пирроу будет именоваться Наследственным Независимым Курортным Президентством Пирроу. Во-вторых, вся жизнь Президентства будет подчинена следующей Главной формуле: “Цель Президентства - безотлагательное установление бескаменного, то есть, яо прежней терминологии, золотого, века путем введения внутрь (насильственного и добровольного) соответствующих MB. Все, что способствует этой цели - а что именно способствует цели, устанавливается Наследственным Президентом, - является моральным и поддерживается всеми вооруженными силами Президентства. А все, что мешает цели - а что именно мешает скорейшему осуществлению цели, устанавливается опять-таки Наследственным Президентом - является преступным и преследуется всеми вооруженными силами Президентства”. В-третьих, Наследственным Президентом назначаюсь Я, Плистерон, которого впредь надлежит именовать - Рамульдино Карл Великий Плистерон Мигуэль Первый. В-четвертых, все остальные законы отменяются.
Первый декрет был не венцом, как полагают некоторые историки, а лишь началом реформаторской деятельности Наследственного Президента, охватившей все многообразие общественной жизни и явлений природы.
Вскоре, произнося речь по поводу переименования Пирроуской Академии Наук, Плистерон высказал Основополагающие Идеи.
– Еще Наполеон в своем Кодексе стремился к лаконичности, - отметил Президент, - но остановился на полпути. Недостаток предшествующих законодательных систем состоит в том, что они изложены словами, а слова порождают различные толкования и, следовательно, разномыслие. Напротив, уличное движение регулируется знаками, которые толкования и разномыслие исключают. Законы, как комбинации слов, наводят на предположение, что могут существовать лучшие образцы комбинаций слов, то есть рождают критиканство. Знаки же, напротив, своей ясностью исключают критиканство и возможность разногласий. Поэтому отныне Я - Плистерон Великий - ввожу принцип бессловесности и знаков, как единственный и основополагающий. Кодексы - Гражданский, Уголовный и прочие - заменяются Церемониалами. Первым мною разработан Церемониал заключения под стражу. Требование слов, то есть признаний при судебном процессе, обусловило пытки и другие насильственные меры дознания, что противоречит основам гуманизма и не может быть терпимо в предвидении бескаменного века. Церемониал, полностью исключая применение слов, восстанавливает - вернее, впервые вводит - последовательный гуманизм. Кроме того, он делает излишним судоговорение и само существование громоздкого судебного аппарата. Согласно Церемониалу гвардеец, или другое уполномоченное лицо, или лично Мы, Наследственный Президент, отрезаем пуговицы у обвиняемого, тем самым устанавливая его виновность и лишая всех прав.
В противоположность Римскому праву Система Церемониалов Плистерона получила впоследствии наименование “Пуговичное право”, а Пиррруская Академия Наук была переименована в Высшую Пуговичную Академию.
Юридические основы Речи Плистерона вызвали на свет обширную литературу. Читателей, интересующихся теоретически-правовой стороной нового гуманизма, мы вынуждены отослать к трудам специалистов.
В связи о новым Церемониалом в пределах Пирроу были отменены “молнии”, а ношение пуговиц было признано обязательным для лиц обоего пола и всех возрастов.
В качестве курьеза отметим, что по ошибке переписчика в запретительном документе были указаны не застежки-”молнии”, каковые имел в виду Реформатор, а молнии вообще.
Вследствие такой оплошности изменилась самая природа острова Пирроу, где чрезвычайно часты грозы. Гром сохранился, но электрические явления, именовавшиеся молниями, были заменены особого рода фейерверками. Впоследствии в целях единообразия Наследственный Президент отменил и все другие электрические явления, кроме необходимых для нужд Гвардии Плистерона, телеграфно-телефонного ведомства и президентского телевидения.
Лоно Капрзно, поэт, певец эры Плистерона и самого Наследственного Президента, откликнулся на все происшедшее следующими стихами: Из тьмы предшествующих эпох Извлек он солнце, словно бог.
И Пуговица солнцем стала, Она над миром воссияла…
…Одновременно с новыми Церемониалами был опубликован еще один важнейший декрет: “Излишки MB, скопившиеся в цистернах, Я, Рамульдино Карл Великий Плистерон Мигуэль Первый, приказываю выпустить в море”.
В исторической справке нельзя умолчать о том, что обнародование последнего декрета вызвало некоторые, сразу, впрочем, ликвидированные, осложнения. Капитан танкера “Зевс Ш” во главе добровольцев из своего экипажа попытался прорваться сквозь цепи гвардейцев, надеясь возглавить народное недовольство, но отступил под залпами Гвардии.
В тот же час MB из цистерн и бассейнов были выкачаны в море, и это вызвало такие неожиданные катаклизмы, что бунтари, сложив оружие, бросились к берегам, привлеченные тем, что можно сравнить только с воображаемыми картинами светопреставления. Массы желтовато-малиновых МБ, смешиваясь с лазурными водами океана, оказывали то же действие, какое они производят в организме, но только в гигантских масштабах. За считанные минуты массивные пирсы были изъедены MB и превращены в фантастическое каменное кружево, сквозь которое просвечивало закатное солнце. Прибрежные скалы дробились и падали в океан вместе с любопытствующими, толпившимися на их вершинах. Крики и стоны женщин, видящих, как их мужья и братья гибнут в пучине, сливались с ревом океана. Там, где скалы обрушивались, в небо вздымались столбы вспененной воды, от заката красной как кровь. Киты, подброшенные волнующимся океаном на высоту двадцатиэтажного здания, издавали страшные вопли, хотя это и противоречит данным зоологии, отрицающей наличие у китов голосовых связок. Вид этих гигантских чудищ, на мгновение как бы повисавших в чуждой им воздушной стихии, производил потрясающее впечатление.
Миллионы птиц, исстари гнездившихся в отвесных скалах Пирроу, вылетали из обреченных гнезд. Гонимые ужасом, они летели в открытый океан. В воздухе становилось все темнее от множества крыл, от водяных брызг, от китов и рыб, которые, отчаянно трепеща плавниками, носились над головой, от бабочек, летящих в открытый океан. Крупнейшие ученые утверждают, что именно ураган, вызванный титаническими усилиями множества крыл, ластов и плавников, спас остров от гибели. Ураган этот образовал огромные валы; невиданной силы отлив отогнал желтовато-малиновые MB далеко.в океан.
Любопытно отметить, что о событиях, которые мы попытались - весьма неполно, к сожалению - описать, вышедший на следующий день номер “Курьера Пирроу” не упоминал ни в одной строке, а об иных явлениях природы было сообщено только, что “литопого - местная разновидность кодибри - вьет гнезда”. Нельзя не усмотреть в этом полное величая благоразумное спокойствие.
В приказе Рамульдино Карла Великого Плистерона Мигуэля Первого по Гвардии говорилось: “Движение Наследственного Независимого Курортного Президентства к славе продолжается с возрастающей быстротой. Разбушевавшейся стихии Верховное Командование противопоставило вчера стратегический маневр, осуществленный всеми летающими силами Наследственного Президентства.
Вихрь, поднятый по нашему приказу при помощи крыл бабочек, cрдов, ласточек, летающих рыб, стрекоз и восторженных кликов жителей острова, не только отогнал стихии, но и обратил в бегство танкеры “Зевс”, которые никогда больше не будут угрожать нашим священным берегам”.
Гвардейцы слушали приказ, стоя по команде “смирно”.
В порту время от времени надламывались и с легким всплеском погружались в глубину истончившиеся почти до состояния бесплотности каменные кружева пирсов. Танкеры “Зевс” полным ходом уходили к континенту. В авторитетную международную организацию были внесены две резолюции. Одна рекомендовала обратить внимание на бедствие, поразившее Пирроу, вторая - на бесчеловечные акты нового Президента, приведшие к серьезным лишениям население острова и замедляющие начатое человечеством движение от каменного к бескаменному веку.
Резолюции не были приняты вследствие изобилия поправок и резкого протеста представителя Наследственного Независимого Курортного Президентства.
А птицы между тем возвращались в уцелевшие гнезда, те же, гнезда которых погибли, с жалобными стонами носились над берегом.
Именно в эти дни известный уже нам персонаж, условно именуемый человеком с бакенбардами, купил в одном из европейских портов билет на лайнер “Афина”, легкой походкой, без всякого багажа, поднялся на палубу первого класса, помахал кому-то невидимому белоснежным платком с чернокрасной каймой и удалился в свою каюту.
“Лайнер “Афина”, - записал он вечером в дневнике, подлинность которого оспаривается, впрочем, некоторыми исследователями. - Все в современном стиле: пластмасса, стекле, металл, ценные породы дерева. В окраске кают приятное преобладание красных и черных мотивов. За иллюминатором пустота, серая гладь океана. В перспектива MB, Плистерон.
Остается найти третью точку для построения треугольника, смысл которого в том, чтобы все осветить и в с е перечеркнуть. Перечеркнуть пространство, прикрытое камуфляжем, под которым серость и тоска, и осветить его на всю, одним лишь моим шефом измеренную, неизмеримую глубину”.
Стюардесса, обслуживающая каюту “люкс”, занятую человеком с бакенбардами, отозвалась о своем пассажире, как об изысканно вежливом джентльмене. “Излишне вежлив, - сказала она. - Теперь каждый позволяет себе бог знает что в первую же минуту, а он…” Стюардесса похожа на других представительниц ее профессия. Это хрупкая, но решительная миниатюрная блондинка с милой улыбкой на сложенных сердечком губах и красивой фигуркой.
– Были у пассажира странности? - поинтересовался я.
– О, никаких. Но он был необычайно красив.
– И это все?…
– Пожалуй. Хотя вот… Не знаю, интересно ли это… Когда я утром оправляла джентльмену постель, то на подушке, несколько выше вмятины от головы, мне бросились в глаза две прожженных в наволочке дырочки. Я даже позволила себе заметить джентльмену, что следует курить осторожнее, иначе недолго сжечь корабль. Он улыбнулся, потрепал меня по щеке л пошутил: “Ничего, милочка, я сжигаю не корабли, а миры, мелочи не по моей части…” Кроме того, джентльмен имел обыкновение исчезать. Один раз он… ну, словом, мы проводили с ним время в запертой каюте, и вдруг он исчез. Я даже была несколько раздосадована… Впрочем, через минуту он возник вновь. Покидая лайнер, джентльмен улыбнулся и положил в мою сумочку ассигнацию в десять тысяч пирроуских крамарро; никто никогда не дарил мне таких денег.
Я поблагодарила и спросила в шутку: “Не думает ли джентльмен купить мою душу?” - “Я уже говорил вам, милочка, что мелочами не занимаюсь”, - ответил он.
Особая сложность такого рода исторических разысканий заключается в том, что прихотливым течением событий исследователь то и дело понуждается к вторжению в области, находящиеся вне его компетенции: таможенное право, психология, медицина. Вот и теперь мы вынуждены прервать повествование, которое только-только вошло в спокойное русло, чтобы сообщить некоторые сведения о природе MB, их действии и результатах применения.
“MB острова Пирроу, - говорится в четвертом томе курса “Практическая аквалогия” профессора Грациодоруса, - отличаются от всех известных науке минеральных вод характером вызываемых ими изменений энергетических полей и электрических зарядов. Создавая на легочной поверхности отрицательный потенциал, пирроуские MB одновременно сообщают мощный положительный заряд всем без изъятия каменным включениям организма, где бы они ни образовались, и вызывают движение упомянутых каменных включений по кровеносным и лимфатическим сосудам к дыхательным органам.
Попав в легкие, каменные включения совершенно безболезненно выделяются при дыхании; любопытный процесс этот довольно точно изображен в известной поэме “Бескаменный век”: “И как зефира дуновение, в одно прекрасное мгновение из уст их камень вылетал”.
Поскольку и в таком фундаментальном научном труде крупнейший специалист прибегает к помощи муз, мы также считаем небесполезным оживить изложение и попытаемся набросать полную глубокого смысла картину выделения камней, или, как говорят ученые, “декаменизации”.
Утро - лучшее время суток на острове Пирроу. По тенистым пальмовым аллеям больные задумчиво движутся к украшенной фонтанами центральной площади, где, отгороженная решеткой, высится пирамида камней разной величины и различной окраски. Рядом с пирамидой - отлитая из чистого золота гигантская статуя Святого Рамульдино Карла Великого Плистерона Мигуэля Первого, одного из немногих святых, котерым этот титул по справедливости был присвоен прижизненно.
Тихо. Огромные бабочки порхают над цветниками, на ветвях магнолий поют птицы.
Больные останавливаются у бассейнов, наполненных различными сортами MB, пьют воду, зачерпнув ее фарфоровой кружкой, и замирают в неподвижности.
Тишина. Только время от времени то тут, то там раздается легкий кашель. Из уст одного больного вылетает нечто почти невесомое, подобное асбестовым нитям, из уст других - песчинки, круглые камушки, похожие на дробь, а иногда и массивные каменные ядра с неровной поверхностью или даже каменные глыбы, похожие на могильные плиты, вызывающие при падении сотрясение почвы.
Лица больных после декаменизации освещаются внутренним сиянием.
Высоко над площадью в небе висят сигарообразные аэростаты: это на случай налета воздушных пиратов, которые попытались бы похитить MB.
Такие налеты уже бывали.
Ровно в десять над площадью и над всем Наследственным Независимым Курортным Президентством звучит гимн: “Слава, слава Плиcтерону, хоть святому, но живому”.
Под маршевую музыку и крики “ура”, в сопровождении национальных гвардейцев появляется сам Плистерон. Скрестив руки на груди, он останавливается перед своей статуей. Стоит минуту, не шелохнувшись, размышляя (о чем думают великие люди, догадываться бесполезно), и удаляется.
Снова звучит гимн. Больные спешат принять прописанные им процедуры, но площадь не пустеет. Напротив, она заполняется многочисленными группами туристов. Прислушаемся к гиду, из слов которого мы почерпнем квинтэссенцию истории Наследственного Президентства и суть событий в других частях света, вызванных деятельностью Президента.
– Обратите внимание на массивные иззубренные плиты и тяжелые камни, - говорит гид. - На них зиждется не только обозреваемая вами пирамида, но и самая слава Президентства. Это лапидус тумарикото - камни за пазухой. Взглянув на них, мы сейчас же вспоминаем историю государства Зет, где на пост главы государства баллотировались два широко известных, достоуважаемых и опытных деятеля, каковых мы будем именовать, из дипломатических соображений, Икс и Игрек.
Светила образованности и ума, мудрые военачальники, глубокомысленные мыслители. Кому из двоих отдать предпочтение? Вот перед какой дилеммой были поставлены жители просвещенного государства Зет.
Иксу? Но об Иксе было известно, что он убил вдову с тремя детьми, ограбил банк и высказался в том смысле, что истребление одного или двух миллиардов людей из наличных на земном шаре трех миллиардов приведет только к повышению материального уровня оставшихся жителей соответственно на тридцать три и одну треть или на шестьдесят шесть и две трети процента.
Игреку? Но этот последний, не убив вдовы с тремя детьми, не совершил и поступков, которые показали бы его человеком действия, и никак не обосновал, чем именно он собирается повысить жизненный уровень населения на шестьдесят шесть и две трети или, на худой конец, на тридцать три и одну треть процента.
Итак, Икс или Игрек? Человек действия или его противник?
Страсти накалились до предела. В уличных схватках сторонники Икса пристрелили девятнадцать тысяч сто семь сторонников Игрека. В свою очередь, приверженцы Игрека повесили пятнадцать тысяч четыреста двух “иксистов”. Кровь лилась рекой. Все же чаша весов склонялась в сторону Игрека.
Решающую роль сыграли вдовы, количество которых резко увеличилось в ходе предвыборной кампании: Икс, естественно, внушал им опасения.
За три месяца до выборов опросы показывали, что семьдесят пять процентов избирателей отдают предпочтение Игреку.
“Игрек-вестник” вышел с огромным заголовком: “Наше дело в шляпе”. Орган враждебной партии “Вопль Икса” ответил передовой с загадочной концовкой: “Из шляпы опытный фокусник может вытащить попугая, яичницу, даже кошку, но не главу государства”.
Количество речей, произнесенных Иксом и Игреком, возрастало в геометрической прогрессии, как вдруг Икс замолк.
Уже объявленные митинги были отменены. Распространились слухи о неожиданной кончине или даже убийстве Икса.
“Вопль Икса” сухо опроверг эти слухи. За десять дней до выборов в туманной передовой он писал: “Поживем - увидим”.
Что же происходило с Иксом? Прибыв в глубокой тайне на наш остров в качестве личного гостя Святого Рамульдино Карла Великого Плистерона Мигуэля Первого, он принял форсированный курс лечения; в положенный срок, за три дня до выборов, лапидус тумарикото выделился из него и обрушился на землю.
К сожалению, леди и джентльмены, синьоры и синьорины, мы не можем продемонстрировать вам этот исторический камень. Отметим только, что при сравнительно небольших размерах он обладал неслыханно тяжелым весом и при падении вызвал сильнейшие колебания почвы. Сейсмическая станция, расположенная в тысяче километров от Пирроу, отметила землетрясение силой в девять баллов; по всему острову прошла глубокая трещина, только на сорок пять сантиметров не достигшая земной оси. В речи по этому поводу Святой Рамульдино Карл Великий Плистерон Мигуэль Первый Мудрейший (именно тогда титул “Мудрейший” был присоединен к остальным титулам) сказал:
– Мы шли на риск, но риск оправдал себя. Земля почти раскололась, но центральный стержень выдержал, и Наследственное Президентство по-прежнему гордо высится среди необозримого океана, отныне являясь светочем и единственной надеждой от края и до края вселенной для всех, кто намерен занять выборные начальственные должности, от самых низших и до самых высоких…
Выражение “от края и до края вселенной” следует понимать буквально. Незадолго перед землетрясением Плистерон Мудрейший, несмотря на возражения одного академика, одного учителя начальной школы, упомянутого уже престарелого депутата Национального Собрания и двух гимназистов, законодательным актом вернул земле естественную и понятную плоскую форму вместо неестественной и противоречащей разуму формы шарообразной. Отметим, что оба гимназиста оказались заядлыми троечниками по поведению, престарелый депутат давно выжил из ума, академик содержался в тюремной камере и, не видя Земли, не мог иметь о ней трезвых суждений, а учителя начальной школы нечего принимать в расчет, поскольку он обязан думать только то, что включено в последние программы, а не то, что из последних программ исключено.
Слова Плистерона о величественной судьбе острова оказались пророческими, - продолжает гид. - Лишь только камень выделился из-за пазухи Икса, улеглись отголоски землетрясения, сопровождавшего падение камня, и щель, прорезавшую остров, залили бетоном, Икс вместе с Плистероном, с лапидус тумарикото гигантус (так официально был окрещен этот камень) и упряжкой белых слонов (элифантус мусторопико клегуарро) на личном дирижабле Наследственного Президента прибыли в столицу государства Зет.
К тому времени, то есть за сорок восемь часов до выборов, опросы неизменно показывали: за Икса - два процента избирателей, за Игрека - девяносто восемь процентов.
Вступление Икса в столицу государства Зет можно сравнить с легендарными триумфами римских цезарей. Впереди упряжка из десяти белых слонов везла стальную платформу, обитую серебряными листами; на ослепительно сверкающей платформе покоился лапидус тумарикото гигантус. На экранах телевизоров было хорошо видно, что слоны изнемогают от непосильной тяжести груза; на их белой коже выступали крупные, величиной с арбуз, капли пота.
Вечером состоялся митинг, заключающий предвыборную кампанию; он также передавался по телевидению. Первым выступил Игрек. Он изложил обширную программу реформ, мероприятий и реконструкций, чем, по мнению обозревателей, несколько утомил внимание телезрителей. Вслед за Игреком на трибуну под руку с Плистероном поднялся Икс. Серебряными голосами запел сводный оркестр фанфар. Сквозь расступившуюся толпу слоны под музыку ввезли платформу с гигантусом.
– Сограждане, - сказал Икс, - у меня был камень за пазухой, но теперь у меня за пазухой его нет. Может ли сказать это о себе Игрек?
Икс стал спускаться по покрытым малиновым ковром ступеням. Плистерон поддерживал его. Усталые слоны тяжело дышали. Снова прозвучали фанфары. Лицо Икса было бледно, но выражало величие и полную бескаменность. (Именно тогда возникло и вошло во все языки это выражение - “бескаменность”.) Одинокий женский голос выкрикнул:
– Отдай нам вдову Смите и ее трех деток - Била, Майкла и Сервилиуса!
Вопль наемницы Игрека заглушили приветственные крики: “Слава Иксу! Слава Иксу, другу Плистерона!!!” Икс остановился на нижней ступеньке, поднял руку в знак того, что сам желает ответить хулительнице, и в воцарившейся тишине произнес:
– Даже если бы на моей душе было не только достойное осуждения умерщвление почтенной вдовы Смитc и ее детей Била, Майкла и Сервилиуса, но и тысячи других подобных, противоречащих морали поступков, то все они там…
Величественным жестом Икс показал на камень, лежащий на платформе, и тихо закончил:
– Мой уважаемый противник не имеет права сказать о себе того же…
Икс одержал ошеломительную победу: девяносто два процента избирателей отдали свои голоса ему. Даже монолитный отряд вдов - верная гвардия Игрека - раскололся.
Плистерон возвратился в Пирроу, - взволнованно, все повышая и повышая голос, заканчивает гид свое повествование.
– В ознаменование исторических событий Национальное Собрание постановило переименовать Горбы - поросшую колючим кустарником холмистую местность в центре острова, где водились белые слоны и обитали туземные племена, - в Кордильеры Плистерона Победоносного. По предложению независимой группы депутатов было официально декретировано начало Новейшей эры, летосчисление которой решено вести со дня вступления на пост Наследственного Президента, Святого Рамульдино Карла Великого Плистерона Мигуэля Первого Мудрейшего и Победоносного. Итак, занялась заря Новейшей эры, леди и джентльмены, синьоры и синьорины!…
Выйдя утром седьмого дня первого месяца Новейшей эры из ворот таможни, джентльмен с бакенбардами направился вверх по набережной Магнолий, смешиваясь с толпой и одновременно резко выделяясь привлекающей внимание женщин красотой и изящной, фланирующей походкой. На ходу он помахивал ореховой тросточкой с резной костяной ручкой.
Таможенный чиновник Родригос, который, обладая исключительно острым зрением, по непонятному для себя побуждению издали следил за незнакомцем, пробормотал вполголоса: - Ставлю сто крамарро против дохлой кошки, что, когда эта персона минуту назад стояла передо мной, тросточки в руках у нее не было. Откуда же тросточка появилась?
Родригос покачал головой, поморщился, словно от сильнейшей головной боли, и скрылся в помещении таможни.
Набережная Магнолий ограничена слева невысоким мраморным парапетом. За ним открываются отлогие пляжи, покрытые золотистым песком, и дальше, за кромкой прибоя, спокойное море, зеленовато-синее в этот ранний час, чуть подкрашенное розовым. А справа, за шпалерами магнолий, пальм и платанов, в некотором отдалении друг от друга возвышаются отели: стекло, бетонные плоскости, веранды под цветными тентами, дикий виноград, поднимающийся по стенам.
Джентльмен с бакенбардами шел не торопясь, зорко глядя по сторонам. Время от времени по мраморным ступеням сбегали к пляжам стройные девушки в модных купальниках под развевающимися халатиками. Человек с бакенбардами провожал девушек продолжительным, почти отеческим взглядом.
Между тем время шло, пассажиры лайнера сворачивали один за другим в ближние отели, и человек с бакенбардами вдруг заметил, что остался совершенно один на широком проспекте, затененном пальмами. Улыбка сошла с его лица. Он вытянулся, как бы вырос, решительно свернул в узкий переулок, остановился перед невзрачным одноэтажным коттеджем с крошечной вывеской “Пансион мадам Мартинес” и, распахнув дверь, подошел к конторке, за которой сидела сама хозяйка - полная женщина, в нестаром, еще миловидном лице которой угадывались доброта и спокойствие.
– Номер! - коротко бросил человек с бакенбардами.
– К величайшему сожалению, синьор, - не поднимая головы, мягким грудным голосом отозвалась хозяйка, - все двенадцать номеров моего маленького заведения уже заняты.
– Тогда мне придется взять номер тринадцатый, - резко и быстро проговорил человек с бакенбардами. - Ничего, я лишен предрассудков. Пишите: Жан Жаке, негоциант из Манилы. Поторапливайтесь, синьора. Готово? Теперь проводите меня…
– Не знаю почему, но я механически выполнила все требования странного клиента, - вспоминала впоследствии синьора Мартинес. - Я записала продиктованное имя и пошла впереди по коридору, знакомому мне каждой щелочкой паркета и каждой царапиной на стенах вот уже двадцать лет, с тех пор как мой бедный муж безвременно погрузился в океанские волны и я вынуждена была открыть пансион. Я сделала сто семнадцать шагов, то есть прошла весь коридор, остановилась и уже хотела сказать: “Вот видите, синьор, к сожалению, я располагаю только двенадцатью номерами”, - но взглянула и промолчала. Рядом с дверью номера двенадцатого, обитой тисненой голубой кожей, я увидела еще одну дверь, грубого черно-красного цвета, с эмалированной табличкой, где значился номер 13.
Я чуть не потеряла сознание от потрясения, вызванного необъяснимым явлением, - ведь я только женщина, и женщина слабая, подверженная мигреням и обморокам, особенно после кончины бедного моего супруга, покоящегося без святого причастия на дне океана, - но синьор, назвавший себя Жаном Жаке, грубо прикрикнул: “Отворяйте номер! Живо!” Я вынуждена была выполнить его приказание, тем более что обнаружила у себя в правой руке ключ, который я не захватила и не могла захватить в конторке.
Войдя вместе со мной в комнату - внутри она отличалась от других помещений пансионата только той же грубой черно-красной расцветкой стен, - Жан Жаке стал раздеваться, не обращая внимания на стыдливость, свойственную каждой особе женского пола, особенно вдовам.
Я отвернулась. Мне вдруг показалось, что от черно-красных стен веет жаром, у меня даже мелькнуло опасение: не начался ли пожар? Впоследствии доктор Базиль Бернардо, врач, пользующий меня, объяснил, что ощущение, будто тебя окунули в чан с варом, возникает из-за расстройства вегетативной нервной системы, вызванного выпавшими на мою долю испытаниями. Затем я почувствовала будто ледяной компресс на сердце.
– Виски! - сказал странный постоялец.
– С содовой? - спросила я.
– Чистое! - ответил он.
Когда я вернулась в номер, синьор лежал на кровати раздетый, только в спортивных трусах, белых с черно-красной каймой, и в белых туфлях с черными лакированными носками.
– Не удобнее ли синьору сбросить обувь? - спросила я.
– Нет, синьору это было бы крайне неудобно, - с неуместным смехом ответил он.
Я пожала плечами и вышла. Через час он появился перед конторкой - свежевыбритый, в отлично отглаженном летнем чесучовом костюме с черновато-красной гвоздикой в петлице. Букет таких же гвоздик он протянул мне. Я приняла подарок: хозяйка; особенно если она бедная вдова, должна быть предупредительна с постояльцами.
Перебивая мадам Мартинес, которая охотно и со всеми подробностями делилась воспоминаниями, я спросил:
– Заметили вы в нем нечто роковое?
– В Жане Жаке? О нет. Сперва, правда, он показался грубоватым, но потом, очень скоро… Даже сейчас я повторю, что он производил чарующее впечатление, живо напоминая покойного супруга, когда тот…
– Значит, вы утверждаете, что ничего рокового в нем не было?
– Решительно ничего. Скорее в нем было не что, заставляющее подчиняться. И подчиняться охотно. Когда, протянув гвоздики, он сказал: “Синьора, вы окажете честь проводить меня к источникам”, - я сразу поднялась и пошла, даже не вызвав горничную, обычно меня заменяющую. Просто поднялась и пошла.
– По дороге он с вами говорил?
– Ну разумеется. Всякий милый вздор. Впрочем… одна или две фразы запомнились мне. Когда мы вышли на бульвар Плистерона, Жаке взял меня под руку… От его прикосновения осталось ощущение одновременно ледяного и раскаленного.
Он взял меня под руку и сказал: “Прелестная синьора, две точки налицо: MB и Плистерон. Что же представляет собой третья точка? Отвечайте не думая”. - “Камни?!” - не знаю почему, вырвалось у меня. “Камни?! - повторил он улыбаясь. - Ну, конечно, вы совершенно правы. Вы гениальны, синьора. Ваш пансионат процветал бы и там не меньше, чем тут. Мы еще встретимся там”. А затем он вдруг исчез, словно растворился в воздухе. Не зная, что подумать, я продолжала идти дальше по бульвару и на площади снова увидела Жаке. Он стоял у первого бассейна, рядом с золотой статуей Плистерона, и пил из кружки MB.
Приходится прервать дышащие искренностью показания синьоры Мартинес, чтобы по личным воспоминаниям, мемуарам современников и официальным документам хотя бы бегло изобразить, как жило в то время Независимое Президентство в целом, а также его столица - город Пирроу, и особенно средоточие, сердце столицы - пирроуские бульвары.
Еще недавно город нес на себе отпечаток патриархальности, даже известного провинциализма. На бульварах, среди прекрасных, самого современного стиля зданий порой можно было встретить туземца с кольцом из слоновой кости в носу, серьгами из костей акулы в мочках ушей и копьем и луком в руках. Приезжие в те времена составляли однородную массу больных - “желтяков”, если прибегнуть к возникшему в то время словообразованию. Пожилые джентльмены, мосье, синьоры, прибывшие из разных уголков мира, желтые от недуга, сгорбленные болезнями, вели размеренный образ жизни.
Отдыхая после процедур на бульварах, они беседовали о различного вида камнях и о прихотливом течении болезни. Избавившись от камня, больной, не скрывая радости, спешил поделиться отрадной новостью со знакомыми и незнакомцами.
“Вы только подумайте, маленький черный камушек, обкатанный, как прибрежная галька!” Все это придавало говору, постоянно звучащему на бульварах, трогательную детскость, объединяло “желтяков” братскими узами.
Надо прямо сказать, наивный этот провинциализм бесследно канул в Лету сразу же после того, как известие об ошеломительной победе Икса распространилось по миру.
Впечатление, повсеместно вызванное событиями в государстве Зет, было настолько велико, что с той поры мало кто мог рассчитывать занять по выбору населения сколько-нибудь заметную должность, не пройдя декаменизации и не получив соответствующей справки с гербовой печатью и подписями.
В некоторых Империях, Президентствах и Княжествах обязательность подобных справок была оговорена специальными дополнениями к Конституциям и Хартиям.
Компания “Афина и Сыновья” ввела сперва шесть, потом двенадцать, наконец, двадцать четыре дополнительных рейса из всех важнейших портов, и все-таки, чтобы получить каюту до Пирроу, приходилось записываться за год.
Газеты печатали фантастические сообщения о смягчении нравов под влиянием декаменизации. Вождь одного людоедского племени вместе с заместителем по хозяйственной части и личным шеф-поваром после лечения стал последовательным вегетарианцем. Он отказался даже от растительной пищи и питался только синтетическими смолами и микробами опасных болезней. Правитель обширного княжества, возвратившись из Пирроу, в первый же день торжественным актом запретил на всей подчиненной ему территории применение пыток по вторникам, четвергам и субботам после двух часов пополудни.
Все говорило о приближении Бескаменного века. Однако, как это ни странно, в нравах и обычаях самого острова происходили другие процессы.
“Желтяки”, которые раньше составляли братскую семью, разделились на две неравные группы: обычных “желтяков”, “Ожелов”, как их стали именовать, и Особых Привилегированных Гостей Президентства - сокращенно “Опригопов”, то есть чиновников, прибывших из своих государств со специальными полномочиями для декаменизации.
Ожелы ненавидели Опригопов, а Опригопы презирали Ожелов.
Опригопы, в свою очередь, подразделялись на шесть классов: Опригопы высшего класса, затем Опригопы первого, второго, третьего, четвертого и пятого классов.
В те лучшие утренние часы, когда в прежнее время больные, медленно и со вкусом выпив MB, благодушно обменивались соображениями о развитии или угасании недугов, теперь бульвары окружала цепь гвардейцев. Пение птиц заглушалось вполне вежливыми, однако не терпящими возражений командами: “Попрошу, синьор!”, “Очистите место, миссис!”, “Подайте назад, мосье!” Когда бульвары пустели, от резиденций, расположенных за зарослями колючих роз, начиналось шествие Опригопов высшего класса. Их везли белые и серые слоны, “мерседесы” и “бьюики”, упряжки страусов и оленей и даже единороги, несправедливо числившиеся вымершими.
За Часом Опригопов высшего класса следовал час прочих Опригопов. Бульвары наполняла разноязыкая толпа военных во всевозможных мундирах, пастырей в сутанах, монахов, судейских, которые на ходу горячо доказывали друг другу безусловное преимущество презумпции виновности перед презумпцией невиновности. Ведь только первая способствует беспрепятственному подъему по служебной лестнице и постепенному освобождению или, как выражались некоторые, “опустошению” мира от виновных, а именно виновные, вследствие самого факта первородного греха, составляют подавляющее большинство населения.
Деятельной и бодрой чередой шли чиновники, ведающие выдачей регалий и геральдикой, моралью и расцветкой тюльпанов (предоставленные самим себе, цветы могли бы избрать и несоответствующую окраску), извержениями вулканов и пением птиц, способных исполнять как вполне здоровые мелодии, так и мелодии не вполне здоровые.
– Да, да! - кричал глуховатый чиновник Птичьего ведомства с отдаленного острова Маниукорус своему еще более глуховатому начальнику, Опригопу второго класса. - С этими птицами беда! Моя бы воля, я бы их всех того… Раз-раз - и готово…
– Вы слишком поспешны, молодой друг, - благодушно отвечал начальник. - “Раз-раз - и готово” - этаким манером и наш департамент может оказаться… так сказать… в некотором роде. Певчими птицами надо руководить, молодой друг! Надо учитывать, что поскольку птица, так сказать, по данным науки, в некотором роде не всегда являлась птицей, а была, так сказать, разжалована из земноводных - а в такой ситуации кто не запоет! - то при терпеливом и мягком воздействии она и утеряет это свое в некотором роде птичье. Нет, нет, молодой друг, без поспешности!…
Лишь когда последний Опригоп выпивал предписанную дозу MB, оцепление снималось и к полупустым бассейнам с остатками мутной MB пропускались Ожелы.
После лечения больные по старой привычке рассаживались на скамейках, хотя к этому часу сквозная тень пальм уже не защищала от полуденного солнца. Но и теперь им не удавалось углубиться в тихую беседу о прихотливом течении внутренних недугов.
Звучал гонг, и, нарушая тишину, служащие устремлялись к многочисленным салунам и закусочным. К тому времени обилие претендентов на снабженные печатями справки о декаменизации заставило выстроить для Департамента Декаменизации восемьдесят семь тридцатиэтажных зданий, где сто двадцать четыре тысячи клерков, работая в две, а иной раз и в три смены (то есть даже по ночам, когда свет луны заливает бледные кипы бланков, печати и подушечки для печатей), едва справлялись с порученным им делом.
Зато вечерами красивые молодые лица, запахи духов, страстный шепот влюбленных - все это придавало городу новое, неведомое прежде очарование.
Ведь и молодые люди, прежде чем вступить в брак, если им позволяли средства, старались пройти декаменизацию.
Да, разумеется, Наследственное Президентство можно было назвать “Островом Чиновников”, но в такой же мере Пирроу заслужил имя “Острова Влюбленных”. Все зависит от особенностей зрения наблюдателя.
Заметив синьору Мартинес, Жаке мягко улыбнулся, взглядом приглашая ее подойти.
– Камни… именно камни, - вполголоса пробормотал он и кашлянул.
Нечто твердое, голубое, но не просто голубое, как небо или как незабудки, а голубое, как лед, вылетело из его уст.
Ослепительный, стальной голубизны луч рассек мир. Он прорезал стеклянные громады отелей, парапет набережной, волны на море: белые гребешки разделялись, как кремовый торт под ножом опытного метрдотеля.
Это продолжалось долю секунды, но те, кого луч коснулея, успели почувствовать мгновенный укол - одни в сердце, другие в мозгу, в ногах, пояснице, то есть в той части тела, которая оказалась на пути луча.
– Мне почудилось, - говорила впоследствии синьора Мартинес, - будто я ослепла. Вскоре я вновь прозрела, но видела сначала не предметы, а одну лишь синеву, будто я находилась внутри льдины. Потом наваждение прошло, я разглядела серебряный бассейн и Жана Жаке, а внизу, у его ног, синий камень, раза в два меньше голубиного яйца. Я подняла камень и не глядя - почему-то было страшно глядеть - протянула Жаке. Он рассеянно взял камень, протер платком и сказал: “Пора возвращаться в пансионат, синьора. Мне надо кое о чем поразмыслить”. Я проводила Жаке до номера. Открыв дверь, он распорядился: “Виски!” - “Чистое?” - спросила я на всякий случай, хотя уже изучила вкусы синьора… “Безусловно!” - ответил он.
Виски Жан Жаке выпил мелкими глотками - полный бокал.
Я стояла с подносом поодаль.
– Синьора, - с изысканной вежливостью спросил он, - сколько я задолжал? И сколько мне надлежит уплатить за пребывание в вашем превосходном пансионате до конца месяца?
– Сто двадцать крамарро, - наскоро подсчитала я.
– Сто двадцать крамарро? Будем считать - двести. У меня нет наличных, но если синьора возьмет на себя труд отнести этот камушек честному ювелиру, долг будет покрыт с лихвой.
Не раздумывая, я взяла у Жаке камень и поспешила к Юлиусу Гроше.
Гроше был занят: в магазине толпился народ. Гроше показывал маркизе дю Сартане драгоценное колье. Однако, когда я положила на прилавок камень Жана Жаке, ювелир забыл обо всем.
– Магазин закрыт! - пронзительно крикнул он.
– Но мое колье… - обиженно сказала маркиза.
– Завтра, завтра… - бормотал Гроше, грубо оттесняя посетителей.
– Откуда у вас это чудо? - спросил он, едва мы остались одни.
Я откровенно все объяснила. Через пять минут мы уже подъезжали к пансионату.
Жаке стоял у окна, от которого на пол падали пятна черно-красного света, похожие на языки пламени.
– Ваш камень, - сказал Гроше, - стоит один миллион крамарро. В настоящее время такой суммы наличными у меня нет, но через неделю…
– Не занимайтесь мелочами, - тихо перебил Жаке. - Попрошу уладить этот маленький финансовый вопрос с синьорой Мартинес: камень подарен ей. Насколько я понимаю, вас, по роду вашей профессии, интересуют подобные безделушки. Если так, то потрудитесь запомнить: я могу выдавать драгоценные камни ежедневно, как курица-несушка, только в противоположность курице не кудахча по пустякам. И в моих возможностях научить других джентльменов этому несложному искусству.
– Вы… как курица яйца… - выпучив глаза, прохрипел Гроше.
Жаке небрежно кивнул и распорядился: - Синьора, виски!
– Чистое? - механически спросила я.
– На этот раз с содовой. Мне ведь предстоит выступить в непривычной роли лектора.
Когда я вернулась с подносом, Жаке, расхаживая из угла в угол, говорил:
– Резюмирую. Под воздействием MB в организме концентрируются различного рода камни. Некоторые из них с коммерческой точки зрения бесперспективны, зато другие при известных условиях, под наблюдением специалиста, каким на земле являюсь один я, и под влиянием особых химических препаратов, которые на земле известны только мне, превращаются в те особые цветные камушки, один из которых так заинтересовал вас, Гроше.
Ювелир, тяжело дыша, сидел в кресле и следил за Жаке налитыми кровью глазами. Залпом выпив полный бокал виски с содовой, Жаке продолжал:
– Итак, камни делятся на бесперспективные и поддающиеся превращениям. Эти последние камушки один я на всем свете вижу, когда они еще покоятся в почках, печени, желчном пузыре, в сердце, на сердце или за пазухой. Один я могу определить, что может развиться из перспективного камня, в какой срок и при каких условиях. Вот в вас, Гроше, заключено то, что может образовать рубин в шестьдесят пять каратов, два средних размеров топаза и несколько некондиционных жемчужин. В вас, в тебе. - Жаке небрежным жестом коснулся пестрого шерстяного набрюшника ювелира.
– Шестьдесят пять каратов, - прохрипел Гроше. - Это шестьсот, даже семьсот пятьдесят тысяч крамарро.
– Не отвлекай меня, - продолжал Жаке. - Солидный негоциант не вправе занимать мозг сотнями тысяч и миллионами. Учись мыслить миллиардами и, что еще важнее, идеями, особенно самой главной - идеей превращений. Бог, отдадим ему должное, первым додумался до нее; именно на этом основана его известность. Превратить глину в человека, а через известное время человека снова преобразовать в глину - эффектнейший аттракцион, не требующий затрат… Итак, перспективные камни. Чаще всего они встречаются у Опригопов и относятся к той категории, которая в науке получила наименование лапидус тумарикото, то есть камни за пазухой. Но иногда их можно обнаружить и у ничем не примечательных Ожелов. При помощи различных разновидностей препарата Сириус перспективные камни могут эволюционировать в камни драгоценные. Посмотрите в тот угол, Гроше, и вы, синьора. Вам кажется, что там ничего нет? Смотрите внимательнее.
Жаке взмахнул белоснежным платком с черно-красной каймой, и в тот же момент мы увидели коробочки фиолетового, синего, оранжевого, желтого, коричневого, розового, малахитового, жемчужного и аметистового цветов, пирамидами поднимающиеся от пола до потолка. Круглые коробочки, несколько напоминающие дамские пудреницы.
– Обратите внимание на эти пластмассовые коробочки пятидесяти различных цветов, известных и неведомых человечеству, - звучным, красивым голосом продолжал Жаке. - Это пятьдесят разновидностей препарата Сириус, изобретенного мною и моим шефом - точнее, моим шефом и мною.
Жаке шагнул в угол, где громоздилась радужно переливающаяся пирамида запасов препарата Сириус, быстрым движением достал черно-красную коробочку и повернулся к Гроше.
– Смотри, Гроше! Если ты будешь принимать по одной пилюле Сириуса-21 три раза в день сразу после стакана MB, то ровно через четыре месяца и пять дней образуется рубин в шестьдесят пять каратов. Бери коробочку, я дарю ее тебе. С того момента, как ты примешь первую пилюлю, рубин начнет расти в тебе, набирать свет и блеск. Ты будешь ходить, как обыкновенный смертный, - ты, некрасивый, толстый, обрюзгший, с лицом, искаженным погоней за деньгами, жадностью, корыстью, а в тебе будет расти гигантский рубин. Посмотрись в зеркало! Скорее! Ты видишь, какое величие сверкнуло в твоих маленьких тусклых глазах; оно придает новый рисунок даже морщинам твоего потасканного лица. Смотри, Гроше! Смотрите, синьора, и запоминайте историческую минуту. Но, приняв пилюлю из другой коробочки, ты был бы осужден на мучительную смерть. Ничто не спасло бы тебя. Теперь погляди на бульвар.
Жаке с силой распахнул рамы. Казалось, по полу метнулось пламя и погасло.
– Видишь того Ожела в латаном пиджаке? Того, что протянул шляпу, собирая подаяния… Не очень-то щедро жертвуют ему. В этом нищем заключена величайшая жемчужина мира. Заставляй его принимать Сириус-17, и жемчужина в твоих руках, Гроше. А в том молодом человеке? В этом красивом юноше, который идет под руку со светлокудрой красавицей, не наберется камней и на пять крамарро. Его удел - нищета.
Жаке захлопнул окно. Свет, проникая через цветные стекла, кровавыми пятнами ложился на жирное, особенно уродливое в этот момент лицо ювелира. Жаке, легкий и стройный, охваченный вдохновением, ходил по комнате и не просто говорил, а пророчествовал:
– Золотой век, предсказанный великими мыслителями, рядом. Мы с тобой, Гроше, начинаем не Новейшую, а Самоновейшую эру. Отныне драгоценные камни будут управлять миром, менять судьбы, возвеличивать и обрекать на нищету, дарить и отнимать любовь, вручать власть и свергать властителей. Ты, Гроше, будешь торговать пятьюдесятью сериями Сириуса, строго согласуясь с моими рецептами, и будешь скупать драгоценные камни; торговля не мое призвание. А я буду определять, что заключено в человеке. Драгоценные камни затопят остров и ринутся на мир новым потопом.
Жан Жаке, не раздеваясь, лег. Утомленный произнесенной речью, он сразу заснул. Во сне он дышал тихо и нежно, как ребенок. Мы с Гроше, ступая осторожно, на носках, вышли из номера.
Воспоминания синьоры Мартинес приобретают столь восторженный характер, что мы вынуждены для освещения дальнейших событий прибегнуть к другим источникам: репортажам “Курьера Пирроу”, тоже, впрочем, страдающим неприятной выспренностью, и к немногим уцелевшим после катастрофы официальным документам.
“Представьте себе два прозрачных куба, - пишет известный пирроуский поэт и журналист Лоно Капрено, прославившийся в свое время созданием гимна “Слава, слава Плистерону”. - Кубы освещены изнутри и переливаются цветными огнями; один, правый, напоминает гигантский изумруд, другой, левый, подобен чарующему взор опалу. Два людских потока протянулись вдоль бульвара Плистерона, огибают площадь Золотого Плистерона, спускаются на набережную Плистерона и теряются в утренней дымке, окутывающей суровые возвышенности Кордильер Плистерона.
Бесконечная очередь.
Люди терпеливо стоят дни и ночи, иногда неделями и месяцами, чтобы попасть в заветные двери. “Сириус - контора Юлиуса Гроше” - светящимися буквами написано на изумрудном кубе. “Жан Жаке” - одно это имя, музыкой звучащее на всех языках и наречиях, сверкает на опаловом кубе.
Пройдемте вдоль очереди. Кого только мы не встретим здесь! Цветущую красавицу - звезду экрана; столетнюю старуху, которой не суждено, быть может, дождаться вожделенного момента, когда пред нею распахнутся заветные двери; полуголых дикарей, спустившихся с гор; священнослужителей всех вероисповеданий; штатских и военных; Опригопов высшего и низших классов; Ожелов, негоциантов и ремесленников; нищих и калек, в три погибели согнутых неизлечимым недугом.
Вглядитесь в глаза этих людей, постарайтесь проникнуть в незримый мир их мечтаний. Одну только Великую Надежду услышите, увидите и угадаете вы. Недаром последнюю и лучшую свою поэму я так и назвал: “Остров надежды”.
Пользуясь корреспондентским билетом, я проникаю в резиденцию Жана Жаке. По лестнице, устланной черно-красными коврами, с перилами, увитыми невиданной красоты орхидеями, поднимаюсь в вестибюль. Время от времени на потолке, на полу и на стенах вспыхивают светящиеся надписи: “Полная тишина”.
Распахнулась дверь, и из вестибюля мы входим в квадратный зал без окон. “Один… два… три… девяносто восемь… девяносто девять… сто”, - автоматически отсчитывает электронный счетчик. Двери закрылись, и сразу вспыхивают кровавокрарные невидимые светильники. “Постройтесь вдоль стен”, - приказывает световое табло. Пациенты выполняют приказание. Лучи светильников пронизывают тело. Чувство, охватывающее в этот миг, я запечатлел в следующих чеканных строках:
И жгучий свет пронзил меня,
Как леденящее дыханье,
Сжигая прежние желания,
Опустошая все внутри…
Еще миг, и в центре зала возникает, неведомо откуда появляется Жан Жаке. Он оглядывает нас.
Глядит в тебя суровый гений.
И, полон трепетным волнением,
Ты в незаметном губ движежьи
Судьбы читаешь приговор…
Взгляд чародея остановился на согбенном Ожеле.
– Сириус-9, шесть таблеток ежедневно, принимать три месяца. Изумруд - 29 каратов, сапфиры - 6 и 13 каратов. Бриллиант - 20 каратов, - шепчет Жаке.
Бледный как смерть старик плачет от счастья. Электронное устройство записало диагноз, и металлическая рука робота вручает завтрашнему миллионеру так называемый “Сертификат Жаке” - карточку глянцевитого картона в изящной черно-красной рамочке, с перечислением драгоценных камней, заключенных во владельце сертификата.
Банки охотно учитывают “Сертификаты Жаке”, выдавая от шестидесяти пяти до семидесяти процентов их номинальной стоимости, спекулянты на черном рынке скупают их за семьдесят пять процентов номинала.
Взгляд Жаке между тем скользит по шеренге ожидающих, губы что-то шепчут.
Тому бесшумному шептанью, Бесшумному, как шелест крыл, Нельзя внимать без содроганья.
– Ничего! - шепчет Жаке.
Полный сил юноша падает, будто пронзенный пулей. Санитары выносят его.
“Ничего…”, “Ничего.,.”, “Полудрагоценные камни: 12 малахитов, сапфир в 10 каратов…”, “Ничего…”, “Ничего…” Старик нищий скользит по стене, глаза его остекленели.
Приложив стетоскоп к сердцу пострадавшего, врач произносит одно только слово: “Мертв”.
За стариком - прелестная пара, вместе с которой в зал как бы проник чарующий свет весеннего утра. Ей - восемнадцать лет, ему - девятнадцать. Она дочь профессора Р., он сын владетельного лорда М. История молодых людей полна драматизма. Родители лорда решили любой ценой преградить путь любви. Юная чета бежала в Пирроу. Месяц безумств.
Последние сорок крамарро юноша, прежде не ведавший пороков, проиграл в казино; судьба отвернулась от влюбленных.
Вчера прелестную пару выгнали из отеля на улицу. Тут, у Жаке, последний шанс, последняя надежда.
– Ничего, - сообщает почти беззвучный шепот Жаке. - Ничего, - повторяет он, мельком взглянув на девушку.
Следующий в очереди - ветхий старик в мундире отставного офицера, с костылем в дрожащих руках.
– 47 бриллиантов от 40 до 90 каратов, - говорит Жаке.Поздравляю, отныне вы миллионер.
Дочь профессора Р. метнулась на середину зала и упала на колени перед великим чародеем.
– Вы должны спасти нас! - протягивая к Жаке руки, рыдает красавица.
Ни один мускул не дрогнул на лице Жаке.
– Если бы природа создала меня фокусником, вроде того, который превращал воду в вино, я бы извлек из своей шляпы счастье и смиренно преподнес его вам, - не разжимая губ, проговорил он. - Но мое ремесло противоположно искусству этого фокусника.
Когда молодые люди вышли на улицу, - продолжает поэт и репортер, - я, повинуясь священному призыву муз, последовал за ними. Влюбленные остановились у мраморной балюстрады. Глядя на зеркальную гладь моря, девушка сказала: - Мы опутаны долгами. Я устала голодать. Только один выход остался у меня. Но нет, я не в силах расстаться с жизнью. Честь - вот что швырну я под безжалостные жернова судьбы.
Вымолвив это, девушка убежала. Что будет с нею? Что станется с сыном владетельного лорда М.?
Обо всем этом мы сообщим любознательному читателю в очередном эссе, которое будет опубликовано в воскресном номере “Курьера Пирроу”.
Несерьезный поэтический тон и изобилие пышных слов, в которых тонут крупицы серьезных наблюдений, единственно важных для исследователя, вынуждают нас в дальнейшем пользоваться главным образом личными воспоминаниями.
…Все претерпевало изменения. Грубел певучий и древний язык Пирроу; так, вместо научно обоснованного термина “перспективный камненоситель” улица ввела вульгарное словечко “жемчужник”, обнимающее всех - Ожелов, Опригопов и даже дикарей, растящих в себе какие-либо драгоценные камни.
В газетах стали появляться объявления непривычного характера: “Молодая отзывчивая блондинка с нежным сердцем, с младенческих лет мечтающая посвятить жизнь любимому существу, желает связать свою судьбу с жемчужником семидесяти-восьмидесяти лет. Классические черты лица, идеальная линия ног, объем бюста 90 сантиметров. С предложениями обращаться…” “Креолка, в жилах которой струится огненная кровь ее предков, испанских конквистадоров и прекрасных жриц бога Солнца, мечтает украсить оставшийся отрезок жизни солидного жемчужинка, Ожела или Опригопа. Возраст кандидата не имеет значения”.
“Юная шатенка, по свидетельству всех способная только на прочные и высокие чувства, имеет отличное образование, знает языки, играет на арфе и саксофоне, в совершенстве владеет французской и пирроуской кухней, танцует, поет, наскучив ветреной юностью, ищет благородного жемчужника…” Разводы сделались явлением эпидемическим. Новобрачные, прибывшие на остров для декаменизации, расставались.
Так красота венчалась с Златом,
Алмаз рвал цепи Гименея,
И поднимался брат на брата, -писал уже цитированный поэт и журналист Лоно Капрено.
Даже жены гвардейцев Плистерона, опоры Наследственного Президентства, бежали к обладателям “Сертификатов Жаке”.
В седьмом батальоне Слоногвардейского полка бежало 47 процентов жен, в тринадцатом пехотном батальоне - 60 процентов. В Главном гвардейском оркестре больше всего пострадала группа ударных инструментов и низкооплачиваемая группа барабанов.
Престарелый депутат, по странному стечению обстоятельств все еще заседавший в Национальном Собрании, выступил с речью об огрубении нравов.
– Пирроу подобен современному Содому, - говорил депутат. - Чувства обмениваются на драгоценные камни - твердые, жесткие, все режущие, как алмаз. Вы мечтали о декаменизации? Вместо этого камни, пусть драгоценные или полудрагоценные, заполнили мир. Не слезы, а расплавленные камни льются из глаз, не рифмы, а каменные строфы чеканят поэты, не нежными признаниями, а раскаленными докрасна и охлажденными до ледяной белизны каменными ядрами одаривают друг друга вчерашние любовники. Мир изнемогает от отсутствия бескорыстной любви и нежности.
В столице Пирроу назревали волнения. Слова поэта “поднимался брат на брата” не следует трактовать как обычную метафору. Дабы улучшить моральное состояние частей - они одни могли восстановить и поддержать порядок, - Плистерон решил увеличить жалованье гвардейцев в десять раз и тем задержать продолжающееся бегство жен.
Для осуществления мудрой меры понадобились огромные средства. Именно тогда произошло первое столкновение между Наследственным Президентом и Жаке. Плистерон в ультимативной форме потребовал, чтобы в казну поступала половина стоимости всех драгоценных камней, выделяемых под воздействием препаратов Сириус и MB.
Жаке ответил категорическим отказом. Посланный им в резиденцию Плистерона в качестве полномочного посла Юлиус Гроше трепещущим от страха голосом зачитал Президенту следующее письмо: - “Господин Жан Жаке, негоциант, свидетельствуя свое совершенное уважение господину Плистерону, Наследственному Президенту, одновременно считает своим долгом сообщить, что добывание драгоценных камней, или операция “Сириус”, осуществляется им исключительно из высших соображений, в подробности которых он считает неуместным входить, и строго по указанию его, Жана Жаке, шефа.
Он, Жан Жаке, не извлекает из операции “Сириус” никаких доходов, кроме средств, необходимых как для поддержания приличествующего ему, Жану Жаке, образа жизни, так и для дальнейшего расширения операции “Сириус” согласно детальным указаниям шефа.
Один процент стоимости драгоценных камней, каковой Жан Жаке, негоциант, в установленные сроки вручает Министру Финансов Наследственного Президентства, является справедливой долей в прибылях. Уплата даже еще одной тысячной процента противоречила бы как нормам справедливости, так и высшим намерениям шефа.
Исходя из означенного, Жан Жаке, негоциант, прерывает все переговоры по данному вопросу, почтительно предупреждая, что попытка возобновить переговоры может привести к гибельным последствиям”.
Несколько раз во время чтения письма Плистерон вскакивал и кричал: “Разбойник! Убийца! Всех расстреляю!” Однако, как ни странно, никаких насильственных мер в тот раз предпринято не было.
Финансовое положение попытались исправить, реорганизовав налоговую политику. У Нового Моста, излюбленного самоубийцами, были выставлены посты гвардейцев, взимавших с ляц, намеренных покончить с собой, по пятьдесят крамарро.
“Он первым стал продавать билеты в ад, как на футбольный матч или на бега”, - констатировал впоследствии некий литератор сатирического направления.
В рекордные сроки был выстроен изящный магазин-клуб “Вое для Утопленника”.
Отчаявшийся мог продать здесь за справедливую цену ненужные ему вещи, получив взамен мехов, шелков, фраков и смокингов легкое и скромное, выдержанное в черно-серых тонах одеяние, удобное при погружении в воду. Тут же продавались оплаченные акцизным сбором свинцовые грузила; пользоваться самодельными грузилами было строго воспрещено.
В уютных помещениях желающие могли в последний раз выжить, закусить, потанцевать, посмотреть кинобоевик, заказать похоронный марш, исповедаться, посоветоваться с юристом, а также прослушать собственный некролог, составленный опытяым писателем. “Даже смерть Плистерон Великий сумел превратить в праздник”, - писал редактор “Курьера Пирроу”, скромно подписывавшийся псевдонимом “Правдолюбец”.
Этими и другими мерами доходы Президентства были несколько увеличены, но расходы росли значительно быстрее.
Правитель соседнего маленького и ничем не замечательного островка Квик Девятый, разбогатев на контрабандной торговле пирроускими драгоценными камнями, воздвиг себе статую, на 12 метров 73 сантиметра превышающую статую Святого Рамульдино Карла Великого Плистерона Мигуэля Первого Мудрейшего и Победоносного. Под угрозой оказался престиж Наследственного Президента, то есть самое главное.
Впервые за много лет Плистерон созвал заседание кабинета министров. Министр Увековечения сообщил, что разработан проект увеличения плистероновской статуи без нарушения художественного замысла этого произведения, за счет наращивания ног на четыре и пять десятых метра, туловища - на два метра, шеи - на сорок сантиметров, постамента - на восемь метров и замены нынешней президентской короны золотой тиарой высотой в пять метров.
– Срочно нужно золото, - закончил он.
Министр Гвардии доложил о необходимости создания десяти новых пехотных и слоногвардейских батальонов.
– Для обеспечения спокойствия бюджет Министерства должен быть безотлагательно утроен, - твердо заключил он короткое сообщение.
Плистерон нетерпеливо повернулся к Министру финансов.
– Золота нет, и его неоткуда добыть, - запинаясь, пробормотал Министр финансов.
– Я вас казню, - сухо заметил Плистерон. - Согласно Церемониалу вы будете повешены.
– Теперь не до Церемониала, - махнул рукой Министр финансов.
Плистерон задумался. Через минуту он поднялся с просветленным лицом и сказал:
– Решение созрело!
Так, этими историческими словами, начался последний этап бурной и богатой событиями истории Наследственного Президентства, которую мы пытаемся исследовать.
С утра следующего дня резиденция Жаке была оцеплена гвардейцами. В 7 часов 15 минут перед опаловым дворцом появился Плистерон на белом слоне. Жаке вышел навстречу высокому посетителю.
Мраморные лестницы, ведущие в кабинет Жаке, были застланы черно-красными коврами.
– Я ступаю словно по языкам пламени, - с горькой шутливостью заметил Плистерон.
Жаке промолчал.
Двери автоматически раскрылись, и Плистерон вслед за Жаке прошел в квадратный зал.
– Мне необходимо пятьдесят миллиардов крамарро, - не повышая голоса, проговорил Плистерон.
Сохранившаяся магнитофонная лента, к счастью, позволяет восстановить все дальнейшие события.
Ярко загорелись невидимые светильники.
– Я пронзаю вас лучамп! - воскликнул Жаке, который прежде чуждался пафоса и большей частью говорил почти неслышным шепотом. - Вы чувствуете? Молчите… Я должен сосредоточиться… Да… В вас есть драгоценные камни даже не на пятьдесят, а… постойте… в вас шестьдесят семь миллиардов триста тридцать пять миллионов крамарро.
– Вы спасаете меня, дорогой друг! - вскричал Плистерон. - Меня, остров Пирроу, а вместе с тем и весь цвет человечества. Я вам дарую звание “Святого”. “Жан Жаке, Святой негоциант”. Звучит неплохо, а?
– “Святой”? Возможно, это позабавило бы шефа, но не торопитесь, - тихо сказал Жаке. - Драгоценные камни н и - когда не будут выделены из вас. Я вам никогда не скажу, какой именно из пятидесяти разновидностей препарата Сириус взрастит эти камни.
Жаке был подчеркнуто официален. Говорил он стоя, склонив голову по правилам Церемониала.
– Я не сделаю этого, - продолжал он, - потому что, получив неограниченные средства, вы бы превзошли шефа: у вас для этого много данных. А полученные мною инструкции строго запрещают мне наделять вас подобными качествами.
– Я тебя зажарю, как лягушку! - вскричал Плистерон. - Я тебя…
Он не закончил фразы: Жаке вдруг исчез, растворился в полумраке.
Позволю себе напомнить, что необычная способность Жана Жаке исчезать отмечалась многими свидетелями - стюардессой, скрупулезно точным в своих показаниях таможенным чиновником Хосе Родригосом, наконец, синьорой Мартинeс; для читателя она не является неожиданной. Но совсем иначе воспринимал происходящее Плистерон. Выбежав на улицу, задыхаясь от бешенства, он крикнул:
– Огонь! Огонь!
Гвардейцы взяли автоматы на изготовку, но огня не открыли: стрелять было не в кого.
Жаке появился в поле зрения так же неожиданно, как и исчез. Он медленно шел вдоль бульвара Плистерона, чуть прихрамывая. Из визитного кармана отлично отутюженного кремового костюма выглядывал платок с красно-черной каймой. Слоногвардейцы, горяча скакунов, помчались за ним, следом бежали пехотинцы с автоматами наперевес. Но мощная воздушная волна оттолкнула преследователей.
– Огонь! - вскричал Плистерон.
Грянули выстрелы, однако пули, согласно одним источникам, рассыпались цветными фейерверками, а согласно другим, которые нам кажутся менее достоверными, превратились в невиданной красоты бабочек.
Жаке шел все так же медленно, прихрамывая, и ни разу не оглянулся.
У серебряных бассейнов на площади Золотого Плистерона он остановился, легко оттолкнулся ногами от мостовой и стал подниматься вверх строго по перпендикуляру. Пули превращались в фейерверки, освещая его фигуру и придавая всему происходящему характер известной театральности.
Он поднимался меж огней,
В сиянии цветных лучей,
И вихри смертоносной стали,
Как эльфы, вкруг него плясали.
А бледный, жалкий Плистерон… и т. д.
Любопытно отметить, что строки эти принадлежат тому же поэту Лоно Капрено, который прежде прославлял Плистерона и утверждал, что всегда, отныне и навеки единственная задача Истинной Поэзии - это создавать, увековечивать, возвеличивать и еще нечто очень важное совершать с образом Плистерона. В новых обстоятельствах он проявил гибкость.
В эти минуты Плистерон не был ни бледен, ни жалок.
– Сомкнуть аэростаты! - скомандовал он.
Жаке продолжал подниматься, и секунду казалось, что ему придется отступить перед преградой из аэростатов с протянутыми между ними металлическими сетями.
Но вот Жаке прижал руки к телу, как делают прыгуны, и резко увеличил скорость. Его бакенбарды напружинились, поднялись над головой и коснулись серебристой оболочки флагманского аэростата.
Стремительная огненная ленточка поползла по телу воздушного корабля. Соседние аэростаты, спасаясь от пожара, стали рубить сети, соединяющие их с флагманом. Еще минута, н пылающая оболочка флагмана рухнула, накрыв двенадцатый, седьмой и третий батальоны гвардейцев и бассейны.
Жаке продолжал удаляться. Он превратился в красноваточерную точку, как бы в звездочку, тающую в утреннем небе, затем исчез бесследно.
Радио Пирроу непрерывно передавало:
– Внимание! Внимание! Внимание! Никакой паники! Таков приказ Святого Рамульдино Карла Великого Плистерона Мигуэля Первого Мудрейшего и Победоносного. Помните: Плистерон с нами и MB в наших руках. Пусть на улицах царят смех и веселье; виновные в нарушении данного обязательного постановления будут расстреляны.
Но когда сняли оболочку аэростата, оказалось, что бассейны пусты. В резервуарах были обнаружены неведомо как образовавшиеся щели.
Выступив по радио и телевидению, сияя улыбкой, Плистерон заявил:
– Трещины будут заделаны! Главная задача Наследственного Президентства - полная декаменизация человечества - осуществится в запланированные сроки!
В трудный этот момент новый удар обрушился на Пирроу. В государстве Зет агент Игрека сумел пронести на очередную пресс-конференцию президента Икса портативный рентгеновский аппарат, смонтированный в виде фотокамеры. Когда Икс излагал проекты намеченных им мероприятий, агент Игрека неожиданно осветил ему лучами рентгена грудную клетку.
Миллионы телезрителей отчетливо увидели на экранах гигантский лапидус тумарикото, покоящийся в том месте организма, который можно определить выражением “за пазухой”.
Камень отливал ядовитыми коричнево-зеленоватыми красками. Охрана Икса схватила злоумышленника, но весть о происшедшем на пресс-конференции уже облетела страну.
Крупнейшие специалисты, комментируя удивительный факт, разделились на три лагеря. Первые - незначительное меньшинство - утверждали, что лапидус тумарикото был успешно удален, но впоследствии вновь восстановился, то есть регенерировал, - явление, в биологии известное.
Вторые во всеуслышание заявляли, будто бы лапидус тумарикото гигантус, привезенный перед выборами упряжкой белых слонов, - наглая подделка, а подлинный лапидус тумарикото гигантус никогда не покидал своего местообитания за пазухой Икса.
Третьи, наконец, отстаивали версию, что лапидус тумарикото, находящийся в Иксе, суть не истинный, а ложный, безопасный для окружающих. Однако коричнево-зеленая окраска и грозные размеры камня заставили скоро совершенно умолкнуть авторов последней, оптимистической гипотезы.
Партия Игрека и вновь сблокировавшаяся с нею Партия Вдов потребовали немедленных перевыборов президента.
Шестьдесят девять из семидесяти государств, где прежде были приняты дополнения к конституциям и хартиям об обязательной декаменизации кандидатов на выборные посты, отменили эти дополнения. Вскоре стало известно, что вождь людоедов, перешедший на полное вегетарианство, швырнул в реку миску опасных микробов, сервированных на завтрак, и съел в сыром виде своего заместителя по хозяйственной части вместе с шеф-поваром.
Последние сообщения не могли не потрясти даже убежденнейших сторонников пирроуских MB. В Департаменте декаменизации перестали выплачивать сотрудникам жалованье. Над ста двадцатью четырьмя тысячами клерков Департамента нависла угроза голодной смерти: клерки в панике бежали. Опригопы, Ожелы и другие жители Пирроу устремились к пристани. Билеты брались с бою. Даже Опригопы высшего класса могли захватить в поспешном бегстве лишь самое необходимое. Упряжки страусов и оленей, стоя по горло в воде, провожали тоскливыми взглядами уплывающих хозяев.
Единороги печально ревели.
Плистерон пошел на крайние меры, даже вернул Земле шарообразную форму, но было поздно. Паника разрасталась.
Лайнеры “Афина и Сыновья” могли вместить только сотую долю беженцев. Компания “Зевс” пустила в ход свои танкеры, которые бездействовали с самого момента введения Плистероном монополии на MB. Танкеры втягивали желающих через огромные трубы, сечением в один метр двадцать сантиметров. Остров превращался в пустыню. Слоны, спустившиеся с гор, разбивали бивнями двери отелей и учреждений.
Дикари забавлялись тем, что стрелами выбивали окна в восьмидесяти семи тридцатиэтажных зданиях Ведомства Декаменизации, внушавшего их первобытному, враждебному идее Культуры и Декаменизации разуму особую ненависть.
Печати, оставленные в опустевших помещениях Департамента на пропитанных краской подушечках, пустили корни и под благодатным солнцем Пирроу с поразительной быстротой развились в гигантские деревья, покрытые глянцевитой листвой ржавого цвета и крупными фиолетовыми цветами.
Когда фиолетовые лепестки опадали, становились видны прекрасно сформированные треугольные, гербовые и круглые печати на сочных плодоножках. Ветер проникал сквозь разбитые окна и разносил семена по острову. Заросли фиолетовых деревьев появились на набережных, улицах и бульварах. Фиолетовые цветы пахли пылью, сургучом, штемпельной краской, и от густого этого аромата задыхалось все живое, кроме пауков, земляных червей, мух и некоторых видов ядовитых змей.
Особенно сильно фиолетовые деревья разрослись вокруг площади Золотого Плистерона. Грабители, которые пытались проникнуть к памятнику, отступали или падали мертвыми.
Только на самого Плистерона запах фиолетовых деревьев не оказывал действия.
Президент в парадной форме шагал по острову четким военным шагом. Вечерами он пробирался к Золотому Плистерону и минуту стоял неподвижно, отдавая честь статуе и напевая вполголоса старый гимн “Слава, слава Плистерону”.
Эти и дальнейшие исторические подробности последних дней Наследственного Президента дошли до нас от генералбарабан-инспектора, начальника личного караула Президента, единственного, кто остался верен великому человеку в несчастную годину; дабы не погибнуть в зарослях фиолетовых деревьев, он сопровождал Президента на вертолете.
Кладовые во дворце Плистерона были разграблены, казна опустошена, и, чтобы добывать себе пропитание, Президент вынужден был пойти на крайнюю меру - отпиливать от собственной статуи кусочки золота.
Плистерон не трогал ни лица, ни орденов и медалей; он позволял себе отпиливать только пуговицы - по одной золотой пуговице в день.
С кусочком благородного металла Плистерон торопился в салун Китса, где толпились бродяги и пьяные дикари. Протиснувшись к стойке, Президент молча клал пуговицу в руку кабатчику. Ките наливал ему стакан виски.
Выпив и несколько охмелев, Плистерон говорил:
– Знаешь, кто я, наглец? Я есть Святой Рамульдино Карл Великий Плистерон Мигуэль Первый Мудрейший и Победоносный. - Он один да еще генерал-барабан-инспектор помнили некогда гремевший во всем мире титул.
– Ладно, - хмуро ворчал Ките. - Завел шарманку. Пей и помалкивай, ты у меня всех посетителей распугаешь.
После второго стакана Плистерон спрашивал кабатчика дрожащим старческим голосом:
– Ты меня уважаешь? Ты меня любишь?
– А за что тебя любить, Плистероша? - удивлялся кабатчик. - Пей и проваливай…
Президент уходил, шатаясь от унижения, от бедности, от несправедливостей судьбы и от виски.
…13 сентября девятого года эры Плистерона в сгущающихся сумерках Наследственный Президент, как обычно, проследовал через заросли фиолетовых деревьев на площадь своего имени. Минуту он стоял неподвижно, салютуя Золотому Плистерону, затем прислонил к статуе деревянную лестницу, поднялся по ней, вытащил из кармана ножовку и приготовился к ежедневной унизительной работе по добыванию золота, когда взгляд его, скользнув по памятнику, как бы остекленел.
Президент увидел, что Пуговиц на золотом мундире статуи больше нет.
Лицо Плистерона выразило смятение, ту недостойную человеческую слабость, отсутствием которой он именно и отличался от людей, то есть от людей обычных. Плистерон пошатнулся, но машинальным движением ухватился за лестницу и удержался на шаткой перекладине.
Он невнятно шептал что-то, время от времени отирая со лба крупные капли пота. Потом губы его сделались неподвижными, и весь облик вновь обрел твердость. Медленно спустился он на площадку перед статуей, вытянулся, как на параде, и еле слышно проговорил:
– Будучи лишенным Пуговиц, ты, Золотой Плистерон, как тебе известно, согласно Церемониалу подлежишь заточению. Мне нелегко заключить под стражу тебя, моего двойника и свидетеля исторических деяний, совершенных мною. Но чувства должны отступить перед Церемониалом…
Президент помолчал. Потом, собравшись с силами, отчетливым командирским голосом скомандовал:
– К месту заточения! Ша-гом - арш!
“После этой команды, - вспоминает генерал-барабан-инспектор, очевидец происходившего, - команды, странной тем, что отдана она была неживому, или не вполне живому предмету - статуя великого человека не может быть приравнена к обычным неживым предметам, - Золотой Плистерон заколебался. Дул сильнейший ветер, и мне показалось, что колебания вызваны именно им. Но в следующий момент они значительно усилились. Статуя с трудом оторвала от пьедестала правую, затем левую ногу и сделала первый шаг. Признаюсь, меня потряс даже не самый этот факт, достаточно разительный, а второстепенные детали; то, например, что при отличном, как и у Плистерона, строевом шаге статуя так же, совершенно подобно Плистерону, несколько косолапила. Не хотелось бы впадать в мистику, и все же трудно найти физическое истолкование этому факту. Плистерон шагал позади, согласно Церемониалу держа перед лицом обнаженную шашку. Маленькая его фигура терялась в тени гигантской статуи. Вскоре статуя и Президент скрылись в лесу. Больше они не появлялись”.
…Можно сказать, что обстоятельства кончины или исчезновения Президента не вполне укладываются в рамки обычного. С другой стороны, разве положение Президентства не заставляло ожидать таких чрезвычайных, даже нереальных событий?
Специальные экспедиции, снабженные особыми противогазами, не смогли обнаружить никаких следов Президента и его статуи. Это снова убеждает в справедливости картины, нарисованной генерал-барабан-инспектором.
Плистерона больше нет. Золотая статуя не возвышается на острове.
Остается добавить лишь несколько строк.
В последних изданиях Британской Энциклопедии остров Пирроу значится необитаемым. Досадная ошибка. В местности, снова именуемой Горбы, обитает небольшое племя дикарей, промышляющих охотой на белых слонов. Из промышленных предприятий на острове процветает фирма “Синьора Мартинес”. Рабочие фирмы собирают цветы фиолетовых деревьев и добывают отличные круглые, треугольные и гербовые печати на сочных плодоножках; работа опасная, но хорошо оплачиваемая.
Раз в два-три месяца транспорт “Черный кит”, перевозящий уголь из Европы на Таити, заходит в покинутый порт Пирроу, где нет даже таможни, и загружает трюмы изделиями фирмы. Продукция ее находит обеспеченный сбыт во множестве стран и пользуется высокой репутацией. Плодоножки с печатями, так же как и фиолетовые рощи, пахнут пылью, сургучом, штемпельной краской, но, конечно, очень слабо, так что запах не оказывает немедленного разрушительного действия. А отдаленные последствия вдыхания их испарений пока мало изучены.
Кроме фирмы “Синьора Мартинес” и самой синьоры Мартинес, ничто не напоминает о громкой славе Пирроу и великой, хотя и не осуществленной пока, идее декаменизации.
Июль - август 1964 г.
Р. ЯРОВ Основание цивилизации
В конце концов гонки на машинах времени все-таки были включены в программу соревнований по техническим видам спорта. Длительная и упорная борьба энтузиастов увенчалась успехом. Энтузиасты гордились, и было чем. Давно уже, с того дня, как в газетах появилось первое сообщение о создании опытного образца машины времени, поток писем в редакцию научно-популярных журналов “Знание - молодежи”, “Наука - сила”, “Техника и жизнь” увеличился вчетверо. Журналы сперва отмалчивались, а потом все сразу опубликовали описания прогулочного, туристского и спортивного вариантов машины времени с цветными чертежами на вкладках. Вскоре образовалась и спортивная федерация путешественников в прошлое. Почетным председателем ее избрали стосорокасемилетнего старца. Провели несколько небольших соревнований на дальние дистанции, глубже шестнадцатого века не удалось пробиться никому. А между тем лучшие гонщики международного класса ходили уже в первый век нашей эры. Неожиданно из Швеции поступило сообщение, взволновавшее всю спортивную общественность. Девятнадцатилетний гонщик Иорген Иоргенсен прошел двадцать четыре столетия за три часа восемнадцать минут сорок восемь и три десятых секунды. Ответом на сообщение явилась статья в спортивной газете под большой шапкой: “Восстановим былую славу”. В статье критиковались заводы, наладившие серийный выпуск машин времени для научных нужд и забывшие о спортсменах. Критика подействовала, несколько спортивных образцов было изготовлено и испытано, результаты оказались великолепными. И тогда было принято решение включить гонки по времени в программу спартакиады по техническим видам спорта.
От метро к стадиону шел народ. Стрекозиными крылышками потрескивали программки, зажатые полукружьем в руках продавцов. “Последний заезд! Гонки на дальность! Участвуют Василий Федосеев, Константин Парамонов!…” Сияло солнышко, гремела музыка, шаркали бесчисленные подошвы, шныряли мальчишки. Всем было весело, и все спорили.
– У Парамонова выдержка, ритм! А что, простите, у Федосеева?…
– Однако в Сухуми на тренировках…
– Парамонов, Парамонов! Что ваш Парамонов? Вот когда Федосеев…
– Не забивайте мне баки вашим Федосеевым…
Осведомленность болельщиков потрясала. Целая наука с прогнозами и экспериментами, с неопровержимой логикой, с методологически правильно сформулированными задачами, с антагонистическими школами развивалась на свободном пространстве между метро и стадионом. А с афиш взлетали к вершинам славы синие гонщики, и вокруг них разматывались по спирали Афины и Спарта, Рим, Карфаген, Византия, Чингисхан и Наполеон. Всю глубину человеческой истории означала, по мысли художника, эта спираль. Правда, ничего такого гонщики увидеть не могли. Останавливаться на дистанции категорически воспрещалось.
На гаревой дорожке стадиона спортсмены ожидали сигнала. Они стояли не в ряд, а кто где придется. От них требовалось не опоздать со стартом, место же старта не имело значения. Тренер Федосеева - седой ветеран из испытателей - щупал на шасси машины какие-то гайки и шептал на ухо своему питомцу последние заклинания:
– Главное - равномерно иди. Ты горячий, но старайся сперва сдерживаться. Жди, пока войдешь в ритм. Ну, а потом уж, конечно, жми вовсю. У Кости с ориентацией в темпе слабовато - ты помни об этом. И не забывай про плазменную тягу…
Он сбросил клетчатый пиджак на руки мальчиков из клуба: могучая его рука, обтянутая рукавом спортивной куртки, легла Васе на плечи.
По дорожке бегал худощавый юноша в очках. Это был аспирант, историк-специалист по трассе, ушедший в спорт после окончания университета. Он жал руки смущенным гонщикам и обнимал их. “Только не останавливаться, - повторял он. - Только не вторгаться в прошлое…” Контролеры уже вышли на трассу. Очень трудно удерживать работающую машину в строго определенной точке времени: “размыв” в обе стороны составляет от пяти до десяти секунд. Поэтому их фигуры казались призраками, встающими среди облаков. Они маячили по всей трассе человеческой истории, их видели всюду и принимали за предзнаменования и природные феномены.
Галантные философы, смеясь над суевериями, рассуждали об игре света в атмосфере. Двумя столетиями дальше тащили на костер ведьм и еретиков. Еще дальше на них глядели вожди кочевых племен и радовались, ибо всадник на коне означал удачный набег и добычу. А в самом конце трассы, дальше которого не позволяли заходить технические данные машин, пророки, вздымая к небу костлявые руки, тряся бородами, обличали беззакония мира.
Соревнования на скорость полета во времени не относились к разряду зрелищных. Едва был дан старт, гонщики исчезли. Борьба была невидимой, подобно марафонскому бегу, когда изнемогающие бегуны соревнуются на дорогах гдето далеко от трибун. Но начались состязания по легкой атлетике, и все, кроме тренеров, перестали думать об ушедших в века.
Он возник внезапно - точно на том месте, в котором исчез. Сначала вибрация мешала разглядеть гонщика, затем стало ясно, что это Константин Парамонов. Наконец он материализовался окончательно. Тренер подбежал к своему питомцу, радостно его обнял, помог снять куртку с перышками и шлем. Вдвоем они оттащили машину в бокс и стали ждать остальных. Зажглись цифры на световом табло, голос диктора назвал время и добавил как бы со сдержанным восторгом: “Отличнейший результат”. По трибунам прошел гул. Сторонники Федосеева насупились.
Гонщики прибывали один за другим. Даже самые безнадежные уже стояли на дорожке. А Федосеев все не появлялся.
На трибунах возникло замешательство. Послышались выкрики. Судейская коллегия связалась с контролерами на трассе.
Выяснить ничего не удалось. Тренер Федосеева надел пиджак и потребовал занести в протокол плохую организацию соревнований. Историк испуганно суетился. И лишь когда к воротам стадиона подкатили мощную машину времени спасательной службы, появился Федосеев. Оп был бледен, утомлен; голубые глаза потускнели, светлые волосы запылились, небольшая бородка сбилась набок, лицо его, обычно добродушное, выглядело сейчас каким-то отрешенным. Тренер бросился к нему.
– Ты что? - крикнул он. - Где ты застрял?
– Авария, - устало сказал Вася.
– И вы останавливались? - ужаснулся историк.
– Ненадолго.
– Где же, в каком веке?
– Посмотрите на панель приборов.
Взглянули на щиток. Стрелка указателя стояла на тридцать третьем веке до нашей эры.
– Такой рекорд пропал! - махнул рукой тренер. - Эх, ты!
Он отвернулся и побрел прочь.
За остановку Васю на несколько месяцев дисквалифицировали. Но он не представлял себе жизнь без спорта, ходил попрежнему на тренировки, слушал объяснения тренера и лекции историка. Тренер, правда, часы своих занятий сократил.
Он готовил книгу “Спутник начинающего путешественника по времени”. Но зато историк старался вовсю. Он даже приводил на лекции знакомого парня, выпускника мехмата, и тот объяснял гонщикам принцип передвижения по времени с точки зрения интермедиальных пространств и отрицательной вероятности.
Однажды всей командой пошли в музей. Вел историк - знакомиться с памятными местами трассы. Топорики, гробницы, кареты… Ощущения при движении через блестящие залы были приблизительно такими же, как во время гонок, когда почти вслепую мчишься через столетия. Возле одной ничем не примечательной вещицы Вася вдруг остановился. Ребята ушли вперед, а он все стоял, смотрел и никак не мог насмотреться.
Историк вернулся и подошел к нему. В глубине души он сочувствовал Васе - он сам мечтал о потрясающих экспедициях в прошлое, но стать гонщиком не смог, потому что так и не научился вертеть “солнце” на турнике.
– Ну что ты смотришь? - Он ласково взял Васю за локоть. - Обыкновенная культовая вещица эпохи позднего неолита. Найдена в святилище при раскопках столицы могущественного царства Тлен-Тлца. Здесь же все написано…
– Да нет, - смутился Вася, - это моя зажигалка.
– Что? - Глаза истооика раскрылись так, будто он увидел живого фараона.
– Ну да…
– Как же это?…
– Помнишь, в последний мой заезд?… Ну, после которого меня… Я далеко тогда зашел. И быть бы мне первым и не видать бы Парамонову приза, как своих ушей, если б не тросик фотонной заслонки. Я его дергаю - ни с места. Снова дергаю - опять ни с места. А скорость колоссальная. На неуправляемой машине, сам понимаешь, в два счета дематериализуешься. Пришлось остановиться: инструмент у меня всегда с собой. Поднял крышку, смотрю - трос весь перетерся, на волоске держится. Заклинило его. Механик гайку перетянул, а тут еще я дергал все время. Все-таки на скоростном режиме шел. Стою, в затылке чешу. Эх, думаю, надо было не останавливаться, на волоске возвращаться. Ну, растворился бы во времени. Все лучше, чем сидеть и загорать за триста веков до рождения. Кругом не гляжу - некогда. И вдруг из леса, а лес рядом, в десяти шагах, людишки выскочили. Кричат чего-то. Подбежали и все - бух! - на колени. “Чего это вы?” - говорю. Лопочут. А сами босые, голые, в одних шкурах звериных. Попросил напиться. Тащат воду в шкуре. Шкура грязная! Говорю: “Тренер запретил пить сырую, нет ли у вас кипяченой?” Не понимают. Тут до меня дошло, что они и огня-то не знают. Нашел я камень, похожий на тарелку, налил в углубление воды, хворосту набрал, зажег костер. Вскипятил, напился. Показал на тросик порванный. Сообразили: тащат какое-то лыко. Приладил я его. Попробовал - ничего, держит. “Спасибо, - говорю, - ребята, а вот вам на память моя зажигалка. Будет у вас жареное мясо и кипяченая вода. Сырой не пейте - в ней микробов миллионы. Мир, дружба”. - И укатил. И вот, поди ж ты, минут десять всего я и пробыл у них, а здесь, оказалось, три часа прошло… Постой, что это ты?
Историк, схватив Васю за руку, потащил его к выходу.
Они мчались по навощенному наркету, и аспирант повторял сквозь зубы:
– За мной! За мной!
Дома историк толкнул изумленного Васю в кресло, выхватил из книжного шкафа сиреневый томик, торопливо нашел нужную страницу.
– У тебя ведь борода тогда была, а?
– Была, - вздохнул Вася. - Бороденка. Сбрить велели. “Не подобает”, - говорят.
– Тогда слушай.
И историк начал читать нараспев, далеко отставляя томик:
– “Он пришел к нам с неба, рыжебородый. Великий и мудрый воин, научивший нас ловить и прятать огонь. Он подарил нам духа, повелевающего огнем. И ушел опять к себе на небо. Сын Солнца и брат Луны…” - Это древние гимны, раскопанные там же. Понял?
Вася пожал плечами.
– Это же о тебе! Ты пришел к ним с неба и подарил им духа, повелевающего огнем. Так они говорят о твоей зажигалке. Ты основал цивилизацию! Ты великий человек!
– Здорово! - Вася раскрыл рот. - Не забыли, значит… Сын Солнца и брат Луны.
– Ну да! В переводе академика Орнитоптерского.
Историк написал об этом случае во многие газеты. “Благородный поступок”, “Спортсмен не оставил в беде”, “Так поступают настоящие люди”. Вася прославился. Ему стали писать письма. Имя его узнали далекие от спорта люди. Его восстановили в команде, и он начал усиленно готовиться к очередным соревнованиям. И еще он стал задумываться, задаваться вопросом: как же он не заметил, что основал цивилизацию?
Да, он не зазнался ни капельки; аккуратно ходил на тренировки, и все были им довольны. Все, кроме тренера. Тренер считал, что его воспитаннику не хватило бойцовских качеств.
Цивилизация цивилизацией, но все же общественные дела не должны мешать спортивным успехам, на соревнованиях надо стремиться к победе любой ценой. Основывать же цивилизации можно в свободное время. Тренер даже решил, что Федосеев как спортсмен бесперспективен. Но, увидев, какой общественный отклик получил Васин благородный поступок, тренер решил придержать свои мысли. И даже дважды выступил в печати со статьями на моральные темы.
НОВЫЕ ИМЕНА
Всеволод РЕВИЧ Сенсация
Когда обсуждалась программа, которую предстояло вложить в УМ - Управляющий Механизм - космического разведчика № 999, в Звездном Совете возник небольшой спор.
Молодые члены Совета горячились и настаивали, более старшие - менее легкомысленные-сначала немного посопротивлялись, впрочем, довольно вяло, а потом коллективно махнули рукой. Пускай себе молодежь забавляется, в конце концов пикому их затея вреда не принесет.
В назначенный срок 999-й приблизился к звезде к Водолея.
Отсутствие экипажа позволяло звездолетам этого типа развивать гигантские ускорения и достигать отдаленных систем сравнительно быстро. Лишь в случае, если такие разведчики приносили какие-то особенно интересные сведения, имело смысл организовывать опасные, дорогостоящие и продолжительные экспедиции с людьми.
Каппа Водолея почти ничем не отличалась от Солнца, ни величиной, ни цветом, - она относилась к тому же спектральному классу G-2. Вокруг звезды вращалось одиннадцать планет. По намеченной программе межзвездный посланец должен был обследовать их все по очереди. На каждую из планет отводилось по неделе. Первая и вторая планеты оказались раскаленными шарами с клокочущими озерами расплавленного металла, без малейших признаков атмосферы. На третьей приборы отметили жалкую, почти не ощутимую атмосферу, а сама планета была абсолютно гладкая, похожая на бильярдный шар. Даже метеоритных кратеров не было, зыбучие пески быстро сглаживали все неровности. Зато на четвертой 999-й обнаружил весьма плотную газовую оболочку и активную облачность.
Подлетев к планете на расстояние, равное четверти ее радиуса, УМ положил корабль на круговую орбиту и приступил к запрограммированному сбору сведений. Спуститься ниже корабль не мог, начинались плотные слои атмосферы, а для полета в них его обшивка не была приспособлена - космических разведчиков облегчали насколько возможно. Впрочем, на корабле была аппаратура, которая позволяла исследовать химический состав и физическую структуру газов и твердых тел на расстоянии. Приборы донесли о существовании на планете органических соединений, но, к сожалению, сфотографировать ее поверхность в инфракрасных лучах не удалось - видимо, сказалась экранировка необыкновенно мощного облачного покрова.
Поскольку на планете была атмосфера, УМ выполнил и тот самый последний пункт программы, из-за которого разгорелся спор в Звездном Совете. Широким лучом два раза в сутки по местному времени он посылал к планете мощный сигнал па всем известном землянам диапазоне радиоволн. Несущая частота была промодулирована музыкальной гаммой, спетой знаменитой певицей - лучшим колоратурным сопрано Земли.
Каждая нота длилась пять секунд, причем “до” звучало один раз, “ре” - два, “ми” - три и так далее до семикратного повторения “си”. Никто, конечно, не рассчитывал, что разумные существа, буде такие окажутся, станут наслаждаться чарующим голосом певицы. Но осознать искусственное происхождение сигналов для них, видимо, не представит труда, если исходить из предположения, что законы логики едины для всей вселенной. Предполагалось также, что разумные существа догадаются ответить примерно такой же серией сигналов.
Маяк стоял на голом островке - да каком там островке, просто верхушке скалы - в центре самого большого океана Облачной. Гопл был его смотрителем. У него были скромные обязанности и неограниченное количество свободного времени, Чтобы занять его чем-нибудь, он попросил с очередным катером, доставлявшим на остров провиант и горючее для маяка, привезти ему детали для радиоприемника. Это была модная новинка, которой в последние годы увлекались многие.
Гопя возился над конструкцией несколько месяцев. Впрочем, торопиться ему было некуда. Он был уже старым, видавшим виды облачником и никаких улучшений, никаких изменений в своей жизни не ждал. Но в день, когда ему удалось услышать тихий и хриплый голос Столицы, он все-таки очень обрадовался. Что там ни говори, а одиночество не самая веселая штука в этой облачной жизни.
Теперь у него было занятие. Приемник частенько выходил из строя, и старик постоянно возился с ним. Вот и вчера в проклятой коробке что-то перегорело. Осмотрев на ночь свою мигалку на вышке и постояв на берегу океана, как всегда пустынного, Гопл уселся за стол, надел очки, обмотанные веревочкой, и принялся за ремонт. Ему удалось быстро найти повреждение, он обрадованно присоединил оборвавшийся проводок, снова вставил все детали в ящик и для проверки повернул ручку. Ровное гудение убедило его в исправности аппарата, и он уже поднял руки, чтобы снять наушники, как вдруг в них что-то зазвучало, да так громко, что старик стремительно сорвал их с головы и стал энергично растирать уши.
Но даже на расстоянии он слышал какие-то странные звуки, идущие из маленьких коробочек. Гопл был твердо уверен: радиостанция в Столице так поздно работать не может. Он поглядел на часы. Было около часа ночи. Он осторожно наклонил голову к наушникам. “Ми-и, ми-и, ми-и…” Было немного похоже на детский голос, но настоящему жителю Облачной голос такого тембра принадлежать не мог, облачник не в состоянии так пищать. Наушники пропищали четыре раза, потом наступила пауза; потом снова послышался писк, теперь уже пять раз, после новой паузы - шесть, и опять замолчали.
Последние сигналы Гопл уже почти не слышал, но разобрал, что они повторились семь раз. Затем все смолкло. Старик подождал немного, потом приложил ухо к наушнику. Привычное гудение, больше ничего. Он еще подождал - аппарат молчал. Он выключил его, сел на кровать и задумался. Впрочем, Гопл размышлял недолго. Ему сразу удалось найти разумное объяснение непонятным сигналам. Просто опять испортился приемник, вот и начались разные фокусы. Радио - дело новое, малоисследованное, мало ли что оно может выкинуть…
“Конечно, - подумал он, - где уж такой старой рухляди, как я, сделать что-либо стоящее!” Гопл с горечью вспомнил, что когда-то, в молодые годы, на него смотрели как на подающего надежды инженера, но жизненные неудачи привели его в конце концов на этот заброшенный островок, омываемый вечно серыми, серыми, серыми волнами.
Старик вздохнул и накрылся с головой одеялом. Он давно смирился со своей участью и старался о ней не думать.
Весь следующий день Гопл копался на своем огородике, а к вечеру включил приемник и послушал новости из Столицы. Правительство издало какой-то новый закон, Гопл не разобрал, какой именно; затонуло пассажирское судно при загадочных обстоятельствах; продолжительность светлого времени суток увеличилась по сравнению с прошлым месяцем почти на целый час - словом, в мире все было в порядке, как всегда. И в поведении своего аппарата он не заметил ничего предосудительного.
Как пришла ему в голову мысль снова включить приемник в час ночи, он и сам бы не мог объяснить. Сделал он это по какому-то наитию. Услышав в наушниках таинственный писк, старик замер.
На этот раз он долго не мог заснуть.
“Ну кто я такой? Кто? - морща лоб, размышлял он. - Старый невежественный дурак, который давно оторвался от всего мира и ничего не знает. Никому ничего говорить я не буду. Очень мне нужно, чтобы надо мною смеялись. Только этого мне и не хватало! Ни за что не буду!” Уговорив себя таким образом, он, наконец, заснул успокоенный.
Единственным средством связи островка с населенными пунктами был телеграф. Проснувшись, Гопл без долгих раздумий отправился к телеграфному аппарату и отстучал донесение в Управление. “Посмеются надо мной. Конечно, посмеются. Ну и пусть смеются”.
К вечеру пришел ответ от Главного смотрителя. Ответ был предельно недвусмыслен: “Будете пить служебное время рассмотрим вопрос вашем пребывании ответственном посту”.
Старик в сердцах разорвал телеграфную ленту, длинно и вычурно выругался, пошел к себе и действительно напился.
Целую неделю он не подходил к приемнику ни ночью, ни днем и не знал -о том, что происходило на Облачной.
Возможно, что на телеграмме Гопла все бы и оборвалось, если бы она случайно не попала в редакцию газеты “Вечерний звон”.
Это произошло так. Над телеграммой долго потешались в Управлении, потом выбросили и забыли про нее. Одна из сотрудниц, решив повеселить своего приятеля-журналиста, вытащила смятый листок из мусорной корзинки и взяла с собой.
– Слушай, - хихикала она, - стариканчик совсем спятил. Нет, нет, ты послушай, послушай, что он тут накрутил…
Журналист смеялся очень весело, но в час ночи он вдруг сорвался с места, подбежал к приемнику и надел наушники.
Услышав писк, о котором сообщал Гопл, журналист так же стремительно влез в пальто и, не обращая внимания на обиженную подругу, помчался на квартиру редактора своей газеты.
– Вы сошли с ума, - рассерженно говорил поднятый с постели редактор, - из-за какой-то чепухи врываетесь ночью…
– Но что бы это ни было, из этого можно сделать удачную штучку. Читатель обожает всякую таинственность. А уж мы что-либо придумаем. Например, что это сигналы внеоблачных разумных существ…
– Ну, уж вы и напридумаете, выдумщик вы этакий, - одобрительно ухмыльнулся редактор, моментально оценив всю сенсационность такого материала. - Ладно, действуйте…
На следующий день “Вечерний звон”, вышедший утром, имел успех, равного которому не знала ни одна газета за всю историю Облачной.
“НЕВЕДОМЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ОБЛАЧНОЙ!” “ТАИНСТВЕННЫЙ ПИСК В ВАШИХ АППАРАТАХ!” “ВНЕОБЛАЧНЫЕ, ПРИВЕТ!” “ПЕРВЫМ ПРИНЯЛ СИГНАЛЫ СМОТРИТЕЛЬ ГОПЛ”. “ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ “ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН”!” “СЛУШАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ!” “НЕТ ЛИ ОПАСНОСТИ В ЭТИХ СИГНАЛАХ? МОЖЕТ БЫТЬ!”
Такими заголовками были украшены все страницы “Вечернего звона”. Тираж газеты был увеличен в десять раз, и все равно номер рвали из рук.
В эту ночь на Облачной спали только дети, тяжелобольные и пьяный Гопл. Остальное население с вечера подсело к радиоприемникам. И когда сообщение газеты подтвердилось, наступила неожиданная реакция. Планетой овладел страх.
Необоснованный, дикий страх. Жители боялись всего, боялись собираться группами, боялись оставаться в одиночестве, боялись выходить из домов, боялись сидеть дома. При таком количестве включенных приемников - все старались поймать любую новость - назавтра без труда было установлено, что таинственные сигналы передаются также и днем, как раз в то время, когда радиостанция в Столице устраивала перерыв.
Правительство и Академия Высших Знаний отмалчивались, не зная, как ко всему этому отнестись. Солидные газеты тоже делали вид, что ничего не произошло. Зато “Вечерний звон:” старался изо всех сил.
“ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИХ МЕР?” “УЧЕНЫЕ, АУ!” “ЧЕГО ЖЕ “ОНИ” ОТ НАС ХОТЯТ?” “ГРАЖДАНЕ, ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ!”
Наконец на третий день было объявлено по радио, что вечером состоится заседание Руководства Академии - девяти “отмеченных”, самых авторитетных ученых Облачной. Но заседание не состоялось: никто из “отмеченных” не пришел.
“Право же, - заявил один из них, - у нас есть более важные дела. Терять время на досужие вымыслы каких-то щелкоперов - увольте”.
“Вечерний звон” не поленился послать репортера к каждому из “отмеченных”, чтобы выяснить, какими же важными делами те занимались. Оказалось, что Председатель играл в азартную игру “Три облачка”, его помощник отмечал день рождения своей внучатой племянницы, трое не делали, по их словам, ничего, а четверо уклонились от ответа и выставили газетчиков за дверь.
Эти известия, напечатанные крупным шрифтом, вызвали всеобщее возмущение.
Но еще больше масла в огонь подлило сообщение второго утреннего выпуска “Вечернего звона” о том, что двое молодых, никому не известных ученых на свой страх и риск произвели минувшей ночью дерзкий опыт. Пользуясь разработанным ими методом “зеркальных антенн”, они установили, что сигналы действительно доносятся откуда-то сверху, из заоблачных высот.
И вот тогда-то на планете началась настоящая паника.
Тысячи перепуганных обитателей готовились к эвакуации, запихивали деньги и драгоценности в карманы, увязывали вещи в узлы. Всем почему-то казалось, что любое другое место безопаснее, чем то, где они находятся. Храмы и святилища были забиты до предела; никогда еще религиозный экстаз не достигал такого напряжения. Облачники молились о спасении.
Жрецы спасения не гарантировали, так как грехи облачников превосходили все возможные пределы, о чем своевременно и неоднократно жители планеты предупреждались. В полицию и правительственные учреждения непрерывно обращались за помощью.
Взбудораженное воображение дорисовывало недостающие детали. Увидев в окно толпы на улицах, многие решали, что пора спасаться бегством. Другие, не увидев никого, приходили к убеждению, что все давно покинули город, а они забыты и брошены на произвол судьбы. Некоторым уже чудилось, как из-под облаков выныривают корабли агрессивных пришельцев, посылая впереди себя испепеляющие ярко-фиолетовые лучи. Очевидцев этого кошмарного зрелища становилось все больше. Участились случаи убийств и самоубийств.
Лишь только виновник всей этой суматохи - старик Гопл - ничего не знал о ней, он находился в запое.
Но дальше отмалчиваться уже было невозможно. И на следующее утро все газеты выступили с официальными опровержениями и популярными статьями, разъясняющими вред и беспочвенность предрассудков и суеверий. Газеты опубликовали на первых страницах сообщение о состоявшемся, наконец, заседании девяти “отмеченных”. На заседании рассматривалось персональное дело молодых ученых, самовольно поставивших опыт с “зеркальной антенной”. За безответственные и наносящие вред истинному просвещению эксперименты оба они исключались из рядов Академии Высших Знаний с пожизненным запрещением заниматься научной деятельностью.
“Вечерний звон” тоже напечатал это сообщение, но к нему была еще приписка, которая в других газетах отсутствовала.
В ней рассказывалось, что один из молодых ученых, выслушав приговор, заявил, глядя многоуважаемому Председателю прямо в лицо:
– Очевидно, стоит пойти служить смотрителем маяка, ибо на Облачной только смотрители маяков имеют право и возможность делать научные открытия…
В “Утренней росе” выступили с большой статьей три крупнейших на планете наблюдателя облаков.
“Наша наука, - писали они, - добилась огромных успехов в своем неуклонном эволюционном развитии. Мы, ученые, открыли паровой мотор, осветили дома электричеством, научились бороться с поносом, эпидемии которого опустошали целые города, наконец, совсем недавно открыли радиоволны…
Образованные жители Облачной уже давно не считают, что удары грома происходят от хлопанья крыльев легендарной птицы Оюконтю, а молнии - это искры, которые сыплются из ее огромных глаз.
Однако массовый психоз, охвативший в последние дни Облачную, показывает, что преодолены далеко еще не все предрассудки и суеверия. Они оказались, к сожалению, удивительно живучими. А некоторые безответственные журналисты ловко играют на этих позорных пережитках. Разговор о внеоблачных существах, якобы подающих нам сигналы, совершенно беспочвен. Откуда они могли взяться, эти незваные гости? Вокруг нашей планеты вращается освещающий и согревающий нас Гур. Мы еще не знаем точного расстояния до него, но, видимо, он расположен не очень далеко, ибо в противном случае пришлось бы предположить, что его размеры и запасы энергии неправдоподобно велики.
Есть ли еще планеты со. светящимися спутниками, подобные нашей? Надо думать, что нет, в этом убеждает одно простое соображение: если бы таковые имелись, то по ночам не было бы так темно. Пусть даже много слабее Гура, но все равно они бы освещали нашу Облачную. Но - увы! - как всем хорошо известно, по ночам темно; считать, что есть другие светила и другие планеты, - это произвольное и ничем не оправданное допущение. Такие выдумки возможны только в сказках, которые пишутся для детей. Можно, конечно, предположить что угодно, но факты есть факты. А наука опирается только на факты.
Но допустим на секунду невероятное: где-то есть еще разумная жизнь. Как же эти существа могли добраться до нас?
Живое существо не пузырь, а тело тяжелее воздуха, как неопровержимо доказано блестящими исследованиями одного из авторов этой статьи, летать не может. Тем более неспособно оно двигаться в пустоте. А вполне можно предположить, что за облачным слоем воздуха нет. Научная добросовестность заставляет нас отметить все же, что последнее утверждение пока еще является гипотезой.
Дорогие наши сограждане, успокойтесь и занимайтесь своими обычными делами, перестаньте читать “Вечерний звон”, разносящий вредные и дезорганизующие слухи. На нашей планете все нормально и хорошо, как всегда”.
Статья несколько раз передавалась по радио, ее уверенно-доказательный тон, авторитетные имена авторов внесли некоторое успокоение в умы. Остальные газеты также немало потрудились, дабы восстановить порядок и нормальный жизненный ритм. Особенно резко и враждебно выступил против “Вечернего звона” молодежный еженедельник “Мир приключений и фантастики”. Он требовал суда над редактором “Вечернего звона”, он призывал к строгой изоляции от общества тех, кто развращает молодежь лживыми антинаучными сообщениями, и отрывает жителей от повседневных-дел.
Статья известного научного обозревателя этого еженедельника Нова была озаглавлена категорически (хотя и не совсем грамотно) - “Прилет внеоблачных гостей - воинствующее невежество”.
“Можно ли говорить о прибытии, - писал Нов, - разумных существ из других миров, само существование которых - полнейшая бессмыслица? Разумеется, нет. Нет, нет и еще раз нет. В этом меня убеждают еще и соображения следующего порядка. Даже если предположить, что где-то еще есть жизнь, - поверим на минуту в эту сказку, - то все равно не может быть, чтобы “они” были на таком же уровне развития, как мы. Возможно, они жили много миллионов лет назад или будут жить через несколько миллионов лет вперед.
Существа, отставшие от нас в развитии, само собой разумеется, пожаловать к нам не могут. А существа, обогнавшие пас, просто не смогут вступить с нами в контакт, как мы не смогли бы разговаривать с нашими пещерными предками.
Не думаю, чтобы общение с нами доставило “им” (как, впрочем, и нам) хоть какое-нибудь удовольствие. Зачем же “им” являться сюда? И наконец, если уж “они” явились, почему бы “им” не опуститься на планету? Разве “им” кто-нибудь мешает?
Как это ни прискорбно, но мы должны мужественно признать, что Облачная - единственный храм разума во вселенной. Быть может, это кое-кому покажется огорчительным, ну, что же делать - в сущности, мы должны гордиты я избранностью своего положения. А распоясавшихся крикуш Б из “Вечернего звона” пора поставить на место; пассивность Правительства в данном вопросе вызывает удивление”.
В примечании от редакции сообщалось, что статья Нова одобрена руководством Академии и лично ее Председателем.
Вняв такого рода увещеваниям, общественное мнение повернуло на 180 градусов. Жители забыли недавние страхи и громко хохотали, вспоминая прошедшие дни. Заоблачные гости были отданы на откуп юмористическим изданиям. Они изображались не иначе, как в виде головоногих моллюсков с десятью щупальцами. “Вечерний звон” по просьбе читателей Правительство закрыло на три недели. Между нами говоря, сотрудники “Звона” были рады этому. Во-первых, они очень устали за чрезвычайно напряженный период, а во-вторых, они сами, естественно, не верили в то, что писали, и даже испытывали некоторые угрызения совести.
Теперь баламутить народ стало некому, и на седьмой день всему был бы положен конец. Но вдруг в маленькой провинциальной газетке появилась статья известного на всю планету врача. Статья называлась “Но ведь сигналы-то существуют!”.
“Увлеченные разоблачением суеверий, мы как-то упустили из виду, что никто из крупных ученых, выступивших в эти дни на страницах газет и по радио, не счел нужным дать хоть какое-нибудь объяснение сигналам. Но мы ведь их слышим, ведь они существуют! Предположение о сигналах внеоблачнЫх разумных существ не кажется мне таким уж вредным и бессмысленным. Глупо подозревать неизвестных нам гостей во враждебных намерениях. Скорее всего они просто подают нам позывные, мало ли по какой причине не имея возможности спуститься к нам. Едва ли сигналы природного происхождения могут иметь столь правильную, явно искусственную форму.
Мы находимся в очень неблагоприятных условиях для изучения окружающей нас вселенной. Облачный слой, защищая нас от жгучих лучей Гура, в то же время не дает нам проникнуть взором в заоблачные просторы. Что там делается, что там находится, мы не знаем. Даже как выглядит сам Гур, мы тоже пока не знаем.
Я твердо верю, что когда-нибудь мы проникнем и за облачный покров. Пока же я предлагаю, чтобы наша радиостанция в час ночи, сразу после того, как прозвучат эти сигналы, воспроизвела бы подобную же серию сигналов. Их могла бы спеть одна из наших певиц с высоким голосом. Посмотрим, что будет дальше. Очень вероятно, что не будет ничего.
Но ведь этот эксперимент не потребует ни затрат, ни времени. Мне кажется неразумным упускать малейший шанс наладить связь с братьями по разуму, возможно, существами более высокой цивилизации, чем мы.
Я знаю, что моя статья вызовет град насмешек, но все же предлагаю попробовать. А потом можете смеяться надо мной, сколько кому захочется”.
Статья вызвала удивление, а в научных кругах и возмущение. “И чего этот нахал лезет в области, в которых ни шиша не смыслит? Занимался бы спокойно своим делом, резал бы своих пациентов и помалкивал в тряпочку. Прямо беда с этими неспециалистами, которыми вдруг овладевает журналистский зуд”. Три наблюдателя по заказу “Утренней росы” тут же сели писать ответ. Однако авторитет врача был очень велик, и Председатель Руководства Академией Высших Знаний, который сам был его пациентом, объявил по радио, что назначает на следующий день очередное заседание “отмоченных” для обсуждения сделанного в статье предложения.
Узнав про это, врач послал Председателю срочную телеграмму с вопросом: что, собственно, тот собрался обсуждать, надо безотлагательно передать сигналы, и все тут.
Получив телеграмму, Председатель покровительственно усмехнулся:
– Горяч, горяч! Вынь ему тут же да положь. Нет, дорогой коллега, серьезные научные вопросы так, с кондачка не решаются.
Заседание академиков началось вечером восьмого дня.
Уже было известно, что в назначенное время дневные писки не повторились - новость, после которой большинство членов Руководства удовлетворенно потерло руки.
– Я же говорил, что это чепуха, не стоящая внимания, - изрек Председатель, и аккредитованные при руководстве корреспонденты тут же отправились передавать в свои редакции столь афористично выраженную мысль.
Однако совещание все же состоялось. Оно длилось долго.
“Отмеченным” никак не удавалось переспорить врача. Самые разумные доводы, самые научно обоснованные аргументы и все законы логики, вместе взятые, отскакивали от него, как от стенки. В конце концов оставалось только развести руками и перейти к голосованию. При одном воздержавшемся (это был Председатель, нуждавшийся во врачебной помощи) постановили - отвергнуть предложение врача как совершенно бессмысленное и научно несостоятельное.
Поскольку было принято такое решение, то никто даже и не стал включать радио, чтобы проверить, прозвучат ли сигналы.
А их не было. И с тех пор они никогда не повторялись.
Постепенно о загадочных сигналах забыли, и по ночам вся Облачная мирно спала. Никто больше не сидел у приемников, не смотрел с тревогой в небосклон, затянутый серыми, тяжелыми тучами. Впрочем, нет. Один человек все же частенько вставал с постели, подходил к аппарату, долго вслушивался в шорохи и гудение наушников и долго глядел отсутствующим взглядом в темный провал окна, где сердито и угрюмо бился о берег всегда пустынный океан. Это был смотритель Гопл.
Закончив сбор информации на четвертой планете, 999-й перелетел к пятой, потом к шестой и так, обследовав все одиннадцать планет, вращавшихся в системе Каппы Водолея, лег на обратный курс.
Когда после его благополучного возвращения собранная УМом информация была расшифрована и изучена, в выводах, представленных Звездному Совету, был записан и такой пункт: “На планетах к Водолея разумная жизнь, к сожалению, еще не развилась”.
Ольга ЛАРИОНОВА Пока ты работала…
– Кира Борисовна, вы остаетесь?
– Да, Верочка.
– А вы обедали?
– Да, Верочка.
– Правда?
– Правда, правда. Дом-то напротив.
– До свиданья, Кира Борисовна.
– До завтра, девочки.
На лестнице галдеж, суета. Чей-то халатик перекинут через спинку стула. Кира Борисовна открыла стенной шкаф, повесила халатик на место. Рядом, из грузового люка, поднялся “гном” с ворохом серых холстин, петушиных перьев и свитков золотистого хомориклона - заменителя человеческой кожи.
“Гном” осторожно обогнул Киру Борисовну и, чуть покачиваясь, заскользил в машинный зал. Кира Борисовна пошла следом за ним.
Машина работала над композицией “Взятие Ольгой Искоростеня”. Программа была составлена так, что вся черновая, подготовительная работа производилась ночью, когда люди покидали помещение Экспериментальной базы. Вот и сейчас гибкие манипуляторы с привычной стремительностью кроили, сшивали, клеили и плели старинную русскую обувь. Лапти всех размеров, уже отфактуренные, словно стоптанные по нелегким походным тронам, аккуратно - пятки вместе, носки врозь - стояли в пронумерованных гнездах стеллажа. А вот и сапоги, на каблуке, да с отворотами, да с вывертами всякими - любимых сокольничих да постельничих; вот и поплоше, пятнистой свиной кожи - просто люда именитого, но особо не жалованного. А вот и сапожки сафьяну зеленого, вроде и похвалиться нечем - не малы, не узки, неказисты, словом. Тяжела была на ногу грозная княгиня.
Когда-то, лет тридцать назад, - Киры Борисовны тогда здесь и в помине не было - Машина была всего-навсего кроильно-пошивочным агрегатом с историческим уклоном. В нее закладывали чертеж какого-нибудь старинного костюма, задавали размеры манекена, подбирали материю или заменитель, остальное Машина делала сама. Но когда Институт материальной культуры начал расширять свою экспериментальную базу, стало ясно, что с этой кустарщиной пора кончать.
После несчетных боев директора Мартьянова в Комитете по распределению кибернетистов институт, наконец, получил трех специалистов по киберам прикладного искусства, - как ни странно, именно то, что И было нужно. Мартьянову повезло - ребята оказались энтузиастами, и Машина встала.
Стояла она в общей сложности несколько лет, время от времени вступая в строй и выдавая в экспериментальном порядке и неограниченных количествах всевозможные набедренные повязки, плащи на поропласте, сандалии на котурнах, туфли на “гвоздиках” и прочую ископаемую чепуху. Это видели и раньше. Правда, теперь Машине требовался только набросок - моделировку и выбор материала она производила самостоятельно. Но по мере того как увеличивалось число гибких манипуляторов с различными насадками, в подвальных помещениях росло количество блоков электронного мозга Машины, устанавливалась круглосуточная связь этого мозга с библиотечным фондом Академии Наук и прочее, - Машина стала выдавать удивительные и неподобающие вещи.
Хорошо, когда это были скифские гребни - золотые, правда, и метровой величины, чтобы можно было лучше рассмотреть рисунок.
Или пирога Гайаваты.
Или стрела, пущенная в Ричарда Плантагенета.
Это было полбеды.
Но затем последовали: мраморная ванна, в которой купался Архимед; две охапки сена, между которыми глубокомысленно издох Буриданов осел; знаменитое яблоко, породившее Троянскую войну, и, наконец, зеленоватый, фосфоресцирующий скелет гигантского першерона.
Кибернетисты утверждали, что это остов любимого Олeгова коня. Мартьянов, прослышав про эти чудеса, вызвал кибернетистов к себе и предложил им прекратить вольные эксперименты и подключиться к группе молодого востоковеда Киры Алиевой.
И вроде не так уж много лет прошло - а разошлись но другим институтам веселые кибернетисты, обросшие бородами и научными степенями; Машина, занимавшая теперь уже целое здание, создавала для всех исторических музеев мира сложнейшие композиции с движущимися макетами, шумами, запахами и микроклиматом.
И стала уважаемым научным сотрудником когда-то тоненькая девочка Кира.
Протянулся манипулятор и высыпал в гнездо стеллажа горсть грубых оловянных пуговиц. Пуговицы брякнули тяжело и незвонко. Кира Борисовна подошла к пульту управления и потянула на себя тугой рубильник. Манипуляторы, словно ожегшись, втянулись в свои гнезда.
Кира Борисовна достала давно заготовленные перфокарты, и снова, как каждый вечер, когда она переключала Машину на свою программу, встал неотвязный вопрос: а нужно ли то, что она сейчас будет делать?
Ей самой - необходимо. Она это чувствовала, потому что просто не могла без этого. Но другим? Нужно ли будет это другим? Права ли она?
Нет, все правильно. Люди научились хранить прошлое народов и государств; но разве в жизни каждого отдельного человека нет таких минут, которые он любой ценой хотел бы уберечь от исчезновения во времени?
Кира Борисовна тряхнула коротко остриженными волосами, хотя они ей вовсе не мешали, и включила механическую систему. Манипуляторы ожили, потянулись к уходящим вверх этажам стеллажей; легкие футляры с бутафорией, люминаторы, киберфоны, микрокондиционеры - все это начало сдвигаться, съезжаться, опускаться к экспериментальной камере.
Наконец-то все было налажено, отрегулировано, подобрано.
Сегодня это настанет.
Сердцу вдруг стало больно и жарко, словно на него положили тряпку, намоченную в кипятке. “Ох!” - сказала Кира Борисовна, и присела возле пульта, и положила руку на черную теплую панель, и грудью оперлась на руку.
И сердце колотилось так, что пальцы вздрагивали. Скоро наступит это.
Кира Борисовна тихонько закрыла глаза. Последние минуты, все сделано, и ничего больше не прибавишь. И сделано все своими руками, клешнями послушных киберов, манипуляторами подчинившейся Машины.
Идея этого эксперимента пришла ей на ум около года назад. Случайно? Пожалуй, да. Случайно в той же степени, как случайно было и то, что их машины, тяжелые институтские ПАБы, выползли точно на то место, где пять лет назад она встретилась с Арсеном.
ПАБы - передвижные археологические базы - искали место для стоянки. Они вышли на просеку, поросшую вереском и редкими тычками уже отцветшего или невидного по вечерним сумеркам иван-чая. Кира Борисовна знала, что просека выходит к реке, к песчаному обрыву, по которому бежали вниз лиловые оползни богородицыной травки.
Наверху, над обрывом, были курганы. Насыпанные тысячу лет назад во чистом поле, они были раскопаны и разграблены, прежде чем поросло это поле красноствольным звонким сосняком, и лишь курганы были обойдены этой рвущейся ввысь неуемной жизнью, - видно, и вправду тяжко земле родить там, где была она залита кровью.
А внизу, под обрывом, издавна и не просто же так именуемым Военной горой, там, где курились когда-то черные бани русского древнего села, - там на двухметровой глубине без счета и порядка лежали человеческие кости, принадлежавшие невысоким коренастым людям, с малолетства привыкшим сидеть в седле. И не надо было быть ни археологом, ни историком, чтобы понять, кто же со славой лег под высокими курганами на берегу светлой русской реки, а кто, захлебнувшись в неуемном стремлении дойти до всех, до последних морей, остановленный, разбитый, был сброшен под песчаный обрыв и без почестей и обрядов засыпан крупным красноватым песком.
ПАБы подошли к самым курганам и остановились. Из багажников высыпали киберы и без лишней суеты начали ставить палатки. Завтра, когда рассветет, эти неуклюжие машины высунут длинные, как у японских крабов, суставчатые лапы и с придирчивостью ювелиров начнут пересыпать и пересматривать каждую песчинку, чтобы со скрупулезной точностью восстановить картину жестокого рукопашного боя, остановившего полчища врагов на безымянном, не вошедшем ни в какие учебники истории поле.
Но сейчас уже наступила ночь, теплая, августовская, и работники экспедиции перебирались из комфортабельных машин в традиционные палатки, уже облепленные неистребимым комарьем.
Кира Борисовна накинула на плечи куртку, медленно пошла вдоль знакомого обрыва. Сзади, похрустывая валежником, двинулся маленький дежурный кибер. Кира Борисовна подождала, пока он ее нагонит, нагнулась и что-то отключила на его холодном брюшке. Он тотчас же погасил свет, повернулся и побежал обратно к своему ПАБу.
Внизу бесшумно, лишь изредка пришептывая и причмокивая, словно во сне, текла река. Кира Борисовна знала, что берег сейчас круто пойдет вниз. Она знала здесь все, хотя была всего один раз и целых пять лет тому назад. Но была она здесь с Арсеном. Здесь. Именно здесь.
Кира Борисовна остановилась.
Тяжелые пушистые лапы двух елей подымались четко и безобъемно, как будто приклеенные к светлеющему, желтовато-зеленому, словно шкурка спелого антоновского яблока, рассветному небу. И от одной ветви к другой, чуть наискось, спускалась осенняя невидимая паутинка, на которой, сказочно паря в воздухе, замерло несколько опаловых капель тяжелой ночной росы.
И паутинка и капли - все это было точно так же, как и пять лет назад; только тогда она сделала шаг вперед - и паутинка легла на лоб, и одна капля побежала по виску, покалывая ночным холодом и исчезая. И тогда Арсену, наверное, показалось, что Кира остановилась затем, чтобы он, наконец, сказал ей, что дальше сказать будет еще труднее, потому что дальше лес кончался и шло совсем пустое пол”. И он тоже остановился и сказал, наконец, с трудом разжимая губы:
– Я люблю тебя…
Он не должен был, не смел говорить ей этого, но без этого он не мог улететь; и еще многого он не должен был, потому что те, кто улетел перед ним, не вернулись; но он не хотел и не мог без этого, и она никогда не простила бы ему, если бы все было иначе.
И он улетел - и тоже не вернулся.
Кира Борисовна подняла руку - оборвать паутинку, чтобы не легла она на лоб. И остановилась.
Сейчас здесь все еще по-прежнему. Но пройдет еще десять лет, вытянутся и сомкнут свои ветви деревья, и негде будет опуститься желтенькому осеннему паучку; а потом лес уйдет вниз, на равнину, и уже не найти будет даже этого места.
И тогда Кира Борисовна достала маленькую коробочку фона, настроилась на свой ПАБ и вызвала дежурного кибера.
Он вынырнул из-за темных шелестящих вершин и, опустившись неподалеку, подполз к Кире Борисовне, ожидая дальнейших указаний.
Кромка неба становилась все светлее. Еще немного, и лес потеряет всю свою сказочность, и станет видимой паутинка, и поздние осенние птицы нарушат предрассветную тишину.
Кира Борисовна присела над кибером и привычно настроила его на программу предварительной фиксации обстановки - совсем как в начале всех археологических поисков.
Кибер покрутил головой, подполз к последним деревьям, застрекотал стереокамерой. Щелчки, легкое шипенье, свист - взяты пробы воздуха, грунта, образцы флоры. Гибкие щупальца сняли с ветвей паутину и, не уронив ни одной капли росы, поместили ее в прозрачный футляр из синтериклона - для лабораторного анализа, обеспечивающего предельно точный выбор заменителя. Затем наступила тишина - записывалась фонограмма.
Кира Борисовна постояла еще немного, а потом, не дожидаясь конца выполнения программы, повернулась и тяжело пошла прочь.
А потом запросы в Комитет Космоса, пленки с ЕГО голосом, записи последних сообщений с исчезнувшего корабля…
И работа, кропотливая работа, когда каждый шаг проверяется воспоминанием, а оно капризно и все чаще становится неуловимым.
И все отошло на второй план: исторические композиции, и хорошие девчонки, так помогшие в нестерпимом - до невозможности скрыть - горе, и даже Алешка.
Вечера, ночи только ради того, чтобы вернуть из прошлого, остановить, остановить всей своей волей и всем своим могуществом то неповторимое мгновенье, которое было воистину прекрасно.
Вспыхнуло зеленое табло: “Аппаратура к опыту готова”.
Убрались манипуляторы. Потемнели и заволоклись непрозрачной дымкой окна. Кира Борисовна подошла к экспериментальной камере, чуть помедлила и переступила ее порог.
Запах хвои и хрусткий надлом сухой ветки. Взметнувшаяся в яблочное небо щетинистая лапа ели с тугими иголочками-растопырками. Неуловимая возня просыпающихся и вновь засыпающих обитателей леса. И эти капли росы, неподвижно висящие в воздухе на невидимой синтериклоновой паутинке.
Кира Борисовна сделала шаг вперед, и эта паутинка упруго легла на ее лоб, и тяжелая капля побежала вниз по виску, и уже совсем неподдельный, живой, ЕГО голос прошептал, согревая дыханьем волосы:
– Я люблю тебя…
Горло перехватило, и Кира Борисовна присела на жесткий мох, обхватив колени руками, и вверху, в том небе, которое еще не было тронуто рассветом, трепыхалась от холода огромная, не замеченная тогда звезда. И мгновенье, прекрасное мгновенье горького человеческого счастья наполняло весь мир чудом своей бесконечности…
…Что-то легкое ударило в стекло и, зазвенев, отскочило.
Кира Борисовна поднялась, подошла к окошку и распахнула его.
– Ты, Алешка? Ну, что тебе?
Алешка ничего не говорил, а только поднимал правую руку, на ладошке которой лежало что-то коричневое и безобразное.
– Что это там у тебя? Брось сейчас же.
– Это лодка, - с гордостью сказал Алешка, - я ее из коры вырезал. Сам.
Кира Борисовна помолчала. Странно было все это: лес, а лотом сразу пятилетний Алешка, и его лодка…
– Вынь другую руку из кармана.
Алешка вынул и спрятал ее за спиной.
– Это что? Порезал все-таки?
– Подумаешь, - сказал Алешка, - и не больно.
– Когда ты все это успел? - с горечью спросила Кира Борисовна.
– А сейчас, - сказал Алешка, - пока ты работала.
И сунул порезанный палец в рот.
ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
За что мы любим научную фантастику
Несколько лет назад я получил повестку Дома ученых, из которой узнал, что такого-то в 7 часов вечера состоится товарищеская дискуссия на тему “Как выглядят разумные существа с других планет”. Вход свободный. “Это очень важно, что свободный, - усмехнулся я, - представляю себе, кого заинтересует тема?!” К моему удивлению, зал Дома ученых оказался полным. Самых разных людей (и по возрасту, и по образованию, и по профессии) волновал вопрос о том, как выглядят разумные существа на других планетах… И при всех самых крайних точках зрения, насколько я помню, не высказывалась одна - никто не сомневался, что разумная жизнь на других планетах существует. Может быть, не в солнечной системе, а на спутниках далеких звезд, но есть обязательно.
Следующая дискуссия (“Есть ли предел могуществу кибернетических машин?”) собрала аудиторию, которая не смогла вместиться в зал Дома ученых, и в дальнейшем пришлось собираться (а дискуссии, по желанию пришедших, стали регулярными) в клубах, имеющих более вместительные залы, чем зал Дома ученых. Так родился Клуб любителей научной фантастики, существующий и сравнительно регулярно заседающий до настоящего времени…
Зададимся вопросом, что привлекает сотни харьковчан на его заседания, что заставляет их высиживать там по четырепять часов, выслушивать десятки выступающих, пытаться переварить десятки мнений, тысячи фактов? Может быть, дело в том, что каждое заседание, по желанию устроителей или без такового, по своим внутренним законам несет большую (иногда слишком большую для одного вечера) научнопопуляризаторскую нагрузку? Тогда при чем здесь фантастика? Факты, соображения, теории; вопросы простые, родившиеся от незнания основ науки; вопросы посложнее, заставляющие задуматься и сидящих в зале специалистов; сопоставления, иногда смелые и неожиданные, а часто курьезные. И снова факты, факты… и лишь изредка выступающие упоминали произведения писателей-фантастов. И то чаще всего для примера, для того, чтобы воспользоваться готовой формулировкой научной проблемы. И никто не говорил о чувствах, которые родились у него ири чтении того или иного произведения, никто не рассказывал, что побуждает его бежать в книжный магазин и допытываться, не появился ли Рэй Брэдбери, не остался ли хoть один экземпляр новой книги Стругацких. Да, люди легко делятся мыслями и с трудом говорят об эмоциях. Особенно с трибуны, когда тебя слушают несколько сот человек.
А хорошее научно-фантастическое произведение всегда сочетает глубокую мысль с глубокой эмоциональностью. Оно всегда, или почти всегда, будит мысль необычностью постановки вопроса, остротой формулировки проблемы, наглядностью выводов, скупую, холодную формулу превращает в человеческую проблему, в моральную, в этическую, в проблему, которую приходится решать не с пером в руках или у экспериментальной установки, а в жизни. Возьмем пример: изменение хода времени. В этом сегодня нет ничего фантастического.
Изменение хода времени приходится учитывать не только при выводе формул и при трактовке ядерных экспериментов, но и при инженерных расчетах. Без учета этого естественного вывода из теории относительности (эйнштейновской механики) нельзя построить ни один современный ускоритель заряженных частиц. А писатель-фантаст заставляет задуматься над тем, что будет чувствовать человек, попавший в будущий мир; что должен испытывать человек, уходящий в будущее и оставляющий всех близких, родных, весь свой мир в прошлом.
Другой пример. Кибернетика. “Мыслительные способности” машин - тема, над которой работают коллективы ученых; совершенствуют память, создают единый машинный язык, пытаются всеми силами увеличить число операций в секунду; уменьшают габариты машины; увеличивают надежность; специализируют одни машины и расширяют сферу деятельности других - универсальных. Перед ними прекрасный пример для подражания - человеческий мозг, машина, созданная эволюцией. И ученые пытаются, не копируя, сделать такую же. И уже сейчас, хотя до решения этой задачи очень далеко, ученые очеловечивают созданные их руками творения.
С машинами разговаривают, наделяют их чувствами (“сегодня она нервничает”), машинам дают имена живых существ (создатели автоматических устройств Института автоматики и телемеханики АН СССР назвали свои детища “Пума” и “Барс”).
Писатели-фантасты пропускают период созидания, они, естественно, не могут разрешить стоящие перед учеными и инженерами трудности, но они могут своим воображением создать поистине живую машину, со всеми (или почти со всеми) присущими человеку достоинствами и недостатками. И главное, они могут столкнуть эту машину со своим создателем - человеком. И вот из инженерной проблемы возникает проблема нравственная, проблема человеческая.
Не нужно думать, что писатель-фантаст, создавая свои сюжеты, сталкивая человека с необычными, фантастическими ситуациями,.совершенно свободен. Это, по-моему, не так.
Талантливая вещь всегда логична. Логика эта сложная, не всегда прослеживаемая до конца. Но она естественна. Тема, как правило, взята из реального мира, она порождена существующей научно-технической проблемой, а роль писателя - оживить ее, заставить жить самостоятельно, вне зависимости от конкретного ее решения сегодня. Поэтому совершенно закономерно, что вдумчивый читатель возвращается к истоку, к постановке задачи и включается (более или менее профессионально) в ее решение.
Итак, мне кажется, что интерес к научной фантастике далеко не исчерпывается ее познавательным интересом, интересом, основанным на необычности материала, который используют писатели-фантасты для создания своих произведений.
Правда, надо иметь в виду еще следующее. Обращение фантастики к науке привлекает читателя и тем, что он чувствует себя приобщенным к наиболее интересной сфере человеческой деятельности, участие в которой (пусть пассивное, читательское) само по себе увлекательно. Эта сторона читательского интереса (я бы назвал ее ощущением приобщенности) характерна не только для научной фантастики. Популярны вообще художественные произведения о науке, об ученых.
Это следствие общего повышенного интереса к науке. При этом, как правило, романы из жизни ученых - это все же романы о быте, о человеческих отношениях. Наука является там фоном; но основное содержание произведений такого рода - взаимоотношения людей. В научно-фантастическом произведении наука, ее загадки и проблемы, человек и результаты его научных исканий, научная деятельность, очищенная от мелочей быта, становятся центром произведения.
Ощущение приобщенности делается полнее, я бы сказал - интимнее. В этом смысле научно-фантастическая литература играет роль отсутствующей (или почти отсутствующей) литературы научно-художественной. И играет эту роль с успехом.
Особенно потому, что проблемы, которые она поднимает, всегда величественны, задачи, которые решаются в фантастических романах, значительны. Их решение, несомненно, существенно для человечества, их масштабы определяются но меньшей мере размерами вселенной. Я боюсь, что мои слова звучат иронически. Я не хочу этого. Масштабность фантастики - ее истинная привлекательная черта. Она удовлетворяет потребность в мечте, настоящей, светлой, большой мечте, которая разрешала летать - просто так, без приспособлений - герою Александра Грина, мечте, которая не замыкается своим домком.
И еще. Современная наука весьма не наглядна. Нельзя представить себе (в смысле нарисовать) движение электрона, не обладающего определенной траекторией. Очень трудно привыкнуть к изменению масштабов и интервалов времени. Но человек - это свойство его природы - ищет образы, пусть более сложные, менее привычные, далекие от колесиков и шестеренок. Эти образы скрыты за формулами и уравненияпи, и талант писателя (особенно писателя-фантаста) проявляет их, делает доступными простому читателю, неспециалисту.
От этого еще больше увеличивается ощущение приобщенности. Иногда это ощущение настолько сильно, что читателю кажется: он понимает истинную настоящую научную проблему (пусть только ее постановку, так сказать, постановку задача). И это прекрасно - это превращает читателя в активного участника событий.
Приобщая читателя к проблемам науки (пусть меня правильно поймут, я считаю приобщение эмоциональным процессом, имеющим весьма отдаленное сходство с постижением науки путем чтения научно-популярной литературы), писатель не обязан быть точным, он может и должен пользоваться образами, скрытыми в науке, в ее терминах, в ее выводах.
Но отказ от точности никогда не должен быть результатом ошибки, незнания. Это должна быть сознательная, обдуманная жертва художественному строю произведения. Иначе неправильное утверждение звучит как фальшивая нота, мешая процессу приобщения. Как ни удивительно, это чувствуют даже непосвященные…
Лишенная наглядности, ушедшая в глубины материи сегодняшняя наука, современное научное мировоззрение с его структурированной материей и проникающими всюду полями незаметно изменяют и наше мироощущение. Глядя на небо, мы не только видим миллионы звезд, но и ощущаем катаклизмы, происходящие во вселенной, внутренним взором угадываем траектории космических частиц, пришедших к нам из глубины мирового пространства. Даже неуловимое нейтрино оставляет свой след в нашем мозгу, обогащая чувственную картину окружающего мира. А земное, близкое окружение?
Живая природа существенно изменилась в нашем восприятии оттого, что мы узнали структуру клетки. Мы другими глазами смотрим на растения и животных после того, как познакомились (пусть весьма поверхностно) с принципами передачи генетической информации… Обычная художественная литература (в частности, поэзия) очень незначительно использует этот новый образный материал, эти новые художественные средства, порожденные сегодняшним уровнем наших знаний о мире. Научная фантастика использует их широко. Они естественно входят в каждое (или почти в каждое) произведение этого жанра. Это делает их очень современными, очень сегодняшними и очень притягательными…
Я хочу сказать, что научная фантастика удовлетворяет определенные эмоциональные потребности читателя, потребности, которые не удовлетворяет никакой другой вид искусства. Приведу два примера. У большинства людей с детских лет сохранилась потребность в сказке, в настоящих, добротных сказках, где герой обладает удивительными качествами (самый сильный, самый смелый…). Каждому приятно представить себя на его месте (“А я бы…”). И вот эту детскую, но очень, по-моему, приятную потребность людей тоже удовлетворяет фантастика. Иногда откровенно - расписывая совершенно необычайные приключения на далеких планетах; иногда значительно более тонко и совершенно - заставляя распутывать сложный клубок, сплетенный из этических и научных проблем…
А разве не сказочна возможность оторвать героя от будничных дел, заставить решать грандиозные задачи, совершать космические подвиги, испытывать невероятнейшие приключения? Разве не веет настоящей, добротной романтикой со страниц, посвященных полетам человека к далеким звездам?
И наконец, любопытство. Человек мечтает заглянуть в будущее, особенно далекое, отделенное от сегодняшнего дня десятками, сотнями, а может быть, и тысячами лет, в будущее, качественно отличающееся от настоящего. Это любопытство, которое не может быть удовлетворено. А ведь так интересно!
И вот разрешить это противоречие помогает научная фантастика. Материализацией догадки, созданием (пусть на бумаге) этого непостижимого методами науки будущего. В науке есть такое понятие - мысленный эксперимент. Для того чтобы выяснить, к какому результату приведет эксперимент, не всегда обязательно его производить. Можно мысленно проанализировать возможные результаты и сделать соответствующий вывод. Каждое научно-фантастическое произведение, описывающее будущее, в той или иной мере мысленный эксперимент. Сделав предположения о будущем мире, населив его людьми - героями своего произведения, вдохнув во все это жизнь, писатель следит и за судьбой героев и за судьбой мира, созданного его воображением. А вместе с ним за судьбой будущего мира следим и мы, читатели. Чем талантливее писатель, тем удачнее эксперимент - вернее, тем больше мы верим его результатам…
М. КАГАНОВ, доктор технических наук
КРИТИКА
Д. БИЛЕНКИН Фантастика и подделка
Время поговорить о примитиве, что рядится под фантастику и, пользуясь любовью читателя к жанру, размножается в сотнях, тысячах экземпляров книг, не хуже микробов, попавших в питательную среду.
Поскольку разговор видится острым, в пору звать мальчика. Какого мальчика? Обыкновенного, бесплотного, безыменного мальчика, который любиг появляться в статьях о фантастике, чтобы сказать: мне нравится то… мне не нравится это.
Так критику легче вести спор; всегда можно опереться на мнение ребенка, устами которого, как известно, глаголет истина. Искушение велико, да вот беда: фантастика давно перестала быть жанром детской литературы. Опять же мнение одного читателя - это всего лишь мнение единицы, пусть даже уважаемой читательской единицы. Однако традиция обязывает.
Поэтому пригласим для разговора такого читателя, с мнением и вкусом которого приходится считаться всем - и писателям и читателям. Пригласим редактора.
Мы появляемся в его кабинете в ту самую минуту, когда он готовится подписать к печати пухлую рукопись очередной фантастической книги.
– Разрешите побеспокоить вас…
Редактор поднимает от рукописи отуманенный заботами взгляд.
– Да, пожалуйста. В чем, собственно, дело?
– В явлении. В явлении, которое возникло отнюдь не без вашего участия. Что вы думаете вот об этих книгах?
Я воздвигаю на краю редакторского стола стопку книг в броских обложках, на которых стоит заманчивый гриф “Фантастика”.
– Припоминаю, припоминаю, - говорит редактор. - Знакомые все лица: Митрофанов, Винник, Бердник, Кнопов, Ванюшин. Так что вас беспокоит?
– Качество книг. А также их количество.
Редактор задумчиво перелистывает страницы.
– Не понимаю. Это разные книги, разных авторов, выпущенные разными издательствами. Они отличаются друг от друга по теме, по сюжету, по стилю. Ну, разумеется, и по качеству. А вы, как я понимаю, хотите говорить о всех сразу, как о явлении. Так сказать, под одну гребенку. Кто вам дал такое право?
– Те самые произведения, о которых мы говорим. Разрешите прочесть страничку. “Сообщение о самоубийстве доктора Хента заняло всего пять строк и было напечатано на задворках последней страницы газеты “Вечерние слухи”. А материалы, посвященные панике на бирже, заняли всю первую полосу и были снабжены пятиэтажными заголовками.
Ни одному читателю не могло прийти в голову, что между этими газетными сообщениями имеется какая-нибудь связь.
Одному мне пришлось услышать последние слова Алессандро Лосса. Я один знаю его секрет. Исполняя последнюю волю покойного, я расскажу вам невероятную историю. Это повесть о потрясающем научном открытии и авантюре, связанной с ним, про дерзкий полет мысли выдающегося ученого и ужасную трагедию того, кто великое творение человеческого гения хотел направить против общества.
Вы, наверное, догадываетесь, о чем я говорю. Человек-призрак! Граждан Альберии и жителей многомиллионного Бабеля трудно было удивить даже самой необычной рекламой.
И все-таки, когда на одном из небоскребов делового квартала. города вспыхнули, четко выделяясь на темно-синем фоне вечернего неба, огромные неоновые буквы, тысячи бабельцев с недоумением прочли: СПЕШИТЕ КУПИТЬ ЛУННЫЕ УЧАСТКИ ТОЛЬКО У НАС! “АЛЬВЕРИЯ - ЛУНА” Знали обо всем лишь главные акционеры Общества покровительства талантам да несколько самых доверенных лиц из числа их сотрудников”.
– Вас, товарищ редактор, ничего не смущает в отрывке?
– Отрывок как отрывок. Не могу сказать, что слишком удачный, но…
– Вы не находите в нем никаких странностей?
– Не совсем понимаю вас.
– Все очень просто. Я взял первые десять строк из трех разных книг и слил их воедино. Это “Тайна доктора Кента” Александра Винника, “Проданная Луна” А. Кнопова и “Призрак идет по земле” О. Бердника.
– Это не метод критики.
– Допустим. Вот еще отрывок. “Тунгусский метеорит все еще интересовал ученых. Инга Михайловна Карасева долго работала в экспедиции и только что вернулась из Сибири. Ее пригласил к себе профессор Новосельский. На фоне мерцающего звездного неба обсерватория выглядела таинственно. Озаренная призрачным светом Луны, она напоминала сказочный дворец. Множество павильонов и башен окружало главное здание, увенчанное несколькими разновеликими куполами. Отсюда через открытые, зияющие люки в далекое небо, словно пушки, уставились стволы рефлекторов и рефракторов.
“Обращенный лицом к звездам” - так называлась одна из газетных статей, опубликованная о Новосельском… На этот раз слиты воедино первые строки книг А. Митрофанова “На десятой планете” и В. Ванюшина “Желтое облако”. Вас все еще не наводит на размышление удивительное сходство разных книг, разных авторов, изданных в разных концах Союза в разное время? Если нет, позвольте еще цитату: “ - Да, друзья, - сказал Медведев, - нас, советских людей, ждут другие миры и галактики! Придет время, когда человечество изучит не только околосолнечное пространство, но и множество неизвестных и, несомненно, прекрасных планет нашей Галактики. И если когда-нибудь людям придется встретиться в просторах Вселенной с разумными существами, они будут представлять единую дружную семью - ЗЕМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО”. Здесь приведены последние строчки книг “На десятой планете” и “Проданная Луна”. Попробуйте найти, где кончаются слова Митрофанова, а где начинается нов…
– М-м… И что же?
– А то, что есть фантастика и есть подделка под нее. Есть научно-фантастическая литература и есть псевдолитература, маскирующаяся под этот жанр. Ни количеством наименований книг, ни тиражами второй поток практически не уступает первому. Для сравнения: умная книга Ефремова “Лезвие бритвы” издана стотысячным тиражом. Тираж “Желтого облака” В. Ванюшина - 210 тысяч экземпляров. К сожалению, эти два потока не всегда различают не только читатели, но и критики. Интересно, к какому потоку относится рукопись, которую вы отправляете в, набор?
Редактор отодвигает рукопись.
– Это не ваше дело.
– Почему не мое? И писатели-фантасты и читатели одинаково заинтересованы в том, чтобы бумага, идущая на издание псевдофантастики, шла бы на увеличение тиража действительно талантливых произведений. Попробуйте-ка сыскать в магазине новинки Ефремова, Стругацких, Днепрова. Они исчезают мгновенно, читателю приходится разыскивать их днем с огнем.
– Книги, которые вы критикуете, тоже не залеживаются, - парирует редактор. - Вы пишете им приговор, не утруждая себя доказательствами.
– По-вашему, можно спутать стиль, допустим, Стругацких со стилем Днепрова, стиль Журавлевой и стиль Ефремова? Можно неразличимо сливать начало и конец их книг друг с другом? Вы не можете не знать, что оригинальность, самобытность произведения - один из важнейших признаков настоящей литературы.
– Читатель…
– Давайте будем откровенны. Если вы издадите роман с “клубничкой”, то и в этом случае вы сможете ссылаться на читателя: смотрите, раскупили, читают…
– Это недозволенная аналогия. Те книги, о которых мы говорили, при всех их недостатках учат читателя дерзанию, окрыляют его подвигом героев, знакомят с наукой, раскрывают дали будущего, разоблачают омерзительное лицо капитализма, воспитывают читателя.
– Воспитывают, согласен. Но как? Что выносят читатели аз этих книг - это еще вопрос. Поскольку мы, кажется, договорились, что книги этой стопки можно рассматривать не только порознь, но и как единое целое - как явление, - давайте приступим к их разбору. Прежде всего авторы этих произведений не знают того, о чем они пишут. Прежде всего науки.
– Так-таки все?
– Да. Это характерный признак псевдофантастики. Там масса “научной” мишуры, выглядящей куда как современно. Но раскрываем книгу А. Митрофанова “На десятой планете”, страница 59. Летит космический корабль. Вдруг свет в кабине начинает слабеть. Что такое? “Медведев разрешил выход наружу лишь Запорожцу. Облачившись в скафандр повышенной защиты, астроном взял с собой с десяток приборов. Через несколько минут он вернулся и попросил дать ему пылесос.
– Вокруг нас нет никакой дымки. Космос чист, как хрусталь. Солнце сияет по-прежнему. Просто наш корабль чуть запылился. Я соберу пыль с иллюминаторов, и у нас снова будет светло”.
Как вам нравится идея использовать пылесос в безвоздушном пространстве? Это почище “стремительно падающего домкрата”!
– Согласен, что у Митрофанова таких нелепиц хватает. Вероятно, и у других можно найти пусть незначительные, но огрехи. Но это еще ничего не доказывает: ошибки встречаются и в научных книгах.
– Я вовсе не хочу ставить в строку каждое лыко, не в “блохах” дело. Очень часто фантасты используют такой рецепт изготовления “магического кристалла”. Разговор отталкивается от точных фактов науки, переходит в область научных гипотез, затем неуловимый поворот мысли - и мы уже в стране фантастики. Переход обставлен с ошеломляющей реальностью; полное впечатление достоверности вымысла. Далеко не просто обнаружить сварку шва, которым отделена научная посылка от сугубо фантастических выводов, якобы из нее вытекающих. Да, вывод всегда фантастичен. Зато фундамент и вся логическая конструкция должны быть безупречными. Ни одного ложного факта, ни одной логической нелепицы; иначе гибнет реальность и правда перехода в страну фантастики.
Так небрежность одного мазка может выдать фанерность крепостной стены, на фоне которой развертывается действие кинофильма. Меж тем “фанера” лезет из каждой книги, о которых у нас речь. Берем одно из самых грамотных произведений. В книге “Проданная Луна” А. Кнопов пишет о будущем космических полетов. Устроим несложную проверку: имеет ли автор ясное представление о том, о чем он пишет? Смотрим: “- А все-таки, когда межпланетные путешествия станут обычными, трудно представить себе более скучное путешествие, чем космическое, - неожиданно заявил после завтрака Лядов. - Будущим пассажирам рейсового корабля “Земля - Луна” придется двое суток (разрядка наша) спать или серьезно позаботиться, чем себя занять.
– Ничего, Сергей Владимирович, - успокоил штурман а Рощин. - Пассажиры будут играть в преферанс, шахматы или читать…” Нет, не знает Кнопов того, о чем пишет. Не подозревает, что с прогрессом техники время космических путешествий будет сокращаться, как сокращается оно на других видах транспорта. Всего одна ошибка - утверждение, что и в будущем полет к Луне, как и сегодня, займет примерно двое суток.
И нет больше доверия к героям повести - космонавтам, которые изрекают столь явные благоглупости.
А вот случай более сложный: повесть О. Бердника “Катастрофа”. На высокоцивилизованной планете Та-ине население порабощено кучкой угнетателей. Великий ученый Ри-о пытается освободить народ. Вот его план (заметим, что на Та-ине техника настолько могущественна что незачем заниматься возделыванием растений: пища делается на заводах): “Надо ускорить ее (планеты) вращение. Надо, чтобы продолжительность суток уменьшилась во много раз. Тогда тело Та-ины не будет успевать раскаляться днем и сильно охлаждаться ночью… Тогда можно будет опять выращивать съедобные растения. Низшие Тайя начнут работать и почувствуют себя не рабами убогих выродков, а хозяевами мира”.
Итак, освободитель видит выход в том, чтобы заменить болев высокий способ производства, каким является синтез пищи, на более примитивный. Предположение (в наших условиях), равноценное отказу от автоматики в пользу паровых машин.
Великий ученый высокоразвитой цивилизации, видимо, не знаком с некоторыми азбучными законами исторического материализма. Зато они, следует надеяться, хорошо известны Верднику. Но автор почему-то нигде ни единым словом не показывает абсурдность попытки ученого повернуть развитие средств производства вспять, а следовательно, и порочность саззг мого плана освобождения. Совсем наоборот: из повести следует, что, если бы не борьба угнетателей против ученого, план, бесспорно, удался бы, и рабы, покинув заводы-автоматы, с радостью кинулись бы к плугам, обретя, таким образом, свободу.
Так даже одна ошибка становится для произведения роковой, ибо на нее опирается вся хитроумная конструкция сюжета.
– Я думаю, однако, что о произведениях литературы надо говорить прежде всего с позиций литературы.
– Одно неразрывно связано с другим: неглубокое знание темы с беспомощностью пера. Когда автору нечего сказать, а он тем не менее печатает свое творение, пустота просвечивает сквозь самые пестрые научно-авантюрно-фантастические одежды. Возражая вам, я попытался показать, что и Берднику, и Кнопову, и иже с ними нечего сказать читателю о науке, о приключениях мысли. А что они могут сказать о людях?
Смотрим повесть Бердника “Сердце Вселенной”. Там в одной из первых глав даются внутренние монологи ее героев.
Разговор человека с самим собой, как известно, могучее средство раскрытия психологии героя. Заглянем через это окошко, любезно распахнутое автором, в душевный мир персонажей повести.
Космонавт Огнев: “Скоро исполнится его мечта. Он полетит на Марс! Во имя торжества разума, во имя Будущего, ради человечества понесет он к таинственной планете эстафету дружбы и знания/ И эти могилки, эти печальные воспоминания… Они тоже зовут, указывают, требуют… Прощайте, мои дорогие! Я выполню ваш наказ, не отступлю ни перед чем, пройду весь трудный путь до конца. И вы будете вместе со мной, там, во мраке космоса!” Космонавт, который прихватывает на Марс могилки… Брр!
Ну, да ладно, просто неудачно написанный абзац.
Космонавт Савенко: “Здравствуй, рожь! Привет, жаворонок! Низкий поклон тебе, бескрайнее родное поле. Поцелуй меня, ласковый ветер, как когда-то - помнишь - в детские годы… Коснись меня, ветер! В сердце моем безграничная благодарность тебе, полям, солнцу, щедрой земле отцов… Белый змей. Бумажный змей! Именно от него начался путь Андрея в космос… Это ты вел его по трудной и прекрасной дороге, змей далекого детства! Слава тебе!…” Мать Савенко: “О, какая счастливая у меня судьба! Сын полетит к таинственным мирам, и следом за ним простелется материнское благословение. И под дыханием этой любви черная бездна оживет и станет когда-нибудь домом, таким же уютным, как теплая, обжитая земля!” Три разных человека говорят одинаково выспренне, с восторженностью и “слезой” воспитанниц института благородных девиц. Фейерверк пустословия, за которым нет ничего: ни индивидуальности героя, ни глубоких переживаний, ни ума, ни сильных чувств. Все наигранно, патетично, плоско, как в старинных “трррагедиях”, разыгранных провинциальными актерами.
– Вы заведомо берете самые неудачные отрывки.
– Щадя ваше время, я ограничиваю себя в примерах. Иначе мне пришлось бы просидеть у вас несколько дней. Не могу, однако, удержаться еще от одной цитаты. “Вселенная! Я знаю твою тайну: ничто не исчезает бесследно! Слышишь, Вселенная, я понимаю тебя! Бери мои мысли, мои страдания, мои радости…” Не стану интриговать вас загадкой, откуда эти слова, как две капли воды похожие на приведенный монолог и содержащие столь же “глубокие” мысли. Они принадлежат ученому все с той же высокоцивилизованной планеты Та-ины, жители которой, кстати, разительно отличаются от землян, ибо “обмен веществ в их организмах… происходит на принципах ядерной энергетики”.
– Романтичный, взволнованный стиль автора…
– Чтобы у вас не было больше никаких сомнений в отсутствии какого-нибудь особого “стиля Бердника”, вновь предлагаю догадаться, кому принадлежат такие вот фразы: - Уж не ищешь ли ты, дорогой Артур, какую-нибудь панацею от лучевой болезни? - недоверчиво спросил Гонсало.
– Я задался целью найти средство, полностью защищающее от лучевого удара, если хочешь, панацею… Возможно, еще рано делать окончательные выводы, но, кажется, мы не далеки от истины.
Гонсало изумленно взглянул на Ренара.
Алессандро подался вперед.
– Вы хотите сказать, что нашли…
– Да, я нашел радоний…” - Всю свою жизнь я отдал разрешению одной проблемы, - начал Милоти. - Я близок к открытию величайшей тайны…” Это опять-таки написано тремя разными авторами. Взяты кульминационные моменты трех разных книг - появляется великое открытие, которое и сообщает движение сюжету. Чем в этой компании выделяется “стиль Бердника”?
Конечно, оттенки имеются. Скажем, у Бердника больше красивости и выспренности; стиль же Винника суше. Но это отклонения в пределах одного и того же общего для всех стиля унылого трафарета. Это прослеживается буквально во всем.
Вот, например, как рисует портрет своего героя Винник: “Кроме уже упоминавшихся голубых глаз, лицо Лайги привлекало маленькими подвижными губами цвета спелого граната, умеренно вздернутым носиком, прекрасным цветом кожи - очень белой и тем резче оттенявшей нежный румянец на щеках”.
Митрофанов: - “Все было хорошо в девушке: и две тугие косы, уложенные венцом, и широкие брови вразлет, и высокий лоб, который иногда прорезывали мелкие упрямые морщинки”.
– По-моему, вы впадаете в ту же крайность: все жзображать одной краской, на этот раз черной. Так или иначе каждый автор открывает читателю новый горизонт мечты. Это искупает многое. В некоторых из них с публицистической страстностью раскрывается, как я уже говорил, звериная сущность капитализма. Это нужные нам книги при всех их недостатках, - ибо они правильно воспитывают людей.
– Не будем смешивать замысел с исполнением. Никудышное исполнение губит самый лучший замысел, подчас приводя к прямо противоположным результатам, - это тоже азбука.
Задумайтесь над тем, как изображены враги в книгах “Фантастические повести” Винника, “Проданная Луна” Кноцова, “Желтое облако” Ванюшина, “Призрак идет по земле” Бердника. Они все там на одно лицо: жадные, хищные, жестокие и… глупые. Да, волей авторов они все оглуплены. Их легко, картонным мечом побивают положительные герои. Конечно, среди наших врагов дураков немало. Но не они делают погоду.
Правда жизни в том, что перед нами жестокий, алчный и отнюдь неглупый враг. А чему учат эти книги? Пренебрежению к уму и хитрости наших идеологических противников, предельной легкости победы над ними, шапкозакидательству?
В борьбе недооценка врага - серьезный просчет. Так что давайте считать не только плюсы, но в минусы “страстной публицистичности” названных книг.
О горизонтах мечты, которые якобы раскрываются в этих книгах. Начать с того, что там открываются давно открытые горизонты. Вот нехитрый набор фантастических сюжетов, присущий книгам, о которых мы говорим. Встреча с инопланетной цивилизацией (“Сердце Вселенной” Бердника, “На десятой планете” Митрофанова, “Катастрофа” опять же Бердника). Это, так сказать, сюжет № 1. Сюжет №2: делается великое открытие (обязательно за рубежом), капиталисты стараются овладеть им в своих корыстных (военных) целях; с злодеями борются положительные герои. Открытие либо исчезает при трагической гибели какого-нибудь героя, либо начинает служить благу. По такому сюжету построены “Тайна доктора Хента”, “Охота за невидимками” Винника, “Проданная Луна” Кнопова, “Призрак идет по земле” Бердника.
Сюжет № 3 - гибрид двух первых: “Желтое облако” Ванюшина, “Путешествие в антимир” Бердника.
Вот и весь несложный сюжетный набор, которым оперируют названные авторы. Согласитесь, что для пяти авторов девяти произведений набор бедноватый. А главное - не новый.
Это отраженный свет настоящих произведений фантастики, которые отличаются от подделки в том числе и тем, что в них действительно открываются новые горизонты мечты; Конечно, Бердник, например, может обидеться, что его ставят в один ряд с Митрофановым, у которого несусветное число научных ляпов и попросту безграмотных фраз. Но вот ведь какие еще происходят чудеса. Попробуем пересказать сюжет сразу двух произведений: “На десятой планете” Митрофанова и “Сердце Вселенной” Бердника.
Получено таинственное известие с Цереры (спутника Сатурна). Ученые предполагают, что это сигнал бедствия, посланный инопланетным разумом. Космонавты летят к Церере (спутнику Сатурна). Они находят терпящую бедствие цивилизацию (инопланетных космонавтов). Они спасают цивилизацию (космонавтов). Происходит взаимное обогащение двух миров. Точка.
– Уж не намекаете ли вы на плагиат?
– Что вы! Никакого плагиата. Просто авторы макают перо в одну и ту же чернильницу, имя которой - примитив.
– Все же нельзя так: все у этих авторов плохо, все примитив. Зачеркивать творчество писателя - вот как это называется.
– Жупел не к месту. Полностью согласен, что нельзя зачеркивать творчество писателя. Творчество! А если его нет? Если его нет, то зачеркивать попросту нечего. Как прикажете в таком случае говорить: “с одной стороны, никуда не годится, с другой стороны - упаси бог! - не будем давать оценок как-то: “примитив”, “подделка под”. Требовательность не отменяет четкости оценок, а подразумевает их. Но к этому мы еще вернемся. Замечу лишь, что разговор у нас еще не идет о всей литературной продукции, скажем, Бердника, автора довольно плодовитого. Так что возражение и вовсе впустую.
Еще несколько замечаний. Мы говорили о стиле, но можно говорить и о простой грамотности авторов псевдофантастики.
Начнем с А. Митрофанова - его “Десятая планета” крайняя на этой выставке плохой продукции, разложенной на вашем редакторском столе. Тут перлы едва ли не на каждой странице. “Циммерман, тот покладистый, и труды уже успел написать, но вот беда - очень уж тщеславен”. “В нём есть восторженная влюбленность в атомный двигатель”. “В дальнейшей беседе назывались сложные астрономические расчеты…” “Желтое облако” В. Ванюшина, наоборот, одна из лучших книг этой серии (если только здесь уместно само выражение “лучшая книга”). Тем не менее… Разрешите взять ради экономии времени с вашей полки “Крокодил”.
Смотрите, какие восхитительные фразы попали в поле зрения сатирика.
“…Памятник слишком красив как памятник”.
“В душе неистовствовала буря, какие она видывала в пустыне”.
“Я сегодня скучен для вас?” “Корреспондент нашел сказать кое-что новое о Новосельском”.
Не удивительно, что сатирик не мог не прокомментировать хотя бы последнюю фразу: “В Одессе, на рынке, правда, говорят еще эффектнее: “Вы имеете сказать что-нибудь плохого за этих бычков?” Что тут возразить фельетонисту? Прав он.
Как видите, стиль и грамотность даже Ванюшина не зря оказались достойными внимания “Крокодила”.
– Неужели вы не находите решительно ничего хорошего, своеобразного, впечатляющего? Ни одной книги, ни одной страницы, которая вызывала бы интерес, поднималась бы над уровнем серости?
– Нет, почему же, есть интересные и в некотором роде своеобразные страницы. У Бердника. Только я не знаю, лучше это или хуже, чем примитив.
– Но вЫ же признали…
– Сейчас поясню. Я имею в виду некоторые места из “Путешествия в антимир” Бердника. Читать интересно. Нешаблонно (по сравнению с другими произведениями псевдофантастики). Пожалуй, ошеломляюще даже. Несомненно, иной читатель с восторгом проглотит эти страницы. Но я не уверен, что этот восторг надо разделять. Совсем не уверен.
Герои повести - Генрих и Люси, его невеста, - участвуют в жестоком эксперименте по заброске людей в антимир. И вот они в антимире. Как ему и подобает, это очень странный, фантастический мир, изображенный, кстати, не так уж плохо.
Если бы тем дело и кончилось, я с удовлетворением смог бы отметить, что в бесплодной пустыне примитива читатель все же встретил нечто похожее на оазис.
Но очень скоро выясняется, что антимиров бесконечно много. И тут у Бердника начинается наворот несусветный. Такой, что дальнейший пересказ событий становится крайне трудным.
По той причине, что в один прекрасный момент из повести исчезает смысл. Пожалуй, это происходит здесь.
“Физический мир, антимир и мир синтеза, - пытается дать объяснение автор устами жителя какого-то из антимиров, - только первая ступень Беспредельности. Эволюция - это непрерывная пульсация Великой Спирали Бытия, охватывающая все существующее в бесконечности Космоса. Все взаимодействует, обусловлено тесными причинными связями.
Достижение в одном мире - это достижение для всего Космоса, падение в одном мире - падение, тормоз для всей Спирали. Микрокосм и макрокосм едины. Они неисчерпаемы во всех аспектах, вечны и неизменны в сущности и бесконечно изменчивы в своих проявлениях на разных этапах бытия”.
Выслушав такое объяснение, Люси “жалобно шепчет”:
“- Мозг не может все воспринять! Но то, что вы говорите, прекрасно!” “Не понимаю, но нахожу прекрасным…” Первое, безусловно, верно: понять “объяснение”, а следовательно, уразуметь логику и смысл происходящего в повести почти невозможно.
Но следует ли непонятное считать прекрасным?
Самый элементарный анализ показывает, что позиция “не понимаю, но нахожу прекрасным” принадлежит не Люси, а автору. Иначе зачем было писать то, чего никто, в том числе и автор, толком понять не может? Граница между смыслом и бессмыслицей, между логикой и бредом исчезает во снах. Да и те фантасмагорические картины сновидений часто связываются воедино своеобразной логикой. Но должна ли фантастика стремиться в призрачный мир ирреального, где нет никаких опор, где все зыбко, зашифровано, символично, загадочно и непонятно? Убежден, что этого делать нельзя, хотя на Западе и процветает так называемая “абстрактная литература”, в произведениях которой что ни фраза, то иероглиф. Такая литература перестает служить средством выражения духовного мира людей.
Я не склонен, однако, отождествлять “Путешествие в антимир” с произведениями “абстрактной литературы”. Не склонен потому, что в фантасмагорических картинах, рисуемых Бердником, все-таки можно уловить мысль. Наша жизнь (антимир тут ни при чем) имеет как бы два полюса: невежество, злоба, с одной стороны, совершенство, красота, добро - с другой. И все располагается меж этими полюсами, ступенька за ступенькой. И все, что происходит, наше поведение в том числе, так или иначе влечет мир к какому-нибудь из полюсов.
Не берусь утверждать, что мысль понята безусловно правильно: происходящему в повести можно дать и другое объяснение. Но думаю, что все же не слишком ошибаюсь в толковании. И если догадка верна, хочется спросить: зачем для иллюстрации понятной в своей основе и не столь уж глубокой мысли надо было идти на конфликт, со смыслом и логикой?
Вероятно, объяснение этому вот какое. Берднику не чужд полет фантазии. Но этому полету мешает как литературная беспомощность, так и неумение строить выдумку правдоподобно. Это сковывает, мешает фантазии Бердника разыграться, в силу чего она и не поднимается выше уровня примитива.
И вот автор, наконец, дает ей свободу, отбрасывая прочь какую бы то ни было научную основу, логику. Фантазия немедленно расцветает иышным цветом. Но “победа” обходится слишком дорого…
Ничто так не выдает беспомощность, как нагромождение фактов, говорил Бальзак. По-моему, ничто так не выдает беспомощность фантаста, как безудержное нагромождение событий, одно невероятней другого. В менее броской форме это нагромождение присуще не только Берднику, но и другим, о ком мы ведем разговор. Делается это невольно и по вполне понятной причине. Не будь нагромождения “острых” событий, “фантастических” картин, любой редактор хоть чуть-чуть со вкусом незамедлительно увидел бы, что перед ним не произведение литературы, а пустота. Ну как же: специфика жанра… А она вовсе не в этом. Вспомним: много ли острых приключений, сверхфантастических картин в “Туманности Андромеды” Ефремова? Даже самое, пожалуй, остросюжетное и “сверхфантастическое” произведение - “Солярис” Лема - и то не выдержит соревнования со многими “шедеврами” псевдофантастики. Так что да не застелет ваши глаза, товарищ редактор, вся эта маскировочная пыль.
– Протестую: вы уже перешли на личности! Будто я виноват в появлении псевдофантастики!
– Извините, пожалуйста. Лично к вам, Ивану Ивановичу Иванову, у меня никаких претензий нет. Но к редактору - немало. Кто, как не редактор, дал путевку в жизнь этим вот книгам? С того читателя, который не слишком разборчиво глотает псевдофантастику, как до этого глотал “шпионские романы”, взятки гладки. Не всем, к сожалению, нужно чтение, некоторым подавай чтиво. Но почему редактор должен идти на поводу у этой части читателей, мне непонятно. Хорошо, издание такой литературы приносит издательству доход. Тогда нечему бы не переиздавать те лучшие произведения фантастики, которые становятся библиографической редкостью на другой день после выхода в свет и остаются ею годы и годы?
Почему бы с помощью этих книг не воспитывать вкус определенной категории читателей? Ведь к таким людям серьезная, умная фантастика доходит несравненно легче, чем произведения других жанров литературы. Ограничивая доступ к читателю фантастики (надеюсь, мы не будем путать теперь ее с подделкой?), редактор открывает шлюзы для псевдофантастики и тем демонстрирует редкое пренебрежение к интересам читателя, к воспитанию его вкуса.
Сделаем, наконец, простой подсчет. Тираж книг этой стопки - более полумиллиона. Средний объем каждой книги - около двухсот страниц. Опять же в среднем на один экземпляр приходится два-три читателя. По примерным подсчетам, выходит, что эти книги отняли у читателей несколько сотен лет времени. Что они дали взамен, мы уже видели. А ведь произведений псевдофантастики немало и кроме перечисленных.
Не волнуйтесь, сейчас уйду. Еще несколько слов: мы не договорили об отношении к тем авторам, чьи фамилии мы тут склоняли. Право, у меня нет никакого желания ставить что-то в вину, скажем, А. Митрофанову. Написал беспомощную книгу; к сожалению, ее издали, но, кажется, автор и сам понял, что к чему: больше его книг такого уровня вроде бы не появляется. Труднее с А. Бердником: вот одно его произведение, вот другое, третье, четвертое… А прогресса никакого.
По-моему, вы уверены, что сейчас я потребую отлучить Бердника от пера. Нет. Это вы, редактор, поощряете писать того же Бердника плохо, щедро издавая эти вот его сочинения.
А зачем тогда, спрашивается, Берднику тянуться к настоящей литературе, если его и так издают? Со стороны редактора это медвежья услуга. Может быть, из него получился бы неплохой писатель-фантаст. Но пока что вы мешаете этому. Забота - да, внимание - полной мерой, но без требовательности все эти ценные качества оборачиваются минусом. Печатайте всех, названных здесь и не названных, но давайте без скидок.Повесьте над вашим столом плакат: “Писатель и редактор, будьте взаимно требовательны”.
…Я попрощался и ушел. На редакторском столе осталась рукопись книги.
Интересно, что-то мы в ней прочтем?
П. РАЗГОВОРОВ Блеск и нищета роботов
Антон Павлович Чехов был врачом. Однако вы с немалым удивлением посмотрели бы на того, кто рекомендовал бы чеховские произведения в качестве источника, способного расширить и углубить ваши познания в медицине. Явная нелепость подобного рода рекомендаций сразу же бросилась бы вам в глаза.
Иначе обстоит дело с книгами, относящимися к так называемой научной фантастике. Даже сами писатели-фантасты порой склонны смотреть на себя и своих собратьев по перу как на распространителей знаний, приобщающих неискушенного читателя к тайнам науки. И. А. Ефремов в своем предисловии к сборнику рассказов Айзека Азимова “Я, робот”[Айзек Азимов, “Я, робот”. Изд-во “Знание”, Москва, 1964] так, например, и пишет: “Рассказы Азимова, написанные с мягким юмором и, можно сказать, сочувствием к роботам, познакомят читателя с важными проблемами кибернетики”. В коротком редакционном напутствии читателю та же мысль выражена с не меньшей определенностью: “Как ученый А.Азимов, конечно, хорошо знаком с современными проблемами кибернетики. В своем сборнике рассказов он попытался представить себе возможности роботов - кибернетических машин недалекого будущего”.
Горькое разочарование, думается мне, ожидает, однако, того, кто, поверив этим словам, раскроет книгу “Я, робот” в надежде, что, прочитав ее, сможет уже не хранить молчания, попав в компанию, ведущую умный спор о кибернетических устройствах.
…А вот профессор биохимии медицинского отделения Бостонского университета Айзек Азимов в книге “Я, робот” пишет: “…Приятно, конечно, вступить в беседу со ссылкой на такой авторитет, но все-таки лучше воздержитесь, если разговор идет действительно о кибернетике и ваши собеседники обладают о ней сведениями хотя бы в объеме заметки, которую можно поместить на обратной стороне листка отрывного календаря”.
Но позвольте, могут возразить мне. Книга Азимова написана о роботах, а что же такое робот, как не кибернетическая система?
Что такое робот? У Бернарда Шоу, бросившего этот вопрос в переполненный зал лондонского “Театра св. Мартина”, где в июне 1923 года состоялся диспут после премьеры знаменитой пьесы Карела Чапека “R.U.R.”, был заготовлен и ответ: “…Существо, лишенное оригинальности и инициативы, которое должно делать то, что ему прикажут”.
Согласитесь, что это неплохое определение, во всяком случае именно в таком значении слово “робот” укоренилось в самых различных языках мира. Правда, Бернард Шоу счел возможным ничего не сказать о способах изготовления роботов. Это, разумеется, может несколько обесценить его определение в глазах людей, дорожащих прежде всего технической стороной дела. Однако в оправдание автора “Пигмалиона” следует заметить, что ему пришлось бы необычайно расширить свое определение, начни он перечислять все способы, с помощью которых в разные времена изготовлялись роботы.
Древние греки, например, считали, что робота может выковать кузнец, не каждый, конечно, но такой искусный мастер, как хромоногий Гефест. Первый “металлический человек” Талое был делом его рук и бдительно охранял остров Крит, швыряя камни в корабли тех, кто приближался с недобрыми намерениями к владениям царя Миноса. В средние века чернокнижники и маги сэтворяли “гомункулюсов” с помощью заклинаний, причем успех дела зависел от того, есть ли у заклинателя корень мандрагоры. Наконец, старый Россум в пьесе Чапека “открыл химическое соединение, которое имело все качества живой материи”, а молодому Россуму “пришло в голову выпускать живые, наделенные интеллектом, рабочие машины”.
Стоит ли вспоминать об этих и других “способах”, где фантастика явно оттесняет науку на задний план? Не предстают ли перед нами действительно в рассказах А. Азимова “современные роботы” (“кибернетические машины недалекого будущего”), которые, вполне удовлетворяя определению Бернарда Шоу, имеют перед своими предшественниками то великое преимущество, что вот-вот станут предметами серийного массового производства? Можем ли мы сомневаться в их “реальности”, если они уже проходят комиссию технического контроля и кандидат физико-математических наук А. П. Мицкевич в статье “Роботы - что они могут?”, упоминая о роботе Спиди, герое одного из рассказов Азимова, находит “техническое объяснение” поведения автомата в общем верным, и непонятно ему лишь одно, “зачем автору понадобились “позитронные потенциалы”, когда значительно естественнее было бы говорить просто об электрических сигналах?”. Как видите, речь идет о технических деталях… И все же мы нисколько не сожалеем о том, что напомнили читателям древние страницы родословной роботов, ибо, на наш взгляд, “фантастический потенциал” книги американского ученого равен “фантастическому потенциалу” древнегреческого мифа о Талосе, и сомнительную услугу оказывают американскому фантасту те, кто предлагает смотреть на его произведение “кибернетическими очами”. Нам думается, что если бы Айзека Азимова действительно волновали научно-технические проблемы, когда он создавал свои рассказы, то писатель не относился бы именно к.этой стороне своего творчества с такой завидной беспечностью.
Что произойдет, если начать “поверять алгеброй гармонию” и разбирать рассказы Азимова по законам “теории высших автоматов”?
Уже при чтении первого же рассказа, “Робби”, открывающее сборник, в таком случае у героя начнут разбалтываться плохо закрученные “гайки и винтики”.
“Робби, - узнаем мы от доктора Сьюзен Кэлвин, главного робопсихолога фирмы “Ю. С. Роботе”, - был немой робот. Его выпустили в 1996 году, еще до того, как роботы стали крайне специализированными, и он был продан для работы в качестве няньки”. Робби прекрасно справлялся со своими обязанностями добрый десяток лет, а затем… “был пущен на слом, как безнадежно устаревший”.
Передо мной лежит напечатанная года четыре тому назад во французском журнале “Сьянс э ви” любопытная фотография. На первый взгляд на ней нет ничего примечательного: комната, прислоненный к тахте пылесос, молодая женщина вытирает тряпкой пыль с журнального столика. Но весь снимок расчерчен взаимно переплетающимися, извивающимися, как кольца табачного дыма, линиями; фотограф, закрепив на запястьях рук жены два ярких электрических фонарика, сумел таким образом зафиксировать кривую движений, совершаемых при уборке комнаты. “Эти перепутавшиеся линии, - говорится в подписи, - демонстрируют “метод” человеческой работы.
Как перевести их в “программу” робота?” Мы еще вернемся к этой фотографии, а пока предлагаю вам отложить в сторону нашу статью и пойти поиграть с вашим маленьким сыном, или внуком, или братом. Непоседливый карапуз давно уже недоволен тем, что вы уткнулись в книжку. Он готов затеять возню. Повозитесь с ним, ну, хотя бы минут двадцать-тридцать, а потом, когда вы сядете отдохнуть (уф, больше не могу!), подумайте, можно ли было “пускать на слом как “безнадежно устаревшего” Робби, который целыми днями неутомимо играл с маленькой Глорией. И цело, конечно, не в усталости, а в том, что трудно представить себе робот-автомат, способный выполнять роль няньки, в качестве исходного момента “роботехники”, - он мог бы появиться лишь как ее высокая, чуть ли не завершающая ступень.
По сравнению с Робби “мятежный робот” Кьюти, лучше людей управляющий сложной межпланетной энергопередаточной станцией, - самый заурядный автомат, ибо он имеет дело с приборами, характер работы которых строго предопределен, в то время как Робби… Но извините меня, кто-то опять тащит вас за ногу и хочет покататься на вас, “как на ракете”.
Осуществление робота-няньки невозможно без полного разрешения проблемы “предсказания” или “предвидения” результатов. В противном случае даже у десяти роботов дитя обязательно останется без глаза. Между тем проблема “предвидения” в условиях системы “робот - ребенок” бесконечно сложнее, чем в системе “робот - машина”. А ведь роботы новых моделей, пришедших на смену “немому Робби”, или управляют машинами, или сами выполняют роль машин. Странными путями развивается “роботехника” в книге Азимова - от “совершенного” к “примитивному”!
Но допустим, что профессор Бостонского университета в данном случае действительно недостаточно подумал о том, сколь сложно запрограммировать труд няни. Может быть, зато в других рассказах он “кибернетически непогрешим”?
И здесь сразу же бросается в глаза общая для всех рассказов сборника “Я, робот” особенность. Они написаны так, как будто, начиная от наших дней и до тех времен, куда переносит нас фантазия писателя, то есть в течение целого столетия, все усилия науки и техники были направлены только на создание робота, а в остальных областях производство претерпело весьма мало изменений.
Возьмем в качестве примера рассказ “Как поймать кролика”. Действие его происходит на астероиде, где опытные техники фирмы “Юнайтед Стейт Роботе” Пауэлл и Донован провер/шт работу нового “составного робота”. Вот как описывает его автор: “Он был немногим более двух метров ростом - полтонны металла и электричества. Много? Ничуть, если эти полтонны должны вместить массу конденсаторов, цепей, реле и вакуумных ячеек, способных проявить практически любую доступную человеку психологическую реакцию. И позитронный мозг - десять фунтов вещества и несколько квинтильонов позитронов, которые командуют парадом”.
Хорош красавец, не правда ли? Но чем же занимаются на астероиде этот ДВ-5 и подчиненные ему вспомогательные роботы? Они работают в шахтах как рудокопы… вооруженные самой несложной техникой. “Позитронный мозг” - и обыкновенные вагонетки! “Могучие металлические руки быстро разбирали кучу обломков, выброшенных взрывом”, - так описывает автор работу, выполняемую ДВ-5 и его подчиненными.
Право же, попади в их бригаду Талое, сотворенный Гефестом без учета кибернетических достижений XX века, “меднорукий защитник богатых владений Миноса”, накопивший достаточный опыт в метании каменных глыб, ни в чем не отстал бы от кибернетических сыновей “Ю. С. Роботе энд Мекэникэл Мэн Корпорейшн”.
Задумываясь над этим противоречием, вспоминаешь, что Сьюзен Кэлвин еще до начала своей блестящей научной карьеры (то есть примерно в 2006 году) работала над докладом “Роботы с практической точки зрения”. “Это было первое из многих исследований Сьюзен Кэлвин на эту тему”, - сообщает нам автор. Как видите, проблема очень интересовала его героиню. Что смогла бы она написать, если ее представления о роботах ограничивались только тем, что можно почерпнуть из самой книжки “Я, робот”? Какова ценность роботов Азимова с практической точки зрения? Действительно ли перед нами кибернетические машины недалекого будущего?
Здесь я позволю себе вернуться к той исчерченной замысловатыми линиями фотографии, о которой я уже упоминал. Человек, предложивший бы создать робота, способного орудовать пылесосом и тряпкой и тем самым автоматизировать одну из операций труда домашней хозяйки, натолкнулся бы на решительное требование конструкторов прежде всего преобразовать само человеческое жилище, привести его в более упорядоченную систему, ибо никакой автомат не сможет плодотворно функционировать в доме, заставленном всевозможной мебелью и утварью так, что, как говорится, сам робот ногу сломит. В этой связи уместно привести слова советского академика Б. Петрова, писавшего недавно в статье “Автоматизация- знамя технического прогресса”: “…Бессмысленно говорить о механизации и автоматизации монтажа и сборки, например, телевизоров некоторых марок, выпускающихся еще и сейчас нашей промышленностью. Если заглянуть в такой телевизор, вы увидите нагромождение проводов и деталей, в котором к какому-нибудь узлу нелегко и человеку-то добраться, не то что машине. Только широкий переход к печатным схемам, к панельно-блочным конструкциям может создать условия для автоматизации процессов сборки и монтажа радиотехнических изделий”.
Автоматизация вызывает кардинальное переосмысление и перестройку всего процесса производства в любой отрасли промышленности. Это происходит сейчас на наших глазах.
Еще большие изменения произойдут в будущем. И поэтому возникает вопрос: найдется ли при дворе королевы Автоматизация место для человекоподобных роботов? Не растворятся ли все функции, которые возлагают на них писатели-фантасты, в общем автоматизированном потоке производства? Не отпадет ли в них практическая потребность именно в тот момент, когда они станут практически осуществимы?
“Советский математик, академик А. Н. Колмогоров, - пишет в уже цитированной нами статье “Роботы - что они могут?” А. П. Мицкевич, - показал, что достаточно сложный автомат может успешно “разыгрывать” самые сложные человеческие эмоции. А для того чтобы “обман” был достаточно убедительным, необходимо роботу придать соответствующий внешний вид - оформить его по образу и подобию человека”.
“Обман”, о котором пишет А. П. Мицкевич, может быть необходим при создании модели робота, призванной не столько выполнять ту или иную рабочую функцию, сколько поражать зрителя именно своей человекоподобностыо (такие модели существуют, и первые из них, являя собой чудеса механики, изготовлялись еще в XVIII веке). Они неизбежно бывают перегружены “лишними” деталями подобно всякой заводной игрушке, механизм которой может отлично работать и без прилаженного к нему “внешнего оформления”. Но это как раз тот случай, когда “обман” дороже “низких технических истин”, ибо ребенку гораздо интереснее смотреть, как птичка машет крыльями и, наклоняя голову, постукивает клювом по столу, чем просто наблюдать, как вертятся металлические колесики и шестерни.
Равным образом можно, разумеется, оформить и электродную вычислительную машину в виде роденовского “Мыслителя”. С технической точки зрения это столь же возможно, сколь и бесполезно.
Так в какой же степени оправдано придание роботам человекообразного вида? Анатомическое строение человеческого тела определено биологическими и физиологическими особенностями нашего организма. Почему же роботы, сделанные из совершенно другого теста, должны быть на нас похожи? И не это ли “человекоподобие”, на котором по каким-то загадочным причинам остановили свой выбор инженеры и конструкторы “Ю. С. Роботе энд Мекэникэл Мэн Корпорейшн”, приводит к тому, что даже в том весьма искусственном мире, где происходит действие большинства рассказов Айзека Азимова, его роботам, по сути дела, не к чему применить свои “силы и способности”?
“Следовательно, - может спросить меня читатель, если у него хватило терпения добраться до этого места статьи, - книжка “Я, робот” вам не понравилась?” Напротив, я нахожу ее очень талантливой и интересной.
Но захватила она меня отнюдь не тем, что расширила круг моих сведений об электронных машинах. Роботы Азимова, на мой взгляд, “кибернетически несостоятельны”, но зато они отличные герои научно-фантастического мира, созданного воображением писателя-ученого. Они прекрасно справляются со своими обязанностями, первейшая из которых - поддерживать неослабевающий интерес читателя к повествованию. Как же создается это “позитронное поле”? Мне кажется, автор мог бы выбрать эпиграфом слова, сказанные в свое время Карелом Чанеком, когда его пьеса с триумфом завоевывала сцены Европы и Америки: “…Для меня речь шла не о роботах, а о людях”. Мир человеческих отношений, показанный под тем своеобразным острым углом, который свойствен подлинной научной фантастике, - вот что привлекает читателя в книге “Я, робот”. Вчитайтесь в “Три Закона роботехники”, вынесенные в начало книги и составляющие ее главную движущую пружину. Только лишившись всякого чувства иролии, можно зачислить эти заповеди по “техническому ведомству”.
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
2. Робот должен повиноваться командам, которые ему дает человек, кроме тех случаев, когда эти команды противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противоречит Первому и Второму Законам.
Перед нами свод этических норм, нечто вроде присяги, которую приносят электронные устройства, посвящающие себя в роботы. Не такие ли же, только выраженные более высокопарным языком, “обязательства” брали на себя средневековые рыцари? Дон-Кихот, встретившись со Спиди или Дэйвом, не ошибся бы, приняв их за представителей какого-нибудь рыцарского ордена. И если на первых порах причиной тому послужило бы лишь на редкость схо?;ее “обмундирование”, то затем Рыцарь Печального Образа узнал бы в роботах Азимова своих скромных товарищей по духу: единственная их цель - быть слугами человека, именно для этого они созданы. Но три закона, определяющие поведение роботов в различных ситуациях, способны вступить в противоречие. Возникают острые конфликты, и мы с напряженным вниманием следим за тем, как разворачивается действие. Впрочем, действием в обычном смысле этого слова рассказы Азимова небогаты, это скорее новеллы-задачи, так как почти в каждом случае мы должны “ловить кролика”, то есть находить логическим путем причины отклонения роботов от “нормального поведения”, а затем искать способ, как восстановить равновесие, нарушенное потому, что в заданной автором обстановке поценциал того или другого закона оказывается или ослабленным, или, наоборот, слишком сильным. В этих поисках нам помогает то обстоятельство, что роботам Азимова “ничто человеческое не чуждо” и поэтому за внешним отступлением от нормы всегда скрывается глубоко человеческая, понятная нам причина. Вместе с тем благодаря “отстранению” (речь все же идет о роботах) мы с особенной наглядностью видим некоторые сложные черты человеческой психологии, совершенно так же, как в творениях баснописцев мы находим яркое воплощение человеческих характеров.
Приведу такой пример. В “Автобиографии” Назыма Хикмета, написанной им в сентябре 1961 года, есть строки: Врал, потому что стыдился за другого, врал, чтобы не обидеть другого, врал иногда и без всякой причины.
Мне пришлось спорить по поводу этих строк с одним товарищем, безапелляционно утверждавшим, что всегда и во всех случаях следует говорить правду. Теперь я порекомендовал бы ему прочитать новеллу “Лжец”, одну из лучших в сборнике Азимова. Ее герой, робот, “врал, чтобы не обидеть другого”, и дилемма правды и лжи стоила ему “жизни”.
А рассказ “Логика”? Разве не примечательно, что “богостроительские” теории робота Кьюти поразительным образом совпадают со взглядами, которые упорно пропагандируют некоторые западные философы и теологи, пытающиеся примирить религию и науку? Донован и Пауэлл отводили душу, называя “робота-пророка” то железным выродком, то медной обезьяной, то электрифицированным чучелом. Попади они на земле в общество бельгийского теолога Жана де Вутерса, техникам “Ю. С. Робот” пришлось бы быть посдержаннее, а выслушали бы они такие, к примеру, рассуждения: “Предположим, что необходимо объяснить устройство радиоприемника и кто-нибудь утверждает, что оркестр и редакция последних известий находятся в самом ящике. Другой же говорит, что приемник всего лишь орган, трансформирующий электромагнитные колебания в звуковые волны. Кто же из двух прав? Следует ли признать правым первого на том основании, что мы не видим электромагнитных волн, проникающих в ящик? А если поток радиоволн будет прерван, музыка 355 оборвется, справедлив ли будет вывод, что это сам поток сочинил и исполнял музыку?
Это было бы абсурдным, не правда ли? И однако, на этом абсурде покоится вся нынешняя концепция взглядов человека.
Напротив, для просвещенного наблюдателя все происходит так, как если бы человек, такой, каким мы его видим, был телом, управляемым более высокоорганизованным существом.
Контакт осуществляется на поверхности мозга - на уровне окончания нервных клеток, которые вовсе не являются окончаниями, а представляют собой реле”.
Рассуждения де Вутерса не только по своему содержанию, но прежде всего по самому способу мышления напоминают “пророчества” Кьюти. “С каких пор свидетельства наших органов чувств доогут идти в сравнение с ярким светом строгой логики?… Я, как мыслящее существо, способен вывести истину из априорных положений”, - заявляет Кьюти озадаченным Пауэллу и Доновану. Вутерс также сбрасывает со счетов все, что приносят в наше познание мира и самих себя органы чувств, и выбирает в качестве арены идеологического сражения “чистую логику”. Возможно, что на какой-то момент этому философу, выступившему на страницах весьма солидного бельгийского журнала “Синтез”, и удается если не целиком завоевать читателя, то, во всяком случае, поколебать его убеждения. (“Послушай, Грег, а тебе не кажется, что он прав насчет всего этого?” - говорит вконец измученный Донован Пауэллу в рассказе Азимова.) Но уязвимые места рассуждений Жана де Вутерса обнаруживаются, когда со всей отчетливостью становится ясно, что за ними нет ничего, кроме чисто логических построений. И мне думается, что человеку, “вооруженному” рассказом Азимова, легче было бы спорить с такими современными “богостроителями”. Разумеется, рассказ не мог бы играть роль аргумента в такой дискуссии, но в нем четко расставлены силы - люди, защищающие союз чувств и мысли как основу познания, и робот, отвергающий роль чувств и находящийся во власти “чистой логики”, на поверку оборачивающейся схоластикой.
Может показаться, однако, что морально-этические проблемы, которые поставлены в книге Азимова, разрабатываются, так сказать, в несколько экспериментальном, лабораторном порядке. Писатель создает условия для проведения определенного опыта, а затем знакомит нас с полученными выводами.
Затрагивают ли эти “опыты” те или другие явления общественной жизни? Думаю, что да.
Передо мной один из сентябрьских номеров американского еженедельника “Лук” за 1964 год. Полстраницы занимает заголовок основной статьи “Кого это волнует?”. Подзаголовок довольно полно выражает ее содержание: “Убийства, грабежи, вооруженные нападения, изнасилования - жертвы взывают о помощи, но соседи и прохожие отворачиваются. В чем причины этого нового национального бедствия?” Автор статьи Леонард Гросс, по сути дела, пытается определить, почему в жизни американского общества резко упал “потенциал” Первого Закона и возросло влияние Третьего.
Я смело пользуюсь этой заимствованной из книги “Я, робот” терминологией, так как уверен, что высокие морально-этические законы “роботехники” припомнятся каждому, кто ознакомится с содержанием статьи Гросса.
Ее автор пытается разрешить проблему, несомненно, гораздо более сложную, чем любая из тех, которые пришлось разрешать за всю свою многолетнюю жизнь Сьюзен Келвин, пришедшей к выводу, что роботы “чище и лучше” ее соотечественников.
“Кого это волнует?” Или, вернее, почему “люди отказываются приходить друг другу на помощь?”. Почему они не действуют так, как герои рассказов Азимова?
“Многие объяснения были предложены, - пишет Леонард Гросс, - в каждом из них есть какой-то смысл. Все они неутешительны. Одно из них состоит в том, что американцы становятся слишком “долларомыслящими”, чтобы рисковать расходами, с которыми связано вмешательство. Вмешаться - значит быть свидетелем. Вы теряете время, деньги, иногда даже страдает ваша репутация”.
Автор приводит многочисленные факты “невмешательства” и мнения, которые высказывают по этому поводу социологи, юристы, психологи. Ограничусь только одним высказыванием, опубликованным в журнале “Ментал Хелс инд дэ Метрополис”.
“Проблема состоит в том, - говорится на его страницах, - что тенденция развития нашего общества уводит нас все дальше и дальше от того образа жизни, где могли бы процветать чувства общности… Мы вынуждены все больше полагаться лишь на индивидуальную волю к действию”.
Эти “тенденции”, спроецированные в будущее, не ускользнут от взгляда внимательного читателя Азимова. Разве не парадоксально, что Донован и Пауэлл, два ведущих техника прославленной американской компании, проводя в XXI веке испытания на астероиде, прежде всего дрожат за свою земную судьбу, помня о неписаном законе фирмы “Ю. С. Роботе”: “На одим служащий не совершает дважды одну и ту же ошибку. Его увольняют после первого раза”.
Отважные “роботоиспытатели” чувствовали бы себя спокойнее и увереннее, если бы жизнь на их родине подчинялась не этому закону, а “законам роботехники”.
Но заслуга автора книги как раз в том и состоит, что он не успокаивает ни героев, ни читателей. В его рассказах остро поставлены некоторые проблемы сегодняшней общественной жизни. И роботы ему в этом блестяще помогают. С их помощью, при их содействии формулируются вопросы, на которые вряд ли смогут ответить “кибернетические машины недалекого будущего”. Так уж “запрограммирована” эта отлично написанная книга, она обращена к людям и требует ответа от них.


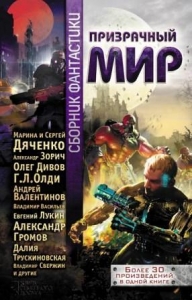
Комментарии к книге «Фантастика 1965. Выпуск 2», Валентин Дмитриевич Берестов
Всего 0 комментариев