ИСКАТЕЛЬ № 1 1977
№ 129
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ
Андрей СЕРБА — Никакому ворогу… 2
Владимир РЫБИН — Гипотеза о сотворении 40
Юрий ТИХОНОВ — Случай на Прорве 61
Жорж СИМЕНОН — Отпуск Мегрэ 86
II стр. обложки
Андрей СЕРБА НИКАКОМУ ВОРОГУ…
К 1500-летию КИЕВА
Повесть[1]
1
Великая княгиня видит сон. Искрится под солнцем снег, легко бежит четверка рослых коней. В устланных медвежьими шкурами санях сидит она, еще молодая, но уже не простая девушка Ольга из далекой северной земли, а великая киевская княгиня. Из затерянной в лесах деревушки кони несут ее в неведомый град Киев, столицу всей Русской земли. Скачущий рядом с санями Игорь наклоняется к ней, протягивает руки. Но вдруг лицо князя расплывается, тускнеет. Его фигура словно в зыбком мареве, она дрожит, колеблется. А на крупе его статного, белоснежного жеребца-балана появляется кровавое пятно. Объятая страхом Ольга замирает в санях, крик ужаса застревает в горле…
С тревожно бьющимся сердцем Ольга просыпается, вытирает мокрый от холодного пота лоб. И вдруг слышит на лестнице великокняжеского терема тяжелые шаги и звон оружия. Неужели вернулся с полюдья Игорь? Но он всегда приходит к ней один, без шума. Ольга едва успевает одеться, как дверь распахивается. На пороге появляется группа воевод, по бокам двери застывают двое дружинников с факелами в руках. Вперед выступает Свенельд.
— Прости, великая княгиня, что тревожим ночью. И еще раз прости за то, с чем пришли,
Он делает шаг в сторону, и на его месте вырастает другой воин. Едва взглянув на него, Ольга чувствует, как что-то обрывается в груди, от волнения сразу пересыхает во рту. Перед ней стоит Микула, любимейший тысяцкий Игоря, с которым тот отправился на полюдье к древлянам. Но почему Микула здесь? Отчего один, что у него за вид? Одежда порвана и в пыли, сапоги в грязи, кольчуга пробита.
— Где Игорь? — еле слышно спрашивает Ольга.
— Прости, великая княгиня, за недобрую весть, — глухо говорит Микула, опуская глаза. — Осиротела Русская земля, великий князь и вся дружина легли под древлянскими мечами.
Долго молчит Ольга, слишком долго.
— Полегла его дружина, — наконец медленно говорит она и с недобрым прищуром смотрит на Микулу. — А почему жив ты, которому надлежало блюсти жизнь князя?
Лицо Микулы вспыхивает.
— Такова последняя воля великого князя. Древляне обещали сохранить жизнь одному из нас, чтобы принести тебе печальную весть. И твой муж оставил меня жить, чтобы восторжествовала святая месть.
Ольга устало машет рукой.
— Идите, все идите. Оставьте меня одну. А ты, Свенельд, покличь ко мне отца Григория.
Отец Григорий появляется сразу, едва затихают шаги воевод. Кажется, что он все время стоял рядом, за стеной спальни. Он высок, немного грузноват, на груди большой серебряный крест-распятие. Тонкое, бледное лицо красиво, глаза скромно опущены долу, в аккуратно подстриженной черной бороде видны нити седины. Это духовный пастырь великой русской княгини, ближайший ее друг и наставник. Только ему, своему духовному отцу, она может поведать все, что лежит у нее на душе, что таит она от всех остальных. Сколько бессонных ночей за молитвами и беседами провела она с ним в те длинные месяцы и годы, когда Игорь с дружинами ходил в свои нескончаемые походы.
— Ты звала меня, дочь. Я пришел, — голос отца Григория звучит тихо и вкрадчиво.
— Горе у меня, святой отец.
— Знаю. Потому и стою рядом, чтобы утешить тебя.
— Нет у меня мужа, одна я осталась, — из последних сил сдерживая слезы, говорит Ольга.
— Прими испытание, посланное тебе небом, — ласково звучит голос священника. — Помолимся…
Придя от великой княгини уже под утро, отец Григорий преображается. Не скромный христианский священник меряет сейчас шагами свою тесную келью, а бывший центурион гвардейской схолы императоров нового Рима. Тот, кто по приказу самого патриарха сменил меч на крест, золоченые доспехи на грубую сутану и явился через Болгарию сюда, в далекий край язычников, откуда уже не раз надвигалась на град святого Константина страшная угроза. Именно отсюда впервые пришли под стены вечного города непобедимые дружины Аскольда и Дира, и лишь чудо и золото спасли тогда империю. Отсюда пришли и могучие полки Олега, вырвавшего у императора для языческой Руси то, о чем не смели и мечтать христианские монахи. С этих берегов дважды ходил на Царьград погибший сейчас Игорь. Ради того, чтобы это никогда больше не повторилось, и живет в Киеве бывший центурион. Не гордый и сильный сосед нужен империи на севере, а слабый и покорный вассал, послушный ее воле. И то, чего не добились императоры и мечи, должны сделать Христос и крест. Главное — отнять у русичей душу, а потом можно делать с ними все, что хочешь.
И наконец сбылось. Не стало язычника Игоря, заняла его место Ольга, христианка и его духовная дочь. Разве это не дар небес, услышавших его молитвы? И потому надо действовать немедленно, не теряя ни минуты.
Бывший центурион садится за стол, быстро покрывает тайнописью лист пергамента, сворачивает его в свиток, накладывает печать. Идет в соседнюю келью, где прямо на полу спят несколько слуг, ударом ноги будит одного.
— Найдешь на Днепре ладью купца Прокопия. Скажешь, что от меня, и он возьмет тебя с собой. В Константинополе отдашь письмо самому патриарху и как можно быстрее вернешься с ответом. Иди…
2
Легкий ветерок приятно освежает лицо, шевелит полы шелкового халата одного из ближайших вельмож хазарского кагана. Лениво развалившись, он смотрит на стоящего против него человека.
— Хозрой, ты не раз бывал у русов. Посылаю тебя туда снова.
Смуглое, с седой бородой лицо собеседника не выражает никаких эмоций.
— Русский князь Игорь убит своими подданными. Его престол заняла жена, княгиня Ольга. Пока не вырастет сын Игоря, Русью будет править она. Но что может женщина, существо, лишенное разума и воли? И потому неминуемы междоусобицы и смуты. Реки крови ждут Русь.
— Такова воля бога, носителя истины. Он уничтожает и ослабляет язычников.
— Ты прав, Хозрой. Только мы имеем право владеть миром, все остальные народы существуют для того, чтобы жили мы. Таков удел и славян, этого многочисленного и сильного племени. Победить их в открытом бою невозможно, это не удавалось еще никому. Но сейчас, пока на Руси нет князя, они слабы и легко могут стать нашей добычей. Для этого я и посылаю тебя к русам.
— Твои слова святы для меня, великий и мудрый.
— Русы никому не прощают своей пролитой крови. Княгиня Ольга будет мстить за своего мужа, рус пойдет на руса. Так пусть дерутся до последнего воина, а когда ослабнут, ты посадишь князем своего человека. Ты найдешь такого, ты купишь его разум, ты вдохнешь в него нашу душу. И с каждым днем все больше и больше наших людей будет окружать его. Мы, сыны истинной веры, станем головой русов, мы будем их хозяевами. Пусть работают славянские руки и ноги, пусть гнутся и трещат славянские спины — они будут трудиться для процветания богом избранного народа. Как бы ни было огромно и сильно тело, оно всегда послушно голове. И этой головой, повелевающей славянским телом, должны стать мы. Такова воля кагана.
— Я понял тебя, великий и мудрый.
— Ты пошлешь надежного человека в Киев, а сам отправишься в Полоцк. Там сейчас двадцать сотен викингов, тех, что вместе с князем Игорем ходили последний раз на Византию. Игорь щедро одарил их, но варяжский ярл Эрик продажен и жаден, таково и его наемное разноплеменное воинство. Их слишком мало, чтобы угрожать Руси, но усугубить междоусобицу им под силу. Ты хорошо знаешь Эрика, не раз имел с ним дело, а потому легко найдешь общий язык и сейчас. Ты купишь ярла, и он поведет своих викингов на того, кого ты укажешь. И пусть вся Русь исчезнет в крови раздоров и междоусобиц. Такова воля кагана.
— Я сделаю это, великий и мудрый…
3
Скользят по глади Днепра несколько лодий. На передней, богато украшенной резьбой, на скамье, устланной коврами, полулежит древлянский князь Мал. Невысокий, тучный, он нежится, прикрыв глаза, под ласковыми лучами солнца. Пуще всего на свете он любит тишину, покой, раз и навсегда заведенный порядок. Он давно забыл о битвах, его дружину в походы водят сыновья. Даже сейчас плывет он не на тяжелой боевой русской лодии, одного вида которой страшатся враги, а на легкой, речной, на которой любила плавать на киевское торжище его покойная жена.
Напротив него среди разложенного на дне лодии товара стоит на коленях хазарский купец, прибывший перед этим в Киев вместе с Хозроем. Выкрашенная хной и завитая в мелкие колечки борода купца благоухает, узкие глазки раболепно смотрят на князя.
— Только для тебя, господин, — воркует хазарин. — Знаю, что станешь скоро великим киевским князем. Для тебя и твоей будущей жены приберег все это,
Мал лениво смотрит на товары.
— Ты рано приехал, купец. Приходи в Киеве, когда я стану князем всей Руси, Тогда ты получишь за свои камни и узорочье любую цену.
Утром следующего дня хазарский купец уже раскладывает свои товары перед великой киевской княгиней. Та с женским любопытством осматривает ткани, перебирает в руках украшения.
— Купец, ты не первый раз в Киеве и знаешь, что русичи щедры. Так отчего беден твой выбор? — недовольно спрашивает Ольга.
— Это так, великая княгиня, — покорно соглашается купец. — Ты всегда была первой моей покупательницей, но на этот раз ты вторая.
— Кто же был первым?
— Твой будущий муж, древлянский князь Мал.
Красные пятна плывут по красивому лицу Ольги, гневом вспыхивают ее глаза.
— С чего ты взял это?
— Древлянский князь сказал, что, если корова сама не идет в стойло, ее гонят туда плетью, — еле слышно произносит купец.
Ольга швыряет к его ногам ожерелье, которое рассматривала до этого, и купец, быстро собрав свои товары, моментально исчезает. Когда его шаги стихают, Ольга поворачивается к священнику Григорию, все время молча стоящему рядом с ней.
— Ты смог бы стерпеть такое унижение?
— Христос учит смирять свою гордыню.
— Князь древлян оскорбил не просто женщину, а великую княгиню. Я русская, святой отец, а русские не прощают обид. Если бы даже я раньше не решила, что этот древлянин, убийца моего мужа, умрет, я вынесла бы этот приговор сейчас.
— Христос учит прощать своих врагов.
— Разве ты, святой отец, не отпустишь мне этот грех? — прищуривает глаза Ольга.
— Я еще не видел крови, дочь моя.
— Ты ее и не увидишь, — недобро усмехается великая княгиня.
4
Подбоченясь и гордо выпятив грудь, князь Мал рассматривает открывшийся перед ним город. Стольный град всей Руси расположен на высоких днепровских холмах, окруженный широким земляным валом и толстой крепостной стеной. Стоят по углам стен сторожевые башни, торчат заборола, разверзлись темные провалы крепостных ворот, блестят шлемы и наконечники копий охраняющей их стражи. Лепятся по склонам зеленых холмов посады, у впадения в Днепр Почайны раскинулась пристань, к самой реке спускаются хижины рыбаков и ремесленников.
Но не на крепостные стены, не на жилища горожан и рыбаков смотрит князь Мал, его взор прикован к стоящему на вершине самого высокого холма великокняжескому терему. Матово отсвечивают под лучами солнца его белые гладкие с гены, выложенные из каменных плит, всеми цветами радуги сверкают узорчатые оконные стекла, словно жарким огнем пылает многоскатная медная крыша. А над теремом вонзилась в небо высокая изящная стрельница-смотрильня, подарок покойного Игоря жене, чтобы она могла первой узреть возвращающегося из походов своего мужа-воителя.
Лодия утыкается носом в прибрежный песок, останавливается. Князь Мал выпрямляется на лавке, довольно щурит глаза, всей пятерней гладит пушистые усы. Ему действительно приготовили княжескую встречу. На берегу в полном воинском облачении стоят ряды киевских воинов, дорога, ведущая от реки, устлана коврами. Что ж, так и должно быть. Древляне взяли жизнь киевского князя, взамен они дают Киеву и княжьей вдове нового князя и нового мужа.
Встав с лавки, Мал хочет шагнуть на песок, но останавливается. Несколько десятков киевских дружинников входят в воду, выстраиваются вдоль бортов. Воины без щитов и копий, в руках у них толстые веревки. По команде воеводы, взмахнувшего на берегу мечом, они продевают веревки под днища лодий, согласованно рвут их вверх. Лодии поднимаются из воды и плывут, плывут по воздуху. Мал садится на лавку, важно надувает щеки. Он еще никогда не слышал, чтобы кому-либо на Руси оказывались такие почести.
Медленно плывут над дорогой древлянские лодии. Идущий впереди воевода останавливается, поднимает меч, и Малу кажется, что под усами киевлянина мелькает зловещая усмешка. Наверное, почудилось. Ведь так ласково светит солнце, так мирно плещет речная волна, так спокойно и радостно на душе.
Воевода опускает меч, и воины, несущие лодии, одновременно выпускают веревки из рук. Раздается треск ломаемых жердей, свет меркнет в глазах у Мала. Лодии падают в темноту глубокой ямы, трещат от удара о землю, заваливаются на бок. Мал вскакивает на ноги, вырывает из ножен меч, кричит воинственно, задрав вверх голову. И тотчас крик застревает у него в горле: затмевая дневной свет, сплошным потоком с десятков заступов летит на древлян земля…
Скрестив на груди руки, стоит на стрельнице-смотрильне Ольга, смотрит, как дружинники заравнивают землю на том месте, где только что плыли к ее терему древлянские лодии.
— А ночью, Свенельд, ты поведешь дружину в древлянскую землю, — говорит она стоящему рядом воеводе, — прямо к их главному граду Искоростеню. Пока им неведома судьба князя Мала, ты должен пройти болота-трясины и скрытно напасть на город. Внезапность утроит твои силы и сбережет много крови…
Оставшись одна, Ольга снова подходит к узкому окну стрельницы. Сколько раз стояла она точно так, всматриваясь до рези в глазах, не показались ли за излучиной Днепра ветрила лодий Игоря, возвращающегося из похода, не клубится ли пыль в заднепровских далях под копытами коней его дружины? Отсюда Киев виден как на ладони. Прямо перед ней раскинулась Старокиевская гора, застроенная ниже великокняжеского терема хоромами и усадьбами боярской и дружинной знати, еще ниже по склонам жмутся друг к дружке тесные и приземистые домики горожан с их двориками и огородами, А за крепостной стеной, ближе к Днепру, видны торговые и ремесленные посады: Киселёвка, Щекавица, Подол, черные и желтовато-серые дымы, поднимающиеся над кузнями, пятнают чистоту неба и застилают нежную голубизну Днепра. Гавань у Почайны сплошь уставлена купеческими лодиями и заморскими кораблями, на торжище, недалеко от берега, всегда черно от разлившегося по нему людского моря. Чего там только нет: цветная парча и шелка, привезенные из далеких Индии и Китая, Персии, Египта, быстроногие кошки-гепарды и обученные охотничьи соколы, дразнящие обоняние острые пряности и диковинные заморские раковины, голубоватые клинки из знаменитой русской харалужной стали и серебряные заздравные чаши, украшенные тонким, замысловатым узорочьем.
О славный красавец Киев, мать городов русских! Как не восхищаться тобой!
5
Они разговаривают вдвоем, без свидетелей, киевский тысяцкий Микула и полоцкий князь Лют.
— Князь, я к тебе от великой княгини Ольги, — звучит голос Микулы. — Ты знаешь, что древляне убили князя Игоря, ее мужа, и великая княгиня зовет тебя под свои стяги.
Взгляд Люта направлен в угол светлицы, он задумчиво гладит свою густую бороду.
— Я слышал об этом. Князь Игорь дважды хотел взять дань с древлян и заплатил за это жизнью.
— Князя Игоря убили смерды, его данники. Сегодня они взяли жизнь киевского князя, а завтра захотят твоей. Ты этого ждешь, полоцкий князь?
— Нет, тысяцкий, я этого не жду и не хочу. И будь моя воля, я уже завтра выступил бы в помощь великой княгине. Но я не могу сделать этого.
Он встает со скамьи, шагает к открытому окну. Невысокий, плотный, с суровым лицом воина, левая рука положена на крыж меча. И хотя Микула давно знает полоцкого князя, он с интересом за ним наблюдает. Он понимает, какие страсти бушуют сейчас в душе Люта, как тому нелегко, и потому молчит тоже.
Варяги, предки Люта, пришли на русскую землю вместе с ярлом Рюриком. Тот, мечтая о Новгороде, остался на Ладоге, а дед Люта, Регволд, осел со своей дружиной на полоцкой земле, породнился со славянами, остался у них. Вскоре он стал полоцким князем, его дружина смешалась с русами, обзавелась женами-славянками. И, защищая эту исконно русскую землю от воинственных соседей — летгалов, земгалов, куршей, а позже от захватчиков-тевтонов императоров Генриха и Оттона, — они стояли в одном боевом строю — славяне и некогда чужие им варяги. Как и все русские князья, полочане признавали над собой власть великих киевских князей, ходили со своими дружинами под общерусским стягом в походы, в трудную годину просили помощи у Киева. И Микула знал, что вовсе не какие-то личные счеты с киевскими князьями заставили сейчас Люта ответить ему отказом.
— Тысяцкий, — звучит от окна голос полоцкого князя, — мой дед был варягом, а моя бабка — славянкой. Мой отец был уже наполовину варяг, а мать опять славянка. Скажи мне, кто я?
— А как считаешь сам?
— Я славянский князь, но в моей душе живет память и о родине моих предков. Все, что я творю, — для Руси, но мне трудно обнажить меч против варягов. Мой разум еще не победил голос крови.
— Не против варягов, а против древлян зовет тебя киевская княгиня.
Лют отворачивается от окна, подходит к тысяцкому.
— Микула, мы давно знаем друг друга. Я уверен, что именно поэтому прислала тебя ко мне киевская княгиня. И ты понимаешь, что я имею в виду. Мы вместе с тобой ходили в последний поход на Царьград, с нами были и наемные дружины варягов. Двумя тысячами викингов командовал мой двоюродный брат Эрик. После похода он не вернулся домой, а остался у меня в гостях. Каждую неделю он обещает отправиться на родину или на службу к императору нового Рима, но до сих пор сидит в Полоцке. Он мой брат, и я не могу прогнать его.
— Киевской княгине сейчас нужны храбрые воины. Пригласи ярла Эрика с собой.
По губам полоцкого князя пробегает горькая усмешка.
— Он не пойдет под киевское знамя, Эрик сам мечтает стать русским князем. После смерти князя Игоря он уже несколько раз предлагал мне отложиться от Киева и признать над собой власть Свионии. И каждый раз я отвечаю — нет.
— Значит, он уже не твой гость, а враг Руси. А разве ты, князь, не знаешь, как поступают с врагами?
— Знаю, — кривит губы Лют. — Подожди немного. Сегодня я буду говорить с Эриком.
6
Дверь широко распахивается, и на пороге вырастает варяжский сотник.
— Ярл, на подворье твой брат Лют. Он хочет видеть тебя.
Сотник выходит, а Эрик смотрит на стоящего против него Хозроя, с которым до этого беседовал.
— Я все понял, хазарин, пусть будет по-твоему. Чем больше русы перебьют русов, тем лучше. А сейчас оставь меня, я не хочу, чтобы полоцкий князь видел нас вместе.
Хозрой низко кланяется и быстро исчезает в маленькой, едва заметной боковой двери…
Ярл встречает Люта с радостной улыбкой, дружески хлопает по плечу. Лют садится, кладет на колени меч, смотрит на Эрика. Лицо полоцкого князя бесстрастно, в глазах нет и тени улыбки.
— Ярл, у меня гонец моего конунга, великой киевской княгини Ольги. В древлянской земле большая смута, и я должен выступить со своей дружиной княгине на помощь. Поэтому я хочу знать, когда ты собираешься оставить полоцкую землю?
Эрик широко открывает глаза.
— Ты гонишь меня, своего брата?
— Твои викинги устали от безделья и хмельного зелья, многие рвутся под знамена ромейского императора. Ты и сам не раз говорил, что снова хочешь попытать счастья в битвах. К тому же я знаю, что ты всегда мечтал о чужом золоте.
— Особенно, когда оно рядом, — ухмыляется Эрик, — Хочешь, мы возьмем его вместе?
— За чужое золото платят своей кровью.
— Или кровью своих викингов, — тихо смеется Эрик. — Но что они для меня? Настоящих, чистокровных свионов можно пересчитать по пальцам, остальные — наемные воины из всех северных земель, Поморья, островов Варяжского моря. Погибнут эти — придут другие, ничем не хуже. — Замолчав, он пристально смотрит на Люта. — Брат, ты смел и отважен, я не понимаю, как ты можешь терпеть над собой женщину, киевскую княгиню? Разве тебе самому не хочется стать конунгом?
— У Руси уже есть конунг, это сын Игоря — Святослав. Пока он не станет воином, за него будет править мать.
Откинувшись на спинку кресла, Эрик громко смеется.
— Брат, ты рассуждаешь как рус. Но ведь в тебе течет и варяжская кровь, так смотри на все нашими глазами. На Руси смута, киевская княгиня сражается со своими данниками, древлянами. И пока рус убивает руса, мы, варяги, можем сделать то, что раньше не удалось ярлу Рюрику. Ты — князь полоцкой земли, у тебя многие сотни воинов. У меня тоже двадцать сотен викингов. Ты объявишь Полоцк частью Свионии, к нам придут на помощь новые тысячи варягов. И когда княгиня Ольга ослабнет в борьбе с древлянами, мы всеми силами ударим на Киев. Ты станешь конунгом всей Руси, я — ярлом полоцкой земли. Что скажешь на это?
— Чтобы стать конунгом Руси помимо воли русов, надо уничтожить их всех, а это еще не удавалось никому. Ты, ярл, или во власти несбыточных снов, или плохо знаешь русов.
В глазах Эрика вспыхивает недобрый огонек, он хищно скалит зубы.
— Ты стал настоящим русом. Ты совсем забыл о силе и могуществе викингов.
— Нет, брат, я ничего не забываю, — усмехается Лют. — Скажи, Эрик, какие города викинги брали на копье?
— Я забыл их число. Были мы в Ломбардии и Неаполе, Герачи и Сицилии, викинги брали на копье Салерно и Росано, Торенто и Канито. Перед варягами трепещут Париж и Рим, короли Англии ежегодно покупают у нас мир.
— А сколько брал ты русских городов?
Эрик отводит взгляд.
— Ты прав, варягов боятся все, — снова усмехается Лют. — Но только не Русь. Здесь остались кости ярла Рюрика и его братьев Трувора и Синеуса, мечтавших покорить Русь. Смотри не сделай ошибки и ты.
— Мы попросим помощи у германского императора Оттона, тевтоны давно мечтают о русской земле. Мы пообещаем Червенские города полякам, и они тоже помогут нам, Русь велика и богата, ее хватит на всех.
— Она не только богата, но и сильна. Русь всегда побеждает своих врагов, кем бы они ни были. И если недруги снова поползут на Русь, Полоцк и его дружина будут вместе с Киевом. Запомни это, брат, и очнись от своих сладких снов.
Лют встает с кресла, смотрит на Эрика, долго молчит.
— По приказу моего конунга, великой киевской княгини, я выступаю в поход, — наконец говорит он. — Но раньше я хочу проводить тебя. Так гласят обычаи гостеприимства. Скажи, когда твои викинги поднимут паруса?
Эрик опускает глаза, стучит костяшками пальцев по ножнам меча.
— Мы еще не знаем, куда идти. Одни хотят домой, другие — не службу к византийскому императору. Ты зовешь нас с собой под знамя киевской княгини. Чтобы не ошибиться, мы должны узнать волю богов.
— Через три дня ты скажешь мне о своем решении. Прощай, брат…
7
В шатре главного воеводы киевского войска Ратибора — воеводская рада. Здесь воеводы и тысяцкие киевской дружины, военачальники других русских княжеств и земель: черниговский воевода, брат смоленского князя, сын любечского наместника, лучшие мужи-воины из далеких новгородской, тмутараканской и червенской земель. Вопрос, который им предстоит решить, касается не только Киева, но и всей огромной Руси. Все участники рады стоят плотной молчаливой стеной, глядя на воеводу Ратибора и верховного жреца Перуна.
— Други-братья, — медленно и глухо начинает Ратибор, обводя глазами собравшихся, — мы должны решить сегодня, кто будет владеть столом великих князей киевских, кто будет управлять Русью. Слово, сказанное сейчас нами, будет законом для всех. И потому думайте, други, в ваших руках судьба Руси.
Называя находящихся в шатре «братьями», воевода Ратибор нисколько не грешит против истины. Все они, присутствующие сейчас на воеводской раде, больше чем братья. И не только тем, что десятки раз смотрели смерти в глаза и вместе рубились во множестве битв. Их объединяет общность стремлений, одинаково понимаемое чувство родины и своего служения ей, беззаветная преданность всему, что связано со словом «Русь».
Чтобы занять место в этом ряду, мало просто храбрости и отваги. Таких в русских дружинах — тысячи. Надо стать первым среди суровых и мужественных воинов, заслужить уважение даже у них, ничего не боящихся на свете. И тогда случается то, о чем мечтает каждый воин-русич.
За ним приходят темной грозовой ночью, когда Перун грозно бушует в небесах и мечет на землю свои огненные стрелы. Новичку завязывают глаза и, обнаженного по пояс, ведут на вершину высокого утеса, нависающего над Днепром. И в страшную ночь, когда все живое трепещет от грохота сталкивающихся туч и прячется от бьющих в землю Перуновых стрел, воин дает у священного костра клятву-роту на верность Руси. И в свете ярко блещущих молний каждый из братьев-другов делает надрез на пальце и сцеживает несколько капель крови в братскую чашу, чтобы затем всем омочить в ней губы. После этого на теле нового брата выжигается железом тайный знак — свидетельство его принадлежности к воинскому братству.
Тишина в шатре затягивается.
— Ваше слово, братья, — говорит Ратибор.
Верховный жрец Перуна ударяет в землю посохом, хмурит брови.
— Никогда еще на столе великих князей не было женщин, — глухо произносит он.
— Знаем это, старче, — спокойно отвечает Ратибор. — Что хочешь сказать еще?
— Стол великих князей киевских должен занимать мужчина-воин. Только он будет угоден Перуну и сможет надежно защитить Русь, — твердо произносит старый седой жрец.
— Великий киевский князь — мужчина, это княжич Святослав, сын Игоря, — говорит Ратибор. — Но пока он не вырос, покойный Игорь завещал власть его матери, княгине Ольге. И мы должны решить, признать его волю или нет. Говори первым, мудрый старче, — склоняет он голову в сторону верховного жреца.
— Княгиня Ольга — христианка, в ее душе свил гнездо чужой лукавый Христос, а не бог воинов Перун. Наши боги отвернутся от нее, а значит, и от нас. Слезы и горе ждут Русь при княгине-вероотступнице.
Усмешка раздвигает плотно сжатые губы Ратибора.
— Перун и Христос пусть делят небесную власть, а мы говорим о земной. Мы должны решить, кем будет для Руси княгиня Ольга: только матерью княжича Святослава или нашей великой княгиней. Твое слово, старче…
— Матерью. Только ей и подобает быть женщине.
— А что скажешь ты, воевода Асмус? — обращается Ратибор к высокому худощавому воину с обезображенным шрамом лицом. След от удара меча тянется через щеку и лоб, пересекая вытекший глаз, перетянутый наискось через лоб черной повязкой. Сурово лицо старого воина, холоден взгляд его единственного глаза, до самых плеч опускаются концы седых усов.
Асмус и старый жрец — самые старшие из присутствующих на вече, они были воеводами еще при князе Олеге, вместе с ним водили непобедимые дружины русичей на хазар и греков. Это Асмус во время знаменитого похода Олега на Царьград вогнал в обитые железом крепостные ворота свой меч, а верховный жрец, в то время тоже воевода, подал князю свой щит. И этот славянский щит, повешенный Олегом на рукояти Асмусова меча, стал для ромеев напоминанием и грозным предостережением о могуществе Руси. Слово старого воина значит очень много, и потому в шатре сразу воцаряется мертвая тишина. Но Асмус не спешит. Прищурив глаз, он некоторое время смотрит куда-то вдаль и лишь затем поворачивается к Ратибору.
— Воевода, я знал только князя Игоря, ты же, будучи его первым воеводой, знал и его жену, — неторопливо говорит он. — Скажи нам, что думаешь о княгине Ольге ты сам.
Ратибор задумчиво проводит рукой по усам, смотрит на Асмуса.
— Да, я лучше всех вас знаю княгиню, знаю и то, что она христианка. Но это не было секретом и для князя Игоря. И хоть раз, идя в поход, он передавал свою власть кому-либо другому, кроме Ольги? И разве она хоть раз чем-то не оправдала его надежд, принесла ущерб Руси? Она мудра, расчетлива, тверда. Только такой должна быть русская княгиня.
Среди стоящих в шатре возникает оживление. Вперед выходит воевода Ярополк, начальник киевской конницы, поднимает руку.
— Други, — говорит он, — все мы — воины и потому знали только великого князя, но не его жену. А раз так, то не нам судить о ней, наше дело — исполнить волю погибшего Игоря. Признаем на киевском столе Ольгу, а сами, будучи рядом и не спуская с нее глаз, увидим, по силам ли ей быть нашей княгиней. И если она окажется просто женщиной, каких на Руси множество, пусть будет, как и они, любящей матерью и скорбящей вдовой. Пусть не мы, а всесильное время и ее дела будут судьей.
Ярополк смолкает, сделав шаг назад, сливается с остальными воеводами.
— Кто скажет еще, братья? — спрашивает Ратибор.
Выждав некоторое время, он резким взмахом руки рубит воздух.
— Тогда, други, слушайте последнее слово нашей рады. Воля князя Игоря свята для Руси, для каждого из нас. До тех пор, пока Ольга не нарушит наших древних законов, пока будет блюсти и защищать честь и славу Руси, она будет нашей великой княгиней…
8
С первыми лучами солнца в шатре княгини появляется отец Григорий. Он, как всегда, спокоен, движения размеренны, неторопливы, но Ольга сразу замечает в его глазах тревожный блеск.
— Что случилось, святой отец? — спрашивает она.
— Крепись, дочь моя, твои несчастья только начинаются, — опустив глаза, тихо говорит Григорий. — Проклятые язычники, враги Христа и нашей святой веры, хотят твоей погибели.
Он ожидает увидеть в глазах княгини страх, смятение, но Ольга лишь прищуривает глаза и плотно сжимает губы.
— Что известно тебе, святой отец?
— Сегодня ночью у воеводы Ратибора была рада. И твои воеводы замыслили против тебя заговор, они не хотят признавать тебя своей княгиней. Бойся их, дочь моя.
Подняв брови, Ольга внимательно смотрит на священника.
— Заговор, святой отец? Откуда знаешь об этом?
— Мой сан позволяет мне видеть и знать то, что не дано другим, — многозначительно отвечает Григорий.
Ольга усмехается.
— О воеводской раде ты не можешь знать ничего, святой отец. На раде не могло быть ни одного твоего соглядатая, и решение воевод навсегда похоронено в их душах.
Легкий румянец заливает бледные щеки священника.
— Твои воеводы никогда не смирятся с тем, что женщина — их великая княгиня, — убежденно говорит он. — Не сегодня, так завтра, не завтра, так через год кто-то из них захочет стать великим князем сам. И тогда горе тебе, дочь моя.
Голос священника звучит страстно, убежденно, он в упор смотрит на Ольгу.
— Никто из смертных не знает своей судьбы, — тихо отвечает она. — Но я твердо знаю одно — воеводы выполнят волю моего мужа, они признают меня великой княгиней. А надолго ли, покажут время и мои дела. Я никогда не выступлю против своих воевод. Запомни — никогда. А сейчас иди.
Перекрестив Ольгу, Григорий опускает голову и, шепча под нос молитву, медленно покидает княжеский шатер. Неужели он ошибся в характере своей духовной дочери? — думает бывший центурион. Куда девались ее покорность, послушание, кротость? Откуда эта жесткость, уверенность в себе, дух противоречия? Где та глина и тесто, из которых он собирался лепить послушную его воле куклу?..
9
Растянувшись длинной цепочкой, за Эриком идут варяжские жрецы-дротты, старейшие и наиболее чтимые викинги его дружины. Впереди князь Лют со своим сыном, они ведут гостей на старое варяжское капище, в священную рощу. Там первый полоцкий князь из рода варягов Регволд молился Одину, туда и сейчас еще ходят те, кто верит в силу и могущество старых заморских богов.
На опушке священной рощи стоят четыре столба, поддерживающих высокую крышу. Под ней — вбитое в землю кресло для князя Люта, деревянные скамьи для остальных участников торжества. Перед навесом огорожена валунами круглая площадка, посреди которой уже ярко пылает жертвенный костер. Вокруг стоят большие, грубо вытесанные из камня и дерева фигуры варяжских богов-идолов, отблески огня играют на их угрюмых жестоких лицах. Возле костра снует вещунья Рогнеда, вдова недавно умершего последнего полоцкого дротта.
Рогнеда бьет в било. Старший из дроттов становится лицом к огню, поднимает руки.
— О боги, — громко звучит в тишине его голос, — услышьте меня. Услышь меня ты, повелитель бурь и ветров Один. Услышь меня ты, мудрая и добрая Фригга, его жена. Услышь меня и ты, вечно живущий в пещере и мечущий огненные стрелы Тор, их сын. Боги, услышьте меня, дайте совет своим детям…
Прищурившись на огонь, Эрик вслушивается в голос дротта и думает о своей далекой холодной родине. Неожиданно прервавшийся на полуслове голос дротта заставляет его открыть глаза и забыть обо всем на свете: вдали, на небольшой заводи, свободной от камыша, виднеется человеческая фигура. В ярком свете луны серебрится чешуйчатая кольчуга, поблескивает варяжский шлем, Дым от костра, сносимый в сторону заводи, временами обволакивает фигуру так, что видны только ее очертания. Подавшись всем корпусом вперед, Эрик до предела напрягает зрение. Кто из богов, услышав заклинания старого дротта, принес им знамение? Стоящая на воде фигура медленно разворачивается, поднимает над головой руку и резко бросает копье. Эрик поднимает голову и по луне, по расположению звезд сразу определяет, что копье брошено в сторону древлянской земли. В следующий миг набежавшее на луну облако погружает все в темноту. Когда же лунный свет снова заливает болото, фигуры уже нет.
И тут в полной тишине раздается вдруг торжествующий голос старого дротта:
— Один, ты явил нам свою волю! И мы, твои дети, выполним ее.
Старый дротт поднимает с земли узкогорлый кувшин с вином, наливает над всеочищающим пламенем жертвенного костра два кубка, протягивает их Люту и Эрику, говорит медленно, тяжело роняя слова:
— Вы видели и слышали волю Одина. Вам предстоит выполнить ее.
10
Утром Хозрой пробирается к лачуге лесной вещуньи.
— Рассказывай, — нетерпеливо спрашивает он.
Рогнеда зевает, прикрывает беззубый рот ладонью.
— Нечего рассказывать. Боги дали свой знак раньше, чем я успела сделать все по-твоему. Сам Один указал дорогу ярлу Эрику и его викингам на древлян.
Хозрой презрительно кривит губы.
— Сам Один? Рассказывай, как все было, И ничего не придумывай.
Он внимательно выслушивает рассказ вещуньи, некоторое время задумчиво гладит бороду, затем пристально смотрит на Рогнеду.
— Ты сама видела Одина? Или повторяешь чужие слова?
— Видела собственными глазами, как сейчас тебя. Это был он, могучий и грозный бог варягов.
— Хорошо, пусть будет так. Ты не сделала того, что должна была сделать, но теперь ты отведешь меня на ваше требище и укажешь место, где видела Одина.
— Я не могу этого сделать. Ты иноверец, и боги покарают меня за это.
— Тогда я сам найду это место. Туда, — коротко приказывает он своим двум слугам, указывая на заводь среди болот,
Хозрой внимательно смотрит, как слуги плетут широкие мокроступы, чтобы не провалиться в трясину, как подбирают себе длинные палки, как осторожно, один за другим, скрываются в камышах.
Они возвращаются не скоро, но приносят то, что Хозрой и ждал, — длинное русское копье.
Отослав слуг, Хозрой идет к Рогнеде.
— Вот копье, которым твой Один указал путь на древлян. Скажи, зачем варяжскому богу славянское копье? И разве вообще нужны богам земные вещи?.. То был не Один, а рус, и пришел он не с неба, а по тропе среди камышей. Русы перехитрили тебя, старую и мудрую вещунью.
В глазах Рогнеды появляется злой блеск.
— Они перехитрили тебя, хазарин.
— Русы перехитрили нас обоих, Рогнеда, — миролюбиво говорит Хозрой. — И потому мы оба должны отомстить за это. Разве русы не надсмеялись над богами варягов, выдав себя за Одина?
Вещунья презрительно кривит губы.
— Мне некому и не за что мстить. А если русы оскорбили наших богов, то боги сами и отомстят.
Хозрой лезет за пояс, достает оттуда кожаный мешочек, протягивает его вещунье.
— Пусть будет так, я отомщу только за себя. Но ты поможешь мне.
Рогнеда выхватывает мешочек, прячет его у себя за пазухой.
— Приказывай, хазарин.
— Завтра ты придешь к ярлу Эрику и скажешь, что видела во сне Одина, что он звал варягов в поход на славян, но не против древлян, а на киевлян.
— Эрик позовет старого дротта, и он повторит то, что уже сказал прошлой ночью.
— Он не найдет старого дротта, — с зловещей усмешкой говорит Хозрой.
Вещунья с испугом смотрит на купца.
— Что ж, все люди смертны, — наконец выговаривает она. — Но не будет этого дротта, будет другой.
— Дротты тоже люди, — перебивает ее Хозрой. — Ты знаешь всех жрецов, Рогнеда, неужели все они избегают богатства?
Вещунья на мгновение задумывается.
— Я знаю одного… Говорить с ним буду я, а платить ты…
Утром среди варягов поползла молва, что старая колдунья Рогнеда видела вещий сон. Будто сам Один, явившийся к ней, снова звал ярла Эрика и его викингов в поход на русов, но не против древлян, а против киевской княгини Ольги. Когда же Эрик, услышавший об этом, приказал доставить к нему старого дротта, чтобы тот истолковал этот знак богов, посланцы явились ни с чем. Старый дротт еще вечером отправился в лес собирать целебные травы и до сих пор не вернулся. Распорядившись доставить его немедленно после прихода, Эрик послал за Рогнедой.
11
Прищурившись, князь Лют внимательно оглядывает стоящую перед ним девушку. Молодая, стройная, с миловидным свежим лицом, с распущенными по плечам длинными золотистыми волосами, она смело смотрит на князя.
— Кто ты, дева? — медленно спрашивает Лют.
— Я Любава, дочь твоего бывшего сотника Брячеслава. Вместе с тобой и киевским Игорем он ходил в последний поход на Царьград и не вернулся оттуда.
— Я помню его. Он был храбрым воином и умер со славой, как и подобает русичу. Но что привело ко мне тебя, его дочь?
— Княже, три дня назад я собирала в лесу грибы и наткнулась на раненого пса. Кто-то ударил его ножом, он потерял много крови и был едва жив. Я взяла его к себе, выходила целебными травами и кореньями. Но пес, едва встав на ноги, начал рваться в лес. Сегодня мы его отпустили, он прибежал в глухой овраг и стал разрывать лапами землю. Мы с матерью помогли ему и обнаружили мертвеца. Человек этот умер не своей смертью, княже, его убили. С этой татьбой я и пришла к тебе.
— Ты знаешь убитого?
— Да, княже. Это чужеземец, варяг. И не простой викинг или купец, а главный их жрец. Я слышала на торжище, что он пошел в лес и до сих пор не вернулся.
Лют опускает голову, хмурится. Он тоже знает, что в лесу исчез верховный жрец Одина, что его поиски ни к чему не привели. И вот сейчас, если девушка говорит правду, обнаружен его труп. Это может накликать беду. Русские законы делили убийства на два вида: в сваде, то есть в ссоре, неумышленно, по неосторожности, и в разбое, то есть заранее обдуманно, с умыслом. Сейчас был случай явного разбоя.
— В день, когда нашла собаку, видела еще кого в лесу? — спрашивает князь.
— Да. Встретила двух челядников одного хазарского купца. Заметив меня, они спрятались за деревом, но я за день до этого покупала у хазарина бусы и хорошо запомнила их.
— Кто тот купец?
— Хозрой. Он уже несколько дней сидит на торжище.
— Слыхал о таком, вертится он вокруг пришлых варягов. Понятное дело: у него товар, у викингов — деньги. Но что делать его челядникам в лесу, зачем прятаться? Ты не ошибаешься, Любава?
— Нет, княже, не ошибаюсь.
— Хорошо, жди меня во дворе. Укажешь место, уже оттуда я начну гнать след. И знай, что с этой минуты ты главный видок в этом деле.
Когда девушка выходит, Лют громко хлопает в ладоши, и на пороге горницы вырастает слуга-дружинник.
— Пошли за ярлом Эриком и хазарином купцом Хозроем, — приказывает князь. — Чтобы к обеду оба были здесь…
Хозроя приводят на княжеское подворье уже через час прямо с торжища, ярл Эрик является в назначенное время, окруженный десятком вооруженных викингов. Князь Лют, коротко сообщив собравшимся обо всем случившемся, велит Любаве идти в лес и показать место, где она нашла труп.
Жрец лежит в неглубокой яме лицом вниз, убитый ударом ножа в спину. По содранной одежде видно, что его тащили, прежде чем закопать здесь.
— Любава, — говорит князь Лют, — ты единственный видок, расскажи всем, что видела и знаешь. И помни, что за ложное слово падет на тебя гнев наших богов и тяжесть княжеской кары.
Торопясь от волнения, Любава быстро рассказывает все с самого начала.
— Хазарин, что делали в тот день в лесу твои рабы? — спрашивает Лют у Хозроя, когда Любава смолкает.
— Светлый князь, мои люди в тот день не были в лесу, — твердо говорит купец. — У меня здесь всего два раба, и оба весь тот день помогали мне на торжище.
— Что скажешь на это, дева? — спрашивает князь. — Настаиваешь ли, что видела в лесу слуг купца Хозроя?
— Это были они, княже. Я готова принести в том священную роту богам.
Лют смотрит на стоящего в окружении викингов Эрика.
— Ты все слышал, ярл? Кому у тебя больше веры: деве или хазарину? Дротт был твоим братом по крови и вере, а потому я прошу и тебя быть судьей в этом деле.
Эрик трогает свою густую рыжую бороду, пожимает плечами.
— Кто-то из двоих врет, а потому надо гнать след дальше.
Лют в знак согласия кивает головой, поднимает руку.
— Дева и купец, слушайте мое слово. Каждый из вас должен доказать свою правоту или уличить другого во лжи. А если через три дня и три ночи никто из вас не очистит себя от подозрений, вашу судьбу решит божий суд.
— Княже, у меня есть один видок, — громко звучит голос Любавы. — Он не может сказать в мою защиту ни одного слова, но он наверняка обличит хазарина во лжи.
— Кто он?
Девушка указывает на сидящего возле нее пса.
— Этот пес защищал своего хозяина и видел его убийц. Прикажи доставить сюда челядников хазарина, и пес укажет убийцу своего хозяина.
У Хозроя от страха перехватывает дыхание, но он ничем не выдает своего волнения.
— Светлый князь, моих рабов нет сейчас в городе. Еще утром я отправил их вниз по реке скупать мед и воск. Прости, светлый князь, за это…
И тут на помощь Хозрою приходит Эрик.
— Когда вернутся твои рабы? — спрашивает он.
— Завтра вечером.
— Сразу приходи с ними на княжье подворье. Мы с князем будем ждать там. И горе тебе, если ты лжешь…
12
Микула не первый год знает стоящего перед ним дружинника, но все-таки еще раз внимательно оглядывает его. Высокий, широкоплечий, весь налитый здоровьем и силой, это лучший сотник из числа подчиненных Микуле воинов, его правая рука в том непростом деле, из-за которого тысяцкий прибыл в Полоцк.
— Ярослав, — говорит Микула, — мы смогли перехитрить наших врагов в священной роще, но не усмотрели за ними до конца. Они убили старого варяжского дротта, и теперь голос и воля бога викингов Одина в руках вещуньи Рогнеды и хазарина Хозроя. Они хотят бросить двадцать сотен варяжских мечей против наших братьев-киевлян. Наша цель — не допустить этого. Вот я и призвал тебя ночью. Если наши враги не дремлют, не время спать и нам.
— Я слушаю тебя, воевода.
— Сегодня в лесу найдено тело убитого дротта. Я уверен, что его смерть — дело рук Хозроя и Рогнеды, но это надо доказать князю Люту и ярлу Эрику. Это могут сделать только Любава и уцелевший пес покойного. Это понимаем не только мы, но и убийцы, и они постараются избавиться от видоков любым способом. Мы должны сберечь девушку и пса до судного дня. Возьми десяток лучших воинов и не отходи от Любавы ни на шаг.
— Воевода, с этой минуты ее жизнь будет на моей совести, — склоняет голову сотник.
— Выслушай и запомни на прощанье один совет: пуще всего опасайся старого хазарина. Он хитер и вероломен, подл и коварен, для него нет ничего святого. А потому бойся его как ползучей гадины…
13
Лодка утыкается носом в берег, останавливается. Сотник Ярослав поднимается со скамьи, легко прыгает на песок, смотрит на двух гребцов-дружинников, вытаскивающих из уключин весла.
— Захватите рыбу и сразу к Любаве… буду ждать вас у нее.
Он поправляет на голове шапку, стучит сапогом о сапог, стряхивая с них прилипшую рыбью чешую, взбегает вверх по склону обрыва. Придерживая рукой ножны меча, быстро шагает по тропинке, причудливо петляющей между кустами. Солнце прячется за верхушки деревьев, в лесу начинает темнеть, от близкой реки веет прохладой. Сотник зябко передергивает плечами и с сожалением думает, что зря не взял с собой на рыбалку плащ, оставив его утром в избе у Любавы.
Вдруг он замедляет шаг, останавливается. Прямо на тропа лежит узорчатый пояс, к нему пристегнут широкий кривой кинжал в богато украшенных ножнах. Сотник наклоняется к поясу, и в тот же миг сильный удар дубиной обрушивается ему на голову.
Он приходит в сознание на дне глубокого оврага. Руки и ноги связаны, во рту кляп, ножны меча и кинжала пусты. Не показывая, что пришел в себя, Ярослав сквозь едва приоткрытые веки бросает внимательный взгляд по сторонам. Возле костра сидят пятеро, троих из них сотник узнает сразу: это хазарский купец и два его раба-челядника. Недалеко от огнища лежат на земле еще несколько воинов-варягов, они пьют из кубков хмельный ол, заедая его вяленой рыбой с хлебом. Ярослав напрягает слух.
— Что скажешь, раб? — спрашивает Хозрой у своего челядника. — Сделал, что я велел?
— Да, господин. Я узнал: киевский тысяцкий поставил на постой к Любаве пять своих воинов. По твоему приказу мы выкрали старшего.
— Хорошо. Окуните его в ручей, пусть очнется.
Сотника грубо хватают за ноги. Он слабо стонет, и его снова кладут на землю.
— Рус, ты полностью в моей власти, — говорит Хозрой. — Выбирай: проведешь нас в избу к Любаве или примешь смерть в этом овраге.
Ярослав презрительно кривит губы, отворачивается. Хозрой поднимается на ноги, со злостью пинает сотника в бок.
— Проклятый рус, я так и знал, что он откажется. Но ничего, одним на подворье меньше будет.
Он отходит к костру, смотрит на челядников.
— Тушите костер, сейчас идем к Любаве. А ты, — смотрит он на одного из рабов, — останешься здесь и перережешь русу горло.
Когда костер гаснет, а Хозрой со своими спутниками исчезает в лесу, оставшийся в овраге челядник подходит к Ярославу. Выхватив нож, он заносит его над головой сотника, но затем опускает. Разве он забыл, что душа убитого руса, видевшая и запомнившая убийцу, будет преследовать его днем и ночью, во сне и наяву, чтобы отомстить? И потому он не отберет жизнь у связанного руса, пусть он умрет сам. Проверив надежность пут на руках и ногах сотника, он привязывает его к дереву. Пусть комары отнимут жизнь у руса, пусть им мстит его душа, лишенная тела и не вознесшаяся к предкам, обреченная неприкаянной вечно скитаться между небом и землей…
Недалеко от избы Любавы Хозроя встречает один из его тайных соглядатаев.
— Все в порядке, господин, — сообщает он, — русы спят. Все ночуют на сеновале, так что Любава с матерью в избе одни.
Хозрой не теряет ни минуты, все им продумано заранее. Десяток варягов, которым он хорошо заплатил, осторожно перелезают через плетень. Четверо из них с обнаженными мечами замирают возле сеновала, остальные подкрадываются к избе. Вот они подпирают колом дверь, обкладывают стены сухим мохом, поливают его дегтем. После этого четверо с луками в руках прячутся в кустах напротив окон, двое остаются возле стены. Вспыхивает едва заметный огонек, пахнет дымом. Внутри избы раздается собачий лай, варяги, спрятавшиеся в кустах, натягивают тетивы своих луков, но спустить их не успевают. В воздухе свистят стрелы, и все четверо падают мертвыми на сухую траву. Двое поджигателей бросаются к плетню, но стрелы неизвестных стрелков догоняют их на полпути. Четверо викингов, стоящих возле дверей сеновала, бросают мечи и хватаются за свои луки, но поздно: они тоже разделяют участь остальных своих товарищей, пережив их лишь на несколько мгновений.
Хитер и изворотлив хазарин Хозрой, но он не учел, что хитры и другие. Сотник Ярослав, поселившись у Любавы с четырьмя дружинниками, шести остальным велел днем находиться в другом месте, а ночью тайно и бесшумно пробираться через зады подворья к избе и не спускать с нее глаз. И все случилось именно так, как рассчитал русский сотник. Когда стоявший в стороне Хозрой увидел появившихся на подворье шестерых русичей с луками в руках и выскочивших с сеновала еще четверых с обнаженными мечами, он понял все, И он бросился в темноту, как тать, преследуемый сторожами.
14
Голос священника звучит тихо и проникновенно:
— Дочь моя, уже не первый раз предупреждаю я об опасности, но ты не внемлешь словам моим, все боишься защитить себя и сына,
Ольга удивленно вскидывает глаза.
— Защитить сына? Но что ему угрожает? Святой отец, ты что-то знаешь?
— Дочь моя, смотри, ты можешь опоздать в борьбе с недругами…
— Я слушаю тебя, святой отец.
В глазах священника зажигается радостный блеск. Вот тот долгожданный миг, когда он вложит в ее смятенную душу свою волю.
— Беда грозит не только тебе, но и сыну. Я знаю лишь один способ спасти Святослава. Но он потребует от тебя истинно материнской мудрости и твердости. — Григорий замолкает, внимательно смотрит на Ольгу.
— Продолжай, — глухо говорит княгиня.
— Твой сын должен находиться там, где его не достанут никакие враги, Разве по договорам с Византией, заключенным князем Олегом и князем Игорем, Русь и империя не должны помогать друг другу?
Ольга грустно усмехается.
— Я знаю эти договора, святой отец. Но Русь еще никогда не просила помощи у империи, зато сколько раз молила об этом Византия. И сколько раз посылала Русь ей на помощь свои дружины, проливала свою кровь за ее интересы. Я не нуждаюсь в помощи империи, святой отец.
— Ты не так поняла, дочь моя. Не Русь будет просить помощи у Византии, а ты, мать и христианка, попросишь убежище для своего сына у патриарха, но для этого ты должна крестить сына. Первый среди христиан не может приютить у себя язычника.
Глаза Ольги широко открываются.
— Крестить? Кто мне это позволит?
— Мы сделаем это тайно, дочь моя, о крещении будут знать только двое — ты и я.
Ольга задумывается. Священник принимает это за смятение и колебание и спешит закрепить успех, тотчас велит служке принести купель и все необходимое для крещения.
— Приступим, дочь моя? — осторожно спрашивает он.
Ольга не успевает ответить. Полог шатра распахивается, на пороге вырастают фигуры воевод.
— Прости, великая княгиня, что тревожим, — говорит Ратибор. — Мы проверяли стражу и видели, как к твоему шатру скользнула тень. Потому и решили узнать, все ли у тебя спокойно.
Взгляд воеводы останавливается на купели, лежащих на столе евангелии, кропиле, большом кресте.
— Что задумал, ромей? — грозно спрашивает Ратибор.
Григорий выпрямляется перед воеводой во весь свой рост, берет со стола крест-распятие, выставляет его перед собой.
— Не богохульствуй, язычник! Не мешай творить святой обряд!
— Святой обряд? — Воевода отшатывается и хватается за меч.
— Остановись, воевода, — устало говорит Ольга и машет рукой Григорию: — Иди отдыхать, святой отец. А вы, Асмус и Свенельд, проводите его.
Когда в шатре остается один Ратибор, Ольга откидывается на спинку кресла, звонко, весело смеется. От неожиданности Ратибор вздрагивает.
— Прости, великая княгиня!
— Я смеюсь над ромеем, — говорит Ольга. — Смешны и жалки эти иноземцы в своем самолюбовании и кичливости. Ромей думает, я не вижу, что он хочет править через меня Русью.
— Он опасен, великая княгиня, — замечает Ратибор.
— Знаю, воевода. И потому не хочу рисковать жизнью сына. Сегодня утром ты возьмешь княжича к себе в дружину. Мудрейший из русичей — Асмус — его дядька, так пусть еще и храбрейший из воинов станет ему учителем. Пусть уже сейчас знает княжич друзей и врагов Руси, пусть отроком познает жизнь и думы русичей, пусть с детства растет заступником земли русской.
— Ты правильно решила, великая княгиня, — дрогнувшим голосом говорит Ратибор. — Пусть сама Русь будет учителем и воспитателем юного княжича, а тысяцкий Микула станет ему наставником и другом. Но что делать с ромеем?
— Забудь о нем, воевода. Ромей хитер, льстив и вероломен, но таковы все, кто правит новым Римом, нашим извечным недругом. А чтобы побеждать врагов, их надо знать, причем не только то, что они говорят и пишут о себе, но и что скрывают. Я многое узнала у ромея, но сколько еще хотелось бы и понять! Я хочу познать, как живет империя, как управляют базилевсы своими двунадесятью народами, как собирают они налоги, как борются со смутами. Так пусть мой святой отец, сам того не ведая, послужит не только новому Риму, но и Руси…
15
Деревянный пол скрипит и прогибается под тяжелыми шагами князя Люта, который, заложив руки за спину, ходит из угла в угол перед стоящим в дверях тысяцким Микулой.
— Я не звал тебя, киевлянин. Разве мои гридни не сказали, что после обеда я всегда почиваю?
— Сказали, князь. Но что значат слова гридней, коли брат нужен брату?
— Я не брат тебе, тысяцкий. Но раз ты пришел, готовься держать ответ за свои дела. О них я хотел говорить с тобой вечером, но ты сам ускорил этот разговор.
— Слушаю тебя, князь.
— Вчера утром на подворье Любавы, дочери покойного сотника Брячеслава, найден десяток побитых стрелами варягов. В этой татьбе ярл Эрик обвиняет тебя, тысяцкий Микула. Он требует на тебя управы.
Нахмурив брови, Микула пристально смотрит на Люта.
— Управы требует только варяжский ярл или ты тоже, полоцкий князь?
— Пока только ярл.
— Князь, я привык отвечать за свои дела. Но сейчас у нас есть другое, более важное.
Микула подходит к открытому окну, расстегивает широкий пояс, кладет его вместе с мечом на лавку, начинает снимать кольчугу. Замерев от удивления на месте, Лют смотрит, как тысяцкий стягивает с себя вначале кольчугу, затем рубаху и, обнаженный по пояс, становится в поток солнечных лучей, льющихся через окно в горницу.
— Смотри, князь, — говорит он, поднимая руку.
И в лучах солнца под мышкой у тысяцкого Лют видит выжженное каленым железом тавро: длинный русский щит и скрещенные под ним два копья. Это тайный знак, наложенный в грозовую ночь на днепровской круче. Точно такой же знак уже двадцать лет носит на своем теле и полоцкий князь.
— Здравствуй, брат, — тихо говорит Лют. — Прости за обидные речи, что слышал от меня. Почему сразу не сказал, кто ты?
— Потому что ты знал меня только как посла великой княгине Ольги. Но сегодня утром прискакал ко мне гонец от главного воеводы Ратибора с вестью о раде наших другов-братьев и взятии Искоростеня. Потому, княже, я буду говорить с тобой от имени рады и воеводы Ратибора, ставшего после смерти князя Игоря нашим первым и старшим братом. Не великокняжеский гонец, а твой брат будет говорить с тобой.
— Слушаю тебя, — склоняет голову Лют.
— Узнав о смуте в древлянской земле, недруги Руси решили воспользоваться этим, поживиться за ее счет. И рада велела нам, князь Лют, не допустить, чтобы викинги ярла Эрика обнажили меч против Руси, чтобы никакой другой супостат с запада или севера не топтал Русскую землю. Вот чего требует от нас с тобой рада, вот о чем по ее повелению пришел я говорить с тобой.
Глаза полоцкого князя зло сверкают, губы растягиваются в кривую, недобрую усмешку, пальцы обеих рук сжимаются в кулаки.
— Значит, вороги решили слететься к русским рубежам?! — с присвистом переспрашивает он. — Что ж, пускай слетаются, посмотрим, кто из них назад улетит!
Ударом ноги он распахивает дверь.
— Гридень! Прикажи принести нам с тысяцким заморского вина и старого меда! Самого лучшего, что храню для дорогих гостей! И живо, нам некогда ждать!
16
Подворье перед княжеским теремом полно народа. Тут полоцкие горожане и ремесленники, смерды из окрестных весей, русские и варяжские дружинники, славянские и иноземные купцы с торжища. Вездесущая детвора облепила даже деревья и крыши соседних домов. На высоком крыльце терема сидит князь Лют, рядом с ним стоят ярл Эрик и тысяцкий Минула, за ними теснится группа знатных полочан и викингов. Перед крыльцом лицом к князю и ярлу стоят хазарин Хозрой и Любава, слева от них сидят на длинной деревянной скамье русские и варяжские жрецы. Толпа бурлит, она возбуждена и полна нетерпения. Князь Лют поднимает правую руку. И сразу на подворье наступает тишина.
— Заморский гость и ты, русская дева, — говорит князь, — я дал вам три дня, чтобы вы доказали правоту своих слов. Что скажешь ты, купец?
— Мои рабы не были в лесу, светлый князь, они могли бы подтвердить это даже при испытании огнем и железом. Но они до сих пор не вернулись ко мне, я не знаю, где они и что с ними.
— Кто еще, кроме исчезнувших рабов, может очистить тебя от навета?
— Никто, светлый князь. Я стар и одинок, брошен даже своими рабами. Кто может стать на мою защиту? — Голос хазарина дрожит от волнения, на глазах появляются слезы. — Вся моя надежда — только на твое великодушие и доброту, светлый полоцкий князь.
— А что скажешь ты, дева? — спрашивает Лют.
— Челядники купца были в лесу, — громко отвечает девушка. — Их видела я, их может узнать этот пес, который защищал своего хозяина. Поэтому кто-то и хотел сжечь нас обоих., поэтому и нет сегодня на судилище челядников купца.
— Кто еще, кроме бессловесного пса, может подтвердить твой навет на купца? — спрашивает Лют.
— Сам купец, — смело говорит Любава. — Разве мнимое исчезновение его рабов не говорит о том, что он боится показать их псу убитого дротта?
В толпе на подворье возникает гомон, но князь Лют снова поднимает руку, и шум стихает.
— Купец и дева, никто из вас не убедил меня в своей правоте. И потому тяжбу между вами пусть решит божий суд. Я обещал вам его, так пусть он свершится!
— Да будет так, — твердо говорит стоящий рядом ярл Эрик.
Сидящие на скамье верховный жрец Перуна и главный дротт Одина встают, варяг вздымает руки к солнцу, славянин с силой бьет концом посоха в землю.
— Божий суд!..
Русичи знают несколько видов божьего суда: испытание огнем, железом, водой, или судебный поединок между сторонами или свидетелями. Божьи суды применяются, когда показаний послухов или видоков, а также других доказательств явно недостаточно. Тогда правоту одной из сторон указывают боги, всегда встающие на сторону невиновного. Но у славянки и у хазарина разные боги. Значит, покровительство неба обеспечено обоим, и остается самый надежный и проверенный способ — поединок. Но как могут сражаться старик и женщина?
— Купец и дева, вашу судьбу должны решить боги! — говорит князь Лют. — Но негоже бороться старости и материнству, а потому волю богов пусть узнают те, кто встанет на вашу защиту! Так гласят законы и так будет!
Князь медленно обводит глазами замершую перед ним толпу.
— Люди! Русичи и иноземцы! Кто желает встать на защиту гостя из Хазарии и доказать его невиновность?
Какое-то время над подворьем висит тишина.
— Я сделаю это!
Лют сразу узнает шагнувшего. Это Индульф, сотник из дружины ярла Эрика, один из лучших бойцов. Исполинского роста, с могучими плечами, длинными руками, обладающий необузданным нравом, он силен и опытен. В бою он всегда стоит в передней шеренге, первым бросается на чужую стену щитов. Не знает только князь Лют, какой ценой удалось купцу Хозрою купить этого воина.
Посреди подворья Индульф останавливается, со свистом вырывает из ножен длинный тяжелый меч, облокачивается на огромный, величиной с амбарную дверь, щит. Его шлем, украшенный перьями, сверкает, кольчуга, усиленная на груди квадратными стальными пластинами, тускло блестит, сам викинг, уверенный в своей силе и непобедимости, горделиво смотрит по сторонам. Дикой и несокрушимой силой веет от его огромной фигуры, страх и ужас вызывает его чуть искривленный широкий меч, его заросшее густой бородой и испещренное багровыми шрамами лицо.
А перст князя Люта уже направлен на Любаву.
— А кто встанет на защиту славянской девы? Кто принимает вызов отважного викинга Индульфа?
Едва стихает звук его голоса, как тысяцкий Микула делает шаг вперед.
— Я, княже!
Толпа на подворье взрывается гулом восторженных голосов. Микула спускается с крыльца, идет сквозь расступающийся перед ним людской водоворот, Не доходя до викинга несколько шагов, тысяцкий останавливается, спокойно обнажает свой меч. Варяг на голову выше русича, рядом со стройным и подтянутым славянином он кажется каменной глыбой.
Стоящий на крыльце князь Лют резко опускает руку.
— Да свершится воля богов!
И в то же мгновенье, даже не размахнувшись, викинг прямо с земли устремляет свой меч в грудь русича. Но Микула начеку. Не сдвигаясь с места, он лишь подставляет край своего щита. Рванув меч назад, Индульф заносит его над головой и обрушивает на противника новый удар. Отскочив в сторону, Микула избегает удара и мгновенно наносит свой, но русская сталь лишь скользит по умело подставленному щиту. Проревев, словно раненый тур, викинг выставляет вперед огромный щит и, вращая над головой мечом, наступает на русича. Удары падают один за другим. Микула с трудом увертывается от них, принимая на щит только самые опасные.
— Индульф, Индульф! — беснуются стоящие в толпе викинги.
Они знают толк в подобного рода зрелищах. Наемные воины, сражающиеся почти во всех концах мира, они видели бои специально обученных рабов-гладиаторов, поединки на ипподромах людей с дикими зверями, не в диковинку им и судебные поединки. И схватка между такими опытными и знаменитыми воинами, как Индульф и Микула, доставляет им истинное наслаждение.
Подбадриваемый криками товарищей, Индульф наседает на Микулу. От его частых и сильных ударов уже нет возможности уклоняться, они сыплются градом, все чаще и чаще падают на русский щит. И вот под очередным ударом щит трещит. Кажется, что еще немного, и он разлетится вдребезги. И тут Микула отбрасывает щит в сторону и обхватывает рукоять меча обеими руками. И вмиг стихают крики беснующихся викингов. Все находящиеся на подворье вдруг понимают, что настоящий бой начинается только сейчас.
Глаза Микулы недобро вспыхивают, на лице появляется и застывает злая гримаса. Пригнувшись, киевлянин первый прыгает на врага. Быстр и точен удар его меча, искрится и гремит под ним варяжский щит, а славянский меч уже сверкает перед самыми глазами викинга, заставляя его отшатнуться в сторону. Теперь наступает Микула. Он заставляет Индульфа все время прятаться за щитом, не дает ему возможности нанести ни одного своего удара. Но вот, выбрав момент, Индульф быстро шагает вперед и заносит свой огромный меч над головой Микулы. Прыгнув навстречу, Микула перехватывает его своим мечом. И так они замирают в шаге друг от друга. От неимоверных усилий на шее варяга вздуваются синие вены, округляются и лезут из орбит глаза, багровеет лицо. И когда кажется, что славянин сейчас не выдержит, он вдруг отпрыгивает в сторону и приседает, держа перед собой меч. Индульф бросается вперед, тут Микула с силой выбрасывает свой меч под открывшийся левый край щита варяга.
Многоопытен и расчетлив киевский тысяцкий, зорок и верен его глаз, а потому точен и неотразим удар. Меч входит в узкую полоску между двумя стальными пластинами на кольчуге викинга. Сделав шаг навстречу Микуле, он тяжело падает на землю.
Какое-то время на подворье стоит мертвая тишина, затем она взрывается громкими криками полоцких горожан и дружинников, Лишь викинги, угрюмо насупившись, хранят молчание.
— Люди, русичи и иноземцы! — звучит над подворьем голос князя Люта. — На ваших глазах свершился суд божий, само небо указало нам правого и виновного! Русская дева, волей богов ты очищена от подозрений, и все твои слова признаны правдой! А ты, хазарин, будешь держать ответ за свое злодеяние.
Князь оборачивается в сторону Хозроя, но место, где купец только что был, пусто. Презрительно скривив губы. Лют поднимает руку.
— Люди, слушайте все! Хазарский купец Хозрой отныне не гость Руси, а тать и головник! Всяк, кто изловит и доставит его ко мне, получит награду!
Подворье постепенно пустеет, вскоре на нем остается лишь группа викингов, окруживших мертвого Индульфа, Устало опустившись на крыльцо, Лют смотрит на Эрика.
— Ярл, вечером у меня застолье, жду на нем и тебя с викингами.
17
Веселье в княжеском тереме в полном разгаре, когда Лют ставит на стол свой кубок, трогает за локоть Эрика.
— Ярл, погоди пить, хочу спросить тебя.
Эрик с неудовольствием отнимает от губ чашу с вином, вытирает рукой липкую от хмельного зелья бороду.
— Слушаю тебя, брат.
— Ты обещал спросить совета у богов и сказать мне, куда двинешься из Полоцка со своими викингами. С тех пор прошло много времени, а я так и не слышал твоего ответа. Скажи мне его сейчас…
— Боги не дали нам ответа, брат. Один указал старому дротту дорогу на древлян, а райские девы валькирии, говорившие с вещуньей Рогнедой, и огненные стрелы, посланные Тором, позвали нас в поход на полян. Когда новый дротт снова хотел узнать волю неба, боги не ответили ему ничего. Я до сих пор не знаю, что мне делать.
— Жаль, — жестко говорит Лют, — потому что завтра вечером тебе придется покинуть полоцкую землю.
Эрик удивленно поднимает брови.
— Завтра вечером? Ты торопишь меня? А мне еще Нужно узнать волю богов и держать перед походом совет со своими воинами-гирдманами.
— У тебя для этого будет сегодняшняя ночь и целый день завтра, ярл. За это время ты можешь сделать все. Главное, запомни одно: чтобы завтра вечером ни одного твоего викинга в Полоцке не было,
Ярл с грохотом ставит чашу на стол, поднимает на Люта глаза.
— Ты гонишь меня, брат? Ты забыл о святом законе гостеприимства?
Глаза Люта сужаются, на скулах вздуваются желваки.
— Закон гостеприимства, ярл? И это говоришь мне ты? Мы, русичи, добры и приветливы к своим друзьям и гостям, но мы суровы к врагам. А ты уже не гость на полоцкой земле, ярл. Вступив в злодейский сговор с хазарином Хозроем, ты собираешься вести своих викингов на киевлян, наших братьев. Возноси хвалу небу, что я еще разговариваю с тобой.
Эрик с такой силой ударяет кулаком по столу, что подпрыгивают и падают кубки.
— Ты угрожаешь мне, полоцкий князь? Смотри, пожалеешь об этом.
Лют тихо смеется.
— Мне незачем угрожать тебе, ярл. Я просто не хочу лишней крови, а потому взываю к твоему благоразумию. Ты перестал быть гостем полоцкой земли — так покинь ее подобру-поздорову.
— Ошибаешься, князь. Одно мое слово, и конунгом Полоцка стану я.
Лют хватает Эрика за локоть, с силой сжимает его и, заставив ярла встать, подводит его к открытому настежь окну.
— Взгляни на подворье, ярл.
Тряхнув головой, чувствуя, что начинает трезветь, Эрик смотрит во двор. Внизу у длинных столов вперемежку сидят русские и варяжские дружинники. Эрик с ужасом замечает, как пьяны его викинги. Многие еле держатся на ногах, другие свалились на землю и спят под столами, те, что еще способны передвигаться, сгрудились вокруг седого певца-скальда и подпевают ему хриплыми голосами. Эрик обращает внимание и на то, как много снует сегодня между столами княжьих прислужников-гридней в шлемах и боевых кольчугах. От взгляда ярла не ускользает и несколько групп русских дружинников, стоящих в тени деревьев невдалеке от пирующих со щитами и копьями в руках.
Подошедший к Люту киевлянин Микула протягивает ему горящий факел, и князь со зловещей усмешкой оборачивается к Эрику.
— Ярл, стоит мне взмахнуть этим факелом в окне, и через минуту на подворье не будет ни одного живого викинга. А через час будут подняты на копья все остальные варяги, находящиеся в городе. Я отправил им от твоего имени три десятка бочек самого крепкого пива и несколько сулей вина, и потому они сейчас так же пьяны, как эти, — кивает Лют на подворье.
— Вокруг города четырнадцать сотен викингов, — глухо произносит Эрик. — Они завтра же отомстят за нас.
— Эти викинги тоже не доживут до завтра, ярл. Вокруг Полоцка стоят по весям на кормлении у смердов двадцать пять сотен моих дружинников. И если твои викинги сейчас спят, то мои русичи готовы к бою и только ждут сигнала, чтобы обрушиться на них. Взгляни на ту стрельницу, — кивает князь в сторону виднеющейся в окно части городской стены.
Только тут Эрик замечает на крепостной башне русских дружинников с зажженными факелами в руках. У их ног темнеет куча валежника.
— Костер на стрельнице — это смертный приговор твоим варягам, — продолжает князь. — А теперь, ярл, взвесь все, что слышал и видел.
Эрик попеременно смотрит на Люта и Микулу, опускает глаза.
— Я вас понял, русы. Даю слово ярла и викинга: завтра вечером в Полоцке не останется ни одного варяга.
18
Пробравшись в избу, занимаемую ярлом Эриком, Хозрой прячется в самый темный угол и ждет. Ярл возвращается с княжеского пира в мрачном расположении духа.
— Челом тебе, великий ярл, — заискивающе говорит из своего угла хазарин.
— А, это ты, проклятый искуситель, — зло цедит Эрик. — Это благодаря тебе меня, непобедимого ярла, гонят из Полоцка как последнюю собаку.
— Все идет как должно. Выслушай меня, славный ярл.
— Говори, — напрягается Эрик. — Но смотри, как бы эти слова не стали последними в твоей жизни.
— Час мести не так далек, как тебе кажется. Скажи, куда ты пойдешь из Полоцка?
— Еще не знаю.
— Киевская княгиня разрешает тебе следовать по Днепру в Русское море и дальше в Константинополь — не упускай эту возможность. И когда будешь проплывать мимо Киева, захвати его и провозгласи себя великим киевским князем.
Эрик презрительно фыркает.
— Это не так просто, хазарин.
— А и не так трудно. Киевские дружины с княгиней Ольгой сейчас в древлянской земле. А в Киеве мои верные люди, которые расскажут тебе обо всем, что там делается, и помогут захватить город. И тогда конунгом всей Руси будешь ты, славный ярл, а полоцкий князь Лют приползет к тебе на коленях, моля о пощаде.
Зажав бороду в кулак, Эрик тяжело ходит по избе от стены к стене. И вдруг останавливается, вскидывает голову.
— Я захвачу Киев! А если Русь не признает меня конунгом, позову на помощь тевтонов и ляхов. Пообещаю полоцкую и новгородскую земли Свионии, и под мое знамя встанут новые тысячи викингов.
— Великий хазарский каган поможет тебе, славный ярл.
Глубокие морщины на лбу Эрика разглаживаются.
— Не вечером, а уже в полдень я покину город. И горе полочанам. Когда я стану конунгом Руси, они заплатят мне за все.
Осторожно приблизившись к Эрику, Хозрой трогает его за локоть.
— Прости, великий ярл, но у меня к тебе просьба. Помоги мне незамеченным выбраться из города.
— Хорошо, хазарин, мои викинги спрячут тебя.
На другой день слуги ярла вывозят Хозроя в телеге среди мешков с провизией. За городом у реки они незаметно выпускают его, и хазарин исчезает в кустах, направляясь к трем дубам — условленному месту, где его дожидаются рабы.
К трем дубам на берегу Двины Хозрой выходит в темноте. Спрятавшись в кустах, тпижды ухает филином. Услышав в ответ протяжный волчий вой, выходит на берег, оглядывается по сторонам. От ствола одного из деревьев отделяется фигура в плаще, склоняет в низком поклоне голову, быстро идет к реке. Хозрой следует за ней. В густом тальнике под высоким глинистым берегом спрятан челн, на веслах сидит еще одна фигура в темном плаще с наброшенным на голову капюшоном. Раб протягивает Хозрою руку, помогает шагнуть в шатающийся на волнах челн. Рабы дружно ударяют веслами по воде, челн отходит от берега, выплывает на быстрину.
Приятная истома разливается по телу хазарина. Все, что надлежало сделать в Полоцке, сделано. Все осталось позади. Теперь скорей в Киев…
Один из гребцов, тот, что встречал Хозроя на берегу, откладывает в сторону весло, сбрасывает с головы капюшон.
— Хазарин, узнаешь ли меня? — глухо звучит над водой его голос.
Хозрой вздрагивает, с ужасом смотрит на гребца. Что это — сон, навьи чары? Прямо перед ним на скамье сидит тот самый русский сотник, которого по его приказу обманом захватили на лесной тропе и который сейчас должен гнить в земле.
Не спуская глаз с хазарина, сотник выдергивает из-под скамьи большой рогожий куль, и Хозрой, вдруг все сразу поняв, падает на колени.
— Пощади! Я дам тебе золота, сколько сможешь поднять. Пощади!..
Быстрым движением сотник набрасывает рогожу на Хозроя, и через минуту большой дергающийся куль с плеском исчезает в омуте.
— Подождем, — говорит Ярослав, кладя к себе на колени лук. — Это такая порода, того гляди выплывет,
В появлении сотника нет ничего загадочного. Его хватились у Любавы сразу же, как только пришли с уловом остальные два его товарища. Решив, что сотник просто где-то задержался и придет позже, все спокойно поужинали и легли спать. Ночное нападение варягов заставило уже по-новому воспринять исчезновение сотника. Взяв пса убитого дротта, дружинники вернулись на берег реки, откуда Ярослав один ушел к Любаее, и собака по следу нашла сотника.
Поверхность реки неподвижна, слабо шумит и клубится водяным туманом бездонный омут. Сотник откладывает в сторону лук, берет весло.
— В путь, друже. Мы должны быть в Киеве раньше варягов…
19
Хазарская конница идет на рысях по черной бескрайней степи. Старый хан Узбой, не первый раз совершающий набег на Русь, ведет ее только по ночам, сверяя свой путь по свету ночных светил и по одному ему известным степным приметам. Приказ, полученный ханом от самого кагана, короток и ясен: внезапно напасть на Киев, сжечь и уничтожить его, и так же быстро уйти в степь. Кагану на этот раз не нужно ни русское золото и меха, не нужны ему светлотелые и голубоглазые красавицы славянки и толпы полонянников. Кагану нужно просто уничтожить Киев и вызвать этим недовольство княгиней, оставившей город на произвол судьбы. Кагану нужна смута на Руси, большая смута. Тогда легче будет подчинить славян великой и могучей Хазарии.
На третий день пути хан велит позвать к себе сотника Саола.
— Саол, — говорит он, — ты знаешь степь не хуже меня, знаком ты и с русами. Не сегодня-завтра мы должны встретить их заставы и дозоры, стерегущие Русь от степи. Скачи со своей сотней вперед, и пусть ни одна русская застава не даст сигнала об опасности…
Первый русский сторожевой пост хазары обнаруживают уже на следующий день. На вершине степного кургана стоит высокая сторожевая вышка, на ней под навесом сложен готовый каждую минуту вспыхнуть костер из сухого валежника, рядом навалена куча сырой травы. На вышке маячат дозорные с копьями в руках, под вышкой стоят наготове под седлами лошади. Остальные русы должны быть парами рассыпаны по степи, именно они обязаны сообщить на вышку о замеченной опасности. И тогда на вышке вспыхнет огонь, на него сверху будет брошена влажная трава, и в безоблачное небо поползет густой столб дыма, сообщая следующему русскому посту о надвигающейся на Русь опасности. И так, от поста к посту, тревожная весть помчится к Киеву.
Спешившись, хазары осторожно подползают в высокой траве как можно ближе к вышке. Еще немного, и они будут у подножия кургана, там, где из предосторожности трава выкошена. И тут тревожно ржет один из русских коней. Оба дозорных настораживаются, один наклоняется над сложенным костром. И хотя до вышки еще не меньше двухсот шагов, хазары вскакивают и, выпустив стаю стрел, со всех ног бегут к вышке, над которой уже тонкой, еле заметной струйкой вьется дым. Русы, оставив копья, прямо со сторожевой площадки прыгают на лошадей, забрасывают за спины щиты, на скаку рвут из сагайдаков луки. Но хазары не преследуют их. Зачем? Дорога к следующему посту предусмотрительно перекрыта, так что русам не предупредить своих товарищей, а потому они не страшны. Ну а что можно взять в качестве добычи с этих русов, хотя и смелых, но простых воинов? Изрубленную в бою кольчугу, залитую кровью рубаху? Зато можно легко получить в горло метко пущенную стрелу, удар в грудь острым прямым мечом. Нет уж, пусть русы скачут куда угодно, хазарам не до них, глазное — не дать разгореться огню. Несколько степняков, взобравшись на площадку вышки, разбрасывают костер, затаптывают тлеющие ветви.
Сотник Саол довольно щурит узкие глаза, потирает руки. Первый сторожевой пост — самый опасный, другие дозорные, надеясь на своих товарищей, будут менее осторожны и бдительны. И взмахом короткой ременной нагайки он посылает своих конников вперед, где, по его расчетам, должен находиться следующий русский дозор…
В одном переходе от Днепра хан останавливает своих всадников. Сотник Саол сделал свое дело — ни один сигнальный русский костер не загорелся, Русь не знает о приближении к ее границам степных воинов. И завтра утром, проведя ночь на берегу безвестной речушки, притоке Днепра, отдохнувшая хазарская конница полным наметом, уже не таясь, понесется на Киев, и ничто не спасет славянский град, не отведет занесенной над ним кривой сабли…
20
В береговой песок уткнулись десятки варяжских лодий, их паруса бессильно обвисли, весла вытащены из воды. Яркая луна заливает желтым светом речную гладь, подступающий к самой воде лес. Вокруг догорающих костров спят викинги. За их плечами долгий, утомительный путь из далекого Полоцка.
Кроме стражи, не спит в своем шатре и ярл Эрик со своими двумя ближайшими сотниками. Напротив варягов стоит высокий, сутулящийся человек, он с головой кутается в дырявый плащ, на его глаза низко надвинута облезлая шапка.
— Я слушаю тебя, раб, — говорит Эрик. — Что велел передать мне твой хозяин?
— Он ждет тебя и готов сделать все, что ты ему прикажешь, славный ярл. Но прежде он должен знать, чего ты хочешь.
Эрик обнажает зубы в хищной усмешке, хрипло смеется.
— Мне нужен стол великих киевских конунгов, трел. И твой хозяин должен помочь мне в этом.
Фигура в плаще низко склоняет голову.
— Я понял тебя, светлый ярл. Но прежде чем стать великим князем всей Руси, надо взять Киев. А русы не отдадут его без боя… А каковы они в бою, ты знаешь…
— Я знаю русов, трел, — высокомерно произносит Эрик. — Но я знаю и то, что в Киеве всего три сотни воинов, остальные ушли с княгиней Ольгой под Искоростень и до сих пор не вернулись оттуда. Еще я знаю, что русы в Киеве ниоткуда не ждут беды и потому беспечны…
— Это только половина правды, славный ярл, — спокойно звучит голос человека в плаще. — Да, в городе только три согни дружинников. Но еще несколько дней назад из-под Искоростеня возвратилась конница воеводы Ярополка, и где она сейчас, — неведомо. Только боги знают, ярл, кто кому готовит западню: ты русам или они тебе.
Эрик кривит губы, с презрением смотрит на фигуру в плаще.
— Без риска не бывает удачи, трел. Ты был плохим воином, потому и стал рабом, мне не нужны твои советы. Лучше запоминай то, что передашь своему хозяину. Я не собираюсь лить кровь своих викингов на киевских стенах, я возьму город хитростью. Завтра часть моих викингов будет на киевском торжище, пусть твой хозяин тайно спрячет пять десятков из них в самом городе. Ночью ты проведешь по лесу три сотни викингов к Жидовским воротам, и по моему сигналу мы нападем на них сразу с двух сторон: снаружи и из самого города. А когда разгорится бой у ворот, остальные викинги ворвутся в Киев со стороны Днепра. Ты все понял, трел, ничего не напутаешь?
— Ничего, славный ярл. Я передам моему хозяину все сказанное тобой слово в слово.
Эрик лениво машет рукой.
— Тогда иди. А с закатом солнца снова будь у меня. Спеши, не теряй зря времени.
Фигура в плаще отвешивает низкий поклон и шагает к выходу. Едва за ней задергивается полог, один из сотников, в течение всего разговора не спускавший глаз с раба, оборачивается к Эрику.
— Ярл, ты уверен, что это тот человек, о котором говорил Хозрой? — спрашивает он.
Эрик с удивлением на него смотрит.
— От кого он может быть еще?
— Это не раб, — убежденно говорит Рогнар. — Я видел много рабов, но он на них непохож. Я смотрел на его осанку, вслушивался в его голос, и я говорю: он чувствует себя равным нам.
— Он назвал тайное слово, известное только мне и Хозрою.
— Только поэтому он и ушел живым, — угрюмо цедит сквозь зубы Рогнар. — И все-таки что-то настораживает меня. Кажется, я уже где-то видел этого человека, слышал его голос.
— Может, ты видел его у Хозроя? — предполагает Эрик. — Или встречал в империи. Ведь рабы меняют хозяев так же часто, как монеты кошельки.
Рогнар отрицательно качает головой.
— Нет, ярл, я никогда не запомнил бы раба, для меня они, все одинаковы.
— А может, он просто похож на кого-то?
— Может. И все-таки я чую: этот человек принесет нам беду.
— Пустое, Рогнар. Что может сделать жалкий раб?
— Предать. Трел — это говорящее животное, а ведь — даже собака иногда кусает своего хозяина. Он может открыть наш. тайный сговор киевлянам.
Эрик задумывается, медленно гладит бороду.
— Ты прав, Рогнар, — наконец говорит он. — Золото — великий искуситель, тем более для ничего не имеющего раба. Но неужели из-за твоего подозрения мы должны отказаться от возможности малой кровью захватить Киев?
— Нет, ярл, возможно, это наш единственный способ взять город. Давай доверимся рабу, но не до конца. Мы собирались напасть на Жидовские ворота, а давай нападем на Ляшские. Пусть наш путь станет длиннее, но так вернее.
21
Бескрайняя степь спит, приближается самый тревожный утренний час — время между зверем и собакой. Минуты, когда волк, хозяин ночной степи, уходит перед рассветом от человеческого жилья, уступая на день свое место собаке, а та, трусливо поджав хвост, еще боится покинуть своего защитника — человека. В эти мгновения степь ничья, на ее равнинах царят покой и тишина, все сковано сном.
Воевода Ярополк кладет руку на холку коня, смотрит на стоящих против него тысяцких.
— Вперед, други! И пусть ни одного хазарина не минует русский меч!
Тридцать сотен русских конников были тайно возвращены из-под Искоростеня за Днепр, в степь. Бывалые русские воеводы отлично знали, какие ненадежные соседи у Киева с востока и юга, а поэтому конница Ярополка должна была стать надежным заслоном на возможных путях печенегов или хазар. Дозорные Ярополка давно уже следят за хазарской ордой, неотступно идут за ней следом. Это по его приказу русские сторожевые посты, дабы усыпить осторожность хазар, не зажгли костров. И сейчас, когда степняки чувствуют себя в полной безопасности и отдыхают перед броском на Киев, расчетливый Ярополк и решил дать им бой.
Предрассветную тишину раскалывает топот сотен копыт, громкое ржание, звон оружия. Сметая на пути дремлющие хазарские секреты, на спящую орду обрушивается лавина всадников. Пройдясь по полусонным, ничего не понимающим хазарам копытами коней и клинками мечей, всадники достигают берега реки. Здесь, разделившись на две части, они скачут назад, отсекая пеших ордынцев от их лошадей, выстраиваются сплошной стеной между хазарским лагерем и отпущенными на ночные пастбища табунами.
Протирая на ходу заспанные глаза, хан с обнаженной саблей в руке выскакивает из шатра. То, что он видит, заставляет его оцепенеть. Два тесных строя конных, зажав его воинов с двух сторон, отсекают их от коней: привстав на стременах, чужие всадники засыпают мечущихся хазар ливнем стрел. А со стороны степи, уперев фланги в ряды своих конников, уже надвигаются плотные шеренги пеших воинов, несущих впереди себя сплошной частокол острых копий. И в сером предутреннем полумраке хан сразу узнает так нежданно свалившегося ему на голову врага — это русы.
Отбросив в сторону саблю и упав на колени, хан протягивает к небу руки, издает протяжный вопль, похожий скорее на волчий вой. Так воет матерый степной хищник в предвидении своего скорого конца…
22
Три сотни викингов под командованием ярла Эрика выступают к стенам Киева ночью. Едва отсвечивающая под луной лента Днепра исчезает за крутизной берега, ярл останавливает идущего впереди раба.
— Трел, как хочешь вести нас?
— Скоро будет овраг, по его дну мы подойдем почти к самым городским стенам. Левее от выхода из оврага и будут Жидовские ворота.
— Мы не пойдем по оврагу. Бери сейчас вправо и веди нас к Медвежьему озеру. А уже от него ты поведешь нас к Ляшским воротам.
Раб из-под капюшона плаща изумленно смотрит на Эрика.
— Ты же хотел к Жидовским, светлый ярл?
— К Ляшским. Я передумал, веди, куда велю.
— Да, господин, — склоняет голову раб.
— Я сегодня видел плохой сон, — с усмешкой говорит Эрик. — Боги открыли мне, что ты замыслил дурное. Так знай, что при первом подозрении стрелы моих викингов пронзят тебя. Не забывай об этом, иди. К рассвету мы должны быть у ворот…
Приказ ярла вести викингов к Ляшским воротам путает все планы мнимого раба, а на самом деле сотника Ярослава. Вместе с дружинниками тысяцкого Микулы, вернувшегося вчера в Киев, в городе всего четыреста воинов, и половина из них сейчас ждет викингов в засаде на выходе из оврага у Жидовских вооот. А вместо этого он приведет врагов к беззащитным Ляшским воротам. Нет, этого делать нельзя. Но что можно сделать? Отказаться вести варягов? Но Эрик когда-то охотился в этих местах с князем Игорем. Вдруг он сам найдет дорогу?
И тут Ярослава озаряет. Медвежье озеро! Именно здесь прошлой зимой объявился медведь-шатун, не набравший за лето жира и потому не залегший в берлогу. В поисках пищи он нападал на людей. И тогда князь Игорь приказал уничтожить голодного бродягу. В числе прочих ловушек было вырыто и несколько глубоких ям, прикрытых сверху жердями и тщательно замаскированных, дно которых было густо утыкано острыми кольями. Их копали под наблюдением Ярослава, и он до сих пор отлично помнит их расположение. Одна из этих ловушек была вырыта недалеко от озера, рядом со священным дубом.
— Скоро Медвежье озеро, — говорит Ярослав. — От священного дуба мы пойдем не по тропе, а в обход.
— Почему? — подозрительно спрашивает Эрик.
— На тропе возле дуба мы можем встретить русов, идущих держать совет с душами своих спустившихся на землю предков, — отвечает Ярослав. — А лишние глаза нам ни к чему.
— Хорошо, трел, веди в обход, — разрешает Эрик.
Ярослав разговаривает с ярлом, а глаза и мысли сотника обращены совсем не к нему, а к огромному, развесистому дубу-исполину, хорошо видному на фоне светлеющего неба.
О, священный дуб, твои корни пьют живительные соки в подземном мире, твой могучий ствол высится между небом и землей, а твои ветви-руки уходят в небо. О, священный дуб бессмертия, ты связываешь сегодняшний день — явь с миром уже живущих на небе душ — навью, по твоим ветвям спускаются лунными ночами на землю души умерших предков. О, боги, обитающие на вечном древе жизни, взгляните на своего внука, идущего сейчас выполнить последний долг воина, позвольте и его душе взойти по священному дубу на небо. Смерть не страшна внуку Перуна, ибо воин-русич рождается, чтобы умереть в бою, а умирает, чтобы вечно жить на небе. Боги, примите душу своего внука, дайте ей место на ветвях священного дуба!
Ярослав сворачивает с тропы, ведущей к дубу, медленно идет в сторону от нее. Вот и пологий спуск в глубокую, заросшую кустами лощину, вот и склонившийся набок граб, рядом с которым вырыта яма-западня. Земля, которой покрыты сверху жерди-перекладины, густо заросла травой, смертельная ловушка ничем не напоминает о своем существовании. Затаив дыхание Ярослав осторожно делает первый шаг по настилу, второй, он чувствует, как вначале слабо спружинила под ногами земля, как прогнулась она под очередным его шагом. Еще шаг-два, и настил не выдержит тяжести Ярослава и трех идущих рядом с ним варягов.
— Трел, куда завел нас? — кричит Эрик, останавливаясь.
Обернувшись, Ярослав с силой толкает Эрика на самую середину западни. Слышен треск жердей под ногами ярла, предрассветную тишину рвет его испуганный и злой крик. Ярослав отскакивает в сторону, но длинная звенящая стрела догоняет его, входит в грудь почти до оперения. Падая, он успевает увидеть, как исчезает в яме грузное тело ярла, проваливается на острые колья, вкопанные в дно…
Первым приходит в себя сотник Рогнар.
— Что скажете, гирдманы? — спрашивает он, глядя на лежащие рядом на траве неподвижные тела ярла и трела. — Сами боги отводят от русов наши мечи.
— Варягам не нужен русский Киев, о нем мечтал лишь властолюбивый Эрик, — звучит голос другого сотника.
Слова эти нисколько не удивляют Рогнара — он прекрасно знает, что большинство викингов, как простых воинов, так и знатных гирдманов, всегда были против вражды с русами. Сейчас же, после смерти Эрика, не было дела до славянского Киева и ему самому. А вот кто станет ярлом, это имело для него большое значение, ибо он давно уже считал себя самым достойным преемником Эрика. А раз так, то ему нет никакого смысла оставаться в этом лесу.
— Смерть Эрика меняет наши планы, — говорит другой сотник. — Нам нужно возвращаться назад.
Рогнар послушно склоняет голову. Ему, мечтающему стать ярлом после смерти Эрика, ни к чему ссориться с сотниками.
— Да будет по-вашему, гирдманы. Мы возвращаемся…
23
Варяжские лодии трогаются вниз по Днепру, когда солнце уже высоко стоит в небе. Их ведет новый ярл — Рогнар. Он не мечтает стать русским конунгом и видит для варяжской дружины только одну дорогу — за море, в империю.
Рогнар не первый раз плывет по Днепру и хорошо знает дорогу. Сейчас по правую руку будет высокая скала, нависшая над рекой, за ней крутой поворот, а затем покажется и Киев. Но что это? На скале, до этого пустынной, появляются трое всадников, замирают у самого ее края. А из леса, подступающего к песчаным речным отмелям, выезжают группы вооруженных конников и выстраиваются сплошной стеной у самого уреза воды. Всадников много, очень много, и у каждого в руках можно рассмотреть лук. Один из них поднимается на стременах, машет рукой, призывая плывущих причалить к берегу.
Когда лодия с ярлом подплывает к берегу, ее уже поджидают трое конных, спустившихся с утеса. Двоих из них Рогнар сразу узнает: это тысяцкий Микула, все время плывший с варягами из Полоцка и только вчера отправившийся в Киев, и начальник великокняжеской конницы воевода Ярополк, знакомый викингу по совместным с князем Игорем походам на Византию.
— Мне нужен сам ярл, — говорит Микула.
— Он перед тобой, тысяцкий, — отвечает Рогнар.
В глазах русича мелькает удивление.
— Поздравляю тебя, Рогнар. Но что с Эриком?
— Его взяли к себе боги.
— Пусть будет легок его путь к ним, — говорит, поднимая глаза к небу, Микула. — Что ж, Рогнар, тогда я буду говорить с тобой. Скажи, твои викинги не раздумали делать остановку в Киеве?
— Нет. Чтобы плыть дальше, в Русское море, нам необходимо пополнить запасы. И мы всегда это делали в Киеве.
— На этот раз вам придется сделать это в другом месте. Вы проплывете мимо Киева без остановки, а все необходимое закупите в Витичеве. Ты хорошо понял меня, ярл?
— Да, тысяцкий, я очень хорошо понял тебя, — кривит губы Рогнар.
— Тогда я не держу тебя, ярл. Прощай.
И лишь когда лодия отплывает от берега, Рогнар облегченно вздыхает. Видать, и правда это воля богов. Не призови они к себе ярла Эрика, кто знает, был бы сейчас в живых хоть один из викингов…
24
По необозримой глади Днепра скользит несколько русских лодий. Не желая утомлять себя конным переходом по лесам и топям, великая княгиня спустилась по реке Уж в Днепр и спешит сейчас в стольный град Русской земли. Обнаженные по пояс гребцы ладно и дружно ударяют веслами, их потные загорелые спины блестят, с каждым взмахом длинных весел лодии все ближе к Киеву, куда так рвется душа Ольги. Сама княгиня сидит на кормовом возвышении, рядом с ней на скамье пристроился священник Григорий.
— Святой отец, — ласково и умиротворенно звучит голос Ольги, — я примучила древлян, добилась своего, но скорбит душа моя. Много на Руси бед и горя, много зреет недовольства и смуты. И плох тот правитель, что правит лишь мечом и силой, который без раздумий льет кровь своих подданных. И потому не усмирять хочу я Русь, а навести порядок во всех ее землях. Осенью я сама поеду по русским городам и самым далеким весям, своими глазами хочу увидеть, как живет мой народ, услышать его голос и плач. И чтобы не было нового Искоростеня, я отменю полюдье, введу вместо него уроки и уставы,[2] я принесу мир и покой не Русскую землю. И ты поможешь мне в этом, святой отец. Расскажи еще раз, как взымают налоги императоры нового Рима, чего при этом хотят они и чего не хотят их сограждане, отчего так часто бунтуют ромейские горожане и смерды…
Наперегонки с чайками несутся по речной шири красавицы лодии. Зеленеют по берегам древнего Славутича неоглядные и бескрайние леса, высятся могучие неприступные утесы, желтеют косы золотистого песка. А там, где вековые дубравы чередуются с подступающей к самой воде степью, стоят на крутых откосах каменные бабы с плоскими лицами и сложенными на животах руками. Вот вдали, за очередной излучиной, в дрожащем речном мареве возникают днепровские кручи, высятся на них крепостные стены стольного града. И воевода Асмус встает со скамьи, берет на руки юного Святослава, поднимает над головой.
— Смотри, княжич, вокруг тебя Русь, породившая и вскормившая всех нас. В тяжких трудах и жестоких сечах создавали ее для нас пращуры, морем соленого пота и реками крови сберегли мы ее для вас, своих детей, и ваш черед дальше блюсти ее…
Режут голубую воду острогрудые лодии, увешанные по бортам рядами червленых щитов, зорко смотрит вперед изогнувшееся на носу деревянное чудище-диво с разинутой пастью. Все вокруг залито ярким теплым солнцем, ласково журчит и тихо бьется о борт послушная волна. Замерев, сидит на плече у седого воеводы юный княжич, смотрит в расстилающуюся перед ним безбрежную русскую ширь.
Что видится ему, будущему великому полководцу, походы и деяния которого современники будут сравнивать с делами и подвигами Александра Македонского? Могучие русские дружины, которые вскоре поведет он освобождать последние славянские племена, еще страждущие под властью иноземцев? Кровавые сечи на берегах Итиля и Саркела,[3] когда под ударами его непобедимых дружин рухнет и навсегда исчезнет вековой враг Руси — Хазарский каганат, а славянские воины распашут плугами место, где стояла его разбойничья столица? Суровые лица другов-братьев, с которыми он пройдет через древний Кавказ, сметая со своего пути касогов и ясов, и встанет твердой ногой на исконно русской земле — далекой Тмутаракани? А может, видятся ему седые Балканы, куда приведет он не знающие поражений дружины и остановится лишь в нескольких переходах от столицы нового Рима? А может, видит он берег полноводного Дуная, где будет на равных говорить с императором Византии, предложившим ему поделить мир между Русью и Восточно-Римской империей?
А может, ничего этого еще не видит юный княжич, а просто вместе с седым воеводой радуется красоте великой земли русской.
— Храни и защищай Русь, — говорит воевода, — не жалей для нее ни крови, ни жизни, всегда помни о нашей славе и чести. Мы, которые начинали, завещаем и оставляем русичам, внукам русичей и правнукам их Великую Русь. Берегите ее!..
Владимир РЫБИН ГИПОТЕЗА О СОТВОРЕНИИ
Фантастический рассказ
Сорен Алазян оказался невысоким, худощавым, очень подвижным армянином с небольшими усиками на тонком, напряженном лице. Такой образ возник в глубине экрана. Алазян сказал что-то неслышное, заразительно засмеялся и исчез.
Гостев сунул в карман овальную пластинку с округлыми зубчиками — ключ от своей квартиры, который машинально крутил в руках, недовольно оглянулся на оператора — молодого парня с короткой, старящей его бородкой.
— Что случилось?
— Дело новое, не сразу получается, — проворчал оператор и защелкал в углу какими-то тумблерами, заторопился.
А Гостев ждал. Сидел перед экраном во всю стену, как перед открытым окном, и ждал. За окном-экраном поблескивала матово-белесая глубина, словно висел там густой туман, насквозь пронизанный солнцем. Шлем с датчиками был чуточку тесноват, сдавливал голову, но Гостев терпел: совсем ненадолго собирался он погрузиться в свой «сон», можно было и потерпеть.
В тумане засветились какие-то огоньки, их становилось все больше, и вот они уже выстроились в цепочки, обозначив улицы Вверху, в быстро светлеющем небе, помигивая рубиново, прошел самолет. Восходящее солнце живописно высветило заснеженный конус горы, затем другой, поменьше. Горы словно бы вырастали из молочного тумана, застлавшего даль, красивые, величественные. Их нельзя было не узнать, знаменитые Арараты, Большой и Малый. И улицы, выплывавшие из тумана, Гостев сразу узнал: это был Ереван последней четверти XX века.
Был Гостев историком, специализировался по XX веку, бурному, не похожему ни на какой другой. В этом веке история как-то по-особому заторопилась, словно ей вдруг надоело медленно переваливать из века в век, и она помчалась к какому-то никому в то время не ведомому концу, то ли счастливому, то ли трагичному. Было неистовство невиданного человеколюбия и неслыханной жестокости, научные открытия следовали одно за другим с нарастающей быстротой. Люди сами растерялись в этом вихре научного прогресса. Познав слишком много, но не познав как следует самих себя, они оказались на краю самой страшной бездны, когда-либо разверзавшейся перед человечеством.
Двадцатым веком занимались многие историки, а он все оставался непонятным, загадочным. Поэтому открытие компьютерного хроноканала — хроноперехода было воспринято всеми как долгожданная надежда разом разрешить все загадки истории, объяснить все необъясненное. Хроноканал позволял историку-исследователю включиться в компьютер, который «знал» все о нужном времени и месте, «встретиться» с людьми, жившими в иные эпохи, и как бы заново прожить то, что было когда-то. Хроноканал надежно вел в прошлое, ему было недоступно только будущее. Пока недоступно, говорили оптимисты. Потому что, по их мнению, экстраполировать будущее машине, знающей все, тоже будет нетрудно. Ведь семена будущего высеваются в настоящем…
Гостев был помешан на прошлом, только на прошлом, и, когда ему предоставили возможность воспользоваться хроноканалом, он выбрал, по его мнению, самое значительное — решил своими ушами услышать, своими глазами увидеть, через какие суждения и заблуждения пробивалась одна из основополагающих гипотез — гипотеза о начале начал мироздания. Гостева привлекали непроторенные, малоизученные пути. В отличие от некоторых своих коллег он считал, что науку делают не гениальные одиночки, что, прежде чем Ньютоны и Эйнштейны объявляют o своих открытиях, зачатки этих открытий долго вызревают в умах многих людей, порождая причудливые идеи. Он считал, что эти, в свое время не получившие признания, идеи заслуживают особого внимания. То, что не понято было современниками, в иных условиях, в миропонимании людей будущего, может послужить отправной точкой для очередных грандиозных идей, гипотез, открытий. Гостев относился к тем, кто верил в древнюю истину: все, что есть и будет, все уже было. Природа ничего не прячет от человека, у нее все на виду. Просто человек не всегда готов увидеть то, что лежит на поверхности. Так, человек каменного века мог страдать от холода, сидя на горе из каменного угля.
Поэтому-то и выбрал Гостев последнюю четверть XX века, город Ереван, в котором жил и работал один из «возмутителей спокойствия», в то время мало кому известный ученый Сорен Алазян. Компьютер, знающий все, выдавал о нем прямо-таки анекдотичные сведения. Алазян никак не хотел удовлетворяться распространенной тогда тенденцией — понемногу «грызть гранит науки». Он все дробил разом, сплеча, быстро добираясь до сути поставленного вопроса или, что тоже немаловажно, доводя его до абсурда. Он был философом в естественных науках. И как часто бывало с такими людьми, одни считали его гением, другие шарлатаном. Однажды седовласые академики, не зная, чем еще занять непоседливого коллегу, засадили его за такую работу, которая, по общему мнению, гарантировала им десять-пятнадцать лет спокойной от Алазяна жизни. Полгода в научном мире тогдашней Армении было тихо. На седьмой месяц Алазян принес онемевшим академикам отчет о выполненной работе…
Гостев огляделся и понял, что он в гостинице, из окон которой виден чуть ли не весь Ереван, встал с легкостью, прошелся по гостиничному номеру от большого ящика в углу — телевизора — до скрипучей деревянной кровати, застланной желтым покрывалом, размышляя, как связаться с Алазяном, чтобы не насторожить его: по опыту использования хроноканала другими историками знал он, как болезненно реагируют фантомы — компьютерные копии людей — на малейшие ошибки исследователей. Тут сказывалась недостаточная изученность самого хроноканала: фантомы каким-то образом приобретали частицу Непомерной чувствительности своих создателей — компьютеров. В конце концов Гостев пришел к выводу, что ему ничего не остается, как играть роль, и он решил позвонить Алазяну по телефону и, назвавшись приезжим журналистом, попросить разрешения навестить ученого.
Как и должно было быть, Алазян ответил сразу, словно специально дожидался этого звонка.
— Я все понял, — сказал Алазян, не дослушав до конца длинную тираду Гостева. — Где вы находитесь?
— Я… — растерялся Гостев, чуть не сказав «я не знаю». — Пожалуй, в гостинице.
— В какой?
— В этой, как ее… Большая такая, на горе.
— Не знаете? — удивился Алазян. — Как же вы в ней поселились?
Гостев понял, что попался, и затосковал: так бездарно провалить сеанс, которого с трудом добился Сразу заболела голова: тесный шлем даже в компьютерном сне напоминал о себе. Он с тоской поглядел в окно, увидел на соседней горе большой памятник — величественную фигуру женщины с мечом в опущенных руках.
— Тут передо мной на горе памятник…
— Ясно! — обрадованно воскликнул Алазян. — Это гостиница «Молодежная». Я сейчас приеду.
Гостев хотел возразить, что ехать никуда не надо, но в трубке уже частили, торопились короткие гудки.
В дверь постучали почти сразу: машина, как видно, экономила время Улыбаясь, как в первый раз на экране, скромно и приветливо, Алазян быстро обошел гостиничный номер, посмотрел в окно на огромную фигуру женщины с мечом, кивнул удовлетворенно, присел к невысокому журнальному столику, снова вскочил, принялся выкладывать из портфеля яблоки, гроздь винограда в большом сером кульке, бутылку коньяка. Бросил пустой портфель в угол, снова заходил по комнате.
— Я очень извиняюсь, что не могу вас к себе домой пригласить, — быстро заговорил он, не давая Гостеву вставить слово. — У нас не полагается так гостей встречать, но не могу сейчас домой, неподходящая обстановка, не для гостя… А вы прямо из Москвы? Кто вам рассказал обо мне?..
— Да я ненадолго, — торопливо сказал Гостев. — Мне только поговорить с вами о теории абсолютных координат пятимерного континуума…
Алазян резко остановился посередине комнаты.
— Откуда вы об этом узнали?
— Из четырнадцатого выпуска трудов Армнипроцветмета. — Гостев с трудом выговорил длинное, трудное слово, содержавшее в себе целых семь слогов.
— Как эта книжка к вам попала? У нее тираж-то всего пятьсот экземпляров. На пятнадцать авторов. Представляете? Весь тираж авторы разобрали.
— Попала, — неопределенно ответил Гостев. — Для истории и одного экземпляра достаточно.
— И вы всё прочли?
— Вашу статью прочел.
— Поняли что-нибудь?
— Понял…
— Это не мое открытие, не мое, понимаете? — перебил его Алазян таким тоном, словно ему сказали, что ничего не поняли. — Еще Герман Вейль в тысяча девятьсот двадцать четвертом году утвердил в науке представление о пятимерном континууме и, можно сказать, осуществил предсказание Лейбница о необходимости рассмотрения пространства, времени и массы в качестве координат континуума… Вы меня понимаете? Континуум, коротко говоря, компактное множество. Пятимерный континуум — это пять координат, к которым сводится все многообразие мира, — три измерения пространства, время и масса. Да, масса, которую до этих пор как-то не учитывали. Впрочем, вероятно, всему своя пора. Двухмерная физическая картина древности, соответствующая геометрии отрезков и плоскостей Евклида, уступила место представлениям трехмерной (пространственной) физики средневековья — натурфилософии Галилея — Ньютона. Затем пришла пора четырехмерной релятивистской физики Лоренца—Эйнштейна. Физика пятимерного континуума завершает этап выбора координат… Вы меня понимаете?..
Он недоверчиво посмотрел на Гостева и вдруг схватил бутылку, перочинным ножом принялся срывать с горлышка желтую фольгу.
— Прошу извинить, заговорился. — Он поднял стакан, на треть налитый темноватой, густой на вид жидкостью. — У нас говорят: гость в дом — радость в дом. Я очень рад вашему приезду.
Жидкость обожгла горло, приятным теплом растеклась внутри: машина, как видно, и впрямь знала абсолютно все, до мелочей учитывала правдоподобие «сна». Гостев испугался того, что она своими электроимпульсами вызовет и ощущение опьянения, погасит ясность восприятия и тем самым сорвет сеанс или уменьшит его ценность.
— До дна, — словно догадавшись о его сомнениях, подсказал Алазян. — У нас пьяных не бывает. А знаете почему? У нас едят, когда пьют, много едят. Поэтому, сейчас мы поедем обедать…
— Я не хочу обедать, — возразил Гостев.
— Пока доедем — проголодаетесь. Вы раньше были в Армении?
— Нет… не был, — сказал Гостев, чувствуя уже легкое радостное возбуждение.
— Вы не были в Армении?! — воскликнул Алазян таким тоном, словно Гостев признался в каком-то проступке. — Тогда так… Минуточку. — Он кинулся к телефону, быстро набрал номер, заговорил с кем-то по-армянски торопливо и страстно.
За окном вовсю сияло солнце, тучки скользили по синему небу, пухлые, неторопливые. Время шло, и Гостев начал подумывать о том, не прервать ли сеанс. Похоже было, что не он задает программу, а Алазян уверенно и властно втягивает его в свое привычное поведенческое русло. Достаточно было Гостеву произнести шифр — пять цифр: 8–17–80, и все остановится. И хоть через час возобновится сеанс, хоть через день, все начнется с этого самого мгновения. Никакого перерыва Алазян даже и не заметит. Только, может, удивленно посмотрит на гостя, забормотавшего вдруг какие-то цифры. Но он не стал говорить своего магического шифра, решил, что лучше всего Алазян может раскрыться именно в своей обстановке. Заставить его только произносить монологи, лишив возможности «жить» привычной жизнью, — значит обрезать сложнейшие нити ассоциаций и обеднить мысль. И как ни дефицитно, как ни дорого компьютерное время, надо этим временем жертвовать. Если хочешь «встретиться» с истинным предком, а не с манекеном, ограниченным непонятными для него, чуждыми ему потребностями. Все должно идти так, как шло бы на самом деле. Только тогда можно быть уверенным, что картина прошлого истинна…
— Сейчас придет машина, и мы поедем в Гегард, — сказал Алазян, резко положив телефонную трубку.
— Зачем… в Гегард? — растерялся Гостев.
— Тому, кто не видел Армении, Гегард надо посмотреть обязательно. Так же как Горис, Гошаванк. И конечно, Эчмиадзин, Рипсиме… Но я предлагаю поехать в Гегард. Потому что там по пути, храм Гарни и хороший ресторан, где можно по-настоящему пообедать…
Он говорил это с завидной уверенностью, что иначе не может быть, иначе никак невозможно. Решительно вышел на балкон, заглянул с высоты через перила.
— Вот уже и машина идет.
— Может, поговорим, и все? — робко спросил Гостев.
— Дорогой поговорим. Где ваше пальто? Нет пальто? Как же вы из Москвы? Там ведь уже холодно. И вещей никаких не вижу. Налегке? — Он с недоумением посмотрел на Гостева. — Более чем налегке.
И снова Гостеву подумалось, что сеанс срывается. Потому что даже всезнающий компьютер не может учесть всего. Вот ведь не догадался снабдить его в эту необычную командировку хотя бы чемоданом. Должен же он знать, что была во времена Алазяна такая потребность у людей — отправляясь в поездки, брать с собой чемоданы с вещами, дополнительную одежду. В растерянности он сунул руку в карман, вынул большой, как раз по ширине кармана, блокнот и успокоился: все-таки компьютер соображает, поправляется на ходу. Ведь Гостев только здесь решил объявить себя приезжим журналистом, и вот у него уже блокнот в кармане. Какой же журналист XX века без блокнота?! В то время еще не умели обходиться без того, чтобы все записывать…
Поколесив по улицам Еревана, машина вырвалась на загородное шоссе и помчалась по неширокой асфальтовой дороге, извивающейся вдоль крутых и пологих склонов. Алазян, сидевший впереди, рядом с молчаливым шофером, непрерывно и страстно рассказывал о проблемах, изучением которых он в разное время занимался, — о постоянстве силы притяжения и непостоянстве скорости света, о влиянии приливных сил Галактики на вращение Земли и об эрозийном сейсмическом конусе — эрсеконе, о шкале температур ниже «абсолютного нуля», о зависимости распада системы от ее энергии, о гравитационной неоднородности пространства, о неаддитивности энтропии и прочих и прочих.
То ли от частых поворотов, то ли от этого обрушившегося на него клубка теорий, идей, гипотез у Гостева разболелась голова, и он спросил устало, почти раздраженно:
— Как можно одновременно заниматься столь разными вопросами?
— Как разными? — удивился Алазян. — Все они имеют отношение к главному вопросу миропонимания.
— Какому?
— Основополагающему.
Следовало повторить вопрос, но Гостев не сделал этого. Он чувствовал себя очень уставшим, хотелось спать. И чтобы прекратилась эта качка вправо-влево. И чтобы Алазян замолчал, перестал мучить своими то ли на самом деле гениальными, то ли бредовыми идеями. И вдруг он вспомнил, отчего головная боль — оттого что тесен шлем. И подумал, что вот так же, наверное, уставали от бешеного фонтана идей Алазяна его современники — ученые, и винили его, хотя виноваты были сами, привыкшие к медлительности и постепенности, разучившиеся с молодой бесцеремонностью тасовать доводы, выводы, идеи. И он устыдился своей слабости.
— Трудно, наверное, так много работать, думать обо всем сразу? — сочувственно спросил он.
— Трудно не думать, — ответил Алазян. — Перестать думать — значит умереть.
— Должен же человек отдыхать?
— Обязательно. Вот сейчас мы и отдыхаем.
— Ничего себе отдых! Между делом, отдыхая, противоречить Эйнштейну…
— А кто противоречит Эйнштейну?
— Да вы же своим пятимерным континуумом…
— Такой неблагодарной задачи я перед собой не ставлю. Разве геометрия Лобачевского—Римана противоречит геометрии Евклида? Разве физика Эйнштейна противоречит физике Галилея—Ньютона? Так и теория пятимерного континуума не противоречит представлениям классической и релятивистской физики, а дополняет, расширяет, обобщает и углубляет эти представления. Эйнштейн видел ограниченность физики Галилея — Ньютона в ее механицизме, обусловленном рассмотрением лишь пространственных координат. Теория относительности утвердила необходимость учета четвертой координаты — времени. Но она тоже оказалась ограниченной. Это скоро почувствовалось. Несмотря на все усилия релятивистов, они не смогли создать единой теории поля Причина, мне думается, не в недостатках теории относительности — это одна из самых стройных и завершенных теорий, а в том, что в представлениях релятивистов отсутствовал пятый континуум — масса, внутреннее состояние системы…
— А почему только пять континуумов? Может, найдется шестой? — перебил Гостев.
— Я его себе не представляю.
— Ну как же. Вы говорите: за пятое надо принять массу. Но если есть масса, то почему не быть ее отсутствию, просто пустоте?
— Вакуум? Это не пустота, это особое состояние массы. Эфир, как говорили раньше.
— Отсутствие есть присутствие?
— Вроде того. Ведь массу тоже можно рассматривать, как отсутствие. Отсутствие вакуума — эфира. Если масса отсутствует в одном состоянии, то обязательно присутствует в другом. И при определенных условиях одно переходит в другое. Рождаются же миры вроде бы из ничего…
— Даже целые вселенные, — вставил Гостев, рискованно намекнув на сделанные уже в XXI веке открытия.
— Даже вселенные, — как ни в чем не бывало подтвердил Алазян. — Звезды, планеты и астероиды, вместе взятые, по расчетам, составляют лишь пятнадцать процентов массы вселенной. Остальное приходится на вакуум. — Он помолчал, посмотрел на горы, на небо, испятнанное тучами. — Мне кажется, это можно сравнить с грозой. Бывает, тучка-то всего ничего, а льет и льет дождем. И получается, что воды выливается во много раз больше, чем ее было в туче. Туча, как генератор, перерабатывающий влагу окружающего воздуха в дождь. В воздухе вроде и нет ничего, пустота, а оказывается, в нем огромное количество вполне реального дождя. Или возьмите рождение кристалла… Так и с вакуумом. Теория первоначального взрыва утверждает, что наша вселенная образовалась из точки. В результате какого-то импульса космос вдруг начал перерабатывать энергетические поля вакуума в материю. Масса начала бурно, взрывоподобно менять свое состояние…
— Но почему? — спросил Гостев. — Что-то ведь должно быть в основе, какая-то закономерность, побудительная причина?
— Почему? — переспросил Алазян и задумался.
Вильнув очередной раз, дорога внезапно выпрямилась и, как лезвие меча, рассекла показавшийся впереди зеленый поселок. И там, за поселком, на фоне хаотического нагромождения гор вдруг поднялась поразительно стройная колоннада древнего храма. И эта колоннада, как последний мазок художника, словно бы завершила картину, став ее связующим центром: беспорядок цветовых пятен, изломанных линий вдруг стал живописным.
— Какая красота! — воскликнул Гостев, подавшись вперед.
— Красота! — с каким-то особым удовлетворением, словно все окружающее было его личным, подтвердил Алазян. — Это Гарни. Вечная красота!
Они вышли из машины и долго ходили вокруг храма, меж тесно поставленных колонн, а потом отдыхали от жары в его сумрачной прохладе. И Алазян с уверенностью экскурсовода все рассказывал о многотысячелетней истории этого места, бывшего и энеолитическим поселением, и крепостью, летней резиденцией армянских царей, об этом храме, построенном без малого две тысячи лет назад, разрушенном землетрясением, триста лет пролежавшем в руинах и вновь возрожденном, восстановленном людьми, верящими, что красота не умирает, не должна умирать…
— Как действует красота! — сказал Алазян. — Один дополнительный штрих — и хаотичное мгновенно становится гармоничным…
Потом, проехав еще немного по извилистой асфальтовой дороге, они увидели впереди монастырь Гегард. В тесном ущелье, вплотную прижавшись к высоченным изломам скал, как бы вырастая из них, поднимался белый остроконечный конус церковного купола с едва видным издали крестиком наверху. Он, этот маленький конус, и несколько белых прямоугольников крыш, прилепившихся к нему, приковывали взгляд, казались центром, главным, ради которого создано все это нагромождение гор, И снова Алазян сказал свое загадочное:
— Один штрих — и все меняется. — Он помолчал, рассматривая выступ горы, на минуту заслонивший монастырь на изломе дороги. — Тысяча лет между храмом Гарни и монастырем Гегард. И верования разные — язычество и христианство, а законы красоты, пропорциональности, гармонии все те же…
Гостев не понял, что хотел сказать Алазян. Не ради того же размышлял об этом, чтобы открыть очевидное. Непохоже это было на Алазяна, чья мысль купалась в парадоксах и находила все новые. Но он не стал спрашивать, веря, что мысль, как плод, должна дозреть сама. Даже если она рождена в таинственных скоплениях простейших электронных элементов, чутко прислушивающихся к логике ими же созданного фантома.
Они ходили по тесному монастырскому двору, уставленному хачкарачи — ажурными крестами, вырезанными на плоских камнях. И на стенах построек, на скалах — повсюду виднелись кресты, местами образуя сплошное кружево. Плиты с крестами стояли и на соседних обрывах, словно часовые, охранявшие эту древнюю красоту от хаоса гор.
— Каждый крест — это же столько работы! — сказал Гостев. — Зачем?
— Для самоутверждения народа, — быстро ответил Алазян. — В любом народе, даже в каждом отдельном человеке живет потребность как-то утвердить себя.
— Можно строить дома, сажать деревья…
— Строили и сажали. Но дома сжигали завоеватели, деревья вырубали… Вы знаете историю армянского народа?
— Немного, — слукавил Гостев.
— Это народ-мученик. В течение последних двух тысячелетий он только и делал, что защищался от многочисленных попыток уничтожить его, поработить, ассимилировать. Очень хорошо сказал об этом писатель Геворг Эмин: «Для того чтобы уберечься от захватнических притязаний своих агрессивных соседей, прикрывающихся дымовой завесой «общности интересов», «слияния», «единства целей», маленькая Армения издавна была вынуждена еще более обособиться, изолироваться, подчеркивая не то, что роднит ее с другими народами, а то, что отделяет от них, утверждает ее самобытность. Когда ей угрожала Персия, Армения, чтобы не быть растворенной в ней, оградилась защитной стеной христианства. Когда под лозунгом равенства всех христианских стран ей угрожала поглощением Византия, Армения выдвинула свое толкование христианства, отделившись от вселенского А когда осознала, что проповедь христианства (даже «своего», армянского) на греческом и ассирийском языках подвергает опасности существование языка армянского и способствует ассимиляции народа, она создала свой алфавит, свою письменность, чтобы проповедовать свое христианство на своем языке, — сохранить независимость и самовластие…»
Алазян цитировал уверенно, словно читал текст, и Гостев недоверчиво посматривал на него: такая хорошая память или это компьютер подсказывает своему фантому, своему детищу:
— Вся эта церковь вырублена в скале. Наружные пристройки появились потом. Айриванк, как называли монастырь раньше, значит «Пещерная церковь». Впрочем, вы сами увидите…
Жестом хозяина он пригласил Гостева войти в маленькую дверь, но вошел первым, быстро прошагал тесным переходом и остановился посреди просторного зала с колоннами и высоким сводом. Здесь было сумрачно, свет, падающий через небольшое круглое отверстие в центре свода, придавал всему этому залу с черными провалами ниш некую таинственность. Но света было достаточно, чтобы понять, что все вокруг — колонны, своды, барельефные изображения на стенах — вырезано в сплошном монолите горы. Каким же нужно было обладать терпением, настойчивостью и вместе с тем чувством красоты и соразмерности, чтобы вручную, примитивными инструментами, зачастую с помощью того же камня вырубить все это, предусмотрительно сохраняя наросты скалы для барельефных украшений! Почему непомерный, наверняка изнурительный труд этот не убивал чувство красоты?..
Гостев понимал, что он, тоже включенный в компьютер, думает обо всем этом совсем не случайно, что машина подталкивает его к каким-то серьезным выводам, но каким именно, понять не мог. И только росло в нем нервное напряжение, и от этого все больше болела голова. В какой-то миг ему захотелось произнести свой шифр, выкрикнуть его в темноту, как заклинание. Вот было бы интересно внезапно исчезнуть, раствориться в таинственном полумраке!..
Они возвращались по той же горной дороге. На очередном повороте Алазян указал шоферу на придорожный ресторан, и они, оставив автомобиль на стоянке, втроем вошли в большой зал, гудящий возбужденными голосами. Алазян пошептался с официантами, и вскоре на столе оказалось множество тарелок с закусками, бутылки коньяка и шампанского.
— Зачем так много еды? — спросил Гостев. — Ведь не съедим.
— Сколько съедим, — неопределенно ответил Алазян и, разлив шампанское, встал над столом. — Я поднимаю этот бокал за великий русский народ, с которым армянский народ находится в близком родстве. Оба наших народа исходят из одного, затерянного в глубине тысячелетий, индоевропейского арийского корня. — Он выпил до дна, сел и неожиданно запел чуть дребезжащим красивым голосом:
То не ветер ветку клонит, Не дубравушка шумит, То мое сердечко стонет…Гостев тоже выпил шампанское и удивился, почувствовав, как ясность мыслей словно бы подернулась легким туманом. Захотелось обнять этого удивительного Алазяна и петь с ним вместе, тянуть из самого сердца сладкую печаль:
Догорай, гори лучина, Догорю с тобой и я…Этого он не ожидал, чтобы компьютер был так педантичен и, воздействуя на какие-то лишь ему известные центры мозга, вызывал подлинное чувство печали. Хотя следовало ожидать: если уж все по правде, так все по правде.
За высокими сводчатыми окнами ресторана начинался крутой склон, а дальше во всю ширь распахивалась панорама ближних и дальних гор. Гостев встал и пошел к окну, чувствуя, как кружится голова, отяжелевшая то ли от слишком тесного шлема, то ли и в самом деле от опьянения. Ноги ступали нетвердо, и он, пошатнувшись, едва не облокотился о плечо какой-то женщины. Мужчина, сидевший с ней за одним столиком, свирепо поглядел на него и медленно стал подниматься с места.
— Восемь, семнадцать, восемьдесят!..
На миг он зажмурился, а когда открыл глаза, увидел себя полулежащим в кресле перед огромным, слабо люминесцирующим экраном. Оператор удивленно глядел на него от пульта управления:
— Вы прерываете сеанс? Но у вас все показатели в норме.
— Голова болит, — раздраженно сказал Гостев.
— Небось выпили? — засмеялся оператор.
— При чем тут это? Шлем надо заменить.
— На замену шлема и переключение всех датчиков уйдет не меньше часа. Я не уверен, что компьютер столько времени продержит момент.
— А говорили: может держать сколько угодно.
— Теоретически. Но дело-то новое, и я боюсь, что теперь течение «сна» изменится и вы не попадете в ту же точку смоделированного пространства-времени…
Но он вернулся в ту самую точку. Вспомнил наметившееся доверие между ним и фантомом, предощущение открытия, вспомнил все это и решил отмучиться до конца, не меняя шлема.
— Пить не надо, — наставительно сказал ему оператор, оборачиваясь к своему пульту.
— Пить не надо! — как эхо повторил сердитый мужчина, все поднимавшийся из-за столика.
Ничего не изменилось вокруг. Казалось, его короткое отсутствие не было даже замечено. Подошел Алазян, заботливо увел Гостева на место, вернулся к сердитому мужчине и принялся что-то говорить ему по-армянски. Через минуту он уже чокался там, за столом, и Гостев заметил, что сердитые мужчина и женщина уже посматривают в его сторону с доброжелательным интересом
«Вовсе не надо пить, — сердито сказал себе Гостев. — Не для того ты погружаешься в машинный «сон». Он решил больше не тянуть и, сославшись на недомогание, сейчас же предложить Алазяну ехать и дорогой еще порасспросить его о разном.
Возвращались в сумерках. Дальние горы затягивала вечерняя мгла. Кое-где дорогу перегораживали полосы плотного холодного тумана — сказывалась осень. И всю дорогу Алазян говорил быстро и страстно, будто нисколько не устал за день, не замечая, что повторяется, или не желая этого замечать, поскольку мысли его требовали повторения и повторения, привыкания к ним слушателя.
— …«Вселенная» Эйнштейна была воспринята не сразу. Четырехмерный континуум, где время рассматривалось в качестве четвертой координаты, вначале не укладывался в сознание и воспринимался лишь одиночками. Но поразительно стройная теория Эйнштейна породила «идола» — ни от чего не зависимое постоянство скорости света. Эта универсальная константа была объявлена максимально возможной в природе скоростью взаимодействий. Позднее Эйнштейн и сам бросил тень на своего «идола», отказавшись от постоянства скорости света в гравитационном поле. Тогда была высказана идея, что свет обладает гравитационной массой и отклоняется у мощных гравитационных тел, то есть испытывает ускорение. Однако «идол» жил. Это было странно для быстро развивавшейся революционизировавшей физики, но никто не решался поставить под сомнение парадокс постоянства скорости света…
— Как же не пытался? — перебил Гостев. — А опыты…
— Опыты Майкельсона, — перебил его Алазян, — в действительности привели лишь к выводам относительно независимости скорости света от других движений. В этих опытах свет распространялся в условиях постоянного гравитационного поля Земли. Но результаты можно трактовать и так, что скорость света на Земле есть функция от тяготения Земли. Если бы измерительная аппаратура находилась в космическом пространстве и опыт проводился в состоянии невесомости, то там скорость света, вероятно, оказалась бы выше. Скорость фотона зависит от гравитации, от расстояния, пройденного им, и, стало быть, от времени его жизни. Старея и ускоряясь, он в конце концов превращается в поле…
— И что из этого следует? — спросил Гостев.
— Из этого следует важнейший постулат теории пятимерного континуума: скорости взаимодействия, универсальной для всей вселенной, не существует. Из этого следует, что, рассматривая структуру мироздания, мы не можем сбрасывать со счетов состояние системы…
Он замолчал, вглядываясь в россыпь огней уже близкого Еревана. И снова Гостеву показалось, что Алазян что-то напряженно обдумывает. Мелькнула мысль: может, его думы самые будничные, может, он озабочен одним — как поскорей отделаться от назойливого журналиста? Это будет неожиданно, если фантом первым устанет и откажется от контакта. Гостев отбросил эту мысль. Не потому, что такого в принципе не могло быть: мера терпения фантома должна быть равна безграничным возможностям компьютера. Просто не вязалось это с характером Алазяна, никак не вязалось.
— Итак, вы утверждаете, что все представления о мироздании укладываются в пять компонентов: три пространственных, время и массу. Но напрашивается вопрос: что же их объединяет?
— Они и есть единство. В природе нет ничего, кроме материи в пространстве и во времени. И выходит, что элементы пятимерного континуума по отдельности не существуют…
— Но ведь естественное состояние мира — хаос…
— Нет, не хаос! Только не хаос! — быстро и страстно воскликнул Алазян.
— Тогда что же?
Алазян помолчал, снизу вверх рассматривая стройные ряды светящихся окон, рядами опоясывающие цилиндрическое здание гостиницы, к которой они подъезжали. Автомобиль обежал этот вертикально поставленный цилиндр по круто поднимающейся дороге и остановился у ярко освещенного подъезда.
— Я вам завтра отвечу, — сказал Алазян, выходя из автомобиля.
— Почему не сейчас?
— Я подумаю. Вы ставите очень интересные задачи.
Он проводил его до двери гостиничного номера и ушел, трижды извинившись за что-то. Гостев принял ванну, лег в постель и, уже засыпая, все думал: какие такие задачи поставил он перед Алазяном? Когда?
Он уснул с неожиданной мыслью: компьютер не просто «воскрешает» человека в фантоме, а как бы продолжает его жизнь. И то ли в своем собственном, то ли в иллюзорном машинном сне Гостеву чудились в гармоничном смешении времен и пространств сияющие перспективы человеческого бессмертия…
Ему казалось, что только на миг закрыл глаза, как уже проснулся бодрым, совершенно выспавшимся. В широкие окна заглядывало солнце Город внизу еще кутался в прозрачную вуаль тумана. Дальше, за городом, туман был плотнее, белым половодьем захлестывал пространство до самого Арарата, живописным конусом возвышавшегося на горизонте.
С предощущением чего-то нового, необычайного Гостев встал, босиком прошелся по холодному паркету. И тут в дверь постучали. За дверью стоял Алазян, широко, радостно улыбался:
— Едем завтракать, нас ждут…
На такси они добрались до района новостроек, где рядами стояли одинаковые пятиэтажные дома. Их действительно ждали. Стол был уже накрыт, и за ним сидели человек шесть, которых Алазян представил как своих друзей. Снова пришлось немного выпить, и снова Гостев почувствовал раздражение, поскольку опять заболела голова. Но он, решивший все терпеть до конца, заставил себя улыбаться и выразил на лице глубокую заинтересованность, даже когда Алазян стал читать свои стихи. Сначала это была длинная поэма о Заратустре, потом столь же длинный стихотворный пересказ легенды о несчастной любви красавицы Ахтамар, каждую ночь зажигавшей огонь на берегу, чтобы ее любимый не заблудился в темноте.
Гостева стихи утомили. Он хотел было напомнить Алазяну о вчерашнем разговоре, но тут в комнату вошла молодая, очень красивая девушка — дочь хозяина этого дома, скромно села к столу, послушала стихи, высказала несколько зрелых замечаний и ушла. И сразу разговор за столом пошел только о ней. Все наперебой хвалили родителей, школу, где она училась. Хвалил и Гостев, не в силах удержать теплое чувство нежности и благодарности к кому-то, вдруг охватившее его. Скоро девушка вернулась и подала Гостеву сувенир — чеканку с изображением стройной и гибкой Ахтамар, держащей огонек в поднятых руках. На обороте красивым ученическим почерком с наивным простодушием было написано: «На долгую память от Тамары».
«Дать бы себе волю влюбиться, — с радостным злорадством думал Гостев, пока они спускались по узкой лестнице во двор и усаживались в автомобили. — Интересно, справился ли бы компьютер со всей полнотой томящих и возвышающих чувств?..»
Сколько открытий сделал он за этот сеанс! Оказывается, не только бессмертие богов и мудрость всех мудрецов может подарить человеку машина, но и, наверное, само счастье, светлое лекарство любви!..
На этот раз ехали с эскортом. За их автомобилем, непонятно зачем, следовал точно такой же. Тамара сидела рядом, и это для Гостева многое меняло. Исчезло нетерпение поскорее заставить Алазяна высказаться и на том закончить сеанс, неожиданные и частые его экскурсы то в историю, то в архитектуру, то в эстетику уже не раздражали, и вообще вся эта поездка, еще, недавно выглядевшая для Гостева вынужденной, теперь казалась совершенно необходимой, прямо вытекающей из задач хроносеанса.
Они выбрались на загородное шоссе, впрямую пересекавшее обширную долину, и тут Алазян сам вспомнил о вчерашнем разговоре. Ничего он, оказывается, не забывал, просто следовал древней истине, что всему свое время и не место в гостях деловым беседам. А то, что разговор предстоял серьезный, это Гостев понял с первых же фраз, заумных, непростых даже для него, человека из будущего.
— Почему наше пространство трехмерно? — спросил Алазян. — Почему из бесчисленного множества формально возможных размерностей в нашем мире реализовалась именно трехмерность?
— Возможно, это обусловлено нашей психофизиологической организацией? — в свою очередь, спросил Гостев.
— Существует и такое объяснение Но не законами логики или психологии объясняется трехмерность пространства. Это объективный физический факт, его происхождение связано с глубокими законами нашего мира…
— Это и есть ответ на вчерашний вопрос? — не без иронии спросил Гостев.
— Лишь попытка ответа. Вы задали очень интересный и очень трудный вопрос: хаос ли, случайности ли в основе сотворения? Я всю ночь думал об этом.
— Когда же спали?
— Подремал немного Но я всегда сплю немного А тут еще этот ваш вопрос: почему все так, а не иначе?..
— Детский вопрос…
— Дети порой бывают мудрее нас, взрослых, связанных догматическим мышлением. Право же, стоит задуматься, почему все так, а не иначе. Кант полагал, что бог перед сотворением мира был свободен в выборе размерностей пространства. Кант ошибался: даже бог не мог бы позволить себе волюнтаризм. Расчеты показывают, что число пространственных измерений может быть только нечетным и что при «п» больше трех электрон был бы неустойчив и падал на ядро. И круговые траектории планет были бы неустойчивы, планеты или падали бы на притягивающий центр, или улетали в бесконечность. В нашем мире все подчинено, если можно так выразиться, высшей энергетической целесообразности. Вы меня понимаете?
— Пытаюсь, — сказал Гостев. Он не совсем понимал, что хочет сказать Алазян, но сейчас, в присутствии Тамары, ему нравились рассуждения об устойчивости, о целесообразности, о красоте.
— При «п» больше трех атом не может существовать. В этом случае нет ни пространства, ни материи, ни, разумеется, времени, ничего нет…
Машины стремительно въехали в улицы города Эчмиадзина и остановились возле высоких ворот древнего монастыря. Словно обрадовавшись возможности переменить разговор, Алазян, едва выйдя из машины, с новым энтузиазмом начал рассказывать об этом монастыре, в котором будто бы есть постройки, сохранившиеся с начала четвертого века, того самого, когда Армения «отгородилась крестом от персидской экспансии». За ними ходила толпа людей, решившая, как видно, что Алазян — экскурсовод, так уверенно говорил он об арке царя Тиридата, о патриарших покоях, о древнейшей урартской стеле, о еще не потемневшем от времени обелиске — комплексе хачкаров, возведенных в память о двух миллионах мучеников армян, жертв турецкого геноцида…
Снова Гостев заподозрил, что компьютер подсказывает Алазяну. Не может же один человек знать все
«Почему не может? — спросил себя Гостев. — Гений может все. На то он и гений, чтобы быть гармонично развитым. Недаром же многие гениальные писатели были и поэтами, и художниками, и музыкантами, и даже учеными. Гению все дается, потому что в нем, как говорил поэт, живет «божественный глагол». Если для Сальери сочинительство было тяжким трудом, то для Моцарта — игрой. Моцарт, несомненно, был универсален, и, если бы Сальери из зависти его не отравил, он выразил бы себя и во многом другом. Гениальность есть универсальность — высшая степень гармоничности…»
Так думал Гостев и все пристальнее приглядывался к Алазяну, находя в нем новые и новые черты — добросердечие, бескорыстие, какую-то открытую, беззащитную благородность… И остро, до тоски душевной, жалел, что между ними, реальными, пропасть времени. Иначе они бы стали друзьями. Обязательно стали бы, потому что постыдно быть рядом с гением и не обогатиться от этого редкого соседства…
— Сардарапат! — представил Алазян очередной мемориал, к которому они вскоре подъехали.
Несоразмерно длинные и тонкие арки тянулись ввысь, и там, наверху, в небесной голубизне, призывно плакали колокола. У подножия арок, опустив головы, стояли крылатые быки, с каменным терпением слушали печальный перезвон. И естественно вплетался в эту мелодию быстрый рассказ Алазяна о последней из многих за долгую историю Армении попыток уничтожить армянский народ. С того трагичного года не прошло и трех четвертей века, и еще живы люди, чьи родители в те страшные дни были растерзаны и брошены в придорожные канавы, выселены в пустыни, изгнаны из родных мест. Земли, на которых народ жил тысячелетиями, обезлюдели. Гармоничное, соответствующее естественным внутренним закономерностям развитие народа застилал хаос распада, смерти. Но не исчез народ. На оставшейся у него крохотной территории он сохранил гармонию души своей в традициях, трудовых навыках, в песнях и верованиях, сохранил национальную гордость, стихийную жажду единства.
В том, 1915 году численность народа уменьшилась вдвое. А еще через три года турецкие поработители решили совсем стереть Армению с лица земли. И простой народ, не организованный ничем, кроме наследственного чувства единения, почти не вооруженный, толпой вышел на эти Сардарапатские поля навстречу хорошо оснащенному турецкому регулярному войску. И одержал победу. Спас то, что создавал века и тысячелетия.
Да будут разрушены Все дьявольские ловушки, И распознаны все приманки удилищ, И обнажится темная западня коварства… И зубы грызущих Да будут вырваны с корнем!..Алазян произнес эти стихи как молитву, взметнув руки к гудящим колоколам, и, не оглядываясь, быстро пошел по длинной аллее, уставленной громадными фигурами сидящих каменных орлов, к кроваво-красной стене, за которой в отдалении виднелось такое же кроваво-красное здание, похожее на древний замок. И, словно подчеркнутая этой краснотой, густо синела даль горизонта с пронзительно красивым конусом горы Арарат.
Возле массивных деревянных дверей этого здания Алазян остановился и, обращаясь к Гостеву, произнес успокоенно и торжественно:
— Это были стихи гениального нашего поэта Григора Нарекаци, жившего тысячу лет назад, — и отступил в сторону, церемонно открыл тяжелую резную дверь. — Теперь прошу в музей.
Он водил Гостева, и Тамару, и всех других, приехавших вместе с ними, людей по музею и снова с завидной уверенностью экскурсовода говорил и говорил, сообщая многочисленные сведения едва ли не о каждом экспонате. И снова Гостев с недоверием косился на него, мучаясь сомнениями: неужели сам все знает? И снова думал о какой-то неуловимой, но ясно ощущаемой общности между законами микро- и макромира и историческими судьбами народов, и судьбами отдельных людей, и закономерностями, определяющими красоту поэзии, живописи, архитектуры, даже обычной, вроде бы не подчиняющейся никаким законам интимной человеческой любви…
Потом все они оказались в ресторане за столом, уставленным с безумной щедростью. И снова поднимали бокалы под тосты, один за другим произносимые все тем же неугомонным Алазяном. И грохотал оркестр, и юная Тамара мило улыбалась Гостеву, наполняя душу сладкой печалью. И Алазян уводил Тамару танцевать на середину зала, свободную от столиков, упоенно, по-молодому, кружился вокруг нее, и она, маленькая и худенькая, каким-то волшебством вдруг превращалась во время танца в гордую, стройную и высокую богиню, снисходительно-поощряюще улыбалась со своей высоты, сама, по-видимому, не понимая того, электризовала, подбадривала Алазяна, музыкантов, Гостева, сидевшего за столом.
Своды ресторанного зала, выложенные из красного кирпича, тянулись ввысь, и там, в вышине, пронизанный солнцем, бьющим в стрельчатые окна, клубился розовый дым…
— Что-то вы все думаете, думаете… — Тихий голос Тамары, прозвучавший над самым ухом, заставил Гостева вздрогнуть.
— Так уж надо, — переведя дух, растерянно пробормотал он. — Танцевать надо. Танцы помогают думать.
— Разве не отвлекают?
— Нет, нет. Это у нас все девушки знают. Когда перед экзаменами ум за разум заходит, лучшее средство — потанцевать…
— Она правильно говорит. Она знает. — Алазян наклонился с другой стороны, запыхавшийся в танце, улыбающийся, пахнущий почему-то сухой полевой травой.
— А до чего додумались вы, танцуя? — тотчас спросил Гостев, решив, что случай для продолжения беседы самый подходящий.
— Пока ни до чего. Но что-то интересное вырисовывается. Этой ночью я просмотрел некоторые работы. — Он сел рядом и, не сводя глаз с какой-то точки на столе между тарелками, заговорил быстро, словно боялся, что не успеет высказаться. — Английский теоретик Поль Дирак записал однажды, что «физический закон должен быть математически изящным». Он, да разве только он один, был убежден, что если найдено симметричное, «красивое», как говорят физики, обобщение теории, то это первый признак каких-то важных физических закономерностей, которые непременно должны реализоваться природой. Бельгийский ученый, один из создателей научной статистики, Адольф Кетле писал, что «все элементы организмов колеблются около среднего состояния, и… изменения, происходящие под влиянием случайных причин, подчинены такой точности и гармонии, что их все можно перечислить наперед». Обратите внимание, и тот и другой подчеркивают основополагающее значение красоты, гармоничности… Авиаконструкторы считают, что красивые самолеты лучше летают. Педагоги в один голос твердят о необходимости гармоничного развития личности… Все ученые пробираются сквозь хаос фактов к идеалам универсальных теорий с явным желанием придать картине мироздания максимальную красоту и гармоничность. Что означает всеобщая жажда гармонии? Случайна ли она?.. Нам кажется, что мир многолик. Но это, пожалуй, лишь потому, что мы плохо его знаем. У каждого человека своя точка зрения, зависящая от меры его знаний и способностей. И от времени, в котором он живет. У времени множество обличий, соответствующих формам пространства и состояния масс Так и должно быть для единства пространства—времени—массы… Но существует нечто объединяющее, существует! Есть ли что общее, скажем, между жизнью отдельного человека и «жизнью» целой галактики? Абсурдное сравнение, не правда ли? Но все-таки давайте сравним. Известно, что размер нормальной галактики самое большее в сто тысяч раз превышает размеры ядра, из которого она образовалась. Известно, что активное состояние ядра галактики длится не более одного процента от времени ее жизни Почти те же самые соотношения, что и у человека. Из ядра половой клетки размером в десять в минус третьей степени сантиметров вырастает организм размером около пятидесяти сантиметров — рост в пятьдесят тысяч раз. Время «сотворения» человека — девять месяцев — равно примерно одному проценту его жизни… Совпадения ли это?.. Жизнь, как считал академик Вернадский, — явление вселенское, она результат взаимодействия макро- и микрокосмоса. Жизнь не случайность, не выхлест слепого хаоса. Она необходимый элемент эволюции вселенной, результат взаимодействия высших законов гармонии, которым в конечном счете подчинено все. И разум, возможно, для того и создан, чтобы ускорить процесс упорядочения, гармонизации. Возможно, на нас, носителей вселенского разума, возложена природой особая миссия. Миссия миссий…
— А мы неразумно копим атомные бомбы, — неожиданно сказала Тамара, и Гостев вдруг увидел, что все сидят за столом, не притрагиваясь к еде, благоговейно слушают.
Алазян как-то сразу сник, потянулся к бутылке, принялся разливать по бокалам шампанское.
— Я что-нибудь не то сказала? — растерялась Тамара.
— Что ты, девочка! — Алазян погладил ее по тонкому плечу и встал. — Я предлагаю тост за наших милых дам, присутствующих и отсутствующих, которые не дают нам взлететь слишком высоко и ожечь крылья о солнце.
Тамара покраснела и поставила бокал.
— Нет, нет, — успокоил ее Алазян. — Это неплохо, совсем неплохо. Я говорил о разуме как о вселенском явлении. Разум каждого отдельного человека — это как элементарная частица, возникающая и исчезающая, переходящая в поле. Особая частица, обладающая индивидуальной волей. Разум каждого отдельного человека нуждается в напоминании, что он лишь гость в потоке вечности, призванный выполнить свою небольшую, но непременно добрую миссию И безропотно уйти…..
Произнеся последние слова, Алазян как-то по-особому пристально посмотрел на Гостева, и Гостев заволновался, приняв это за намек на свой слишком затянувшийся визит. В эту минуту он совсем забыл, где и почему находится.
— Да, — сказал он смущенно и посмотрел на часы — Мне уже пора.
Он медленно поднялся. Ему захотелось уйти эффектно, цифру за цифрой произнося шифр, прерывающий сеанс. Но вдруг увидел погрустневшие глаза Тамары и снова сел.
— Мне в самом деле пора… Я не говорил раньше… Но мне нужно сейчас… сегодня… Улететь самолетом…
— А у вас вещи в гостинице, — лукаво напомнила Тамара.
— У меня все с собой. Вы оставайтесь здесь, а я прямо на аэродром.
Он собирался отойти куда-нибудь за угол и там назвать свай шифр. Но Алазян властно усадил его на место:
— У нас так не принято. Если надо, не смеем задерживать. Но позвольте уж проводить, как полагается…
Почти все время, пока ехали до аэропорта, Алазян молчал, то ли обижаясь на Гостева, то ли обдумывая что-то свое, очередное.
Возле билетной кассы гудела толпа, и Гостев растерялся, не зная, как поступить в этом случае. Ему не удавалось остаться одному, чтобы прервать сеанс и улететь самолетом, при таком обилии желающих, как видно, нечего было рассчитывать. Выручил Алазян, сбегал куда-то, пошептался с кем-то и принес билет на ближайший рейс. Снова исчез и вынырнул из толпы с двумя бутылками коньяка.
— Наш, армянский, разлив ереванского завода. Такого в Москве не найдете.
— Зачем же? — растерялся Гостев, принимая бутылки. — А мне и подарить нечего. — Он порылся в карманах, нащупал ключ — овальную пластинку с частыми окатанными зубчиками по краю. — Разве вот это. Ключ от моего дома. Как символ, что я всегда рад видеть вас.
— Как же вы домой попадете?
— У меня еще есть…
Ключ растрогал Алазяна едва не до слез. Он обнял Гостева, расцеловал в гладкие щеки и отстранился, удивленный.
— Чем вы так чисто бреетесь?
— Жидкостью, — не задумываясь, сказал Гостев.
— Какой жидкостью?
Гостев вспомнил, что эта жидкость для бритья в конце XX века еще не была известна, и покраснел, не зная, что и как ответить. Выручило радио, вдруг оглушительно прокричавшее, что объявляется посадка на самолет. И он, так ничего и не ответив, заторопился к выходу, возле которого за высокой загородкой дежурные и милиционеры проверяли билеты и багаж.
Он все ловил момент, когда можно будет назвать шифр, но всякий раз, оглядываясь, видел наблюдающие за ним глаза. Так он и вошел в самолет, протолкался среди оживленных пассажиров к своему креслу, сел и задумался о словах Алазяна, сказанных там, в ресторане. Ясно было, что, говоря о всеединстве вселенной, он пытался сформулировать какую-то важную мысль. Какую?
Вспомнилось парадоксальное сравнение Алазяном человека с целой вселенной. Удивительно, что сравнение это не так уж и поразило. Только теперь он понял почему: нечто похожее ему уже приходилось слышать. Давно, очень давно. И вдруг он ясно вспомнил — или это компьютер помог вспомнить? — тот разговор. Не слишком известный, но, по общему мнению, весьма перспективный поэт, с которым Гостеву однажды пришлось беседовать, говорил со страстью едва ли не то же самое, что и Алазян:
«…Еще ничего нет, еще неизвестно, что будет, и будет ли вообще, еще тихо и спокойно вокруг, и только чувствуется неясное томление, неслышимый гул, заставляющий пристальнее вслушиваться и всматриваться в окружающее — что это? откуда это? Как будто мелодия звучит в абсолютной тишине, мелодия, которую не разобрать. Как будто ритмы отбивают невидимые тамтамы, но какие — не слышно. И мучаешься в предчувствии неведомого, и ждешь, и боишься его,
И вдруг… Что побуждает к этому «вдруг», никто не знает. Но что-то происходит, и ты словно прозреваешь, и внезапный свет заливает и прошлое, и будущее, и на тебя обрушивается торжествующая музыка понимания. И ты из мятущегося ничтожества вдруг становишься богом, всевидящим, всеслышащим, всезнающим…
Так видимая пустота мироздания, вроде бы полнейший вакуум, вдруг исторгает из себя бездну материи, наполняет вселенную торжествующе-пульсирующими ритмами волновых полей, рождает планеты, звезды, галактики, заставляет их гнаться наперегонки к неведомой цели… Куда? Зачем?..
Не одним ли и тем же законам подчиняется всякий акт творения?!»
Да, он именно так и сказал, тот поэт, именно так…
Машинально, по требованию бортпроводницы, Гостев пристегнулся ремнем, выглянул в овальное окошечко. Отворачивая на север, самолет круто набирал высоту. Заваливалась назад белая шапка Арарата, подернулись дымкой сады Приараксинской долины. Гостев почувствовал, что ему грустно, по-настоящему грустно улетать отсюда. Он достал блокнот, сам не зная зачем, записал на первой чистой странице:
«Прощай, страна гор и легенд, страна вечного народа!
Армения, как я устал от твоего гостеприимства!
Армения, когда я снова увижу тебя!..»
— Никогда! — вслух сказал Гостев, и пассажир, сидевший рядом, с удивлением посмотрел на него.
«Никогда! — повторил он про себя. — Анализ этого сеанса займет немало времени, а затем захлестнут другие интересы, другие дела… А как же с недосказанным? — спросил он себя. — Как без Алазяна понять его слова о вселенском порядке, о господстве гармонии?..»
И тут он ясно, совершенно ясно понял, что Алазян, по существу, пытался сформулировать закон. Совершенно новый, неизвестный науке закон природы. ЗАКОН ВСЕМИРНОЙ ГАРМОНИИ. Фантом не просто повторялся, копируя свою земную жизнь. Фантом творил. О подобном Гостеву не приходилось слышать, и он в волнении принялся расстегивать привязной ремень, чтобы пройти куда-нибудь, хотя бы в туалет, и там, не встречая удивленных глаз, поскорей назвать шифр. Хотелось срочно сообщить обо всем кому-нибудь из своих коллег, удивить, огорошить.
Фантомы могут творить! Да не как-нибудь, а по самому высокому счету, ЗАКОН ВСЕМИРНОЙ ГАРМОНИИ!.. Интересно, если это войдет в анналы науки, кого будут считать автором — его, Гостева, компьютер или Алазяна?.. Ах, не все ли равно! Главное, какую интеллектуальную мощь может использовать человечество, воскресив для творческой жизни гениев прошлого!..
Ему захотелось вернуться в Ереван, еще поговорить с Алазяном, выспросить. Но вернуться было невозможно. Время в этом «сне», копирующем жизнь, как и в самой жизни, не имело обратного хода. Он мог остановить время, назвав шифр, но не повернуть. Была лишь одна возможность: вернувшись, хлопотать о новом сеансе и в иное смоделированное время явиться к Алазяну, как к старому знакомому. Теперь Гостев знал, что он сделает это, обязательно сделает…
— Сядьте, пожалуйста, на место! — Бортпроводница возникла перед ним, словно из небытия, красивая и невозмутимая.
— Мне нужно…
— Вставать с кресла до полного набора высоты не разрешается.
— Но мне обязательно нужно!
— Сядьте, пожалуйста, на место!
Загадочно улыбаясь, Гостев поманил ее пальцем, наклонился к аккуратно причесанной головке, слабо пахнущей тонкими духами, и, разделяя слова, четко произнес:
— Восемь… семнадцать… восемьдесят!..
Юрий ТИХОНОВ СЛУЧАЙ НА ПРОРВЕ
Повесть[4]
13
На следующий день утром Вершинину позвонил окуневский участковый Позднышев и сказал, что направил к нему какого-то человека, с которым необходимо переговорить по интересующему Вершинина вопросу.
В ожидании посетителя Вершинин пытался дописать обвинительное заключение по одному из трех дел, захваченных из районной прокуратуры, но не давал покоя звонок Позднышева. Наконец его мысли прервал толстый человек с маленькой головой, боком протиснувшийся в дверь.
— Я из Окунева, — представился он, вытирая платком лоснящийся лоб. — Архип Никитич Фролков.
Вячеслав с интересом разглядывал посетителя. При всей своей неуклюжести он двигался довольно энергично и с любопытством скользил черными глазами-бусинками по кабинету.
Вершинин вежливо усадил толстяка в кресло и выжидающе замолчал.
— Вот, — Фролков положил на стол какой-то конверт. — Позднышев велел отдать вам лично в руки.
Вершинин недоуменно взял его и прочитал выведенную корявым почерком надпись: «Р…екая область, Динский район, пос. Сосновый, учреждение п/я 6036, Купряшину Федору». Обратный адрес не указывался.
— Откуда оно у вас? — поинтересовался он у Фролкова.
— Я в райцентре работаю, а живу в Окуневе, — охотно приступил к рассказу толстяк, — каждое утро электричкой на работу езжу. Сегодня из дома выхожу, глядь, старая Купрящиха прямо ко мне: «Ты, говорит, Архип, в поселок собрался, так выручи, христа ради, брось письмо Федьке где-нибудь там», а сама между тем по сторонам зыркает, не наблюдает ли кто за нашим разговором. Я ей, значит, отвечаю: «Ты бы, старая, лучше на почте опустила, все верней, а то забуду еще бросить». А она на это опять: «Ты уж постарайся, Архипушка, не забудь. На нашей почте оно еще ден пять пролежит, а Федька-то у меня скоро выйти должен, тогда получить не успеет». Взял я ее письмо, отказывать старухе неудобно, и пошел прямиком к разъезду. Иду и думаю, чего это она так по сторонам оглядывалась, будто боялась кого. Тут меня как обухом стукнуло. Пелагея-то моя, как позавчера с работы вернулась, нарассказывала мне, как с области прокурор приезжал главный, обыск у них в старом доме делал, пистолет разыскал. Я смекаю — неладно здесь, неспроста бабка письмо мне в руки передает — и к участковому Позднышеву. «Так, мол, и так, Алексей Федотыч», — докладываю, письмо показал. Вижу, глаза у него разгорелись, ну, думаю, в кон попал. Потом с разъезда вам позвонили, — закончил он, тяжело отдуваясь, и жадно посмотрел на запотевший графин.
— Пейте, пожалуйста, пейте, — спохватился Вершинин, придвигая графин.
Когда вода из третьего стакана исчезла в горле толстяка, он любовно погладил рукой по животу и застыл, ожидая вопросов.
— Так, — протянул Вячеслав, ощупывая конверт, — надо бы протокол добровольной выдачи составить.
— Стоит ли? — сразу поскучнел тот. — Я ведь от души принес, помочь хотел, а тут протокол.
«Федьки боится», — сообразил Вершинин.
Составив — короткий протокол, он передал его для подписи Фролкову.
— Кстати, скажите, много ли окуневских ездит на работу в город или в поселок? — поинтересовался Вершинин, пока тот внимательно изучал протокол.
— Да треть села, наверное. Электричка ходит постоянно, езды сорок минут, вот многие и ездят. Молодежь в основном.
— Вы-то себя тоже к молодежи причисляете?
— Я другое дело, — не очень охотно отозвался Фролков. — У меня другие обстоятельства.
— Какие же, если не секрет?
— Наверно, к делу они отношения не имеют.
— Не буду настаивать, Архип Никитич, вы и так нам большую помощь оказали, но все-таки разрешите задать еще один вопрос. Почему именно вам Купряшина передала письмо, именно вам доверила свою тайну, а не кому-нибудь другому из односельчан?
— Знает она меня давно… — последовал не совсем уверенный ответ. — Ну и… — он смущенно замолчал.
— Что и?..
— Судим я был несколько лет назад, два года отбыл за растрату… заготовителем от райпотребсоюза на селе работал, недостача вышла, и все такое… Вот она и подумала, наверно, что ворон ворону глаз не выклюет. И напрасно, — внезапно озлобился Фролков. — Кто ее Федька? Вор, грабитель, убийца. Таких и сам ненавижу, а я случайно туда попал, по глупости. — Он с вызовом посмотрел на Вершинина.
— Успокойтесь, пожалуйста, Архип Никитич, я и в мыслях о вас ничего плохого не имел и далек от того, чтобы всех под одну гребенку мерить.
Пока Фролков рассказывал о себе, Вячеслава не оставляла мысль о том, что он уже слышал однажды об этом человеке.
— Я и сам этих живоглотов не люблю, в колонии от них порядочные люди натерпятся, не дай бог. Чуть что, сразу норовят ударить, — вновь дошел до его сознания голос толстяка. — У меня утопленница та несчастная до сих пор перед глазами стоит. Да еще одного почти на моих глазах электричка зарезала. Тоже страху натерпелся.
«Все правильно, — с облегчением вспомнил Вершинин, — это же тот самый Фролков, на глазах у которого погиб путевой обходчик».
— Свирина, что ли, Николая? — желая проверить себя, быстро спросил он.
— Его-о-о! — удивленно протянул Фролков, покачивая головой. — Ну и контора у вас, все знаете. А может, вы окуневский сам?
— Нет, — рассмеялся Вершинин. — Просто вспомнил по аналогии. Ну и как, страшно было?
— Не говорите. Я тогда несколько ночей не спал. Вспомню, как его измолотило, жуть берет.
— Вы тогда в тамбуре вагона никого постороннего не заметили? — больше для очистки совести поинтересовался Вершинин.
— Признаться вам, — сконфузился собеседник, уже не удивляясь осведомленности следователя, — я перед тем в вокзальном ресторане пару стопок пропустил, а в дороге закемарил. Укачало меня. Кольку Свирина я видел, заметил, что под мухой он был здорово, но проглядел, как он в тамбуре оказался. Проснулся от резкого толчка, даже носом о противоположное сиденье клюнул. Оказалось, стоп-кран сорвал односельчанин наш, Усачев, переехал он потом от нас, когда жена у него померла. Смотрим с ним — на полу в тамбуре фуражка лежит Колькина, а больше подозрительного ничего. Выпал он по собственной глупости.
— Спасибо вам большое, Архип Никитич, — поблагодарил его Вячеслав, протягивая руку.
Тот суетливо вытер свою ладонь о штанину широченных брюк и только после этого уважительно попрощался.
Вершинин посмотрел конверт на свет и пошел к Сухарникову.
— Будем вскрывать? — спросил Вячеслав, громко щелкнув ножницами.
— Не отвечая, Сухарников позвонил одному из старших следователей, у которого находились практиканты, и пригласил двух из них в качестве понятых. Когда те подошли, он достал из тумбочки электрический чайник и включил его. Через пять минут чайник зашипел, еще минуты через две крышка его стала с бульканьем и перешептыванием подскакивать, а из носика ударила тугая струя пара. Подставив под нее письмо, Сухарников несколько раз провел оборотной стороной по струе, а затем пластмассовым ножом быстро вскрыл конверт. Внутри находился свернутый вчетверо лист серой бумаги. Тем же корявым почерком, что и снаружи, на нем было выведено:
«Здравствуй, сынок Федюня. С поклоном к тебе твоя неутешная мать. Жду тебя не дождусь, глазыньки все повыплакала, не глядят. Поди, не узнаю тебя при встрече, сколь годков-то прошло. Все тебя тут забыли, окромя Лидиных родственников, давеча приезжали, спрашивали, хотят повидаться. Береги себя. Храни тебя господь. К сему твоя мать Прасковья».
— Вот тебе и забитая старуха! — ахнул Вершинин. — Такую шифровку соорудила. Про родственников вроде невзначай сказала, а потом фразочка: «Береги себя».
— Нужда еще и не то заставит сделать, — улыбнулся в ответ на эту тираду Сухарников и, подумав некоторое время, добавил: — Письмо сфотографируем, а затем отправим в колонию.
— Зачем? — удивился Вячеслав. — Насторожим Беду раньше времени. Не лучше ли неожиданно поставить перед фактом?
— Думаю, нет, и вот почему. Дней через пять—шесть Купряшин письмо получит. До конца срока ему останется недели три, и он предпримет какие-либо активные действия, которые должны оказаться нам на руку. Наша задача — их не только не пропустить, но и использовать в интересах следствия.
Взяв письмо, Вершинин пошел в фотолабораторию, и лаборант, сделал ему несколько копий. Здесь же они аккуратно вложили письмо и заклеили конверт.
Поднимаясь наверх, в фойе второго этажа, Вячеслав нос к носу столкнулся с Дмитрием Корочкиным. Прошедшие с их последней встречи сутки сделали его неузнаваемым, В теплой, несмотря на жару, стеганой телогрейке, ссутулившийся, с глубоко запавшими глазами, он переминался с ноги на ногу, пряча за спину тощий вещмешок.
— Я к вам, гражданин начальник, — глухо сказал Корочкин.
— Заходите, — сдерживая волнение, произнес Вершинин.
Корочкин уныло поплелся за ним в кабинет. Положив вещмешок в угол, он нерешительно затоптался на месте, не зная, с чего начать. Видимо, решившись на серьезный шаг, Корочкин в последнюю минуту заколебался. Вячеслав молчал, предоставив ему право самостоятельно принять нужное решение. Слышно было, как царапала оконную раму сухая ветка.
— Я пришел все рассказать, — глухо произнес Корочкин и долго откашливался в кулак. — Ничего скрывать больше не буду. Пусть отсижу, но вернусь чистым.
— Я и не сомневался, что вы примете правильное решение.
— Знал я эту Лиду. В то лето приехала к Беде вечером. Никто ее не видел — его дом на отшибе стоит. Она у них осталась ночевать, тетка Прасковья тоже там находилась. Весь следующий день я Федьку не видел, он не велел приходить. Где-то часа в два ночи, еще не светало, меня разбудил стук в окно. Вскочил, смотрю — Беда зовет. Вышел. Он молча повел меня к себе. Зашли в дом, а он говорит шепотом: «Лидка скурвилась, завязать хотела, пришлось пришить, вот рукояткой» — и показал пистолет, который я у него не раз видел. У меня ноги со страху чуть не отнялись — «мокрое» дело не шутка, не в квартиру залезть или часы снять. Стою, с места сдвинуться не могу, а он как ткнет меня в живот кулаком: «Чего дрожишь? — говорит, — приказ это. Плотник приказал». Труп ее на чердаке лежал, мы на него мешок натянули, веревкой перевязали, жердь продели, да так и на Прорву понесли. По дороге прихватили с собой диски от сеялки, для тяжести подвязали. Беда привязывал, он мастак был морские узлы вязать, в колонии от кого-то научился. Потом с лодчонки и сбросили в воду.
Он угрюмо замолчал.
— Вы не запомнили, в чем она была одета? — стараясь казаться спокойным, спросил Вершинин.
— Конечно, запомнил, коричневое платье на — ней было надето. Июнь ведь шел. Жарко. В нем она и приехала. И лицо ее на всю жизнь запомнил: красивая она была, веселая. Так и стоит перед глазами. Зачем он ее убил?
— Он же ответил вам, что ему приказали. Плотник какой-то приказал? Кто это, кстати?
— Не знаю, — неохотно отозвался Корочкин. — Не видел ни разу, слышал, правда, много. Беда его как огня боялся. Иногда скажет: «Плотник велел» — и побледнеет весь.
— Что вам еще известно о Лиде? Фамилия, например, откуда родом или какие другие сведения?
— Приехала она из города, я это из разговора с Бедой понял, а больше мне ничего не известно, видел ее впервые.
— Жаль, очень жаль, — проговорил Вершинин, раздумывая над его словами.
Честно говоря, после неожиданного признания Корочкина он рассчитывал на быстрый успех, однако один из главных моментов так и остался невыясненным.
— Куда меня теперь? — спросил Корочкин, не поднимая головы.
— Вас? — недоуменно посмотрел на него Вячеслав. — Как куда? Домой идите. Заберите мешок свой и топайте домой к семье, — медленно проговорил он, не замечая изменившегося от радости лица. — Если вам верить, а я верю, то вы непосредственного участия в убийстве не принимали, но виновны в недонесении о совершенном преступлении. На ваше счастье, оно уже погашено давностью.
— Спасибо вам, гражданин следователь, спасибо за то, что поверили. Век не забуду.
— Учтите еще одно, Дмитрий Карпыч: вам, возможно, придется встретиться на очной ставке с Купряшиным.
— Скажу и ему, все скажу. Я теперь чист, ничего не боюсь.
— Тогда всего вам хорошего. Да, еще одно, — остановил он его почти у выхода. — Когда вы несли труп на озеро, никто вам не встретился по дороге?
— Нет, никто. А вот на обратном пути встретился путевой обходчик Колька Свирин. Мы даже не остановились.
Проводив Корочкина, Вершинин подошел к окну. Он увидел, как, едва не сбив какого-то прохожего, тот выскочил на улицу. Сорвавшись со скамейки, что примостилась в скверике напротив прокуратуры, навстречу ему бросилась маленькая женщина со спеленатым ребенком на руках и уткнулась лицом в телогрейку. Корочкин застыл, одной рукой неуклюже прижимая ее к себе, е другой придерживая ребенка.
— Смотри, как все повернулось, — удивился Сухарников, внимательно прочитав протокол допроса. — Выходит, мифические существа кончились, появляются вполне реальные фигуры, и чувствуется, фигуры немелкие. Теперь ясно: убил Купряшин, но, по-видимому, и он был только слепым орудием в чьих-то руках. Скорее всего этого, как его… Плотника… Занятная фигура. О нем знают, но не видят. Беда на что оторви голова, и тот бледнеет при одном только воспоминании.
— Я сейчас позвоню в уголовный розыск, — перебил его Вершинин, — пусть проверят по картотекам, не зафиксирована ли у них такая кличка.
— Правильно, и готовьте подробное задание в колонию за подписью руководства.
Секретно.
Пос. Сосновый Динского района Р…ской области, начальнику учреждения п/я 6036, подполковнику внутренней службы Сабаеву.
Прокуратурой области расследуется дело об убийстве летом 19… года неизвестной женщины, труп которой был обнаружен в озере Прорва Окуневского района. В совершении преступления подозревается Купряшин Федор Иванович, отбывающий наказание в вашей колонии. Мать Купряшина направила ему письмо с сообщением о том, что следственные органы вновь занимаются этим делом. Прошу немедленно по получении письма обеспечить его передачу адресату и организацию за ним усиленного наблюдения. В частности, необходимо обратить внимание на возможность передачи Купряшиным на свободу каких-либо писем через лиц, освобождающихся из мест заключения. В случае установления такого факта, не изымая письма, немедленно сообщите в прокуратуру области или УВД.
Заместитель прокурора области Титков.
Секретно
Гор. Н-ск. Заместителю прокурора области Титкову.
В связи с вашим заданием поступившее письмо было немедленно передано адресату. Получив его, он стал проявлять крайнюю нервозность, На второй после получения письма день он вошел в контакт с Игонькиным Прокопием Матвеевичем по кличке Интеллигент, срок отбытия наказания у которого оканчивается через три дня. В одежде Игонькина нами обнаружена тщательно спрятанная записка следующего содержания: «Поезжай в город, Полевая, 16, найди Фильку Черного, скажи, пусть предупредит кого надо про Лидиных родственников». Записка скопирована и положена на прежнее место. В положенный срок Игонькин освобожден и покинул территорию колонии в неизвестном направлении.
Начальник учреждения п/я 6036 подполковник внутренней службы Сабаев.
14
Голову с трудом удалось оторвать от подушки. Нудно тянуло в затылке, волнами подкатывала тошнота, знобило. Растопыренной пятерней Филька расчесал слипшиеся волосы.
— Мамань, — позвал он охрипшим голосом.
— Ну что тебе? — На пороге появилась сгорбленная женщина, принесшая с собой резкий запах керосина.
— Мамань, сил нет, башка трескается, — умильно заглянул ей в глаза Филька. — Сбегай за чекушкой, ей-ей, в последний раз.
— Когда же работать начнешь, Филя? Водку свою когда бросишь? Опять ведь в тюрьму угодишь? — запричитала та.
— Гад я, маманя, последний гад, — болезненно сморщившись, Филька ударил себя в грудь кулаком, — но скоро все, завязываю. А сейчас сходи, принеси, а?
Старуха безнадежно махнула рукой и принялась натягивать валенки с калошами, бормоча под нос непонятные слова.
Филька опять плюхнулся на кровать. В голове у него вертелась непонятная чепуха, среди которой притаилось что-то важное, чего он никак не мог вспомнить.
«Ах, да, — с трудом выплыло из глубин проспиртованного мозга, — бабка проклятая вместе со своим Бедой». «Помоги, сыночек, не дай Федьке пропасть», — мысленно передразнил он ее. «Тьфу. Во мне, что ль, дело? Я тут шестерка. К Плотнику надо ехать, попробуй не поехать, скрыть. А ну как важно? Федька выйдет, сразу расскажет тому. Мне-то каково Плотнику лишний раз на глаза лезть, ведь заказывал — ждать вызова. Какой-то там Лидки родственнички объявились? Зачем они Плотнику? Нет, не поеду, не попру на рожон», — решил он твердо.
Внезапно его осенило. Он даже вскочил с кровати.
«Лидка, Лидочка, Лидуха Неужто она? Пропала тогда неожиданно, как в воду канула. И уж не без помощи Плотника, конечно. Дело не пустяшное. Плотник по головке не погладит, если отмахнусь от Федькиной ксивы[5]» — Филька часто задышал, пытаясь остановить подступавшую тошноту.
В сенях застучало.
— Ты, мать? — насторожился Филька.
Старушка с трудом перелезла через высокий порог и положила на стол четверку водки, полбуханки ситного и два малосольных огурца.
Граненый стакан вмиг был наполнен до краев. Филька осушил его одним махом, а потом минут десять сидел не двигаясь. Дожидался, пока приятное тепло разольется по телу, вытолкнет остатки вчерашнего похмелья. Затем разрезал малосольный огурчик и стал шумно высасывать из него сок. Высосал, пожевал мелкие семена, остальное бросил — оскомина. Отщипнул хлебного мякиша.
— Теперь и работу можно идти искать, — подтянул он длинные, синего сатина трусы.
— Куды ж теперь пойдешь — сивухой за версту разит.
— Твоя правда, мать. Отдохну тогда маленько, а потом уж и устраиваться пойду.
Проснулся он далеко за полдень. Мать, видно, куда-то ушла. Ополоснул лицо из питьевого ведра, снова в небольшую щелку между занавесками внимательно осмотрел улицу. В этот раз там оказалось несколько прохожих, и он внимательно проследил, пока они не скрылись. Появились другие, но каждый из них спешил по своим делам, не бросив даже мимолетного взгляда в сторону его дома.
Спугнув стаю упитанных ворон, которые копошились в куче отбросов, он потаенным проходом выскочил на соседнюю улицу. Отсюда было рукой подать до вокзала, но Филька туда сразу не пошел. Потолкался на рынке, насыпал в карман пару стаканов семечек, поотирался среди народа. Ходил кругами, авось два раза на одного человека удастся нарваться. Однако опасения оказались напрасными, судя по всему, за ним не следили. Только тогда, уже не оглядываясь, он пошел на вокзал. На втором пути стояла электричка. До ее отхода оставалось минут тридцать Филька купил билет до конечной станции и с независимым видом прошел в вагон. Он знал, что вот-вот должен подойти пассажирский поезд. Тот не опоздал, пришел точно. Объявили стоянку двенадцать минут. Все это время сидел е вагоне, устроившись у окошка. От пассажирского отходили редкие провожающие. Затем он тщательно размял сырую «беломорину» и вышел в тамбур. Поезд медленно тронулся. Молниеносным движением Филька открыл противоположную дверь и выпрыгнул из электрички. В пассажирский он вскочил уже на ходу, бесцеремонно оттерев плечом смуглого проводника.
— Э, зачэм любэзный лезэшь, покажи билэт, — заверещал тот, пытаясь оторвать от поручня назойливого пассажира.
— Аллаверды, — строго округлил глаза Филька и свободной рукой показал тому из кармана край красного удостоверения, реквизированного год назад у одного растяпы пожарника. Проводник пропустил его
Поезд потихоньку набирал скорость. В проходе на вещах сидело несколько безбилетных пассажиров. Проводник сновал взад-вперед, покрикивая что-то, успокаивал кого-то, но беспокойный взгляд его нет-нет да и скользил по опасному пассажиру. Разминая одну за другой отсыревшие папиросы, Филька смотрел, как нескончаемой вереницей проносятся мимо маленькие полосатые столбики. Перед глазами снова возникли строки письма Беды.
«Неужели та Лидка? — билась мысль. — Ох, и хороша девка была. Даром, что года на два старше, все равно женился бы, может, и жизнь прожил бы по-другому, человеком стал бы, а не уркой. Эх, Лидуха, Лидуха! Плотник тогда свел их, а наедине туманно сказал ему так: «Ты присмотрись к ней, девка хорошая, помогать нам станет». Однако сразу чувствовалось: не из тех она, чиста больно, смотрит хорошо. Потом и Плотник сообразил и стал темнить, ходить вокруг да около. «Обманулся я, мол, в Лидухе, не та девка, добра не помнит». Как-то вроде шуточкой бросил: «Убрать ее надо потихоньку, Лидуху нашу, заложит ведь». Тогда аж все в душе опустилось Заприметил Плотник это и больше ни звука, а Лидуха пропала. Осмелился как-то, спросил о ней, но он так посмотрел — поджилки затряслись. Неужели же сейчас, спустя столько лет, выплыла?»
С безразличным видом он прошелся по проходу, незаметно оглядывая пассажиров, Вдруг ему показалось, что сидящий на боковой скамейке крепыш в надвинутой на лоб восьмиклинке, подозрительно быстро отвел в сторону глаза. В груди екнуло. С трудом сохраняя независимый вид, Черный прошел в тамбур, закурил, краем глаза не выпуская парня из поля зрения. Неожиданно тот исчез. Филька почти бегом вернулся назад. Парень оказался на месте. С двумя другими мужиками он пристроился за столиком и ловко открыл поллитровку. Услышав, как тот сочно крякнул, Филька облизал пересохшие губы и снова ушел в тамбур. За окошком посерело. Поезд нырнул в знакомую ложбину и вскоре замедлил ход. Приближалась станция. Проводник открыл дверь. Филька спрыгнул, не дожидаясь остановки.
Затем он быстро сбежал с насыпи, нырнул в небольшой ров, выбрался наверх и затаился на пригорке в низкорослом, но густом кустарнике. Поезд стоял минуты две. Кроме нескольких старух и женщины с ребенком из него вышел коренастый мужик средних лет с плетеной кошелкой да два жиденьких фрайера. Коренастый, не оглядываясь, деловито запылил кирзой по проселочной дороге. Фрайера двинулись в сторону поселка, вяло переругиваясь между собой. Посидел в кустах еще с полчаса, покурил в рукав. Ничего подозрительного. Только после этого двинулся по знакомой тропинке в поселок. Темнота загустела. Ноги утопали в мягкой траве.
Наконец добрался до нужного дома, постучал несмело. Минуту обождал и отстукал дробь ногтями.
— Кто там? — услышал вскоре надтреснутый старческий голос.
— Это я, Черный, — выдохнул он в щель.
Стукнула щеколда. Вовнутрь пришлось вступить в полной темноте.
— Проходи, милок, проходи, — раздался тот же голос, — не споткнись. Уж прости, ради бога, темно, лампочки ныне, как спички, сгорают — не напасешься.
Они вошли в комнату, освещенную мягким светом настольной лампы.
— По делу я, Плотник, — переминался у порога Филька.
— Садись, садись, голубь, дела потом, пропусти рюмочку с дороги. Вот рябинка с коньяком.
Золотистая жидкость маслянисто заструилась в фужер. Филька чертыхался в душе от такой выпивки, но вида не подал, проглотил и конфеткой какой-то закусил.
— Уж не обессудь, Филимон, угощать особо нечем, все сбережения спустил столичному дантисту. — Рот хозяина блеснул золотом. — Как липку ободрал старика, шельмец.
«Ну и жмот, черт старый, — презрительно подумал Филька, — такого добра у тебя хватит половине Москвы зубы вставить».
Сам между тем доверчиво кивал каждому слову.
— С чем приехал? — голос Плотника внезапно затвердел.
Филька вскочил.
— Мать Беды приезжала, записку тебе передала. Вот она. — И он положил листок на стол.
Плотник мельком скользнул по ней взглядом. Тон его снова стал елейным:
— Говорил я тебе, Филя: не трогай меня, пока сам не скажу.
— Я думал, я считал, — залепетал тот, побледнев, — важно тебе это, не зря же Беда пишет.
— Панику разводит Беда, сынок, панику. Отвык от жизни-то людской за столько времени. Вот и кажется ему горошина тыквой.
Он бросил взгляд на окно в уже темную густоту зелени.
— Ты не бойся, Плотник, меня не пасли, я знаешь, как шел, — стал оправдываться Черный.
Сбиваясь и перескакивая с одного на другое, он рассказал о своем путешествии.
— Да я и не боюсь, сынок, чего мне бояться на старости лет. Пропусти-ка лучше еще рюмочку да и уходи с богом. У меня больше не появляйся. Сам потом весточку подам. Да не сюда, — остановил он его, — выйдешь лучше через подпол. У меня оттуда лаз в сад.
Филька, чертыхаясь в душе, пошел за ним.
Спустились в обширный подпол. Колеблющееся пламя свечи выхватывало из темноты то полки, то пузатые бочки с проржавевшими обручами. Пахло плесенью.
— Куда теперь? — спросил Филька, озираясь по сторонам.
— Туда, туда. — Плотник неопределенно махнул свечкой, и в тот же момент в глазах у Фильки вспыхнули радужные искры. На мгновение ему показалось, что это взорвалось разноцветными брызгами желтое пламя свечи. Боли он почти не почувствовал, просто в левую сторону груди вошла страшная тяжесть.
— Вот так-то, Филя, — бормотал Плотник, оттаскивая тело в сторону. — Говорил ведь тебе: не трогай меня, покуда не позову.
Он пристроил огарок свечи на пустой бочке и при ее зыбком свете быстро выкопал небольшой металлический ящик. Кряхтя, подтащил его ближе к свету. Поковырялся немного в замке и открыл крышку. Добыл оттуда неприметный с виду кожаный чемоданчик, крякнул довольно, почувствовав приятную тяжесть в руке. Затем поднялся наверх. Часы с гирьками показывали восемь.
«Спешить не надо, — бормотал он про себя, — мы себе тихо-мирно беседуем. Перешли в другую комнату, свет включили. Нам бояться нечего, мы люди честные, у нас все открыто».
Минут за двадцать до прихода очередной электрички Плотник натянул старый картуз, надел потертое драповое пальто, налил в блюдце молока, поставил его пристально смотревшему за ним зелеными глазами коту и с чемоданчиком в руке вновь спустился в подпол.
На противоположной стенке он нащупал тяжелый засов и оттянул его в сторону. Пригнулся, и по узкому проходу двинулся вперед. Постоял, прислушался. Открыл крышку люка и вылез в ветхий сарай, примыкавший к саду. Опять застыл не двигаясь. По листьям деревьев тихо шуршал ветерок. Было безлюдно. Он не спеша зашагал по переулку, рассчитывая появиться на остановке одновременно с электропоездом. Желтый световой глаз пронизал пространство далеко впереди себя, высветив у полотна несколько фигур. Мягко лязгнули открывающиеся двери. Плотник за мясистой спиной какой-то бабы незаметно юркнул в первый же вагон.
Напротив него сидела девушка в черных, туго обтягивающих полные икры чулках. Неодобрительно причмокнув губой, он скользнул взглядом по ее ногам. Она покраснела и прикрыла колени книгой. Плотник незаметно огляделся. В одном углу играла в карты компания железнодорожников. Над спинками сидений торчали редкие головы пассажиров.
Тусклый свет успокаивал, укачивало. Мимо с грохотом промчался встречный.
— Трофимыч! Какими судьбами? Сколько лет, сколько зим? — неожиданно раздался чей-то смутно знакомый голос.
Рядом, уже вплотную к нему, стоял с распростертыми объятиями Шустов. Плотник сразу узнал бывшего участкового из села, где он прежде жил, но вида не подал. Его рука, прежде спокойно лежащая на сиденье, как бы невзначай переместилась на колено.
— Да ты что? Неужто не узнаешь? — разочарованно протянул Шустов, усаживаясь рядом. — Федор я, Шустов. Вспомни. — Он положил свою руку сверху на узловатую кисть Трофимыча. На противоположном сиденье рядом с девушкой уселись двое молодых парней и с любопытством стали наблюдать за встречей старых друзей.
— Не признает, а? — сокрушенно вздохнул Шустов, по-прежнему не отпуская руки старика. — Земляка не узнает, — продолжал он с обидой, обращаясь за сочувствием к сидящим напротив.
Молодые люди понятливо покачивали головами: мол, чего в жизни не бывает, и продолжали внимательно наблюдать за встречей.
Девушка поднялась, уловив необычность происходящего, сняла с крючка свою сумочку и перешла в другой конец вагона.
Оставшиеся молчали. Быстрыми движениями Шустов вытащил из бокового кармана пальто Трофимыча никелированный браунинг и спрятал в карман.
— Повезло тебе, Федька, ох, как повезло, по Филькиной глупости, вечная ему память, повезло, — раздумчиво, как бы разговаривая сам с собой, произнес Плотник. — Кто ты, Федька, супротив меня? Так фюйть — птичка-порхушка. Бабочек тебе ловить, а не меня.
— Как могем, — развел руками Шустов и добавил, посмотрев в окно: — Пора! Сходить нам, Трофимыч. По старости твоих лет молодые люди чемоданчик помогут донести.
Электричка вырвалась на ярко освещенный перрон. Почти вплотную к вагонам стояла милицейская машина.
15
— Особенно обольщаться не советую, — сказал Сухарников, расхаживая по кабинету за спиной Вершинина и Шустова, — хотя задержание Плотника — несомненно, большая удача.
Он уселся за широкий, темной полировки письменный стол и взглянул поверх очков на мелко исписанный прямоугольник белой бумаги.
— Взять хотя бы изъятое при обыске: драгоценности, деньги. Сумма солидная — семьдесят семь тысяч рублей с хвостиком. А дальше? — Его пальцы отстукали дробь по листку. — Что дальше? Ценности мы изъяли. Они были для него всем. Властью. Силой. Обеспеченной старостью. Даже просто — фетишем. Ведь их хватит, чтобы обеспечить безбедное существование десяти таких стариков, как Усачев. Сейчас он в шоке. Все пропало. И терять теперь ему нечего. Вот почему, думается мне, он будет молчать. Да и не простой это уголовник, а матерый, с большим стажем. Перед нами сейчас стоит сложнейшая задача: установить происхождение изъятых ценностей и ту личность, которая скрывается под фамилией Усачев. Иначе мы так называемому Усачеву ничего стоящего не предъявим.
— Почему ничего? — вмешался Вершинин. — А покушение на убийство Чернова? От него ему не отвертеться.
— Пожалуй. Но ведь убийство убийству рознь. Кто такой Чернов, давно известно: пьяница, махровый уголовник. Скажет Усачев — поссорились, хотел меня убить, едва нож удалось вырвать, а потом случайно… Вот вам и смягчающие обстоятельства. Свидетелей-то, кроме них двоих, нет. Ну и, наконец, главное, — добавил Сухарников, помолчав: — Кто убит на Прорве, так и не установлено. Корочкин толком о ней ничего не знает. Плотник не скажет. А Беда?.. — он развел руками. — Беда далеко, да и надежды я на него возлагаю небольшие.
— Что же вы предлагаете? — спросил Шустов, не улавливая, куда клонит Сухарников,
— Покушение на убийство Чернова совершено на территории другой области. Усачев проживал там последние шесть лет. Дело обещает быть сложным и трудоемким. Утром мне позвонили из республиканской прокуратуры, предлагают передать дело им. Такое предложение не лишено резона. — Он испытующе посмотрел на обоих.
«Ну, вот и все, — сник Вершинин. — Столько сил потрачено, какую зверюгу отловили, а теперь прощай дело».
— Неправильно это! Несправедливо! — неожиданно для самого себя почти выкрикнул он, вцепившись побелевшими пальцами в край приставного столика.
Сухарников перестал выбивать дробь по столу и с любопытством уставился на него.
— Почему же несправедливо? — подзадорил он. — Сами поймите, какой размах принимает следствие, а силенок-то у нас маловато.
— Я абсолютно с вами согласен, — несколько успокоился Вершинин, — но и у нас ведь тоже есть немало преимуществ перед москвичами. Мы уже вжились в это дело: и Шустов, и Вареников, да и я. С закрытыми глазами каждую деталь знаем. Взять, к примеру, убийство женщины. У нас есть даже прямые доказательства виновности в нем Беды. И не только признание Корочкина — а письма, а пистолет, а кровь. Я думаю, после случившегося и Чернов не будет отмалчиваться. Или убийство железнодорожника. Да, да, именно убийство, — повторил он, заметив недоверчивый взгляд Сухарникова. — У нас есть все основания так предполагать. Он единственный видел Купряшина и Корочкина в ту ночь, он скорее всего пытался шантажировать Беду — и вот результат. Сработано чисто, но ведь теперь-то мы знаем, что последним, кто видел железнодорожника живым, оказались Усачев и его покойная жена, Фролкова он разбудил позже. Оба убийства произошли на нашей территории, а случай с Черновым только следствие прошлых событий. Новому человеку сейчас недели две вживаться надо, а время не терпит, ведь Беда должен вот-вот освободиться.
— Ну, хорошо, — согласился Сухарников, — вы меня убедили. А хватит ли у нас силенок установить личность убитой и происхождение изъятых у Плотника ценностей, да и вообще разобраться в его биографии.
— Мы уже сейчас работаем в контакте с Московским уголовным розыском, и там сейчас занимаются установлением личности Усачева. Плотник ведь в нашей области прожил всего несколько лет. Как похоронил жену, так и уехал сразу, а дом продал. Наверняка связан был с уголовниками, от которых краденые ценности стекались к нему. Он их реализовал, наверно, в других городах через скупщиков, а наиболее ценные вещи оставил себе. Знали его в лицо только единицы. Конспирироваться Плотник умел. Единственный прокол — Лида. Впоследствии Плотник, по-видимому, от активной деятельности отошел, а может, я и ошибаюсь. Постараемся проверить все приостановленные и прекращенные за это время дела, посмотрим, какие из изъятых у него драгоценностей значатся в розыске. Сейчас даны задания райотделам ближайших областей вновь вернуться к проверке заявлений о без вести пропавших. Утешительного, правда, пока мало. Но я надеюсь на лучшее, — закончил он и с вызовом посмотрел на Сухарникова.
— Как, Шустов, дело говорит юрист третьего класса? — без улыбки спросил Сухарников.
— Думаю, он прав, — отозвался тот.
— Ну и добро, расследуйте. Только прошу докладывать мне результаты каждый день. Допрос Плотника проведем вместе.
Сухарников проводил взглядом Вершинина.
«Хороший парень, — подумал он. — Умница, рассуждает логично. Неплохой старший следователь получится со временем».
Вячеслав выскочил из кабинета начальника следственного отдела в приподнятом настроении.
В фойе второго этажа у окошка Вершинин увидел Стрельникова. Одет Виктор был с иголочки, в новом мундире. Он о чем-то потихоньку разговаривал с пышноволосым парнем, также одетым в милицейскую форму.
Вячеслав незаметно подошел сзади, стал с правой стороны и сильно хлопнул приятеля по левому плечу. Виктор стремительно обернулся, не заметив никого, с удивлением посмотрел на собеседника. Тот ухмыльнулся. В этот момент он встретился взглядом со смеющимся Вершининым.
— Бьют, милицию бьют, — тихонько запищал Стрельников, — и где бьют, в прокуратуре, и кто бьет…
Они похлопали друг друга по плечам.
— Ох, и пролез же ты, Славка, — восхищенно сказал Виктор. — На втором году работы в святая святых прорвался. Не знал я за тобой раньше таких карьеристских способностей.
— Брось ты, Витек, — смутился Вершинин. — Прикомандировали меня временно сюда. Одно дело сейчас расследую. Помнишь, я тебе о нем рассказывал?
— Помню, еще бы. Удалось, значит, зарегистрироваться официально. Здорово. Значит, дела серьезные?
— Самые-пресамые. И работы на десять человек по горло хватит. Я тебе потом как-нибудь, при встрече расскажу. Ты, кстати, по своим делам сюда или ко мне?
— И то и другое. Вот с коллегой своим за отсрочкой прибыли, — показал он на пышноволосого, — и попутно привез тебе материалы о смерти Свирина. Почтой знаешь сколько пройдут. Решил повнимательней посмотреть?
— Факты кое-какие появились. Под сомнение они выводы дознавателя ставят, — откровенно признался Вячеслав.
— Ты мне когда позвонил во второй раз, я эти материалы сразу отыскал. Почитал, поглядел. Мыслишка мне тут одна в голову пришла. Хочешь, поделюсь?
— Хорошим мыслям мы всегда рады. Пойдем в мое пристанище, — пригласил он Стрельникова, и они пошли во временно отведенный Вершинину кабинет.
Виктор достал из портфеля знакомую папку и стал медленно перелистывать странички. Вершинин обратил внимание на подчеркнутые красным карандашом строчки.
— Вот, — наконец сказал Стрельников, — смотри. Труп Свирина обнаружили на расстоянии двух тысяч восьмисот метров от поезда. Вернее от конечного вагона, в котором он находился. Скорость поезда установлена точно — восемьдесят километров в час. При такой скорости поезд проходит в минуту один километр двести метров. Свидетель Усачев, вот его показания, утверждает, будто услышал шум открываемой двери, вскрик, тут же толкнул своего односельчанина, и они вместе выскочили в тамбур. Увидев фуражку, он сорвал стоп-кран. Сидел Усачев на третьем от тамбура сиденье, односельчанин, Фролков, кажется, находился сзади. Я поинтересовался, сколько приблизительно времени займет такая процедура. Разумеется, подсчитывал в пустой электричке. Она на путях недалеко от отдела стоит. Оказалось, что одной минуты хватит весь вагон с лихвой обегать.
Вячеслав сразу насторожился и стал быстро подсчитывать в уме.
— Выходит, труп никак не должен находиться далее полутора километров от поезда. Ну, еще накинем метров пятьсот. А ведь зафиксировано расстояние в два километра восемьсот метров, почти на километр больше. Значит…
— Значит, — прервал его Виктор, — Усачев с Фролковым что-то путают.
— Ох, ты и даешь, старина, ну и даешь! — Вячеслав восхищенно сдавил ему плечи. — Попал в десятку. В благодарность посвящу тебя в одну тайну. Смотри, — он подвинул ему протокол личного обыска Усачева и обыска его квартиры.
— Ну и ну, — схватился тот за голову, — хорош окуневский колхозничек! Но видишь, все-таки и тогда этот зубр наследил с лишними метрами. Пока выбросил Свирина из поезда, вернулся назад, позвал, Фролкова, метры-то, они и пробежали. Эх, жалко, в свое время прошляпили. — Виктор с досадой поморщился и поднялся. — Пора мне, старина.
На обратном пути Вершинин заглянул в управление узнать, не приехал ли из Москвы Вареников.
— Он у начальника, — кивнул сосед Вареникова по кабинету, едва завидев Вячеслава. — Сейчас придет.
Вареников появился минут через пять. За время отсутствии он посерел, резко обозначились под глазами морщины, усталость чувствовалась даже в вялом рукопожатии. Однако глаза его радостно блестели.
— Удалось узнать что-нибудь интересное? — чуть ли не шепотом спросил Вершинин, боясь спугнуть внезапно возникшую надежду.
— Кое-что есть, — кивнул капитан. — Как удалось установить, многие ценные вещи из чемодана Плотника значатся в розыске как в Москве, так и в некоторых близлежащих областях. Золотой кулон с бриллиантовой осыпью был похищен в Москве около года назад. Значит, не сидел наш Плотник без дела. Кто же он есть такой — мой односельчанин7 Появился в Окуневе в сорок девятом с женой. Документы предъявил а полном порядке, не придерешься. Инвалид, проживал в Сибири, двое детей умерло, решил податься подальше от тяжелых воспоминаний. Повторяю, документы безукоризненные, даже орден Трудового Красного Знамени имеется. Потом в Окуневе жену похоронил, годок в холостяках походил, а потом собрался переезжать. Его в колхозе остаться уговаривали — отказался. К нему вообще окуневское начальство благоволило, ведь на все руки мастер, поэтому и закрывали глаза на частые отлучки в город Вещицы он из дерева, кости занятные выделывал, животных разных, ну и сбывал их якобы в городе, то есть имел хороший повод для передвижения. Ни у кого подозрения он не вызывал, даже у Шустова. Затем необходимость сидеть в Окуневе у него отпала; группы Беды и Черного развалились. Вот и перебрался Усачев поближе к столице, купил дом в поселке, подыскал новые контакты.
— Но почему же так? — недоуменно спросил Вершинин. — Инвалид труда, орденоносец, судьба тяжелая, и…
— Он такой же инвалид труда и орденоносец, как и я исполнитель главных партий в Большом театре. Его пальчики по картотеке были зарегистрированы первый и единственный раз в 1932 году. Тогда он назывался Седых. Фрол Романович Седых. Раскулачили его там, кажется. После раскулачивания поджег дом председателя сельсовета. Был арестован. Бежал. С того времени его следы потерялись. И вот только сейчас, спустя свыше тридцати лет… — Вареников замолчал.
— Теперь первоочередная задача установить, каким образом к нему попали документы Усачева, — заметил Вершинин. — Думаю, не просто нашел.
— Ну и, наконец, последнее, — устало поднялся Вареников, — я привез несколько заявлений о без вести пропавших. Их отыскал Сафронов. Посмотрите, Вячеслав Владимирович, там есть кое-что любопытное. В частности, заявление выпускников Сажневского детского дома. У них существовала договоренность, что через десять лет после выпуска в установленный день они при любых обстоятельствах должны~собраться в детском доме. Три года назад все собрались, а одна из них — Измайлова Лидия Филипповна — не появилась. Потом они справки несколько месяцев наводили — безуспешно.
16
Матово-белое, оттененное выступающими вперед каменными наличниками окон, с шестью колоннами у центрального входа трехэтажное здание возникло внезапно, едва только окончилась извилистая лесная дорога, идущая на подъем. Вершинин оказался на огромной поляне, венчающей плоский холм. Противоположная сторона поляны уходила круто вниз, превращаясь в зыбкий берег заросшего ряской озера. Оттуда раздавались надрывные крики сойки. От обилия воздуха колотилось сердце.
Сухой утоптанной тропинкой он спустился по склону холма, миновал дамбу, разделявшую озеро в самой узкой части, и обочиной грунтовой дороги вышел к селу. Он прошел под портиком между колоннами ко входу в старинное здание и на огромной с отшлифованными до блеска бронзовыми ручками двери прочитал табличку: «Детский дом им. Александра Матросова». Гулкие коридоры пустовали. Постучал в первую же попавшуюся дверь. Никто не отозвался. Вторая и третья также оказались запертыми. Наконец за одной из них, стеклянной, задрапированной изнутри сиреневым шелком, послышались невнятные голоса. Комната оказалась красным уголком. За низким столиком двое пионеров резались в шашки. Их вспетушившийся вид свидетельствовал о том, что партия проходит далеко не мирно.
— Поставь на место! — требовал один из них, плотный паренек с обгоревшим на солнце носом.
Второй — худенький, с оттопыренными ушами на стриженой голове — недоумевающе смотрел на него, делая вид, будто не понимает своего партнера.
— О чем спор, джентльмены? — поинтересовался Вячеслав.
— Да, вот он… — начал было крепыш, но тут же замолчал, опасливо посмотрев на партнера
Вершинин допытываться не стал, и какое-то время стороны молча изучали друг друга.
— Вы что, ребята, одни на все хозяйство? — спросил он после минутной паузы.
Стриженый открыл было рот, но его приятель скользнул по нему хмурым взглядом, заставив замолчать.
— Понимаю, — сообразил Вячеслав. — Сведения о численности — военная тайна. — Чтобы развеять всякие сомнения, добавил: — Я директора вашего разыскиваю. Не знаете, где он?
— В школе, — охотно сообщил стриженый. — Там сейчас занятия идут. А вы, наверно, из районо?
— Из районо, конечно, из районо, — согласился Вершинин и попросил проводить его к директору.
— Я провожу, — обрадовался тот возможности уйти от неприятного разговора с партнером и буквально потащил Вершинина за собой.
Директора, Алексея Юрьевича Смоленского, они застали в его кабинете. Он о чем-то спорил с молодым мужчиной, одетым в синий тренировочный костюм. Вершинин уселся в стороне, ожидая окончания разговора… Вячеслав особенно не прислушивался к их спору, но изредка, стараясь не показаться назойливым, присматривался к директору. Алексей Юрьевич выглядел не совсем обычно. Внешним видом, манерой разговора он походил на дореволюционных сельских интеллигентов. Редкая, без единого седого волоска шевелюра, аккуратно подстриженная бородка клинышком, добрый прищур глаз и, наконец, неизменное «батенька мой», с которым он обращался к своему собеседнику, только усиливали первоначальное впечатление. Разговор их угас сам по себе — мешало присутствие постороннего. Мужчина вышел. Алексей Юрьевич вопросительно посмотрел на гостя. Вячеслав представился.
— Любопытно, любопытно, молодой человек. Последний раз следователь приезжал к нам в тридцать третьем году, когда кулаки подожгли амбары с запасами детского дома на зиму.
По его лицу пробежала тень тяжелых воспоминаний.
— Дело, по которому мне придется побеспокоить вас, — ответил Вершинин, — тоже не совсем обычное. В районе, где я работаю следователем, лет десять назад была убита женщина. Труп ее случайно обнаружили в озере. За это время так и не удалось установить, кто она. И вот сейчас, совсем недавно, у нас возникли предположения, что убитая была одной из ваших воспитанниц.
Директор встал. Лицо его исказилось.
— Кто? — едва слышно спросил он. — Кто она?
— Измайлова Лида. — Вячеслав положил свою руку на подрагивающую ладонь Алексея Юрьевича. — Да вы не волнуйтесь, может, и не она вовсе, — добавил он, желая успокоить собеседника.
Ему даже в голову не могло прийти, что директор детского дома, перед глазами которого за многие годы прошли сотни, а то и тысячи воспитанников, может хорошо запомнить одну из них.
— Идемте… Идемте со мной, Вячеслав Владимирович, — встал директор, тяжело опираясь на инкрустированную серебром палку.
В соседней комнате, куда они пришли, он открыл один из широких шкафов, стоящих вдоль стены. Внутри, на каждой полке, разделенные по годам, плотно стояли многочисленные папки.
— Здесь все мои воспитанники за тридцать с лишним лет. Подробно по годам выпуска. А вот Лида, Лидочка Измайлова, любимица общая. — И он безошибочно вытащил с одной из полок завязанную шелковыми тесемками папку. — Отец ее погиб в сорок третьем, старшая сестра умерла спустя год от тифа. Остались они вдвоем с матерью, которая вскоре после войны тоже заболела и умерла. Девочка у нас воспитывалась с двенадцати лет. Как сейчас помню, сначала дичилась, никак к нашей жизни привыкнуть не могла, а потом… потом вошла в курс и такой стала! В самодеятельности первая: плясать, а главное — петь уж очень хорошо могла. Членом комитета комсомола избиралась.
Алексей Юрьевич задумался и замолчал.
— Ну а потом, что было потом? — нетерпеливо поинтересовался Вершинин.
— Потом? Потом так же, как у всех. Определили мы ее в хорошее ремесленное училище. Училась неплохо, но на виду, как у нас, не была. Письма мне изредка присылала, не жаловалась, но чувствовалось, не нашла себя там. Я ее к себе приглашал, но так и не приехала. Затем получаю от нее письмо из города… города, — он развязал тесемки и вынул из папки конверт, — Н-ска. Легкое такое письмо, радостное. Будто бы и все сомнения позади остались. Писала, что устроилась хорошо, один человек, по ее словам, сам потерявший детей, помог ей подыскать хорошую квартиру, обещает устроить на работу. Вообще по письму чувствовалось — воспряла Лида. Она и у нас всегда к добрым людям тянулась. Я тогда, признаться, успокоился, а ответить ей некуда было — она ведь только город указала, ни дома, ни улицы. Больше от нее писем не было. Я еще сетовал: забыла, наверно. Вышла замуж, дети пошли, не до воспоминаний. Хотя и обидно иногда за нее становилось. Сколько их прошло через мои руки, ни один не забыт. Ну кто же знал, что страшное могло с ней произойти?
Директор низко опустил голову и замолчал.
Вячеслав видел, как непрестанно подергивается у него верхнее веко.
— Хорошо, хоть заявление о ее исчезновении написали в милицию. Ваша, наверно, идея? — прервал молчание Вершинин.
— Я знаю об этом, — Алексей Юрьевич поднял постаревшее на глазах лицо. — Друзья ее — Петя Галкин, Зоя Акимушкина — собрались у нас на юбилейную дату — десять лет после выпуска. Договоренность у них такая была: что б ни случилось, встретиться в этот день в детском доме. Лида одна не приехала. Сначала упрекали мы ее между собой, а потом задумались. Показалось подозрительным, что на протяжении семи лет никто не получил от нее ни единой весточки. Посоветовались и решили заявление в милицию написать. Ребята и отнесли его сами. Там пообещали разобраться. С тех пор еще несколько лет прошло, но о ней так ни слуха ни духа. Неужели убита именно она?
И хотя Вячеславу не хотелось делать больно этому человеку, врать он не стал, ибо в душе уже прекрасно понимал, что на сей раз ошибки быть не может. Совпадало очень многое, а главное — ее последнее письмо из Н-ска. Еще раз перелистал страницы личного дела. С маленькой фотокарточки на него смотрела девочка-подросток с угловатыми чертами.
— Нет ли у вас других ее фотографий? — спросил он у директора.
— Пойдемте со мной, — пригласил его гот, и они вместе вышли из школы.
В этот момент зазвонил звонок на перемену, и стая громкоголосой детворы картечью вылетела во двор. Воспитанники ручьями заструились вокруг, с любопытством посматривая на незнакомца. Они пришли в тот самый красный уголок, откуда начал свой путь Вершинин.
— Вот, взгляните, — протянул толстый альбом Алексей Юрьевич. — Здесь все, кто отличился в нашей художественной самодеятельности с послевоенного времени. Есть тут и Лида. Тяжелые листы мягко ложились один на другой. Оживало прошлое. А вот наконец и она — Измайлова. Крупные, хорошо выполненные фотографии. Первое место на конкурсе школ, первое место в районе… Открытое лицо, заразительная улыбка.
— Вы разрешите мне взять фотографии с собой, это крайне необходимо для опознания.
— Понимаю, понимаю, берите, конечно. — Директор с грустью следил, как аккуратно срезанные лезвием бритвы фотокарточки улеглись в портфель следователя.
— В фотографиях тоже часть моей жизни, мои воспоминания, я ведь так и не успел обзавестись собственной семьей. Они были моей семьей, ею и остаются, — он показал на огромную доску Почета, занимавшую всю стену. — Вот они, мои дети, по всей стране теперь трудятся. Коля Черников, например, Герой Социалистического Труда, на целине работает. Комбайнер. Эта — заслуженная учительница. Вот летчик-испытатель, а вот знатный бригадир сталеваров, вы его фотографии наверняка не раз в газетах видели.
Из-под руки Алексея Юрьевича взгляд Вершинина выхватил растерянное лицо какого-то парнишки с удивительно знакомыми чертами.
— А это кто? — прервал он директора, указывая на фотографию.
— Это? Паша Зацепин. Умнейший парень, душа своего выпуска. У нас все воспитанники горя хлебнули немало, а Он вдвойне. Исключительно тяжелое детство, но не замкнулся, не озлобился. Юридический потом окончил, сейчас прокурором работает… Постойте, да ведь в вашей же области, кажется. Встречаться не приходилось, случайно?
— Приходилось, как же, и не раз… — усмехнулся про себя Вячеслав.
— Ну и что? Как он?
— Чудесный человек. Большой души человек, — ответил Вячеслав, чуть помедлив. — Павла Петровича у нас все уважают.
— Вот видите, — буквально расцвел старик, — таковы наши ребята.
Алексей Юрьевич проводил Вершинина до дамбы. Существовал, оказывается, и более короткий путь к поезду — через село, но Вячеславу захотелось еще раз подняться на холм, потрогать липы, пройтись лесной тропинкой, подышать полной грудью. Он шел и думал о хорошем человеке, с которым свела его сегодня жизнь, о трагической судьбе Лиды Измайловой, о хитросплетениях людских судеб.
17
На станцию Сосновая прибыли с опозданием на семь с лишним часов. Непроглядную темень разрывал лишь фонарь с грязным стеклом, раскачивающийся на небольшом станционном здании. Внутри царили грязь и запустение. Окурки и объедки валялись прямо на полу и подоконниках. В уголке, у потрескивающей печки, прикорнул какой-то пьяный.
Вершинин постучал в деревянное окошко с надписью: «Дежурный». Никто не отозвался. Постучал еще. Эффект оказался таким же. Тогда Вершинин заколотил по фанерной перегородке изо всех сил. Издалека послышался надсадный кашель. Окошко отворилось. Показалась большущая железнодорожная фуражка над старческим лицом.
— Ну, чего барабаните, — проскрипел дежурный недовольно. — Поезд проводить не дадут.
— Да ведь он, дед, минут пятнадцать как ушел. Где же ты столько времени был? — развеселился Вареников.
— Не твово ума дело. Имучество казенное осматривал, чтобы не сперли некоторые, — подозрительно покосился он на них.
— Ну хорошо, хорошо, — примирительно согласился Вареников. — Ты лучше скажи нам, товарищ дежурный по вокзалу, не приходила ли тут машина из колонии, приезжих встречать?
— Никто не приезжал с восьми утра, как я заступил.
— Не может быть, — усомнился Вершинин. — Нас должны встречать. Им из области звонили о нашем приезде.
— Э, мил человек, — посочувствовал тот. — Дык у нас линия, почитай, двое суток не работает. Между собой еще так-сяк переговариваемся, а дальше нет. А связь у нас с колонией своя. Вагонзаки-то иногда приходят…
— Вот и давай связывайся с колонией побыстрей, — прервал его Вареников и показал свое удостоверение. — Пусть высылают за нами транспорт.
Похожая на броневик автомашина прибыла через полчаса. Доехали быстро, дорога оказалась неплохой. Остановились у приземистого административного здания.
— Сабаев сейчас подойдет, — пообещал заспанный водитель, открывая перед ними двери.
Широкоплечий, ниже среднего роста мужчина вошел почти сразу за ними. Толстая меховая безрукавка скрывала знаки различия. Монгольского типа с узким разрезом глаза смотрели настороженно.
— Сабаев, — представился он и стал внимательно изучать удостоверения прибывших.
— Телеграмму нашу получили? — нетерпеливо спросил Вершинин.
Сабаев кивнул головой, не прерывая своего занятия.
— Нам бы хотелось встретиться с Купряшиным уже сейчас, времени у нас в обрез, — настойчиво продолжал Вершинин.
Он расстегнул свой портфель, покопался несколько минут в бумагах и положил на стол постановление об аресте и этапировании Купряшина. Сабаев мельком скользнул по нему взглядом.
— Ночь сейчас, — поморщился он. — Да и… как вам сказать… — пальцы его зацепили краешек постановления, поелозили им по столу и оттолкнули бумагу Вершинину, — Нет у нас сейчас Купряшина.
— Как это нет? А где же он? — недоумевающе уставились на него две пары глаз.
— Освобожден из колонии в шестнадцать ноль-ноль. Срок его кончился.
— Кто освобожден? — закричал Вареников.
— Спокойно, капитан, спокойно. — Сабаев вынул из ящика стола телеграмму-«молнию» и протянул ее Вареникову. — Посмотри сам.
— Чего смотреть, я текст и так могу рассказать.
— И все-таки посмотри. Там указано, когда она к нам поступила.
Вареников неохотно взял телеграмму.
— Не может быть, — простонал он. — В двадцать два часа десять минут, а ведь мы-то ее посылали…
— Это вы, а то почта.
Вареников в отчаянии схватился за голову. Вершинин устало опустился в кресло. Известие сразило и его.
— Успокойся, — попросил он Вареникова, — все равно ничего не исправишь.
Сабаев с видимым интересом наблюдал за поведением гостей. В узких глазах светилось сочувствие. Он понимал, как тяжело сейчас этим людям, проделавшим впустую почти две тысячи километров нелегкого пути.
— Что же теперь делать будем? — упавшим голосом спросил Вареников.
— Не знаю, домой возвращаться. — Вершинин спрятал в портфель ненужное теперь постановление.
Лицо Сабаева стало сосредоточенным. Из ящика письменного стола он достал карту области, развернул ее и стал внимательно рассматривать, ведя пальцем по извилистой черной линии. Затем палец, словно наткнувшись на невидимое препятствие, остановился и замер.
— Вот тут, — показал Сабаев какой-то кружочек, — в Алексеевском Купряшин должен быть через… — он беззвучно зашевелил губами, — через три часа.
Усталые гости равнодушно пропустили эти слова мимо ушей.
— Путь от нас освобождающимся один, — продолжал между тем подполковник, — железная дорога. Мы их билетами обеспечиваем заранее, чтобы лишнего на станции не болтались. Купряшину дали билет на пассажирский десятичасовой, вернее — двадцатидвухчасовой. Им он и должен был уехать. Другого пути нет.
Сабаев поднял телефонную трубку и принялся энергично вызывать станцию. Вскоре оттуда отозвались.
— Алло, алло, станция? — закричал он. — Кто говорит? Феклуша. Привет, дорогой. Из наших десятичасовым уезжал кто-нибудь? Уезжал. Какой из себя? — Он внимательно выслушал пространное описание. — Правильно. Это он, Купряшин. Благодарю. Видите, товарищи, я прав, Купряшин уехал именно этим поездом.
Вершинин с недоумением посмотрел на ставшего словоохотливым хозяйка. Он не совсем понимал, куда тот клонит.
Сабаев перехватил его взгляд и снова ткнул в ту же точку на карте:
— Станция Алексеевская, — объяснил он, — здесь единственное место, где можно перехватить Купряшина.
— Это как же: на ракете или автозаком? — нашел в себе силы сострить Вареников.
Начальник колонии взглянул на него неодобрительно и повернулся к Вершинину:
— Если соседа моего из воинской части попросить как следует, может, и получится. Мы иногда друг друга выручаем.
— Это что — летная часть? — поинтересовался Вершинин,
— Не совсем, но у него в распоряжении два вертолета. Вертолетом до Алексеевского часа полтора. Весь вопрос, согласится ли мой приятель помочь.
— Да Купряшин вышел на первой станции и следы теперь заметает, — вмешался Вареников. — Ведь настороже он, письмо-то от матери получил.
— Нет, он не сойдет, — уверенно ответил Сабаев, — сейчас он спокоен. В тонкости юриспруденции Купряшин, конечно, не вникал, но зато прекрасно понимает одно: будь у нас основания, ему отсюда бы самостоятельно не уехать. Ну а о том, как sac подвел транспорт, известно только нам троим. Решайте же, молодые люди, — закончил он, посматривая то на одного, то на другого, — пробуем или нет?
— Какой может быть разговор! — вскочили оба.
Минут через десять «газик» остановился у контрольно-пропускного пункта воинской части. Дежурный капитан откозырял подполковнику, и тут же в сопровождении сержанта отправил их в кабинет командира части. Несмотря на позднее время, майор не спал. Освещенный сбоку сильной настольной лампой, он просматривал какие-то графики. По-сибирски крепкий, как и Сабаев, он легко выскочил из-за стола и, по-кавалерийски косолапя, пошел им навстречу.
— Случилось что? — без особой тревоги спросил майор у Сабаева.
Тот не мешкая рассказал ему о создавшемся положении.
— Алексеевская, — задумчиво произнес майор. — Ну что же, мои ребята там садились несколько раз, метрах в пятистах от станции. Думаю, не промахнутся и сейчас.
Вскоре по его вызову на пороге появился молоденький вихрастый лейтенант. Он щурился на свет, прикрывая белесые ресницы.
— Помощь твоя нужна, Вася, — подозвал его к карте Щелочинин. — Надо подбросить следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, в Алексеевскую раньше пассажирского двадцатидвухчасового.
Вася посмотрел на карту, на часы, немного подумал и козырнул: «Будет исполнено».
Приземлились без происшествий. Летчики вышли вместе со своими пассажирами и показали дорогу.
Шум взлетающего вертолета они услышали уже на станции. Потом приобрели билеты, заняли в пустом зале ожидания скамейку, уселись поудобней и задремали. Разбудил стук в окошко. Дежурный желтым флажком показывал в сторону приближающегося поезда.
В дверь вагона пришлось долго барабанить, прежде чем появилось недовольное, заспанное лицо проводницы.
— Носит вас нелегкая по ночам, — пробурчала она, пропуская Вершинина и Вареникова в вагон.
Потихоньку, чтобы не разбудить спящих, они положили портфели на полки и вышли в коридор. Спать больше не хотелось. Алексеевская медленно уплывала в сторону.
— Сейчас начнем? — спросил Вершинин. — Или обождем, пока рассветет?
— Давай сейчас пройдем по плацкартным, там все на виду. Убедиться бы хоть, что он здесь.
— А узнаешь его? Ведь десять лет прошло.
— Как сказать, — растерялся Вареников. — Даже не подумал об этом! И все же узнаю, — в голосе его прозвучала уверенность. — Нюхом учую. Лишь бы был.
Стараясь не шуметь, они двинулись по вагонам, внимательно всматриваясь в спящих. Мешали торчащие перед глазами ноги, затрудняли путь узлы и чемоданы. Кое-где сонные проводники провожали их подозрительными взглядами.
— Стой, — неожиданно выдохнул Вареников и сжал руку Вершинина.
Проследив за направлением его взгляда, Вячеслав увидел худое, почти аскетическое лицо, которое серым пятном лежало на подушке. Человек спал. На секунду Вершинину показалось, что ресницы его дрогнули. Они замешкались лишь на секунду и тут же пошли вперед.
— Он, — возбужденно зашептал Вареников. — Я его сразу узнал.
Дверь служебного купе была чуть приоткрыта. За столиком клевала носом проводница.
— Мамаша, — тихо постучал ей по плечу Вареников.
Встрепенувшись со сна, она стала натягивать на голову форменную фуражку. Редкие седые волосы не слушались, вылезали в разные стороны.
— Спокойно, мамаша, спокойно. Мы из милиции, — поднес к ее глазам удостоверение Вареников. — Не волнуйтесь.
— Да я и не волнуюсь, с чего вы взяли, — низким голосом ответила она и положила фуражку на стол.
— В вашем вагоне, — понизив голос, продолжал Вареников, — находится особо опасный преступник, которого мы должны задержать. Я попрошу вас осторожно пройти и предупредить об этом бригадира. Пусть он свяжется со следующей станцией, чтобы нас встретили.
Опасливо озираясь по сторонам, проводница ушла.
В противоположной стороне вагона хлопнула дверь. Вареников выглянул в коридор. Все было спокойно. Никто не вышел и не вошел. Внезапно им овладело тревожное предчувствие. Он сделал несколько шагов вперед, к тому месту, где спал Купряшин. Полка оказалась пустой. Отбросив попавший под ногу рюкзак, капитан побежал по вагону, рванул одну ручку, другую. В тамбуре свистел ветер. Приоткрытая дверь постукивала в такт колесам. Пронзительный скрип тормозов на секунду заглушил все остальные звуки. Из разбитой от удара о стенку губы брызнула кровь, но Вареников не чувствовал этого. Он выпрыгнул из останавливающегося поезда и побежал назад, туда, где виднелся хвост поезда. Неожиданно споткнулся о что-то мягкое, полетел вперед, но приземлился удачно — на руки. Тут же вскочил, заметил подбегавшего Вершинина и опустился на корточки. Лицом вниз с неестественно подогнутой рукой на земле лежал человек. Они осторожно перевернули его на спину. Лицо представляло собой сплошное кровавое месиво. Человек не дышал. Вареников расстегнул верхнюю пуговицу его пиджака и достал из внутреннего кармана свернутый вчетверо листок. Это была справка об освобождении из колонии. В неясном свете нарождающегося дня с маленькой фотографии на них смотрело лицо Беды.
Жорж СИМЕНОН ОТПУСК МЕГРЭ
Повесть
ГЛАВА I
Ты их знаешь? — вполголоса спросила мадам Мегрэ мужа, резко обернувшегося вслед проходящей парочке. Прохожий, маленький кругленький коротышка, тоже оглянулся, растерянно улыбаясь. Казалось, он раздумывает не вернуться ли и пожать руку комиссару? Его спутницей была невысокая пухленькая толстушка. Почему то Мегрэ решил, что она бельгийка, быть может, из за светлой кожи и выпуклых, навыкате голубых глаз.
Они встречались здесь уже раз пять. Нахмурив брови, комиссар тщетно рылся в памяти. Где встречал он этого типа и его жену, похожую на раскрашенную марципановую фигурку?
С минуты на минуту в музыкальном павильоне курортного парка должен был начаться концерт. Музыканты были в пышной униформе и, точно генералы латиноамериканской армии, украшены золочеными галунами, красными эполетами и белыми перевязями на груди.
Сотни железных желтых стульев окружали рядами здание павильона, и почти все они были заняты. После жаркого дня к вечеру посвежело, ветерок колыхал листву, молочного цвета канделябры отбрасывали светлые блики на темную зелень. Отдыхающие двигались медленным шагом, прислушиваясь к звукам музыки Многие шли парами, но немало было и одиночек — мужчин и женщин. Ярко освещенное белое казино, перегруженное скульптурными украшениями по моде 1900 года, казалось, напоминало о давно прошедших временах.
— Она там! — шепнула мадам Мегрэ, движением головы указывая куда-то назад. Для нее это уже превратилось в игру и даже вошло в привычку наблюдать за мужем и догадываться, когда он чем-то заинтересован.
А что еще здесь делать? Они шагали медленно, беспечно поглядывая на деревья, дома, лица прохожих. Они готовы были поклясться, что находятся здесь уже целую вечность, хотя шел всего лишь пятый день их пребывания в Виши. Уже возник определенный распорядок дня, которого они неукоснительно придерживались.
Проходя каждый день в одни и те же часы по аллеям парка и вдоль берегов Аллье, по бульварам, усаженным платанами, по улицам, то шумным, то пустынным, они все время обращали внимание на какие-то лица и силуэты, постепенно ставшие частью их существования.
— Как тебе кажется, она вдова?
Та, которую они называли «дамой в лиловом», так как в ее туалетах всегда присутствовал этот цвет, в этот вечер, видимо, запоздала и нашла место лишь в последних рядах.
Накануне они рассмотрели ее получше. В восемь часов, за час до начала концерта, чета Мегрэ проходила, как обычно, близ музыкального павильона. Все стулья были свободны, кроме одного в первом ряду, где восседала «дама в лиловом». Она ничего не делала, не читала при свете ближайшего фонаря, не вязала, а сидела неподвижно, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой. На ней была белая шляпа, хотя большинство женщин ходили с открытой головой, плечи покрывала прозрачная, тоже белая, шаль, платье было ее излюбленного лилового цвета. Лицо удлиненное, узкое, губы тонкие…
— Должно быть, это старая дева, как по-твоему?
Мегрэ промолчал. Он не вел следствия, не проводил. Дознания, никого не выслеживал. Ничто не заставляло его наблюдать за людьми и пытаться докопаться до истины. Он интересовался порой каким то прохожим, старался отгадать его профессию, семейное положение, образ жизни. Но все это делал совершенно беспричинно, пожалуй, машинально.
«Дама в лиловом» была одной из чех, кого они заметили с самого начала. Определить ее возраст было трудно ей можно было дать и сорок пять, и все пятьдесят пять — годы не оставили на ее внешности заметного следа Сидела ли она, как сейчас, ходила ли, она не заговаривала ни с кем из соседей, не обращала внимания на прохожих и, несомненно, очень удивилась бы, если бы узнала, что Мегрэ без всякой профессиональной необходимости стремится проникнуть в тайну ее личности.
— Пройдем еще один круг?
К этому времени они всегда проходили близ музыкального павильона. В некоторые вечера эта часть парка была совсем пустынной. Они пересекали ее, направляясь к узкой аллее, идущей вдоль улицы со множеством светящихся вывесок. Там помещались отели, рестораны, магазины, кинотеатр, куда они еще не ходили. Другие проделывали тот же путь, что и они, те-м же неспешным шагом Некоторые срезали путь, чтобы скорей попасть в театр, и тогда можно было изредка видеть мужчин в смокингах и дам в вечерних платьях.
Эти люди приезжали сюда из Парижа или из провинции, из Брюсселя, Амстердама, Рима или Филадельфии; они принадлежали к определенным кругам общества со своими правилами, запретами, условностями. Одни были богаты, другие бедны Встречались тяжелобольные и такие, которым необязательно было соблюдать врачебные предписания. Здесь все были связаны между собой, сливаясь в однообразную массу.
Для Мегрэ все это началось самым банальным образом — как-то вечером в гостях у друга доктора Пардона. Мадам Пардон приготовила утку под особым соусом, блюдо, которое обычно ей удавалось на славу и которому Мегрэ всегда отдавал должное.
— Что, невкусно? — забеспокоилась хозяйка, заметив, что он, отведав немного, больше не притронулся к еде.
Пардон всмотрелся в гостя повнимательнее:
— Вам нехорошо?
— Немножко… Ничего, пройдет…
Тем не менее врач заметил, что Мегрэ побледнел и его лоб покрылся капельками пота.
Во время обеда комиссар пригубил стакан вина, но, когда ему предложили к кофе-рюмку старого арманьяка, решительно отказался:
— Нет, благодарю! Только не сегодня! Извините меня!
Несколько позднее Пардон предложил:
— Что, если мы пройдем на минуту в кабинет?
Мегрэ нехотя последовал за ним. Он предвидел, что все равно когда-нибудь придется показаться врачу, но все откладывал это со дня на день.
— Что-нибудь не ладится, Мегрэ?
— Не знаю. Возраст, как видно.
— Пятьдесят два?
— Пятьдесят три… Последнее время было много работы и неприятностей… Никаких сенсационных процессов, ничего потрясающего. С одной стороны, настоящая эпидемия нападений на одиноких женщин. Пресса подняла шумиху, а у меня, как обычно, не хватает людей. С другой стороны, уйма бумаг в связи с реорганизацией Уголовного управления…
— Как у вас с пищеварением?
— Неважно! Случаются, как, например, сегодня, рези в желудке. Чувствую какую-то тяжесть, усталость…
— Что, если я вас выслушаю? Здесь больно?
— Немного… Нет, пониже…
— Как давно вы не брали отпуск?
— В прошлом году удалось урвать недельку, потом меня вызвали, так как…
— А предыдущий год?
— Оставался в Париже.
— Вы переутомлены — факт! И неделя отпуска не избавит вас от усталости Как вы чувствуете себя при пробуждении?
— Мрачно. Не в духе.
— Так вот слушайте! Вы не больны и отличаетесь исключительным здоровьем, принимая во внимание ваш возраст и деятельность, зарубите это себе на носу раз и навсегда! Перестаньте прислушиваться к резям, неясным болям и разного рода ощущениям и не старайтесь осторожно подниматься по лестнице.
— Откуда вы знаете?
— А вы, допрашивая подозрительного субъекта, откуда все знаете?
Оба улыбнулись.
— Сейчас середина июля, в Париже отчаянное пекло, духота — дышать нечем. Вы немедленно отправитесь в отпуск, не оставляя, по возможности, адреса, во всяком случае, избегая телефонных разговоров с набережной Орфевр.
— Это можно! — пробурчал Мегрэ. — Наш домик в Мэн на Луаре…
— У вас еще будет время воспользоваться им когда-нибудь после отставки. У меня для вас другой план. Вы знаете Виши?
— Никогда там не бывал, хоть и родился близ Мулена, в пятидесяти километрах от него.
— Думаю, что лечение в Виши пойдет вам на пользу.
Пардон чуть не расхохотался, увидев выражение лица комиссара.
— Курс лечения?!
— Двадцать один день регулярного беззаботного существования.
— Без пива, без вина, без деликатесов?.
— А сколько лет вы этим пользовались вовсю? Все это у вас еще впереди, даже если и ограничить кое-что! Ну, решено?
Мегрэ сам удивился, когда, вставая, произнес:
— Решено!
— Когда?
— Через несколько дней, самое большее через неделю, когда улажу дела.
— Я направлю вас к одному из моих коллег… Доктор Риан. Я вам дам его адрес и телефон и завтра напишу ему.
— Благодарю, Пардон.
В гостиной он успокаивающе улыбнулся жене и только на улице Попенкур, у самого дома вскользь, словно о чем-то совсем незначительном, пробормотал:
— Отпуск мы проведем в Виши.
* * *
Доктор Риан успокоил его:
— Не думаю, чтобы ваш случай требовал строгого курса лечения: вы нуждаетесь просто в хорошей чистке организма. Сейчас я вам назначу режим и диету. Вы привыкли вставать рано и слегка закусывать? Так… Вы здесь с женой? В таком случае я не заставлю вас идти натощак через весь город. Давайте сначала ограничимся водой двух источников — Шомелье и Большой Решетки в парке. Начните утром с Большой Решетки, там вы найдете стулья для отдыха. Будете через каждые полчаса пить по стакану воды, как можно более горячей. К пяти часам вы проделаете то же у источника Шомелье.
Все это происходило давно, тогда он еще был новичком и путал один источник с другим. Теперь-то приспособился, как и остальные курортники, толпящиеся вокруг с утра до вечера.
— Тебе не скучно? — спросила его жена на второй день после приезда.
— С чего бы это? — удивился Мегрэ.
Он нисколько не скучал. Постепенно приспосабливался к новому ритму жизни, смотрел на лодки у яхт-клуба, любовался молодыми людьми на водных лыжах. Наконец, и в парке было интересно. Мадам Мегрэ не переставала удивляться его спокойствию и послушанию. Ее это даже беспокоило. Тут-то она и открыла причину его поведения. Он словно играл в детектива: наблюдал людей, замечал как бы невольно малейшие детали, разделял их на категории. Старался угадывать историю каждого.
Парочка, которую он прозвал «потешными весельчаками», очень занимала его. Этот толстяк, все время порывающийся пожать ему руку, его жена, похожая на конфетку… Чем бы они могли заниматься в обычной жизни? Может быть, узнали комиссара по газетным фотографиям?
И другая личность заинтриговала его… «Дама в лиловом». Она также проводила курс лечения, только у Большой Решетки, где они виделись ежедневно. У нее было здесь свое место, в стороне от других, близ газетного киоска. Она отпивала лишь один глоток, после чего полоскала стакан, вытирала его и снова вставляла в соломенный футляр, всегда полная достоинства и далекая от окружающей суеты. Три—четыре человека с ней здоровались. После обеда супруги Мегрэ ее уж не встречали. Может быть, она ходила на гидротерапию? А может, врач предписал ей отдых?
В этот вечер «дамы в лиловом» они больше не видели, так как никогда не дожидались окончания концерта и рано уходили, шагая по пустынным улицам.
Какой же это был день? Пятый, шестой? Мадам Мегрэ совсем была выбита из колеи: по утрам не нужно было варить кофе; в семь часов им приносили на подносе легкий завтрак со свежими рогаликами и газету из Клермон-Феррана, регулярно посвящавшую две странички курортной жизни в Виши. У Мегрэ вошло в привычку прочитывать их от первой до последней строки, так что он всегда был в курсе всех местных происшествий. Он читал даже извещения о смерти и объявления.
Мегрэ в кресле у окна курил свою новую трубку. Перед ним дымилась чашка кофе — он старался продлить удовольствие как можно дольше. Взяв в руки газету, он невольно вскрикнул.
— В чем дело? — испугалась жена, выбегая из ванной.
— Погляди!
На первой полосе, посвященной Виши, была помещена фотография «дамы в лиловом», на ней она была несколько моложе и силилась изобразить улыбку,
— Что с ней случилось?
— Убита.
— Прошлой ночью?
— Если б это произошло прошлой ночью, газета не могла бы сообщить об этом сегодня утром. Накануне.
— Но мы видели ее на концерте в павильоне.
— Да, около девяти часов. Она вернулась домой на улицу Бурбонне, недалеко отсюда. Я и не сомневался, что мы почти соседи. Успела войти в дом, снять шляпу, накинуть шаль, войти в гостиную…
— Как ее убили?
— Задушили…
— Она не курортница?
— Нет, она живет в Виши круглый год, владелица двухэтажного дома, сдает меблированные комнаты жильцам верхнего этажа.
Мегрэ все еще сидел в кресле, и жена понимала, чего это ему стоило. — Думаешь, это ограбление?
— Убийца все перерыл, но как будто ничего не у^нее. Драгоценности и деньги не тронуты, однако все ящики раскрыты настежь.
Он молча глядел в окно.
— Знаешь, кто ведет следствие?
— Нет, конечно.
— Лекер, бывший мой инспектор. Теперь он шеф уголовной полиции в Клермон-Ферране. Он сейчас здесь и даже не подозревает, что я рядом.
— Собираешься зайти к нему?
Мегрэ промолчал.
ГЛАВА II
Было уже без пяти минут девять, но Мегрэ все еще не ответил на вопрос жены. Строгое соблюдение режима стало для него, можно сказать, делом чести. Он старался точно, без малейшего отклонения выполнять все предписания врача.
Спокойно дочитал газету до конца, допил кофе, побрился, принял душ, и они спустились вниз.
Хозяин в белой куртке и поварском колпаке на голове уже подстерегал его в коридоре:
— Месье Мегрэ, жаловаться вам не приходится. О вас не забывают, вот даже приготовили вам хорошенькое преступление. Надеюсь, собираетесь им заняться?
— Все, что происходит за пределами Парижа, не в моей компетенции.
Вместо того чтобы свернуть на улицу Овернь по направлению к реке и детскому парку, он с самым невинным видом двинулся направо. Конечно, им и раньше приходилось менять маршрут, но это было на обратном пути в город. Жена всегда удивлялась его умению ориентироваться. Он не изучал плана города и, казалось, шел наугад, углубляясь в какие-то переулки. И вдруг она узнавала неожиданно возникавший перед ними фасад отеля с двумя кустами в зеленых кадках.
На сей раз они повернули направо, прошли еще немного и увидели толпу зевак, глазеющих на дом по другую сторону улицы. Веселый огонек блеснул в глазах мадам Мегрэ. Комиссар явно колебался. Он остановился, чтобы выбить трубку, постучал ею о каблук и медленно, не спеша стал набивать вновь. В такие моменты он казался жене большим ребенком.
В душе Мегрэ происходила борьба. Наконец он смешался с толпой зевак, глядя, как и они, на дом напротив, перед которым стояла машина и у дверей дежурил полицейский. Дом, как большинство зданий на этой улице, был свежевыкрашен в бледно-розовый цвет, а ставни и балкон в светло-зеленый. На мраморной табличке можно было прочесть написанное вычурными буквами название «Ирис».
Зеваки обменивались комментариями:
— Здесь как будто любовная драма…
— Ну вот еще! Ей же было около пятидесяти…
Мегрэ уже собрался было уходить, когда из дома вышел высокий лохматый парень, перешел улицу и зашагал к нему.
— Дивизионный комиссар просил вас зайти.
Жене с трудом удалось скрыть улыбку:
— Где тебя ждать?
— На обычном месте, у источника.
Значит, его узнали из окна. С достоинством, не спеша пересек он улицу. У входа в коридоре на бамбуковой вешалке висели две шляпы. Он водворил туда и свою соломенную, купленную недавно.
— Входите, патрон, — услышал он веселый голос и увидел знакомое лицо.
«Лекер», — сразу узнал его Мегрэ, хотя они не виделись больше пятнадцати лет с той поры, как Дезире Лекер работал инспектором в бригаде Мегрэ на набережной Орфевр.
— О, патрон, сколько воды утекло! И мы не помолодели, нет, успели отрастить животик и отхватить чины — теперь я начальник полицейского управления в Клермон-Ферране, благодаря чему и свалилось мне на шею это отвратное дело! Входите же!
Он ввел его в голубую комнату и уселся за стол, заваленный бумагами Не без осторожности Мегрэ присел на хрупкий золоченый стульчик в стиле Людовика XVI. В его глазах, должно быть, читался вопрос, так как Лекер поспешил сказать:
— Хотите знать, конечно, откуда нам известно, что вы здесь? Прежде всего Муане, вы ею не знаете, он ведает полицией в Виши, встретил ваше имя в списках постояльцев отеля и, разумеется, не посмел вас беспокоить, но его люди видели вас ежедневно.
— Вы приехали вчера?
— Из Клермон-Феррана с двумя моими людьми, один из них, молодой Дисель, засек вас на тротуаре. Я не решался беспокоить вас. Ведь вы приехали лечиться, а не подавать нам руку помощи. К тому же я знал, что, если дело вас заинтересует, вы в конце концов… — Он смешался.
Мегрэ слушал с мрачным видом.
— Убийство с целью ограбления?
— Отнюдь!
— Из ревности?
— Маловероятно. Хотя прошли уже сутки, а я не продвинулся вперед ни на шаг и знаю ненамного больше, чем вчера утром, когда только прибыл
Он порылся в ворохе бумаг на столе, заменяющем ему бюро.
— Жертву зовут Элен Ланж. Сорок восемь лет. Родилась в Марсильи, в десяти километрах от Ла-Рошели. Я телеграфировал в мэрию Марсильи и узнал, что ее мать, вдова, умерла, она держала маленькую лавочку на площади у церкви У нее было две дочери: Элен, старшая, училась на курсах машинописи в Ла-Рошели, работала в конторе, потом уехала в Париж, где след ее теряется. Она никогда не требовала выписки из метрики, это заставляет предположить, что она не была замужем. К тому же и на удостоверении личности значится «незамужняя». Сестра младше ее на шесть—семь лет, была маникюршей. Тоже уехала в Париж, но через десять лет вернулась домой.
Должно быть, ей удалось скопить приличную сумму денег, позволившую купить парикмахерскую, которую она держит до сих пор. Я пытался звонить, но застал лишь ее помощницу, потому что хозяйка уехала в отпуск на Балеарские острова. Телеграфировал ей в отель, чтобы она срочно вернулась, и жду ее сегодня. Сестра тоже не замужем, других родных нет…
У Мегрэ на лице невольно появилось выражение профессиональной заинтересованности. Можно было подумать, что это он ведет следствие, а один из сотрудников дает ему отчет.
Пока Лекер докладывал, он отметил две—три детали в этой комнате, очевидно гостиной, имелись фотографии одной лишь Элен Ланж. На тумбочке ее можно было лицезреть малышкой, в возрасте пяти—шести лет, с жиденькими косичками и в слишком длинном платье. На стене висел большой портрет хорошей работы, где она, двадцатилетняя, была снята в романтической позе. На третьей она была изображена на берегу моря в белом платье, край которого ветерок откинул как флаг, обеими руками она придерживала светлую широкополую шляпу.
— Известно, при каких обстоятельствах совершено убийство?
— Трудно восстановить происшедшее Позавчера, то есть в понедельник вечером, она пообедала одна в кухне, убрала посуду и вышла, потушив везде свет. Если вас это интересует, она съела два яйца всмятку. На ней были лиловое платье и белая шаль, а также белая шляпа
Мегрэ поколебался, но в конце концов не мог удержаться и сказал:
— Знаю!
— Откуда? Уже вели дознание?
— Нет, но в понедельник вечером я ее заметил перед павильоном, где давали концерт.
— Не знаете, когда она покинула парк?
— Нет, мы ушли в половине девятого. — Она была одна?
— Она всегда была одна.
Лекер и не пытался скрыть удивления:
— Вы ее замечали и раньше?
Улыбаясь, Мегрэ утвердительно кивнул головой
— Почему?
— Да ведь как здесь проводят время? Гуля-ют, разглядывают друг друга, встречаются в одних и тех же местах в одно и то же время.
— Составили уже себе мнение?
— О чем?
— О женщине, что это за тип?
— Она, конечно, необычная. Это все, что знаю.
— Так… Ну, продолжаю. Две из трех комнат верхнего этажа сданы: первая занята инженером из Гренобля, неким Малецким с женой. Они вышли несколькими минутами позже мадемуазель Ланж и отправились в кино, вернулись в половине двенадцатого. Все ставни были, как обычно, закрыты, но из окон нижнего этажа сквозь щели пробивался свет. Войдя в коридор, они заметили, что свет идет из-под двери гостиной и спальни мадемуазель.
— Они что-нибудь слышали?
— Малецкий ничего не слышал, его жена, правда неуверенно, говорит о каких-то звуках, голосах… Они почти тотчас же легли, и ничто их не обеспокоило до самого утра. Другую комнату снимает мадам Вирво, вдова, живет в Париже. Это внушительная особа лет шестидесяти — она ежегодно приезжает в Виши спустить несколько килограммов. У госпожи Ланж она впервые, в предыдущие годы останавливалась в отеле. Похоже, что она знавала лучшие времена, муж ее был богатым человеком, но слишком расточительным и оставил ее в трудном положении. Короче, вся она в фальшивых драгоценностях и говорит языком плохих театральных пьес. Она вышла в девять часов, никого не видела и оставила дом в полной темноте.
— У каждого жильца есть ключ?
— Да. Вдова Вирво отправилась в клуб на бридж и ушла оттуда немногим раньше полуночи, вернулась, как обычно, пешком. Машины у нее нет. У Малецких имеется небольшое авто, но они редко им пользуются в Виши, и оно чаще всего стоит в гараже.
— Свет горел по-прежнему?
— Погодите, патрон. Разумеется, я не мог не допросить мадам Вирво, как только преступление было обнаружено. Не знаю, может, у нее сильно развито воображение, но она утверждает, что на углу бульвара де Ла-Саль и улицы Бурбонне она почти налетела на мужчину. От неожиданности он отскочил, закрыв рукой лицо, чтобы не быть узнанным.
— Но она все же его приметила?
— Вирво утверждает, что узнала бы его. Она испугалась и все же обернулась в то время, как мужчина устремился к центру города. Это очень большой, сильный человек, огромная грудь, как у гориллы, говорит она, шел быстро, наклонившись вперед.
— Какого возраста?
— Не молод, но и не стар. Очень сильный, страшный такой. Она испугалась, побежала и не успокоилась, пока не сунула ключ в дверь…
— Свет все еще был виден на первом этаже?
— Нет, как раз нет. Света не было, если только можно довериться ее показанию. Она ничего не слышала, легла и была так взволнована, что приняла ложечку мятного спирта на кусочке сахара.
— Кто обнаружил преступление?
— Минутку, патрон. Мадемуазель Ланж соглашалась сдавать комнаты только очень приличным людям, но не держала пансион. Она не разрешала готовить и не терпела даже спиртовки для утреннего кофе. К восьми часам мадам Малецкая спустилась, как обычно, с термосом в соседний бар за кофе и рогаликами. Ничего особенно она не заметила. Так же было и по возвращении, кругом тихо, что ее удивило, ибо госпожа Ланж обычно вставала рано, и слышно было, как она ходит туда и обратно из комнаты в комнату… «Уж не заболела ли она?» — спросила Малецкая мужа за завтраком, так как хозяйка часто жаловалась на нездоровье.
Малецкий попытался открыть комнату своим ключом, но это ему не удалось. В конце концов он позвонил в полицию из того же бара, куда его жена ходила за кофе. Это почти все. Прибыла полиция со слесарем. Ключа от гостиной так и не нашлось. Другие двери в кухне и в спальне были заперты изнутри, ключ в замке. В гостиной на краю ковра лежала распростертая Элен Ланж. Смотреть на нее было страшно — ее задушили. На ней было все то же лиловое платье, но шаль и шляпа на вешалке в коридоре. Все ящики были раскрыты настежь, все в них разворочено, содержимое вывалено, бумаги и картонные коробки разбросаны на полу.
— Следы насилия есть?
— Даже и попытки нет. Так же как и ограбления, насколько нам известна. Отчет в «Трибюн» довольно точен. В одном ящике обнаружены пять банкнотов по сто франков. Ручная сумочка была раскрыта, содержимое вывалено и разбросано.
— Дом этот давно куплен?
— Девять лет назад, она приехала тогда из Ниццы, где жила некоторое время.
— Она работала там?
— Нет, занимала довольно скромное помещение близ бульвара Альберта I и жила как будто на ренту.
— Путешествовала?
— Почти ежемесячно уезжала на два—три дня.
— Куда ездила, известно?
— На этот счет она помалкивала.
— А здесь?
— Первые два года она не брала жильцов. Затем стала сдавать три комнаты на время сезона, но три комнаты не всегда были заняты. Так же, как и сейчас. Голубая комната свободна, тут есть белая, розовая и голубая комнаты…
— Гостей она принимала?
— По словам соседей, никогда.
— Письма?
— Время от времени приходило письмо из Ла-Рошели. Мы допросили почтальона — проспекты, магазинные счета из Виши.
— Имелся ли у нее счет в банке?
— В «Лионском кредите». Она делала регулярные ежемесячные взносы по пять тысяч франков, не всегда в одни и те же дни. Да, вот еще: во время сезона взносы были крупнее, но не за счет жильцов, оплачивающих наем комнат.
— Чеки она подписывала?
— Поставщикам, почти всегда местным или из Мулена, куда ездила время от времени. Иногда оплачивала чеками вещи, заказанные в Париже по каталогу. Там в углу эти каталоги свалены целой грудой.
Лекер разглядывал Мегрэ, белый пиджак которого так отличал его от другого Мегрэ, знакомого по работе на набережной Орфевр.
— Так что вы об этом думаете, патрон?
— Что мне нужно идти. Жена меня ждет.
— Ах да, первый стакан воды…
— Полиции в Виши и это известно? — пробурчал он.
— Вы вернетесь? Уголовная полиция не имеет отделения в Виши, каждый вечер приходится возвращаться машиной в Клермон-Ферран — шестьдесят километров. Начальник местной полиции предложил мне комнату с телефоном, но я предпочитаю работать на месте., Мои люди пытаются разыскать прохожих или соседей, которые видели бы, когда возвращалась Элен Ланж. Ведь неизвестно, сопровождал ли ее кто, или встретился ей на улице, или…
— Извините меня, старина, жена…
— Ах да, патрон… Не хотите ли, мы вас подвезем? Моя маши, на здесь, и молодой Дисель ждет…
— Благодарю… Я здесь хожу только пешком.
И он зашагал быстрее обычного, чтобы нагнать упущенное время.
Выпив свой первый стакан, он нашел жену на месте. Она не задавала ему вопросов, но внимательно следила за малейшим жестом и выражением лица. С газетой на коленях, Мегрэ рассматривал сквозь листву ослепительно белое облачко, появившееся на небе.
В Париже он порой жаловался, что утерял некоторые ощущения, о которых частенько вспоминал с сожалением: о теплом прикосновении ветерка к щеке, об игре света в листьях дерева, о скрипе гравия под ногами и даже о запахе пыли Здесь он преобразился. Не переставая думать о своей беседе с Лекером, он в то же время чувствовал, что его обволакивает окружающее и ничто происходящее не ускользает от него.
Отдыхающие женщины обычно составляли стулья в кружок и, склоняясь доверительно друг к другу, обменивались признаниями и откровениями, хотя были знакомы лишь несколько дней. Они беседовали о своих болезнях, о детях и внуках, показывали друг другу их фотографии. Редко кто садился в стороне, в отдалении, как «дама в лиловом».
Элен Ланж была одинока, но она не хотела, чтобы ее причислили к категории старых дев, чтобы ее жалели, и поэтому ходила очень прямо, легкой походкой, с высоко поднятой головой.
— Они напали на след? — Мадам Мегрэ тяготила его задумчивость. В Париже она не посмела бы расспрашивать мужа во время следствия. Здесь же, часами вышагивая вместе, бок о бок, они привыкли думать вслух. Это не было беседой, всего лишь несколько слов, замечаний, достаточных, чтобы понять течение мысли другого.
— Нет, они ждут сестру.
— Других родных нет?
— Нет. Как будто нет.
— Тебе пора пить второй стакан.
Они снова подошли к холлу, где возвышались головы подавальщиц. Элен бывала здесь ежедневно Было ли то предписание врача, или служило лишь предлогом для прогулки?
— О чем ты думаешь?
— Почему она избрала Виши? Она обосновалась здесь около десяти лет назад. Значит, ей было тогда тридцать семь, и она как будто не нуждалась в заработке первые два года, так как не сдавала комнат…
— Ну и что? — возразила жена.
— Но ведь существуют сотни малых и средних городов, где она могла бы осесть, не считая Ла-Рошели, где провела детство и юность Сестра ее вернулась домой и там осталась.
— Возможно, сестры не ладили между собой…
— Ну, не так просто! Прежде чем перебраться в Виши, она пять лет прожила в Ницце, — пояснил он жене.
— Немало мелких рантье…
— Да, конечно! Мелкие рантье, но также люди всех слоев общества. Эта толпа напоминает мне о Ницце Здесь тоже, должно быть, немало лиц, славящихся своими любовными похождениями, всяких бывших театральных и кинозвезд. Мы открыли здесь целый квартал шикарных особняков, где еще можно увидеть лакеев в полосатых жилетах… На холмах прячутся какие-то богатые и таинственные виллы. Как в Ницце.
— И какие выводы ты из этого делаешь?
— Никаких. Ей было тридцать два года, когда она переехала в Ниццу, и там она была одна, как и здесь. Обычно к одиночеству приходят позже…
— Бывают сердечные драмы…
— Не при такой внешности.
— Существуют и разбитые семьи…
— Восемьдесят пять процентов женщин обычно снова выходят замуж…
— А мужчин?
Он широко улыбнулся и бросил ей шутя:
— Все сто процентов. В Ницце население непостоянно, там много филиалов парижских магазинов, несколько казино. В Виши десятки тысяч курортников меняются каждые двадцать один день. Где-нибудь в другом месте ее бы знали, заинтересовались бы ею. Но не в Ницце и не в Виши. Но может быть, ей нужно было что-то скрывать?
— Ты должен встретиться с Лекером?
— Он просил заходить к нему в любое время. И по-прежнему называет меня патроном, как тогда, когда был у меня на службе…
— Все они так!
— Это, верно, по привычке.
— Может быть, скорее из чувства привязанности?
Он пожал плечами, и они повернули обратно. На сей раз они пошли через старый город, останавливаясь порой перед трогательными предметами в витринах антикваров.
Они знали, что за столом все пансионеры втихомолку наблюдают за ними, и давно привыкли к этому. Мегрэ добросовестно старался следовать советам доктора Риана: глотать только тщательно пережеванную пищу, хотя бы это было картофельное пюре, не нанизывать на вилку новый кусок, не проглотив предыдущий, за едой не пить более одного или двух глотков воды, немного подкрашенной вином. Мегрэ, несколько раз пыхнув трубкой, поднялся по лестнице, чтобы немного отдохнуть не раздеваясь. Сквозь ставни проникал слабый свет, жена, сидя в кресле, просматривала газету. Спросонья он слышал шелест переворачиваемых страниц. Прошло не более двадцати минут, когда раздался стук в дверь. Жена вышла в коридор, послышался шепот, затем она на несколько минут спустилась вниз.
— Это Лекер.
— Что-нибудь новое?
— Приехала сестра. Ее проводили в морг для опознания трупа. Лекер ждет на улице Бурбонне. Он спрашивает, хочешь ли ты присутствовать при допросе?
Мегрэ, ворча, уже встал.
— Подождать тебя у источника?
Источник, стакан воды, железный стул — значит, было уже пять часов дня.
— Это недолго. Лучше жди меня на одной из скамеек около площади, где играют в шары.
Он колебался, брать ли соломенную шляпу.
— Боишься, что посмеются над тобой? — усмехнулась мадам Мегрэ.
Тем хуже. В конце концов у него отпуск. И он лихо надвинул шляпу на голову.
Толпа зевак все еще продолжала глазеть на дом, по-прежнему охраняемый полицейским.
— Садитесь, патрон! Если поставите кресло в углу близ окна, вы увидите ее при полном освещении.
— А вы ее еще не видели?
— Я сидел в ресторане, когда мне сказали, что она в помещении полиции. Ее привезут сюда.
Сквозь тюлевые занавески они заметили подъезжающую черную полицейскую машину и за ней длинное открытое красное авто. Свежий загар на лицах сидящей в нем пары красноречиво свидетельствовал о хорошо проведенном отпуске. Женщина и мужчина пошептались немного, низко склонившись друг к другу, и после короткого поцелуя женщина вышла из машины, а ее спутник, закурив сигарету, остался за рулем. Это был смуглый молодой человек с резкими чертами лица, в желтой трикотажной тенниске, облегавшей его спортивную фигуру. Равнодушно, без всякого любопытства оглядывал он дом.
— Комиссар Лекер. Полагаю, вы Франсина Ланж?
— Верно. — Она кинула взор на Мегрэ, которого ей не представили.
— Мадам или мадемуазель?
— Я не замужем, если вас это интересует. Там, в машине, мой друг. Черта с два! Я слишком хорошо знаю мужчин, чтоб выйти замуж за одного из них. Да и не так-то просто отделаться от них при желании!
Это было красивое создание — ей никак нельзя было дать сорока лет. Прохаживаясь по узкой комнате, она вызывающе демонстрировала прекрасные формы. На ней было платье огненного цвета, почти прозрачное. Можно было поклясться, что от нее все еще пахнет морем.
— Вашу телеграмму мы получили только вчера вечером. Люсьену пришлось просто из кожи вылезти и здорово намаяться, чтобы раздобыть билеты на первый самолет. В Орли мы сели в свою машину, которую оставили там перед отъездом…
— Полагаю, это о вашей сестре идет речь?
Она спокойно кивнула головой, без всякого волнения.
— Может быть, присядете?
— Спасибо. Можно курить? — спросила она, глядя на клубы дыма из трубки Мегрэ, словно хотела сказать: уж ежели этот тип может так рьяно попыхивать трубкой, то и мне позволительно закурить сигарету…
— Прошу вас! Думаю, что это преступление вас так же поразило, как и нас?
— Конечно! Я не ожидала этого.
— Вы не знаете, были ли у нее какие-либо враги?
— Откуда они могли у нее быть?
— Когда вы ее видели в последний раз?
— Шесть или семь лет назад, не скажу точно. Помню, что было это зимой, в метель, она не предупредила о своем приезде, и я очень удивилась, когда она преспокойно вошла в мой парикмахерский салон…
— Вы с ней ладили?
— Как вообще сестры между собой. Я не так уж хорошо ее знала из-за разницы в возрасте. Она кончала школу, когда я только поступила, потом она посещала курсы в Ла-Рошели задолго до того, как я стал маникюршей. Потом она уехала из города.
— Сколько ей тогда было?
— Погодите. Я уже год была в обучении, значит, мне было шестнадцать. Прибавьте семь… Ей было двадцать три года.
— Вы ей писали?
— Редко, у нас в семье это не было принято.
— Ваша мать уже умерла тогда?
— Нет, она умерла через два года, и Элен приехала для раздела имущества. Хотя и делить-то было нечего. Лавочка и гроша не стоила.
— Что делала ваша сестра в Париже?
Мегрэ упорно разглядывал ее, вспоминая силуэт и лицо умершей. Между ними было мало общего. У Франсины глаза были голубыми, волосы золотистыми, может быть, слегка подкрашенными. На первый взгляд это была разбитная особа, бой-баба, наверное, обслуживающая клиентов с преувеличенной любезностью. Она не пыталась изображать благопристойную особу из высшего общества, а, напротив, как бы с удовольствием подчеркивала свою вульгарность.
Не прошло и получаса после посещения морга, а она весело отвечает на вопросы Лекера и даже по привычке кокетничает.
— Что она делала в Париже? Думаю, что была машинисткой в конторе, но я к ней не ходила. Мы ведь не больно-то схожи друг с другом… В пятнадцать лет я уже заимела дружка, шофера такси, и потом у меня было немало других, не думаю, чтоб такое было в духе Элен, или же она хорошо скрывала свои делишки…
— На какой адрес вы ей писали?
— Сначала, я помню, был какой-то отель на авеню Клиши, но название я позабыла… Она частенько меняла отели, потом у нее была квартира на улице Нотр-Дам де-Лоретт, забыла, какой номер…
— Когда вы приехали в Париж, вы навестили сестру?
— Да, конечно, и я была удивлена, как она хорошо устроилась. Я даже сказала ей об этом. У нее была прекрасная комната окнами на улицу, гостиная, кухонька и настоящая ванная комната.
— Был ли какой-нибудь мужчина в ее жизни?
— Не знаю… Мне хотелось остаться на несколько дней у нее, пока найду себе жилье, но она ответила, что проводит меня в очень чистенький и недорогой отель, она, мол, не может жить с кем-нибудь вместе.
— Даже три—четыре дня?
— Так я поняла.
— Это вас не удивило?
— Не очень-то… Знаете, меня удивить нелегко. Если люди позволяют мне поступать так, как мне вздумается, то и они также могут делать что хотят, и вопросов я не задаю.
— Сколько времени вы жили в Париже?
— Одиннадцать лет.
— Все время работали маникюршей?
— Сначала маникюршей, потом косметичкой. Я изучила это ремесло на Елисейских полях.
— Вы жили одна?
— Когда одна, когда нет…
— Встречались с сестрой?
— Можно сказать, никогда.
— Так что вы почти ничего не знаете о ее жизни в Париже?
— Знаю только, что она работала.
— Когда вы вернулись в Ла-Рошель, у вас были большие сбережения?
— Достаточные…
Он не спрашивал, как заработала она эти деньги, и она об этом не говорила, но каждый понимал другого.
— Вы никогда не были замужем?
— Я уже вам отвечала: я не так глупа…
Обернувшись к окну, откуда видно было, какие позы принимал ее спутник, восседая за рулем красного авто с сигаретой в зубах, она воскликнула, посмеиваясь:
— Поглядите, какой у него дурацкий вид! Рожи-то какие корчит! Выпендривается как!
— Но ведь вы же…
— Ну и что! Это мой служащий и к тому же прекрасный мастер, в Ла-Рошели мы живем врозь — не люблю я, чтоб он путался у меня под ногами… В отпуске еще куда ни шло!
— Ваша сестра никогда не имела детей?
— Почему вы об этом спрашиваете?
— Право, не знаю, ведь каждая женщина…
— Насколько мне известно, не имела. Ведь мы бы уж знали, правда?
— А у вас?
— У меня был один. Я жила тогда в Париже, пятнадцать лет точу назад. Первой моей мыслью было отделаться от него, и так, конечно, было бы лучше, но сестра посоветовала его оставить.
— Значит, вы тогда виделись с сестрой?
— Да, я и пошла-то к ней из-за этого… Мне нужно было поговорить с кем-нибудь из близких. Вам это может показаться смешным, но бывают моменты, когда вспоминаешь о семье. Короче, у меня был сын… Филипп. Я поместила его у кормилицы в Вогезах.
— Почему там? У вас там родные, друзья?
— Ничего подобного. Элен нашла этот адрес, не знаю, в каком бюллетене. Я ездила туда несколько раз за два года. Ему там было хорошо, у очень милых крестьян, ферма была чистенькой, но однажды они сообщили мне, что он утонул… — Она задумалась на минутку, пожала плечами: — В конце концов, оно, быть может, и лучше для него!
— Не знаете, была ли у вашей сестры какая-нибудь подруга?
— Не думаю, уже в Марсильи она глядела на других девушек свысока, и ее дразнили «принцессой». Думаю, что и в школе машинописи и стенографии было то же самое…
— Она была гордячка?
Она поколебалась, раздумывая:
— Не знаю… Не то слово. Нет. Она не любила людей… не любила общаться с ними. Вот именно: предпочитала быть одна. Она любила себя, ей нравилось жить так, как есть. В сущности, она была очень довольна собой…
Слова эти поразили Мегрэ: он мысленно вновь увидел «даму в лиловом», попытался определить выражение ее лица и не сумел. Франсине это удалось: «Она очень любила себя». Так любила, что только в одной комнате были три ее фотографии, и в других комнатах, куда он не заходил, несомненно, были тоже. И ни одного портрета матери, сестры, друга или подруги. На берегу моря она тоже была снята одна.
— Я предполагаю, вы ее единственная наследница? Мы не нашли завещания в ее бумагах, правда, они разбросаны преступником, но не вижу, по какой причине он мог бы унести завещание.
— Когда будет погребение?
— Это зависит от вас.
— Как вы думаете, где я должна ее похоронить? — Понятия не имею…;
— Я здесь никого не знаю. В Марсильи вся деревня сбежалась бы на похороны просто из любопытства. Послушайте, если я вам больше не нужна, я поищу себе номер в отеле и приму ванну.
— Жду вас завтра утром…
Уходя, она обернулась на мгновение к Мегрэ, словно спрашивая, что он там делает молча в углу, и нахмурила брови.
Может быть, она узнала комиссара?
В окно они увидели, как она села в машину, наклонилась к спутнику, сказала несколько слов, и машина отъехала. Мужчины переглянулись, и Лекер первый произнес, слегка улыбаясь:
— Ну, что скажете?
Попыхивая трубкой, Мегрэ пробурчал:
— Что и говорить!
Беседовать ему не хотелось, он не забыл, что его ждет жена.
— До завтра, старина…
ГЛАВА III
Мегрэ сидел на своем обычном месте в зеленом кресле у открытого окна. Здесь он ощущал себя скорее в отпуске, а не на лечении, и смерть «дамы в лиловом» вписывалась в распорядок его безмятежной жизни. Накануне вечером они, как обычно, обошли парк. Наступал час театров, казино, кинотеатров. Люди выходили из отелей, пансионов, меблированных комнат, и каждый выбирал себе развлечение по душе. Мегрэ машинально искал прямой, полный достоинства силуэт, удлиненное лицо, высоко вздернутый подбородок и взгляд, беспокойный и жесткий. Только один человек в городе знает тайну дома «Ирис»: тот, кто задушил одинокую женщину. Прогуливается ли он в парке, направляется сейчас в театр или в кино?
Мегрэ разжег трубку, перевернул страницу газеты и невольно вздрогнул, увидев вдруг свою фотографию на две колонки, снятую без его ведома в тот момент, когда он пил один из своих обязательных стаканов воды.
«МЕГРЭ ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ?
Из соображений скромности мы не сообщали нашим читателям о присутствии среди нас комиссара Мегрэ, который находится в Виши не по делам службы, а для того, чтобы воспользоваться, как и другие выдающиеся личности до него, лечебными свойствами наших вод. Удержится ли комиссар, однако, от желания раскрыть тайну улицы Бурбонне?
Его узнали, когда он выходил из дома, где было совершено преступление, вместе с симпатичным комиссаром Лекером, начальником уголовной полиции в Клермон-Ферране, ведущим следствие.
Возьмет ли верх необходимость лечения или…»
Он отбросил газету и пожал плечами. До девяти часов все его дела совершались по твердо установленному распорядку, и, когда мадам Мегрэ в розовом костюме показалась в дверях, они направились к лестнице.
— Доброе утро, дамы и господа!
Это был неизменный привет хозяина. Мегрэ заметил силуэт на тротуаре и отблеск света на объективе фотоаппарата.
— Он уж час как ожидает вас… Это не из «Монтаньи», где пишут о вас в утреннем номере, а из «Трибюн», из Сент-Этьенна…
Человек с камерой был высок, с рыжей шевелюрой, одно плечо выше другого. Он бросился навстречу комиссару.
— Вы позволите сфотографировать вас? Только один снимок…
К чему отказываться? Он остановился неподвижно у входа. Мадам Мегрэ отошла в сторону.
— Поднимите немного голову…
Впервые за многие годы его фотографировали в соломенной шляпе. Он носил такую только у себя на даче, в Мэн на Луаре, старую шляпу садовника.
— Еще раз… Одну секунду… Спасибо. Мсье Мегрэ, смею ли спросить, вы действительно занимаетесь этим делом?
— Как шеф уголовного управления с набережной д’Орфевр я не вмешиваюсь в то, что происходит за пределами Парижа…
— Но преступление все же вас интересует? — Как и большинство ваших читателей.
— Ведь преступление имеет особенный характер — жертва была одинокой, ни с кем не общалась, неясен мотив, не видно причины…
— Когда ближе ознакомятся с ее личностью, выяснится и причина и мотив.
Мегрэ нашел Лекера в голубой комнате у телефона.
— Присаживайтесь, патрон. Алло! Это просто удача, что прежняя консьержка на том же месте. Да! Да! Что? Она не знает где? Садилась на метро? Ага, на станции Сен-Жорж. Не разъединяйте, мадемуазель. Ну спасибо. Я пошлю тебе опросный лист, чтобы все это упорядочить. Да, да, разумеется, с ребятами всегда заботы. Я-то об этом кое-что знаю. С тремя моими мальчишками…
Он повесил трубку и обернулся к Мегрэ.
— Это Жюльен, вы должны его знать, сейчас он инспектор в девятом округе, я просил его вчера порыться в бумагах. Он нашел точный адрес Элен Ланж на улице Нотр-Дам де-Лоретт, где она жила четыре года.
— Значит, с двадцати восьми до тридцати двух лет…
— Да, почти… Консьержка все та же. Мадемуазель Ланж как будто была спокойной девицей. Она уходила и приходила в определенное время, как человек работающий, редко выходила по вечерам куда-нибудь в театр или в кино… Служба ее, должно быть, была в другом квартале, потому что она садилась в метро. В половине первого возвращалась, завтракала и вновь уходила. В половине седьмого возвращалась.
— Кто-нибудь у нее бывал?
— Один человек, всегда один и тот же.
— Консьержка знает его имя?
— Ничего она о нем не знает. Он приходил раз—два в неделю к половине девятого, а к десяти часам уже уходил.
— Что за тип?
— Как будто порядочный человек. У него была своя машина. Ей не пришло в голову запомнить номер. Большое черное авто, вероятно американское…
— Возраст?
— Сорок лет. Очень сильный. Довольно полный, тщательно одевался.
— Проводили ли они вместе уик-энд?
— Один лишь раз.
— А отпуск?
— Нет. У Элен Ланж в то время был двухнедельный отпуск. Она ежегодно уезжала в Этрета и жила в семейном пансионе, куда ей посылали почту.
— Она получала много писем?
— Мало. Изредка письмо от сестры. Она пользовалась абонементом в одной книжной лавке и много читала…
* * *
Сотрудники Лекера опросили всех соседей. Не только никто не видел и не слышал ничего в вечер убийства, но все единодушно утверждали, что у Элен Ланж не было ни друзей, ни подруг и что у нее никто не бывал. Иногда она уезжала с маленьким чемоданчиком в руках, и тогда ставни оставались закрытыми в течение двух-трех дней. Машины у нее не было, и она никогда не вызывала такси. По утрам она делала закупки в ближайших лавочках. Не скупилась, но цену деньгам знала. По субботам отправлялась на большой рынок за провизией, летом всегда в белой шляпе, зимой в темной.
Мегрэ обдумывал все детали, подремывая в кровати, в то время как мадам Мегрэ читала у окна. Золотистый полусвет проникал в комнату сквозь щели в ставнях. Бесформенные мысли кружились у него в голове. Вдруг он задал себе вопрос: «А почему именно в этот вечер? Почему ее не убили накануне или на следующий день, месяцем раньше или двумя месяцами позже?»
Казалось, вопрос несуразен, однако он придавал ему большое значение. Десять долгих лет жила она на тихой улочке в Виши. Никто у нее не бывал. Она, насколько известно, тоже никого не навещала, разве только во время своих кратких поездок. Соседи видели, как она приходит и уходит Ее можно было также видеть на желтом стуле в парке, пьющей свой стакан воды, или вечером на концерте в парке.
Если бы ему самому пришлось опрашивать лавочников, он задал бы им вопросы, которые наверняка удивили бы их. Произносила ли она когда-либо лишние слова? Не наклонялась ли Иногда погладить вашу собачку? Беседовала ли с женщинами в очереди, здоровалась ли с ними, встречая ежедневно по утрам в одни и те же часы? И наконец: смеялась ли она когда-нибудь? Или только улыбалась?
Пришлось бы вернуться на пятнадцать лет назад, чтобы обнаружить ее контакт с человеческим существом: мужчиной, приходившим к ней один или два раза в неделю в квартиру на улице Нотр-Дам де-Лоретт. Можно ли жить столько лет и ни с кем не делиться признаниями, не высказать вслух того, что на сердце?
Ее задушили. Но почему в этот вечер? Для задремавшего Мегрэ вопрос этот стал главным; когда жена сообщила ему, что уже три часа, он все еще пытался на него ответить.
— Выйдем вместе?
— Конечно, вместе, как каждый день. Почему ты об этом спрашиваешь?
— Ты мог условиться с Лекером.
— Никакого свидания не предвидится…
И чтоб доказать это, он проделал с ней большой круг начиная с детского парка. В толпе они узнали двух веселых типов, «потешных весельчаков», как они их называли, но теперь во взгляде мужчины, обращенном к нему, что-то изменилось. Вместо того чтобы пройти, как обычно, он направился прямо к комиссару, протягивая ему руку.
— Вы меня не узнаете?
— Уверен, что видел вас раньше, но тщетно роюсь в памяти.
— Бебер. Это имя вам ничего не говорит?
Много было в его практике Беберов: и Малыш Луи, и Верзила Жюль, но…
— Вы арестовали меня впервые на бульваре Капуцинов. Второй раз это произошло при выходе из метро на станции Площадь Бастилии. Да, давненько это было! Я был молод тогда!.. Да и вы, с позволения сказать…
Тут Мегрэ разом вспомнил эту историю, потому что, преследуя воришку, потерял шляпу — соломенное канотье.
— Ну и сколько вы тогда отхватили?
— Два года… Я понял… Взялся за ум и… завязал. Работал у старьевщика, торговца подержанными вещами, уйму старья перечинил — ведь я всегда отличался ловкостью рук!
Он подмигнул Мегрэ, как бы намекая на особенности своей бывшей профессии.
— Потом я встретил мадам! — … Это слово он произнес с пафосом и даже гордостью. — У нее не было ни одного привода, — продолжал он, — ни одной судимости, и в проституции она не была замечена. Она только что приехала в Париж из Бретани и работала в закусочной. С ней у нас сразу пошло на полном серьезе, и мы поженились. Знаете, она даже настояла, чтоб мы поехали в ее деревню, чтобы там обвенчаться в церкви… О, то была самая настоящая свадьба, с фатой, флердоранжем, белым платьем, все как полагается!
Рассказывая, он бурно веселился, жизнь в нем била ключом.
— Мне казалось, — вспоминал он, — что я вас узнал, каждый день смотрел, смотрел, но все сомневался и только сегодня, открыв газету, увидел вашу фотографию… Никогда не забуду… вы были со мной очень порядочны! Славные были времена, не правда ли? До свидания, господин комиссар! Попрощайся же, душечка!
Парочка удалилась. Мегрэ еще долго забавлялся перипетиями судьбы бывшего карманника, но постепенно лицо его стало серьезным. Наконец он вздохнул с облегчением:
— Теперь я понимаю, почему именно в тот день, не месяц тому назад, не год, была убита эта женщина! С тех пор как мы здесь, трижды в день мы встречаем одних и тех же людей, и лица их становятся нам знакомы. Лишь сегодня благодаря снимку в газете этот забавный тип узнал меня и решился подойти. Так вот — это наш первый курс лечения, а может быть, и единственный. Подумай! Кто-то приехал, как и мы, впервые, выбрал врача, прошел осмотр, провел ряд исследований и анализов, ему назначили курс лечения, источники, режим…
Он встретил Элен Ланж, и ему показалось, что он узнал ее. Потом он встретил ее во второй, в третий раз… Может быть, он был рядом с ней в тот вечер, когда она слушала музыку…
Комиссар продолжал размышлять:
— Согласно местным публикациям сюда приезжает двести тысяч курортников в год, если распределить их по месяцам, то получится около двадцати тысяч в месяц. Положим, что треть из них новенькие, как мы, и тогда нам остается несколько тысяч подозреваемых. Ах нет, нужно еще отбросить женщин и детей. Сколько, по-твоему, здесь женщин и детей?
— Женщин больше, чем мужчин, что касается детей…
— Погоди! А сколько калек и убогих в колясках или на костылях? Большая часть стариков не способна задушить довольно сильную женщину…
Она спрашивала себя, шутит он или говорит серьезно. Положим, тысяча человек в состоянии задушить женщину. По свидетельству мадам Вирво и содержателя бара, речь идет о большом и сильном человеке, тогда следует исключить из этого числа низеньких и тщедушных… Оставим пятьсот… С облегчением услыхала она его смех.
— Над кем же ты смеешься?
— Над полицией. Над нашим ремеслом. Сейчас я объявлю Лекеру, что остается всего лишь пятьсот подозреваемых, не считая тех, что были в этот вечер в театре или могут доказать, что играли в бридж и еще во что-нибудь… И подумать только, ведь в конце концов не так уж редко находят виновного.
В Скотленд-Ярде однажды решили опросить всех жителей города с двухсоттысячным населением. Это заняло месяцы.
— И нашли?
— В другом городе, случайно, — уронил равнодушно Мегрэ, — этот тип, выпив, сам проболтался.
Они подошли к дому мадемуазель Ланж. — Я вернусь в отель, — шепнула мадам Мегрэ. — Хорошо, я скоро приду.
Дверь в гостиную была открыта, и было видно, как рабочие прибивали черную материю к стенам.
Показался Лекер.
— Я так и думал, что вы появитесь. Проходите. — Он проводил его в спальню, где было тише.
— Ее хоронят в Виши?
— Да, сестра заходила ко мне утром…
— Когда погребение?
— Послезавтра. Нужно дать людям в квартале возможность отдать последний долг усопшей.
Лекер покручивал кончики своих рыжих усов:
— Сегодня Франсина была какой-то совсем иной, менее игривой и далеко не жизнерадостной. Не бросалась фразами, как раньше. Такое впечатление, что ее мучит какая-то мысль, но она не решается мне что-то сказать. В какой-то момент она меня спросила: это комиссар Мегрэ, не так ли? Она видела ваше фото в газете.
— Несколько человек, видевшие меня ежедневно, после фотографии реагировали так же.
— Думаю, тут что-то посложнее, — задумчиво возразил Лекер, как бы следя за какой-то смутной, ускользающей мыслью. — Вы полагаете, что я ею должен был заняться и узнать о том времени, когда она жила в Париже?
— Возможно, принимая во внимание образ жизни, который она там вела.
— То, что меня сейчас занимает, более тонко и менее определенно. Для нее я обыкновенный провинциальный полицейский, исполняющий свои обязанности и задающий полагающиеся вопросы. Как только вопрос зарегистрирован, я перехожу к следующему. Вы понимаете, что я хочу сказать? Войдя сюда вчера, она чувствовала себя совершенно свободно. Вас она не узнала. Увидев на следующий день ваше фото в газете, она подумала: с чего бы это Мегрэ присутствовал при нашей беседе?
— И какие выводы вы делаете из этого?
— Не забывайте о вашей репутации, о том, что люди думают о вас… — Он смутился, опасаясь, что его слова будут неправильно поняты. — Это очень важно! Она задала себе вопрос: а случайно ли вы здесь? А может быть, вы занимаетесь этим делом…
— Вам показалось, она чего-то боится?
— Ну, так далеко я не заглядываю. Я заметил, что она вся какая-то иная, настороженная. Я задал ей всего два незначительных вопроса, и она всякий раз долго раздумывала, прежде чем ответить.
— Нотариуса нашли?
— Ее спутник составил список местных нотариусов и позвонил им всем. Кажется, мадемуазель Ланж ни у кого в клиентах не состоит. Только один из них, работавший здесь клерком лет десять тому назад, вспомнил, что составлял акт продажи этого дома…
— Как его имя?
— Метр Рамбо.
— Не хотите ли ему позвонить? — Сейчас?
— В провинции нотариусы обычно живут при конторе.
— И что спросить?
— Платила ли она чеками или по переводу с какого-нибудь банковского счета?
Мегрэ побродил по кухне, заглянул в ванную комнату — просто так, бездумно.
— Ну что, Лекер?
— Как вы догадались?
— О чем?
— О плате за дом Она платила наличными деньгами. У нее был с собой чемоданчик, битком набитый купюрами.
— Вы опросили железнодорожных служащих?
— Черт подери, и не подумал!
— Хотелось бы знать, отправлялась ли она всякий раз в одно и то же место или в разные…
— Завтра же постараемся узнать.
В музыкальном павильоне был концерт, и супруги Мегрэ, достаточно ходившие сегодня, заслужили право посидеть.
ГЛАВА IV
У него было в запасе еще десять минут. Может быть, оттого, что в сегодняшнем номере «Трибюн» нечего было читать. Хозяин, как всегда, поджидал внизу, у лестницы:
— Ну, что с этим убийством?
— Меня это не касается, — улыбнулся комиссар.
— Вы полагаете, эти люди из Клермон-Феррана на высоте? Куда это годится, чтобы в таком городе, как наш, душитель разгуливал на свободе! Говорят, несколько пожилых женщин уже уехали…
Направляясь к улице Бурбонне, Мегрэ еще издали заметил на дверях дома черную драпировку с вышитой серебром буквой Л. Полицейского у двери не было. Комната, обтянутая черным, была погружена во мрак. Гроб стоял на обеденном столе Свечи не были зажжены, но в стеклянном бокале стояла освященная вода с веточкой самшита. Двери в кухню были открыты, там перед чашкой кофе сидел молодой Дисель.
— Комиссар Лекер здесь?
— Его срочно вызвали вчера ночью в Клермон-Ферран. Там ограбили сберегательную кассу и убили случайного прохожего. Он вошел в тот момент, когда воры уже уходили. Один из них выстрелил.
— Здесь ничего нового?
— Нет, насколько мне известно…
— Вы не были на станции?
— Это поручено моему коллеге Триго. Он, вероятно, еще там.
— Франсина Ланж не заходила?
— Я жду ее. Никто ничего не знает. Гроб выставлен, дверь открыта, но. придет ли кто? Мне поручено оставаться здесь и незаметно наблюдать за посетителями, если они будут…
Мегрэ прошел в столовую. Машинально он взял с круглого столика книгу в темном переплете. Это был «Люсьен Левен» Стендаля. Пожелтевшая бумага хранила особый запах городских библиотек и книжных магазинов, выдающих абонементы читателям. Лиловая печать указывала на имя книготорговца и его адрес. Положив книгу на место, Мегрэ вышел.
Он нашел жену на зеленой скамейке у отеля. Увидев его так скоро, она удивилась. Они принялись шагать, как обычно. Начали с детского парка, почти пустынного в это время, и прошли круг в тени деревьев. Неожиданно Мегрэ свернул налево, в один из переходов, где перед магазином на лотке были выставлены книги.
— Войдем! — предложил он жене.
Хозяин в длинной серой блузе, по-видимому, узнал комиссара, но ждал, когда к нему обратятся…
— Есть ли у вас несколько свободных минут?
— К вашим услугам, господин Мегрэ. Вы, вероятно, хотите спросить меня по поводу мадемуазель Ланж?
— Она была одной из ваших клиенток, не так ли?
— Она заходила по крайней мере раза два в неделю. Для обмена книг. У нее был абонемент.
— Давно ли вы ее знаете?
— Шесть лет. Я не здешний, из Парижа. Она бывала еще у моего предшественника.
— Приходилось ли вам с ней беседовать?
— Она была неразговорчива.
— Просила вас помочь выбрать книгу?
— О, у нее был особый образ мыслей. Вот поглядите…
Помещение за магазином было уставлено от пола до потолка книгами в черных переплетах.
— Здесь она проводила по получасу, а то и больше, рассматривая тома, прочитывая то тут, то там по нескольку строчек.
— Последняя книга была «Люсьен Левен» Стендаля, — заметил Мегрэ.
— Стендаль — ее недавнее открытие. Раньше она прочла всего Шатобриана, Альфреда де Виньи, Бенжамена Констана, Мюссе, Жорж Занд. Всех романтиков. Однажды взяла Бальзака, не помню уж, что именно, но на другой же день принесла обратно. «Не понравилось?» — спросил я ее. И она ответила что-то вроде: «Это слишком грубо!» Бальзак груб! — пожал он плечами.
— Никаких современных писателей?
— Никогда не брала, зато перечитала переписку Жорж Занд с Мюссе.
— Благодарю вас!
Мегрэ уже дошел до двери, когда книготорговец позвал его:
— Позабыл об одной детали, может, это вам пригодится. Я удивился, обнаружив во взятых ею книгах карандашные пометки. Слова и целые фразы были подчеркнуты, иногда на полях был начертан крест. Хотелось знать, у кого из клиентов такая привычка? Наконец выяснил, что это мадемуазель Ланж…
Она находила Бальзака грубым, слишком реалистичным. Не выходя за пределы первой половины XIX века, в высокомерном неведении не знала Флобера, Гюго, Мопассана. Тем не менее Мегрэ в первый же день заметил у нее дома сваленную в углу целую груду журналов. Невольно он пытался все глубже и глубже раскрыть образ умершей женщины. Она увлекалась чтением романтической и сентиментальной литературы, но взгляд ее порой отличался совершенно реальной жесткостью.
— Ты видел Лекера? — спросила жена.
— Нет, его вызвали в Клермон-Ферран.
— Думаешь, он найдет убийцу?
Мегрэ вздрогнул. Ему тоже надо было вернуться к реальности. Он почти забыл, что владелица дома с зелеными ставнями задушена, и главное теперь — найти убийцу; он и искал его, то есть и он тоже. Мысль об этом человеке, внезапно вошедшем в жизнь одинокой женщины, была неотвязной. И никаких следов на улице Бурбонне, нигде ни фотографии, ни письма, ни короткой записки, ничего! Нужно было вернуться в Париж, на двенадцать лет назад, чтобы представить себе таинственного посетителя, приходившего раз или два в неделю на часок к той, которая была тогда еще молодой женщиной. Даже сестра, живя тогда в том же городе, утверждала, что ничего не знает о ней.
Элен прямо-таки пожирала книги, смотрела телевизор, ходила на рынок, хозяйничала, гуляла под сенью деревьев, как и другие курортники, ни с кем не общаясь, слушала музыку и смотрела только вперед. Все это сбивало его с толку, В своей практике он знавал немало женщин и мужчин, свирепо влюбленных в свою свободу, встречал маньяков, удалившихся от мира, забившихся в самые невероятные, часто просто гнусные места. Но эти люди всегда сохраняли хоть какую-то связь с внешней жизнью. Старухи, например, тянулись к скамейке в сквере, где находили других старух, или же хранили привязанность к церкви, исповеди, к своему кюре. Некоторые старики были привязаны, как к якорю, к бистро, где каждый его узнавал и дружески принимал. Здесь же впервые встретил он одиночество в чистом виде. Одиночество ее не было агрессивным, она не выказывала недружелюбия к соседям, поставщикам, не выражала им презрения, не разыгрывала из себя важную даму.
Просто другие не занимали ее, она не нуждалась в них. Имела жильцов, потому что располагала пустыми комнатами и получала от этого доход. Между этими комнатами и нижним этажом была проведена резкая грань.
— Разрешите, господин начальник?
Перед Мегрэ возник высокий тип, держа стул за спинку. Комиссар видел его на улице Бурбонне: это был сотрудник Лекера, вероятно, Триго. Он уселся, и Мегрэ спросил:
— Как вы узнали, что найдете меня здесь?
— Мне сказал Дисель.
— А откуда он?..
— Нет полицейского в городе, который бы не знал вас, так что куда бы вы ни пошли…
— Что нового?
— Эту ночь я провел на станции. Днем дежурят другие служащие. Утром я вернулся, затем звонил комиссару Лекеру… он все еще в Клермон-Ферране.
— Франсину вы не видели?
— Она в доме умершей. Вынос тела в девять часов. Вероятно, это она послала цветы.
— Сколько венков?
— Только один.
— Вы уверены, что это от нее? Простите, все забываю, что это меня не касается!
— Наш шеф другого мнения. Он поручил дать вам отчет о том, что я узнал на станции. Думаю, что нам в бригаде, и мне также, придется попутешествовать…
— Далеко она ездила?
Триго вытащил из кармана связку бумаг, порылся еще и вытащил лист, который искал.
— Всех ее передвижений они не помнят, но некоторые названия городов их удивили. Например, Страсбург, месяц спустя Брест. Они еще заметили, что сообщение не всегда было удобно, и ей приходилось два или три раза пересаживаться… Каркассон, Дьепп, Лион. Это еще не так далеко. Большей же частью путешествия были далекими: Нанси, Монтелимар…
— Все большие города? Не маленькие и не деревни?
— Только значительные города, правда, она могла оттуда поехать на автобусе…
— Ни разу не брала билет до Парижа?
— Ни разу.
— И с какого времени это тянется?
— Последний служащий, которого я опрашивал, работает за этим окошком девять лет. Он уверял меня, что это была постоянная клиентка. На станции ее знали, ждали ее прихода. Служащие спорили между собой об очередном городе, который она выберет.
— Помнят ли они более или менее точные даты?
— …Иногда ее не видно было по шесть недель, особенно летом, во время сезона, ее передвижения не были связаны с каким-либо определенным сроком…
— Лекер не говорил вам, что он собирается делать?
— Он заказал размножить фотографии… Пошлет людей в ближайшие города, с сегодняшнего дня обратится с фотографиями в местные отделения полиции…
— Вы не знаете, почему Лекер просил меня навестить?
— Он не сказал… думает, вероятно, что у вас имеется какая-нибудь идея. Я также, кстати…
Мегрэ всегда считали более проницательным, чем он был на самом деле, а его протесты принимали за хитрость.
— Кто-нибудь явился на улицу Бурбонне?
— Дисель говори, что одна женщина в переднике вошла, стала у гроба, вынула из кармана четки. Окропив святой водой крест, она удалилась. Потом приходили соседи, по одному или по двое.
— Мужчин было много?
— Не очень: мясник, столяр, живущий на углу, несколько человек из соседних домов.
А почему преступление не могло быть совершено кем-нибудь из квартала? Они все пытались воспроизвести жизнь «дамы в лиловом» в Париже, в Ницце, выяснить о ее поездках по разным уголкам Франции, но никто не подумал о соседях, живущих рядом.
— Не подскажете ли, чем мне следует заняться?
Раз Мегрэ здесь, у него под рукой, почему бы не воспользоваться? — решил Триго.
— Может быть, кто-нибудь из служащих вспомнит точную дату хотя бы одной или двух поездок?
— Есть такой. Этот тип запомнил дату — 11 июня, потому что речь шла о Реймсе, откуда родом его жена. А ее день рождения как раз 11-го.
— На вашем месте я удостоверился бы в банке, был ли сделан вклад 13 или 14 июня.
— Вы имеете в виду шантаж?
— Или пенсию…
— Почему же вклады делались в разное время и нерегулярно?
— Я задаю себе тот же вопрос.
Триго поглядел искоса, уверенный, что Мегрэ просто смеется над ним.
— Нет уж! Лучше займусь ограблением, — буркнул он и встал. — В банк уже поздно. Пойду туда к двум часам, а потом, если нужно, отправлюсь на станцию…
Так же когда-то работал и Мегрэ: отбивал подметки, топая часами по мостовым и в дождь и в пекло, опрашивая людей, осторожных, виляющих на каждом шагу, вытягивая из них слово за словом.
* * *
— У источника, к 11 часам. Я там буду!
В его голосе чувствовалось дурное настроение. Мадам Мегрэ опасалась, что муж соскучится в Виши. И вот уже три дня, как он действительно недоволен, если приходится пропустить прогулку. А сегодня погребение, и он обещал Лекеру присутствовать. Солнце палило нещадно, хотя на улицах была все та же утренняя влажность и свежесть.
Улица Бурбонне представляла собой неожиданное зрелище: помимо жителей соседних домов, облокотившихся на подоконники, чтобы следить за похоронной процессией, можно было заметить много любопытных вдоль тротуаров. Катафалк уже прибыл. Позади него остановилась черная машина, вероятно похоронного бюро, и еще одна, неизвестная Мегрэ. Лекер вышел навстречу.
— Пришлось бросить своих бандитов, — пояснил он. — Ограбления происходят ежедневно — публика к ним привыкла, а женщина, задушенная у себя дома, в таком тихом городке, как Виши, без видимой причины…
Мегрэ узнал среди толпы рыжую шевелюру фотографа из «Трибюн». Двое других орудовали на улице, один из них заснял полицейских, переходящих улицу. В сущности, смотреть было не на что, и зеваки поглядывали друг на друга, словно недоумевая, чем они тут, собственно, занимаются.
— Ваши люди здесь, на улице?
— Трое. Не вижу Диселя, но он, должно быть, где-нибудь здесь. Ему пришло в голову прихватить с собой мальчишку из колбасной, тот знает здесь всех и вся, сможет указать людей пришлых, не из этого квартала.
— Вы поедете на кладбище? — спросил Мегрэ у Лекера.
— Желательно, чтоб и вы туда отправились. У меня личная машина — я подумал, что полицейская машина здесь была бы проявлением дурного вкуса…
— А Франсина?
— Только что прибыла со своим любовником. Она там, в доме…
— Не вижу их машины.
— Служащие похоронной конторы хорошо знают, что подходит и не подходит в этих случаях: вероятно, они дали понять, что их открытая красная машина в похоронной процессии была бы неуместна.
— Она с вами говорила?
— Слегка кивнула, когда прибыла… Она как будто нервничает, беспокоится… Входя в дом, внимательно оглядела ряды зевак, будто искала кого-то глазами.
Люди начали выходить из дома. Водитель похоронных дрог взгромоздился на сиденье. Как по сигналу, четверо служителей не без труда вынесли гроб через дверь и вдвинули его в машину. Франсина Ланж ожидала на пороге, в черном платье. Катафалк отъехал на несколько метров. Франсина села в черную машину, ее спутник — за руль.
— Поедемте, патрон…
— Все? — спросил Мегрэ, обернувшись.
— Родных больше нет, друзей тоже…
Кладбище находилось недалеко, по другую сторону линии железной дороги. Здесь было пустынно. Итак, их было всего четверо, не считая служителей похоронной конторы. Лекер и Мегрэ подошли к Франсине.
— Вы скоро уезжаете? — спросил Мегрэ у Молодой женщины. Он задал этот вопрос просто так, чтобы что-нибудь сказать, не придавая ему значения, и заметил, что она глядит на него пристально, словно пытаясь уловить какую-то мысль в его словах.
— Вероятно, придется остаться на два-три дня, чтобы привести все в порядок…
— Что вы собираетесь делать с жильцами?
— Я разрешила им остаться до конца месяца. И заперла комнаты нижнего этажа…
— Рассчитываете продать дом?
Она не успела ответить, так как один из служителей в черном подошел к ней. Какой-то фотограф, не рыжий, другой, появился неизвестно откуда и сделал несколько снимков в тот момент, когда опускали гроб и Франсина бросила в могилу горсть земли.
Лекер взглянул на Мегрэ, погруженного в свои мысли. О чем думал он? О Ла-Рошели, об улице Нотр-Дам де-Лоретт, о начале своей деятельности, когда был секретарем комиссара полиции IX округа?
К ним подошла Франсина, теребя носовой платочек, свернутый в комок. Она не плакала и была не более взволнованна, чем факельщики или могильщик. Ничего трогательного не было в этом погребении. И если она комкала платочек, то только затем, чтобы скрыть смущение.
— Не знаю, как полагается… Обычно после похорон следует угощение, не так ли? Но у вас, вероятно, нет охоты позавтракать с нами… Могу ли я хотя бы предложить вам по стаканчику?
Мегрэ был поражен переменой, происшедшей с ней. Даже здесь, на пустынном кладбище, она непрерывно оглядывалась вокруг, словно ей угрожала какая-то опасность.
— У нас, несомненно, еще будет случай встретиться, — дипломатично отозвался Лекер.
— Вы так ничего и не обнаружили?
Но смотрела она не на него, а на Мегрэ, точно именно от него ожидая чего-то.
— Следствие продолжается…
Мегрэ не спеша набивал трубку. Эта особа, несомненно, знала жизнь, перенесла не один удар судьбы. И не морщась была способна смотреть опасности в глаза. Не смерть же сестры так повлияла на нее! В первый день встречи она была куда веселей и жизнерадостней.
— В таком случае, господа… Не знаю, как сказать… Что ж, до свидания и спасибо, что пришли…
Если бы она осталась еще хотя на одну минуту, он, может, и спросил бы, ее угрожал ли ей кто-нибудь.
— Ну, что вы об этом скажете? — спросил Мегрэ у своего коллеги из Клермона, когда Франсина ушла.
— Вы заметили? Хотелось бы мне побеседовать с ней с глазу на глаз. Но для этого нужен какой-нибудь благовидный предлог. Сегодня это просто неприлично. Она как будто чего-то боится…
— И у меня такое же впечатление…
— Думаете, ей кто-нибудь угрожал? Как поступили бы вы на моем месте?
— Что вы хотите сказать?
— Нам неизвестно, почему убили ее сестру… Может быть, в конце концов, это какая-то семейная драма… Мы почти ничего не знаем об этих людях. А если они обе замешаны в чем-нибудь? Она сказала, что задержится здесь на два—три дня? Я поставлю кого-нибудь незаметно последить за ней. В моем распоряжении людей маловато, но дело с ограблением терпит. Профессионалы в конце концов всегда попадаются.
Они уселись в машину.
— Где вас высадить?
— Где-нибудь около парка…
— Да, ведь вы же курортник! Почему бы и мне не стать отдыхающим?
* * *
Не увидев жены на обычном месте, Мегрэ подумал было, что она еще не пришла. Они так привыкли ежедневно встречаться в одних и тех же местах, что он удивился, заметив ее на другом стуле, в тени другого дерева, и незаметно понаблюдал за ней. Мадам Мегрэ не проявляла нетерпения. Она следила за проходящими, и легкая улыбка освещала ее лицо.
— Ты здесь! — удивленно воскликнула она. — Я не думала, что ты так быстро освободишься…
— Кладбище недалеко.
— Было много народу?
— На улице… А потом нас было только четверо.
Они стали в очередь к источнику, затем Мегрэ купил парижские газеты, почти не упоминавшие о душителе из Виши. Только одна газета накануне опубликовала статью, так и озаглавленную: «Душитель из Виши», и ниже поместила фотографию Мегрэ.
Было любопытно узнать о результатах, полученных полицией в городах, куда в разное время отправлялась мадемуазель Ланж. Он читал, но мысли его витали где-то далеко.
— Сестра плакала? — спросила мадам Мегрэ.
— Нет.
Его сильно занимала Франсина. В течение всего утра он не раз думал о ней. Они вернулись в отель, поднялись к себе наверх освежиться и спустились в столовую. В это время Мегрэ сообщили, что его просят к телефону.
— Алло! Я вас не побеспокоил? Есть новости. Я послал одного из моих людей понаблюдать в отель де ла Гар. Прежде чем приступить к слежке, он решил узнать номер комнаты Франсины Ланж. Дежурная сообщила, что она уехала!
— Когда?
— И получаса не прошло после того, как мы расстались. Кажется, эта парочка, вернувшись, даже не поднялась наверх и сразу потребовала счет. Наспех уложили вещи, все погрузили в красную машину и укатили по направлению к Ла-Рошель.
Мегрэ молчал. Лекер тоже. Последовала долгая пауза.
— Что вы об этом думаете, патрон?
— Она боится…
— Это ясно, но она и утром чего-то боялась. Тем не менее заявила, что рассчитывает остаться в Виши еще на два—три дня…
— Может быть, для того, чтобы вы ее не задержали.
— По какому праву я мог ее задержать, ничего не имея против нее?
— Вам известен закон, а ей нет. Сегодня или завтра утром мы узнаем, вернулась ли она в Ла-Рошель…
— Тем не менее я просто взбешен. Я намеревался ее повидать и побеседовать подольше… Вы свободны в два часа?
Это было время послеобеденного отдыха, и Мегрэ ответил неохотно:
— Ничего особенного не предвидится.
— Сегодня утром кто-то позвонил в местное отделение полиции, хотел поговорить со мной. Я как раз нахожусь сейчас здесь. Речь идет об одной молодой женщине, Мадлен Дюбуа. Это ночная телефонистка в отеле де ла Гар. Я жду ее.
— Буду!
Отдых он пропустил. Сотрудник полицейского управления Виши проводил его в конец коридора на первом этаже, где Лекеру предоставили почти свободную от мебели комнату.
— Сейчас без пяти минут два. Надеюсь, она не раздумает. Во всяком случае, надо разыскать третий стул.
Точно в два часа дежурный постучал в дверь и объявил:
— Мадам Дюбуа.
Она вошла — маленькая, живая, темноволосая. Переводя глаза с одного на другого, спросила:
— К кому мне обратиться?
Лекер представился, не называя Мегрэ, усевшегося в углу.
— Не знаю, заинтересует ли вас то, что я хочу рассказать. Сначала я не обратила на это внимания… Отель переполнен. Работы, как обычно, много. Дело идет об одной нашей клиентке, мадам Ланж…
— Вы говорите о мадемуазель Франсине Ланж?
— Я думала, она замужем. Известно, что у нее умерла сестра, сегодня были похороны. Вчера вечером, в половине девятого, кто-то вызывал ее по телефону.
— Мужчина?
— Да, мужчина, со странным голосом… Я уверена, что он болен астмой, потому что мой дядя, страдающий астмой, говорит так же.
— Он не назвал своего имени?
— Нет.
— И не спросил номера комнаты?
— Нет. Я позвонила, но никто не ответил. Тогда я сказала, что ее нет на месте. Он позвонил еще раз около девяти часов, но 406-й по-прежнему не отвечал.
— У них была одна комната на двоих?
— Да. Человек этот позвонил в третий раз, и мадемуазель Ланж ответила. Я их соединила.
Она замялась, бросив украдкой взгляд на Мегрэ. Конечно, узнала его.
— Вы подслушивали?
— Прошу прошения… Это совсем не в моих привычках. Считается, что мы всегда подслушиваем разговоры, но, если бы люди знали, как это неинтересно, они бы так не думали… Может быть, из-за убийства се!тры или из-за странного голоса мужчины…
— Расскажите-ка все.
— «Кто у аппарата?» — спросила Франсина. «Вы Франсина Ланж?» — «Да». — «Вы одна в комнате?»
Она поколебалась. Я почти уверена, что ее спутник был с ней.
«Да, но что вам до этого?» — спросила она. «У меня к вам секретное поручение. Слушайте меня внимательно. Если нас прервут, я позвоню вам через полчаса».
…Он тяжело дышал, иногда с каким-то присвистом, как мой дядя.
«Я слушаю… Но кто вы такой?» — «Это не имеет значения. Вам необходимо остаться на несколько дней в Виши. В ваших же интересах. Я еще с вами свяжусь, не знаю пока, когда именно. Наш разговор даст вам возможность получить крупную сумму денег, вы меня поняли?»
Он замолчал и повесил трубку. Через несколько минут позвонили из 406-го номера.
Это была мадемуазель Ланж: «Мне только что звонили. Можете вы сказать, это из Виши или из другого места?» — «Из Виши». — «Благодарю вас!»
Вот и все! Сначала я решила, что меня это не касается. Но сегодня утром я никак не могла уснуть и позвонила сюда, чтобы узнать, кто ведет следствие.
Она нервно теребила сумочку, переводя взгляд с одного на другого.
— Вы не вернулись в отель?
— Мое дежурство сегодня с восьми часов вечера.
— Мадемуазель Ланж уехала.
— Она не была на похоронах сестры?
— Она покинула Виши тотчас же после погребения.
— А! — Потом, помолчав, добавила: — Вы думаете, что этот человек хотел завлечь ее в ловушку? Не душитель ли это?
Она побледнела при мысли, что убийца был на другом конце провода.
Мегрэ уже не жалел о пропущенном послеобеденном отдыхе.
ГЛАВА V
Телефонистка ушла, а двое мужчин не двинулись с места. Мегрэ медленно попыхивал трубкой, Лекер молчал, затягиваясь сигаретой. Дым клубами стлался над их головами. Воцарилось долгое молчание. И тот и другой были старыми служаками, матерыми волками уголовного сыска и за долгие годы работы имели дело с самыми разными преступниками.
— Это он звонил… — произнес наконец Лекер.
Мегрэ ответил не сразу. Они реагировали по-разному. Не говоря о методах (слово, не любимое обоими), сам подход к делу был у них разным. С тех пор как была задушена «дама в лиловом», Мегрэ мало заботила личность убийцы. Он как загипнотизированный думал о жертве: как живая, стояла эта женщина у него перед глазами. Казалось, он снова видит ее на желтом стуле перед музыкальным павильоном, ее длинное лицо, мягкую улыбку, маскирующую жесткость взгляда. Ознакомившись с ее домом, узнав детали ее жизни в Ницце и Париже, он добавил к этому образу несколько новых мелких штрихов и оттенков. Душитель же был лишь неясным силуэтом.
— Я все спрашиваю себя, как он узнал, что Франсина Ланж остановилась в отеле де ла Гар… Газеты ведь сообщили только о приезде сестры жертвы, но адреса не указывали.
Мегрэ подумал, что тот человек мог звонить в разные отели с просьбой соединить его с мадемуазель Ланж. Живо представил он себе убийцу, склонившегося над телефонным справочником, над длинным списком отелей. Может быть, он действовал в алфавитном порядке?
— Не могли бы вы позвонить в отель, название которого начинается на букву А или Б? — обратился он к Лекеру.
С загоревшимся взором Лекер схватил трубку:
— Будьте любезны, дайте мне отель «Англетер». Нет, не дирекцию, не отдел регистрации. Мне нужна телефонистка. Алло! Это из уголовного розыска. Не просил ли вас кто-нибудь вчера соединить его с некой Франсиной Ланж? Нет, не жертва, ее сестра. Ах, вот как! Попросите тогда вашу коллегу. Их на коммутаторе двое, — пояснил он Мегрэ. — В отеле 500–600 комнат. Алло! Вы получили вызов? Вас ничего не удивило? Хриплый голос, говорите? Как будто у него… Спасибо!
И, обратясь к Мегрэ, доложил:
— Вчера вечером, в 10 часов. Хриплый голос или скорее как у человека с затрудненным дыханием…
— Вероятно, он здесь лечится. — Мегрэ думал об этом с первого же дня. Наверное, он встретил Элен случайно и последовал за ней, чтобы узнать, где она живет.
Зазвонил телефон. Говорил инспектор, посланный в Лион. Следов мадемуазель Ланж он не обнаружил, но одна служащая почтового отделения вспомнила, что она приезжала дважды и получала до востребования конверты из грубой серой бумаги. Первый раз пакет пролежал целую неделю, второй раз только что прибыл.
— Даты известны?
— Да.
Задумавшись и попыхивая трубкой, Мегрэ наблюдал за работой коллеги.
— Алло! «Лионский кредит»? Вы составили перечень вкладов, о котором я просил? Можете сказать, не принят ли вклад тотчас же после 13 января прошлого года и 22 февраля текущего года? Жду…
Это не потребовало много времени.
— 15 января взнос в 8 тысяч франков, 23 февраля этого года — 5 тысяч франков.
— Средняя сумма вклада 5 тысяч франков?
— Да, исключения редки. Счет у меня перед глазами. А вот пять лет назад вижу вклад в 25 тысяч франков по кредиту на банковском счете. Это единственная значительная сумма.
— Всегда в банкнотах?
— Всегда.
— Какова общая сумма вклада на сегодняшний день?
— 452 тысячи 650 франков.
Лекер повторил эти цифры Мегрэ.
— Она была богата, — пробормотал он. — И, однако, сдавала комнаты во время сезона.
С удивлением услышал он ответ комиссара:
— Он очень богат…
— Верно. По-видимому, все эти деньги из одного источника. Человек в состоянии вносить ежемесячно по пять тысяч франков, а при случае и более значительные суммы…
— Значит, этот человек не знал, что она владелица дома в Виши, маленького беленького дома с бледно-зелеными ставнями во Французском квартале. После каждой посылки адрес менялся. Быть может, деньги вносили и в определенные даты, а забирала она их несколькими днями позже нарочно, чтобы быть уверенной, что за почтовым отделением не следят?
— Тот, кто звонил, безусловно, человек богатый, во всяком случае весьма состоятельный. Разговаривая с Франсиной, он не указал точного места встречи. А просил лишь задержаться в Виши на несколько дней и ждать вызова.
— Вероятно, он женат и здесь с женой, а может, и с детьми и временем своим не располагает…
Лекер, в свою очередь, получал удовольствие, следя за работой мысли Мегрэ. Разве только мысли? Теперь комиссар уже пытался постичь личность этого человека, слиться с ним целиком, врасти в него полностью, проникнуть в его психологию.
— На улице Бурбонне он не нашел того, что искал. А Элен Ланж молчала. Если б она заговорила, быть может, была бы жива? Он хотел ее напугать, чтоб добиться сведений, в которых нуждался…
— Каких сведений добивался он от Элен Ланж и почему она так упорно отказывалась говорить? Вошел ли убийца в дом до нее, взломав нехитрый замок и обыскав содержимое ящиков до ее возвращения? А может, наоборот, догнал ее, когда она возвращалась домой?
— Почему вы так хитро усмехаетесь?
— Все думаю об одной дурацкой детали: прежде чем добраться до отеля де ла Гар, убийца должен был, если он действовал в алфавитном порядке, звонить не менее тридцати раз. Это вам ничего не говорит? — Мегрэ набил новую трубку, он размышлял: «Вся полиция на ногах. Его разыскивают. А он должен бесконечно повторять имя женщины, то же имя, что и у жертвы… Все вызовы проходят по местному коммутатору. К тому же рядом жена (вполне правдоподобное предположение). Звонить из кафе, бара опасно, могут услышать…» — На вашем месте, Лекер, я поставил бы людей последить за городскими телефонными кабинами.
— Но ему же удалось добраться до Франсины по телефону!
— Он должен ее вызвать еще раз.
— Но ее же нет в Виши.
— Он этого не знает.
В Париже Мегрэ виделся с женой трижды в день, как и большинство мужей, утром, в полдень и вечером. Прийти позавтракать удавалось не всегда, так что он мог без ее ведома делать в остальное время дня что угодно. Но здесь, в Виши? Они фактически все двадцать четыре часа проводили вместе, и он был не единственным в таком положении.
— Не было у него возможности задерживаться долго в кабине, — вздохнул Мегрэ.
Не один раз, вероятно, спускался он вниз под предлогом покупки сигарет или желания поразмяться, пока жена одевалась. Если жена тоже лечится, как и он, ходит на гидротерапию, например, то и это дает ему время. Он представлял себе этого человека, пользующегося любым предлогом, лгущего и изворачивающегося, как мальчишка. Человек сильный, солидный, богатый, пытающийся здесь, в Виши, полечить свою астму.
— Вас не удивляет, что сестра внезапно уехала? Франсина Ланж денежки любила. Бог знает через что только пришлось ей пройти, когда она жила в Париже, чтобы их добыть. Она владелица процветающего предприятия, наследница сестры, но разве такая женщина способна пренебречь значительной суммой денег?
— Не полиции ли она опасается? Непохоже, если только не решила удрать за границу,
— Нет, она вернулась в Ла-Рошель. Полиция может допросить ее там точно так же, как и здесь. Сейчас она все еще катит по дороге, а молодежь завистливыми взглядами провожает красную открытую машину!
— Но почему она так поглядывала на вас сегодня утром?
— Думаю, что понимаю. — Мегрэ улыбнулся не без замешательства. — Газетчики создали мне репутацию исповедника, что ли. Она как будто колебалась, довериться ли мне, решиться ли спросить совета, а потом подумала: «Нет, себе дороже».
Лекер нахмурился:
— Почему?
— Человек пытался получить сведения от Злен Ланж, и сведения эти столь важны, что он потерял власть над собой. Он явился на улицу Бурбонне безоружным, у него не было намерения убить ее, а ушел он с пустыми руками, ни с чем.
— Он думает, что сестра располагает теми же сведениями?
— Определенно. Иначе зачем с таким трудом и риском узнавать, в каком отеле она остановилась, зачем звонить и соблазнять крупной суммой?
— Франсина знает, чего он добивается?
— Возможно, — пробормотал Мегрэ, глядя на часы.
— Да, пожалуй. Она так испугалась, что смылась втихомолку, не сказав нам об этом ни слова!
— Мне нужно встретить жену, — сказал Мегрэ и подумал: «Этот крепкий широкоплечий субъект вынужден был пускаться на всякие ребяческие уловки, чтобы иметь возможность лишний раз позвонить из городской телефонной будки. Кто знает, может быть, во время длительных ежедневных прогулок мы не раз сталкивались с этой парой? Может, стояли бок о бок с ними у источника, когда пили воду…» — Не забудьте о телефонных кабинах…
— Мне потребовалось бы столько же людей, сколько у вас в Париже.
— Мне всегда их не хватало. Когда вы позвоните в Ла-Рошель?
— В шесть часов, перед отъездом в Клермон-Ферран. Я должен увидеться там с судебным следователем. Эта история с ограблением не дает ему покоя.
Мадам Мегрэ ждала на скамейке. Он запаздывал, но она ее упрекнула мужа, отметив, что у него совсем иной вид, чем утром. Такое выражение лица ей было знакомо: задумчивое и нахмуренное в одно и то же время.
— Куда пойдем?
— Походим!..
Как и в прежние дни, как и та, другая, пара. Жена ни о чем не догадывается, она идет рядом с мужем, не подозревая, что тот дрожит при виде любого полисмена в форме. Он убийца Бежать он не может, не навлекая подозрения, и вынужден вести прежний образ жизни. Остановился он, вероятно, в одном из роскошных отелей. Мегрэ это не касается, но если б он был на месте Лекера…
— Лекер — превосходный работник, — пробормотал он, что означало: «Наверняка он об этом подумал». Не так уж много пансионеров там, чтобы… Но ему самому не терпелось докопаться до истины.
Для Мегрэ убийца Элен Ланж уже не был более некой смутной тенью. Мало-помалу его образ начинал приобретать индивидуальные черты. Преступник жил здесь, в городе, гулял вдоль улиц, по которым с таким постоянством ходил ежедневно Мегрэ, проделывал почти те же движения, что и он, смотрел те же зрелища, видел те же парусники, велосипеды, желтые стулья в парке и ту же толпу, движущуюся в медленном и однообразном ритме.
Мегрэ представил рядом с ним довольно еще молодую женщину, жалующуюся, возможно, на боль в ногах. О чем беседовали они, прогуливаясь? О чем говорили между собой все эти пары? Он убил Элен Ланж, его разыскивали. Одно слово, один жест, малейшая неосторожность, и он арестован! Конец жизни, полнейший крах! Его имя на первых страницах газет, состояние близких под угрозой, друзья потрясены! Тюремная камера вместо уютных апартаментов.
— И все же он продолжает…
— Продолжает что?
— Добиваться истины.
— О ком ты говоришь?
— Ты знаешь, о ком я говорю. Он звонил Франсине Ланж. Хотел с ней встретиться.
— Его могут поймать?
— Если бы она вовремя предупредила Лекера, можно было бы организовать засаду. Это и сейчас возможно. Стоит поместить в 406-й номер женщину примерно тех же лет, и когда он позвонит…
Мегрэ остановился посреди аллеи, ругнувшись и сжав кулаки, в невольной ярости:
— Чего, собственно, добивается он, черт подери, пускаясь на такой риск?!
* * *
Мужской голос ответил:
— Алло! Кого вам нужно?
— Я хотел бы поговорить с мадемуазель Франсиной Ланж. — Кто ее спрашивает?
— Дивизионный комиссар Лекер.
— Минутку.
Meгрэ сидел напротив Лекера в пустом бюро, придерживая около уха отводную трубку.
— Алло! Вы не могли бы позвонить завтра утром?
— Нет.
— Через полчаса?
— Через полчаса я уже буду в дороге.
— Но мы только что приехали. Франсина… я хочу сказать, мадемуазель Ланж в ванне.
— Попросите ее от моего имени выйти.
Лекер подмигнул парижскому коллеге, потом снова послышался голос Люсьена Романеля, ее любовника:
— Сейчас подойдет.
— Алло! — Голос казался более отдаленным, чем у ее приятеля.
— Мадемуазель Ланж, сегодня утром вы мне заявили, что остаетесь на два—три дня в Виши…
— Да, у меня было такое намерение. Потом я передумала.
— Могу спросить почему?
— Я могу вам ответить, что передумала. Это мое право, не так ли?
— Так же, как и мое запастись опросным листом и заставить вас говорить
— Какая разница, в Виши я или в Ла-Рошели?
— Для меня большая, и очень. Повторяю вопрос; что заставило вас изменить свое намерение?
— Я испугалась.
— Чего?
— Вы это прекрасно знаете Сегодня утром я убеждала себя, что он не осмелится…
— Говорите яснее, пожалуйста Страх? Отчего? Испугались чего?
— Человека, задушившего сестру. Уж если он прикончил ее, то способен взяться и за меня!
— По какой причине?
— Не знаю…
— Вы с ним знакомы?
— Нет.
— Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, кто это может быть?
— Нет.
— Однако в полдень, сообщив мне о намерении продлить ваше пребывание в Виши, вы тут же впопыхах покинули отель.
— Я испугалась.
— Лжете… Точнее, имеете особую причину бояться.
— Я вам сказала: он убил сестру. Он мог бы и меня…
— За что?
— Не знаю.
— И вам неизвестна причина убийства сестры?
— Знала бы, сказала.
— Почему в таком случае вы не рассказали о телефонном звонке?
Он живо представил ее себе в купальном халате, с мокрыми волосами, в комнате, где стоят раскрытые чемоданы. Имеется ли у них отводная трубка? Если нет, значит, Романель стоит перед ней, бросая вопрошающие взоры.
— Каком звонке?
— Том самом, вчера вечером в вашем отеле.
— Не понимаю, о чем вы?
— Нужно ли напомнить вам слова вашего собеседника? Не советовал ли он вам остаться на два-три дня в Виши? Не сказал ли, что вы могли бы получить крупную сумму денег?
— Я и не слушала.
— Почему?
— Приняла за шутку. А у вас не такое впечатление?
— Нет.
Это «нет» прозвучало весьма сухо, затем последовало угрожающее молчание. Женщина на другом конце провода растерялась, пришла в замешательство и подыскивала слова.
— Повторяю, я приняла это за фарс…
— И часто вам устраивают такого рода фарсы?
— Ну, не такого рода.
— Не этот ли телефонный разговор напугал вас настолько, что заставил срочно покинуть Виши?
— На меня это сильно подействовало.
— Что именно?
— Знать, что убийца все еще в городе. Какая женщина не испугается при мысли, что душитель бродит по улицам?
— Отели, однако, не опустели. Слышали вы когда-нибудь этот голос?
— Не думаю.
— Голос особенный, своеобразный.
— Не заметила. Была слишком удивлена.
— Только что вы говорили о дурной шутке, розыгрыше.
— Я устала, еще позавчера я была на Балеарских островах и с тех пор почти не спала…
— Это не причина для лжи.
— Я не привыкла к допросам, тем более по телефону! меня буквально вытащили из ванны.
— Если хотите, через час вам нанесет официальный визит мой коллега в Ла-Рошели, и все вами сказанное будет должным образом запротоколировано.
— Но я же отвечаю.
Глаза Мегрэ лучились смехом. Лекер показывал образец работы. Может быть, Мегрэ иначе взялся бы за дело, но результат был бы тот же.
— Вы знали, что полиция разыскивает убийцу. Не могли вы не понимать, что малейшее указание могло быть ценным для нас.
— Ну да.
— Так вот, вполне возможно, что ваш собеседник как раз и есть тот самый убийца. Вы об этом подумали, мало того, были уверены, поэтому и испугались. Однако вы производите впечатление женщины далеко не робкого десятка…
— Я подумала об этом, но не была уверена.
— Любой на вашем месте позвонил бы и поставил нас в известность. Почему вы этого не сделали?
— Я только что потеряла сестру, единственного родного человека, и только сегодня ее похоронили…
— Отвечайте на вопрос!
— Вы могли бы меня задержать…
— И какие такие срочные дела призывают вас в Ла-Рошель? Ведь вы предполагали остаться на Балеарах еще несколько дней.
— Меня угнетала атмосфера. Одна мысль о том, что этот человек…
— А может быть, скорее мысль, что из-за этого звонка мы могли бы задать вам несколько вопросов?
— Вы могли бы меня использовать как приманку. Если бы он меня вызвал, назначил встречу, вы бы меня послали и…
— И?
— Ничего… Я боялась…
— Почему задушили вашу сестру?
— Откуда мне знать?
— Кто-то встретил ее после долгих лет, последовал за ней и вошел к ней?
— Я думала, она застала его, когда он грабил…
— Не так вы наивны. Он хотел задать ей вопрос, важный вопрос.
— Какой?
— Это именно то, что я стремлюсь выяснить. Ваша сестра получила большое наследство, мадемуазель Ланж…
— От кого?
— Об этом-то я вас и спрашиваю…
— Мы обе получили наследство от матери, но она не была богата. Лавочка в Марсильи трех су не стоила, да несколько тысяч франков в сберегательной кассе…
— Ее любовник был богат?
— Какой любовник?
— Тот, который приходил к ней в квартиру на улице Нотр-Дам де-Лоретт…
— Я не в курсе.
— Вы встречали его когда-нибудь?
— Нет…
— Не разъединяйте! Нам, как видно, еще долго придется… Алло!
— Я слушаю.
— Ваша сестра была машинисткой, вы маникюршей.
— Я стала косметичкой.
— Допустим… Две девочки из Марсильи, родители состояния не имели. Вы обе уехали в Париж.
— И что в этом исключительного?
— Вы утверждаете, что ничего не знаете о делах и поступках сестры. Даже не могли сказать, где она работала.
— Прежде всего между нами была большая разница в годах, и потом мы никогда не ладили между собой с детства…
— Я не закончил. Вышло так, что вскоре вы совсем молодой стали во главе парикмахерской в Ла-Рошели, она должна была стоить недешево.
— Часть денег я выплатила по годовому заемному обязательству и по векселям.
— Возможно. Позднее мы выясним этот пункт. Сестра ваша некоторым образом отошла от вашего круга. Сначала она прожила несколько лет в Ницце. Вы ездили к ней?
— Нет.
— Знали ее адрес?
— Она прислала мне три или четыре открытки.
— За пять лет?
— Нам нечего было сказать друг другу.
— А когда она переселилась в Виши?
— Она мне не говорила.
— Не написала, что переселилась в этот город и купила там дом?
— Я узнала об этом от друзей.
— Каких друзей?
— Уж и не помню. Люди, встретившие ее в Виши.
— Они с ней говорили?
— Возможно. Ах, вы меня путаете… Лекер, довольный собой, подмигнул Мегрэ.
— Были вы в «Лионском кредите»?
— Какой кредит?
— Банк в Виши.
— Нет.
— И не полюбопытствовали узнать, какую сумму вы наследуете?
— Этим займется мой нотариус в Виши. Я в этих делах не разбираюсь.
— Однако человек вы деловой. Знаете, какая сумма на счету вашей сестры?
Последовало молчание.
— Я вас слушаю.
— Не могу вам ответить.
— Почему?
— Потому что не знаю.
— Тогда вы удивитесь, узнав, что сумма приближается к полумиллиону франков.
— Так много? — произнесла она спокойным тоном.
— Это много для скромной машинистки, отправившейся однажды из Марсильи и проработавшей в Париже всего десять лет.
— Она не делилась со мной признаниями.
— Подумайте, прежде чем отвечать. У нас имеются возможности проверить ваши слова. Когда вы обосновались в Ла-Рошели, первые взносы сделала ваша сестра.
Снова молчание… По телефону оно кажется более внушительным, чем когда собеседник находится у вас перед глазами.
— Вам нужно подумать?
— Она одолжила мне немного денег.
— Сколько?
— Это надо спросить у моего нотариуса.
— Ваша сестра жила в это время в Ницце?
— Возможно… Да.
— Значит, вы поддерживали с ней отношения, а не только обменивались почтовыми открытками?
— Мне пришлось туда поехать.
— Минуту назад вы утверждали обратное
— Ах, я путаюсь в ваших вопросах. Вы меня сбиваете.
— Однако они совершенно ясны, не в пример вашим ответам.
— Это все?
— Нет еще. Настоятельно советую вам не обрывать разговор, в противном случае я буду вынужден прибегнуть к малоприятным мерам. На сей раз мне нужен ясный ответ: да или нет! В запродажном акте купленного вами предприятия чья подпись фигурирует: ваша или вашей сестры? Иначе говоря, кто подлинный владелец? Вы или ваша сестра?
— Мы обе.
— Значит, вы были компаньонами и хотите меня уверить, что не имели с сестрой никакого контакта?..
— Это дела семейные и никого не касаются.
— Но не тогда, когда налицо преступление.
— При чем тут это?! Здесь нет никакой связи.
— Если вы так полагаете, почему же вы впопыхах, как угорелая, покинули Виши?!
— Вы намерены задавать мне еще и другие вопросы?
Мегрэ кивнул головой, схватил карандаш и написал несколько слов на бумаге.
— Минутку! Не бросайте трубку! У вас был ребенок, не правда ли?
— Я вам об этом говорила.
— Родили вы в Париже?
— Нет.
— Почему?
На записке Мегрэ было написано: «Где она родила? Где записан ребенок?»
— Не хотела, чтобы знали.
— Куда вы отправились?
— В Бургонь.
— В какое место точно?
— Мениль де Мон.
— Это поселок?
— Скорее деревушка.
— Там был врач?
— В то время нет.
— И вы выбрали для родов глухое захолустье, без врача? — А как рожали наши матери?
— Сами выбрали это место? Вы там раньше бывали?
— Нет, я выбирала по дорожной карте.
— Отправились туда одна?
— Как же вы допрашиваете обвиняемых, если так терзаете ни в чем не повинных людей?..
— Я вас спросил, вы поехали туда одна?
— Нет.
— Это уже лучше. Вы видите, что проще говорить правду, чем хитрить. Кто вас сопровождал?
— Моя сестра.
— Это было в то время, когда вы обе жили в Париже, по вашим словам, встречались лишь случайно. И вы уверяете меня, что даже не знали, где она работала.
— Меня это не касалось.
— Вы не любили друг друга, не имели почти никакой связи между собой, и вдруг она бросает работу, чтобы следовать за вами в глухую деревушку в Бургони?
Она молчала, не зная, что ответить.
— Сколько времени вы там оставались?
— Месяц.
— В гостинице?
— На постоялом дворе.
— Принимала акушерка?
— Не уверена, что это была акушерка, но она принимала у всех беременных женщин в том краю.
— Как ее зовут?
— Ей было тогда лет 65, она, наверное, давно умерла.
— Не помните имя?
— Мадам Радеш.
— Вы записали ребенка в мэрии?
— Ну конечно…
— Сами?
— Я была в постели. Сестра пошла туда с хозяином нашей харчевни, он же и был свидетелем.
— Видели вы потом запись в мэрии?
— С чего бы я туда пошла?
— Есть у вас копия метрического свидетельства о рождении ребенка?
— Столько времени прошло с тех пор…
— Куда вы потом направились?
— Послушайте, если вы намерены допрашивать меня часами, приезжайте сюда! Я больше не могу!
Лекер невозмутимо спросил:
— Куда вы отвезли ребенка?
— В Сент-Андре. Сент-Андре дю Лавион, в Вогезах.
— В машине?
— Тогда у меня еще не было машины.
— А у сестры?
— Она никогда не водила.
— Она сопровождала вас?
— Да! Да! Да! А теперь можете думать все, что вам угодно. Я больше не могу! Понимаете, не могу! Хватит!
И она швырнула трубку.
Перевод с французского В. РОВИНСКОЙ.
(Окончание в следующем выпуске)
III стр. обложки
Примечания
1
Печатается с сокращениями.
(обратно)2
Уроки, уставы — подати, налоги.
(обратно)3
Итиль, Саркел — Волга, Дон.
(обратно)4
Окончание. Начало в предыдущем выпуске «Искателя».
(обратно)5
Документ, записка (жарг.).
(обратно)

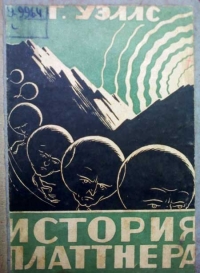
Комментарии к книге «Искатель, 1982 № 03», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев