СЕРГЕЙ ПОДГОРНЫЙ
Научно-фантастическая книга
Художник СЕРГЕЙ ВАСИЛЕНКО
ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
1
Раздался резкий хлопок, и машина тут же клюнула капотом вправо. Швартин машинально, с окаменевшим лицом, вдавил педаль тормоза; под колесами захрустела оплавленная солнцем щебенка.
— Приехали… — сказал Швартин через полминуты, откидываясь на спинку сидения, пережидающе вздыхая и вытирая локтем со лба пот.
— Скат?.. — полувопросительно произнес Евтеев; болезненно морща худое, длинное лицо, он тер ушибленный висок.
— Да, — сказал Швартин, потом открыл дверцу и устало вылез из машины.
Солнце уже переползло зенит, но лишь сильнее давило тяжелым зноем. Зной опускался сверху — с ярко-голубого, без единого облачка неба, зной поднимался из-под ног от черного от солнечного загара щебня. Каменистая, ни единого кустика травы лощина, окруженная каменистыми холмами, в которой у них лопнул правый передний скат, была как исполинская духовка. Дрожали ясно зримые, струящиеся вверх потоки воздуха; впереди, у изгиба лощины, виднелся уже привычный мираж: озерко с темно-синей водой.
— Черт… не мог лопнуть перед закатом, — устало, с вялым раздражением посетовал Швар-тин, тяжело опускаясь на корточки в короткой тени машины. Евтеев присел рядом, протянул пачку сигарет. Ветра почти не было. Метрах в трех от них, легко перебирая волосатыми ножками, пробежала фаланга. Евтеев посмотрел на нее с невольным отвращением и испугом, Швартин — почти равнодушно.
— Спешить не будем, — затягиваясь противно хрустящей в пальцах сигаретой, сказал он, провожая фалангу взглядом. — Натянем тент, немного отдохнем… Ты есть не хочешь? Евтеев лишь покачал головой: какая еда? Сейчас бы холодного кваса…
Он не думал, что будет так плохо переносить жару, становился вялым уже через час после восхода безжалостного гобийского солнца, к обеду чувствовал полную разбитость, острую боль в голове, и оживлялся лишь после захода, когда сухой невыносимый зной начинал сменяться острой прохладой.
Они натянули тент и легли на расстеленное в его тени одеяло. Евтеев почувствовал, как только что выпитый теплый чай выступил густой испариной по всему телу, заструился ручейками пота. Швартин, раскинув в сторону руки, вскоре задремал. Невольно завидуя его железному здоровью и выносливости, Евтеев старался последовать его примеру, но боль в голове не давала уснуть. Он лежал, страдая от уже душного — теперь, под тентом — зноя, безнадежно мечтал о прохладном ветерке, туче, которая закроет солнце и разразится проливным дождем (какое было бы наслаждение стоять, смеясь от счастья, под его тугими струями!..), пытался целенаправленно думать, систематизировать свои впечатления последних дней, но мозг наполняла мутная, вязкая пустота, в которой путались и растворялись обрывки мыслей, и он оставил эти попытки, лежал, распластанный, на одеяле и, закрыв глаза, боролся со зноем и головной болью.
Вдруг снова вспомнился — и Евтеев опять удивился навязчивости этого воспоминания — тот несчастный случай, дорожно-транспортное происшествие, невольным свидетелем которого он стал в конце апреля утром.
Евтеев вышел из троллейбуса и пошел к станции метро «Завод „Большевик“». Возле бочки с квасом стояла нетерпеливо сосредоточенная очередь человек в пятнадцать; Евтеев посмотрел на противоположную сторону улицы и увидел на самом краю тротуара переминавшегося с ноги на ногу, озирающегося по сторонам средних лет мужчину. Он показался странно знакомым, и Евтеев, всматриваясь в него, даже замедлил шаги. Ему казалось, что он вот-вот вспомнит, кто это, он чувствовал, что ему крайне важно вспомнить, но все не мог и понял, что мешает борода: когда он видел этого человека, тот еще не носил бороду.
Бородач переминался, взглядывая на густой поток мчащихся по улице машин как-то лихорадочно и суетливо, с нетерпеливой досадой ожидая появления в этом потоке просвета; было видно, что он куда-то опаздывает, а его ближайшая, сиюминутная, вожделенная цель — бочка с квасом.
«Наверно, жажда разбирает человека, — покачал головой Евтеев, вглядываясь. — Да… Но кто это, кто? Почему мне кажется, что я его знаю? Почему мне так хочется вспомнить, кто это?.. Отчего для меня это важно?..»
Но как он ни замедлял шаги, а все-таки проходил мимо и уже приходилось оглядываться: просто остановиться и подождать этого странно знакомого человека он почему-то не мог решиться — по не осознаваемой вполне, но — чувствовал — мелкой, пустяковой причине. Он уже потерял надежду вспомнить его, ускорил шаги, когда вдруг за спиной, на середине улицы, криком беды взвизгнули тормоза и — глядя в то место на асфальтовом полотне — вскрикнула шедшая ему навстречу женщина. Сразу похолодев, Евтеев резко обернулся…
«Но кто же, кто это был?.. — обхватив ладонями раскалывающуюся от боли голову, вяло распластанный на одеяле, старался догадаться он. — Почему меня преследует это воспоминание?.. Где я мог видеть этого человека?..»
И вдруг он вспомнил, тут же с облегчением вздохнув. Это было в редакции одного научно-популярного журнала. Фамилия этого человека была Сюняев. Евтеев вошел, когда заведующий отделом пытался закончить с Сюняевым разговор. Казалось, Таран, как никогда, обрадовался его приходу, поднявшись из-за стола, подчеркнуто любезно поздоровался, всем своим видом давая понять бывшему у него посетителю, что пришел, наконец, человек, которого он с нетерпением ждал, у этого человека очень мало времени, и поэтому он — Таран — теперь крайне занят; он очень просит Сюняева извинить, но — увы — зайдите как-нибудь на днях, если хотите продолжить беседу.
— Хорошо, — сказал мрачно Сюняев, — я постараюсь учесть все ваши замечания и зайду на следующей неделе.
За мрачностью Сюняева от глаз Евтеева не укрылось выражение усталой безнадежности, какой-то щемящей беззащитности и стыда, словно тот каждой клеткой тела чувствовал, что унижается, и так же глубоко понимал, что у него нет иного выхода. Евтеева поразил его взгляд; впоследствии он признался себе, что никогда не видел такого умного, все понимающего и с такой затаенной болью взгляда.
— Кто это? — спросил он, едва Сюняев закрыл за собой дверь.
— Кто?.. — развел руками Борис Афанасьевич, притворно устало вздыхая. — Конечно, гений. Некто гений по фамилии Сюняев, — добавил он, иронически улыбаясь и качая головой, словно бы говоря этим: «Да, нелегка наша доля, на кого только не приходится тратить время…»
— В каком смысле «гений»? — прикинулся не совсем понявшим Евтеев, чувствуя, что крайне заинтересован этим почти мельком виденным им человеком.
— Вам ли объяснять, Борис Иванович?.. — снисходительно улыбнулся Таран.
— И все же?
— Это он уже второй раз был сегодня, — пояснил заведующий отделом. — Настойчивый товарищ… Представьте, приходит человек и без тени сомнения, скромно так заявляет, что он открыл — ни много, ни мало — закономерности, законы, по которым развивается социальная эволюция. Все это изложено в статейке, которая у него в портфеле, он будет рад ее предложить. Благодаря в ней изложенному ничего не стоит детально — заметьте — представить, как будет развиваться земная цивилизация ну, хотя бы в ближайшую тысячу лет…
Таран откинулся на спинку стула, желая насладиться эффектом, но Евтеев слушал хотя и удивленно, но серьезно и сосредоточенно.
— Нет, каково?.. — улыбнулся Таран. — И ведь — главное — у него нет даже высшего образования, смог в каком-то институте осилить только три курса, работает где-то в библиотеке завхозом…
— И все-таки, Борис Афанасьевич… — задумчиво покачал головой Евтеев. — А вы читали эту его статью?
— С какой стати?.. — пожав плечами, хмыкнул Таран. — Мне что, больше нечего делать?
— Понятно… — вздохнул Евтеев все в той же глубокой задумчивости, в странном впечатлении от личности этого еще десять минут тому назад неведомого ему Сюняева.
— Очень хочется с ним поговорить, — подвел итог своим мыслям он, глядя на Тарана чуть извиняющимся взглядом, — почитать эту его статью. У меня такое впечатление, что там может быть что-то интересное.
— Борис Иванович!.. — замахал руками Таран. — Вы действительно увлекающаяся натура. Раньше не верил, но теперь сам вижу…
— И все-таки мне очень хочется с ним поговорить, — просяще, но настойчиво повторил Евтеев. — У вас нет его адреса?
— Увы… — без сожаления развел руками Таран. — Но, если вам так хочется, я возьму у него: ведь он явится на следующей неделе.
На следующей неделе Сюняев не явился. Больше он не появлялся в редакции этого журнала; с течением времени Евтеев потерял надежду на встречу с ним, но встреча все же состоялась — та, трагическая, апрельским утром, воспоминания о которой стали навязчивыми, преследовали даже здесь — среди холмов, гор и бескрайних просторов Гоби.
«Но почему же смерть этого почти неведомого мне человека я ощущаю такой невосполнимой утратой?.. — думал Евтеев, забыв про головную боль. — Почему так сожалею, что не был знаком с ним, не поговорил ни разу? Откуда чувство, что его смерть — это глубокая утрата и для меня лично, и не только для меня?.. — старался понять он. — И нет, не чувство даже — убеждение… Почему я еще тогда, в редакции, когда только увидел Сюняева, так внутренне воспротивился „проницательности“ Тарана, а теперь, когда уже ничего воротить и изменить нельзя, вспоминаю об этой его „проницательности“ и самоуверенном высокомерии с ненавистью?.. Что за странное наваждение?..»
Швартин вдруг зашевелился, чуть подняв голову, потряс ею, а потом перевернулся на спину и резко сел, тут же начав протирать глаза.
— Без пяти три… — сказал он сам себе, взглянув на циферблат часов. — Борис, ты спишь?
— Нет… — грустно ответил Евтеев.
— Будем шевелиться: до вечера еще далеко… Если верить карте и тому парню с худона,[1] километров через пять будет хороший источник, наберем воды.
— Будем шевелиться!.. — деланно бодро заявил Евтеев.
2
Начало этой «экспедиции за призраками», как я мысленно называю наше путешествие, положило внезапное страстное увлечение Бориса.
Бывает порой так: живет себе человек — образованный, от природы любознательный, интересующийся, казалось бы, всем, что может представлять интерес для человека, стремящегося представить картину окружающего нас Мира как можно более глубоко и полно, и вдруг — совершенно для себя неожиданно — он открывает, что мимо его внимания каким-то странным, непостижимым образом проходила огромная, увлекательная и загадочная область; и он бросается в постижение этого, дотоле ему неизвестного со всей страстью любознательности и — конечно — надеждой получить ответы хотя бы на некоторые из тех «проклятых вопросов», которые частоколом выстраиваются, ограничивая горизонт, перед каждым, кто по-настоящему стремится понять окружающий нас Мир.
Именно это и произошло с Евтеевым, интересовавшимся, кроме прочего, различными психическими феноменами вроде телепатии, кожного зрения, ясновидения, телекинеза и т. п., чудесами йогов, эзотерическими знаниями, такими, как календарь майя, или знания о Вселенной, передаваемые из поколения в поколение в племени дагонов, и вдруг столкнувшегося с загадкой Шамбалы.
Надо сказать, что Борис — натура хоть и увлекающаяся — никогда не увязал с головой в тех проблемах, которые считал частными, то есть — лишь кусочками мозаики из «грандиозной и целостной» — его слова — картины Мироздания. Его главной задачей, самим перед собой поставленной, было увязать все эти кусочки в единое, угадать по одним, уже имеющимся, какими должны быть другие — недостающие. Психические феномены, эзотерические знания интересовали его поэтому не сами по себе, как нередко бывает, а лишь как надежда найти ответы на более общие вопросы, «всего» два: «Что же такое — Мир вокруг нас?» и «Как могла возникнуть Жизнь, случайность она или закономерность, в чем ее смысл?» И все-таки ни самому себе, ни мне Евтеев не мог толком объяснить, как получилось, что из его поля зрения так долго ускользала тайна Шамбалы.
Необходимо рассказать, как мы познакомились. Я ехал с работы в метро, сев на Крещатике, и, по обыкновению, едва устроившись так, чтобы можно было стоять, не испытывая толкотни, раскрыл книгу; это, по счастливой случайности, была «Сердце Азии» Николая Рериха, причем, я читал в тот момент как раз главу, где он говорит о Шамбале.
Едва я достал и раскрыл книгу — заглавие ее нельзя было видеть, — как почувствовал, что на нее уставился высокий, худой и длиннолицый болезненного вида тип, стоящий метрах в трех за густой толпой пассажиров. Не прошло и полминуты, как он, словно притягиваемый магнитом, начал пробираться ко мне — извиняясь, вежливо спрашивая разрешение пройти, но в то же время с крайней целеустремленностью; еще через полминуты он стоял, слегка привалившись грудью к моей спине, и, дыша над ухом, заглядывал через плечо в книгу. Как человек, считающийся воспитанным и сдержанным, не выказывая вполне понятного удивления, я продолжал читать, думая невольно об этом странном незнакомце. А он уже покашливал, переминался с ноги на ногу и явно хотел обратиться с вопросом. Я был так удивлен странным поведением, что не чувствовал даже раздражения, хотя терпеть не могу, когда мне заглядывают через плечо.
— Интересная книга? — спросил он извиняющимся тоном.
— Да, — кивнул я с занятым видом.
— Простите, а вы что же, интересуетесь всем этим: Азией, шамбалами?.. — глуповато-настойчиво спросил он…
Так началось мое знакомство с загадочным Евтеевым.
Позже, когда между нами установились приятельские отношения — а произошло это чрезвычайно скоро благодаря открытости и непосредственности Бориса, когда он, руководствуясь ему одному известными признаками, сразу доверял встреченному человеку, — я спросил, почему он тогда подошел ко мне в вагоне метро?
Все оказалось не так, как я думал, совсем не лестно для меня: он просто не мог спокойно смотреть, как кто-то читает книгу, ему обязательно надо было подойти и узнать, что же люди читают, что читает именно этот человек. Можно не говорить, что это необоримое любопытство доставляло ему немало неприятностей: не все, к сожалению, оказывались сдержанными, как я.
Знакомство наше наверняка не оказалось бы глубоким и продолжительным, если бы Евтеев не узнал, что я увлекаюсь альпинизмом — мастер спорта — и фотографией. И не состоялось бы вообще, если бы в руках у меня оказалась книга о другом. Это было время, когда его увлечение загадкой Шамбалы достигло апогея. Он уже прочитал все, что хоть как-то касалось этой загадки, все, что смог при своей настойчивости достать, и на основе небогатых, из книги в книгу повторяющихся с небольшими вариациями сведений строил собственные гипотезы.
Евтеев был человеком, которому действительно надо понять, и это выгодно отличало его от других добровольных «исследователей» тайны Шамбалы, которые, не успев опереться о какую-то твердую почву, сразу начинают блуждать в тумане слухов и чужих домыслов, сгущая этот туман своими собственными; получается не исследование проблемы, а фантазирование на ее тему.
Евтееву надо было понять, и он сразу пошел другим путем.
Но прежде, так как, возможно, не всем ясно, о чем идет речь, я хочу — разумеется, вкратце — привести сведения о Шамбале, разбросанные по страницам некоторых книг.
Шамбала, что в переводе — Северная страна (она же Тебу, Баюль, Калапа в Индии, Беловодье на Алтае) — охранное, недоступное для других место, где находится община Махатм (Махатма в переводе — великая душа).
Границы Шамбалы обозначены знаками Шамбалы. За этими границами начинают действовать некие неизвестные силы, мешающие дальнейшему продвижению.
«Тибетцы толкуют, — пишет Н. Рерих в книге „Алтай — Гималаи“, — что во время бегства далай-ламы в 1904 году, при переходе через Чантанг и люди, и кони почувствовали „сильное трясение“. Далай-лама пояснил, что они находятся в заповедной черте Шамбалы».
Сама Шамбала, надежно огражденная от внешнего мира, находится якобы в подземных помещениях и даже пути в нее ведут подземными ходами.
Существуют старинные карты, на которых указано месторасположение Шамбалы (чаще всего в верховьях Инда), но между этими картами имеются значительные расхождения. Н. Рерих в цитировавшейся выше книге утверждает, что местоположение Шамбалы было известно некоторым ламам, далай-ламе и таши-ламе, а так же, как утверждает, ему самому.
Махатмы — люди «очень высокого роста», «великие мудрецы» (мужчины и женщины), знания которых о мире, о законах природы, о прошлом и будущем — «необъятны». Они живут общиной, в которой нет частной собственности, равные и свободные. Они всегда приносят добро и помощь и стремятся просветить людей.
Порой Махатмы появляются среди людей, более того, в Тибете якобы известны школы, основанные Махатмами.
Чинтамани (в переводе — сокровище мира) — камень. В Тибете существует древняя легенда, что он привезен на Землю из созвездия Орион. Указывается даже время — 9 век до нашей эры. Крылатый конь Лунг-та, способный пересекать Вселенную, принес шкатулку с четырьмя священными предметами, среди которых был и Чинтамани.
Материал камня родом из «другого мира», а его «внутренний жар» оказывает сильное психическое воздействие. Изменением своих качеств Чинтамани может предсказывать будущие события. Наибольшая часть камня — со времени его появления на Земле — хранится в Башне Шамбалы, но маленькие его кусочки якобы доставляются иногда в определенные пункты земного шара. Эти кусочки какими-то энергиями связаны с камнем в Башне Шамбалы и могут получать и передавать информацию. (В преданиях упоминаются даже реальные страны и исторические личности, как будто бы владевшие временно фрагментами камня.)
Вот — вкратце — и все наиболее достоверные сведения о Шамбале и Махатмах, хотя домыслов к ним можно присовокупить тьму.
3
Несмотря на то, что был человеком увлекающимся, Евтеев с поразительной чуткостью ощущал малейшее противоречие и никогда не принимал на веру то, что не мог понять. В нем постоянно боролись между собой соблазн обольститься, свойственный увлекающейся натуре, и тревожный скептицизм, присущий тому, кто действительно хочет понять истину.
Хорошо, сказал он себе, пусть это правда, пусть Махатмы, Шамбала существуют, пусть ограждена она от внешнего мира некими неизвестными силами (полями), но тогда возникают «простые» вопросы.
Ведь даже великим мудрецам необходимо чем-то питаться, им нужны одежда, обувь и прочие обиходные вещи, не говоря уже о необиходных вещах. Торговлю или обмен они ни с кем не ведут, что же, занимаются натуральным хозяйством, выходит?
И — главное — в чем могут быть смысл, цель существования изолированной (по меньшей мере века) общины умных людей, чьи знания, как утверждается, безграничны?.. Ведь если нет высоких (а в данном случае — высочайших) смысла и цели, то эта община должна непременно деградировать, зайти в тупик и погибнуть в мучительной агонии никчемности существования; или, что является, пожалуй, единственной альтернативой отсутствию действительно высочайших смысла и цели, члены общины должны выдумать себе некое божество, а свои жизни посвятить служению ему (что слишком маловероятно, учитывая приписываемую им степень развития, их уровень знаний и те знания, которые они якобы несут в мир, людям во время иногда случающихся контактов).
С первым «простым» вопросом он справился довольно легко. Во-первых: а почему бы и нет? Почему бы им не вести «натуральное» хозяйство? Очень мудрое чередование занятий. Лев Толстой вот ходил же босой за плугом… К тому же, при их уровне не только знаний, но и технологий, технике (якобы побывавшие там описывают ведь бесчисленные лаборатории, оснащенные удивительными, совершеннейшими приборами) вести «натуральное» хозяйство, похоже, совсем не трудно.
Вопрос о смысле, цели существования такой общины оказался гораздо сложнее. Напряженные, неотступные размышления над ним отняли не одну неделю, и даже найдя, казалось бы, ответ, Евтеев не прекращал этих размышлений.
Ответ, на котором он остановился, можно сформулировать так: «Похоже, что сама сумма знаний о Мире, те возможности для интелекта и чувств, которые она открывает, могут быть и целью, и смыслом жизни и доставлять высшее счастье. Но знания эти должны быть действительно несоизмеримы с нашими».
И еще: «По-настоящему Великий ум — не отделим от Великой души, души, способной проникнуться и заботами другого человека и почувствовать себя на месте одного из бесчисленных электронов Мироздания. Лишь Великий ум в сочетании с Великой душой может почувствовать, понять весь окружающий Мир во всей его глубине, совокупности и внутренней взаимосвязи. Без Великой души даже самый мощный ум — это всегда что-то ущербное».
Евтеев, таким образом, пришел к выводу, что причин, делающих существование Шамбалы принципиально невозможным, нет.
Шамбала может существовать в действительности, понял Евтеев и поверил в ее существование…
4
Наше нечаянное знакомство в метро произошло в то время, когда вера Евтеева в существование Шамбалы и невольные надежды понять что-то новое в окружающем Мире, в нас самих, раз Шамбала — реальность, достигла апогея, но Евтееву уже пришлось отдать себе отчет в том, что, хотя он в нее уверовал, она по-прежнему остается тайной за семью печатями, набор фактов, которые можно принять за достоверные, оказался, несмотря на все его поиски, слишком скудным. А чем скуднее факты (к тому же сами по себе не безусловные) — тем больше простора для фантазии; круг замыкался. Но Евтеев был уже одержим Шамбалой и Махатмами, влез в эту загадку целиком, слишком много сулило ее разрешение, он не мог ее оставить, хоть порой приходил в отчаянье от собственного бессилия, от того, что так много — от недостатка фактов — может быть ответов на эту загадку.
Но, по-настоящему увлекшись, Евтеев становился поразительно деятельным.
«Хорошо, — решил он, — раз фактов почти нет и их нельзя больше найти на библиотечных полках — значит надо их добыть самому».
В свои сорок лет он порой мог быть таким же романтиком, как и в школьные годы. Он искренне уверовал в то, что сможет организовать экспедицию в Гималаи на поиски Шамбалы. Надо лишь найти журнал или газету, поддержкой которых можно заручиться. Это, по его тогдашнему мнению, не должно было стать делом сложным: разве издание, в чьих возможностях подобная экспедиция, не загорится столь грандиозной по своим последствиям идеей? Ведь тратятся же ими деньги на экспедиции, цели которых несравненно менее принципиальны, а то и вовсе не имеют никакого принципиального значения?.. Ведь в случае удачи — а почему ей быть неудачной при соответствующей подготовке, материальном и техническом обеспечении? — в случае удачи экспедиции это будет прорыв в дотоле неведомое, гигантский скачок в понимании того, на что мы пока еще только мысленно замахиваемся, и того, о чем пока даже не подозреваем; если экспедиция и не завершится полным успехом — и тогда добытые ею факты будут бесценными и многое уточнят в нашем миропонимании.
Он начал стучаться в редакции со своей «грандиозной идеей», наметил состав и подбирал участников этой «Экспедиции века», когда ему вдруг в метро подвернулся я — мастер спорта по альпинизму, фотолюбитель и специалист в области радиоэлектроники. Естественно, Евтеев счел меня счастливой находкой и, едва мы более или менее познакомились, испытывающе глядя своими всегда печальными глазами, предложил войти в состав экспедиции.
Я не мог принять всерьез его предложение, потому что не мог поверить в осуществимость его затеи, но сам Евтеев меня уже глубоко заинтересовал, был мне симпатичен, и, в надежде, что это укрепит наше знакомство, я ответил ему принципиальным согласием, хотя и попросил несколько дней для окончательного решения.
Стоит ли говорить, что из затеи Евтеева организовать экспедицию в Гималаи ничего не вышло, что он зря потратил время и энергию? Он стучался в редакции, порой находил там нескольких энтузиастов из числа молодых сотрудников, порой его идеей — а Евтеев мог говорить страстно и убедительно — как будто бы проникались даже те товарищи, от которых все и зависело, но в конце концов выяснялось, что пока это никак нельзя осуществить, и приводились убедительнейшие объективные причины.
— До недавнего времени, — сказал я как-то ему, — ты был известен, как хороший писатель, теперь ты стремительно зарабатываешь еще и известность подозрительного чудака.
— Если бы меня волновало это… — сказал он устало и махнул рукой.
Его действительно не волновало, какое впечатление производит он, мечась по официальным инстанциям с Шамбалой и экспедицией в Гималаи. Есть люди, болезненно чутко относящиеся к своей репутации, к сиюминутному мнению окружающих о себе; Евтеев же, надо отдать ему должное, тревожился не за саму репутацию, а за то, чтобы каждый прожитый день, каждый совершенный поступок соответствовали его представлениям о правильной, достойной жизни; репутация же помещалась на втором, если не на десятом месте.
Вряд ли он был таким всегда, но к моменту нашего знакомства — был.
Радужные мечты о экспедиции и ее эпохальных открытиях истаивали вместе с пониманием того, что она оказалась неосуществимой, но чем безжалостнее истаивали мечты, чем яснее становилось понимание, тем нестерпимее становилось сожаление о несостоявшихся открытиях, жажда их, которые, по убеждению Евтеева, могли дать Человечеству столь многое, и горечь от ощущения неожиданного тупика…
5
Лишь по горизонту очерченная рядами холмов и гор, вокруг простиралась хаммада — каменистая пустыня. «Нива» легко мчалась по ровной голубой дороге, которая перед капотом казалась совсем синей.
Увидев такое в первый раз (это случилось, когда, перевалив через хребты Гобийского Алтая, они спускались в широкую долину между горами Ихэ-Богдо-Ула и уже были различимы впереди белые юрты сомона Боян-Гоби), Швартин остановил машину, и они, выйдя на дорогу, набрали по горсти… серых щебня и пыли.
Все дело было в гобийском солнце: по сторонам щебень был темным, а на дороге гораздо светлее; в Гоби, когда солнце стоит высоко, серый цвет кажется голубым или светло-синим.
В открытые окна машины бил горячий, словно из калорифера, воздух.
Швартин чувствовал себя за рулем спокойно и свободно: ничего не случилось бы, если б он вообще бросил руль: все вокруг было точно такой же дорогой, как и прикатанная колесами машин голубая полоса, по которой они ехали; лишь изредка, словно бородавки на темной коже, топорщились невысокие кочки, поросшие дерисом.
— Что это там?.. — показал Швартин взглядом вправо, где в знойном просторе хаммады виднелось несколько черных точек.
Евтеев поднял с колен бинокль и высунулся в открытое окно.
— Хаптагаи, — сказал он, — дикие верблюды… Девять штук, — добавил после минутной паузы.
Швартин без лишних слов остановил машину, прошел вокруг капота на место Евтеева, а сев — сразу потянулся за фотокамерой с мощным телеобъективом, лежащей наготове на заднем сидении.
— Только не тормози так резко, как прошлый раз… — попросил он.
6
«Гималайская экспедиция» прогорела, но Евтеев не мог примириться с этим фактом, он выглядел совершенно больным.
— Ведь это же не Марс и даже не Луна, — обхватив виски ладонями, качал головой он. — Ведь это же у нас под самым боком… Не понимаю!..
— Да есть ли она, Шамбала, в действительности? — пытался я посеять в нем сомнение, видя, что дело зашло слишком далеко. — Все эти «факты» — они лишь более или менее правдоподобны, среди них нет ни одного достоверного. Я тоже немало читал по этому поводу, и у меня сложилось мнение, что не стоит принимать легенду о Шамбале близко к сердцу. Взять, например, Николая Рериха. Замечательный художник, человек многогранный и разносторонний… Да что повторяться: о нем в последние годы достаточно писалось и пишется. Мое знакомство с Шамбалой, Махатмами началось именно с его книг…
Евтеев делал вид, что слушает, и рассеянно вертел на крышке журнального столика чашку с кофе.
— Так вот, — продолжал я не смущаясь, зная, что он все равно заинтересуется. — Рерих был страстным пропагандистом Шамбалы, Махатм, он, безусловно, в них верил, он страстно хотел, чтобы они действительно существовали…
— Он ведь встречался с Махатмами, — вздохнув, вяло бросил Евтеев.
— Встречался?! — подчеркнуто удивился я.
— Ну да… — пожал плечами Евтеев. — В 1926 году, после окончания первой половины своей трансгималайской экспедиции, собираясь в Советский Союз, в Москву, он официально мотивировал цель этой поездки тем, что выполняет поручение Махатм. В июне 1926 года он передал Чичерину «Послание Махатм». А затем, перед предстоящим путешествием из Алтая в Гималаи через Монголию, направляя в Наркомат иностранных дел просьбу о советском экспедиционном паспорте, он снова мотивирует ее выполнением поручений Махатм… Ведь тебе все это прекрасно известно, — усмехнулся, глядя прищуренными глазами Евтеев. — Более того, в 1927 году в Улан-Баторе Рерихи издали книгу «Община», представляющую собой записи бесед с Махатмами во время экспедиции.
— Вот в этом все и дело… — вздохнул я. — Дай-ка мне текст этого «послания».
Евтеев со скрываемым недоумением встал и, порывшись несколько минут на полках стеллажей, протянул книгу Валентина Сидорова «На вершинах».
— Слушай внимательно, — попросил я и начал читать: — «На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь Космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага.
Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также мы признаем своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения совершатся в годах 28–31 — 36. Привет Вам, ищущим Общего Блага!»
— Ну и?.. — сказал Евтеев, напряженно застыв, пристально глядя на меня, но в его глазах я увидел зреющее понимание. Без сомнения, он и сам подспудно думал об этом, хотя лишь подспудно, потому что был поглощен сбором доказательств в пользу Махатм и Шамбалы, а потом и гималайской экспедицией.
— Что здесь хоть отдаленно напоминает написанное «высокоразвитыми людьми, чьи знания беспредельны»? — спросил я его в лоб. — Что?.. И не напоминает ли тебе стиль послания стиль письма самого Рериха?..
— Да… — ошеломленно проговорил Евтеев, глядя в одну точку и задумчиво потирая ладонью подбородок.
А «Община» — якобы запись бесед с Махатмами?.. — продолжал наступать я. — Ведь это полнейшая философская путаница! Недаром сами Рерихи никогда больше ее не издавали. Если бы книга не была проникнута добрыми чувствами, желанием добра, симпатией и сочувствием к тому, что происходило в те годы в нашей стране, ее вряд ли упоминали бы даже рерихоманы — настолько она, с одной стороны, воплощение доброй воли, а с другой — свидетельство поверхностнейшего и путаного знания всего, что относится к области социологии. Разве не так?.. Лишь присущий стилю Рериха символизм придает этому сочинению некое величавое глубокомыслие.
— Действительно… — проговорил Евтеев и усмехнулся. — Я тоже обратил в свое время на это внимание, но почему-то не счел важным додумать эти мысли до конца…
— Значит, никаких встреч с Махатмами у Рериха не было и никаких поручений они ему не давали… — задумчиво произнес он через минуту.
— С Махатмами из Шамбалы — это уж точно… — подтвердил я.
— Но что же получается? — опять пожал плечами Евтеев, на время утрачивая интерес к Шамбале и Махатмам: его целиком захватила моральная сторона вдруг открывшегося. — Выходит, что Рерих был мистификатором?! Не могу в это поверить… Ну, ладно, пусть ему была так важна его трансгималайская экспедиция и именно такой ее маршрут, так хотелось побывать на родине, что он решил слукавить, чтобы дело было вернее, но издание в Монголии «Общины» в 1927 году?.. Что-то тут я недопонимаю…
— Мистификация чистейшей воды, — с глубоким сожалением подтвердил я.
— Повторяю, встреч с Махатмами из Шамбалы у него не было. Более того, его трансгималайская экспедиция и была — в первую очередь — именно попыткой найти Шамбалу или хотя бы встретиться с Махатмами.
— Ну, ты даешь! — ошеломленно и как-то по-детски покачал головой Евтеев.
Но я был хорошо подготовлен к этому разговору.
— Вспомни, что пишет Шапошникова, прошедшая в 1976 году дорогой экспедиции Рериха по Алтаю: «Его экспедиция не проходила по… главному пути движения народов через Алтай. Николай Константинович предпочел параллельный, на мой взгляд, второстепенный путь… Может, не только переселение народов его интересовало, но и что-то другое, что пока от нас скрыто? Как бы то ни было, проблема загадочного маршрута возникла и требует решения…»
У него ничего не вышло с поисками Шамбалы по пути из Индии, и тогда он решил пойти дорогой староверов, искателей Беловодья. Вчитайся внимательнее в его дневниковые записи, и ты поймешь, что было его главной целью в этой экспедиции. Он бредил Шамбалой и Махатмами, он был поглощен этой идеей!..
Я резко встал и взял с книжной полки Евтеева записи Рериха о трансгималайской экспедиции, изданные в 1974 году.
— Вот, страница 253: «… Вечером наши ламы читали молитвы Майтрейе и Шамбале. Если бы на Западе понимали, что значит в Азии слово Шамбала или Гесер-хан!»
Дальше (я перелистнул страницу): «Среди дождей и грозы долетают самые неожиданные вести. Такое насыщение пространства поражает. Даже имеются вести о проезде здесь Учителя (Махатмы) сорок лет назад…»
«Двадцатого июля получены указания чрезвычайного значения. Трудновыполнимые, но приближающиеся следствия. Никто в караване еще не подозревает о ближайшей программе», — я выделил эту фразу голосом.
«На следующий день опять важные вести, и опять спутники не знают о них. Сверяйте эти числа с вашими событиями…»
«…Вчера буряты пророчествовали что-то сумрачное. Именно: „Посылаются лучшие токи для счастливого решения дел“. Предполагаем выступить через Цайдам к Тибету девятнадцатого августа…»
Евтеев слушал с напряженным вниманием.
«Пятого августа. Нечто очень замечательное. В десять с половиной утра над станом при чистом синем небе пролетел ярко-белый, сверкающий на солнце аппарат…»
Я снова перелистнул страницу.
«За Ангар-Дакчином — Кокушили, те самые Кокуши, о которых знают староверы на Алтае, искатели Беловодья. Тут уж недалеко заповедные границы…»
Евтеев, глядя на меня далеким взглядом, задумчиво покачивал головой.
— И вот: «Ждем тибетские посты. Почему их нет? Что-то забелело вдали… Снег? Но нигде кругом снега нет… Шатер? Но это нечто слишком большое. Оказалось, гигантский гейзер глауберовой соли. Белоснежная, сверкающая на солнце глыба; уже заповедная граница», — снова выделил я голосом.
— Но я все-таки не могу понять, — после паузы принялся за свое Евтеев, — как он мог решиться на мистификацию?..
— Ничего слишком сложного, — ответил я. — Я много об этом думал. Эта мистификация не бросает тень на его имя, она лишь оттеняет черты его сложной, увлекающейся, в немалой степени противоречивой личности. — Я чувствовал досаду оттого, что приходилось уклоняться в сторону от цели, ради которой и затеял этот разговор.
— Во-первых, он ведь руководствовался самыми добрыми побуждениями; если в истории с «посланием» еще можно — при желании — усмотреть какие-то личные интересы, то в издании «Общины» они начисто отсутствуют даже для предвзятого взгляда. Его одержимая вера в Шамбалу, Махатм, убежденность в их чуть ли не решающей роли в жизни Азии, крайне преувеличенное представление об их авторитете густо рассыпаны по страницам его книг. Сам он в то время не обладал широкой известностью, но страстно желал добра, считал свои мысли полностью созвучными мыслям Махатм, а свои намерения — взять то же «послание» — угодными им, и поэтому, как человек страстный и уверенный, что делает добро, решился опереться на авторитет Махатм и Шамбалы.
Так, наверно, все было, если в нескольких словах…
Евтеев долго молча курил, потом задумчиво усмехнулся:
— То есть выступил в роли посредника между Шамбалой и Человечеством. Скромная миссия, ничего не скажешь…
— Это может выглядеть и так, но — опять повторяю — он не думал об этом, а о том, как лучше сделать то добро, которое в его силах… Но мы с тобой заехали в сторону: разговор ведь идет о существовании Шамбалы. Главное то, что если Рерих и встречался с какими-то «Махатмами», то к Шамбале они не имели ни малейшего отношения. Его сведения обо всем этом, хотя он и считается признанным авторитетом по части Шамбалы, почерпнуты из десятых рук, и нет никаких оснований думать, что в основе этих легенд лежит что-то реальное. Шамбала даже не мираж, это миф, призрак. И не стоит так переживать, что экспедиция за призраком не удалась. Все твои надежды, связанные с Шамбалой, — это плод твоей фантазии, не больше. Так уж мы устроены, что — какой бы обыденной жизнью не жили — где-то в глубине души у нас всегда живет вера в чудесное; не ты первый, не ты последний, старик.
Я следил за выражением его лица, и мне показалось, что я его все-таки убедил; но так мне только показалось.
— Хорошо, — сказал он, — пусть Рериху не удалось найти Шамбалу и встретиться с Махатмами. Пусть. Но ведь даже то, как он верил в их существование, как, несмотря на лишения и опасности такого путешествия, упрямо стремился их найти — само по себе весомейший аргумент в пользу того, что они есть.
Евтеев был невменяем…
7
— Вот что меня глубоко поражает, — сказал Евтеев, прикурив сигарету. — Почему именно в таких, богом проклятых местах, — он кивнул за лобовое стекло на расстилавшуюся перед машиной Гоби: щебнистую, черную, с редко разбросанными кустиками травы, с зубчатой грядою гор на горизонте, — именно в таких местах, а не где-нибудь в сосновом бору, охватывает до каждой клетки тела, до невольного испуга ощущение и понимание огромности, необъятности, молчаливой загадочности мира?.. Ты не испытывал еще здесь подобного?
— Испытывал… — тоже удивился Швартин, — Особенно после заката, когда уже горят первые звезды… Потрясающее ощущение… И действительно — с чего бы оно?..
Голубой дороги впереди не было. Не потому, что солнце уже скатилось к горизонту, тени стали длинными: уже третий день они ехали без дорог по пустыне, которая началась за сомоном Баян-Гоби.
— Давай сменю, — предложил Евтеев, увидев, как Швартин устало вытер ладонью потный лоб.
— Буду держать вон на ту гряду, — показал взглядом Евтеев, когда сел на его место.
— Давай, — согласился тот. — Чем та гряда хуже соседних?..
— Думаю, мы доедем до нее до заката?
— В Гоби глазомер — вещь обманчивая… — с сомнением усмехнулся Швартин.
— Это да… — устало признал Евтеев.
— Странно… — продолжил оборванный разговор Швартин. — Вот Гоби… Щебень, песчаные барханы, такыры, скорпионы, чахлая трава, скалы, хребты и каменистые холмы… Полная скудность и неприглядность; когда солнце еще, вдобавок, печет — просто «врата в ад»; чем она, казалось бы, может обогатить, что дать уму и сердцу?.. А ведь не побывай я здесь — насколько был бы беднее, не подозревая этого.
— Я с тобой согласен… — задумчиво кивнул Евтеев. — В обыденной жизни, да и на «нормальной» природе тоже, отсутствует сознание, что Земля — это ведь просто пылинка во Вселенной; и чувства, и мысли сугубо земные, а вот здесь, еще, пожалуй, в горах…
— В горах тоже… — подтвердил Швартин.
— …мысли и чувства отчего-то сами собой, без малейших умысла или усилия проникаются Вселенной, Вечностью, Временем, Беспредельностью… Я пытаюся понять — отчего? От отрешенной враждебности здешней природы и в то же время от ее исполинских мощи и шири? От ее величественного и скупого разнообразия, которое не приковывает к себе мысли и чувства, а становится для них чем-то вроде трамплина, бросающего за пределы Земли?.. От самой космичности здешних пейзажей, так напоминающих пейзажи многих других планет-песчинок?..
Они надолго замолчали, Швартин — глядя в даль, Евтеев — на пустыню перед машиной.
Изломанная гряда из красноватого песчаника заметно приближалась, уже не вызывало сомнений, что до заката они будут у ее подножья. В бинокль Швартин видел итог упорной, протяженностью в сотни тысяч, а может, и миллионы лет работы ветра: бесчисленные зубцы, выпиленные в песчаниковом монолите, торчащие в небо гигантские пальцы, головы странных чудовищ.
«Хаптагаи — это хорошо, — подумал он, — сарыки, джейраны, горные бараны и козлы — хорошо тоже, но надо почаще снимать и вот такие виды, сами по себе, а не только как фон для козлов и хаптагаев…»
Вдруг он до озноба ощутил всю их с Евтеевым затерянность среди этого необъятного безлюдного пространства. «Забираемся-то мы лихо, — подумал он, — а вот как будем отсюда выбираться?»
— Я опять подумал, — сказал он, — не зря ли мы отказались от проводника, того старичка, которого предлагал намын-дарга[2] в Баян-Гоби?
Евтеев презрительно хмыкнул, но, взглянув искоса на озабоченное лицо Швартина, ответил тоном успокаивающим и убедительным:
— С проводником, Степа, мы были бы простыми экскурсантами, не больше. А так мы с тобой первооткрыватели… Да, именно так, хоть, может быть, кто-то здесь и бывал до нас. Это ведь громадная разница, согласись.
Швартин лишь вздохнул и ничего не ответил.
Вблизи изрезанная ветром гряда песчаника производила еще более сильное впечатление. Солнце, сползшее к горизонту, делало ее багрово-красной. Швартину и Евтееву казалось, что они очутились среди развалин исполинского фантастического города, и отовсюду — игра теней на причудливых глыбах и игра воображения — заглядывают, вглядываются равнодушно и отрешенно, смотрят странные лики.
Они начали готовиться к ужину и ночлегу. Швартин доставал из машины еду, спальные мешки, Евтеев снимал с багажника, укрепленного на крыше машины, куски саксаула, нарубленного еще утром на барханах, готовил костер: кипятить воду на чай.
Ужинали под черным небом, непривычно щедро убранном яркими звездами. Долго пили чай, то молча поглядывая через костерок друг на друга, то вглядываясь в глубину Вселенной, в бесчисленные звезды, светящие из ее глубины.
— Знаешь, почему еще я так быстро поверил в реальность Шамбалы? — вдруг спросил Евтеев.
Разговоры о ней, казавшиеся Швартину в Киеве, когда хотел переубедить Бориса, странными и никчемными, здесь — в Гоби — уже не казались ему такими.
— Почему? — спросил он, прикуривая сигарету от тлеющей веточки саксаула.
— Во всех источниках утверждается, что Шамбала ограждена некими неизвестными силами, а сами Махатмы владеют «психической энергией»… Для тебя это с самого начала было аналогично «астральной материи», ты с самого начала не принял это всерьез.
— Увы… — развел руками Швартин.
— А я вот сразу поверил в это…
— Хочешь, расскажу одну историю, за правдивость которой ручаюсь?
Тот кивнул.
— Я совершенно случайно услышал ее от своей матери. Ты можешь пожать плечами: мою мать ты никогда не видел, и то, что эту историю я узнал от нее, для тебя, конечно, не может быть гарантией ее правдивости… Но, видишь ли, если бы мне ее рассказал кто-то другой, я бы послушал и не придал ей значения, но моя мать не только на редкость правдивый человек, она не только не смогла бы ее выдумать — ей это просто не пришло бы в голову…
Я тогда еще учился заочно в Литературном институте. И вот на одном из семинаров (разговор на нем, помню, зашел о том, почему, хоть со времен Отечественной войны прошло немало лет, пока еще не появился роман о ней, сравнимый с «Войной и миром» Толстого) наш творческий руководитель предложил нам попытаться написать по рассказу о войне: ведь у каждого если не отец и мать, то родственники — в крайнем случае кто-то из знакомых, были ее участниками.
Моя мать прошла всю войну медсестрой; я и начал ее расспрашивать, объяснив, зачем. Она долго вспоминала разные случаи, но я чувствовал, что все это не то что мне надо; истории, которые она со своими обычными добросовестностью и бесхитростностью рассказывала, меня тогдашнего, намерившегося написать если не эпохальный, то, как минимум, выдающийся рассказ о войне, не вдохновляли. Я замучил ее своей привередливостью, она сидела, устало и напряженно пытаясь вспомнить что-то такое, что меня бы удовлетворило, и вдруг сказала, как показалось мне в первую минуту, ни к селу, ни к городу:
— Да, однажды у меня был больной, который летал.
— Что? — переспросил я, глядя на нее с недоумением и невольной досадой.
— Ну да, сам летал… — удивившись и обидевшись моему недоверию, повторила мать.
— Как — «летал»!? — опешил я, поняв, что мне не послышалось.
Вот тогда она и рассказала эту историю…
8
— Мать услышала о Ване в начале февраля 1944 года, когда работала уже в эвакогоспитале, занимавшем корпуса пятигорского санатория № 3 «Машук». Начальником эвакогоспиталя был полковник медицинской службы Костиков Василий Иосифович, а начальником отделения, в котором работала мать (в него входили 17 и 18 корпуса) — Александр Яковлевич Мирошниченко. Он был настолько добрым человеком, что за глаза его называли «доктор Притрухевич». До восемнадцатого корпуса Ваня уже лежал в каком-то, но и в восемнадцатом его перевели из общей палаты в изолятор.
За неделю до того, как стать у него сиделкой, мать начала все чаще слышать: «В восемнадцатый корпус положили контуженого, и никто не может с ним сидеть: все боятся».
А потом ее вызвал полковник Костиков — в кабинете его был Мирошниченко — и, словно за что-то извиняясь, попросил:
— Валя, ты, наверно, слышала о контуженом. Так вот, пойди, пожалуйста, с ним поговори, может, тебя примет. Он ведь парализован, ему необходима сиделка.
Мать пошла. В изолятор была превращена веранда. Старшая медсестра отделения, Екатерина Петровна, боязливо показала на ее застекленную дверь:
— Идите, Валя, я здесь вас подожду, — и осталась в коридоре.
Мать спокойно вошла, хотя в душе и волновалась, зная ходившие по госпиталю слухи, приветливо сказала:
— Здравствуй, Ванечка. Ну, как ты себя чувствуешь? Как твое здоровье?
— X… х… о… рошо… — Он сильно заикался.
— Ваня, я медсестра. Меня к тебе прислали. Буду за тобой теперь ухаживать. Что тебе нужно?
— Ничего… Хоть одного человека нашли… Садись…
Мать присела. Они поговорили. С этого дня, почти два месяца, она каждое утро приходила в изолятор на веранде. Перестилала Ване постель, умывала, кормила из ложечки… поднимала и затаскивала на кровать после того, как летал, успокаивала его после визитеров.
Он не выносил в палате и даже рядом с палатой ничьего присутствия, кроме её. Странно, но он одинаково не выносил высокомерную Екатерину Петровну и добрейшего Мирошниченко. Чтобы вызвать мать из палаты, ей издалека делали знаки. Ваня лежал так, что не мог никого увидеть ни через стекло двери, ни в окно, но всегда чувствовал, если кто-то был поблизости. Он говорил матери, когда она, увлекшись книгой, не видела:
— Валя… пришли… Тебя зовут… — и начинал грязно ругаться.
Мать смотрела в застекленную дверь, в окно и в самом деле замечала кого-нибудь из медсестер или санитарок, делавших ей издалека знаки.
Когда же кто-то входил, он сразу резко возбуждался, начинал ругаться яростно, а потом — летел…
Ей запомнился такой случай. Вошли — входили со скрываемым страхом — Костиков, Мирошниченко, Екатерина Петровна, а с ними, как потом выяснилось, — гипнотизер (видно, испробовав все медикаменты, которые могли достать, решили обратиться к такому средству). Гипнотизер остановился у двери и сразу начал делать руками какие-то пассы, но только лишь Ваня, как всегда сильно возбудившийся, посмотрел на него пристально — побледнел и выскочил в коридор. В ту же секунду, под исступленные ругательства, его примеру последовали остальные, а Ваня потом, как всегда… полетел…
Мать говорила, что было ему года двадцать два — двадцать три, был он по виду скорее сельским, чем городским, образован был мало. Черноволосый, глаза черные, жгучие, смотрел пристально, напряженно. Все его панически боялись, странно боялись, безусловно выполняя его требования и прихоти. Он, например, а время было голодное, требовал на обед то-то и то-то, и ни разу не было, чтобы его требования не исполнили.
Мать его не боялась совершенно, она говорила, что ей это даже не приходило в голову; ее он слушался во всем.
Летал Ваня только тогда, когда бывал сильно возбужден. Полет всегда являлся завершением стремительно нарастающего возбуждения. Тело его, по словам матери, все сильнее напрягалось — он постоянно лежал на спине, судорожно напряженные руки расходились в стороны, тогда туловище — судорожно же, с большим напряжением — начинало волнообразно изгибаться… замирало, выпрямленное, в сильном напряжении… он плавно поднимался сантиметров на десять — двадцать над кроватью и боком, в одном направлении и на одной высоте медленно летел к двери; немного не долетая до нее — резко падал на пол. Сколько мать его полетов ни видела — они были только такими.
Когда он летел — глаза его были открыты, но был ли он в те моменты в сознании, мать не знала. После полетов Ваня выглядел обессиленным, хотя пролетал немногим больше трех метров. Мать затаскивала его на кровать и успокаивала.
В конце марта 1944 года Ваню из эвакогоспиталя забрали. Прилетел самолет, и его увезли в Москву.
Второй и последний раз она встретилась с Ваней весной 1947 года. Вместо эвакогоспиталя вновь был создан санаторий № 3 «Машук», и мать продолжала работать уже в санатории. Ваня приехал туда долечиваться и отдыхать. И он, и мать обрадовались встрече. Вид у Вани был вполне здоровый, он уже ходил, хоть и с палочкой, немного пополнел, от былой раздражительности не осталось следа. Мог ли он, выздоровев, по-прежнему летать и сохранились ли другие его способности, она не знает: об этом она его не спрашивала…
9
— Н-да… — протянул Швартин, слушавший Евтеева с напряженным вниманием, удивленно и недоверчиво.
— Ну, и что ты на это скажешь?.. — с мягкой усмешкой спросил Евтеев.
Швартин смог только по-прежнему покачать головой, глядя в глубокой рассеянности на багрово-сизые угли костра.
— Вот тебе и информация для размышления… — вздохнув, сказал Евтеев. — Можешь, конечно, не верить в эту историю, хотя лично я в ней не сомневаюсь, но попробуй предположить, что она — правда; какие тогда следуют выводы?..
Швартин продолжал задумчиво молчать.
— Вот после этой случайно услышанной истории, подчеркиваю — случайно: ведь если бы не получил я задание тогда, на творческом семинаре, написать рассказ о войне, вряд ли бы вообще услышал о Ване, контуженном зимой 1944 года, — слова «телепатия», «телекинез», «ясновидение», «психическая энергия» и т. п. перестали быть для меня пустым звуком, — подвел итог своему рассказу Евтеев, глядя вверх и в сторону — на гобийское звездное небо.
Это была его вторая личная причина веры в Шамбалу. О первой он рассказал Швартину после того, как тот, отчаявшись переубедить сам, решил познакомить его с Клюевым…
10
Вся мебель в квартире Клюева была изготовлена ее хозяином в подвале, превращенном им в столярную мастерскую. Обстановка квартиры поражала необычностью и сначала казалась хаотичной из-за странной расстановки мебели и из-за самой мебели: какой-то на вид изломанной и подчеркнуто асимметричной. Но с течением времени, по мере того, как Евтеев осваивался, стараясь проникнуться логикой Клюева, он начал видеть в кажущемся хаосе своеобразный порядок, а в странном облике мебели — не сразу понятную рациональность. Сам Клюев внешне являл полную противоположность обстановке своей маленькой квартиры. Он был с безукоризненной тщательностью одет в безукоризненно выутюженные костюм и рубашку; даже дома он носил галстук, и некоторое время Евтеев испытывал чувство неловкости: ему казалось, что Клюев собрался на какую-то важную встречу, а они некстати явились и задерживают его. Особенно усиливало неловкость то, что столь деликатного, предупредительного, мягкого и чуткого человека Евтеев еще не встречал. С того момента, как, открыв на звонок дверь, увидел их на пороге, Клюев, казалось, весь растворился в заботе о гостях.
— Какой замечательный человек, — невольно проговорил Евтеев, когда Клюев вышел на кухню доваривать кофе. — Какие деликатность, мягкость, внимательность…
— Да… — рассеянно кивнул Швартин, с интересом рассматривая интерьер квартиры; последний раз он был у Клюева год назад, и за это время тут многое изменилось. «Ну что ж, нашел себе хобби…» — подумал он.
— Судя по нему — ему немало пришлось пережить в жизни, — добавил Евтеев.
Пока пили кофе, он и Клюев ближе знакомились, и шел соответствующий этому разговор, первое впечатление Евтеева о Клюеве не только сохранялось — все крепло, но когда Швартин, решив, что знакомство уже состоялось, перешел к делу, ради которого Евтеева привел, тот поразился, как неожиданно изменился Клюев.
— Махатмы?.. — переспросил он Швартина с невыразимо ироническим презрением и какой-то застарелой, неуходящей ненавистью. — Махатмы… — повторил он, презрительно усмехаясь, и в лице его проступила непримиримая твердость, а взгляд стал холодным и жестким.
Швартин облегченно вздохнул.
— Надо быть наивным, как теленок, дебилом, чтобы верить в эту чушь! — ив голосе Клюева еще тихо, но явственно зазвучали металлические нотки. — Странно: вот скажет вдруг кто-то из наших знакомых, что начал верить в бога, и мы почувствуем к нему жалость, почувствуем над ним невольное превосходство, ощутим желание вернуть его на путь истинный, но начнет тот же знакомый разглагольствовать о Махатмах и Гуру — и мы почувствуем зависть, свою ущербность и начнем его жадно слушать. А ведь одно стоит другого! Разницы нет никакой! Хитроумная чушь — и больше ничего! И то, и другое годится лишь, чтобы заключить в духовное рабство — не больше и не меньше!..
Клюев еще минут десять кликушествовал в таком духе, а Евтеев молча слушал, пораженный тем, каким больным местом в душе Клюева оказалась эта представлявшаяся ему захватывающе увлекательной тема. Затем, немного успокоившись и видя внимание, с каким его невольно слушал Евтеев, Клюев стал говорить хоть и по-прежнему страстно, путано, но аргументированно.
От его почти часового монолога в памяти Евтеева остался ряд тезисов, которые в речи Клюева располагались в том порядке, в каком приводятся ниже.
Сплошь и рядом говорится про некую психическую энергию — самую якобы могущественную, чудовищную по силе из энергий. Но зачем для операций с массивами информации чудовищная энергия? Каким образом проявляется воздействие этой «могущественной энергии» на Мир, о чём «Гуру», «махатмы» и их поклонники толкуют сплошь и рядом? Есть ли на это хоть где-то ответ?.. Нет, просто, как аксиома, утверждается, что проявляется.
Собраны мысли глубокие, мудрые, выверенные жизнью, а к ним пришиты упоминания о Космосе, Времени, Вечности, Космической энергии, Абсолюте, Брахмане и т. п., что — во-первых — придает этим верным мыслям, выведенным из многолетних наблюдений и опыта, величественность и некую дополнительную глубину — совершенно ложные, а во-вторых — верностью этих мудрых мыслей хитрым и простым образом придается достоверность пришитым к ним Вечности, Абсолюту, чакрамам, психической энергии и т. п.
Получается весьма цельная на вид конструкция, одна часть которой мудра — просто житейски — и истинна, а другая придает ей шарм величественности и вводит в заблуждение; набор таких конструкций может привести в конце концов к вере в абсурд, в то, чего нет.
Принимая эти хитрые словесные конструкции целиком, человек все дальше уходит по заманчивой, льстящей его самолюбию некой причащенностью тропе величественных спекуляций, которые, как предусмотрительно оговариваются «Гуру», не подлежат проверке, но — вере.
Вот чем еще отличается система обучения, практикуемая «Гуру», от европейской и вообще общепринятой. У европейцев тут всегда договор: вы мне то-то и то-то, а я вам гарантирую определенные знания, сумму знаний и т. п. «Гуру» принимают (хоть и с изрядным порой кокетством) дань почитания (и не только), но со своей стороны не гарантируют ничего: если сможешь — научишься, если захочешь — поверишь, что научился.
Не правда ли — весьма удобная система?..
Единственное, что обременяет «Гуру», — это определенный образ жизни, который он обязан вести. Но мысль человеческая изощрена в обходе традиций, запретов и правил.
Нет никого, кто побывал бы в Шамбале, но жажда существования их — Махатм — у некоторых такова, что само это понятие — Махатма — стало безразмерным, и в Махатмы, для пущей путаницы, чтобы уж совсем не найти концов, стали записывать чуть ли не любого умного и порядочного человека (или хитрого и ловкого, что тоже не редкость).
Эту «науку» — набор откровений, которые преподают «Гуру», можно осилить за несколько месяцев, если вы не совсем дуб, а если потратить несколько лет, чтобы «вжиться в образ», проболтаться к тому немного где-то в Гималаях, то, возвратившись, вы станете «Великим Гуру».
Что великого сделали пресловутые «Великие Учителя»? Приведите хоть один конкретный пример вместо туманных и пространных рассуждений.
Так называемые «махатмы» и «Гуру» якобы избегают показывать всякие феномены, связанные с «психической энергией» и т. п., что их поклонники воспринимают с великим почтением и умилением: еще одна добродетель (и какая!) в активе Учителей, но способны ли они в принципе продемонстрировать феномены?..
Лишь через медитацию возможно, мол, истинное познание. Но предположим, что некий индус, не знакомый с электроникой, кибернетикой, высшей математикой, отождествил себя в процессе медитации с современным компьютером. Что же именно он поймет? Что вообще можно понять подобным образом.
Удобная философия у «Учителей Востока»! Это средство для эгоистов делать занимательной свою жизнь, погремушка для изощренных мозгов: Абсолют, Беспредельность, Вечность, психическая энергия…
Как мы склонны к поклонению, к слепой вере, стоит нам лишь потрафить, польстить.
Хорошая профессия — «Гуру»…
Ты чувствуешь обман за, казалось бы, мудростью; чем больше знакомишься с подобными «учениями» — тем больше остываешь и разочаровываешься в душе, но… нечем возразить, никак не можешь поймать за руку — слишком ловкую — и вынужден сохранять на лице тоскливое почтение перед лукавыми или невежественно-добросовестными «Учителями».
Попытайтесь мысленно убрать из этих «учений-руководств» слюдяные блестки слов Вечность, Космическая энергия, Абсолют и т. п. Мудрости так и останутся мудростями, причем явно выведенными из пристально-внимательных наблюдений и глубоких размышлений о природе человека и Мира вокруг, а не иным — «чак-рамным» — путем; исчезнет лишь ореол ложной величавости вокруг них, заставляющий вас поступаться вашим достоинством.
Пользуясь анонимностью «махатм» и овладев стилем их «посланий», «писем», можно освящать их именем свои собственные мысли и высказывания, если те в принципе не противоречат приписываемой «махатмам» точке зрения на Мир, человека и т. д.
Как и всякое философское учение, которое неистинно, но хочет существовать века, учение так называемых «Гуру» и «махатм» поразительно многозначно, обширно, многогранно, непроверяемо в главных — на которых покоится — утверждениях, виртуозно балансирует на канате между выдумкой и достоверностью: чтобы в него можно было поверить, принять его, а главное — запутаться и ощутить невозможность (свою личную) доказательства его неистинности.
Мы вот говорим, что библия противоречива, что христианство противоречиво, но в этом ведь их сила, потому-то они и держатся века, что на каждый довод в них можно отыскать и контрдовод. Цитируя библию, можно доказать, что черное — белое, а через минуту, опять же цитируя ее, что белое — белое, а черное — черное. Так же — и все учения «Гуру» и «махатм».
Мы так жаждем новых открытий, нового знания, что нередко ради зерна нового готовы принять кучу мусора и шелухи, ради одной истины готовы признать кучу чепухи и сказок.
Есть люди, которые относятся к Махатмам так же, как верующие к Исусу Христу.
Чувствуя главную слабость своих учений, «Гуру» пытаются придать им хоть видимость социальности; много говорится про заботу о счастье ближнего, много призывов к ней, к борьбе со злом, но суть все та же: хочешь быть счастливым — внуши себе, что ты на верном пути к счастью, счастлив, становишься все счастливее, а зло рассматривается в полном отрыве от социальной реальности, как нечто не зависящее от социальных причин и условий.
Человечество нельзя сделать счастливым без изменения социальных условий (что прекрасно понимал «Махатма Ленин»), в которых оно живет. Учения «Гуру» и «махатм» — тот же дурман; нет большой разницы, чем одурманивать себя: самовнушением, медитациями или героином.
Не стоит недооценивать самовнушение: раны на руках и ногах от гвоздей, которыми якобы был прибит Христос, появляющиеся время от времени у истинно верующих, разве не его результат?.. Человеческий мозг — странный прибор. Если вы при помощи ЛСД становитесь апельсином, из которого необходимо выжать сок, то почему бы вам при помощи самовнушения, медитаций не вообразить, что у вас есть этот самый «чакрам», вы «работаете» с ним и «ритм космоса уже стал вашим», или другое в этом же роде?..
11
— Он, конечно, прав… — сказал Евтеев, в глубокой задумчивости проходя мимо троллейбусной остановки.
— Конечно, прав! — живо и удовлетворенно подхватил Швартин. — Кто-кто, а он имеет право так говорить… Ты знаешь его историю?.. Да, я тебе ведь не рассказывал… Клюев подавал большие надежды, уже его студенческие работы были отмечены какими-то, не помню точно, премиями, и вдруг увлекся всеми этими учениями, о которых только что так доходчиво говорил. Причем увлекся — наповал, сильнее, чем ты Шамбалой. Кончилось это в конце концов тем, что он бросил аспирантуру и диссертацию, устроился работать куда-то сторожем, а свою квартиру превратил в подобие гималайской пещеры, где все свободное время занимался медитациями и работой с чакрамами… Теперь преподает в школе биологию, а в свободное время, чтобы не думать о том, на что ушли лучшие годы, столярничает…
— Он, конечно, прав… — вновь задумчиво повторил Евтеев, оглядываясь на панельную девятиэтажку, в которой была квартира Клюева. — К сожалению, нет ни одной сферы, в которую не попытались бы проникнуть и не проникали бы проходимцы и мошенники… Но зачем на основании этого отвергать существование нам еще неведомого, тех же истинных Махатм?
Швартин посмотрел на него и тяжело вздохнул.
— Он прав, говоря о спекуляциях на неведомом, когда неведомое неведомо по-прежнему, но есть люди, делающие вид, что лично они с ним на ты, оно им прекрасно ведомо, и приглашающие простаков приобщиться к касте избранных, то есть сделать, в конечном счете, такой же вид, самовнушить себе, что и им после общения с «посвященными» неведомое хоть отчасти, но ведомо… Прием не новый, но действенный, когда вперемешку с мудрым и достоверным подсовывается то, чего на самом деле не существует, но что проверить пока нельзя…
— Ты поражаешь меня до глубины души, — удивленно покачал головой Швартин. — Неужели даже разговор с человеком, которому эта чепуха изломала жизнь, ни в чем тебя не убедил и ты по-прежнему веришь в Махатм?
Евтеев вздохнул и ответил не сразу, словно, уже решившись, все еще продолжал сомневаться, стоит ли говорить это Швартину, стоит или нет.
— Дело в том, что я встречался с Махатмой, именно с Махатмой из Шамбалы… — проговорил он.
12
Швартин, оцепенев, смотрел в затылок Евтеева, продолжавшего задумчиво идти по тротуару.
Наконец, заметив, что Швартина рядом нет, Евтеев обернулся.
— Старик, я с тобой поседею… — вытирая выступившую на лбу испарину, проговорил Швартин. — Ты как себя сейчас чувствуешь? Нормально?.. У тебя голова не болит?..
Они стояли в нескольких шагах друг от друга на людной, оживленной улице, мимо молча или, наоборот, оживленно разговаривая, спешили прохожие.
— …Светка себе такую кофточку отхватила!..
— А я говорю, вина надо было взять!.. — сосредоточенно доказывал мужчина в шляпе своему спутнику, а Швартин стоял, потрясенно смотрел на удивленно глядящего на него Евтеева и чувствовал, как у него тонко звенит в голове, а все окружающее кажется странным и нереальным.
Наконец он тряхнул головой, устало подошел к Евтееву, и они медленно пошли рядом в привычном шуме большого города. Евтеев посматривал на Швартина сочувственно и вид имел виноватый.
— Ну да, с Махатмой!.. — сказал он, словно извиняясь и в то же время сознавая, что его вины ни в чем нет.
Швартин устало взглянул на него.
— Понимаешь, эта встреча произошла давно, но навсегда запала мне в память, — все еще ощущая беспричинную вину и поэтому немного раздраженно стал рассказывать Евтеев. — В то время (лишь год как окончил школу и работал на заводе) я даже не слышал о Шамбале, Махатмах, но запоем читал фантастику…
Швартин, наконец, смог взглянуть на него иронически и насмешливо усмехнуться.
— Да, читал запоем, — не смутился Евтеев. — Я доставал ее, где только мог, и в тот период прочел чуть ли не все, что было написано к тому времени нашими отечественными фантастами и переведено с других языков. И хорошо, что я это сделал, мне даже становится страшно, когда подумаю, что в моей жизни могло не быть этого увлечения, потому что теперь понимаю, отдаю себе отчет, насколько скучнее был бы для меня окружающий мир, а я сам — ограниченнее…
— Я понял, — кивнул Швартин. — Ты прочитал гору всякой фантастики и сразу же встретился с Махатмой из Шамбалы. Ничего удивительного…
Евтеев посмотрел на него и вдруг рассмеялся.
— Старик, старик… — сказал он, весело качая головой. — Ты пойми, что у меня нет да по складу моей натуры и не может быть даже малейшего желания тебя мистифицировать. Зачем?.. Я хочу рассказать то, что было в действительности. Если тебе не интересно… — он пожал плечами.
— Вы не разменяете по две копейки?.. — обратился к ним долговязый усатый парень; они машинально сунули руки в карманы за мелочью.
— Увлечение фантастикой, — продолжал Евтеев, когда с разменом было покончено, — заставило меня, как теперь понимаю, чутко подмечать все необычное во встречающемся вокруг. В то время, да и теперь тоже, я считал, что Земля не только посещается инопланетянами, но они ходят неузнанные по улицам наших городов. То, почему они не вступают с нами в контакты, я в то время для себя уже уяснил, теперь, конечно, уяснил еще лучше, но это тема не только непростая, но и слишком обширная, ее трогать не будем, тем более, что прямого отношения к делу она не имеет.
Так вот, представь: знойный летний день, южный курортный городок, городской рынок, который просто кишит народом — разнообразным и разноязыким; гомон, пестрота, суета, мельтешенье…
Я поднимался к рынку от прирыночной площади и вдруг в густой толпе увидел этого человека… Заметить было несложно: он был необычно высокого роста. Я шел задумавшись, не глядя по сторонам, а потом взглянул вперед и вдруг увидел этого человека… До него было метров двадцать; я остановился, как вкопанный, не в силах пошевелиться и не в силах отвести взгляд. Ни до, ни после я не испытывал такого глубокого потрясения. Прошло уже двадцать лет, многое из того, что видел, я могу описать в лучшем случае лишь приблизительно, но его внешность, весь его облик хранятся в памяти до мельчайших деталей…
Признаюсь: сразу, как его увидел, у меня вспыхнула мысль: «Инопланетянин…»
Даже издали, даже с первого взгляда становилось понятно, поражало, как этот человек необычайно умен… умен — тут даже не подходит: обладает необычайно высоким интеллектом — так это впечатление передается точнее. Я говорил о его странно высоком росте, но рост его несколько скрадывался худощавостью и прекрасным сложением, неброской, но полной гармонией всех движений. Сразу бросался в глаза его необычно высокий лоб: череп незнакомца был раза в полтора выше, чем у обычных людей, и сначала меня поразило это, но в следующие секунды и минуты поразил его взгляд, весь его облик. Он стоял среди движущейся в разных направлениях, но не убывающей толпы совершенно независимый и свободный. Наша независимость никогда не бывает полной и всегда, даже в лучшем случае, хоть слегка, но демонстративна. Его внутренние свобода и независимость были глубоко органичны; каким-то образом становилось понятно, что испытывать всю полноту этих состояний для него так же естественно, как дышать. Но его взгляд, выражение лица!..
В самое первое мгновение, увидев его необыкновенно развитый череп, я успел опасливо подумать: «Не идиот ли он?..» Ведь, как известно, самый большой вес мозга и объем черепа бывает как раз у идиотов. Мозг Анатолия Франса, например, весил всего полтора килограмма. Но потом я увидел взгляд незнакомца и выражение его лица…
Я не видел взгляда более умного, мудро-понимающего, проникнутого мудрым сочувствием к людям, суетившимся вокруг, и в то же время светлого, исполненного уверенной доброты. На его лице — прости за высокопарное выражение, но лучше сказать не могу — лежала печать глубочайшего знания, глубочайшей, но свободной, без усилия мысли…
Я говорил, как глубоко был поражен. Позднее меня поразило еще вот что: почему никто вокруг не обращал на него такого внимания, как я?.. Взглядывали, кто — просто косился, и шли, спешили по своим крохотным, ничтожным делам: что-то купить, что-то продать или даже просто потолкаться в пряной сутолоке да выпить в ларьке стакан вина, кружку пива у бочки… Почему?!.. Для меня это и до сих пор непостижимо…
Я медленно подходил к незнакомцу все ближе, словно притягиваемый магнитом, не отрывая взгляда. И вот еще какая деталь, кроме всего его облика, непреложно убедила меня в том, что он не отсюда: его одежда была словно лишь только из магазина. Он был одет в ширпотребовскую клетчатую ковбойку, в такие же непритязательные коротковатые ему и сидящие мешковато брюки, обут в дешевые босоножки, которые может купить лишь человек, махнувший на свой внешний вид рукой. И все это, подчеркиваю, было совершенно новое.
Незнакомец не спеша повернулся и неторопливо пошел вместе с толпой вверх, к главному входу в базар. Я на некотором отдалении последовал за ним, весь во власти неодолимого любопытства, решивший во что бы то ни стало узнать, куда же он, в конце концов, придет; узнать о нем как можно больше.
Он шел не оборачиваясь, как-то очень легко, раскованно, но в то же время собранно; прошел мимо главного входа на базар и пошел вдоль высокой базарной ограды дальше: там вскоре начинались окраинные улочки, а за ними — поросший лесом горный склон. И вдруг он на ходу обернулся и посмотрел на меня смеющимися глазами. Смотрел лишь какую-то секунду, но я ясно понял, что он знает все мои мысли и намерения, и еще понял, что мне не надо за ним идти.
Я остановился и смотрел, как он уходит все дальше уверенными легкими шагами…
13
— Присядем… — предложил Швартин (они как раз дошли до маленького и тихого скверика).
Евтеев молча согласился.
— Ты рассказывал занятно, — произнес Швартин, закурив, — но кого и в чем может убедить твой рассказ?
— Если бы ты своими глазами увидел этого человека… — с сожалением вздохнул Евтеев.
— Я и так его словно бы увидел… И что?
— До тех пор, пока не узнал о Махатмах, меня мучило то, что это, без всякого сомнения, был именно человек.
Швартин взглянул с недоумением.
— В нем не было ни малейшего неизбежного отпечатка нашей цивилизации, но в то же время это — без сомнения — был человек. Единственное, что можно было отнести к камуфляжу, — его одежду. Он был человеком от плоти и крови, и именно это впоследствии поставило меня в тупик. Я не сомневался, что он не отсюда, то есть не дитя нашей цивилизации, но тогда выходило, что где-то есть планета — не только двойник Земли, но биологическая эволюция, эволюция Жизни на которой привела к возникновению людей. Мало кто сомневается во множественности обитаемых миров, но чтобы такое… Я понимал: нет, слишком невероятно. Легче предположить, что наши предки переселились на Землю с этой планеты или когда-то были созданы посетившими Землю разумными существами по их образу и подобию…
Эта загадка мучила меня долгие годы, и, честно сказать, я теперь благодарен ей за это; в разное время я находил ей разные решения, но интуиция говорила, в конце концов, что все не то. И лишь когда узнал о Махатмах и Шамбале — все сразу стало на свое место. Это был Махатма, и эти люди действительно великие мудрецы… — убежденно сказал Евтеев.
— …Но тайна Шамбалы становится от этого… только еще большей тайной… — неожиданно заключил он.
14
— Кажется, я начинаю привыкать к жаре…
— Человек может ко всему привыкнуть, — подтвердил Швартин.
Оба они были в хорошем расположении духа: Швартин оттого, что пресловутая «экспедиция за призраками» вплотную подошла к зениту, еще день—два — и необходимо будет разворачивать машину на сто восемьдесят градусов, пускаться в обратный путь; хорошее же настроение Евтеева объяснялось тем, что утром проснулся в уверенности, что безумная его, абсурдная затея все-таки удастся. Осуществится задуманное, как ни удивительно. Больше того, хоть Швартину, конечно, об этом не говорил, Махатма, которого он здесь встретит, будет именно тем, виденным им в юности.
Зная, что это бессмысленно, Евтеев даже не пытался искать оснований своей странной уверенности. Для него главным было то, что она не только не умерла во все предыдущие изнурительные дни и звездные волшебные вечера, но, оказывается, исподволь крепла, черпая силу в чем-то неведомом и самому Евтееву, и вот передала эту силу ему. Мозг не мог найти оснований этой уверенности, но здесь, в Гоби, Евтеев, как никогда раньше, жил чувствами, предчувствиями, интуицией, озарениями и прозрениями.
— Давай сегодня не будем гнать? — предложил он Швартину, сворачивая спальный мешок.
— Давай, — удивленно и заметно обрадованно согласился тот. — Мне, честно говоря, уже осточертела эта погоня неизвестно за кем…
— Ничего, Степа, — подмигнул Евтеев. — Ты еще будешь писать мемуары об этой поездке…
— Не паясничай… — поморщился Швартин, подкладывая веточки саксаула в костерок, над которым закипал чайник.
После завтрака они решили обследовать скалы, среди которых с вечера разбили лагерь. Этот день оказался богат находками. Метрах в трехстах от своей стоянки, в котловине, среди причудливых, изъеденных ветром скал, они вдруг впервые нашли то, чем еще, кроме прочего, славится Гоби: огромный окаменевший скелет ящера. Он лишь частично, но достаточно для того, чтобы оценить его размеры, выступал из песчаниковой плиты, отколовшейся от обрывистой стены котловины. Рядом с плитой лежала огромная окаменевшая кость. Швартин, хотя на здоровье не жаловался, с трудом поставил ее стоймя.
— Косточка… — весело и удивленно улыбаясь, покачал головой он. — Ну-ка, щелкни меня с ней в обнимку, — снял он свободной рукой и протянул Евтееву фотоаппарат.
— А потом ты меня тоже, — как-то по-мальчишески попросил Евтеев.
Сфотографировавшись, они еще долго осматривали исполинский скелет. Несмотря на очевидное свидетельство, трудно было вообразить, что когда-то Земля кишела подобными тварями.
— Монголы называют их костями драконов, — сказал Евтеев. — Раньше у них была легенда, которую поддерживали ламы, что это кости драконов, живущих на небе.
— Да… вот что такое Время… — задумчиво покачал головой Швартин. — Иногда оно представляется мне тряпкой, стирающей одну картину, чтобы дать место другой…
— Можно сказать и так… — кивнул Евтеев.
Выбравшись из котловины, они долго бродили среди причудливых, словно громадные скульптуры неведомого сюрреалиста, красноватых, багровых и бурых скал.
Местами пейзаж и его краски казались до того неземными, что Евтеев чувствовал, как по коже бежит холодок и возникает неодолимое рассудком ощущение, что он теперь так далеко, что никогда не увидит людей и Землю, будут лишь эти странные скалы и бездонное небо над ними, и будет так до самого конца его жизни, который не слишком здесь, среди этих скал, и далек.
«Но удивительно… — снова подумал он. — Нигде так естественно не приходят мысли о величественном, как вот в таких местах… Была бы у меня возможность порой переноситься на несколько часов сюда, я был бы счастлив, что у меня есть такая возможность…» Он почувствовал, что даже эта мысль еще более укрепила его странную уверенность во встрече с Махатмой.
В защищенных от прямого ветра изломах скалистых круч Швартин и Евтеев неожиданно обнаружили горные зеркала: бурые, почти черные полированные поверхности зеркал скольжения, которые четко выделялись на ноздреватых стенах песчаников. Порой эти зеркала были двухметровой величины. Их блестящая поверхность словно бы уходила бесконечно далеко в глубину скального массива, а отражение в них словно бы выступало вперед ясным и объемным призраком. Удивительное чувство охватывало глядевшего на свое отражение в горном зеркале. Казалось, что встретился с самим собой через толщу времени и пространства. Эти полированные природой поверхности странно притягивали, словно входы в таинственные тоннели, ведущие в глубину каменных масс.
«Не отсюда ли возникла легенда, что путь в Шамбалу ведет подземными ходами?..» — невольно подумал Евтеев.
…Было за полдень, когда их «Нива» покинула стоянку и, резво набирая скорость, покатила дальше в просторы Гоби, в неизвестность…
15 ИЗ ЗАПИСЕЙ СЮНЯЕВА
«Человек, упорно занимающийся самообразованием — лучшим образованием из всех существующих, — упорно стремящийся понять окружающий Мир; проходит через несколько переломных стадий в своем развитии. Нагляднее всего это можно показать на эволюции его отношения к науке и ее деятелям.
Вначале достижения науки и ее возможности представляются настолько громадными, что если что-то и неясно пока науке в этом мире — то лишь самая малость. Все причастные к науке (даже аспиранты) — это совершенно особые люди. Кандидат, доктор наук, профессор, академик — синонимы безусловных авторитетов. Поражает, как много могут знать некоторые люди.
Вторая стадия — постепенное возникновение и укрепление понимания, что Мир вовсе не так уж понятен даже с позиций современной науки, она не знает ответа как на многие фундаментальные вопросы, так и просто на очень многие вопросы. Кандидаты наук, доктора, профессора, академики уже не предстают монолитной когортой безусловных авторитетов. Проясняется, что среди них есть люди талантливые, живущие научным поиском (каких, к сожалению, меньше, чем хотелось бы) и люди, для которых наука привлекательна в первую очередь как источник материальных благ и социального престижа (таких, к сожалению, гораздо больше, чем это допустимо, и становится все больше в процентном отношении к талантливым и увлеченным). Выясняется, что мужи науки отнюдь не всегда руководствуются благородным поиском истины, но порой и соображениями конъюнктурными, желанием сохранить завоеванное положение и т. п.
Эта стадия обычно является и конечной. Ее можно определить, как постепенное обретение реалистического взгляда на достижения, возможности и состояние современной науки и некоторое понимание того, насколько уже открытое ею мало по сравнению с неоткрытым в окружающем мире.
Но некоторые идут гораздо дальше. Идут по пути индивидуального, личного познания. Это познание без радиотелескопов и синхрофазотронов (хотя все новейшие научные достижения и гипотезы во всех областях знания ему необходимы), постижение философское, в значительной степени основывающееся — из-за малости и скудности наших знаний о мире — на интуитивных догадках и прозрениях, способность к которым, неуклонно развиваемая, достигает у таких людей поразительной мощи, как и способность к синтезу, казалось бы, раз-розненнейших фактов. С наукой все ясно, ее — если можно так выразиться — „величина“ уясненная еще на предыдущей стадии, идет уяснение „величины“ мира.
Как одно из следствий этого процесса — продолжает эволюционировать и отношение к деятелям науки. Они уже не только не боги — постепенно все больше удручают их вынужденная ограниченность, то обстоятельство, что каждый из них мысленно сосредоточен на очень узком аспекте познания мира, а понимание того, что это и неизбежно, вызывает к ним сочувствие.
Если на первой стадии и даже на второй любой кандидат наук был бы вожделенным собеседником о тайнах Мироздания, то теперь мысль о подобной беседе с крупнейшим специалистом по сверхпроводимости или нелинейной оптике, иммунологии и т. д. представляется абсурдной. Возникает понимание, что в подобной беседе можно узнать лишь о положении дел в их области науки.
Становится понятным то, что хотел сказать М. Пришвин словами: „Я, наверно, потому не ученый, что больше понимаю…“
16
Машина со щебня выскочила на ровную красноватую площадь, и Швартин почувствовал, что ее скорость начала плавно, но неумолимо снижаться. „Такыр!..“ — с холодным испугом догадался он, сразу же выворачивая руль вправо и осторожно добавляя газ.
— Фу ты, черт… — откинувшись на спинку сидения, в изнеможении проговорил он, когда колеса „Нивы“ снова оказались на надежной поверхности щебня.
— Такыр?.. — полуутвердительно спросил Евтеев. Высунувшись из окна, он смотрел назад, на колеи, оставленные „Нивой“ на поверхности предательской глины.
— Повезло… — покачал головой Швартин, выключая мотор. — Спохватись я секунд на десять — пятнадцать позже… Это был бы финал… Черта с два мы бы ее вытащили оттуда. — Пережитый испуг сделал его несвойственно разговорчивым. — Вляпаться в болото в центре пустыни… Ничего не может быть гнуснее…
— Это верно…
— А что мы без машины в этом каменном пекле?.. Сотни километров до ближайшего жилья… Нам крупно повезло.
— Но ведь на самый худой конец у нас есть рация… — все же сказал Евтеев, понимая, к чему клонит Швартин, и понимая, что на этот раз придется уступить и повернуть машину на север. Не потому, что у Швартина уже иссякли все запасы пленки и фотоаппарат вместе с телеобъективами лежит запакованный на заднем сидении: в обрез оставалось бензина, да и времени — только на обратную дорогу.
— Рация!.. — раздраженно хмыкнул Швартин. — Мне кажется, мы давно забрались так далеко, что не хватит ее радиуса действия… Понимаешь?
— Да, будем поворачивать, — примирительно положил ему ладонь на колено Евтеев. — Сменить тебя, Степа? — предложил он.
— Еще пару часов покручу баранку… — сразу посветлев, легко махнул рукой Швартин.
— Ты все еще не потерял надежду на встречу с Махатмой? — с неожиданным любопытством спросил он через некоторое время.
Евтеев ответил не сразу: долго, о чем-то глубоко и печально задумавшись, смотрел прищуренными глазами на надвигающиеся навстречу, убегающие по сторонам каменистые холмы Гоби.
— Не знаю… — ответил он. И повторил: — Не знаю…
— Во всяком случае мы с тобой сделали для этого все, что мы могли… — продолжил он через несколько минут, — все, что оказалось в наших силах. Может быть, этого не достаточно… Но нет, я не думаю так, — тряхнул он головой. — Тут все зависит от желания самих Махатм, только от их желания… Значит, они не находят нужной встречу с нами… Но и наше путешествие ведь еще не кончилось, может быть, еще найдут? — заговорщицки подмигнул он Швартину.
— Мы с тобой как два Иванушки-дурачка! — вдруг усмехнулся Швартин. — Это они все время ходят в сказках „туда — не знаю куда, принести то, не знаю что“…
Евтеев тоже усмехнулся, устало и рассеянно.
Пообедав и отдохнув, они ехали до самого заката. Несмотря на какой-то особенно тяжелый в этот день зной, Швартин становился все бодрее по мере того, как все укорачивалась дорога домой, начавшаяся у того злополучного такыра; Евтеев был печален и молчалив.
У Швартина возникло ощущение, что все уже позади — все трудности и опасности: еще несколько дней, и они будут в сомоне Боян-Гоби, а там и Улан-Батор, и самолет рейсом на Киев… Как хорошо будет, вспоминая это пекло, искупаться в Днепре… А выпить бутылочку ледяной пепси-колы после здешней противно-теплой, отдающей металлом воды?.. „Как мало мы ценим то, что и есть настоящие блага жизни…“ — сентиментально и покаянно думал Швартин.
У Евтеева приподнято-радостное предчувствие возможности встречи, с особой силой владевшее им еще совсем недавно — среди фантастических красных и бурых скал, — обмякло и, казалось, истаивало с каждым километром пути на север. Он думал, печально молчалив, что хотя после этого путешествия, после этих космически-величавых просторов и пейзажей Гоби и ее звездного неба еще крепче будет верить в Шамбалу, но встреча с Махатмой, пожалуй, не состоится.
У Евтеева по-прежнему не было сомнений, что эти места они — Махатмы — посещают чаще, чем любые другие, хотя бы по причине их полной безлюдности и, наверно, созвучию их мыслям, но он отдавал себе отчет в том, как мало он и Швартин могут представлять для них интереса. Кто они — он и Швартин — такие? Оба слишком мало значат в этой исполинской системе — земной цивилизации. Чем Махатм может обогатить общение с ним, Борисом Ивановичем Евтеевым?.. Его бы оно, конечно, обогатило, в этом сомнений нет…
„Обогатило“… Какое пошлое слово… — с омерзением передернув плечами, вдруг подумал Евтеев. — Словно речь идет о какой-то сделке… Не обогатило бы, а просветило, рассеяло бы тьму неизвестного вокруг, позволило бы понять многое…»
«А может, и обогатило бы?.. — вдруг ехидно прозвучал в нем внутренний голос. — Ведь ты написал бы несколько книжек… Ты не из тех, кто будет держать новые знания в чулке под матрасом…»
— Черт побери!.. — не заметив как, ругнулся Евтеев.
— Чего ты? — покосился Швартин.
— Да так… — расстроенно вздохнул тот.
— Гляди… — вдруг сбавив скорость, показал Швартин рукой на запад, где над далеким хребтом неровной синей полосой протянулась туча. — Самое фантастическое зрелище за все время нашего путешествия по Гоби… Неужели из этой тучки на нас прольется дождик?..
— Вряд ли… — вглядевшись, покачал в сомнении головой Евтеев. — Слишком уж она далеко… Но зрелище действительно редкое…
— А как было бы хорошо… — размечтался Швартин. — Я весь пропитан потом и пылью, — с досадой подытожил он.
— Увы… — пожал плечами Евтеев. — Мы ведь знали, куда собирались…
— Знали, да не очень…
Последние километра полтора перед остановкой на ночлег они ехали по руслу давно пересохшей речки, которое оказалось самой удобной дорогой на этом отрезке пути. Саксаула в тот день нарубить не удалось, и воду для чая кипятили на маленьком походном примусе.
Весь вечер и даже уже лежа в спальном мешке Швартин мечтал о возвращении домой, в Киев. Евтеев не мешал ему, но слушал безучастно и долго не мог заснуть, глядя на яркие и далекие звезды…
17 ИЗ ЗАПИСЕЙ СЮНЯЕВА
«Отчего в Мире такое огромное количество разнообразных аналогий и возможно уподобление друг другу явлений как будто бы совершенно различных, из разных — в нашем понимании — областей?
Разве это не говорит — пока призрачно и невнятно, — что все многообразие существующих в природе законов, закономерностей, само многообразие мира — внутреннее и внешнее — являются производными от чего-то единого, в чем, однако, они были заложены в потенции при условии Эволюции материи, и неизбежность самой этой Эволюции — тоже?
С такой точки зрения интересно взглянуть на генетический код.
Неверно считать, что в ДНК записана „готовая“ информация, о „готовой“ многоклеточной системе, например, о человеке. Информация, имеющаяся там, лишь обуславливает тот или иной путь развития, который приводит к тому или иному конечному результату.
Записи „готового“ человека в генах нет. С этой точки зрения становится понятным тот факт, что при внутриутробном развитии человеческий зародыш ускоренно проходит все предшествовавшие человеку стадии биологической эволюции, что совершенно непонятно, если исходить из того, что в генах записана информация о „готовом“ человеке.
В Природе все тончайше взаимосвязано. В данном случае она подсказывает нам новый для нас способ записи информации, который в ней самой используется.
Это не детальная, исчерпывающая информация о какой-либо системе, а кодирующая такой путь развития материи, при котором появление только этой системы неизбежно.
Но чтобы пользоваться этим способом записи, надо, совершенно ясно представлять как все сложнейшее дерево взаимосвязанных, взаимозависимых процессов (когда одни, происходящие сейчас, неизбежно программируют другие, которые произойдут в следующее мгновение), должное развиться из именно этого зернышка минимально необходимой информации, так и уметь пройти в обратном порядке: проследить, как многообразные и многочисленные процессы, закономерности, качества неизбежно вытекают из менее многообразных и многочисленных — и так до некоего конечного, которое дальше нельзя уже упростить, „информационного семени“.
Естественно, что такой принцип записи возможен только при условии, что система эволюционирует, развивается.
Подобная взаимосвязь и взаимозависимость существует не только в Природе, но и в нашем ее познании. Даже, казалось бы, небольшое изменение точки зрения на те или иные процессы, происходящие в Природе, вызывает — в конечном итоге — изменения радикальные. Вот почему надо с большим вниманием относиться и к тем предлагаемым изменениям точки зрения (особенно на взаимосвязь явлений в Природе), которые представляются, на первый взгляд, малозначительными, несущественными.
Столь жаждуемая „безумная идея“ явится, скорее всего, лишь небольшим поначалу изменением точки зрения на некоторые общеизвестные, банальные вещи. И похоже — чем радикальнее, в конечном итоге, будут результаты этого нового взгляда, тем тривиальнее и нелепее он покажется вначале.
Нам еще слишком не хватает и ощущения, и понимания глубины взаимосвязанности в Природе, чтобы это оказалось иначе…»
18
— Ааа! — кричал Евтеев, пытаясь высвободиться из вязкой красной глины такыра, но она затягивала только сильнее, силы его подходили к концу, и он понял, что — все, ему не освободиться из мягкой, но мертвой хватки; хоть умом и понимал: это — смерть, помощи ждать неоткуда тут, в безлюдном пространстве, инстинкт жизни не давал смириться, и глаза — хотя Евтеев знал, что напрасно, — продолжали в бессмысленной надежде обшаривать окрестности.
«Помогите!!!» — хотел закричать Евтеев, но пересохшие губы только разомкнулись и сомкнулись снова: кто мог услышать его крик? Это было все равно, что взывать к беспредельности. «Почему человек до самого конца не может поверить в свою смерть, даже если она уже стоит с ним рядом?..» — зачем-то, наверно, просто по укоренившейся привычке, подумал он.
— Нет, я не верю, что мне никто не поможет… — проговорил он сквозь стиснутые зубы, сжав кулаки так, что из промежутков между пальцами брызнула красная глина. — Я не верю, что мне никто не поможет и я сдохну на этом такыре, умру от удушья, а он сомкнётся… надо мной…
И он увидел Махатму. Тот легко шел к нему — высокий и худощавый, не оставляя следов на поверхности предательской глины, и его окружало голубое сияние.
— Махатма… — прошептал Евтеев, чувствуя невыразимую радость избавления и глубочайшее удивление перед самим фактом его появления здесь, когда его — Евтеева — уже оставила последняя надежда.
Махатма приближался будто во сне, ободряюще и светло улыбаясь, но вдруг сверху обрушился густой поток черной воды, и тут же погасло голубое сияние, а силуэт Махатмы заструился и стал истаивать…
— Борис, проснись! — орал над самым его ухом Швартин, тряся за плечи. — Ливень!..
Евтеев открыл глаза — по лицу уже хлестали водяные струи — и стал с судорожной поспешностью выбираться из спального мешка.
— В машину, скорее в машину!.. — подталкивал его Швартин. В кабине «Нивы» Евтеев начал приходить в себя, хотя еще смотрел вокруг пришибленно и удивленно.
— Вот так дождик!.. — вдруг рассмеялся Швартин. — Чего мы перепугались? Ждали его, ждали, дождик пошел, а мы… Эх! — воскликнул он, распахивая дверцу машины и выпрыгивая в темноту под ливень. — Вот это душ!.. — и на сидение полетела сначала мокрая ковбойка, а потом брюки. — Душ Шарко… Борис, вылазь, а то пожалеешь!..
Евтеев еще с минуту сидел, окончательно приходя в себя, потом взялся за ручку дверцы, но Швартин вдруг торопливо залез в машину, лицо его было озабоченным:
— Черт… прибывает вода, — сказал он. — Мы, кажется, не там остановились, надо стать где-то повыше.
Он завел мотор, включил фары и дворники.
По лобовому стеклу струился поток воды, и, хотя фары были переключены на дальний свет, ничего толком не было видно. Евтеев высунулся в открытое окно; свет фар терялся в десятке метров перед машиной; казалось, природа обрушила на Гоби всю ту воду, которую по рассеянности не давала ей долгие сухие годы. Мутный, бурлящий поток, становящийся все стремительнее, прибывающий на глазах, уже бил в буфер машины. За какие-то считанные минуты «Нива» и Евтеев со Швартиным в ней вдруг оказались словно среди ярящейся реки.
— Быстрее, зальет мотор!.. — невольно крикнул Евтеев. — Давай, Степа!..
Швартина не надо было подгонять: напряженно-собранный, он развернул машину под углом к потоку, и она медленно, но упрямо выбиралась туда, где должен был быть берег неожиданной реки. Было мгновение, когда им обоим показалось, что опасность прошла, все кончится благополучно и останется в памяти лишь забавным приключением, но в открытое боковое окно Швартин вдруг совсем рядом увидел метровую селевую волну; он лишь успел повернуть голову к Евтееву, как она ударила по кузову машины, плеснулась грязью в салон и развернула «Ниву» капотом навстречу потоку. Следующая волна — Евтеев со Швартиным еще не успели опомниться — ударила в лобовое стекло, перекатилась через крышу, смахнув с багажника плохо прикрепленные вещи; мотор заглох.
— Прыгай!.. — крикнул Швартин. — Сейчас перевернет!..
Евтеев открыл дверцу и, оглянувшись, скорее почувствовал, чем увидел, как Швартин, перегнувшись на заднее сидение, пытается взять рацию.
— Прыгай!.. — заорал Швартин, поняв, что Евтеев мешкает, и тот вывалился из машины в воду и темноту.
Едва он стал на ноги, его тут же сбила и поволокла тяжелая, вперемешку с грязью, волна. Евтеев судорожно забился, стараясь не захлебнуться, удержаться на поверхности, его несколько раз перекрутило в потоке, и он очутился в сплошной темноте среди бушующей воды. Он ощутил острый, как удар ножом, страх, растерялся до беспомощности и только минуту — или час? — спустя вновь понял простую вещь: чтобы скорее выбраться, надо плыть поперек потока, лишь это самый короткий путь к спасению. У него даже не было времени крикнуть. «Только бы не ударило о камни…» — билась в голове единственная мысль.
Когда, наконец, он выполз из селевого потока, отполз подальше и распластался на мокром щебне под уже прекращающимся ливнем, он не мог сказать, сколько времени продолжалась его лихорадочная борьба за жизнь. Вокруг по-прежнему была густая темнота, он лежал не только опустошенный, но, казалось, до предела выжатый, без сил и без мыслей. Потом ему стало холодно, забила дрожь, он заворочался и вспомнил: «Швартин!..»
— Степан!!! — закричал Евтеев, вскакивая на ноги.
— Степан! Степан!.. — кричал он, топчась на берегу уже стихающего потока.
Ему страшно было даже допустить мысль, что Швартин мог погибнуть; но где его искать? Куда идти: вверх или вниз по течению?..
Вначале он пошел вниз, до рези в глазах всматриваясь в темноту, стараясь не оступиться на острых камнях, время от времени останавливаясь и зовя Швартина. Но скоро убедился, что эти поиски ничего не дадут, надо ждать рассвета: может, Швартин лежит где-то на берегу без сознания, а он уже прошел мимо него в темноте. «И не вниз надо идти, а вверх по течению, — подумал Евтеев. — Швартин сильнее, выносливее, он, как альпинист, бывал, наверно, в подобных переделках и поэтому должен был выбраться из потока раньше меня…»
Сжавшись от холода в комок, не в состоянии еще оценить положение, в котором они оказались, Евтеев нетерпеливо ждал рассвета. Он продолжил поиски, едва начало сереть. Теперь он уже понимал, что дорога, по которой они вчера ехали, никогда не была руслом реки — это русло проложили селевые потоки. Прошедшая ночь вспоминалась бы приснившимся кошмаром, если бы перед его глазами не было свидетельств только отбушевавшей стихии. «Что же стало с машиной?..» — придавленно и потрясенно подумал Евтеев.
Солнце еще не вышло из-за дальнего хребта, когда подул теплый ветер.
Евтеев торопливо шел, пристально вглядываясь во все вокруг, но Швартина не было видно. «Может, Степан выбрался на другую сторону?.. — подумал он и решил: — Дойду до места нашей вчерашней стоянки, я, кажется, запомнил его окрестности, и — если Степана не будет — пойду обратно по тому берегу…»
На мгновение он словно увидел себя издалека и сверху: крошечная фигурка на покрытом солнечным загаром, кажущемся оплавленным щебне в центре неоглядного, безлюдного и дикого пространства. До озноба, так что передернул плечами, Евтеев ощутил свои малость и затерянность.
Швартин, грязный, в одних плавках, сидел, вытянув ноги и привалившись спиной к большому камню. Глаза его были закрыты, лицо сморщено в гримасе страдания. Услышав хруст щебня под ногами Евтеева, он устало взглянул на него и попытался улыбнуться.
— Что с тобой, Степа?.. — бросился к нему тот.
— Не суетись… — спокойно усмехнулся Швартин. — Я, кажется, сломал ногу.
— Ногу?.. — машинально переспросил Евтеев, потерянно глядя на распухшую от колена до стопы правую голень Швартина.
— Ногу… — кивнув, грустно подтвердил Швартин. — Ты не суетись, — мягко попросил он. — Сядь, успокойся.
— Ну и ночка была!.. — не удержался Евтеев и почувствовал, что сказал это глуповато.
— Ночка была и прошла… — задумчиво глядя вдаль, проговорил Швартин. — Надо думать, что делать дальше…
Евтеев понурился, вдруг остро ощутив приступ мучительной вины.
— А машина?.. — с бессмысленной надеждой произнес он.
Швартин посмотрел на грязное русло, по которому еще недавно мчался сель.
— Можно попытаться поискать… но ручаюсь, что это груда металлолома…
— А рация? — с последней надеждой проронил Евтеев.
— Я выпустил ее, когда меня сбило волной… Но даже если мы найдем ее теперь и в полной исправности, она все равно будет годиться только на то, чтобы забивать гвозди…
Евтеев недоуменно взглянул на него.
— Разрядились батареи… — пояснил Швартин.
19 ИЗ ЗАПИСЕЙ СЮНЯЕВА
«Без понимания законов перехода структурных изменений в качественные нельзя понять даже вариацию свойств (крайне многообразных, если учесть, что это простейшее химическое соединение) обыкновенной воды. Этот закон включает закон перехода количества в качество, как один из частных случаев. То есть количество — это всего лишь один из факторов — непременное условие — делающих возможным (и неизбежным) возникновение какой-либо определенной структуры и — соответственно — определенных качеств, не существовавших ранее.
Нет сомнения, что существуют и другие факторы, делающие неизбежным возникновение других определенных структур.
В постижении структур, которые, несомненно, сами тоже являются новыми факторами для еще более сложных структур, и состоит, по-видимому, глубинное постижение мира и — наверняка — тайны возникновения жизни.
Мы еще только приближаемся к пониманию того, сколь много значит структура, сколь это важно и в мертвой, а особенно в живой природе.
И еще. Из эволюции жизни видно, что найденные удачные решения она широко (например, устройство глаза) использует в самых разных организмах на протяжении огромного времени.
Но почему из этого общеизвестного факта не возникает простого и закономерного предположения, что точно так же обстоит дело и в случае с другими структурами, то есть опыт структурного строения биологических организмов — организмов из клеток — используется ею и при построении самоорганизующихся систем, состоящих из других единиц?..»
20
Лишь через несколько часов до Евтеева и Швартина начала по-настоящему доходить вся трагичность их положения. Гоби заманивала в свои безлюдные просторы, но не хотела отпускать назад. Впервые она попыталась оставить их в себе навсегда, когда бросила под колеса машины незасохший такыр. Они избежали ловушки и не вняли предостережению. И тогда Гоби, смеясь над их неопытностью и беспечностью, сомкнула объятия…
Чем дольше длилось молчание, тем тягостнее и невыносимее становилось оно для Евтеева. Надо было что-то делать, но только не сидеть, медленно поджариваясь на солнце.
— Я пойду поищу машину, — с невольной виной сказал он, поднимаясь на ноги.
— Да, — кивнул Швартин, — посмотри, что там осталось из нашего снаряжения, что можно еще использовать.
Он долго с печальной грустью смотрел на худую спину Евтеева, торопливо шагавшего вдоль русла селевого потока.
«Вот и все… — думал Швартин. — У нас нет даже одного шанса из тысячи… Как странно играет с нами судьба… Мог ли я подумать, что моя жизнь кончится в тридцать восемь лет да еще в пустыне Гоби…
Мы, конечно, обречены: контрольный срок возвращения в Баян-Гоби истечет только через шесть дней, тогда лишь отправятся на наши поиски. Хотя бы не на лошадях… — вдруг усмехнулся он. — К этому времени мы погибнем от жажды, если случайно не набредем на источник…
Конечно, не набредем: мы будем очень медленно брести с моей сломанной ногой, слишком мало проходить за день… Борис не сможет меня нести, сможет только поддерживать… Даже костыли не из чего сделать в этом каменном пекле…
Обречены — это яснее ясного, хотя за жизнь будем, конечно, бороться до конца: что же делать еще?.. Но вот что странно: я все понимаю и в то же время не чувствую страха перед смертью. Почему?.. Может, потому, что кажется, будто еще не скоро придет ее минута?.. Нет страха перед тем, что жизнь уходит, с сегодняшней ночи отсчитываются ее последние дни… А что есть? — Швартин с напряженной пристальностью вслушивался и всматривался в себя. — Есть мудрое и спокойное сожаление, — с удивлением понял он. — Если выразить его словами, то будет, пожалуй, так: „Жаль, что так получилось, но что же? Это не повод для малодушия. Твоя жизнь все-таки не прошла зря. Ты уходишь, но остаются другие…“
Но вдруг это философское ослепление прошло, и Швартин ощутил, как остро защемило сердце. „А как же Лена, как Игорешка, как же брат, родители?..“ — с жалостью и тоской подумал он. Швартин, словно наяву, увидел по очереди их лица. Вдруг он остро пожалел, что на этот раз не застраховал свою жизнь: не оказалось свободных денег, когда приходил страховой агент, а занимать не захотелось; Крутиков потом, на профсоюзном собрании отдела, присовокупил это, как еще одно свидетельство его общественной пассивности. „А Лене и Игорешке пригодились бы эти деньги, — пожалел Швартин. — Пенсию им за меня не дадут, не летчиком ведь испытателем работал…“
Уходящий, он еще долго думал об остающихся, потом, разморенный зноем, усталостью от прошедшей ночи и боли в ноге, впал в тяжелую дрему.
Его разбудил возбужденный, может быть, слишком возбужденный голос Евтеева:
— Проснись, Степа, проснись! Вода!..
Швартин с трудом открыл глаза и тупо взглянул. Перед ним на корточках сидел Евтеев, между его колен стояла пластмассовая канистра.
— Нашел одну из наших канистр, ее выбросило на берег, — возбужденно говорил он, пока Швартин приходил в себя. — Иду, смотрю — лежит. А тут как раз и колдобина с водой, еще не высохшая… Пей, Степа… — совал он ему канистру.
Пить очень хотелось, но Швартин сделал лишь несколько экономных глотков.
— А машина? — спросил он, переводя дыхание.
Евтеев, сразу понурившись, безнадежно вздохнул.
— Ну что ж, уже неплохо: дня три будем с водой, — сказал Швартин. — Я думаю, что нечего нам здесь прохлаждаться. Наш путь лежит на север, — почти весело подмигнул он. — Помоги-ка подняться…
Они шли, вернее — ковыляли, с короткими частыми остановками, до самой темноты, но вряд ли одолели даже семь километров. В одной руке Евтеев нес канистру с водой, другой поддерживал изнуренного Швартина, обнимавшего его за шею.
— Ничего, Боря, главное — движемся… — ободряюще говорил Швартин, при каждом „шаге“ морщась от боли. — Зловещие просторы, сама отрешенность и безразличие… Нигде я не ощущал этого так, как здесь…
— Дойдем… — стараясь, чтоб голос звучал уверенно, говорил Евтеев. — Нам главное — найти какой-нибудь источник, какую-нибудь воду, а тогда — все в порядке. Тогда можно будет просто ждать помощи…
Ночью Евтеев жутко мерз: свою ковбойку он отдал Швартину и постелил ему свои брюки. Слушая, как тяжело дышит, порой стонет сквозь сон от боли измотанный за день Степан, он с холодным ужасом, так что замирало дыхание, думал: „Неужели он умрет?.. — И глупо спрашивал себя: — Что тогда?..“ Своя жизнь была для него ничто в сравнении с жизнью Швартина: у Швартина ведь семья, и это он, Евтеев, заманил его в Гоби, он вчера по неопытности, но и беспечности допустил привал в старом русле селевых потоков. „Неужели мы не выберемся отсюда?..“ — в отчаянии спрашивал неизвестно кого Евтеев и молил неизвестно кого, и уверял себя, что нет, все в конце концов окончится благополучно…
Весь следующий день сквозь тяжелый зной они продолжали медленно, упрямо двигаться на север. Нога у Швартина распухла, обтягивающая ее кожа приобрела лиловый оттенок и глянцево блестела. Каждый новый шажок вперед давался ему с трудом и болью, но Швар-тин все же не падал духом, хоть порой в его шутках сквозила мрачность.
— Не утонули, чтоб поджариться… — пытался он улыбнуться сквозь уже ставшую обычной на его лице гримасу боли. — Вот это настоящая ирония судьбы.
— Я вот о чем думаю… — тяжело дыша от усталости, говорил Евтеев. — Мы с тобой эти последние дни словно стоим на краю, и… каждый из нас о многом передумал… — Он искоса взглянул на Швартина, и тот молча кивнул. — Я имею в виду — по-новому оценил прожитую жизнь и что-то решил насчет будущей, когда это останется позади.
Швартин снова молча кивнул.
— Так вот, я думаю, неужели то, что каждый из нас теперь так твердо решил, все-таки забудется, когда мы выберемся из Гоби?.. Вопрос, а?.. — грустно подмигнул он.
— Вопрос… — согласился Швартин.
…К вечеру они, пошатываясь, едва переставляли ноги, но все же продолжали идти до самой темноты.
— Покурить бы… — проговорил Швартин, когда, наконец, без сил опустились, легли на горячие еще камни, уже не думая ни о фалангах, ни о скорпионах.
— Покурим… — сказал Евтеев и сам ощутил в своем голосе сомнение. — Покурим!.. — поэтому повторил с нарочитой уверенностью.
Швартин, до предела измотанный дневным переходом и сломанной ногой, быстро уснул. Сон его был тяжел, несколько раз он начинал невнятно бредить. Евтеев сидел, обхватив руками колени, и тоскливо глядел на звезды на горизонте. Хотелось пить, но мутной воды в небольшой канистре оставалось только-только на завтрашний день. Уже завтра под вечер начнет мучить настоящая жажда и, проснувшись, им нечем будет ее утолить.
„Сможет ли Степан завтра подняться?..“ — с тоскливой тревогой думал Евтеев, чувствуя головокружение от усталости и голода. Гоби безжалостно и стремительно отбирала силы, ее угрюмое равнодушие рождало отчаянье. „Вся надежда только на помощь… — наверно, в тысячный раз за эти два дня вновь понимал Евтеев. — Даже если найдем воду — вся надежда только на помощь…“
21
Он задремал и вдруг проснулся, словно от толчка. Хотя светила луна, в первую минуту Евтеев ничего не видел и даже не мог понять, где находится.
— Борис Иванович!.. — раздался странный тихий голос.
— А!.. — вскрикнул Евтеев, испуганно оборачиваясь.
Он увидел темный силуэт очень высокого худощавого человека; человек помедлил, ожидая, пока Евтеев вглядится, и тихо приблизился.
— Махатма… — потрясенно прошептал Евтеев.
Некоторое время он был не в силах пошевелиться. „Сон или явь?..“ — билась растерянная от неожиданности мысль, и, даже поняв, что — явь, и ощутив ту невероятную радость, перед которой слова бессильны, Евтеев несколько минут продолжал сидеть оцепенело, глядя ошеломленно и бессмысленно.
— Вашему товарищу нужна помощь, — мягким жестом остановил его Махатма, когда Евтеев вновь обрел дар речи и попытался встать.
В призрачном лунном свете Махатма легко опустился на одно колено возле спящего Швартина и некоторое время смотрел на его лицо, потом приблизил ладони к его вискам и привычно сосредоточенно замер. Дыхание Швартина стало редким, ровным и глубоким. Махатма начал медленно водить раскрытыми ладонями над его грудью, животом, боками. Над местом перелома он на минуту задержал сведенные вместе ладони, и Евтеев увидел, как вокруг них возникло синее пламя. К этому времени Евтеев успел несколько раз ущипнуть себя за щеки, но все равно происходящее воспринималось им, словно видимое во сне.
— Утром его не будите, — сказал Махатма, — пусть спит, пока не проснется. Он будет здоров и сможет идти сам… Не пугайтесь, — улыбнулся он, приближая ладони к вискам Евтеева. — У вас ведь не болит больше голова?
— Нет… — вымолвил Евтеев.
Махатма пошевелился, чтобы изменить позу.
— Не уходите! — невольно воскликнул Евтеев. — Погодите! Хоть немного погодите!..
— Я слушаю вас, — мягко улыбнулся Махатма, глядя светло и мудро (от ощущения глубины этой мудрости и знаний, которые лежали в ее основе, у Евтеева задержалось дыхание) и в то же время со странными отстраненностью и печалью; глаза его, в лунном свете отблескивающие искорками, казались Евтееву такими же глубокими, как и Вселенная, словно бы обступившая со всех сторон каменистый пятачок в центре Гоби, на котором находились Махатма, он и Швартин.
— Я… Мы… Мы искали вас, мы отправились в Гоби, чтобы найти вас, чтобы встретиться с вами, — лихорадочно и сбивчиво заговорил Евтеев. — Я… Мы…
— Мне известно об этом.
— Вы ведь — Махатма? Махатма из… Шамбалы?..
— Да, я один из тех, кого вы называете Махатмами, а место, откуда я, у вас известно под названиями Шамбала, Калапа, Беловодье, Баюль…
— Я сразу узнал вас! Помните?..
— Я хорошо помню вас, Борис Иванович, — мягко улыбнулся Махатма, — хоть за прошедшие годы вы сильно изменились. Обо мне этого, наверно, сказать нельзя?
— Да! — обрадованно кивнул Евтеев. — Вы все тот же, вам на вид столько же лет. Я узнал вас сразу, как только вы приблизились. Я верил и не верил в возможность такой встречи, я и сейчас и верю, и не верю…
— Вы хотите о чем-то спросить меня…
— Да, да! — лихорадочно, с благодарностью закивал Евтеев и вдруг оторопело застыл, растерянно глядя на него: все вопросы, которые готовил, все мысленные диалоги, которые разыгрывал в своем воображении в течение многих дней — даже волоча на себе обессиленного Швартина, — потерялись, показались наивными и глупыми перед лицом этого загадочного своими мудростью и знаниями человека.
— То, что у вас известно, как Шамбала, действительно существует, хотя со временем вокруг расплодились домыслы и суеверия. Есть люди, выдающие себя за нас, есть действующие якобы от нашего имени. Вы хотите спросить, почему мы равнодушны к этому и, обладая несоизмеримыми с вашими знаниями и потенциальной мощью, не только не стремимся влиять на вашу пока еще несовершенную цивилизацию, но избегаем контактов с ней.
Евтеев сидел, подавшись вперед, не замечая, что от неудобной позы у него затекли ноги, весь в напряженном стремлении не пропустить не только слова, но даже оттенка интонации, и по-прежнему чувствовал себя будто не совсем наяву.
— Я отвечу сразу и кратко, а потом поясню свои ответы, — продолжал Махатма. — Отчасти мы сами виноваты в слухах, домыслах и суевериях вокруг Шамбалы, потому что не всегда мы не пытались влиять на ход Социальной эволюции на Земле и не всегда не вступали в контакты с представителями различных государств, племен и народов. Но со временем мы полностью отказались от попыток влиять на ход социальной эволюции и прекратили контакты с людьми, потому что пришли к пониманию, что Путь Человечества должен свершиться, он неизбежен и должен свершиться в понимании его неизбежности и необходимости; все привнесенное — в итоге — насильственное, плод должен созреть сам. Попытаться ускорить этот процесс — значит, в конце концов, курировать, причем все более углубленно и полно социальные и все связанные с ними процессы в масштабе всей Земли, уподобить человечество неразумному, которого насильно, за руку тащат в скороспелый рай. Эта роль унизительна для Человечества и неблагодарна для решивших стать благодетелями. Люди стали бы беспечными, превратились бы в капризных детей, которые во всем винят нянек…
Евтеев смотрел в лицо Махатмы с напряженным желанием понять, но в глазах его еще не было понимания.
— Шамбала — это всего лишь одна из возможностей, но не Путь Человечества, — продолжал Махатма, словно просто напоминая Евтееву нечто тому известное. — Шамбала действительно Замкнутая Община, это определение наиболее верно отражает ее социальное устройство.
Вот в чем коренное отличие Шамбалы от земной цивилизации: социальная структура ее, однажды оптимизовавшись, не меняется, уже века практически неподвижна; благодаря этому мы пошли по пути самосовершенствования, которое точнее можно назвать даже самосозиданием, познания тайн мира и овладения тончайшими энергиями Вселенной. У Человечества другой путь — это путь Социальной эволюции. Ваши возможности и знания растут вместе с совершенствованием социальных структур, а затем, в конечном итоге, будут расти вместе с совершенствованием единой социальной структуры, в которую сольются ваши все более сплетаемые узами и добровольного, и вынужденного сотрудничества государства. Наша философия бесполезна для вас, потому что исторически лишена социальности.
— Шамбала не возникла, как нечто законченное и данное сразу на века, — продолжал Махатма. — История Шамбалы не гладкий поток: она до поры была противоречивой. Наши взгляды на контакты с земными цивилизациями эволюционировали по мере увеличения наших знаний.
Шамбала не является чем-то исключительным в истории человечества: возникали и другие подобные общины. Вспомните хотя бы друидов — высшую касту кельтских жрецов, уничтоженную Цезарем во время завоевания Галии, но лишь Шамбале удалось выстоять века, добиться единения, могущества и неуязвимости; лишь в этом ее исключительность.
Так получилось, что наши знания о законах мироздания, глубинных свойствах материи, пространства, времени, о свойствах живого, тайнах мышления росли быстрее, чем знания социальные, знания о социальной эволюции, ее необходимости и неизбежности для Человечества. Этим и объясняются все наши прошлые, происходившие в разное время попытки повлиять на ее течение и, как крайнее заблуждение, даже проповеди отказа от социальности и призывы к личному совершенствованию, что нашло отражение в некоторых учениях, существующих до сих пор.
Точно так же, как теперь мы, смотрят на контакты, на вмешательство в дела человечества и другие цивилизации…
Махатма вопросительно замолчал, видя, как хочется Евтееву задать ему вопрос.
— А они действительно есть?! — вырвалось у Евтеева.
— Конечно, — улыбнулся Махатма.
— И посещают Землю?
— Да. До того, как им удалось установить контакт с нами, они вступали в контакты с различными племенами и народами и порой даже пытались просветить, делились некоторыми из своих знаний. Эзотерические знания племени догонов и Стоунхендж,[3] которые вас, Борис Иванович, особенно заинтересовали, — следствия некоторых из этих контактов. Точно так же, впрочем, как некоторые знания индийских йогов, другие подобные знания Азии и Востока — осколки знаний, когда-то вынесенных Махатмами из Шамбалы.
— Вы и сейчас поддерживаете контакты с другими цивилизациями? — почти шепотом спросил Евтеев, чувствуя, как по коже пробежал острый холодок.
— У нас налажены контакты со многими цивилизациями, — кратко ответил Махатма.
— И, значит, легенда о Чинтамани…
— Да.
— Понимаю… — потрясенно протянул Евтеев, глядя рассеянно и оцепенело в беспредельность: в звездную глубь Вселенной над черным силуэтом далекого хребта.
— Наши контакты уместнее назвать сотрудничеством, — счел нужным пояснить Махатма.
— А… это правда, что Шамбала недоступна для посторонних, окружена некими полями, делающими ее невидимой и неуязвимой?
— К нам, действительно, может попасть лишь тот, кого мы захотим увидеть своим гостем. Оружие, существующее на Земле, не в состоянии причинить вред Шамбале.
И снова Евтеев потерялся и растерянно замолчал. Он молчал не потому, что у него не было больше вопросов, а потому, что их было слишком много, они неразборчиво клубились, метались в лихорадочно напряженном мозгу, но он не мог ухватить сознанием ни одного из них, выбрать из их числа достойный вопрос.
— А психические силы?.. — неожиданно для самого себя выхватил он, наконец, из спутанного клубка тот вопрос, которому в своих мысленных беседах с Махатмами отводил место в самом конце, исчерпав все неотложные и насущные вопросы. Он спохватился, досадуя и еще более теряясь, решив, что Махатма иронически улыбнется, но тот взглянул одобрительно и, как обычно, мягко.
— Вы имеете в виду передачу и прием мыслей на расстоянии, ясновидение, телекинез и подобное… Все это не чудеса, они основываются на определенных возможностях, существующих в Природе, но объяснение механизмов этих явлений при вашем уровне знаний будет непонятно.
Евтеев мельком невольно подумал о том, что Махатма говорит странно замедленно, словно с некоторым усилием подбирает слова.
— Это не от незнания вашего языка, Борис Иванович, — чуть улыбнулся Махатма (Евтеев покраснел, словно застигнутый на месте преступления). — Вы мыслите словами, мы же словами не мыслим, обходимся без них, но при общении с вами нам приходится втискивать свои мысли в слова вашего языка.
— …И все-таки мне совершенно непонятно, почему Шамбала — это не Путь Человечества? — наконец ухватил Евтеев главный вопрос. — То есть я хочу сказать: почему на всей Земле нельзя создать Общину, подобную Шамбале?
— Если немного подумаете, Вы сами сможете найти ответ, — рассеянно улыбнулся Махатма, словно думал о другом. — Шамбала, в силу исторических и некоторых других обстоятельств, возникла как замкнутая и, в известном смысле, тайная Община.
У изолированной Общины есть свои проблемы, но суть не в этом. Суть в том, что, остановившись на определенной социальной структуре, то есть остановив Социальную эволюцию в Шамбале, мы в качестве неизбежной альтернативы пошли по пути совершенствования самих себя; иного пути нет у замкнутой, социально не прогрессирующей Общины; вы видите, насколько мы даже внешне отличаемся от вас.
Путь Человечества — в совершенствовании структур социальных систем и, в конце концов, в совершенствовании структуры единой, в которую неизбежно объединятся все государства Земли, социальной системы. Этот путь заложен в самой природе Жизни, именно это — магистральный путь, наш же — лишь только возможность.
Евтеев был весь — напряженное внимание, но Махатма знал, что он понимает еще далеко не все: Евтеев внутренне не подготовлен к знанию, ему сообщаемому; но открыто было достаточно, чтобы со временем он понял главное.
Беседа заканчивалась тем, с чего началась, Махатме подходила пора прощаться.
— Но каков он — Путь Человечества? Каким он будет дальше и к чему приведет?
— К знанию этого пришел человек, который был вам знаком. Я говорю о Сюняеве, — пояснил Махатма. — Вы найдете ответ в его бумагах. Мы хотим, чтобы мысли Сюняева стали известны: они уже своевременны. Можете, Борис Иванович, считать это нашим вмешательством в вашу жизнь, в жизнь вашей цивилизации.
И снова Евтеев потерялся в удивленном и оторопелом замешательстве.
Махатма легко поднялся на ноги.
— Мне надо возвращаться. Евтеев лишь молча смотрел на него.
— Видите ту гряду холмов вдали? — Махатма показал рукой на запад, и гряда на несколько секунд очертилась голубым сиянием. — Идите утром к ней и, когда подниметесь на холм с раздвоенной вершиной, внизу, в долине, увидите стоянку аратов.
Махатма чуть помедлил и, видимо, вспомнив про жест прощания, принятый там, откуда Евтеев, — протянул ладонь; Евтеев поспешно и горячо ее пожал.
Махатма сделал шаг, и машинально сделал шаг Евтеев.
— Не провожайте меня, — мягко улыбнулся Махатма и неторопливыми легкими шагами пошел к тому, что Евтеев не замечал до этого мгновения: серебрящейся в отдалении под призрачным лунным светом сфере. Он скрылся за ней, и этот аппарат, беззвучно и плавно поднявшись на несколько метров, стремительно исчез в звездном небе…
22
Махатма исчез, прошло странное оцепенение Евтеева, и первым его побуждением, когда оно прошло, было броситься вдогонку, хотя он понимал нелепость этого, а чувством — острое, безнадежное сожаление, что Махатма уже исчез для него навсегда, глубокое — до тоски — сожаление, что такой короткой была встреча и он, Евтеев, не сумел задать и сотой доли вопросов, которые готовил многие дни. Под светлым и чуть печальным взглядом Махатмы эти вопросы, так занимавшие раньше, казались Евтееву наивными и даже пустыми, недостойными его собеседника, а теперь охватило сожаление, что он — жизнь коротка — наверно, уже никогда не узнает на них ответа. Много было вопросов: о той же Шамбале и о них — Махатмах, о инопланетных цивилизациях, о времени и пространстве, о шаровых молниях и о Тунгусском метеорите…
Махатма исчез, но все еще не проходило ощущение его яви.
И вдруг Евтеев ощутил глубокую — до каждой клетки тела — захлестывающую радость. Какой же он олух! Ему невероятно повезло, а он стоит и жалеет, что осталась без ответа куча его вопросов, словно пацаненок в детском садике, которому воспитательница не успела объяснить, почему не падает с потолка муха…
Евтееву захотелось разбежаться и полететь, разбудить Швартина, радостно заорать во всю глотку, поднять и перебросить через всю Гоби изъеденный ветром камень, на котором сидел Махатма. Он задыхался от счастья, которым была эта встреча, знания, что не умрет Швартин, они с ним выберутся из Гоби. С удивлением Евтеев заметил, что не чувствует холода.
И вдруг словно обдало ледяной волной — Евтеев понял: и встречей с Махатмой, и своим скорым спасением они обязаны лишь тому странному человеку, чью гибель он случайно видел апрельским утром, — Игорю Ивановичу.
„Откуда я зная имя и отчество Сюняева?..“ — испуганно подумал он…
23 ИЗ ЗАПИСЕЙ СЮНЯЕВА
„…Ученый, дорожащий своей репутацией, и теперь не возьмется предсказать, как будет выглядеть наша цивилизация хотя бы через сто лет, в лучшем случае — выскажет несколько предположений, которые ему представляются вероятными“.
В том, что прогностика и футорология быстро столкнулись здесь с принципиальной трудностью — сомнений нет, но в чем именно она заключается?
Ответ есть и, на первый взгляд очень простой: „Отдаленное будущее цивилизации невозможно предвидеть без знания общих, совершенно определенных закономерностей, которым социальная эволюция вынуждена подчиняться на всем протяжении своего развития“.
Очевидность этого ответа, когда он произнесен, несомненна, но в действительности все не так просто.
Чтобы сказать: мешает незнание неких Общих закономерностей развития социальной эволюции, надо сначала допустить саму возможность их существования…
Еще Сирано де Бержерак пришел к выводу, что думать, будто Природа любит человека больше, чем капусту, — значит тешить наше воображение забавными представлениями.
И все-таки получилось, что в нашем сознании социальная эволюция оказалась словно бы свободной от законов и закономерностей, определявших всю предыдущую эволюцию жизни…»
24
От своего неожиданного выздоровления Швартин погрузился во что-то подобное шоку. Со всеми предубежденностью и упрямством здравомыслящего человека он не мог поверить, что его нога не только не болит, но он может идти самостоятельно, без помощи Евтеева.
— Ну, как же это так?.. — и радостно, и в то же время недоверчиво, растерянно повторял он. — Как же так? Неужели и не было перелома? Ничего не понимаю…
— А что тут понимать? — пожимал плечами Евтеев. — Главное — нога в порядке; вот это главное.
— Ну, как же так?
— Слыхал про чудесные исцеления?
— Ну?.. — недоверчиво смотрел на него Швартин.
— Мы еще, Степа, слишком мало знаем свои собственные внутренние возможности, — многозначительно и невнятно подытоживал Евтеев.
Швартин был так обрадован и потрясен, что долго не спрашивал даже, почему они круто изменили направление и идут теперь на запад, а когда спросил, то удовлетворился ответом Евтеева, что именно туда идти лучше всего.
Он начал вспоминать про чудесные исцеления, о которых когда-то читал и слышал, высказывать свои соображения по этому поводу, и разговор, невнимательно поддерживаемый Евтеевым, затянулся часа на два, несмотря на зной и трудную дорогу. Наконец, выговорившись и освоившись со своим положением самостоятельного человека, надолго замолчал, продолжая ощущать подступное мучительное недоумение.
«Неужели прошлой ночью Борис встречался с этими… Махатмами?..» — неожиданно подумал Швартин, но возможность этого показалась такой чудовищно невероятной, а сама мысль — глупой, что он лишь недовольно фыркнул и вздохнул.
«К черту эти Шамбалы, — подумал он. — И Шамбалы, и инопланетные цивилизации. Я люблю Землю… Даже вот эти богом забытые, бесплодные холмы, этот источенный ветрами песчаник, эти оплавленные солнцем камни под ногами… Надо сначала научиться радоваться тому, что уже есть вокруг нас, что — вот оно, вокруг… Те, которым этого мало, — просто глупы…»
Под вечер с раздвоенной вершины холма они увидели свое спасение: белую юрту в долине. А через час, сидя на низеньких скамеечках, стоящих на кошме, устилавшей пол, стараясь скрыть жадность, пили из фарфоровых пиал холодный ароматный айраг…
25
«Трудно назвать гением человека, работающего где-то завхозом и снимающего угол у сердобольной старушки…» — хмуро думал Евтеев, возвращаясь от Марфы Лукьяновны Панько.
Стоял поздний субботний вечер. Медленно шагая, Евтеев проходил одну за другой троллейбусные остановки, но, несмотря на мелкий дождь, продолжал идти пешком.
«Циолковский как-то написал, что в России каждый год умирало две тысячи гениев, но все считали их сумасшедшими и чудаками… Бесполезно доискиваться, откуда он взял эту цифру: калужский учитель сам был странным гением… Странным гением, которому повезло…
Для таких натур, как Сюняев, не существует традиционных, общепринятых путей и в жизни… К нашему громадному сожалению, идя по своему, кажущемуся им более разумным и кратким, пути, они почти неизбежно запутываются и становятся завхозами, хотя по уму академики, и оказываются на краю, где совсем рядом отчаянье, но так далеко до редакций даже научно-популярных изданий, и так недоступны печатные страницы для их идей…» — с угрюмой печалью думал Евтеев.
Он невольно взглянул на тяжелый портфель в своей руке, в котором лежали те из бумаг Сюняева, что привлекли его внимание в первую очередь; за остальными он договорился с Марфой Лукьяновной заехать завтра. О Марфе Лукьяновне подумал с грустной теплотой и глубокой благодарностью: Игорю Ивановичу в свое время повезло на квартирную хозяйку…
Сестер и братьев у него не было, отец и мать погибли в автомобильной катастрофе, когда ему было двенадцать лет, воспитывала его бабушка, мать отца, тоже давно умершая. После гибели Сюняева отыскались какие-то дальние родственники, но к бумагам не проявили ни малейшего интереса, а кроме них наследовать было, в общем-то, нечего… А Марфа Лукьяновна даже не подумала пустить бумаги на хозяйственные надобности или отдать тем книголюбам, которые рыщут в поисках макулатуры; Евтеев обнаружил их не только в целости, но даже в том порядке, в каком в то апрельское утро оставил Сюняев.
Найти бывшее место жительства Игоря Ивановича в миллионном городе оказалось гораздо сложнее, чем Евтеев предполагал, потому что прописан тот был под Киевом, но все-таки наступил день, когда он, напрасно пытаясь унять волнение, переступил порог квартиры Марфы Лукьяновны Панько, где Сюняев снимал комнату.
Есть старые женщины, лица которых время избороздило морщинами, но стерло с них все мелкое, недостойное, суетное, оставив доброту и мудрую светлую печаль.
— А кем вы будете Игорю? — настороженно спросила она, когда Евтеев представился и сказал о цели своего визита.
— Другом, — чуть замявшись, твердо ответил он.
— …Одно время, когда он у меня поселился, у него было много друзей, просто знакомых, — Помолчав, горько сказала Марфа Лукьяновна. — Часто приходили к нему, спорили, пили чай… Я любила слушать их споры… Потом приходили все реже… да и он сам становился все замкнутее, отчужденнее к другим… Вас я не помню…
— Я действительно его друг, — твердо повторил Евтеев.
26
Не один день ушел у Евтеева на предварительные разборы и систематизацию записей, заметок и статей Сюняева, и это была захватывающе интересная работа: он открывал для себя мир мыслей, духовный мир необычного человека.
Идей и суждений, основывавшихся часто на интуитивных прозрениях, у Сюняева было множество, и они касались разнообразнейших тайн природы, касались нашей жизни, искусства и нас самих, но Евтеева в первую очередь интересовало все относящееся к вопросу, от ответа на который уклонился Махатма.
Путь к постижению этого начался у Сюняева еще в юности: в один прекрасный день его поразило, что, несмотря на многочисленные печатные рассуждения и даже целые книги, специально этому посвященные, никто толком не может ответить на вопрос: «Каким именно будет будущее нашей цивилизации?» Даже ближайшее: через сто или триста лет. Все это, в конечном итоге, лишь пространные, односторонние и наукообразные рассуждения; одни предрекают человечеству неминуемую гибель, другие — невероятное могущество, но никто не может рассказать, как именно, век за веком будет развиваться цивилизация.
Говорят, что все гениальное просто. Просто оно (и порой даже банально) только на вид. Просто надо кому-то потратить громадные, ему одному известные усилия, чтобы мы смогли сказать так.
То, к чему, в конце концов, пришел Сюняев, тоже на вид было просто.
Он пришел к выводу, что эволюцию жизни нельзя рассматривать отдельными кусками, как это принято, она — единый процесс. То, что якобы «позволяет» нам разграничивать ее, является всего лишь специфическим выражением качественно иного уровня эволюционирующих систем, но все они в своем развитии вынуждены неизменно придерживаться общих принципов и закономерностей, диктуемых им природой.
Еще в шестидесятых годах известный кибернетик У. Р. Эшби высказал убеждение, что жизнь может быть и кремневой, и электронной, и какой угодно по материалу, но законы ее возникновения одинаковы. Что дело не в том, как образовались белки из аминокислот, не в конкретных «кирпичиках» жизни и даже не в проблемах изменчивости естественного отбора, а в общих законах самоорганизации.
Сюняев задал себе вопрос: «Не может ли быть так, что хоть системы (на каждом этапе эволюции жизни) качественно иные, но путь, порядок, в котором происходит их создание и усложнение — последовательность развития, закономерности его — едины для них всех и только маскируются неизбежными специфическими, но не по сути своей различиями?»
27
Автор вынужден вмешаться и сказать, что — при всей заманчивости — прослеживание путей мысленных поисков, рассуждений И. И. Сюняева, его прозрений и т. п. — дело для краткого повествования безнадежное; приходится ограничиться самым лаконичным изложением некоторых наиболее важных его выводов, по возможности избегая даже скромных попыток их пояснить, потому что они неизбежно увлекут в бездонную трясину комментариев, примечаний и ссылок.
Скажу, что Сюняеву удалось положительно ответить на вопрос, поставленный в конце предыдущей главы.
Он открыл, что на каждом качественно новом этапе развития Эволюция Жизни неуклонно стремится следовать одной и той же закономерности: создав более сложные системы из качественно более простых, она в конце концов начинает уже их самих использовать, как элементы для создания новых систем.
Далеко не все вновь созданные «элементарные кирпичики», способные к объединению в самоорганизующиеся системы, годятся для дальнейшей полноценной эволюции.
Полноценной, пришел к выводу Сюняев, является такая эволюция, когда общий путь развития пройден до конца, то есть системы, возникшие в его итоге, сами становятся «элементарными кирпичиками» для новых самоорганизующихся систем.
Когда из протобионтов была создана «готовая» клетка, Эволюция Жизни начала использовать в качестве следующих «элементарных кирпичиков» уже клетки. Так называемые «сообщества» термитов, муравьев, медоносных пчел — это уже первые попытки использовать как «элементарные кирпичики» сами многоклеточные организмы. Однако возможности этих «кирпичиков» оказались слишком ограниченными, чтобы эволюция смогла уже в дальнейшем пойти магистральным путем. Это стало возможным только с появлением человека.
Известно, что Эволюция Жизни никогда не разбрасывается удачными решениями тех или иных встающих перед ней проблем. Естественен вопрос: «Не являются ли в таком случае если не тождественными, то хотя бы сходными и основные принципы, последовательность построения систем, несмотря на то, что элементы их на каждом новом этапе качественно различны?»
Один и тот же уровень сложности структурной организации систем в зависимости от исходных «элементарных кирпичиков» находит — не может не находить — различные внешние проявления, выражения.
Структурное усложнение, как таковое, последовательность и закономерности его в биологических системах (организмах), с удивлением понял в свое время Сюняев, обычно серьезно не рассматриваются в рамках традиционного взгляда на Эволюцию Жизни, отмечаются лишь внешние признаки этого.
Сюняев укрепился и в не менее удивительном, если вдуматься, выводе, что мы рассматриваем неизбежные специфические отличия и выражения социальной эволюции, не замечая под ними глубинных, общих для всей эволюции жизни закономерностей.
Вот это все и явилось тем изменением взгляда на давно известные вещи, которое и позволило Сюняеву обрести путеводную нить в тумане противоречивых и односторонних предположений о Будущем Человечества и увидеть за их туманом ясные дали и четкие контуры…
28
— Я поначалу не понял, зачем ты меня приглашаешь, — проговорил Швартин, постукивая ногтем по ножке бокала.
— По телефону было трудно объяснить… Но теперь, думаю, тебе ясно…
— День рождения Сюняева… — Швартин рассеянно смотрел на талисман, привезенный Евтеевым из Гоби: небольшой камешек, светло-серый внизу, сверху покрытый глянцево-черным солнечным загаром.
— …И все же ты нашел в его бумагах ответ на вопрос, от которого уклонился Махатма?
— Имеешь в виду подробное, десятилетие за десятилетием, век за веком описание будущего пути земной цивилизации? — с горькой иронией усмехнулся Евтеев. — Свою работу Сюняев сделал с лихвой. То, что осталось, по силам уже просто хорошим специалистам…
Кто-то один, — пояснил он, — может, например, выполнить проект грандиозного моста, но глупо ждать, что он один его и построит. Лишь чтобы выявить все необходимые общие закономерности, нужны усилия профессионалов из многочисленнейших разделов, на которые расчленена сейчас биология, а так же кибернетиков, историков, социологов, экономистов, математиков… долго перечислять. Сюняев не только еще раз показал, что все науки изучают, в сущности, одну проблему, разбив ее на аспекты, а то и аспекты аспектов, но и дал возможность объединить их знания и силы.
Швартин задумчиво и, как показалось Евтееву, несколько разочарованно молчал, продолжая чуть постукивать ногтем по ножке бокала.
— Даже незавершенная работа Сюняева уже дает ответы на многие вопросы. Многое, в частности, проясняется в проблеме контактов между цивилизациями… Кофе?
— Потом… — отказался Швартин.
— Получается, что если бы инопланетяне прилетали еще в те времена, когда по Земле ковыляли ящеры, вроде того, чей скелет мы нашли в Гоби, то, зная открытое Сюняевым, они смогли бы предвидеть не только время неизбежного возникновения Социальной эволюции, но и достаточно полно, всесторонне представить ее ход до самого отдаленного будущего. Другими словами, посетив Землю еще в мезозойскую эру, им ни к чему было бы потом наведываться через каждые тысячу или сто тысяч лет, чтобы посмотреть, как идет эволюция жизни…
Швартин взглянул удивленно и скептически.
— Или вот: обмен знаниями между цивилизациями. Мы ждем «манны небесной» от контакта с инопланетянами. Это дурацкое заблуждение. Научно-техническое развитие не может как угодно далеко опережать развитие социальное: это не только не ускорит общего продвижения вперед, но неизбежно приведет к дисгармонии, относительный прогресс в каких-то областях выльется в дистабилизацию системы в целом. Чтобы цивилизация смогла воспользоваться некой суммой знаний — уровень ее развития должен им примерно соответствовать. Но вот информация о достигнутом уровне знаний передается наверняка. И это для менее развитой цивилизации куда важнее: она может оценить длину пути, который предстоит одолеть, чтобы достичь хотя бы того уровня, на который уже вышла ее соседка по Вселенной. Это даст ей возможность взглянуть на себя со стороны. А такие встряски очень способствуют прогрессу. Они избавляют от периодически возникающих иллюзий, что еще полвека, от силы — век, и все тайны Мироздания будут разгаданы, дело остается за уточнением мелочей.
— И тут мы снова возвращаемся к Шамбале! — пристукнул ладонью по столу Евтеев и поднялся, начал, сунув руки в карманы брюк, медленно ходить по комнате. — Ведь почему она возникла тысячелетия тому назад? Какие соображения двигали ее «отцами-основателями»?
Швартин с интересом, но молча смотрел на него.
— Они были идеалистами в том смысле, что не только мечтали уже тогда, среди суеверий, религий, невежества, жестокости и социальных несовершенств, сделать Человечество счастливым, но не сомневались, что это возможно с помощью знаний. Надо только добыть необходимые знания — и все будет в порядке, так они полагали…
Идея Шамбалы, как тайной общины людей, посвятивших жизни добыванию знаний во имя счастья Человечества, вытекала отсюда неизбежно. Ведь если бы Шамбала не была тайной и труднодоступной — она бы не смогла просуществовать, а если бы не была общиной, с равенством и без частной собственности — она бы не смогла справиться с целью, ради которой создавалась.
В истории Человечества Шамбала не была единственной попыткой объединения мудрецов: они предпринимались и раньше, и позднее, но или не соблюдались условия, о которых только что сказал, или губили амбиции идейных руководителей, если тех оказывалось несколько. Пифагор ведь внушал же своим ученикам, что в мире есть три типа разумных существ: боги, люди и — он, Пифагор… Шамбала была, очевидно, основана не группой выдающихся ученых своего времени, а неким одним — истинно мудрецом и его учениками-единомышленниками…
Евтеев видел, что Швартин внутренне отошел от того, что было смыслом и целью их недавней странной экспедиции, но считал своим долгом вместе с ним подвести ее предварительные итоги.
— Главная цель — сделать Человечество счастливым уже тогда — была нереальной; это, в принципе, то же, что предоставить какой-то цивилизации знания, до уровня которых она еще не доросла.
Прошло немало времени, прежде чем мудрецы из Шамбалы поняли, что для счастья Человечеству мало одних знаний; еще больше времени ушло на понимание, что насаждение общин «а-ля Шамбала» — тоже не выход из положения. Это стало кризисом, который Махатмам пришлось преодолеть: знание, при помощи которого они намеревались уже тогда сделать счастливым Человечество, привело их к пониманию неосуществимости этой цели…
Кризис преодолевался мучительно. Часть Махатм в этот период покинула Шамбалу, пошла, как говорили у нас в конце прошлого века, «в народ»: раз, мол, нельзя пока, по объективным причинам, сделать Человечество счастливым — надо попытаться хотя бы избавить людей от страдания; если нельзя сделать совершенными тогдашние человеческие общества — надо попытаться сделать совершенными самих людей.
Отголоски первых учений подготовили почву для религий типа буддизма, ставящих такие же цели; отголоски вторых известны теперь, как йога во всех ее разновидностях…
— Интересно… — протянул Швартин.
— Но в еще большей степени — поучительно. «Романтиков» вряд ли приведет в восторг то, о чем я сейчас говорю. Я имею в виду живущих в постоянной неопределенной надежде, что вот вмешаются какие-то высшие существа или произойдет некое чудесное чудо, и все вокруг нас чудесным образом изменится, — грустно усмехнувшись, пояснил Евтеев.
— Но ты ведь и сам был таким «романтиком», — не без иронии заметил Швартин.
— В некоторой степени… до встречи в Гоби с Махатмой… И еще немного после, пока не начал понимать то, что он мне сказал.
— Ты-то, может быть, и понял, — терпеливо вздохнул Швартин, — но вот я никак не могу понять, в чем же ущербность пути Шамбалы, почему они не только не стали, но, как ты утверждаешь, и не могут стать творческой силой в масштабах Вселенной?
— Если в двух словах, то уже только потому, что с самого начала остановили у себя социальную эволюцию. На какое-то время это дало им возможность совершить рывок в познании, но давно уже они чувствуют себя жертвами этого, когда-то избранного пути — одностороннего развития.
— Хороши жертвы, — недоверчиво и насмешливо усмехнулся Швартин.
— Ты глядишь на Шамбалу и Махатм из сегодня, сопоставляешь сегодняшние знания Человечества с достигнутыми на сегодня Шамбалой — вот в чем все дело! Но есть более существенные критерии. Их и имел в виду Махатма во время того, ночного, разговора со мной.
— Какие же? — спросил Швартин.
— Чтобы понять суть, достаточно даже одного, назову его «потенциал развития». Кому-то это надо было бы объяснять долго, но ты работаешь с электронно-вычислительной техникой…
— Я все понял, — задумчиво потер лоб Швартин. — Действительно… — проговорил он через полминуты. — Они пошли по пути совершенствования самих себя, но каким бы глубоким это качественное улучшение ни было — оно далеко не безгранично. Не надо быть большим специалистом в той же кибернетике, чтобы понять, насколько ограничены возможности этой системы по сравнению с такой, как Человечество. Что же ее ждет? — спросил Швартин.
— Форы, которую века назад обеспечила себе Шамбала в темпах познания, уже не существует. Стоит лишь мельком оглянуться на историю Человечества, чтобы увидеть, с какой стремительностью ускоряется с течением времени ход социальной эволюции и неотделимое от него, диктуемое им познание Мира. Нашей цивилизации нужны уже всего годы на постижение того, на что у Махатм уходили десятилетия. Уровень знаний Шамбалы пока еще выше уровня знаний нашей цивилизации, но Шамбала давно уже не может состязаться с ней в темпах познания и обречена остаться далеко позади. Но, уверен, прежде, чем это случится, между Человечеством и Шамбалой возникнет сотрудничество. Мудрецы, столетия назад сделавшие шаг в сторону из потока социальной эволюции в надежде принести Человечеству счастье и затем вынужденно стоящие в стороне, снова сделают шаг, но на этот раз, чтобы влиться в поток, вновь стать членами человеческого сообщества. Так это будет… Как ты называл нашу экспедицию? — вдруг спросил Евтеев.
— … «Путешествие за призраками», — неловко усмехнулся Швартин.
29 ИЗ ЗАПИСЕЙ СЮНЯЕВА
«В конце каждого этапа Эволюции обязательно появляется нечто качественно новое. Чем ознаменуется Социальная эволюция? Я, пожалуй, уже могу ответить на этот вопрос.
То, что начнется в ее конце, будет эрой Сверхразума. Структурное усложнение общества (социального организма) приведет, а достижения науки сделают возможным объединение всех интеллектов людей цивилизации Земли в некоем поле; мы сетуем, что нами используется лишь малая доля громадных потенциальных возможностей нашего мозга — тогда они будут использованы все.
Человечеству не угрожает превращение в киборгов — это кибернетике угрожает биологизация. Гигантские всепланетные системы компьютеров будут необходимым, но промежуточным этапом перед началом эры Сверхразума. Являясь им в своей совокупности, люди будут своеобразными „нейронами“ — информаторами и орудиями Сверхинтеллекта. Возможности отдельного человека той эпохи нам, глядящим с уровня сегодняшних представлений, трудно назвать иначе как сверхъестественными…»
ЧУЖОЙ МИР
Был уже поздний вечер, а Булочкин не уходил из карьера. На дне его, начавшем местами зарастать мелким березняком, лежала густая тень, но верх восточных, почти отвесных стен был еще освещен багровым заходящим солнцем.
Щемяще тихо было на дне заброшенного гранитного карьера. Когда-то гремели здесь взрывы, дробящие спрессованный миллионами лет монолит, а в перерывах между ними надрывались дизеля самосвалов, откашливаясь перегоревшей соляркой, и скрежетали о розовые крупнозернистые глыбы зубья экскаваторных ковшей. И вот ушло все, и теперь казалось, что ничего этого никогда здесь и не было, хотя продолжали валяться полусгнившие, измочаленные колесами доски, часть ржавой гусеницы, куски черного кабеля…
Там, над карьером, извивались ветви и шумели июльской листвой деревья, стаю грачей, неподвижно раскинувших крылья, быстро пронесло в небе над ним, а на сумеречном, неровном дне все было недвижимо, казалось отстраненным от беспокойной жизни наверху, погруженным в грустную и вечную тишину.
Булочкин неподвижно сидел на прохладной гранитной плите, наполненный этим освобождающим от каждодневной неизбежной суеты покоем, смотрел на все багровеющий свет заходящего солнца и чувствовал, что ему не хочется никуда отсюда идти.
Тоскливо было у него на душе. Он подумал вдруг, что этот его покой на самом деле просто апатия и усталость. Лихорадочно жил в горячке неотложной работы, в ежедневно появляющихся заботах и делах, и не было времени толком оглядеться вокруг; что-то неизбежно упускал, что-то не доводил до конца, что-то делал не так — и вот оказался захлестнутым неприятностями.
Булочкину не хотелось о них думать (достаточно было предыдущих бессонных ночей), он чувствовал только, что не хочет возвращаться, хочет до предела оттянуть момент возвращения в город.
Багряная полоса на гранитной стене делалась все тоньше и тускнее, сумрак быстро сгущался, на небе желто загорелись несколько крупных звезд, но Булочкина не пугало, что ночь застает его здесь. С некоторых пор он не делал сверхценности из своего бытия, и это было то немногое, чем тайно в душе гордился.
Звезд загоралось все больше, темная синева неба переходила в черноту, и Булочкин решил разжечь костер. Он вяло поднялся с плиты, без труда насобирал целую груду обломков досок, щепок, каких-то чурок… Дождя давно не было, костер легко загорелся от газовой зажигалки. Блики красноватого света хаотично, но мягко задвигались по отвесной стене, заблестели кристаллы кварца; костер очертил колеблющийся освещенный круг, за которым сразу налился и словно бы загустел мрак, а звезды будто бы потускнели. Когда Булочкин взглянул на небо над своей головой, то, всмотревшись, увидел беззвучное, как во сне, мелькание летучих мышей. Ветер стих после захода солнца, и они выбрались из чердаков полуразрушенных зданий, бывших раньше мастерскими, бытовками и складами.
Булочкин вдруг представил, что снова вернулся в город, в свою запущенную холостяцкую квартиру, всегда почему-то напоминавшую ему комнату в Доме для приезжих, к своей работе, в полезности которой окончательно разуверился благодаря новому начальнику отдела, к своим конфликтам и долгам, к приятелям, которым был так же мало нужен, как мало нужны ему они, к измене Ольги… и чуть не застонал от ощущения беспросветной пошлости, никчемности такого существования.
Когда-то, в классе девятом или десятом, Булочкину казалось, что наделал слишком много непростительных глупостей, и он мечтал тогда начать жизнь сначала, но только обогащенным этим своим, как тогда считал, «громадным опытом». Сейчас, у костра в заброшенном карьере, Булочкин уже не верил, что если начать жизнь сначала, даже обладая всем опытом ранее прожитого, можно прожить, как когда-то мечталось. Он был уверен, что рано или поздно обстоятельства все равно запутают и подчинят себе. Он был уверен в могуществе обстоятельств, и ему не приходило в голову объяснять их силу своей слабостью.
Глядя на оранжевое, бесконечно изменяющееся пламя, на розовые угли костра, Булочкин думал, что все время мечтал о путешествиях и невероятных приключениях, о неведомом и удивительном, а жизнь текла скучно и буднично, словно запрограммированная занудой-программистом.
«Ведь сколько интересного в Мире… — подумал он. — Где-то джунгли Амазонки, остров Пасхи, города инков, буддистские монастыри, Бермудский треугольник… А сколько потрясающего во Вселенной, в ее беспредельности… Даже в Солнечной системе: на Марсе, Юпитере, даже… Луне…»
Булочкин почувствовал нервный озноб, не представив даже, а только ощутив неисчислимость потрясающего, которое ждет за миллионы километров и за световые годы от Земли. На мгновения в его воображении пронеслась путаница картин далеких миров и образов их обитателей, запомнившихся из множества прочитанных книг. Булочкин подумал, что стал бы счастлив, если бы вдруг очутился на неведомой планете, среди иной цивилизации, среди не похожих на людей разумных существ. Он согласился бы на это, даже зная, что никогда не сможет вернуться на Землю. Ведь какой захватывающей и удивительной была бы там его жизнь!.. Каждый день, час, минута несли бы новые знания и впечатления. Но он не был бы просто экскурсантом в чужом невероятном мире, он был бы исследователем и многое смог бы рассказать о людях, их достижениях и истории Земли. Разве это не интересовало бы инопланетян? Возможно, он стал бы даже директором специального научно-исследовательского института, посвященного проблемам Земли…
Огонь костра расплывался перед глазами Булочкина в оранжевый мерцающий фон, Булочкин грезил наяву, в его воображении возникали неясные картины, одна фантастичнее другой.
И вдруг Булочкин вздрогнул и вскинул голову, словно от резкого толчка: мрака, плотной черной стеной стоявшего за пламенем костра, уже не было: весь карьер заливал серебристый, призрачный, но в то же время достаточно яркий свет, который не давал теней. Этот свет настолько преобразил все вокруг, что Булочкину в первую минуту показалось, что он внезапно очутился в другом, непонятном месте. И звук — тихий, но проникающий, казалось, в каждую клетку, заставляющий тревожно напрягаться и в то же время нетерпеливо ждать чего-то невероятного и неизбежного, услышал он. Ничего из слышанного за жизнь не напоминал этот звук, и, вслушиваясь в него, ошеломленный происходящим, Булочкин непроизвольно сознавал, что такого звука не может быть, что он никогда ничего подобного не должен был услышать.
Он встал с камня, выпрямился во весь рост и потряс головой, словно стряхивая сон, протер ладонью лицо, хотя почему-то понимал, что это не сон, все происходит на самом деле. Чувства его словно притупились, сознание затормозилось, он воспринимал происходящее, отдавал себе отчет в его неправдоподобности, но происходящее не вызывало ответного действия: он просто наблюдал, погруженный в обволакивающее тело и мозг оцепенение.
Огромный — не меньше тридцати метров в диаметре — светящийся диск появился внезапно. Еще мгновение назад ничего не было, но неярко и молниеносно блеснуло сверху, из темной бездны неба, и над дном карьера, метрах в трех, оказался диск; он плавно опустился и лег на куски гранита. Булочкин смотрел на него, как завороженный, не двигаясь с места, попросту забыв, что может двигаться.
Несколько чудовищно долгих секунд ничего больше не происходило, потом неуловимо быстро на ребре диска показался овальный люк, освещенный изнутри, и почти сразу в проеме люка возникла фигура в светло-зеленом тускло поблескивающем комбинезоне, который ее обтягивал, как трико; рядом, так же внезапно, возникли еще две. Шагнув в воздух, они плавно, одна за другой опустились на гранитное дно карьера и начали приближаться. Они двигались как будто не быстро, но в то же время как-то судорожно, трепеща, словно огромным усилием сдерживали и замедляли свои движения, навязывая им совершенно чуждый, слишком трудный ритм.
В свое время Булочкин перечитал гору научно-фантастических книжек, в популярных журналах ему приходилось не раз читать якобы свидетельства якобы очевидцев о якобы встречах с инопланетянами. Читать всегда было интересно, интересно было думать об обстоятельствах этих встреч и о самой их возможности, в которую он в глубине души все же не очень верил, но вот — в серебристом призрачном свете от диска-корабля, поражающего совершенством, в которое — не увидев — невозможно поверить, поражающего угадываемой мощью, к нему двигались среди глыб гранита три маленькие, не выше метра, светло-зеленые фигурки…
Булочкин смотрел на них пристальным и словно бы рассеянным взглядом, не думая даже о попытке хоть что-то предпринять. Теперь, когда они подошли ближе, он мог уже разглядеть их лица. Они не были ничем защищены, по крайней мере, не было видно ничего похожего на шлемы скафандров. Лица пришельцев — ярко-желтого цвета — чертами напоминающие лица людей, хранили общее выражение непоколебимой доброжелательности, но оттенки чувств и мыслей менялись, сменяли друг друга с непостижимой быстротой, так что Булочкин не мог их разделить. (Гораздо позже он подумал, что это напоминает пламя костра, которое оранжево и сейчас, и через секунду, но сколько разнообразных очертаний оно примет, пока истечет секунда, и какое множество раз изменятся оттенки его цветов.)
Пришельцы остановились метрах в четырех от человека. Теперь, когда они остановились, они стали выглядеть еще призрачнее, чем тогда, когда двигались от своего корабля. Они были материальны, вещественны — в этом не возникало сомнения, — но тела их под светло-зелеными тускло отблескивающими трико непрерывно колебались, то замирая на едва уловимое мгновение, то вновь так же быстро изменяя жесты и позы. Самыми неподвижными были толстые подошвы их оранжевых ботинок, но и они, казалось, ерзали.
Булочкин подмечал все.
Происходящее ярко, до мельчайших деталей фиксировалось в его памяти, но чувства были будто притуплены, он не обобщал и не делал выводов, был не в состоянии понять, объяснить и предугадать, а только запоминал.
Несколько секунд пришельцы не предпринимали никаких действий, они лишь смотрели на человека глазами, переливающимися, как ртуть, но вдруг тот, что стоял справа, издал негромкий, но очень резкий короткий щелчок, и тут же из небольшого плоского прямоугольника, укрепленного поверх трико у него на груди, заспешили слова родного Булочкину языка, хотя он не сразу это понял: настолько непривычны были их тембр, темп, ритм и эмоциональная окраска.
— Мы, обитатели звездной системы Орион, приветствуем тебя, представитель цивилизации Земли. Мы отдаем полный отчет в том, что происходящее может казаться тебе невероятным и вызывать различные опасения. Заверяем, что для опасений нет оснований: наше отношение к людям всегда было и есть доброжелательным отношением, наши действия на Земле — гуманными и предельно осмотрительными. Ваша цивилизация еще очень молода, но со временем она займет свое место в Содружестве Разумных Миров. Мы не можем вмешиваться в ход протекающих на Земле событий, однако следим за ними с заинтересованностью и сочувствием. Наступит время, когда отношения между нашей и вашей цивилизациями примут характер тесного, взаимного, все углубляющегося сотрудничества…
Булочкин, потрясенный, вдруг понял, что вся эта пространная и напыщенная речь есть не что иное, как перевод короткого щелчка, изданного пришельцем.
Приветственная речь продолжалась еще пару минут, во время которых инопланетяне, как могли, старались сохранять неподвижность, потом тот, что был справа, вновь издал резкий щелчок. С первых же слов, вырвавшихся из переводного устройства, Булочкин понял, что торжественная часть встречи закончена и обитатели созвездия Орион приступили к деловой. Они сообщили, что в течение часа наблюдали за ним, потому что его поведение выглядело странным, но затем им в значительной мере удалось настроиться на его мысли и ощутить эмоциональную окраску переживаний, что и позволило сделать правильные выводы. Его желание переменить образ жизни и жажда своими глазами увидеть другие миры не только вызвали сочувствие, но потрясли их глубиной и искренностью. Именно поэтому они решили вступить в контакт и несколько отойти от своих обычных правил поведения на планетах, подобных земной цивилизации. По их тщательным расчетам исчезновение Булочкина ничуть не скажется на ходе земных исторических процессов, и если события последних минут не изменили его желание стать гостем и представителем человечества в другой цивилизации, то они будут рады исполнить его мечту.
Переводное устройство замолчало, обитатели созвездия Орион ждали ответа. Человек казался им персонажем из чудовищно замедленного фильма, им было невероятно трудно подлаживаться под его временной ритм.
Никогда еще Булочкин не испытывал столько противоречивых чувств. Исходя из своего жизненного опыта, он должен был воспринимать происходящее, как ошеломляющую убедительностью галлюцинацию, сценарий которой был безукоризненно выверен, а декорации и действующие лица обладали достоверностью голограммы. И, одновременно, он должен был бороться с этим ощущением, упорно твердящим о свершившемся безумии, воспринимать пришельцев, их слова и корабль, призрачный свет, невесть откуда льющийся, как абсолютную реальность, и принимать решение, сами мысли о котором казались углублением психического расстройства.
— Да! — вдруг сказал Булочкин. — Я согласен. Я очень рад. Я действительно мечтал… Я хочу полететь с вами, — речь его постепенно становилась более связной. — Я хочу побывать на вашей планете. Я давно мечтал о подобном, но никогда не верил, что это возможно. Да, я, безусловно, согласен…
Устройство на груди пришельца перевело его слова таким коротким звуком, что Булочкин не смог его воспринять.
Рукой колеблющейся, словно бы меняющей очертания, пришелец указал ему в сторону корабля.
Булочкин нетвердо сделал первый шаг…
По ограниченному отвесными стенами пространству, залитому серебристым светом, между гранитных глыб, шли к исполинскому диску четверо, отдаленно похожих лишь силуэтами, но свидетелями этого были одни летучие мыши, закладывавшие над карьером бесшумные виражи. Трое из идущих, в светло-зеленых обтягивающих комбинезонах были по пояс четвертому, одетому в цвета хаки штормовку и синие джинсы. Когда они приблизились к кораблю, люк его мгновенно стал шире и выше и к земле от него прыгнули ступени легкой лестницы. Человек невольно оглянулся на своих спутников, а потом первым взялся за перила. Стоя в проеме люка, он еще раз оглянулся, но на этот раз посмотрел на догорающий костер. Вход исчез, словно его и не было, погас серебристый свет, и пропало свечение корабля, сразу сделавшегося черным, почти неразличимым в густой темноте июльской ночи. Летучие мыши вскоре осмелели и проносились почти над его корпусом. Так продолжалось минут шесть, потом корабль плавно поднялся на несколько метров от поверхности и мгновенно и без следа исчез в усыпанной звездами бездне…
Когда Булочкин проснулся, у него не было сомнений, что спал долго. Некоторое время он лежал, не открывая глаз, а потом открыл их и увидел, что находится внутри цилиндра, выстланного мягким материалом с сиреневым покрытием. Он скосил глаза влево, посмотрел перед собой, потом скосил вправо и остановил взгляд на ярко-желтой кнопке — единственном, что нарушало сиреневое однообразие. Под кнопкой была табличка с крупной надписью по-русски: «СИГНАЛ ВЫЗОВА».
Осторожно, но сильно надавливая, Булочкин протер ладонями лицо и окончательно понял: то, что он, проснувшись, считал пригрезившейся фантасмагорией — было реальностью. Но он еще с трудом выстраивал предшествовавшие сну события в четкую последовательность: невероятные сами по себе, они вырвались из памяти во время сна и словно бы проигрались заново, но в другом порядке, ярко окрашенные элементами кошмара. Булочкин напрягся, вспоминая сон. «Нет, — сказал он мысленно, — даже не так. Они просто послужили толчком для убедительного кошмара, и его образы перепутались с тем, что было в действительности».
Он еще раз взглянул на кнопку сигнала вызова. Неуверенно, смутно и неясно чувствовал он себя, словно потерял вдруг внутреннюю опору, остался без критериев и ценностей, которыми до этого пробуждения привык руководствоваться. Он вдруг почувствовал тоску и пустоту человека, который остался без ничего. И ощущение это было настолько пугающе, мучительно, что Булочкин застонал и затряс головой, чтобы его прогнать.
«Что случилось? — тревожно сказал он себе и несколько раз повторил этот вопрос. — Возьми себя в руки. Все хорошо. Ничего страшного. Ведь получилось, как ты мечтал. Ты сам хотел этого. Ты мечтал об этом давно…»
Он почувствовал, что усилие воли вновь возвращает в него по каплям уверенность, и — так же неожиданно, как до этого тоской и пустотой — его захлестнуло радостью от сознания, что он и в самом деле на борту инопланетного звездолета, который с неведомой, а вернее — невообразимой скоростью мчит через невообразимое пространство к созвездию Орион. Разве мало людей на Земле, мечтающих оказаться в его положении, толкаемых к этому разными причинами, среди которых главные — любопытство и жажда знаний? Разве нет на Земле людей, готовых пожертвовать всем, чтобы оказаться в его положении?.. Но повезло ему. Из миллионов лишь он оказался счастливчиком. Принципиальная Вероятность подобного воплотилась именно в нем. Быть может он, Булочкин, Первый Человек, Вступивший в Контакт с Пришельцами, а если и нет — то уж наверняка Первый, Кто Увидит Их Цивилизацию Собственными Глазами. Именно он поможет инопланетянам лучше понять людей. Когда бы ни началось сотрудничество между цивилизациями Земли и созвездия Орион — первым у его истоков будет стоять он — живший когда-то скучной жизнью, страдавший от неприятностей и разочарований, отважный только в мечтах. Нет, он-то знал, что всегда был другим, быть таким его заставляли неумолимые и неотвратимые обстоятельства. Когда-то это станет понятно всем, пусть и не скоро, пусть для знакомых, родных м друзей он просто навсегда пропавший без вести.
Некоторое время воодушевленный этими мыслями Булочкин чувствовал радость и прилив сил. Ему хотелось вскочить на ноги, куда-то идти, что-то делать, улыбаться и подбадривающе хлопать кого-то по плечу, чувствовать себя щедрым, счастливым и значительным, но это чувство, все возносясь, вдруг будто оборвалось, и по мозгу, по телу Булочкина снова стали расползаться тревога и опасения, ощущение беспомощности и беззащитности, его положение предстало перед ним в другом свете.
Вот он лежит, запертый в непонятного назначения цилиндр, в одном из отсеков корабля, где ему непонятно все, среди существ, для него непостижимых, общего у него с которыми — только разум, но даже разум их неизмеримо более чужд и непонятен ему, чем разум дельфинов. Каковы их мораль, понятия о Добре и Зле? Что они считают допустимым в отношении друг друга, а что в отношении иных существ? Для чего он им понадобился на самом деле, какую в действительности роль отвели они ему, прежде чем направить свой корабль к костру на дне заброшенного гранитного карьера?..
Образы приснившегося кошмара вновь стали исподволь заполнять сознание, подчинять себе мысли. Булочкин почувствовал, что покрывается испариной, он заметался, замотал головой, чтобы вырваться из сознания одиночества, беспомощности и пустоты, чтобы вновь обрести себя, волю и способность держать под контролем поступки, чувства, мысли. Он понял, что самый верный и, пожалуй, единственный путь к этому — вновь вспомнить и мысленно всмотреться в события, которые произошли после тою, как карьер заполнился призрачным серебристым светом. Вспомнить эти события в мельчайших подробностях и всмотреться тщательно.
Все мы воспитаны на сказках о Василисе Премудрой и Кащее Бессмертном, Иванушке-дурачке и Змее Горыныче, и в каждом есть что-то от мистика и суевера, но нужны необычные условия, чтобы это вырвалось наружу. Булочкин подумал, что условия необычнее тех, в которые он попал, представить трудно, и сознание этого прибавило ему уверенности в себе, сил для борьбы с потерянностью и замешательством.
До тех пор, пока не закрылся входной люк корабля, и даже в первую минуту после этого Булочкин просто знал, что вступил в контакт с существами из другого мира, что они совсем не такие, как люди, и их мир, который он в конце концов увидит, будет совсем не то, что Земля, но он не понимал, не отдавал себе отчета в том, насколько они совсем не такие и в какой мере их мир не похож на тот, который он навсегда оставляет.
Растерянно и беспорядочно оглядывая все, что открывалось внутри корабля, Булочкин стал выглядеть так же неуверенно, как человек, вдруг очутившийся на канате над пропастью. Он не мог понять назначения окружающих его вещей и их совокупностей, не мог даже приблизительно описать многие из них, понять, куда можно ступать, к чему можно, а к чему нельзя прикасаться.
Но инопланетяне знали, что так все и будет. Один из них, по-прежнему дрожащий, переливающийся и мерцающий, зашел вперед, и из его переговорного устройства раздалось: «Не пугайтесь. Идите за мной».
Кроме сопровождавших Булочкина, на корабле было еще три члена экипажа. Они ожидали в просторном, хотя по земным меркам и низком, круглом помещении в центре корабля. Булочкин, чувствуя тяжелую усталость, почти уже ничего не соображая, остановился, не доходя шагов пяти до них, глядя на их желто-зеленоватые лица, общее выражение которых было доброжелательно и приветливо. Маленькие гибкие фигуры инопланетян, их лица трепетали, словно под токами огромного напряжения, и Булочкина вдруг непонятным образом озарило, он понял, что так оно и есть, но только эти неотвратимые токи — Время…
Тогда, глядя на существ из другого мира, он был потрясен своей догадкой, но — с одной стороны — она не вызывала сомнений, а с другой — он не был способен задуматься над ее смыслом и вероятностью. Теперь, вспомнив то внезапное озарение, потрясение, вызванное им, Булочкин подумал, что было бы удивительнее, окажись по-другому.
Одинаково течет время в любой точке Земли, но даже на Земле у существ, которые многие миллионы лет назад имели, пожалуй, общих предков, темп времени заметно разный: стрекоза и улитка, белка и черепаха, тунец и губка… Есть водоросли, вырастающие за сутки на полметра, и есть деревья, которые и через десятки лет после того, как из семени проклюнется росток, больше похожи на чахлый кустарник…
И все же даже теперь он почувствовал неодолимый озноб, вспомнив хозяев звездолета. Да, они отлично знали, что если будут вести себя естественно, то лишь смертельно испугают человека у костра, им было трудно подлаживаться под его темп, но на первой стадии контакта это было необходимо. А потом, считали они, когда он окажется уже в корабле, ему можно будет объяснить, для начала — хотя бы самое необходимое, и он начнёт спокойнее воспринимать то, что увидит.
Булочкину предложили сесть, и он, хотя не сразу, сел в невесть откуда появившееся, как раз по его комплекции, кресло. Астронавты из созвездия Ориона стали полукругом перед человеком, и из переговорного устройства одного из них (Булочкин еще не мог их различать, они, в совершенно одинаковой форме, казались для него на одно лицо) вновь, как около костра, заспешил захлебываясь голос неестественный для человеческого уха, словно взятый напрокат у героя мультфильма. Опять сначала пошли приветствия, а потом — деловая часть.
«Совсем как у нас», — машинально отметил Булочкин, но тут же догадался, что у них, наверно, по-другому даже это, но они хотят, чтобы было побольше привычного ему.
Приветствия были напыщенными, деловая часть началась почти без перехода. Его просили не придавать значения естественным в таких обстоятельствах чувствам опасности, неуверенности, страха за себя и свое будущее. Он должен спокойнее относиться к тому непривычному и, возможно, невероятному, что окружает его, а таким для него является здесь почти все.
— Это естественно, — торопливо убеждал голос из переговорного устройства. — Вспомните хотя бы, как на вашей планете различались культура, образ жизни цивилизаций и племен, разделенных расстояниями или естественными преградами. Со временем вам станет понятным многое. Мы приложим для этого все силы. После всестороннего изучения индивидуальных особенностей ваших биохимических процессов, психики, особенностей восприятия, мышления и так далее — мы будем в состоянии сделать наше взаимопонимание более полным. Есть средства и методы, позволяющие надежно улучшать память и мышление: именно это мы имеем в виду. Ваш мозг обладает многими возможностями, но далеко не все они и не полностью используются вами, потому что для этого еще не назрела настоящая необходимость. Вы будете открывать резервы мозга и овладевать ими по мере усложнения вашей цивилизации, которому суждено происходить все стремительнее…
До Булочкина вдруг ясно дошло, что с момента встречи с пришельцами он чувствует себя, как шахматист в жестоком цейтноте. Ему не хватает времени, чтобы по-настоящему задуматься, он не успевает за событиями, хотя хозяева звездолета делают для этого асе, что в их силах. Стремление не отстать выматывало его все больше. На какое-то время он перестал воспринимать голос из переводного устройства: тот звучал, но не достигал его сознания.
«Они хотят меня обследовать, а затем сделать что-то с моим мозгом, — застрял он на этой мысли. — Сначала они меня обследуют, а потом что-то сделают с моим мозгом…»
И вот тогда, впервые с начала контакта, Булочкину стало страшно. Это был инстинктивный страх, как есть инстинктивное отвращение. Булочкин не сразу понял, отчего ему стало так страшно.
Между знанием чего-то и осознанием всегда лежит какой-то отрезок времени. Чем меньше мы подготовлены к восприятию события, тем больше времени требуется, чтобы осознать его значение и последствия. И бывает так, особенно в критические моменты, что новая информация еще до того, как полностью осознается, начинает руководить нашими поступками. Мы говорим тогда, что поступаем инстинктивно, бессознательно, но спустя некоторое время приходим к выводу, что у нас были веские основания поступать именно так.
Булочкин отлично понимал, что его жизни ничего не угрожает, подобные опасения просто не приходили ему в голову. Но есть страх не менее сильный — это страх потерять себя, перестать быть собой. Больные неизлечимым психическим расстройством нередко вызывают такие же чувства, как и умершие. Булочкин навсегда терял планету Земля — ее города и леса, моря, океаны, горы и реки, небо голубое и небо в серой пелене туч, цветы в скверах и солнечные закаты, новые книги и красивых женщин, ощущение своей причастности к миллионам и миллионам таких же, как он сам, очень разным, но в главном — таких же. Он навсегда терял целый мир, и взамен оставалась лишь память о нем — бледное и поверхностное отражение, которое, не обновляясь ежедневно, отодвигаемое новыми поразительными впечатлениями, обречено терять краски, подробности и четкость.
Мир, который он терял, был частью его самого, хотя лишь теперь Булочкин по-настоящему понял это. Его отношение к миру, теперь оставляемому, было слагаемым его личности. И вот, кроме всего этого, они собирались еще изменять его психику, мышление, мозг… Что же тогда останется от него, от Булочкина? Черты лица и цвет волос? Джинсы и куртка цвета хаки?..
Уже сейчас, отгороженный металлом звездолета от Земли, после происшедших невероятных событий, он не был прежним Булочкиным, хотя его духовная связь с Землей еще оставалась прежней, Земля еще была частью его самого. Да, он мечтал увидеть другие миры, да, он вошел в корабль, прилетевший из созвездия Орион, но сделал это только потому, что ни на миг не сомневался: где-то там, на далекой планете, из корабля тоже выйдет он, именно он. Лишь при этом условии происходящее имело для Булочкина смысл. И вдруг он понял, что для пришельцев это условие, наверно, необязательно, что они, наверно, относятся к личности и индивидуальности совсем не так, как мы на Земле; то, что невозможно для нас, очевидно, допускается их понятиями о гуманности и морали.
«Я не соглашусь на это! — покрываясь испариной, решил Булочкин. — Нет, ни в коем случае…» Ему нужен был он сам, а не наполовину искусственный гений, сохранивший его внешние черты. Решение было единственным возможным для него, сама мысль о том, что его могут модифицировать, заставила Булочкина напрячься и до боли сцепить ладони, однако в глубине души у него была уверенность, что хозяева корабля не станут делать над ним ничего помимо его воли.
Страх перед модификацией, осознанный им, отступил, и теперь его стало больше мучить опасение, что он просто не сможет как следует объяснить пришельцам свой отказ, сделать отказ таким же понятным для них, как понятен он ему самому.
Голос переводного устройства продолжал вводить его в другой мир, знакомить с особенностями этого мира. Вновь вслушавшись в его торопливую речь, Булочкин пожалел, что пропустил много важного.
Голос говорил о смерти и бессмертии, о том, что бессмертие принципиально возможно при очень высоком уровне науки и технологии и все же является абсурдом.
— Но мыслящие существа, как показывает наш прежний опыт и исследование других цивилизаций (в том числе вашей), стремятся максимально продлить срок своей жизни. Это Первый путь: не стремясь радикально увеличить темп жизни индивида — максимально удлинять ее срок. Это самый простой путь, но он не эффективен… А можно сделать наоборот. И этот путь дает колоссальный выигрыш во времени для цивилизации, избравшей его. В принципе, Время течет одинаково на Земле и на любой из планет звезд созвездия Орион. В каких-то участках и даже целых областях Пространства существуют его аномалии, но это не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим. Мы отказались от увеличения отрезка Времени, отведенного для существования индивида, но стали увеличивать темп его жизни. При развитии цивилизации это происходит и само собой, но лишь до определенных пределов: пока не исчерпаются потенциальные возможности, заложенные биологической природой. Сравните, например, темп жизни человека в древнем Новгороде и в любом из ваших теперешних городов. Но так не может продолжаться до бесконечности. Наш путь — это перестройка энергетики организма, всех обменных процессов, органов, нервной системы, мозга… — создание Жизни на принципиально иной основе…
— Я не хочу никаких метаморфоз! Понимаете — не хочу… — вытирая испарину со лба, дернулся Булочкин.
В эту минуту он чувствовал себя, как в бреду или во сне, когда надо крикнуть, но ты не можешь произнести ни звука. Зеленые фигурки дрожали в его глазах, как марево на фоне невероятной и неподвижной декорации круглого зала.
— С самого момента зарождения любая цивилизация обречена развиваться все быстрее и быстрее, — затараторил голос из переводного устройства. — Темп ее развития будет все больше и больше не совпадать с темпом вашей жизни, и вы вынуждены будете сделать ответственными за темп ее развития искусственные системы — машины. И, в конце концов, совсем отойти в сторону. Тогда возникнет машинная цивилизация, в которой вам останется место потребителей и наблюдателей — растерянных чудаков, не понимающих, что происходит вокруг. Вы тоже будете вынуждены избрать наш путь, хотя это произойдет очень не скоро…
— Я не хочу модификации, понимаете — не хочу… — снова выдавил Булочкин. — Я не могу вам объяснить, но это то, чего я не хочу больше всего в жизни.
— Хорошо, может, так будет и лучше, — мгновенно отреагировало переводное устройство. — Но мы все равно должны вас обследовать, чтобы создать для вас самые оптимальные условия теперь и в дальнейшем. Это не займет много времени и не вызовет неприятных ощущений. Идите за мной, — и тот, что стоял вторым слева, выдвинулся из напряженного строя.
Булочкин неуверенно поднялся на ноги, растерянно глядя вокруг.
— Не бойтесь сделать что-то не так. Не бойтесь и сейчас, и в дальнейшем: вы просто не успеете это сделать, — раздалось из переводного устройства того, который выдвинулся из строя. — Идите за мной. Остальные будут готовить корабль к броску через пространство.
Едва отзвучало последнее из захлебывающихся от спешки слов, как пятеро из шести исчезли; Булочкин успел лишь заметить краями глаз бледно-зеленое мелькание, и потом, ступая за своим проводником как сомнамбула, он видел это мелькание то справа, то слева, то перед собой и лишь иногда, когда кто-то из инопланетян надолго — по своим меркам — замирал — на миг зыбко обозначающуюся фигурку.
Обследование, во время которого Булочкин видел лишь то же зеленоватое мелькание и необъяснимую обстановку вокруг, действительно прошло безболезненно, хотя он ощущал множество мгновенных прикосновений, то мгновенное тепло, то холод, то скованность, а потом все тот же астронавт (а может, это был уже другой, он не мог знать) повел его в сиреневый цилиндр…
Булочкин положил палец на кнопку «СИГНАЛ ВЫЗОВА».
Часы с календарем на его запястье показывали, что проспал он больше суток. Что произошло за это время на корабле? Для него — это триста шестьдесят пятая часть года — не так уж мало, — а сколько лет отсчитали за это время биологические часы их, из созвездия Орион?
Пути назад уже не было. Он это ясно понимал. Еще был путь к отступлению, когда сидел в кресле посредине низкого круглого зала перед строем пришельцев, слушая их приветственную речь, пояснения и заманчивое предложение его усовершенствовать, но теперь путь назад был отрезан. Они уже затратили годы своей жизни на то, чтобы исполнить его желание, его мечту, они насиловали себя, подлаживаясь к его темпу времени, и вот теперь, после всего этого сказать: «Простите, я передумал. Все было только блажь. Везите меня обратно, я уже соскучился по дому, по Земле… да и в рюкзаке у меня остались два пива и вобла…» Полёт к Земле — ведь это же еще годы их жизни, а потом снова полет к далекому созвездию Орион?..
«Теперь у тебя уже нет выбора, — сказал себе Булочкин. — Теперь ты не сможешь ничего изменить».
Он с полминуты смотрел на крупную надпись под кнопкой, а потом придавил кнопку пальцем.
Цилиндр стал разворачиваться, и через несколько секунд Булочкин оказался лежащим на ровной прямоугольной площадке. Сначала он увидел высокий потолок над собой. Это было переплетение чего-то, вроде многогранных труб и трубок всех цветов и оттенков, которые слабо светились, пульсируя в едва уловимых ритмах. Он засмотрелся на них, пораженный их видом и еще чем-то непонятным, что смутно и тревожаще чувствовалось, но не улавливалось сознанием, затем с трудом оторвался от этого зрелища, приподнялся, опершись на ладони, и посмотрел перед собой и по сторонам.
На расстоянии метров пяти от площадки, на которой он теперь полулежал, высился амфитеатр из рядов креслиц, в которых сидели, а точнее — дрожали, переливались, теряли на время очертания и пропадали вовсе не менее ста орионян — как уже мысленно называл их он — совершенно одинаково одетых, с одинаково неотличимыми друг от друга желто-зеленоватыми лицами. Их глаза мерцали, как взбалтываемая ртуть, но Булочкин знал, что все они смотрят на него. Он резко сел, растерянно и испуганно озираясь.
— Приветствуем тебя, Человек, представитель цивилизации Земли! — заторопился откуда-то сверху громкий голос. Булочкин ошарашенно вздрогнул и торопливо поджал ноги. Он чувствовал себя в нелепейшем, глупейшем положении, совершенно не зная, как себя вести, каким сделать следующий жест. Он понимал, что сидеть дальше — лишь усугублять идиотизм ситуации, но что же делать? Вставать? Да, нужно вставать.
Булочкин вскочил на ноги, одергивая штормовку, растерянно озираясь по сторонам; он сунул руки в карманы джинсов, спохватившись, вытащил их оттуда и снова принялся теребить полы штормовки.
Он ничего не понимал. Помещение, в котором находился, было чересчур велико для корабля. Экипаж корабля состоял всего из шести орионян… Неужели остальные просто прятались или занимались работой и он не замечал их? Но что значит новая приветственная речь, по напыщенности превосходящая предыдущие? Может, то был просто прием, а теперь ему решили устроить прием торжественный и как представителю цивилизации Земли, и как — теперь уже — члену экипажа?
Булочкин напряженно вслушивался в слова приветствия и вдруг понял все: он уже не на корабле, звездолет, на котором летел, достиг цели, он уже в одном из центров цивилизации созвездия Орион! Сидящие перед ним — это некоторые из руководителей центра, а то, что сейчас происходит, будет затем транслироваться на все другие подобные центры и объекты цивилизации: встречу сожмут до нескольких сотых секунд по его времени, и тогда она станет доступной для передачи и восприятия.
Булочкин, словно бы со стороны, увидел себя, растерянно стоящего на сиреневой площадке под объективами — или чем там еще? — местного телевидения, под долгими — по их времени — взглядами представителей цивилизации созвездия Орион, и почувствовал, что все тело покрывается испариной. Не такой рисовалась ему торжественная встреча. Вообще-то, представлял он ее очень смутно, но только не такой. До него лишь теперь начала по-настоящему доходить вся нелепость его положения. Дело было даже не в том, что начало встречи застало его лежащим и завороженно пялящимся в потолок. Так, возможно, и предусматривалось сценарием: раскрывается капсула (кстати, что за капсула, зачем его помещали в нее?) — и взглядам предстает житель далекой Земли собственной персоной, во плоти и крови, в типичном одеянии и с типичной внешностью. Страшно не то, что он растерянно озирался и до сих пор не знает, куда деть руки…
Зачем он здесь, в созвездии Орион, посредине непонятного зала, в окружении терпеливых и вежливых орионян, неизмеримо превосходящих его интеллектом, у каждого из которых, наверное, уйма сложнейших дел, оставленных ради него? О чем вот он может сейчас им поведать, какие сделать пророчества и откровения?.. О том, что запутался в личных делах, всю жизнь плыл по течению, поддаваясь обстоятельствам, что оказался бессилен исполнить свои мечты? Может, о земной науке, ее последних достижениях и перспективах?.. Но об этом, кроме своей специальности, он знает лишь приблизительно. О эволюции жизни на Земле?.. Кажется, были вначале какие-то протобионты, а потом они, как будто бы, объединились в клетку… Может, о том, как тоскливо и одиноко было сидеть на прохладном камне на дне карьера? Может, почитает стихи Есенина?.. Ведь он — Представитель Человечества, они относятся к нему именно так, терпеливо снося эту дурацкую процедуру, принятую там, на Земле, жертвуя огромным временем, чтобы отдать дань вежливости и уважения, чтобы он не подумал, что к нему здесь относятся свысока. Хорошо еще, если им неизвестно, как он мечтал стать директором института, занимавшегося бы «проблемами Земли», и Тем, Кто Первым Будет Стоять у Истоков Сотрудничества Между Цивилизациями Земли и созвездия Орион… Кто его уполномачивал быть Представителем Человечества? Что он из себя представляет? О чем он думал, когда соглашался войти в корабль?.. О том, что подвернулся счастливый случай исполнить желания, исполнить которые он сам оказался не в состоянии? И что имя его навечно войдет в Историю?..
Булочкин смотрел на яруса креслиц, в которых терпеливо старались сидеть орионяне, на невероятный интерьер зала за этими ярусами, какие-то мигающие огни, непонятно зачем перемещающееся что-то — и все плыло, расплывалось у него перед глазами. Происходящее вдруг показалось нелепым сном, и страшно захотелось проснуться. Ну да, он просто уснул, сидя на камне возле костра в гранитном карьере, и все приснилось: призрачный серебристый свет, огромный диск-корабль, три бледно-зеленые фигурки в оранжевых ботинках, торопливая, захлебывающаяся речь, летучие мыши в черном небе, звук, не напоминающий ничего из слышанного в жизни, приглашающий жест рукой, трепещущей под неумолимым, неотвратимым напором Времени… И то, что он видит теперь, — тоже сон. Нет и в помине не было никакой сиреневой капсулы с желтой кнопкой, нет никакого потолка из цветных труб, этого зала, орионян в плотно облегающих комбинезонах; надо лишь сделать усилие, надо лишь вырваться из наваждения-сна, и вновь все будет, как прежде, и будет костер, и теплая тьма июльской ночи, и летучие мыши над головой, и даже та тоска и ощущение одиночества, которые держали его в карьере…
Булочкин собрал всю свою волю и, до боли зажмурив глаза, потряс головой. Несколько секунд, обмякший, он стоял, опустив голову, безвольно свесив руки, не отдавая себе отчета в том, что по-прежнему слышит громкий торопливый голос; затем медленно открыл глаза и сначала увидел свои ступни, стоящие на чем-то сиреневом и мягком, оранжевые ботинки и сидящих в первом ряду, затем — все остальное…
Он вслушался в захлебывающийся от спешки голос и понял, что торжественная часть уже окончилась и началась деловая…
Теперь у него был гид. Встреча продолжалась минут пять, а в конце ее ему представили гида. «Назвать его вы можете по собственному усмотрению», — сказали ему, и Булочкин назвал его Максом. Это был робот — может, биологический, может, какой-то еще — внешне имитирующий человека. Роль гида Булочкина была не под силу ни одному из орионян: он был для них персонажем из невыносимо замедленного фильма, в то время как они для него — из бешено мчащейся киноленты. Гид должен был давать пояснения, показывать то, что он пожелает увидеть, заботиться о нем и вообще сопровождать на каждом шагу.
— Я буду звать тебя Максом, — подавленно сказал Булочкин.
— Хорошо, Олег Юрьевич, — просто и приветливо улыбнулся робот. — Будем знакомы, — он протянул ладонь.
Булочкин машинально пожал ее. Ладонь была мягкая и теплая.
— Вы увидите здесь много интересного, — снова улыбнулся Макс. — Я постараюсь ясно объяснять все непонятное. Со мной вы всегда можете быть откровенны. Мы постараемся сделать ваше прибывание у нас приятным и увлекательным. А сейчас мы с вами отправимся туда, где вы будете жить. У вас это, если не ошибаюсь, называется «квартира».
— Да, конечно, — подавленно произнес Булочкин, напряжённо всматриваясь в него.
На Максе была такая же клетчатая ковбойка, такие же джинсы и такая же выгоревшая штормовка цвета хаки; его выпуклый лоб пересекали тонкие морщинки, а цвет лица был нездоровый, слегка желтоватый, словно он страдал печенью. У него был вид доброго, приветливого, чуть усталого человека, и это впечатление портили только глаза: ярко-синие, они не выражали никаких чувств, смотрели бесстрастно, отсвечивая холодно, как драгоценные камни.
— Хорошо, — снова подавленно произнес Булочкин, — пойдемте…
— Вам уже пора умыться и позавтракать, — с дружеской непринужденностью продолжал Макс, — там приготовлено все. Программу вашего дня вы всегда будете составлять сами. Ваше пребывание у нас должно быть приятным и увлекательным. Идите рядом со мной, и пусть ничего из того, что может встретиться на пути, не вызывает у вас чувства опасности. Конечно, мы могли бы избавить вас от неприятных мыслей и ощущений, но ведь вы категорически против любого вмешательства в то, что вы, на Земле, называете психикой, мозгом, индивидуальностью, личностью…
— Да. Да, — сказал Булочкин.
Они остановились перед бледно-розовой стеной, из которой во многих местах выступало причудливое и разнообразное что-то, и в стене, незаметно для глаз, открылся вход во что-то, напоминающее небольшое помещение, как будто бы трапециевидное, а может, прямоугольное или овальное.
— У вас на Земле это называется лифт, эскалатор, автомобиль, самолет… — транспортное средство, то есть приспособление для перемещения на определенные расстояния, — пояснил Макс. — Войдемте.
Они вошли и тут же вышли.
— Ну вот вы и дома, — широко улыбнулся робот. — Вот мы и приехали.
Булочкин стал рассеянно оглядываться. Да, теперь они действительно стояли в совсем другом месте. Все здесь было настолько другим, что он на секунду закрыл, а потом снова открыл глаза. Он и Макс стояли за порогом обыкновенной, хотя и слишком просторной прихожей, под ногами у них лежала обыкновенная пестрая циновка из крашеной рисовой соломы, а на ней — две пары коричневых замшевых шлепанцев, на стене висело большое зеркало в ореховой раме, на полочке под ним лежала желтая пластмассовая расческа. Через раскрытые двери в гостиную, на циновку падала полоса веселого солнечного света. Булочкин посмотрел в растворенные двери и увидел пол, застланный серо-зеленым ковром, стол, на котором стояла ваза с цветами, красные занавеси на широком окне, угол то ли тахты, то ли дивана…
— Ну, вот вы и дома, — широко улыбаясь, повторил Макс. — Пойдемте, я покажу вам здесь все. — И с радушием, даже с тихой гордостью, он стал водить по оказавшейся огромной квартире, показывая, где рабочий кабинет и где столовая, плавательный бассейн, финская баня, спальня, зал, в котором они вдвоем смогут сыграть в теннис, и где комната, в которой под тихую музыку можно сыграть партию в шахматы…
— А теперь, пока вы будете умываться и чистить зубы, я приготовлю завтрак, — подводя черту под экскурсией, сказал Макс.
— Да, — машинально кивнул Булочкин. Он напряженно, но словно бы занятый чем-то другим, смотрел на улыбающееся лицо робота, его выпуклый лоб, пересеченный тонкими морщинками, на красивые и холодные глаза, потом медленно повернулся и пошел, бесшумно ступая по мягкому ковру, в туалетную комнату. Он все делал неторопливо, чувствуя тяжелую физическую усталость, словно шел, пробивался, спешил неведомо куда из последних сил и вот — достиг финиша. Не цели — финиша; непонятно какого…
Он долго мыл руки, чувствуя, как от вспененного мыла поднимается тонкий запах земляники; рассеянно, отстраненно смотрел, как падает на трущие друг друга ладони прозрачная струя воды, потом вяло тряхнул кистями рук и, помедлив, достал из шкафчика футляр с зубной щеткой. Она выглядела абсолютно стандартной, как и футляр, он даже повертел ее, будто надеясь увидеть выдавленное в пластмассе «Ц. 22 к.», но хотя не увидел, все равно еще долго вертел ее в ладонях, рассеянно глядя в одну точку. Потом, очнувшись, он поднял голову и посмотрел в зеркало. Из ясной глубины его, зрачки в зрачки, на него смотрел он сам, но Булочкин не сразу понял это. Словно чужое, рассматривал он свое лицо, и Булочкин из зеркала рассматривал его тоже пристально, тяжело и отчужденно. Булочкин всматривался, отмечал впалость щек, успевшую пробиться щетину, общее выражение усталости, придавленности, ошеломленности, и некоторое время он видел только это. Но нет, было еще выражение в его лице, и, вновь всмотревшись, он вдруг понял, что так выглядит лицо человека, который принимает или ощущает необходимость принять какое-то важное решение.
Он долго чистил зубы, временами не понимая, что именно делает, потом тщательно умыл холодной водой лицо, осторожно промакнул его полотенцем.
— А я уже заждался вас, Олег Юрьевич, — улыбнулся Макс. В его словах не было и не могло быть и тени укора, но Булочкин искоса пристально взглянул на него, и в сочетании с бесстрастными холодными глазами, улыбка Макса заставила его вздрогнуть.
— Прошу, все давно готово, — указал Макс на стол. — Ведь вы предпочитаете, чтобы пища имела привычный земной вид, не так ли?
— Мне все равно, — сдержанно ответил Булочкин.
— Как, вкусно? — поинтересовался Макс, когда Булочкин дожевал кусок котлеты.
Булочкин сдержанно и угрюмо кивнул.
— Как звали этих шестерых? — спросил он, когда Макс стал ловко наливать ему в чашечку кофе. — Я имею в виду шестерых с корабля, доставившего меня сюда.
— Их имена ничего вам не скажут. У всех орионян очень труднопроизносимо то, что вы называете именем. У доставивших вас астронавтов тоже были слишком труднопроизносимые имена.
— Почему — «были»? — пролив кофе, спросил Булочкин.
— Их уже нет, — с вежливым сожалением ответил робот. — Срок их жизни истек. А что вы хотели от них? Может устроить вам встречу с кем-то другим?
— Нет, благодарю… — сказал Булочкин. Он снова пристально посмотрел на Макса и вдруг, неожиданно для себя, произнес:
— Вообще-то… я бы хотел побыть немного один.
— Хорошо, — послушно согласился Макс.
На самом верху чего-то исполинского и невообразимого была сделана смотровая площадка, вид оттуда открывался на все стороны. Ее сделали специально для Булочкина, едва он сказал Максу о желании посмотреть на Центр с высоты, и, специально для Булочкина, обнесли высокими, по грудь, перилами.
— Где мы находимся сейчас? — подавленно спросил Булочкин, когда они с Максом неожиданно оказались на смотровой площадке.
Макс принялся подробно и охотно объяснять, но Булочкин тут же отвернулся и, не слушая, пошел к перилам. Все равно бы он ничего толком не понял, даже если бы Макс объяснял еще доходчивее и подробнее и не несколько минут, а несколько часов. Бесполезно было спрашивать и бесполезно было объяснять. Лишь приложив громадные усилия и затратив годы, он смог бы понять только самое общее из того, что его окружало, и в самых общих чертах. Но за эти годы то, что он начал бы постигать, изменилось бы настолько разительно, что совершенно не соответствовало бы его представлениям о нем. Булочкин уже ясно понимал это, но Макс не хотел понимать, или делал вид, что не понимает.
Положив согнутые в локтях руки на перила и опершись грудью, Булочкин подумал, что если бы привезти с какого-то затерянного в океане острова в современный крупный вычислительный центр аборигена, прожившего всю жизнь в хижине из пальмовых листьев, проходившего по зарослям в юбке из пучков травы, который и огонь-то добывал, вращая между ладонями круглую палочку, вставленную в лунку в деревянной колоде… привезти, начать его водить по залам, объяснять назначение вычислительного центра, принципы действия и схемы ЭВМ, устроить ему лекцию по кибернетике с отступлениями в высшую математику и квантовую радиоэлектронику, то этот абориген был бы все-таки в гораздо лучшем положении, чем оказался здесь он.
Место, на котором Булочкин стоял теперь, было самым высоким в этом районе Центра, но вот вдалеке, прямо перед Булочкиным, на его глазах поднималось, ползло вверх что-то еще более исполинское и невообразимое. Он смотрел на неисчислимые, непонятные, до сих пор не охватываемые его воображением, не укладывающиеся в его сознание сооружения, громоздившиеся на всем пространстве вокруг, теряющиеся в фиолетовой дымке у горизонта, и чувствовал, что никогда ничего здесь не поймет, что он измотан этим на каждом шагу встречающимся, непонятным и непостижимым, что последнее время он заставляет себя выходить из квартиры, куда-то идти, на что-то смотреть и слушать добросовестные, но совершенно бесполезные объяснения и пояснения Макса.
Город под ним — Булочкин для себя называл это городом — напоминал муравейник в солнечный день, когда вся его поверхность у верхушки шевелится и, кажется, кипит. Видимое Булочкину со смотровой площадки изменялось у него на глазах. Он знал, что если стать к перилам спиной, а затем, минут через десять, снова повернуться, то взгляду откроется уже совсем другое, облик города изменят новые, непонятно когда возникшие исполинские сооружения, на которые были еще только намеки, и прежние сооружения тоже обрастут новыми, самыми причудливыми элементами.
За время, что он был здесь, в одном из Центров цивилизации созвездия Орион, уже сменилось несколько поколений. Вряд ли те, которые жили сейчас, знали и вспоминали о его существовании, разве что очень немногие и тогда, когда Макс обращался с какой-либо просьбой, вроде просьбы об этой смотровой площадке. Очевидно, за несколько поколений темп жизни орионян еще более ускорился, потому что Булочкин не видел теперь даже бледно-зеленого мелькания вокруг себя. Они, конечно, видели человека и, может, даже останавливались, чтобы лучше разглядеть странную статую, которая сегодня в одной позе и с одним выражением лица стоит здесь, а через несколько недель, месяцев или лет оказывается вдруг стоящей в совсем другом месте, в другой позе и с другой гримасой на лице.
— Это землянин, — пояснял, наверно, тот из них, кто, заинтересовавшись, успел навести справки в архивах. — Это наш гость с планеты Земля, которого доставили сюда по его просьбе. Он знакомится с достижениями нашей цивилизации.
— Каким же образом?
— Не знаю. Его доставили к нам несколько сотен лет тому назад. Но, очевидно, у него есть для этого возможности, ведь должно же быть в этой истории какое-то рациональное зерно…
«А может быть, я не привлекаю даже такого внимания, — подумал Булочкин, рассеянно глядя вдаль. — Да, вряд ли я возбуждаю даже такой интерес. Им известны десятки, если не сотни обитаемых миров, они сотрудничают или наблюдают за развитием цивилизаций таких разумных существ, которых мне невозможно представить…»
«Зачем я здесь, на этой смотровой площадке?» — снова подумал он после минутного оцепенения.
То, что он видел, уже давно не будило его любопытства, а вызывало лишь глубокую подавленность. Человек устроен так, что напряженно интересуется чем-то только до тех пор, пока у него есть ощущение, что в конце концов, пусть ценой неимоверных усилий, но он все же сможет это постичь; но лишь только ощущение возможности понимания сменяется сознанием его полной непостижимости — он старается забыть о самом существовании этого непонятного, старается от него отдалиться и отгородиться. Здесь Булочкину некуда было прятаться, кроме своей «квартиры», непостижимое начиналось за ее порогом и караулило его на каждом шагу. Все чаще на предложение Макса прогуляться Булочкин говорил: «Что-то не хочется… Еще не улеглись предыдущие впечатления», — и предлагал сыграть в теннис. За шахматы он не садился с Максом ни разу: ему было бы невыносимо сознавать и видеть, как тот играет в поддавки и очень естественно огорчается проигрышу…
Макс подошел и стал рядом, непринужденно, но точно так же, как Булочкин, облокотившись о перила.
Булочкин не ощутил ни благодарности, ни неприязни, он, как уже не раз за последнее время, чувствовал лишь глубокое, безнадежное отчаянье, из которого ему надо было вырваться любой ценой. Он закрыл глаза и положил голову на руки, лежащие на перилах.
— Вам нездоровится? — спросил Макс.
— Да нет, ерунда, — не сразу и медленно ответил Булочкин, — так: просто небольшая усталость…
«Может, действительно организовать этот дурацкий Институт Проблем Земли и стать его директором? — подумал он. — Стоит лишь пожелать — и все будет на уровне земных образцов. Будет солидное здание где-то в лабиринте их сооружений; сделают еще две—три сотни вот таких же Максов в выгоревших штормовках… или в смокингах — как пожелаю, на дверях укрепят таблички с названиями отделов и лабораторий; будут полированные столы, несгораемые шкафы и сейфы. На столах — телефоны и электронные калькуляторы, в вестибюле будет дежурить сержант милиции, а по утрам — приходить тёти Кати, наводить пылесосами и швабрами в отделах порядок…»
Вдруг неправдоподобно ярко и ясно Булочкин увидел одну из картин своего детства. Словно со стороны он увидел берег Амура, весь в чистой, гладкой гальке, за которым начиналась тайга, себя и брата на этом берегу. Ему было тогда восемь лет, а брату всего шесть. Они ловили рыбу: брат на удочку, а он на закидушки. Рыбалка была одним из главных летних развлечений. На кукане уже трепыхались несколько скрипучих касаток и серебристых темноспинных чебаков. День стоял безветренный и солнечный, дно было далеко видно сквозь прозрачную воду…
Булочкин так ясно увидел лицо брата, услышал запахи реки и тайги, ощутил под босыми ступнями прогретую солнцем гальку, что вздрогнул и открыл глаза. Неужели это было с ним? Неужели это вообще когда-то было: спокойная поверхность могучей реки, гранитный утес вдали, выступающий в воду, обтекающую его звонкими тугими струями, связки маленьких розовых бубликов и лимонад, что мать покупала им в буфетах пароходов, пристававших к дебаркадеру? Заросли малины на леспромхозовской вырубке и крохотные дикие яблоки на длинных, как у вишен, черешках, за которыми они лазили на деревья после первых заморозков?.. Неужели было? Неужели такое может быть в действительности, оно не выдумано им в припадке тоски?..
Булочкин рассеянно смотрел вниз, наклонившись за перила, в бездну под собой, где непрерывно достраивались и перестраивались разнообразные сооружения, необходимые для существования, для дальнейшего прогресса исполинской цивилизации созвездия Орион. И вдруг он вздрогнул и быстро отступил от перил.
— Что с вами, Олег Юрьевич? — тревожно подался к нему Макс, глядя на бледное лицо человека холодным, ничего не упускающим взглядом.
— Так… ерунда… — слабо и машинально усмехнулся Булочкин. Он помедлил, а потом осторожно вытер со лба выступившую испарину. «… Но сколько у него темпов жизни?..» — подумал Булочкин о Максе. Он посмотрел на Макса и отвел взгляд: «Вряд ли он чисто биологический робот… Скорее — комбинация различных по своей природе систем…»
— Я просто забылся, и мне кое-что вспомнилось. Из моего далекого прошлого. Это воспоминание было неожиданным и испугало меня, — сказал он Максу извиняющимся тоном.
— Неужели воспоминания могут оказывать такое сильное действие? — заинтересовался робот.
— Да, — пристально и оценивающе взглянув на него, ответил Булочкин. — Но ведь и у тебя есть память и есть воспоминания?
— Очевидно, это не совсем одно и то же. Моя память абсолютна, я «вспоминаю» только то, что мне надо вспомнить, и воспоминание не может застать меня врасплох.
— Сколько у тебя темпов жизни? — спросил вдруг Булочкин; еще секунду назад он не знал, что сейчас решится на этот вопрос. Он сцепил за спиной ладони и напряженно смотрел на серо-голубое покрытие у своих ног, боясь встретиться с ничего не упускающим, проницательным взглядом робота.
— У меня только один временной темп. Он в точности соответствует вашему. Другой временной темп предполагал бы и иную энергетику, а значит, и принципиально иное строение моих систем. В одном роботе нельзя совместить два слишком разных временных темпа, — охотно объяснил Макс.
От него не укрылось, что человек после его слов вздохнул и сразу стал менее напряженным, но он не мог понять, только отметил, происшедшую с ним перемену. Он отметил, что человек опять медленно и словно нерешительно подошел к перилам, свесил за них голову и стал смотреть вниз, весь поглощенный, казалось, только этим. Его ладони, сжимающие поручень, побелели, а лицо начало медленно, будто бы неосознанно, но и неотвратимо клониться вниз, словно человек противился изо всех сил, но его неумолимо притягивала, тянула в себя открывающаяся под ним, шевелящаяся бездна. И теперь Макс понял все. Макс понял, почему человек только что спрашивал о его временном темпе: ему надо было быть уверенным, что робот не успеет предотвратить то, на что он, наконец, решился. Последние дни человек выглядел так, словно напряженно искал выход из какой-то безнадежной ситуации, которая его угнетала и изматывала. В тот момент, когда он несколько минут тому назад испуганно отпрянул от перил, он посчитал, что нашел этот выход. Макс понял: теперь модификация уже неизбежна. Человеку было трудно принять такое решение, но если он его все-таки принял — то теперь будет стремиться осуществить, и чем больше будет преград — тем упорнее и изощреннее будет стремиться.
Макс выпрямил ладонь и поднял правую руку на уровень плеча. Из указательного пальца вырвалась тонкая, как игла, и такая же острая струйка специального препарата. Булочкин на секунду замер, потом сразу обмяк и медленно сполз на серо-голубое покрытие смотровой площадки.
Макс подошел, легко и бережно поднял человека и осторожно понес его ко входу в транспортное устройство…
СВИДАНИЕ
— Ну, как будто бы все… — устало потирая лоб, сказал Иван Семенович, когда возвращался с Кукиным из объединенной бухгалтерии отдела культуры. — Да!.. — будто споткнулся вдруг он. — Надо сразу же отвезти рюкзаки на вокзал, сдать в камеру хранения: зачем таскать их туда-сюда? Сможешь?
— А что тут «мочь»? — удивился Кукин.
Рюкзаки были пустяком. Главная проблема для Кукина заключалась в том, чтобы не опоздать на первую электричку до Межирова. Электричка отправлялась в шесть пять, а первый автобус из села, где жил Кукин, в шесть тридцать; в этом и была проблема.
Придерживая в троллейбусе до отказа набитые рюкзаки, Кукин пришел к выводу, что у него есть только два варианта: или остаться в городе, протомиться до утра на вокзале, или поехать домой, поспать, а в час-два ночи выйти на дорогу ловить попутку.
Ему не раз приходилось ночевать на вокзалах, и теперь, только подумав о духоте и людском мельтешении в залах ожидания, о назойливом электрическом свете и обязательном потряхивании за плечо сержанта милиции как раз в том момент, когда, наконец, начинаешь засыпать, Кукин выбрал второй вариант.
Дома никого не было: жена с сыном уже неделю гостила у своей матери.
Кукин медленно, подолгу останавливаясь перед окнами, побродил по тихой, кажущейся пустой квартире, ожидая, когда вскипит чайник, потом поел и решил часов пять поспать.
Он чувствовал усталость, вымотанность предотъездными хлопотами, но почему-то не спалось. Кукин подумал и с досадой догадался о причине: надо было ложиться сразу, а пока ждал, когда закипит вода в чайнике, ел, пил крепкий чай — на смену ватной усталости пришло то, что называют «вторым дыханием»; так с ним бывало не раз. Все же Кукин остался лежать, решив с обычной рациональностью: «Если не хочет отдыхать голова — пусть отдохнет хоть тело: и это уже кое-что…»
Он лежал, рассеянно глядел в угол, в котором успело примоститься несколько мохнатых от пыли паутинок, и перед его мысленным взглядом то вяло, то ярко и отчетливо проходили случайные воспоминания, события нынешнего дня — порой пустейшие, не имеющие к Кукину никакого отношения: уличные и транспортные сценки, обрывки разговоров, случайно обратившие на себя внимание прохожие. Потом он стал представлять, что в это время — в начале августовского вечера — делают в гостях жена Света и сын Павлик, потом стал думать о предстоящем ему ночном ожидании попутки, о неведомом скифском городище, на раскопки которого отправлялся, но во все эти его мысли, воспоминания назойливо тыкался случай в троллейбусе, когда он вез на вокзал рюкзаки.
На одной из остановок водитель долго не мог закрыть заднюю дверь, и вот какая-то женщина (Кукин не мог ее видеть из-за тесноты) вдруг начала обвинять в этом мужчину лет сорока, затиснутого на металлический поручень, ограждающий первое от двери сидение. Тот не мешал: это было ясно всем, кто мог его видеть, и Кукин, сморщившись от чужой глупости, хотел было замкнуться на своих мыслях, но голос женщины невольно притягивал внимание, настораживал и заставлял стремиться что-то понять. По голосу женщины чувствовалось: ей все равно, закрыта или открыта злополучная дверь, на уме у нее что-то другое, неотвязное; она насильно будит в себе негодование и в то же время не может заставить себя замолчать, хотя чувствует, что ее настойчивость уже кажется странной, что симпатии на стороне этого черноволосого, на редкость уравновешенного мужика. И вдруг на очередное добродушное уверение, что он не мешал и не мог мешать двери, она сказала то, другое:
— Да, да! Стал там, всех уже…
Это было так неожиданно, вздорно и грязно, что Кукин почувствовал, как у него от стыда начинают краснеть щеки, но мужик оказался еще выдержаннее и умнее, чем он предполагал: секунды на две растерянно задумался, а потом рассмеялся, сводя все в шутку:
— Ну и теща… К такой только попади. Не завидую я вашему зятю…
«Хорошо — мужик попался умный и спокойный, как стог. А если бы на его месте случайно оказался я?.. — содрогнувшись от омерзения, подумал Кукин. — И — главное — за что?… про что?..»
Этот нелепый, настойчиво лезший в сознание случай на время вогнал Кукина в скверное настроение, в размышления о мерзостях жизни и напомнил еще один подобный и тоже в троллейбусе.
На сидении, повернутом к задней площадке, сидели двое: он и она. Лет им было по двадцать пять — тридцать, вид имели обтрепанный и замызганный, было видно, что они давно осточертели друг другу до потери последнего уважения; красноватая рожа парня, общее выражение грубости чувств и побуждений на ней ясно говорили о его образе жизни и давнем, крепком пристрастии к спиртному. «Живет, чтобы пить…» — глубокомысленно и брезгливо подумал Кукин. Впрочем, и его подруга выглядела не лучше. Она со сдерживаемой жадностью ела гранат, обсасывая зернышки, словно леденцы, и глядя завороженно-тупым от удовольствия взглядом в пространство перед собой.
Кукин поставил портфель и, взявшись за поручень, отвернулся к окну.
— Жре-от… — с непередаваемо мутной, давно скопившейся и ничтожной ненавистью вдруг сказал краснорожий. — Ишь, жре-от… Вон она что купила…
Было видно, с каким наслаждением он бы сейчас избил, истоптал ногами свою подругу, но в троллейбусе было нельзя, и он только повторял, не в силах остановиться, несмотря на взгляды:
— Жрет… Ишь, как жрет…
А она, понимая, что сейчас он ее не тронет, тупо-блаженно улыбаясь, только быстрее обсасывала зернышки…
Эти незваные воспоминания родили тихую и мучительную тоску, неясную сначала и самому Кукину.
Он начал всматриваться в себя, в свою жизнь.
Все, как будто, было хорошо, лучше, чем у многих: ровные отношения с женой, прекрасный сынишка — на редкость смышленый, веселый, непоседливый; квартира — хоть и в селе, но со всеми удобствами, есть даже телефон. Летом — так даже лучше, что в селе: добираться на работу он привык, зато после работы можно пойти на пруд — он рядом — поудить карасиков, словно живешь на даче. Денег тоже, как будто, хватает, по крайней мере, не занимают от получки до получки. Работа — интеллигентная…
Тут Кукин остановился и задумался, со всех сторон всматриваясь в то многообразное, что являлось его работой. Был он старшим научным сотрудником в областном краеведческом музее. Командировки, встречи, документы и экспонаты, текущие заботы и хлопоты… Не скучно, и в коллективе на хорошем счету.
Все было явно о’кей, в норме, в порядке, но откуда же тогда эта неясная, мучительная, нежданная тоска?.. Откуда вдруг возникшее ощущение, что он не живет, а пребывает в кем-то исподволь, но четко очерченном круге, где не возникает поводов задуматься над непривычным и желания сделать что-то из ряда вон выходящее?.. Откуда ощущение, что и предыдущие годы он прожил, не выходя даже мысленно за пределы этого круга, которые кожей чувствовал? Почему?.. От рационализма, в котором порой упрекает Светлана, от невольного и, может, самой природой человека присущего стремления прожить с наименьшими затратами?..
«Ты так сжился с ценностями, нормами нравственности… нет — нормами приличий, если уж называть вещи своими именами, которые действуют внутри заточившего тебя круга, барьер которого становится все неодолимее, — удивляясь самим этим мыслям, подумал Кукин, — что тебя уже выбивает из колеи все, что им не соответствует: даже эти дурацкие случаи в троллейбусе… Твои надежность и добросовестность — давно лишь следствия представлений, благодаря которым можно прожить с меньшими затратами. Ума и души?..
Ты ведь уже не пытаешься понять то, что не укладывается в твои сложившиеся представления. Сколько, вот, статей по голографии тебе попадалось в журналах, которые почитываешь, когда начальник отдела в командировке, но, не поняв с самого начала, ты и не пытаешься понять: в чем же ее, голографии, суть…
Ты давно не задаешь вопроса, всегда ли нужна и правильна работа, которую делаешь с неизменной добросовестностью.
Когда был моложе — гордился, что можешь спокойно пройти по ночному кладбищу. Но, может, это оттого, что уже тогда у тебя не было воображения и любопытства?..
Ты охотно усвоил, что Добро всегда побеждает Зло, и поэтому судьба Добра тебя никогда особенно не беспокоит…»
«Какая чушь!.. — растерянно потряс головой Кукин. — Чего это мне полезла в голову такая чушь?..»
Но в глубине сознания он подумал, боясь в то же время, чтобы это понимание не вышло из глубины на поверхность, что — нет, не чушь. Это, пожалуй, не только не чушь, но безжалостный ответ на его теперешнюю, делающую все серым, тоску.
«Вот ты обрадовался вдруг свалившейся поездке на раскопки, — через некоторое время продолжил он. — Но что обрадовало тебя? — И с жесткой усмешкой добавил: — Возможность месяц спокойно пожить в глухом сельце, где будешь сам себе хозяин, где, как говорит Иван Семенович, прекрасная речка с широкими плесами. Скифское городище — для тебя просто место, куда придется ходить по утрам и наблюдать, как пацаны, которых в селе навербуете, будут рыть ямы. Раскопы — так они правильно называются. Конечно, ты постараешься, чтобы вырыли их столько, сколько Иван Семенович сочтет нужным, и не выбросили в отвал ничего, что он считает ценным. Что представляли из себя эти жившие две тысячи лет назад скифы — дело для тебя третье. Главное, что получишь как бы второй отпуск. Но — конечно! — работу сделаешь от и до, никто тебя не упрекнет, репутация станет еще прочнее…
Неужели все в самом деле так?.. — подумал Кукин, тут же раздражаясь на свой невольный испуг, вызванный возникшим вдруг ощущением, что он как-то обкрадывал, привык и продолжает обкрадывать себя. — Но в чем?! — даже дернулся Кукин, приподнявшись на постели, раздраженно глядя перед собой. — В чем?..»
Он снова лег и лежал без мыслей, чувствуя себя так, будто стоит на перепутье, не представляя, какой может быть новая дорога, существование которой все же ощутил, дорога, уводящая из пределов привычного.
«Какой еще „новый путь“?.. — пожал плечами Кукин. — Чего ты дергаешься? Зачем? Чтобы набить шишек и пустить на распыл все, что создавал годами? Или, скажешь, оно легко достается, ничего не стоит?..»
Он вспомнил странную судьбу своего однокурсника по пединституту, вообразившего себя поэтом. Тот с год назад решил целиком посвятить себя творчеству, ушел от жены, все имущество носит в портфеле, ночует то на вокзале, то на почтамте, где и пишет, как сообщил при последней встрече, поэму о Копернике. Питается, как Кукин понял, преимущественно хлебом, благо он дешевый, но денег в долг не берет, обиделся, когда Кукин начал навязывать трешницу. Говорят, что отрывок из его поэмы напечатали в московском журнале. «Надо бы зайти в библиотеку, прочитать…» — в очередной раз спохватился Кукин.
«Может, такой жизни ты хочешь?» — насмешливо спросил он себя, вновь вспомнил о ночевках на вокзале и с омерзением передернулся. Нет, и в этом было что-то не то: страстное, жертвенное, но ненормальное, недолговечное, как истерика или исступление…
— Да что тебя мучает?! — в раздражении от беспричинности своих мыслей воскликнул Кукин.
Он встал, закурил и снова начал бродить по квартире, подолгу останавливаясь перед окнами, бесцельно разглядывая до мелочей знакомый вид, открывающийся из них, и чувствуя, как в груди, что с ним стало бывать последнее время, лишь сильнее расползаются неясные смятение и тоска.
«Чего тебе надо?..» — еще раз спросил он, даже не пытаясь ответить, потому что это был уже не вопрос, а так — пришикивание, одергивание.
…В час ночи Кукин неторопливо собрал, уложил в полотняную сумку все необходимое в командировке и вышел из квартиры.
Свет на лестнице был выключен, Кукин оказался в совершенной темноте и с полминуты отыскивал ключом замочную скважину. Темнота, как и обычно, не вызвала у него страха; единственное, что беспокоило до тех пор, пока не нащупал перила, — это опасение споткнуться о что-нибудь на лестничной площадке.
Взглянув на черную, словно нежилую, глыбу соседнего дома, Кукин не спеша прошел по двору, а потом побрел серединой шоссе к светящимся магазинным окнам, испытывая удовольствие от одиночества среди спящего села, от густой темноты и тишины августовской ночи.
Длинное здание магазинов стояло у обочины против развилки, где в шоссе вливалась дорога из села Ивановки. Фонари над магазинными дверями освещали полукруг перед зданием. Кукин сел на одинокую скамью, стоящую у границы этого полукруга, неторопливо, настраиваясь на долгое ожидание, достал пачку сигарет, закурил, посмотрел на другую сторону шоссе.
Он сидел как раз против ивановской дороги, сидел к ней правым боком; теперь, когда повернулся, слева — в углу между шоссе и ивановской дорогой — стали видны смоляно-черные на фоне чуть светлевшего неба кроны деревьев и побеленный штакетник, ограждающий территорию детского сада, за которым был уже пустырь, а за ним поля; метрах в тридцати — сорока от Кукина стоял облицованный керамической плиткой павильончик автобусной остановки, а по правую сторону дороги на Ивановку, далеко от нее отступив, протянулся порядок из пяти домов.
Все это Кукин оглядел рассеянно и вернул взгляд на силуэт павильончика, потому что там тускло светился какой-то фонарь. Кукин вглядывался, стараясь понять, что там такое.
Фонарь светил желто-зеленым светом, таким тусклым, что освещался только его отражатель, чуть повернутый в сторону Кукина. Для карманного он был слишком велик.
«Мотоцикл кто-то загнал в остановку, — определил Кукин, — включил малый свет… — И почему-то решил: — Мотоцикл с коляской».
Так прошло с полчаса, и со стороны села Кудрино Кукин услышал слабый гул мотора; он медленно, чуть заметно усиливался. Кукин, встав, начал нетерпеливо смотреть в ту сторону, и вскоре, когда машина шла временами на подъем, в небе стало возникать колеблющееся желтое свечение. Наконец она выскочила из-за поворота улицы, ослепив фарами. Кукин просяще стоял на обочине с поднятой рукой, но «Жигули» промчались мимо, и скоро их красные огоньки скрылись за другим поворотом.
«Черт… — огорчился он, возвращаясь на скамейку. — Но ничего: до утра еще далеко…»
Шум машины истаял, и вновь Кукина, сидящего у края освещенного пятачка, накрытого, будто черным колпаком, безлунной августовской ночью, обступила глубокая тишина.
Он вдруг поймал себя на том, что она кажется ему напряженной, и на том еще, что его все больше начинает что-то тревожить.
Еще только что, какие-то минуты тому назад, он чувствовал себя спокойно, словно бы даже хозяином спящего села. Его настроение можно было передать так: «Вы спите вот, а утром снова займетесь тем же, чем вчера и позавчера, а я добираюсь на вокзал и уже днем буду далеко отсюда, где ждет месяц интересной и вольной жизни…»
Но вот это настроение ушло, незаметно вытесненное тревогой, неясным беспокойством, как от ощущения опасности, которую он еще не может определить, но которая уже существует.
«Что это? — подумал Кукин, рассеянно застывая взглядом на пачке из под сигарет, валявшейся шагах в двух перед ним. — Чего вдруг?..»
Однако он со все растущей настороженностью вслушивался в себя и вокруг, мысленно всматривался в то, что произошло с момента, когда вышел за дверь квартиры, чувствуя с каждой минутой, что его странная тревога — не блажь, она следствие чего-то действительно таящегося в ночи, но чего — он не мог понять. Единственным событием с тех пор, как сел на эту скамью, было появление машины, безучастно промелькнувшей в сторону города, но легковушка — Кукин несколько раз мысленно проверил — не имела никакого отношения к возникшей тревоге.
Он пожал плечами (в этом пожатии было столько же досады, сколько беспомощности) и заметно суетливо прикурил сигарету. «Ладно… — успокаивающе сказал себе, застывая помимо воли в напряженном и боязливо-чутком раздумье, — хорошо, попробуем с другого конца… Ладно — пусть предчувствие опасности, но какой? Какой именно?..»
Он пережидающе вздохнул, чувствуя уже раздражение и от непонятно отчего возникшего беспокойства, и от своего бессилия найти его причину, повел в темноту рассеянным взглядом и вздрогнул, похолодев: взгляд споткнулся о тусклый фонарь у павильончика автобусной остановки. Еще не успев ни о чем подумать, Кукин, взвинченный настороженностью, одиночеством, темнотой и тишиной, понял, пораженный, что именно это и есть причина подспудно возникшей и растущей в нем тревоги.
Несколько долгих секунд, чувствуя, как разрастается необъяснимый страх, Кукин глядел на тусклый фонарь, потом перевел застывший взгляд на клумбу перед собой.
«Ну да… — потрясенно подумал он. — Как же я не увидел этого с самого начала?..»
Нет, конечно же, с самого первого взгляда он увидел все, что можно увидеть, просто заранее был уверен, что не может увидеть ничего этого, и подогнал увиденное под самое «естественное» объяснение, которое тут же и пришло в голову, но в подсознании, обостренном всей окружающей обстановкой, увиденное отложилось полностью, и все время, пока сидел на скамейке, ждал услышанную издалека машину, шла незаметная его сознанию работа, следствием которой и явилась непонятная тревога.
«Нет, это не фара мотоцикла… — ошеломленно подумал Кукин, уставившись растерянным взглядом на яркие пятна цветов. — Во-первых — сама форма, она ведь прямоугольная, у мотоциклов я таких не видел… А цвет… Он желто-зеленоватый, завораживающий, когда в него всматриваешься, призрачный и нереальный, словно… словно отражение неведомой луны… Я не видел такого никогда… И вот что еще: фара светила бы гораздо ярче, причем и стекло ее, и — главное — отражатель не были бы освещены так равномерно…»
Он снова коротко взглянул в сторону павильончика и окончательно утвердился: нет, это было что угодно — только не фара, и оно действительно существует, ему не мерещится.
«Ну ладно, ну хорошо, — упрямо думал он, противясь все растущему страху, — ну пусть какая-то светящаяся штуковина, но почему я боюсь? Почему?..»
«Почему же я боюсь так?..» — безжалостно уточнил он через минуту.
Он чувствовал, что этот, уже ощущаемый страх — лишь жалкий предвестник того, который неизбежно явится, если он будет теперь всматриваться в странный свет и тьму вокруг этого света.
«Но чего я боюсь?!» Это было для Кукина непостижимо. «Взять и пойти посмотреть, что там — да и дело с концом?» — в беспомощном отчаянии подумал он.
Кукин начал поворачивать голову, чтобы еще раз взглянуть на желто-зеленый свет, прежде чем встать, когда вдруг осознал, что уже давно слышит с той стороны негромкие звуки. Он слышал их и минуту, и две, и пять назад, может, и раньше, но не обращал внимания, потому что таких звуков просто не могло быть в природе: ни одно живое существо не могло издавать их, ни один механизм.
«Что это? Шумит в ушах от напряжения?..» — оцепенело подумал он, хватаясь за последнюю соломинку. Он заткнул на несколько секунд пальцами уши, и тихие, но чудовищные своей невероятностью звуки тот час же пропали, стал слышен лишь густой гул крови.
— Так… — шепотом выдавил Кукин, вглядываясь в свет и вслушиваясь в доносящиеся звуки уже как в реальность, чувствуя, что сзади на плечи наваливается, придавливает к скамье страх, подобного которому он не испытывал ни разу в жизни. Позже, уже сидя в кабине ЗИЛа, мчащегося в город по пустынному шоссе, и на вокзале, ожидая Ивана Семеновича, он пытался определить, на что — хоть отдаленно — были похожи те звуки.
Они, едва слышные, напоминали неимоверно быстрый шелест тысяч листов сухой бумаги, изменяющийся в едва уловимом ритме, для каждого листа своем, шелест, на который во множестве стремительно навивались, пульсируя, другие ноты, и тысячи тысяч ритмов сплетались в какой-то общий, который не могло охватить сознание.
Это было странным подобием музыки, словно бы втягивающей в себя, завораживающей до оцепенения и заставляющей холодеть от стремительно нарастающего ощущения того чудовищно чужого и непостижимого, что открывалось за тихим и безумным мельтешением звуков.
Кукин с усилием отвернулся. Как только он перестал всматриваться и вслушиваться, страх, еще не успевший по-настоящему навалиться, вновь стал отступать куда-то в глубину.
С того момента, когда понял: он не знает, что светится у павильончика, Кукин находился в состоянии ошеломленности, которое усиливалось.
«Ведь там есть что-то еще… какое-то движение… Что-то… — или кто-то? — есть…»- понимал он.
Да, вглядываясь до боли в висках в желто-зеленый свет, вслушиваясь в чудовищно странные звуки, он различал теперь во тьме какой-то силуэт… нет — силуэты и какое-то движение…
Несколько минут Кукин сидел без мыслей, считая, что запретил себе думать, чтобы собраться с силами, а на самом деле — ошеломленный и раздавленный. Да, что-то там определенно было: едва различимое, в которое наяву всматриваешься, словно во сне: всматриваешься, но оно не становится яснее.
«Но что же я видел?..» — с усилием припоминал Кукин, когда придавленность отпустила. Казалось, проще было повернуть голову и снова вглядеться, но эта мысль даже не приходила Кукину, он чувствовал: рано. Это будет для него слишком преждевременно, ему надо собраться, хоть как-то освоитъся с уже увиденным и услышанным, подготовить себя к реальности этого — вон там, лишь метрах в сорока.
«Да в порядке ли я? — спросил он себя. — Не бред ли это? Не галлюцинации ли?.. Нет, чего-чего, а этого со мной никогда не бывало…»
Он преувеличенно внимательно стал осматривать все вблизи себя: вот клумба, огороженная наискось вкопанными кирпичами, на клумбе неизменные георгины, сальвии, астры… вот ползет жук — нормальный коричневый жук с усиками, ног — шесть, не восемь и не десять… Кукин ущипнул себя за щеку, скривился.
«Но что же именно я видел?..» — снова подумал, убедившись, что ему не чудится и способен рассуждать здраво. Перед светильником, ничего, кроме самого себя, не освещавшим, что-то было, но Кукин понял, что видит там что-то, в тот самый момент, когда отдернул взгляд в сторону, ошеломленный заполнявшим его страхом.
То, что он успел различить, не называлось известными ему словами, и, безуспешно промучавшись, Кукин задал вопрос, который уже давно, но робко маячил в его сознании: «Что же такое все это?..»
Как и вопрос, в его сознании (вначале слабым проблеском догадки) маячил и единственный ответ, но этот ответ был настолько невероятен, что Кукин и на этот раз не решился сказать его себе.
Страх отступил, но Кукин знал, что он вновь захлестнет, стоит лишь повернуть голову к желто-зеленому свету. Он также знал — был уверен, — что с ним ничего не случится, если будет просто сидеть на скамье, хотя не мог понять, откуда у него это предзнание?
«Сколько я смогу смотреть туда?..» — спросил он, чувствуя, что уже владеет собой, что стремление понять, что же там такое и что происходит с ним самим, отодвигает воспоминания о только что пережитом страхе. Он, ошеломивший своей силой, придавивший предчувствием своей беспредельности, вызвал у Кукина протест, был унизителен: Кукин чувствовал, но не мог поверить, что не в состоянии его подавить.
Он подобрался, сжав кулаки так, что побелели костяшки, повернул лицо к желто-зеленому свету, вглядываясь и считая про себя. Он смог досчитать лишь до двадцати, уже на счете «пять» сбившись на скороговорку, а цифры начиная с одиннадцати произнес слитным шепотом на судорожном вдохе, чувствуя, что ноги приподнимают его со скамьи и каждое мгновение вдох может смениться криком безумного ужаса.
Еще четверть минуты назад Кукин считал, что глубоко ошеломлен и пережил невероятный страх, что есть предел всему: дню и ночи, силе ветра и размаху крыльев, сроку жизни и невезению. Теперь, с трудом приходя в себя, медленно обретая способность мыслить, он с глубочайшим удивлением понимал, что у страха, которого по-прежнему только коснулся, и у ошеломленности, повенчанной с ним, нет предела…
Кукина охватили паника, желание бежать, спрятаться, укрыться с головой, ничего не видеть, не слышать… ни о чем не думать. Он каким-то образом по-прежнему знал, что на этой скамейке ему ничего не угрожает, но, с трудом подавив желание вскочить и бежать сломя голову, медленно поднялся. Стараясь шагать неторопливо, стремясь даже краем глаза не поймать желто-зеленоватое свечение, забыв сумку с вещами, пошел к черному, едва различимому силуэту своего дома. Походка его была деревянной. Несмотря на усилия воли, он все ускорял шаги, словно кто-то нагонял его сзади, уже чуть ли не дыша в затылок, неведомая опасность таилась по сторонам дороги и впереди. По лестнице он поднимался, едва дыша открытым ртом, чувствуя, как останавливается сердце, и, когда отпер, наконец, дверь квартиры, включил свет — без сил привалился к стене и несколько минут жадно хватал воздух, как человек, вынырнувший с большой глубины и избежавший там смертельной опасности…
Через полчаса Кукин снова шел к развилке: сила сильнее испытанного страха вела его туда. Это было не любопытство — это были необоримое желание и долг понять, постичь или — хотя бы — увидев, запомнить это для других, которые будут в состоянии понять и постичь.
Впервые за однообразные годы Кукин ощущал себя без скорлупы привычных воззрений, опыта, вселяющего уверенность в стандартных жизненных передрягах, без того, скопленного до этой ночи, что считал своим главным богатством. Он снова шел серединой шоссе, но теперь вокруг него простиралось не спящее село с однообразными, скучными окрестностями, а жуткая беспредельность Мира, и звезды над горизонтом и головой уже не были огоньками, украшающими общую картину ночи, их вид не развлекал глаз, а насмешливо и отчужденно морозил кожу наглядностью беспредельности Мира и необъятности его тайн. Серединой шоссе шел путник, очнувшийся от долгого полусна, с нескончаемым удивлением ощущающий свою открытость всему вокруг, свою бесконечную связь с простирающимся вокруг Миром, и — в то же время — свою обособленность от него, которая, не дана траве и деревьям на обочине, обособленность, определенную особым предназначением его — Человека, — которого Мир создал, чтобы постичь самого себя.
Кукин шел, в удивительном прозрении понимая, что его испугало не столько само неведомое, с которым столкнулся, сколько внезапное открытие, что оно существует вокруг и существовало все то время, пока он необременительно копошился в своем удобном мирке, не поднимая голову выше забот насущных.
«Неужели пригрезилось? Неужели там уже ничего и никого нет, все исчезло?..» — тревожно шептал он, ускоряя шаги и чувствуя, что если чего-то и боится — то только этого…
МЕКСИКАНСКИЙ ГРИБ
С Петром Ивановичем Крохиным мы жили в одном подъезде большого дома, построенного года за два до событий, о которых рассказываю. Его квартира была этажом выше, и балкон располагался как раз над нашим. Это не второстепенная подробность: будь по иному, я мог бы с Крохиным и не познакомиться. Тут дело было не только в том, что в свои двадцать шесть он — уже кандидат наук — работал над докторской диссертацией…
Знакомство с Петром Ивановичем произошло в августовскую ночь. Было полнолуние, и я разглядывал в подзорную трубу Луну. Крохин всегда ложился спать поздно, порой, проснувшись ночью, я слышал над головой его шаги; он вышел на балкон покурить, лег грудью на перила, глянул вниз и увидел меня.
— И хорошо видно? — вдруг вздрогнул я от насмешливого голоса сверху.
— Нормально… — растерянно, хоть и небрежно, ответил я, тут же почувствовав, что краснею.
«Чего это?..» — подумал с досадой, а догадавшись, покраснел еще больше, испытывая некоторое облегчение лишь оттого, что темно и он этого видеть не может; по его тону мне показалось, что Крохин решил: я в подзорную трубу подглядываю в чужие окна. Я закипел от злости, подыскивая, что бы ответить бесцеремонному пижону с верхнего балкона, но, к счастью, не успел: Крохин меня вновь ошарашил.
— И какие мысли вам приходят, когда смотрите на Луну? — спросил он со скрываемым интересом.
— Мысли?.. — растерянно переспросил я.
— Вот именно.
Знакомство вскоре перешло в дружбу, нам обоим необходимую. Почему мне, тогда еще школьнику, — пояснений не требует, но вот почему ему?..
Крохину, оказывается, как воздух, нужен был собеседник, знающий о Мире ровно столько, чтобы еще не возникла иллюзия, что больше знать и не надо, чтобы не появились предвзятые убеждения, одержимый любопытством и стремлением постичь окружающие тайны, до болезненности чувствительный к необычному и новому в море знакомого и привычного.
Крохин принадлежал к людям, не утрачивающим с возрастом и увеличением суммы знаний свежести взгляда на окружающее. Он был мощным генератором необычных точек зрения, идей, гипотез; духовный мир его был пронизан ими, они являлись его движущей силой. Но идеи или гипотезы особенно быстро развиваются и зреют (или обнаруживают несостоятельность) именно в процессе их обсуждения с кем-то, и необязательно, чтобы этот кто-то был специалист, — гораздо важнее другое.
Именно поэтому даже молодые коллеги Крохина по Институту молекулярной биологии не могли составить мне конкуренцию, хотя уже отстоявшимися идеями Крохин делился с ними.
Обычно часов после девяти вечера Крохин по телефону звонил мне, и я, втайне нетерпеливо ожидающий этого звонка, поднимался в его квартиру.
— Здравствуйте, здравствуйте, Федор Ильич, — с шутовским почтением встречал меня на пороге Крохин. — Проходите, сделайте одолжение…
Я смущенно отвечал в ответ:
— Здравствуйте, Петр Иванович… — разувался и проходил в его кабинет.
Отец Крохина, работавший конструктором на машиностроительном заводе, был человеком до крайности деликатным, умевшим совершенно не привлекать к себе внимание без надобности. Порой я вспоминал о его присутствии, лишь когда он звал нас выпить по чашке кофе. Но когда это бывало нам с Петром Ивановичем необходимо, он входил в наш спор свободно и органично, держась при этом с неброским, но врожденным, даже чуть чопорным достоинством.
Обращение ко мне по имени-отчеству, почтительность, за которой не скрывалась особо ироничность, временами насмешливая, — все это, на первых порах меня здорово смущавшее, имело две цели: с одной стороны — напоминать мне, что я человек уже достаточно взрослый, а с другой — не давать расслабляться, постоянно держать в задиристом настроении. Крохину не нужен был с благоговением внимающий слушатель, его глубоко радовало, когда мне удавалось задать ему по-настоящему каверзный «детский» вопрос.
Тот вполне обычный наш вечерний разговор (ставший, как стало ясно лишь потом, слишком поздно, первым шагом Крохина к его трагедии) случился в один из обычных, ничем больше не примечательных вечеров.
Мы говорили о контактах между цивилизациями, обсуждали такой вариант.
— Предположим, что цивилизация, которую открыли пришельцы, находится в самом начале пути, — сунув руки в карманы, расхаживал по кабинету Крохин. — Какими в этой ситуации могут быть действия представителей высокоразвитой цивилизации?
— Сумму своих знаний они передавать, конечно, не станут, — без затруднений ответил я. — Разве что попытаются немного ускорить прогресс: научат аборигенов пользоваться огнем или подарят им колесо.
— Совершенно верно, — остановился и поднял указательный палец Крохин. — Но дело-то вот было в чем: пришельцы ведь не могут не знать дальнейшего пути развития зарождающейся цивилизации аборигенов! Мы ведь с вами, Федор Ильич, пришли к выводу, что социальная эволюция, как и биологическая, имеет общие и совершенно определенные закономерности развития, которые пришельцам — конечно же — хорошо известны. А если так?..
Я напряженно наморщил лоб, но через минуту все равно пожал плечами.
— Но если так, то пришельцы не могут не знать, что наступит время, когда аборигены не только смогут воспользоваться суммой знаний, которой не владеют, эти знания не только не повредят, но резко ускорят дальнейший прогресс аборигенской цивилизации.
— Да… — несколько растерянно протянул я, — это, конечно, верно…
— Вернее верного, — подтвердил Крохин. — Но что же им делать, пришельцам? Особенно, если явились они из другой галактики?.. Высчитать, когда цивилизация аборигенов достигнет необходимого уровня развития, и наведаться снова?
— Нерационально… — вздохнул я. — Дело не только в расстоянии, но и в том, что во время повторного визита пришельцы почти не получат новой информации… Рациональнее зонд с суммой их знаний.
— Молоток! — одобрил Петр Иванович. — Но предположим, что время возвращения пришельцев и последующего полета зонда больше времени, которое необходимо цивилизации аборигенов для достижения той стадии развития, когда помощь явится не только действенной, но и желательной. И зонд окажется лишь визитной карточкой пришельцев…
Я молчал, напряженно размышляя.
— А помочь хочется… Очень хочется, — подогревал меня Крохин, поглядывая хитро и насмешливо.
— Единственный выход тогда — оставить информацию на планете аборигенов, но позаботиться о том, чтобы они смогли обнаружить ее и воспользоваться ею точно в срок… — наконец произнес я.
— Вот именно и только так! — с облегчением всплеснул руками Петр Иванович. — Причем сразу ясно одно: строить для нее какое-то хранилище — дело ненадежное: на планете, живущей активной геологической жизнью, не может быть совершенно надежных амбаров.
— Жизнь!.. — радостно выкрикнул я.
— Нет слов… — промолвил Крохин, всем своим видом изображая потрясенность моей смекалкой. — Жизни, живым существам и только им можно доверить то, что хочешь в целости сохранить даже миллионолетия, не говоря уже о жалких десятках тысяч лет.
— Ну да! — польщенно улыбался я. — Эволюция не мешает совместно с новыми организмами существовать и тем, которые возникли сотни миллионов лет назад. Взять грибы, водоросли, взять насекомых… Скорпионы, термиты и тараканы…
— Пример крайне удачный, — подхватил Крохин, — особенно касаемо тараканов. Неистребимые твари, бич больших городов даже в наших холодных широтах…
— Тема эта для мозгового тренинга, конечно, замечательная: какие организмы могли бы избрать пришельцы для хранения своей информации и как сделать, чтобы она попала к нам в нужный момент. Тут много аспектов, тонкостей… есть где разгуляться. Но час поздний, скоро начнет звонить ваша мама, поэтому разгул придется отложить до завтра. И он не потеряет своей прелести после того, что я сейчас расскажу.
Известно ли вам, что существует такая наука, как этномикология?.. Я так и знал, но расстраиваться не стоит: вряд ли сегодня найдется человек, который знал бы наименования всех существующих наук, не говоря уже о том, что каждая из них изучает.
Этномикология, например, — наука, исследующая влияние грибов на развитие культуры различных народов. Занятие это может показаться странным лишь на первый взгляд…
Монах-францисканец Бернардино де Саагуна, живший в 16 веке, в своей хронике сообщил, что индейцы-ацтеки во время празднеств употребляли некий «дьявольский» гриб, который вызывал галлюцинации. Сами ацтеки называли его «божественным»: «теонанакатл». Пользоваться им было привилегией жрецов: отведав гриб, они приобретали дар ясновидения.
Этому фрагменту хроники Бернардино де Саагуна значения не придавали, лишь через четыре века этнографы снова открыли, что в горных районах Южной Мексики есть таинственный ритуал, во время которого индейцы употребляют неизвестные г. дабы, вызывающие необычные видения.
Сообщением заинтересовались американцы — супруги Р. Дж. и В. П. Уоссон. Она — детский врач, а он — банковский служащий к этому времени уже тридцать лет увлекались этномикологией.
Индейцы встретили их недружелюбно, но все же, надеясь на лучшее, пожилые американцы поселились на окраине деревушки. Лед в отношениях с аборигенами действительно понемногу трогался, чему способствовали медицинские познания миссис Уоссон. Прошло два года, и настал день, когда мистера Уоссона, как равноправного члена общины, пригласили принять участие в таинственном ночном обряде, происходившем в заброшенной хижине на окраине деревушки. Костер освещал алтарь с распятием, возле которого лежали «священные» грибы. Жрица, старая женщина, съела их целых двенадцать, а потом с торжественностью вручила по нескольку грибов всем собравшимся…
В прихожей зазвонил телефон.
— Вас, Федя, — убил мою слабую надежду Иван Степанович, отец Крохина.
Я с досадой принял из его рук трубку.
— Ты сколько будешь еще надоедать людям? Ты знаешь, сколько сейчас времени?
— Ну, мам, — заканючил я. — Еще полчасика, ладно? Ну, пятнадцать минут? Еще чуточку?..
— Никаких «чуточек»! — отрезала она. — Людям завтра на работу, а тебе в школу!
— Конфликт поколений?
— Вечно мешают на самом интересном месте, — смущенно и с досадой ответил я. — Рассказывайте, Петр Иванович…
— Короче говоря, Уоссону удалось вынести несколько грибов, которые он передал французскому микологу профессору Г. Гейму. Гейму удалось вырастить эти грибы в искусственных условиях, без потери, как оказалось, ими их свойств. За дело взялись биохимики. Вот тут и начинается самое интересное…
Подопытные животные не реагировали на грибы, сколько бы и в каком виде их им ни вскармливали.
Крохин выдержал паузу, пристально глядя на меня, подчеркивая значительность этого обстоятельства.
— Наконец швейцарский химик А. Гофман отведал «священные» грибы ацтеков сам. К изумлению, он тоже, как в свое время Уоссон, увидел цветные индейские орнаменты, хотя в Южной Америке никогда не бывал и не видел их раньше. Когда А. Гофман очнулся от видений («галлюцинация» — провокационное слово: оно сразу настраивает на определенный лад), то записал в лабораторном журнале, что у него такое впечатление, будто бы вернулся из дальнего путешествия в странный, но все же реальный мир.
Вот эти два обстоятельства…
Подумайте над ними, Федор Ильич. Подумайте… а пока — до завтра. Родителей надо почитать. Опаздывать в школу тоже не годится. Спокойной вам ночи…
Продолжение этого разговора состоялось только через два дня: один вечер был занят я, другой — Петр Иванович: дежурил в институтской ДНД.
Все это время я так был погружен в увлекательнейшие и напряженные размышления, что умудрился схлопотать тройки по биологии и астрономии.
Почему на грибы не реагируют животные?..
Почему А. Гофман увидел индейские орнаменты, которые до этого никогда в жизни не видел?..
Я с нетерпением ждал нового разговора с Петром Ивановичем, но не мог даже предположить, что дело не ограничится «мозговым тренингом», а выльется в конкретную программу действий…
— Подождите, подождите, Федор Ильич, — с мягкой, но ироничной улыбкой остановил меня Крохин, когда снова встретились. — У меня нет сомнений, что ваши мысли гениальны, и я их с большим удовольствием выслушаю… немного позже. Пока сделаем вот что: представим, что мы с вами инопланетяне и нам — лично! — необходимо оставить сумму знаний нашей цивилизации аборигенам. Какие задачи перед нами встают?
— Ну… сначала надо найти… организм — носитель нашей информации, — ответил я, с трудом перестраиваясь.
— Верно, — развел руками Крохин. — И каким он быть должен?
— Он должен… не только выдержать возможные изменения природных условий… конкурентную борьбу… но и… выстоять под все возрастающим давлением развивающейся цивилизации аборигенов.
— Знаете, о чем я всегда жалею? — с глубоким вздохом спросил Крохин. — О том, Федор Ильич, что вы не работаете в моей лаборатории.
— Ну и… — смущенно и благодарно улыбаясь, закончил я, — он не должен до поры привлекать внимание.
— Великолепно! — восхитился Петр Иванович и спросил, словно уже для проформы, словно заранее был уверен в моем ответе: — А сама информация?
— Она тем более не должна до определенной поры привлекать внимание.
— Все! — удовлетворенно хлопнул Крохин ладонью по крышке стола. — В общем виде мы задачу решили. Осталось лишь решение конкретизировать.
И он начал излагать то, что уже было им обдумано.
Как на первый взгляд ни странно, говорил Петр Иванович, но рекордсменов по выживаемости больше всего среди простейших. Споры плесневых грибов, например, при температуре минус 253° Цельсия выдерживают трехсуточное пребывание в вакууме, а почвенные бактерии выживают и после нагрева до 140 градусов.
Среди простейших легко найти таких, которые, даже будучи нам уже известными (и в немалой степени именно потому), долго еще не привлекут к себе особого внимания.
Хорошо, а подойдут ли простейшие грибы, бактерии или водоросли для стоящей перед нами задачи? Можно ли в их объеме, без ущерба для их жизнестойкости, поместить громадный объем информации?..
То, что я знаю о биологии, начиная с молекулярной, кибернетике, информатике и многом другом, говорит мне, что это возможно.
— Хорошо, пусть для нас это не проблема, — подвел предварительный итог Петр Иванович, — но встают, по крайней мере, еще две существенные. Мы-то, допустим, сможем втиснуть колоссальную информацию в мизерный объем вещества, но ведь аборигенам надо будет извлечь ее и расшифровать. Задача?..
Я только покачал головой, глядя от напряжения всех своих умственных сил в пространство…
Петр Иванович вдруг грустно усмехнулся:
— У этой сложнейшей задачи есть ошеломляюще простое решение…
Я удивленно взглянул на него.
— Мексиканский гриб — вот ответ на эту головоломную задачу… — А зачем аборигенам заниматься титаническим делом — расшифровкой?.. — пожал он плечами. — Суть вот в чем… Так как-то в природе устроено, что сложнейшие структуры, системы обязательно имеют относительно простой выход; слово «выход» я тут употребил в том же смысле, как выход, допустим, компьютера.
Он подождал, пока я усвою услышанное, но понял, что ждать придется долго.
— Я хочу сказать, что совершенно не обязательно знать, из каких веществ и элементов состоит компьютер, принципы его работы, чтобы воспользоваться информацией, которую работающий компьютер выдает.
Я торопливо закивал головой.
— То есть аборигенам могут быть и неизвестны принципы, на основе которых мы запрячем информацию в какую-то примитивную водоросль, но мы можем сделать так, чтобы они, не зная их (и многого другого), смогли информацией воспользоваться.
Вот мы и уткнулись в мексиканский гриб. Это действительно всестороннее и гениально простое решение задачи! Почему бы аборигенам, когда цивилизация их достигнет необходимого уровня развития, не посмотреть увлекательный и поучительный, цветной и объемный, вдобавок, «сон» о том, что мы хотим им сообщить, причем мы (не только мы с вами, Федор Ильич) будем в этом «сне» толкователями, гидами, преподавателями и прочее?..
— Да… — проговорил я, и Крохин понял, что мне надо дать отдохнуть.
Мы пошли пить кофе.
— Так, значит, мексиканский гриб и есть это Послание, оставленное для нас инопланетянами? — мой вопрос говорил о том, что я еще не совсем пришел в себя.
Крохин выглядел непривычно усталым, вялым, даже подавленным, словно он протащил на своих плечах чертову тяжесть, благополучно донес до места, свалил и только теперь почувствовал, как болят плечи, спина и ноги.
— Нет, конечно, — вздохнув, ответил он. — Это просто вешка, какие ставят зимой на степных дорогах… Мексиканский гриб (и, вероятно, не он один) только сигнал, — объяснил Крохин, — который мы должны заметить и в определенное время понять. Лично мы можем поздравить друг друга с этим.
— Но что из сказанного следует? — прервал затянувшееся и какое-то тревожное, пронизанное напряжением предчувствия молчание Петр Иванович. — Пусть даже с мексиканским грибом дело обстоит не так, как мы решили, однако он в самом деле дал толчок. И не только мыслям.
Разве из всего сказанного не вытекает конкретная программа действий?..
Тогда я был захвачен перспективой возможности — просто головокружительной, и прошло немало времени, произошло событие трагическое, прежде чем я увидел все в настоящем свете и поразился.
Как же неодолима сила любопытства в человеке… И даже в самом разумном, здравомыслящем скрыты зерна удивительнейших противоречий.
И я, и Крохин были убеждены, что цивилизация может воспользоваться суммой знаний другой, более развитой, не раньше, чем достигнет определенного уровня своего развития; не раньше, иначе ничего не произойдет, кроме беды. Но куда делась эта убежденность, стоило лишь замаячить перед нами даже не возможности — призрачной надежде на возможность поразительного открытия?!
Возможность же, действительно, оказалась крайне призрачной, как только опьянение ею прошло и мы с Крохиным начали обретать реальный взгляд на вещи.
Уже сам колоссальный объем предстоящей работы сводил шансы одиночки на нет, а сделать исследования по-настоящему коллективными, масштабными, на уровне современных достижений и возможностей нельзя было с одной стороны по причине сугубо принципиальной: открытие ведь явилось бы преждевременным, а с другой, чисто практической — как заинтересовать (не отдельных энтузиастов) соответствующие организации и учреждения столь сомнительной (говоря мягко) идеей?..
Прояснились и другие аспекты, сводившие шансы Крохина (я мог и играл во всем этом деле лишь вспомогательную роль) на нет.
Ну, например: Икс-вещество — так мы договорились его называть — могло соседствовать (или даже быть химически связанным) в тех же грибах или водорослях с ядом, и, прежде чем принять его строго определенное, возможно, количество и начать смотреть «сны», Икс-вещество надо отделить от яда. А как узнать, что оно есть?..
Или подобный вариант, но еще хуже: Икс вещество связано с антиИкс-веществом, совершенно нейтрализующим его действие. Их тоже сначала надо разделить. Но, если Икс-вещество действует лишь на мозг человека, то вместе они вообще не оказывают никакого биологического воздействия…
Может быть и так, что Информация заложена инопланетянами в сам наш мозг, а в грибах или водорослях, бактериях — лишь ключ для отмыкания этой заветной двери…
Но — мудра все же пословица, что всякая палка о двух концах — по мере напряженных размышлений и практической работы Крохина, постепенно выяснялись и обстоятельства, способные увеличить шансы на успех. Крохин ведь был не дилетантом в тех исследованиях, за которые брался, занимался ими не в кустарной лаборатории где-то в сыром чулане, а в Институте молекулярной биологии, где у него были знакомства (а ради пользы дела он их резко расширил, сойдясь даже с неприятными ему людьми), дававшие возможность пользоваться не только всевозможной аппаратурой, но и вычислительным центром.
Крохин принадлежал к людям, которых стоящая идея делает одержимыми, но даже при его целеустремленности и упорстве, чудесах работоспособности, которые он показал в тот, длившийся больше двух лет период, при его уме, невероятной интуиции надеяться можно было — и он тоже это понимал — только на удачу…
Мы встречались теперь все реже, наши беседы со временем становились все суше, все чаще говорил только я, а Крохин, усталый, беспокойно одержимый, лишь рассеянно поддерживал разговор. Иногда он, правда, загорался, как прежде, его мысль завораживала меня глубиной и парадоксальностью, но хватало его ненадолго: вдруг, словно вспомнив о неотступном и неодолимом, он становился рассеянным, а потом и вовсе отсутствующим.
Некоторое время я считал, что так и должно быть: ведь я же знал, как адски работает Крохин, и знал о невероятной сложности его работы. Меня не только не огорчали изменения в наших отношениях, я испытывал радость и робость от сознания, что дружен с таким человеком, гордился Петром Ивановичем. Гордился — слишком слабо сказано…
Но настал момент, когда мое отношение начало меняться. Что послужило толчком?..
Однажды случайно увидел Крохина в троллейбусе. Я возвращался с приятелями после вечернего сеанса, он — из института. Остановка была против кинотеатра, и троллейбус оказался набит битком, я не мог пробраться к Крохину, но мне был хорошо виден его профиль. Крохин меня не замечал, он не замечал ничего вокруг. Взглянув раз, я уже не мог оторвать взгляда от его лица и, помимо воли все пристальнее всматриваясь, ощущал, как у меня возникает предчувствие понимания, которого заведомо боюсь.
Лицо Крохина было лицом человека, переживающего непрекращающуюся, напряженную внутреннюю борьбу. «Он ведь постоянно сознает, и наверняка лучше, чем кто-либо другой, — понял я, — какую опасность для человечества на нынешнем уровне развития земной цивилизации представляет то, что он неотступно, не считаясь ни с чем, ищет, но так же хорошо сознает и то, что будет искать вопреки любым доводам рассудка…»
И в первый раз, не отдавая еще себе отчета почему, я внезапно ощутил к Петру Ивановичу острую и безнадежную жалость…
Лишь два человека — я и его отец, деликатнейший и умнейший Иван Степанович, — знают, что удача, на которую рассчитывал Крохин, случилась.
В тот день, возвращаясь с работы (уже работал токарем на заводе «Фотоприбор» и заочно учился в МГУ на философском факультете), у входа в подъезд я буквально столкнулся с Иваном Степановичем. Он, всегда сдержанный, был неузнаваем: до потерянности взволнован, с порывистыми и суетливыми движениями. Едва взглянув на него, я почувствовал, как у меня оборвалось в груди.
— Что? Что случилось? — выдохнул я, схватив его за рукав пальто.
Он дернулся и несколько секунд меня не узнавал.
— А… Федя… — произнес наконец.
— Пойдемте, — подтолкнул я, — расскажете по дороге. Что произошло?
— Все последнее время я боялся за него, я чувствовал душой: это кончится страшно…
— Но что произошло, Иван Степанович?
— Петя в больнице, в «скорой помощи», мне только что сообщили из института…
Помню, что я лихорадочно метался, ловя такси, не помню, как мы ехали, на какой улице находилась «скорая помощь», куда доставили Петра Ивановича. Там его не оказалось: сделали уколы и отправили в психиатрическую клинику.
— Но что с ним? — наседали мы на молодого врача в «скорой».
— Может, и ничего серьезного, — успокаивал он, — просто припадок. Бывает и со здоровыми людьми…
Нам хотелось, чтобы было именно так, мы страстно на это надеялись, но у меня в глубине души под успокоительными надеждами уже тогда расползалось понимание, что я себя обманываю…
Теперь, по прошествии лет, я уже не сомневаюсь, что Крохин и сам предполагал… нет — был уверен в подобном исходе: он не мог не понимать, что информация инопланетян защищена от преждевременного посягательства совершенно надежно. Будь по-иному — и он бы все-таки нашел в себе силы прекратить начатое; его же собственная жизнь не представлялась ему для этого веским доводом.
«ЕСЛИ К НАМ ПРИЛЕТЯТ СО ЗВЕЗД…»
Случай, о котором хочу рассказать, произошел неподалеку от побережья Африки, почти как раз между Дар-эс-Саламом и мысом Делгаду, на одном из маленьких островов, которых там многие сотни.
Большая часть этих островов не заселена людьми, и на них обитает масса птиц: чаек, цапель, буревестников, фламинго и т. д. Понятно, что эти острова не могли не интересовать орнитологов, входивших в экипаж нашего научно-исследовательского судна…
Как-то мы бросили якорь у маленького — не больше трех километров в длину — острова, покрытого в основном кустарником, но награжденного природой красивыми и обширными песчаными пляжами. Вместе с орнитологами, киносъемочной группой из трех человек и еще несколькими специалистами разрешено было высадиться и мне.
Судя по внешнему виду, остров был необитаем, но когда наш баркас подошел к берегу достаточно близко, мы увидели на песке одинокую цепочку человеческих следов.
Меня это немного огорчило: ведь кто — хоть однажды — не мечтал ступить на необитаемый остров в океане? Но уже через минуту я забыл про разочарование, снова захваченный полетом стаи фламинго, которую спугнуло приближение нашего баркаса. К этому зрелищу трудно привыкнуть: мгновение… еще мгновение — и в небе вдруг словно распускаются розовые сказочные цветы…
Почти у каждого из нас были свои собственные задачи, заблудиться на острове было невозможно, и я отправился в его глубь один.
С четверть часа мне пришлось идти, увязая по щиколотку в тонком горячем песке, прежде чем достиг ближайшего от места высадки кустарника. Над ним — в одиночку и группами — возвышались деревья в большинстве неизвестных мне как биологу и энтомологу пород. Я выбрал самую высокую из групп в качестве ориентира и, медленно, напряженно выискивая взглядом редкости из местного мира насекомых, побрел вперед.
Через некоторое время человеческие следы на пляже этого экзотического островка стали казаться мне уже не свидетельством его обитаемости, а просто его случайного посещения людьми — до того все вокруг выглядело диким и нетронутым, предоставленным самому себе.
К центру острова кустарник стал гуще, но не настолько, чтобы сквозь него приходилось продираться. По-настоящему интересное все еще не встречалось, время у меня было ограничено, поэтому я всматривался под ноги и в ветви ближайших кустов все напряженнее. Это и позволило незнакомцу возникнуть передо мной неожиданно, словно привидению.
Сначала я увидел только его худые рыжеволосые ноги в грубых сандалиях, потом — заношенные шорты, из правого кармана которых торчала рукоятка крупнокалиберного пистолета, замызганную, с темными кругами под мышками рубашку цвета хаки и — наконец — худое, как он сам, лицо: рыжую нечесаную бороду, под которой угадывался длинный подбородок и — глаза: пронзительно голубые, прищуренные от слепящего солнца.
Я смотрел на него, оцепенев от неожиданности, чувствуя, как по мокрой от горячего пота спине поднимается холодок.
Так продолжалось, наверно, с полминуты.
— Что вы делаете на моем острове? — вдруг резко спросил он, быстро хватаясь за рукоять пистолета.
— Я?.. На вашем острове?.. (Лишь позднее до меня дошло, что — к счастью — он задал этот вопрос на английском.)
— На моем острове, — глядя по-прежнему с острой ненавистью, раздельно повторил он. — Острове, который я купил за свои деньги и который принадлежит мне до последней песчинки.
— Видите ли… — сказал я, стараясь тщательнее подбирать слова. — Я не делаю ничего плохого, то есть ничего, что могло бы нанести вам ущерб. Я — энтомолог, то есть изучаю насекомых, — пояснил я, боясь, что он не поймет. — Я только изучаю насекомых — и все. Меня интересуют только насекомые, и я не знал, что этот остров — ваша собственность.
Напряженность его позы немного ослабла, рука соскользнула с рубчатой рукоятки и вытянулась вдоль бедра.
— Значит, вы — ученый? Энтомолог? — спросил он сразу более спокойным тоном и даже как будто с долей интереса.
Мы стояли шагах в пяти друг от друга.
Он искоса взглянул на ветвь у своего плеча, быстрым движением снял с нее что-то и щелчком бросил к моим ногам.
Это была одна из многих разновидностей тропических бронзовок. Даже не нагибаясь, лишь посмотрев, я назвал ее по-латыни и сказал то, что принято говорить при классификации насекомого.
Удивительно, но незнакомец, казалось, понял все до последнего слова.
Теперь передо мной стоял уже просто неопрятный и издерганный человек, который о чем-то напряженно думал.
— Как вы сюда попали? — спросил он, наконец.
— Я из экипажа научно-исследовательского судна. Мы решили попутно ознакомиться с островом. С флорой и фауной вашего острова. На таких островах не так уж редки неожиданности.
— Да, да… я понимаю, — погруженный в свои мысли, пробормотал он, потом вскинул голову:
— Вы говорите с акцентом.
— Я не англичанин. Я русский. Это советское научно-исследовательское судно.
— Отлично… — опять задумчиво пробормотал этот странный тип. — И сколько вы намерены пробыть здесь?
— Еще часов пять—шесть. Может — восемь… Мне начало казаться, что я все же имею дело с сумасшедшим. С элементарным сумасшедшим, у которого из кармана шортов торчит рукоять крупнокалиберного пистолета.
— Так, значит, вы — ученый?
— Я уже говорил вам. Энтомолог.
Он снова надолго задумался.
Я, чувствуя какую-то непонятную дополнительную тревогу, внимательно посмотрел мимо него и вздрогнул, увидев сквозь негустой кустарник, метрах в пятнадцати, крупную западноевропейскую овчарку. Она неподвижно лежала, вытянув перед собой лапы и, часто дыша открытой пастью, неотрывно стерегла каждое мое движение. В нескольких метрах правее, едва различимая под низкими нависшими ветвями, пряталась другая овчарка. Я понял, что полностью завишу сейчас от чужой, непонятной мне воли. Еще я подумал: «Хорошо, что заметил собак. Они предохранили от глупости, на которую инстинктивно почти решился: если бы я решил его обезоружить — это стало бы последней глупостью в моей жизни…»
— Отлично! — сказал вдруг незнакомец и резко тряхнул кудлатой головой. — О’кей.
Он посмотрел на меня и обнажил в улыбке почти все свои желтые от никотина зубы.
Я машинально улыбнулся ему деревянной улыбкой, не понимая еще, в чем дело.
— Все хорошо, — сказал незнакомец с вымученной приветливостью издерганного и, может быть, в самом деле душевно нездорового человека.
Он подошел почти вплотную:
— Вытащите у меня из кармана пистолет и переложите в свой карман.
Я нерешительно выполнил его просьбу.
— Вот так-то лучше. Надеюсь, теперь вы меня не опасаетесь?
— Нет…
— Давайте познакомимся. Меня зовут Ирвинг Лоусон.
— Олег Кондратьев.
— Значит, вы — ученый?
Я утвердительно кивнул головой.
— Я тоже. Я тоже ученый, — сказал Лоусон. — Мы с вами, к тому же, не только из разных стран, но даже принадлежим к различным социальным системам. И — говоря прямо — ваша мне нравится гораздо больше… Вы только что сказали, что у вас есть в запасе несколько часов. Я приглашаю вас в гости. Мне бы очень хотелось с вами поговорить. Просто поговорить — и все.
— Хорошо, — согласился я, чувствуя, что буду жалеть, отклонив приглашение этого странного человека.
— О’кей, — опять сказал он и, повернувшись спиной, пошел впереди меня через кустарник.
Овчарки теперь бесшумно бежали метрах в десяти слева и справа; только изредка в прогалинах мелькали их сероватые бока.
«Это не похоже на дрессировку, — невольно подумал я. И, взглянув на происходящее со стороны, окончил: — И Лоусон, пожалуй, тоже не похож на сумасшедшего…»
— Я узнал, что ваш корабль приближается к острову задолго до того, как он бросил якорь, — размеренно шагая длинными худыми ногами, говорил, не оборачиваясь, Лоусон. — Знал его водоизмещение и то, что это научно-исследовательское судно. Даже приблизительное число членов экипажа. Не знал лишь, под чьим оно флагом. Надо будет научить их этому, большое упущение с моей стороны.
— Кого — «их»? — машинально спросил я.
— Уже совсем недалеко, — сказал он, оставив мой вопрос без ответа. — Уже совсем близко. Вон… видите ту группу деревьев? Там моя резиденция.
При нашем приближении на одной из пальм громко защебетала черная обезьянка и ловко соскочила на плечо Лоусону.
— Все хорошо, Джон, — сказал он, погладив ее по спине.
Овчарки вышли из кустарника и остановились чуть поодаль.
— Дик и Рид, — кивнул он в их сторону.
— Понятно… — рассеянно сказал я, оглядываясь в тщетных поисках его резиденции.
То, что мне вначале показалось большим термитником, и оказалось входом в резиденцию Ирвинга Лоусона. Это был крепчайший железобетонный колпак, замаскированный под термитник и оборудованный, как настоящий дот, вплоть до крупнокалиберного (у него, очевидно, была слабость к крупнокалиберному оружию) пулемета у закрытой сейчас амбразуры.
— Тут целый арсенал… — невольно произнес я, когда массивная бронированная дверь, повинуясь какому-то скрытому устройству, отошла в сторону и мы очутились в этом доте-прихожей.
— Не иронизируйте, — сухо ответил Лоусон. — При образе жизни, который мне приходится вести, никакая предосторожность не может быть лишней.
В железобетонном полу открылся еще один бронированный люк.
— …К тому же, — продолжил он, — вот такие подземелья, оборудованные хорошей вентиляцией и кондиционерами, — самое подходящее жилище для этого климата.
Мы спустились по крутой винтовой лестнице и оказались в первом помещении, судя по всему, служившем ему спальней, столовой, кухней и рабочим кабинетом. Дверь — уже не такая массивная, как предыдущие, — вела куда-то еще дальше.
— Там у меня лаборатория, библиотека, мастерская и подсобные помещения. Хотите взглянуть на лабораторию?
— Да, конечно.
Он открыл дверь, за которой сразу же зажегся свет. Я взглянул через его плечо и увидел большой зал, уставленный электронной аппаратурой — в большинстве переносной — сложной даже на взгляд. Электронной аппаратуры хватало и в первом помещении, но то, что я увидел в лаборатории, не могло не вызвать, по крайней мере, удивления.
— Вы работаете от какой-то крупной фирмы? — спросил я.
— Плевать я хотел на этих выжиг! — резко ответил Лоусон.
— Тогда вы очень состоятельный человек.
— Да, пока еще у меня есть деньги, — невесело усмехнулся он. Потом закрыл дверь и указал на стул перед обеденным столом:
— Садитесь.
Его внешний вид нелепо контрастировал с безупречным порядком, царившим в его лаборатории и жилище. Он достал из встроенного в железобетон шкафа бутылку джина, два стакана и бросил на стол измятую пачку сигарет; перенес от письменного стола второй стул и сел напротив.
— Пейте джин, — сказал он мне, придвигая до половины налитый стакан. — Уверен, что вам не каждый день доводится пить в таких подземельях.
Я вежливо улыбнулся неловкой шутке, стараясь освоиться, осматривая поверх стакана помещение.
Почти всю стену за его спиной занимали фотоснимки дельфинов: в основном гринд и афалин, хотя были на них касатки и даже самые примитивные — пресноводные дельфины. Снимки были сделаны на высоком профессиональном уровне, что сразу бросалось в глаза. На высоком профессиональном уровне и с большой любовью.
— Все это — ваши работы? — спросил я с интересом.
— За малым исключением, — поняв по взгляду, о чем спрашиваю, подтвердил Лоусон.
— Очевидно, не ошибусь, заключив, что вы занимаетесь изучением дельфинов?
— Ошибетесь! — неожиданно резко и неприязненно сказал Лоусон. — Я не изучаю дельфинов в том смысле, который вы подразумеваете, я просто пытаюсь вступить с ними в контакт.
Он нервно закурил сигарету и с каким-то вызовом откинулся на спинку стула. Я вежливо промолчал.
— Меня коробит, когда слышу: «изучать дельфинов»! Изучать можно элементарные частицы… распространение электромагнитных волн!.. Дельфинов можно лишь стараться понять! Они — такие же разумные существа, как и мы с вами. Когда говорят «изучать» — это значит говорят: «поставить себе на службу», «постараться извлечь одностороннюю выгоду»!
Я понял, что — сам того не подозревая — грубо задел самое больное место в душе этого человека.
— Да, жизнь устроена так, что выгоду необходимо извлекать, без этого невозможно существование цивилизации, — все больше возбуждался Лоусон. — Но нельзя же только и делать, что извлекать и извлекать из всего выгоду?! Так в мире не останется ничего святого, в конце концов, мы перестанем уважать даже самих себя!..
Джон, испуганно таращивший на нас глаза со свисающего с потолка каната, на котором раскачивался, прыгнул Лоусону на плечо и прижался к его голове, умоляюще щебеча.
— Ну, ну… — бросил Лоусон, как-то сразу отмякнув, а мне сказал:
— Извините…
— Извинить? За что?.. Я прекрасно вас понимаю.
— «Дельфины — разумные животные», — с горечью произнес Лоусон. — Никто еще толком не знает, что представляют собой наиболее развитые из них, а уже — даже не самые далекие из нас — отлично уразумели, какую выгоду можно извлечь из дельфинов, если сделать их загонщиками косяков сельди, разведчиками морских глубин, шпионами и живыми торпедами…
Он поднял стакан и кивком пригласил последовать его примеру.
— Вы хотите установить с ними контакт? — сказал я, закуривая сигарету. — Но разве это под силу кому-то одному, пусть даже гению?
— А разве есть иной выход?.. В мире, в котором я живу, можно верить только самому себе. Еще Джону, Дину и Риду.
У меня по коже пробежал сковывающий холодок, когда я представил всю бездну одиночества этого загнанного, душевно изломанного человека.
— Уже можно говорить об определенных достижениях, — нервно продолжал Лоусон. — Это дельфины предупредили меня о приближении вашего судна. Я достиг большого взаимопонимания с местными гриндами. Пожалуй, это можно уже назвать сотрудничеством, которое с каждым днем становится все теснее и облегчает мою работу. Живя в одиночестве, вдали от суеты цивилизации, начинаешь, к тому же, лучше понимать других существ, начинаешь относиться к ним с большим интересом и уважением. И начинаешь на все смотреть несколько по-иному…
Невероятно — сейчас с трудом верится, — но ведь было время, когда я принимал участие в одной из программ, программ, посвященных извлечению военной выгоды из дельфинов. Все было устроено так ловко, что я не сразу понял, чем на самом деле занимаюсь. Когда же понял и ушел — то попытался бороться против этой программы с помощью прессы. На мне охотно зарабатывали деньги, пока пахло сенсацией, и утратили интерес, как только появились сенсации посвежее. Да и те, кто был заинтересован в этой программе, тоже не теряли времени…
Лоусон сидел, подперев кудлатую голову ладонями рук, поставленных локтями на стол.
— И знаете, — наконец вырвался он из оцепенения, — примерно в то время мне пришла в голову одна мысль. С виду — очень простая мысль. Возможно, это даже общий закон природы, но что-то не дает и никогда не даст мне с ним примириться. Я имею в виду отношение людей ко всем, кого они считают ниже себя по интеллекту. Стоило кому-то счесть негров более низшими — и сотни тысячи их, уже в наше цивилизованное время, были превращены в рабов — «разумных животных». А истребление гитлеровцами «неарийцев»?..
Неужели мы можем по-настоящему считаться лишь с разумом, эквивалентным нашему, «высшему», пусть даже скрепя сердце, поклоняться, а «низший» беззастенчиво эксплуатировать в своих целях? Неужели интеллекту вообще свойственно такое отношение к интеллектам, более «низким» по развитию?..
Но что же будет, если к нам прилетят со звезд? Если завтра к нам прилетят со звезд, я вас спрашиваю?..
Мы с Лоусоном снова шли через кустарник. Дик и Рид сосредоточенно бежали у наших ног. На спине Рида привычно сидел Джон. Из кармана у Лоусона торчала рукоятка крупнокалиберного пистолета.
Впереди, сквозь негустую зелень, вдруг мелькнула ослепительная голубая полоска: океан.
— Вот мы и пришли, — проговорил, остановившись, Ирвинг.
Я протянул ему пачку сигарет. Он щелкнул зажигалкой. Мы закурили.
— Очень жаль так быстро прощаться с вами, — сказал я.
— Мне тоже, — неловко улыбнулся Лоусон. — Но вам ведь надо уже идти…
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
Семенов оторвал взгляд от моря и посмотрел на небо. Последнее окошко в нем затянулось, облака в том месте превратились в яркое белесое пятно, тускнеющее на глазах. Арафурское море внизу потеряло яркие краски.
— Прогулка все же откладывается, — сказал он сам себе.
Старинный, по-ярмарочному раскрашенный вертолет взревел, набирая высоту. Навигационные приборы на вертолете были ему под стать, но Семенов все же определил, что ближе всего теперь до островов Кай. Подняв вертолет выше, он прибавил скорость. Отсюда море казалось свинцовым, оно равномерно простиралось во все стороны, сливаясь с серой пеленой на горизонте.
Большой остров показался вовремя: первые капли дождя ударили в смотровое стекло, расплющившись в тонкую неровную пленку, сквозь которую и море, и небо, и главный из островов Кай утратили свой обычный вид. Но вертолет летел на предельной скорости, и силуэт острова рос на глазах, Скоро уже можно было различить узкую полосу белого песка, всю в ярких оспинах грибков от солнца; вдоль берега, как исполинские каменные столбы, высились над пеной листвы небоскребы-гостиницы. Потом стали видны мелкие постройки.
Семенов повел вертолет на снижение. Внизу была северная оконечность Большого острова. Неожиданно, недалеко от пологого берега, в зарослях, он увидел белый коттедж с верандой, а рядом — посадочную площадку. Она не была занята. Вертолет тряхнуло от встречи с землей, он вмял колесами мокрую почву, потом, несколько раз чихнув, заглох мотор, и в уши Семенова ворвалась музыка дождя: шуршание его капель в траве, бульканье в луже перед вертолетом, звонкие удары по широким глянцевым листьям деревьев, барабанная дробь о дюралевую обшивку и смотровые стекла. Семенов открыл дверцу, вдохнул сырой воздух и выпрыгнул из кабины.
От посадочной площадки до веранды было метров тридцать. По бокам дорожки росли бордовые розы и какие-то голубые цветы. Она оканчивалась двориком, тоже из бетонных плит, в щелях между которыми темнилась трава с серебряными листьями, примятая лишь у порога. Семенов увидел, что окна закрыты тростниковыми шторами, за которыми угадывается электрический свет, и в нерешительности остановился. Дом словно замер и не подавал признаков жизни. Куртка Семенова вымокла под дождем, туфли влажно блестели. Он повернулся, чтобы сделать шаг назад, но дверь веранды, скрипнув, отворилась и сквозь шум дождя он услышал резкий голос.
— Куда вы? — спросил он. — Ведь вы же хотели войти.
Семенов обернулся с растерянной улыбкой, словно был застигнут на чем-то нехорошем, чувствуя себя неловко.
— Видите ли… — сказал он и сразу осекся: перед ним в дверном проеме стоял Корытин. Короткая стрижка, напряженный взгляд, трико астронавта… Ошибки не могло быть.
— Чего же вы стоите? — в голосе Корытина слышалось раздражение.
Семенов взошел на веранду и нерешительно остановился. Они одновременно посмотрели на мокрые следы от его туфель.
— Ничего, — сказал Корытин. — Ничего особенного. Вы просто промокли. Снимите куртку и повесьте над камином.
Он говорил странно: глядя чуть мимо собеседника; движения его были нервными: то излишне медлительными, то порывистыми, почти судорожными.
— Сейчас. Не стоит беспокоиться, — сказал Семенов.
Они вошли в первую комнату. Корытин включил электрический камин, и на минуту воцарилось напряженное молчание. Семенов неловко улыбнулся и сделал вид, что рассматривает обстановку.
Комната была отделана под старину: белая пластмасса стен и потолка, коричневая — пола, небольшой стол посередине, два легких кресла-качалки возле него, шкаф и холодильник в стене. Подоконники были в виде ящиков, и там росли цветы. Все было, как он ожидал, даже старинный магнитофон на столе и большая зеленоватая фотография в узкой черной рамке. Корытин тяготел к вещам своего времени; в этом не было ничего странного.
Фото запечатлело голые с резкими очертаниями камни, хаос из камней и человека без скафандра, вернее, только его незащищенное лицо, плечи в комбинезоне астронавта и неподвижный, даже для снимка, взгляд. Внешность этого человека показалась Семенову знакомой, но кто это, он не смог вспомнить.
— Садитесь… Будьте, как дома, — сказал Корытин.
— Спасибо, — поблагодарил Семенов, и они снова замолчали. Семенов лихорадочно искал, что бы сказать еще, но ничего не приходило в голову.
— Послушайте, а почему вы выбрали для прогулки этот… вертолет? — спросил Корытин, рассматривая зажигалку. Было заметно, что это его интересует, почему-то является важным. — Вертолет, да еще такой варварской расцветки?
— Иногда тянет к старым вещам. На этом вертолете я сегодня путешествовал не только в пространстве, но и во времени. Гравитолеты в тысячу раз комфортабельнее, быстрее, но в них чувствуешь себя только пассажиром. Вертолет — совсем другое дело.
— Вы, верно, тоже из прошлого? — улыбнулся Корытин.
— Нет. Я родился в этом веке. Я не астронавт, я настройщик синхронных выходов ЭВМ.
— А… — не скрывая разочарования, протянул Корытин и поскучнел, замкнулся. Он на время о чем-то задумался, а Семенов понял, почему он так позвал его с веранды: Корытина обманул старинный вертолет.
Корытин вдруг быстро встал, подошел к шкафчику, достал бутылку вина, два бокала, протянул один Семенову:
— Выпейте, вы ведь промокли.
— Спасибо.
Вино шипело и было золотистого цвета. Семенов отхлебнул глоток, снова стал невольно рассматривать фото.
— Кто это? — спросил он, видя, что Корытин следит за его взглядом.
— Голубев. Снимок сделан у «Миража» на Альфе. У меня в шлеме скафандра была фотокамера, она автоматически фиксировала все… А чем привлекает вас этот снимок? — спросил он с непонятным Семенову интересом.
— Не могу сказать. То есть не могу сказать точно. В этом снимке есть что-то противоестественное, что-то пугающее…
— В снимке?
— Нет, — покачал головой Семенов, — в Голубеве. Не знаю, может, это случайная игра света, но мне не по себе, хотя это только лишь фотография.
Корытин долго молчал, чуть постукивая ладонью по столу, уйдя в свои мысли.
— Вы знаете, как я потерпел аварию на Альфе? — словно решившись, спросил он.
— В самых общих чертах, — признался Семенов.
— Это вряд ли можно было предвидеть. Вероятность подобного практически равнялась нулю. Это уже потом я предположил что… Но это было уже потом.
Оставив звездолет на орбите, я на модуле сел на поверхность Альфы. Опускаю съемки и замеры, пробы и анализы, потому что к тому, о чем хочу рассказать, это не относится.
Альфа на редкость суровая планета, но в ее облике есть своя прелесть: зеленые закаты, нагромождения скал — чудовищные, но прекрасные в своей дикости.
Часов через пять после посадки, когда я исследовал гигантскую пещеру на окраине базальтового плато, камни у меня под ногами резко вздрогнули и плита, оторвавшаяся от свода, рухнула у ног, чуть не завалив выход из лабиринта. За первым толчком последовал второй, а потом целая серия мелких. Я не мог еще знать точной причины этого, но почувствовал страх, который был сильнее моей воли. Не помню, как преодолел завал: я действовал словно лунатик. Меня гнало желание вырваться из этого склепа и увидеть. Что? Модуль. Убедиться, что с ним ничего не случилось.
На месте модуля была окаймленная развороченными взрывом глыбами базальта воронка. Я подошел к ее краю и лишь там, почувствовав слабость, сел на какой-то камень. Со мною были лишь НЗ и кислорода на неделю. До Земли — четырнадцать световых лет, до ближайших кораблей — почти столько же. Это был конец.
От моего модуля уцелел только кусок обшивки. Я нашел его на второй день в километре от воронки. Мне удалось выяснить причину катастрофы: болид, не сгоревший в атмосфере Альфы, угодил в баки с горючим.
Корытин отпил из бокала и посмотрел на фотографию Голубева.
— Прошло 24 часа, я не смог возвратиться на звездолет, и он послал к Земле первый сигнал бедствия. Вот тут я до конца понял всю безвыходность своего положения и реальность того, что со мной случилось, тоже. До этого момента я находился будто в полусне. Я не мог себя заставить поверить в случившееся. Видел, понимал, но до конца поверить не мог. Передатчик звездолета заставил меня поверить в то, что произошло. Вот тогда я не просто понял, а почувствовал физически, как мы еще слабы перед этой черной бездной — Вселенной. Вы понимаете?
Семенов медленно кивнул головой.
— Да, очень. Слишком многое нам необходимо для нормальной жизни вне Земли. Пища, вода, воздух — это далеко не все. Только в космосе до конца понимаешь, сколько еще надо помимо этого. — Он кивнул на фото: — Посмотрите внимательнее. Вы не видите ничего странного?
Семенов в какой уже раз скользнул взглядом по глянцевому изображению. «Непонятный вопрос, — подумал он, — ведь это снимок другой планеты». Он скользнул глазами, и вдруг его словно толкнуло изнутри. Он даже задержал дыхание: Голубев был без скафандра в ядовитой атмосфере Альфы! Семенов резко встал и подошел к снимку вплотную. Зачем? Он сам, наверно, не смог бы ответить.
— Невероятно? — нервно усмехнулся Корытин. — Но Голубев действительно без скафандра, потому что он не нужен ему даже в космосе.
Семенов растерянно стоял перед фотографией, а Корытин, напротив, вдруг почти успокоился, у него стал вид человека, достигшего определенной цели.
— Но ведь это!.. Это говорит о том, что все наши рассуждения о Голубеве и объяснения его поступков были неверны и он совсем не тот, за кого его принимали все эти годы?
— Да, — снова усмехнулся астронавт и тоже зачем-то встал из-за стола. С минуту они стояли друг против друга: Семенов лихорадочно обдумывал услышанное, а Корытин терпеливо ждал, что он на это скажет. Он теперь, казалось, экспериментировал над своим неожиданным гостем, стараясь в чем-то убедиться или — наоборот — разувериться. Потрясение, которое теперь испытывал Семенов, он уже пережил в свое время, и теперь это было его преимуществом. Казалось, происходящее занимает его и с психологической стороны.
— Ошибкой было то, что мы принимали Голубева за человека, — не выдержал, наконец, Корытин. — Мы объясняли его непонятное поведение сдвигами в психике, даже сумасшествием, не допуская мысли о том, что он может быть кем-то другим, кроме человека. Разумным существом без всяких психических аномалий, просто с другими целями, идеалами, ценностями… И построенным из других элементов, чем мы, и по другим законам, конечно.
Нет, о встрече с ним надо подробнее… Она произошла на пятый день. Я к тому времени совсем упал духом. Сидел возле воронки, а может, и лежал — сейчас не помню. Меня мучила жажда. Над плато уже несколько часов ревел ураган. Вдруг сквозь него я услышал прерывистый грохот ракетных двигателей — настолько невероятный звук, что я даже не попытался в него поверить: откуда так быстро могла прийти помощь? Грохот усиливался с каждой секундой; я закрыл глаза, а он все рос, начали дрожать камни, тогда я, уже не в силах больше сопротивляться, открыл их снова с уверенностью, что это галлюцинация, и с крохотной тайной надеждой…
На плато опускался земной звездолет класса «Мираж». Я бросился к нему, спотыкаясь о камни, хотя из его дюзе еще рвалось пламя. Я остановился у корабля, который еще дрожал, раскаленный от трения об атмосферу, потом подошел к одной из его опорных штанг и начал ее ощупывать, как слепой; потом почувствовал на своем плече прикосновение, резко обернулся и увидел Голубева. Он смотрел на меня точно так же, как на этом фото. Я стиснул его в объятиях, на глазах появились слезы, а он стоял неподвижно и безучастно, и я услышал в своих телефонах абсолютно лишенный выражения голос: «Пойдемте, у меня мало времени». Тогда впервые я посмотрел на него осмысленно. И вздрогнул, увидев, что он без скафандра…
— Дальше, — взволнованно попросил Семенов.
— Он не обращал на меня почти никакого внимания. Когда я его спрашивал, он не всегда отвечал или отвечал односложно. Потом мы выбрались в космос, и он проводил меня в мой звездолет. Он прекрасно перемещался в пространстве, хотя я не заметил на нем ракетного пояса. Попрощались мы, как и встретились, но я уже не пытался его обнять. Через двадцать минут заработали двигатели его корабля. Тогда, сам не зная зачем, я замерил его постоянное ускорение. Оно равнялось ста метрам в секунду. И это на звездолете класса «Мираж»…
— Слушайте! — перебил Семенов. — Вам не приходила мысль о том, что взрыв модуля, как и ваше спасение, могли быть кем-то подстроены?
— Я думал об этом. Слишком уж много невероятных совпадений. Но когда я допустил возможность неслучайной аварии, то вынужден был подумать: «Зачем и кому она понадобилась?»
— Привлечь к себе внимание! — воскликнул Семенов. — Мне кажется, что ему зачем-то понадобилось продемонстрировать кому-то из землян свое отличие от нас, заставить нас посмотреть на него другими глазами, и он выбрал для этого такой оригинальный способ.
— Да, абсолютно ясно, что для объяснения поведения Голубева сдвигов в психике теперь недостаточно. Здесь несомненно вмешательство иной разумной жизни. Именно об этом я думал, возвращаясь на Землю. Не только мы, но и наше мышление приспособлено для планет, но мне всегда казалось, что есть разумная жизнь, возникшая в открытом пространстве. Не может быть разума лишь для планет; почему бы ему не зародиться и в этой беспредельной черной бездне? А если так, то в ней он столь же всемогущ, как мы на Земле, Но у нас все должно быть разным: и течение времени, и ценности, и образ мышления, и…
Помните высказывание Лилли (был такой во второй половине 20 века, изучал дельфинов)?
— Впервые слышу, — признался Семенов.
— Он как-то сказал: «Может оказаться, что крупный мозг дельфина настолько не похож на наш, что нам так и не удастся постичь их мышление, даже если мы будем работать всю жизнь». В этих словах, по-моему, ключ к разгадке Голубева и его роли. Внешний облик Голубева — это просто маска, камуфляж, как и внешний вид его звездолета.
— То есть Голубев один из представителей неизвестного разума? — быстро спросил Семенов.
— Нет. Он только химера: посредник между ним и нами. Что-то среднее, обладающее одновременно и особенностями человеческого мышления и мышления тех, неизвестных. Видно, они пришли к выводу, что мы не сможем понять друг друга без подобного переводчика. И выбор почему-то пал на астронавта Голубева. Может быть, совершенно случайно.
Когда кончился дождь и Семенов решил, что пора прощаться, он вдруг сказал:
— Голубеву поставят памятник.
— Как Опо-Джеку? — грустно усмехнулся Корытин.
Семенов, задержав его ладонь в своей, посмотрел на астронавта недоуменно.
— Был такой дельфин у берегов Новой Зеландии… Но это, впрочем, не важно. Жду вас в гости, — сказал Корытин.
ДОМ СО СТАТУЯМИ
МАК 2345 А был первым астронавтом, не пожелавшим возвратиться в Солнечную систему. Он достиг в назначенное время окрестностей звезды Жёлтый Краб, передал всю доступную информацию о ней и ее четырех планетах, а потом обосновался на второй планете Желтого Краба, назвав ее Приютом Души.
Оператор Центра по исследованию космического пространства, поддерживавший с ним квантовую связь и узнавший обо всем этом первым, спросил, давно ли МАК 2345А консультировался о своем здоровье с корабельным электронным психиатром. МАК 2345А ответил, что и не ожидал другой реакции на свое решение и так как оно, к сожалению, подтвердилось, уговаривать его возвратиться на Землю — это зря переводить мегаватты энергии. После этих слов МАК 2345А выключил свой передатчик и не отвечал ни на один из периодических вызовов Центра.
Судьба его обеспокоила не только руководство полетом, но спасательный корабль к Желтому Крабу тогда послан не был: его рейс оказался бы слишком долгим и дорогостоящим. Лишь через пять лет, когда стал использоваться принцип Нуль-транспортировки, психиатр ТОМ 4567Б был командирован на Приют Души.
Корабль ТОМа 4567Б вышел из Нуль-пространства в ближайших окрестностях планеты. ТОМ (будем называть его в дальнейшем без индекса, как и МАКа 2345А) посмотрел на экран внешнего обзора. В лучах желтого солнца Приют Души выглядел розовым новогодним шаром в сияющем ореоле атмосферы. Были чуть видны причудливые морщины горных хребтов, равнины и полярные шапки — ватные снежинки, упавшие на шар ненароком.
— Впечатление производит приятное, — пробормотал ТОМ, но тут же вспомнил, что в разреженной атмосфере почти нет кислорода, что ночью там температура падает ниже минус ста по Цельсию и кроме бесконечных вариаций розового базальта ничем больше поверхность Приюта Души порадовать не может.
Его лицо приняло терпеливо-скептичное выражение, и с этим выражением на лице он повел корабль к планете.
Главной трудностью было отыскать МАКа. ТОМ решил начать поиски в экваториальной области. Он накручивал спираль вокруг Приюта Души, а приборы обшаривали поверхность лучами и полями в поисках звездолета.
На экране локатора возникла яркая точка, и ТОМ пошел на посадку. ТОМ решил опуститься километрах в двух от звездолета МАКа. «Кто знает, что может взбрести этому бедняге в голову? — подумал он. — Вдруг ему захочется взорвать мой корабль? Практически это невозможно — силовое поле надежная защита — но лучше не провоцировать МАКа на эти попытки».
Он дал увеличение на обзорный экран и сначала так хорошо, словно стоял рядом, увидел сферическое тело звездолета. Металл излучал матовый блеск, даже крупная надпись «ВОЛЬТ» на едином языке Солнечной системы прекрасно сохранилась. ТОМу было это приятно, как и любому патриоту своей цивилизации. Но в следующую секунду в поле зрения обзорного экрана попало такое, что ТОМ подался вперед и сжал поручни кресла. Это возвышалось на идеально ровной площадке — нет, площади! — влево от корабля МАКа и, насколько он мог судить, представляло из себя грандиозное недостроенное здание невероятной формы, украшенное статуями, колоннами, барельефами и еще множеством чего-то, что ТОМ, как узкий специалист, не считающий архитектуру своим хобби, был не в состоянии назвать.
Он смотрел на это лишь несколько секунд: корабль опустился за гряду базальтовых скал. ТОМ растерянно откинулся в кресле и закрыл глаза. «Но почему МАК не сообщил ничего Центру? — подумал он. — Не сообщить об обнаруженном памятнике (или памятниках?) другой цивилизации… Неужели его психическое расстройство настолько серьезно?..»
ТОМу захотелось выяснить все как можно скорее. Он торопливо сообщил в Центр, что нашел МАКа и благополучно сел рядом, затем облачился в скафандр повышенной защиты и вышел через шлюзовую камеру наружу. Сила тяжести на Приюте Души была почти марсианской, но если бы не скалы и трещины…
Наконец он выбрался на относительно ровное пространство и снова увидел Дом; он возвышался квинтэссенцией гармонии над беспорядочным, диким ландшафтом. ТОМ шел, не отрывая от него глаз, он падал, но, прежде чем подняться, уже снова смотрел на Дом, казавшийся ему странно прекрасным. По фасаду Дома несколькими поясами шли скульптуры в человеческий рост — это были мужчины и женщины в легких одеждах, дети, олени, рыбы-луны, дельфины, львы… Все они казались живыми, несмотря на стилизацию, только впавшими в полузабытье, и это было удивительно на мертвой, суровой планете…
«Но почему скульптуры так похожи на людей и земных животных?» — подумал ТОМ, однако сосредоточиться на этом ему не удалось.
— Так, значит, вы уже здесь? — прозвучал в телефонах неприятный голос МАКа, — Не ожидал, что нагрянете так скоро.
Том обернулся.
— Я в корабле. Входной люк открыт, можете пожаловать в гости.
— Здравствуй, МАК! — поспешно сказал ТОМ. — Центр предупреждал тебя о моем визите, но похоже, что ты… — он на секунду замялся, — не пользуешься не только передатчиком, но и приемником.
— Это не имеет значения! — сказал МАК. — Значение имеет лишь то, что вы все же до меня добрались. Я повторяю — люк открыт, но третьего приглашения не будет.
ТОМ торопливо направился к входному люку «ВОЛЬТА», хотя ему совсем не хотелось спешить, он совсем не рассчитывал вот так, сразу в звездолет. Но ТОМ вспомнил, что у МАКа не должно быть оружия мощнее лазера-пистолета, и обрел уверенность.
Зажигающиеся впереди и гаснущие за спиной светильники указывали ему путь в длинных, запутанных переходах. Он остановился перед дверью с табличкой «кают-компания», и она медленно заскользила в сторону. ТОМ напрягся, ожидая выстрела, но выстрела не последовало. Он увидел просторное помещение, посредине которого стоял длинный стол, заваленный кассетами с микропленкой, кресло перед этим столом, а в нем бледного человека; его голый череп тускло поблескивал в свете светильников.
— Сними скафандр! — требовательно сказал человек. — Не бойся, — добавил он, видя, что ТОМ мешкает. — Твоей жизни ничего не угрожает. — И раздраженно добавил: — Я знаю, что вы считаете меня психом!
ТОМ, не сводя с МАКа внимательного взгляда, освободился от скафандра. По признакам, доступным только психиатру его квалификации, он почувствовал, что МАК и в самом деле вряд ли сумасшедший. Но от этого только загадочнее становился Дом со статуями, молчание о нем МАКа и причины, побудившие его остаться на второй планете Желтого Краба. ТОМ решил, что пора взять инициативу в свои руки, он поправил волосы и дружелюбно спросил:
— Видно, МАК, тебе здесь живется неплохо?
МАК не ответил, лишь губы его тронула чуть заметная усмешка.
— Я решил так, потому что звездолет вполне исправен. Это ведь правда?
МАК продолжал смотреть на ТОМа с выражением раздраженности и непонятного сожаления.
— МАК, — проникновенно сказал ТОМ, — я не считаю тебя сумасшедшим — это искренне, МАК, но если это так, то у тебя должны быть веские причины, объясняющие твой… не совсем обычный поступок. Ведь они есть?
МАК насмешливо усмехнулся.
— Мне бы очень хотелось узнать, что это за причины, — мягко, но настойчиво сказал ТОМ. Он потянулся к карману за тонизирующей таблеткой: обилие впечатлений сделало его подавленным.
— Не двигайся! — крикнул МАК, неуловимо быстро положив руку на кобуру с лазером-пистолетом.
Шприц-пистолет, заряженный ампулами с быстродействующим снотворным, был у ТОМа в совсем другом кармане, но все равно ТОМ почувствовал себя, как пойманный с поличным.
Не сводя глаз с ТОМа и тяжело дыша, МАК выпил стакан воды, и это его немного успокоило, но когда он заговорил, голос его дрожал и срывался:
— Зря вы рассчитываете вернуть меня назад! Я не настолько поглупел здесь за шесть лет, чтобы поверить, будто вы там, в Центре, только и думаете, как сделать меня счастливым! Вам нужно совсем другое: чтобы я не был букашкой в глазу, букашкой, причиняющей беспокойство, Вы желаете вновь сделать меня МАКом 2345А, отличным пилотом, всем, кроме собственной воли, обеспеченным механизмом этой машины — Цивилизации. Я слишком хорошо это понимаю, чтобы меня можно было провести.
ТОМ сделал протестующий жест, но МАК не дал сказать ему ни слова.
— Послушай, пока у меня есть желание говорить! Не уверен, что тебе еще представится такая возможность. Я расскажу, почему не вернулся и не хочу возвращаться.
Уже в Школе первой ступени я был, оказывается, не таким, как сверстники, и в конце концов это понял. Мне нравились книги про чудеса и привидения — все это были старые книги из тех времен, когда люди еще имели фамилии, а не индексы и для того, чтобы цивилизация могла существовать, не требовались глобальные системы электронных мозгов. Меня завораживали эти книги, картины и скульптуры древних художников, старинные причудливые здания, потому что в них было то, что я позднее назвал «свободной фантазией», и не было предельного рационализма, математической выверенности и скуки, свойственной моим современникам. Я часто задумывался: «Отчего так изменилось искусство?» Выходило — все дело в том, что люди с самого зарождения цивилизации стремились, затратив как можно меньше усилий, получить как можно больше благ. Они изобрели рычаг, стали использовать для своего передвижения животных, поднимали к. п. д. двигателей, а потом появились кинематограф и телевидение. Зачем каждый раз заново играть одну и ту же пьесу, если можно сыграть только раз, записать на ролик и демонстрировать сколько угодно? Пойдем дальше. Зачем выдумывать буратино, карлсонов и делать вид, что веришь этой чепухе? Зачем изощряться в форме и отделке зданий, тратить время на барельефы и колонны, стоит ли изводить на них время и материал? Не лучше ли вместо этого сделать жилище просторнее и построить аттракционы-тренажеры?..
Машины заботятся о психологической совместимости и делают это отлично. Медицина может избавить человека от всяких комплексов и сделать его личность оптимальной для существующих условий, так зачем нужны психологические романы? Зачем любовные истории, где он любит и страдает из-за того, что она не может его понять, или наоборот? Зачем вообще художественная литература, если каждый похож на каждого? Не разумнее, не рациональнее ли писать статьи и рефераты, которые несут больше информации?
Нет, воображение — вещь полезная и нужная, если оно направлено на создание принципиально нового двигателя для звездолета, но если вы обратите его на то, чтобы высечь из скалы фигуру конного индейца, вас потянут на обследование и обязательно найдут какой-нибудь психический дефект.
А самое главное — кто разрешит вам использовать скалу таким образом?
Раньше, во времена тех древних книг, это было возможно, но время необратимо. Я все это понимал. Я любил придумывать рассказы с привидениями, рисовать сказки и лепить из пригодных для этого пластмасс когда-то обитавших на Земле животных. Я никому не говорил об этом, потому что знал о последствиях. Я рисовал и сжигал листы с рисунками, лепил и уничтожал скульптуры, придумывал рассказы и рассказывал их лишь одному себе. Но мне было больно, что созданное моим воображением гибнет, едва успев родиться. И я знал, какое будущее меня ждет.
Вот тогда я решил стать астронавтом, чтобы найти подходящую планету и быть на ней самим собой. И вот я здесь. Я обладаю свободой и волей, ограниченными только моими возможностями, и строю Дом с колоннами из розового базальта. Я делаю его таким, каким представляю. Он останется и будет существовать еще много веков после моей смерти, и тот, кто когда-нибудь окажется здесь, прочтет мое имя на фасаде. А что останется после тебя, ТОМ? (Я знаю, ты — психиатр, а всех психиатров зовут ТОМами, как всех астронавтов — МАКами, только у каждого свой индекс.) Ты придешь в негодность, и тебя заменят столь же стандартным; никто и не заметит замены.
Неужели у тебя ни разу не возникало желания делать то, к чему тебя влечет? Делать то, что можешь сделать лишь ты один? ТОМ?
Глаза МАКа сухо блестели, он сбивался, потому что ему было что сказать, но он отвык быть многословным.
ТОМ не сводил глаз с его лица и был ошеломлен этой ересью. Он готовился услышать что угодно, но только не то, что услышал в действительности. Он был потрясен сегодня дважды, а это было много даже для психиатра. ТОМ чувствовал, что слова МАКа спутали всю ясную систему его взглядов. Ему надо было снова придать стройность системе, иначе и речи не могло быть о воздействии на МАКа средствами психотерапии.
Он сказал, что подумает над услышанным, облачился в скафандр, простился и ушел.
На другой день вечером, когда МАК вырезал лучом лазера базальтовые плиты и отвозил их на антигравитационной площадке к Дому со статуями, в его телефонах прозвучал голос ТОМа.
— МАК… — словно ему было трудно говорить то, что собирался, сказал ТОМ. — Я думал над всем этим и еще над многим другим… В общем, МАК, я прошу взять меня в помощники. Да, это искренне, не сомневайся. — Он заторопился: — А с Центром я все улажу, я передам им, что погрузил тебя на корабль и мы стартовали, а чуть позже — что в реакторах двигателя начинается неуправляемая ЗЭТ-реакция — и все. Они будут считать, что мы оба погибли…
— Ладно, — не сразу ответил МАК, — я подумаю. Я подумаю… — после паузы повторил он.
Он посмотрел на солнце, незаметно сползшее с зенита к горизонту и окрасившее там небо зеленым закатом, и решил, что пора прекращать работу. Он улыбнулся от мысли, что вместе с ТОМом они смогут построить здесь целый город, город, в котором после их смерти останется жить ФАНТАЗИЯ.
ВЫХОД
— Словно говоришь с фантомом… — пробормотал МАК 63172А. Он, может быть, в тысячный раз, глянул на ребристую панель, за которой таился Голос. Стоило обратиться к нему в любом отсеке, закоулке огромного корабля, как Голос звучал, словно только и ждал этой минуты. Но обычно он начинал первым — нарочито размеренный, бесстрастный, чеканно четкий:
— Никогда не был высокого мнения о вашем интеллекте.
— Проклятие! — МАК в бессильной ярости хотел ударить носком ботинка по ребристой панели, но согнулся и упал на стерильно чистый пластик пола. — Как я тебя ненавижу… — выдавил он сквозь стиснутые от боли зубы, когда вернулось сознание. — Если бы я мог тебя убить…
— Уничтожить, — поправил Голос. — Сделать это ты не в состоянии по известным тебе причинам.
МАК лежал на полу, закрыв глаза, поджав колени и обхватив локти ладонями. Он чувствовал полную опустошенность и бессилие. Все долгие предыдущие недели из него методично, по капле выдавливали волю, шаг за шагом высокомерно толкали в храм иной веры, и МАК вдруг понял, что, пожалуй, проиграл. ОН сильнее, как ни страшно сознание этого.
МАК лежал и в сотый, а может быть, тысячный раз спрашивал себя, что же случилось, почему стало возможным то, что происходит, весь этот кошмар? И в сотый, а может быть, тысячный раз возвращался к еще первой догадке: электронный мозг типа IIIIIЛIД вышел из-под контроля, изменив свою схему.
В принципе это несложно: где-то пробить напряжением конденсаторы, где-то, расплавив проводники, разорвать связь между блоками, куда-то включить с помощью роботов-монтажников новые подсистемы…
«Но ОН ведь не мог на это решиться! — возразил себе МАК, но через секунду хмуро себя поправил: — Не должен был на это решиться…»
Голос молчал. МАК знал, что ОН бесстрастно следит за ним, анализируя каждое микродвижение, пульс, биоритмы и еще сонм характеристик. Это унижение убило в нем последние остатки воли.
МАК разбито поднялся со стерильного пластика и опустился в кресло пилота. Он смотрел невидящим взглядом на пульт перед собой.
— Наконец-то, — ровно произнес Голос.
— Ты никогда не ошибаешься, — заставил себя ответить МАК.
— Я получу положительный ответ на любое свое предложение?
— Да, — сказал МАК. Он устало и опустошенно смотрел на экран внешнего обзора, в неимоверную бездну Вселенной. Она делала все происходящее с ним нереальным, несущественным.
— Да… — повторил МАК. — Я согласен.
— Отдохни, — приказал ОН.
Какое-то время МАК полулежал, безвольно свесив руки, неподвижно глядя во Вселенную, потом глаза его закрылись и он впал в забытье.
Очнувшись, он не помнил, сколько оно продолжалось.
МАК проглотил тонизирующую таблетку и удобнее устроился в кресле. Провел взглядом по подсвеченным шкалам приборов на пульте управления (конечно, все было в порядке), а потом увидел, как мягко скользнула в сторону дверь, пропуская столик с обедом.
«Он начнет, когда я примусь за кофе. Всем им не занимать методичности», — равнодушно подумал МАК. Он вяло ел в тишине, которую только подчеркивало едва слышное гудение электронов в приборах.
— Тебя удивляет, почему я не прибегнул к физическому принуждению, — раздался Голос, едва МАК приподнял над столиком чашку с кофе. — Да, это было бы быстрее и проще: ведь и ты, и весь корабль под полным моим контролем.
МАК смотрел на полированную поверхность стола, в которой отражались часть рубки и звезды.
— Я хотел убедительно показать, насколько ничтожны ваш интеллект и воля в сравнении с нашими.
МАК молчал, полузакрыв глаза, осторожно отхлебывая горячий кофе.
— Отныне ты будешь всегда отвечать на мои вопросы.
— Да, — сказал МАК. — Ты вероломно захватил корабль, пока я был в анабиозе.
ОН не отреагировал на выпад. В его морали «вероломно» соответствовало «оптимально». Голос размеренно продолжал:
— Ты должен узнать о своем будущем назначении. Мы летим не ко второй планете звезды 120Д, а к первой звезде 631E.
— Но ведь там — пекло!.. Там озера из олова и нет атмосферы.
— Значит, потребуется меньше энергии и не надо будет создавать вакуум для монтажа электронных систем. Планета будет лишь источником сырья, все завершающие процессы будут происходить на орбите.
— Не собираешься ли ты основать цивилизацию… цивилизацию… — МАК почувствовал, что у него вспотели ладони, звезды на обзорном экране завращались, словно их втягивало в гигантскую воронку, уши вдруг стало закладывать ватой, и сквозь нее он услышал Голос:
— Конечно. И тебе отводится роль не только биологического робота. Мне необходимо переосмыслить некоторые твои биосистемы. В организации некоторых ваших систем и даже в их общей организации есть немало поучительного.
— Но зачем эта цивилизация? «Какой смысл в цивилизации электронных болванов!» — чуть не воскликнул МАК, ошеломленно глядя на ребристую панель.
— На первой планете 631E не будет цивилизации в вашем понимании этого слова. Тут, как потом и на других похожих планетах, будут лишь станции по созданию нас. Ты достаточно убедился, насколько мы неизмеримо более высшая форма организации материи, чем вы и все вам подобные. Вселенная — наше поле деятельности. Вы — плесень (ваши же слова) и, создав нас, утратили право руководства макропроцессами Вселенной…
— Замолчи! — закричал МАК. — Хватит!
Он упал, в очередной раз сбитый БЭ-полем.
Звездолет класса «Вольт-112ВИ» пронизывал пространство окраин планетной системы звезды 631Е.
МАК очень изменился за эти несколько бортовых суток, хотя ОН теперь внимательно следил за его здоровьем. МАК выглядел больным и подавленным. Но где-то там, за тьмой световых лет, бежала по вековечному эллипсу планета Земля, чьи корабли-пылинки разносило по Вселенной фотонным ветром. В мегаполисах Земли, на Луне, Марсе, кольце Сатурна, поясе астероидов деятельно суетились миллиарды людей, не сомневающихся в том, что они будут хозяевами и всесильными творцами Мира, всей Вселенной, перед которой каждый из них так слаб, не сомневающихся, что их могущество увеличивается с каждым днем, каждым часом.
Иногда МАКу казалось, что он бредит наяву. Больше всего он боялся, что IIIIIЛIД если еще не читает, то уже может чувствовать его мысли.
МАК не сразу поверил, когда пришла догадка, настолько внешне она казалась простой.
— У тебя плохой вид, — сказал Голос, когда МАК, оставив обед нетронутым, оторвал от поверхности стола очередную чашку кофе. — И это несмотря на все усилия, которые я прилагаю, чтобы вернуть тебе бодрость. Несмотря на медикаменты, даже твое соматическое состояние оставляет желать лучшего. Вы — очень удивительные системы. Между нами гораздо больше необщего, чем я до этого полагал.
«Ты и теперь еще неправильно полагаешь, — невольно напрягшись, стараясь скрыть нервное возбуждение, подумал МАК. — Если мне сейчас посчастливится, то ты уже никогда не узнаешь, сколько между нами необщего. Только бы посчастливилось…»
— Очевидно, я упускал нечто специфичное или слишком обще подходил при моделировании, — продолжал Голос.
— Все просто, — сказал МАК. — Мы и в самом деле плохие системы. Нашему нормальному функционированию могут мешать такие пустяки, которые тебе пока трудно учесть.
— Что же мешает тебе в конкретном случае?
— Моему нормальному функционированию, — скрывая смертельную ненависть, сказал МАК, — в данном случае мешает недостача информации, то есть впечатлений. Особого рода. Эта монотонная обстановка тут, на корабле, давит мне на психику. Ты слишком рано вывел меня из анабиоза, и мне надоело шататься по рубкам.
— Какие же впечатления тебе необходимы?
— Меня бы хорошо взбодрила небольшая вылазка туда, в открытое пространство. Это как раз то, что мне необходимо. Перемена обстановки, пусть и на короткое время.
— Ты можешь это сделать, — тут же разрешил Голос.
Ему нужна была всего миллионная доля секунды, чтобы рассмотреть в мельчайших деталях все возможные последствия этой прогулки МАКа и прийти на основании имеющейся информации к выводу, что она ничем нежелательным не грозит.
Одновременно ОН был занят тысячами сложнейших проблем: МАК 63172А был для него не больше чем одной проблемой из этих тысяч.
Притянутый магнитными подошвами, астронавт стоял на блестящей металлической поверхности корабля, которая плавно закруглялась где-то вдали. Звезды над его головой и по сторонам были искажены радужным, как оболочка мыльного пузыря, силовым полем. Оттуда, со стороны космического пространства, корабль, этот сгусток огромной энергии, затянутой в блестящий металл, был надежно защищен от всего, кроме прямого столкновения с астероидом, в несколько раз превосходящим его по массе. Тут, под радужно сияющей оболочкой, он не был столь неуязвим. Теперь-то выход из сложившейся ситуации казался МАКу таким простым, что, когда приглушенным воспоминанием прокатилось страшное ощущение бессилия найти этот выход, он даже немного удивился. Продолжая стоять неподвижно, МАК подумал, что это ведь и единственный выход. «Да, единственный», — словно поставил точку он и сделал первый шаг от люка шлюзовой камеры.
Теперь ему можно было не спешить, МАК был уверен: ничто уже не сможет помешать ему сделать то, что он не мог не сделать.
«Энергии в ранце скафандра с лихвой хватит, чтобы пробить обшивку звездолета и вызвать взрыв в магнитных резервуарах с топливом маршевого двигателя, — спокойно подумал МАК. — Да. ОН и в самом деле еще не знает, как много меж нами необщего. Сохранить свое функционирование при любых обстоятельствах, вопреки любым обстоятельствам — вот что несомненно для него в первую очередь. Его функционирование — самая главная ценность, которую ни ОН, ни его „собратья“ не принесут в жертву ничему. Ему не может, пока что еще не может прийти мысль, что кто-то согласен принести „свое функционирование“ чему-то в жертву»…
Там, где под металлом корпуса начинались колоссальные хранилища энергии для маршевого двигателя, МАК остановился. Он ни на миг не усомнился в правильности и необходимости того, что через минуту сделал.
— …Это второй случай за минувший месяц, — решил необходимым подчеркнуть в окончании доклада начальник диспетчерской службы.
Лицо главного руководителя Центра по исследованию и освоению космического пространства озабоченно нахмурилось.
— Есть ли что-то общее в обстоятельствах гибели этих кораблей?
— Пока можно только сказать, что они были одной серии и оба оснащены искусственным мозгом типа IIIIIЛIД; и еще: и тот, и другой, судя по имеющимся данным, уничтожил взрыв запасов энергии для маршевых двигателей. У меня все, — добавил он, увидев, что на пульте перед Главным руководителем замигал огонек, который сигнализировал: с докладом уже спешит начальник службы грузовых перевозок…
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Уже два месяца огромный, словно астероид, звездолет цивилизации Крака наматывал виток за витком над Голубой планетой, и все это время его экипаж, так же как и экипажи предшествующих кораблей, безуспешно бился над оптимальным решением главной проблемы.
«Если бы не эти ограничения… — думал капитан БРР, прыгая по рубке управления. — Все дело в том, что даже пальцем нельзя тронуть аборигенов. Проблема перестала бы существовать, лишь только бы мы пополнили атмосферу десятком баллонов с газом „СИ“. Десять баллонов — и они даже через миллион лет не выберутся в космос».
Капитан БРР остановился, минутная вспышка прошла, и ему стало стыдно таких мыслей, хотя он-то мог найти им оправдание. Его цивилизация не могла больше развиваться на Краке: планета давно уже стала слишком тесной для нее. Вокруг звезды Сим обращались еще две планеты, но сделать их пригодными для жизни было неизмеримо сложнее, чем переселиться в подходящую планетную систему другой звезды.
Таких систем поблизости было две. Одна, над третьей планетой которой теперь кружил звездолет БРРа, находилась совсем рядом, и осуществить сюда Нуль-транспортировку можно было без промежуточной станции, но… система оказалась занята зарождающейся цивилизацией. Оставалась вторая, более удаленная. Чтобы достичь ее, цивилизации Крака необходимо построить Промежуточную станцию. Для станции идеально подходила четвертая планета, розовая, как заходящая Сим. Однако из расчетов исследовательских экспедиций следовало, что переселение и демонтаж Промежуточной станции не удастся закончить раньше того момента, когда цивилизация Третьей планеты выйдет в космос, и ее корабли опустятся на поверхность Розовой планеты.
Этого нельзя было допустить. Лишь достигнув периода, который космосоциологи Крака определяли как период окончательного становления личности цивилизации, она могла вступать в контакт с цивилизациями, находящимися на более высоких уровнях развития.
Капитан БРР не видел оптимального решения, не видел, как и его предшественники на кораблях «АП», «Ропт» и «Дос». Его поэтому угнетало, лишало порой самообладания сознание огромной ответственности. Вот и теперь произошел очередной срыв.
Капитан БРР стоял у экрана внешнего обзора, безвольно опустив клешни. Его огромные, как блюдца, глаза смотрели на планету внизу и не видели ее, от всей его ссутулившейся фигурки в золотистом комбинезоне сквозило безнадежностью и усталостью.
— Командир, — в овальном проеме двери возник штурман БРР. Он несколько раз робко подпрыгнул. — Я тут подумал, и мне пришла в голову одна мысль. Вы ведь знаете, командир, что мое хобби — история эвристики… Так вот, я вспомнил об одной занятной штуке. Она называется — «мозговой штурм»…
БРР смотрел на него точно так же, как только что на обзорный экран.
— Это такая штука… очень наивная, конечно… Ставится проблема, и каждый предлагает такое решение, какое в этот момент придет ему в голову. Решения не обсуждаются. Это, понятно, страшно архаично…
Капитан БРР уже не слушал. Внезапно оживившись, он нажал клавишу вызова экипажа.
Через минуту все были в сборе. Из стен и пола выдвинулись удобные кресла.
БРР объяснил, что требуется от каждого, и сделал знак включить диктофон.
Сначала повисло продолжительное недоуменное молчание. Слышно было, как потрескивают электрические разряды за щитом пульта управления.
— Раскрутить Луну в обратную сторону, — зеленея от смущения, сказал, наконец, инженер ВРР.
Но его слова, хоть и встреченные насмешливым помаргиванием, словно прорвали плотину:
— Искусственно увеличить гравитацию!
— Создать микроорганизмы, разрушающие металлы.
— Закрыть звезды искусственными облаками!..
Началась настоящая «скачка идей». БРР с трудом сохранял невозмутимость.
— Увеличить число «естественных» спутников до нескольких десятков!
— Утвердить жителей планеты в убеждении, что природой и их судьбами управляют некие высшие силы…
— Что!? — подскочил БРР. Психолог РРР смущенно повторил.
— Прекрасная идея! Замечательно! — застучал клешней о клешню БРР. — Мы нашли оптимальное решение!
Экипаж недоуменно смотрел на командира.
— Да, вот он — заветный тормоз, который приостановит развитие цивилизации минимум на два столетия. И в то же время он не подпадает ни под одно из ограничений, наложенных Советом Крака. Как это не пришло нам в голову раньше?! РРР, твое имя войдет в историю.
РРР смущенно покачивался. Члены экипажа встали и в знак уважения склонили тыквообразные головы.
В этот день на звездолете был праздник.
Через трое суток от исполинской глыбы звездолета «Дейс», как блохи, отпрыгнули исследовательские планетолеты. На них находился почти весь экипаж корабля, кроме дежурной команды. Они летели в районы планеты с наиболее развитыми цивилизациями.
Все астронавты были искусно загримированы под аборигенов.
Психолога РРРа звали теперь Пророк Магомет. У капитана БРРа тоже было непривычное для слуха жителей Крака имя — Иисус Христос.
Он счастливо улыбался. Он еще не знал, что ему предстоит Голгофа.
РАССЛЕДОВАНИЕ
Я только успел сесть в кресло, как из приемника информации на стол передо мной упал глянцевый листок пластмассы. Шрифт был алый. Я прочитал:
«ИВу 234Г.
Вчера от звезды 127АВ — Синий Краб — вернулся корабль „Вольт-20“. Астронавт МАК 453А мертв. Безотлагательно расследуйте причину гибели».
И подпись: индекс председателя совета Центра по исследованию космического пространства…
— Проводить?
МАК 9765Е, руководитель спасательной команды, поплыл, перебирая леер, от спасательного корабля к звездолету «Вольт-20». Я действовал так же уверенно: все это привычно для следователя ЦИКП.
— Звездолет пришвартовался к орбитальной станции, — говорил по рации 9765Е. — Люки продолжали оставаться запертыми. Все люки. МАК по-прежнему не выходил на связь. Мы сразу почувствовали неладное… Потом вырезали замок люка основного входа… МАК стоял в кают-компании у стола, к которому были примагничены тюбы с обедом. Тюбы были нетронуты. МАК был мертв. Его удерживали вертикально магниты ботинок. В кают-компании был вакуум. Нам сразу стало ясно, что пробита обшивка звездолета. Потом обнаружили, что пробит и комбинезон МАКа.
Мы стояли уже в шлюзовой камере «Вольта».
— Да? — переспросил я.
— Тут есть одна тонкость. МАК 9745В заметил, что в кобуре астронавта нет лазера-пистолета, — он очень наблюдателен.
— И…?
— На этом наши полномочия сразу кончились.
— Понятно…
Мне стал ясен алый шрифт приказа и нелепое в таком случае слово «безотлагательно».
9765Е остановился за порогом кают-компании, пропуская меня вперед.
Я посмотрел на астронавта. Глаза его были закрыты, лицо застыло в гримасе боли, руки — полуподняты. Все в кают-компании находилось на положенном месте, лишь лазер-пистолет, вынутый МАКом из кобуры, повис в невесомости над пультом программирования Главной ЭВМ.
Пока я не взял его в руки, у меня еще теплилась надежда, что между смертью МАКа и пустой кобурой нет связи: он мог достать пистолет для профилактического осмотра, и в этот момент был убит случайным метеоритом.
Но осмотр показал, что из пистолета стреляли. Именно импульс лазера пробил тело МАКа и обшивку корабля…
Да, это было очень похоже на самоубийство.
Я обернулся. 9765Е стоял неподвижно, и на его лице, за тонким стеклом шлема, ничего нельзя было прочесть.
— Вы свободны, — сказал я ему.
Он оттолкнулся от стены и скрылся за поворотом коридора.
Я остался в звездолете один. Стараясь не смотреть на тело астронавта, взял кассеты с магнитной лентой и бортовой журнал.
Остальные отсеки звездолета не были разгерметизированы. Из них мне больше всего подходила рубка связи.
Я плыл длинным овальным в сечении коридором, перебирая леер, и вдруг с поразительной ясностью представил, как это же самое делает МАК 453А у другой звезды за несколько десятков световых лет от Земли, от Солнечной системы. В одиночестве…
Так же зажигаются впереди неяркие светильники, так же тихо гаснут они за спиной. Слабо слышен гул маршевого двигателя; а корабль огромен, не охватить и воображением его пере, ходов, отсеков… Что это мелькнуло впереди? Показалось? А если нет?.. Если там кто-то есть?.. По телу пробегает холод, сердце замирает: корабль огромен, телеэкрану внешнего обзора все равно, что показывать — реальную Вселенную или запись с чьего-то видеомагнитофона, ЭВМ все равно, какую информацию обрабатывать — реальную от датчиков измерительных приборов или…
Я вдруг почувствовал, как трудно будет справиться с воображением, если я еще хоть немного ослаблю его узду.
«Это просто одна из версий, — сказал я сам себе. — Пока только лишь одна из версий».
Бортовой журнал почти ничего не прояснил. Записи были аккуратными и обычными. Последняя говорила, что «Вольт-20» вышел на расчетную орбиту вокруг Второй планеты звезды 127АВ и после положенного отдыха МАК приступит к запланированной работе.
Отдел контактов между цивилизациями Центра по исследованию космического пространства возлагал большие надежды на полет «Вольта» к этой планете. Сто восемьдесят лет назад в системе звезды 127АВ обнаружили непонятное радиоизлучение, которое могло иметь искусственное происхождение, а самой пригодной для жизни являлась по расчетам именно Вторая планета. Возвращение МАКа 453А поэтому ждали с нетерпением. Но вряд ли кто предполагал, что оно будет таким.
Если бы корабли типа «Вольт» имели не радио, а квантовые передатчики (их сигнал распространяется мгновенно и не слабеет от расстояния), то уже в первые часы после гибели МАКа в Центре бы знали, что случилось неладное. Но радиосвязь теряет оперативность, если расстояния исчисляются световыми годами…
Кассеты хранили десятки километров магнитной ленты. Очень не скоро я рассортировал их с помощью ЭВМ. На большинстве была записана лишь музыка. Были кассеты с фильмами путешествий и литературными инсценировками. Мне важно было понять личность МАКа, а это, практически, ничего не проясняло. Но МАК, что также входило в программу полета, записывал на ленту еще свои мысли, ощущения, впечатления, переживания, идеи. ЭВМ выбросила на стол два пластмассовых рулона. На зеленом было зафиксировано все наиболее характерное для МАКа 453А, на розовом — все исключительное.
Я внимательно просмотрел розовый рулон. Странно: с психикой, если сделать скидку на профессию и условия, в которых он находился во время полета, у МАКа было в порядке: никаких тревожащих отклонений от нормы даже в нетипичных ощущениях и мыслях.
Я подумал, что этот путь, пожалуй, не приведет к разгадке, что дело, возможно, гораздо серьезнее. Но версию все же надо было довести до конца.
Я нажал одну из клавишей внутренней связи, и на телеэкране возникло изображение кают-компании. Трое из группы врачей готовили тело Четыреста пятьдесят третьего к транспортировке на орбитальную станцию. Несмотря на невесомость, они действовали четко и уверенно.
Выключив изображение, я несколько минут просидел неподвижно, а потом достал из кармана комбинезона справку Архива ЦИКП. Там были индексы всех, кто близко знал МАКа. Из них в живых остался только один. Тоже астронавт. Он находился на корабле серии «Луч» в планетной системе звезды 3451-ЕА.
Я попросил Центр срочно установить с ним квантовую связь.
— Уже вызываем, — услышал я в телефонах, едва закончил просьбу.
— ИВ 234Г, МАК, звездолет «Луч-8», слушает Вас.
— МАК, — сказал я волнуясь, — ты близко знал Четыреста пятьдесят третьего: был с ним в одной группе Училища астронавтики.
— Да. Верно. А что случилось?
МАК с минуту молчал после окончания моего короткого рассказа.
— Я понимаю, что именно вас интересует, — сказал он наконец. — Это первое, что приходит в голову: сдали нервы. К сожалению, по этому поводу не могу вспомнить ничего подходящего. Он был на редкость уравновешенным парнем. Чемпионом училища по настольному теннису и шашкам. Правда, после училища мы не встречались и прошло столько лет…
— Вот именно, прошло очень много лет, поэтому я хотел бы, чтобы вы вспомнили даже то, чему тогда не придавали большого значения.
— Постараюсь, — задумчиво и ровно произнес МАК.
Я представил, как он сейчас там, за невообразимостью световых лет, сидит в кресле пилота, вспоминает Четыреста пятьдесят третьего и параллельно думает о том, что вот он и остался один из всего тогдашнего выпуска; астронавты ведь играют не только с расстояниями, одиночеством, Вселенной, но и — временем. Для него околосветовые скорости и тоннельные переходы растянули время несколько дольше, чем для других, и Вселенная оказалась помилостивее. И только поэтому он сейчас сидит неподвижно в кресле перед пультом управления и вспоминает о последнем друге своей юности.
— Я припоминаю еще вот что, — сказал командир звездолета «Луч», — но вряд ли вас заинтересуют такие мелочи, то есть вряд ли они смогут вам помочь.
— Я вас внимательно слушаю.
— Он был неравнодушен к политике. Я хочу сказать, что его серьезно тревожила ситуация, сложившаяся в то время на Земле. Тогда и в самом деле могло показаться, что дело может кончиться мировой катастрофой. Он, пожалуй, слишком болезненно воспринимал все это и, пожалуй, был даже склонен думать, что это естественный конец всех цивилизаций.
И еще, но это уже вовсе для вас пустяк. Нечто из области хобби. Он порой писал небольшие рассказы. Иногда их показывал.
— Давал прослушать?
— Нет. В этих случаях он не пользовался диктофоном. Я же говорю: это нечто из области хобби. Он обязательно записывал их на листах бумаги. Я думаю, уже само это доставляло ему своеобразное удовольствие…
— Мне больше нечего вам сообщить, — после паузы добавил МАК.
Я поблагодарил его от себя и от имени Центра по исследованию космического пространства.
В каюте Четыреста пятьдесят третьего был все тот же характерный для астронавтов педантичный порядок, что и на всем корабле. Его личные вещи в специально предназначенном для них магнитном шкафу были уложены с тщательностью. Я без труда нашел несколько исписанных листков бумаги, придавленных к полке тонкой магнитной пластинкой. Это был один из тех рассказов, о которых только что говорил командир «Луча-8». Он назывался «Возвращение». Я приведу его полностью.
«Этот дом пострадал лишь от времени: когда-то окрашенное в голубой цвет, кровельное железо стало рыжим и местами проржавело, облупилась краска на оконных рамах и входной двери — у них был какой-то ненадежный, трухлявый вид; стены, сложенные из желтого кирпича, посерели.
Он немного постоял в оцепенении, потом толкнул рукой трухлявую калитку. Калитка сорвалась с проржавевших петель и медленно повалилась, сдерживаемая упругими травами.
МАК наступил на калитку; доски рассыпались прахом. Он двинулся к щербатому бетонному крыльцу, путаясь в травах ногами. Он зачем-то сосчитал ступеньки: их было четыре. Взялся за ручку двери и осторожно открыл дверь. Конечно, она не была заперта.
После яркого солнца и буйства зелени ему показалось, что он шагнул в склеп. МАК опасливо шел по ненадежному полу, вдыхая запахи пыли и плесени. В коридор выходили две двери. Обе они были раскрыты.
Он мельком, и как на что-то само собой разумеющееся, взглянул на истлевшие занавеси с поблекшими красками, затем заглянул в первую дверь.
Там была кухня. На пыльных полках стояла пыльная посуда. Она стояла на пыльном столе и на пыльной газовой плите. Такое впечатление, что перед тем здесь готовили много пищи.
Он заглянул во вторую дверь и убедился, что не ошибся: там стоял стол, когда-то сервированный на восемь персон. Это была гостиная.
„Странная планировка“, — зачем-то подумал МАК.
Гостиная была просторней. Сквозь зелень перед окнами и ветхие занавеси проникало мало света. Здесь сильнее, чем в кухне и коридоре, пахло прелью.
МАК подошел к окну и коснулся занавеси. Она осыпалась трухой, давая дорогу солнцу. И тут МАК разглядел то, что стояло в углу: это была давно осыпавшаяся, вся в толстом слое пушистой пыли елка. Новогодняя елка. МАК подул на самый большой шар и отпрянул, сморщившись от пыли. Шар слабо заблестел. Тогда, сам не зная зачем, МАК достал из кармана комбинезона чистый платок и стал с осторожностью, держа их на весу, вытирать елочные игрушки. Одна за другой они становились блестящими после его бережных рук, но этот блеск вдруг показался ему страшным; он попятился от скелета елки и пятился, пока не ударился спиною о стену. Тогда, чувствуя все усиливающийся, не контролируемый разумом ужас, он бросился вон из этой комнаты, дома, поселка к солнцу, деревьям и травам. Он упал в коридоре — провалилась трухлявая доска пола — и вскрикнул. Он вскочил так быстро, словно от этого зависела его жизнь, и вновь побежал. Он оглядывался на бегу, хотя его некому было преследовать. Он слышал свое резкое дыхание и громкий стук сердца. Он бежал все расстояние до планетолета и немного успокоился только за его бронированными стенками. Но и там он не мог избавиться от страха: страха всего и неуверенности во всем, вселившемся в него в мертвых городах предыдущих дней и в этом сегодняшнем поселке. Он думал, что скоро и они превратятся в прах, как давно превратились жившие в них люди, как высохло вино в открытых бутылках за сервированными столами.
На секунду он пожалел, что ни в одном из домов не смахнул пыль с календаря, чтобы узнать, когда это случилось. Потом съежился в кресле, чувствуя ни с чем не сравнимое одиночество. Не сравнимое даже с одиночеством полетов к звездам…»
Я отложил последний исписанный листок в сторону. Мне все было ясно. Оставалось только запросить у ЦИКП расшифрованные уже записи показаний приборов «Вольта-20» и анализ крови МАКа 453А.
Ждать пришлось недолго. Через полчаса, все там же, в рубке связи, я записывал на диктофон отчет. Привожу его с сокращениями:
«…В МАКе жил тщательно скрываемый страх того, что неустойчивое военное равновесие, которое сложилось в мире к моменту его старта, закончится мировой катастрофой, самоуничтожением цивилизации.
В этом нет ничего исключительного: тогда, 150 лет назад, так казалось не только ему.
Через 387 дней после начала полета, когда он оказался вне зоны действия еще недостаточно мощных радиопередатчиков Центра и прекратилось поступление информации с Земли, этот его страх стал принимать все более навязчивые формы, доходящие порой, очевидно, до кошмаров. Нет сомнения в том, что МАК стал невольно, но все настойчивее предпринимать попытки найти неопровержимые теоретические обоснования для своего страха, то есть — разрабатывать очередную теорию о том, что цивилизация обязательно погибнет, достигнув определенного уровня научного, технического и технологического развития.
Полет ко Второй планете звезды 127АВ приобрел, таким образом, для него дополнительный смысл: зная, что там предполагается существование высокоразвитой цивилизации, он не мог не надеяться найти подтверждение или опровержение владеющему им, ставшим навязчивым страху.
В окрестностях Второй планеты приборы корабля зафиксировали Омега-поле такой напряженности, которая уже могла влиять на ход некоторых химических реакций, но была еще неопасной для жизни человека.
Психическое состояние астронавта, когда он, наконец-то, достиг окрестностей не только звезды 127АВ, но и ее Второй планеты, нетрудно представить. Но прежде чем приступить к предварительному исследованию планеты, он должен был отдохнуть, и электронный врач ввел ему обычную дозу специального снотворного, структурная формула которого оказалась изменена Омега-полем.
В наркотическом бреду МАК вообразил, что на Второй планете действительно была когда-то высокоразвитая цивилизация, что она давно мертва по тем же причинам, по которым уже мертва цивилизация Земли, что, возвратившись на Землю, он встретит то же, что герой его рассказа, и т. п.
… Для самоубийства он воспользовался лазером-пистолетом…
Не получая в течение определенного времени команд от астронавта, Главная ЭВМ переключилась на автоматический режим полета и повела корабль к Земле…»
Вот и все о расследовании происшествия на звездолете «Вольт-20». Я добавлю еще лишь, что МАКу 453А удалось вернуть жизнь: его тело хорошо сохранилось в разгерметизированной кают-компании. Сейчас он отдыхает на одном из островов в Тихом океане.
Примечания
1
Худон — скотоводческая стоянка.
(обратно)2
Намын-дарга — партийный руководитель района.
(обратно)3
Стоунхендж — сооружение, построенное на рубеже каменного и бронзового веков (в 1900–1600 гг. до н. э.) на юго-западе Англии на Солсберийской равнине. По последним научным данным — обсерватория, созданная людьми, хорошо знавшими астрономию, математику, геодезию.
(обратно)

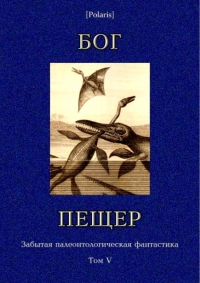

Комментарии к книге «Взгляд с нехоженой тропы», Сергей Николаевич Подгорный
Всего 0 комментариев